Михаил Парфенов Зона ужаса (сборник)
В оформлении книги использованы иллюстрации Александра Соломина Иллюстрация на обложке: Ависс Вейльски © М. С. Парфенов, текст, 2017 © Ависс Вейльски, обложка, 2017 © ООО «Издательство АСТ», 2017Страна тараканов
1
Пешая прогулка от метро к дому, как правило, занимала у Кости Пургина минут двадцать, плюс-минус. Иногда чуть больше, если надо было заскочить в «Биллу», – он испытывал слабость к тамошним мороженым чизбургерам. Дважды в месяц, после получки и аванса, по пятницам мог заглянуть в местный паб, носивший оригинальное название «Паб», благо тот располагался буквально через дорогу от высотки, в которой Костя снимал квартиру. Так или иначе, но, даже если мутноватый, с привкусом кориандра «Хугарден» удерживал его в пивной дольше положенного, Костя все равно возвращался домой еще засветло. Самое позднее – на закате. В этот раз дорогу ему уже освещали уличные фонари, а небо покрыла беззвездная ночная тьма. Трудовая неделя в маленькой фирме, где Костя работал, только началась, в «Биллу» заходить надобности не было, но он все равно задержался. И на то у него имелась очень даже веская причина. Костя переехал в столицу несколько лет назад, мечтая, конечно же, устроиться поближе к центру. Собственная, обязательно двухъярусная, квартира (квартирище!) в Москва-Сити или окрестностях – вот о чем он лелеял мечты, но пока приходилось ютиться в Митино. Не худший вариант, на самом деле, и – лучшее из того, что он мог себе позволить. Всякий, кто хоть раз бывал в Митино, не считая местных жителей – тех, кто тут родился или жил уже долгое время, – подтвердит, что это еще не совсем настоящая Москва, но уже и не трущобы замкадья. В этот вечер у Кости состоялось романтическое свидание с девушкой из здешних, из тех, кто как раз считает себя полноценными москвичами. Уже третье по счету, но первое, когда Вика пригласила его к себе.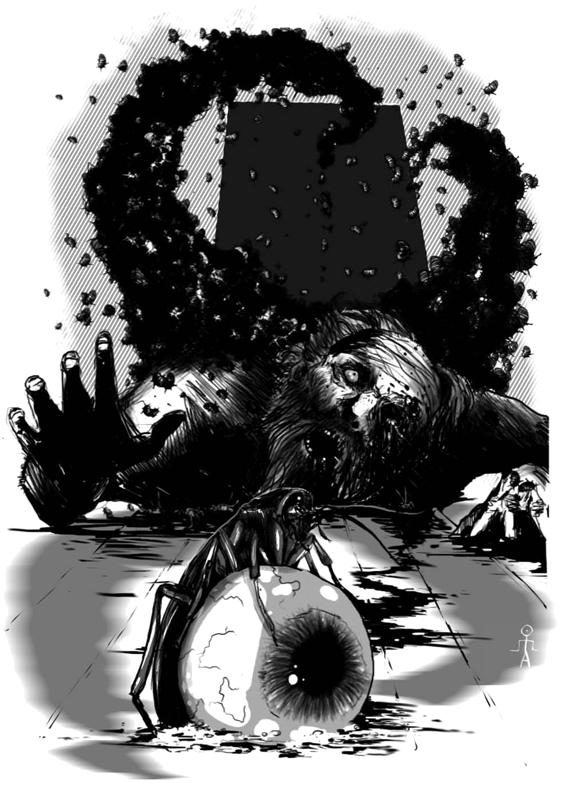
Они неплохо провели время: перекусили чуть теплой пиццей за просмотром какого-то глупого фантастического фильма на ТВ-3, запивая красным домашним вином. Бутылку, подарок кубанских однокашников, принес с собой он, пиццу заказала она. Режиссером фильма был Джим Уайнорски, и ближе к финалу Костя, смеясь, сказал Вике, что в жизни не видел такого дешевого дерьма. А та вместо ответа мягким движением скользнула к нему на руки, подставляя полуоткрытые губы для поцелуя. Потом, после первого, немного сумбурного акта, они вышли покурить, и Костя, смущаясь, показал на свой дом – с ее балкона на двадцатом этаже весь район был как на ладони, виднелась крыша и его высотки на другом конце Митино. «Хорошо, – кивнула Вика. – В следующий раз у тебя заночуем». Из-за уха у нее выпал непослушный вьющийся локон, и сердце Кости затрепетало, как у подростка в пубертатный период. Она добавила, окинув взглядом открывавшийся с верхотуры пейзаж: «Как же все-таки здесь чертовски замечательно!» В тот момент Костя готов был с ней согласиться, несмотря на свои мечты о Москва-Сити. Вид впечатлял. Башни панельных домов сторожили покой зеленых газонов, где, как блестящие камушки на дне фонтана, были разбросаны цветастые кругляши игровых площадок. Замечательно или нет, подумал он тогда, но жить здесь и правда не так уж плохо. Далековато, конечно, от настоящей Москвы, достаточно далеко, чтобы Костя пять дней в неделю жалел об украденных подземкой часах сна и отдыха. Но зато рядом с Викой, о чем жалеть точно не приходилось. А может, ну его к черту, этот Сити?.. Он продолжал думать об этом, возвращаясь к себе, пока лениво плыл по узкому руслу Третьего переулка, то и дело черпая подошвами асфальтовый ил. Мышцы все еще сладко ныли после второго, куда более продолжительного, нежного и выматывающего приступа страсти. На губах и языке осталась тень ее поцелуев. Костю клонило в сон, отчего все вокруг выглядело чуть иначе, фантастичнее, не так, как обычно. Мысли кружили в голове, как мотыльки в сказочном мареве фонарного света. Колонны многоэтажек подпирали темный небосвод, и он сам себе казался маленьким, но весьма довольным насекомым, бессмысленно копошащимся под ногами у мрачных великанов. Этот образ, можно сказать, материализовался, когда из зарослей овсяницы на тротуар перед ним выполз таракан.
2
Ползучие твари вызывали у него отвращение с детства, так что при виде этого уродца он внутренне содрогнулся и на время забыл про Вику. Фантазия о медовой реке Третьего переулка, которую Костя успел себе насочинять, треснула и разбилась на мелкие кусочки. Их с тараканом разделяло несколько метров, но Костя при свете стоящего впереди фонаря достаточно четко видел овальное, цвета спелой маслины, тело. Приближаясь, смог разглядеть шесть изогнутых ножек и пару тонких усиков. Насекомое шевелило ими, напоминая слепца, орудующего не одной, а сразу двумя тросточками. Когда Костя в очередной раз с громким шорохом загреб подошвой асфальт, таракан не бежал обратно в траву, но даже наоборот – развернулся навстречу. Чуть задрав маленькую черную голову, зашевелил усиками, словно собираясь что-то сказать. Эй, старичок, не подскажешь, как доползти до ближайшей свалки гниющих отходов? Должно быть, это проснулись его собственные внутренние «тараканы». До знакомства с Викой у Кости с момента приезда было всего несколько свиданий тут, в столице, и все неудачные, так что он привык проводить вечера и ночи в одиночестве, разговаривая с самим собой. Со своими внутренними тараканами, у которых был вот этот язвительный, злобный голосок. Слышь, дылда деревенская? Я что, за тобой гоняться должен? Ребристый протектор китайской кроссовки припечатал нахальное насекомое к асфальту. Костя как будто наступил на перезрелую вишню – под пяткой раздался еле слышный хруст ее невидимой косточки. Он хотел вытереть подошву о траву, но тут в кармане джинсов ожил смартфон. Вика?.. О нет. Хриплым голосом Елена Ваенга весело сообщила ему о том, что даже Ван Гог пил абсент, а потому она не променяет зеленый цвет ни на что другое. Костя поморщился, пока остатки его сонных мечтаний разлетались прочь, будто стайка птиц, потревоженных на стоянке. В его жизни хватало неприятных, но обязательных ритуалов: оплатить счета, вынести мусор… поболтать со своим персональным дьяволом. Следовало позвонить ей после работы, как он делал всегда, каждый вечер. Ему следовало сделать это, чтобы не нарушать заведенный обычай, но сегодня Костя отвлекся, у него в кои-то веки был повод отвлечься, и – забыл. – И что же вы себе возомнили, молодой человек?! Она выплевывала слова визгливой квакающей скороговоркой, и шо жа вы са-бэ ва-за-мни-ли, ма-ла-дой ча-ла-вех. Будто имперский штурмовик, стреляющий из бластера короткими пульсирующими очередями. Ему не нравилось часами кататься в московском метро, он терпеть не мог тараканов, но больше всего Костя ненавидел этот мерзкий говор. На избавление от кубанского акцента у него ушло полгода. Но всякий раз, когда он слышал ее голос в трубке, в нем просыпались те самые внутренние тараканы и начинали нашептывать о том, что ему, сраному провинциальному ничтожеству, никогда не стать настоящим москвичом. По крайней мере до тех пор, пока жива эта старая пьяница. – Прости, мам, совсем замотался. Как белка в колесе… – Нет, посмотрите-ка на него! – Это звучало как са-три-ти-ка-на-ни-хо. – Мама места себе не найдет, ждет звоночка (зва-но-щи-ха) от сыночка (сы-но-щи-ха). А он… Костя ясно представил, как та сидит на старой кухне, с дешевым мобильником в одной руке, банкой джин-тоника в другой и – квакает, квакает, квакает. Изрыгает пульсирующие сгустки плазмы. По с трудом ворочающемуся языку среди подгнивших, коричневых от никотина зубов ползают блестящие, перемазанные ее же желчью твари наподобие той, с которой он только что покончил. И с каждым словом, с каждым чертовым иш-шо валятся из разверстой могилы рта в вырез потасканного домашнего халата на массивную желеподобную грудь, шлепками отмечают встречу с клеенкой на крышке стола, с влажным чмоканьем падают в ее пойло. Вытравить Елену Николаевну Пургину из своей жизни, как крикливый малоросский акцент, оставить прозябать в дурной компании двух старинных приятелей, джина и тоника. Забыть раз и навсегда. Не этого ли он хотел, не от назойливого ли ее внимания бежал в столицу?.. Напрасно! Мать была не из тех увядших пенсионерок, что в будни смотрят вечерние ток-шоу на Первом, а по выходным встают спозаранку, дабы позачеркивать цифры в билетах «Русского лото» и «Золотого ключа». В любой день недели, в любое время суток, трезвая или пьяная – в последние годы чаще пьяная – мать командовала. Привыкла держать на поводке кого-нибудь, на кого можно вдоволь поквакать. Прошлой осенью отчима сразил инсульт, и невидимая петля удушливой материнской «заботы» туже прежнего затянулась на шее у Кости. – Мам, ну правда, прости, – безуспешно пытался он оправдаться. – Завал на работе, устал… – Уста-ал!.. О семье уже (ужо) и подумать некогда!.. Бессовестный… бесстыжий… весь в отца!.. Если (ес-си) вы, молодой человек, думаете там (тама) себе, что (шо) можете вот так запросто… «Вели ей закрыть пасть и за-пра-ста ат-ва-лить от тебя, – шепнул внутренний голос. – Раздави погань. Слабо?! Сраная провинция! Потому и не живешь в настоящей Москве, а годами копошишься в дерьме у порога. Как таракан, как жалкий гребаный таракан. Ну хотя бы просто сказать «спокойной ночи» и выключить телефон ты способен, ничтожество? Это ведь…» –…не так трудна-а?! Костя, ты вообще слышишь, шо мама тебе говорит? – Да, – он замер перед пешеходной дорожкой, на перекрестке. Одинокий светофор механически мигал оранжевым глазом, как цветомузыка на самой бессмысленной в мире дискотеке. – Мам, прости, бога ради. Честное слово, нет сил… Спать хочу – умираю. – Господи! (хос-спа-ади-и) – прошипел динамик телефона. – Время-то, время-то сколько (ско-ха)!.. А ты еще (иш-шо, о боже, опять это «иш-шо»!) даже не дома?!.. Да какая ж это работа, когда ночь на дворе?! – Я уже почти дошел, мам, – вздохнул Костя (раздави ее), стараясь не прислушиваться к тому (размажь чертову пьянь по асфальту), что нашептывал мерзкий голосок. – Просто в офисе задержался на несколько часов. Пару багов нашли в новой версии софта, а на неделе уже сдавать в релиз, ну и… – В голове твоей баги! – «Вот тут я с тобой согласен, ма, только ты сама и есть один из моих ба-хов». – Ни матери позвонить, ни жену завести, ни детей… – Я работаю над этим, – прошептал он, ощущая, как покидают его последние силы: мать вытягивала из него энергию, словно пылесосом. Вы-са-сы-ва-ла-се-со-ки, образно ха-ва-ря. – Тут немного осталось, пара шагов буквально. Доброй ночи, мам. Я пойду… Завтра созвонимся, ладно? – Да уж только попробуй не позвонить (па-за-нить)!.. Давай топай до хаты. Понятно? – Да, мам. Хорошо, мам. – Ну тогда… – Она замолчала, и Костя прямо-таки увидел, как, переводя дух, мамаша прикладывается к банке с джин-тоником. Когда Елена Николаевна продолжила, голос у нее дрогнул и приобрел плаксивые интонации: – Спокойной ночи тебе, сыночек. Утречком брякну тебе. Ты там, это… Не обижайся на старуху-то, ладно?.. Мамка дура, но любит тебя. – Я тоже тебя люблю, – соврал Пургин и поспешно убрал телефон. Ему хотелось прикрыть глаза и отключиться на минутку-другую самому. Перезагрузить голову. Ночная мгла поможет остыть его бедным кипящим мозгам. Может, даже удастся вновь настроиться, поймать ту романтическую волну, которая несла его раньше, до встречи с одной тварью и разговора с другой. Он глубоко вздохнул. Смутное, горьковатое воспоминание: воздух его детства; он был свежее и с поздней весны до первых осенних ливней наполнял дом. Мать еще не похоронила отца, еще не стала жить с чужим пришлым дядькой, чтобы затем похоронить и его. Не спивалась за закрытыми ставнями, потому что вообще не пила. А он, маленький Костик, ночи напролет, бывало, воевал в своей спаленке с жадными до крови комарами… С визгливым ревом мимо промчалась компания байкеров, расстреляв из пробитых выхлопных труб Костины сонные видения. В свете фонарей мотоциклетные шлемы матово блестели, как хитиновый панцирь, а рулевые рукоятки напоминали тараканьи усы. «В этом городе полно насекомых, – подумал Пургин, провожая взглядом мотоциклистов. – В этом мире, в этой стране…» И у каж-на-хо сва-и ба-хи в ха-ла-ве. Краем глаза заметил какое-то движение на тротуаре. Оглянулся – и обомлел. С десяток черных тараканов окружили влажное, подсыхающее пятно посреди асфальта. Тонкие ножки и усики беспрестанно шевелились. Как, наверное, двигались и челюсти, слишком мелкие, чтобы их можно было увидеть на таком расстоянии. Тараканы жрали то, что осталось от их соплеменника. Еще парочка каннибалов выглянула из овсяницы и метнулись к месту пирушки. А от основной массы вдруг отлип один («Новый вожак?.. – пронеслось в голове у Кости. – У тараканов вообще есть свои вожаки?..») и, проворно перебирая всеми шестью ножками, устремился в его сторону. За смельчаком побежали второй, третий… Он не стал смотреть, насколько длинную цепочку образуют насекомые, прежде чем достигнут конца тротуара. Прежде чем доберутся до него. Не думая о том, как вообще могло его, взрослого мужчину, напугать странное поведение сраных тараканов, Костя развернулся и быстрым шагом, почти бегом, пересек «зебру», чтобы исчезнуть на другой стороне дороги в тени своего подъезда.3
За дверью его накрыло запахом вареной гречки и отдающей чем-то кислым, перебродившим, сыростью. Лампочка на потолке проигрывала неравный бой тьме по углам маленького холла. В каморке у консьержки было совсем уж черно, лишь слабо мерцал выпуклый кинескоп старенького «Рубина», бросая отсветы на такое же древнее и такое же квадратное лицо дежурной. Старуха жевала кашу и смотрела выступление мэра перед камерами. Звука у телевизора не было, поэтому казалось, что мэр тоже что-то молча жует. Заметив Костю, консьержка выудила пальцы из тарелки и поднялась со своего дивана: – Здра-авствуйте! – Добрый вечер, Азатгуль, – ответил он, отдышавшись. Перед глазами все еще стояла пугающая своей нелепостью картинка: темный ручеек хитиновых панцирей, целенаправленно, осознанно текущий в его направлении. Щеки вспыхнули то ли от того, что к лицу прилила отхлынувшая во время пробежки кровь, то ли от запоздалого стыда. Боже! Если бы Вика видела его позорное бегство, то, вероятно, следующее свидание у них бы уже не состоялось. – Припозднились сегодня, – губы старой казашки растянулись в фальшивой подобострастной улыбке, такой же кривой, как и ее раскосые глаза. Над верхней губой торчало несколько волосков, а по нижней стекала, набухая на подбородке мутной каплей, пережеванная гречка. – На двенадцатом у Петровых сегодня праздник. Вроде как день рождения у девочки ихней. Я вот думаю, что это уже слишком. В такое время деткам спать давно полагается, а они все шумят-гуляют, в трубу для мусора пустые бутылки бросают… Костя понятия не имел, кто такие Петровы. Некоторых соседей, с кем пересекался в лифте, возвращаясь с работы, он мог бы узнать в лицо, но по фамилиям и кто где живет – не разбирал. Кроме Азатгуль и еще одного пенсионера, дяди Вити, который жил этажом выше. Знакомству с последним, впрочем, Костя не особо был рад: старик был вредным и грубым. Семей же с детьми в доме хватало: на выходных площадка с качелями и песочницей, насколько он мог оценить, глядя из окна своей кухни, была заполнена. Скакала ли там среди прочей ребятни девочка Петровых, его совершенно не волновало. – Вот они там пьют, едят, мусорят, а потом у нас в доме вредители заводятся, тараканы. – Тараканы?.. – Костя невольно вздрогнул и не без труда удержал себя от того, чтобы оглянуться и посмотреть назад, на вход в подъезд, не лезут ли ОНИ через щель под дверью. – Да, да! Тараканы!.. Нашар таракандар! – Старуха воодушевленно затрясла головой, с подбородка капнуло. – Гадкие тараканы. Вредные, опасные. Еду портят. Она вытерла рот запачканной в каше ладонью, заставив его поморщиться: Бывают люди не менее гадкие, чем «таракандары». – И воду еще. Таракан любит воду, особенно такой, как эти. – Крупные такие, черные? – Костя вспомнил раздавленную тварь: та больше смахивала на жука неизвестного вида, чем на типичного прусака. – Да, да, точно! – Консьержка закивала еще радостнее, и вареные зерна гречихи полетели в его сторону. – Лесные таракандар, дикие. Мусорщик жаловался, когда днем заезжал. Много, много таракандар. – Так вы сами-то их не видели? – Видала, видала, а как же! Большой таракан, зулмат какой черный!.. Еду портить будет, по дому бегать будет, нашар таракандар! – А что, Азатгуль… – осторожно поинтересовался Костя. – Эти таракандары… они вели себя как, нормально? – Вели как?.. – Она посмотрела на него с удивлением. – Как тараканы… – Может, мусорщики обратили внимание? Ничего такого, странноватого, про этих таракандар не рассказывали? – Ничего такого… странно-ватного… А! Вспомнила! – Глаза старухи широко распахнулись. – Голодные таракандар, шибко голодные!.. Такие голодные, аж пауков едят! Мусорщик шибко удивлялся. Говорит, первый раз такое видал. Говорит – так-то наоборот, пауки тараканов жрут, а тут задом наперед вышло. Голодные таракандар, шибко голодные! Всю еду портить будут. Воду портить будут. Сами не уйдут. Но я уже СЭС звонила. Правда, они если только завтра приедут, а то и в четверг. Лето, говорят, жара. Много сигналов, говорят, времени нету. Последние слова консьержки привели его в чувство. Вре-мя-та, вре-мя-та ско-ха! Завтра снова метро с утра пораньше, работа. А он, вместо того чтобы распластаться по кровати, на полном серьезе слушает старческие бредни о страшно голодных тарасиках. Трясется от одной мысли про таракашек, что ползают ночами по улочкам Митино. – Пойду я, пожалуй, Азатгуль. До свиданья, – спохватившись, он поспешил на площадку у лифтов. – Это Петровы все! И Виктор Палыч!.. Мусорят! Из-за них вредитель завелся!.. – доносилось ему вслед. – Да-да, я понял, Азатгуль! – отмахнулся Костя. – Таракандары атакуют!4
В квартире было темно и душно. Хозяева денег на кондиционер пожалели, а окна Костя не открывал. Еще подростком привык держать ставни закрытыми, чтобы не получить от матери на-ха-няй. В детстве, впрочем, комарам окна не были помехой, а однажды он у себя в спаленке обнаружил огромного сверчка. Здесь, в Москве, в Митино, подобных проблем он не испытывал – как-никак седьмой этаж. Но привычка осталась. Костя вывалил ключи и телефон на тумбочку в прихожей, скинул обувь и одежду. Прошел в одних трусах в уборную, помочился. Душ успел принять у Вики (и даже пожалел тогда, что та не пожелала составить ему компанию), так что просто сполоснул руки над раковиной и смысл пот с лица. На кухне перелил остатки воды из фильтра в кружку, одним махом осушил ее и заново наполнил приемник. Соорудив тощий сэндвич из белого хлеба и ломтика ветчины, отправился в спальню, где и поужинал в темноте, сидя на краю кровати. Хос-спа-ди, весь-ва-ца! – квакнула где-то в подворотне сознания мать. Мусора, мусора много будет, плохие таракандар! – вторила ей Азатгуль. – Идите в жопу, – сказал Костя им обеим, а заодно и собственным внутренним таракандарам, быстро дожевал бутерброд и улегся. Наверху глухо громыхнуло. Надеюсь, это табурет свалился набок, когда Виктор Палыч повис в петле. Для бывшего слесаря дядя Витя пил не очень много, но имел дурную привычку, чуть выпив, засыпать в ванне, оставляя при этом открытым кран. И даже не думал оплачивать ремонт. Вот уж кто настоящий вредитель, не зря от него и консьержка воет. Впрочем, эта от всех воет… Костя был уверен, что и ему от нее тоже достается. «Тридцать два уже, а ни жены, ни детей, а си-ме и па-ду-мать не-ха-да…». Почему старики всегда мешают жить молодым? Новое поколение должно мягко сменять старое, как после выхода новой операционной системы уходят в прошлое предыдущие. Жаль, что их – Азатгуль, дядю Витю, мать и им подобных – нельзя стереть с винчестера планеты Земля. Жаль, что их нельзя раздавить, как тараканов. Жара и влага пропитали комнату. Простыня липла к коже. Спасаясь от духоты, он повернулся на спину, спихнув ногой одеяло. Все равно было душно. Температура?.. Могло продуть, пока шел еще разгоряченный от Вики. Костя помнил, что градусник лежит на верхней полке в боковой секции шкафа, подле кровати. Рядом с баночкой шипучих «Упса» и другими таблетками, за коробкой из-под обуви, в которой он устроил склад старых носков. Отыскать среди всего этого барахла термометр казалось так же просто, как Рокки Бальбоа нокаутировать Ивана Драго в первом же раунде. Но, может, дело не в температуре? Может, он просто переутомился, не выспался, да и нервы ведь не железные. Костя попробовал отвлечься, вспомнить сегодняшнее свидание, Вику. Ее ласки… У него с первого раза толком ничего не вышло – слишком долго вся его половая жизнь сводилась к мимолетным передергиваниям шкурки под одеялом. Так что девушке пришлось помогать. Сейчас ее помощь ему тоже не помешала бы, но перед глазами вместо блондинки с маленьким, упруго выпирающим под юбкой задом внезапно нарисовалась мать, непотребно пьяная и голая. Свесив меж целлюлитных бедер многочисленные жировые складки, Елена Николаевна по-жабьи растеклась на столике перед кроватью, где стояли ноутбук и совмещенный с ксероксом принтер. Открывала и захлопывала гигантскую пасть, словно порываясь издать любимый всеми жабами звук, но изо рта с протяжным шелестом – ссскырсссссск – выскакивала бумага. Потом мать сыто рыгнула и превратилась в Азатгуль, лицо которой снежило помехами, как кинескоп старого «Рубина». Пару секунд спустя помехи исчезли, на экране, то есть прямо на лице казашки, возник Виктор Палыч, в классических трениках и майке дающий интервью для ТВ-3. Дядя Витя с умным видом жевал гречку и рассказывал что-то про санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Митино. И мял в мозолистой ладони бумагу для ксерокса – ту самую, которой блевала мать. Косте было что сказать дяде Вите о соблюдении чистоты и порядка в их доме. Он хотел попросить – нет, потребовать! – чтобы тот больше не оставлял открытым кран, потому что в прошлый раз на обоях проступили темные сырые пятна, которые затем, засохнув, вздулись уродливыми пузырями. От этой сырости, а еще от жары, хотел сказать Костя, в доме могут завестись большие черные таракандары. Зулмат какие голодные. Еще он был готов умолять, пасть перед столиком на колени и молить, молить со слезами на глазах, только бы дядя Витя прекратил мять и царапать бумагу, потому что тихое, шелестящее скырск-скырск сводило с ума. Или нет, ничего в руках у соседа не было. На самом деле бывший слесарь выполз из телевизора и, проникнув в спальню к Косте, вскарабкался на шкаф. С трудом пропихнул свое грузное тело в узкую нишу под потолком и сосредоточенно скреб отставшие от стены обои. Скырск, скырск. Скырск, скырск, скырск. Пауза… Скырск-скырск, дядя Витя, смешно дрыгая пятками, заполз в угол и, скырск-скырск-скрылся из вида. Надо его найти, скрыск-скырск. Хотя он, скырск, может, скырск, и подождать, скырск-скырск-скырск. Костя не хотел слушать эти мерзкие звуки и видеть мерзкого дядю Витю тоже не хотел. Это, в конце концов, его сон, а не чей-то еще. Стоило подумать об этом, как назойливый сосед исчез. Последний, кого Костя увидел во сне, был его отец. Не отчим – родной. Верный напарник по играм и рыбалке, старший товарищ во всем, что касалось компьютерных прибамбасов. Именно отец подарил Костику его первую игровую приставку, «Денди», а до нее древний БК, понимающий компьютерный язык «бейсик». Теперь отец лежал в сосновом гробу, покрытый саваном, как будто запорошенный снегом по плечи, и держал в сложенных на груди руках простое деревянное распятие. За изголовьем гроба стояла крышка – словно долговязый солдат в коричневой шинели, лениво прислонясь к стене, ждал приказа вступить в бой. Комната, в которой маленький Костик угадал сени родной хаты, источала холод и мрак. Сладко пахло подгнившим сеном и плесенью. Но это же сон. Разве сны пахнут?.. Отец медленно повернул голову и посмотрел ему прямо в глаза. «Поди-ка сюда, сынка», – сказал отец, и его густые черные усы зашевелились как тараканы. …Маленький Костик робко шагнул вперед. В нем боролись два чувства: желание обнять папу и страх, что тот схватит его за плечи своими большими руками и затащит в гроб. «Поцелуй батю в щечку», – тень пала на бледное худое лицо, глаза папы стали черными как тараканы. …Костик приподнялся на цыпочках, чтобы прижать губы к сухой и прохладной папиной щеке. Усы неприятно кольнули кожу. «Сынка, скырск-скырск», – глухо сказал отец. Тут Костя вспомнил, что отец уже давно мертв, и что сам он сейчас находится за многие километры от дома, в съемной квартире в Митино. Он сейчас спит… И У НЕГО ПО ЛИЦУ ПОЛЗЕТ ТАРАКАН.5
Вскрикнув, Костя вскочил с кровати и метнулся к стене. Хлопнул ладонью по выключателю. Электрический скальпель полоснул зрачки, перед глазами замельтешили черные точки. Косте на миг почудилось, будто это десятки, сотни тараканов разбегаются по углам комнаты. Он ощущал прикосновения мерзких щетинистых лапок повсюду: на животе, груди, шее, щеках. И ему все еще было щекотно. Некоторое время он тер и отряхивал свое голое тело, пока не почувствовал шевеление (скырск) в волосах на черепе. А когда запустил туда пятерню, что-то, что копошилось (скырск-скырск) там, больно ужалило, впилось в натянутую тонкую кожу между указательным и большим пальцами. Заорав, Костя отшвырнул насекомое в сторону шкафа. Издав щелчок, с каким трескается сухая ветка, оно ударило по гладкой зеркальной поверхности и свалилось на пол. Эта тварь хотела залезть тебе в рот. Костя посмотрел на свое отражение в стенке. Белки глаз покраснели. Она могла попасть тебе НА ЯЗЫК. Открыл рот. Ты мог ее ПРОГЛОТИТЬ. Во рту было пусто. ОНА УКУСИЛА ТЕБЯ! Взглянул на руку и увидел на тыльной стороне ладони алую каплю. Невероятно! Его ни разу в жизни не кусали тараканы, и он никогда даже не слышал о таком, чтобы тараканы вообще кого-либо кусали до крови. Но жгучая боль, распространяющаяся по кисти вокруг укуса, прямо сейчас, в этот самый момент, опровергала весь его предыдущий жизненный опыт, связанный с мерзопакостными насекомыми. «Рану стоит обработать», – подумал он. Черт с ней! Дело ведь совсем в другом, не так ли? Внутренний голос не унимался. Если ты не найдешь таракана, то уже не сможешь сегодня уснуть. Возможно, никогда уже больше не сможешь нормально спать, зная, что стоит прикрыть веки, как мерзкая гадина вылезет из своего укрытия и заберется – теперь уж ТОЧНО заберется! – тебе в рот, ноздрю или ушную раковину. И будет ползать там, скребя твои внутренности щетинистыми лапками, трясь лоснящимися бочками, щекоча отвратительными усиками… Его начало колотить от отвращения, по спине побежали мурашки. Костя осмотрелся. Насекомое куда-то уползло, скрылось, а ему, он знал, было жизненно важно, просто необходимо отыскать и уничтожить эту тварь. Тем более, в комнате могли найтись и другие, ведь тараканы редко ползают по одиночке. Сваленное на пол одеяло цеплялось за кровать, как утопающий за борт спасательной шлюпки. Так же остатки здравого смысла Кости цеплялись сейчас за детали обстановки, чтобы окончательно не потерять связь с реальностью. Шкаф, столик, компьютер, занавеска, кровать… Одеяло упало, издав тихий шорох: ссскырссск… Костя побросал сверху подушки. Сорвал простыню, почти с благоговейным трепетом ожидая обнаружить под ней ощетинившуюся усиками и ножками мразь. Или с десяток-другой ей подобных. На голом матраце желтели пятна – засохшие следы долгих холостяцких ночей, чуть более заметные, чем стертые мозоли на внутренней стороне его правой ладони. Свалявшиеся шерстяные катышки неизвестного происхождения. Несколько хлебных крошек, мумифицированный мушиный трупик… Никаких таракандаров. Вообще никакой поганой живности. Костя приподнял матрац, но и под ним не нашел ничего, что могло бы перебирать лапками и скрестись о ткань, издавая мерзкие звуки. Сынка, скырск-скырск. Он застыл, недоуменно озираясь. Что это? Показалось?.. У него начались эти, как их, слуховые галлюцинации? Может, он уж вконец рехнулся? Вот Вика-то обрадуется!.. Способен ли тараканий укус повредить мозги?.. Скырск? – в этом было что-то издевательско-вопросительное. Словно то, что издавало эти шорохи, вежливо пыталось уточнить, все ли верно Костя расслышал с первого раза. «Откуда? Шкаф?..» Скырск-скрыск-скырск! – из сваленного на пол белья. В складках под белой тканью копошилось что-то темное. Он босой ступней отбросил угол простыни в сторону и увидел то, от чего полупереваренный сэндвич моментально взлетел по пищеводу к самому горлу и Костю едва не вырвало прямо на пол. Их было двое. Один, огромный, настоящий гигант, раз в пять крупнее обычного рыжего таракашки, оседлал другого, меньших размеров – видимо, самку. В желтом свете комнатной лампы тельца тварей матово лоснились. Щетина на лапках большого таракана напоминала зазубрины на лезвии армейского ножа. Передними конечностями самец обхватил и удерживал свою подругу, а задними упирался, скользил, скырск-скырск, по ткани, приподнимаясь над партнершей. Усики у обоих активно шевелились, а сами тараканы замерли в нечестивой пародии на двух слившихся в любовном экстазе людей. Голос в голове у Кости зашелся истерикой: Это ты, ТЫ, говённая деревня, их сюда притащил! Э-та та-ра-ка-шхи из ба-шхи тва-ей ма-ма-шхи, кубаноид! Ну нет! Костя подавил подкравшийся к горлу смешок. Какой бы сволочью ни была его ма, в ее маленькой глупой голове не водилось гигантских, способных укусить человека до крови насекомых. Скорее уж эта парочка выглядела как монстры из давешнего фильма с ТВ-3. Как плоды больной фантазии какого-нибудь Джима Гавнорски. ТЫ МОГ ЭТО СЪЕСТЬ! – завопил озлобленный маленький Костик у него внутри. И он стал топтать простыню.6
Под пяткой влажно хрустело, скыр-рск, и жидкость, похожая на гной, заляпала светлое белье. Костю едва не вырвало от нового приступа тошноты. Зарычав от нахлынувших ярости и отвращения, он поднял ногу и снова ударил, и так повторял раз за разом, буквально вбивая белье в ламинат. Эта! Погань! Ползла! У тебя! По лицу! «И лучше не думать о том, что так могло продолжаться дни, скыр-рск, недели, скыр-рск, и даже месяцы, скыр-рск, скыр-рск, скыр-рск, ночь за ночью, правда?..» ТЫ! МОГ! ЭТО!! СЪЕСТЬ!!! В какой-то момент Костя запыхался, обессилел и остановился. Внизу на простыне расплылось пятно желтовато-коричневой слизи, похожее на лопнувший перезрелый прыщ. Мелкие частички хитина и раздробленных конечностей плавали в гадкой лужице. Стопа болела, руку в месте укуса жгло, а по телу разливалась холодная равнодушная пустота. Казалось, если прислушаться, то можно уловить, как слабый ветер гуляет в тоннелях кишок. Молодцом, сынка! Одолел супостата! А-та-мстил за па-па-чху! Костя то ли мысленно, то ли вслух, он сам не понял, велел замолкнуть обоим родителям: и мертвому, и живой. Потому что единственный уцелевший тараканий усик вздрогнул. Из-под кашицы, в которую превратилось туловище крупного насекомого, высунула головку чудом уцелевшая самка. Зазубренный кончик ножки нащупал опору, лапка переломилась в сочленении, напоминая хищно загнутый коготь. И тараканиха медленно поволокла вперед лопнувшее брюхо, оставляя гнойный след из перемешанных между собой внутренностей, своих и своего любовника. э-та та-ра-ка-шхи из-ба-шхи тва-ей ма-ма-шхи «Живучая, сука». Он кинулся на кухню. Дрожащими пальцами нащупал выключатель, щелкнул тумблером – и чуть не заорал, увидев, как по керамограниту разбегаются несколько тараканов помельче. Одного Костя успел припечатать ножкой попавшегося под руку стула. «ДА КОГДА ВЫ ТОЛЬКО УСПЕЛИ НАБИТЬСЯ КО МНЕ В КВАРТИРУ?!» Спокойно, селянин. У тебя ведь есть план? Вот и следуй ему. И не паникуй, деревенская блевотина! Попытайся хоть раз что-нибудь сделать правильно в своей никчемной жизни. И лучше с первой попытки, а не как с Викой. Давай, сынка! У тебя все получится! Ма-ма-чха лю-би-т ти-бя… – Заткнитесь все на хер! – рявкнул Костя. Метнулся к ящику кухонного стола. Взгляд почти сразу напоролся на то, что ему сейчас было нужнее всего на свете. Старый тяжелый молоток, доставшийся от хозяев. С деревянной, темной от времени рукояткой и мощной ударной головкой из закаленной углеродистой стали. С таким на медведя ходить, не то что на тараканов. Костя схватил инструмент и тут же с криком выронил его обратно в ящик, почувствовав резкую боль в подушечке мизинца, точно под ноготь вонзилась раскаленная игла. Когда он затряс рукой в воздухе, то увидел, что в кожу вцепился еще один таракан. – Хос-спа-ади-и! – выдохнул Костя, не заметив, как вернулся к нему ненавистный кубанский акцент. Отодрал от себя насекомое. Тварь изворачивалась у него в пальцах – он готов был поклясться, что слышит, как злобно щелкают микроскопические челюсти. Торчащие из брюшка конечности отчаянно елозили по воздуху. Живот таракана имел удивительный розоватый оттенок, и Костя с отвращением подумал, что это, должно быть, виднеется его кровь. Борясь с тошнотой, он положил ублюдка на стол, лапками кверху, и, прежде чем тот сумел перевернуться, с размаху опустил на него молоток. От удара у старого стола чуть ножки не повылетали, а от таракана в буквальном смысле осталось лишь мокрое место. Костя потряс молотком в воздухе, торжествуя. Повоюем, сынка! – Так точно, бать! Босиком, в одних трусах, зато с молотком – этим молотом тараканьих ведьм – в кровоточащей руке, Костя прошел обратно в спальню, распахнул дверь и замер. Сначала он подумал, что, выходя, по привычке выключил свет. Потом поднял взгляд наверх, к лампе. Молоток глухо стукнул о ламинат, выпав из в миг потерявших чувствительность пальцев.7
Потолок шевелился. Он был черен от покрывавших его толстым слоем тараканов. Они наползали друг на друга, толкались и падали на пол, на сваленное возле кровати белье, на матрац. Как черный снег. Как ретроверсия картинки из «Матрицы», где вместо зеленых цифр кода вниз по экрану сыпались черные крошки. Словно огромный трехмерный «Тетрис» в черно-белом варианте. В этом было даже что-то величественное. Костя успел заметить, что начало бурлящему океану тьмы давал угол за шкафом. Кусок обоев отстал там от стены, обнажив глубокую кривую трещину, из которой расширяющейся кверху воронкой ползли все новые и новые насекомые. Их здесь теперь были, наверное, уже тысячи, десятки тысяч. Грозди и россыпи тараканов облепили стены. На черном от тараканов столике покачивалась распахнутая крышка ноутбука, тоже черная из-за ползающих по ней тварей. Белая занавеска на лоджии выглядела так, словно какой-то бродяга рисовал на ней граффити черной краской из аэрозольного баллончика – только этот рисунок был живой, дышал и копошился. Скырскскырскскрыскскырскскырск – услышал Костя. А потом с потолка на лицо ему скакнул таракан. – А! – вскрикнул Костя, когда таракан укусил его в лоб. Другое насекомое спикировало на шею. Третье упало в волосы на макушке. Отмахиваясь от падающих, словно капли быстро набирающего силу дождя, гадов, он попятился в прихожую. Ушибленной пяткой задел валявшийся на полу молоток, потерял равновесие и с новым криком опрокинулся на спину. Затылком больно стукнулся об пол, от удара голова подскочила на долю секунды, а потом по инерции ударилась снова. Повторный удар был слабее, но отозвался в голове Кости многократным раскатистым эхом – смутно знакомым, как в детстве, на Кубани, когда отец водил его в пещеру на горе со смешным названием Индюк. Воспоминание всплыло из тьмы на секунду, когда Костя потерял сознание. Затем он приподнял гудящую голову и увидел, что лежит у входа в такую же пещеру. С высокого свода лились черные струи. скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырск Жалящая боль пронзила ноги сразу в нескольких местах, на ступнях и щиколотках: первые тараканы уже успели облепить их, а некоторые забрались даже дальше, приближаясь по голым худым бедрам к области паха. Костя почувствовал, как сжимаются в комок его яички. Он шарахнулся спиною назад, усиленно работая ногами и руками, чтобы сбросить с себя насекомых. Черная шуршащая волна неторопливо накатывала из спальни, готовая накрыть его с головой. Он заставил себя подняться, не обращая внимания на боль в голове и ногах. Захлопнул дверь. Несколько тараканов зажало в щели внизу, гнойные брызги запачкали выкрашенный белой краской косяк. «Хозяева будут ругаться», – подумал Костя. Потом он подумал, что ему совершенно насрать, что скажут квартиросдатчики, – он здесь все равно больше жить не станет. Ни за что. Никогда. Скырскскырскскрыск, тараканы протискивались в щель под дверью. Скырскскырскскрыскскырскскырск – раздалось у него за спиной. Кухня! Он обернулся. Их там было пока не так много, как в комнате, но орда прибывала на глазах. Они ползали по ножкам и крышке стола, по стульям, карабкались по отвесной стене холодильника, десятками выбегали из приоткрытой уборной. Костя увидел, как накренилась и рухнула вниз фильтрационная установка, услышал треск раскалывающейся пластмассы. Вода разлилась по полу, и это отвлекло тараканов, дав ему время прийти в себя. «Влага. Им нужна влага». Твари сгрудились над лужей неким подобием конуса или пирамиды. Шуршащая гора дрожала, как проснувшийся, готовый вот-вот извергнуться вулкан, и быстро прибавляла в высоте. Очень скоро от воды не останется ничего, понял Костя. И тогда они обратят внимание на другой источник жидкости. На него. «Плохие таракандары. Злые, голодные, жаждущие человеческой крови таракандары». Беги, твою мать, деревня, беги! Костя почувствовал острое желание опорожнить мочевой пузырь и стиснул зубы, а потом, в кулаке, и мошонку. Обмочиться, сейчас? С тем же успехом можно сунуть в рот сдвоенный ствол «Ижа» и спустить курки. Черт, возможно, он бы так и поступил, но ружья под рукой не было – отцовская берданка осталась дома, на Кубани. По ногам у него текла кровь, и обе руки тоже были в бурых пятнах. Он поднял молоток с пола, попутно размазав по рукояти небольшого таракана. На глаза попалась дверь в комнату и щель, в которую продолжали лезть новые твари. Пол рядом был покрыт мелкими крупицами белой краски и древесной щепой. Отверстие становилось шире, потому что – приходилось верить собственным глазам, хотя разум отчаянно протестовал, – тараканы прогрызали дерево. Еще минута, и он окажется зажат в тисках, окруженный со всех сторон. Тараканы не пожирают людей. Не могут вести себя настолько разумно и вместе с тем дико. Удел тараканов – подъедать крохи со стола и лакомиться падалью из мусорного бачка. Разве не так? С другой стороны, разве не думал он прежде о самом себе, своих соседях и даже об их детях как о падали? Так ли уж странно, что жизнь, по обыкновению, воплотила в реальность худшие из его представлений?.. Та трещина за обоями выглядела глубокой и длинной, словно начало брала в самом сердце Ада. А сколько таких разломов могло быть во всем доме? Большое, высоченное жилое здание, целых двадцать два этажа отборной столичной падали. Настоящий пир для изголодавшейся орды. Что ж, ничтожество, хотя бы сейчас ты начал ощущать себя москвичом… СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК …а теперь беги. Беги, пока не поздно, сука! Костя потянулся к тумбочке за ключами и схватил их, не глядя, вместе с телефоном. Застрявший в волосах таракан укусил его за мочку уха. Костя воткнул в него ключ. Еще один укус обжег большой палец ноги. Шорох тысяч насекомых стал громче и возвысился до подобного водопаду рокота, когда дверь спальни треснула и разошлась посередине под напором тараканьего цунами. В прихожую хлынула черная шуршащая хитином масса. Костя отбежал к входной двери и обрушил позади себя тумбочку, чтобы выиграть еще несколько секунд драгоценного времени. Тебе всегда не хватало времени, деревенщина. Ни на сон, ни на отдых… Ни на жизнь. Трясущимися, скользкими от крови пальцами он повернул круглую фалевую ручку, как никогда радуясь тому, что, будучи дома, замыкал дверь лишь на один поворот, а не полностью, на два с половиной. Лишние мгновения, дарующие надежду. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Не оглядываясь, – он знал, что черная волна уже накрыла тумбочку и перехлестывала через нее, – Костя дернул дверь, поспешно скользнул в узкий проем, ободрав бок о металлическую лутку, и, перехватив ручку замка уже с внешней стороны, всем весом потянул на себя. Сталь лязгнула о сталь, а спустя секунду до его слуха донесся множественный дробный стук – будто сотня озорников устроила соревнование по стрельбе горохом из трубок, используя в качестве мишени дверь его квартиры. Пусть ломятся сколько угодно, сталь им не по зубам. По крайней мере ему хотелось на это надеяться. Костя запер замок и оставил ключ в скважине, закупоривая металлом последнее отверстие. Теперь оставалось самое простое: понять, что делать дальше.8
Стучать в квартиры соседей, звать на помощь? Ну да, гений, ты хоть представляешь, какой у тебя сейчас видок? Из одежды на Косте остались только трусы, в которых он ложился спать. Руки и ноги продолжали кровоточить, раны жгло, как будто по коже ласково провели паяльной лампой. Мелкая деталь, дополняющая портрет обезумевшего провинциала, – молоток, испачканный какой-то пакостью. И телефон. Он мог позвонить. В «Скорую помощь», пожарным, копам – кому угодно, кто приедет и разберется со всем этим безумием. «Ага. Давай звякни и расскажи им, что отборные тараканьи войска только что совершили вторжение на суверенную территорию твоей съемной квартиры. Посмотрим,как скоро после этого ты попадешь в желтый дом на Волоколамке». СЭС. Надо звонить в СЭС, тараканы – это по их части. Азатгуль звонила – вспомнил Костя. Она знает номер. А он знает ее, еще несколько часов назад они разговаривали о вредителях-таракандарах. Правда, старуха вряд ли сильно обрадуется, увидев соседа в одних трусах. «А с чего ты взял, умник, что лишь С ТОБОЙ этой ночью что-то случилось?» Только тут Костя сообразил, что, помимо непрекращающегося дробного стука с той стороны двери, слышит и другие звуки. Много звуков. Они наполняли дом, сливаясь в единую приглушенную какофонию, будто музыканты огромного оркестра, готовясь у себя в яме к концерту, настраивали инструменты. Он различил некоторые из них: партия плачущего ребенка, литавры бьющегося стекла, разноголосые духовые женских и мужских криков. На негнущихся ногах Костя вышел из коридора на площадку к лифтам. Из-за закрытых створок в шахте доносились могучие удары. Бух. Бух. Словно какой-то шутник с чувством юмора, как у идиота с Волоколамки, запер в лифте разъяренного носорога. Он вспомнил про лестницу. Дверь к ступенькам – обычная деревяшка с мутным куском стекла – располагалась напротив мусоропровода, сразу за лифтовой площадкой. Костя прошел туда, оставляя на грязной плитке алые отпечатки. В шахте бухнуло особенно сильно, и что-то заскрежетало. Свет на площадке моргнул. Костя поднял голову – по плафону светильника с внутренней стороны сновали многоногие тени. Когда он приблизился к выходу, ржавый короб мусоропровода с отчетливым лязгом распахнулся, как пасть неведомого зверя, и из него хлынули тараканы. Труба выблевывала их толчками, потому что желающих выбраться наружу было слишком много. Костя успел выскочить на лестничную клетку и захлопнул за собой дверь прежде, чем первая волна врезалась в нее с другой стороны. Он зафиксировал дверную ручку в поднятом положении и уставился в ужасе на стекло, через которое, впрочем, все равно ничего нельзя было разглядеть. – Думаешь, это их надолго удержит? От неожиданности и испуга Костя подпрыгнул на месте, и его мочевой пузырь непроизвольно расслабился. Он слишком долго терпел и теперь с отстраненным удивлением осознал, что испытывает жгучий стыд от того, что обмочился, хотя в сложившейся ситуации расстраиваться из-за таких мелочей было, пожалуй, довольно глупо. – Смотрю, кто-то вполне способен залить свою халупу и без моей помощи, – хмыкнул дядя Витя. Он стоял на площадке выше, на полпути с восьмого на седьмой этаж. Шлепанцы на босу ногу, тренировочные штаны с полоской, от века не водившая знакомства со стиральной машинкой майка, – все как всегда. Когда Виктор Палыч сошел по ступенькам, Костя разглядел, что руки у него испачканы красным, а небритая физиономия как будто напудрена. – Хреновый из вас клоун, Виктор Палыч, – выдавил Костя. Он стоял перед соседом в одних трусах, по ногам у него текло, но ему хотелось хихикнуть. – Ян Арлазоров мой ученик, – сказал дядя Витя без улыбки. – Скушай Машеньку. – Чего? – Мел жри, говорю, зассанец, – дядя Витя протянул пакет, в котором и правда лежало несколько кусочков белого мела. На пакете была наклеена этикетка с надписью «Машенька» и рисунком, изображающим дрыгающихся, как в танце, рыжих тараканов. – Я тридцать лет слесарил, всякой живности повидал по подвалам. А до того на кораблях плавал, там у нас и похуже твари водились. Борной кислоты в нужных для зачистки объемах у нас нет, «Раптор» у меня кончился, а ты, ссыкло, как видно, решил прогуляться налегке. Остается «Машенька», без вариантов. Отрава не моментального действия, но хоть какая-то, да защита. Костя безропотно сунул руку, запачкав край пакета кровью, и вытащил кусок мела. – Жри. – Есть-то зачем? – А чтоб я знал, что к тебе в башку прусак не заселился, – сказал дядя Витя так, словно это все объясняло. – Но ведь это же яд. Мне плохо не станет? – Куда уж хуже-то? – Глаза старика серебрились безумием, но в его словах была доля правды. Костя провел мелком себе по лбу и щекам, начертил белый смазанный крест на груди и положил оставшийся шарик на язык, под нёбо. На вкус «Машенька» оказалась горькой – каким, наверное, и должен быть мел. – Вот и правильно, без вариантов, – удовлетворенно кивнул дядя Витя. Сделал шаг в сторону, чтобы не наступить в желтую лужицу, растекающуюся под ногами у Кости, заодно придавил шлепанцем пробравшегося в щель под дверью таракана. – А теперь валим отсюда, если ты, конечно, уже закончил орошать поляну. Как по мне, здесь сколько ни удобряй – один хрен ничего не вырастет. Они стали спускаться. Первым шел дядя Витя – не торопясь, осторожно, осматриваясь по сторонам и внимательно слушая малейший шорох. Прежде чем перейти на следующий лестничный пролет, он высовывал голову сверху за перила и просматривал предстоящий отрезок пути. Воняло кошачьей мочой, но Костя и сам пах изрядно. На пятом этаже им встретилась кучка засохшего собачьего дерьма, а на стене в переходе чьей-то, судя по высоте надписи, детской рукой было выведено: «КТО МЫ – МЯСО!» и буква «С» в криво намалеванном ромбике. Костя мрачно подумал о неожиданно пророческом смысле этого послания. – Блаттоптероз, – изрек дядя Витя во время очередной краткосрочной остановки. – Так это врачи называют. Вред, который могут причинить людям тараканы. В основном дерматиты всякие, ну и прочие гадости. Возможно, он просто заскучал, а может, считал, что делится крайне важной информацией. Косте было все равно. Его раны горели адским пламенем и сочились кровью, голова раскалывалась. К тому же он начал мерзнуть. Но рядом с дядей Витей чувствовал себя определенно лучше, чем прежде. Спокойный, деловитый голос бывшего слесаря согревал получше любого калорифера. И Костя радовался звукам этого голоса, заставившим умолкнуть его проклятых внутренних тараканов. – Вообще, лучшую в мире защиту от тараканов дала нам сама природа. И дело тут не в нас, не в наших размерах, – продолжал дядя Витя. – Размеры тут больше в минус. На флоте – а я по Тихому три года бороздил, чтоб ты знал, – был у нас случай. Одному матросику мелюзга такая прям в ухо заползла, пока тот спал. Залезть-то гнида залезла, а развернуться и обратно выползти – не может. И задницей наперед ползать – не умеет, без вариантов. Копошилась так, что аж кровь у бедолаги из уха течь начала. Ох и намучился парнишка! Хорошо, что медик толковый оказался. Ну тогда других на флоте и не держали, без вариантов. Это тебе не по подъездам ссать, хех. – Вытащил? – Вытащил, само собой. Матросика, правда, все равно на сушу списали. Отказало то ухо у него. Перепонку, что ль, таракашка повредил. Хрен знает… –…без вариантов, – закончил Костя. Ему хотелось быть полезным: – У меня телефон есть, мобильник. Может, копам… в милицию позвонить? – В полицию, – поправил дядя Витя. – Это можно. Только выйдем вот – и звони. А лучше военным. Но это когда выберемся отсюда. В данный момент нам от них пользы мало. – Тогда… тогда я девушке своей позвоню. – Костя дрожащими пальцами набрал номер Вики, но мерцающий экран сообщил, что абонент недоступен. Оставалось надеяться, что она просто легла спать, выключив мобилу. Что бедствие коснулось только их дома, а не охватило весь район… или того хуже – весь город. – Давайте хоть посвечу, – Костя включил фонарик в настройках смартфона и направил его на ступеньки. – Другое дело, – ухмыльнулся дядя Витя и выхватил у Кости мобильник. – А я-то думал, ты только ссаться умеешь, салага. Они продолжили спуск, но теперь пошли быстрее. Дядя Витя светил телефоном перед собой, а Костя ковылял следом. Происходящее отдавало бредом: десять минут назад он спасался бегством от полчищ плотоядных насекомых, полчаса назад спокойно дремал в кровати и видел сны. Не очень хорошие (сынка, скырск-скырск), но сны. И вот опять будто погрузился в кошмар. В этом видении вредный, пьющий сосед все больше напоминал ему отца – человека, на которого всегда и во всем можно было положиться… пока тот не умер. И даже привычное хамство бывшего слесаря Костю уже не раздражало, а казалось чем-то совершенно нормальным. Так, должно быть, в армии старшина по-отечески, не со зла, матюгает новобранцев, чтоб знали свое место. Место Кости было позади командира, а командовал сейчас Виктор Палыч. Они выбрались в холл первого этажа. Здесь царила ночь. Во тьме слабо мерцала зеленым лишь кнопка вызова у одного из лифтов. Грохот в шахте прекратился, в тишине («мертвой тишине», – пришло на ум Косте, и он вздрогнул) чудилось гудение натянутых в стылом воздухе стальных тросов. Он не хотел думать, что могло по ним карабкаться, вызывая вибрацию. Дядя Витя поднял руку с телефоном. Подсветки хватало, чтобы развеять мрак метра на три, не больше. – Не нравится мне это, – сказал дядя Витя. – Как затишье перед бурей. Двигаем помаленьку… Не торопиться. Не шуметь. Аккуратненько. От выхода на улицу их отделяло, по прикидкам Кости, шагов тридцать. Несколько ступеней, широкий коридор, комнатка дежурного по подъезду. – Азатгуль, – вспомнил он. – Черт! И правда. Спит, наверное, чурка нерусская… – Дядя Витя опустил телефон, раздумывая. Потом посветил Косте в лицо: – Значит, так. Стоишь тут. Ждешь меня. Я зайду к старухе, проверю. Очень, очень надеюсь, что она не заорет с перепугу, когда я ее будить начну. Но вот тебе… для твоего собственного здоровья, ссыкун, будет лучше оповестить меня, если заметишь, что эти гады сюда лезут. Без вариантов. Понятно выражаюсь? Костя кивнул, дрожа всем телом и уже не только от холода. Дядя Витя окинул его взглядом серебристых старческих глаз и усмехнулся: – Не ссы, ссыкун. Не из такого дерьма выплывали… Костя очень хотел ему верить. Однако вера его пошатнулась, когда дядя Витя отобрал у него молоток и сунул за пояс своих великолепных тренировочных штанов. – На всякий случай. А случаи бывают разные… И он остался во тьме один, голый и безоружный, пока бывший слесарь осторожно шел вперед. Дядя Витя двигался медленно, производя минимум шума. Фигуру его окружало смутное марево, исходящее от телефона, и со стороны выглядело, как будто он плыл в световом шаре по океану темноты. Когда он спустился по ступенькам к каморке консьержа, света стало совсем мало, и Костя, не выдержав, сделал несколько робких шагов вслед за соседом. Подоспел как раз, чтобы увидеть, как дядя Витя нащупывает во мгле ручку двери от комнаты дежурного, поворачивает и открывает. – Эй, курва старая. Конец света проспала, – хриплым шепотом позвал дядя Витя и снова поднял телефон. Свет упал на диван и фигуру, укрытую с головой черным шерстяным одеялом. Вернее, Косте показалось, что это было одеяло. Скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырск – зашипела Азатгуль, поднимаясь. Покрывало схлынуло к ее ногам, оказавшись сотканным не из шерсти, а из тысяч тараканов. Словно сама тьма ожила и обрушилась лавиной на пол каморки, а оттуда – прямо к дяде Вите. Слесарь, шатаясь, попятился, не отрывая глаз от внезапно вознесшейся перед ним в полный рост старухи. Азатгуль стояла на диване, а у дяди Вити ноги подогнулись в коленях, сам он начал невольно опрокидываться назад, от чего рука с телефоном задралась еще выше. В призрачном, отдающем синевой свете Костя, как и сосед, увидел лицо старой казашки, на котором не осталось живого места, где совсем не было кожи и которое при этом жило, потому что в мясе щек и в пустых глазницах копошились тараканьи личинки. – Царица Мать Небесная… – отвисла челюсть у дяди Вити. В кровавом месиве, когда-то бывшем толстыми губами, тоже раскрылась дыра. Азатгуль тяжело подняла руку, сплошь покрытую насекомыми, и, указав на бывшего слесаря, произнесла (никогда еще ее русский не звучал так странно): – ЖРИТЕ. Дядя Витя заорал, поскользнулся в своих шлепанцах, упал, но тут же вскочил снова, швырнул в Азатгуль пакет с мелками и, продолжая вопить, побежал назад, к Косте. – Не туда… – пискнул Костя, но было уже поздно. Скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырск – за спиной дяди Вити черная река выплеснулась в подъезд и в один момент достигла противоположной стены, отделив Костю и его напарника от двери на улицу. – Назад!!! – Дядя Витя споткнулся и едва снова не рухнул, но устоял на ногах, хоть и потерял на ступеньках второй шлепанец. Отбросил остолбеневшего от ужаса Костю с дороги и пинком распахнул дверь на лестницу. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Проход был забит тараканами. Они сбегали по стенам, текли ручьями по ступеням, покрывали перила – и вся эта масса двигалась вниз и вперед. Самые быстрые уже достигли лестничной площадки и перебегали через порог, минуя сослепу ноги дяди Вити либо с ходу впиваясь в босые ступни. Костя, медленно сползая по стене, видел всю картину. Он услышал глухие детские рыдания и подумал: «Это я. Это мой собственный плач». Мысль нисколько его не испугала. Он уже не испытывал страха, не чувствовал боли и отчаяния. В нарастающем, сливающемся в монотонный гул звуке сотен тысяч тараканьих ножек ему слышался знакомый мотив. Костя никак не мог вспомнить, где слышал эту песню без слов, но, превращаясь в нее, безостановочное скрыскскырскскырскскырск уже не было так страшно, даже напротив: обещало ласку, тепло и покой. Возможно, дядя Витя тоже уловил нечто подобное, потому что замер на месте и опустил руки. Створки лифта в полутора метрах от Кости разъехались в стороны. За ними в водопаде мутно-желтого света стоял кукольный светловолосый ангел в белом платьице и ревел навзрыд. – Лифт! – закричал Костя еще до того, как успел понять, что это плач девочки слышал минуту назад, а не собственные рыдания. Тараканы уже добрались до его многострадальных пяток, но он не обратил на укусы внимания и даже не заметил, как, снова вставая на ноги, расплющил несколько тварей. Дядя Витя также пришел в себя. Одновременно они ломанулись в кабину, едва не расшибив друг другу лбы в проеме. Более массивный, тяжелый слесарь выиграл короткую схватку и проскочил внутрь первым. Бесцеремонно отпихнув девочку-ангела к дальней стенке, сам прижался к боковой, изо всех сил колошматя смартфоном по кнопкам этажей. Костя едва успел нырнуть следом, как двери закрылись и лифт начал подниматься.9
Несколько секунд все трое молча вжимались в стенки кабины, каждый в свою. Дядя Витя тяжело и часто дышал, просунув ладонь под майку с левой стороны, где у него обнаружилась расплывшаяся по дряблой бледной коже синяя татуировка в виде большого, обвитого цепью якоря. Костя изучал эту находку, пытаясь вспомнить, были ли какие-нибудь тату на груди у его покойного отца. У Вики была – маленький паучок в области поясницы. Эх, он бы все отдал за то, чтобы остаться вчера у нее на ночь… Сейчас Косте казалось, что он парит в невесомости. Даже девчонка прекратила плакать и, широко распахнув огромные голубые глазищи, поочередно смотрела то на одного взрослого, то на другого. Потом дядя Витя отлип от стены и надавил большим пальцем кнопку в нижней части лифтовой панели. Ощущение невесомости исчезло – кабина прекратила движение. – Черта с два я отсюда куда выйду. – Виктор Палыч, телефон проверьте, – сказал Костя. – Может, теперь все-таки есть смысл позвонить в полицию? – Умный больно, да? – сказал дядя Витя. – Не фурычит. Связи нет, видишь? Костя кивнул, забирая бесполезный теперь мобильник. В этом здании столько бетона, а его сотовый оператор никогда не отличался надежностью. К тому же смартфон пострадал: пластмассовый корпус в нескольких местах треснул, спасибо дяде Вите. Впрочем, с его-то везением разве могло быть иначе? Не гневи Бога, сынка, девку тебе сам Господь послал. «И то правда, бать. Но что дальше?» Покойник замолчал, но, в общем, мертвым и не свойственна особая разговорчивость. – Что это было там, внизу? Ты видел? – Дядя Витя продолжал растирать себе грудь, лицо у него стало еще белее и уже не только из-за мелового грима. – Эта сука, Азатгуль, она показала на меня! А ты, – дядя Витя наконец обратил внимание на спасшего их ребенка, – чьих будешь? Как звать? – Я девочка Маша Петрова, у меня болит вот здесь, – она потрогала пальчиком висок, задев при этом завитой нежно-золотистый локон. Костя только сейчас заметил на голове у девчонки ободок с пушистыми розовыми заячьими ушками. Наверное, родители любили называть ее «зайчиком». Ушко осталось одно, второе куда-то исчезло. Большое горе для малышки ее лет – может, потому и плакала?.. Как бы там ни было, Костя сейчас даже собственные грязные трусы не рискнул бы поставить на то, что девочка Маша когда-нибудь вырастет в длинноногую грудастую «зайку Плейбоя». – Мама, папа твои где? – продолжал допрос дядя Витя. – Не знаю, – пожала плечами Маша. – Где-то… там. Потом заплаканное личико вдруг просияло неподдельной радостью, и она, вытянув перед собой обе руки, сообщила: – Мне шесть лет. Нет, уже семь! – оттопырила еще один пальчик. – У меня день рождения! – Господи. Что бы ты ни заказывала на днюху, надеюсь, папаша подарил тебе не тараканью ферму. – Виктор Палыч, – отвлек его Костя, – инструмент верните. – Что? А, черт, забирай, – дядя Витя выудил молоток и невесело улыбнулся: – Веришь, нет… забыл внизу про него совсем, когда началось. С другой стороны, ты вспомни ту тварюгу! Какой от него прок против всей этой хрени, а? – Без вариантов, – согласился Костя, сжимая деревянную рукоятку. Сунуть молоток было некуда – не в трусы же пихать. Слесарь говорил верно, против таких тараканов бесполезно любое оружие, кроме, разве что, огнеметов. Но, по странному стечению обстоятельств, никто из присутствующих пиротехники на это маленькое собрание жильцов не захватил. – Там игрушки есть? – Маша смотрела на его телефон. – Посмотри сама, я не знаю, – Костя протянул ей мобильник. – Считай это, ну, типа подарком на день рождения. – Спасибо. – Виктор Палыч… Надо выбираться отсюда, Виктор Палыч. – Ты глухой?.. Или тупой? Черта с два я отсюда выйду! – Кабина не герметична. Шахта лифта тоже. Рано или поздно они до нас доберутся. – Кто-то придет на помощь. – Кто? Мы никого не встретили, кроме девчонки. Тараканы сожрали ее родителей, сожрали Азатгуль… Во всем здании в живых остались только мы трое. И у нас нет связи с внешним миром. Делайте что угодно, выстукивайте SOS азбукой Морзе по стенкам – никто нас не спасет! – Костя прервался и услышал в паузе шорох. В углу кабины в семечковой кожуре копошился таракан. – Смотрите! Они уже здесь. – Ну и что? Их здесь мало. А по одному, – слесарь сделал шаг и превратил семечки в труху вместе с тараканом, – по одному мы как-нибудь с ними справимся. – Это пока они не проели дыру побольше, – сказал Костя. – Или несколько дыр. Они это могут. Я видел, как они проедают дерево. И потом, Виктор Палыч, сколько мы здесь высидеть сможем – день, два?.. Что будем пить? Есть что будем? Тараканов? Мы же сами тут, как жуки в коробке… – Ничего, продержимся! – Сколько ты продержишься без лекарств, дядя Витя? У тебя ж с сердцем плохо, да? – Это моя забота, сучонок. Сперва ссать в унитаз научись, прежде чем диагнозы ставить. – Ой, тут птички есть! – воскликнула Маша: девочка нашла в телефоне Angry Birds. Костя снова взглянул на дядю Витю: – Виктор Палыч, вы же говорили что-то про лучшую защиту от тараканов… – Намастрячился сикать H3BO3, гений? – Нет, – терпеливо сказал Костя. – Я про другую защиту. Про ту, которую нам дала природа. Вы же говорили о птицах, верно? Птицы клюют тараканов. – Какая разница, о чем я говорил? Если ты гадишь, как голубь, это не значит… – Да ЗАТКНИСЬ ты хоть на минуту! Просто послушай, – на плечо упал таракан, и Костя, не отвлекаясь, раздавил его в ладони. – Мы могли бы подняться в лифте на верхний этаж. А оттуда выйти на крышу. Крыша – это не дерево и пластмасса, дядя Витя. Это бетон. Туда им пробраться будет сложнее. Там мы сможем звонить куда угодно, кричать сверху, звать на помощь. И главное. Там будут птицы. Много птиц. – Птички нам помогут! – Девочка все это время слушала Костю с открытым ртом. – Природа нам поможет, Виктор Палыч! Старик задумался. Сейчас он выглядел действительно как глубокий старик, а не молодящийся, прежде служивший на флоте слесарь, недавно вышедший на пенсию. На глубоких залысинах проступили бисеринки пота, щеки посерели и будто втянулись в череп. Костя вдруг понял, что щетина на подбородке дяди Вити не окрашена мелом – она была белая, потому что была седая. И серые зрачки его не серебрились, как казалось прежде, а помутнели от возрастной катаракты. – Все это имеет смысл, только если ход на крышу открыт, – наконец выдавил он из себя. – Даже если там заперто, – Костя поднял молоток, – у нас есть чем сбить запоры. Вместо ответа дядя Витя молча повернулся к панели и до упора утопил внутрь кнопку с числом «22». Кабина едва ощутимо вздрогнула и снова начала подниматься. Сквозь стены был слышен шорох тросов… и, возможно, чего-то еще. – Как будем действовать, дядя Витя? – спросил Костя, когда на панели мигнула кнопка «12». По телу пробегала дрожь, но рукоятка молотка горячила ладонь. Адреналин наполнял жилы расплавленным свинцом. – Быстро, четко, слаженно, – старый моряк воспрял духом, словно приняв колыхание спертого воздуха в кабине за бриз. На панели зажглось и потухло число «14». – Выходим и сразу к люку на крышу, он должен быть рядом. Первый идешь ты, как молодой и здоровый. Плюс у тебя молоток, а он может понадобиться, когда дело дойдет до замков. – А я иду?.. – Ты, девочка Маша, идешь сразу за Константином. Не идешь, а бежишь со всех ног, чтоб только пятки сверкали, без вариантов. Я – прикрою вас сзади. «16». – Годный план, Виктор Палыч. «17». – Будешь драпать на крышу – не обоссысь ненароком, скалолаз. Не горю желанием принимать душ из твоей мочи. «19». На числе «20» лифт вновь тряхнуло, уже серьезней. Подъем прекратился. Костя и дядя Витя уставились один на другого. – Какого черта? – спросил Костя. – Откуда мне знать? Я не лифтер, я слесарь! – крикнул Виктор Палыч, давя на все кнопки подряд. – Не ругайтесь, – сказала Маша. – Ругаться плохо. – Скырскскырскскрыскскырск, – сказал потолок.10
Свет в кабине моргнул. Все трое задрали головы и увидели тени под колпаком светильника. Много теней, и у каждой – по шесть маленьких ножек. Косте вдруг стало трудно дышать, словно в горле застрял замороженный чизбургер из гипермаркета. Целиком застрял, здоровый такой чизбургер, размером с кулак Николая Валуева. «Господи, да мы сами тут как бургер для тараканов», – подумал он, ощущая панику, растущую по мере того, как света в кабине становилось все меньше, а теней под полупрозрачным пластиком лампы (скырск-скырск-скырск) все больше. Ожили голоса в его голове: Ну вот, лимита, аккурат перед смертью ты узнал, что страдаешь клаустрофобией. Она, знаешь ли, быстро развивается у всякого провинциального говна вроде тебя, особенно если застрять в окружении тараканов-людоедов. – Они лезут сюда, – сказал дядя Витя. И теперь весь ваш блистательный план спасения будет сожран вместе с вами. – Что делать будем? – Можно вызвать лифтера, – криво усмехнулся дядя Витя. – Но что-то мне подсказывает, что толку от это будет ноль целых, хрен десятых. – Дай-ка сюда, – Костя забрал у Маши телефон, потряс им в воздухе, проверил число делений. Потом попробовал набрать номер службы спасения, но, услышав начало фразы «абонент временно недоступен», вернул мобильник девочке. – Связи все еще нет. Под ногами раздался тихий шлепок. На потолке в углу появилось небольшое отверстие, куда один за другим начали проползать тараканы. Дыра расширялась прямо на глазах, и через секунду в нее пролезало уже по два, по три насекомых одновременно. – Надо валить, – губы у дяди Вити стали того же серого цвета, что и грязная майка. – Слышь, Костя, надо сваливать отсюда. – Мы не доехали до конца. – Мы на двадцатом! Два гребаных перехода на два гребаных этажа – и будем на месте! – Если там, – кивнул Костя на двери, – нас не ждет толпа гребаных тараканов. – Там неизвестно, а здесь их скоро будет полная коробочка! Что-то царапнуло по бедру с левой стороны, и Костя едва не ударил молотком, не глядя, но в последний момент понял, что это Маша коснулась его рукой. – Дядечки, не ругайтесь, – в глазах у Маши стояли слезы. – Давайте лучше уйдем отсюда, давайте убежим от таракашек. По нижнему краю белого платьица карабкалось насекомое. Дядя Витя нагнулся, раздавил таракана меж пальцев, сунул обе руки под мышки девочке и, крякнув от натуги, поднял ее. – Давай, Константин, – сказал он хрипло. – Открой нам. Мы, пожалуй, тут выйдем. – Ладно. – Костя повернулся к дверям и, уцепившись ногтями за край, попробовал отодвинуть створку. Та отъехала на пару миллиметров, затем пальцы соскользнули, Костя чуть не упал, а двери вновь сомкнулись. – Твою мать! – взвизгнул он. – Не получается! – Молоток, – подсказал дядя Витя. Свет погас. В кабине стало совсем темно. Костя слышал беспрестанное скырск-скырск-скырск и шлепки – звук, с которым насекомые падали, одно за другим, на пол. Кожу на левой щиколотке обожгло укусом. Костя лег спиной на одну стену лифта, уперся ногой в противоположную и, как можно дальше просунув узкий конец молотка в разъем между створок, изо всех сил потянул на себя. Он весь взмок от усилий, но сумел проделать щель шириной с ладонь, куда попало немного света снаружи, а дядя Витя тут же сунул в отверстие ногу. – Давай, Костя, тяни! Молодой еще, спра вишься! Костя сменил позицию, пропихнул в зазор плечо и начал давить, раздвигая створки еще сильнее. Тараканы уже ползали у него в волосах, кусали шею. скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырск – Давай, Костя! – плакал белокурый ангел, прячась на руках у дяди Вити. – Давай, ты сможешь, – подбадривал бывший слесарь. – Я тебя в ученики возьму, если сможешь. Бросишь свои интернеты, станешь мастер – золотые руки! Что-то в дверях громко лязгнуло, и они вдруг открылись полностью. Костя ударился поясницей о створку и чуть не свалился на пол. Путь был свободен. – Понятия не имел, что вы знаете, где я работаю, – слабо улыбнулся Костя, потирая спину. – Да я и не знал, – пожал плечами дядя Витя. – Так, ляпнул, что в голову первое пришло. Вперед! На площадке двадцатого этажа – лифт застрял почти вровень с полом – моргала лампа, но света было достаточно, чтобы увидеть облепивших пол, стены и потолок насекомых: они чернели, будто следы от пуль, и выглядело это как в каком-нибудь дурацком кино про гангстеров, точно все вокруг изрешетили автоматным огнем. Отчетливо воняло помойкой. Когда люди выбрались из кабины, «пулевые отверстия» ожили и начали перемещаться по стенам вокруг них, издавая все тот же омерзительный скребущийся звук. Осторожничать, как на первом этаже, некогда, сообразил Костя. И побежал, отмахиваясь молотком от падающих сверху тараканов, прямиком к двери на лестницу. – С ноги ее! – крикнул, с трудом поспевая за ним, дядя Витя. Костя пнул дверь, та с грохотом ударилась о стену. Но даже звон бьющегося стекла не смог заглушить многоголосый шорох преследующих их тварей. Костя побежал прямо по хитиновым тельцам, усеивающим лестницу, перескакивая через две-три ступени за раз, слыша хруст лопающихся под ногами панцирей и чувствуя укусы, десятки укусов – тараканы атаковали со всех сторон. Позади шумно дышал дядя Витя и что-то пищала Маша, он слышал их у себя за спиной, но не мог оглянуться, чтобы проверить, боясь, что впопыхах цепанет ногой очередную ступеньку или поскользнется в жиже из раздавленных насекомых. Встать снова он бы уже не успел. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК На двадцать первом этаже Костя, поворачивая на следующий, последний лестничный пролет, не прерывая движения, бросил беглый взгляд в узкий проем между стоек перил. С нижних этажей поднималась, стремительно нагоняя беглецов, сама тьма. Черный поток рвался наверх с мощью и скоростью нефтяного фонтана, бьющего из свежей скважины. – Поспешай, сынка, поспешай, – прохрипел Виктор Палыч голосом его мертвого отца. Костик обернулся и увидел, что дядя Витя и сам уже почти мертв – лицо старика стало синего цвета, жилы на висках и шее вздулись, потемнели. Но он все еще шел, из последних сил передвигая ноги и удерживая на руках ребенка. – Дай ее мне, – Костя перехватил у него Машу свободной рукой и побежал дальше. До последней лестничной площадки оставалось шагов двадцать, когда позади раздался, перекрывая оглушительное шебуршание, тяжелый глухой стон. – Дядя! – закричала Маша, до боли вжав пальчики ему в плечи. Костя повернул корпус, стараясь продолжать движение по лестнице и одновременно сделать так, чтобы девочка не видела происходящее у него за спиной. И увидел сам. Дядя Витя упал на колени, широко раскрыв рот в немом, полном муки и отчаяния крике. В серебристо-серых глазах старика плескались океаны боли. Скрюченными пальцами он разорвал у себя на груди майку. Татуировок на теле дяди Вити стало больше, гораздо больше, чем прежде. Только они были не синие, они были черные и шевелились. Из-под них ручьями бежала кровь. Волна – высотой по меньшей мере в метр – тараканов нахлынула сзади, на мгновение приподняв бывшего слесаря на самый гребень, а через миг поднялась сама и рухнула на него сверху, накрыв немного удивленное, как показалось Косте, в этот последний момент лицо дяди Вити дрожащей от голода массой. Это задержит их, сообразил Костя. Спасайся, зассанец! – прокричал у него в голове то ли отец, то ли дядя Витя, он уже не мог разобрать. Но двигаться Костя все еще был способен. Хотя по ляжкам ползли, вгрызаясь под кожу, пытаясь задержать, остановить, десятки насекомых, и мышцы ныли сильнее, чем обжигали укусы чертовых тварей, он пробежал несколько оставшихся метров подъема с Машей на руках – и очутился на площадке перед простой вертикальной лестницей из двух плоских металлических стоек с перекладинами из арматуры. Меж перекладин болтались нитки паутины – на крышу через этот ход никто не проникал годами. Верхний конец лесенки упирался в квадратный люк. Тот был небрежно покрашен дешевой зеленой краской и смотрелся на фоне выцветшей штукатурки довольно нелепо. С дальнего края свисала плоская, слегка погнутая скоба, через которую, соединяя ее с такой же скобой, торчащей из потолка, была продета дужка навесного замка. Замок, как и сам люк, выглядел солидным и старым. – Слезай, – Костя не без труда оторвал от себя руки девочки и спихнул ее на пол. Маша ревела навзрыд, но ее плач практически заглушал шелестящий рокот приближающейся снизу волны насекомых. Дядя Витя своей смертью задержал орду на некоторое время, но не надолго – их, прожорливых тварей, было слишком много, чтобы одного трупа хватило на всех. Он поднял молоток. Теперь старый добрый молот тараканьих ведьм уже не казался таким уж надежным орудием. Деревянная рукоятка треснула поверху – видимо, когда он давил, пытаясь открыть двери лифта. Тяжелая ударная головка сидела неплотно. Кто из ветеранов выйдет победителем в финальной битве – старый молоток или не менее старый замок? И хватит ли у меня времени, чтобы узнать?.. Костя посмотрел через перила на лестницу – поток тараканов уже захлестнул предпоследний пролет, пока еще жиденькими ручейками, но вслед угрожающе поднималось то самое цунами, что полминуты назад погребло под собой дядю Витю. – Дядечка, Костик, ну! Костя поправил боек, покрепче насаживая головку молотка на рукоять. Бросил взгляд на висячий замок, прикидывая, насколько сильно могло подгнить гнутое колечко металлического крепления. Затем коротко размахнулся и ударил молотком Машу в висок. Скушай Машеньку, – голос дяди Вити у него в голове. Внутренние тараканы вернулись. – Скушай Машеньку, ха-ха-ха. Отчетливо хрустнуло. Голова девчонки от удара мотнулась вбок, и дужка с розовым заячьим ушком отлетела в сторону. Длинные светлые ресницы пару раз изумленно хлопнули, голубые глаза закатились, выставив напоказ блестящие белки. «Все равно ей не светило стать звездой „Плейбоя“», – подумал Костя. И, подхватив обмякшее тело на руки, скинул его на ступени внизу. В ладони Маша все еще сжимала телефон, его подарок. Это их задержит. По щекам обильно лилась соленая вода, но он уже ни о чем, кроме люка на крышу, не думал. Взобрался по короткой лесенке к замку, повис там, уцепившись согнутой в локте левой рукой за верхнюю перекладину, и ударил. С первого раза промахнулся мимо скобы, скользкая от крови головка молотка лишь зацепила замок. Дужка была слишком толстая, чтобы сломать ее с одного удара. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Они наступали. Костя не мог смотреть вниз, себе под ноги. Он сосредоточился на замке и удерживающей его скобе. Прицелился. Ударил. Слишком слабо – скоба только еще больше погнулась, но – он увидел, что с одного края она словно надорвалась, самую малость, на миллиметр отстав от крышки люка. Первые тараканы уже бежали по металлическим полозьям лесенки. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Они поднимались по стенам и лезли на потолок, Костя видел их краем глаза, когда размахивался, чтобы нанести еще один удар. Он спешил и на этот раз вообще махнул мимо, едва не выронив молоток из мокрой от крови и пота руки. Укусы тварей отвлекали, заставляли думать о боли в ногах, в паху, на животе. Пот и слезы застилали глаза. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Он заставил себя успокоится, отрешился от боли и всех иных чувств. Чуть подпрыгнул, увереннее опираясь на арматуру и крепче цепляя свободной рукой перекладину. Провел по лицу рукой с молотком, вытирая влагу. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Примерился как следует, зная, что это последний шанс, и ударил – сильно и точно. Головка молотка от удара соскочила с рукоятки. Замок не слетел, но повис на почти целиком оторвавшейся от люка скобе. Костя толкнул молотком сам люк – и скоба вместе с навесным замком, звякнув напоследок, упала вниз, в ковер из насекомых, заполонивших площадку. Костя нащупал ногой следующую перекладину и поднялся выше, изо всех сил надавив головой и плечом на крышку люка. Та поддавалась с трудом, нехотя, шелуха старой зеленой краски, осыпаясь, попадала в глаза, липла к коже. Костя взвыл, напрягая мышцы. СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК СКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСКСКЫРСК Крышка поднялась, вытолкнутая его усилиями наверх. Костя, бросив бесполезную деревяшку, подпрыгнул и, зацепившись локтями за край проема, обдирая кожу до кровавых ссадин, продрался через приоткрывшуюся щель в запыленное помещение с низким потолком. Крышка люка под ним грохнула, вставая на прежнее место. Снизу все еще доносился шорох.11
Через узкий пыльный проход он выполз на холодный, остывший за ночь гудрон, покрывавший крышу. С трудом поднялся на ноги и, шатаясь, сделал несколько шагов мимо скелетов старых, забытых телевизионных антенн. Костя ступал босыми ногами прямо по засохшим кляксам птичьего помета, но ни одного голубя вокруг не видел. Где же они? Где эти чертовы птахи, где, мать ее, Природа?! Когда он подошел к краю крыши и взглянул оттуда на город, ему все стало понятно. Соседняя многоэтажка дымилась. Клубы черного дыма валили с верхних этажей, в дырах на месте разбитых окон метались языки огня. Были слышны отдаленные крики и звуки сирен. Следующее по улице здание тоже окутывал дым, столбы его поднимались вверх, языческими кострищами наполняя светлеющее перед рассветом в Митино июньское небо. Тараканы ползли по стенам спального района, и все птицы летали там, ниже крыш, либо высоко-высоко, напуганные пожарами. Костя скорее почувствовал, чем услышал лязг люка позади себя. Твари рвались наружу. Возможно, там, под землей, откуда они явились, эти странные тараканы тысячелетиями мечтали выбраться на поверхность. Как, быть может, уже однажды выбирались, когда исчезли динозавры. А после, с наступлением холодов, надолго ушли обратно, чтобы вернуться сегодня, сейчас, в эту ночь, и окончательно утвердить свое законное владычество. Построить на планете новую мировую империю, шелестящее государство скырск-скырск. Страну Тараканов. Утренний воздух пах дымом, но оставался свеж, как в его далеком забытом детстве. Где-то за огненным заревом и чадом в своей высотке прямо сейчас погибала Вика, как погибали миллионы по всей столице. Старое поколение москвичей и приезжих пожирали новые жители, старый мир со всеми его мелкими недостатками и мелочными проблемами уступал новому, совершенному и по-своему прекрасному порядку. Чертовски замечательному порядку. – Что ж ты молчишь? – спросил Костя внутренний голос. – Почему не смеешься над глупой провинцией? Давай расскажи мне про деревенское дерьмо, бултыхающееся по московским сортирам. Но голос молчал. Все его голоса молчали – и мамин, и папин, и дяди Вити, и девочки Маши, и казашки Азатгуль, и отчима, которого он почти не знал, и всех остальных, с кем Костя когда-либо был знаком по работе, с кем водил дружбу, кого любил. Теперь он слышал только их. И потому, как шорох медленно заполнял все вокруг, он догадывался, что тараканы уже здесь, на крыше. Костя мог позволить себе сейчас лишь одну роскошь: не оглядываться. Взобрался на бетонный бордюр, встал на край и посмотрел вниз. Детская площадка перед домом пустовала, качели и песочница казались крохотными, будто собранными из деталек конструктора. скырскскырскскрыскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырскскырск Все еще не оглядываясь назад, он прыгнул.12
Падение было непродолжительным, предшествовавший ему подъем с первого этажа наверх занял гораздо больше времени. Но в конце Пургину немного не повезло: внизу росли березы, и он задел одну из них, сломав дереву ветку и себе руку. Это его немного притормозило, и, хотя от удара о землю остальные кости его тела превратились в желе, позвоночник раскрошился, ребра проткнули в нескольких местах легкие, пузырь желудка лопнул, а череп треснул у основания, Костя, уже приземлившись, еще несколько мучительных минут оставался в живых. Этого времени ему хватило, чтобы увидеть, как медленной, неровной походкой приближаются со стороны подъезда они: дядя Витя, Азатгуль и другие. С объеденными лицами, с тараканами, снующими в дырах глазниц. Глаза Кости заливала кровь и еще что-то серое, возможно его собственные мозги, но он смог различить, как шевелится, словно живая, кожа на руках и ногах его бывших соседей. Таракандары любят влагу и боятся света, вспомнил он. Что ж, значит, теперь тысячи их обрели новые, уютные, полные вкусной влаги, защищенные от солнца оболочки. И вышли встретить рассвет. Среди бывших жильцов к нему брела Маша. Из проломленного виска выползали и тут же заползали обратно тараканы. В руке она сжимала телефон. И телефон звонил. Может быть, Вика? Может, она каким-то чудом все же спаслась?.. никогда не поменяю зеленый цвет… – Мамачха, мама, как же я тбя любю, – выкашлял Костя с кровью. Внутри мертвой Маши скреблись тараканы. В каждом из них шебуршали, заставляя двигаться. Теперь Костя узнал этот звук – ровный, монотонный, дарующий покой. Песня без слов, знакомая с детства песня… колыбельная. Прежние соседи окружили переломанное тело Кости Пургина. Вперед выступила Маша. Подняла руку и указала на труп: – ЖРИТЕ. Из ее рта хлынули насекомые.Мост
Старый мост по-прежнему висел над пересохшим руслом реки. Ржавые балки угрюмо выглядывали из-за чахлой растительности на берегах, и слабый солнечный свет безнадежно тонул в глубоких тенях между ними. Перекрестия стальных ферм напоминали глазки мертвецов из детского комикса. У моста было много таких глаз. – Чертов старик, – пробормотал Савельев. – Тебя уже давно пора разобрать и захоронить по кускам на свалках. «Я еще всех вас переживу», – отвечал мост безмолвно. Несколько жирных черных ворон одна за другой сорвались с насиженных мест и начали рисовать уродливые кружева в вечернем небе. Словно кто-то, укрывшись в железобетонных сочленениях, подал сигнал, громко хлопнув в ладоши. «С возвращением», – прокаркал мост голосами воронья. – И тебе привет, дохлая развалина, – усмехнулся Савельев и стал подниматься по насыпи. В голове, как вороны над мостом, кружились обрывки воспоминаний. Ее так и не нашли, ни тогда, ни после. Вот странно. Бывший сосед, с которым он, прогуливаясь возле старого дома, случайно встретился пару дней назад, рассказал Савельеву, что ее тело так и не нашли. Волосы у дяди Коли поредели и стали белыми, но в остальном он ничуть не изменился. Ничего здесь не менялось. Время в этих краях застыло, не иначе: двадцать лет прошло, а проклятый мост все так же скалит железные зубы всем, кому только попадается на глаза… и труп до сих пор не нашли.
Он взобрался по осыпающемуся щебню наверх и встал на разбитых шпалах, чтобы отряхнуть брюки. Увидел носки своих черных туфель, которые пыль окрасила в цвет плешивой шевелюры постаревшего дяди Коли. Потянулся было в задний карман за платком, но махнул рукой: бесполезно. Шпалы, рельсы, камни и сорняк меж ними – заброшенная железнодорожная ветка вся была серая и тусклая. От земли поднимался запах древности, пыль залетала в нос и глаза. Савельев поднял взгляд. Мост теперь был прямо перед ним, в паре сотен шагов по шпалам. Покатые полосы боковых перекрытий уходили с двух сторон в небо, где их соединяла толстая стальная перекладина. В образуемую арку тянулась железная дорога, дальний конец тоннеля тонул в сизом тумане. По правую руку от арки из насыпи торчал почерневший остов сторожевой будки. Родители запрещали детям гулять в этих местах. В те времена, раз внеделю или раз в месяц, дорога еще оживала, и по ней мог днем или ночью пройти, гремя колесами и вагонами, грузовой состав. Савельев помнил рассказы матери, которыми та пыталась удержать их с сестрой подальше от железной дороги и моста. Один мальчик не слушался родителей и полез на мост, там он случайно коснулся электрического кабеля, и его убило. Одна девочка скакала по шпалам и слишком поздно заметила, когда рядом оказался поезд; девочка испугалась, споткнулась, и ее разрезало на две части. Ирка слушала эти страшилки, раскрыв рот, с широко распахнутыми глазами. А Паша Савельев к тому времени уже был большой, и подобные истории уже не производили на него впечатления. Даже если – он допускал – в них и была доля правды. Подумаешь, какой-то дурак хватанул десять тыщ вольт. Надо ж думать, куда руки суешь. Мальчишки много раз бывали и на самом мосту, и рядом, курили папиросы, разводили по вечерам костры в сторожке, малевали сажей на стенах пошлые слова и картинки. И в итоге сожгли будку. Щебень хрустел, плевал мелкой крошкой из-под ног, пока Савельев неторопливо приближался к арке и закопченному скелету справа от нее. В груди зацвела теплая сладость – тень детского восторга при виде высоких языков пламени на фоне черного неба и тающих среди звезд оранжевых искр. Господи, он и забыл, как ему нравилось смотреть на огонь!.. Арка моста становилась все ближе, конструкции ее росли на глазах. Уже можно различить полустертые трафаретные надписи «Опасно» и «Вход запрещен». Даже пацаном Савельев этих, тогда еще оранжевых, а теперь уже выцветших бледно-желтых букв не боялся. Другое дело Ирка. Когда Паша первый раз ее сюда завел, она прочитала каждое слово вслух, по слогам, и, нахмурившись, сказала брату: «Сюда низя! Низя же!» «Можно, ведь ты со мной». Савельев невольно глянул вниз, на правую руку. Воспоминание было таким ярким, что он на мгновение ощутил в ладони тепло ее потных от страха пальчиков. В тот, первый, раз Ирка боялась нарушить запрет матери. Предупреждающие надписи нагоняли на нее ужас, она трепетала перед большим старым железнодорожным мостом и стискивала руку старшего брата изо всех своих детских силенок. «Ничего не бойся, глупая. Там интересно. Там живет тролль», – сказал он тогда. Ирка поверила и заулыбалась. На миг он увидел фигурку в коротком белом платьице с цветочками, облако светлых кудряшек… В глазах защипало. Торчащий из насыпи черный зуб спаленной сторожки медленно, как во сне, проплыл мимо. На его округлой верхушке дремала, спрятав голову под крыло, крупная ворона. Туман клубился посреди распахнувшегося впереди коридора. Савельев шагнул внутрь, и ржавая металлическая сетка, прибитая поверх шпал, скрипнула, упруго прогибаясь под тяжестью его тела. «Добро пожаловать домой», – прошелестел мост. В шепоте ветра улавливалась угроза. И холодная насмешка. Ирку так и не нашли. За двадцать лет – как такое возможно? Маленькая девочка в белом платьице до сих пор прячется где-то тут вместе с громадным старым троллем, сказка про которого ей так нравилась. Паша больше верил в запах гари и языки алого пламени, пожирающие дерево в ночи, чем в истории про рыцарей и принцесс. А вот сестренка любила слушать рассказы о драконах, царевичах и умных животных, разговаривающих как люди. Про косматого тролля, обитающего под мостом, Паша сочинил, чтобы порадовать ее. Вернее, не сочинил, а вспомнил историю из книги про викингов, которую брал в школьной библиотеке. «Переложил на новый лад», как сказали бы коллеги Савельева. Впрочем, что эти люди, жители большого города, могли знать о сказках его родного захолустья? Ровным счетом ничего. Пропавшей два десятилетия тому назад девочке определенно было известно о троллях куда больше, чем профессорам с кафедры. Тролля звали… Какое-то имя они для него придумали, точнее Ирка придумала, но сейчас Савельев уже не мог вспомнить. В свое время Пашу изрядно повеселила та твердая убежденность, с какой сестрица заявила, что у чудища обязательно должно быть имя. Ему тогда казалось, что выдуманные существа – все эти болтливые волки, крылатые эльфы, скатерти-самобранки и живые избушки на курьих ножках – вполне могут обойтись и без кличек. Фантазии они и есть фантазии, пустое место. Глупо обращаться к воздуху по имени-отчеству. Но сестренка смотрела на мир иначе. У каждой куклы в доме было свое имя – Маша-Глаша-потеряша… Дворовым псам и кошкам Ирка тоже давала клички, каждому свою, а однажды Паша услышал, как сестренка обращается к росшей возле дома березе, о чем-то спрашивает дерево и гладит пятнистую кору ласково, как плечо человека. Маленькая глупышка. Возможно – Паша не хотел уточнять, – она спрашивала у березки, где их папа, когда он вернется домой. Белесый туман обволок Савельева, лизнул влажным языком лицо. Кожа на шее покрылась мурашками. «Странно, – подумал он, нащупывая взглядом конец уходящей вперед дороги. – В детстве мост казался меньше и короче, а сейчас стал большим и длинным. Разве не должно быть наоборот?..» Как Алиса, напившаяся из волшебного пузырька, он будто бы рос обратно, вниз, становясь меньше с каждым шагом. Нет, конечно, на самом деле ничего не менялось ни в нем самом, ни вокруг. Просто косые стальные колонны обступали уже и спереди и сзади, толстые железные трубы чертили воздух сверху и по сторонам, от чего Савельев начинал чувствовать себя зверьком, попавшим в клетку. Громко хлопая черными крыльями в нескольких метрах впереди, расчертила стылую мглу ворона. Хриплое злое карканье разорвало тишину, и он вспомнил, как сестра называла придуманного им для нее тролля. Хрясь. «Хияс-сь» – так она произносила это, смешно пришепетывая, потому что всегда плохо выговаривала букву «р», а еще потому, что у нее выпадали молочные зубы, и во рту хватало прорех. Тролль Хрясь – Хияс-сь – обитал под мостом и был людоедом. Он ел человечину, да и маленьких девочек тоже кушал. Паша сообщил об этом Ирке, когда они вдвоем как раз сидели на широком полукружье одной из бетонных опор, и над головами у них тянулись толстый грязный кабель и пупырчатые листы металла – дно моста. Чтоб сестра не запачкала платьице, Паша усадил ее себе на колени. И рассказывал сказку про тролля. В детских глазах застыли изумление и испуг. «Не бойся. Я же с тобой. А еще у меня есть вот что», – перед глазами девочки блеснула, а затем со звоном полетела вниз монетка. «Это для тролля…» «Дья Хияс-ся?!» «Да, для Хряся-хренася, хе-хе. Видишь, мы ему заплатили, чтобы он нас с тобой не скушал, милая». Ирка смеялась и просила, чтобы в другой раз он дал монетку ей. Хотела сама бросить ее в широкое полукруглое отверстие торчащей из бетона трубы, на дне которой плескалась темнота. В этой тьме ждал подарков ее любимый тролль. Двадцать лет. Тело так и не найдено. Кто-то забрал его, спрятал вместе с давешней карманной мелочью. Сквозящий в перекрытиях ветер тихо гудел в щелях и пустотах вокруг Савельева. Сверху доносился вороний грай, приглушенный металлом громадных ферм. Ему показалось, что он слышит что-то еще – шорох и скрежет сзади… и снизу, под ногами. Будто какое-то большое животное ползет по другой стороне моста, цепляясь за крепления кривыми когтями. Он оглянулся на уже далекий, исчезающий в тумане вход. Присмотрелся – почудилось, будто справа из-за трубы показалось и немедля скрылось блестящее чешуйчатое кольцо, упругое и живое, как… Как часть длинного гибкого хвоста. Савельев замер. Брось, не дури. Просто ветер качнул чертов кабель. Блестящий, мокрый из-за тумана кабель. «Хи-яс-с-сь…» – проскрипел мост. – Пошел в задницу, – ответил Савельев. Надо добраться до конца моста, спуститься по металлической лесенке сбоку на вторую опору, чтобы проверить. За два десятка лет никто не додумался осмотреть это место. Никому и в голову не пришло искать маленькую девочку там, куда и взрослому человеку пробраться было непросто. Паша всегда сначала сползал первый, а затем помогал сестренке. Позади все было спокойно. Никаких посторонних шумов, змеиные хвосты нигде не мелькали. Савельев облегченно выдохнул, и облако пара растаяло в тумане у его лица. Как же тут холодно! Он зашагал дальше, высматривая по левую руку малозаметный спуск к опоре. Их с сестрицей тайный уголок для игр и страшных сказок. Это местечко Паша нашел и облюбовал спустя пару месяцев после того, как они с друзьями спалили брошенную сторожку. Мальчишкам на пепелище стало неинтересно, а его тянуло. Нравилось там бывать одному, вечерами, вдыхать сладкий запах паленого дерева, пока тот не выветрился. Вспоминать магический танец огненных лепестков. Все-таки и правда было что-то волшебное в пересохшем русле реки, в старом мосту над ней, в пробивающихся среди шпал ростках ковыля и погорелых развалинах рядом. Паша возвращался сюда снова и снова, но никому о своих походах не рассказывал. Только сестренке, которая была слишком маленькая, чтобы что-то понимать про это. Впрочем, он и сам ничего не понимал. Мост словно звал его, манил, обещал что-то смутное, таинственное, запретное. Что-то, чем Паша хотел поделиться с сестрой. В один из дней по пути к насыпи ему на обочине попалась сбитая каким-то лихачем кошка. У нее оказались переломаны задние лапы, на мордочке засохла кровь, но она еще дышала и даже тихо, еле слышно не то скулила, не то мяукала. Уже смеркалось, а мост был близко, поэтому никто не видел, как Паша отнес кошку к останкам сторожки, и как он сжег ее там живьем. Потом ему стало стыдно. Он представил, как залилась бы слезами сестренка, как выговаривала бы мать, как, выглянув из мамкиной спальни, плюнул бы в сердцах дядя Коля. Паша решил спрятать обгоревший трупик, чтобы избежать всего этого. И нашел узкую лестницу, спускавшуюся с края моста на одну из опор. «Так ты впервые покормил тролля», – вкрадчиво шепнул туман. Дурацкий сленг, которым пользовались студенты Савельева, сейчас почему-то не казался ему ни смешным, ни глупым. Он удивленно моргнул, увидев очередную ворону, что сидела над узким отверстием у бокового парапета… прямо над вертикальной линией из коротких перекладин-ступенек, уходящих в эту дыру. Блестящий черный глаз внимательно следил за Савельевым. Ворона открыла клюв и издала пронзительный крик. – Да вижу я, вижу… Спасибо, – поблагодарил он ворону, сдержав зародившийся в горле смешок. Без истерик. Просто мерзкая птица на мерзкой железке мерзкого моста. Савельев сошел с рельс. Остановился у отверстия. Внизу плыл туман. Савельева трясло от холода, но на лбу все равно выступил пот. Он утерся рукавом и начал спускаться. Неожиданно сизую хмарь разорвало порывом ветра, и, глянув под ноги в поисках очередной ступеньки, Савельев увидел далеко-далеко внизу темное дно реки, покрытое камнями и мусором. Голова закружилась, ослабшие пальцы предательски дрогнули на скользкой перекладине. В последний момент он успел схватить другой рукой боковую стойку, рывком подтянул тело и прижался к хлипкой, раскачивающейся решетке. Савельева мутило, и он зажмурился, чтобы мир вокруг перестал скакать в бешеном вальсе. В темноте холод сжимал его, давил ребра. Воняло сыростью, хлопали крылья, каркали вороны. Старое ржавое железо тоскливо мяукало, как та искалеченная кошка. Скрипом и шорохом этому стону вторили трубы, балки, спайки и заклепки над головой. Снизу подвывал ветер. «Покорми своего тролля», – проскрежетал мост злым, ехидным голосом. Не открывая глаз, Савельев в страхе потянулся обратно, наверх. Что ты делаешь? Двадцать лет. Два-дцать-лет. Здесь ли она еще?.. Тяжело выдохнув, он замер. Рискнул посмотреть вниз еще раз и – продолжил прерванный спуск. За многие годы ветра и ненастья как следует поработали над хлипкой лестницей, ослабили крепления так, что нижняя ее часть оказалась отогнута в сторону. Бетонная плашка опоры все еще была рядом, достаточно протянуть ногу над бездной и сделать шаг. – Ирка… – прохрипел через зубы Савельев, подбираясь для короткого прыжка. – Заплатила ли ты троллю свою копеечку? В прежние времена здесь было не так опасно. Паша водил сюда сестру несколько раз. Он курил сигареты без фильтра, которые воровал у дяди Коли, она играла со своими куклами или рисовала в альбоме, елозя коленками и локтями по бетону. Паша смотрел на нее неотрывно. Однажды Ирка так увлеклась рисованием, что не заметила, как платьице задралось, оголив тощие детские бедра и краешек трусиков. А Паша заметил. «Хочешь монетку кинуть?» «Хияс-сю?!» «Хренасю, ага. На вот, держи… Садись вот сюда, ко мне. Давай я тебя обниму, чтоб ты не улетела вслед за монеткой». Верхушка опоры была широкой и плоской, по центру в ней тонули основания стальных перекрытий, образуя нижнюю часть буквы V. Толстенные железные полосы тут превращались в скрещивающиеся полые желоба, которые, соединяясь в трубу, утопали на два-три метра в бетон. В трубу они кидали мелочь для тролля. В этой темной искусственной пещере Паша хоронил убитых им кошек. Ирку он засунул туда же, в трубу. Двадцать лет миновало, но Савельев и сейчас отчетливо помнил, как это было. Он достал из кармана монетку и отдал сестре. Та устроилась у него на коленях. Паша прижал хрупкое тельце к себе. Подол задрался Ирке выше пояса. Возможно, она почувствовала, как что-то упругое и горячее ткнуло сзади бедро, но, слишком увлеченная фантазиями о своем Хияссе, не обратила внимания. А потом стало слишком поздно. Потом Паша уже не мог остановиться. После он, конечно, запаниковал. Сестра хныкала и звала несуществующего тролля. Изодранные детские трусики валялись на бетоне бесполезной грязной тряпицей. Паша видел бурые пятна на светлой ткани и понимал, что копеечкой здесь уже не откупишься. Ирка ползла к лестнице. Если бы она выбралась, дохромала до дома и рассказала матери о том, что он с ней сделал… Паша ударил ее головой о бетон, а потом задушил. И затолкал в трубу. Когда позже, дома, мать стала спрашивать его о сестре, он ответил, что не видел Ирку с обеда. Несколько месяцев вся округа искала девочку, но безрезультатно. Дядя Коля запил. Мать сникла, заболела и умерла на следующий год, а Пашу забрали к себе в большой город дальние родственники. Людоедом был не тролль под мостом. Людоедом оказался он сам. Пусть подобное случилось с ним лишь однажды. Пусть после этого Паша с головой окунулся в учебу, закончил школу с золотой медалью, поступил на филфак и, выйдя оттуда с красным дипломом, продолжил карьеру ученого и преподавателя. Пусть он уже дважды был женат – ему все равно нравились молоденькие студентки, и людоед внутри него облизывался, когда те проходили мимо. С годами Савельев все чаще задавал себе вопрос, на который до сего дня не мог найти ответа. Заплатила ли Ирка троллю свою копеечку? Он помнил, как сбрасывал в трубу трупы убитых кошек. Их было три… четыре, если считать самую первую, обгоревшую. Помнил, как запихивал в узкое отверстие еще теплое тельце сестры. Затолкав ее туда, бросил последний взгляд в темноту. Увидел помятое платье, светлые кудри, изломанные тонкие ручки и ножки. А кошачьих скелетов не увидел. – Заплатила ли ты троллю свою копеечку? Шатаясь под порывами усилившегося ветра, разгребая руками загустевший туман, Савельев подошел к железному желобу. Ухватил рукой за край, уперся в другой желоб. Старая краска шелушилась под одеревенелыми пальцами, крупицы ее отслаивались и улетали серым пеплом. Ирка верила в то, что Хрясь настоящий. А кошки пропали. И тело Ирки до сих пор не нашли. И та девчонка, про которую рассказывала мать, ее разрезало поездом на две половины, но, говорят, отыскать смогли лишь переднюю часть. И тот глупец, схвативший электрический кабель, – его руки сгорели до локтей, а кистей не осталось вовсе. Скорее всего, кошачьи останки он тогда не заметил. Не до того ведь было. А Ирку просто не нашли, так тоже бывает. И верила она всему, а особенно тому, что ей старший брат говорил. Но что, если?.. Дрожа всем телом, Савельев опустил голову и заглянул в дыру. Поначалу ничего рассмотреть не удавалось. Но постепенно глаза привыкли к темноте, и вот уже стали проступать смутные очертания: одна косточка, другая, кругляш детского черепа – похож на резиновый мячик. Кусок истлевшего белого платьица… с цветочками. «Здравствуй, сестренка», – подумал Савельев. Сердце сжалось в груди. Глаза обожгло, и по замерзшей щеке потекла горячая капля. – Я ведь не хотел, чтобы так вышло, Ирка, – прошептал он в дыру. – Правда не хотел… Прислонившись лбом к ледяному железу, Савельев закрыл глаза и разрыдался. Дал выход горечи, что копилась в его душе все эти годы. Ревел, как мальчишка, стоя на пятачке бетонной опоры, и вороны кружили над ним, потревоженные громкими, надрывными всхлипами. Наконец он успокоился. Вспомнил о платке в заднем кармане брюк, достал, утер слезы с лица. Запустил пальцы в другой карман и выудил оттуда круглый, серебристо поблескивающий пятак. – Последняя плата твоему троллю, Ирка. Монета, сверкнув, полетела в трубу, ударилась о стену с внутренней стороны и отскочила в сторону. Проследив ее короткий путь взглядом, Савельев увидел мелкие кошачьи кости, белеющие кучкой неподалеку от останков его сестры. Что ж, так оно и должно было быть. Фантазии остались в мире детства. Деревья и животные не разговаривают. Людоеды прячутся не под сенью сказочных переправ, а в черством человеческом сердце. И у всякой сказки есть свой конец, даже у страшной. Выплакавшись, Савельев почувствовал спокойствие. Настоящий покой, какого не знал все эти годы. Ответы найдены. Прощание состоялось. Ритуал соблюден. Перекреститься, что ли?.. Да нет, наверное, не стоит. Глупо как-то. – Ма-аль-т-чик… – проворчала дыра. Савельев окаменел. – Ты ми-няу хорош-шо кормил, ма-аль-т-чик, – голос раздался уже сзади и одновременно – со всех сторон. С протяжным злым свистом дыра выплюнула пятак обратно. Монета, срикошетив о ржавое железо, больно ударила Савельева в лоб. Выйдя из ступора, он метнулся в сторону лестницы. Но по бетону под ногой скользнул толстый, покрытый зелеными чешуйками хвост, и Савельев, зацепив его, с беспомощным писком растянулся на холодной шершавой поверхности. Волна удушающего теплого смрада накатила на него сзади и сверху. Савельев подтянул колени к груди, сжался в тугой комок, толкнулся от камня и прыгнул к лестнице. Из разбитого носа хлестала кровь вперемешку с соплями. Краем глаза он увидел проступающие за пеленой тумана смутные очертания чего-то большого, невероятно большого… Громадная тень, выросшая из другой тени – моста. Она двигалась. По ляжкам потекли теплые струи, но Савельев не заметил, что обмочился. Пулей он взлетел, цепляясь за трясущиеся жерди расцарапанными в кровь пальцами, – наверх, наверх! Отчаянно брыкая ногами, кинул свое тело на шпалы, больно, до треска в ребрах ударившись грудью о рельс. Подняться на ноги сил уже не было. И тогда Савельев, ломая ногти о металлическую сеть, скользя в собственной крови, слезах и моче, пополз. Над ним, хрипло хохоча, закружили проклятые птицы. – Покор-рми мен-няу еш-ще, ма-аль-т-чик, – пророкотал мост. Позади из тумана выпросталась, разогнав воронье, гигантская, покрытая шерстью и чешуей ладонь. Она накрыла истошно вопящего человечка целиком. Огромные пальцы, заканчивающиеся черными когтями, сжались в кулак, оборвав жалкий писк влажным чавкающим хрустом: – Хияс-сь. Забрав свое, громадная длань бесшумно растворилась в тумане, словно была соткана из него. Ветер развеял смутные очертания и подул ниже, чтобы слизать капли крови со шпал. Одинокий ворон, жалобно каркнув, взмыл наверх и присоединился к кружащей над переправой стае. Вечер набросил на округу покрывало сумерек. Бледный серп неполной луны выкатил из закатных туч, разливая серебро в стылой дымке над пересохшей рекой. Старый мост смотрел во тьму холодными мертвыми глазами. У него было много таких глаз.
Корректура
В первый раз Алена встретила этого человека (тогда она еще думала о нем как о человеке) в пятницу вечером. Традиционный аврал перед сдачей номера закончился ближе к полуночи, и она, как всегда в такие дни, последней покинула редакцию. Вышла из офиса на свежий воздух, когда ночь, пожирая город, уже сомкнула холодные челюсти над районом. За спиной с тихим шелестом сошлись зеркальные створки, впереди короткий спуск в несколько ступеней выводил на полоску тротуара и пустующую стоянку. Ожидая такси, Алена закурила. Ее нормой было три, максимум четыре сигареты в день. Но Игорек все равно хотел, чтобы она бросила. Почти все ее бывшие этого хотели. Что поделать, высокие парни с широкими плечами Алене всегда нравились больше, чем бородатые хипстеры с кафедры. Она долго терпела нытье очередного спортсмена, даже сократила норму до двух сигарет, но сегодня утром, когда Игорь обнаглел настолько, что, порывшись в сумочке, выкинул оттуда початую пачку «Ричмонда» – неприкосновенный запас! – послала его куда подальше. Тот даже не успел заявить традиционный ультиматум «выбирай – или я, или…», как дверь захлопнулась у него перед носом. Никаких «или», дорогуша. Сейчас, вдыхая сладкий дым с привкусом вишни, Алена искренне наслаждалась этим маленьким актом мести и от удовольствия на секунду прикрыла глаза. В этот момент ее руки коснулось нечто холодное и склизкое, и тусклый голос проскрипел прямо в ухо: – Вы работаете в этом из-здании. «Влас-сть тайн». Вы опубликуете мое произ-зведение. «Что за дурацкий акцент?» – подумала Алена, а потом испугалась и отпрянула в сторону от незнакомца. Вид у того, впрочем, оказался не слишком угрожающий. Мужчина с холодными влажными пальцами и странным, тягучим произношением (так могла бы разговаривать ржавая деревенская калитка, надели Всевышний ее голосом) был ниже ее ростом и у же в плечах даже в своем темном пальто – полная противоположность тем, с кем она предпочитала заводить романы. К тому же он был стар. Худое лицо с глубокими тенями на месте щек напомнило фото узников Освенцима из статьи в последнем выпуске газеты. Кожа на абсолютно голом черепе отливала в свете фонаря желтым. – Вы… вы, вообще, кто, дедушка? – вырвалось у Алены. Старик выглядел озадаченным. Она подумала о своей матери и о других ей подобных, с еще более высушенными мозгами, кому самое место в домах престарелых. Может, и этот из таких? Вышел прогуляться вечером, а по дороге забыл, куда и откуда идет, какой нынче год и как его зовут? – «Влас-сть тайн», – прошипел ненормальный. – Вы работаете здес-сь? – На сегодня уже нет. На сегодня работа закончена, дедушка, впереди два выходных. Которые я бы хотела провести дома, чего и вам желаю. Доброй ночи и… ой! Забытая сигарета обожгла пальцы, и Алена невольно взмахнула рукой, рискуя уронить тлеющий фильтр на сумочку или платье. Однако щуплый старикан стремительно метнулся вперед, подхватил костлявой пятерней окурок и мгновенно затушил его, сжав в маленьком бледном кулачке. – Глаз-за. Пос-смотри мне в глаз-за. Она подчинилась и заметила в черных зрачках изумрудные отблески. Зелень притягивала, манила за собой, на глубину. – Ты. Напечатаеш-шь. Мой текс-ст… С этими словами старик развернулся, словно ища, куда выбросить сигарету, но вместо этого взмахнул кожистыми крыльями, в темноте так похожими на полы пальто, и взлетел. Разинув рот и задрав голову, Алена еще долго всматривалась в ночь. Потом запоздало потянулась к сумочке, за телефоном, запуталась в кармашках, бросила это бесполезное занятие, оглянулась по сторонам – никого. Ни-ко-го! Божечки мои! Она только что столкнулась с чем-то, превосходившим любые бредни из читательских писем с пятнадцатой страницы (между платными объявлениями разномастных знахарей и гороскопами), встретила нечто реально «не от мира сего» – и поблизости не оказалось ни одного свидетеля! Алена чуть не расплакалась. Ей никто не поверит! Захотелось напиться, но она предпочла выудить дрожащими пальцами из пачки еще одну сигарету и снова чиркнуть колесиком зажигалки. Черт с ним, пусть будет пятая. Уже дома, разбирая сумочку, она обнаружила несколько неизвестно как там очутившихся тетрадных листков, исписанных мелким убористым почерком. Первая строчка служила заголовком, и эти слова давали однозначный ответ на вопрос, кем же был ее странный ночной собеседник. Алена вспомнила тот жутковатый наказ, что летучий старик оставил ей вместе с бумагами. Разделась, легла в кровать, включила ночник и принялась за чтение… В следующий раз незнакомец явился в ночь с понедельника на вторник. Выходные у Алены не задались, она плохо спала, все время возвращалась мыслями к встрече со стариком. Порой ей почти удавалось убедить себя в том, что случившееся – только видение, нелепая шутка, которую сыграл с хозяйкой перенапряженный в будних трудах мозг. Увы, проклятые листочки ничуть не походили на эфемерный мираж. Может, это просто чей-то глупый розыгрыш? Хорошо бы так!.. В понедельник Алена прихватила рукопись на работу, думая показать ее подружке-верстальщице. Но по пути, в метро, еще раз пробежалась по тексту – уже стараясь абстрагироваться от того, кто или что было автором рассказа. Работа есть работа, а Алена считала себя профи. В итоге дальше ее рабочего стола бумаги не ушли. А к вечеру Алена про них и вовсе забыла – после обеда ей пришлось разгребать электронную почту и заниматься официальным сайтом газеты. Туда требовалось перенести материалы из брошюрок «Мега Ужас», что выпускались ежемесячно в течение трех лет в качестве приложения к еженедельнику, пока около года тому назад не было решено заменить их более ходовым товаром – сборниками рецептов. Около шести на мобильный ей позвонила с югов маман, а сразу по окончании совершенно бесполезного десятиминутного разговора (жара страшная, вода в море холодная, давление скачет, а еще маман сфотографировалась с обезьянкой, но не знает, как отправить снимки по телефону) напомнил о своем существовании бывший. К половине седьмого батарейка сотового, по счастью, начала медленно агонизировать, так что Алена в конце концов допила остывший зеленый чай, собрала вещички и побежала домой. Все, о чем она мечтала к тому моменту, – чтобы ее все наконец оставили в покое. Приняв душ и наскоро поужинав холодными бутербродами, она налила в бокал красного полусладкого и, только взглянув на плещущуюся за стеклом багряную жидкость, вспомнила, что забыла рукопись на работе. Как раз в этот момент в окно тихонько постучали. – Господи! Умеете же вы напугать, дедуля! Третий этаж – как он сюда забрался?.. Впрочем, ничего удивительного, если подумать. Крылья-то ему на что? После сегодняшней нервотрепки и предыдущих бессонных ночей у Алены не осталось сил даже удивиться нежданному визиту. С полминуты она просто смотрела на повисшего за окном гражданина, на его беззвучно шевелящиеся тонкие губы и странные жесты, которые он делал правой рукой в ее сторону. В другой руке старик трепал свежий воскресный выпуск «Власти тайн». – Вам нужно приглашение, – догадалась Алена. – Залетайте, чего уж там… Старикан не без труда, задев форточку крылом, пролез в распахнутое окно и завис над столом, выставив на обозрение хилый бледный торс с торчащими ребрами, покрытый белесыми волосками морщинистый животик и съежившийся отросток с мешочком яиц. Настал черед Алены кривить губы. – Боже… Простите… Вы не могли бы опять пальтишко надеть? – Женщ-щина, – полыхнул глазищами гость. Но крылья все же сложил, обернув ими уродливое тело. «Эксгибиционист чертов!» – подумала Алена. А вслух произнесла: – По половому признаку обращаться не слишком культурно, тем более к даме. Возможно, виной тому был омут деловой рутины, в котором Алена тонула весь день, возможно – нелепый облик крылатого деда. А может, она просто успела свыкнуться с тем, чем этот дед по сути своей являлся. Как бы там ни было, а страха перед загадочным стариком она больше не испытывала. – Садитесь, плиз… Выпьете? А, вы ж не пьете… – Да, – подтвердил гость, устраиваясь за столом. – Вина мы не пьем. Об этом, кс-стати, напис-сано… – На заборе тоже написано, – отмахнулась Алена. – Напис-сано, – прошипел старик еще раз и выложил «Власть тайн» на скатерть. – Но не напечатано. Газета была открыта, разумеется, на последнем развороте. Литературный раздел – на той неделе Алена поместила туда новую страшилку от одного из постоянных авторов, Москалева. – Почему не напечатано? – спросил гость тихо. Алена всплеснула руками: – Ну как почему? Вы русский-то понимаете? Хотя о чем я – судя по вашему тексту, с русским у вас дела плохи. Во-первых, когда вы изволили караулить меня у офиса, этот номер был уже сдан. А во-вторых, я, при всем пиетете, просто физически не могу опубликовать вашу писанину. – Пос-смотри мне в глаз-за… – не шибко уверенно прошипел старик. – Бросьте эти ваши штучки, дедуля! – оборвала Алена, махом допила и повторно наполнила бокал. – Это столица, а не румынское село какое-нибудь. Я вообще плохо гипнозу поддаюсь, чтоб вы знали. Хотите публикаций – терпите критику! Иначе – как там у Кинга? Я отменяю свое приглашение… – Критику… Несколько секунд он молча жевал тонкие губы, словно пробуя слово на вкус. Алена тоже молчала, облокотившись на подоконник и попивая вино. – Хорош-шо, – наконец, кивнул старик. – Что не так? – Да все! Все не так. Начать хотя бы с автора. Вас как зовут? – С-сигиз-змунд. Подкарпатс-ский. – Ну и?.. – выгнула бровь Алена. – Это же бред, а не имечко! Вот в этом номере у нас – Москалев. До того – Самохин, Колыхалова… Ивановых несколько штук бывало. Нормальные человеческие фамилии, имена. А тут вдруг – Подкарпатский. Да еще Сигизмунд! Смех один, что люди подумают? – Что я – вампир, – буркнул старик. – Мне это и требуетс-ся. Чтобы люди поняли, чтоб увидели, прочли о нас-с правду… – Ой, да таких вампиров сейчас по Интернету!.. Куда не плюнь, извините за выражение. Каждый второй школьник нынче – Дракула. Каждый первый студент – Цепеш. Роланды, Беллы, Эдварды, Луисы Альберты… Запомните, дорогой мой человек… вернее, не-человек… Зарубите на своем упырином носу: если хотите, чтобы ваш текст воспринимали всерьез – пользуйтесь обычными именами, а не идиотскими псевдонимами. – Пс-севдоним… Но меня так величают на с-самом деле… – Соболезную. И все же – Сигизмундов сейчас ни в одной газете не пропустят, уж поверьте. Будь вы каким-нибудь Семеном – другой разговор. Вампир тяжело вздохнул. – Ладно. Пус-скай С-семион… – Ну а фамилия, допустим, Карпов. Пойдет? – Допус-стим, – снова вздох. – Что-то ещ-ще? – Ну о том, что тексты лучше присылать электронной почтой общим порядком, я уже помолчу. Понимаю, что с компьютерной грамотностью у вас еще хуже, чем с обычной. Но, как минимум, рассказик ваш надо сократить. Ой, вот только не надо мне корчить рожи! Есть такая штука – формат. Есть такое понятие – объем. – Она ткнула пальчиком в разложенную на столе газету. – Видали? Одна полоса, один рассказ. Плюс еще место под рекламу. Девять тыщ. Двенадцать – максимум!.. Боже, вы и этого не знаете, да? – Девять тыс-сяч чего? – Рублей, блин! Гонорар за три рассказа. А ваш по объему как раз за три пойдет. У вас же там тридцать с лишним тыщ знаков с пробелами! Почти авторский лист! А полоса в газете – одна, на двенадцать тысяч максимум. Слишком большой текст, придется сокращать. – Нельз-зя, нельз-зя… – захныкал Подкарпатский. Алена развела руками, едва не пролив вино из бокала на стол: – Велкам! Учитесь работать с Интернетом, там объемы не критичны, можете хоть десяток авторских на сайт какой-нибудь забабахать. А у нас все строго: хотите публикаций – сокращайте. Самое большое, что могу предложить в качестве компромисса, выложить на сайте газеты вашу эту писанину как есть. Но в самой газете – не больше трети от нынешнего объема. – Мне надо подумать, – вампир Сигизмунд поднялся из-за стола и, не прощаясь, прыгнул во тьму за окном. Алена услышала хлопанье огромных кожистых крыльев, на мгновение тень, похожая на гигантскую летучую мышь, закрыла бледный шар полной луны. «Черт побери, – подумала она, провожая Подкарпатского взглядом. – Опять не успела включить телефон и сфоткать!» На следующий вечер старик встретил ее у подъезда. Весь день Алена разгребала письма с идиотскими историями от читателей. Призраки прабабушек в старинных зеркалах, исповеди похищенных инопланетянами алкоголиков, загадочные предвидения – бог знает какие авгиевы конюшни ей приходилось вычищать еженедельно, чтобы наполнить постоянную рубрику. Подчас она чувствовала себя ассенизатором, пытающимся выудить в переполненном биотуалете ненароком соскользнувшее в клоаку обручальное колечко. Безнадежный труд – в большинстве случаев все заканчивалось тем, что приходилось брать и сочинять нормальные истории самой. – Вы пахнете кровью, – вместо приветствия заявил Сигизмунд. – Оставьте свой номер. В следующий раз, когда у меня начнутся месячные, – позвоню предупредить. – У меня нет телефонного аппарата… – Как и чувства юмора. Ладно, с чем пожаловали? Подкарпатский вздыхал и мялся. – Я обдумал вс-се… – Ну и? – Интернет как мес-сто публикации… меня не интерес-сует. Я предпочитаю печать, в с-силу, так с-сказ-зать, приверженносс-ти традициям… С-стокер… ЛеФаню… Полидори, опять же. – Полидори-помидори… Желаете попытать силы в книжных издательствах? Флаг в руки, Сигизмунд, – сказала Алена, выудив из сумочки ключи и сотовый. – Нет, – печально покачал головой старик. – Не С-сигиз-змунд. С-семен. – Вот так все-таки? – усмехнулась Алена. – Да. Я с-смотрел… Я хочу рас-сказ-зать правду. О нас-с… Чтобы ее уз-знали вс-се… Тиражи с-современных книг… удручают. У вас-с – двес-сти тыс-сяч. С-совс-сем другое дело. – То есть вы согласны на сокращения? Вы это хотели сказать, Семен? Вампир в очередной раз печально вздохнул и поплотнее закутался в крылья-пальто. – Что ж, я посмотрю, что можно сделать с вашей писаниной. Загляните через неделю. А пока, если позволите… Она шагнула к старику, обняла его хрупкое плечо одной рукой, а вторую, с телефоном, вытянула вперед и нажала кнопку фотоаппарата. – Что ты делаеш-шь?!. – Это называется «селфи», дедуля. Перед тем как лечь спать, Алена выложила свежее фото у себя в Твиттере, подписав его «Мой Носферату». Подкарпатский на снимке был смущен и бледен, глаза его тускло блестели, отдавая зеленью. Первый ретвит и комментарий оставила подружка-верстальщица: «Какой импозантный дядечка))))))». Во вторник в обед Алена заглянула в Сеть снова и, к своему неудовольствию, обнаружила на почте с десяток уведомлений о полученных в Твиттере сообщениях. Все новые комментарии к выложенному фото оставил бывший. Она ничего не ответила: пройденный этап есть пройденный этап, а если Игорек считает иначе, то это его проблемы. Потом позвонила мать. После короткого и не шибко красочного отчета о пойманных дохлых медузах и найденных на берегу ракушках речь зашла о личной жизни, из чего Алена сделала вывод, что бывший (маман всегда ему симпатизировала) уже успел поплакаться у несостоявшейся тещи на груди. Нет, мам, у меня никого нет. И я никого не ищу. Общаюсь исключительно с коллегами по работе. А работы много, мам, правда, и я вообще-то прямо сейчас пытаюсь… Так что не могла бы ты?.. Верность догадки подтвердила заключительная речь маман: та в течение пяти минут вспоминала Игорька, какой он был хороший и внимательный и как жаль, что Алена его совершенно не ценила… Остаток дня прошел из рук вон. Очередной опус прислал Москалев – на сей раз никуда не годный. Якутских шаманов и переселение душ – к чертям собачьим, такого «добра» в газете и так навалом, а надо подумать и о читателях, жаждущих кровищи, убийств, маньяков. Собственно, настроение было такое, что ее и саму тянуло почитать что-нибудь в духе «Баек из склепа» или «Американской истории ужасов». К тому же Алена не собиралась публиковать постоянно одних и тех же авторов, а в архивах сохранились переводы парочки рассказов Роальда Даля и Роберта Блоха. Ах да, и еще дурацкая рукопись дурацкого нетопыря-эксгибициониста. Упыриные письмена требовалось набрать заново на компьютере, а потом посмотреть, что с ними можно сделать в смысле редактуры, но Алена сегодня уже слишком устала. Сколько дедушке лет-то, интересно?.. Они же, нечисть эта, вроде как бессмертны. Двести, триста?.. В любом случае, Семен-Сигизмунд достаточно стар, чтобы подождать еще день-другой. В итоге к вечеру четверга Алена только начала набирать рассказ Подкарпатского в текстовом файле, попутно выбрасывая из истории ненужные куски. Которых там хватало с избытком. И вообще, творение старика ей категорически не нравилось. Категорически! Вот вечно ей не везет. Всяким малолеткам, судя по фильмам и книгам, встречаются на пути сплошь бесконечно талантливые и романтичные кровососы, ей же попался вампир-графоман. Подкарпатский ждал ее у входа в метро, похожий в своем извечном пальтишке на бездомного пьянчужку. – Слушайте-ка, – обратилась к нему Алена без обиняков. – Уж за сто лет, или сколько вам там, дедуля, могли бы и научиться писать! Раз уж в писатели податься решили. Есть же, в конце концов, какие-то курсы, семинары проводят. Упырь скрипнул клыками. – «Влас-сть тайн». Могу я рас-считывать на публикацию в текущ-щем номере? – Очень с-сомневаюс-сь. Полегче, полегче, Семен Сигизмундыч, не надо так зыркать! Могу сказать, что объемы текста я уже сократила. Убрала весь тот бессмысленный треп про ваше детство и отрочество… – Как ты пос-смела?! – А у меня был выбор? – возмутилась Алена. – Две трети написанного так или иначе необходимо выкидывать. И потом, дорогой мой не вполне человек, во времена вашей юности, возможно, читатель и готов был продираться через биографические подробности к интересным эпизодам, но в наши дни, в нашем мире людей нужно увлекать сразу, буквально с первых же строчек повествования. Что и подводит нас к следующей проблеме вашего текста – его стиль. – Что с-с ним не так? – Он скучный! Неимоверно скучный, затянутый, выспренный. А пафоса сколько, божечки! Огромное количество совершенно ненужных описаний, сравнений, эпитетов. Длинные-предлинные предложения: к концу уже успеваешь забыть, что было в начале. Никуда не годится. – Но я с-старалс-ся… Эдгар Аллан По… Ховард Филлипс-с Лавкрафт… – Скончались стотыщпятьсот лет до нашей эры! Их никто уже не читает, товарищ! По крайней мере для развлечения. – Я и не с-собираюс-сь никого раз-звлекать! – Оно и заметно. Вот только нашу газету люди читают там, – Алена махнула рукой в сторону ведущего на станцию перехода. – Поутру, когда на работу едут. Пока еще просыпаются. А ваша писанина, дедушка, действует как снотворное. Ну вот что это такое – «хладный диск полночного светила, как рыба в глубине океанских бездн, плыл, серпом Селены взрезая массивные, налитые грядущей грозой тучи»? Что это, если не издевательство над мозгом читателя? Хотите писать так, чтобы было интересно современному читателю, – пишите проще, пишите короче. «На небе сияла луна» – и точка. Понимаете?.. – Допус-стим… – издал Подкарпатский уже привычный для ее слуха горестный полувздох-полустон. – С-сколько мне ещ-ще ждать? – Не знаю, – отмахнулась Алена. – Две, может, три недели. А то и больше. – Я терпелив… Но мое терпение не вечно. – Ой, вот только не надо угроз! Знаете сколько вас таких, страждущих? Тех, кто заваливает письмами и ноет, ноет, ноет – опубликуйте то, опубликуйте се. – С-сами хорош-ши… С-сколько крови у нас-с, авторов, выс-сос-сали… – Ой, вот кто бы говорил! Насчет «высосать» и прочего. И вообще. Вас, так называемых «авторов», – сотни! А я одна, одна на всех, и возиться с каждым, как с ребенком, не могу и не буду! Ясно? Старик, казалось, задумался. Алене от близости этого мозгляка стало зябко, и она уже направилась было к спуску в метро, когда зазвонил телефон. – Я тебя вижу! У перехода! С этим мерзким старикашкой! – Игорь явно был пьян (о-ля-ля, спортсмен забыл про здоровый образ жизни) и на взводе. – Как ты могла! С ним! С таким!.. После всего, что было! После того как я, ради тебя… – Как же вы меня все достали. – Алена сбросила вызов и тут же получила повторный. Пришлось возиться, отключать звук у айфона, и это ее задержало. Подкарпатский, догнав Алену на ступеньках, изрек: – Ес-сли бы я мог оказ-зать вам какую-нибудь ус-слугу… В качес-стве единовременной благодарноссти з-за труды, так с-сказ-зать… Затылком она ощущала липкий взгляд Игорька – вполне вероятно, бывший продолжал следить за ними, стоя наверху, у спуска в метро. – Услугу? Хм… Настал ее черед пораскинуть мозгами. Продолжающий назойливо вибрировать в сумочке телефон, однако, помог принять решение быстро. Сейчас, когда Алена была на взводе, оно далось ей легко, вопрос как-то сам собой соскочил с языка: – А это, вообще, правда, что вы в своем рассказе написали? Ну про то, что люди просто так в вампиров не превращаются? Что для этого мало стать жертвой вампира, что обычно от потери крови человек просто умирает?.. Если так и если ваше, дедуль, предложение еще в силе, то, кажется, есть у меня один вариантик… В течение нескольких дней Алена занималась правкой рассказа. Вычищала излишние «красивости», выгребала устаревшие слова с «ятями» и безжалостно уничтожала рассыпанные по всему тексту в изобилии местоимения и предлоги, выжигала наречия, рубила чрезмерно сложные, длинные предложения на несколько коротких простых. В итоге от исходного текста нетронутым осталось разве что название – оно-то подходило для «Власти тайн» на все сто. Остальное же ей пришлось фактически переписывать набело. Провозившись всю ночь, к утру понедельника она валилась с ног от усталости, но зато – рукопись была готова, бери и сдавай в верстку. Чувство удовлетворения наполняло ее весь день еще и потому, что бывший более не беспокоил ее ни через Твиттер, ни по телефону. А вечером они отпраздновали день рождения подружки-верстальщицы, выпив несколько бокалов «Мохито» и всласть натанцевавшись в ночном клубе. Во вторник, к приятному своему удивлению, Алена проснулась в постели не одна, а в компании с мускулистым танцором из клуба. Кажется, его звали Конан, она точно не помнила, да и так ли уж это было важно? Не Игорь – и на том спасибо. К томуже он пил и курил. Длинноволосый блондин оказался младше ее на десять лет, но ни его, ни ее это нисколько не волновало, так что она позвонила в офис секретарше, сказалась простуженной, и они не выползали из спальни весь день. Впервые за этот месяц Алена смогла расслабиться и ощутить себя по-настоящему счастливой и свободной. Так продолжалось вплоть до вечера среды, когда в очередной раз отзвонилась маман. Алена не без гордости похвасталась, что ее личная жизнь наконец-то налаживается. Да, без Игорька. Да, мама, я в курсе, что он пропал без вести, но мне совершенно плевать. Что-о?! Да как ты смеешь! Пускай я плохая, пускай бесчувственная, но я твоя дочь, единственная, между прочим. Как это лишишь наследства? Как… что… Нет!!! В эту ночь ее белокурый варвар танцевал в клубе, а она не смыкала глаз, лежа в спальне одна. Злилась на старую сумасбродку, гадала, высчитывала, сколько лет еще ей придется мучиться с графоманскими опусами для «Власти тайн», чтобы накопить на собственную квартиру в Москве. В отличие от Сигизмунда, думала она, у нее нет в запасе пары столетий. В отличие от моего Носферату, у меня времени нет вообще – маман прилетает с курорта в конце недели. Файл с рассказом Подкарпатского был у нее при себе, на флешке, когда в четверг вечером Алена заглянула в кабинет верстальщицы. – Кофеечку? – предложила та, приветливо улыбнувшись. – Что там у тебя, Аленка, что-то из классиков опять? – Не совсем, – вместо флешки Алена выудила из сумочки пачку «Ричмонда» и угостила подружку. Верстальщица выкуривала по половине в день, а в период авралов расправлялась с целой пачкой. В комнатке у нее вечно стоял запах дыма, что вообще-то всеми внутренними правилами редакции было строго-настрого запрещено, но Алена смотрела на эти нарушения сквозь пальцы – сама такая. – А вот скажи, Вероника, – обратилась она к подружке как бы невзначай, когда они обе устроились на мягком диванчике у раскрытого окна, с кружками горячего кофе и тонкими сигаретами в руках, – если бы ты могла, скажем так, подкорректировать что-нибудь не в газете нашей, а в… окружающем мире, но только не бесплатно – ты бы пошла на это? – Придумаешь тоже, – фыркнула Вероника. – Мне за верстку зарплата капает, с чего бы я должна за собственную работу кому-то еще платить? – Нет, ты представь, что речь идет не об обычной верстке, а о такой, что твою жизнь могла бы изменить. Но лишь ценой жизни кого-то другого. – В смысле убить кого-нибудь ради того, чтобы разбогатеть? – Не напрямую, – осторожно кивнула Алена. – Не лично, а как бы чужими руками… – Ну, если мне за это ничего не будет, – верстальщица посмотрела на нее, выгнув тонкую бровь, – так почему бы и нет? Если честно, то я сейчас убить готова за хорошего кобеля. У тебя никого на примете не имеется? Алена оставила ей номер своего стриптизера, а себе – флешку с рассказом Подкарпатского. В последние дни (вернее, вечера) тот оставил ее в покое, но она не первый год зналась с графоманами такого типа, как он, и была уверена: старик еще напомнит о себе, у них будет возможность поговорить. В конце концов, в редакционном портфеле имеются шаманы Москалева, которыми, в случае необходимости, можно заткнуть дыру в текущем номере, – и уж тогда-то ее Носферату явится выяснять, почему его «шедевр» в очередной раз продинамили. К услугам москалевских шаманов, однако, прибегать не пришлось. Сигизмунд подошел к ней в переходе между станциями метро, вышел из-за колонны, худой и высокий, – Алене почудилось, что он прибавил в росте с последней их встречи. Впалые щеки налились румянцем, как от мороза, в глазах танцевали зеленые искры. – Какой вы нынче жизнерадостный, – не удержалась от колкости Алена. Вампир не обратил внимания на ее ехидный тон: – Питаю надежду, что вы меня порадуете. Моя ис-стория. Текущий номер. «Влас-сть тайн». Договореннос-сть в с-силе? – Ой, даже не знаю… Возможно. Наверно… Скорее всего. – С-скорее вс-сего? Как это понимать? – Кровь отхлынула у старика от лица, и Алена подумала про себя, что это, должно быть, кровь Игорька. – Нет, лично я ничего против вашего текста не имею, – уверила она. – Правки сделаны, все готово. Но, Семен Сигизмундыч, вы должны понимать, вы ведь не один такой. Ну, то есть вы-то такой один, конечно, но у нас и другие авторы есть, другие рассказы тоже ожидают публикации. Я же не могу вот так вот взять и изменить все планы. Может быть, через месяц, если к тому времени литературный раздел газеты не прикроют… – Из-здеваеш-шь-с-ся? – Старик обнажил клыки. – Ой, только не надо скрипеть сейчас на меня! Я и так делаю ради вас все, что в моих силах. Жертвую силы и личное свое время, между прочим. Подкарпатский по-кошачьи скользнул к ней одним быстрым плавным движением, так что черные с зеленью зрачки оказались аккурат напротив ее глаз. Теперь он был одного с Аленой роста, и – с удивлением обнаружила она – стал шире в плечах. От него все еще пахло древностью, застарелой подвальной пылью, но к этому запаху, кажется, примешался другой, знакомый, – так пах дезодорант Игоря, которым тот пользовался до и после тренировок в зале. – Ус-слуга, – произнес вампир, взирая на ее без гнева, с пониманием. – Тебе нужна ещ-ще одна усслуга. Хорош-шо… Но это будет пос-следний раз-з. З-запомни, это – пос-следний! – Воскресенье, – пообещала она. – В это воскресенье ваш рассказ напечатают. Если… – Никаких ес-сли. Это – пос-следний. Пос-следний ш-шанс-с. В пятницу она сдала номер в верстку. В субботу попыталась дозвониться маман, но безрезультатно, как и в воскресенье. Днем в понедельник ей самой позвонили на рабочий номер, из больницы: мама лежала при смерти. Где-то дома, в московской квартире, упала, порезала руку, да так неудачно, что практически истекла кровью к тому моменту, как приехала скорая. Алена никому не стала рассказывать об этом звонке. На душе у нее кошки скребли, работа шла из рук вон, ей требовалось выпить, вволю накуриться, расслабиться, забыться. Вечером она снова попала в клуб и до полуночи извивалась со своим (впрочем, теперь ей приходилось делить его с Вероникой, но в понедельник, четверг и воскресенье была ее очередь) блондином как на танцплощадке, так и в кабинке уборной. А когда, оставив Конана, немного пьяная и очень довольная, явилась домой, то, не без труда отперев замок, скинула туфли, одежду и приняла душ, зашла на кухню выпить перед сном бокальчик любимого красного полусладкого. Где и наткнулась на разъяренного Сигизмунда. – Непрос-стительно, – проскрежетал Подкарпатский, швыряя в лицо Алене свежий, воскресный выпуск «Власти тайн». Зрачки вампира горели холодным зеленым пламенем, он возвышался над ней огромной могучей тенью, и темные густые локоны, пахнущие шампунем ее матери, струились у него по плечам, мускулатуре которых позавидовали бы и Игорь, и Конан. В этот вечер Сигизмунд соответствовал всем ее представлениям об истиной мужской красоте. Алена подхватила газету и, справившись с колышущейся перед глазами мутью, сосредоточила взгляд на странице литературного раздела. «Божечки, – подумала она, не в силах поверить тому, что увидела. – Божечки мои, Вероника, подружка-верстальщица, как же так, божечки святы!..» Она пыталась что-то лепетать в оправдание, но Подкарпатский не стал ничего слушать или говорить. Молча распахнул гигантские крылья, стремительно прыгнул к ней и одним движением больших и невероятно сильных рук оторвал женщине голову. Голова с глухим стуком упала на пол, вслед за ней полетели, планируя, мятые газетные листы, а тело редактора осталось стоять, зажатое в объятиях писателя. Лицо вампира склонилось к дыре, которой теперь заканчивалась шея Алены, и струи крови, толчками вырываясь из порванных жил и сосудов, ударили в жадно распахнутый рот алым фонтаном. Несколько капель упали и на страничку газеты, где, прямо под псевдонимом автора (Семен Карпов, Карпаты), красовалось, набранное красивым готическим шрифтом с вытянутыми литерами и эффектными засечками, название его рассказа: УКСУС ВАМПИРА.Конец пути
В последние деньки я все чаще стал замечать, как Штырь украдкой бросает голодные взгляды на Янку и на ее вздувшийся живот, и мне это, конечно, не нравилось. Люди в нашем маленьком отряде наперечет, всех нас Война изрядно потрепала, и с каждым меня связывало что-то общее, но Штырь есть Штырь: в нем уже и человеческого-то почти ничего не осталось. В отличие от Янки, Василича и остальных, ему я не доверял. Опасался – не столько его самого, сколько тех тусклых огоньков, что тлели на глубине темных впадин под лишенными волос надбровными дугами, когда он отрывал взгляд от потрепанной книжки и долго, молча, не мигая глазел куда-то вдаль. Что он там видел, какие картины рисовал в воображении, можно только догадываться. Но в такие моменты Штырь пускал слюну, как умственно отсталый, и бормотал что-то себе под нос. Нельзя было разобрать ни единого словечка, но я точно знал, с Кем он говорил. Кто-то, когда-то, еще до Войны ляпнул красного словца ради: «Безумие заразно». Глядя на Штыря, я не мог не вспоминать эту фразу и не задаваться вопросом, насколько болезненное состояние его надломленной психики передается мне, Янке, другим. Царь Голод был для Штыря богом, но, положа руку на сердце, кто из нас теперь, в эти скудные времена, не обращал к Нему молитвы, во сне или наяву, кто не выпрашивал милости?.. Не знаю, есть ли такие, сохранившие здравомыслие удальцы в моем отряде, но я сам точно не из их числа. А началось все с него, со Штыря. Штырь был первым, кто услышал Царя. Помню, как он орал, щуря на небо опухшие, красные от известковой пыли и слез глаза, когда мы с Максимом вытаскивали его переломанное тело из-под завалов старой школы на Маросейке. Это не были крики радости, нет. Штырь вовсе не ликовал по поводу чудесного спасения. Он выл, и голос его источал тоску и страдание, каких я никогда не слышал, а уж за время после Войны я всякого наслушался вдоволь. Волосы у него уже тогда начали выпадать, но те, что оставались, были седые, как у глубокого старика. На зубах и подбородке чернела кровь, он кусался, царапался, бился у нас на руках в припадках бешенства, да так, что мы вдвоем едва могли его удержать, несмотря на сильнейшее его истощение и сломанные в нескольких местах ребра. В себя пришел далеко не сразу, а постепенно. Разум начал к Штырю возвращаться, только когда Максим, добрая душа, поделился с ним своей пайкой. По счастью, тогда у нас еще было чем делиться. Тогда мы еще не знали, что такое Царь Голод. В отличие от Штыря. Теперь каждый в отряде так или иначе знаком с Царем. Кто больше, хотя Штырь тут и вне конкуренции, кто меньше. Как Янка – о ней все-таки я забочусь. Но даже она признавалась мне с неделю тому, что слышала Его голос. Вот что пугало больше всего. Безумие заразно. Доставшийся мне по наследству от отца хронометр уже давно приказал долго жить, но по ночам я слышу сухие щелчки, с холодной неумолимостью отмеряющие путь из пункта А в пункт Б. Понятия не имею, долго ли нам еще туда идти, боюсь, что уже немного осталось. Точно знаю одно: в конце этой дороги нас всех с распростертыми объятиями поджидает оно – кровавое безумие. Тэк-с, тэк-с – щелкает у меня в голове. Голод не тетка! Тэк-с, тэк-с – цокает языком Штырь, посматривая на Янку. Аппетитная девочка… Мы устроились за насыпью у поворота к имению Губера – я, Штырь, Янка и еще четверо. Всего, получается, семь человек – втрое меньше, чем два месяца назад, когда кончились запасы консервов. Кто жевал траву, кто изучал почерневшие остовы деревьев в надежде найти нетронутый пламенем, а значит, съедобный участок коры. Штырь в миллионный раз перечитывал учебник русской литературы за седьмой класс – он был при нем, болтался в штанах, когда мы его откопали в завалах во время того рейда по городским развалинам. Черт знает почему, но Штырь с этой дурацкой книжкой никогда не расстается. Янка спала с открытыми глазами, утопая невидящим взором в низких, налитых свинцовой тяжестью тучах. Слава богу, в ее зрачках не видно этих жутких огоньков. Я сидел рядом, касаясь бедром ее бедра, ощущая тепло ее тела. Проверял амуницию: лук, стрелы, ножи, – так было удобнее следить за Штырем. Максим-то знал, а вот остальные, считая и Янку, не в курсе, что мы со Штырем знакомы еще по прошлой жизни. Выросли в одном дворе, ходили в одну школу (ту самую, превращенную в пепелище, – впрочем, сейчас все школы сровнялись с землей), только в разные классы. Кому из отряда скажи – не поверят, но я на год старше Штыря. Война всех уравняла в этом смысле, а кому и воздала сторицей. Штырь с его бледным иссохшим лицом и клочками белого, как снег, мха на голом, покрытом серыми пятнами черепе, по виду мне в отцы уже годится, а то и в деды. Нет уж давно того двора, дома наши, как и все прочие дома, разметало в пепел. Былая дружба превратилась в затхлые руины, где над гниющими трупами родных и близких правит Царь Голод. Это огоньки Его смеха мерцают в глазах у Штыря, когда он поглядывает на дремлющую Янку, уж я-то знаю. Тэк-с, тэк-с – щелкает в голове. Тэк-с, тэк-с. Желто-зеленой змеей проскальзывает язык меж почерневших редких зубов. Очерчивает контур тонких лиловых губ, оставляя влажную борозду на грязной, покрытой струпьями коже. Тэк-с, тэк-с – цокает Штырь, сглатывая слюну. Затолкав последнюю самодельную стрелу в колчан, я поднялся и тихонько свистнул. Взгляды охотников на секунду-другую обратились в мою сторону. В глазах у некоторых виднелись те же голодные огоньки, что и у Штыря. Тот понял, кому предназначался сигнал, не сразу: несколько раз моргнул, схаркнул зеленоватой жижей, только затем уставился на меня. – Айда по периметру, – сказал я. – Стоит проверить. – У бабы своей под юбкой проверь, – буркнул в ответ Штырь, без вызова, голосом таким же серым и тусклым, как и он сам. – Она не носит, из моды вышло. Штырь оценил шутку, и череп его понизу расколола кривая ухмылка: – Тэк-с, тэк-с. Ну тады давай пройдемся. Может, сыщем обнову. Крякнув по-стариковски, он спрятал учебник за пазуху дырявой ветровки (досталась ему от Максима, когда того не стало), оперся тощей рукой о навершие топора и медленно встал. Закинув топор на плечо, похромал вперед. Я задержался, чтобы еще раз взглянуть на спящую Янку. Умиротворенное лицо, тонкая белая шея, мальчишечья грудь… округлый, выпирающий живот. В желудке у меня заурчало, а в голове защелкало с новой силой. – Как думаешь, друже, сколько мы еще так протянем? – спросил Штырь, не оборачиваясь, когда я нагнал его. Шагал я быстро, но тихо – привык уже не шуметь в окрестностях Губерских владений, – но он все равно услышал. Как много времени Штырь провел в тех завалах, одному Богу известно, но выволокли мы с Максимом оттуда уже не старого моего знакомого, не Ваньку Штырлова, а кого-то другого. Может, как мне иногда кажется, и не человека вовсе. Чувства его: обоняние, зрение, слух – обострились до предела. Благодаря этим нежданно раскрывшимся в нем сверхчеловеческим способностям Штырь, оклемавшись, стал едва ли не самым ценным членом нашего отряда. Жаль, Максиму это не помогло… Может, и поэтому тоже я его опасаюсь – слишком мало в Штыре осталось от того соседского парня, с которым когда-то мы водили дружбу. – Не знаю, Ванька, – ответил я на вопрос, чувствуя себя противно от того, что приходилось разговаривать с ним вот так, осторожно, подбирая слова. Изображая, как будто бы мы с ним еще близки, хотя на самом деле он давно стал для меня чужаком. – Не знаю. – День-другой… Затем дохнуть начнем, – ответил он сам себе. – Людям надо что-то жрать, кроме ковыля и коры, чтобы сохранять силы. – Ты же у нас учитель, тебе видней. – Был учитель, да съели с потрошками. Я по-прежнему видел перед собой только спину Штыря, но догадывался, что сейчас он вновь обнажил зубы в усмешке. Мы отошли метров на пятьсот в сторону базы и, убедившись, что здесь все спокойно, и пустыня осталась пустыней, взяли по широкой дуге назад – с тем, чтобы выйти за поворот, к трассе, где с моста над оврагом можно увидеть огороженное высокой бетонной стеной имение Губера. – Ты ведь понимаешь, что рано или поздно люди начнут точить ножи друг на друга, – продолжил Штырь, как будто мы и на минуту не прерывали разговор, хотя на самом деле в пути прошло не менее получаса. Мы миновали мелкий ручей, на берегах которого ноги почти по щиколотку утопали в темной вязкой жиже, и, пройдя еще метров двести по голой, черной от сажи земле до выгоревшего в уголь ствола павшей ели, повернули направо, к дороге. – Наверное, начнут, – сказал, подумав, я. – Но, что делать, что делать прикажешь-то? Вопрос мой был риторическим и ответа не подразумевал, вот только Штырь про это не знал, а если и догадался о чем таком по тону моего голоса, то плевать хотел на это. Ему, как оказалось, было что сказать. – Что делать? Топать за мост. Ждать больше нельзя. – Лучше попасть под пули губерской банды, что ли? – попробовал я его урезонить. Штырь резко замер и обернулся ко мне – впервые за все время нашего похода. Сейчас он уже не улыбался. – Альтернатива хуже, Миша, – проскрипел он сквозь зубы. – Альтернатива гораздо хуже. Уж ты мне поверь. Я верил, потому что знал, как давно знакомы Штырь и Царь Голод. Что стало с другими, с теми учителями, вместе с которыми после первых бомбежек он несколько месяцев прятался в школьном подвале от ребят с ружьями, вроде Губера и его парней? Мы, охотники, нашли черепа да кости. И детские косточки там тоже были, обглоданные. Максим предполагал, что их съели животные. Но Максим всегда был наивен, верил в людей – он говорил, что без такой веры сам перестаешь быть человеком. Максим был глуп и неосторожен, и потому он уже месяц как мертв. А зверей в округе совсем не осталось, если не считать некоторых двуногих. – Если не решишься… – Штырь, отвернувшись, почесал шею. Голос у него снова стал тусклый, скучающий. – Тогда смотри на людей. Те, кто поздоровее, – за ними следи. Серый, Василич этот ваш, завхоз. Они начнут. Будут выбирать слабых и умирающих… Начнется все с какой-нибудь ссоры, словно случайно. Закончится смертоубийством, конечно. Потом пойдут речи о том, что мясу нельзя пропадать… И мы согласимся. Мы все. К тому времени за нас будем говорить уже не «мы» – будет говорить Царь. Такие у нас перспективы, Миша. Тэк-с. Я подумал про Янку. Жилистую, высокую, не по-женски сильную Янку. Ее положение неизбежно лишит ее силы, сделает уязвимой. У нее крупные бедра, мускулистые икры – мне ли не знать. И внутри растет еще одна жизнь. В животе опять заурчало. Штырь услышал, оглянулся – и в таившейся на дне его глаз первобытной мгле снова вспыхнуло пламя. – А ты? – Я положил ладонь на рукоять заткнутого за пояс ножа. – Кого бы выбрал ты, друже? Бывший учитель русского языка и литературы задумчиво облизнул губы. Погладил спрятанную под полой у груди книгу. – У стариков, вроде Василича, мясо жестче… и хватит его ненадолго. Я б начал с женщин и детей, но… детей среди нас нет. Сказал – и, отвернувшись, потопал дальше, прихрамывая на левую ногу, из которой вытащили полгода тому назад пулю. Янка вытаскивала, она у меня курсы медсестер закончила еще до Войны. Работала раскаленным на углях лезвием кухонного ножа, а я, Василич и Максим держали. Ранение было делом губерских: поймали его тогда на рейде, но Штырь сумел каким-то чудом отбиться и добрался, истекая кровью, до лагеря. Максиму несколько месяцев спустя повезло меньше. Тэк-с, тэк-с, Миша. С женщин и детей… Только детишек у нас пока нет. Пока нет. Я нагнал Штыря у самого периметра, на краю нашей, относительно безопасной, зоны. Относительно потому, что губерские время от времени устраивали собственные рейды. Правда, в отличие от моего отряда, искали не провиант в развалинах, а выживших. Штырь сидел на корточках, на ближней стороне оврага, опираясь тощей, похожей на паучью лапу рукой о топор, и смотрел вдаль. Не в ту умозрительную «даль», с которой он порой разговаривал, бурча что-то под нос, когда впадал в это свое полубредовое состояние и начинал пускать слюни, а туда, куда тянулась от положенной над провалом переправы полоса асфальта. Когда-то здесь, по обе стороны от дороги, рос густой заповедный лес, но Война превратила эти края в серую от пыли и пепла равнину, огромное кладбище с торчащими, как памятники, зубастыми верхушками обугленных пней. А дорогу, проложенную незадолго до начала Войны, бомбы чудом не зацепили. Нигде по ту сторону переправы, вот ведь как бывает. Ровное полотно рассекало мертвое поле прямой, как линейка, полосой и казалось на этом фоне столь же уместно, как жизнерадостный клоун в раковом корпусе… Ну или как учитель русского языка и литературы в мире, где больше не осталось детей. – Скажи, – я, пересилив отвращение, тронул костлявое плечо. – Почему там, в школе, ты не сожрал свой гребаный учебник? Понимаю, деликатес еще тот. Но все-таки обложка, страницы… Бумагу ведь делают… делали из дерева. И если можно жрать траву, то… Все-таки лучше бумага, чем… Штырь посмотрел на меня снизу вверх. – Не скажу. Тебе, Миша, этого не понять. Пока еще – не понять. Несколько минут мы сидели молча. – Курить хочется, – сказал он. – Веришь, до Войны вообще не курил, а уж после тем более. Но как же иногда хочется затянуться. – Хорошо, – наконец, кивнул я. – Согласен. Пойдем вперед, на ту сторону. Посмотрим на домик Губера поближе. – Тэк-с, тэк-с! Не думал, что ты решишься, – то ли сухо кашлянул, то ли рассмеялся Штырь. – Что все-таки лучше так, чем ждать, кто первый укусит твою бабу за ляжку, да? Этого ты боишься больше. – Определенно. – Я промолчал о том, подумать о чем для меня было страшнее всего. О том, что первым, кто укусит, могу оказаться я сам. –…И потом, может, они там передохли уже давно, а мы все за периметр зайти боимся. – Боимся зайти потому, что еще сами не дошли до предела, – попытался в тон ему пошутить я. Шутка, впрочем, не удалась – каламбурить я никогда не умел. – Ой ли?.. Так, развлекая друг друга ничего не значащими репликами, почти как в старые добрые времена (хотя тогда у нас были совершенно иные темы для разговоров – все больше о девчонках и видеоиграх), мы выбрались на трассу и, минуя мост, прямиком потопали в направлении белеющего на горизонте бетона. – Приятно ощутить под ногами нормальную дорогу, – заметил я, когда за спины нам уплыл изрядно покореженный знак скоростного ограничения, под которым болталась изрешеченная пулями жестянка, предупреждающая о том, что впереди лежат частные владения. – Дорога жизни, – мрачно сказал Штырь. То есть в голосе у него никогда не наблюдалось особого воодушевления, но эти слова прозвучали как-то особенно хмуро даже для такого существа, как Штырь. – Не понял. Ты чего?.. – Да так… Видишь? – Он указал рукой на вплавившийся в землю железный остов. – После первых атак народ, кто побойчее, рванули к губерской резиденции. Кто-то искал защиты, кто-то справедливости. И пешком шли, и на машинах, у кого целы остались. Для многих несчастных дорога эта была дорогой жизни, дорогой надежды… – Да ты поэт. – Это они поэты. Были. За первым сожженным авто открылось второе, третье. Издалека их легко было принять за очередные пеньки, но вблизи детали становились узнаваемы. Тэк-с, тэк-с – щелкал хронометр, а в памяти всплывали уже подзабытые названия: «москвич», «Лада Гранта», «Форд Фокус», «копеечка». Несколько десятков обгоревших машин по обе стороны от дороги, некоторые почти целиком утонули под слоем земли и пепла. – Вот почему так долго губерские нас, пейзан, не трогали. Спасибо мертвым поэтам, этим несчастным дебилам, таким, как твой дурачок-приятель Максим. Мясо само шло к ним в руки. – Как и мы теперь, – я содрогнулся. Дорога жизни? Дорога смерти… Дорога в никуда, из одного ада в другой. Некстати вспомнил родителей… Как и миллионы других, батя тоже сгинул на какой-то дороге, откликнувшись на зов Войны. Ему терять, как он считал, было уже нечего – мамке повезло оказаться в числе тех, кого накрыло первой волной, в центре, а я уже был взрослый и жил отдельно, с Янкой. Влившись в какой-то стихийный, вооруженный дрекольем отряд, отец отправился в поход, как он сказал, «на запад», – и ушел навсегда. Когда-нибудь так же уйду и я. Пойду куда глаза глядят, чтобы уже не вернуться. Вопрос лишь в том, будет ли кому продолжить мой путь. И надо ли его вообще продолжать?.. Штырь приметил у обочины пару зеленоватых стеблей, наклонился, сорвал и отправил в рот. Потом посмотрел на меня снизу вверх. Сказал: – Асфальт теплый. А солнца нет. – Губерские?.. – Кто ж еще. – Значит, выезжали. – Только до моста не доехали. Авто на ходу остались только у Губера и его нелюдей. Равно как и топливо, и оружие – ушлые ребята подсуетились, сгребли все, что можно (и что нельзя – тоже заграбастали, кто бы им рискнул помешать?), пока остальные, вроде меня и Янки, пытались просто выжить. В открытом бою шансов одолеть их не было – чего стоят ножи, топоры и самодельные луки против ружей и пистолетов? Поэтому, когда губерские выезжали за мост, мои охотники сами становились легкой добычей. За одну только зиму мы потеряли пятерых, и лишь один из них умер от болезни и холода, прочих забрали губерские. Вот и сидел наш отряд за насыпью у поворота уже неделю. Ждали своего, быть может последнего, шанса в засаде. – Что могло их остановить? – Не знаю. Соляра кончилась, поломалось что?.. Идем, поищем следы. Я вытер вспотевшую ладонь о штаны и достал нож. Глянул в сторону бетонки, потом назад, оценил расстояние в обе стороны. Если вдруг Губер с бригадой заявится, придется рвать когти обратно, за периметр. Они, конечно, могут продолжить гонку и за мостом, но там все-таки ландшафт другой, местность холмистая, деревья повалены. Много укрытий. А главное: в укрытиях – наши. Здесь же как на ладони, и если мы со Штырем видим отсюда стены губерского имения, то, понятное дело, оттуда нас тоже можно приметить. – Что-то мне уже не кажется удачной твоя затея пойти сюда на разведку… – Тише. Слышишь? – Да. Я боялся услышать звук ревущих моторов, но вместо этого до ушей донесся… плач? Точно, плач. Или даже скорее – тихое поскуливание. Этот тоненький вой можно было бы принять за злые шутки гулящего ветра, если б нас не укрывал от него подъем к переправе. Если бы в этих краях еще жил ветер. И если бы вой не прерывался время от времени жалобными всхлипами. Женский голос… Даже детский. Сухие щелчки врезали изнутри по вискам колокольным набатом. Откуда эти стоны? Я глянул на Штыря – смешно, я и забыл, что он умеет шевелить ушами. В детстве это было просто забавой, едва ли не зависть вызывало. Но сейчас, когда он вслушивался, склонив лысую голову набок, и кромка уха извивалась дождевым червяком, это выглядело пугающе, придавая и без того не сильно приятному облику старого знакомого совсем уж нечеловеческий, упыриный вид. – Там, – кивнул Штырь в сторону, где останки авто громоздились небольшим погребальным холмом. За свалкой в земле обнаружилась глубокая воронка – след от снаряда. На другой стороне стоял джип, покрытый толстым слоем пыли, измятый, но в остальном практически не тронутый, если не считать битых стекол и фар. На дне ямы тихонько плакала лишенная ног девочка. На вид ей было лет десять – двенадцать. Кожа настолько бледная, что, казалось, почти светится под коркой из грязи. Драное бесцветное платье с едва заметным узором – издалека цветочки да листики походили на ползающих по телу ребенка пауков. Она лежала на спине, раскинув ослабшие ручки и стянутые у ран тряпичными жгутами культи, словно распятая. И, хотя лицо ее было обращено к нам, девочка ни меня, ни Штыря не видела. Не могла видеть: тот, кто бросил ее в эту дыру, не только отрезал несчастной ноги, но и выколол глаза. На их месте зияли дыры, а по щекам девочки струились кровавые слезы. – Миша, – прохрипел Штырь, не отрывая взгляда от измученной калеки. – Ты сейчас думаешь о том же, о чем и я, да? «Я бы начал с женщин и детей». – Что? Ваня, стоп. Стоп, не надо, Ваня, – только и мог пролепетать я. – Это же ребенок. – Мясо есть мясо, – сглотнув слюну, ответил мне голосом бывшего друга Царь Голод. Штырь начал спускаться вниз, я последовал за ним, пытаясь утихомирить взбесившийся перезвон у себя в голове. В руке у меня был нож, и я мог бы остановить Штыря, всадив его ему в спину. Но, в отличие от напарника, я не был ни в чем уверен. В отличие от него, я все еще оставался человеком, но это и делало меня слабым. Я смотрел мимо Штыря на девчонку, а видел Янку. Если выбирать между ней и этой… Она же все равно не жилец, с такими-то ранами. Первую помощь оказать можно. Вон, того же Штыря Янка дважды, считай, спасала. Но здесь… Здесь ее навыков медсестры будет мало. Нужна больница, нужны палата, наркоз – а все это давно превратилось в прах, как и весь город. Как и весь мир, возможно. Со дна этой ямы девчонке уже не выкарабкаться, во всех смыслах. Хотя… У нее отняли ноги, но ведь зачем-то озаботились, чтобы перевязать раны? Озарение пришло слишком поздно. Я понял, что мы допустили роковую ошибку, только услышав, как хлопает дверца джипа у нас над головами. – Стой, где стоишь, – хохотнули сверху. – Ру-ки вверх. Из машины выбралось трое: два здоровяка в косухах, с ружьями, а между ними встал еще один – толстый, седовласый, в темном пиджаке, давно не глаженных брюках, с когда-то стоившими бешеных денег длинноносыми туфлями на ногах и белой рубахе, расстегнутой на широкой, покрытой белесой порослью груди. Губер улыбался. – Рыпнетесь – и будете собирать свои тощие задницы по кусочкам. Мы замерли. – Нож, топор – в землю. «Мясо» у наших ног затихло – девочка потеряла сознание. Глядя на нее и слыша шаги спускающихся к нам бандитов, я подумал о нашем отряде, о тех четверых, что остались за переправой. О Сером, Василиче и других. И о Янке. Как она теперь, без меня?.. – Такая примитивная ловушка. Так глупо попасться. Боже мой… – Божечка больше не принимает. Офис закрыт! – заржал возникший перед глазами амбал и ударил меня прикладом ружья в лоб.
Тэк-с, тэк-с. Хронометр все еще тикает. Тэк-с, тэк-с. Никогда бы не подумал, что проклятые щелчки, годами не дававшие мне спать по ночам, станут для меня сродни биению сердца, послужат сигналом о том, что я еще жив. Сначала во мраке стали слышны они, а только потом – запах. Стылый, терпкий, солоноватый запах: пыль, кровь, пот – вперемешку. В последнюю очередь вернулось зрение, хотя, оглядевшись (движение вызвало серию болезненных вспышек в голове), я поначалу мало что смог рассмотреть. Было темно. Во тьме проступали смутные очертания, позволившие понять, что нахожусь я в каком-то небольшом помещении или узкой, похожей на пенал комнате. И нахожусь я тут не один – рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки сидел, прислонившись спиной к стене, понурив плешивую голову и вытянув длинные палки-ноги, Штырь. Напротив нас, в трех метрах – другая стена, по правую руку – третья, а в углу стоял стол или, может быть, верстак, под которым валялось что-то округлое, смахивающее формой на бублик, только бублик этот был размером с крупного пса. Шина. То есть мы в гараже. Пошевелив конечностями, я понял, что связан. Присмотревшись, убедился, что и Штырь ничуть не в лучшем положении – руки, как и у меня, за спиной, ноги перехвачены веревкой в щиколотках. Слева раздался металлический лязг, скрип, пахнуло холодом, и на мгновение комнату залил белый, слепящий свет. Штырь хрипло закашлялся, а я отвернулся, почувствовав, что еще секунда – и глаза лопнут. Конечно, ничего подобного не случилось. Послышалось шарканье, замелькали, разбивая потоки яркой белизны, тени и, хотя за лобной костью у меня все еще плясали рок-н-ролл под аккомпанемент участившего ход хронометра искры, зрачки смогли сфокусироваться. Передо мной и Штырем стоял, возвышаясь над нами в полный рост, Губер. – Как видите, господа, мы весьма вовремя. Наши дорогие гости почти что в добром здравии. Правда, если судить по кислому выражению лиц, они не слишком расположены к задушевным беседам… – Ничо, с паяльником в заднице запоют соловьями, гы, – проворчал один из его подручных, горилла в грязном свитере с закатанными по локоть рукавами. Татуированные перстнями пальцы и правда сжимали ручку паяльной лампы. Губер брезгливо отмахнулся: – Не засти. Громила чуть подвинулся, давая хозяину больше света, а тот, нырнув рукой под полу пиджака, выудил оттуда и нацепил на нос очки с пыльными, заляпанными стеклами в тонкой золотистой оправе. Другую руку вытянул перед собой на всю длину – в ней он держал раскрытую книгу… чертов учебник за седьмой класс. В льющемся через гаражные ворота свете черты оплывшего лица казались аристократически благородными, холеными, как у римских патрициев в старом кино. Легкая щетина на приподнятом круглом подбородке напоминала младенческий пушок. Он громко прочистил горло, будто готовясь произнести торжественную речь, и я вспомнил, что в прошлой жизни слыхал много таких по местному телевидению, особенно на день города. Черт подери, я даже голосовал за этого ублюдка, когда тот на заре своей политической карьеры избирался в мэры. Мы с Ванькой безмолвно наблюдали, и не знаю, как у Штыря, а у меня эта маленькая театральная сценка вызывала только недоумение. Ну конечно! Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила. – Деревья и трава, – произнес Губер, не отрывая взгляда от раскрытой книги, и я понял, что он читает вслух. – Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа: бороться против того самого, что может помешать ему остаться здесь. Он объявит Марсу войну – особую, агробиологическую войну. Древняя марсианская почва… Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья – ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты. Что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве – нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения. Недоумение мое росло. Какого черта, что за цирк эта скотина нам тут устраивает? – Рэй Брэдбери, «Зеленое утро», – пояснил Губер. Схлопнул обложки, повертел книгу в руках. – Фантастика. Какая глупость! Старый учебник, советский еще… Не слишком патриотично. Пацифизма многовато… на том ведь и погорели. – Небрежно бросил потрепанный томик к сваленным на верстаке инструментам. – Однако же, господа, тут у нас интеллигенция в гостях. Интеллектуалы, так сказать. – Говно, – буркнул детина с паяльником. – Можно и так выразиться, – пожал плечами Губер. – Как бы там ни было, а какая-то правда жизни есть и в фантастике. Чтобы жить, нужен кислород. Нужны растения, плоды которых можно потреблять в пищу. – Помидорчики, – облизнулся детина. – Они самые. Знаете ли вы, граждане, – обратился Губер к нам со Штырем, – что одна хорошая, ухоженная теплица способна снабдить пропитанием десять – пятнадцать человек в течение всего года? У меня таких теплиц три. Я же аграрий по образованию! Первый бизнес по сельхозчасти делал, в натуре. «В натуре, ты – сука», – подумал я и глянул на Штыря. Тот, похоже, не думал ни о чем, снова впал в прострацию и тупо смотрел в стену за спиной стоящего рядом с ним губеровского амбала. С края рта вниз тянулась тонкая ниточка слюны. – Конечно, урожаи нынче уже не те, – продолжал Губер. – Экологическая обстановка, так сказать, не способствует. Однако, – сделав паузу, он снял и спрятал обратно очки, – в наше сложное время по-настоящему огромную ценность обретают уже не деньги, не золото, не газ и даже не нефть. Запустив пухлую ладонь в карман брюк, вытащил маленький, размером с мизинец, огурчик. – Вот вам валюта нового времени. Зеленый рубль. Или даже евро. За это теперь можно купить все – бензин, пули, женщину… Но главное – лояльность. Не так ли? – Так точно, – поддакнул детина. Губер забросил огурец себе в пасть и захрустел, двигая челюстями. От этого звука у меня скрутило в тугой узел кишки, а рот наполнился слюной, голова раскалывалась от боли, перед глазами все поплыло, и я на миг прикрыл веки, борясь с накатившей тошнотой. – Видите ли в чем дело, граждане. Во все времена ресурсы дают людям власть. Настоящим людям, как я, – над зверьем опущенным, вроде вас. И возможность жить, так сказать, на широкую ногу… Как там шашлык, не готов еще?! – крикнул в распахнутые ворота. Оттуда донесся ответ: «Скоро!» Губер опять повернулся в нашу со Штырем сторону. Тепло, по-отечески, улыбнулся, развел руки в стороны. – Оставим лирику, господа. Помидорами-огурцами можно насытиться, но вся эта зеленая херь, травка, кора древесная – для вашего брата, вегетарианцев. Настоящим людям нужно время от времени баловать себя мирскими радостями – котлетки, бифштексы, шашлычок. – Витамин Це – сальце-маслице-винце, – хохотнул громила с татуированными пальцами. Только по смеху я догадался, что это именно он меня вырубил там, возле ямы. – Именно, – кивнул Губер. – Что и подводит нас, наконец, к основной теме разговора. В вас, граждане, сала не больше, чем у мух-падальщиков, кем вы, собственно, и являетесь. Но для мошкары вас слишком мало – всего двое. Теперь внимание – вопрос. И я бы хотел, чтобы вы крепко подумали, что ответить. Подумали о паяльниках в заднице и страшной, неописуемой боли… Итак, жужжите мне, мушки. Где остальные и сколько вас всего? Я крепко, как мог, стиснул зубы и зажмурился. Старался представить Янку, ее синие, как море, глаза, и тихий спокойный голос. Ее животик, в котором рос мой сын или моя дочь. Тэк-с, тэк-с, мухи. Тэк-с, тэк-с, зверье. Я буду молчать, чтобы эти твари со мной не сделали. Но, как только я подумал об этом, слева раздался голос Штыря, спокойный и заинтересованный: – Пожрать дадите? Тогда и побалакаем. И еще покурить бы, тэк-с. – Цокотуха! – восторженно расхохотался татуированный. Губер тоже заулыбался. – Милая мушка, ты, кажется, прожужжала последние мозги. Разве похоже, что мы на рынке, торгуемся? Борис, включай паяльник… – Посмотри на меня, дядя, – осклабился Штырь в ответ. – Разве похоже, что я боюсь боли, а?.. И я не торгуюсь. Я хочу устроится на работу. Там, за периметром, еще пятеро. Три мужика и две бабы. Одна беременная – свежее мясо. – Гнида, не смей!! – Я рванулся к нему из своих пут, грохнулся на бок, попытался доползти до паскуды в надежде вцепиться зубами в глотку. – Ответ неверный, – послышалось сверху. – Борис, успокой скотинку. На мою многострадальную голову обрушился удар, затем еще один – в лицо. Тяжелыми солдатскими берцами амбал пинал меня в живот, топтал череп, крошил зубы и кости. Боли не было. Я не почувствовал ее, я забыл о ней, потому что милосердная темнота вернулась, накрыла… – Плешивого покормите. Дикого – оставим на утро… – Губер раздавал деловитые указания примерно в тысяче километров от меня. И хронометр снова перестал щелкать.

Второе пробуждение оказалось куда хуже первого, потому что на этот раз меня били по щекам – не сильно, но теперь и легких шлепков было достаточно, чтоб разбитое лицо отозвалось вопящими вспышками. Ныла грудь, тупая боль (о, понятие боли ко мне вернулось, вот ведь радость-то) отзывалась в ребрах и спине. Очнувшись от очередного шлепка, я повернул голову вбок, и меня вывернуло желудочным соком на пол. – Тише, тише, Миша… – прошептал в темноте знакомый голос. – Штырь… сука, падла, сволочь… – Тихо, дурак! Заткни пасть и не издавай ни звука, если хочешь жить, – состоящие лишь из костей и кожи руки, как костыли, воткнулись мне под мышки и осторожно потянули вверх, поднимая на ноги. Пришлось сжать изо всех сил остатки зубов, чтобы не заорать от боли. – Стоишь? Держишься? Обопрись о стену пока. Штырь куда-то исчез. Я привалился боком к холодной шершавой поверхности, чтоб не рухнуть, и попробовал оглядеться. С этим у меня возникли проблемы – один глаз совсем заплыл, на его месте набухала, как я чувствовал, солидная шишка, другой я смог разлепить лишь узенькой щелочкой, в которую увидал перед собой коридор на тот свет, каким его описывали в желтых газетенках из прошлой жизни. Черные стены, пол, потолок – и сияние впереди, в конце пресловутого тоннеля. Впрочем, светом этот квадрат темно-синей зыбкой материи назвать было сложно, он просто оказался не столь темным, как все остальное, на тон слабее. Распахнутые гаражные ворота. Выход. Свобода. Цепкие пальцы стиснули локоть. – Стоишь? Нормально? – Штырь говорил тихо, отрывисто. В темноте его пятнистая черепушка с хаотично рассыпанными по ней клоками белых волос плыла, как луна среди туч. – Сам идти как, сможешь? – Куда… идти? – Я утер губы тыльной стороной ладони, чтобы содрать запекшуюся на них кровь. – Куда ты меня тянешь? – К своим. К нашим. – Какие они тебе «свои»? Ты же, гнида, сдать всех решил… за огурцы, тварь… – Тэк-с! Тебе еще пощечину дать? Приди в себя уже, Миша, я тебя сейчас спасти пытаюсь. – Спасти?.. А где эти… – Спят. Обожрались шашлыков, водяра у них тут есть… На вот, держи, – Штырь сунул мне в руки большой разводной ключ, добытый, очевидно, с верстака в другом конце гаража. Сам он тоже вооружился – сжимал кусок арматуры. И свой учебник не забыл прихватить, сунул под куртку. – Давай, Миша, соберись. По шли домой, – тощая рука снова нырнула мне под локоть. Мы двинулись. Каждый шаг отзывался болью в левом колене – видимо, какие-то удары пришлись в ногу, – поэтому хромали мы уже оба. Но терпеть, а значит, и ковылять кое-как я мог. Когда выбрались наружу, сумел даже отпихнуть помогавшего мне Штыря: – Сам справлюсь… спасибо. – Сам так сам. Только тише, тише. Ночной воздух обтекал, как ледяная водица из ручья. Остужал раны, приводя в чувство. Удалось раскрыть уцелевший глаз чуть шире и осмотреться. Мы были у Губера в имении, где ж еще. Впрочем, лично я здесь оказался впервые. Сюда и до Войны-то даже журналистов не пускали, не то что простой люд. Увидел рядом громадный трехэтажный коттедж, почти дворец, с мраморными статуями у высоких витражных окон, широкими низкими ступеньками, убегающими в два пролета к высоченным стеклянным дверям, перед которыми каменным цветком распустился не работающий фонтан. По бортику расселись изваяния крылатых младенцев слуками и стрелами в маленьких ручках. Возможно, при свете дня все это выглядело заброшенным памятником былой роскоши, но сейчас, в ночной темноте, смотрелось как королевский замок из сказки. С другой стороны от гаража я разглядел три низких, вытянутых по длине и накрытых пленкой сооружения – теплицы, которыми хвастал Губер. Чуть впереди, среди деревьев – бляха-муха, у них тут живые деревья растут! – угадывалось что-то вроде маленькой ротонды. Внутри едва заметно чадил на тонких ножках мангал. Сладкий запах жареного мяса плевать хотел на мой разбитый и сломанный нос: проник внутрь, закружил голову. – Не стой, Миша, не стой, некогда, – Штырь схватил за рукав, потянул в сторону ротонды. В слабых просветах между колоннами белела бетонная стена ограды. И ворота, через которые губерские выезжали на охоту или чтобы расставить ловушки для любопытных дураков вроде нас. В тени ротонды лежало тело – давешний амбал, уже без паяльной лампы, зато с копьем шампура, торчащим из горла. – Этот у них за сторожа остался. Меня охранял, – коротко пояснил Штырь, продолжая тянуть мою руку. Он торопился, и на то были причины, но я все равно заметил ржавое ведро в паре метров от мангала. Глянул внутрь, когда проходили мимо, – и меня едва вновь не вывернуло наизнанку. На дне ведра змеились ленты кишок, на которых, как вишенка на торте, возлежала человеческая голова. По дырам на месте глаз я узнал ту девчонку с отрезанными ногами, которую бандиты использовали в качестве приманки, когда поймали нас. На живца – кажется, так это называется. – Шашлык… – прохрипел я, замерев на месте и тем самым заставив остановиться Штыря. – Ты… жрал? – Угостили. – Его белеющее во тьме лицо не выражало никаких эмоций. – Вкусно было? – спросил я, желая превратить эту звериную морду в кровавую кашу, но не имея на то сил. Разводной ключ тянул руку к земле пудовой гирей, поднять почти невозможно, ударить им сейчас?.. С тем же успехом я мог бы попытаться перелететь через бетонную стену прямиком к Янке и остальным. – Сытно. – Ты же… тля… ты же учитель. У тебя ж такие, как она… учились… Уголки тонких губ чуть дрогнули. Глаза превратились в узкие темные щелки. Царь Голод смотрел на меня со злобой. – Я еще и добавки просил, тэк-с, – процедил Штырь. – А теперь, если ты закончил читать нотации, давай двигай булками. У нас мало времени. Тогда я понял, что убью его. Потом, когда и если доберусь до наших, если прежде меня не схватят, не прикончат и не пустят на шашлыки, как ту девочку. Убью, потому что это существо не должно, не имеет права ходить по одной земле с моей Янкой. Но это потом. Когда-нибудь. А пока я с помощью Штыря выбрался за ворота. В былые времена те работали от электричества, ныне же Штырь просто слегка толкнул загородку рукой, и та с тихим скрипом отъехала на ржавых колесиках в сторону, давая нам проход. Я подумал, что охрана губерского имения не слишком хороша. Всего один «настоящий человек» бодрствует ночью, замков и шлагбаумов на въезде нет. Знай мы об этом раньше, не бойся мы так их огнестрелов – можно было бы атаковать по науке, под утро, взять еще тепленькими… Рисковый план, но – дающий шансы на победу. Доберемся до своих, оклемаюсь чуток – можно попробовать. Если до нас самих первыми не доберутся… До оврага оставалось метров пятьдесят, когда сзади раздался рев мотора. Я оглянулся – в полной темноте, с выключенными фарами (нет, вспомнил, не выключенными – они же были разбиты), в километре от нас из ворот губерского имения выехал огромный, похожий на танк джип. В кузове стояли люди, и не просто стояли: раздались хлопки, полыхнуло – они стреляли в нас. Пока еще мимо, но машина набирала ход, разделяющее нас расстояние стремительно сокращалось. – Ходу! – рявкнул Штырь и помчался к мосту. Я – за ним, забыв про боль в поврежденном колене. Асфальт не пускал, лип к ступням, словно играя на руку преследователям. Выбросив бесполезный ключ, я рвался вперед. Казалось, что грудь сейчас разорвет от недостатка кислорода – в нашем мире, как и на Марсе у Брэдбери, зелени катастрофически не хватало все-таки… Штырь ждал уже на той стороне моста. А уши мне заполнил рык пробитого выхлопного легкого дышащего в спину монстра. Я упал на протянутые руки, уже готовый получить пулю меж лопаток. Мы завертелись, теряя равновесие, рухнули вместе, в обнимку, сбоку от трассы и покатились вниз со спуска. В этой круговерти на миг в поле зрения мне попал выпрыгивающий на полной скорости на противоположный конец моста джип – перекошенное от ярости лицо Губера за рулевым колесом… Мелькнула в голове мысль, неожиданно спокойная и обреченная: «Это конец. Приехали. Пункт Б, Миша, на выход». В какой-то момент, когда падение наше остановилось, когда я и Штырь уже рухнули без сил, разлепив объятия, земля под нами вдруг ощутимо дрогнула, раздался грохот, в котором потонул рев настигающего нас чудовища. Тяжело дыша, мы посмотрели друг на друга. Прошла минута, другая, а чудище о четырех колесах все не появлялось, и никто не шел к нам с ружьем в руках. – Какого хрена они тянут? – прохрипел я. – Тихо, – сказал Штырь, шевеля своими чудесными нетопыриными ушами. Я решил, что это команда, и замолк, вслушиваясь. А он повторил: – Тихо… Тут до меня дошло. И правда – тихо! Не слышно ни мотора, ни стрельбы, ни криков преследователей. Неужели спаслись?.. Затем из предрассветного зарева явились они – Серый, Василич, Янка и остальные. С луками, дубинками, ножами, осторожно выкарабкались с обеих сторон дороги. Разбившись на группы по двое, перебежками, подтянулись к нам. Последней подбежала Янка, у которой пары не было. Склонилась надо мной, обняла, поцеловала мои опухшие губы – никогда еще ее поцелуи не были так приятны, а собственная соленая кровь показалась мне на вкус слаще сахара. Она помогла мне встать. Штырь успел подняться сам, раньше, и теперь, стоя наверху, на краю оврага, смотрел оттуда на нас – и хохотал. Я не верил своим глазам, я не видел его таким со времен… ну да, со времен нашего детства. Он смеялся, подпрыгивая на месте с поднятыми над головой руками, заливался смехом сам и лил его потоки на нас с Янкой. – Кранты губерским… мост рухнул… завалило… – утирая слезы сквозь смех, говорил Штырь. – Дорогу-то перед Войной… к поместью… дорогу новую отгрохал, сука, а на мосту… ха… сэкономил! Таким я его и запомнил навсегда, Штыря. Высоким, как жердь, тощим, похожим на огородное пугало уродцем, скалящим гнилые зубы на фоне багровых рассветных туч. Взорвалась хлопушка – и полы старенькой ветровки распахнулись. Талисман, с которым Штырь никогда не расставался, его книга вылетела оттуда, запестрев страницами, как голубь какой-нибудь голубиными своими крыльями. А на голой костлявой груди появилась дыра выходного отверстия размером с ладонь. Штырь подлетел вверх словно в очередном прыжке, на секунду будто завис в воздухе с широко разведенными руками… а потом упал и больше уже не поднимался. Нет, умер он не сразу. Такие люди, как Штырь, сразу концы не отдают, даже если пробитые насквозь легкие и развороченные ребра не оставляют шансов на жизнь. Губер, видно, той же породы оказался, раз, умирая, сумел шандарахнуть со дна оврага по нему. Когда я с помощью Янки подошел к Штырю, тот хрипел, кровь пузырилась алой пеной на тонких белых губах, и с каждым мучительным вздохом бурые капли взлетали и падали, россыпью опадая на лицо и даже на покрытый болезненными пятнами плешивый затылок. Он пытался что-то сказать, но был слишком слаб, так что мне пришлось прижать ухо к его рту, чтобы разобрать слова. – Книгу сыну… читать будешь. Как сказки. Вот они для чего… книги-то… Чтобы людей растить. Не знаю, почему он решил, что у нас с Янкой именно сын родится. Но, как выяснилось спустя пять месяцев, Штырь угадал. Мне кажется, он говорил еще что-то, хотя разобрать уже было сложно. Про то, что Царь Голод не вечен. Про то, что конец одного пути – это всего лишь начало другого, нового. Он смотрел вдаль, будто бы снова, по обыкновению, впадал в транс, только вместо слюны из распахнутого рта хлынула черная кровь. Потом его зрачки закатились, но тело продолжало трясти мелкой дрожью в агонии. Тогда я закрыл ему глаза, опустив лишенные волос веки, поднял с земли выроненный им кусок арматуры – и добил, чтобы не мучился. Так вот и умер Ванька Штырлов, бывший учитель русского языка и литературы… Стоит ли говорить о том, что с нами – мной, Янкой и другими – было дальше? Штыря схоронили в той самой воронке от снаряда, вместе с останками девочки. За бетонными стенами губерского имения нашли запасы солярки, рабочий генератор, оружие, пару ящиков самогона и много законсервированных припасов. Василич наш оказался заядлый огородник, так что на пару с женой облюбовал теплицы, ну и нас, молодежь, стал учить, как и что. Жизнь, если так можно выразиться, наладилась. Янка родила. Сына назвали Иваном. В будущее стали смотреть… ну да, с надеждой. Правда, незримый хронометр у меня в голове все еще щелкает. Но все реже и, в основном, по ночам. И люди иногда еще говорят во сне с Ним. Почему так? Не знаю. Возможно, причина этих ночных кошмаров в том, что мы сделали с Губером и его бригадой. Мясо их было сочным, сладким. Янке понравилось. Тэк-с.
Гроб на колесах
В половине восьмого утра Артем чувствовал себя отвратительно ровно в той мере, чтобы словечко «дедлайн» заиграло для него всеми возможными смыслами. Линия смерти? Определенно, он находился где-то совсем рядом. Проснулся поздно – не по будильнику даже, по нужде. Мобила провела ночь в отключке, как и он сам, а для зарядного устройства дедлайн уже наступил, поскольку кто-то вчера, похоже, наступил на сам адаптер. По черному корпусу расползлась широкая зигзагообразная трещина, от которой пахло как от задымившего на той неделе старенького монитора. Артем не помнил, что конкретно случилось с зарядкой, но он вообще плохо помнил это вчера, все, что с ним происходило после третьего бокала «Лонг-Айленда» и пятого страйка. Или, наоборот, пятого коктейля и третьего захода на дорожку. В памяти отложилось главное: платил за все старший менеджер Олег. Пришлый новичок, умудрившийся месяц назад занять кресло и должность, на которые вообще-то претендовал сам Артем. Тому же мудиле… Тому же славному парню, своему в доску чуваку Олегу (Олегу Сергеевичу в рабочее время. Ну вы ж понимаете, девочки, не мне вам объяснять. Субординация и все такое, сечешь, Темыч, ага?), держать ответ перед руководством уже в понедельник, и Артем не сомневался, кого именно менеджер выставит крайним в случае срыва сроков.
Не забудь сдать проект, Темыч, ага? Время капает. Ну ты же можешь поработать пару часов в выходные?.. Можешь-можешь, дружище, я в тебя верю! Ты позвони мне завтра из офиса. Позвони мне в восемь, ага? Проблема была в том, что – и это, скорее всего, понимали они оба, – когда речь идет о дизайне вебсайта для крупной госкорпорации, два часа работы запросто превращаются в шесть, восемь, двенадцать часов. Особенно если у дизайнера голова тяжелая и неповоротливая, как шар для боулинга. Артем с радостью бы высверлил сейчас в этом шаре несколько дыр, чтобы слегка проветрить мозги. С еще большим удовольствием он бы проделал эту операцию на черепе милейшего Олегсергеича. По крайней мере тогда дедлайн наступил бы для них обоих. Утренние полчаса на велотренажере, естественно, отменялись. Принять душ он тоже не успевал, поэтому лишь пару раз сбрызнул чуть теплой водой из крана лицо. Помогло не очень. Глаза слипались (сколько он спал – два, три часа?.. чертов боулинг, чертов, мать его, Олег-ага-сергеич), в ушах гудело. Зубы почистил на скорую руку, во рту остался кислый привкус чего-то перебродившего, вполне возможно – вчерашнего пьяного полуночного ужина. Джинсы… куртка… кеды… Ключи – карман… Бумажник – карман… Дверь. Короткий спуск, подъезд, остановка – ждать… Прислонившись затылком к объявлению на столбе (нарезанные для отрыва полоски ласкали шею нежно, как мягкие бумажные пальцы), Артем едва не уснул опять. А когда, встряхнувшись, полез за пазуху, вспомнил, что забыл сигареты дома, в ванной на раковине. «Твою мать», – подумал он. Низкорослая, фигурой подобная губке Бобу из интернет-мемасов старуха в грязно-синем плаще посмотрела на Артема сердито, будто мысли читала. Откуда только берутся такие плащи на любой остановке в любое время суток?.. Носительницы морали, черт бы их подрал, ни свет ни заря караулят, как в деревнях своих попривыкли. Как у них говорят, «с первыми петухами» влечет подобных бабушек на рынки, дачи, огороды. Вон и авоська из кармана торчит. Где уж тебе, кошелка, понять молодого, которому в субботу спозаранку да на постылую работу – ах как влом… Вообще, остановка почти пустовала. Помимо Артема и бабки еще только мальчишка-подросток с рюкзаком за плечами и нитками наушников, концы которых скрывались за ободом вязаной шапочки. Этот на других внимания не обращал в принципе, ушел в себя, в музыку свою. Что он там сейчас слушает? Дай бог «Нирвану», а не очередного бездарного рэпера из подворотни. По дальней полосе проехала малиновая «девятка». За ней полз грузный мусоровоз, мерцая желтыми огнями габариток из-под кузова. Октябрьский утренний морозец начинал проникать под куртку, щекотал за ушами. Солнышко вроде бы и встало, поднялось уже над крышами, а вроде и нет еще, не проснулось будто, потягивалось, оттого и свет блеклый, как через салфетку просеянный, расплескавшийся. По-осеннему свежий воздух пах озоном. И время в нем застыло, залипнув мухой в янтарной с багровыми отблесками капле. Клонило в сон. – А что, мать, не подскажешь, который час? – насилу отлип Артем от столба и обратился к бабке. Та даже головы не повернула. – Але, Хьюстон, прием, у нас проблемы. Как слышно? Я говорю, время сколько, мать? – Часы пропил, что ль? – донеслось в ответ. Но синий плащ ожил, складки зашевелились. «Да в них же, наверное, прошла вся ее жизнь, в этих складках», – ужаснулся про себя Артем. Через секунду перед ним возникла синяя же «Моторола», допотопная дешевка с примитивным чэбэ-монитором – подарок заботливых внуков, не иначе. – Сам глянь, мне очки одевать надо. – Надевать, – автоматически поправил Артем, всматриваясь в миниатюрный экран. – Черт, уже восемь! Мать, а позвонить не дашь?.. – Ишь чего придумал, – старуха проворно сунула руку в карман. – Дай такому, и поминай как звали, знаем! – Ну и ладно, – не стал он спорить. – У пацана спрошу. Слышь, малой. Малой, затычки-то из ушей вынь, к тебе взрослые обращаются! В это время из сизого тумана на перекресток выкатила маршрутка. Обычная серая «Газель» с широкой полосой грязевых брызг над колесами и надписью на клейкой ленте поверх лобового стекла, начинавшейся с TRANS. Название фирмы? «Транзишен», «трансауто» какое-нибудь. Культурно обождав, пока сигнал светофора сменится на зеленый, машина неспешно преодолела метров двадцать темного, сырого дорожного полотна. В тот момент, когда, шурша шинами, маршрутка замерла перед Артемом, в небе раздался слабый, но отчетливо слышный треск – отголоски минувшего ненастья. Он вспомнил, что в пьяном бреду, который едва ли можно сравнить с нормальным здоровым сном, вроде бы слыхал, как гремело. Вроде как даже и вспышки молний отсвечивали на потолке. Но все равно было что-то зловещее в том, как медленно, молчаливо, в сопровождении только этого странного электрического треска «Газель» прекратила движение у самой обочины. В голове почему-то всплыл детский стишок, страшилка про гробик на колесиках, который «едет за тобой, едет за тобой, едет за тобой – приехал!» Номер маршрута Артем не сумел прочесть из-за грязи на лобовом стекле. Какая, впрочем, разница? Отсюда, с окраины, трасса вела прямо в центр, так что мимо офиса не проскочишь. Он шагнул вперед, синий плащ с юнцом тоже подскочили. С картонки на двери кривоватая трафаретная надпись предупреждала: «Аткрывается автоматически». Однако старуха все равно захлопала рукавами плаща о борт в поисках ручки, что-то недовольно бубня себе под нос. Артем легко представил, свидетелем какой сцены станет внутри салона: возмущение, шум, ругань, «у меня проездной, инвалид второй группы, всю войну прошагала». У пацана наушники, ему легче… Артем предпочел бы оградить себя от всего этого, устроившись на одном из двух мест впереди, рядом с водителем. Вот только, посмотрев через заляпанное коричневым, будто дерьмом измазанное, стекло, увидел, что там уже занято. Кто-то сидел, отвернувшись от окна так, что, кроме копны темных спутанных волос, ничего не видно. Чудилось: длинные волосы будто бы слипались с окошком, слово врастая в покрывавшие стекло разводы. «Ладно, хрен с вами, белые люди, – подумал он. – Поеду, как ниггер, с остальными, послушаю с утра концерт по заявкам». Наконец дверь открылась, издав протяжный хлюпающий звук, похожий на тот, который раздается, если во время простуды ненароком втянуть носом воздух вместе с соплями. Толстуха в плаще, громко кряхтя, протиснулась внутрь, за ней шмыгнул школьник. Последним, сплюнув подступившую ко рту желчь на асфальт, проскочил Артем. Дверь закрылась за ним плавно и – слава богу – теперь уже беззвучно, как смыкаются, реагируя на датчики, створки дверей в торговых центрах или отсеки космических кораблей в старом кино. Артем окунулся в тепло. Несмотря на ранний час, салон был прилично набит, а вот кондиционер, похоже, не фурычил. Ну ты же не думал, что все будет лайтово, Темыч? Иногда приходится поднапрячься, ага! Густой, застоявшийся воздух пах потом и еще чем-то омерзительным, кислым, да так сильно, что у Артема на мгновение потемнело перед глазами. Проморгавшись, он окинул сонным взглядом нутро маршрутки в поисках свободных мест. Бабка заняла сиденья впереди, оставив жалкий клочок у окошка, куда еще надо было протиснуться между ее телесами и мужиком, прислонившимся небритой щекой к поручню. Одно из двух мест рядом с дверью занял юный меломан, на оставшееся рухнул Артем. Позади них сидела девица не особо приятной наружности, а дальше, в глубине салона, угадывались хмурые лица еще двух людей. Рассматривать попутчиков не очень-то хотелось, однако факт есть факт – в машине было куда теплей, чем снаружи, и Артем решил, что это пассажиры надышали. – Граждане, одолжите сотовый телефон кто-нибудь, – вспомнил он, когда машина плавно набрала ход. – Мне начальнику позвонить, а то на работу опаздываю, а у нас там сроки поджимают. Ответом ему была тишина, и это уже начинало раздражать. Гробик на колесиках… и то правда, как будто в катафалке едешь, все в трауре. Почему у них в офисе, в их не слишком-то дружном коллективе, поделиться на минутку айфоном не составляет проблемы ни для кого, даже для сраного Олегсергеича, а на улице или в маршрутке попросишь, так таращатся на тебя как будто карманника с поличным поймали? – Ау, люди, не будьте настолько мнительны, – повторил он. – Ну не выпрыгну ж я на ходу с вашей мобилой, родненькие. – Здесь связи нет, – глухо ответил кто-то из сидевших сзади. – Сигнал не ловит. Пробовали уже, и не раз. – Да ладно? С трудом верится, – не оборачиваясь, отмахнулся Артем. – Я бы все-таки попытался. Ребят, ну правда, срочное дело… премиальных лишаюсь, бонусов! Хотите, денег вам дам? Рублей пятьдесят готов выделить. – Зря вы, – хихикнул вдруг небритый. – Что зря, любезный?.. – недобро покосился на субъекта Артем. «Вот уж кому полтинник на опохмел не помешал бы. Надо завязывать с посиделками по пятницам, а то стану таким же». – Зря вы сюда… сели. – Не туда едем, что ли? – взметнулись рукава и полы синего плаща. – Не по Свердловой?.. – Туда, мать, туда, – меньше всего Артем сейчас хотел слушать маразматический бред заслуженной труженицы комсомольских времен. – Здесь, мать, маршрут один. – Маршрут один, – эхом донеслось с водительского сиденья. – Все доедут. Артем глянул на зеркальце заднего вида, которое должно было, как это обычно бывает, висеть впереди, над рулем и панелью приборов. Должно было, но не висело. Там, где он ожидал встретить взглядом глаза водителя, зияла пустота, фоном которой служило мутное лобовое стекло. – Зря, – еще раз крякнул небритый и уронил голову на обтянутую ветхим свитером-водолазкой грудь. «Почему там нет зеркала? Ведь в каждой машине есть. Должно быть, чтобы водитель мог видеть, что творится у него за спиной, в салоне, чем заняты пассажиры, кто еще не передал за проезд… Почему зеркала нет?» Подобно приступу тошноты, накатило беспокойство. А еще неприятный, вызывающий тошноту запах в салоне будто усилился, смешавшись с другим, смутно знакомым, – пахло как от разбитого зарядного устройства, палеными микросхемами несло и сгоревшим монитором. Уж ни эту ли вонь он слышал ночью, когда на улице сверкало и ливень хлестал в окна? – Зря сюда сели. Больше не встанете. – Да как же так? – не унималась старуха. Толстый зад нервно ворочался, складки плаща сердито шуршали по обивке сиденья. – Мне на Свердлова надо, на оптовку… – Спокойно, мать, – твердо сказал Артем, стараясь не думать о зеркальце заднего вида, странном запахе и о том, что «связи здесь нет, сигнал не ловит». – Не слушай придурка. Он же пьяный в задницу, разит за километр. От небритого и правда воняло, перебивая прочие беспокойные запахи, причем не столько алкоголем, сколько… Да, с отвращением осознал Артем, от мужика разило мочой. Это было чересчур мерзко даже для его не шибко брезгливой натуры, но, как ни странно, теперь ему стало легче. Потому что нашлось объяснение если не всему, то многому. Дядька просто упился до чертиков, до абсолютной потери самоконтроля, вот и несет бред про «зря вы сюда сели». А то, что зеркала впереди нет… Да мало ли что бывает! Поломано, треснуло, вот водила и убрал, ага. А связи нет, потому что… Да хрен его знает почему. Нет и все. Черт с ним, с Олегсергеичем, обойдется как-нибудь без доклада давешний именинник. По субботам вообще работать не положено, тем более после бурных праздников с боулингом и коктейлями. В запасе, на худой конец, еще воскресенье, так что главное – добраться до работы, и тогда дедлайн будет бит. «Нам, офисным кабанам, не привыкать». Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, чтобы отрешиться от окружающей обстановки. Старался дышать ртом. Темнота за веками скрывала целый космос, бесконечные манящие дали, по которым Артем скользил, паря в неизвестном направлении через полнившиеся вакуумом пространства. Заказчик хотел оформить главную страницу сайта в виде пачки фотокарточек: высокие гости, новогодний корпоратив, стройка завода. Артем представил на первом фото собственный офис, себя и девчонок из SMM-отдела, а старший менеджер где-то сзади, вылез из кадра. В салоне, кажется, стало еще теплее. Как в террариуме, куда он водил потаращиться на питонов Ирку из бухгалтерии. Их первое и последнее свидание, закончившееся поцелуем в щеку у подъезда. Месяц назад водил, а вчера застал в сортире боулинга с начальством – Олегсергеич и тут его обскакал… От жары у Артема над верхней губой выступил пот. «Не отрубиться бы. Может, окошко открыть? Странно, что никто не додумался, здесь ведь так жарко и воняет. Странно, что все окна закрыты, зеркала нет, связи нет, и сказал Иуда пророку… ЧТО-О?» Он моргнул и дернулся от неожиданности, услышав краем уха фразу, похожую на обрывок проповеди. Повернулся к мальчишке, о существовании которого и думать уже забыл, – голос раздался оттуда, с соседнего кресла. Парень, заметив, что на него обратили внимание, поспешно спрятал выбившийся из-под шапки наушник. Лицо у пацана – Артем только сейчас обратил внимание – было бледное, губы восковые; такие лица он встречал неподалеку от предыдущей работы, где по соседству с офисом – с тем, предыдущим, офисом, мало чем отличавшимся от нынешнего, – адвентисты седьмого дня или какие-то другие религиозные фанатики арендовали помещение для своих сборищ. Господи, малой, да ты сектант, что ли… Вот же утречко выдалось. Гробик на колесах, гробик на колесах, и сказал Иуда Сергеич: «Закройте все окна, ибо связи тут нет, ага». Совсем-совсем никакой связи. Разогнавшаяся было «Газель» притормозила и стала разворачиваться. Вроде бы. Окна изнутри запотели, а снаружи были забрызганы грязью так, что сложно понять, где они едут. Оставалось надеяться, что водитель объявит остановку. – Э, куда? Куда? – подскочил один из тех мужчин, что сидели сзади, плечистый бородатый кавказец в фирменном спортивном костюме. – Все нормально, – безразлично ответил водитель. Артем видел только его широкий, поблескивающий в сумраке салона затылок. – Что нормально? Что нормально?! Куда едем, а?! – Все нормально. Маршрут один. Так короче. – Куда короче? Мне на следующей выходить! – Бородач тупо озирался по сторонам. Лоб у него был чем-то измазан, да и белые полосы на спортивном костюме в нескольких местах тоже перепачканы бурым, похожим на… кровь? На кровь, Темыч, ага. Маршрутка резко остановилась, скрипнув колесами. Синий плащ ахнула, Артема качнуло вперед. У мальчишки, кажется, опять выпал наушник, по крайней мере Артему послышалось «…и возвысил он голос». Девушка сзади возвысила свой, издав жалобный всхлип. Назойливо мельтешащие на границе сознания мысли о зеркале заднего вида, отсутствии связи, закрытых окнах, кровавых пятнах на куртке и штанах кавказца – все это вогнало Артема в панический ступор. Что происходит? Что, мать вашу, тут творится-то? – Выходи, – спокойный, даже чуть насмешливый голос. – Давай выходи. Мы тут насильно почти никого не держим, не так ли? Почти? – Не надо, – услышал вдруг Артем испуганный шепот. Девица сзади смотрела на него широко распахнутыми глазами: белки были розовые от полопавшихся капилляров, а на глубине окруженных тонкой зеленой радужкой зрачков колыхался ужас. – Скажите ему, чтобы он этого не делал. Скажите, пожалуйста, я просто не могу, я не могу еще раз, после Сашки, я не вынесу больше… «Какого черта, – подумал Артем. – Полная машина идиотов. Ну и поездочка». За эту мысль он уцепился, как за нить Ариадны, которой полагалось вывести его обратно, в мир нормальных людей и нормальных маршрутных такси. Не получилось, потому что кавказец уже устремился к дверям. Потому что, не дожидаясь, пока те откроются, бородач с яростью пнул их ногой в длинноносом ботинке. Артем еще успел подумать, до чего банально и отвратительно смотрится эта обувка в сочетании с костюмом от «Найк». Он подумал так и мысленно фыркнул, а потом нога бородача провалилась внутрь двери. Артем почувствовал, как его собственные глаза начинают буквально вылезать из орбит. Школьник справа испуганно взвизгнул и вжался в спинку кресла так резко, что теперь уже оба наушника выпали. Проповедь из плеера заглушил женский вскрик. А еще – истеричное, визгливое хихиканье небритого. – Что за?.. – Человек, который собирался выйти на следующей, посмотрел на торчащее из двери бедро. Обивка стала вдруг жидкой, нога увязла в ней по колено. То, что прежде казалось обычным куском железа, прикрытым для порядка листом тонкой фанеры, теперь вязко шевелилось и подрагивало, как желе. Черное масляное пятно, которое, вопреки законам физики, не стекало вниз, а оставалось перпендикулярно полу. Так было секунду. Потом сжиженная, непонятно из чего состоящая масса резко свернулась, закрутилась воронкой. Хлынула кровь, и бородач пронзительно, по-детски, завизжал. Брызги красного, ошметки кожи и мяса попали на лицо сидящей ближе всех бабки. Та подпрыгнула от испуга, едва ли не выскочив из собственного дурацкого плаща. И, конечно, первое, что сделала бабка сразу после этого, – оттолкнула вопящего от себя (вслед за ногой в кроваво-черное месиво нырнула по самое плечо и рука несчастного). А потом развернулась и заорала: – Шофер, шофер! – Не стоит этого делать, – поддавшись какому-то неясному, но определенно плохому предчувствию, попытался остановить ее Артем, но было уже поздно. Старуха протянула руку к тому, кого звала. Ладонь коснулась обшивки сиденья и… резко отдернулась: двух пальцев как не бывало. Женщина громко охнула и обмякла, закатив глаза. Машина стала набирать ход. – Дядя, что происходит? – Мальчик с наушниками неожиданно оказался совсем рядом, прижался к Артему сбоку, как будто ища защиты. Щеки пацана стали еще белее, голос дрожал. – Да если б я знал! – ответил Артем машинально, не в силах оторвать взгляда от того, что происходило с бородачом и дверью маршрутки. Ничего подобного он не видел ни в жизни, ни даже в роликах на «Ютьюбе», где всякого дерьма хватало. – Никто не знает, – просипел небритый из своего угла. Под ногами у них на грязном, залитом кровью полу корчился и стонал лишившийся двух конечностей кавказец. Умирающий что-то бормотал на родном языке, очень быстрой и невнятной скороговоркой, состоявшей, казалось, из одних согласных звуков. Смуглое прежде лицо превратилось в мокрую красную маску. Затем он вдруг на полуслове смолк. Тело выгнулось в последней уродливой корче, в один миг изо рта вырвался поток темной крови, которая на глазах у всех впиталась в пол «Газели» – все с тем же знакомым омерзительным звуком проскакивающих через носовую пазуху соплей. Мальчишка снова закричал, и Артем не был уверен, что не составил ему дуэт в этот миг. Рывок! Обмякшее, искалеченное тело одновременно потянуло со стороны двери и прижало к полу. Еще рывок. С громким треском спортивную куртку – и то, что было под ней, – разорвало надвое в области живота. Верхнюю половину трупа засосало с чавканьем в двери, а то, что оставалось от нижней части, затянуло в жижу на полу. Артем машинально поджал ноги, чтобы не зацепить кедами скользящую мимо по полу ленту кишок. Еще рывок. Еще. – Все нормально, – деловитый голос с водительского сиденья. – Едем дальше. И они поехали.

– Как он здесь оказался? – спросил Артем минут пятнадцать спустя, когда немного пришел в себя. Потом оглянулся: – И вообще, все вы?.. – Как обычно, – пожал плечами сидящий сзади. Точнее – попытался пожать, но вышло плохо. Присмотревшись – теперь он стал очень внимателен к любым, даже самым мелким деталям окружающей обстановки, – Артем увидел то, чего в сумраке кабины поначалу не замечал. Торс мужчины буквально сливался в единое целое с разбухшим сиденьем маршрутки. Спинка кресла, плавно переходя в состояние липкой мазутоподобной массы, обхватывала его от шеи и ниже, не давая пошевельнуться. Невероятная, не-реальная смирительная рубашка. «В нашем дурдоме, в нашем гробике на колесах всем пациентам могут выдать такие при необходимости», – подумал Артем и с трудом сдержал рвущийся наружу истеричный смешок. Испугался, что вместо смеха из горла у него выскочит мерзкое «ага». – Собрался по делам, в налоговую. Машина моя в ремонте, вот… решил, в кои-то веки, лоховозом воспользоваться, – продолжал «спеленутый». – Дурак. Дома бы лучше сидел… – Всем надо было. Дома сидеть. – Заткнись ты, урод, – показал небритому кулак Артем. – А вы, – вновь обратился к спеленутому, – стало быть, бизнесмен или вроде того? Я и сам в частной фирме работаю. Компьютеры, веб-дизайн… Сегодня в офис намылился сверхурочно. Дедлайн… Меня Артем зовут, кстати. – Николай, – едва заметно, как мог, кивнул мужчина. – Николай Пантелеевич, будем знакомы. – Он даже слегка улыбнулся одними губами: – Извините, руки не подаю… – Господи боже, о чем вы, господи, – запричитала девица тихонько, на одной и той же плаксивой ноте, которую, кажется, взяла аккурат перед смертью бородатого спортсмена. – Мы все умрем, мы все уже считай что мертвы, а вы о чем-то еще говорите, беседуете, Господи… – Не надо всуе, – попросил ее мальчик и осторожно потянул Артема за рукав куртки: – Дядь… – Не сейчас, малой. Видишь, общаюсь. – Господи боже, что вы такое несете, какое общение, господиии… – Это нормально, – успокаивающе сказал ей Николай. – Вы, барышня, находитесь в состоянии аффекта, перемежающемся истерикой. Наш новый знакомый – Артем, да? – не желая уподобляться вам, пытается найти для собственной психики некие точки опоры, чтобы оценить ситуацию и по возможности отыскать из нее выход. Пожелаем ему в этом удачи и мешать не станем. – Дядь, у вас кровь. Артем коснулся щеки… и правда – на пальцах осталось красное. Несколько секунд он разглядывал его. Потом сверху шлепнулась новая капля, и в ладони начала собираться лужица. Они с мальчишкой задрали головы. – Ну да, – хихикнул небритый. – Подтекает… – Боже, абсурд какой-то, такого не бывает… – девушка сзади. – Это мне, наверное, снится, это мне точно снится, такого не бывает, это сон, это просто кошмарный сон, Саша, разбуди меня… – А ты ущипни себя за титьку. Или лучше сунь пальчик в окошко. – Заткнись, – процедил Артем сквозь зубы. – А то я твою башку туда засуну. Небритый подмигнул ему мутным глазом, но замолчал. – Не трогайте его, – попросил Николай. – Это Гарик. Он говорил, что его зовут Гарик. Смешное имя… наверное. Он вообще-то учителем в школе работает. Точнее, работал. Биолог, если не ошибаюсь. Так вот – Гарик не пьян, как вам могло показаться. Он просто дольше всех здесь катается и слегка тронулся умом. Или, вполне возможно, не слегка. Что и не удивительно в такой ситуации. Удивительно другое – то, как долго он сумел продержаться… – Господи, господи, господиии… – А ее как зовут? Слышь, милая, тебя как звать? – Артем осторожно протянул руку через спинку сиденья и потряс плачущую девушку за плечо. Рука у него ощутимо дрожала. – Ан… Анна. – Анна, ты давай… Потише себя веди, договорились? Во всем этом сумасшествии только не хватало самим с катушек слететь, как этот… Гарик. – Да какая разницааа… – заголосила было девчонка опять, но Артем, быстро сжав пальцы в кулак, легонько пробил костяшками ее по плечу. Быть может, даже чуть сильнее, чем следовало бы, но это подействовало: Анна осеклась, и в залитых слезами зеленых глазах появилось что-то осмысленное, чего раньше он там не видел. А еще только сейчас, когда от тычка голову девушки мотнуло в сторону, и темная эмо-челка качнулась вслед, он заметил, что у Анны не хватает волос с одной стороны. Отсутствовало и ухо. Рана сочилась сукровицей и гноем. – Потише, Анна, – повторил Артем, убирая руку. – Поговорим спокойно. – Я… я постараюсь, – кивнула та. Голос все еще дрожал, но истеричная нотка из него исчезла. Надолго ли?.. – Я за билет заплачу! – пришла вдруг в себя бабка. – Я не зайцем, я нормально, по-честному я!!! Полезла в карман кровоточащей рукой и действительно выудила оттуда тощий кошелек. Тот норовил выскользнуть из пальцев, но каким-то образом старуха не только удержала его покалеченной рукой, но и открыла, выудила оттуда мятую сотенную купюру. – Заплачу я, заплачу, – посеревшие губы по-рыбьи хлопали, хватая воздух и разбрызгивая слюну. – И сдачи не на… – НЕ НАААДО! – завизжала Анна. Артем наблюдал за происходящим с отвисшей челюстью. В уме проплыло отстраненное и пафосное, подсмотренное когда-то у кого-то, возможно у Ирки из бухгалтерии, то ли в статусах ВКонтакте, то ли в Твиттере: «Велика же глупость людская…» Должно быть, в юности бабка была чемпионом своей деревни по скаканию на граблях. Когда она полезла со своим кошелем вперед, Артему показалось, что по бритой макушке шофера словно пошла рябь: кожа там влажно колыхнулась, покрывшись жирными складками. Прежде чем кто-нибудь успел помешать, старуха перегнулась через сиденье. Складки на шее и затылке водителя резко раздались в стороны, образовав широкую черную щель. В следующий миг – Артем видел все как в замедленной съемке – эта дыра дернулась навстречу бабке и накрыла ее голову целиком. Потом плащ затрещал, грузный корпус старухи прямо на глазах стал распадаться, разваливаться на неравномерные куски. С чмокающим звуком, от которого у Артема скрутило живот и горло вновь наполнилось желчью, эти куски медленно засасывало в обивку. Спинка сиденья выгнулась дугой, протянулась щупальцами, стараясь захватить порцию побольше. Артем закрыл лицо, чтобы в глаза и рот ничего не попало, но продолжал смотреть поверх рукава, не в силах что-либо поделать. Девушка опять закричала, мальчишку вырвало прямо на пол. Последней в жидкой черноте растворилась кисть руки с тремя еще подрагивающими морщинистыми пальцами. На подушечке большого сбоку выделялась шишковатая, похожая на бородавку мозоль. В наступившей тишине раздалось довольное хихиканье Гарика. – Радуешься, скотина? – Артем сжал кулаки, его всего колотило. – Пообедала. Машинка пообедала. – Ах ты!.. – Спокойнее, юноша. Он ведь прав, – донеслось сзади. – Теперь у Гарика, да и у всех нас есть некоторое время в запасе. Возможно, пара часов, прежде чем тварь проголодается снова. – Как это, дядь? – Мальчик отлип от Артема и, согнувшись у него над коленями, сунул голову в проход между креслами. – Просто. Пока Гарик еще был относительно в своем уме… Он мне объяснил. Видите ли в чем дело… То транспортное средство, что нас везет… Не маршрутка это вовсе. – Не маршрутка? – Так точно, – Николай подмигнул пацану, и Артем оторопело подумал, у одного ли Гарика здесь крыша поехала. – Это нечто… совсем другое. Не машина. Не «Газель». И, как вы понимаете, не водитель там впереди сидит. – Так точно! – донеслось насмешливо с водительского сиденья. – Маршрут один! Артем бросил взгляд вперед: «не-водитель» козырнул ему правой рукой. Вернее, не совсем рукой. Теперь, когда все его чувства обострились до предела, Артем заметил, что у существа за рулем (за рулем ли? Есть ли у этой штуки что-то, что можно действительно назвать «рулем»?) не было ногтей на пальцах. Совсем не было. Просто куски ровной серой плоти, слепленной как будто из пластилина, такой же безволосой, как и макушка водителя. И рядом никого не было, хотя – Артем точно помнил – прежде на переднем сиденье находился кто-то еще. Кто-то с грязными длинными волосами… Иллюзия? Фокусы, ага. – Что ты за тварь? – Скажи ему, Пантелеич, – хохотнуло впереди. – Какое-то животное, – сказал Николай. – Может, не с нашей планеты. Может, не из нашей Вселенной даже. Никогда не был силен в физике или там в астрономии, но в автомобилях вроде бы неплохо разбираюсь, и одно могу сказать точно: это не авто. Тут нет ничего настоящего, если присмотреться!.. Мне кажется, оно состоит из каких-то мелких чешуек или гранул, которые способны произвольно менять собственную структуру, переходить из условно твердого состояния в условно жидкое. Оно передвигается, принимает удобную форму, чтоб заманить добычу. – Рыбы такие есть… – Спасибо, что напомнил, Гарик. Хорошее сравнение. Действительно, у этих рыб имеется специальный ус, на конце которого – светящийся в глубоководной темноте шар. Мелкая рыбешка плывет к шарику, на свет… а оказывается прямо в пасти у монстра, – Николай невесело усмехнулся. – Теперь понятно, ребята? Мы все – рыбешка, попавшаяся такой твари на ужин. – Левиафан… – Голос мальчика стал похож на то, что доносилось у него из плеера. В шепоте мальчишки Артем ощутил благоговейный трепет. – Мы попали в Левиафана! – Так точно, – прокомментировал водитель. – В Левиафана. – И ты знал? – крикнул Артем в глубину салона. – И этот убогий знал? Все вы знали?! Знали – и не предупредили?! – А ты хочешь сдохнуть? – вскинул голову Гарик. На мгновение взгляд бывшего учителя прояснился и стал осмысленным, злым. – Вперед, никто не против! – Спокойнее, юноша… Нам ведь всем сейчас хорошо. Очень хорошо, лучше и не бывает. Сидим вот. Беседуем. Едем. – Едим, – вставил водитель. – Господи-боже-мы-все… – Помолчите, Анна, ей-богу! Только ваших истерик нам не хватает. Видите, Артем, как получается? Каждый новенький на маршруте – шанс для остальных прожить еще час-другой. Присмотрись! Принюхайся! – Глаза Николая блеснули из тени. – Здесь есть куда испражняться. Здесь есть чем питаться. Здесь можно спать. Единственное – когда ты начнешь умирать, оно сожрет тебя. Потому что Тварь любит свежее мясо, а не тухлятину. Здесь есть чем питаться, ага. Артем почувствовал резкий приступ тошноты, кислый комок подкатил к горлу, тело скорчило на секунду в непроизвольной конвульсии. Но он сдержался. Перед глазами померкло, всплыла картинка, фото для сайта… Офис, мерцающий монитор и горячий кофе в пластиковом стакане из «Миллвэй» на столе. Белые жалюзи… Белые-белые! Дедлайн. Тошнота отступила. Придя в себя, Артем по-новому посмотрел на Гарика и Анну, а затем с ужасом перевел взгляд на Николая. Есть чем питаться. Лицо и одежда погибшего кавказца были измазаны кровью. – Ее ухо, – он глазами показал Николаю на девушку. – Это же не маршрутка ее, да?.. Тот вздохнул. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы Артем убедился в своей правоте. Рвотные позывы усилились. Николай объяснил, разговаривая с ним, как с маленьким: – У нашего покойного горского друга был нож. И он готов был резать головы этим ножом. И я, если честно, его не осуждаю. Скорее даже жалею о его бесславной кончине. – Он людей резал, а тебе его жалко?.. – Он тоже человек был. И не из худших. – Артем… – Анна коснулась его щеки. – Вас ведь Артем зовут, я правильно помню?.. Будьте с ним осторожны, с этим мужчиной сзади. – Почему? – Тот парень, который… уже мертв. Я не помню его имени, но этот… Николай. Он его знал. Они вместе были. Друзья или один на другого работал. Они действовали сообща. Николай говорил, кого убивать, а тот убивал. – По щекам Анны катились слезы, но она продолжала тихо и быстро шептать: – Тот, бородатый, он не хотел, но Николай говорил с ним. Говорил и говорил. Убеждал – и убедил. Они убили двоих при мне, а последним был мой парень, Сашка мой, хотя должна была быть я. Они меня выбрали и хотели… Николай сказал бородачу, что тот может сначала меня изнасиловать, а затем… Поэтому Сашка и полез с ними драться. А потом бородатый зарезал его. И после этого… ну, как будто ушел в себя. Впал в беспамятство, крыша поехала. Он словно забыл обо всем, что было… – Да, – подтвердил Николай, внимательно прислушивавшийся к шепоту девушки. – Психическое состояние Назира оставляло желать лучшего и в былые времена. Чрезмерная импульсивность. Того напряжения, которое выпало каждому из нас в этой затянувшейся поездке, его недалекийум в итоге не выдержал. И это приводит нас к тому, что мы имеем сейчас. Понимаешь, Артем?.. – Понимаю, – скривился тот. – Понимаю, что ты тут и есть главная сука. – Так точно! – захихикал водитель, забавляясь. – Все доедем, Пантелеич! – Куда мне до нашего маршрутчика, юноша. Взгляни на меня… Взгляни! Я всего лишь пытаюсь выжить. Просто пытаюсь выжить. Мы все, так или иначе, выживаем, и у каждого свой срок. Лично я уже недели две катаюсь, Гарик и того дольше. Ну и Анечка, надобно заметить, пускай и всего день-другой с нами в одной, так сказать, лодке, водички тем не менее хлебнуть успела. Правда, красавица? – Да пошел ты! Не слушай его, Артем! Не надо, господи… – Левиафан, – поправил ее мальчик. – Большая-большая рыба, как в Писании, да? Мама рассказывала, что он глотал целые семьи, вместе с маленькими детьми, и они какое-то время могли жить у него в животе. Я всегда думал – куда он потом делся и были ли у него свои детки? Шум несуществующего мотора напоминал рокот звериной утробы. Артем боролся с тошнотой, поминутно закрывая глаза и воображая фотокарточки, плавающие среди звезд по Млечному Пути. – Анна… Анна, а ты, скажи, как ты тут оказалась? – Мы с Сашкой ехали в ЗАГС, подавать заявление… Она заскулила, как собака, и это оказалось для него уже чересчур. Хотя здесь, в этом чертовом гробу на колесах, чересчур было все. Артем обхватил голову руками, взъерошил волосы и крепко стиснул зубы, чтобы не завыть на пару с девчонкой. – Безумие, – прошептал он. – Безумие, безумие, безумие… – Согласен, – отвечал ему Николай все тем же менторским тоном. – Тебе, Артем, сейчас, верно, как никогда хотелось бы очутиться на работе, нырнуть с головой в привычный, скучный порядок дня. Как и любому из нас, поверь. Мне нравится твоя стойкость. Назиру ее не хватало, чего уж там. У него был горячий нрав, но это всегда только мешает в жизни. Когда успокоишься, Артем… Ты подумай, на что сам готов пойти, чтобы выжить. Подумай. Время пока еще терпит. Возможно, у нас с тобой все-таки получится найти общий язык. Я же всегда готов ответить на любые твои вопросы – помогу, чем смогу… – Да разве это жизнь? – криво усмехнулся Артем. – Хотя то, чем я жил прежде, тоже трудно жизнью назвать. – Но это была жизнь, друг мой! Жизнь, еще какая! Сейчас мы о ней можем лишь мечтать. И здесь, в этом аду на колесах, здесь тоже жизнь! Мы можем жить здесь, Темыч, сечешь?.. – Ага, – закончил за него Артем. – Ага, – эхом откликнулся водитель. – Все нормально. Можно жить, можно трахаться, можно даже размножаться. Все доедут. Дойную корову просто так не убивают. «Он тупо повторяет чьи-то слова, – понял вдруг Артем. – Чьи-то фразы. Чьи – Николая? Кого-то еще, кто катался прежде?..» – Ты-то кто такой, твою мать?.. Что это за мразь, люди? – Оно не один из нас. Мы не знаем, как устроены мозги твари, но какая-то их часть несомненно изображает из себя этого типа, чтобы контролировать пищу – тех, кто внутри. Или для того, чтобы просто смеяться над нами. Артем посмотрел на девушку. – Анна, а что ты думаешь? – Я? – Та потерла глаза, а потом вдруг растянула тонкие губы в странной детской улыбке. – К моему мнению так редко кто-то прислушивался, разве что Сашка… – Мне важно твое мнение. Знаешь, оно для меня куда важнее, чем все, что изрыгает этот людоед, Николай. Тварь впереди. Скажи, как ты считаешь, она понимает, о чем мы тут говорим? Читает наши мысли? Знает наперед, что мы сделаем? Девушка задумчиво нахмурила брови, отчего на лбу у нее возникла маленькая изогнутая уголком вниз морщина. Такая же глубокомысленная морщинка была у Ирки из бухгалтерии, и это делало ее милой. Анне милой мешала стать кровоточащая дыра на месте левого уха, но сейчас рану снова накрыло челкой. – Мне кажется… – сказала Анна тихо. – Это чудище… Мы для него как домашняя скотина. Мой Сашка любил животных, мы даже хотели котеночка завести, британской породы, такого пухленького… Ты обращал внимание когда-нибудь на то, как люди разговаривают со своими питомцами? Спрашивают их о чем-то и иногда как будто бы понимают, что те им в ответ фыркают или мяукают. На самом деле это не так, никто язык зверей не знает, просто о чем-то можно догадаться по поведению, по повадкам… а что-то люди просто воображают. Думаю, эта тварь… Это существо может догадываться, о чем мы говорим, ведь оно наблюдает за нами уже давно. Но только догадываться, понимать нас или читать мысли – вряд ли. Оно… слишком иное. Слишком чуждое нам, людям. Сложно вообще представить нечто подобное, но еще сложнее вообразить, что оно в чем-то сродни человеку. – В этом есть смысл. Анна… – Артем замолчал, собираясь с мыслями. – Скажи, а вот ты – ты хочешь жить? Вот так, как предлагает Николай этот? На чужой крови жить, как он, – хочешь? – Не знаю… Такие, как Николай, они, мне кажется, всегда так и живут… В любую эпоху, в любом уголке планеты. Так всегда было. Их богатство – на чужом горе. Они звери по своей натуре, как чудовище это… Левиафан. Им так легче, наверное. – А тебе? – А мне тяжело, – Анна показала ему свои руки, развернув запястья внутренней стороной наверх. Так, что Артем смог увидеть пересекающие их в нескольких местах светлые полоски застарелых шрамов. – Когда я была маленькой и глупой, как этот мальчик, который с тобой… Я пыталась покончить с жизнью. Чтобы не стать… Ну, как остальные, как все вокруг. Как Николай или тот, второй. Но не смогла, – она печально улыбнулась и убрала руки. – Потому что я трусиха. Мне было страшно, и поэтому в самый последний момент я всегда отступала. Я боялась всего и всех. Пока не встретила своего Сашку. Его я не боялась… Рядом с ним я никого и ничего не боялась! Он был такой сильный, мой Сашка… Но теперь его нет. И страх вернулся. Мне сейчас опять страшно, Артем. Очень-очень. Жить так, жить без Сашки – не хочу! Но и не жить – не могу, не получается… – Вот видите, юноша, – вкрадчиво сказал Николай. – Барышня и сама не против. Ей просто надо чуточку помочь. И это ваша обязанность. Выбор за тобой, Темыч. Решай, время есть. Но когда решишь – действуй, не откладывая. Ты говорил, работаешь сверхурочно, дедлайн?.. Здесь дедлайн наступает каждые два-три часа, дружок. И имей в виду: на тебе свет клином не сошелся. На худой конец мы всегда можем поговорить с Гариком. Или кто-то из новеньких пассажиров нагрянет. Нет, я бы и сам все сделал, но у меня, увы, руки связаны… – Знаешь, урод, – зыркнул Артем исподлобья. – Меня на твой счет интересует только одно: как ты, собственно, оказался в этом своем… – Он запнулся, подбирая слово: —…Коконе? Почему он еще жив, Анна? – Не знаю… – Гарик, ты как, с нами? Поможешь отгадать эту загадку? – Машинка начала его кушать, – очнулся и одарил их счастливой улыбкой клинического идиота небритый. – Но не доела. Сытая была. А еще он так забавно голосил… Умолял. Обещал вместо себя десяток привести. – Да, я пытался договориться! Но, думаю, дело не в этом. Думаю, наша готичная подружка права насчет природы этого… Левиафана. Скажем так, наш водитель недоговороспособен. Вы, конечно, можете учинить надо мной расправу, юноша, но я не думаю, что вам захочется меня убивать. И не уверен, что Левиафан позволит вам это сделать, даже если захотите. Мое печальное состояние служит мне защитой и дарит надежду. Я ведь живое назидание для всех вас, чтобы не дергались. – Мужчина усмехнулся. Лицо у него было такое бледное, что почти светилось в сумраке салона. – А еще… оно меня потихоньку сосет, кажется. Черная масса, покрывающая тело Николая, словно в подтверждение сказанному, влажно чмокнула, перекатившись мелкой рябью. Подобно тому, как время от времени рябила кожа на голове водителя. – Сука им запивает, – хихикнул Гарик. – Запивает-запивает, – в тон ему засмеялся безликий водитель. – Все нормально, мы можем питаться. Артем, охнув, поспешил зажать рот ладонью. – Думаю… Ну, пока я еще могу думать, – хмыкнул Николай. – Так вот, думаю, если оно кого-то берет, даже совсем чуть-чуть, как меня, то оно либо жрет, либо пьет. – Господи… – Левиафан, – поправил водитель.

Не забудь сдать проект, Темыч, ага? Ну ты же можешь… Можешь-можешь, дружище, я в тебя верю! «Газель» ехала в неизвестность. В дедлайн. В тишине. Артем не знал, как долго длится эта поездка, но чувствовал, что силы его на исходе, и подозревал, что стойкости в нем гораздо меньше, чем думал или в чем пытался убедить его и себя Николай. Голова раскалывалась, а к тошноте, на которую он уже перестал обращать внимание, добавились изжога и горечь в гортани. «Время капает», – думал он, провожая взглядом темные капли, падающие с потолка на пол маршрутки. Но он не смирился, в отличие от других. В отличие от, кажется, дремавшего, прислонившись к поручню, дебила Гарика. В отличие от Анны, тихо хныкавшей на своем месте. Он ничего не ждал, как ждал в своем коконе Николай, и не ушел в астрал через наушники, как мальчишка, чьим именем в машине так никто и не поинтересовался. – Время не капает, – додумал Артем вслух. Анна встрепенулась, Николай с любопытством повернул голову ухом в их сторону. – В режиме дедлайна время течет, льется рекой, быстрым потоком, – стал рассуждать Артем. – Там, где работы, кажется, на час, дело может тянуться сутки. А когда у тебя в запасе считаные часы – дедлайн – мозг начинает использовать скрытые резервы. И тогда ты находишь выход из любой, даже из совершенно безвыходной ситуации. – Что это значит? – спросила девушка. – Видимо, наш новый приятель решил устроить мозговой штурм, – ответил Николай. – Очень надеюсь, что в итоге Артем примет единственно верное решение. Хотя тебе, конечно, лучше надеяться на другое. – Он прав, – подтвердил Артем, чувствуя странный прилив энергии. Ему хотелось вскочить и начать ходить по салону из стороны в сторону, как это с ним бывало в офисе перед сдачей какого-нибудь особо важного проекта. – Только это не штурм, а лобовая атака. Тот момент, когда нужно включать ум на все сто процентов, когда нужно ловить волну. Пора нестандартных подходов. – Надеюсь, твои мозги это выдержат, дружок. – Мы можем тебе чем-нибудь помочь? – Анна засуетилась, в ее тонком голосе появилась робкая надежда, в которую, как показалось Артему, она сама боялась поверить. – Что тебе нужно для твоего вдохновения? Музыка? Сашка любил музыку… Мальчик, что играет в твоем плеере? А ведь действительно! На исходе любого дедлайна он всегда врубал на офисном компьютере музыку, да погромче. Артем выдернул у мальчишки наушник. – Герой, найдется в плей-листе что-нибудь пожестче? Помощнее церковных хоралов? Пацан хлопал ресницами: – Раммштайн, «Аллилуйя»… – Отличный выбор, малой. – Все нормально, – донеслось с водительского сиденья. – Все доедем! Здесь можно трахаться, можно размножаться. Не так ли, Пантелеич? – Я тебя сам сейчас трахну, – лихорадочно прошептал Артем, вставляя провода от плеера в уши. С первыми тяжелыми рифами гитарного хора он что есть мочи зажмурил глаза. Голова будто взорвалась изнутри. Его в очередной раз чуть не вырвало. И одновременно осенило. Это было как бывало в работе, когда бьешься меж двух альтернативных вариантов дизайнерского решения, каждый из которых кажется в чем-то хорош, но ни один на самом деле не устраивает. Выбираешь, сравниваешь, рихтуешь мелочи, считаешь миллиметры отступов, тестируешь различные цветовые гаммы, но понять, что лучше, остановиться на чем-то одном – не можешь. А потом, едва ли не в последний момент – аллилуйя, бог дедлайна! – обнаруживаешь третье, простое и потому идеальное решение. Видишь ту единственную опцию, которая в итоге сметает все прочие подходы за ненадобностью. Подобно чуду. Подобно озарению свыше. «Это ужасно, – подумал Артем с благоговейным восхищением, когда музыка в наушниках стала затихать. – Это настолько чудовищно, что никто и никогда не сможет такого сделать. Ни я, ни Николай – никому такое не по силам». Но, черт подери, это так креативно! Его ум обострился до невероятного и, как мощный процессор, в долю секунды обсчитывал сотни и тысячи операций, высчитывая десятки возможных раскладов, к которым могло или не могло привести найденное решение. «Я не смогу это сделать. Не смогу переступить через себя». Можешь-можешь. Я в тебя верю! Ага. – Артем, осторожно! – Крик Анны вырвал его из подобного трансу состояния. Ее рука потянула на себя провод наушников, а другая схватила Артема за плечо. – Николай! Он уговорил Гарика! Артем распахнул глаза – и получил кулаком в лицо. В нос ударило запахом мочи и экскрементов, а потом, по касательной, мозолистыми набитыми костяшками. Что-то хрустнуло и начало быстро набухать внутри, в рот сверху хлынуло теплое и соленое, все запахи разом пропали. Небритый навалился на Артема сверху, сосредоточенно работая руками, как поршнями. Град ударов пришелся на голову, плечи и грудь. Краем уха, где-то на периферии, он слышал женские крики и плач. Напряженный мужской голос сзади – Николая Пантелеича?.. – выкрикивающий какие-то гортанные команды. И довольный попугайский хохот водителя. Артем вытянул перед собой руки, уберегая лицо от новых ударов. «Как, должно быть, нелепо я выгляжу со стороны, – пронеслось в гудящем на все лады колоколе, чьей-то злой прихотью помещенном внутрь его черепной коробки. – Мы как два боксера, один из которых вышел на ринг в инвалидной коляске». Он закатил глаза в своей сидячей «стойке» – багровое от напряжения, потное лицо Гарика показалось в щели меж двух стиснутых ладоней. Артем поразился странному выражению этого лица. Взгляд у небритого был ясный и четкий, но в нем не было ни капли ярости – только отчаяние и жестокая, холодная решимость. Сжатые в узкую полоску губы, ходящая, как на шарнирах, нижняя челюсть, вздувшиеся на тощей шее фиолетовые жилы – все это походило на маску, наброшенную поверх совершенно спокойных, немигающих глаз с расширенными серыми зрачками. Человек убивал его не из ненависти, а просто потому, что считал это необходимым. А потом Артем увидел выпирающий под небритым подбородком кадык. Он ударил – и противник отшатнулся, захрипел. Артем кинулся на него всем телом – и тот под его напором отлетел назад. Спиною Гарик впечатался в передние кресла, голова по инерции запрокинулась так, что затылок едва не столкнулся с голым затылком водителя. Навстречу учителю распахнулась черная щель. Он в одночасье лишился скальпа вместе с глазами и верхней частью черепа и закричал. Николай закричал, все закричали. Фонтанчики крови выплеснулись наверх и оросили грудь и лицо Артема. Не переставая извергать из распахнутого рта истошный, захлебывающийся визг, Гарик стал вслепую молотить руками и ногами по воздуху, абсолютно беспорядочно, как в приступе эпилепсии… либо в агонии. Артему было не до рассуждений о терминах – он прыгнул вперед и ударил Гарика в грудь ногой, вбивая его в кресло. Во время драки он позабыл, что «Газель» продолжает движение и, потеряв равновесие, едва не упал сам, но, изловчившись, сумел оттолкнуться от пола ногой, левой рукой схватился за теплый, скользкий и неожиданно упругий, как будто живой, поручень. Используя его для опоры, еще несколько раз подряд лягнул Гарика. С каждым ударом тот кричал все громче и влипал в черную жижу все глубже, щедро орошая все вокруг кровью из разорванных вен и артерий. Маршрутка превращала человека в фарш, пока Артем заталкивал в нее мясо. Убедившись, что с Гариком покончено, он развернулся к остальным: – Дедлайн, ребята. Дед-лайн. Анна сидела, приоткрыв рот, челка опять съехала набок, обнажив изуродованное ухо: – Господиии… – Да заткнись ты, дура. Нет, она все-таки совсем не была похожа на Ирку. Поэтому ему пришлось выхватить из памяти образ последней, поместить его в воображаемую рамку для фото, как на главной странице заказанного сайта. Ширина, высота, масштаб настроим – теперь он чувствовал себя почти всесильным, теперь он был способен на все, с этой фотографией перед глазами. Похоже, Николай со своего места сумел заметить что-то в его глазах, в повадках. Что ж, иначе бы он и не прожил так долго, если бы не научился подмечать такого рода детали. Иначе бы он не сумел занять чужое место. – Артем, будь экономен! Машина сыта, дружок, так что побереги наш ресурс… Ты молодец, не зря я в тебя верил, Темыч. – Помолчи уж, Олег Пантелеич, – Артем моргнул, и лицо мужчины в глубине салона уже само по себе, без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, обернулось слегка мятой по краям фотографией старшего менеджера. – Помолчи, Николай Сергеич, все равно ты ее уже оприходовал. Анна звала своего Сашку. Ах, значит, у Ирки, грязной шлюхи, еще и Сашка какой-то был. Артем схватил ее тонкую руку, рванул сначала на себя, а потом резко вперед. Кто-то крикнул там, в офисе, но писклявый голосок был слаб и доносился из самой глубины. Из-за двери в углу, наверное той, что рядом со шкафом. В шкафу на полочках папки с договорами, формами, образцами… Потоки красного пролились из-под рамы, хлюпанье и хруст, женский вскрик, какое-то копошение… Недосуг сейчас. Всего лишь шум из-за двери. Офис. Дедлайн. В офисе не обращают внимания на шум из коридора. «Надо действовать быстро». Пол под ногами дрожал, в ушах стоял электрический треск… – ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ, ЩЕНОК?! Дикий нечеловеческий вопль на два голоса. Безухая девица упала, поползла к Артему – тяжело идти, когда тебе оторвало ноги. Позади нее поднялось, выросло нечто, ранее казавшееся человеком, а теперь на глазах обрастающее иглами и щупальцами. В голове у Артема пронеслось: «Так ты такой же, как и тот, что впереди? Так ты тоже часть всего это дерьма – попросту развлекаешься и следишь за мясом? Или ты стал таким после того, как Оно тебя коснулось?!. Так, значит, ты НЕ МОЖЕШЬ просто так меня схватить». – Жри, падаль. Давись. Артем подхватил девушку с фотографией в рамке вместо лица под руки и швырнул в объятия ощетинившегося щупальцами Николая-Олега-Пантелеича-Сергеича-Какая-Разница-Кого. Два изуродованных тела столкнулись, слились воедино и взорвались. Наверное, так же выглядит смерть старой и рождение новой звезды в космосе, пришло ему в голову. «Рождение новой звезды в офисе», – подумал Артем. Или сказал вслух, он не был уверен в том, что до конца отдает себе отчет в своих мыслях и действиях. Но при этом внутренне ощущал невероятную легкость – такую, что стало уже все равно, каков будет итог. Его жилы полнились мегатоннами живой, кипучей творческой энергии. Он был почти в экстазе. Он желал творить. – Дядя?.. Мальчик ждал, стоя в чужой крови по щиколотку. Комкал в ладошке свою шапочку. Оказывается, он был кудрявым блондином. Крайне сложно представить себе вместо этого бледного детского лица фото кого-либо из офиса. Впрочем, в такой подмене уже и не было никакой надобности. – Молись, сынок. Артем встал перед ним на колени. Так в поле зрения попадал и водитель, который уже потерял какое-либо сходство с человеком: в головной части «Газели» клубилось спиралями многочисленных щупалец, извергало в стороны вулканы сверлоподобных игл нечто даже не черного, а того неопределенного цвета, какой обретается во мраке за прикрытыми веками. В этой тьме сверкали электрические разряды, с треском вырывались фонтаны белых искр, надувались и лопались с громким хлюпаньем пузыри плазмы. В общем, там для Артема не происходило уже ничего интересного. – Видишь в чем дело, пацан, – он наклонился и обнял мальчика за плечи, – они все ошибались. Анна и остальные. Они считали, что у Твари нет ничего общего с людьми, но это неправда. Так что молись. – Отче наш… – А правда, сынок, в том, что даже такие удивительные создания подчиняются законам природы. Ну или Божьим законам, если хочешь. – Иже еси на небесех, – шептал мальчик. – Энергия не исчезает в никуда. Оно ест, и значит – оно существует. Оно жрет, и значит – оно рано или поздно наедается. – Я к маме хочу… Я ее понимаю… – Ты еще слишком молод для этого. И слишком религиозен, но… – Артем оглянулся по сторонам. Стены и потолок маршрутки перестали притворяться стенами и потолком. Теперь все вокруг ощетинилось, почернело, перекатывалось волнами, присмотревшись к которым, можно было различить мелкие, острые трущиеся друг об друга чешуйки. Трение вызывало электрический треск, Тварь сбросила наряд, однако не атаковала. И это давало надежду. – Но если я прав, – продолжил он фразу, – то, обожравшись, оно отравится и проблюется. Крепко сжав ребенка в объятиях, Артем оттолкнулся от ставшего мягким «пола» и прыгнул прямо в колышущуюся перед ними маслянистую бездну. В последний миг чернота вывернулась наружу.

Его протащило по твердому и мокрому, ломая, царапая, душа со всех сторон. Артем разжал руки, отпустил мальчишку во тьму и скорее почувствовал, чем увидел, как тот отлетает от него, словно оттолкнувшись в невесомости. Хотелось вдохнуть, но дышать оказалось нечем, потому что легкие от ударов и тряски онемели, и порванные в клочья об мостовую губы не желали слушаться. Мостовая. Гул в голове. Глухой шум. Голоса чьи-то, крики. Мокро. Артем открыл глаза и увидел прямо перед собой камень и грязную лужу бурого цвета. Он лежал в ней и смотрел в нее. Отражения не было, поверхность дрожала, капал мелкий дождик и еще кровь и слизь, его кровь и не его слизь, черная с бурым. Постепенно он снова обрел возможность дышать и втянул в себя стылый воздух вместе с влагой из лужи, в которую уткнулся разбитым лицом. С трудом повернулся с живота на бок; от усилия перед глазами сначала все потемнело, а затем кисть (правая, левая – он не сообразил) подвернулась, и его накрыло яркой сияющей вспышкой боли. Похоже на перелом. Когда сияние отступило, Артем увидел омытый ливнем асфальт и плитку тротуара. Там, очень далеко и одновременно так близко к нему, в каких-то ста метрах стояли люди. Их было много, кто-то помогал подняться мальчишке, другой заботливо держал над ним раскрытый зонт. Какой идиотский узор… «Я жив?.. Я жив. Я ЖИВ!» «Аллилуйя», – хотел проорать Артем, но изо рта вырвался только сдавленный хрип, а заодно выпал окровавленный осколок зуба. «Плевать», – подумал он и выплюнул еще несколько обломков. – Я жив, – Артем медленно встал на четвереньки. – Мы шмогли. Шлышишь, пашан, мы шделали это, – его голосу все еще не хватало мощи, слишком много сил уходило на то, чтобы выпрямить сначала одну ногу и опереться на нее, затем вторую. Слишком громким был шум в голове, и, по мере того как Артем поднимался над мостовой, этот шум нарастал, становясь все громче. – Я жив, – он слабо махнул рукой людям на тротуаре и мальчику, который вдруг стал для него таким родным и близким, какими никогда не были ни родители, ни старшая сестра, ни, тем более, коллеги по работе. Те, на тротуаре, заметили его, начали тыкать пальцами. – Я жив, – сообщил Артем им благую весть. Ему хотелось хохотать, только липкие ошметки губ мешали это сделать. – Тварь шлишком много шожрала жа раж. И я жив! Те, на тротуаре, не торопились ему помогать. Вместо этого они что-то кричали, и кто-то, бросив зонт, даже побежал прочь. Плевать, плевать на них, плевать на этот звериный рев в ушах. У него он сам, у него есть мальчик, а у мальчика есть телефон. – Эй, пашан! – Наконец, ему хватило сил, чтобы крикнуть достаточно громко, хотя нарастающий шум уже заглушил даже его собственный вновь обретенный голос. Плевать и на это: ОН ЖИВ. Артем впервые чувствовал себя настолько живым. – Дай пожвонить, шынок. Люди на тротуаре перед ним в ужасе разбегались кто куда. – У меня же работа, – старался объяснить этим глупцам Артем. – Дедлайн… Позади него из-за стены дождя выскочила на полной скорости перепачканная грязью «Газель» с буквами «TRANS» над лобовым стеклом. Невидимый глазу мотор ревел, подобно трубному реву первобытного мамонта, над крышей сверкали молнии, и за рулем клубилось щупальцами Горгоны черное Нечто. Гробик на колесах едет, гробик на колесах едет… Приехал.
Снежки
Из бабушкиной спальни доносится хриплый бубнеж старого радиоприемника – будто кто-то говорит через прижатую ко рту варежку. В квартире холодно: света нет, газа нет, ничего нет. Алеша в это время на кухне – в шерстяных носках, спортивках поверх рейтуз, толстом свитере, с обмотанным вокруг шеи шарфом – стоит на шатком табурете, прижавшись носом к заледенелому, расписанному морозом стеклу. Смотрит на улицу. За окном, тремя этажами ниже, на заснеженной площадке играют дети. У него мерзнут пальцы, воздух вырывается изо рта облачками пара. Алеша хочет найти свои варежки, сунуть ноги в меховые сапожки и выскочить из дому во двор, чтобы бесконечно долго, до одури играть в догонялы, кататься с горки, лепить снеговиков. Но ему нельзя, бабушка не разрешает. Вот уже неделю твердит, что там, снаружи, все заболели, что надо подождать, пока приедут врачи и военные и всех вылечат. А сама то и дело кашляет и схаркивает потом в грязный платок красное. Все его друзья-приятели – во дворе. Вадик, Костя, Антоха, Эдик толстый. А еще там Наташа из соседнего подъезда и Катька с пятого этажа. Прошлым летом Алеша все время гонялся за Катькой, плевал ей на сандалии, пока однажды ее подруга не бросила в него камень, разбив лоб до крови. Он тогда не разревелся только потому, что Наташка ему нравилась еще больше, чем Катька, и было бы ужасно стыдно распустить сопли у них на виду. Толстому, который сейчас стал совсем не толстый, Наташа тоже нравилась. Эдик сказал об этом Алеше еще месяц назад, по секрету. И вот эти двое: Наташка и толстый-нетолстый – они там, во дворе, вместе с другими, а ему, Алеше, приходится сидеть дома и тосковать у окна.
Он смотрит на Наташу. Девочка стоит по колено в снегу на дальнем краю площадки, в розовой курточке. На плечах у нее иней. Раньше у Наташки были красивые вьющиеся волосы, а теперь торчат из-под шапки, как солома, и тоже покрыты инеем. Она медленно нагибается, вытягивает руку и набирает в пригоршню коричневатый снег. Снег теперь весь такой – с коричневым оттенком, иногда со следами чего-то алого. И люди тоже такие – покрытые инеем, грязные, с темными лицами. Их рты измазаны красным, как будто они ели клубничное варенье и забыли умыться после этого. Алеша сам уже неделю как не моется – нечем. Ту воду, которую бабушка набрала в кастрюли и ванну, ему разрешено только пить. Еще можно раз в сутки сливать воду из специального ведерка в унитаз, чтобы убрать нечистоты. Мыться нельзя – экономия. Поэтому у него что-нибудь где-нибудь на теле постоянно зудит. А вот редкие прохожие, как и Наташка, как и другие дети, совсем не чешутся. Они вообще делают все спокойно, двигаются медленно и плавно, будто во сне. Вот так же плавно, неторопливо Наташа выпрямляет спину, отводит назад кулачок с коричневым, точно из шоколада слепленным, снежком. Затем резко, как будто где-то внутри нее разжалась невидимая пружина, выпрямляет руку, и снаряд летит по короткой дуге совсем недалеко, шлепается в сугроб на границе площадки, в стороне от других детей. – Не туда, – шепчет Алеша дрожащими губами, обращаясь через стекло к Наташе и остальным. – Кидать надо друг в друга, а не куда попало. Эх, он бы вышел, он бы показал, как надо. Если бы не бабушка. Ну почему она не пускает его, почему? Ведь он же ребенок, ему нужно гулять! И он – здоровый. Это они там, на улице, больные, это им нельзя играть, а если уж им можно, то ему тогда тем более. И эти врачи, военные, о которых говорила ба, где они все? Где мама, папа? Бросили, оставили его у вредной старой бабушки. Нечестно! Алеша готов расплакаться от досады. В голове у него все время крутится стишок, который они заучивали в прошлом году в школе: «Сижу за решеткой, в темнице сырой…» Он представляет себя героем этого стихотворения, узником в студеной камере, который завистливо глядит на своих друзей в узкие бойницы каземата и пытается поймать лучики безнадежно далекого, тусклого солнца. Скрипят половицы. Бабушка тяжелой походкой шуршит на кухню. Радио продолжает бубнеть, Алеша не вслушивается, о чем, ему неинтересно. Там, на единственной станции, которую ловит никогда не выключающийся бабушкин приемник, круглые сутки повторяют одно и то же. Говорят непонятные слова: про эпидемию, вирусы, про какие-то куда-то выпадающие остатки, зоновый слой, дыры, про чрезвычайные меры. И еще там все время звучит то так, то эдак, слово «ОПАСНОСТЬ». Опасайтесь. Опасно. Следует опасаться. Потенциально опасные контакты. Опасность заражения. Опасно, опасно, опасно… Все эти скучные, мрачные мужские голоса, голоса через варежку, они хотят напугать Алешу. Как уже давно до смерти перепугали ба. Это, послушав их, она запретила ему выходить во двор. Подчиняясь их командам, внимая предупреждениям («опасно-опасно-опасно-опасно»), на два замка заперла входную дверь и спрятала ключи у себя в спальне. Алеша устал слушать эти голоса. Алеша ненавидит невидимых врунов, прикрывающих рты толстыми варежками. Бабушка громко, с хрипом кашляет. Алеша не обращает внимания, продолжая следить за вялыми играми своих приятелей через покрытое изморозью стекло. Бабушка ему надоела не меньше, чем ее радио. Она тоже постоянно говорит одни и те же слова, рассказывает одни и те же истории. Про то, как ей было тяжело, когда она была маленькой, во время войны. Про то, каким хорошим был дедушка, которого Алеша совсем не помнит. Про то, до чего он, Алеша, похож на своего папу, бабушкиного сына. Он знал наперед, мог угадать, о чем она будет говорить и что будет делать. Это было совсем несложно. Не сложнее, чем догадаться, куда она спрятала ключи от входной двери. Вот сейчас ба кашляет и охает, наверняка хватаясь при этом рукой за грудь. Значит, у нее снова колет сердце. Значит, сейчас бабушка снова будет искать таблетки и капли в аптечке рядом с хлебницей, снова будет жаловаться на холод. Но сначала отругает Алешу за то, что тот вскарабкался с ногами на табурет. Пускай ругается, ему все равно. – Кха-кха! Исусехристе, шо ж так холодно-то, прям до косточек пробирает… Ну, архаровец, куды залез-та? Слазий, слазий давай, а то ишо, не ровен час, выпадешь с окошка! На улице толстый Эдик – толстый-нетолстый Эдик – кидает снежок в сторону бездвижно, как столб, застывшего Вадима. Недолет, хотя Вадик буквально в двух шагах от него. Еще совсем недавно, этой осенью, они втроем бегали на пруд позади школы, совали в мутную, покрытую ряской воду руки, ловили пиявок, а потом отрывали их от своей кожи и били об камни, с восторгом и отвращением любуясь на остающиеся от гадин брызги крови. Одну, особенно упитанную, раздувшуюся пиявку Вадик придумал сунуть Катьке за шиворот, но Алеша и толстый отговорили его от этой идеи. Лучше найти дохлую крысу или кошку и запихнуть в портфель, решили они тогда. А потом пришел Костик, притащил из дома футбольный мяч, и всем стало вообще не до девчонок. – Ну чаво прилип-то, Лешк? – Мозолистая бабушкина ладонь ложится ему на плечо, тяжелая, с дряблой кожей, с пупырышками бледно-синих вен. От ба неприятно пахнет грязью, потом и какашками. Как и Алеша, она тоже давно не мылась. У нее слабый, усталый голос, глухой и хриплый, как из радио. – Шо там тебе, медом намазано, шо ли? – Почему им можно гулять, а мне нет? – спрашивает Алеша, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать, так сильно ему хочется выбежать на свежий воздух, к друзьям, во двор. – Почему им теперь можно гулять всегда, по ночам гулять можно, а мне и днем даже нельзя выйти, ба! Почему?! – Он все-таки срывается на визг. Злой на себя и бабушку из-за всей этой несправедливости, сбрасывает ее руку с плеча, прыгает с табурета сам и, утирая горячие слезы, бежит из кухни к дверям. Но замирает у порога, вспомнив, что ключи остались у ба в комнате. Очередной врун монотонно жует сквозь варежку: «…кризис-носит-глобальный-характер… внеочередная-ассамблея-оон-вынесла… еще-раз-предостерегаем… соблюдайте… будьте… опасно». А в голове у Алеши звучит совсем другой, тоненький девчачий, голосок. Это Наташка, зовет его. Он не знает как, но ей удается, оставаясь на улице, шептать ему на ухо: «Дуй к нам, Алешка! Беги к ней в спальню, вытащи ключи, быстро, быстро, она старая, она не успеет! Забирай скорей ключи и беги сюда!» Алеша стоит на месте, словно окаменев, а в мыслях мечется, не зная, кого слушать, что делать. То ли назад, на кухню к бабушке возвращаться, то ли правда в комнату рвануть. Наташка зовет, а радио бубнит свое про опасность, про то, что ни в коем случае нельзя покидать дома и квартиры, что помощь скоро прибудет. По радио крутят эти враки всю неделю, только старая глупая ба еще верит им. Но, с другой стороны… «Выходи, Алешка! Будем играть в снежки, построим большую снежную крепость. Вадик, Антоха и Катька станут ее осаждать, а мы вместе с Эдиком – держать оборону». …Но Алеша помнит, что видел раньше в окно. Не хочет, но помнит страшные крики, доносившиеся из-за стенки и с улицы в те, первые, дни. И у него до сих пор перед глазами, что Вадим, Антоха, Наташка и Катя, и толстый, тогда еще толстый-толстый, Эдик сделали с Костей. Почему Костик теперь не может ходить, а просто сидит на горке. «Опасность», – сипит радио. Это единственное слово, раздающееся оттуда, которому Алеша готов верить. Пока еще помнит, из-за чего светлая куртка Наташки порозовела. «Зато Костик здесь, с нами, играет, – шепчет девочка у него в голове. – И ты тоже мог бы с нами играть. С утра до вечера и даже дольше веселиться тут, а не торчать дома со своей вонючей старухой». «Давай к нам, Лешик!» – зовут Вадик и Катя. «Айда гулять, Леха!» – вторят Эдик с Антоном. «Не боись, амиго, – а это уже сам Костя. Ухмыляется, по-царски восседая на вершине горки, весело болтыхая в воздухе тем немногим, что осталось от его ног. – Помнишь тех жирных пиявок, амиго? Тоже казалось страшно, противно! А крови-то сколько было – помнишь?.. А ведь ни чуточки не больно оказалось, правда ведь? Так, слегка пощипало кожу, да и все. И тут точно так же, точно так же, амиго! Я ж тогда для виду больше орал, когда они меня грызли, Наташка и остальные. Как в тот раз, когда мы девчонок пугали, изображая привидений. Компренде, амиго?.. Выходи! Сыграем с тобой в царя горы. Выходи – и займи мое место». И Алеша готов их послушать. Они же его друзья! Его ведь и самого тянет туда, к ним, наружу. Тянет со страшной силой. Он еще никогда так долго не пропадал дома. Тем более, что сейчас, без света, без телевизора, без мамы и папы, с одной только ба ужасно скучно… Бабушка. – Лешенька, – это ее слабый, жалобный голос с кухни. – Лешенька, внучек, ты хде? Одна часть Алеши советует ему не обращать на нее внимания, а торопиться во двор, чтобы лепить снеговиков вместе с Наташкой и прочими. Другая же его часть говорит, что бабушке плохо. Алеша заглядывает в дверной проем, ведущий обратно, на кухню. Она сидит там, на табурете, привалившись спиной к подоконнику. Большая, как бегемот. Три года назад, когда Алеша был еще совсем маленький и не ходил в школу, родители отвели его в зоопарк, чтобы показать зверят. Там была эта огромная, вся какая-то круглая, похожая на большой воздушный шар бегемотиха. Стояла одна-одинешенька в маленькой, тесной для нее клетке, опираясь на короткие толстые ножки, и дышала так тяжело, как будто вслух сокрушалась о своей нелегкой бегемотской доле. Алеше было противно на нее смотреть. И жалко. Точно так же ему жалко и противно смотреть на бабушку. Он никогда ее не любил так сильно, как маму или папу. Она ему никогда даже не нравилась хотя бы так, как Катька или Наташка. На самом деле – и это Алеша сейчас особенно ясно чувствует и понимает – ему всегда было ее просто жаль. И только поэтому он терпел ее слюнявые поцелуи, после которых приходилось оттирать щеки, ее потные объятия, в которых чувствовал себя так, как будто его душили подушками сразу со всех сторон. Мама с папой часто отправляли Алешу на каникулы к ба, но сами у нее гостили редко… Он, ее внук, был всем, что оставалось у бабушки. А у него теперь нет никого, кроме ба. Внезапно для себя осознав это, Алеша бежит к ней и, распахнув руки, падает, прижимается к бегемотскому животу, ныряет носом в мягкие складки халатов, которых бабушка, спасаясь от холода, нацепила на себя сразу то ли три, то ли четыре штуки. – Ну шо ты, Лешенька… шо такое, внучек… – Ее сиплый голос дрожит. Дрожат и ладони, когда она гладит его по голове, по плечам – он чувствует это. Алешу и самого мелко трясет, он сам не понимает отчего. – Ба, – всхлипывает он. – Они зовут меня, ба… – Хтой-то? Хто тебя зовет? – Ребята, – хнычет Алеша, не отрывая лица от бегемотского живота. Теперь его собственный голос звучит глухо, как голоса тех врунов с радио. Но он не может, он боится поднять голову и посмотреть ба в глаза. Боится, что, взглянув на него, она поймет, что еще совсем недавно, еще минуту тому назад он почти уже готов был ее предать, бросить здесь одну-одинешеньку. – Они зовут меня гулять, ба… Играть с ними в снежки. Все ее большое, необъятное тело содрогается. Будто землетрясение прокатилось по горным склонам. Бабушка издает громкий то ли стон, то ли вздох, обхватывает Алешу за плечи, прижимается к его щеке своей, и он чувствует мокрое, которое ручейками течет у нее по морщинам. – Это кажется, внучек, – говорит она. Алеша слышит, как гулко стучит ее больное старое сердце, как хрипит у нее в легких. – Это тебе просто кажется… – Да?.. – Да, Лешенька. Не могут они тебя звать, – тихонько плачет бабушка. – Понимаешь, они ведь уж как бы и не они. Не живые… не мертвые. – Они злые, ба? – Да и не злые, пожалуй шта… Просто не люди ужо. Ну да ничего, – снова вздыхает она и громко, с хлюпом, тянет носом. – Прорвемси, Лешк… Фашистов в оккупацию претерпели – и этих… переживем. Лешк, ты ж, наверное, кушать хочешь, а, Лешк?.. Он совсем не думает о еде, но кивает просто для того, чтобы порадовать бабушку. Он знает – все бабушки любят кормить своих внуков, и его ба не исключение. Алеша выскальзывает из теплых мягких объятий, делает шаг в сторону, чтобы ба могла подняться. Пока она шаркающей походкой идет к кладовке за консервами, мальчик снова невольно прилипает взглядом к стеклу. Его друзья все еще там. Бродят бесцельно по площадке, оставляя в коричнево-буром снегу широкие борозды. «Как же так? – снова одолевают Алешу сомнения. – Как же они не живые, если играют в снежки? Или… или они только притворяются живыми?» Внезапно его накрывает тень. Грохочет, стукая дном по столу, консервная банка. Бабушка придвигается мимо Алеши к окну, трясущимися руками отбрасывает в сторону желтоватый тюль, с шумом и лязгом поднимает щеколду. Трещит ледяная корка, дребезжит стекло – ба распахивает окно, пуская в комнату поток морозного воздуха, сама высовывает непокрытую голову наружу, сипло кричит во двор: – Пошли прочь! Прочь пошли, нехристи окаянныя! Оставьте нас в покое! Неча вам тут делать, среди живых! Те, внизу, никак не реагируют на ее ор. Наташка кидает очередной снежок куда-то в кусты. Вадим нагибается к сугробу. Катька идет, как шла, из одного угла площадки к другому. Эдик стоит без движения, Антоха сидит на качелях, а Костя продолжает покачивать культями. Под ним, на скате горки, поблескивает заледеневшая кровь. – Вот видишь, внучек, – оборачивается ба. – Не слышат они нас. И говорить не могут, и позвать никого никуда не способны. Нелюдь они, больше никто. – Она прикрывает ставни, двигает в его сторону консервную банку. Там, в мутной, похожей на слизь жиже плавают несколько бледных килек. – Кушай, Лешенька, кушай, внучек. А я… – бабушка наклоняется к аптечке, – валидольчику возьму, а то чтой-то сердце сегодня шибко колет… Она находит початую пачку, выдавливает из нее таблетку и кладет под язык. Алеша, притихший, молча сидит за столом, ковыряя грязной вилкой в банке. Килька нехорошо пахнет, и он не испытывает никакого, даже мало-мальского, желания ее есть. Запах из банки похож на тот, что ворвался на кухню вместе с холодным воздухом, когда бабушка открыла окно. И еще он похож на то, как попахивает от самой бабушки, на тот едва уловимый, терпкий аромат, что поднимается из больших складок у нее между грудью и животом. Алешу отчего-то пугает эта вонь. – Пойду прилягу, – вздыхает ба. – Холодно-то как, божечки ж ты мой… Кха-кха! – И, держась левой рукой за грудь, а правой опираясь о стену, шаркает к себе в комнату. – Сталина на вас нет, – слышит Алеша, как ругает она вполголоса радио. Это вызывает у него улыбку. Ему вспомнилась мама, как та ворчала, если бабушка говорила что-нибудь о Сталине. Он не мог понять почему, но маму такие разговоры всегда очень злили. В ее глазах этот непонятный Алеше человек, Сталин, был кем-то ужасным. «Все мечтает о твердой руке, старая кошелка», – сказала однажды мама, а папа расхохотался в ответ: «А может, и не о руке вовсе!» Алеша надеется, что с ними все в порядке, с его родителями. Там, куда они каждый год летают в отпуск, в месте под названием «Тайланд», должно быть, как он слышал, очень тепло. Там всегда светит солнце. Там вообще никогда не бывает зимы, а значит, там не могло быть и этого неправильного коричневого снега. Обычно мама звонила каждый вечер на домашний телефон. Поговорив с ней, ба давала трубку Алеше, и он долго слушал рассказы мамы о пляжах с золотистым песком, пальмах и море. В конце разговора трубку брал уже папа, чтобы пожелать ему спокойной ночи и сказать, как они его любят. Когда-нибудь, знает Алеша, уже совсем скоро, когда он станет старше на год или, может быть, на два, мама и папа начнут брать его с собой в эту сказочную страну, Тайланд, и тогда он своими глазами сможет увидеть все то, о чем говорила мама. Звонков не было уже давно, но бабушка объяснила ему, что это из-за проблем со связью. Мама с папой обязательно вернутся к нам, обещала ба. Очень скоро они прилетят, вместе с врачами и военными, и тогда все станет по-старому, хорошо, как раньше. Алеша мечтает, что так все и будет. Но сейчас он сидит один за кухонным столом, изо рта у него вырывается облачками пар. И его снова манит к себе оконное стекло. Отодвинув консервы, к которым так и не притронулся, Алеша встает. Пол холодный, ледяной, он чувствует этот лед через носки. Алеша подходит к окну, заглядывает в него. На улице темнеет, мороз схватил стекло крепче прежнего, покрыл плотным, словно сотканным из снежинок, узором. Алеша дышит на него, трет подмерзшую поверхность концом шарфа, но это не сильнопомогает. Стекло остается мутным, как будто смотришь сквозь стакан с водой. Там, на бело-коричневом, все еще угадываются фигурки ребят. В глаза бросается розовое пятно Наташиной курточки, ее желтые волосы. В расплывчатой глади она видится ему принцессой из мультика. Сгущается тьма. Тихо подвывает ветер. Живые, мертвые ли, его друзья будут играть во дворе всю ночь, пока Алеша спит, и наутро, когда он вернется к своему наблюдательному пункту на табурете, то снова увидит, как они кидают куда попало коричневые снежки. Холод и темнота окутывают мальчика, его начинает клонить в сон, где он снова слышит голоса своих друзей. Те звонко хохочут и зовут его погулять… В спальне у бабушки что-то с грохотом падает на пол. Что-то большое. Алеша, придремав было, подпрыгивает на месте. Испуганно озирается по сторонам, но мало что может разобрать спросонок в заполнивших помещение сумерках. Снаружи уже выкатила на небо луна. Ее серебристый свет, преломляясь в морозной мозаике оконных стекол, разметал по кухне десятки причудливых теней. Алеша часто, прерывисто дышит и чувствует, как под толстым свитером в груди колотится, трепещет от страха маленький комочек его детского сердца. Радио молчит. Почему-то это пугает Алешу больше, чем что бы то ни было еще, больше чем темнота и разбудивший его шум. Все эти дни приемник в бабушкиной комнате не замолкал ни на минуту, раз за разом повторяя одно и то же. «Опасно, опасно, опасно, опасно» – сейчас это слово звучит лишь в голове у Алеши, и от этого ему ужасно не по себе. Он был бы счастлив услышать что угодно, любой знакомый звук, пусть даже храп или тяжелый, болезненный кашель ба, но квартиру наполняют только холод и пронзительная, напряженная тишина. «Опасно. Что-то случилось. Опасно!» «Лучше б ты вышел поиграть с нами, Алешка, – ласково шепчут ему на ухо Катя, Наташка и остальные. – Лучше б ты вышел, когда тебя звали». Он старается не слушать их. Боязливо крадется через узкий проход в коридор и к бабушкиной комнате. Пытаясь заглушить голоса в голове, тихо повторяет: – Сижу за решеткой, в темнице сырой… Сижу за решеткой, в темнице сырой… Скрипит дверь в спальню. Здесь света еще меньше, чем на кухне, но глаза Алеши уже привыкли к полумраку. Он застывает на пороге, обмерев при виде открывшегося зрелища. Посреди комнаты на полу лежит ба, на спине, упершись дальним плечом в угол кровати. Ноги в толстых колготах разметаны, халаты распахнуты, большая и бледная, покрытая морщинами титька вывалилась наружу и свисает набок, напоминая одновременно спущенный мячик и сдутую боксерскую грушу. Глаза бабушки закрыты, кожа белая, по щекам растекаются серые пятна, из тонкой щелочки рта тянется вниз блескучая нить слюны. – …в темнице сырой. Ба-а?.. Бабушка выглядит как большая игрушка, плюшевый бегемот с встроенным механизмом, в котором что-то поломалось. «Она умерла?» – вспыхивает в голове у Алеши страшный, ужасный вопрос. Ее левая рука, чуть согнутая в локте, протянута по полу в его сторону, кончики скрюченных пальцев едва заметно дрожат. Рядом, у стены, валяется разбитое радио, а среди осколков белой пластмассы Алеша видит пузырек с бабушкиными каплями от сердца – колпачок слетел, вокруг растеклась небольшая лужа. Едкий запах валокордина смешался с вонью, как от консервной банки, только гораздо более противной, терпкой. «Не умерла… умирает». – Ба! – зовет он шепотом. – Щи-щас, внучк… – сипит бабушка еле слышно, практически не шевеля губами. – Щищас я немног… отдхну… полжу… вста-а-а… Алеша начинает понимать, что произошло. Ба, видимо, стало плохо. Она хотела принять свои капли, встала с кровати, но не удержалась, упала, зацепив при этом провод от радио и выронив пузырек с лекарством. Его дыхание в темноте клубится сизым дымком. А ба дышит еле-еле, пар из черной беззубой щели поднимается едва заметным туманом. – Ба, не умирай, – хнычет Алеша, упав перед ней на коленки. – Не умирай, пожалуйста, пожалуйста, ба! – Ну шо ты, роднкий, шо ты… А-А-А-а-а-а-… – издает бабушка протяжный нутряной стон и замолкает. Бегемотская туша содрогается. Слюна перестает течь изо рта. А потом ее рука вцепляется в бедро Алеши. Крепко, жестко. Искривленные пальцы, как когти, вонзаются в его плоть сквозь штаны и рейтузы. От боли и испуга он пронзительно вскрикивает. Бабушка поворачивает в его сторону голову и смотрит на Алешу сверкающими белыми бельмами, в которых не видно зрачков. – Ба, что с тобой, ба! – верещит он, не помня себя от ужаса. Чувствуя, как по ногам струится горячая жидкость: описался. Бабушка грузно переворачивается на бок, выпрастывает вторую руку, чтобы схватить его. Рот ее широко раскрывается, как пасть у змеи, которую он когда-то видел в документальном кино на канале «Дискавери». И, словно та гадюка, бабушка шипит. В панике Алеша дергается назад, уворачиваясь от когтистой лапы. Изо всех сил брыкает ногами, пытаясь вырваться из мертвой хватки. «Бежать, бежать, бежать, ОПАСНО!» – вопит все его существо. А бабушка, продолжая издавать угрожающее шипение, уже опирается на локти и колени, уже поднимается, тянет к нему белое с серыми пятнами на щеках и бездонной пещерой рта лицо. Вытаращенные, лишенные зрачков глаза гипнотизируют Алешу. С трудом оторвав от них взгляд, мальчик перекатывается на живот и быстро, как может, выползает из комнаты. В мякоть ладони больно вонзается острым концом осколок разбитого корпуса радио. Бежать, бежать, бежать! Алеша подскакивает, цепляет стопой порог, но все-таки вываливается в коридор, прыгает к двери… Закрыто! Дурак, ведь ключи-то У НЕЕ В СПАЛЬНЕ, дурак, дурак, ДУРАК! Трясясь от ужаса, с мокрыми штанами, в соплях, он оглядывается назад. Там, в узком пространстве дверного проема, стоит бегемот: ба терпеливо поджидает своего внука. Голая титька все еще торчит из халата, повиснув на толстом, выпирающем вперед брюхе. Широкий плоский сосок таращится на Алешу, будто огромный серый глаз. Ничего более неправильного, ничего более пугающего он еще в жизни не видел. – Сижу за решеткой, в темнице сырой… сижу за решеткой, в темнице… – скороговоркой повторяет Алеша, вжимаясь спиной, до боли в лопатках, в коридорный угол. Бабушка неповоротливо шагает вперед, раскрывая для него холодные мертвые объятия. Последний шанс! С истошным воплем он кидается вперед. Зажмуривается, вжимает голову в плечи и проскакивает у бабушки под мышкой. Кровать! Подушка! Матрац! Ключи! Вдруг его горло обвивает тугая, колючая змея. Что-то хрустит, шею пронзает мгновенная боль, звенит под ногой стеклянный пузырек. Алеша на мгновение подлетает вверх, его ступни отрываются от пола, взмывают на уровень лица. А затем он всем телом тяжело падает, ударяясь спиной об пол. Толстый шерстяной свитер смягчает приземление, но все равно из груди разом выходит весь воздух, в голове звенит, перед глазами мелькают белые искорки. Как выброшенная на берег рыба, Алеша беззвучно хлопает ртом, пытаясь вдохнуть хоть капельку кислорода. Отпустив длинный конец шарфа, бабушка медленно склоняется над Алешей, прижимает его ноги своей необъятной тушей. Он чувствует запах – от ба воняет тухлыми консервами. Морщинистое лицо все ближе, ближе… Бабушка словно желает подарить любимому «внучеку» один из тех влажных, противных поцелуев, после которых потом приходится так долго оттирать щеки… Только на этот раз она целует его не в щеку – огромный холодный рот накрывает целиком губы и нос Алеши. Влажный, липкий как пиявка язык ползет по его коже, червяком проталкивается в ноздрю… У Алеши темнеет перед глазами, он задыхается. Безотчетно шаря по полу руками, вдруг нащупывает что-то твердое, хватает, сжимает слабеющими пальцами. Радио! Не соображая, что делает, Алеша бьет приемником оседлавшее его чудище по голове. От удара ба прерывает свои омерзительные ласки, ее губы и язык с мягким чавкающим звуком отлепляются от его лица. Алеше удается вдохнуть. Это придает ему сил, и он снова бьет старуху в висок, еще и еще. Разломанный корпус радио трещит, пластиковые щепки летят во все стороны, что-то липкое брызжет у бабушки из ушей, носа и рта. Наконец, она заваливается на бок рядом с Алешей. Приемник выпадает у того из руки. Всем телом Алеша смещается как можно дальше от ба, пока не упирается в стенку. Несколько минут он лежит там, пытаясь отдышаться. Легким не хватает воздуха, горло дерет, Алешу мутит от вони лекарств и бабушкиного трупа, он блюет. Его выворачивает кислым желудочным соком на цветастый рисунок обоев. Кажется, он несколько раз теряет сознание на долю секунды, а потом снова приходит в себя. Алеша не знает точно, обморок ли это. Прежде ему еще никогда не доводилось падать в обморок. Как будто проваливаешься в бездонную черную яму, а затем медленно, с большим трудом карабкаешься обратно на свет. Можно ли упасть, если уже валяешься?.. Можно ли подняться, оставаясь без движения?.. Он не понимает, ему сложно думать об этом, как и о чем-либо еще. Потом к нему приходит понимание того, что он сделал. Оно, это понимание, представляется ему в образе папы, обычно такого веселого и улыбчивого, но только не сейчас. Лицо выплывает из темноты. Папа хмурит брови и говорит тем голосом, каким обычно отчитывал Алешу, если тот приносил из школы дневник с тройкой, забывал почистить зубы перед ужином или небрежно заправлял постель поутру. «Ты убил ее, – говорит папа. – Убил нашу бабушку». Огромное, тяжелое, в сто тысяч раз тяжелее, чем бегемотское тело ба, чувство вины обрушивается на Алешу. – Я не хотел, – шепчет он в темноту. – Я не думал… не знал… «Полюбуйся, что ты натворил», – приказывает папа, и Алеша делает так, как велено. Привалившись спиной к заблеванной стенке, смотрит перед собой. Бабушка лежит бесформенной кучей, а перед ней, ощерив зазубренные пластиковые клыки, валяется расколотый старый приемник. Из его нутра торчат медные проводки, с которых, как и с обломков корпуса, стекает темная вязкая кровь. Еще больше черной жижи натекло вокруг бабушкиной головы. Алеша замечает пучок седых волос и прилипшую к ним серую кожу, похожую на обрывок туалетной бумаги. «Вот видишь, что ты наделал», – говорит папа печальным голосом. «Разве хорошие мальчики поступают так со своими бабушками?» – спрашивает мама, возникая рядом с отцом. Алеша чувствует себя очень виноватым, но все равно счастлив видеть их обоих, хотя и понимает, что они – лишь плод его воображения. На самом деле мамы и папы здесь, рядом с ним, нет. На самом деле, возможно, их уже совсем нигде нет. Ба ведь уже была мертвая… Или все-таки живая? Он окончательно запутался, то ли бабушка умерла только после того, как он ее ударил, то ли это была уже вторая ее смерть, а до этого она успела умереть и ожила. Может быть, она сумеет оживить себя еще раз? От этой мысли ему вновь становится страшно. Алеша устал, очень устал, и ему страх как не хочется подходить к бабушке, но иначе никак не добраться до ее постели и того, что спрятано там внутри. Поэтому он перебарывает страх, заставляет себя встать. На негнущихся ногах аккуратно, мелкими шажками обходит ба, стараясь не спускать с нее глаз. По другую сторону, однако, ему все-таки приходится упустить ее из вида, чтобы, нагнувшись, просунуть руку и раздвинуть щель между кроватным дном и матрацем. У него перехватило дыхание и сжалось сердце в груди, когда раздался сухой шелест – почудилось сначала, что это бабушка опять ползет за ним. Но это был просто шорох простыней, потревоженных им. Алеша долго не может нащупать то, что ищет. Пришлось запустить под матрац обе руки по самые плечи и прижаться щекой к волокну покрывала. Постельное белье пахло застарелой мочой и смертью. Мама и папа – два призрачных лика, плавающих под потолком, – внимательно наблюдали за его действиями. Алеша чувствовал на себе их печальные взгляды, но пытался не обращать на них внимания. Наконец его пальцы касаются холодного, как лед, металла, под матрацем глухо звякает связка ключей. Алеша тянет их на себя, но те цепляются за что-то. Одно страшное мгновение он видит мозолистую руку ба, схватившую ключи с другой стороны кровати, – видение исчезает, когда связка все-таки поддается, и Алеша по инерции, не удержавшись, падает на пол. «Ты что же, собираешься бросить бабушку здесь, одну?» – лица мамы и папы плавают над ним в темноте, как два воздушных шарика. «Оставишь ее гнить?» – их губы не шевелятся, голоса раздаются у него в голове. – Внуче-ек… Ты хде, внуче-ек? – жалобно стонет ба из-за кровати. – Вы не можете говорить! НЕ МОЖЕТЕ ГОВОРИТЬ! – Алеша машет руками, разрывая в клочья призрачные лица, разбивая бряцаньем ключей и собственным криком призрачные голоса. – Это вы меня бросили. Вы все, – шепчет он возле дверей, отпирая дрожащими руками замки. А через пару минут уже выбегает на заснеженный двор и, купаясь в лунном сиянии, вдыхает студеный, с легким, почти неуловимым ароматом гнильцы, воздух. Коричневый снег забавно хрумкает под ногами, когда Алеша приближается к игровой площадке. Когда он, счастливый, спешит на встречу с друзьями. Первым его замечает Костик. Повернувшись вполоборота на своем троне на вершине горки, Костя тянет к Алеше руки, показывает пальцем. «Привет, амиго!» – мысленно говорит Алеша. Больше нет нужды разговаривать вслух, они и так его слышат. В грудь ему попадает снежок. Потом еще один. Он безумно рад видеть их всех. Они тоже рады, он знает. Они улыбаются ему красными улыбками, окружают его… Самые лучшие на всем коричнево-белом свете друзья: Наташка, Антоха, Катька, Вадим, Костик и, конечно же, толстый-нетолстый Эдик. Они все ближе. У его друзей белые, лишенные зрачков, глаза. Худые, голодные лица. И, в отличие от старой Алешиной ба, у них есть зубы.
Ампутация
Феликс Сикорский долго готовился, ждал этой ночи. Единственной ночи в году, когда, если верить сказанному в книгах Остина Османа Спейра, А. Д. Чембли и Валентина Скавра, которым вторил и сам Алистер Кроули, можно совершить ритуал. Сикорский был стар, его мучили запоры, подагра и еще десяток свойственных людям преклонного возраста недугов. Он понимал, что до следующего раза может не дотянуть, а потому волновался. Когда Сикорский рисовал на полу своей занюханной общажной комнатенки пентаграмму и обводил ее кругом, его руки тряслись сильнее, чем обычно, а мел то и дело выпадал из непослушных, скрюченных артритом пальцев. Согласно указаниям, содержащимся в оригинальном англоязычном издании «Сатанинских ритуалов» мистера Говарда Стэнтона Леви, более известного как мсье Антон Шандор ЛаВэй, удостоверенных его второй и истинной дщерью Зиной Галатеей ЛаВэй, для совершения обряда требовалось также зажечь по внешнему краю колдовского круга дюжину свечей черного воска, включить запись «Сатанинской мессы» и окропить пентаграмму кровью животного. Сикорский уже запалил свечные фитили. Едкий дым быстро наполнял помещение и легкие, вырывая из горла старика надсадный кашель, пока сам он устраивал потертую пластинку в пазах старинного граммофона. Покончив с этим делом, Феликс вооружился большим столовым ножом и подступил к клетчатой сумке-переноске с вентиляционными прорехами по бокам, в которой держал черного котенка двух месяцев от роду, специально для этой ночи купленного в ближайшем зоомагазине. В тот миг, когда его ладонь коснулась пластиковой ручки, Сикорский услышал сердитый окрик: – Оставь кота в покое, дурак! Высокий брюнет в костюме того же, как пишут в плохих романах, иссиня-черного тона, что и шевелюра на его голове, вышел сзади, откуда-то из-за спины Сикорского. Строгий наряд и седина на аккуратно стриженных висках говорили вроде бы о достаточно зрелых годах незнакомца, но холеное лицо с вздернутым носом, румяные щеки, по-детски пухлые губы и ярко-зеленые, озорно поблескивающие глаза могли бы принадлежать правнуку Сикорского, кабы у того имелись потомки. – Здравствуй, Ванюша, вот и свиделись, – ухмыльнулся брюнет, не протянув, впрочем, руки для приветствия. – Вообще-то меня зовут Феликс, – буркнул старик. В ладони он все еще нервно тискал ставшую скользкой от пота рукоять и сейчас раздумывал над тем, как бы половчее использовать нож, чтобы проделать пару дырок в нежно-розовой коже на глотке незваного гостя. – Ну, при крещении-то у тебя другое имя было… Впрочем, Феликс так Феликс, нам без разницы. – Мужчина, насмешливо сощурясь, смотрел на Сикорского. Он наклонил голову легким кивком, после чего ножик выпал у старика из моментально онемевших пальцев. – Ну и вонищу ты у себя развел, старина! Оглядевшись, незнакомец тихо кашлянул, и все свечи разом потухли. В темноте он щелкнул пальцами: люстра под потолком засияла всеми тремя лампочками. Причем одна из них уже месяц как перегорела, а еще одну старик сам, своими трясущимися руками выкрутил более года тому назад в целях экономии. Комната была обставлена бедно: Сикорский ограничивал себя во всем, откладывая деньги на дорогие малотиражные издания таких авторов, как Блаватская, Кроули и Джон Ди. Он мало пил и почти не ел, потому в доме не было холодильника – старик просто не видел в нем смысла. В отличие от многих людей своего возраста, Феликс не следил за погодой и не смотрел ни шоу Малахова, ни «Поле чудес», так что обходился без телевизора и радио. Все более-менее ценные вещи и предметы мебели, включая кресло, шкафы, стол, стулья и даже кухонные табуретки, старик давно продал. Спал он на убогой тахте, чьи торчащие во все стороны пружины царапали его старые кости по ночам. В любую ночь, кроме этой. Хлыщеватый брюнет обозрел печальную картину, чуть задержался равнодушным взором на пыльных томах, сложенных вдоль стен высокими, почти до потолка, стопками. Хмыкнул. Потом сделал шаг в центр комнаты и небрежно черканул носком лакированной туфли нарисованную мелом звезду: – Вот уж не думал, что в наше время можно сыскать кретина, который верит во все эти бредни. Ха! Феликс задрожал в бессильной ярости. – Берите все, что вам нужно, и уходите. Сейчас же, – прошипел он вставными челюстями, а когда зеленоглазый наглец проигнорировал его требование, не выдержал и сорвался на скрипучий фальцет: – Я полицию вызову, предупреждаю! – Кого ты лечишь, болезный, у тебя и мобилы-то нет. И взять с тебя ровным счетом нечего, не считая чахлой душонки. – Я… у меня есть влиятельные друзья. – Лжешь, засранец, – почти ласково молвил зеленоглазый. – Но, знаешь, этим-то ты нам и симпатичен. Только тут Сикорский начал что-то соображать. – Как вы сказали? «Душа»?.. – Я сказал «душонка». Если уж беретесь цитировать, то делайте это корректно. Иначе ведь столько нюансов теряется… – Юноша с седыми висками воздел изумрудные очи к потолку и вздохнул: – Ох уж мне эти Твои человечки! – Так, значит… – Умница! – сверкнул зрачками дьявол и рассмеялся заливистым, ребячески звонким смехом, демонстрируя идеально ровные белые зубы и чуть раздвоенный на конце язык. – Какой смышленый дедуля. Вот только, скажи мне, Ванюша… Пардон! Скажи-ка мне, Феликс, ужель в твою плешивую головенку пришла столь дурацкая мысль, что силу, подобную нашей, можно удержать в каких-то рамках? Нет, я все понимаю, но… мел?! Миль экскюз за каламбур, но, черт бы меня побрал, МЕЛ! Тебе самому-то не смешно? – Но слова, книги… – Не больше чем книги и слова. Их пишут и произносят невежественные лжецы. То есть вы, человечки. – Дьявол шагнул на невидимую приступку и, развернувшись к Феликсу лицом, удобно устроился в столь же невидимом сиденье, прямо в воздухе. Закинул ногу на ногу, сцепил кисти рук на колене и, небрежно покачивая туфлей на уровне пупка Сикорского, воззрился на старика сверху вниз. – Кстати, «Отцом Лжи» меня нарекли тоже люди, как всегда, приписав мне собственные слабости. Видит Бог… пардон, Всевышний, но ведь любому понятно, что, обладая такой властью, какой обладаем мы, просто незачем прибегать к мелочному обману… Мел-лочному, если позволишь. Отнюдь не я, но вы, нищие духом, от века лжете друг другу и, прежде всего, сами себе. Гоняетесь за призрачными химерами, жертвуете всем ради никому не нужных идеалов. Меняете имена, опять же, фамилии… Однако вернемся к нашим барашкам на заклание. Как говаривал старина Атти, у кого язык есть, тот и Рим может съесть. Сам-то он, впрочем, малость подавился – мортире хуманум эст. Хуманум! Как бы там ни было, а я здесь, пред тобой, как глист перед елдой. И, – он зевнул, – я готов выслушать твое предложение. Феликс внутренне закаменел. Хоть он и стремился к этой встрече, и готовился к ней, но все-таки никак не думал, что в итоге все выйдет так, как вышло. Вот так вот буднично, по-простому. О кристальной честности Князя Тьмы твердили многие сатанисты, но, признаться, откровенность адского гостя граничила с хамством, если не переходила любые границы. В текстах же иных авторов, исповедовавших более традиционные взгляды и верования, нежели семейство ЛаВэй, Сикорский не раз наталкивался на предупреждения касательно того, что в беседе с диаволом следует быть осторожным со словами и избегать каких-либо двусмысленностей. – Предложение? – переспросил он. – То есть речь о договоре, не так ли? – Ну да. «Сделка», как это обычно в литературе называют. Ты мне – я тебе, кви про кво, как говаривал один мой киношный коллега, и все такое. Итак, твое предложение?.. Внутренности Феликса превратились в затвердевшие куски мяса из морозилки (которой в его доме не было, как и холодильника). Неужели так просто? Столько лет он стремился к заветной цели, ограничивал себя во всем, изучил тонны пожелтелых страниц стародавних манускриптов, якшался с провидцами, магами, знахарками и прочими шарлатанами, сменил несколько религий… и вот сейчас, так легко и непринужденно, потратив от силы пару минут, обретет желаемое? – Бессмертие, – выдохнул старик. – Я хочу бессмертия! Затем продолжил скороговоркой: – Нормального бессмертия, чтобы без всяких там закавык вроде превращения из человека в камень, унитаз в женском сортире или там картину Пикассо. Здорового человеческого бессмертия, чтобы жить и получать удовольствие от жизни… – Унитаз в дамском клозете? – брезгливо поморщился нечистый. – Ну и фантазии, черт побери. Ох, силь ву пле, любезный, прости мне этот маленький грешок – тягу к каламбурам… Что еще? Феликс нервно облизнул вмиг пересохшие губы. «Не торопись! – приказал он себе. – Формулируй мысль четко, подробно и однозначно!» Подумать, однако, было куда проще, чем сделать. – Ну, естественно, я бы хотел… иметь возможность… пользоваться этим… даром… бессмертием… на свое усмотрение. Такое возможно? – Само собой. Что насчет рака? – Рака? Дьявол проказливо хихикнул. – Видишь, старина? Все по-честному! Ты вот даже и не подозревал, хотя, в твои-то годы, пора бы уже собственным здоровьем обеспокоиться. Так что, Ванюша – ах, пардон-пардон, Феликс, конечно же, Феликс! – избавить тебя от сего досадного компаньона? Мне кажется, было бы разумно уничтожить эту маленькую, но быстро растущую опухоль в кишечнике, чтоб ты не мучился вечно от вечной же болезни. Бессмертие с избавлением от всех возможных и невозможных недугов, как тебе такое уточнение? – Да! Да, конечно! И еще… физические повреждения… – Пусть даже тебе оторвет голову, – беспечно махнул рукой дьявол. – На ее месте тут же вырастет новая, точно такая же. Ты не почувствуешь никакой боли, и на твоем рассудке или памяти это никак не скажется. – Звучит хорошо… – Фирма веников не вяжет. Пара тысячелетий на рынке, между прочим. – Гость подмигнул, и в его вытянутой руке появилась банка «Жигулей». Алюминиевое колечко звякнуло, упав на пентаграмму, из отверстия с легким шипением вырвались газы. Пахнуло серой, а Дьявол, запрокинув голову, сделал добрый глоток. В своем дорогущем с виду костюме, с этой банкой в лапе, развалившись в воздухе, как в мягком домашнем кресле, он выглядел совершенно нелепо. Это насторожило Сикорского, и он снова вспомнил о тех опасностях и подводных камнях, что таят в себе сделки с преисподней. – Но должна же быть какая-то хитрость. Бесплатный сыр есть, где ж мышеловка? – Бес-сплатный. Бес платный… Мышь – и ловко! Ах, мон ами, мой глупенький дружочек, ну просто ничего не могу с собой поделать, игра словами ведь тоже игра, а я, чего скрывать, азартен. – Зубы мне заговариваешь, чертяка? – разозлился на радость дьяволу Сикорский. – Конечно, – тот громко отрыгнул серой. – Все три оставшиеся в твоей пасти гнилушки. – Что требуется от меня в обмен? Душа? – А разве ты способен предложить что-либо еще?.. Старик, мы теряем время, а я теряю терпение. Видишь, уже и пиво закончилось? – Но как же вы получите мою душу, если я никогда не умру? – Боже мой… – вздохнул дьявол. – Пардон, Всевышний, бес попутал. Черт бы тебя побрал, старче! Фигурально выражаясь, разумеется. Да я могу забрать твою жалкую душонку прямо сейчас, в чем проблема-то? Меньше слушай сказки про Фауста и прочих. – Да как так?! – Да просто кавардак!.. Что есть душа, по-твоему? С вашими последними человеческими исследованиями в этой области знаком? – Дьявол поднялся со своего невидимого сиденья и принялся рассуждать, расхаживая в полуметре над полом и активно жестикулируя банкой: – Душа – как аппендикс! Атавизм, человеку вовсе не нужный. Она бессмертна, что правда, то правда. Но представляет собой не какие-то незримые глазу эфирные частицы, а нечто вроде выжимки. Берешь апельсин, выдавливаешь сок в стакан, бросаешь туда же мякоть, а от того, что останется, – избавляешься за ненадобностью. В этих отходах нет ни капли твоего «я»! Ни памяти, ни чувств. Душа человеческая подобна паразиту, она меняет оболочки, просто переходит по смерти одного носителя к другому. Сечешь, старче? Всасываешь? Вам в вашем мирке души совершенно без надобности. На самом деле, – он многозначительно оттопырил вверх указательный палец, остальными пятью продолжая сжимать жестянку, – души людей представляют для наших с Всевышним организаций интерес сугубо практический, как своего рода валюта. Согласно принятой традиции, все дела между низом и верхом решаются на основании определенных операций с душами. Происходит обмен, согласно установленному курсу. Души престарелых грешников, вроде твоей, котируются слабо. Вам же, людям, на все это плевать. Ведь вам не важно знать, куда стоматолог выбрасывает выдранные зубы. А по правде говоря, сгнивший до корня зуб мудрости – и тот человеку нужнее никчемной души. – А как же Страшный суд? – Всякая финансовая пирамида когда-нибудь, рано или поздно, должна рухнуть, согласно вашей же экономической науке. Правда, это не мешает курсу доллара постоянно расти, не так ли? В наших сферах, что наверху, что внизу, переизбыток душ, конечно, влияет на уровень инфляции и способен в перспективе привести к изъятию избыточной денежной массы… – Это как? – Как и раньше. С помощью Всемирного потопа. Или большой чумы. Заметь, занимаемся этим всякий раз не мы, а вышестоящие. Там, наверху, настоящие воротилы, уж поверь!.. Я же, образно выражаясь, из тех доходяг, что сутками напролет заливают в глотки дрянной кофе на углу у обменного пункта… – То есть эта вечная жизнь… – Правильно! Она нисколько, ни в коей мере не зависит от твоей души! Ты, старик, можешь стать одним из тех немногих, кто реально бессмертен, в отличие от миллионов фанатиков, надеющихся на мифическое возрождение после смерти. Не осознающих, что возрождены будут не они сами, а лишь жалкие душонки, фактически никак не связанные с их личностным «Я»… Пиво будешь? Сикорский молча мотнул головой из стороны в сторону. – А кто еще?.. – спросил он, уже почти решившись. – Есть несколько человек. Но, думаю, с каждым годом таких будет все больше, благодаря интеллектуальному росту масс… Итак, твое слово? – Согласен. По рукам! – махнул старик. – Если все действительно как вы говорите… – Можешь не сомневаться. Репутацию нам подпортили идеологи Средних веков и Возрождения, но на самом деле организация дает стопроцентную гарантию выполнения своих обязательств. Дело за малым: сейчас я заберу твою душу. – Все-таки непривычно как-то… – Не надо бояться, это совсем не больно. Оп! Вот и она. – В банке с пивом что-то булькнуло. – Пардон, одну секундочку… – Дьявол улыбнулся и щелкнул пальцами: вместо «Жигулей» в его руке оказалась небольшая пробирка, высотой в ладонь, наполовину заполненная мутноватой жидкостью. – Несколько грамм твоей души. Испытываешь облегчение? Сикорский прислушался к внутренним ощущениям. На всякий случай украдкой пощупал у себя в паху – мало ли. На удивление, чресла отреагировали на эти осторожные прикосновения весьма бурно, как в молодые годы. И он поспешно отдернул руку, чувствуя, как кровь приливает к щекам при виде похотливой дьявольской ухмылки. – Недурно… Ну, то есть все на месте вроде бы. – Что и требовалось доказать. Я ж говорю, аппендикс… Ну-с, мой добрый гнус, – бывай! – Погоди! Но разве я не должен был подписать какие-то бумаги? – Акт изъятия тебе подпихнуть? Отчет о сдаче-приемке? – Не знаю, – развел Сикорский руками, тремор в которых, к его радости, прекратился. – По идее, надо скрепить договор кровью, разве нет? – Старик, – теперь это слово из уст дьявола звучало как дружеское обращение, – перед кем ты собрался свидетельствовать собственными кровяными тельцами? Пред Всевышним? Так он и так все видит, все знает. Ему по должности положено. Засим, – он вытянулся по-военному, браво стукнув каблуками дорогих туфель, – оставляю тебя пребывать в жизни вечной… Спустя тринадцать лет помолодевший, изрядно окрепший физически Феликс в освещенном флуоресцентными лампами подвале своего нового загородного особняка в поте лица пытался повторить комбинацию с пентаграммой, пластинкой и свечами. – Не мучай кота, тебе говорят! – раздраженно рявкнул дьявол, возникая из воздуха между Сикорским и клеткой с животными. Феликс кинулся на него, схватил мускулистой рукой за темный рукав, угрожающе занес над головой мачете. – Чертов мошенник! Будь ты проклят за то, что сделал со мной! Мне плохо, плохо, Господи, мне ТАК плохо! – Ты о чем, Ванюша? Пардон, запамятовал… – Дьявол взглядом отвел от своего лица широкое лезвие, тупую сторону которого украшали выгравированные золотом иероглифы. – Так-то лучше. И все же, о чем ты лопочешь, Феликс? – Меня сосет, меня гложет, мучит! – Сикорский, вмиг обессилев, выронил оружие на мраморный пол, сам осел на колени и, обхватив кудрявую голову руками, зарыдал. – Мучает ЧТО? У тебя что-то болит? Руки, ноги? Хвос-ст?.. Сердечко пошаливает? – Нет. Нет, нет! БОЛИТ! Еще как болит! Не знаю что… – А я тем более не знаю. Прекрасно выглядишь. Здоров как бык. Да тебя же просто не узнать! И правда смахиваешь на былинного Ивана, не то что доходяга Сикорский… С финансами тоже полный порядок, вижу, время зря не терял. Одобряю. Больше скажу – молодец! Иные в запой бесконечный уходят, а ты помозговитее оказался. Признаюсь честно: не ждал. Что же не так, старичок? Что мешает наслаждаться жизнью? Сикорский поднял на него мокрые от слез, полные муки глаза и одними губами ответил: – Душа! Дьявол изогнул тонкую бровь, изображая удивление. Но в глубине изумрудных зрачков поблескивали все те же озорные огоньки, что Феликс подметил в них такой же темной безлунной ночью годы тому назад. – Память никак подводит, старик? Никакой души у тебя давным-давно нет. – Но она ВСЕ РАВНО болит! – проревел Сикорский. – Я же чувствую! – Силь ву вуле, щ-ща посмотрим… – Дьявол на мгновение прикрыл веки. А когда распахнул их вновь, пухлые губы растянулись от уха до уха: – Ха! Даже не знаю, что тебе и сказать, старичок. – Правду! На этот раз – правду! – Да я ж тебе никогда и не врал, мон ами. Изучив кое-какую медицинскую информацию, могу лишь высказать предположение, к нашей маленькой сделке не имеющее никакого отношения… – Говори! Сатана наклонился и почти ласково погладил старика горячей ладонью по мокрой от слез щеке. – Видишь ли, в чем тут дело… Души у тебя, как мы и договаривались, нет. Если помнишь, сегодня исполняется ровным счетом чертова дюжина лет с того момента, как я успешно ее ампутировал. – Но что же тогда?.. Изумрудные глаза полыхнули: – Удивительный феномен! Случайность, конечно же, ничего боле. Лихая превратность судьбы, предугадать которую не в силах даже я. То, что ты испытывал все эти годы, хирурги и психиатры называют «фантомные боли». – Фантомные… – Бо-оли… Все верно, мой нестареющий бонвиван. Бывает, человек теряет ногу или руку, но ему все одно кажется, что они остались на месте. Он чувствует, как удаленный орган болит. Ему хочется почесать пятку, которой он лишен. Слыхал о таком? Вот и тебе, старичок, чудится, что зудит смертным зудом бессмертная твоя душа, которой у тебя давно уж нет. – Ты знал, – простонал Феликс, расцарапывая ногтями щеки до крови. – Безусловно. Ты же не думал, что это картинки, мелом намалеванные, на меня подействовали, правда? Ты же не думал, что твоя никчемная душонка интересна сама по себе хоть кому-нибудь, что снизу, что сверху? – У нас был договор. – Но кто же мог предусмотреть подобный поворот сюжета? Пред Богом и людьми все законно, и каждый пункт соглашения исполняется неукоснительно. И будет исполняться во веки веков, как мы тебе и обещали. Что же касается твоей маленькой проблемы, старичок… Я ведь, кажется, сравнивал нашу сделку с валютными операциями, да? Так вот. Сугубо с финансовой точки зрения прошлогодний обмен вышел мне скорее в минус. Как я, опять-таки, уже говорил, твоя душонка и в самом деле не стоит ломаного гроша. Но в некоторых сделках прямая выгода меркнет в сравнении с дополнительными приятными бонусами. И помнишь, что я еще тебе сказал тринадцать лет тому назад? Вы, человечки, по природе своей обманщики, но чаще всего… Вы лжете сами себе. Ты лишен души, но чувствуешь ее боль – какой потешный самообман, ей-черту! Трэ бьян, трэ бьян, манифик! Я б лучше выдумать не смог… – Черт! – выругался Сикорский. – Дьявол, – поправил его собеседник. И растаял, оставив человека в одиночестве, в роскошном пустом доме, посреди умирающей ночи, в отчаянии. Испытывая чувство невероятной горечи и опустошения, Феликс поднялся в дом. Дорогие ковры, статуэтки из бронзы, мебель, которая стоила больше, чем все, что у него когда-либо было прежде, полотна в инкрустированных золотом рамах – ничто не радовало ни глаз, ни сердце. Сикорскому было тошно и горько, и даже сунуть голову в петлю или перерезать себе вены он теперь не мог, как бы ему того ни хотелось. Все было бесполезно, все, абсолютно все потеряло смысл. Он встал у высокого окна и раздвинул бархатные занавески. Холодные лучи рассветного солнца залили его лицо будто молодым красным вином, будто кровью. Сикорский думал о детях, которые веселятся, не зная беды. О стариках, уходящих в пустоту, в мир иной со спокойным сердцем. О законах мироздания, таких странных и несправедливых. Адское пламя жгло нутро. Слезы раскаленным металлом плавили кожу. Запах серы окутывал все вокруг, а на уходящем вдаль небосводе мерцала розовым сатанинская утренняя звезда. Душа, которой у него не было, отчаянно болела без надежды на исцеление. И впереди его ждала Вечность.Остановка у кладбища
Тихий шепот, сухой шелест в тонких ветвях – там легкий ветерок незримыми пальцами будто бы листает страницы старой книги. Ветер и время уж вдоволь поработали над мрамором изваяний, но не оставляют трудов. Плоды их выстроились неровными рядами, как картины в заброшенной, забытой галерее – полустертые буквы и числа на сером, потемневшем от дождей полотне. Памятники, выросшие из травы и земли. Чистота здешнего воздуха, столь непохожего на злой и шумный чад городских улиц. Всё здесь близко твоему сердцу, всё хорошо, всё успокаивает и умиротворяет. Silentium perfectum, чувствуешь ты. В молчании – красота. Вот слова, что могли бы украсить твою могилу. Подняв голову к бесконечности осеннего неба, наблюдаешь за черной птицей, одиноким вороном, рисующим там круги. Вспоминаешь элегии, написанные давным-давно умершими поэтами, и думаешь, что если жизнь подобна монете, то ее оборотная сторона, реверс, куда глубже, значимее и прекрасней. Здесь хорошо найти приют, лечь посередь диких трав и словно раствориться, исчезнуть в них. Склоняешься к порослям сорняка – местами жухлым, местами сочно-зеленым, – проводишь кончиками пальцев. Трава нежно щекочет кожу. Кажется, что она тебя любит так же, как ты ее. Не бросит, не покинет, всегда будет ждать в простоте своего растительного бытия. Как будут ждать эти камни, деревья, ветер и небо. В отличие от всего остального мира – они будут ждать. В молчании. И поэтому ты приходишь сюда время от времени, чтобы успокоиться и послушать шепот вечности. Дабы увидеть вечность и возжелать ее. Поэтому ты рад, когда никого не бывает рядом, – кому дано понять потаенные желания, стремления души твоей? Здесь, в бесхитростном и гениальном совершенстве, в этом храме молчания и красоты, проходят минуты и часы, обтекая тебя, как ветер обтекает древесные кроны, трава – камни, а небеса – ворона-одиночку. Здесь ты порой грезишь наяву и в грезах своих обращаешься ветром, травой и камнями. Становишься частью вечности – небом, над коим время не имеет никакой власти. А потом наступает пора возвращаться домой. И ты едешь обратно, в город, на старом автобусе, бока которого покрыты царапинами, пыльные окна засижены мухами, а мотор кашляет на последнем издыхании. Раз за разом повторяешь ты свое паломничество. Вновь и вновь обрываешь его поездкой обратно, в реальность. А там – что тебя ждет?.. Скупые на чувства, глупые, лживые люди. Фальшивые улыбки. Приторные школьные истины. Приземленная обыденность проходящей в трепете жизни. Как тягостно, как жутко, как бессмысленно. На уроках рисуешь в тетради гробы и кресты. Дома слушаешь в наушниках музыку – преимущественно ту, что отец называет «похоронной». Родителей беспокоят твои предпочтения – музыкальные и не только. Испытываемое ими волнение так сильно, что они ведут тебя к психологу. Говорят о тебе: «Он так мало ест. Он так мало спит». Тот кивает на переходный возраст и советует завести домашнего питомца. Отец приносит домой котенка, которого ты забываешь кормить, и через месяц он умирает. Когда родители спросят, ты скажешь, что тот сбежал. Сам же кладешь еще теплое тельце в пустую коробку из-под посылки с книгами, заказанными у букиниста по Интернету, и везешь на кладбище. Капли дождя шебуршат по крыше, местами протекающей так, что автобус становится похож на сырую пещеру. По радио звучит гордая и прекрасная «Forever Young» Альфавиля, за окнами медленно проплывают размытые ливнем поля – грязь и земля, а за ними черный периметр вековечного леса. Коробка с котенком за пазухой. Губы шевелятся, беззвучно подпевая некогда молодому солисту. О том, что нужно дышать, ты почти забыл. Лица знакомых и родственников теряют четкие очертания в памяти, превращаясь в собственные отражения в подернутой рябью мутной луже. Мысли блуждают далеко отсюда, в крае вечного неба и прекраснейшей тишины. В поле зрения смутно, как бы во сне, виднеются другие пассажиры. Даже не люди – лишь тени их… И если можно придумать рай, то это рай. А потом взгляд останавливается на юноше в черном у грязного поручня в нескольких шагах от тебя. Он стоит, хотя рядом есть свободные места: автобус на кладбище редко бывает переполнен, и нынче не тот день. Ловишь на себе встречный взгляд темных, подернутых задумчивой пеленой глаз. И вдруг неожиданно понимаешь, что вы – ты и этот парень – дышите ровно, в такт. На остановке у кладбища вы оба сходите. И, когда автобус, проскрежетав закрывающимися дверями-гармошкой на прощание, удаляется, начинаете говорить. О чем-то: о погоде, об Альфавиле, о своих именах. Проходите через проржавевшие врата в царство мертвых. Новый знакомый спрашивает, и ты отвечаешь, и оказывается, что он, как и ты, приходит сюда просто так, а не «к кому-то». Долго гуляете среди могил. Общаясь, цитируя мертвых поэтов, читая друг другу эпитафии на надгробиях. Когда ты хоронишь кота, новый друг тебе помогает. И, возвращаясь в город, ты уже знаешь, что вы с ним – одинаковые. Как стебли травы, или ветви деревьев, или облака на небе. С тех пор вы часто вместе. Родители рады, что у тебя появился друг. Его родители точно так же рады за него. Их успокаивает ваша странная дружба, она лучше, чем вообще никакой. Иногда вы говорите о любви – но ничего такого, просто вам обоим интересна вечная троица: любовь, молодость, смерть. И ты, и он приходите к одному и тому же выводу, к одному чувству. Жалость. Жаль любимых родителей. Так же, как жаль пожилого водителя кладбищенского автобуса и его постоянных пассажиров: старушек с сухими цветами в дряблых руках; грустных людей, которые когда-то потеряли своих близких и теперь безуспешно пытаются их найти в фотографиях на камне. Жаль всех, чья жизнь давно превратилась в постылую безысходную муку, забирая их молодость, день за днем. Не оставляя взамен ничего, кроме пустых разговоров, неказистых шуточек, уродливых фраз. Красота – в молчании. Вы много молчите, а если говорите – то о книгах, и ты показываешь ему свою коллекцию раритетов. Друг делится с тобой экземплярами из собственной библиотеки. Обычно это древние на вид, толстые тома в изрядно потрепанных одноцветных переплетах. Язык этих книг витиеват и сложен, но вместе с тем красив, как узор паутины. Изображенные на иллюстрациях символы загадочны и велики, как религиозные полотна. Знание, сосредоточенное на пожелтевших от времени страницах, принадлежит не этому миру. То же знание собрано в тысячелетней давности эпитафиях, в мертвом языке древних римлян. Возможно лишь прикоснуться к этому знанию, не более. Но и этого почти достаточно. И когда вечером, на пустыре за кладбищем, с черной стеной леса за спиной, вы любуетесь опускающимся на могилы закатом и пускаете друг другу кровь, ты чувствуешь, что так и должно быть. Багровое солнце отражается в алых каплях, когда друг проводит влажными пальцами по твоим губам. Кровь стекает на землю, солнечный свет струится туда же, само светило будто покровительственно смотрит на вас и зовет за собой. Вокруг поднимается в человеческий рост трава, и тень Того, Кто Выше Любой Травы, накрывает вас. Вы разговариваете, и ты согласен с другом. Его предложение воодушевляет, и окровавленные губы сами собойрастягиваются в улыбке. Все так естественно, так просто, как правда – не та лишенная смысла подделка, которую преподают в школах, а настоящая великая Истина. С тех пор ты с трепетом думаешь о ней, об этой правде, ты ждешь наступления Того Самого Дня, готовишься к тому хмурому утру, о котором вы с другом теперь мечтаете оба. А когда время приходит, ты счастлив. Старый автобус тарахтит и трясется, направляясь по пустым улицам за город, к последней своей остановке. Ты сидишь в салоне и думаешь: как хорошо, что друг умеет водить. Поглаживаешь топор, что лежит на коленях тихо, как лежал там умирающий от голода котенок. И запах совсем не мешает, ведь он знаком тебе и близок почти так же, как сидящая рядом мама или отец, что устроился чуть впереди. Рядом с папой – бывший водитель автобуса, а у задней двери лежат родители твоего друга, трогательно обнявшись напоследок. Его маленькая сестренка привалилась раскроенным, похожим на распустившийся цветок колокольчика черепом к окну, словно любуясь нарисованным снаружи пейзажем. Ты никогда не видел ничего настолько прекрасного. И вот вы уж едете вместе, вы все – старые знакомые, одна большая счастливая семья, единые в этом молчаливом путешествии. Утро встречает вас серыми полями, и черным лесом, и прекрасным вечным седым небом, а в стареньких колонках звучит «Forever Young», и вы молодые. Теперь уже навсегда.Бабай
– Знаете, у Дениса очень богатое воображение. Боюсь, у вас могут возникнуть трудности, – чуть запинаясь и едва ли не розовея лицом от смущения, сказала Наталья Левина. Для своих лет мамочка выглядела просто великолепно. Коля с трудом удерживался от того, чтобы не мазнуть взглядом по высокому бюсту, гадая про себя, досталось блондинке это богатство от природы или же старик Левин раскошелился на радость себе и своей домохозяйке ради имплантов из силикона. За те несколько минут, что длилось их общение, Николай в уме уже не раз освободил мадам Левину от лишних предметов одежды и изучил все выпуклости и впадины ее сочного зрелого тела. – Не волнуйтесь, – широко улыбнулся он. – У меня фантазия тоже неплохо развита. Так что мы еще посмотрим, кто кого больше удивит! – Да-да, конечно… – рассеянно кивнула женщина. – На каком факультете, вы говорили, учитесь? – На педагогическом, Наташ, на педагогическом, – подсказал глава семейства, коснувшись локтя супруги. – Милая, нам уже пора, самолет вылетает через час. Ступай в машину.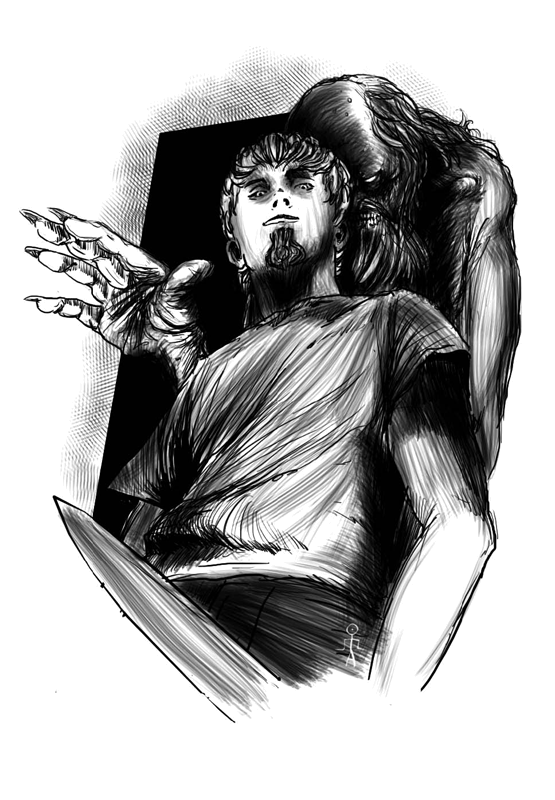
Они стояли на каменистой тропинке перед двухэтажным коттеджем. Солнце заливало золотом аккуратно постриженную лужайку и кусты по периметру, бликовало на стеклах высоких, в человеческий рост, окон первого этажа и на стали, выступившей из-под краски детских качелей во дворике. Там сидел шестилетний Дениска, успевший уже попрощаться с родителями и оттого, наверно, немножко грустный. Мальчишка не смотрел в их сторону, а, понурив голову, казалось, считал мелкие камушки на проплешине, протертой под качелями. Коля украдкой следил за ним. Пусть знойная мадам Левина и беспокоилась, удастся ли студенту наладить контакт с ее сыном, он сам на сей счет был совершенно спокоен. Чай, не в первый раз. Подождав, пока жена устроится на заднем сиденье такси, Петр Сергеич Левин повернулся к Коле: – Сам понимаешь, Николай. Мать все-таки, волнуется, – объяснил он, смущаясь едва ли не сильнее супруги. Если у той от непривычных разговоров на пухлых щеках появлялся румянец, то у Левина, годившегося Наталье в отцы, а Дениске в деды, проступили бурые пятна на висках рядом с кустистыми седыми бровями. – Раньше, когда надо было уезжать по делам, с Деней обычно дочь моего приятеля оставалась. Но теперь девушка вышла замуж, переехала в столицу, сама уж двойню поджидает – и вот… Пришлось решать проблему таким образом. – Вполне разумно, – кивнул Коля. – Я бы на вашем месте поступил так же. – Да… Хорошо, что сейчас появились эти студенческие биржи. И вам лишний заработок, учиться легче будет. Ладно, – заспешил Петр Сергеич. – Значит, следи за домом, гараж закрыт наглухо, так что о машине можешь даже и не беспокоиться. В любом случае, все ценное имущество застраховано, так что главное – за Дениской смотри получше! Пацан шебутной, да и возраст у него такой, что на одном месте не сидится. Улавливаешь? – Шило в попе, – не моргнув, ответил Коля, – как про таких говорят. Гиперактивность. – Точно-точно! Особенно про шило ты верно подметил. Имей в виду! Ну, а значит, завтра к вечеру – мы уже здесь. – Я все понял, Петр Сергеич. Не стоит переживать, ночь уж как-нибудь продержусь. – Молодец! Ну давай тогда, – мужчины пожали руки, после чего Левин побежал к такси. Напоследок, уже открыв дверцу, он махнул сыну, а потом ободряюще потряс кулаком в воздухе и что-то крикнул Коле. Водитель как раз заводил мотор, и тот не разобрал слов: то ли «но пасаран!», то ли «так держать!» Машина, громко шурша шинами по гравию подъездной дорожки, скрылась за поворотом, а он еще чувствовал на себе напряженный взгляд Натальи с заднего сиденья. Ох уж эти мамаши, куриные головы в золотых клетках – и только. Хотя окорочка у нее и правда аппетитные. Постояв с полминуты на тропинке, Коля обратил внимание на своего подопечного. Во внешности Дениски вроде бы ничего примечательного не было: аккуратно зачесанные набок прямые русые волосы, ясные синие глаза, какие только у детей бывают, а у взрослых с возрастом обычно тускнеют, что и случилось, к примеру, с глазами Левина-старшего. В отличие от собственного великовозрастного папаши, паренек вызывал у Коли симпатию. – Ну что, капитан, давай еще раз знакомиться? Теперь уже по-настоящему, без взрослых. Меня зовут дядя Коля. – А я Денис. – Ребенок протянул руку, и Коля, аккуратно ее пожимая, ощутил холод в маленькой хрупкой ладошке. Пальчики, впрочем, были сухие, без пота. Мальчишка, судя по всему, нервничал при встрече с новым человеком куда меньше, чем его родители. Благая наивная юность. Коля подмигнул ему. – Покажешь свой корабль, капитан? – Конечно, старпом! – Дениска засмеялся, довольный. Его погрязшему в делах отцу или застывшей в развитии, привыкшей к обеспеченной, беззаботной жизни мамочке трудно понять простую истину, что путь к сердцу любого ребенка лежит через игру. Коля же в душе сам был игрок и общий язык с детьми находил моментально. Они вошли в дом. Коля закрыл массивную входную дверь на оба замка и спрятал доверенную ему связку ключей в карман джинсов. Первым пунктом осмотра оказалась просторная кухня, со вкусом обставленная и напичканная разными техническими диковинками, – маленький храм питания, с поправкой на эпоху развитых технологий. – Это кухня, – сказал Дениска. – Э нет! Это будет отличный камбуз для нашего с тобой звездолета, правда? – Правда! – Тогда полный вперед – идем дальше… – Это наш Зал, – мальчик обвел взглядом большую комнату, игравшую роль холла или гостиной. Затем с любопытством глянул на Колю, явно ожидая его комментариев. – Назовем это место Рекреацией. Здесь отдыхает в пересменках экипаж нашего судна. Что дальше, капитан? – Дальше по коридору ванная и туалет, а потом спуск в гараж, – Дениска запнулся, отвел глаза. – И еще подвал. – Боишься подвала? – поинтересовался Коля. – Нет! У нас там светло и сухо! Ну, если свет включить. А ты что, подвалов боишься? – Есть немного, – хмыкнул студент. – Понимаешь, капитан, когда я маленьким был, у нас дома в подвале жили крысы. – Большие? – Еще бы! Огромные, как коты. Или еноты. А то и с маленького мальчика размером. Такие, знаешь, серые, с глазками-пуговицами и длинными лысыми хвостами… А наверху у вас что? – Он показал на деревянную лестницу. – Спальня родителей, моя и еще комната отца. – Кабинет, – догадался Коля. Семья Дениски жила весьма неплохо, Левин-старший руководил вполне успешной фирмой, компьютерный бизнес. Собственно, Петр Сергеич и нашел-то Колю через Интернет. На одном из вузовских сайтов работала доска объявлений для студентов, подыскивающих работу на время летних каникул. Удобная штука. К тому же, в отличие от Фейсбука или Вконтакте, здесь никто из работодателей не мог залезть на страницу твоего профиля, чтобы покопаться в фотоальбомах или послушать, какую музыку ты предпочитаешь. – Играть будем? – Дениска рванул вперед. – Догоняй меня, старпом дядя Коля! За спиной что-то громко ухнуло, заскрежетало и зазвенело. От неожиданности парень вздрогнул, резко обернулся и рассмеялся: часы! Да такие большие, массивные, с тяжелым маятником. Старинные или под старину сделанные, темного дерева. Как это он их сразу не заметил? Семь. За окном постепенно наползал вечерний сумрак, солнце клонилось к закату, воздушным шариком нависнув над пиками растущих по окраине поселка елей. – Ну что ж ты? Догоняй! Я индеец, ты – шериф! Коля с хохотом погнался за мальчишкой, норовя ухватить того руками, но каждый раз в самый последний момент нарочито неловко промахивался. Дениска визжал от восторга и бежал еще быстрее, прыгал по дивану, то и дело нырял под журнальный столик. Пару раз Коля давал мальцу проскользнуть у себя между ног. – Не поймаешь, бледнолицый, ты слишком косолап! – кричал Дениска из угла. – Врешь – не уйдешь, краснокожий! – Коля скакнул в его сторону, огромным прыжком преодолевая несколько метров, и растянулся на полу. Дениска радостно верещал уже с дивана. Студент перевернулся лицом вверх и, заговорщицки подмигнув «краснокожему», одним движением вскочил со спины на ноги. – Ух ты, здорово! Научи, научи меня так! – Ха, разбежался! Сразу не получится. Но если будешь меня слушаться, то, может, потом… – Буду слушаться! Но, может, потом! – заверещал Дениска, сел-спрыгнул на край дивана и заболтал ногами в воздухе. – Давай мультяшки смотреть? – Мультяшки? Давай, почему нет? – Коля подобрал с журнального столика пульт и включил телевизор. Ведущая городской программы новостей что-то рассказывала об очередной серии убийств в округе, крупным планом показывали фото без вести пропавших. Внутри у Коли похолодело: некоторые из предполагаемых жертв были ровесниками Дениски. – Блюрэй включи! – отвлек его мальчишка, уже деловито ковырявшийся в тумбочке с дисками. – Как скажешь, капитан… Они устроились на диване: Дениска сел «по-турецки», поджав ноги, Коля вытянул свои вперед. На экране два маленьких мышонка с индейскими перьями на головах снимали скальп с придурковатого кота. Малец хихикал, наблюдая все это. Студент проверил телефон: Петр Сергеич должен был позвонить в девять или позже, после того как самолет сядет. Когда виброзвонок сработал, было уже начало десятого. – Да, Петр Сергеич. Да, конечно, у нас все в порядке, «Том и Джерри» смотрим. – Рад за вас, ребятки, – голос в трубке звучал глухо, перебиваемый помехами, и казался немного уставшим. – А мы еще в аэропорту. Рейс задерживают из-за погоды, так что, может, позже и не позвоним, вы там уже спать давно будете. Да еще Наташка тут… нервничает. – А в чем дело? – Да сам знаешь, женское. «Материнское сердце» ее изволит беспокоиться из-за сынули… – Да нормально все с ним! Так ей и передайте. Хотя нет, – Коле пришла в голову мысль получше: – Давайте я ему трубку дам, пусть поболтают. Это-то ее успокоит? Он отдал телефон мальчику и сделал знак, чтоб тот говорил, а сам пошел на кухню приготовить чего-нибудь на ужин. Поздновато, конечно, но что поделаешь – после всей этой беготни надо подкрепиться. Наполнил чайник водой из фильтра, включил в розетку, достал из большого трехкамерного холодильника банку с яблочным джемом. За окном совсем стемнело, поднимался ветер. Он присмотрелся: на небе не было звезд, значит, все оно покрыто тучами; погода и правда портилась. Первые мелкие капли дождя падали на стекло. Коля достал из шкафчика стойку с ножами, повыбирал, любуясь блеском отточенных лезвий. Воображение рисовало разные сказочные, приятные картины: дождь, лужайка перед домом, танцы под теплым и яростным летним ливнем, ветер, бьющий в лицо, ласкающей голую кожу… – Ну что, капитан, доложился мамке? – Когда Коля вернулся с подносом в комнату, телевизор был выключен, Денис валялся на полу и рисовал что-то фломастерами в альбоме. Телефон лежал на диване. – Ага, я сказал, что ты кушать готовишь, – ответил мальчик, не оглядываясь. – Все верно сказал! И теперь самое время как раз таки перекусить. – Коля поставил на пол поднос с большой желтой кружкой дымящегося чая и несколькими кусочками белого хлеба с намазанным на них джемом, сам уселся рядом. – А что это ты тут у нас изобразил, маэстро? На альбомном листе можно было узнать плоское, аляповатое изображение дома и лужайки перед ним. Дом коричневый, лужайка зеленая. Рядом с домиком стояло что-то огромное, в два раза выше самого строения, когтистое, с большими, похожими на блюдца белыми глазами без зрачков. – Ну-ка, дружок, скажи дяде Коле, что это за бяка? – Это Бабай, – мальчик робко взглянул на большие часы. – Он приходит в полночь. Коля облегченно вздохнул. – Парень, тебе скоро семь лет, а ты еще… – Он усмехнулся, задумавшись на секунду. – В двенадцать, говоришь? Денис кивнул с мрачным видом. – Ну подождем сегодня, посмотрим, кто к тебе придет, хе-хе… Ты кушай давай, чай пей. – А ты? – Я потом, пока еще аппетит нагуляю. Порывшись на книжной полке, Коля достал потрепанный томик Чейза и, улегшись на диване, попытался погрузиться в чтение, пока мальчишка ел. Но в голову лезли разные мысли. Подумать только! Шесть лет, уж скоро в первый класс пойдет, а все еще в Бабая верит! Редкий случай… Даже странный, наверное, удивительный. А ведь кто, в сущности, этот Бабай? Так, пугало для маленьких детей, выдуманное взрослыми. Его и самого в детстве таким бабка пугала, чтобы спать уложить. Говорила: «Если глазки не закроешь, придет к тебе старый Дед Бабай. Слышишь? Тук, тук, тук (рукой бабка, надо думать, стучала по спинке кровати для пущей убедительности, хотя маленький Коля сам этого и не видел) – это он идет, Дед Бабай!» В каждой стране есть такой злой дух, бессмертное чудовище из снов, которое приходит к непослушным, не желающим засыпать, к вредничающим. Где-то Бука, где-то Бугимен, у нас – Бабай. И что же делает этот монстр, когда приходит к своим жертвам? Уж вряд ли что-то, способное сравниться с тем, что творят настоящие чудовища из плоти и крови. А мамаша-то была права – у паренька и правда воображение о-го-го! Весело же к полуночи тут будет… От нетерпения у Коли начало покалывать внизу живота. – Эй, капитан, наелся? Пойдем, покажешь свою комнату. – Коля отбросил книгу. – Надо убрать… – Да я сам уберу. Потом, – он улыбнулся своим мыслям. Когда они поднимались наверх, часы, будто отсчитывая их шаги, начали бить одиннадцать. Студент шел чуть сзади, кулаки его сжимались и разжимались. – Эй, капитан. Боишься своего Бабая? – О нем нельзя говорить. Получается, будто зовешь. И на него нельзя смотреть, а то он тебя увидит… – Разумеется… А где он живет? На чердаке? В подвале? У него там тоже своя комната в доме, вроде этой? Мальчик открыл дверь, включил свет. Внутри все было весьма мило: детские игрушки, трансформеры из пластмассы и мягкие пупсы, разбросаны по полу, маленькая кровать с цветастым одеялом, на стенах плакаты с Халком, Железным Человеком и другими Мстителями, в углу – двустворчатый шкаф. В окне напротив входной двери отражались лица Дениса и возвышающегося у него за спиной Коли. – Нет, – замер, словно что-то в последнюю секунду почуяв, боясь оглянуться, ребенок. Голос его дрожал: – Он не живет в доме. Он… приходит. – Вот тут ты прав. Коля сильно пнул мальца ногой в спину, на кровать, и тут же навалился сверху сам, придушил, оглушил ударами по голове. Несколькими мощными рывками разорвал пододеяльник, одну из получившихся полосок деловито скомкал и запихал, буквально забил через рассеченные, сочащиеся кровью губы в рот своей жертве, другими тряпками связал ей руки и ноги. Остатками ткани привязал тело к кровати, для верности. Запыхавшийся и довольный, встал, осмотрел результаты проделанной работы. Класс! То что надо: мальчик постепенно приходил в себя, что-то мычал жалобно, из-под дрожащих век катили крупные слезы. Наверно, ревел, как и все эти сопляки до него. Разве могли они понять, как им повезло, что он их коснулся! Коля спустился вниз, в зал. Не спеша разделся, аккуратно сложил джинсы, футболку, нижнее белье и носки на диване, туда же определил телефон, подергивающийся от виброзвонка. На экране высвечивался знакомый номер. Э нет, Петр Сергеич, мы уже спи-им, не извольте нас беспокоить… Летите, мой дорогой, летите, а мы тут тоже – полетаем. Только без вас… Так легко. Найти их по Интернету, узнать адрес, достать студенческий, вклеить фотографию… В Самаре было сложнее, а в той деревне под Краснодаром вообще пришлось в итоге вырезать всю семью. Николай поиграл мышцами, любуясь своим совершенством в высоких стеклах. Вернулся на кухню, по дороге подфутболив желтую детскую кружку с недопитым чаем. Ударившись о стену, та треснула, круглая ручка отлетела в сторону. На ковер потекла коричневатая жидкость вперемешку с кусочками заварки. Он постоял перед кухонным столом, раскладывая ножи: самый большой тесак оставил напоследок, как и крупные ножницы для резки мяса. В голове его неспешно кружились мысли о маленьком сувенире или, может быть, двух, на память. Наконец, он выбрал нож – не слишком длинный, но острый и достаточно широкий. Глядя в отражение своих глаз на полированной поверхности, вспоминал, как бывало раньше. Как заманил одного в старый вонючий лифт, где поиграл с ним с помощью валявшегося там же куска арматуры. У того была хорошая попка, мягкая и белая. О, как незабываемо красиво смотрелись на этой нежной коже влажные красные разводы… И пусть гаденыш в итоге обгадился, запаха крови и внутренностей это не портило. А одному селянину он разорвал анус серпом, а потом «нарисовал» улыбку от уха до уха. Но ножи – ножи всегда были самым лучшим инструментом. Кого-то из них искали, да так до сих пор и не нашли. Там, в Самаре, как и здесь, успели поднять шумиху о серии. Но он не любил надолго задерживаться в одном городе, не потому, что боялся быть пойманным, – его просто тянуло в путь, в дорогу, к новым местам, новым мамашам и их детишкам. Даже жаль, что мадам Левина сейчас уже далеко, с ними можно было бы позабавиться на славу и вдвоем. Вырезать Дениске глаза и вставить ей в грудь на место сосков. Заставить его сожрать язык собственной мамки, – как в свое время он поступил с собственными дедом и бабкой. О, Наталья, поверьте, у меня с фантазией все в порядке! Вам такое и не снилось! Никому не снилось. Ну ничего. Когда-нибудь мир узнает… И преклонится. Внизу у него уже все напряглось, выросло и горело. Он коснулся себя там, сначала рукой, а потом плоской стороной холодного лезвия. Здорово… Хорошо, как никогда. Предвкушение. Коля порылся в кухонном шкафчике, достал упаковку дешевых свечей. Пейзане, такие пейзане, вроде бы вполне состоятельные люди, а на мелочах экономят… Прихватив свечи, нож и зажигалку, вернулся наверх. Его подопечный совсем уже пришел в себя: распятый на собственной кровати, один из носочков с зайками сполз, обнажив маленькую детскую ступню, глаза широко раскрыты и в них – о Боже, хорошо-то как! – невыразимое удивление и ужас. – УУУУУ! – взвыл Коля, по-звериному впрыгивая в комнату. – БА-БАЙ ПРИШЕЛ!!! – Ну что, капитан, – прошептал он, присев рядом с мальчишкой, – чуть позже мы с тобой снова сыграем в индейцев. Как ты на это смотришь, а? Только на этот раз индейцем буду я, а ты станешь моим бледнолицым пленником. Помнишь мультик? Я – мышонок, а ты – кот, да? Провел плашмя ножом – той стороной, которая еще хранила тепло Его тела – по щеке малыша. Дениска задергался, замычал что-то через кляп. – Тш-ш-ш, – Коля легонько хлопнул его рукояткой ножа по носу. – Если не хочешь задохнуться с этой тряпкой в глотке, лучше молчи – и я ее вытащу. Договорились? Слезы продолжали катиться по лицу мальчишки, но Дениска замолчал и медленно кивнул. – Умный мальчик… Погоди минутку, мне надо еще кое-что приготовить. Встал, зажег свечи и укрепил – одну на полу, еще три на подоконнике позади кровати. Осмотрелся, прикрыл дверь. Залюбовался мрачной игрой света и тени на своем полностью обнаженном, мускулистом теле в отражении. – Великолепие… – прохрипел он восхищенно. – А они, представляешь, говорили, что я плохой. Не давали играть с крысами и котами… но теперь эти глупые взрослые нам уже не помешают, правда? Снизу раздался глухой бой часов. – Вот. Время ОНО! – Он расправил плечи, полной грудью вкушая ужас, вместе с запахом мочи исходящий от маленького ублюдка. Взял нож, склонился над кроватью и вытащил кляп изо рта жертвы. – Смотри же! Ты, боявшийся ветхих духов и примитивных поверий, смотри! Узри Меня! Удары часов, казалось, становились все громче, а может, это за окном гремела гроза – так, что стекла дрожали. Он ощущал энергию, которая хлестала, кипела под кожей, в мышцах. Сегодня, сейчас, во веки веков – аминь! Оседлав мальчишку, Коля возвысился над ним и занес нож для первого удара – нежного и не смертельного. Нет, конечно же, не столь быстро, у них впереди вся ночь. В этот миг Дениска зажмурился. – Смотри на меня! – заорал сумасшедший. Мальчик, придавленный его телом, отчаянно замотал головой из стороны в сторону. – СМОТРИ, СКАЗАЛ, ИЛИ Я ВЫРЕЖУ ТВОИ ГЛЯДЕЛКИ! – Нет, нет… там БАБАЙ!!! Смолкли часы, и сзади раздался тонкий пронзительный скрип – будто створки старого шкафа неожиданно сами собой раскрылись. Огромная тень колыхнулась по стенам и потолку, дрогнуло и разом потухло пламя свечей. Пришла темнота. А вместе с ней пришел запах. Запах сырости и крысиного помета, вонь протухшего мяса… запах подвала. Коля затрясся, и нож выпал из его пальцев, коротко полоснув по запястью. – Не смотри, не смотри, не смотри! – исступленно визжал мальчишка и бился под ним в эпилептическом припадке. Но когда огромная старческая ладонь тяжело опустилась на плечо, Николай поднял глаза – и, озаренный на миг вспышкой молнии, увидел в стекле Отражение. …Темно. Темнота вокруг обступает, клубится особенными оттенками, которые нельзя определить зрением, но можно почувствовать, как неуловимое шевеление воздуха. Обволакивает медленно и неотступно сразу со всех сторон. Огоньки. Разноцветные тусклые огни начинают кружиться повсюду в этой тьме. Точки-искорки, мерцающие крысиные глазки. Ты знаешь, кто этот Многоглазый, Коля. Ты боишься его, потому что, когда он спускается сюда, в подвал, становится больно… Смешок. Тихий, на периферии слуха, как шелест пожелтевшей от времени бумаги, завалившейся за пыльную раму сломанного холодильного ящика, запрятанного в глубину, в самый дальний угол. Где ты всегда прятался раньше от крыс и не только. И всякий раз напрасно. Деда, не надо, деда! Я не хочу видеть, не хочу, не хочу! …Такси затормозило у самых ворот, наехав передними колесами на газон. Наталья выскочила из машины и, сама не своя, рванулась к дому, пока Петр Сергеич расплачивался с водителем и, смущенно краснея, просил прощения за поведение супруги. Хотя ее истерика уже начинала беспокоить и его самого. Дениска сидел на качелях, не двигаясь. Тусклый утренний свет тонул в тумане, в воздухе пахло прошедшей грозой. Растрепанная мать подбежала, обняла сына, шепча какие-то слова почти в беспамятстве от обрушившегося на нее невиданного и необъяснимого чувства радости и облегчения. Вот и отец подошел. Что Дениска делает во дворе так рано, почему в одном носке? А мальчик молчал. – Какого хрена? Что тут, черт побери, произошло? Петр Сергеич оглядел холл: осколки разбитой кружки, перевернутый поднос, мужская одежда на диване, разбросанные по полу диски, грубо разорванные на куски альбомные листы. – Николай где? – оглянулся он на жену с ребенком. Дениска, прижавшись к матери, молча указал рукой в сторону лестницы. Петр Сергеич поднялся. Тишина давила на нервы сильнее, чем ночная гроза давеча. Тени по углам казались живыми. Дверь в детскую была распахнута. Внутри царил полный кавардак: потеки воска на полу, подоконнике, одеяло клочьями, чья-то кровь на плакате с Дауни-младшим. Мужчина замер, потрясенный. Вдохнул странный и неприятный запах. Эта вонь… откуда она? Петр Сергеич повернулся и осторожно приоткрыл дверцу шкафа. Проникающий в окна слабый утренний свет упал на скорчившийся там внутри грязный, дрожащий комок плоти, о чем-то тихонько скулящий, плачущий и молящий, пытаясь спрятаться в углу от тени Петра Сергеича. И хихикающий. – Николай?.. – Мужчина осторожно протянул руку к этому жалкому созданию, чтобы убрать от лица ладони, которые кто-то выкрасил в ярко-алый цвет. Существо дернулось, испуганно завыло, отмахиваясь от Петра. И он сам отшатнулся, поперхнувшись ужасом и омерзением. Нет, Коля не прятал лицо от света или тени. Обломанными до основания ногтями он яростно рвал, раздирал себе глазницы.
В пыль
Сан Санычу было под шестьдесят. В декабре у него диагностировали рак легких (тот еще подарочек на новогодние праздники, конечно), но он отказался от терапии и продолжал курить по две пачки в день, а пить стал только больше и чаще. Жена его отдала Богу душу без малого пять лет тому назад, на Пасху. Детей они не нажили, вот и обретался Сан Саныч теперь один-одинешенек, бобылем. У него, правда, была жива еще мать, старуха за девяносто, которая нуждалась в помощи и уходе, но он не стал переезжать к ней на квартиру ни после смерти жены, ни даже когда узнал, что жить ему самому осталось всего ничего. Предпочитал заходить в гости по вечерам, потому что старушка совсем выжила из ума, баночка треснула, и проводить время в некогда родном доме стало и мучительно, и страшно. Характер Сан Саныча, и в молодые-то годы не самый приветливый, с возрастом испортился окончательно. Немногочисленные друзья все либо уже умерли, либо постепенно отвернулись, обиженные его брюзжанием и утомленные бесконечным стариковским нытьем. Так что со своими страхами Сан Саныч боролся в небольшой компании, состоящей из граненого стакана, графинчика беленькой, допотопного телевизора с выпирающим, как «дуля» из кулака, кинескопом и круглолицей девки с опухшими от прыщей щеками, которая орудовала за стойкой бара. Местечко это, названное в честь этой самой дамочки «У Аллы», имело снаружи изрядно потрепанный и пошлый вид, тем самым напоминая Сан Санычу его покойную супругу, которую он иначе как «старая проститутка» и не называл. Вход в полуподвальное помещение прятался в торце жилого дома, где раньше ютились сантехники, потом, в девяностые, торговали секонд-хендом, а в последние годы сдавали помещения в аренду под магазин для кошек и собак. Когда этим местом завладела его нынешняя хозяйка, сбоку над входом появилась, дабы выглядывать клиентов, светящаяся в темноте вывеска. Но особой популярности этот рекламный ход подвальчику не принес. Нынче вторая «л» в названии бара чернела, будто дырка на месте выбитого зуба, а внутри царило запустение, да к тому ж по-прежнему воняло собачьим кормом. Но Сан Санычу все равно здесь нравилось. Во-первых, дешевая выпивка. Во-вторых, тут он мог курить – вряд ли Алле кто когда выдавал полагающиеся на то разрешения, но, очевидно, взять с нее было нечего, так что проверяющие смотрели на подобные вольности сквозь пальцы. В-третьих, подвальчик находился в пятнадцати минутах ходьбы от дома Сан Саныча – и всего в пяти минутах от его другой пятиэтажки, в которой доживала отпущенный срок мать. То есть был расположен просто идеально для того, чтобы заглядывать сюда по пути к старухе. А Сан Санычу требовалось выпить перед тем, как досматривать мать. Наконец, в-четвертых, ему нравилась сама хозяйка. Как и многие пенсионеры, Сан Саныч не любил и по всякому поводу и без повода осуждал молодежь. Аллу молодухой назвать было сложно, на вид он бы дал ей тридцать с чем-нибудь, и вообще опухшее, круглое ее лицо, «украшенное» большой волосатой бородавкой на подбородке, смахивало на морду бобра. Но в сравнении с Сан Санычем она была молода, вот только имела к старику подход. Вежливо выкала, наливала, если надо, по-свойски в долг и всегда терпеливо выслушивала его жалобы и бурчание. А главное – не задавала лишних вопросов. Полгода назад, когда Сан Саныч впервые заглянул к Алле, он еще ограничивался парой кружек светлого, с января же перешел на водку с томатным соком. К марту сок из его меню исчез, а водку он уже хлебал графинами. Но Алла никогда, ни разу за все время не спросила Сан Саныча, почему тот пьет. Она лишь наблюдала за тем, как он пьет, знай себе подливала и иногда, под настроение, могла махнуть с ним рюмашку на пару. Как-то незаметно для него самого, Сан Саныч прикипел сердцем к Алле и обращался к ней уже не иначе как «дочка». Она же звала его просто «Саныч», а на прощание, когда он, пьяненький, вострил лыжи из ее заведения на свежий воздух, чмокала в небритую щеку. Большего ему от нее и не нужно было. Сегодня Сан Саныч напиваться не думал, хотя копейка водилась – намедни получил пенсию и, заглянув к Алле, первым делом отдал долги. Вместо пол-литры заказал двести граммов, которые, крякнув, и осушил в один присест, после чего задымил папиросой, посматривая слезящимися глазами сквозь дым на ящик в углу. В местных новостях говорили о старом заводе на Фрунзе, за речкой, а прогноз погоды обещал продолжение суровой зимы, гололедицу и двойную норму осадков вслед за короткой весенней оттепелью. Рядом с собой Сан Саныч положил на стул непрозрачный белый пакет, внутри которого темнел плотно завернутый в газету большой столовый нож. Его он прихватил из дома, так как у матери все острые предметы, включая кухонные приборы, давно уже повыбрасывал, чтобы та не учудила чего. В последнее время Сан Саныч жалел об этом: уж лучше б сама… – Как здоровье-то, Саныч? – поинтересовалась Алла. – Вы сегодня мрачней обычного. – Не обращай внимания, дочка, – махнул он рукой, а затем сцепил пальцы на столе в замок, чтобы та не заметила, как они трясутся. Конечно, Алла подумала бы, что это дрожь, свойственная старым пьяницам, но ему-то не хотелось, чтобы она так думала. Не хотелось, чтобы «дочка» запомнила его таким. – Переключи-ка лучше канал, а то нет мочи смотреть, как у нас тут все плохо. Она щелкнула кнопкой пульта – и попала на другой новостной выпуск, где вновь показывали снос химзавода. Сан Саныч так и замер с недокуренной папироской, повисшей в углу приоткрытого рта, не в силах оторвать взгляд от экрана. По груди будто стайка крыс пробежала – он буквально сердцем почувствовал их цепкие коготки. – Вы там работали, – догадалась Алла, приметив его реакцию. – Химичили, значит. В ящике рушились под давлением строительной техники стены из кирпича. В морозный воздух над развалинами поднимались клубы пыли. – Нет, не работал, – сказал Сан Саныч. Расцепив руки, бросил окурок в стеклянную пепельницу и украдкой запустил ладонь в пакет, пощупать ножичек. – Моя мать там работала. – Как и половина города, – хмыкнула Алла, прислонясь к стойке. Она тоже увлеклась репортажем и, кажется, не обратила внимания на то, чем занимался ее единственный этим вечером клиент. – Жалко. Он же точь-в-точь старик, бомжара бездомный, всеми забытый и брошенный. Грустно, когда такие предприятия становятся не нужны ни государству, никому. – Наоборот, хорошо, – возразил Сан Саныч. – Завод, дочка, был полусекретный, армейские заказы выполнял. То, что его прикрыли, значит только одно – воевать уже не с кем. – Но ведь у вашей семьи с ним столько воспоминаний, наверное, связано. – Не самых лучших, поверь, не самых лучших… Опасное производство, все эти реагенты, вещества… Мой отец в тамошних лабораториях всяким вредным дерьмом надышался так, что умер еще молодым, лет в сорок. Вся та химия, которую они прямо в речку сливали, – мы ведь пили потом эту воду, весь город пил! Стоит ли удивляться болячкам, которые на старости лет вылезают, – он вздохнул. – …Или вот жена моя, старая проститутка. Родить не могла ни от меня, ни от любовников своих. Зачать не получалось – а почему? Все оттуда же, химия и водичка. – У меня там дед работал. Обгорел, когда людей спасал… Вы, наверное, помните тот пожар, в семидесятом. Деду тогда почетную грамоту выписали и звание героя дали, вместе с инвалидностью. – Еще бы не помнить! Дым стоял коромыслом, такой, что по ту сторону реки в селах видали. Нас, школьников, с занятий сняли на неделю, все уроки отменили, пока устраняли последствия… Директору еще повезло, что просто посадили. Дело-то подрасстрельное – восемнадцать человек угорели. И кое-кто не от газа, а от химии тамошней, да так, что глаза полопались и легкие в труху. – И ваш отец? – Нет, он позже, в семьдесят пятом. Я только с армии пришел – и сразу на похороны. А меня же невеста ждала, представляешь? Проститутка старая, ну то есть тогда еще молодая. Свадьбу пришлось отложить… Хотя, может, лучше б было и вовсе отменить, ну да чего уж теперь, – задумавшись, Сан Саныч опустил взгляд на дно стакана. – А знаешь, дочка, плесни-ка еще. И тогда уж графин сразу неси, как обычно. Не хотел сегодня, но, раз такое дело, помяну чертов завод, туда ему и дорога. – Не расстраивайтесь, Саныч, – ласково улыбнулась Алла. – Зато ваш отец пожил дольше, а не тогда еще, в семидесятом, ушел. – Пожар-то в цеху был, не в лабораториях. И это хорошо, потому что в лабораториях у них гадость похуже водилась, чем на производстве. Экспериментальные образцы. С другой стороны, может, пущай бы и горело оно все синим пламенем. – Всему свое время, в конце концов, – рассудила она. – Теперь-то уж там ничего не осталось. – И то правда, – кивнул Сан Саныч, думая о матери. – Каждому свой срок отмерен. – Щелкнуть? – спросила Алла, когда он опрокинул в себя вторую порцию и закурил новую папиросу. – Сегодня Лига чемпионов, наши играют. – Да ну их, – махнул Сан Саныч, отгоняя дым от лица, чтобы лучше ее видеть. – Эти питерские все одно без ума играют, только бегают, как физкультурники. Сам он, как и его отец, и дед, болел за московский «Спартак». Одинаково хорошо помнил что победный гол Шмарова со штрафного в ворота «Динамо Киев» в последнем союзном первенстве, что «черпачок» Цымбаларя в матче с «Реалом» в девяносто восьмом. Но уже не надеялся отпраздновать юбилейное десятое чемпионство и считал, что настоящий футбол в стране закончился, когда туда пришли олигархи и госкомпании с большими деньгами. – Баночка треснула, понимаешь? – припьянев, пояснял он Алле чуть позже, когда уже шел второй тайм. – Слишком много им платят, слишком! Когда человек о деньгах думает, ему уже не до работы. Его жаба душит. От жадности все проблемы у людей, только из-за нее, поганой. К десяти часам Алла свою работу кончала, да и Сан Санычу было уже пора, но покидать теплое местечко ужас как не хотелось. Не сегодня, не в этот раз. Стоило подумать о том, что ждало его в квартире у матери, как становилось тошно, и решимость, полнившая его на трезвую голову, поиссякла подобно тому, как опустел графин из-под водки. – До завтра, Саныч, – чмокнула Алла его в щеку. Старик чуть-чуть не заплакал, расчувствовавшись. – Будет ли оно, завтра… На улице выпал снег, накинув белые шубы на кусты и деревья. Свежий морозец помог немного прий ти в себя, хотя Сан Саныча все еще изрядно шатало к тому моменту, когда он добрался до родного дома. И начало клонить в сон. С трудом одолевая подъем меж душными камерами лестничных пролетов, он поневоле стал клевать носом. Доковыляв до двери, надавил большим пальцем кнопку звонка и, удерживая ее, ткнул лбом холодную обивку из дешевого кожзаменителя. С другой стороны доносились мелодичные трели, но больше Сан Саныч ничего не услышал. Внутри него зародилась слабая надежда, что мать тихо скончалась, утонув в загаженных простынях. «Это было б неплохо, – думал он, посматривая вниз, на пакет, нож в котором, казалось, был сделан из чугуна и оттягивал руку, как гиря. – Можно б не заходить к ней неделю-другую, чтобы своей смертью, от голода…» Вот только батя что-то в свое время утащил с работы, из лаборатории теперь уже мертвого завода, и баночка треснула. И здоровье Сан Саныча треснуло, разлетелось на осколочки. А значит – дальше ждать нельзя, надо что-то делать. Его все сильней клонило ко сну. Мать тоже спит, догадался Сан Саныч. Либо вконец оглохла. Впрочем, в последние дни она и вставала-то с кровати редко. Покопавшись в карманах, нашел собственный ключ, с трудом попал им в замочную скважину и повернул – сначала, по ошибке, не в ту сторону. Наконец, справившись с запорами, ввалился в прихожую. В ноздри моментально ударил знакомый неприятный дух. В квартире, в отличие от заведения Аллы, пахло не собачьим кормом. Здесь царил аромат забытья и тлена, воняло экскрементами, пылью. «Хэ, Зэ, сынок, тридцать один, ноль-один, баночка треснула, – вспомнил он. – Моли Божью Мать, чтоб заступилась пред Господом за твою родимую, да и за тебя самого. Ибо, где пыль, там и нечистый». – Да хватит уж врать самому себе, – проворчал Сан Саныч, ступая в темноту. – Кому молиться? Ты, старый хрыч, всю свою жизнь ни во что не верил. Это было правдой. Как и то, что пыли в квартире становилось все больше. Всякий раз, заглядывая к матери, он проводил тщательную уборку. Прежде она сама этим занималась, а после смерти отца привычка ее к чистоте доросла до фанатичной приверженности. Многие годы Сан Саныч не мог понять, с чем это связано, лишь наблюдал и помогал, а в последнее время делал все сам, выполняя ее требования: мать просила, настаивала, кричала – и он подчинялся. Потом стал замечать необычное. Сколь бы старательно он ни убирался в доме, как долго бы ни ползал по углам с тряпкой – на другой день в этих местах вновь появлялась пыль. Вот и сейчас, когда он оперся о дверной косяк, пальцы словно погрузились в бархат. Прикосновение было нежным, почти любовным. Сан Саныч невольно отдернул руку. Пыль закружила в сумраке прихожей, поблескивая искрами, когда в ее крупицах отражался падающий из коридора свет. Эти искорки мелькали перед глазами, щипали за нос. Сан Саныч вычихнул пыль вместе с соплями. Чих отозвался гулким болезненным эхом одновременно в стенах квартиры и в его легких. Кажется, он жаловался на мать Алле в перерыве футбольного матча. А может, и до этого, месяц или два тому назад. Или только хотел нажаловаться. – Первое время после свадьбы, пока государство отдельную жилплощадь не выделило, мы с женой жили там же, у матери, – рассказывал или мог бы рассказать Сан Саныч «дочке». – Это было невыносимо! Когда была дома, она все время стирала, пылесосила, подметала, мыла полы. Уборка начиналась спонтанно и велась в любое время дня и ночи. Однажды я проснулся глубоко за полночь от странного, пугающего звука. Что-то среднее между скрипом и шорохом. А когда встал и вышел из спальни – увидел, что мать протирает шкафы. Она и раньше возилась с тряпкой то в одной, то в другой комнате, но в тот момент, посреди ночной тиши звук был на редкость отчетливым и нагонял жути. Будто старые кости терлись друг о друга. Стирались в прах. Тогда мы и съехали, потому как жена, старая проститутка, не могла такое уже выносить, да и мне не по себе бывало. – И чем все закончилось? – может быть, сегодня, а может, месяц или два назад спросила Алла. – Она попала в психушку? – Она постарела, – сказал Сан Саныч, стоя перед дверью в комнату матери. В этом и крылась пугающая истина. Старуха свихнулась. Не сошла с ума в одночасье, но постепенно ее разум и воля слабели. Сначала она забывала имя его жены. Когда благоверная еще здравствовала, они иногда захаживали в гости. Мать путала, перебирала наугад разные имена, и по первости Сан Саныча это даже забавляло, тем более что с женой они уже тогда не особо ладили. Однако потом мать стала забывать и его имя тоже. Это было странно и страшно: смотреть в глаза родной мамке и видеть там боль и отчаяние; понимать, что, пока ты смотришь, та изо всех сил старается вспомнить, как тебя зовут, но ничего не выходит. Потому что баночка, будь она проклята, треснула. – Ма, ты спишь? – окликнул Сан Саныч темноту, сбрасывая с себя верхнюю одежду. Он был пьян, но понимал, что при включенном свете раздеваться куда как проще. Вот только для этого следовало нащупать на покрытой пылью стене покрытый пылью тумблер. – Нет, Шурочка, не сплю, – донесся в ответ слабый, тоненький голос. – Зачем же мне спать? Мне не надо, не надо… – Ма, ты опять… запылилась, – пробормотал он. – Нечистый… – прошелестела тьма. – Я уберу, ма. Я все уберу, как всегда, – ответил Сан Саныч, не сразу сообразив, что услышал голос только в собственной голове. Это тоже пугало. Голоса в голове. Так бывает, когда идешь по тонкому льду. Одна маленькая трещинка, за ней вторая, третья – и вот их уже так много, что опора, казавшаяся незыблемой, как скала, рассыпается, и ты с головой окунаешься в холодный темный омут. Мать лишилась рассудка, но самое страшное заключалось в том, что Сан Саныч иногда не был уверен, что не следует за ней той же дорожкой. Иногда ему казалось, что лед уже хрустит и у него под ногами. Уже пара лет, как мать совсем перестала выходить на улицу. Ноги практически отнялись из-за больных суставов и проблем с вестибулярным аппаратом. Она стала мочиться прямо в постель и порой впадала в бред. Пунктик насчет мусора никуда не делся, но приобрел совершенно безумную форму – как на тех бездарных, по мнению Сан Саныча, рисунках так называемых художников-авангардистов, что выставлялись в местном ДК с полгода назад. «Хэ, Зэ, тридцать один, ноль-один, – бормотала старуха в периоды помутнения рассудка, которые поначалу длились минуты, потом часы, а теперь уже почти никогда не заканчивались. – Баночка треснула… Нечистый, нечистый меня подъедает». Так и говорила: не «пьет», не «жрет» – «подъедает». И, глядя на то, как не по дням, а по часам множится пыль в квартире, Сан Саныч готов был поверить, что это правда: пыль пробралась к матери в голову и каким-то образом выела старушечий мозг. Приоткрыв дверь, он сунул голову к ней в спальню. Кровать стояла в дальнем углу, у окна. Рядом два стула, заваленные таблетками, мазями и микстурами. Поблизости на полу валялся, источая гадкий запах, использованный памперс для взрослых. На улице уже зажгли фонари, отблескидалекого света очерчивали накрытую десятком одеял и простыней фигуру. На покрывале серебрилась сверкающими крупицами вездесущая пыль. – Ты голодная? – Еще как голодная, – шевельнулась гора тряпья, словно могильный холм ожил и заговорил. – Мне мясца бы, Шурочка, чтоб абсорбировать. Вкусненького… Дай мне мяса! Сан Саныч с трудом узнал этот скрипучий тембр, в котором вдруг прозвучали новые, не знакомые ему интонации. Так мог бы говорить обиженный ребенок, подумал сначала он, но вспомнил, что у самого детей никогда не было, а значит, откуда ему знать, как те разговаривают, когда расстроены или обижаются? – Я такая голодная, – теперь она говорила весело, с хитринкой. – Что корову б съела целиком. Шурочка, сладенький, поди к мамке… – Я разогрею тебе покушать, – он поспешил прикрыть дверь. Пакет с ножом лежал там, где он его и оставил, в прихожей. Несколько долгих минут Сан Саныч стоял над ним, сжав трясущиеся пальцы в кулаки. Слушая доносящиеся из спальни вой и причитания: – Мясо, хочу абсорбировать мясо, тефтелей хочу, а твоя шалава только супы готовить умеет… С женой у них отношения начали портиться лет двадцать тому назад – получается, где-то за пятнадцать годков до ее смерти. Мать уже плохо соображала, и Сан Санычу приходилось навещать старушку все чаще, надолго покидая дом, и оставаться у нее все дольше, иногда на целую ночь. Химикаты в речной воде уже, видимо, начали сказываться на его здоровье, мужская сила ему отказала. В конечном счете, не мог не признать Сан Саныч, ничего удивительного в том, что благоверная нашла себе полюбовника, не было, хотя он все равно не мог ей того простить. А еще жена уговаривала отправить мать в дом престарелых и продать квартиру. Дура, да кому нужна эта халупа с таким количеством совершенно неизводимой пылищи?.. Думая обо всем этом, а вернее, наоборот, пытаясь перестать думать, стараясь избавиться от сонма тяжелых пьяных мыслей, Сан Саныч прошел, покачиваясь, на кухню, включил газ и поставил на плиту кастрюльку с позавчерашними магазинными голубцами. Пока те разогревались, он едва не уснул, сидя за столом и глядя на широкое блестящее лезвие посреди разложенной старой газеты. В чувство Сан Саныча привел громкий утробный стон, донесшийся из спальни: – НЕЧИСТЫЙ! Богородица, родненькая, споможи, нечистый меня подъедает… – Приятного аппетита, – буркнул Сан Саныч, вываливая исходящие паром голубцы на тарелку. Дверь пришлось подтолкнуть ногой, чтобы открыть, так как обе руки у него были заняты. В левой он нес тарелку с едой, чтобы мать абсорбировала, а правую, в которой держал нож, спрятал за спину. Глаза его уже привыкли к темноте, но Сан Саныч все равно поначалу им не поверил, когда увидел мать снова, и замер на несколько секунд на пороге комнаты, будто оглушенный представшим перед ним зрелищем. – Нечистый, Хэ, Зэ, тридцать один, ноль-один, – глухо, по-собачьи поскуливала старуха, стоя лицом к окну в горе беспорядочно сваленного у кровати тряпья. Она была совершенно голая, и жирное, рыхлое ее тело с темными пятнами пролежней на боках слегка серебрилось крупинками пыли. Огромная обвисшая задница и верхняя часть бедер были измазаны коричневым. – Нечистый, баночка треснула, нечистый, нечистый, нечистый… Странно, но запах какашек пропал, хотя должен был вроде стать сильнее. Однако Сан Саныч чувствовал только удушливую пыль. Рукоять ножа обжигала ладонь. Удобнее момента для удара не улучить: мать явно бредила, и вся ее бледная отвратительная фигура сейчас была уязвима как никогда. Это твердила Сан Санычу одна часть его разума, но какая-то другая в то же время вопила, что ему следует немедля покинуть квартиру и никогда, никогда сюда уже не возвращаться. Потому что квартира превратилась в огромный пыльный чулан, а в чуланах – любой дурак знает! – не обитает ничего хорошего. Вот и мать превратилась в чудище, так пусть же и остается здесь один на один с собственным безумием. Один на один с пылью. – Сынок, – вдруг обратилась к нему старуха неожиданно ясным и чистым, прежним своим, знакомым голосом. – А когда мне пенсию принесут, не знаешь? – Завтра, ма, – сглотнув подступивший к горлу ком, тихо ответил Сан Саныч. – Ты тогда зайди ко мне завтра, я тебе денюжку дам. Жинке подарок купишь, у вас же скоро годовщина. Ох, да я ж неодетая! Не смотри, не смотри, нельзя же… Он вернулся на кухню, набрал в пустую кастрюлю теплой воды, прихватил мешок для мусора и губку. Как мог, обтер бока, спину и ноги матери под аккомпанемент старушечьих стыдливых причитаний. Затем собрал испачканное белье и памперс в мешок и бросил все на полу в прихожей. Подумав, закинул туда же, к мусору, и пакет с ножом. – Не так, – сказал себе. – И не сегодня, в другой раз. Скормил ей голубцы, пожелал доброй ночи, как в его детстве они друг другу желали, и, плотно прикрыв дверь спальни, прикорнул сам на диване во второй комнате. Долгожданный сон сразу обхватил его мягкими лапами. Во сне Сан Саныч вспомнил, что у матери была кошка – он сам принес, когда жену еще схоронить не успел. И потом ведь, захаживая к старой, он всякий раз и питомицу ее домашнюю прикармливал, а не одну только мать. Хотел же забрать кошку, когда все закончится, передать Алле… На следующее утро бежал из квартиры в панике. Потому что, проснувшись, увидел серую пыль, покрывшую подлокотники дивана, рукава его куртки и кисти рук толстым весомым слоем. Пол, стены и мебель точно обросли за ночь шерстью, пыль даже с потолка свисала перекрученными бесцветными гирляндами. Когда Сан Саныч стремительно шагал к выходу, липкие толстые нитки разбивались об его щеки. Он зажмурился, чтобы пыль не попала в глаза, но прежде, пробегая мимо дверей в спальню матери, увидел в приоткрывшуюся щель… Вернее, ему показалось, что он там увидел огромную гору пыли, поглотившую и кровать, и старуху, и стулья с таблетками и пузырьками. Весь день Сан Саныч бродил по городу сам не свой. Дошел аж до самой речки, лед на которой уже потрескался и поплыл белыми осколками по черной воде. Так и внутри Сан Саныча все трещало по швам, кусками отваливалось и бултыхалось без толку, как дерьмо в проруби. Он стоял на берегу, где среди снежных проталин пробивалась первая едва живая травка, и смотрел на реку, на льдины и на развалины старого химзавода по другую сторону. Думал о женщинах, которые его окружали в течение всей жизни: о жене, о матери и об Алле, последней и единственной оставшейся у него подруге. Думал о времени и о пыли. О том, что в итоге – а итог-то один – всё на свете превращается в прах. Вот и его пора, знать, пришла. Откладывать больше нельзя. В этот раз он прошел мимо заветной вывески «У А. лы». Конечно, он предпочел бы провести вечер – все оставшиеся ему вечера – там, в тепле и уюте за спокойными разговорами. Но в голове крутилось: баночка треснула, Хэ, Зэ… И в том, что мать уже абсорбировала кошку, Сан Саныч почти не сомневался. Безумие. Древнее запыленное безумие. Он снял куртку, стащил с ног обувь и снова взял в руки нож, который, как и мусор, остался валяться в прихожей. Шел будто бы по ковру, хотя здесь никогда даже завалящего коврика не бывало, только потрескавшийся линолеум. И все же стопа через тонкий носок ощущала мягкое и холодное, словно он шагал по слегка припорошенной снегом земле. – Ма?.. – позвал он. Пыль немедля осела на языке. Сан Саныч зашелся кашлем, подавившись ею. В темноте тоскливо скрипнула дверь спальни. Зашуршала, осыпаясь, серая крошка. Как много пыли!.. Как много!.. Баночка треснула, сынок, тридцать один, ноль-один. Нечистый меня подъедает… – Боже, дай мне силы, – всхлипнул Сан Саныч. «Ты видел, ты видел, ТЫ ВИДЕЛ!» – в отчаянии вопил его мозг, зажатый пульсирующей в висках болью, словно тисками. Перед глазами вновь встала картина, в которую Сан Саныч отказывался верить утром и не мог поверить сейчас. – Ма, ты спишь? – Ш-шынош-шек, – донеслось из спальни. Он распахнул дверь. И сначала подумал, что все-таки безумие, сожравшее разум матери, добралось и до него. – Шура… поди ш-шуда, – прошуршало со стороны кровати. Мать лежала там голая. И вместе с ней, прижавшись к грузному высокому боку, лежала еще одна старуха. Когда Сан Саныч вошел, головы обеих с тихим шорохом повернулись к нему, и он увидел, что они срослись. Дряблая серая кожа будто сплавилась в единое целое. У них была одна щека на двоих и всего три глаза – четвертый утонул в складках кожи и в пыли, обе женщины были покрыты пылью так, словно целиком состояли из нее. Сан Санычу показалось, что он узнает лицо второй старухи. Тонкая сухая ее рука потянулась в его сторону, словно моля о помощи. Взгляд Сан Саныча упал на стул перед кроватью. В поле зрения оказались дешевая черная сумочка и несколько рассыпанных банкнот. – Шуда, – прошуршала почтальонша, абсорбированная его мамашей. Из впадины рта просыпались серые, искрящиеся крошки пыли. Сан Саныч, сдержав возглас омерзения, несколько раз нажал кнопку выключателя – безрезультатно. «А зачем тебе свет? Теперь-то ты все уже видел». – Шынок! – Темный холм на кровати перед ним содрогнулся от гнева и нетерпения. О нет, этот голос не мог принадлежать матери или кому бы то ни было еще. Сан Саныч сделал шаг, наклонился и воткнул в ужасное сдвоенное лицо нож. Лезвие, не встретив сопротивления, погрузилось в прах. Его рука по инерции прошла еще дальше, утонув почти по локоть, Сан Саныч потерял равновесие, и губы матери оказались прямо у него перед глазами. Она выдохнула пыль. В ужасе он выдернул ладонь из того, что когда-то было лицом его матери. Пыль взметнулась в воздух, чудище содрогнулось. Существо потянулось к нему. Вся эта гора тлена. Сан Саныч заорал и махнул кулаком, не глядя, а потом отшатнулся, когда от удара нижняя челюсть старухи рассыпалась, обнажив останки зубов и языка, волокна мышц, жил и сухожилий, которые тоже были покрыты серой пылью. – Шы-ы-ы… – прошипел нечистый. Сан Саныч отскочил назад, но пыль на полу, собравшись в подобие воронки, закружилась, обхватила стопы и щиколотки, и он, запнувшись, упал. Потолок и стены осыпались потоками серой крупы, ее струи стекались к мужчине со всех сторон, мягкими щупальцами проникали за шиворот, а двуликая тварь на кровати медленно поднялась, грозя накрыть его с головой. Он закашлялся и выплюнул на пол сгусток крови. Пыль моментально впитала влагу. Абсорбировала. «Хэ, Зэ, тридцать один, ноль-один, – отчетливо, как команда, раздалось у него в голове. – Баночка треснула!» Этой твари, которую отец притащил с работы, понадобились годы, десятилетия, чтобы набрать силу. Сначала она медленно, ночь за ночью, «подъедала» мать. Потом, одолев ее, добралась до кошки. А сегодня жертвой HZ310-1 стала разносившая пенсию почтальонша. Нечистый становился могущественней день ото дня. Сверкнул, выпав из раззявленной пасти, ставший бесполезным нож. – Не бойш-ша, Ш-шурочка. – Монстр протянул к старику четыре руки. – Это не больно. Тот в ответ чихнул и по-крабьи пополз спиной к выходу настолько быстро, насколько мог. Пыль мешала ему. Липла, как болотная тина, цеплялась за кожу. Сан Саныч на секунду опустил взгляд вниз – и увидел сотни маленьких, напоминающих детские ручек, растущих из пыльного моря. – Нет, нет! – крикнул он в отчаянии, упершись спиной в закрытую дверь. Сан Саныч толкнул преграду затылком, но та, чуть подавшись, тут же спружинила обратно, отказываясь уступать. Из-за двери донеслось громкое шипение, будто в соседней комнате собрался огромный клубок змей. Он оглянулся – сбоку сквозь щель обильно сыпалась пыль. – Ош-штавайш-ша, – предложил Нечистый. Сан Саныч никак не мог понять, правда ли слышит его или этот громкий шепот раздается у него в голове, но понимал, что тот сейчас говорит правду. – В пыли. Во мне. Ты умираеш-шь, но пыль – вечна. «Сожрав почтальоншу, эта тварь стала сильнее», – догадался Сан Саныч. – Вот почему я тебе нужен? Чтобы стать еще больше, еще быстрее? – Мясца, – хихикнул нечистый голосом его матери. – Дай мне мясца! – Подожди, – попросил Сан Саныч. Состоящая из пыли фигура возвышалась на кровати до самого потолка. Черты стерлись, теперь это была просто огромная бесформенная масса, тень от которой накрывала старика с головой. – Погоди, ма. Я разогрею покушать. По спине протянуло холодом – это чуть приоткрылась дверь. – Тефтели, – плаксиво сказал нечистый. Чем бы он ни являлся, но что-то от матери в нем еще оставалось. – Тефтелей хочу! – Сейчас. – Сан Саныч попятился, не отрывая взгляда от чудовища, пока не очутился за порогом. – Я мигом, ма. Пять минут. Прикрыв за собой дверь, он быстро оглянулся по сторонам. У стены по-прежнему стоял диван. Сан Саныч, упершись в него плечом, подвинул диван, загородив им вход в спальню. На какое-то время мать это задержит. Что дальше? «Бежать, бежать куда глаза глядят!» – подсказал внутренний голос. «Но ведь он был прав. Я умираю. И только пыль бессмертна». Сан Саныч вспомнил про Аллу. Если он сейчас сбежит – как много времени понадобится твари, чтобы добраться до подвальчика? Он думал, что мать уже не может ходить, но нечистый – мог. Нечистый открыл квартиру, чтобы запустить внутрь почтальоншу, – и пожрал ее, став сильнее, чем когда-либо до этого. Следующими его жертвами, если Сан Саныч сбежит, могут стать соседи, сначала по этажу, затем выше и ниже, пока весь подъезд не станет одним гигантским пылевместилищем. А дальше? Что будет дальше?.. – МЯСА! – заорала мать из-за двери. А потом зашипела: – Ш-ш-ш… Сан Саныч пошел на кухню. Включил газ. Сел на табурет, достал папиросы и спички. Монстр в соседней комнате неистово выл, тонны пыли шуршали, дверь трещала и диван содрогался под неимоверным давлением. Оставалось надеяться, что времени хватит. В уме Сан Саныч прокручивал гол, забитый Ильей Цымбаларем со штрафного в ворота Илгнеру осенью девяносто восьмого, когда «Спартак» одолел на своем поле «Реал» с Морьентесом и Раулем в составе. Незабываемый матч, незабываемый гол – на исполнение, на технику, точно в угол… Пройдет совсем немного времени после этой игры, и Цымбаларь покинет команду, а потом и вовсе закончит карьеру. А потом умрет, тихо и мирно. Но этот гол – чистая футбольная магия, настоящее искусство – вой дет в историю. На кухне уже пахло газом. Как, наверное, пахло им и в семидесятом, когда рвануло в цеху на заводе – жаль, что не в лаборатории. Шипение горелки нельзя было различить, оно потонуло в шуме перемещающихся по квартире потоков пыли, померкло в сравнении с грохотом выломанной двери, превратилось в ничто, когда Нечистый позвал: – Ш-ШУРА! – Это тебе, дочка, – хмыкнул Сан Саныч, вставив папиросу в рот. Перед глазами у него Илья Цымбаларь аккуратно устанавливал мяч и брал небольшой разбег для удара, и на губах ветерана играла легкая, спокойная полуулыбка. – Гори он синим пламенем! Он чиркнул спичкой о коробок: – А все остальное – в пыль. – А все остальное – в пыль.Каждый парень должен пройти через это
Утро
Тимур глядел на меня, наслаждаясь произведенным впечатлением. Он снимал мою реакцию на планшет, который держал прямо перед собой, так что большая часть его лица оставалась скрыта. Я видел бисеринки пота у него на переносице, но не мог разглядеть ни сам нос, ни щеки, ни рот. Хотя и подозревал, что, спрятавшись за эмблемой с модным надкусанным яблоком, этот рот сейчас ухмыляется. Тим слегка прищурился, его глаза блестели, будто там, в волшебной их синеве, кто-то разбросал новогоднюю мишуру. На самом деле до зимних праздников оставалось еще четыре долгих месяца. Мы оба взмокли и разомлели от жары, а солнце сияло так, словно это был последний августовский денек на планете Земля и нужно срочно выплеснуть весь свет, сейчас, без остатка, ведь дальше – вечная тьма. Но в глазах и голосе друга бенгальскими огнями плясали веселые жгучие искры. «Ну давай спроси!» – хохотали небеса за радужкой его глаз. «Спроси же меня!» – вторил взбалмошный вихор, топорщащийся над правым виском. В пшеничного цвета кудрях гулял отраженный экраном планшета солнечный зайчик, что делало Тимура похожим на античную статую из музея. Так, должно быть, древние представляли себе Диониса – вечно юным озорным богом. «Все писатели онанисты» – вот что изрек Дионис устами Тима пару минут назад. Глупость, конечно, но слышать такое обидно. Особенно если сам сочиняешь истории. От неожиданности я даже колой поперхнулся и теперь ощущал в горле неприятную горечь. Еще противней было от того, что Тимур сейчас снимал видео не просто так, по приколу, а чтобы потом выложить на своем канале. У него было шесть тысяч подписчиков на «Ютьюбе». Сам он считал, что мало, но это ровно в шесть тысяч раз больше, чем насчитывалось читателей у моих рассказов. Расстроившись, я бросил смятую банку в мусорный бак, но промахнулся, и та упала на клумбу позади скамьи. – Что за бред! Да с чего ты взял вообще?! – А ты сам подумай… Тим продолжал снимать, испытывая мое терпение, и явно никуда не торопился. Ему нравились затяжные сцены пыток в кино и то, что он называл «атмосферой саспенса». Он обожал Хичкока, Ромеро, Карпентера и противопоставлял их стиль тому, что часто встречалось в современных фильмах: дешевым приемчикам, скримерам, которые Тим называл «бу-из-за-угла». «Чтобы создать атмосферу кошмара, – умничал он, – нужно нагнетать страх постепенно, работая со звуком и грамотно обставляя композицию». Сейчас сцена была выстроена мастерски: чуть покачивались пустые кабины колеса обозрения на дальнем плане, тихо скрипели ржавые качели, сохла илистая водица на дне заболоченного фонтана. В столь ранний час в парке аттракционов не было ни души – только я, Тим и хриплый голос, напевающий из старых динамиков, как из прошлого века: «Если друг оказался вдруг…» – Прекрати, Тим. Я прыщавый и плохо смотрюсь в кадре, ты же сам сказал. Я не хочу быть частью твоего кино. И не буду! Не стану ничего говорить об этой чуши. – Ну вот прикинь, – он направил планшет камерой к себе. – Чем занимается писатель? Пишет, конечно! Но ведь он не может писать и одновременно звонить в пиццерию, смотреть футбол или резаться в «контру». В процессе работы писатель ни с кем не общается. Он проводит это время один. Сидит где-нибудь у себя в спальне… – В кабинете, если уж на то пошло. Я всегда мечтал, что когда-нибудь, когда стану взрослым и знаменитым, обзаведусь личным рабочим кабинетом. Вместо компьютера там будет стоять дорогая старинная печатная машинка, как у завуча в нашей школе, – тот, правда, вряд ли своей пользуется. На массивном столе из темного дерева также сыщется местечко для изящного пузырька с синими чернилами. А рядом, в узорной кружке, ежиными иголками встопорщатся ручки и перья. Внешняя стена этой комнаты будет сделана из стекла, чтобы видеть бескрайнее море уходящего за горизонт хвойного леса. А у других стен встанут шкафы, забитые книгами моего авторства. – Пусть в кабинете, неважно, – небрежным взмахом разбил мои мечтания Тим. – Двери закрыты, шторы задернуты. Туда никто из его семьи зайти не имеет права, пока он работает. Пока он занят своим, хм, интимным делом… – Я вижу, к чему ты клонишь, но пусть так. Допустим. – Чтобы много писать, нужно много сидеть на одном месте, не отвлекаться, правильно я говорю? Конечно, правильно! Нужно работать руками. Ручками, понимаешь? А для этого привычка нужна, терпение. Ну а как и когда такая привычка вырабатывается? Еще в юные годы… Вот и выходит, что все писатели – онанисты. И у тебя, Петро, есть шанс со временем стать Акуниным. Ну либо просто стереть ладошки до мозолей. Он снова меня снимал и опять надо мною смеялся. – Да пошел ты. Логики – никакой. – Просто ты еще слишком мал, не догоняешь. Тим, наконец, отложил планшет. Сам расслабленно откинулся на спинку скамьи. Блаженно прикрыл глаза, с лица не сходила фирменная улыбка – такая яркая и счастливая, что на него невозможно было обижаться. – Между прочим, я читал, что мастурбацией занимаются девяносто процентов подростков. Это даже полезно для организма… В нашем возрасте. Он приоткрыл один глаз, посматривая на меня с интересом. Стыдно признаться, но мне внимание Тима было приятно даже сейчас, когда я вообще-то должен был на него обижаться. – Зря не веришь! Каждый парень должен пройти через это, чтобы… Ну чтобы у него все там нормально развивалось. – Там? Ага, ну да, конечно. На порносайтах твоих любимых еще и не такое напишут, Петруччо. Кстати, о писаках! Один, знаешь, совсем дописался: у негров в рот берет. – Лимонов, что ли? – Какие на фиг лимоны? Член у негров сосет дядька, прикинь! Тот, который «Восставших из ада» снял… – Так то режиссер получается, не писатель. – Одно другому не мешает. – Чушь какая-то, – не особо уверенно возразил я. – Мама говорит, каждый должен заниматься своим делом. Ты же не пишешь, а я не снимаю. – А Майкл Крайтон? А Кроненберг? Блэтти?.. Про них твоя мама что-нибудь слышала? Он вдруг вскочил: – Я тебе покажу, мамина дочка, через что на самом деле надо пройти, чтобы стать настоящим мужиком. Айда со мной! Тим схватил меня за рукав и потянул. Я упирался слабо, как и спорил с ним до этого, больше для виду, чем всерьез надеясь одолеть друга. Мы отошли на пару шагов, но тут он отпустил мою руку, хлопнул себя по лбу и побежал обратно к скамейке. – Вот дурья башка, чуть девайс не забыл! Фух…День
– Где это мы? – спросил я Тима. Тот стоял передо мной – стройный, красивый. Планшет сунул за пояс джинсов, волосы были взлохмачены, как у рокера, и с по-рокерски же черной футболки мне в лицо скалил гнилые зубы череп. Кажется, это рисунок с постера к фильму Лючио Фульчи. Тимка у нас коллекционер. Год назад он подарил мне другую футболку, с надписью на русском: «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ», тоже в честь какого-то фильма, но я еще ни разу ее не надевал, чтобы не давать лишний повод для насмешек. Мне подобные клевые вещички носить не полагается, мордой не вышел, а вот Тиму, как тому неведомому «подлецу» из поговорки, – все к лицу. Футболка была ему чуть великовата, но не скрывала широкие плечи. Мышцы проступили под тканью, когда он развел руки в стороны, распахивая передо мной врата в свое маленькое личное царство. Царство мертвых Лючио Фульчи. – Кладбище, Петрофан! Старое. Не как обвислые титьки твоей мамаши, а как коллекционный экземпляр авто, как партийная «Чайка» какая-нибудь. Старинное кладбище, где уж лет сто как никого не хоронят. Ничего особого я не приметил. Сотни раз до этого дня, что зимой, что летом, ходил мимо, и никогда бы не подумал, что чахлая поросль на холме за парком аттракционов скрывала чьи-то могилы. Из земли перед нами поднимались к вершине холма стертые, покрытые трещинами ступени. Другой конец лестницы затерялся наверху, среди сорняка, под сенью разлапистых, не по-летнему желтых кленов. – Мама говорила, что, после того как кладбище закроют, лет через пятьдесят на его месте делают новое. – А здесь не стали. – Тим ступил на лестницу. В воздух взметнулась потревоженная пыль. – Почему? – У мамули своей поинтересуйся, доча. Ты идешь или будешь весь день тут торчать как столб? Не дожидаясь ответа, он быстро, легко перескакивая ступени, взбежал наверх и через несколько мгновений скрылся за кленами. Я без особой охоты потопал следом. Тим был гораздо сильнее, гибче и пластичнее меня, хотя старше всего-то на год. Он мог спокойно подтянуться на турнике двадцать раз, а после этого еще подъем с переворотом сделать и выход на руки. По нему все девки в округе сохли, и не только из школы нашей, но даже студентки из колледжа. Как-то на физре, в раздевалке для мальчиков, он похвастал, что уже занимался сексом с девушкой, – и пацаны из обоих наших классов ему поверили. Просто так, на слово. Тиму легко верить, потому что он открытый, веселый и… совершенный. «А потом она мне еще и яйца отлизала», – ляпни такое кто другой, засмеяли бы. Скажи так я – побили б, наверное, за враки. Я ведь пустое место. Унылое говно, как таких нелюдимых изгоев называют. Что могли видеть люди, когда смотрели на меня рядом с Тимуром? Полную его противоположность, неказистое нечто, низкорослого (а я на голову его ниже) доходягу. На меня девчонки никогда не западали и вообще терпели разве только как Тимкиного приятеля. Этакий щуплый придаток, уродец Санчо рядом с бравым Кихотом. Так что трахал я покамест лишь собственную ладошку – тут Тимур был прав, пусть я никогда бы ему в том и не признался. Как никогда бы не сказал, кого именно представляю, когда остаюсь в ванной один и задергиваю занавеску. Я шагал по раскрошившемуся камню неуверенно, с опаской. Затхлый воздух, наполненный запахом прелой листвы, драл горло и щипал ноздри. Попавшая в глаз паутинка повисла на реснице, отчего веко начало по-дурацки моргать. Вытирая выступившую слезу, я повернул голову к свету, и яркий солнечный луч неожиданно выстрелил из гущи кленовых листьев мне в лицо, точнехонько в другой глаз, который тоже начал слезиться. Несчастные двадцать метров подъема превратились в адскую муку. Когда я, наконец, одолел эту Голгофу, то изрядно запыхался и первое время не мог произнести ни слова. Тим терпеливо ждал. Уселся прямо в траве, жмурился на солнце и едва ли не потягивался всем телом, как кот. На губах играла все та же ленивая озорная ухмылочка. Я присел рядышком, чтоб отдышаться. – Тут… так просторно… Пикники можно устраивать, наверное. Он фыркнул – ну точно кот! – и сказал: – Чувак, ты расселся на костях чьей-то прабабки – и мечтаешь здесь же шашлычок замутить? Маленький извращенец, да ты не только онанист, ты к тому же еще и некрофил. Крыть было нечем. Молча вытерев рукавом рубахи лицо, я просто вытянулся рядом с Тимом. Посмотрел на небо с разлитыми по нему молочными лужицами облаков. В окружающей первобытной тиши были слышны редкие голоса птиц, трава щекотала шею. Сердце в груди билось все реже, дыхание стало спокойным и ровным. Мне не хотелось уже ни о чем думать. Я провалился было в дрему, когда Тимур вдруг вспомнил, ради чего мы сюда вообще явились: – Ночью здесь бывает жутко. – Почему? – Главным образом, потому, что это кладбище, гений. Те, кто здесь похоронен, мертвы уже десятки, даже сотни лет. Включи воображение, сочинитель! Я попытался. Постарался представить древние кости, погребенные глубоко в сырой земле под нами, укрытые саваном из корней. Черепа. Заполненные перегноем и червями глазницы, как у зомби на футболке Тима, таращатся снизу, сквозь слои почвы, сквозь меня, на это бесконечно синее небо и белые облака. Как им должно быть завидно! Как они злятся в своих всеми позабытых могилах, что они – старые и мертвые, а мы – такие юные, такие живые. Мгновенная дрожь пробежала по телу, но мне было совсем не страшно. Скорее приятно, даже весело – ощущать свои годы, дышать полной грудью, осознавать, что рядом, на расстоянии вытянутой руки, мой лучший друг. Капелька его совершенства в эти минуты перепадала и мне. А мертвецы внизу, которыми зазря пугал меня Тимур, – они не настоящие. Вот когда три года назад умер папа… Ох, об этом я думать не хотел. Но кладбище, где его похоронили, казалось куда больше похожим на кладбище, чем то место, где мы сейчас находились. – Где же кресты, надгробия?.. – О, это ты верно заметил! – Тим достал пачку «Ричмонда» и спички, прихваченные, кажется, из какого-то кафе в качестве сувенира. Вопросительно посмотрел на меня: – Будешь? – Неохота, – изображая скуку, я перевернулся на бок. – И все-таки, что здесь не так, с этим местом? Он сунул сигарету в рот и зажег спичку от ногтя. Лихо, так и взрослый не каждый умеет. Глубоко, с наслаждением затянулся. Затем потушил пламя, воткнув спичечный огарок в землю у меня перед носом. – Во-первых, в советское время в Бога верить запрещали. – Это при Ленине только. Еще, может, немного при Сталине, а потом все нормально было, мне мама говорила. – Мама, мама, чтоб тебя! Дай досказать. Так вот, тогда вообще многих хоронили без всяких крестов и украшений. А во-вторых… – Что – во-вторых? – А то, что еще до революции это было не просто кладбище. Специальное! Тут неподалеку психушка была. Причем не обычная, а чисто женская такая богадельня. Куковали там больные на голову бабы пожизненно, пока не помирали. А еще эксперименты над ними ставили, потому что таких, как они, считали уже ни на что не годными и никому не нужными. Они были моделями, но не такими, как нынешние, – в другом смысле. Медицинскими моделями. Над которыми ставили опыты, всё искали способ мозги вправить. Заливали ледяной водой, били током, вскрывали черепушки. Многие, конечно, не выдерживали, мерли. Тут их и хоронили… то есть то, что от них оставалось после всех мучений. А еще здесь закапывали проституток, нищенок, тифозных… Тех, кого не могли опознать. Убитых. Замученных. Самоубийц. – Кончай заливать-то, а? – Вот те крест! – Тим нарисовал в воздухе фигуру планшетом и заржал. Я бы и хотел посмеяться с ним заодно, но эта история мне была не по душе. Тимуру нравились страшилки, которые сочинял я, но сам он никогда не мог придумать ничего оригинального. – Что дальше? Вызывать духов начнем? Ахалай-махалай… – Глупости не говори! В такой бред лишь старухи и девчонки безмозглые верят. Тебе предстоит пройти… испытание. Испытание для настоящих мужчин. Но не сейчас… Сейчас я покажу тебе тут все и объясню, что надо будет сделать. – А остальное? – Ночью, – заговорщицки прошептал Тимур, наклонившись ко мне так близко, что почти коснулся губами уха. – Все остальное случится ночью.Вечер
«Это надо сделать именно сегодня ночью, – рассказал Тим. – Потому что сегодня особая ночь, сегодня восходит Кровавая Луна. Говорят, в такие ночи все мертвое оживает, и если уж когда призракам и положено появляться, так это нынче в полночь на старом женском кладбище. Прах взывает к праху, тлен к тлену, а сиськи к члену. Сечешь, Петруччо?» Где только он набрался таких словечек – прах, тлен… Должно быть, услышал в одном из тех старых фильмов, что так любил. Несколько раз я «зависал» дома у Тима с ночевкой, когда его предки сматывались в Таиланд или Европу. Мать не возражала – к ней-то по вечерам то дядя Боря с работы, то еще какие-то мужчины заглядывали. Ничего и никого не стеснялись, а уж тем более меня, ведь я же Мальчик-Пустое-Место. В общем, я с радостью сбегал в такие вечера к Тимуру. Мы брали пакетики с соленым арахисом, пиво. Выключали в комнате свет, забирались с ногами на диван и смотрели всякое древнючее дерьмо. Как правило, про кровожадных покойников: «Демоны», «Зловещие мертвецы», «Калейдоскоп ужасов», «Ночь живых мертвецов»… Дурацкие страшилки, на съемках которых проливались тонны кетчупа, – Тим обожал их. Когда очередной красотке на экране отрывали голову или вспарывали брюхо, он начинал глубоко дышать, будто впадал в транс. Смерть, пытки из этих фильмов приводили его в особое, возбужденное состояние. Да и меня тоже. Хотя, возможно, все объяснялось самой обстановкой – темень, стоны с экрана, горячее дыхание сидящего рядом друга… Это было похоже на то, что происходило в спальне у мамы, когда к той приходил дядя Боря, но только без пьяного гогота и песен Любы Успенской. Невелика разница, но было уже не мерзко. Наоборот. Возникало сладкое ощущение чего-то запретного. Наползало, окутывало, как туман из фильма Карпентера, заставляя сердце биться чаще. Теплой волной скатывалось по горлу к солнечному сплетению и ниже. Когда напряженная музыка обрывалась истошным воплем еще одной неудачливой жертвы зловредных монстров, я, было дело, сам ахал, поддавшись странной магии момента, и невольно хватал Тима за руку. А тот начинал хохотать и толкал меня в плечо, обзывая трусом и девчонкой. «Говорят, на этом кладбище только баб и хоронили. Вот в чем вся фишка, Петроний, всасываешь?.. Их, телок этих, при жизни пытали, насиловали, держали взаперти. И кто все это делал? Мужики, конечно! Легенда гласит, что с тех пор дамочки, погребенные здесь, не могут уняться, столько злобы и ненависти накопилось у них к нашему брату… Слыхал, поблизости находили трупы бомжей? Но что самое интересное – только мужчин. Женщин они никогда не трогали…» К вечеру, когда за окном спальни начал сгущаться мрак, я уже изнывал. Чем темней становилось на улице, тем менее смешной и глупой казалась мне рассказанная Тимуром байка. Залез в Интернет, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию о проклятом кладбище. Выяснилось, что, и правда, еще до революции, при царе, располагался на том самом месте, где теперь стояли карусели, то ли приют, то ли лечебница, а может, и тюрьма – или вообще все сразу. Деталей, правда, никто нигде не приводил, только досужий треп на местных форумах. Из серии «Таинственные тайны нашего городка». Что ж, по крайней мере стало понятно, где Тимур свою страшилку вычитал. Единственное фото, которое попалось на глаза, возможно, было использовано просто в качестве иллюстрации к статье о заброшенных больницах, где упоминалась среди иных и эта лечебница. Оно было без подписи и совсем не факт, что имело какое-нибудь отношение к самой психушке. Но производило зловещее впечатление. На старой черно-белой фотографии с потертыми краями были запечатлены двое – молодая женщина с повязкой на глазах, сидевшая на стуле, и худой высокий мужчина в докторском халате, стоявший рядом. Ладонь мужчины лежала на плече его пациентки. Он серьезно, без тени улыбки смотрел в объектив камеры, а на девушке была надета смирительная рубашка. И девушка, в отличие от доктора, улыбалась, только в гримасе этой сквозило больше страха и безумия, нежели искренней радости. Посмотришь на нее – и поневоле задумаешься. Что видит она там, в черноте под повязкой?.. Пытаясь убить время, я воевал с орками и драконами в онлайне, но без толку – мысли раз за разом возвращались к другому, уже не виртуальному квесту. Бродить в темное время суток среди могил – бррр!.. Особенно если перед глазами будет стоять эта девушка с фото. Я волновался, ерзал на стуле перед монитором, то и дело поглядывая на цифры в углу экрана. С Тимом мы уговорились на десять. Но как же долго тянулось время! Стемнело быстро, потому что небо затянули тучи. Где-то вдалеке уже погромыхивала приближающаяся гроза. В комнате становилось душно, я вспотел и забеспокоился – а может, лучше позвонить Тимке и все отменить? Из-за этой погоды мы оба промокнем до нитки, а Кровавая Луна все равно уже вряд ли взойдет. Я нервничал все больше и, чтобы справиться с нервами, полез в Сеть, принялся бродить по сайтам с порнушкой. А что, в тех журналах, которые я нашел у мамки в спальне, действительно ведь писали, что обычное дело и даже полезно… Хотя именно порно у меня особого интереса не вызывало, что бы там Тимур ни болтал. Страшенные, почти полностью состоящие из силикона, девицы. Безмозглые качки с огромными членами… Часто еще и старики, лет по тридцать. Скрипнула дверь, и в комнату без предупреждения зашла мать – я едва успел свернуть окошко с видео «для взрослых». Увы, столь же быстро «свернуть» собственный возбужденный член у меня бы при всем желании не получилось, так что я поспешно прикрыл пах ладонью левой руки и до боли прикусил губу, надеясь, что ма ничего не заметила. – Петруха, а что это у тебя щечки такие красные, не заболел ли? Накрашенные губы влажно блестели. Судя по развязному тону, она была пьяна. После того как похоронили отца, мать стала пить и якшаться с разными мужчинами. Мне она объясняла свое поведение тем, что подыскивает нам «нового папу», желательно при деньгах, как дядя Боря, ведь «ты, Петечка, не должен жить в нищете». То, что ее сын не желает жить в одном доме с проституткой, мать мало волновало. «Петруха», «Петечка», «дружок» – так она обращалась ко мне, только когда бывала под градусом. – Пожалуйста, не называй меня так! Знаешь же, что терпеть не могу. И вообще, стучать надо, когда заходишь. – Ой, да ладно тебе! – Покачивая широкими бедрами, мать подошла и плюхнулась рядом, на мою кровать. – Вижу, здоров, раз ворчишь… Чем ты тут занимаешься? – Ничем, – торопливо соврал я, мысленно моля Бога о том, чтобы тот ниспослал мне импотенцию. – Просто реферат скачать хотел, для школы. – Какая школа, дружок? Август месяц, каникулы еще. – Она наклонилась ко мне так, что обтянутую кофточкой грудь в специальном, придающем форму, бюстгальтере прижало к моему предплечью. А я окаменел, прикованный к своему стулу, как та девушка в смирительной рубашке на фотографии. – Ты что, что-то скрываешь от своей мамочки? – Нет, не совсем, – лихорадочно пытаясь найти какое-нибудь вменяемое оправдание, я стал шарить глазами и курсором по рабочему столу монитора. Кликнул первый попавшийся текстовый файл. – На самом деле я тут пишу рассказ. Видишь? – «Жаждущие крови зомби», – вслух прочитала название мать. – Глупо как-то, тебе не кажется? И опять ужастик! Нет чтобы про любовь сочинить что-нибудь… – Ну, ма! – Ладно, ладно. Пиши, что тебе самому нравится, только мне эти страсти не показывай… Петечка, – хрипло шепнула она, дыхнув мне в лицо смесью дешевых духов и дешевого же вина, и вдруг положила свою ладонь поверх моей – той самой, которой я пытался прикрыть эрекцию. Длинные пальцы, заканчивающиеся накладными ногтями ярко-красного, в тон помаде, цвета, сцепились с моими. – Ты ведь знаешь, что мамочка тебя любит?.. Я готов был провалиться сквозь пол от стыда и отвращения. Одно хорошо – от этих прикосновений писюн моментально скукожился, ибо не было ничего на свете менее возбуждающего, чем моя пьяная старуха-мать. – А ты любишь маму, Петечка? – спросила она, тиская мои пальцы. – Скажи, что любишь, милый. Мама так скучает за папой, ей иногда так его не хватает… – Конечно, люблю, ма. – В таком случае, – хихикнула она и отстранилась, – ты же побудешь сегодня послушным мальчиком и не станешь выходить из своей комнаты, когда к маме гости придут? – Опять дядя Боря? – Нет… неважно, – освободив руку, мать мягко шлепнула меня по ладони. – Обещай, что не вылезешь из своей комнаты до утра, дружок! Я, хоть и мечтал стать писателем, не смог бы найти подходящих слов для того, чтобы описать свое облегчение, когда она от меня, наконец, отстала. – Обещаю, ма. Попишу еще чуть-чуть, а потом сразу лягу, хорошо? – Замечательно, – ухмыльнулась мать и хотела было подняться с кровати, но ее повело, и, едва оторвав зад, она со смехом плюхнулась обратно. – Помоги же мне, Петя! Я подставил для нее локоть. – Спокойной ночи, ма… – Приятной писанины, Петруха! – Она потянулась ко мне, приоткрыв влажные красные губы для поцелуя «по-взрослому», но я вовремя успел подставить щеку. – «Жаждущие крови зомби» – ну надо ж такое придумать! Продолжая смеяться, чересчур громко для трезвого человека, мать наконец покинула комнату, оставив меня наедине с моими расстроенными чувствами и мыслями. Взгляд нашел часы в углу экрана – время близилось к десяти. «Видимо, на этот час и свидание у мамаши назначено», – подсказал внутренний голос. Старое кладбище, психушка царской эпохи, сумасшедшая девушка на фотографии, Кровавая Луна, призраки – все казалось теперь несусветной глупостью, вроде тех дурацких фильмов, что так нравились Тиму. Чего тут бояться? Чего?! Встреча с безумными привидениями на забытых всеми могилах во время грозы казалась теперь чем-то куда более приятным, чем тот ад, который окружал меня дома.Ночь
– Задача ясна? Тимур светил мне в лицо и говорил серьезным, строгим голосом, как если бы преступника допрашивал. Только на полицейского он в своей футболке с черепом не очень-то смахивал, да и вместо лампы использовал планшет. Мы вновь оказались на вершине кленового холма, и Тим снова снимал все на видео. Обещанная Кровавая Луна осталась скрыта от глаз тяжелыми мрачными тучами. Не смотря на темную пору, на полянке было даже жарче, чем днем, словно вокруг росли не клены, а пальмы. Я пожалел, что накинул, тайком покидая дом, легкую куртку, а еще сильней корил себя за то, что не прихватил с собой зонт. Душный воздух пропитался влагой, шорох листвы на ветру становился все громче, как и пока еще отдаленные громовые раскаты. – Зонтики для девчонок! – загоготал Тим, когда я высказал ему свое беспокойство. – А мы же с тобой настоящие мужики, да? Уж конечно, настоящие! Его манера задавать вопрос и тут же самому на него отвечать всегда меня раздражала. Впрочем, кого волнуют эмоции Мальчика-Пустое-Место. – Вот намочишь девайс, мужик, тогда, может, прекратишь выпендриваться. – У меня планшет водонепроницаемый, – оскалился Тим. Моя собственная старенькая «Нокиа», доставшаяся в наследство от отца, была лишена всяких наворотов. По сравнению с планшетом Тимки она смотрелась такой же дешевкой, какой рядом с Тимуром казался я сам. – Еще раз повторяю, – продолжил он инструктаж, не переставая тыкать мне в лицо камерой. В уме, должно быть, «выстраивал сцену». – Делаешь круг по тропе, обходишь те могилы, что я показывал, и возвращаешься сюда же, на стартовую позицию. Задача ясна? – Ясна-то ясна, – поежился я, косясь в сторону зарослей. – Но здесь же хоть глаз выколи… – Аккуратнее со словами, – в свете планшета лицо Тимура приобрело бледно-зеленый оттенок. Теперь он уже напоминал не статую античного героя, а бездушный манекен в магазинной витрине. – А то ведь услышат… – Кто услышит? – Безумные мертвые сучки. Услышат – и глазенки-то тебе вырвут! И на жопу натянут, гы-гы. – Не смешно. Вот возьму и уйду домой сейчас вообще. Я злился, потому что сказанное им пробрало сильнее, чем нарастающие порывы ветра. Как назло, Тим заметил мой страх – и завелся: – Не порть воздух, Петрушок. Мертвые сучки тебя не тронут, а знаешь почему? За своего примут. В смысле за свою, ты же ссышься, как телка! – Да пошел ты. – Э не-ет, – оскалил зубы манекен с зеленоватым лицом. – Пойдешь ты. Уговор помнишь? Конечно, помнишь! Каждый парень должен пройти через это, и все такое. – А сам-то бродил тут, парень? Ночью, один, а? – Да раз сто, не меньше, – быстро ответил Тим. Слишком быстро. – Так, может, со мной тогда прогуляешься, дорогу покажешь? – Да не, я лучше тут… ну, покараулю, – хамоватые нотки из его голоса исчезли. – Чувак, это ведь своего рода ритуал… Знаешь, как в старые времена молодых ребят из племени отправляли ночью одних в лес, охотиться на медведя. Проверка на храбрость… – Инициация. Это называется «обряд инициации», – вспомнил я. – Во-во, это самое. Как первый секс, когда мальчик становится мужчиной. Интимное дело. – Как у писателя, когда он пишет? – Меня все еще терзали сомнения. – Вроде того. Слушай. – Тим, кажется, вновь обрел уверенность. – Я понимаю, что страшно. Но ведь в этом и суть! Нужно доказать, что ты можешь одолеть свои страхи. Что ты мужик, а не потаскушка из колледжа. Я вздохнул и повернулся в ту сторону, где в ночной мгле вилась среди древесных стволов поросшая сорняком тропинка. Едва различимая. Ее и вовсе было не сыскать, если бы отсвет далекой молнии, как вспышка фотоаппарата, не озарил на миг поляну, раскачивающиеся на ветру ветви кленов и узкую дорогу, уводящую отсюда прямиком в царство мертвых сучек. – Ты ори в случае чего, – напутствовал меня Тим. – Я услышу, прибегу за тобой. Если хочешь, сам кричать буду, время от времени, чтоб ты знал, что я рядом. Не бойся. – Я не боюсь. Просто все это так глупо… – Тут всего минут двадцать бродить. Если плутать не будешь, до полуночи вернешься еще, дружище. Не надо было даже оглядываться, чтобы понять, что он и сейчас, стоя позади, снимает все происходящее на планшет. Ракурс-то отличный: ветви кленов образовали арку, и я стоял перед ней, маленький и напуганный. Под курткой на мне был подарок Тима, та самая футболка, которую раньше я не рисковал надевать. Возможно, ему захочется поймать в кадре надпись? Обойдется! – Вернусь, гребаный ты мудак, еще как вернусь… – Узнаю брата Петьку! – хохотнул Тим, а потом вдруг взвыл не своим голосом, заставив меня вздрогнуть: – Они идут за тобой, Барбара! Иду-ут! Они хотят тебя трахнуть и съесть! У-у! – Мы не в кино, придурок. Это не «Ночь живых мертвецов». – Да, потому что это ночь безумных мертвеньких сучек, у-ха-ха-ха! И они уже идут за тобой, идут за тобой, у-у-у! Я старался не обращать внимания на подвывания за спиной, пока брел своей дорожкой. Пытался сосредоточиться на тропе, не потерять ее из виду. В темноте потеряться было проще простого, а еле мерцавший экран старенькой отцовской «Нокии» света давал мало. Но в кромешной тьме было бы еще хуже. Пройдя метров десять, я повернул вслед за вихляющей петлей тропинки и чуть-чуть не напоролся ногой на торчащий из прелой листвы острый сук. Осторожно пихнул его носком кеда – сук задрожал, как живой, но с места не двинулся. Крепко засел, зараза. Ладно, обойдем. Надо всего лишь на пару секунд сойти с тропы. Я шагнул в сторону, внимательно глядя себе под ноги, – и тонкая ветка царапнула висок. Это было больно, черт побери! Словно длинный острый коготь рассек кожу. И на мгновение мне почудилось, что это и правда коготь. Криво загнутый, желтый, торчавший из костлявого, покрытого истлевшей кожей пальца, владелица которого протянула ко мне свои гниющие руки-крюки… Небо озарила новая яркая вспышка, за которой чуть запоздало последовал могучий, отдающий раскатистым эхом треск набравшего силу грома. – Эй, Петрильо! – проорал из-за деревьев Ти мур. – Скоро потоп начнется, слыхал? Ты поторопись-ка! Заливистый смех отдавал, как мне показалось, истерикой. – Поторописька-пиписька, Петрильо-о! – Заткнись, Тим, – попросил я сквозь зубы, утирая кровь с лица. Он мою просьбу если и слышал, то проигнорировал… Ага, ну да, конечно. – Знаешь, а ведь мертвые любят воду! – донесся очередной крик. – Даже больше, чем Кровавую Луну! Время к полуночи! Хэй-хо, Золушка, скоро твоя задница превратится в тыкву! Я бросил взгляд на телефон, чтобы лишний раз убедиться – Тимур опять врал. Времени было только половина двенадцатого. У меня в запасе оставалось еще полчаса, целых тридцать минут, чтобы продраться сквозь заросли и добраться до пункта назначения. И главное – уберечь при этом глаза и ноги от хищных когтистых веток. – У-у-у! Они идут за тобой!.. – Шум ветра и новые громовые раскаты заглушили вопли. Первые тяжелые капли шлепнулись мне на макушку, будто кто-то сверху постучал. «Тук-тук, молодой человек, все ли у вас дома?..» Я вспомнил то фото, с девушкой в смирительной рубашке и доктором. Тим говорил, что пациенток пытали водой. Экспериментировали, погружая силком в ледяную ванну. Насиловали – ведь в ту эпоху мозгоправы не считали их за людей. Мама говорила, что женщины тогда вообще были бесправны и с ними можно было творить что угодно.Смутное воспоминание из детства, когда отец еще был жив. Однажды посреди ночи я проснулся и услышал, как родители… хлюпали. Я заглянул в их спальню и увидел, как они, взмокшие от пота, ворочаются на кровати, все равно что парочка гигантских, слипшихся друг с другом слизней. Увидел волосатую мускулистую спину отца и жировые складки на боках матери. Ее пятки, прижатые к его заднице.
Последнее, что вы хотели бы вспоминать, думая о своих родных. Дождь обрушился бурным потоком. Холодные струи побежали по щекам и за шиворот десятками ручейков. Под ногами зачавкало. Наверное, и мать сейчас, как тогда, в детстве, «хлюпает». Только уже не с отцом, а под другим мужчиной стонет, под дядей Борей с ее работы или под кем-нибудь еще. И плевать хотела на то, где сейчас ее сын и что он делает… «Так же, как плевать на тебя и твоему приятелю», – подсказал внутренний голос. Нет-нет, ведь Тим обещал, если что, прийти на помощь. Да и мама… Какой бы она ни была, какой бы она ни стала после смерти отца – я все равно ее любил и верил, что это чувство взаимно. Уходя из дома, на столе перед компьютером я оставил для нее записку на случай, если задержусь. Если «мертвые сучки» меня все-таки достанут. «Всем плевать на Мальчика-Пустое-Место. Возможно, Тимур сам не прочь заглянуть к твоей мамаше в гости. Возможно, он специально выманил тебя, чтобы сделать это, и сейчас уже спешит к тебе домой. Ты ведь знаешь, что мамочка не откажет такому красавчику, как Тимка». «Он не поступит со мной так» – даже в мыслях это утверждение звучало не слишком убедительно. Я ускорил шаг, освещая телефоном намокшую палую листву, дерн, превратившийся в лужи грязи, и стволы кленов по обе стороны от дорожки. Та петляла, иногда пропадала из виду на несколько секунд. Живот у меня ныл, кишки крутило. Я облизнул губы и почувствовал на языке соленое – то ли слезы, то ли кровь из расцарапанного виска. На очередном повороте завесу мрака внезапно разрезала сияющая ломаная линия. Невероятной силы удар оглушил меня и сбил с ног. Листва в том месте тропы, куда ударила молния, яростным фонтаном взмыла вверх. Буквально в двух шагах от меня! А я упал спиной в грязь, и листья, кружась и мельтеша в воздухе, стали засыпать меня, накрывать, будто саваном. На миг я провалился во тьму и…
…и оказалось, что я уже не лежу, заливаемый дождем, в жидкой грязи, а сижу на стуле в черной комнате без стен и потолка, упираясь голыми ступнями в холодный каменный пол. С ног капает, но это, с ужасом понимаю я, не дождевая водица. Это моча. Я одет в белое. Или даже не одет – окутан светлой тканью, да так, что не могу оторвать, вытащить из-под мышек прижатые к бокам крест-накрест руки. Рядом со мной стоит мужчина в медицинском халате, а в лицо мне светит что-то яркое, причиняя боль глазам, будто в глазные яблоки вонзаются раскаленные иглы. Лица мужчины не видно, оно остается за гранью света, в тени, но, когда он кладет мне ладонь на плечо, я вижу черные волоски на внешней стороне запястья – как у отца. – Перед вами, господа, медицинская модель, – обращается мужчина к тьме, в которой, я чувствую, скрывается кто-то еще. Их много там, за пологом слепящего света, тех, кто сидит и наблюдает. – Наглядный образец, на примере которого вы можете понять, чем мы здесь занимаемся во имя науки и прогресса, – говорит мужчина. Его четкий, поставленный голос кажется мне знакомым, но это точно не грубый, гулкий бас отца – гораздо звонче и моложе. – Это не лечение как таковое, это нечто большее. Нечто, направленное в помощь не одному конкретному человеческому экземпляру, но уже всему человечеству. То, что мы делаем с нашими медицинскими моделями, разумеется, не способно избавить несчастных от страданий. Но в будущем это многим поможет излечиться. Прямо у нас на глазах творится история! Что-то большое, новое приходит в мир благодаря нашим усилиям. И мир меняется. Происходит перерождение!.. Ценою некоторых жертв, потому что, как говорят в народе, нельзя пожарить яичницу, не разбив ни одного яйца. Он смеется неожиданно заливистым, развеселым смехом и крепко стискивает мое плечо, скованное смирительной рубашкой. Наклоняется ко мне, и я вижу перед собой лицо античного божества. – Вы готовы, милочка? – спрашивает меня Тимур. – Тебе следует быть готовой, ведь они уже идут за тобой, идут за тобой, у-у-у! – У-У-У, – вторит ему тьма, заполненная, как теперь я вижу, множеством молодых людей с такими же прекрасными интеллигентными лицами, как у моего мучителя. Зал взрывается громом аплодисментов.
Гром рокотал, и новые молнии озаряли кленовый холм. Очнувшись, я с трудом встал на ноги. В голове крутилась заевшей пластинкой одна-единственная фраза: «Вы готовы, милочка? Вы готовы?..» Слова эти кружили, набирая скорость, и уносились вниз, в сверкающую воронку, узкое горло которой терялось в бездне на самом дне моего сознания. Меня шатало, спина и задница намокли, в голове стоял гул. Чтобы не упасть снова, мне пришлось согнуться почти вдвое и упереться ладонями в собственные колени. Джинсы потемнели от грязи, коричневая жижа заляпала руки. Отдышавшись и выждав, пока земля перестанет кружиться перед глазами, я поднял взгляд. Тропа вышла на открытое место, на небольшую проплешину, окруженную кустами и деревьями, над которой повисло беззвездное сводчатое полотно. Света не хватало, тем более что я выронил телефон, когда потерял сознание, и уже вряд ли бы смог его отыскать. Но все-таки можно было различить покореженные пни и несколько торчащих из земли кривых жердей. «Блин, – тихо шепнул внутренний голос. – Это ж не просто пенечки да палочки, да?..» Что там, на ближайшем, доска какая-то висит, что ли?.. Блииин!!! Это могилы. Их могилы. Тех сумасшедших, про которых писали на форумах. Тех замученных докторами-садистами нищенок и самоубийц из побасенок Тима. Ветер стих, гром тоже взял паузу. Стихия словно выжидала. Вы готовы, милочка? Вы готовы?.. – Спокойно, – приказал я себе. – Возьми себя в руки. Тут идти-то всего ничего осталось. Соберись, сожми яйца в кулак. Что там наш Тимурчик-всегда-как-огурчик болтал?.. «Каждый парень должен пройти через это». а они будут идти за тобой, идти за тобой, ИДТИЗАТОБОЙ Меня затрясло, и отнюдь не от холода. Поляна напоминала огромную пасть, могильные холмы и корявые палки над ними торчали, как сгнившие зубы, а челюсти этой пасти были широко разведены в беззвучном обвиняющем крике, обращенном к небесам. «Вы готовы, милочка?!» Сделай шаг – и провалишься в эту пасть. В которой все хлюпает. Я ступил уже в другой, новый, лес, который был создан из воткнутых в землю жердин с болтающимися на них (не везде, кое-где отвалились) мятыми ржавыми табличками. Сколько же их тут было – десятки, сотни?.. Во мраке белели полустертые римские цифры и старинные буквы с «ятями». Некоторые знаки сплетались в имена и даты. Днем, когда Тим водил меня мимо нескольких земляных холмиков, которые выдавал за старые могилы, ни этих табличек, ни этих имен и чисел тут не было. Не было! А теперь – вот они, целый частокол. Можно было вытянуть руку и собрать в ладонь капли дождя со щербатой поверхности. Или побежать, сбивая кулаком таблички с именами, одну за другой – заодно сосчитать, сколько женщин тут взаправду похоронено. Бежать, сбивать, считать и хохотать – это будет ужасно весело, определенно. 1860-какой-то, 1902-й… Ера… а, Ерафонтова! Ерафонтова Катерина… Причитаева Але… Алевтина Геннадьевна… а здесь совсем неразборчиво… а тут – некая Ежова. А там – Иванина Маша, так и написано – «Маша». Медленно, словно во сне, имена и фамилии покойниц проплывали мимо меня, пока я бродил по кладбищу. «Тебе это чудится», – убеждал внутренний голос, но я не верил и все искал взглядом… даже не знаю, что именно искал. Возможно, надгробие с лицом той девушки, которую я видел на фото. Было бы интересно узнать, как ее звали. Косые жерди и болтающиеся на них жестянки виделись мне теперь частоколом с нанизанными на колья кусками человеческих тел. Грудины, бедра, лопатки… и черепа, их было больше всего, круглых черепов, иссушенных голов, бледных лиц с дырами на месте глаз. Как в мясной лавке, они были развешены по всей поляне. «Или только в твоем воображении», – успокаивал я себя. Дождь перестал. Гроза, похоже, отступала, одна из последних вспышек осветила на долю секунды поляну, могилы, уродливые колья и тропу. Я увидел, куда бежать. В этот миг холодные, осклизлые мертвые пальцы легли мне на шею, и я с диким воплем кинулся прочь, куда глаза глядели. Я орал, звал на помощь Тимура – ведь он обещал, обещал, обещал! А за мной по пятам неслась сама смерть. Листва кленов шумела, гроздьями рассыпая собранный урожай дождевой водицы, когда я, проносясь мимо, случайно задевал ветки головой или плечом. Грязь чавкала под ногами, жадно липла, пытаясь задержать, остановить, отбросить назад, в пасть чудовищу. Я споткнулся обо что-то в темноте, упал лицом в вязкое хлюпающее море, подавился собственным криком и грязью, моментально наполнившей рот. Еще одна запоздалая молния прорезала воздух и ударила, рассыпая искры, точно в жердь посреди поляны. И я увидел, как прочие колья быстро обрастают плотью, прямо на глазах превращаясь в худые, блеклые до прозрачности фигуры. Они извивались, как огромные черви, танцевали, влажно поблескивая во тьме, как смертельно ядовитые водяные змеи в морской пучине. И этот танец был прекрасен. – Тимур! – Я выскочил туда, где меня должен был дожидаться мой лучший и единственный друг. Но его там не было. Не выдержав, я заревел в голос, размазывая кровь, слезы, сопли и грязь по щекам. Я озирался по сторонам, но Тима нигде не было видно. А это значило, что он либо бросил меня здесь, либо пошел за мной и встретил на кладбище то, от чего удалось сбежать мне. Силы покинули меня окончательно, почва ушла из-под ног, и я медленно, как во сне, повалился в мокрую траву. И услышал знакомый издевательский хохот. – Это будет мой лучший короткий метр! Петрушка, звезда «Ютьюба»! Тимур стоял на тропе, в промокшей насквозь футболке с черепом, и снимал меня на свой чертов планшет. – Улыбочку, мистер Пи! Ну ты и дал стрекача, это был спринт века, не меньше! Вспышка айпада была включена в режиме фонарика, белый свет резал глаза, клены стояли черной стеной позади Тима. Я это уже видел. Я уже чувствовал прежде эту боль: предательство, беспомощность, обиду… – Ты… Ты… Ты где был? – Во дает! – Тимур пошел в сторону, выбирая лучший ракурс. – Я ж за тобой всю дорогу шел, чудила! – За мной?.. – Ага. Ради прикола. Петро, этот ролик наберет миллион просмотров, я тебе точно говорю. Видел бы ты себя со стороны, когда молния ударила! А потом, когда ты завис на проплешине той, дай-ка, думаю, шугану слегка… Иначе ведь какой смысл, без страха-то? Не дуйся, Петруччо! Боевой ты у нас, оказывается! Храбрец, каких поискать… Признаться, я уже не очень внимательно слушал его насмешки. Не потому, что в ушах у меня звенело. Просто в этот момент на небо из-за рассеивавшихся туч выкатила луна, и лицо Тимура окрасило красным. А еще осветило заросли за его спиной, и я увидел, как на один из темных стволов легла худая рука, а за ней в листве клена проступило хмурое лицо в обрамлении длинных светлых – розовых в лунном свете – волос. Вместо глаз на этом лике зияли темные дыры. Другая рука выросла прямо из земли и грязи под ногами у Тима. Между его ступней. Другие во множестве возникали, выползая как будто из самой тьмы. Лица и руки с тонкими пальчиками, которые заканчивались кривыми и острыми, как звериные когти, ноготками. Их никто не стриг уже сотню лет. Тим улыбнулся и опустил планшет. – Дошло, наконец, да? Конечно, дошло!.. Ну ты даешь, Петрик! Я ведь не думал, что ты на всю эту байду с мертвыми девками поведешься… – А ведь это все чистая правда, Тимур, – я даже удивился спокойствию собственного голоса, ведь у меня на глазах происходило то, чего он пока еще не замечал. Бледно-розовая, будто омытая кровью рука тянулась к его паху. Из-за деревьев выходили одна за другой обнаженные худые фигуры, похожие в своих истлевших саванах на невест, которых изрядно потрепала жизнь… Нет, не-жизнь. – Они у тебя за спиной сейчас, Тимка. Он скривил губы в саркастической усмешке: – Ага, ну да. Конечно. Кто же там у меня за спиной, Петрилльо? – Безумные мертвенькие сучки. Я хихикнул, не выдержав. Тим же принял все за шутку и засмеялся следом. Мы оба расхохотались. – Они идут за тобой, Тимка! – даваясь смехом, крикнул я. – Идут за тобой, у-у-у! Он по-прежнему их не замечал. Его трясло от хохота. Меж тем единственный путь к спасению, который у него оставался – лестница, – находился у меня за спиной. То есть теперь, чтобы бежать с кладбища, Тимуру требовалось, чтобы я уступил дорогу. А я не собирался этого делать. Я встал перед ним и сжал кулаки. Мне все еще было ужасно весело. Еще бы! С его футболки на меня смотрел мертвец, а на моей красовалась надпись: «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ», ну разве не смешно? Ухохочешься ведь! Когда бледные руки добрались до него, когда Тим стал орать от боли, я продолжал смеяться.
Утро
К тому моменту, как меня нашли, от моего лучшего друга уже мало что осталось. Потом они много раз спрашивали об этом, повторяли один и тот же вопрос – и его родители, и полицейские. Где тело? Где остальное тело, парень? Почему-то все думали, что я знаю ответ. Глупые люди, как я могу вам помочь, если вы даже не видите того, кого спрашиваете?.. Да, у меня есть две руки, две ноги и член, который болтается между ними. Но если присмотреться как следует, то станет совершенно очевидно, что я вовсе не тот человек, за которого меня все принимают. Я уже не Мальчик-Пустое-Место. Я нечто переродившееся – и это ясно как день, надо только немного подумать. В моем распоряжении была целая пропасть времени, чтобы поразмыслить обо всем как следует, потому что бледные барышни, мои новые подружки, провели со мной на поляне у старого кладбища остаток ночи, а исчезли только под утро, с первыми лучами рассвета. Девушки оказались не из разговорчивых… правда, чавкали очень громко. Тимка, не ведая того, попал в самое яблочко, когда сказал, что меня местные покойницы не тронут, так как примут за своего. «За свою то есть» – пророческие слова несостоявшегося кинорежиссера. «Каждый парень должен пройти через это», чтобы стать мужчиной. О да. Пройти испытание. Обряд, ритуал – называйте как хотите, смысл один. Столкнуться лицом к лицу со страхом и одолеть его, если повезет. Только вот мне не нужно было сражаться с кошмарами, просто потому, что я – я вовсе НЕ парень. Повторюсь, у меня была возможность поразмыслить обо всем. И я многое поняла. Поняла, что любила Тимура. Или только думала, что любила… Так бывает. Мы все приносим свои чувства в жертву на алтарь чужого безразличия, чтобы получить в обмен боль и опыт. Знаете, кто еще тем утром получил изрядную порцию душевной боли и незабываемый опыт? Мама и дядя Боря. Могу представить, каково им было, когда, следуя указаниям из моей записки, они явились на кленовый холм – и нашли там меня. Утреннее солнце после ночной грозы давало неяркий свет, поляну перед кленами затянул белесый туман. Их лица были бледными, но не как у моих милых мертвых подружек. Они приобрели цвет самой дешевой туалетной бумаги – посерели. «Петечка, что ты делаешь, Петя, родной…» Мать так торопилась, что забыла напомадить губы. Зато я свои накрасила как следует – алым и влажным. Так старалась, чтобы быть красивой… Дядя Боря, правда, не оценил – его вывернуло тут же, на травку. Ох уж эти мужчины, ничего-то они не видят и не понимают. Я помогу им прозреть, когда меня выпустят. Тимур, головой которого я водила у себя в паху тем утром, уже прозрел. И мог бы объяснить, что происходит, и маме, и дяде Боре. Мог бы, если бы рот его не был занят, если бы сам он не был мертв и холоден как лед. Если бы голова его не была отделена от тела. Он ведь и в этом был прав… Все писатели – онанисты.Подарок
Дело было в ночь перед Новым годом. За окнами падал, медленно кружа, сказочный снег. Со двора доносились пьяный смех, звон стекла и бренчание гитары, а из телевизора в гостиной – праздничная музыка, тосты. Сергей Иванович Квашнин, подхватив с блюда бутерброд, оставил кухонные дела жене и дочке, а сам заглянул в комнату к сыну. Втихую от супруги Сергей Иваныч чуть раньше уже сподобился тяпнуть рюмашку и теперь весь пропитался новогодним настроением. Веселья, однако, поубавилось, когда взгляд его, пошарив в сумраке, уперся в черные тени глаз на бледном, недовольно скривившемся лице. Влад по обыкновению куковал у монитора. В слабом мерцании экрана кожа у него была белой, как у трупа, длинные волосы топорщились во все стороны, массивные наушники дугой обнимали череп. – Мм? – Сергей протянул вперед руку с бутербродом. Влад покачал головой и сосредоточился на игре. Там, в мониторе, шла война. Настоящая бойня, судя по брызгам цифровой крови, заляпавшим объектив игровой камеры. – Нам всем иногда надо что-то кушать, – заметил Сергей. – А? – Бэ! Есть. Пить. Общаться с семьей. Эх, – махнув рукой, он прикрыл дверь и ушел в гостиную. С сыном было сложно найти общий язык. Влад в последнее время стал как неродной. Отдалился от семьи, оценки снизились – не критично, но заметно. Переходный возраст, черт бы его побрал! Все интересы юноши сосредоточились внутри его комнаты: кровавые игры, кровавые фильмы, тяжелая громкая музыка, от которой кровь могла пойти и из ушей. Наверное, понимал Сергей, с этим надо что-то делать. Вот и Галя о том же зудела едва ли всякий раз, когда они оставались вдвоем. Он, как отец, обязан предпринять какие-то шаги. Но не сейчас, не в эту же ночь. Не то чтобы Сергей был нынче занят, как раз-таки наоборот – хотел насладиться сладким ничегонеделанием. Устроившись на любимом диванчике с ПДУ в одной руке и надкусанным бутербродом в другой, он собрался было понаблюдать за весельем замшелых экранных знаменитостей, да вдруг заметил, что рядом с миниатюрными фигурками Деда Мороза и Снегурочки под пластиковыми лапами искусственной елки появилось несколько весьма симпатичных на вид маленьких свертков. Коробчонки радовали глаз. Они были бережно упакованы в подарочную бумагу с блестками, любовно обвязаны праздничными лентами, обсыпаны разноцветными конфетти. Сергей поневоле улыбнулся, глядя на них, но затем призадумался: кто эти аккуратные кубики с бантиками наверху сюда подложил, и что же находится там, внутри? Он отметил, что подарков – а это несомненно были подарки – всего три. В семье же четыре человека: он, жена, Влад и Иришка. Новый год они традиционно праздновали вместе, дома, никого из знакомых или друзей к себе не звали. Для Сергея это всегда был особый вечер и особая ночь. Праздник настоящего семейного единения. Да и выходных дней вполне достаточно, чтобы наведаться до или после знаменательной ночи к кому только пожелаешь. У Иришки впереди прогулки с подругами, сам он с женой нагрянет к соседям сверху, а потом еще в офисе корпоратив на старый Новый год… Только Влад в лучшем случае останется высиживать мозоль на заднице перед компьютером, а в худшем – затусит с такими же, как он, раздолбаями. Но все это – потом, потом, а сегодня, сейчас – семейный ужин, «Голубой огонек» и старина оливье. Но, раз подарочков под елью ровным счетом три штуки, а в семье Квашниных четыре человека, значит, кто-то из родных решил таким милым образом одарить остальных. Вот только кто бы это мог быть?.. Жена. В ее духе. Благоверная и в юности такой была, как воздушный шарик, наполненный фантазиями. Он сравнивал ее тогда с Ассоль, и это сравнение не казалось ему банальным или пошлым, ведь то, что правильно, никогда не бывает оригинально. Правильно встречать Новый год у себя дома, кушая правильный салат и правильную селедку под шубой, запивая правильным шампанским. Галина и в зрелые годы, несмотря на то что прибавила в весе и все чаще жаловалась на мигрень, оставалась романтической натурой. Ее стараниями дети лет до десяти верили в сказки о Деде Морозе. Сергей подобное воспитание не очень одобрял, но с характером Гали-Ассоль давно смирился. В былые годы даже помогал ей запрятать подарочки с вечера, чтобы утром, когда Влад и Иришка встанут, сонные, предъявить им. «Откуда, откуда?» – спрашивали детки, а мать отвечала: «Пока вы спали, дедушка в красном тулупе зашел, велел вам передать да наказал, чтоб хорошо себя вели в новом году». «Неправда! – однажды крикнул маленький Владик. – Я всю ночь его ждал, не было у нас никого!» И тогда на помощь жене пришел Сергей: «В этот раз Дед Мороз ко мне на работу заглядывал, подарки передать. Ты же не думаешь, что он только по домам и квартирам ходит? У него столько дел в Новый год, что порой надо спешить, чтобы все успеть». Да, если бы они с Галей еще неделю назад не обсуждали, что подарят сыну и дочке, и если б он сам этим утром уже не пользовался новым бритвенным станком, то мог бы твердо сказать, чьих рук дело эти маленькие презенты. Однако набор косметики для дочуры и диск с одним из тех ужасных американских фильмов, которые так нравятся Владу, уже были припрятаны в укромном местечке на антресоли, на гладко выбритом подбородке Сергея не осталось ни мало-мальской щетинки, а значит, вариант с женой отпадал. Дети? Сговорились на пару порадовать стариков? Было бы здорово. Но, во-первых, подарочков три, а не два. А во-вторых, Влад с Иришкой не очень-то ладили меж собой. Да, с Владом им всем непросто. Вчера дотемна где-то шлялся, а на упреки родных по этому поводу упорно отмалчивался. Вот и теперь, пока сестра с мамкой орудовали у плиты, сынуля заперся у себя и кромсал очередных монстров в очередном побоище. Ох, не доведут эти его увлечения до добра… Ирка, маленькая Иришка, она! На сердце у отца потеплело. Вся в мать пошла, чудо светловолосое… Добрая, отзывчивая – золото, а не дочь! Красавица, отличница, надежда и отрада для родителей. Вот только откуда у нее деньги на подарки? Конечно, Сергей что-то подбрасывал своей любимице на карманные расходы, но был уверен, что та все тратит на колечки и болтовню по мобильнику. Или все-таки Влад? Может, наш парень хоть к Новому году позабыл о своих подростковых проблемах, бросил строить из себя взрослого мужика (что ты, не подступись!) и решил вспомнить детство? Верилось с трудом. Эх-эх-эх… Так ничего и не решив, отец семейства задремал, убаюканный льющейся с экрана песней из старой новогодней комедии. Ближе к полуночи между диваном и телевизором девчонки накрыли праздничный стол. Оживившийся Сергей Иваныч резво откупорил бутылку «Советского» (другого не признавал) и разлил шампанское по бокалам. Принарядившиеся по такому случаю жена и дочка с умилением следили за процессом, и только Влад, бледный компьютерный Влад с темными кругами вокруг глаз, сидел с безразличным видом чуть в стороне от всех и ритмично постукивал лезвием ножа по краю стола. – Ну что, семья. – Отец поднял бокал. – Пора проводить старый год! Пусть все плохое, что было, уйдет вместе с ним… Владик, ты не мог бы перестать? Сын взглянул на него исподлобья, не выпуская нож из руки. – Действительно, – нахмурившись, сказала Галина. – Если уж не помогал накрывать, так хоть веди себя нормально. – Зачем стол-то портить? Что он тебе сделал? – возмутилась Иришка. Влад скривил тонкие губы. Когда он заговорил, в голосе его Сергею послышались насмешка и презрение. – Я бы хотел срезать этим ножом ваши самодовольные лица, – сказал он. – Срезать и сорвать их, как маски, чтобы увидеть звериные морды, которые вы под ними прячете. Взглянул на свое отражение в лезвии, отложил нож. Пока вся семья, онемев, таращились на него, Влад медленно встал из-за стола. Неужто опять за старое взялся, с нарастающим ужасом и изумлением думал Сергей. Переходный возраст или что другое, но от Влада сейчас можно было ждать чего угодно. На той неделе они изрядно поцапались с сестрой по какому-то поводу, та даже влепила братцу пощечину, а мать вступилась за дочь. Пришлось и главе семейства сказать веское слово: мол, что ж ты, мужчина, с бабами в перепалки вступаешь… В знак протеста Влад тогда молча оделся и ушел на улицу, к дружкам. Может даже, к тем самым, которые сейчас во дворе с гитарой и пивом веселятся. – Ты… ты куда? – Отец опустил бокал и быстро переглянулся с супругой. Они успели обменяться мнениями по поводу подарков, обнаруженных под елкой, и пришли к выводу, что оставила их там все-таки Ира. Но сейчас именно сын доставал коробочки и по очереди раскладывал их на столе. С бледного, может даже чуть бледнее, чем обычно, лица не сходила вялая полуулыбка, вызывавшая скорее беспокойство, чем радость. – Это тебе, ма, – отодвинув миску с оливье, Влад положил на стол подарок в обертке салатового цвета с золотыми крапинками. – Ты так часто в этом году, да и в прошлом злилась из-за соседского щенка сверху. Ох и доставал же он тебя своей возней и тявканьем… Заметила, что-то давно его не слыхать? – Что… Ты не мог, только не это! – Женщина было привстала, но тут же тяжело рухнула обратно на свое место. Стул под ней тоскливо скрипнул. – Сестренка, – Влад повернулся к ней, протягивая завернутую в синее коробочку. – Думаю, ты уже никогда не станешь завидовать глазкам своей подружки из соседнего подъезда. Ах, какие они красивые, зеленые до умопомрачения! Ах, почему у тебя нет таких же изумрудов… Одна из этих драгоценностей достается тебе, теперь-то уж точно. С Новым годом! Он замолчал, наблюдая за реакцией родственников. За спиной у Влада на фоне Кремлевской стены начал свою речь президент. Голос гаранта был негромким, звучал сухо и по-деловому. Влад хихикнул. Ира испуганно взвизгнула, отшвырнула подарок. Коробочка полетела на пол и покатилась, переваливаясь с одной грани на другую. При этом внутри что-то еле слышно шуршало и билось о стенки. Как показалось Сергею, что-то маленькое, круглое. – Да как ты… – начал было побледневший отец, но Влад уже положил перед ним последний презент – завернутый в темно-красную, как клубничное варенье, бумагу. – Папа, – глаза мальчишки сияли. – Ты ведь больше уже не будешь злиться на своего начальника? Всего лишь пара несильных ударов вот сюда, – он коснулся рукой своего горла, – и никаких проблем на работе не осталось. Больше – нет. Сергей тихо ахнул. «Запретить, – крутилось у него в голове. – Давно надо было уже запретить все эти жуткие кровавые игрушки. Вон у Малахова в передаче что ни день – обсуждают, один случай ужасней другого, и всё про свихнувшихся на играх геймеров. А Брейвик? Он же на приставках игровых тренировался, в шутерах этих. Или тот парень, ровесник Влада, что в школе стрельбу устроил, он ведь тоже играл во что-то…» В динамиках раздался торжественный бой курантов. В ушах Сергея он сейчас гремел тревожным набатом. Воображение его мигом нарисовало картину – банальную, но правильную. Боммм… Влад дежурит у входа в офис, пряча под полой зимней куртки нож, этот вот большой столовый нож с широким блестящим лезвием. Боммм… Темнеет, улица перед входом в здание пуста, фонари не работают. Боммм… Дверь открывается, и на пороге возникает грузная фигура директора фирмы. Ему не дойти до своей машины, припаркованной в нескольких метрах, потому что сзади крадется юноша с бледным решительным лицом и черными пятнами вместо глаз. Боммм… Боммм… Боммм… – Что там? – сглотнув, тихо спросил Сергей, не глядя на сына – взгляд приковала к себе коробка с «подарком». – Что ты… взял у него? – Кусочек. – Улыбка Влада стала шире. – Маленький сувенир на память. Для тебя. Сергей услышал тихий стон и краем глаза увидел, как жена схватилась за грудь. Тяжелые удары гремели над башнями Кремля и одновременно в гостиной, как гром. За окном, подхватив эстафету, раздались взрывы петард. Отсветы новогоднего фейерверка – зеленые, синие, красные, как упаковка проклятых коробок, – падали, сменяя друг друга, на спокойное и гордое лицо юноши. – Боже, – выдохнул отец. – Нет! Отброшенный одним резким движением, бокал ударился о стену и взорвался брызгами стекла и шампанского («Боммм…» – отозвались куранты). Иришка опять закричала. Сергей схватил свой подарок и стал остервенело рвать ленточки и обертку. – Не надо… – простонала жена, отворачиваясь. Мужчина добрался до картона, вскрыл его трясущимися пальцами – и слезы потекли по белым как снег, белее, чем у сына, щекам. Пусто. ПУСТО! Ничего, кроме ваты. Совсем ничего. Сверху донесся звонкий лай, и Галя рухнула в обморок. Иришка, уронив стул, кинулась в ванную, ладонями зажимая рот, чтобы удержать рвоту. – Не всё так плохо, – улыбался Влад, разглядывая собственное отражение в лезвии. – И даже резать не пришлось. Разве это плохой подарок, па? – Ты еще спрашиваешь. – Дрожащей рукой Сергей Иванович Квашнин вытер мокрый от пота лоб. – Да это… это… На глаза ему попался белый клочок, будто вырванный из бороды Деда Мороза. – Спасибо тебе, сынок, – сказал Сергей Иваныч и нервно икнул. – Спасибо. Это лучший подарок за всю мою чертову жизнь.Благословенная тишина
Один мой друг, имя которого я здесь называть не буду (и вскоре вы поймете почему), служил в органах правопорядка, а точнее – в «убойном» отделе милиции. Был он там не то что за главного, но и не в рядовых сотрудниках ходил. При этом друг мой – человек характера самого серьезного, к глупым шуткам отнюдь не склонный, что позволяло мне всегда и во всем доверять ему, что бы он мне ни рассказывал. Однажды этот мой приятель пришел ко мне не то чтоб с официальным визитом, а скорее по старой привычке. Оба мы были холостяки. У меня на личном фронте дела не складывались из-за нелюдимости, свойственной многим бумагомарателям. Я по натуре домосед, из тех, кто с большим трудом идет на контакт. Друг же, напротив, был весьма любвеобилен, что вообще распространено среди мужчин его профессии, но из-за тяги к прекрасному полу, видимо, никак не мог сделать окончательный выбор: два брака, два развода, множество сменяющих друг друга любовниц, некоторые из которых годились ему в дочки. Жили мы по соседству, в маленьких однокомнатных квартирах на разных этажах облезлой хрущевки. Каждый из нас мог зайти к другому в любое время дня и ночи просто так, без предупреждения, за солью или спичками, узнать, как дела, или перекинуться парой ничего не значащих фраз. Поговорить всегда было о чем: область его профессиональных интересов пересекалась с моей. Шел 199… год. Политические и финансовые бомбы взрывались одна за другой, на Кавказе гремели настоящие взрывы, женщин и детей брали в заложники. Мир был грязен и пах падалью, как заваленная отходами подворотня. Персональный компьютер считался роскошью (лично я пользовался пишущей машинкой фирмы «Эрика», старушка и сейчас пылится где-то на антресолях), а словечки «вай-фай» и «мобильник» еще не успели войти в обывательский лексикон. Зато в те времена люди чаще заглядывали друг к другу в гости и предпочитали живое общение кривому зеркалу онлайна. В тот день друг мой выглядел мрачнее обычного, даже лицом был бледен, а под глазами залегли синеватые пятна, словно он несколько суток не смыкал век. Мы прошли с ним на кухню, где я налил нам горячего чаю и поинтересовался: «Неважно выглядишь. Может, случилось что?» Поначалу он не отвечал. Лишь молча пригубил ароматной жидкости, грея ладони о стенки кружки, хотя на дворе уже вовсю зеленела листва, а ласковое весеннее солнце щедро лило на улицы потоки тепла. Лето в том году, если помните, выдалось сухое и жаркое, к августу оно превратило город в огромных размеров духовку, но по весне погода стояла еще замечательно нежная, навевавшая мысли о том, что все не так уж плохо и есть ради чего жить и к чему стремиться. Тем удивительнее было видеть, в каком состоянии находится мой приятель. Посидев какое-то время, он спросил вдруг, нет ли у меня чего покрепче (хотя мы с ним редко выпивали вместе, у каждого были дела, работа, да и ни я, ни он спиртным особо не увлекались). А потом, когда я достал из буфета припасенную с новогодних праздников бутылку портвейна и пару граненых стаканов, сказал: – Знаешь, хочу тебе одну вещь передать. Мне от нее плохо становится, если читать начинаю, а тебе как писателю-детективщику может пригодиться. Заинтересовавшись – что это за «вещь» такая, что от нее вполне себе опытному милиционеру не по себе? – я присел напротив и выжидающе посмотрел на гостя. – С неделю назад поймали мы одного… душегуба, – продолжил он. – Правда что душегуба, по-другому не скажешь! Совершенно сумасшедший оказался. В контору позвонил кто-то из местных, увидев поутру голого мужика – представляешь? – во дворе жилой пятиэтажки. – Ну, мало ли психов развелось… – Погоди. Он не только голый был, но и с ног до головы буквально весь покрыт кровью. Причем не своей. – Ого! – Вот тебе и «ого»… Приехали за ним, чтоб в участок запаковать, а он, знаешь, улыбается этак… странно-странно. На своей волне, в общем, не пойми в каких розовых облаках витает. Вообрази картинку, писака, – утро, солнышко встает, птички на деревьях чирикают, а тут во дворе, под окнами жилого дома, стоит окровавленный голый мужик и улыбается. – Готика какая-то. – Она самая! Короче, на вопросы он не отвечает, почему голый и чья на нем кровь – молчит. Знай себе лыбится, вроде как ребенок, отхвативший на день варенья игрушку, о которой весь год мечтал. Однако подсуетилась там поблизости бабка. Сам понимаешь, таких кумушек в любом дворе пачками, сыскать не сложно. Им на старости лет заняться нечем, вот и следят за всеми и каждым, как КГБ. Сама к нам подошла и говорит: так, мол, и так, ночью какой-то шум со стороны гаражей слыхала. Рядом с тем домом, это на Луначарского, чуть на отшибе, там еще стройка замороженная, помнишь?.. Так вот, там рядом гаражи, обычные такие коробки из битого кирпича. А бабка, значит, ночью плохо спит, с ними такое бывает, вот и услышала – то ли крик, то ли скрип… – И что дальше-то? – А дальше… – Тут товарищ мой непередаваемо тяжело вздохнул и одним махом осушил стакан. И только потом, даже не поморщившись, продолжил: – Стали гаражи эти обследовать… Долго искать не пришлось. От одного, с краю, мягко сказать, запашок шел. Оно, конечно, места там сами по себе дикие, мусора полно, и амбрэ соответствующее. Но от этой коробки воняло натурально, как со скотобойни. Сладко так, приторно. Еще бы, солнышко-то к тому времени уже припекать начало, а стены и крыша гаража гофрированным металлом обделаны. А внутри… – Ну?! – Вот этого я тебе рассказывать не буду, – покачал он головой. – Извини. Не могу просто. Одно скажу: в бригаде нашей много народу старой еще закалки, советской, всякое повидали, а только вся бригада дружно рыгала куда попало. Такая вот, мать ее дери, пещера Али-Бабы нам открылась. С этими словами он вытащил из-за пазухи обычный копеечный пакет, в который оказались завернуты несколько бумажных листков. – Дневничок мы в гараже том нашли. Записи того ненормального… Я, конечно, оригиналы тебе давать не имею права, но вот сделал копии. Ты почитай, только будь готов морально: он там много чего написал, шизоид этот, рассуждения всякие. Тоже «мыслитель» оказался, навроде тебя. Философ, блин. Я было хотел тут же развернуть целлофан и приняться за чтение, но приятель меня остановил, гаркнув: – Обожди! При мне – не надо. – Он поднялся. – Пойду… Как уйду – тогда читай, если очень уж любопытно. Только мне потом ничего не говори, ладно? Я тебе эти записки передаю, чтобы выкинуть из головы хоть на какое-то время. Как эстафетную палочку, что ли. Пускай у тебя теперь голова болит! А то спать уже нормально не могу… Пригодятся тебе бумажки эти – хорошо, нет – ну и ладно. А я пойду нажрусь лучше, чтоб скорей обо всем забыть. С чем он меня и покинул. Ушел, не прощаясь, как и явился – мрачный, задумчивый и даже какой-то злой. Забегая вперед, скажу, что видал я его тогда, конечно, не в последний раз, но в дальнейшем дружба наша как-то сама собой потихоньку сошла на нет. Я, чего таить, ненароком стал избегать встреч с ним, а он, в свою очередь, старался лишний раз не пересекаться со мной. Пару лет спустя сосед мой уволился из органов, подался в бизнес, где, видимо, добился какого-то успеха, потому что квартирку свою продал, а сам переехал из области в центр. Причем уезжал он отсюда уже на джипе. Я же по сей день кукую здесь, потому как, сами знаете, тиражи книг в мягких обложках в наше время скукожились до неприличия, а рерайтом или копирайтингом – идиотский новояз! – на достойную жизнь не заработать. Ничему же другому я не обучен. Но если быть честным до конца, то разделили нас, развели по разные стороны жизненного пути, кого на обочину выбросив, а кого на скоростное шоссе выведя, не обстоятельства, не разные личные приоритеты и не данные каждому от природы способности. А всего лишь несколько жалких, мятых листов для ксерокса формата А4. …Изучив предмет тогдашнего разговора, передаю его вам теперь, как есть, без каких-либо исправлений. Написано местами, быть может, немного сбивчиво, но в целом грамотно и, к сожалению, по большей части совершенно ясным и понятным языком. К сожалению потому, что, наверное, лучше бы половину написанного оказалось невозможно понять… Впрочем, судите сами:Вот вам идея. Или не так – Идея. То, что, согласно Платону, обретается выше нашего ума и спускается к иным из нас в качестве награды или наказания непонятно за какие заслуги или провинности. Идея. Расхожая фраза германского философа: «Что нас не убивает, делает нас сильнее», – верна лишь отчасти, так как «сильнее» – неправильное слово. Сила – понятие относительное и весьма субъективное. Становится ли сильнее калека, которому отрезало ноги поездом? Являет ли пример сказочной мощи опустившийся на дно жизни, издыхающий алкоголик с больной печенкой? Наркоман с дырявыми венами?.. Нет, то, что не убивает окончательно, либо стремится тебя добить, либо – меняет, выводит на другой уровень, какой прежде ты был не способен постичь. Явленная высшейвластью или просто судьбой идея – ИДЕЯ – может изменить тебя настолько, что внутренне ты станешь совершенно другим, новым, человеком. Так вот вам Идея. Никто не знает, что такое настоящее удовольствие. Я спрашивал об этом у разных людей – умных и глупых. Кто говорил одно, кто – другое, но ни один из ответов нельзя назвать удовлетворительным, ни один из них не способен умерить мое любопытство. А гложущая меня мысль – идея! – слишком необычна, чтобы я мог поделиться ею с кем-либо. По крайней мере в разговоре. Возможно, на бумаге лучше получится? Лишь бы эти записи не попались на глаза моей благоверной или, еще хуже, нашему мальчишке! Впрочем, он вечно во дворе, а она или на работе, или с подругами, так что времени, чтобы изложить свои мысли и наблюдения, а потом припрятать куда подальше, до следующего удобного случая, у меня будет вполне достаточно.(Здесь текст обрывался, продолжение обнаружилось на другой странице, и так было несколько раз – очевидно, какие-то части записок делались в течение продолжительного периода времени с перерывами.)
Купил гараж. Вернее – взял в аренду на год в местном кооперативе. Обошлось в копеечку, но я все равно доволен. Пускай Ленка возмущается, зачем он нам, если машины у нас нет и в ближайшие годы не будет. Есть вещи важнее машин, да разве ей понять. Нельзя сказать, чтоб я долго выбирал подходящее местечко, приценивался, решался. Иногда наши поступки определяет не разумный расчет, а чистой воды интуиция. Вот и с гаражом какое-то шестое чувство сработало: на глаза попалась приклеенная к фонарному столбу рекламка, рядом – объявление о пропавшем щенке. В голове будто что-то щелкнуло, все было решено за долю секунды. Идея, большая великая Идея, может вызревать годами. Но когда процесс запущен, его уже не остановить. На улице сейчас много снега, сугробы на обочинах по пояс. Ванька с дружками лепят огромные шары и с хохотом запускают их вниз с горки. Моя Идея формировалась подобно такому снежному кому, и ей хватило легкого тычка, чтобы, набирая скорость, покатиться вниз. Горе тому, кто окажется у этого снаряда на пути, – зашибет, увлечет за собой, обернется сминающей все и вся лавиной… У меня даже руки тряслись от нетерпения, когда я рассчитывался с директором кооператива. Одну из купюр выронил в грязь, запачкал. Он подумал, что я дрожу от холода, предложил выпить «для сугреву, заодно и обмоем». Я отказался, и так был пьян от переполнявших эмоций. Аренда гаража – первый шаг от многих лет теории к практике. Удачное вложение в будущий великий опыт. Во-первых, недалеко от дома, можно будет помаленьку готовиться. Лучше ночами, чтобы никто не видел и не лез с дурацкими вопросами. Во-вторых, стены хорошие, плотная кирпичная кладь, поверх которой полотна гофра. Надо только ворота изнутри обить каким-нибудь звукоизолирующим материалом. Помещение, конечно, не очень большое, и от старого хозяина осталось изрядное количество хлама. Пустые бутылки, гаечные ключи, сломанная ножовка… Не знаю. Может быть, что-то получится использовать? Не знаю.(Оставшиеся листки исписаны неровным скачущим почерком, сохраняющим, однако, при всех отличиях заметное сходство с предыдущим текстом. Нет никаких сомнений, что написаны все части одной рукой. Но, скорее всего, последняя часть записывалась в спешке, а если судить по тому, как много дефектов на копиях этих страниц, то и на малопригодной для письма поверхности.)
(…)
Говоря о наркомании. Если уж на то пошло, то это всего лишь яркий пример, одна из тех зависимостей, которыми полнится жизнь. Все начинается с малого. С яркого, запоминающегося ощущения, на почве которого уже растет, постепенно заполняя все твое существо, настоящая мания. В раннем детстве я стал свидетелем ужасного происшествия. Мне понадобилось в гастроном, возле него стояли автоматы с газировкой. А на выходе оттуда увидел, как нерадивая мамаша, переходя с детской коляской дорогу на перекрестке, попала под грузовик. Огромный, похожий на боевых роботов из мрачного будущего, как в «Терминаторе», МАЗ с уродливой квадратной кабиной, хищно оскаленной решеткой радиатора впереди и мерзкого оранжевого цвета кузовом сзади. С большими, смертельно опасными колесами. Водитель не видел пешехода, дамочка оказалась в «слепой зоне». Резво, с рычанием МАЗ тронулся с места на зеленый… Коляска – всмятку, а бабешка осталась жива. Но голосила страшно, на всю улицу. Конечно, сбежались прохожие, жители соседних домов. Женщина выла, сидя прям на дороге в луже крови и еще чего-то, водила руками над месивом, будто пытаясь собрать коляску… и то, что в ней. Как какой-нибудь детский развивающий конструктор. Мадам Самоделкина, погубившая собственного ребенка (вроде бы это была девочка, хотя я уже не помню) и заодно поломавшая жизнь несчастному работяге, водителю грузовика. Пока приехала скорая, менты, вокруг дурочки уже толпа собралась. Заметил я в той толпе и своего отца. Подталкиваемый любопытством, попробовал сунуться ближе к месту разыгравшейся драмы. И в сонме возбужденных голосов услышал знакомый отцовский рык: «Да заткнись ты уже наконец, идиотка!» А кто-то – должно быть, тетя Галя, дородная молодуха из гастронома, ответила: «А если б то твоя жена была, малахольный?» Потом взрослые заметили меня, вытолкали взашей из толпы, и что там дальше творилось, я уже не знаю. Но в памяти почему-то отпечаталась вот эта маленькая сценка: шумные люди, разгневанный отец, воющая белугой молодая мамаша… и риторический тот вопрос, о жене, то есть – о моей маме. Думаю, с этого и надо начинать отсчет. С вопроса «а что, если?», запавшего однажды в детскую душу. Пустившего корни в юном уме, чтобы впоследствии, прирастая событиями и выводами, распуститься той самой Идеей.
(…)
Играли с Ванькой в гараже. В школе зимние каникулы, никуда от сына не деться, да и, опять же, детям в его возрасте все интересно, все покажи да расскажи. Малой еще совсем мальчишка, места много не займет. Но, когда я его щекотал в шутку по животику, верещал громко, на улице слышали. Надо будет набить старые наволочки каким-нибудь ненужным тряпьем и обделать как следует ворота. Чтобы гасить звук. Сложно, конечно, бороться с соблазном. Исключить Ванюшу из эксперимента, обойтись одной Ленкой. Помню его еще крохой, свертком писклявым весом в три с половиной кило, агушки, а-та-та, по врачам бегали… Как? Как можно я его…
(…)
Забавно. Перечитывая предыдущие записи, заметил, что, когда переживаю, волнуюсь (особенно, если речь идет о сыне), начинаю писать невразумительно. Сбиваюсь, допускаю ошибки. Как если бы не писал, а говорил – запинаясь, бормоча что-то. Видимо, нервное. Хорошо это, плохо ли, что нервничаю, сам не знаю. Но эффект любопытный.
(…)
Где-то год, а может, и целую жизнь спустя после той трагедии – в детстве время течет неторопливо – на уроке физкультуры я неудачно упал с канатов и сильно ушиб копчик. Боль была жуткая, до слез, до потери контроля над собой. Я катался по полу, как в припадке, и голосил так, что, наверное, оперные певцы обзавидовались бы, если б слышали мою арию подыхающего кота. В те секунды, казавшиеся вечностью, весь мир для меня сузился до размеров тонкой, раскаленной докрасна металлической спицы, впившейся на всю длину мне в спину чуть ниже поясницы и немногим повыше задницы. Когда несколько минут спустя боль малость утихла, у меня уже не было мочи ни кричать, ни плакать, я даже дышал с трудом. Но в глубине души в тот момент я был счастлив, как ни разу до или после этого. Счастлив оттого, что пусть мне и ужасно больно, но уже не так нестерпимо больно, как до этого. Месяц я потом вовсе в школу не ходил, отлеживался дома, слушал Цоя и Летова на отцовском кассетнике, читал Жюля Верна и рассказы из «Вокруг света». Отец все чаще возвращался со смены затемно, пьяный, они долго ругались с матерью, она била посуду, кричала. Этот ор, доносящийся из-за стены, отдавался у меня в копчике и прокатывался вверх по хребту тупой ноющей болью. Я наслаждался ею, погружался в нее, как уходил с головой, пока родителей не было дома, в песни «ГрОба» и приключения детей капитана Гранта. Боль заглушала доносящиеся из-за стены звуки, но не могла убить мысли в моей голове. Желание, чтобы мать с отцом поскорее разошлись, чтобы уже не слышать ее мерзкий свинячий визг, так похожий на вой той нерадивой мамаши, малыша которой раздавило МАЗом. Наверное, тогда, теми долгими темными ночами, Идея уже начала формироваться во мне. Зерно было брошено и давало всходы.
(…)
Незадолго до праздников убил в гараже собаку. В порядке опыта, в плане подготовки к настоящему Эксперименту, конечно. Написать «по горячим следам» не имел возможности, все-таки Новый год, Ленка и малой слишком много времени торчат дома. Сейчас, неделю спустя, впечатления уже изрядно притупились, но, впрочем, не исключено, что это и к лучшему. Подводить некие предварительные итоги, анализировать имеет смысл на холодную голову, максимально отстранясь от любого эмоционального фона. Я использовал молоток и топорик для рубки мяса. Самого щенка подобрал на улице вечером, а инструмент и сменную одежду заранее сложил в гараже в укромном месте, рядом с верстаком. Опыт получился неприятный, но полезный, дал много пищи для размышлений. Первое: даже слабые и больные яростно бьются за жизнь. Сопротивляются до последнего – дольше, чем можно было бы предположить. В конце головешка несчастной твари превратилась просто в чавкающий фарш, в кашу из крови, мяса и костей, а он все еще хлюпал горлом и сучил ножками. Второе: грязи много, очень много. Если уж такой малыш заляпал меня всего с ног до головы, то, надо думать, когда и если дойдет до людей, крови будет гораздо, гораздо больше. Третье: сложнее всего, как и предполагал, бороться не с жертвой, а с самим собой. Со своими чувствами, с жалостью, состраданием. Выводы?.. Подопечных нужно предварительно обездвиживать, это главное.
(…)
Поправка. Главный вывод: двигаюсь в верном направлении. Если отбросить ряд открывшихся сложностей, которые, конечно, сильно отвлекали, но все-таки имели скорее технический, рабочий характер, контраст эмоций обещает быть феерическим.
(…)
Нет, я что, серьезно готов пойти на это?..
(…)
Родители развелись, когда я закончил школу. У матери нашелся ухажер из старых знакомых, давнишний воздыхатель. Отец, впрочем, тоже недолго горевал: сошелся с Галиной из гастронома. Пару лет назад мы с Ленкой к ним заезжали в гости. Жена настояла, сам бы я в старый дом носа не сунул. Наверное, мне просто не хотелось видеть, в какое дерьмо превратился человек, приходящийся дедом нашему Ванюше. К моему удивлению, все у них с Галиной оказалось в порядке. Работают, где и работали. Не поручусь, но, как мне показалось, отец пьет чаще… но меньше. Видимо, тетя Галя составляет компанию. Я к моменту развода родителей уже поступил на физмат и жил отдельно, в студенческой общаге. На втором курсе познал первую юношескую любовь. Естественно, неудачную. У девицы случился бывший, к которому она и вернулась, а я стал третьим лишним – обычное дело. Слава богу, узнал я об измене еще до того, как собрался свататься, а то могло бы выйти, как у отца с матерью. Любопытное совпадение: ту мою пассию звали Света. Как мать. Еще они обе были блондинками. Интересно, как звали ту светловолосую дамочку, которая отправила свое дитятко прогуляться под МАЗ? Если и слышал что-то об этом – не помню. Важно другое. Расставание со Светой я, конечно, переживал сильно. Но «что не убивает – меняет». Благодаря в том числе и ее предательству, я со временем научился ценить в людях те качества, на какие прежде не обращал внимания. Честность, прямоту… предсказуемость. Миниатюрная девушка с параллельного курса, с коротко стриженными черными как смола волосами и маленькими, чуть раскосыми глазами, Светкина подружка, которая рассказала мне все тогда про нее и ее бывшего-будущего, – она была со мной искренна, потому что я ей нравился. Она была совсем не похожа на мою первую несчастную любовь. Она была предсказуема, и в итоге мы с ней предсказуемо сыграли свадьбу. Я ведь и по сей день с ней счастлив. Удовольствие, настоящее удовольствие возможно постигнуть, лишь испытав сначала нечто прямо противоположное. Как известно, все познается в сравнении. Будем считать эту мысль исходной и от нее отталкиваться…
(…)
Прошел месяц, а я все думаю о той собачонке. Вспоминаю, как закапывал останки в снегу за гаражами. Боюсь, когда станет теплее, а если прогнозы не врут, то это случится уже скоро, труп кто-нибудь найдет. Лишний риск – и, возможно, повод поторопиться. Хотя я и так с трудом себя удерживаю, стараюсь все тщательно подготовить. Второй попытки не будет. Лучше следовать плану. Лучше выкопать то, что осталось от щенка, и переместить куда подальше, да хоть бы и на свалку, на тот пустырь, что рядом с работой… Нет. Это все отговорки. Страх перед неизбежным, затягивание времени. Проще оставить как есть, и пусть сама природа ведет обратный отсчет! Или? Или.
(…)
Интересная мысль, насчет той дворняжки. Связываю с размышлениями иного рода, с терзаниями по поводу собственного психического здоровья. В бухгалтерии как-то зашел разговор о «Криминальной России», передаче канала НТВ. В одном из выпусков рассказывали о серийных убийцах. Медики утверждают, что маньяки начинают обычно с животных. Как и я. Значит ли это, что я такой же?.. Глупо отрицать наличие мании, хотя меня коробит от самого термина. Да, я одержим определенной, надо признать, жестокой Идеей. И я ищу наслаждения. Готов ради этого убивать. НО!!! Но. !!!!! Я не серийный убийца. Не садист, не социопат. Я из тех, кто любит творить добро, кто переведет бабушку через дорогу. Я способен к состраданию, я гуманен. Просто у меня научный склад ума, это еще преподы в вузе подмечали. Я исследователь. В конце концов, я плакал, убивая ту собаку. Иначе все это не имело бы никакого смысла.
(…)
Ленка жалуется: я все время торчу в гаражах, забыл о семье, забыл, когда мы в последний раз с ней занимались любовью. Надо трахнуться с ней, чтобы успокоилась. Так и запишем. Напоминание: Первое. Удовлетворить благоверную. Второе. Взять на работе со склада хлороформ. Уточнить дозировку, чтобы не переборщить.
(…)
Всю ночь не мог сомкнуть глаз. После секса с Леной… Нет, не так, не то слово – секс. Слишк по-деловому звучит, буднично. Интимная близость – лучше подходит. Жена потом рядом спала тихо-тихо… как убитая. А я опять плакал. Одноврименно боялся и желал ее разбудить. Хотел убедитса, что она еще дыши…
(…)
Утром не без труда прогнал ночные страхи прочь. Выкурил полпачки, не меньше, прежде чем успокоился. Теперь вот опять могу внятно мыслить и писать без детских ошибок, чистенько. Чистота – это важно. Чистота эксперимента важнее всего. Хорошо, на самом деле просто прекрасно, что я переживаю, главное в нужный момент переступить через эти переживания. Не отбросить их за ненадобностью – они нужны, они крайне нужны! – а преодолеть. Удовольствие должно лишь усилиться от волнений испытуемого, то есть меня самого. Поэтому перед часом Икс надо будет трахнуть ее. После траха я становлюсь сентиментален, и ощущения будут острее.
(…)
Пересматривал крайние записи свои, закралась мыслишка: если я способен так чувствительно воспринять участь жены, то, может, Эксперимент может обойтись без Ваньки?.. Сумел убедить себя, что это была мимолетная слабость. Все равно терзаюсь: смогу ли? В нужное время, в нужный момент, пересилю ли?.. Должен!!!
(…)
Опять просматривал ранее написанное. Пришел к выводу, что, возможно, подсознательно желаю смерти для Ленки. То есть какая-то часть меня может винить ее за то, что, так или иначе, причинила мне боль, когда выдала Светкину измену. Не только поэтому, но и поэтому тоже – пытаюсь исключить из «уравнения» сына, он-то ни в чем не виноват. Когда видишь свои слабости – легче с ними бороться. Напоминание: поискать на свалке крюки для мяса.
(…)
Есть! Этот вечер и ночь вслед за ним прошли в делах. Устал ужасно… Но зато теперь гараж полностью подготовлен. На днях заглядывала супруга, спрашивала, какого черта я здесь пропадаю сутками? Если б ты знала ответ на свой вопрос… Но это здорово, что она интересуется. Легче будет заманить. Ведь если придется тащить тело, пусть даже и ночью, все равно может кто-нибудь встретиться. Ванюша?.. С мальчишкой будет полегче.
(Далее следует размашистая надпись на всю оставшуюся часть страницы.)
РЕШЕНО! В следующий раз СДЕЛАЮ ЭТО! Надо сделать!!!
Это ужасно, это чудовищ, это бессмысленно!На этом записки заканчивались. Друга своего с того дня я стал видеть реже. Хотя, как мы и договаривались, я никогда ничего не говорил ему о прочтенном. Словно пустынная полоса пролегла между нами – пустынная, но настолько огромная, что преодолеть ее было выше моих сил. А еще я долго ходил как сомнамбула, не реагируя на приветствия старых знакомых на улице, а однажды, выходя из дома, забыл запереть за собой дверь. К счастью, квартирка осталась нетронутой. В этом смысле мне повезло. Дороги наши с приятелем, как я уже упоминал, разошлись. Каждый живет своей жизнью, он на своем уровне существует, я на своем дне обретаюсь. И, если подумать, мне не так уж и плохо. В конце концов, нелюдимость всегда была мне свойственна. А так – сыт, одет. Пишу статьи для вебсайтов: о стройматериалах, дорогих лекарствах, политике. Пробую силы в фантастике – вроде бы сюжеты о попаданцах имеют успех. Когда-нибудь закончу роман. Только теперь я решительно не выношу тишины. Находясь в одиночестве, что мне всегда было привычно, я теперь включаю радио погромче. Или телевизор. Или магнитофон. Поэтому пишу я медленно, очень медленно – шум отвлекает от работы, мешает сосредоточиться. Но… «Благословенная тишина»… Это слишком для меня страшно.
(…)
Работаем… Связал крепко, пока хлороформ еще действовал, заткнул рот кляпом. Вешал на крюк – было тяжело, все-таки изрядно потолстела за последние пару лет, настоящая пышка стала.
(…)
Когда пришла в себя, вырвал ей ноготь плоскогубцами. Все хорошо, все идет нормально, стон приглушен даже внутри, снаружи вообще не слышно. На всякий случай еще раз заставил дышать химией, чтобы опять потеряла сознание. Лицо у нее мокрое от слез. Жалко… Пойду пацана приведу.
(…)
Сын дома, с другом из школы. Спрашивал, не вернулась ли мама с работы, пришлось соврать. Волнуюсь ХОРОШО Подумал о варианте с «нарастающим» по поводу школьного приятеля. Соблазн велик, но его родственники будут беспокоиться, искать. Пришлось отказаться. Но это тоже правильно. Чистота Эксперимента следовать плану
(…)
Господи, что же я делаю?! Назад дороги нет. Впрочем бога тоже нет
(…)
Минутная передышка. Все получилось, как и задумывал. Повесил его рядом с матерью. Та уже пришла в себя, воет что-то сквозь кляп. Самое тяжелое впереди. Надо будет удалить кляпы, но пока не могу решиться, готовлю инструменты, боюсь глядеть на них, чтобы не… Передышка затягивается. Двигаюсь дальше.
(…)
На улице темно, хоть глаз выколи. С этого и начнем.
(…)
Ленкричит и плачет, ругается умоляет не делать этого. Поздно, дорогая! Использовал шило на мальчишке. Ужасно! Глаз потек, пацан… мальчик… ВАНЮША потерял сознание кажется Может, так и лучше… для него… Нет! Надо подождать… НЕТ Нельзя ждать, можно использовать нашатырь! Так, а потом?
(…)
Делал надрезы бритвой. Не смог! Невыдерзи… не выдергива… НЕ ВЫДЕРЖАЛ Уронил, бросил на пол… сам упал, ревел, забившись в угол… Ее крики сводят меня с ума нет другое, конечно, другое, мой маленький, сынуля, боже…
(…)
Бороться с самим собой тяжелее всего, ты знал. Ты знал Наз дороги нет. Назад. Дороги. Нет. Назаддорогинетназаддорогинетназаддорогинет… Бесконечная прогрессия
(…)
Терпеть тяжело больно страшно Думаешь, еще есть шанс бросить начатое?
(…)
Снова взялся за бритву. Опять бросил. Не могу. Не-мо-гу. НЕ БУДУ!!!
(…)
можно попробовать представить, что я грузовик ЯМАЗ а она Ленка не Ленка а дура с коляской буду давить
(…)
Хули ты все время визжишь, сука?!!
(…)
Заткнись твою мать заткнись твою мать заткнисьзаткнисьзаткнись!!!
(…)
…собрался… с силами… собрался… Возможно, если абстрагироваться…
(…)
Сорвал с него кожу, лоскут со спины.
(…)
замолчите все
(…)
Жена, кажется, уходит куда-то. Закрыла глаза, больше не плачет, не вопит. Только скулит так тоненьно-тоненько. Не знаю, что хуже. Буду… приводить ее в чувство.
(…)
Отрезал сосок. Ковыр… ковырял в ране отверткой. Крови много. Очень много. Очень мерзко. Весь в ней, мальчишка обмочился, жену рвало, ужасно, все ужасно! Надо пойти почиститься, помыться… НЕТЧистотаэкспериментабеспрерывность
(…)
Господи, ежели ты естьт останови меня нидай мн сделать это
(…)
Закончили с ногтями. Вернулся к ребенку. Что дальше. Зубы. Дальше пойдут зубы.
(…)
Она воет. Теперь воет, я понял. Это один кошмарный бесконечный однотонный звук. Ванюша затих. Жаль.
(…)
вотвидешьсветатотынаделала
(…)
Замолкни, тварь!!!
(…)
отрезал язык все равно воет хихи давится кровью и воет
(…)
Выпотрошил. Он все раа… всерано… ОН ВСЕ РАВНО МЕРТВ!!!
(…)
поскользнулся и упал, стукнулся головой, но сознания не терял, лежал думал про ее уши, встал отрезал нечиво оратьнаминя ушами
мама?
(…)
Господи. Убей меня, прошу, на одного тебя уповаю, тебе верую, убей меня.
(…)
ТЫ
кто читает
запомни
ИДЕЯ
может прийти и к тебе
Понимаешь?
(…)
онакричитсноваисноваисноваиснвнаивансовссвиноаяииии
(…)
ОНИ ВСЕ КРИЧАТ
…)
как же их много
(…)
Молчание. Кончено. Я. Был. Прав. Нет и не может быть наслаждения большего. Ничто не сравнится с силой эмоции, захлестывающей мое существо. Благословенная, ниспосланная свыше, кристальная, всевечная, райская, блаженная, неповторимая, любезная, желанная тишина. СЛАВЬСЯ.
Что тебе снится?
– Что тебе снится? Лида сидела перед трюмо и удаляла с лица макияж. Из зеркала на нее смотрела тусклым взглядом усталая старуха с желтой пергаментной кожей. Слабый свет прикроватного ночника дробился в зеркале, высекая в отражении морщины и тени, и тени морщин – они становились все глубже, по мере того как исчезали остатки тонального крема и румян. Темная россыпь угрей на подбородке, торчащие в чрезмерно широких ноздрях волоски, жирные поры на рыхлых щеках дополняли портрет, не делая его ничуть краше. Она себя и ощущала такой – унизительно старой и отвратительно липкой. Хотела бы закрыть глаза, отвернуться от зеркала. Но стоило опустить взгляд, как в поле зрения влезали мерзкие жировые валики на животе и боках. Ночнушка нисколько их не скрывала, даже наоборот: там, где тонкая ткань запала в складки, проступали темные влажные пятна. В дневном выпуске новостей ведущие минут пять удивлялись небывало жаркому октябрю, к обеду температура подскочила к отметке в двадцать градусов – такого в Москве не случалось лет сорок. По этому вечерами в квартире было жарко, и Лида истекала потом. Но по ночам осень отыгрывала свое, и к утру зубы начинали стучать. Так что сплит-система работала на обогрев, воздух в спальне напоминал горячий густой кисель, а Лида продолжала течь. – Что тебе снится? – повторила она чуть громче. – В смысле?.. – Олег, ее муж, оторвался от чтения и удивленно изогнул бровь. Он лежал на дальней стороне кровати, закинув изуродованные синими варикозными шишками икры на скомканное в беспорядке одеяло. Круглое пузо напоминало большой силиконовый шар: когда-то она подумывала купить такой, чтобы заниматься фитнесом, но так и не купила. Олег использовал живот как подставку для книги. В руках он держал дешевое издание в мягкой обложке, что-то про экономику, геополитику, конспирологию. Что-то такое, разговоров о чем Лида избегала, наперед зная, что в итоге во всем окажутся виноваты жидомасоны, рептилоиды или древнеегипетские жрецы. Подобные темы вызывали у нее в лучшем случае сонливость и скуку, в худшем – головную боль. – Тебе что-то снилось прошлой ночью, – пояснила она. – И я хотела бы знать, что ты видел во сне. Или кого. – Глупость какая, – Олег закрыл книгу и лениво зевнул, даже не подумав прикрыть рот ладонью. – Ты же знаешь, я снов не помню. По сути, мне и не снится-то ничего. – Да уж, обычно ты спишь как сурок, – согласилась Лида. – Даже не храпишь почти, разве что иной раз воздух портишь. Она была рада отвлечься от уродливого отражения в зеркале, чтобы поговорить с мужем. О чем угодно, пусть даже о вездесущих масонах или о том, как тот пускает шептунов по ночам. К тому же внутри нее росло смутное чувство, которое весь день не оставляло ее в покое. – Ну, знаешь. Что естественно, то не безобразно, – ухмыльнулся Олег и, недолго думая, выпустил газы, издав при этом звук, похожий на треск рвущейся ткани. – Разумеется. Мужчину следует принимать таким, какой есть, – повторяла ей мать с детства. На практике, во взрослой жизни это у Лиды вылилось в правило двух «не» и одного «да». Не устраивать сцен, если муж возвращается поздно, зависнув после работы в баре с сослуживцами. Не обращать внимания на его сальные шуточки, стоически выслушивать треп о футболе и политике. А также стирать его нижнее белье и вонючие носки, нюхать по ночам пердеж и – то самое «да» – время от времени раздвигать ляжки и стонать, имитируя бурный оргазм. «Лучше уж маленький член в руках, чем большой в заднице», – подвыпив, делилась опытом мамаша. Она пережила троих мужей, так что Лида вполне доверяла ей в вопросах семейных отношений, справедливо полагая, что маме виднее. Днем, пока Олег был на работе, она даже звонила матери в Сызрань, спросить насчет его странных снов. Но понимания не нашла: та обозвала ее шизофреничкой и посоветовала выпить чего-нибудь успокоительного, чтобы унять паранойю. Что ж, мама никогда не отличалась особой отзывчивостью. – Все-таки тебе что-то снится. Ты что-то видишь там, в голове, когда спишь, – попыталась она объяснить, с трудом подбирая слова. Язык во рту, похоже, распух не меньше, чем кожа у нее под глазами, превратился в еще одну огромную жировую складку, как на боках. Иногда ей бывало физически сложно выражать свои мысли. Особенно если она волновалась или испытывала сильное беспокойство, как сегодня. Утром в гости нагрянула соседка из пятого подъезда, вдовая баба примерно одного с ней возраста: обычное дело, справиться о здоровье, поболтать о том о сем, перемыть косточки молодым вертихвосткам. Но в этот раз разговорчик не склеился. Лида ничего не могла с собой поделать: мысли и фразы, вроде бы вертящиеся на языке, норовили брякнуться оттуда куда-то в пустоту, где их приходилось вылавливать, будто черпая дырявым половником со дна кастрюли вязкую вываренную кашу. И то, о чем говорила Тамара, проходило мимо ее ушей. Мигрени, давление?.. Все в порядке, Томочка, пью таблетки. Что?.. Ах да, малость нездоровится, ну да ладно, бывает. Что-что?.. Да, буду держаться, и ты держись, спасибо. В итоге пришлось соврать насчет простуды и попрощаться, пока соседка вконец не доконала ее своими заботами. Когда вечером вернулся Олег, беспокойное состояние никуда не исчезло, даже наоборот: стало ощущаться острее. За ужином, пока челюсти с трудом перемалывали безвкусные листья салата, Лида подумала, что причиной всего: и плохого аппетита в том числе – может быть приближение цикла. Но предыдущие месячные закончились не более двух недель тому назад, так что для очередного «м-синдрома» («красный день календаря», как называла это мать) рановато. И только теперь, готовясь ко сну, Лида окончательно уверилась в том, что проблема была именно в муже. Это не с ней – это с ним что-то было не так. И решилась спросить о снах. – Ты вчера говорил во сне, – она оставила скомканную салфетку на трюмо, рядом с набором пилочек и маленькими маникюрными ножницами, а сама поднялась. – Понимаешь, Олег? Впервые за все время, что мы живем вместе, ты разговаривал во сне! – Вот даже как? Весьма интересно, – тон мужа намекал как раз на обратное, говорил о том, что ему скучно, и он слушает вполуха. Но Лида была решительно настроена высказать все, что наболело. Мать, возможно, и возразила бы ей что-нибудь на это, но ведь она же отказала ей в помощи сегодня, так что нужно брать дело в свои руки. – То, как ты говорил… Олежк, это сложно назвать человеческой речью. – Ругался, что ли? – Нет. Нет, там вообще не было слов. Не знаю, как описать, – она пожала плечами. – Похоже на какой-то хрип или даже рычание… Точно. Ты рычал на меня ночью, как собака из подворотни. – Хм. Нет, я, конечно, старый кобель… Но ты уверена, что этот звук доносился не отсюда? – Улыбнувшись, он погладил надутое пузо. – Те макароны по-флотски, что ты приготовила… Очень вкусные, конечно, просто пальчики оближешь. Но я, видать, переел. Утром маялся животом, пока не сходил по-большому. И на службе еще два раза бегал. А когда ты НЕ переедал, могла бы спросить она, но вместо этого просто прилегла рядом и уставилась в потолок. Мужчину следует принимать таким, какой есть, и она уже давно привыкла ко всем его излишествам и недостаткам, включая обжорство и тягу к спиртному. Ее это все вполне устраивало, поскольку было знакомо. Лиду не устраивало другое – то новое, что она в нем обнаружила. То странное, что заставляло мурашки бегать по коже. – Ты вчера не только рычал, Олег. Не только издавал эти непонятные, угрожающие звуки. Ты еще и непонятные вещи делал. Как-то странно двигался. – Хе-хе, вот так, что ли? – Он пошевелил тазом, изображая фрикции. Но даже сымитировать секс у него получалось не очень, только матрац растряс и простыню, которую она не далее как третьего дня поменяла, измял. Что ж, лучше маленький член, чем никакого члена, не так ли?.. – Нет, иначе. Вот так, – Лида подняла руку над головой. Несколько раз сжала-разжала пальцы. – Понимаешь? Будто хотел свернуть кому-то шею. И рычал при этом… Со злобой рычал так, с яростью. – Что ты хочешь этим сказать? – насупился Олег, недовольно ворочаясь на своей стороне кровати. – Что это выглядело чертовски странно, вот что. Ты представь, каково было мне лежать с тобой, когда ты все это проделывал, да еще и с закрытыми глазами! Ты как будто пытался кого-то придушить, а рядом-то никого, кроме меня, не было! Что я должна была подумать в эти минуты, глядя на эту твою пантомиму? – Должно быть, напугал тебя не на шутку, – покачал он головой. – Просто ты был как чужой. Совсем не похож на себя… Она продолжала искать нужные слова, чтобы выразить то неясное чувство, то волнение, которое испытывала, но без особого успеха. В голове опять все перемешалось, стерлось в кашицу, как свекла и морковь в заготовке для борща. – Я стараюсь, – вздохнула, наконец, Лида. – Я правда стараюсь тебе объяснить, но, видно, у меня плохо получается. Ты не понимаешь. Олег повернулся и, протянув руку, накрыл теплой ладонью ее запястье. Господи, ужаснулась Лида, обратив внимание на испорченный маникюр, мои ногти, боже, я ведь и не помню, как и когда их сгрызла. А все из-за него и его дурацких снов! – Попробуй еще раз, дорогая, – ласково попросил муж. – Что же тебя напугало? Лида уже готова была заплакать. – Мы так долго вместе… Любое твое движение, любой жест, любой издаваемый тобой звук уже давно стали для меня привычными и знакомыми. Превратились в рутину, понимаешь?.. – Не очень-то приятно такое слышать от собственной жены, но… понимаю. Да, понимаю, – повторил он твердо. – Продолжай. – То, как и над чем ты шутишь… Как смеешься, знаешь, как будто подхрюкивая. Как ты икаешь, отрыгиваешь после еды… Даже то, что иногда ты забываешь поднять ободок унитаза, когда мочишься, – все это обычное дело. – Ну спасибо. Когда это я забывал?.. – А вот вчера ночью, – отмахнувшись, продолжила Лида, – ты был не такой, как всегда. Ты был необычный. Ты был… не ты. Словно рядом со мной оказался кто-то совсем другой, какой-то совершенно незнакомый мне человек, только притворяющийся тобой. Не могу передать словами… Жуткое ощущение. – Еще бы, – согласился Олег. По голосу стало ясно, что он уже не шутит, а действительно говорит серьезно. – Но, думаю, это не повод так расстраиваться, дорогая. Всему ведь можно найти объяснение наверняка. Может, это какая-то форма сомнамбулизма? Вроде бы я где-то читал даже, что эта штука связана с возрастом, бывает у маленьких детей и стариков. Мы с тобой, конечно, еще не бабушка с дедушкой, но ведь и не студенты-первокурсники, какими были, когда познакомились. Помнишь, я еще на пары к тебе заявился с букетом?.. – Помню, – тихонько шепнула Лида, и на глазах у нее выступили первые слезы. – Кто ж об этом писал-то?.. Должно быть, у Фрейда что-то такое было… как, бишь, его там?.. Сублиматность, что ли? Короче говоря – подсознание. – Подсознание… – повторила Лида, позволив этому слову проползти вверх по языку, под нёбо. Вкус у слова был неприятный, отдающий гнильцой. И морозом. В том, как оно отозвалось у нее в голове, было что-то, что делало его похожим на отражение в зеркале, какой она видела себя этим вечером и все вечера в последние месяцы. Если бы слова могли обрести кожу и плоть, то у «подсознания» оказалось бы древнее, покрытое сетью старческих морщин лицо и неказистое тело с уродливо выпирающим брюхом. – В любом случае, даже не представляю, что мне могло присниться, чтобы я так себя вел, – добавил Олег. – Прости, пожалуйста. Он показался ей несколько озадаченным, и это было довольно мило, напоминало его такого, каким он выглядел в молодости. Каким Лида когда-то его полюбила – немного рассеянного, но забавного в этой своей всегдашней растерянности юношу. Сейчас, как и тогда, много лет назад, когда он, смущаясь и краснея, сунул свои жалкие три розочки, ей хотелось его обнять и поцеловать в лоб, как маленького испуганного ребенка. Лида не удержалась и, высвободив руку, погладила мужа по голове, пройдясь подушечками пальцев по тому месту у него на макушке, где раньше смешно торчали волосы, а теперь наметилась лысина. – Обещай так не делать, чтобы больше не пугать меня, ладно? – попросила она, чувствуя, как приходит успокоение, а вместе с ним и сонливость. – Обещаю… – Ты уж постарайся, – вздохнула она и, оторвавшись от мужа, выключила из розетки ночник. Комната погрузилась во мрак. Тихонько забарабанил по подоконнику дождь. Точно множество рук принялись выстукивать вразнобой давно забытую мелодию. Откуда к ней пришел этот образ, Лида не знала, но подумала во мраке спальни: «Подсознание…» – и поежилась. – Спокойной ночи. – Приятных снов, дорогая. Укрывшись одеялом по пояс, повернулась на бок, спиной к мужу. Свернулась калачиком, как в детстве, и попробовала уснуть. Пару минут спустя почувствовала на плече его ладонь. Горячие, слегка влажные от пота пальцы, как червяки, сползли ей на грудь. В темноте он неосторожно царапнул ногтем ее сосок, заставив поморщиться от боли. – Хочешь отвлечься от дурных мыслей, – прошептал Олег ей на ухо. Она поняла, что он опять забыл почистить зубы: дыхание мужа отдавало пивом и сушеными кальмарами, которых Лида терпеть не могла. – Прости, любимый. Голова разболелась, – сказала она. Это не было ложью: у нее в последнее время постоянно ломило лоб и затылок. Как видно, сказывалась изменчивая погода. Давление и эти перепады температуры – в их возрасте такое бесследно не проходит. – Опять?.. Ну ладно. Доброй ночи тогда, – разочарованно просопел Олег, чмокнул ее в висок и грузно перевернулся на свою сторону кровати. В темноте Лида продолжала слушать, как он дышит. Надеясь, что вскоре под его привычное размеренное похрапывание сможет наконец уснуть и сама. – Вспомнил, – вдруг сказал он. – Про сны вспомнил. Это не Фрейд говорил, а Ницше. – Что?.. – Маленькие кусочки смерти, – муж сонно заворочался. Пружины в матраце заскрипели от движения его массивного тела. Лида замерла, напрягшись. – Так Ницше называл сны. Маленькие кусочки смерти. Звучало ужасно, хотя сейчас, в данное мгновение, в темноте, под глухой рокот усиливающегося осеннего ливня, в этом было что-то… что-то правдивое. – Знал я одного парня… – пробормотал Олег глухо, и Лида догадалась, что он по обыкновению уткнулся лицом в подушку и уже засыпает. – Он рассказывал, про другого парня… С которым они когда-то работали в смене… – Что? – А? – Ты хотел сказать про приятеля твоего друга. – А, это… Ну… Вроде бы тот кого-то убил во сне. Ну или не во сне, не помню… Раздвоение личности там было или что-то вроде того. Кажется, отгрыз нос своей подружке… Должно быть, совала куда не следует… Когда его спросили, как он это сделал… Тот отвечал, что ничего не помнит… Он продолжал что-то невнятно бормотать у нее за спиной, все чаще сбиваясь на сонливое сопение, а Лида лежала, поджав колени к животу, таращилась в душную темноту и думала. Подсознание, думала Лида. Это значит, что в каждом человеке может быть скрыто что-то еще, чего сам он не улавливает, не осознает. Неведомое нечто, которое, наверное, как раз и является нам во снах, когда привычные, знакомые мысли и чувства исчезают. Когда сознание берет отпуск, место его занимает то, другое, первобытное… И его царство – это царство снов. Но разве сны не отражают реальность? Не приукрашивают ее, будучи всего лишь мечтами? Видения того, о чем думает подсознание… О чем же втайне от самого себя мечтает ее муж, если во сне он стал себя вести так странно? – У Юнга еще… – на секунду пробудился Олег. – Архе… архетипы… Отец, мать… Ид. В Древнем Египте, знаешь, и в Греции вроде бы тоже, люди верили, что во сне душа спускается в царство мертвых. Аид… Ид, пока ты танцуешь… – Как ты сказал? – Ид, Лида… Лида Ида, пока ты спишь… Амунра, пожиратель солнца, цербер о семнадцати головах стоит на страже ея, и Танатос раскрывает врата не восходу, но на закат… То-тепх, То-тепх! Арх… АА-АРГХ! – раздалось вдруг у нее за спиной. Лида повернулась и отползла в ужасе на самый край кровати. – ИД! ТО-ТЕПХ! АААРГХ! – хрипло выкрикивал в темноту Олег, и хрип его был похож на стон. Он скинул с себя одеяло, вытянул обе руки к потолку, скрючил напряженные пальцы и всем телом выгнулся наверх – так, как при его комплекции казалось просто невозможно: круглый живот, словно купол, возвысился над кроватью и будто бы вздулся, едва ли не готовый взорваться, лопнуть, как переполненный гелием воздушный шар. – Проснись, Олежк, – испуганно пролепетала Лида. – АААРГХ! АААРГХ! – выкашлял он во тьму вместе с кусочками чего-то белого, взметнувшимися у него над напряженным лицом, как перья из наволочки. – Просыпайся! – закричала она и толкнула мужа в плечо. – А… А… А… – Продолжая хрипло стонать, Олег накренился и рухнул на бок, животом к ней. Его лицо стало совсем пунцовым, щеки побагровели и надулись, на губах засохли обрывки книжных страниц. Олег снова закашлялся и выплюнул в нее еще больше мятой, изжеванной бумаги. Господи, он там что, все это время, пока она не видела, жрал свою долбаную книгу, что ли?! В ответ на ее немой крик за окном оглушительно громыхнуло, и в ярком блике молний на Лиду уставились широко распахнутые, блестящие безумием глаза. – ЛИИИДА, – простонал он. На шее Олега набухли и вздулись от неимоверного напряжения жилы. Его пальцы оказались у нее на шее и стиснули горло Лиды, кривыми крючьями вонзаясь прямо под кожу. – Что тебе снится?! – придушенно просипела Лида, не помня себя от ужаса и боли. – Что… тебе… снится?.. – НЕ Я! – заорал он в ответ, пуча глаза и продолжая душить жену. – АААРГХ! Это не я, Лида! Не я! Я НЕ СПЛЮ! Она сопротивлялась из последних сил, сучила ногами и руками, била его коленом в пах, в пузо, куда придется, но руки мужа все с большей и большей силой стискивали ее шею. Задыхаясь, Лида успела поймать где-то на самом краю сознания мысль, которая в эту секунду показалась ей одновременно смешной и ужасающей: за все годы их долгой семейной жизни он еще никогда не обнимал ее так страстно. – Это не я, ЛИДА! – выл Олег, пока она задыхалась, пытаясь вырваться. – ЭТО ТЫ! ТЫ!!! Левая рука Лиды метнулась назад, за спину, больно ударилась кистью о край столика трюмо. Пальцев коснулся холодный металл, и она схватила его, не глядя, потому что все равно ничего и никого не могла видеть, кроме пытающегося ее задушить безумца. – ЭТО ТЫ! ТЫ СПИШЬ! ОТКРОЙ ГЛАЗА! ЭТО НЕ МНЕ, ЭТО ТЕБЕ СНИТСЯ! Я ТЕБЕ СНЮСЬ, ЛИИИДААА! Она вонзила острия ножниц в надутый силиконовый мяч, но тот не лопнул, а продолжал кричать, ругаться и плакать. Немного удивленная, Лида стала тыкать еще и еще.
– Жить будет? – обратился участковый по имени Федор, молодой еще мужчина, лет тридцати, но с уже вполне оформившимся, выпирающим над поясом форменных брюк пивным брюшком, к врачу из скорой. Врач был немногим старше его, не исключено, что они даже учились в одной школе, так что участковый позволил себе слегка развязный тон, предложил медику сигарету, и тот не отказался. – Что скажешь, братишка, приходилось с подобным сталкиваться? – Трудно сказать, я ведь не специалист, – пожал плечами врач и, затянувшись, задумчиво выдохнул облако сизого дыма. – Наше дело – первую помощь оказать, при необходимости – доставить в больничку. Там уже точный диагноз поставят, но пока,предварительно… похоже на коматоз. Они стояли на ступеньках, сбоку от двери в подъезд, куда только что прошли с носилками санитар и – в помощь – вызванный участковым, чтобы разобраться с замками, слесарь. Ждали, когда вынесут дамочку из девятой квартиры. Рядом крутилась соседка, позвонившая самому Федору. Он уже и забыл, как ее по батюшке – Тамара Васильевна, что ли, а может и Викторовна. После ночного ливня воздух во дворе был свеж, а утренний морозец прихватил лужи ледяной коркой и норовил пробраться под куртку. – Кома, значит… На криминал вроде как непохоже, да? – Участковый продолжал говорить нарочито небрежно, с ленцой, но то и дело косился в сторону медика. – Мне ж для отчетности, сам понимаешь. – Ты все видел. Если у нее самой спросить только, когда в себя придет. – А она вернется в сознание? – Может вернется, а может и нет. Кома – дело такое. – Ну да… И что, долго это может продолжаться? – Понятия не имею, – признался врач. – Годы… Если о ней, конечно, есть, кому позаботиться. – А что, гражданка, – Федор обратился к соседке, – имеются у Лидии родственники какие-нибудь? – Разве что мама. В Сызрани вроде живет. Хотя вроде они не очень дружили, – затараторила Тамара, обрадовавшись, что на нее опять обратили внимание. – Надо бы позвонить, так-то, сообщить все равно, мать же… Батюшки, горе-то какое, бедная, бедная Лидочка… Только я ее мамы номера не знаю. – Ничего, разберемся, – успокоил ее участковый. – Сами как-нибудь найдем. – Так-то она, Лида, уже давно вроде как не в себе была. Еще после смерти мужа, – торопливо перекрестилась Тамара. – Месяца три тому назад скончался, бедняга, инфаркт у него вроде случился. Так-то я и сама своего схоронила уж года два как, но Лида – та сильно, видать, переживала. Ей и таблетки прописали, от нервов, да только те не шибко, видать, помогали. – Что прописали? – обозначил профессиональный интерес врач из скорой. – Да разве ж я помню… Для сна что-то вроде, то бишь от бессонницы. – Думаешь, передоз? – предположил Федор. – Чтоб до комы-то? – хмыкнул врач. – Вряд ли. – А она рассказывала, кстати, – соседка еще раз перекрестилась. – С месяц тому, как разговор у нас этот был. Рассказывала, что муж ей, покойник, сниться начал. Как живой. Так-то она хорошая женщина была, добрая. Но, видно, любила его сильно, Олега своего, душой прикипела. Вот и тронулась умом на этой почве. Заговариваться в последнее-то время начала. Как о живом о нем говорила, о муже-то… Я ее давеча проведать зашла, так-то, а она мне – Олег мой то, Олег се… Спасибо, говорит, что зашла, пока муж на работе. – Психическая, значит, – кивнул участковый, роняя окурок в лужу. – Да уж, – философски протянул врач. – Сон разума рождает чудовищ. – Вот что странно, конечно, – сказал Федор. – Эти следы у нее на шее… Кто-то ж ее душил, получается, в запертой квартире… Вот как такое возможно, братишка? – Не исключено, что сама, – врач снова пожал плечами. – Серьезно? Может и такое быть, да? – Всякое бывает… Ты видел. Она ж, по сути, спит с открытыми глазами. – Точно, спит. – Ну вот и… – махнул рукой молодой врач и, развернувшись, шагнул к машине. – Мало ли что ей там снится…
Комната Павлика
Одиночество
Вадиму снился сон, один и тот же, в который уже раз с тех пор, как он поселился в этом доме… Или видения стали преследовать его еще до переезда? У каждого свои обстоятельства. У горя много лиц, но депрессия для всех одинакова, и с ней, как с нелюбимой женщиной, ты всегда одинок. Должно быть, его жизнь превратилась в бесконечный кошмарный горячечный бред сразу после того, как не стало Жени. Вспомнить сложно, потому что думать сложно. Думать почти физически больно, когда нет покоя. Когда болен и не можешь нормально спать. Когда само понятие нормы становится размытым, неясным, и даже при свете дня чувствуешь себя словно паук, застрявший где-то в трещине между сном и явью. Старый Сиделец, запутавшийся в липких нитях своей печали. Этот образ преследовал его не чаще, но и не реже других, приходя, как правило, в темное время суток вместе с тошнотворной вонью жженого сахара, когда кожа на шее и лице начинала яростно зудеть, ощущая чужой внимательный взгляд.
Однажды Вадим, пробудившись, увидел в углу комнаты глаза и узнал их. Это были глаза Жени. Ее зеленые красивые большие глаза. Их было восемь. Тогда он закричал и проснулся еще раз, по-настоящему. Он не мог сказать, сколько ночей длилась эта пытка, но конца ей не было видно. Кошмар пожирал истончившуюся ткань бытия, призраки наводняли эфемерное настоящее, сон переходил в бодрствование, сплетаясь с ним в единое целое. Во сне он спал. Как и в реальности, пьяный. Он много пил со дня переезда, а может, и до этого. Ведь в трезвую голову вряд ли могла прийти мысль, что жить одному в большой и пустой, как первобытная пещера, квартире – хорошая затея. Застрять среди темноты и уныния, запутаться в одиночестве, как тот паук, Старый Сиделец, по неосторожности… или, что еще хуже, по собственной воле. А еще тишина. Проклятая тишина, в пучине которой становился столь отчетлив и проникновенен вкрадчивый шепот дождя. Ему опять снилось, что звонит телефон. Словно с того света звонит, из-за грани мира, вспарывая полог туго натянутой тишины, царящей здесь ныне, присно и во веки веков, аминь. Голос в трубке, скрипучий из-за помех, – в этом доме так много помех, что любая техника работает через раз, – знакомый и одновременно незнакомый, мужской или женский, не разобрать. Голос шепнул ему, что Женя мертва, что ее тело накрыли саваном, крышку гроба заколотили. Ее зарыли, зарыли, зарыли! А ты – ты все пропустил, утонув в слезах бесконечного ливня. Снилось, что он проснулся. В поту, волоски на запястьях встали дыбом, глаза и щеки мокрые, кожа чешется. Череп раскалывается, а сердце сжато в трясущийся от напряжения кулачок. Во сне ему становилось страшно. Он бежал в уборную, подальше от запаха жженого сахара и глаз в темноте, к крану и душу, окатить себя ледяной водой. В этом доме вечные проблемы с теплом, здесь всегда холодно, но ему и нужно было взбодриться, вот только метры растягивались до бесконечности, и то, что Женя мертва, что ее похоронили (зарыли, зарыли, зарыли!), – давило все сильней. Ужас набухал внутри подобно той опухоли, что убила его жену. Пускал метастазы и распространялся от желудка к груди, все шире и глубже по мере того, как Вадим осознавал, что происходящее здесь и сейчас, ныне, присно и во веки веков, аминь, – не реально. Ничто вокруг не реально, кроме, быть может, дождя – и того, что ее больше нет. Да-да, холодный гниющий труп застрял меж треснувших досок, наполовину вывалившись из перекошенного гроба на дно залитой коричневой жижей могилы, распластав исхудавшие руки, словно чертов паук свои чертовы лапки. Вот почему он боялся бодрствовать еще больше, чем спать. Настоящее всякий раз оказывалось хуже любой похмельной фантазии. Осознание сна не спасало от страха, а только нагоняло еще больше жути, потому что в этом доме уже давно истлели все нити, стерлись границы, и невозможно отличить тусклую прохудившуюся реальность от ее морочного доппельгангера. Догадываясь, что видит сон, но все еще пребывая в нем, он включал свет, открывал воду, которой все равно не было (в этом доме и такое случается, да), так что тишину ничто не нарушало. Ничто, кроме глухих ударов, с которыми сжимался и разжимался детский кулачок, укрывшийся у Вадима под ребрами. Одиночество, как и страх, похоже на раковую опухоль – оба жрут тебя изнутри. Вадим опирался босыми ступнями на ободок унитаза. Пятки ныли от холода. Стены чадили вонью, как пакет с конфетами, брошенный в огонь: языки незримого пламени лизали сахаристую скорлупу; чернели и плавились, изнывая, клетки мозга. Он доставал ремень, цеплял бляху за трубу стояка, вдевал в петлю голову. Откидывался и тянул, что есть мочи, на себя и в сторону, до боли, до хруста в шее. Явственно ощущая, как пустота разрывала легкие, пока он медленно душил сам себя. И тогда он проснулся. В очередной раз, снова голый, снова с этим тонким тугим ремешком в руках, сидя на толчке, в тишине. С потолка на уровень глаз опустились паучьи нити, поблескивающие в свете лампы, как сахарная вата. И – Господи Боже – его затрясло мелкой дрожью, когда в голове прошелестел знакомый и одновременно чужой голос: «Жаль, что это лишь сон, правда?..» Он посмотрел в дверной проем. Тьма наступала. В квартире гас свет. В этом доме и такое бывает, да-да. Сначала мрак накрыл спальню, плеснув темнотой по краю прихожей. Затем потонул в непроглядной черноте коридор. Вместе с тьмой к ванной приближались шаги: мягкие, частые и почти бесшумные, шелестящие, будто дождь за окном. Сколько там, он не знал точно, но догадывался – восемь. Восемь нечеловеческих ног. Или, что еще хуже, человеческих. – Не хочу-у-у… – захныкал Вадим, сползая на ледяной пол. – Не хочу! – взвизгнул, забившись в пахнущий плесенью и праздничными сластями угол, в затянутый вездесущей паутиной закуток под раковиной. – НЕ ХОЧУ! НЕ БУДУ! Ударил гром, полыхнула далекая молния. Перед глазами на секунду побелело. А потом, когда вспышка минула, рассеялась без следа, так же, как потонули в паутине комнат громовые раскаты и его полный отчаяния крик, Вадим поднял взгляд и увидел в дверях Ее. Свою Женю. И одновременно не свою – чужую, незнакомую. За Ее спиной колыхался мрак. Много рук было у Нее, много ног. Больше, чем нужно человеку. Женя широко распахнула рот. Лампочка потухла, и во мраке блеснули острые белые зубы: – С-с-с-с… Зубы стали расти. Их тоже было много.
Покупка
В итоге Игорь Кривцов все-таки поставил подпись в нужных местах, хотя – невиданное дело! – риелтор пыталась отговорить его от покупки. Потом он горько сожалел о принятом решении, корил себя за жадность, приведшую к роковым последствиям, но было уже слишком поздно. Все равно что сокрушаться о пропущенном техосмотре в тот момент, кода несешься по горной трассе прямиком к обрыву, и у твоей машины вдруг отказывают тормоза. А ведь продавец предупреждал о возможных неполадках. Возможно, его сбило с толку то, что осмотр шел своим чередом, и ничто не предвещало последовавших сюрпризов. В тот день Игорь находился в приподнятом настроении. Погода вслед двум неделям грозовых майских ливней установилась хорошая. Дом, не такой уж и старый, в иное время года имел, должно быть, блеклый, унылый вид, но теперь выглядел опрятным и аккуратным. Особенно мило смотрелись светлые занавески на окнах то тут, то там. Гуляя по комнатам, он какое-то время честно пытался строить из себя знатока: интересовался метражом квартиры, состоянием труб, сверялся с планом и другими документами на жилплощадь. В общем, изо всех сил старался вести себя как полагается солидному мужчине его возраста и как, должно быть, ждала от него эта пигалица. Но быстро сдался – озвученная в объявлении цена была слишком уж хороша, а все остальное, по такому-то счету, не имело никакого значения. В итоге они очутились на кухне, он и Ирина Корост – так она назвалась еще во время их первого разговора, по телефону. Девушка заварила кофе. Он, сидя за столом, украдкой посматривал на ее мягкие плечи, следил за движениями тонких, изящных рук. Кухня была просторная, светлая, с большим двухкамерным холодильником и современной электроплитой, которые «входят в общую стоимость квартиры, как и мебель». Приятно смотреть. Точеная фигура Корост радовала глаз не меньше, от чего Игорю стало немножко стыдно. Молодая, думал он. И как все молодые – красивая. На вид немногим старше его Оленьки. А значит, он ей, как и Оле, в отцы годится… Нет, в старшие братья, максимум в старшие братья. Четырнадцать лет – не такая уж большая разница в возрасте между мужем и женой, как может показаться со стороны. В течение всего времени, что длились их с Олей отношения, он постоянно напоминал себе об этом. Не отец, нет. Максимум – старший брат. Здесь было покойно и уютно, как в колыбели новорожденного. В окна заглядывало ласковое уже почти-почти июньское солнце. Мягкий свет пронизывал кремового цвета тюль, наполняя помещение теплом. Ветер шалил с листвой березы за окном, по подоконнику с важным видом вышагивал толстый голубь. Увидь такого Оля, наверняка бы вспомнила птичек из пиксаровской короткометражки. Когда в воздух поднялся сладкий аромат, рука невольно скользнула в карман рубашки. Опомнившись, он поспешно затолкал полупустую пачку обратно. – Закуривайте, если хотите, Игорь Вячеславович, – улыбнулась риелтор, наполняя для него чашку. – Здесь можно курить, я только окно открою. – Да я, знаете, уже полгода как бросил, – смущенно признался он. Эти шесть месяцев ему, к тому же, пришлось обходиться без секса, о чем, конечно, Игорь предпочел умолчать. Вот только маленький крестик серебристым глазом похабно подмигивал из выреза ее блузы, и у Игоря случилась эрекция, неожиданно сильная, до боли в паху. Покраснев еще больше, он закинул под столом ногу на ногу и попытался отвлечься от пошлых мыслей: – Завязать на самом деле оказалось весьма сложно. При моем-то стаже курения… Кхм… Знаете, как это у заядлых курильщиков и выпивох бывает? Кажется, что все просто, достаточно только захотеть – «…а ты же хочешь, еще как хочешь», – ехидно шепнул внутренний голос, заставив его поерзать на стуле и еще плотнее сжать бедра. – …Так и твердишь про себя: «Да мне это раз плюнуть, просто я не хочу. Пока еще не хочу». А потом в один прекрасный момент понимаешь, что в этом и заключается вся хитрость: ты куришь или пьешь уже больше, чем некоторые люди живут, и никогда не бросишь, потому что всегда будет это «еще». ЕЩЕ одну рюмочку. ЕЩЕ пару затяжек. А потом, через полчасика, еще. И еще. И так без конца. Если риелтор и подумала о нем как о великовозрастном пустомеле, то виду не подала. Наоборот: слушала, не перебивая, с улыбкой и огоньком искреннего интереса в глазах. Черт подери, эта девушка ему нравилась уже не столько как объект сексуального влечения – либидо вроде бы удалось унять, – но и просто по-человечески. С ней было приятно общаться. Даже Оля не всегда так внимательно прислушивалась к его речам, в первую очередь ее занимали беседы на профессиональные, близкие ей самой темы – о кино, премьерных показах, режиссерах и актерах. – Я много лет курил, – продолжил он, расслабляясь. – Рос без матери, а отец пропадал на заводе и шабашках, так что следить за мной было некому. Еще школьником, после уроков, баловаться начал, а уж когда повзрослел, да сам работой обзавелся, так и вовсе в обычай вошло. Знаете, с годами жизнь начинает подчиняться определенному привычному распорядку. Идет по накатанной… Вот и для меня утро, как правило, начиналось с чашки кофе и сигареты. Теперь-то я обхожусь без никотина, но привычка, как видите, осталась. На уровне рефлекса. Чувствую запах кофе – и рука тянется к куреву. – У вас сильная воля, – сказала Ирина. – Я бы так не смогла. – Курите?.. Бросайте, мой вам совет. Это сложно, но… оно того стоит. – Нет, не курю. Хотя вредные привычки имеются, как и у каждого. – Я от своей избавился, и у вас тоже получится. Почему нет? Тем более вы моложе, а значит, вам будет легче. – Зачем же вам тогда это? – Она посмотрела на топорщившийся карман его рубашки. Игорь усмехнулся: – Неприкосновенный запас. Последняя пачка, как я говорю. Если вдруг желание подымить накатит, то делаю так. – Он все-таки вытащил сигареты, достал одну и медленно провел у себя под носом. С наслаждением втянул сквозь тонкую бумагу горьковатый, щиплющий ноздри табачный дух. – И как, помогает? – Держусь, как видите. Все дело в мотивации, в настрое. Я, когда женился, твердо для себя решил, что брошу, если Оля моя забеременеет. Сам бы вряд ли справился. Со слабостями трудно бороться в одиночку, но ради жены и сына… По лицу девушки пробежала легкая тень. – Простите, Ирина, вы сами замужем? Детишки?.. – поинтересовался Игорь. – Хотела бы, но пока не сложилось. – Тогда, надеюсь, вы сможете понять мою мысль. У меня есть друг детства, истовый такой, идейный холостяк. Он мне как-то сказал: «Брак – это страна, по дороге куда ты многое теряешь». По его мнению, женитьба – это билет в один конец, причем излишне дорогой. И он по-своему прав, конечно, потому что в семейной жизни постоянно приходится себя ограничивать. Идти на уступки, если необходимо, искать и находить компромиссы. Но Мишка, этот мой приятель, как мне всегда казалось, не понимает главного. Того, что семья – она как… – Он обвел взглядом кухню. – Как этот дом, к примеру. Чтобы его построить, нужно надежное основание. Но одного фундамента мало, правда? Коробку из бетона не продашь, уж вам-то это известно лучше, чем кому-либо. Нужно еще возвести крепкие, кирпичик к кирпичику, стены – такие, чтобы внутри царили тепло и уют. Мне кажется, что здание брака стоит на основе любви, а строится, как из кирпичей, из маленьких обоюдных уступок. Приходится чем-то жертвовать, что-то терять. Но ведь получаешь взамен нечто большее. Меня вот судьба сыном наградила. Он прервался, чтобы допить свой кофе. – Так вы ждете ребенка? – Ирина постучала ноготком по краю чашки. Дзынь, дзынь – задрожала кофейная пенка. – Уже дождались, – Игорь улыбнулся. – Через недельку-другую въедем всей семьей. – То есть вы для себя все решили, окончательно и бесповоротно? – Решил. – Он развел руками. – Не вижу причин тянуть кота за хвост. Местами, конечно, не помешает чуток отреставрировать, но это уж мелочи. Придираться не стану – спасибо вам за хороший кофе… и за хороший разговор тоже спасибо. – Что ж, осталось только расписаться в договоре. Но прежде… – Ирина запнулась, и только сейчас он заметил, что девушка хмурится. – Думаю, будет правильно, если вы узнаете об этой квартире кое-что еще. – Хм? Дело, я так понимаю, не в паре трещинок на кафеле в уборной, – предположил он. – Там нет никаких трещин, Игорь Вячеславович. – Вообще-то есть, но неважно. Что же тогда? Вряд ли что-то серьезное, но спасибо еще раз – за заботу и честность. Так что же, Ирина? Проблемы с проводкой, любители побуянить в соседях? – Нет-нет, ничего подобного. Здесь, наоборот, весьма тихо… – Это я заметил. – Он еще раз глянул по сторонам и зажмурился на секунду от попавшего в глаз солнечного зайчика. – Звук словно тонет, как в храме. Благодать! Как раз то, что нужно мне и моей семье. Та маленькая комната, где старый диван у стены, идеально подойдет под детскую, вам не кажется? Ирина обожгла его испытующим взглядом: – Вы религиозны? – Э… Это имеет значение? – Возможно. – Ну… Я был октябренком. Юный ленинец. Хотя вам, такой молодой, это, верно, ни о чем уже не говорит. В общем, в церковь никогда не ходил. – А ваша жена? – Оля? – еще больше удивился Игорь. – Она у меня киновед… пишет рецензии для журналов и сайтов. Посещает фестивали, сходки фанатов. Ее единственная религия – «Звездные войны». Я и сам из-за нее пересматривал все части раз десять, не меньше. Пришлось, даром что больше люблю старые фильмы про гангстеров. «Крестный отец», «Однажды в Америке» – вот это мое. Но и «Звездные войны», и другое кино стали моими. Фантастика всякая. Темная сторона силы, джедаи, роботы, все дела… Еще несколько кирпичиков в стенах нашего с ней любовного гнездышка. – И все-таки, Игорь Вячеславович, – в ее голосе ощущалось напряжение. – Да? – Некоторые люди не ходят в церковь, не молятся и не соблюдают постов, но при этом верят… во всякое. Если вы понимаете, о чем я. – Честно говоря, не очень. – Он все еще оставался в том благостном расположении духа, что окутывало его в течение всей беседы, но уже начинал испытывать легкое беспокойство. Разговор, вместо того чтобы завершиться, вдруг повернул в совершенно неожиданном направлении, а Игорь не любил сюрпризов. – Черти, – она смотрела на него, не мигая. – Лешие. Демоны. Полтергейст… – Барабашки, – вспомнил Игорь словечко из детства. – Вы это сейчас серьезно, Ирина? – Более чем, Игорь Вячеславович. – Просто мне показалось, вы шутите. – С такими вещами не шутят. Повторюсь, люди верят в разное. В другие миры, в пришельцев с далеких планет. И у вас ведь, насколько я поняла, имеется собственный талисман. Ваша последняя пачка. – Я вас умоляю, это всего лишь сигареты. – То есть ни в какую мистику вы не верите? – Нет, – уверенно качнул головой он. – В никотиновую зависимость верю. В семейные ценности. В любовь, несмотря на возраст, тоже верю. Но не в домовых и прочую паранормальщину. Рука опять потянулась к карману. Поймав себя на этом, он разозлился. – Послушайте, Ира. Вам не кажется, что беседа затянулась и мы порядком отклонились от темы?.. Согласен, тут есть доля и моей вины, но все же. Что за дурацкий экзамен вы мне устроили? Какая разница, во что я верю? При чем тут мировоззрение моей жены или, если уж на то пошло, чье бы то ни было еще? Простите, если я чего-то не знаю… Вы продаете квартиры только прихожанам ближайшей церквушки? – Дело в том, что поблизости нет церквей, – мрачно ответила она. – И что это меняет? Повторюсь, мы с женой не религиозны. – Да, но сына вам стоит покрестить. Если вы всерь ез настроены сюда въехать. – Что? – Игорь возмутился. – Мне послышалось или вы только что указали, как мне следует поступать с моим ребенком? Не много ли на себя берете, милочка? – Это в ваших же интересах. У нас… у нашей фирмы уже были проблемы с этим домом. Он не мог поверить своим ушам: – Вы на что сейчас намекаете, Ира? Девушка облизнула губы, затем быстро встала из-за стола, и поспешность этого движения напомнила ему суету перепуганной крысы. Она так и не притронулась к своему кофе. И явно была взволнована. Это было заметно по глазам, по участившемуся дыханию. По тому, как, будто невзначай, маленькая ладонь накрыла цепочку с крестиком. – Понимаю, что все это звучит безумно… – Безумно – это еще мягко сказано! В отличие от вас, Ира, я уже мало что понимаю. – Я не должна говорить того, что сейчас скажу. И прозвучат мои слова, скорее всего, еще ужасней, чем… Но вы все-таки постарайтесь отнестись к тому, что будет сказано, серьезно. Так же серьезно, как вы настроены на покупку квартиры. Ладно? – Не могу ничего обещать, – продолжая недоумевать, сказал он. – Но я попытаюсь. – Хорошо. Повторю, я не обязана вам этого говорить… но вы, Игорь, обязаны это знать. Это важно. И это имеет отношение к вопросу о вере. Предыдущий владелец квартиры – с ним не все в порядке. – В смысле? Какой-то сектант, фанатик? – Нет, насколько мне известно. Он был обычный одинокий мужчина, ваших лет… Но здесь, – Ирина отвернулась к окну. – Здесь он покончил с собой. Его разуму понадобилось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. Зато тело отреагировало мгновенно: мышцы напряглись, позвоночник вытянулся в струну, закаменел. И, кажется, волосы на затылке сами собой шевельнулись, как живые. – Его звали Вадим… Генич, кажется. За год до этого он похоронил жену. Рак вроде бы, точно не скажу, не помню. После смерти супруги Вадим начал пить. Вскоре пришлось уйти с работы, счета стало нечем оплачивать. Судя по тому, что вы говорили о вредных привычках, вам известно, как это бывает, когда человек катится на дно. Квартиру в центре Вадим был вынужден продать. И купил у нас новую, вот эту. Въехал… Вел себя тихо, никому не мешал. По крайней мере жалоб не поступало. Впрочем, часть квартир тут еще пустуют, ожидая продажи. Так что, по большому счету, и мешать-то было некому… А через месяц бедняга удавился. Повесился в ванной на собственном ремне, если вам важны детали. – М-да, – только и смог выговорить Игорь. – Наша фирма вела все сделки, поэтому я в курсе. Квартиру унаследовали дальние родственники Вадима, из Израиля, – продолжала риелтор. – Они пожелали продать доставшуюся жилплощадь как можно скорее, и их желание вполне можно понять – мало кому приятно иметь квартиру с подобным бэкграундом… Вот почему цена гораздо ниже рыночной, Игорь Вячеславович. Она отошла ненадолго в коридор, а, вернувшись, положила перед ним на стол гербовую бумагу и ручку: – Ваш договор. Но я прошу, ради ваших жены и ребенка. Прошу еще раз хорошенько подумать, взвесить все «за» и «против», прежде чем вы завершите нашу сделку.Визит
– Этот дом похож на Алека Гиннесса. Заметив его недоумение, жена снисходительно улыбнулась: – Сэр Гиннесс, британский актер-ветеран, обладатель премии «Оскар». Сыграл учителя джедаев в самых первых, оригинальных «Звездных войнах» у Джорджа Лукаса. Оби Ван Кеноби. – А я-то подумал о том мужике, который Книгу рекордов придумал. Эта забава была Игорю знакома. Словесный теннис, один из тестов на проверку кинематографической эрудиции, что очень нравились Оле. Одолеть ее редко кому удавалось, девять из десяти партий проигрывал жене и он. Среди киноманов Оля, пожалуй, могла бы претендовать на кубок Дэвиса, Игорь же ракетку расчехлял редко, предпочитая оставаться в категории любителей, заглядывающих на «Кинопоиск» от силы раз в месяц. Они только что попрощались с Хлестовым – тот подбросил их и умчался «по делам» (на очередное свидание, но Оле знать про это вовсе не обязательно) – и теперь стояли на потрескавшихся камнях тропинки, ведущей через залитые солнцем зеленые газоны прямиком к дому. Игорь собирался показать Оле их новую квартиру. Пока что, судя по мечтательному выражению ее лица, жена оставалась довольна увиденным. У него имелись определенные сомнения и страхи на этот счет. Район все-таки не самый лучший: на отшибе, до ближайшего магазина минут двадцать пешком, а до метро и того дальше. С другой стороны, здесь гораздо спокойнее, чем в центре, и воздух чище. Под боком росла небольшая березовая роща, а за кустарником по левую руку от дома скрывался маленький заболоченный пруд, где трещали сверчки и летали стрекозы. – Этот дом, – повторила Оленька, – как старик Оби Ван. Смотри, занавески в окнах – как седина… Такой с виду немножко неказистый в серой своей хламиде, но вместе с тем – в нем чувствуется определенный аристократизм, благородство. Кажется, он многое повидал, но сохранил честь и достоинство истинного дворянина. – Алек Гиннесс, да? – Именно, именно! Ну либо Шон Коннери… Хотя нет, Коннери не подходит. – Почему? – принял подачу Игорь. – Чем старина Шон хуже твоего Оби Вана? – Нам нужен дом-воспитатель, дом-наставник. А он шотландец – из них плохие учителя. – Вроде бы он учил горца, Маклауда?.. – А еще он папа Индианы Джонса и агент 007. Слишком авантюрный типаж, – Оленька хихикнула. – Не могу поверить, что ты готов оставить Павлика под присмотром у старого любителя приключений. – Учитывая, что сегодня он с твоей мамашей остался… – Игорь вздохнул. – Все равно что этой гигантской жабе – как его, Джабба?.. – доверить. Да и Оби Ван тоже, помнится, нехорошо закончил. – Пожертвовал жизнью ради своего ученика!.. Хотя ты прав. Нам такие подвиги не нужны, нам нужны покой и забота. Особенно после пребывания в гостях у Джаббы. Как насчет Майкла Кейна? – Тот старый дворецкий из «Бэтмена»? – Альфред, этого персонажа зовут Альфред. А фильм называется «Бэтмен: Начало». – Пожалуй, подходящая кандидатура, – рассудил Игорь. – Итак, наш дом похож на дядюшку Альфреда. Пойдем же, осмотрим пещеру Летучей мыши изнутри. Квартира занимала добрую треть последнего, пятого, этажа, лифт же в доме не был предусмотрен, так что они оба немного запыхались, пока поднимались по узкой лестнице. Игорь слышал дыхание Оли. Он подумал, что ради нее будет счастлив стать Гиннессом, Кейном и Коннери в одном лице. Да хоть Гэндальфом, черт побери, лишь бы быть рядом, защищая от любых напастей. В прихожей они обнялись, и Оленька шепнула: – Как же здесь хорошо! Как же тут тихо, спокойно… – Вряд ли это надолго. Если Павлик станет орать, как в роддоме, соседи полицию вызовут. Правда, соседей у нас мало, – вспомнил Игорь. – Говорят, не все квартиры распроданы. У старого мистера Кейна не все дома, знаешь ли. – Все у него в порядке. Два «Оскара», между прочим. И вообще, никто ничего не услышит, – уверила Оленька. – Чувствуешь? Мы здесь как будто в другом измерении. – В далекой-далекой галактике? – Да! И здесь будет наша планета, наш маленький мир, отдельный от всех. Уютный и тихий, где есть только ты, я и Павлик. Идеальный мир для идеальной семьи. – Давай же его изучим, малышка. Держи мою руку, я покажу тебе чудеса. – Кончики ее пальцев нежно касались кожи, прячась в его ладони. – Наша кухня. Как тебе? – Большая, как ты и говорил. – Всегда о такой мечтала, не правда ли? – Буду тебе готовить все, что ты любишь. – Ты же не умеешь. – Я научусь. – Ловлю на слове! Далее, как видишь, удобства. Ванная. Ну здесь еще не все так совершенно. Но мы сделаем ремонт. – Мы сделаем ремонт, – хихикнула Оленька, передразнивая мужа. – Двигаемся дальше! Из этой комнаты, подозреваю, получится неплохая гостиная. – Будешь здесь пиво пить с друзьями. С Мишкой своим. – И с твоим батей, любимая. Иногда. – Только если иногда! – Даю тебе слово. – Беру его. А еще бабушка с дедушкой могут играть тут с внуком, места всем хватит. – Ну, если Джабба Павловна скинет килограмм двадцать, то, наверное, поместится. – Прекрати. – Она пихнула его кулачком в бок. – С ней тяжело, но она все-таки моя мама. – Прости, Ольчик, не удержался… Александре Павловне я буду вечно признателен уже за то, что она тебя на свет родила, поверь. Так, а здесь у нас будет спальня. – Но тут даже кровати нет! – Я уже заказал, как и еще кое-что из мебели. Прежний хозяин спал в другой комнате. – А что с ними стало, кстати, с хозяевами? – Ну… – Игорь осекся, думая над ответом. Вряд ли стоило вываливать на жену небылицы, рассказанные девчонкой-риелтором. По крайней мере сейчас. Беременность проходила тяжело, пришлось делать кесарево. Врачи советовали маме и новорожденному задержаться в больнице чуть дольше положенного, но Оля уверяла, что чувствует себя прекрасно, и горела желанием скорей оказаться в их новом доме. Тем не менее она до сих пор принимала витамины пачками, и он вовсе не хотел лишний раз ее волновать. Поэтому соврал: – Я точно не знаю, малыш. Вроде как в Израиль на пэ-эм-же перебрались. – То есть это у нас по-настоящему кошерная квартира. – Была, но теперь-то здесь русский дух. Чуешь? – Мы оба его почуем, когда придется менять пеленки… – К слову, о наследнике. – Он толкнул еще одну дверь, открывая перед женой самую важную, по его мнению, комнату. – Как насчет того, чтобы обустроить тут детскую? Павлу Игоревичу будет комфортно… – Обои надо бы поменять, – заметила она, придирчиво осмотрев помещение. – И еще. Под этим старым-престарым диваном наверняка прячутся злые-презлые буки. – Никак нет, я проверил. А рухлядь эту все равно придется отправить на свалку. – Ну вот, чуть что, так сразу «рухлядь», «на свалку»… – Оленька провела ладонью по пыльному подлокотнику. Затем присела на краешек дивана, утянув мужа за собой. – По-моему, старый тюфяк еще способен нам пригодиться. Как минимум его надо достойно проводить в последний путь. – На что это ты намекаешь… – Почему нет? – извернувшись, она ловко оседлала Игоря. Его руки оказались у жены на бедрах. – Ты ведь этого так долго ждал… Ждал ведь, ждал? Признавайся! – Само собой. Но разве нам уже можно?.. – Существуют разные способы, мой падаван, – шепнула Оленька, прижав губы к его уху. Воздержание затянулось, в этом Оля была права на все сто. От еле сдерживаемого желания кружилась голова. Почувствовав ее пальцы у себя в паху, он громко застонал и откинулся на спину. В воздух взметнулась пыль, защекотала в носу, попала в глаза. Пахнуло чем-то приторно-сладким. Игоря замутило. Рассредоточенный взгляд остановился на дальнем верхнем углу комнаты. Там, под потолком, раскинул тенета паук. Игорь с детства терпеть не мог пауков. Хотел было указать жене на неприятного свидетеля их любовных затей, потянулся вперед рукой, но тут в спину острым когтем вонзилась старая пружина. Ладони жены давили на него сверху, ее рот пожирал его. Он подумал о черной вдове, паучьей самке, убивающей самца сразу после совокупления. Опустил взгляд на Олю, затылок которой плавно покачивался у него над животом. Обычно она стриглась коротко, но, пока лежала на сохранении, надолго забыла про парикмахеров и стилистов. Волосы отросли, и теперь непослушные длинные пряди, светлые у корней и темные на окрашенных кончиках, свободно спускались вниз, закрывая от него лицо любимой. «Эта квартира принадлежит вам», – сказала Ирина Корост напоследок, прежде чем сунуть в руки Игорю экземпляр договора. На мгновение показалось, что он снова слышит ее голос, будто прорывающийся сквозь деловитое сопение Оли. Будто это не Оленька, а Корост уткнулась лицом в его чресла. Меж длинных прядей мелькнула серая ниточка паутины. Неожиданно накатила волна мощного, едва ли не животного возбуждения. Игорь, стиснув зубы, глухо застонал. «Эта квартира принадлежит вам». Женщина у него в ногах подняла голову и широко улыбнулась, демонстрируя неестественно острые, акульи зубы. «А вы и ваша семья принадлежите ей». Он зажмурил глаза, чтобы избавиться от морока. Одновременно внизу живота словно что-то взорвалось. Игорь задрожал в конвульсиях и кончил, бурно и обильно, но без какого-либо удовольствия. Во время оргазма ему казалось, что из него извергаются клейкие ленты паутины. Пружины старого дивана, как жадные паучьи лапы, царапали спину в кровь.Старая рухлядь (I)
Через неделю он заглянул в дом уже без жены. Новоиспеченная мама и сын продолжали гостить у ее родителей, а Игорь, предпочитавший как можно реже видеться с тещей, решил пока навести в жилище порядок. Хлестов, добрая душа, изъявил желание помочь, но освобождался лишь вечером, когда заканчивал работу маленький сервисный центр, принадлежавший им обоим. Игорь, чтобы не терять время, воспользовался такси и явился раньше, по дороге заскочив в магазин «Все для дома». На район опускались сумерки. Тень от здания накрыла маленький дворик, лишь в паре окон на четвертом этаже горел свет. Их квартира была выше и левее, ближе к растущим в торце дома березам. На лавке у входа, как сторожевая собака возле будки, сидела, опершись обеими руками на клюку, древняя на вид старуха. Глубокие морщины рассекали суровое лицо с крупными, будто вырезанными в камне, чертами. Глаза соседки покрывала белая пленка. Игорь встал рядом, чтобы перевести дух. Поставил пакеты с инструментами на лавочку. В темное время суток здесь было еще по-мартовски прохладно, и он снова хотел курить. Просто чтобы отвлечься, Игорь сказал старухе: – Доброго вечера. Если бы та ответила ему жестом из старого кино про индейцев, подняв ладонь, он бы воспринял это как должное. Как, бишь, назывался тот фильм с Гойко Митичем?.. Оля бы вспомнила наверняка. Однако смахивающая на индейский тотем старуха не двигалась, продолжая пялить зенки в сторону белеющих в сумраке березовых стволов. – Мы здесь новенькие, – сказал Игорь. Извиняющийся тон собственного голоса показался ему донельзя глупым. – Скоро въезжаем. Не выдержав, он достал сигарету, принюхался. Услышав шорох, старуха, которую он уже готов был счесть не только слепой, но и глухой, ожила. Отлепила тяжелую сухую ладонь от навершия клюки, вытянула в его сторону: – Подкури. Простенькую газовую зажигалку Игорь хранил внутри пачки. Чиркнув для проверки, сунул ее и мятый цилиндр «Винстона» в грубые, скрюченные артритом пальцы. – Раскурите сами, я бросил. Старуха жадно пихнула в пасть сигарету, нащупала колесико зажигалки, высекла со второй попытки искру. Глубоко затянулась, выпустив белесую, цвета ее зрачков, струю в его сторону. Интерес к Игорю у нее на этом иссяк. Сам он отвернулся, чтоб лишний раз не дышать дымом, окинул взглядом темную громаду здания в поисках окон своей квартиры. Как же мало огней, словно и не живет здесь никто… Ну да, не живет. Риелтор же говорила. Правда, ему показалось, что за одним из стекол на втором этаже качнулась нечеткая тень. Рассмотреть детали мешали сгущающиеся сумерки и серая ткань занавески. К своему удивлению, Игорь заметил, что большинство окон, выходящих на эту сторону здания, украшал с виду совершенно одинаковый тюль. Оле цвет занавесок напоминал благородную седину сэра Гиннесса (или Майкла Кейна, неважно), ему же чудилось, что дом пялит слепые бельма в холод надвигающейся ночи. – Хозяина не забывайте, – проскрипела старуха. Он едва не подпрыгнул на месте от неожиданности: – Простите? Старуха продолжила, и Игорь удостоверился, что слух его не подвел: – Кормите Его почаще. – Что вы имеете в виду? – Будет дождь. Будет гроза. Гром будет громкий. Хозяин будет голодный. Кошками Его тогда. Собаками кормите, голубями, неважно кем. Хозяин должен быть сыт. Айфон в заднем кармане джинсов подал сигнал. Старуха навострила уши. – Шуми меньше! Хозяин тишину любит. Меньше шуми, понял! – Гм. Ладно. Постараюсь… Первое знакомство с соседями удалось на все сто. Старая карга совсем из ума выжила. И Хлестов, зараза, как назло, застрял в пробке на объездной. – Хозяин мясцо любит. Тишину любит. А ты Его люби. – Спасибо, бабушка, мы уж как-нибудь сами, – этот балаган пора было прекращать. Игорь подхватил пакеты. – Найдем с этим вашим хозяином общий язык. Она докурила сигарету до фильтра, а затем слизнула его и принялась активно жевать, даже не поморщившись, когда несколько затухающих искр зашипели на влажных от слюны губах. – Язык… ням-ням. Хозяин вырвет твой язык, дурень, и сожрет, не подавится.Старая рухлядь (II)
Прихожая встретила гробовой тишиной. Пространство перед ним наполняли тени. Игорь щелкнул выключателем, разгоняя сгустившийся мрак. – Вот так-то, – сказал он. Фраза канула в никуда: эха здесь не было. – Вот так-то! – повторил он громче, все равно что бросил рыцарскую перчатку в пустоту комнат, вызывая на поединок то, что могло там скрываться. «Хозяин тишину любит. Люби Хозяина. Корми Хозяина». – И никаких тебе барабашек, старая идиотка. В будущей детской, которую он про себя уже стал называть «комната Павлика», паутины по углам прибавилось. Игорь достал из пакета совок и веник. «Где есть паутина, найдутся и пауки», – пугал отец в свое время. В их старом доме в Торжке паутины хватало. Особенно много ее стало после того, как родители развелись и мать уехала с другим мужчиной на Север. Игорь никогда не мог простить ей этого. Того, что она предала, бросила его и отца. Ему казалось, что женщина ее возраста – а мать была старше своего мужа и старше любовника – должна быть мудрее, заботливей. Усидчивее, в конце концов. И та была такой до тех пор, пока не встретила своего юного принца с огромным, как у афроамериканского баскетболиста, членом и микроскопическим мозгом. «Седина в бороду, бес в ребро. С бабами так тоже бывает, – говорил батя. – Ты уже взрослый, все понимаешь», – повторял он Игорю-подростку. Но Игорь не понимал и не хотел ничего понимать. Смотрел изо дня в день, как спивается отец, и думал, что у него все должно быть иначе. У него будет идеальная жена, идеальная жизнь, без сюрпризов и, главное, без предательства. Но поиски подходящей девушки затянулись, так что долгими ночами на съемных квартирах – сначала в Твери, а затем и в столице – он часами не спал: в темноте ему чудился, как в одиноком, лишенном света материнской заботы детстве, их шорох. Шорох паучьих лапок. В комнате Павлика не будет никаких пауков. С этой мыслью Игорь принялся расчищать углы, наматывая на веник прозрачные липкие нити. Когда дело дошло до дивана, карман снова завибрировал, но теперь уже беззвучно. Странно, Игорь не мог припомнить, чтобы отключал звонок. Надо бы в мастерской поковырять, разобраться. Хлестова в школе обзывали «кабаном», потому что он и правда только что не хрюкал. С годами он лишь прибавил в весе, но сохранял юношескую легкость в общении и взглядах на жизнь. С собой Хлестов притащил упаковку пива. Развалился на диване, заняв его почти целиком, и вскрыл первую банку. – Работы немного, а значит, и спешить некуда. Тем более что мне просто необходимо отдохнуть после кросса на пятый этаж, – рассудил он и, кинув Игорю еще одну «Балтику», подмигнул: – Невские сорта всегда лучшие, чувак. Здесь у вас, в большой деревне, варить пивко никогда толком не умели. С Хлестовым они знались со школы, но после армии дорожки приятелей разошлись на несколько лет: Игорь какое-то время прозябал в Твери, Мишка же переехал в Питер, где поступил в один из местных вузов, выучился на программиста, а потом без особого успеха применил знания, когда открыл частный сервисный центр. Встретились в поезде, когда оба ехали в Москву. Тогда и решили расширить бизнес Хлестова, в складчину арендовав местечко под еще одну ремонтную мастерскую в области. Питерский филиал давно уже прогорел, проиграв конкуренцию сетевым центрам, но Мишка сохранил любовь к городу на Неве и всему, что было связано у него с Санкт-Петербургом, включая пиво. – Поверю тебе на слово, как спецу по поребрикам и парадным, – в тон Хлестову сказал Игорь, прикладываясь к банке. – Спасибо за угощение. – Пользуйся моей щедростью, чувак, пока я добрый. Опустошив пару банок, Игорь почувствовал себя бодрее. Разговор с безумной старухой не был забыт, но начал казаться малозначительным и даже смешным. А еще ему нравилось присутствие Мишки, такого большого и шумного, что порой это раздражало, но только не сейчас. – А неплохо у вас тут вообще, – отметил Хлестов и громко рыгнул. – Пардон! Глянул инфу в Сети об этом райончике. Оказалось – новострой девяностых. Вроде как планировали сразу несколько домов возвести, детский сад устроить на месте болота, парк из березовой рощи сделать. Но то ли деньги у инвестора внезапно, в стиле девяностых, хе-хе, закончились, то ли еще что. Так и осталось одно-единственное здание. Но это даже клево. – Что, так и пишут в Интернете – «клево»? – Не, это мне нашептали глаза и уши. О том, что здесь тихо и не видать ни души. – Там, внизу, торчала какая-то старая мымра, – вспомнил Игорь. – Да уж, видал! Она как гипсовый бюст в красномуголке, вся в пыли и плесенью покрылась. Напомнила мне завучиху из нашей школы, не к ночи будь помянута. Прикончив на двоих еще пару банок, они взялись перетаскивать диван. Хлестов, кряхтя, чертыхаясь сквозь зубы и только что не пуская газы от напряжения, приподнял одну сторону. Игорь ухватил другую. От выпитого голову немного кружило, ладони вспотели, и доска, прикрывавшая дно дивана, занозила кожу, скользя по напряженным пальцам. – Заигрались… мы с тобой… как два… великовозрастных… сукина сына, – бормотал сквозь одышку Хлестов, пока Игорь пытался вписаться в дверной проем. – Штурмуем ворота… чертовой крепости… О, ГОСПОДИ! Раздались грохот и треск, одновременно руки Игоря с силой рвануло вниз, грозя ему растяжением и парой сломанных ногтей. Вес всего дивана в один миг обрушился на кончики пальцев, стрельнуло в пояснице. Игорь тоже вскрикнул – от боли и неожиданности – и выпустил ношу. Сам, потеряв равновесие, грохнулся на спину, впечатавшись больным местом в подлокотник. – Живой? – спросил он, когда с трудом развернулся и увидел бледного как смерть приятеля на полу по другую сторону. – Нога… – простонал Хлестов. Игорь подскочил к нему, наклонился и, матерясь от натуги и нового приступа боли в пояснице, рванул на себя придавившую Мишку мебель. Убедившись, что Хлестов убрал поврежденную конечность из-под дивана, с громадным облегчением опустил проклятую рухлядь. Штанина широких Мишкиных брюк потемнела от влаги, как если бы тот ходил по-маленькому и, промахнувшись, отлил себе прямо на ногу. На полу вокруг расплывалась бурая лужица. – Леденцы… – простонал Хлестов. Глаза у него закатились белками кверху, ресницы мелко дрожали. – Леденцами воняет, чувствуешь? Еще чуть-чуть – и приятель потеряет сознание, вот что на самом деле чувствовал Игорь. – Держись, чувак, – крикнул он. – Сейчас что-нибудь придумаем! Помощь… Мишке нужна помощь. Надо сбрызнуть ему лицо водой. По всей квартире горел свет, но в узком коридоре между прихожей и кухней все равно было темней, чем в других местах. Дверь в ванную оказалась прикрыта. Игорь замер перед ней на секунду, пытаясь отдышаться и успокоиться. Курить тянуло со страшной силой. Он нащупал в пачке заветную сигарету. Пальцы тряслись то ли от перенапряжения, то ли от испуга. В щели неплотно прикрытой двери белел кафель. Легко представить, что там, за тонкой перегородкой, находится какое-то больничное помещение. Морг, подумал он, и мороз пробежал у него по коже. Определенно, в квартире стало холоднее. Морг, холодильная камера с мертвецами. Вот сейчас он толкнет дверь, а та упрется во что-то мягкое. А потом из-за нее, сбоку, выпадет труп с посиневшим лицом, толстым, опухшим языком, туго врезавшейся в раздутую шею петлей. Бывший владелец квартиры – «Хозяин любит мясцо», да, – качнется навстречу, повиснув на брючном ремне, и просипит передавленным горлом «с-снято!», как в каком-нибудь дурацком телевизионном розыгрыше. Ничего подобного, конечно, не произошло. Ванная пустовала, а единственным лицом, которое он увидел внутри, оказалось его собственное бледное отражение, зажатое рамой зеркального шкафчика над раковиной. Игорь посмотрел на себя – и поразился тому, насколько перепуганный и жалкий у него вид. Оля вспомнила бы что-то из ролей Ника Кейджа как пить дать. Он подумал об этом – и сразу стало легче, напряжение спало. – Что, и всё? – вырвался у него сдавленный смешок. – Это всё, на что ты способен? Тоже мне, Хозяин… черт квартирный, больше никто! В ответ ему из комнаты Павлика донесся истошный вопль Хлестова: – Забери! Забери меня, чувак! НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ЗДЕСЬ ОДНОГО!В палате
Позже, в больнице, он спросил Хлестова, что с ним случилось. – Принял лишнего, – тусклым голосом отвечал тот. Хлестов лежал в слишком узкой для его туши койке с загипсованной от щиколотки до колена ногой, торчащей из-под простыни, как фитилек огромной идеально круглой бомбы-петарды из глупого американского мультфильма. Точное сравнение наверняка смогла бы подобрать Оля, если бы видела сейчас эту картину, но Игорь пару часов назад позвонил жене и, рассказав о приключившемся с Мишкой несчастье, попросил ее остаться у родителей вместе с Павликом. Пока Хлестов проходил рентген, пока его накачивали болеутоляющими и приделывали это нелепое подобие бикфордова шнура из гипса, Игорь сам успел выпить валерьянки и немного успокоился. Немного – то есть ровно настолько, чтобы дождаться, когда врач и медсестра покинут палату, прежде чем пристать к приятелю с вопросами. – Чувак, ты заставил меня понервничать. – Что, курить снова начал? – виновато улыбнулся Хлестов. Огромный, но в то же время жалкий. Поверженный Гаргантюа. В памяти всплыла сцена из детства: осень, игровая площадка перед школой, опавшие листья в лужах. Толстяк из параллельного с разбитым носом в углу, в грязи, с мокрой от воды задницей и лицом, перепачканным соплями и кровью. Злой смех окруживших его парней постарше: «Жирдяй обоссался! Зырьте, зырьте, наделал в штаны!» – и жалобный плач самого Мишки, такого большого и в то же время такого маленького в тот момент. Игорь тогда вступился за толстяка, и с этого началась их дружба. – Там, в комнате, – напомнил Игорь. – Что там произошло? – Если скажу – не поверишь. Я и сам не поверил бы. Простыня, покрывающая массивный живот и широкую грудь, медленно поднялась и опустилась в такт тяжелому вздоху. Бледный лоб блестел от пота. Взгляд суетливо бегал из угла в угол. В регистратуре, пока Игорь пил кофе и созванивался с женой, дежурная болтала без умолку и наговорила много непонятных для него слов, но кое-что в память врезалось четко: «предынфарктное состояние». Заплывшее жиром Мишкино сердце едва выдержало происшедшее. Игоря, впрочем, интересовало другое. – Попытайся, чувак. Подыщи слова. Что там было? Паук? – Если бы! Паучка бы я придавил, не моргнув глазом. – У Хлестова вдруг дернулась левая щека. – Глазом, блин… Игорь! – Что? – Можно тебя попросить? – Не беспокойся, в мастерской я тебя заменю. – Да я не об этом. Ты можешь проверить – нет ли чего у меня здесь, под кроватью? Игорь внимательно посмотрел на друга. Четверть века минула, но перед ним в больничной койке лежал все тот же толстяк из параллельного. Он никогда не напоминал Хлестову про тот случай, но подозревал, что сам Мишка помнит о нем всегда и всю жизнь пускается то в одну, то в другую авантюру лишь с одной целью – доказать самому себе, что больше уже ничего не боится. Что он с честью вылез из лужи собственной мочи. И вот сегодня – сейчас – Хлестов снова был напуган. – Хлестов, ты такой… такой Хлестов, одним словом! – попытался он пошутить. – Ногу сломал, чуть коньки не отбросил, а волнуешься из-за каких-то глупостей. В своем репертуаре. – Я прошу тебя, Игорь. Просто посмотри. – Тот больше не улыбался. – Ну ладно. Он присел на корточки (по спине прокатилась волна боли, напомнив о сорванной пояснице) и приподнял край простыни: – Смотрю. Ничего, кроме грязи, не вижу. Полы тут лет десять, наверное, не мыли. – Точно? – Точнее не бывает. И грязнее тоже. – Хорошо… – Что ж хорошего-то? Развели антисанитарию. Надо б уборщицу позвать да ткнуть носом, чтоб не лентяйничала. Хлестов слабо махнул рукой: – Не надо никого звать. Слушай, Игорь… Мне, скорее всего, просто почудилось спьяну. Извини, что так вышло, правда. Ей-богу, не хотел. Сердцем клянусь, не хотел, чувак. Насчет сердца это он зря ляпнул, подумал Игорь. А вслух сказал: – Нисколько не сомневаюсь. Мало найдется придурков, мечтающих сломать себе голень. И все-таки, Мишка, что там случилось? Говоришь, увидел что-то? Что именно?.. – Да какая разница? Почудилось и почудилось, – примерно так же он всегда говорил, если кто-то в общей компании вспоминал школьные времена. Было и было, и черт с ним. – Тебя-то это почему интересует? Или… ты тоже там что-то видел, чувак? – А что я мог увидеть? Чувак, ты попросил заглянуть под кровать – я заглянул. Теперь твоя очередь. Колись давай, а все нюансы потом обсудим, если будет что обсуждать. – Ну хорошо, – тот все еще сомневался. – Но ты не поверишь… – Это уж мне решать. Итак. Из-за чего мы тут с тобой оказались? – Из-за дивана. – Из-за дивана? – Из-за дивана, – повторил Хлестов, сердито зыркнув с койки. – Из-за дивана?! – Хватит за мной повторять, как попка! – Так ты по-человечески объяснить можешь или продолжишь загадками разговаривать, Сфинкс долбаный? – Когда мы потащили диван из комнаты, – начал объяснять Хлестов. – Я там, сзади, чуть штаны не уделал с натуги. Диван-то тяжелый, зараза! – Спасибо, я в курсе. Мне теперь одному его тягать. – Тогда будь осторожнее. Мне, конечно, это все привиделось, но мало ли… В общем, я в тот момент удивился этой тяжести. Реально ведь пупок надрывался. Ну не может, понимаешь, не может диван весить так много! Дай, думаю, гляну, не валяется ли там что за подкладкой… А когда ты потянул диван на себя, то стенка сбоку, с той стороны, что я держал, немного отошла. И вот там, где появилась щель… Игорь. – Что? – Там были глаза. Клянусь тебе, сердцем клянусь, там, в щели, были чьи-то глаза. – Не понял. Хочешь сказать, кто-то прятался ВНУТРИ? – Нет. Наверное… Так мне показалось. Это глюк, не иначе, – Хлестов вдруг перешел на шепот: – А если иначе, то их там целая банда прячется. Потому что… Чувак, глаз было много. – Много глаз? – Да хватит талдычить за мной слово в слово! Много, да! Очень много! – И еще они светились, – Игорь расхохотался. – Ну так уже, до кучи. Скалили клыки, как у вампиров, и выли «Аве Сатани», да? – Я же говорил, что ты не поверишь. Оба замолчали. Хлестов, обиженно насупившись, комкал край простыни в потной ладони. Игорь, раздумывая, катал меж пальцев сигарету из неприкосновенного запаса. – Без обид, чувак, но это и правда похоже на бред, – сказал он наконец. – Не знаю, может, тебе что-то вкололи вместе с обезболивающим… – Это то, что я видел. Там, у тебя в квартире. Что стало с предыдущими хозяевами? – Неважно. – Почему неважно? Ответь на вопрос, дружище, я ведь на твой ответил. Игорь прикрыл глаза и принюхался к сигарете. В голове всплывали другие, уже недавние воспоминания. Разговор с риелтором. Встреча со слепой соседкой. Ее слова… «Люби Хозяина». Серьезно? «Хозяин любит мясцо». Ну ведь бред, бред же собачий!!! – Во что-нибудь другое я бы мог поверить, – вздохнул он. – Но не в старый же диван с глазами. Без обид, чувак, но звучит… да даже не знаю как. По-дурацки. – Не спорю. Говорю же тебе: может, привиделось. Всякое бывает. Я и сам себе не верю, чувак. Но одно могу сказать точно. В тот момент, когда эта хрень на меня посмотрела, верней – когда мне показалось, что она… оно… что они, глазищи эти, на меня смотрят, – мне было просто ЖУТЬ как страшно. – Могу представить… Да нет, не могу. – Игорь невесело усмехнулся. – Ладно, раз уж ты спрашиваешь… Говорят, предыдущий владелец квартиры удавился. – Удавился? – Круглое лицо Хлестова вытянуться от удивления просто физически не могло, но челюсть изрядно отвисла. – Удавился. – Удавился?! – Сам-то не повторяй, как попка, чувак. – Ольга в курсе? – Откуда? Я что, похож на идиота, такие страсти молодой мамаше рассказывать? – Ну тебе же хватило ума купить квартиру, в которой кто-то концы отдал. – Полегче на поворотах, инвалид, – осадил толстяка Игорь. – Чья бы корова мычала… – Ладно, проехали. Сам-то что думаешь? Призрак? – Ничего я не думаю… О чем тут вообще думать, чувак. – Об Ольге и сыне. Им ведь там жить – там, где эти глаза, где кто-то повесился… – О привидениях думать? Чушь! В палате вновь стало тихо. Игорь слышал, как кто-то ходит по коридору, как скрипнула дверь где-то рядом. Доносилось невнятное бормотание телевизора из каморки дежурной. Только сейчас он вдруг понял, как много разных звуков наполняют то, что люди привыкли называть тишиной. Что он сам считал таковой. Дома было иначе. Нутро его новой квартиры хранило враждебное космическое безмолвие. От мысли об этом – о тишине и о том, что «глаза, там было много, много глаз!» – стало зябко. – Пусть мне действительно померещилось спьяну, – прервал другое, вполне земное, молчание Хлестов. – Я еще поищу информацию о вашем доме все-таки. Кажется, что-то уже попадалось на… на глаза. – Мне что делать прикажешь? – Выставить квартирку на продажу. Ну или хотя бы подумать об этом. – Прикалываешься? Я же в долги влез по самые уши, чтобы ее купить. У Олиных родителей занял, в банке ссуду взял в валюте… Знаешь сколько такая квартира в центре стоит? Я б за всю жизнь не расплатился, и никакая ипотека не поможет. – Но здесь-то дешевле. Чай, не разоришься. Наоборот, вернешь вложенное. – Да ты пойми, чувак! Такая цена – в три раза против рыночной! Как, вот скажи, как можно взять и отказаться от такой покупки при такой-то цене? – Про бесплатный сыр слышал? Может статься, у вас не квартира, а мышеловка. – Ага, с глазами. – Да пошел ты со своими приколами, – распалился Хлестов. – Тебе, вообще, что важнее – семья или деньги? – Да я же ради них и купил эту квартиру! Как подарок, понимаешь? Подарок жене. Для нее и для Павлика старался… – А может, для себя? – Хлестов качнулся, пытаясь присесть на койке, и поморщился, когда задел загипсованной ногой край кровати. – Кое-кто тут мне все уши прожужжал брехней о семейных ценностях, но, знаешь, мне всегда было интересно, что ты любишь больше – Ольгу и Павлика… или сам факт того, что они у тебя есть. Чувак, без обид, но ты полон комплексов. Тебе ведь было мало просто жену завести, да? Тебе было нужно, чтобы все как на фото из рекламного проспекта получилось: чистенькая, вылизанная до блеска кухня, ребенок со светлыми волосиками, кукурузные хлопья с молоком. Белоснежные улыбки у всех и песенка про фруктовый сад фоном. То есть не так, как было у твоего папаши. – Кончай корчить из себя психолога, Миша, – Игорь с трудом сдержал готовое слететь с языка ругательство. – Не трогай моего отца, и я не буду вспоминать о том, как имел в рот твою мамку, понял? Мой отец тут совсем ни при чем, понял?! – Ты бесишься, потому что я в чем-то прав. И насчет квартиры, и насчет тебя самого. Игорь, – Хлестов вздохнул. – Все ведь просто на самом деле. Ответь самому себе – любишь ли ты свою семью? – Люблю, конечно. Идиотский вопрос. Да я их больше жизни люблю! – Ну так, по крайней мере, будь с Ольгой и сыном, пока они там. Это ты можешь? – Ты же теперь не работаешь, а мне деньги нужны… Пацана кормить чем-то надо, понимаешь? Придется куковать в мастерской с утра до ночи, пахать за двоих. – Уверен? – Да. Нет… И да и нет. Хрен знает! – отрезал Игорь. – Я не стану съезжать с квартиры. Мы в нее даже не въехали-то еще! Прикажешь все бросить, потому что тебе там что-то привиделось? – Твоя правда… Прости. Я устал и действительно несу всякую пургу. – Хлестов попытался примирительно улыбнуться. – Неважно, в конце концов, что я говорю. Ты взрослый мужик и во многом понимаешь жизнь получше меня. Ты действительно прав, чувак. Такие важные решения только из-за чьих-то страхов принимать нельзя… Но мебель выброси. Этот диван – с него ведь все началось. Выброси его к черту, как и хотели! – Выброшу, будь уверен. – Игорь взглянул на часы на экране айфона и, убедившись, что уже глубоко за полночь, собрался на выход. – Ты тоже прости, что я на тебя так взъелся, чувак. Грубо получилось. Поправляйся, хорошо? – Угу, – кивнул Хлестов и тихо добавил: – Но инфу я еще порою о домике вашем… Игорь, уже направлявшийся к дверям палаты, этого не услышал.Новоселье
Новоселье отпраздновали через неделю – скромно, но зато спокойно, без лишней нервотрепки. Целый день Игорь возился с сыном, пока Оля колдовала на кухне, готовя все, что было необходимо для маленького семейного праздника. А бабушка с дедушкой явились вечером и в качестве подарка не придумали ничего лучше, чем притащить с собой кота. – Мама, ты с ума сошла? У нас в доме младенец! – У людей так принято, – отвечала Александра Павловна, поставив переноску в прихожей. У тещи был вид человека, непоколебимо убежденного как в своей правоте, так и в праве поучать других. – Заведено так – в новый дом первой кошку пускать, на счастье. Вы-то так торопились Павлика у бабки родной забрать, что сами про все забыли! Обождать не могли, дурни нетерпеливые… В общем, порядок нарушен. Но хоть так! Много-то места коту не надо. Она была почти на голову ниже мужа, но в два раза шире, так что худенький и сутулый Василий, выглядывая из-за могучих плеч супруги, сам казался домашним зверьком – собачонкой на поводке. К породе таких мужчин-дворняжек принадлежал и отец Игоря, что его всегда в нем бесило и одновременно вызывало сочувствие. Порой он гадал, уж не потому ли Оле понравился он сам, что та ни в чем не желала походить на мать. Александра Павловна в свое время захомутала совсем еще юного паренька (как Игорь подозревал, без спланированной «случайной» беременности там не обошлось). Оля же выбрала его, человека немногим младше ее отца. Находила ли она в его лице отражение собственного родителя? Ни в коем случае, убеждал себя Игорь. Я не такой, как он. У нас с Ольгой не такая уж и большая разница в возрасте. Не отец. Максимум – старший брат, ведь правда?.. Игорю теща не симпатизировала, он отвечал ей взаимностью, но в этот вечер ему меньше всего хотелось скандалить. Поэтому, на правах главы дома, он выступил миротворцем: – Традиции – штука хорошая, Оль. Смотри какой пушистый… Британец, похоже. Породистый. Назовем его Майклом или Алеком, что скажешь?.. Мы могли бы запирать его на ночь в гостиной, чтобы к Павлику в спальню не лез. – Слушай муженька, родная, – кивнула Александра Павловна: Бонапарт в юбке пошел на мировую, и это было хорошим знаком. – В кои-то веки дело говорит… А где наш внучек? Где мой карапуз, где Павличек мой?.. Стол накрыли на кухне, поскольку в гостиной и других комнатах, за исключением детской, царил беспорядок. Многое – в том числе Олину коллекцию подписанных постеров, футболок и DVD – еще только предстояло разобрать, а кое-что из новой мебели, напротив, нужно было собирать. Двери прикрыли, выпустили кота прогуляться по подоконнику. Жена достала из холодильника бутылку шампанского. – Неплохая квартира, – позволил себе вольность высказаться тесть. – Ага, только у черта на куличках, даже телевидение не проведено, – проворчала теща. Игорь включил ноутбук и попытался настроить онлайн-ТВ. Мобильный Интернет подтормаживал, видео воспроизводилось с небольшими задержками и, что хуже, без звука. – Смешно, – сказал он, смущаясь. – Похоже, что-то фонит. Какое-то магнитное поле или вроде того. Уже не первый раз проблемы со звуком, на телефоне вот тоже звонок не работает. – Домовой шалит, – заявила Александра Павловна. – Хозяина подкормить забыли. Игорь, вздрогнув, оглянулся на нее – шутит, что ли?.. Конечно же, шутит. Не могут же поголовно все старухи в этих краях сходить с ума. Впрочем, насчет тещи он не был уверен. Встав из-за стола вместе с ноутбуком, он отошел к окну и принялся ковырять настройки кодеков. К нему присоединился Василий. Осторожно положил руку на плечо, дыхнул в лицо смесью алкоголя и табака: – Я ей говорил, что кошак не нужен, Сашке-то. Но ты ж ее знаешь… Игорь кивнул, не отвлекаясь от работы. Динамики – может, что-то с ними? Так, сейчас проверим… Краем глаза заметил какое-то движение внизу перед домом. Присмотрелся и различил в сумраке за стеклом две маленькие темные фигуры, тенями проступившие на фоне белесых березовых стволов. Проморгавшись, Игорь узнал одну из теней – слепая соседка. А рядом – он моргнул еще несколько раз, не веря своим глазам, – рядом стояла Ирина Корост. Возвышалась над низкорослой, донельзя похожей на его собственную тещу бабкой, положив тонкие руки ей на плечи… Или на шею, будто пытаясь ту задушить. – А курить-то у вас можно, зятек? Или антитабачный закон ввели в хате? – Здесь не надо, Вась, – отвлекся на тестя Игорь. – Оля, ты в курсе, не любит… Вон, уборная – к твоим услугам. – Оля, – хмыкнул тесть. – Одна порода, да? Твоя тоже, смотрю, командует. Курить даже бросил. Он был неправ, но Игорь не стал возражать. Его больше занимала странная парочка во дворе. То, чем занимались там две женщины, молодая и старая. Риелтор теперь, похоже, в чем-то убеждала старуху, размахивала руками. Ему почудилось, что в какой-то момент Корост ткнула пальцем в сторону дома. Старуха повернула голову и вытаращила бельма, как показалось Игорю, прямо на его окно. Заметили! Захотелось, как нашкодившему мальчишке, пойманному на месте преступления, тут же спрятаться, присесть на корточки за батареей и скрыться из вида. В этот миг, по счастью, подал, наконец, голос динамик ноутбука, так что Игорь с чистой совестью смог позабыть про тени за окном и вернуться к дамам на кухне. Оленька уже успела наладить контакт с пухлым дымчатым британцем: кормила котенка с ладони, держа его на коленях. Александра Павловна подобрела – то ли от того, что ее подарок пришелся дочке по душе, то ли от пары бокалов старого доброго «Советского». Вернулся с перекура Василий, присел рядом с женой – и был немедля прижат массивной рукой к широкой груди. Теща хрипло затянула застольную про черного ворона, тесть, мелко хихикнув, фальшиво подпел. На Игоря и настроенное им телевещание уже никто не обращал внимания. В прогнозе погоды говорили о том, что на город надвигается циклон. Обещали грозы.Часы, которых не было
Вечером все прошло неплохо, но до этого, днем… Днем Павлик заставил его побегать: пока мать была занята на кухне, малыш много плакал, просил кушать и успокаивался, только очутившись на руках у отца. «Перемена мест», – объяснил Игорь жене. Хотя видел в ее глазах сомнение, которое и сам разделял. Иного ответа, по крайней мере в сфере рационального, найти ни для себя, ни для нее ему не удавалось. Лишь когда за окнами стемнело, ребенок утих и позволил уложить себя в кроватку. «Хорошая спаленка, – вынесла вердикт, заглянув в детскую, теща. – Хоть что-то вы сделали правильно». После, впрочем, она добавила, что было бы лучше, если бы младенец спал в одной комнате с родителями, и даже приказала пьяненькому, с трудом стоящему на ногах Василию помочь им разобрать сваленные в спальне вещи. На что Оленька твердо заявила, что время уже позднее, такси ждет перед домом, «спасибо, что заглянули, но дальше мы уж как-нибудь сами управимся». На силу спровадив своего злого гения и ее миньона, они оба буквально свалились с ног, прямо в незастеленную кровать посреди прочей, не готовой еще мебели. Но если Оля тут же засопела, то Игорь еще долго мучился, с закрытыми глазами вслушиваясь в тишину, воцарившуюся в квартире. Он чувствовал тепло спящей рядом жены, но сам провалиться в глубокий сон никак не мог, хотя уже и не бодрствовал. Вот в чем сказывалась разница в возрасте: жена, подустав, отключалась моментально, как по команде, Игорь же погружался в смутную дремоту, спал беспокойно и видел кошмары. «Надо купить будильник», – подумал он. Старые часы на пальчиковых батарейках, с круглым циферблатом и стрелками. Чтобы тикали, как метроном: тик-так, тик-так. По крайней мере это «тик-так» помогло бы ему следить, сколько времени остается до рассвета. Пока же время тянулось вязко, на муторной грани между сном и явью, и с равным успехом можно было предположить, что во мраке минули как минуты, так и года. Тишина давила на уши сильнее, чем уродливая пародия на караоке в исполнении тещи. И даже Оля притихла, словно и не было ее вовсе. Игорь пребывал во тьме один, будто выброшенный прямиком из спальни в чуждый пустой космос вместе с кроватью. Ему захотелось услышать дыхание сына, поэтому он осторожно, чтобы не потревожить жену, встал и прошел в детскую. В комнате Павлика было светло: серебристое мерцание выкатившегося на небо месяца заливало стены и потолок. Ламинат холодил босые ступни. Здесь вообще было на удивление холодно – уж не открыл ли кто окно?.. На фоне чистого гладкого стекла за детской кроваткой покачивалась полупрозрачная ниточка. Проклятие. Игорь шагнул вперед, чтобы сорвать паутину, и тут из-за реек, ограждавших кроватку, вытянулась рука. Она была худая и длинная и в лунном сиянии казалась белой, просвечивающей насквозь. Напомнила ему изящные ручки Ирины Корост. Под тонкой, как сигаретная бумага, кожей виднелись две продолговатые кости. Рядом из-за перилец кровати возникла еще одна конечность, меньшей длины. Сложно представить, какому существу могла принадлежать эта лапа, покрытая жестким, похожим на дикобразьи иголки волосом. На перекрестие реек легла третья, растопыренная пятерня, заканчивающаяся кривыми грязными ногтями. Такие бывают у неспособных ухаживать за собой стариков… у незрячих. Ноготь постучал по дереву: цок, цок. Тик, тик. Игорь обмер, не в силах сдвинуться с места. Первая рука повернулась к нему раскрытой ладонью. Синие вены и белые косточки под призрачной кожей ожили, зашевелились, скручиваясь и разворачиваясь кольцами и спиралями, как черви. В цент ре ладони возникла кроваво-черная щель с неровными, пульсирующими (тик, тик) краями. Складки кожи по обе стороны щели сжались. Так, так! – дыра плюнула ему в лицо паутиной. Вязкая, липкая субстанция обожгла губы и язык, залепила рот и нос, попала в глаза. Задыхаясь, Игорь принялся сдирать ее с себя… И очнулся. Оля по-прежнему лежала рядом. Где-то около них в своей переноске мирно дремал, объевшись печеночным паштетом с общего стола, новый член их семьи, которому еще только предстояло дать кличку. И Павлик – Павлик наверняка спал… в своей комнате. На улице уже светало. Взглянув на экран айфона, Игорь понял, что проспал на работу. Электронный будильник звонил и звонил, но звука все не было.Хлестов (I)
– В вашем доме на первом этаже человека убили. – Прикалываешься? – не поверил своим ушам Игорь. Но Хлестов настаивал: – Да, убили, пару лет назад. Изрядно порезали прямо в квартире. Об этом они тебе ничего не сказали? – Кто «они»? – Из-за недостатка сна соображал Игорь туго. Он весь день возился с планшетом от «Эппл», который принесли в мастерскую утром, – плевое вроде дело, разъем поменять, но в последнее время у него все валилось из рук, и простейший ремонт занял несколько часов. Когда позвонил Хлестов, он уже собирался закрывать контору и двигать домой. Впереди еще сорок минут в подземке, которых он ждал, по которым томился: там, в метро, можно чуток вздремнуть. – Не тупи, чувак. Ребята из конторы, что продали вам эту квартиру. Они ничего тебе не сказали об этом происшествии? – Нет, только о самоубийце… Ну бывшем владельце, – слово «хозяин» Игорь теперь старался не использовать. – В общем, я не в курсе, поясни. – Да я тоже всех деталей не знаю. Только то, что писали в криминальных сводках. Сам понимаешь, окраина – не столица. Мало кому интересна чья-то смерть в жопе мира, когда тут под боком каждый божий день случаи пострашнее. Если б поп-звезда какая откинулась или теракт, тогда другое дело, поднялась бы шумиха. А тут – убили и убили. Похоже на бытовуху – много ранений, резаные раны… Так это в прессе описывали. – Убийца. Его нашли? – Неизвестно. В смысле, новостей об этом нет. Но, сам понимаешь, прессу интересует чернуха, сам факт убийства, а не то, чем следствие заканчивается через год-другой. Игорь устало вздохнул: – Окей. Я позвоню этой Корост, риелтору. Видал ее, кстати, на днях, трется у дома. Словно что-то высматривает тут у нас, черт ее знает что. – Даже так? Интересно… Но ты погоди, не звони никуда. – Почему? – Пока не звони, да и вообще не говори с ней об этом, даже если встретишь. Еще наговоришь лишнего, дров наломаешь… Мало ли какие у дамы дела? Ты же сам рассказывал, что в доме не все квартиры проданы, вот и суетится процента ради. Лучше дай мне ее номер, я сам и звякну попозже. Только сначала инфы еще нарою. Глядишь, компромат какой всплывет. Игорь усмехнулся: – Тебе там со скуки заняться нечем, что ли? Эркюль Пуаро питерский… – Не ради тебя стараюсь, муфлон. Ради Ольги. Она, кстати, всегда говорила, что я похож на Дауни-младшего в «Шерлоке». – Если только ты его съел целиком. – Хорошего человека должно быть много. Тебе, доходяге, не дано, вот и завидуешь. – Спасибо, хороший человек, – искренне поблагодарил Игорь. – Как нога-то, заживает? – Скоро бегать на спринтерские дистанции буду. – Похудел на больничных харчах? – Не дождетесь. У меня, чтоб ты знал, и без того идеальная фигура. Врачихи без ума. – Ты любого с ума сведешь. – Я ж говорю, хорошего человека… Ладно, ты-то сейчас куда? – Домой, – почти простонал он. – Что-то не слышу особого энтузиазма в голосе. У вас все нормально? – Да так… Малой спать не дает. Ни мне, ни матери. – Так почему бы на время не вернуться к ее родителям? – Чтоб и они не спали? Пожалей стариков. – А ты себя пожалей, пацан. И жену, – тяжело засопел Хлестов. – Уезжали бы вы из этой квартиры… Сам же видишь, не все там чисто. – Ты опять? Хлестов, я думал, мы эту тему за крыли. – Мне так тоже казалось, но… Удалось выяснить кое-что еще насчет вашего дома. – Что же? – Пока рано рассказывать. Я тебе говорил, что скоро уже на ноги встану?.. – Да, обещал выйти на беговую дорожку. – Вот первым делом побегу к одному гражданину из отставных. Пообщаться о тех ребятах, что строили ваш райский уголок. Помнишь, я говорил, что дом отгрохали в девяностые? – Припоминаю… Хотели целый комплекс забабахать, но что-то там не срослось. Там что, криминал замешан какой-то? – В правильном направлении мыслишь, чувак. Вот насчет того, почему не срослось, я и выясню. Чувак, – голос в трубке стал тише и серьезней. – Обещай, что будешь присматривать за Ольгой и сыном. – Мне вообще-то работать нужно, пока ты в больничке прохлаждаешься. Теща кота подарила, вот он пускай и присматривает. – Кот – это, конечно, хорошо. Это вот прям-таки панацея от всякой нечисти, – разочарованно прошипел динамик айфона. – Знаешь, Кривцов, а ты обезьяна. – А ты козел. Старый одноногий козел. – Спасибо. Только я не про настоящих зверей. Я про тех обезьянок, которыми раньше на Арбате торговали вместе с матрешками и прочим сувенирным дерьмом. Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле – это про тебя, чувак. Так что у вас там уже зверинец – коты, обезьянки, младенцы…Звуки, которые были
Плач Павлуши разбудил Оленьку. В очередной раз. В очередной раз она пожалела, что мужа нет дома. Пожалела, что они съехали от родителей, и едва ли даже не о том, что вообще согласилась рожать. Эта неделя стала для нее настоящим адом, хотя раньше ей казалось, что она к нему готова. Думала, сможет писать статьи о кино и сериалах в перерывах между кормлениями и сменой пеленок, что ей хватит на это сил, ну а если не хватит – всегда можно включить плеер в ноутбуке и в надцатый раз пересмотреть, как «Империя наносит ответный удар». Не получалось. Получалось спать урывками, но это сложно назвать сном. Она проваливалась в дрему, как будто падала в обморок, чтобы через минуту-другую прийти в себя с больной, кружащейся головой и красными глазами, кожа вокруг которых постоянно чесалась. Оленька принимала успокоительное, пачками глотала витамины и обезболивающее, но лучше от этого не становилось, только во рту сохранялся горьковатый привкус лекарств, и все вокруг виделось в минуты бодрствования как в тумане. Сын и кот не давали и получаса покоя. Чуба – они назвали котенка Чубаккой, и это, конечно, была ее идея – хотел жрать и гулять, мяучил и устраивал погромы в отведенной ему под игры гостиной. Но это-то как раз поправимо, муж уже записался на прием к ветеринару. Труднее с малышом – младенца не кастрируешь. Правда, Оленька уже несколько раз ловила себя на мысли (пускай и думала об этом не всерьез, но ведь думала же), что операция по удалению голосовых связок не помешала бы. Павлик все время плакал. Вот и сейчас он не просто ревел. Он выл, истошно и заунывно, как какой-нибудь мстительный ирландский дух… как предвещающая смерть банши – она видала пару отвратительно дешевых фильмов на эту тему. Жуткий вой разрезал тишину квартиры, как нож бумагу, вгрызался в уши и буром ломил лобную кость. – Тише, тише, я сейчас… – шептала Оленька, заставляя себя разлепить веки. Поднявшись с кровати, на ощупь нашла тапочки, сунула в них ноги. – Да ТИШЕ же, Господи! Постродовая депрессия. Кажется, так это называется. Не слишком ли рано?.. Она понятия не имела. Все, о чем Оленька читала во время беременности, все, что учила, к чему себя готовила, – все пропало, увязнув в полуобморочном бреду, в котором она пребывала каждый божий день из-за постоянного недосыпа и поедаемых пачками таблеток. Павлик не унимался. – Ладно-ладно, миленький, сейчас мамочка придет, пеленочки поменяем, молочка нагреем, покушаем… – Бормоча под нос эти нехитрые заклинания, Оленька сделала несколько шагов из спальни к коридору, ведущему в детскую. Обрывки сна покидали голову, оставляя после себя болезненную, ноющую пустоту. Боже, почему Игорь так долго торчит на работе?! Без него так пусто, так одиноко… Она чувствовала себя в квартире как в тюрьме, зверьком в ловушке. Хотелось отгрызть себе ногу и освободиться из капкана. Это старым девам, вроде той бабки, что где-то по соседству в доме обитает, кошки заменяют мужчин. Для нее же Чубакка, милый, глупый, лохматый Чуба, всего лишь дополнительная обуза. Будто еще один младенец, которого тоже нужно поить и кормить и который тоже действует на нервы. Надо, кстати, наполнить миску и вычистить лоток. И стоит принять еще пару таблеток обезболивающего, иначе она просто не выдержит. Но сначала Павлуша – прежде всего нужно позаботиться о ее маленьком плаксивом чуде. Словно издеваясь, младенец прекратил реветь, как только она подошла к двери в его комнату. Тишина навалилась внезапно. Так, словно и не разрывалось еще секунду назад от детских криков у нее все в голове, грозя расколоть череп изнутри. – Павлик?.. Подчинившись безотчетному, но острому позыву, Оленька убрала ладонь с ручки и, медленно приблизившись, осторожно прижала к шершавой поверхности ухо. Удивительно, но из-за двери доносился запах домашней выпечки. Или даже варенья. Ну да, точно, из комнаты Павлика пахло вареньем. Этот запах был ей знаком, напоминал о детстве, когда папа ставил на плиту огромный таз с присыпанными сахаром сливами и включал конфорку. Потом всю зиму сладким объедались… А за дверью кто-то дышал. Различив этот протяжный, глухой звук, Оленька сразу вспомнила Дарта Вейдера. Потом она подумала о животном. Не о Чубе – нет, о ком-то огромном, могучем. Как настоящий Чубакка из кино или даже еще больше. И злее, гораздо злее. Оленьке стало страшно. Кто-то или что-то было там, внутри, вместе с ее сыном! А Павлик затих так неожиданно и резко, будто его самого вдруг раз – и не стало. Собравшись с духом, она рывком распахнула дверь и шагнула вперед, не зная и не желая дальше гадать, кто или что может поджидать ее в комнате. Никого. Только детская кроватка с агукающим, укутанным в голубое младенцем внутри. И несколько паутинок, протянувшихся с потолка. Они раскачивались на легком сквозняке над кроваткой, как украшения. Оленька подошла, погладила Павлика по круглой щеке, на которой, совсем как у папы, проступала очаровательная ямочка. Поправила одеяльце. Посмотрела в окно. Снаружи накрапывал дождик, непогода раскрасила все оттенками серого. Возможно, это шум дождя она спросонок приняла за чье-то дыхание?.. «Дождь по имени Дарт Вейдер» – хорошее название для студенческого фильма. Когда-нибудь она снимет такой. Оленька хихикнула. Смахнула упавшую на лицо паутину. Тонкая нить прилипла к ладони, накрыв линию жизни миниатюрным подобием серого савана. Запястью стало щекотно. Запах кипящего варенья продолжал кружить голову. Все еще в полубреду, не до конца осознавая, что делает, Оленька поднесла ладонь ко рту и слизнула паутинку. Сладкая, как сахар… Из темноты у нее над головой бесшумно опустилась бледная худая рука с грязными кривыми ногтями. Провела тощими узловатыми пальцами по Олиному затылку. Она не видела эту руку и не осознавала ее прикосновений, но зажмурилась на секунду, наклонив голову к плечу, будто прислушиваясь к чьему-то шепоту. Потом Павлик опять заплакал. В замочной скважине заскрежетал ключ – муж наконец-то вернулся. Оленька, придя в себя, склонилась над кроваткой плачущего сына, а рука растворилась во мраке.Старая рухлядь (III)
По дороге домой Игорь заскочил в аптеку, купил детское питание, упаковку подгузников и пачку валидола для себя и Оли. Нагруженный всем этим, шурша пакетами, подошел к дому, когда вечерняя прохлада уже спускалась на двор. В последние дни вообще было промозгло. Погода портилась, на небе теснились темные облака, по ночам накрапывал дождь и порой доносились отголоски далекой грозы. Старуха, как обычно, сидела на лавке, а в окнах соседских квартир за серыми занавесками гуляли тени. Ему показалось, что тюля в окнах стало больше. Теперь дом уже ничуть не напоминал благородного старого актера – скорее, во двор таращилось испещренное язвами лицо древнего монстра с множеством отвратительных, белесых, как у старухи, зенок. – Вы дитё с собой притащили, что ли? – Как… – Игорь едва не выронил пакеты от неожиданности. – Простите. Я думал, вы незрячая. – Кричит. Шумит. До него дошло, что содержимое пакетов старуха не смогла бы увидеть в сумерках, даже если бы и правда не была лишена зрения. В памяти всплыло сказанное им самим, когда они с Олей впервые оказались в квартире. «Соседи полицию вызовут, если Павлик будет орать, как в роддоме». Кажется, разговор тот состоялся тысячу лет назад. Виски пронзила болезненная вспышка. – Слушайте… Не знаю, как вас там. – Игорь подошел к старухе вплотную и угрожающе навис над ней, нарочно громко шурша поклажей. – Это всего лишь ребенок. Ребенок, понимаете? – Понимаете, понимаете, – кривясь, передразнила старуха. – Ничего вы не понимаете! Это не ребенок, дурья твоя башка. – Да как у вас только язык поворачивается… – Это мясо. Вкусное нежное мясо. Игорь оторопел. Внезапно ему живо представилось, как он, вывернув один из пакетов, надевает его на голову старухе – и душит ее. Картинка была настолько яркой, что у него вспотели ладони, а в горле, наоборот, пересохло. – Кошку Ему отдай, – прокаркала ведьма. – Котеночка, котейку. У тебя ведь есть, я знаю. – Кому «ему»? Павлику?.. – ЕМУ. Хозяину. Игорь вспомнил недавний разговор с Хлестовым. – А вам ведь что-то известно, – пробормотал он, оглядываясь по сторонам. Ни Корост, ни кого другого в округе не было видно. – Об этом доме. Я тоже что-то знаю. Мы оба что-то знаем насчет этого дома, да? Так, может, поделитесь знаниями? Первые тяжелые капли назревающего ливня ударили по затылку, упали на шею. По коже побежали мурашки. Старуха замолкла, будто окаменев. Игорь достал свой талисман и предложил женщине сигарету – предпоследнюю из его волшебной пачки. – Расскажите, бабушка. Удовлетворите любопытство. Я готов, понимаете? Готов вас слушать. Расскажите о Хозяине. Кто он? Какой-то бандит?.. Вы же давно тут живете, не так ли? Значит, все помните. Слыхал, в девяностые были проблемы со стройкой в этом районе. И потом еще люди тут гибли. Это связано с ним, с Хозяином, да? Старуха молча кивнула. – Кто он такой? – У Ирки спрашивай, у дочки моей. – Так она ваша дочь? – Ответом был еще один короткий кивок. – Она и Хозяин, что, заодно действуют?.. Какие-то криминальные схемы?.. Она задрала голову. Капли дождя текли по ее щекам, как слезы, но рот искривила безумная ухмылка. Небо треснуло громом, мгновенная вспышка озарила лишенные зрачков глаза: – Хозяин приходит в грозу, понял? Приходит – и жрет.Ночью
Павлик кричал так громко, что проснулись они оба. – Господи боже, да успокой же его наконец! Игорь отвернулся к стене, уронил лицо в простыню и накрыл голову подушкой. «Я в домике», – подумала она, черт подери, вот на что это больше всего похоже: на чертово «я в домике» вместо «я с вами, со своей семьей». Оленька с трудом встала с кровати. Может, ей это все снится? Как тогда… как когда? Вчера? Три дня назад? Неделю? Сколько они уже здесь, в этой квартире… существуют? Она потеряла счет времени. День-ночь-утро-вечер проходили как в тумане, сливаясь и наслаиваясь одно на другое. Часы полнейшей тишины сменялись часами детского плача, и это чередование стало для нее единственной значимой мерой времени. Восемь часов плача, шесть часов тишины. Шесть часов плача, два часа тишины. А муж… Она посмотрела на его скрюченное бледное тело, костлявые плечи, трясущиеся мелкой дрожью от еле сдерживаемой ярости пальцы, впившиеся в мякоть подушки так, словно он кого-то мысленно душил. Страшно представить кого. Павлик кричал, и от этого у нее в голове гремело не слабее, чем за окном. Но стоило приблизиться к двери, как ребенок замолк, как по команде. Оленька шагнула в детскую. Ливень хлестал по стеклу, комната Павлика была погружена во тьму. Оленька нащупала выключатель на стене, зажгла свет. Как тут холодно – дыхание вырывалось изо рта в виде пара. Она подошла к кроватке, склонила над ней голову, чтобы удостовериться, что с малышом все в порядке, и поправить при необходимости одеяло. Впрочем, крик для него давно уже стал нормой. «Может, стоит спеть ему? – пришло Оленьке на ум. – Спеть колыбельную…» Но он же молчит. «…Может, кто-то другой уже спел?» По щиколотке прошлось нечто теплое, шерстяное. Маленький шершавый язык лизнул лодыжку. Оленька тихонько ахнула и посмотрела вниз. – Чуба! Чубакка, ты что здесь делаешь, малыш? Она взяла котенка на руки и внимательно осмотрела. – Чего дрожишь-то – замерз? Весь измазался, дурень… Пауков по углам ловил, что ли? Чуба тихо мяукнул, глядя куда-то наверх, за плечо хозяйке. Оленьке показалось, что в вытянутых кошачьих зрачках отражается что-то – какая-то тень, большая и бесформенная. Прижимая котенка к груди, она обернулась и посмотрела в угол комнаты. В этот миг за окном громыхнуло так, что задрожали стекла, свет в детской моргнул и потух.Одновременно на лицо Оленьки упала, как саван, паучья сеть. Когда она вернулась в спальню, Игорь, высунув нос из-под подушки, сказал: – Холод сучий, да? И с электричеством тут проблемы. Оля… – Что? – Может, вернемся к твоим родителям?.. На время? – Нет, – ответила жена тусклым, усталым голосом. В темноте он не видел ее лица. – Почему? Я и сам не хочу, но ведь так действительно было бы лучше. Я… я, возможно, допустил ошибку, купив эту квартиру. Трудно признать, но… – Это наша квартира. – Он почувствовал ее ладонь у себя на щеке. – Мы в ней хозяева. – Хозяева? – содрогнулся Игорь, услышав ненавистное слово. Ногти Оленьки прочертили борозды в щетине на его подбородке. Прикосновение было неприятным, как будто не жена гладила Игоря, а сумасшедшая слепая старуха, пристроившись рядом, скребла его кожу во тьме. Пальцы Оли пахли жженым сахаром. Ее голос звучал глухо и незнакомо. – Это наша квартира, – шепнула на ухо Игорю тьма. – Мы принадлежим ей.Хлестов (II)
– Привет, чувак, ты на работе? Сидишь? – Привет, Мишка. Да, больше сидеть здесь некому, ты же в курсе. – Сиди, не вставай, а то упадешь! Я такое нарыл, что просто волосы дыбом! – О квартире? – О доме! Что-то в голосе друга насторожило Игоря, вывело из сонного состояния, в котором он пребывал в течение дня и вообще с момента переезда. Хлестов выражался в обычной своей манере, как подросток, а не взрослый мужчина весом под сто двадцать кило, но за привычными «чувак», «нарыл» и прочими излюбленными Мишкиными словечками и выраженьицами улавливалось неподдельное волнение. – Я тебя слушаю. – Дом, – повторил Хлестов. – Я говорил, что он был построен в девяностые? – Говорил… Нет. Не помню. – Не важно. Важно то, что это был лишь первый дом из нескольких, которые собирался здесь возводить один из тогдашних олигархов. Времена были смутные, схемы для получения права на застройку задействовали, судя по всему, не вполне законные. Как бы там ни было, но все встало уже на этапе строительства второго корпуса. На том месте, где сейчас болото, – там был котлован, собирались заливать фундамент под следующий дом, но в итоге бросили эту затею. В первом к тому моменту уже успели распродать всю жилплощадь, провели все необходимые коммуникации, газ… А потом он взорвался. – В каком смысле? – В прямом! Черт его знает как они подводили трубы, но официально это был именно взрыв бытового газа. Хотя, конечно, в те годы многие думали на террористов или бандитские разборки. Мол, кому-то из московских авторитетов не заплатили за право строительства, вот и… Судя по всему, взрыв был мощнейший, пресса писала о гибели нескольких десятков человек, то есть взорвались практически все, кто жил в доме. Включая и самого олигарха… и всю его семью. – Погоди. Если дом был взорван вместе с хозяином, то кто ж его заново отстроил? Хлестов мрачно рассмеялся: – А вот это и есть самое интересное. Но начнем с другого. Помнишь, я говорил, что, как из больницы выпишусь, встречусь с человечком из бывших, из следаков?.. – Да, вроде припоминаю. – Товарищ прописан в Балашихе, но живет не там, а у своей дочки, в Подольске. Комнату в Балашихе сдает – хорошая надбавка к пенсии получается. Короче, мне пришлось потратить целый день, чтобы самого этого сыскаря разыскать. Но оно того стоило! Сначала, правда, он не хотел ни о чем говорить, но упаковка «Невского» светлого помогла наладить контакт. Забавно – мужик этот сам себя называет не полицейским, а по старинке, ментом… Так вот, со слов моего мента, дом ваш был отстроен уже в новом веке, вот только с той поры никогда, кажется, не бывал заселен целиком. А знаешь почему? – Почему? – В нем постоянно гибли люди. Понимаешь – годами! Из года в год. Точной статистики нет, но он рассказал, по меньшей мере, о дюжине случаев в этом проклятом месте. Он так и говорит: «Проклятый дом». – Их всех убили? – Кого как. Больше самоубийств, но были и убийства, и пропавшие без вести, и сердечные приступы. Объединяет все эти случаи один… нет, два нюанса. – Какие же? – Во-первых, все они жили в этом доме. В твоем доме, Игорь. А во-вторых… ты слушаешь меня внимательно? – Я весь превратился в слух. – Эта контора, которая продала вам квартиру. – Что с ней? – Помнишь, я хотел позвонить им вместо тебя? – Не помню… Какая разница… Позвонил? – Нет же! Собирался, но что-то мне будто в голову стукнуло. Еще до поездки в Подольск я проверил тот номер телефона, что ты мне дал, поиском по всевозможным доскам объявлений. А потом заглянул в реестр юридических лиц… Так вот, эта девка, Ирина Корост, похоже, далеко не рядовой риелтор. В смысле не просто девчонка на побегушках. Везде и всюду, во всех официальных документах она указана в качестве учредителя той самой фирмы, которая дает все эти объявления. Той самой фирмы, что и отремонтировала дом после взрыва. – Хочешь сказать, что сама фирма фиктивная? Что Корост в ней одна и работает? – ДА! И еще, самое интересное… – Выкладывай. – Эта молодуха и ее фирма… Они продают квартиры только в одном доме. В этом доме – и больше нигде. Сечешь? – Погоди, дай сообразить. – По спине у Игоря пробежал холодок. В голове, в области затылка, что-то сухо щелкнуло: тик-так, тик-так. – В доме умирают жильцы, владельцы квартир… – А она… – А она ищет новых клиентов. – ДА! И так раз за разом! Выгодный бизнес, тебе не кажется? Продал квартиру, через месяц-другой, через полгода или пусть даже через год владелец погибает – и вуаля, можно продавать жилье заново! – И жить на проценты. – Игорь вскочил и потянулся к вешалке за курткой. – Мишка, ты сейчас где, все еще в Подольске? – Выезжаю отсюда. Могут быть пробки, погодка сегодня не радует. – Тогда закончим этот разговор! Двигай к дому, я тоже туда. Такси вызову, чтобы быстрее добраться. Все, что ты рассказал… Мишка, у меня нехорошее предчувствие. – Так ты позвони Ольге сначала! – Нет смысла, – из горла у него вырвался жалобный всхлип. – В проклятом доме телефоны не работают. Звука нет.Старый Сиделец
Он сплел паутину и дремал в ней, не помня прошлого, не вполне осознавая настоящее, не помышляя о будущем. В Его мире время воспринималось иначе, не как река, поток, которой влечет тебя в одном направлении, а как безбрежный океан, по волнам которого в любой момент можно плыть в любую сторону. Здесь было по-другому. Здесь все было настолько другим, что Старый Сиделец обезумел сразу же, как только Его, оглушенного вспышкой и громом, выбросило за грань привычной ему Вселенной. С годами, находясь в заточении, попав в ловушку меж двух миров, один из которых стал для него недостижим, а другой оказался столь чуждым, Он только больше сходил с ума под влиянием нарушенной физики и перерождающейся вслед за ней химии Его собственного организма. Он изначально был иным, но еще больше менялся по мере того, как на Него воздействовала измененная среда. И, как любой чужак в новой, непривычной обстановке, Он испытывал страх. Цвета, запахи, формы новой реальности Старый Сиделец воспринимал по-своему – и каждый оттенок, всякий аромат приводили Его в ужас. А звуки – звуки чуждого мира доставляли Ему неописуемую боль. Спасало подобие спячки, анабиоза, в который Он погружался, спрятавшись в коконе посреди разрыва меж двух реальностей. Его сны, впрочем, были так же не похожи на сны обычных людей, как и Его родной мир не походил на человеческий. Сон разума рождает чудовищ, но что за видения приходят во сне обезумевшим монстрам?.. Ему снились люди. Ему снились их сны. Старый Сиделец сотворил для Себя сеть, и нити этой паутины, большей частью незримые для человеческих глаз, опутывали весь дом, пронизывая сами стены. Во сне Он бодрствовал, в своих кошмарах Он мог наблюдать и наблюдал за тем, что происходит в стенах Его тюрьмы, а главное – Он не только чувствовал каждого, кто сюда попадал, но Его собственные чувства каким-то образом передавались живущим в доме, а их абсолютно далекие для Него мысли и эмоции, их страхи и желания становились частью Его. Старый Сиделец никогда не знал, не имел никакого представления о том, что такое тьма и голод, в Его родном мире не существовало таких понятий, но, оказавшись здесь, Он почивал во мраке, а когда пробуждался – хотел жрать. Его одиночество и безумие передавались жителям дома. Их физические потребности – еда, испражнения, секс – становились присущи Ему. И это Его мучило.Оленька
Кажется, из комнаты Павлика снова доносился плач. Она не была уверена, что этот звук ей не снится, а если даже он и был реальным – Оленька слишком хотела спать. Сквозь сон она подумала, что малыш может еще немного потерпеть, пока мама дремлет. Еще пять минут. Хотя бы минуту. Пока она так думала, с потолка спальни на ее грудь и шею, на лицо и прикрытые веки падали ласковые тонкие нити. Прикосновение паутинок было знакомо, напоминало касания Игоря, когда тот нежно гладил и баюкал ее – до беременности, в немой кинохронике их прошлой беспечной жизни. Павлик плакал, кричал, но плач тонул в паучьей сети сна. Тишина квартиры поглощала, засасывала детские крики, и те становились все слабее, все тоньше. Потом уже и еле уловимые отголоски пропали. Ее словно током ударило. Оленька в один миг пришла в себя и рывком села в кровати, озираясь по сторонам. С удивлением и ужасом обнаружила на руках, ногах и по всему телу с десяток тонких паучьих прядей, концы которых прятались в одеяле и простынях. Поморщившись от отвращения, оборвала несколько ниток, прилипших к шее. В квартире, казалось, царствовала тишь, но Оленька не купилась на этот обман. Подскочив к дверям, замерла у порога, прислушиваясь. И точно – вновь уловила, даже не ухом, а чем-то еще, каким-то новым, неведомым ей прежде органом чувств, тяжелое дыхание невообразимо огромного существа. Глухо шумел ливень, но теперь ее было не так просто обхитрить. Это не дождь «дышал», нет. Дышала сама квартира, сам дом. Его стены неуловимо подрагивали, источая при каждом вздохе сладкий, приторный запах с примесью жженого сахара. Она знала, своим новым органом чувств ощущала, где находился источник, в какой именно части квартиры распахнулась та пасть, вонь из которой дурманила голову. Оленька вышла в коридор и заглянула в комнату Павлика. Все здесь внешне было по-прежнему – и все же что-то было не так, как раньше. Холодно. Ее собственное дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Она посмотрела на кроватку сына, одиноко возвышавшуюся посреди детской. Пол под ней словно припорошило снегом, но снег этот лип к ступням и тянулся, как патока. Поверх деревянной оградки над тем местом, где должен был лежать ее сын, в воздухе клубился пар. Его было много больше, чем мог надышать младенец. Пеленки перепачкались в чем-то, что в сумраке комнаты казалось черным, но когда Оленька подошла ближе, то поняла, что цвет был иным. Совсем-совсем иным. В ее голове звучала тема из «Звездных войн». В ее голове летали истребители Империи, и Дарт Вейдер предлагал присоединиться к нему на темной стороне Силы. Боевая машина Императорских войск раздавила ее крохотного эвока в кровавую кашу. Оленька опустила руку в дыру на месте его живота. Пальцы погрузились в красное. Оленька провела ладонью выше, не ощущая никакого встречного сопротивления. Коснулась кончиками пальцев оголенного позвоночника. Мелодию из далекой галактики сменил торжествующий набат имперского марша. Из лужицы, образовавшейся во впадине меж двумя изломанными гребнями маленьких ребер, выполз паук и начал карабкаться вверх по ее руке. Тяжело, неуверенно, оставляя за собой багряный след. Он наелся вдоволь, и она тоже испытывала тяжесть в животе. Они оба были сыты. Оленька, глядя на паучка, просто икала от смеха.То, что необходимо сделать
В потоках дождя сверкали далекие молнии и слышались отголоски грома. Грозовой фронт пока обходил район стороной, но ливень с каждой минутой хлестал все сильней, и паузы между вспышками молний и громовыми раскатами становились короче, так что сомневаться не приходилось – скоро небеса разлетятся в осколки уже и над крышей проклятого дома. Проблески мигалки и удаляющейся скорой и вой сирены словно предвещали приход грозы. Игорь нырнул в машину к Хлестову и положил на заднее сиденье спеленутого младенца: – Езжай аккуратно, ладно? Присматривай за Павликом. И печку включи, чтоб не замерз. Адрес запомнил? – Конечно, – не слишком уверенно кивнул Хлестов. – Как там Ольга? – Плохо. Врачи говорят – нервный срыв, но это только слова. Я попытался с ней поговорить, а она… она меня не узнала. У отца на старости лет от пьянства крыша окончательно поехала – доживал свое даже не в доме престарелых, в психушке… Ольга сейчас похожа на него. Ничего не соображает, себя не помнит, говорит нечленораздельно. – Кошмар. – Кошмар – это то, что они пережили. Она и Павлик. – Игорь смахнул несколько капель со лба и поправил выбившийся уголок пеленки. – Чувак, мне кажется, все-таки лучше, чтобы ты поехал с нами. Вряд ли у меня получится толком объяснить родителям Ольги, что произошло и почему я, незнакомый дядя, привез им посреди ночи их внука. Давай съездим вместе, а? По дороге обсудим случившееся, продумаем план дальнейших действий… Не торопись совать голову в петлю. – Нет, – покачал головой Игорь. – Я и так слишком долго ничего не предпринимал. Я виноват. Не уследил, проспал все к чертовой матери. Это мое бездействие привело к тому, что случилось. Не знаю, может, они хотели всего лишь припугнуть меня и жену, но вышло хуже, гораздо хуже. И я этого просто так не оставлю. – Чувак, не забывай, что это всего-навсего кот. – Это был НАШ кот. Практически член семьи. И ты не видел, что они с ним сделали. А Оля? Только представь, что могла подумать она! Эти сволочи… – Игорь запнулся, на секунду задохнувшись от распиравшей его ярости. Опустил взгляд на свои ладони – пальцы тряслись не от холода. Сжал кулаки и лишь после этого продолжил: – …Эти твари подкинули кошачий труп в люльку к Павлику, представляешь? Там все было в крови. Вечером, в темноте, во время грозы Оля увидела залитую кровищей колыбель – да тут у любого нервы бы не выдержали! – Ей вряд ли станет лучше, если вслед за котом погибнешь и ты, чувак. Игорь щелкнул прикуривателем авто и достал из кармана промокшей насквозь рубахи заветную пачку. Выудил последнюю сигарету. Закурил… закашлялся. – Смотри-ка, а ведь отвык все-таки… – Ну так и не начинай опять. – Есть вещи, которые просто необходимо сделать. Понимаешь? Хлестов, хмурясь, посмотрел на него в зеркало заднего вида: – Ты глава семьи, чувак. Позаботиться о жене и ребенке – вот что ты должен. – Кажется, с этим я чуть-чуть опоздал, – невесело усмехнулся Игорь. Затем перевел взгляд сквозь залитое дождем лобовое стекло на темную громаду здания. На четвертом этаже, как обычно, горел свет. Значит, пора навестить соседей. – Ты помнишь, Мишка, как мы с тобой подружились? – Ну да, разумеется. В школе. К чему ты клонишь? – В школе, – кивнул Игорь. – Извини, что опять повторяю за тобой, как попугай. Мне трудно сейчас подбирать слова. Вот знаешь что я почувствовал в тот день, в ту минуту, когда увидел, как тебя пинают те мрази? Ничего! Практически ничего. Ни жалости, ни страха, ни злости – ничего такого в тот момент внутри меня не было. Жалость, злость пришли уже после, когда ты смывал юшку с рожи в школьном туалете, а я стоял рядом и слушал, как ты хлюпаешь расквашенным носом. Когда все уже закончилось, но не когда происходило. Думаешь, я горел желанием за тебя заступаться? Вовсе нет. Они же, те парни, были старше и тебя, и меня. И сколько их там на площадке было, сколько над тобой издевались – трое, четверо?.. В любом случае, достаточно, чтобы навешать люлей и мне за компанию. – Но ты все равно мне помог. Ты не испугался. – Помог, но не потому, что хотел помочь. Я не супергерой, не дядя Степа из стишка и никогда им не был: ни тогда, ни сейчас… Единственное чувство, которое я испытывал в тот момент, видя, как тебя бьют, как унижают несчастного жирдяя из параллельного класса, было… чувством долга. Я не хотел встревать, мне не нужны были неприятности, но я смотрел – и понимал, что должен что-то сделать. Что иначе просто нельзя… – Понятно. – И сейчас, старик, все то же самое. Такая же ситуация. – Он открыл дверцу, впуская в салон шум усилившегося ливня, и выглянул наружу. Окна четвертого этажа все еще горели, и сквозь стену воды ему почудились два женских силуэта. – Сейчас не имеет значения, чего ты или я хотим, о чем думаем, что ощущаем. Важно только то, что необходимо сделать. Поэтому ты отвезешь Павлика к бабушке с дедушкой, а потом вернешься сюда, мне на помощь. А я поднимусь к Ирине Корост и ее мамаше, чтобы сказать пару ласковых. Игорь вышел из машины и, не оглядываясь, захлопнул за собой дверь. Одновременно над головой у него раздался оглушительный гром, и пронзительно-белая вспышка на долю секунды осветила ведущую к дому тропу.Игра
Он зашел внутрь и щелкнул выключателем на стене возле лестницы. Лампочка вспыхнула и взорвалась, оставив пролет погруженным во тьму. Хлопок был практически не слышен из-за шума разбушевавшейся снаружи стихии. Игорь с трудом видел поднимающиеся перед ним ступени, зато прекрасно различал голоса в своей голове. Один-единственный, такой знакомый, но в то же время совершенно чужой ему голос. «Сцена из кино, – шепнула ему на ухо Оля. – Проклятый дом, гроза, и не видно ни зги. Это все настолько банально, что уже превратилось в штамп». – Мы снова играем в теннис для киноманов? – хрипло спросил он у пустоты. – В таком случае, я знаю ответ – это фильм ужасов. И дело идет к финалу. Даже скорая помощь с мигалками всегда появляется ближе к эпилогу, не так ли? Игорь нащупал влажной ладонью перила и шагнул на лестницу. По спине пробежал холодок, и в носу защекотало, захотелось чихнуть. Он промок насквозь, в ботинках хлюпало. Тьма вокруг была почти осязаема, каждое движение давалось с трудом, будто он не шел, а плыл, преодолевая сопротивление неожиданно густого, вязкого воздуха. На лицо липла, обжигая кожу, паутина. «Этот дом похож на Майкла Кейна». – Повторяешься, дорогая. Да и нет ничего общего у домов и людей, дурацкое сравнение. «В молодости он снялся в триллере „Одежда для убийцы“. 1980 год, режиссер и сценарист Брайан Де Пальма. Этот дом играет похожую роль». – Да? Не припомню такого фильма. – Игорь преодолел очередной лестничный пролет и остановился на площадке третьего этажа, чтобы отдышаться. – Просвети же меня, малышка. «Это были скандальный фильм и скандальная роль Кейна. Искусство на грани мягкого порно, с отсылками к Хичкоку, на вечную тему любви и смерти. Кейн сыграл сумасшедшего трансвестита, страдающего раздвоением личности. Солидного мужчину, который иногда переодевался женщиной и шел убивать». – Кажется, я тоже схожу с ума. – Игорь продолжил подъем. «Этот дом похож на героя „Одежды для убийцы“. Строит из себя милое создание, но под этой маской скрывается нечто безумное». – Безумие – это нам обоим знакомо. Это у нас семейное. Да, Оленька? – Игорь Вячеславович? – ответила ему темнота. – Что вы здесь делаете? Он узнал голос раньше, чем различил лицо вышедшего к нему навстречу человека. – Глупый вопрос – я здесь живу, если можно назвать этот ужас жизнью. А вот что делаете в доме, похожем на Майкла Кейна, вы? Впрочем, неважно. Размахнувшись, Игорь ударил Ирину Корост.Правда
Скручивая куском простыни запястья Ирины Корост у нее за спиной, он не мог удержаться от мысли о том, как же сильно она похожа на Олю. Обе принадлежали к тому типу женщин, которые ему нравились, – хрупкие юные создания с красивыми лицами. Личико Корост оставалось ангельски милым даже с набухающим на левой щеке кровоподтеком. На девушке был тоненький домашний халат, и, когда Игорь прислонил ее спиной к стене в углу детской, верхняя пуговица расстегнулась, обнажив маленькую крепкую грудь. В сумраке кожа Ирины белела мрамором, а рядом с черной вишенкой соска блеснул серебром нательный крестик. Игорь остановился на нем взглядом, протянул руку. – Что вы делаете, Игорь Вячеславович? – Корост открыла глаза. В темноте он не мог различить их цвет, но вспомнил, что они были такие же нежно-голубые, как у Оли. – Хочу задать вам несколько вопросов. – Вы меня избили. – Она поморщилась и, поведя плечами, добавила: – Вы меня связали. – Это чтобы вы не ушли от ответа. С другой стороны, могло быть и хуже. Я ведь мог поступить с вами так же, как вы и ваши друзья поступили с моим котом… и с моей женой. Она посмотрела на него снизу вверх. Губы дрожали, на левой щеке набухал, расплываясь, синяк, но Корост все равно усмехнулась, не обращая внимания на боль. – Игорь Вячеславович… Игорь, вы еще не поняли? У меня нет друзей. – А как же тогда понимать это? – Он ткнул пальцем в крестик у нее на груди. – Что-то вроде масонского перстня? Тайный символ, обозначающий принадлежность к клану или секте? Существо на распятии лишь отдаленно смахивало на традиционное изображение Христа. В глаза не бросалось, но, если присмотреться, различия становились очевидны: у этого Спасителя было четыре руки и четыре ноги. – У каждого из нас свои талисманы. – Что это за тварь? – Это как раз и есть мой единственный друг. Корост все еще улыбалась. Игорь хотел стереть эту ухмылку с ее лица. – Сомневаюсь. – Он ударил тыльной стороной ладони. За окном сверкнула молния, и гром заглушил вскрик девушки. Голова от удара дернулась в сторону. Когда Корост снова повернулась к нему, из носа у нее стекла тонкая струйка крови. Она высунула язык и слизнула темную каплю с распухшей верхней губы. Смотрелось почти эротично. – Вы ошибаетесь, Игорь. В том, что произошло, нет моей вины. – Я делаю это не ради себя, а ради семьи. Чтобы вы понимали, что так просто нас не запугаешь. Вы, ваша чокнутая мамаша и этот ваш урод, Хозяин. Дурацкая кличка… Доводите людей до самоубийства, до сумасшествия, да? Нагоняете страха, заставляете вновь и вновь перепродавать квартиры в этом доме. Тем и живете, мрази. Только вы не на ту семейку напали. Не в этот раз. К его изумлению, Корост расхохоталась. Безумным, на грани истерики, смехом, запрокинув голову и широко раскрыв рот, так что брызги слюны и крови попали на белую шею и грудь. – Что тут смешного, сука? – Игорь снова ударил, на этот раз кулаком. Разбил ей губы и оцарапал костяшку указательного пальца о ее резцы. – Тебе все еще весело, а? Все еще весело?! Корост сплюнула кровью на пол. Хрустнула челюстями. – Знаете, Игорь… У каждого есть вредные привычки. А в каждой семье существуют свои традиции. И порой одно прямо проистекает из другого. – Расскажи мне, – приказал он. – Может, я пойму, в чем соль этой хреновой шутки, и тогда мы посмеемся над ней вдвоем. – Сейчас ты увидишь, – оскалилась она. – Сейчас ты все поймешь. Тебе, правда, будет не до смеха. Ты будешь кричать. Но мы можем покричать вместе, чтобы было веселей. – Правда, – прорычал Игорь. – Я хочу знать всю правду! Почему ты отговаривала меня от покупки, почему не хотела продавать квартиру? Она пожала плечами: – Какая разница? Минутная слабость… Люблю детей. Хочу своего малыша… Пожалела твоего сына. Пожалела тебя… Неважно. Это уже не имеет никакого значения. – Кто такой Хозяин? – Вы скоро с Ним познакомитесь. – Хватит смеяться! – Он занес кулак для очередного удара, но сдержался. – Говори! – О, я бы могла рассказать. Рассказать о том, как моя мамочка купила развалившийся дом, чтобы устроить на его месте загородный пансионат. Как во время ремонта тут пропала бригада таджиков… Как мама, потратив годы и все свое состояние на реставрацию, осталась ни с чем из-за очередного банковского кризиса. И что она увидела в этом доме прежде, чем навсегда лишилась зрения. Я могла бы поведать тебе то, о чем мама рассказывала мне вместо сказок на сон грядущий. О других мирах, о параллельных вселенных и чудесных созданиях, которые их населяют. О том, как одно из этих существ очутилось в мире нашем. У этой сказки нет конца, но я все равно могу тебе ее рассказать, Игорь. Вот только лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Корост посмотрела ему за спину и выше. Зрачки ее расширились. Пророкотал гром, но на этот раз вспышка молнии не озарила комнату. Запахло жженым сахаром. Их обоих накрыло тенью. Игорь медленно обернулся. С потолка плотной стеной опускалась завесь из паутины. Среди множества прядей, словно из воздуха, начало формироваться нечто… нечто огромное. – Папочка, – тоненьким детским голосом хихикнула Ирина. – Папочка идет! Хлестов (III) Он так давил педали всю дорогу туда и обратно, что к концу пути поврежденная нога причиняла уже поистине адскую боль. Из-за этой боли его начало лихорадить. Хлестов весь взмок, пот заливал глаза, и все вокруг виделось в тумане, будто дождь шел не только снаружи, но и внутри машины. Хлестов спешил. Выжимал максимально высокую скорость, на которую только была способна его старенькая «шестерка». Так торопился, что упустил из виду сущий пустяк и, лишь подъезжая к дому Игоря, понял, что бензина в баке не хватит на еще один рейс. – Хлестов, твою мать, – простонал он. – Ты такой Хлестов! Дорога, ухабистая грунтовка, огибала заросший камышом пруд. Ему пришлось оставить машину на обочине у поворота и идти дальше пешком. По хляби, так что жидкая грязь быстро наполнила кроссовки и перепачкала брюки до самых колен и даже выше. Ливень осыпал лицо и плечи крупными каплями, разгулявшийся ветер качал камыши и толкал в спину. Когда Хлестов вышел, хромая, к опушке березовой рощицы, купол неба лопнул, темную завесу туч расколола сияющая электрическая трещина. Молния ударила в ближайшее дерево и словно срезала верхушку. В паре метров перед ним рухнула измочаленная стихией ветвь. У Хлестова в груди кольнуло. В свете молний он увидел громаду здания. Сейчас она походила на мрачную башню средневекового готического замка. Где-то там, внутри, его лучший друг ждал помощи. «Мы мальчишки, чувак, – мысленно обратился он к Игорю. – Постаревшие мальчишки, готовые штурмовать крепость злого Кощея». Сердце пропускало удары. Держась левой рукой за грудь («Титьки! – провизжал далекий насмешливый голос из школьных времен у него в голове. – Смотрите, какие у жиртреса титьки, как у бабы!»), Хлестов похромал прямиком по газону к черной стене дома. Хотя нет, не черной. Приближаясь, он различил окна первых двух этажей, в проемах которых покачивались, будто от ветра («Какой может быть ветер там, внутри, за стеклами? Откуда там взяться ветру?»), неплотные серые занавески. Везде одинаковые, в каждом чертовом окне. Он рванул на себя входную дверь. Та поддалась с трудом – что-то удерживало, сопротивлялось с той стороны. Белые нити, как клей, скрепляли дверь и косяк. Хлестов, тяжело отдуваясь, потянул всем весом: паутина (или что-то очень похожее на нее) истончилась и лопнула в нескольких местах. Проем стал шире. Он протиснулся в образовавшуюся щель и замер, собственной спиной запечатывая проход. Глаза несколько долгих секунд привыкали к темноте, пока Хлестов пытался восстановить сбившееся дыхание. Сердце теперь колотилось в груди с бешеной силой. Дождевая вода ручьями стекала под липкой мокрой футболкой по выпирающим бокам и брюху, заливала брюки спереди. «Обоссался! Жирдяй обоссался! – зло хохотали мальчишки у него в голове. – Зырьте, зырьте, да он в штаны наделал!» – Я не боюсь вас, – прошептал Хлестов, хотя дрожал от страха и чувствовал себя сейчас точно так же, как и тогда, на школьной площадке, униженным и беспомощным. Только теперь он знал, что Игорь ему уже не поможет. Настал его черед спасать друга. – Никого из вас не боюсь. Есть вещи, которые необходимо сделать. Припадая на левую ногу, он пошел вперед. Каждый шаг отзывался болью в голени. По разные стороны во мраке возникали двери, но где же лестница, где же, черт побери, проклятая лестница?.. Нутро дома напоминало лабиринт: пыльных коридоров, темных проходов, дверных проемов здесь, казалось, было больше, чем должно было быть, если судить о размерах здания снаружи. «Запутался, толстый? Как в паутине, как старая жирная муха в паутине!» Хлестов запаниковал. Оглянулся назад, но в темноте не увидел двери, через которую зашел. Только стены и коридоры, множество коридоров, которые разбегались во все стороны и тянулись до бесконечности. Он почувствовал запах гари, вонь, от которой ему стало еще хуже. В глазах двоилось, троилось. Лестница. Где-то здесь обязана… быть… лестница… Больная нога подвернулась, и Хлестов с протяжным жалобным стоном рухнул на пол перед очередной дверью, врезавшись в нее лбом. Та приоткрылась. Из последних сил он пополз вперед, помогая себе коленом здоровой ноги, отталкиваясь локтями. Внутри было темно, в этом чертовом доме повсюду темно. Задыхаясь, Хлестов лез на ощупь, сам не зная куда, пока не ткнулся носом в твердую, покрытую шерстью колонну. К тошнотворному духу жженого сахара добавился не менее противный запах застарелой мочи. – Кыс-кыс-кыс, – проскрипела тьма. Левая сторона груди онемела, левая рука отказала ему. Хлестов завалился на бок. Хныча в голос и кривясь от боли, разлившейся по телу, он посмотрел наверх. Над ним маячило бледное изваяние с пустыми бельмами глаз, как у античных скульптур. Правой рукой он попытался схватить старуху за толстую обтянутую рейтузами икру. Ощутил ее ладонь у себя на затылке. – Котейка, – осклабилась старуха, поглаживая его по редеющим волосам. – Ты мой котеечка, кыс-кыс. Время кушать. Что-то шевельнулось за спиной у сумасшедшей, что-то большое. Но Хлестов уже не различал деталей. Сердце остановилось. Хватка ослабла, пальцы безвольно скользнули по ноге старухи на пол. Издав еще один долгий нутряной стон, Мишка умер.Семейные ценности (и пришел Хозяин)
Игорь лежал на полу в комнате Павлика и не мог найти в себе силы, чтобы пошевелиться. Он понимал, что опутан чем-то липким, как паутиной, но не имел возможности даже поднять голову, чтобы увидеть, что именно с ним произошло. Все что он мог сделать – чуть повернуться и скосить взгляд в сторону. Тогда в поле зрения попадала Корост. Она лежала рядом, на расстоянии вытянутой руки. Нижняя часть ее лица была залита кровью, но девушка оставалась в сознании, и голубые ее глаза светились счастьем. – Ты чувствуешь? – спросила она. – Ты чувствуешь Его? Всю Его боль, все одиночество, всю Его любовь? Игорь не ответил, но сейчас он действительно ощущал какие-то посторонние, чужие эмоции. Как отголоски далекого эха, неясные чувства накатывали на него, давили сверху. Хозяин комнаты и хозяин дома, словно сотканный из прозрачных белесых ниток, беззвучно подошел к ним, опираясь на четыре длинные ноги и четыре руки, у каждой из которых было три локтя. Его тело мерцало серебром изнутри и освещало комнату. Игорь мог рассмотреть отдельные внутренние органы, подобных которым он не видел ни в одном учебнике анатомии. Ему показалось, что он узнал мозг, – у Хозяина их было несколько. А голова была одна, большая и круглая. Со множеством глаз и лиц. Когда Хозяин вращал шарообразным черепом, на Игоря по очереди смотрело то одно Его лицо, то другое. Мужские, женские… В одном из них он узнал Олю. А когда Хозяин склонил голову набок, на Игоря посмотрел его собственный сын, Павлик. – Он ведь не злой, понимаешь? – шепнула Корост. – Просто не такой, как мы. Странник, которому не повезло застрять в трещине меж двух миров, став частью и того и другого. Это… удивительно. Хозяин навис над ними, огромный, как небо, чуть покачиваясь на непропорционально длинных конечностях. От Него пахло жженым сахаром. – Восхищаешься этой тварью? – просипел Игорь. – Отцом ее называешь? – Оно и правда отец мне. Пойми – это Чудо, настоящее Чудо. Нечто настолько чуждое всему человеческому, но одновременно – настолько близкое. И ближе нам Его сделали мы сами, люди. Прислушайся к Его чувствам! Это благодаря нам Он познал боль. Это моя мать подарила Ему любовь. Это нашими глазами Он смотрит, нашими ушами слышит, измененными, трансформировавшимися, переродившимися, но – нашими. Игорь попытался поднять руку и обнаружил, что обе ладони сложены у него на груди, крест-накрест. С трудом преодолевая сопротивление липких пут, он сумел просунуть пальцы правой руки в нагрудный карман рубахи. Нащупал смятую, порванную пачку. Зацепил ногтем зажигалку. – Папочка, Ты прекрасен. – Корост похотливо застонала и, выгнув спину, раздвинула бедра. К своему ужасу и изумлению, Игорь почувствовал возбуждение – как тогда, во время осмотра квартиры. Только сейчас ему незачем было скрывать эрекцию. И где-то внутри себя он ощущал, как его желание словно вытягивают из него, как оно перетекает через паутину туда, наверх. Длинная худая нога, согнутая в паре колен, мягко опустилась на грудь женщины. Еще одна бледная конечность протиснулась ей между бедер. Корост закричала, и полупрозрачное тело Хозяина оросила кровь Его дщери. Игорь осторожно подтянул ногтем зажигалку, обхватил скользкий пластик корпуса указательным и средним пальцами. Еще чуть-чуть. Самую малость. Лишь бы кремень не отсырел! Одинокий Старый Сиделец, проведший вечность на перекрестке миров, заслуживает яркой огненной смерти в конце Своего длинного заточения. Тварь повернула голову-шар к нему. Нижние челюсти разошлись в стороны, образуя хелицеры. Игорь, наконец, стиснул зажигалку в ладони, надавил подушечкой большого пальца на колесо поджига: – Гори, сука. Сверху, из черной дыры, ему на ладонь протекла вязкая жидкая нить. Огонек зажигалки потух, а влага засохла, превратившись в то, что было так похоже на паутину, а пахло жженым сахаром. Огромное тело Хозяина переливалось золотом и серебром, когда Он пускал слюнки. – Теперь ты видишь, видишь? – раздался лихорадочный, возбужденный шепот Корост совсем близко, у самого уха. – Вижу, – смирившись с тем, что его ожидало, благоговейно выдохнул Игорь. Хозяин посмотрел на него лицом Оли. Затем Оленька подняла одну из своих четырех рук и прижала к его губам палец, заканчивающийся острым кривым когтем. – Тссс, – сказала она.Комната Павлика
Лежа в своей кроватке, Павлик не мог слышать, о чем говорят взрослые за стеной. Но, даже если бы и слышал, то все равно ничего бы не понял. Проведя полгода у бабушки с дедушкой, он еще не научился говорить, но уже узнавал родных и делал первые попытки произнести «ба». – Что ж, остаются формальности. Поставите подпись под новой редакцией договора и можете вступать во владение. Если все в порядке… – Саша, ты уверена, что мы правильно поступаем? – осторожно уточнил Василий у жены. – После того, что тут случилось с Оленькой, стоит ли держаться за эту квартиру? Александра Павловна наградила мужа взглядом, полным презрения: – Подписывай, бога ради. Хорошая квартира. И куплена в том числе на наши с тобой деньги. Ох уж эти мужчины! – Посмотрев на риелтора, она покачала головой. – А вы, Ирочка, вижу, и сами ждете маленького? Какой у вас срок, если не секрет? Ирина Корост нежно погладила себя по округлившемуся животу и улыбнулась: – Шестой месяц идет. От зорких глаз Александры Павловны не укрылось отсутствие обручального колечка на руке молодой женщины. – Мой вам совет, милочка, – назидательно изрекла она. – Будьте осторожнее с вашим мужчиной, кто бы он ни был и каким бы принцем он вам ни казался. Когда у нашей дочки приключилась беда с головушкой… – Саша, ну что ты, зачем вот это сейчас, а? – Замолкни ты, ирод окаянный! Так вот, Ирочка. Стоило нашей Оленьке попасть в лечебницу, как ее благоверный дал стрекача, поминай как звали. И на сына ведь даже наплевал, представляете? Вот приходится на старости лет воспитывать, пеленки менять. – Сочувствую вашему горю, – сказала Корост с искренней печалью в голосе. – Но мальчику тут и правда будет хорошо. Я сама здесь росла, в тиши и благодати. И переезжать никуда не собираюсь, по-моему, это просто идеальное место для маленьких детей. – Вот видишь, Вася? Да и Павлику тут привычно будет. Главное, кошку завести, чтобы все как у людей. – Замечательная идея, – кивнула Корост. – Очень правильная. Пусть у вас все будет хорошо! У вас и вашего малыша, конечно. – Ох-ох, милочка, ваши слова да Богу в уши, – умилилась Александра Павловна. – Я-то уж после того, что случилось, так расстроилась, так расстроилась, не приведи Господь. Знай, как оно повернется, ни за что не разрешила бы дочке замуж-то выходить. – Оно в любом случае того стоит, – улыбаясь своим мыслям, сказала Корост. – Не помню кто, но, кажется, кто-то когда-то сказал, что брак – это страна, по дороге куда многое теряешь… Бабушка с дедушкой украдкой переглянулись. А она, сложив ладони на круглом животе, добавила: – Но ведь приобретаешь больше. Гораздо, гораздо больше. Маленький Павлик дремал в своей кроватке и ничего из этого разговора не слышал. В комнате пахло сладостями, леденцами. По стенам бегали солнечные зайчики. В лучах света парили невесомые ниточки паутины. Павлик хотел плакать, но боялся, потому что из темного угла под потолком за ним присматривали глаза его отца. Глаз было много.Тени по воде
Это Москва. Это холодный свет возносящихся в небо башен Сити, священные булыжники Красной площади и проулок, ведущий в музей-квартиру Булгакова. Кот Бегемот, нарисованный черным фломастером на альбомном листе, ныряет в прорезь ящика «Письма для Мастера». Ты говоришь ему на прощание «мяу» – и смеешься. Твой смех был похож на звук дрожащей гитарной струны, нежный и тонкий. Хрупкий, как ты сама, струнка вот-вот лопнет, порвется. Это Москва. Это памятник Гоголю. Это выхваченные из басен Крылова сценки на берегу Патриарших. Потом еще один памятник, возле него мы в первый раз целовались, и хмурый, омытый дождем Николай Васильевич молчаливо благословлял наш союз. Вкус меди на губах. Тепло, стекающее с кончиков твоих пальцев по моим щекам, как слезы. Андреевский мост, початая бутылка шампанского, струйки сигаретного дыма. Площадка из камня, металла и стекла метрами ниже, ветер и ощущение полета – как на ковре-вертолете, как рисунок на альбомном листе, падающий в темень на дно почтового ящика. Дряхлое серое утро. Похмельная голова. Темная толща Москва-реки под нами. Я помню. Пусть зыбкие воспоминания ускользают, как тени по воде, я все-таки помню.Смерть танцует вальс,
По залу кружат, кружат пары.
Waltz, Ein, Zwei, Drei, Waltz.
Auf Wiedersehen, meine lieben Frau!
Одуванчики,
девочки и мальчики.
Глаза блестят, ла-ла, ла-ла.
Но это яд, ла-ла, ла-ла.
Не прячь музыку – она опиум
Для никого, только для нас.
Давай вечером умрем весело,
Поиграем в декаданс.
Дворник, милый дворник,
Подмети меня с мостовой…

От автора
Ну, здравствуй, читатель. Полагаю, мы уже немного знакомы. Есть мнение, что о писателе лучше всего говорят его произведения. Ты, скорее всего, не бывал у меня на странице «ВКонтакте», но знаешь ее владельца получше, чем некоторые из его друзей и подписчиков. Потому что литература – это первая в истории социальная сеть. Благодаря книгам мы, задолго до появления «Фейсбука» и «Одноклассников», научились узнавать мысли и чувства других людей, даже если эти люди жили далеко-далеко, на другом конце света, а то и в другую эпоху. В каком-то смысле ты, прочитав сочиненные мной истории, теперь знаешь меня лучше, чем я сам. Надеюсь, это было приятное знакомство. Если же нет – прости и прощай, ведь ты уже вряд ли явишься за добавкой. Прошу прощения, если эти рассказы и повести оставили тебя равнодушным. Но не стану извиняться, если на время чтения тебе пришлось покинуть свою «зону комфорта», – эта книга называется по-другому, так что я, как ни крути, был с тобой честен. И сейчас, раз уж мы завели знакомство, я постараюсь честно ответить на те вопросы, которые могли у тебя возникнуть во время чтения. Это уже не страшно, так что устраивайся поудобнее. Налей то, что ты любишь выпить, включай любимую музыку, укрой ноги пледом. Поговорим о том, что нас объединяет. О страхе. Поговорим о нем как о чем-то таком, что нас, быть может, даже раздражает, как популярные сериалы или дурацкие ролики на YouTube, но без чего, как без «Ходячих мертвецов» или «Битвы экстрасенсов», этот мир был бы другим. О страхе как неотъемлемой части массового сознания. Не секрет, что страх используют в рекламе. Многие из нас и думать не думали бы о запахе изо рта и кислотно-щелочном балансе, если бы не назойливая реклама. Люди не гонялись бы за брендами, если бы не скрытый, навязанный им страх оказаться «вне тренда». А политики? Те, кто играет на порожденных их собственной безответственной риторикой фобиях и устраивает по всему миру войны и революции? О, эти истинные короли страха, как никто, умеют использовать массовую истерию в своих мутных целях. Но к черту политиканов и коммерсантов, речь не об этих жадных жирных жабах. Есть особая категория людей, к которой, читатель, надеюсь, принадлежим мы оба. Те, кто страхом наслаждается. Если угодно, можем назвать это сектой или даже (учитывая популярность темы) религией. Свидетели Хоррора – пусть так. В этом нет ничего дурного, ведь наша вера, наша любовь к страшному сугубо конструктивна. Одних она поощряет творить, других – читать, смотреть или слушать. Попутно и первые и вторые не только получают удовольствие, но и развиваются, познавая нечто новое. Начинают думать о чем-то еще, кроме того, что «ух, вот щас было круто, аж кирпичей наложил». Поскольку хоррор – это не аттракцион вроде американских горок. Точнее – не только аттракцион. Это еще и жанр искусства, часть общечеловеческой культуры. В чем отличие литературы от любого другого сорта развлечений, мы еще поговорим. Сходство же условных «американских горок» и творчества в том, что страх, как и идеи, движут массами. Ты спросишь, откуда берутся идеи. Все просто – мы их воруем у вечности. Платон писал об идеях как о чем-то, что существует в высших сферах. Представь себе толстячка в запотевших очках, карабкающегося по приставной лестнице в небо с мешком для идей за плечом. В учебниках по культурологии пишут про бассейн мифов, из которого вышло все современное искусство, подобно тому, как жизнь вышла из мирового океана. Наш толстячок то и дело подбегает к этому водоему, чтобы наполнить ведра, – представил? Так вот, тот неуклюжий очкарик, тот неумелый воришка, что ползает по лестнице или носится, как собачонка, вокруг бассейна, – это я, автор. Нас таких много, и мы все черпаем из одного источника, но, если ты приметил сходство моего рассказа «Гроб на колесах» с повестью «81 миля» Стивена Кинга, то знай – я свою историю написал раньше. Дедушка Стивен уже потом подгреб с экскаватором, чтобы набрать полный ковш отличных идей. Ему можно. Идея страха, как и идея любви, движет людьми испокон веков. Искусство пугать – из древнейших. Мы все чего-то боимся. Даже самые смелые из нас, те, кто, казалось бы, не боится ничего, они ведь на самом деле просто умеют перебарывать свой страх – в этом их секрет. Страх объединяет, но не страхом единым. Я из тех, кто считает, что любая хорошая история (неважно, к какому жанру она относится) всегда имеет смысл и несет какой-то моральный посыл. Говорит о самом рассказчике, о нас с вами – и о чем-то еще. Причем совсем не обязательно писатель осо знает, в чем «соль» его рассказа, поскольку многие авторы – едва ли не большинство – сочиняют и пишут по наитию. Слова нанизываются на нить повествования, как бисер, и иногда, если звезды сойдутся, получается что-то действительно прекрасное – так бывает. Этот чудесный момент озарения, когда понимаешь, что у тебя получается что-то стоящее, – его испытывал, должно быть, каждый, кто пробовал силы в сочинительстве и добивался какого-то успеха на этом поприще. Не бывает плохих жанров – бывают плохие истории. Как отличить хорошую историю от плохой? Этого я тебе не скажу. Не потому, что не знаю ответа, а потому, что все мы разные, у нас разные вкусы и предпочтения, и ответ для каждого будет свой. Черт подери, я понятия не имею почему, но терпеть не могу грибы. Для меня блюда из грибов совершенно несъедобны, и в детстве я однажды проблевался при всем честном народе прямо на нарядно украшенный столик в кафешке, когда мать заставила меня съесть кусочек пиццы с грибами. Для меня грибы – это не еда ровно так же, как книжки Дарьи Донцовой или Э. Л. Джеймс – не литература. Но ты, читатель, запросто можешь быть иного мнения на сей счет. Так что я не собираюсь убеждать тебя в том, что сочиняю хорошие истории, а кто-то другой – плохие. В зависимости от того, кто эти сочинения читает, все может оказаться с точностью до наоборот. Впрочем, насчет одной отличной истории я уверен. Вот как все обстоит, чтоб ты знал. Я сижу сейчас перед монитором, за окном уже ночь, накрапывает мелкий дождик. Рядом, в соседней комнате, в нашей постели спят моя жена и наш кот Яшка. Пока они спали, я редактировал один из последних рассказов в этой книге, но притомился (каждодневная редактура собственных текстов в течение месяца – адски утомительное занятие) и решил сделать перерыв. Чтобы отвлечься и отдохнуть, я взялся, ха-ха, редактировать уже написанный черновик послесловия. На моей банковской карте осталось меньше десяти тысяч рублей, за последние пару месяцев я стал больше курить и набрал (еще) пяток лишних кило. Завтра мне опять на работу, а впереди масса иных дел, и, в общем, в свои без малого тридцать четыре я не достиг каких-то выдающихся успехов, не сорвал джекпот в лотерее жизни и сам прекрасно это понимаю. Но к одной большой истории я все-таки причастен. Так вышло, что за последние годы я выступил составителем целого ряда, как говорят, довольно неплохих жанровых антологий – в стране, где хоррор долгое время считался низким, плохим и просто неприемлемым для местных авторов жанром. А до этого в течение многих лет сочинял страшные рассказы и писал статьи, вел (да и сейчас веду) несколько известных хоррор-сайтов. Таким образом, мне посчастливилось приложить руку к созданию по меньшей мере одной совершенно великолепной, шикарной истории, истории с большой буквы, настоящего шедевра – к Истории становления русскоязычной литературы ужасов. Сюжет ее драматичен и полон перипетий, в нем нашлось место даже настоящей трагедии, каковой я считаю смерть одного из самых талантливых молодых наших авторов, Владислава Женевского, но в итоге все заканчивается хорошо. Хотя почему заканчивается? Начинается! Мы всё еще в начале пути, как мне кажется, так что я и мой кот смотрим в будущее с одинаковым оптимизмом. Главное, чтобы меня и мой любимый жанр не ждали сюрпризы вроде кастрации, которая предстоит Яшке. Еще мне кажется, что я знаю, как понять, в чем суть той или иной истории. Я называю это «правилом опрощения». Если ты можешь ответить себе на вопрос «о чем эта история» как-то иначе, чем просто пересказав сюжет, и если ты можешь при этом ответить достаточно просто, то, скорее всего, ответ верный. И, вероятно, история хороша. Даже большой и сложный сюжет, если история хороша, все равно сведется к простому ответу, разве что таких ответов может быть много. Например, рассказ «Снежки». Нехитрый его сюжет повествует о маленьком мальчике, которого бабушка держит взаперти, потому что в мире случилась такая банальная вещь, как зомби-апокалипсис. И в конце, после смерти самой бабули, он убегает на улицу, чтобы поиграть в снежки со своими уже мертвыми друзьями. Всё. Но если попробовать как можно проще сказать, о чем эта история, то… Она о том, как ребенок идет на верную гибель. Как наши желания и мечты приводят нас к печальному итогу. Как молодость и старость по-разному воспринимают жизнь и смерть. Много простых, но по сути верных ответов, порожденных самой историей, – по крайней мере, мне приятно думать, что это так. Не всякую хорошую историю можно назвать хорошей литературой, но всякая хорошая литература имеет в основе примечательную историю. Правило опрощения здорово работает, если применять его к отдельным текстам. Немного выше я помянул Стивена Кинга (а как ты хотел, читатель? Это имя встречается в каждом втором послесловии к любой хоррор-книге, изданной на любом языке в любой части света за последние «-надцать» лет). Так вот, для большинства произведений Кинга мы легко можем применить правило опрощения, чтобы ответить на вопрос, о чем они. Причем ответы будут достаточно разными в зависимости от самих историй. А вот триллеры Дина Кунца обычно (да простят меня поклонники его таланта) лишены подобной глубины, так что ответ на вопрос «о чем это» применительно к ним зачастую сводится к одному и тому же. К чему-то вроде: «О том, как мужчина и женщина, полюбив друг друга, а заодно и золотистого ретривера, справляются с разного рода неприятностями». Я думаю, правило может работать и для творчества того или иного писателя в целом. О чем пишет Кинг? В основном о людях – хороших и плохих. Об их пороках, червоточинах в душе, о психологии. О чем пишет Кунц? О приключениях, столкновении с опасностью и ее преодолении… и о ретриверах, куда ж без них. Мне кажется, в этом и кроется главное различие двух видных авторов. И если я прав, то метод опрощения работает. Но можно ли его применить не к отдельным авторам и произведениям, а к жанру в целом? Когда издатель предложил развить авторскую линейку в рамках серии «Самая страшная книга» сборником моих собственных произведений, я увидел в этом прежде всего возможность. Спасибо, конечно, издателю, но сейчас я обращаюсь не к нему, так что позволю себе обождать с официальными благодарностями до финала, где им самое место. Работа над «Зоной ужаса» подарила мне возможность еще раз перечитать, тщательно отредактировать и при необходимости дополнить те рассказы, которые я писал в течение последних десяти (а то и больше) лет. Это был шанс взглянуть на собственные сочинения со стороны, лишний раз спросить себя «о чем это». Подчас ответы были весьма неожиданными: скажем, повесть «Комната Павлика», к моему изумлению, оказалась историей о том, что такое любовь к семье и какой она бывает. Не знаю, как тебе, читатель, итоги моих трудов, но для меня самого это был чертовски полезный, интересный, пусть порой и мучительный опыт. Угу, редактирование подобно длительной пытке. Творчество вообще сродни садомазо – одновременно и приятно, и болезненно. Приступая к написанию послесловия, я также изначально решил совместить приятное с полезным (и уже догадываясь, что будет трудно). Я всегда любил пораскинуть мозгами над чем-то, а несколько лет назад, морально готовясь к штурму издательств с первой «Самой страшной книгой», постарался проанализировать все, что мне известно о хорроре, чтобы понять, в чем суть не отдельных жанровых произведений, а жанра вообще. В итоге была написана серия даже не статей, а скорее заметок, в которых я излагал свои мысли – как сейчас вижу, довольно сумбурно и не слишком изящно в литературном плане. Так что, когда передо мной замаячила перспектива издания собственного сборника, я воскликнул про себя: «Ого! Да ведь я могу использовать послесловие для того, чтобы более сжато, четко и внятно проартикулировать то, о чем писал несколько месяцев! Да еще и на бумаге, в печати, а не на сайте или в блоге». Естественно, я ухватился за эту возможность обеими руками. Что такое хоррор? О чем это?.. Да все о том же, с чего и начался наш разговор. О страхе. Мы, Свидетели Хоррора, адепты Лавкрафта и Кинга, любим ужасы потому, что нам нравится пугаться. Как кому-то нравятся «разговоры за жизнь», а кому-то доставляет эстетическое удовольствие арт-хаус и «элитарное» искусство. Кто-то зачитывается высокоинтеллектуальной прозой, а кто-то балдеет от палп-фикшен. Один играет в футбольный симулятор на PlayStation, а другой гоняет мяч у себя во дворе. В любом случае речь идет прежде всего о получении удовольствия, а не о чем-либо еще. На самом деле одно не противоречит другому, так что тебе по сердцу может быть и первое, и второе, и еще что-то третье. Значит, от литературы ужасов мы ждем вполне определенных эмоций. Мы ждем, что нас будут пугать. Поэтому жанр и зовется horror – страх, ужас. Знаешь, что такое жанр как категория массового, популярного искусства? Это ярлык, дорожный указатель для тебя, читателя, – не больше, но и не меньше. Если ты хочешь посмеяться, то смотришь комедию или слушаешь анекдоты. Когда же тебе хочется развлечь себя старым недобрым страхом – идешь в парк аттракционов на американские горки или покупаешь билет в кино на свежий фильм Джеймса Вана. Если же в голову тебе взбрело почитать что-то страшное, то ищешь не иронический детектив или любовный роман, а хоррор, литературу ужасов. Все кажется простым, но есть нюансы, так как (та-дам! возвращаемся к этой теме) искусство и аттракцион – это не одно и то же. Да, и то и другое доставляет людям наслаждение, главным образом развлекая их. Но в лабиринте кривых зеркал мы гарантированно увидим искаженные отражения, а в литературе или кино такого рода гарантий никто не дает. Помнишь? Идеи нематериальны, в отличие от механизмов или строений. Этим искусство и отличается от аттракционов – оно сложнее. Страхи тоже нематериальны. Хоррор – не то, что тебя обязательно должно напугать. Хоррор – то, что попробует сделать это. Многие люди считают (они ошибаются), что хоррор – это поджанр, разновидность фантастики. Это неправда, хотя фантастика и ужасы не чужды друг другу. В той же «Комнате Павлика» я использую определенное научно-фантастическое допущение: что есть некие иные реальности, отличные от нашей, и что в результате неких обстоятельств эти реальности могут пересекаться. В «Ампутации» пробую играть с понятием «фантомные боли», примеряя его к человеческой душе, – и это тоже фантдопущение, куда большее, нежели существование дьявола и Бога. А в «Стране тараканов» описываю нашествие насекомых, приведшее к тараканьему апокалипсису в районе Митино. Но, допустим, в «Благословенной тишине» нет ровным счетом ничего фантастического или хотя бы мистического – и сдается мне, что от этого рассказ стал только страшнее. Итак, хоррор – не фантастика. Но почему же тогда возникает путаница? Потому, что люди ошибочно понимают сам жанр. Фантдопущение – достаточно сложный для восприятия термин. Куда проще обозначить для себя фантастику как литературу про машины времени, умных роботов и полеты к далеким звездам. Тем более что в случае с фантастикой ты не ошибешься, ведь все это: путешествия во времени, киборги, инопланетяне и прочее – само по себе является тем самым фантдопущением. Велик соблазн и другие жанры определять схожим (ошибочным) образом. Если роботы и НЛО – это фантастика, то драконы и маги – это фэнтези, а вампиры и оборотни – хоррор. А поскольку драконов и оборотней в реальности не существует, то, делают вывод многие, фэнтези и хоррор – это разновидность фантастики. Но это не так. Хоррору не нужно фантдопущение, чтобы пугать. Хоррору нужно просто пугать – и только тогда он будет собой. В таких фильмах, как «Техасская резня бензопилой», «Челюсти» или «Пленки из Пукипси», нет фантастики, но у тебя же не повернется язык отказать им в праве считаться фильмами ужасов? В моих историях «Благословенная тишина», «Остановка у кладбища» и «Что тебе снится?» элемент фантастики отсутствует, но я все-таки тешу себя мыслью, что кого-то они способны напугать, и убежден в том, что пишу хоррор. Мы, Свидетели Хоррора, желаем, чтобы нас пугали. Но это особый вид страха – косвенный. Он отличается от тех малоприятных эмоций, что ты испытываешь, рискуя чем-либо всерьез или переживая за жизнь и здоровье своих близких. Поскольку хоррор – это искусство, то страх в нем не больше чем отражение наших настоящих фобий. Но отражение в зеркале, как бы оно ни было похоже на тебя, это все равно не ты. Картинка, фотография, копия – не оригинал. Когда ты влезаешь в кредит и не можешь его вовремя выплатить и тебе грозит реальный срок и огромные штрафы – это не хоррор, а гребаный ад. Когда ты читаешь о человеке, который задолжал Сатане и идет на убийство, чтобы спасти свою ничтожную душу, – это уже хоррор. Ты сочувствуешь персонажу и понимаешь его страх, его отчаяние, ужасаешься его грехопадению. Но он – это не ты, он в лучшем случае лишь твое альтер эго, протагонист. Тот, с кем ты можешь себя в какой-то мере ассоциировать. Он – твое отражение, а его страх – художественное отражение твоей боязни. Хоррор – это то, что нас пугает (пробует напугать) в художественной форме. Я обещал ответить тебе на некоторые вопросы, а сейчас, должно быть, ты хочешь спросить, каким боком к хоррору, после всего сказанного, относятся такие рассказы, как «Ампутация» или «Корректура», а может, и какие-то другие из этой книги, которые тебя ни капли не напугали, а лишь позабавили. Черт, мне самому они кажутся довольно забавными. Я, признаться, включил их в сборник для того, чтобы ты, читатель, мог в определенный момент расслабиться, – естественно, чтобы потом напасть на тебя неожиданно из-за угла и вывалить тебе на голову пытки, насилие и запредельные кошмары историй вроде «Моста» и «Благословенной тишины». Но тем не менее эти рассказы я тоже считаю литературой ужасов. Потому что хоррор, как и сам страх, бывает разным. А еще потому, что я ценю черный юмор и обожаю те его образцы, что представлены в историях Роберта Блоха, Амброза Бирса или, допустим, в сериале «Байки из склепа». Хоррор должен пугать, но не может пугать всех и каждого. Если уж сама литература для разных читателей хороша и плоха по-разному, в зависимости от личных вкусов и предпочтений, то литературу ужасов мы тем более воспринимаем индивидуально. Не знаю, как ты, читатель, а я в детстве боялся монстра, жившего у меня под кроватью. Но теперь мне уже далеко за тридцать, и единственное, что я опасаюсь там найти, – это собственные грязные носки. С возрастом наша восприимчивость к пугающему не то чтобы ослабевает – она меняется. Мы перестаем бояться троллей (в рассказе «Мост» у меня есть такой, и это вовсе не тролль из Интернета) и бук (одного ты мог встретить в истории под названием «Бабай»), но зато нас пугают люди и то, на что они способны (в обоих названных рассказах главный ужас как раз не в чудищах, а в людях скрывается). В фильме «Чужой» (замечательный, к слову, пример хоррора, который рядится под фантастику) одних зрителей пугает паукообразная тварь-лицехват, а других – то, что эта тварь делает с одним из героев, мужчиной. По сути ведь она его орально насилует, более того – оплодотворяет. Потом – о господи Боже! – еще и «роды» происходят, в результате которых на свет является еще больший монстр, а тот несчастный парень в муках умирает. Мне кажется, чудовищный символизм, подтекст этих сцен – изнасилование в извращенной форме, противоестественное зачатие и последующие смертельные роды – именно то, что делает «Чужой» нестареющей классикой жанра, способной напугать и маленького ребенка, и взрослого дядю. О, как много ужасающих ответов можно найти, пытаясь применить правило опрощения и понять «о чем» этот фильм! Сам страх – это не что-то одно, четко определяемое. Эмоция страха многообразна. Успех антологий вроде «Самой страшной книги» и «13 ведьм», вероятно, связан в том числе и с тем, что истории, в них представленные, написаны разными авторами и пугают по-разному, так что каждый находит в них что-то свое. «Зона ужаса» – не антология, а авторский сборник (не заморачивайся, если не видишь разницу, она несущественна), но я пытался добиться в ней того же эффекта: чтобы каждый – и конкретно ты, читатель, тоже – нашел в ней себе страх по вкусу. Здесь представлены разные виды страха, как я их чувствую и понимаю. Мне нравится образ, при помощи которого поясняют разницу между понятиями horror и terror за рубежом. Представь себе темный мрачный сарай, в который тебе зачем-то понадобилось войти. Что ждет внутри? Очень может быть, там скрывается безумец с бензопилой или топором. То, что ты ощущаешь, «стоя» возле этого «сарая», – это страх. А теперь представь, что двери распахиваются и на тебя несется огромный маньяк в перепачканном кровью фартуке, бензопила в его руках громко ревет, а лицо скрыто маской из человеческой кожи. Это уже не страх – это чистый ужас. А есть еще саспенс. Когда у тебя в общем-то нет никаких причин заходить в тот самый сарай, но ты видишь его, ты знаешь, что вот он, рядом, и подозреваешь, что, рано или поздно, заглянуть туда придется. Вот три вида эмоции страха, но на самом деле их существует больше, гораздо больше. Скажем, в «Стране тараканов» я напропалую использовал страх-отвращение. Некоторые в принципе его не признают, так и говорят, прочитав что-нибудь: «ну это не страшно – это просто мерзко». Подростком мне как-то довелось провести ночь в комнате, по стенам которой ползали крупные «земляные» тараканы. Посреди ночи я проснулся от того, что почувствовал, как одна из этих тварей ползает у меня по лицу… Такого ужаса, как в тот момент, я больше не испытывал никогда в жизни. Хотя то был именно страх-отвращение. А еще бывают страх-опасение, страх-обре ченность, страх-благоговение… Хоррору интересны все виды страха, и я старался вести тебя, читатель, темными коридорами через лабиринт, минуя секцию необъяснимых боязней и комнату ночных кошмаров, прямиком туда, в зону Его Величества Ужаса. Развлекая тебя по пути, как водится, разговорами о чем-то еще. Но вот мы с тобой уже покидаем «Зону ужаса». Всё самое страшное осталось далеко позади, включая и это длинное послесловие. Камера замирает, выхватив шикарный кадр: кровавая луна на фоне фиолетово-черного неба. Наступает время финальных титров. Эта книга появилась благодаря нескольким людям, которых я хотел бы упомянуть, поскольку искренне их люблю и всегда буду ценить и уважать. Двое из них уже мертвы – это мой отец и мой дед по материнской линии. Отец погиб, когда мне было двенадцать, но именно он дал мне первые уроки по части писательства, которые помогают мне в работе и сейчас. Я в то время писал карандашами и ручкой в простых тетрадках, и меня уже тянуло к историям о страшном. Как-то я надумал писать триллер о серийном убийце, поисками которого занимался взрослый мужчина-милиционер, а в итоге сам сыщик и должен был оказаться маньяком. Помню, я дал отцу почитать первые наброски, где описывалось типичное утро моего героя. Папка сказал: «В этом что-то есть, но, слушай, если уж ты пишешь про то, чем взрослый мужик занимается по утрам, то имей в виду, что взрослые должны бриться». Отец научил меня обращать внимание на детали и следить за логикой повествования. Из меня никогда ничего путного бы не вышло, если бы не моя мать, которая, по счастью, жива и которой я желаю еще многих, многих лет жизни. Я начал сочинять рассказы лет в восемь, как только научился толком читать и писать, и мама, как водится, была моим первым восхищенным читателем. Всем нам, писакам, нужны такие, по крайней мере в начале пути. Потом отсутствие критики становится вредно (и, знаете, я до сих пор чуточку зол на мать за тот случай с грибами в пицце), но в начале всегда нужен кто-то, кто похвалит и воодушевит. Мама всегда поддерживала меня и никогда не корила за совершаемые мной ошибки. Она, в конце концов, заразила меня любовью к литературе – и к литературе ужасов в том числе, потому что зачитывалась ею сама. Возможно, есть писатели, которые росли не в читающих семьях, но я точно не из таких. Спасибо, мама. После смерти отца мы переехали с ней к ее родителям. И я не могу не сказать о своем дедушке – человеке, который на несколько лет заменил мне отца, который купил для меня печатную машинку и, кажется, переживал, поступлю я в университет или нет, больше, чем переживал по этому поводу я сам. Дед скончался нежданно-негаданно, когда мне было восемнадцать, и брат матери, мой дядька, а по совместительству крестный, сказал на поминках, что теперь я тот мужчина, который обязан заботиться о бабушке и о маме. Я стараюсь. В том числе стараюсь и писать «по-взрослому», всерьез, в память о деде. Он говорил, что все писатели немного сумасшедшие. Иногда мне кажется, что дед был прав и то, чем я занимаюсь, это безумие. Тем не менее я считаю себя счастливым человеком. Потому что мои мечты исполняются. С детства я мечтал стать писателем, а теперь могу им считаться. Вы, те, кому не нравится, как и что я пишу, – мы ведь уже давно распрощались, не так ли?.. Плохой или хороший, но я – писатель, детская моя мечта стала явью. Повзрослев, я понял, что есть еще кое-что, о чем я мечтаю едва ли не больше всего на свете: о взаимной любви. Любовь – вообще прекрасное чувство, но лишь взаимная любовь дарит ощущение того спокойного семейного счастья, которое рано или поздно становится необходимо каждому. За то, что эта, вторая главная в моей жизни мечта, сбылась, я благодарен своей жене Ирине. Мы с ней оба – Свидетели Хоррора, и она – мой первый помощник в том, что касается редактуры моих текстов. Более того: идеи таких историй из «Зоны ужаса», как «Что тебе снится?» и «Комната Павлика», мне подарила именно она. Ну как подарила… Я их у нее стибрил. Помнишь – мы, писаки, все по чуть-чуть воруем идеи и не всегда воруем у вечности. Иногда их нам подбрасывает сама жизнь… либо кто-то из знакомых. Конечно же, я хотел бы сказать «большое спасибо» замечательным людям из редакции «Астрель-СПб» Ирине Епифановой и Александру Прокоповичу. Труд редактора гораздо менее приятен, чем труд автора, – последних хвалят поклонники (которые найдутся у любого графомана), первых не хвалит никто и никогда. Ирине и Александру мы все, Свидетели Хоррора, обязаны уже хотя бы тем, что в свое время они поверили в нас, в наш жанр и в то, что литература ужасов на русском языке вообще может быть востребована. Если вас, ребята, распнут за издание этой книги, то я не стану примерять терновый венец, но знайте, что казнь эта была предначертана мне, ибо «Зона ужаса» – исключительно мой грех. Если же вдруг вместо терний чело моё украсят лавром – я приму его как должное, но на самом деле это будет ваша заслуга. Наконец, я хотел бы выразить благодарность самому главному и важному человеку. Тебе, читатель. Всем вам: коллеги, писатели, фэны – тем, кто все эти годы был со мной в одной секте, кто разделял мою веру в Хоррор. Аллилуйя, братья и сестры! Славьтесь! И больше вам страхов, хороших и разных.Александр Подольский Колумбарий
© Александр Подольский, текст, 2023 © Валерий Петелин, обложка, 2023 © ООО «Издательство АСТ», 2023* * *
День рождения Машеньки
Если бы той ночью кто-нибудь оказался на лесной полянке, он бы увидел очень странную картину. На траве под высокой березой сидела маленькая девочка. Две рыжие косички, легкое платьице, гольфы и сандалики. В таком виде хорошо гулять жарким летним днем, играть с подругами в куклы во дворе и бегать на речку бросать камушки. Но в ночном лесу нужна совсем другая одежда. Да и вообще ночной лес – не место для одиноких маленьких девочек. Девочка едва дышала, в распахнутых глазах отражался лунный свет. Но самым странным было то, что в надутом животе девочки что-то ворочалось, будто устраивалось поудобнее. А изо рта ее свисал змеиный хвост.Глеб сделал затяжку, но тут же закашлялся и передал косячок Михею. Пробормотал недовольно: – Что это за отрава? – Нормальная отрава. Закумаривает только в путь. – Да ну на хер. Ты где ее взял? – В надежном месте, не ссы. Если понравится, еще притащу. Глеб допил минералку и швырнул бутылку в урну. Они с Михеем стояли в специально оборудованной курилке позади заправочной станции. На дворе – второй час ночи, вокруг – колыхающееся море деревьев. Машин тут и днем было немного, а сейчас и подавно. Можно расслабиться. Главное, принять бензовоз утром, а на остальное плевать. Кому приспичит заправиться в их лесной глуши, сами шланг вставят, не маленькие. А уж без копеечных чаевых Глеб как-нибудь обойдется. – На, дерни еще, – сказал Михей, возвращая другу косячок и доставая из рабочего комбинезона шоколадку, спертую из торгового зала. – Крутая штука, поверь специалисту. Просто распробовать надо. Глеб фыркнул, но все же затянулся. И на этот раз пошло действительно получше. – Надеюсь, от этой заразы на измену не пробьет? Я так-то подумывал еще к Маринке пристать, скучно ей там на кассе сидеть небось. – Нашелся приставальщик. Иди вон к бабе Лиде лучше пристань, она тебе сразу взаимностью ответит. Ну или шваброй по хребтине даст. Глеб прыснул и толкнул Михея в плечо. Тот тоже смеялся, но бесшумно – стараясь не подавиться шоколадкой. Его глаза в ярком свете фонаря были красными, как у вампира. Вдруг со стороны леса раздался громкий треск – такой, будто разом повалило несколько деревьев. Глеб повернул голову на шум и увидел над кронами берез вдалеке огромное пятно. – Херасе… Землю тряхнуло, будто сдвинулись тектонические плиты. Пятно быстро приближалось, росло, обретало контуры, пока не заслонило собой лес. Над деревьями вился гигантский крысиный хвост, воздух распарывали когти-лезвия. Покрытое черной шкурой туловище венчала голова ящерицы, упирающаяся прямо в небо, прямо в чертовы звезды. – Ты это видишь? Чудовище стояло на двух громадных птичьих лапах. Иглы на его спине напоминали шпили небоскребов, из пасти вылезал раздвоенный язык. Михей выдавил из себя что-то неразборчивое, и исполинская тварь ворвалась на территорию заправки, сминая линию колонок, точно куличики в детской песочнице. Она не атаковала, а будто металась в панике, неуклюже ломая все, что встречала на пути. В лепешку превратилась пара оставленных здесь машин, лопнули закопанные в землю цистерны с бензином. По асфальту потекло топливо, запахло едким. – Ты видишь? – повторил Глеб, не в силах отвести взгляд от чудовища, не в силах пошевелиться. Михей рядом превратился в такого же истукана. Тварь снесла хвостом крышу магазинчика, попятилась к дороге, срывая высоковольтные провода. По асфальту скользнули искры, и бензиновая речушка вспыхнула, озаряя ночь ярким пламенем. Огонь перебросился на шкуру существа, оно заревело, упало на четвереньки и кинулось вперед. Прямо на двух заправщиков. Перед тем как Глеба размазало по асфальту, он успел увидеть глаза. Человеческие глаза на морде ящерицы.
Девочку звали Машенька, и у нее был день рождения. Шестилетие дочурки родители решили отметить на природе и устроили шашлыки. Гостей пригласили немного: чтобы влезли в две машины. Машенькины друзья не влезли – а может, их и не собирались звать, – поэтому на празднике были только взрослые. Но Машенька не грустила, а чувствовала себя по-настоящему счастливой: все ее поздравляли, играли с ней в бадминтон, дарили подарки в красивых коробочках, угощали конфетами, вкусным-вкусным мясом и газировкой. Только вот продлилось это счастье недолго. – Па, смотри какие ягодки я нашла! – сказала Машенька, подбежав к раскладному столу, за которым сидели гости. – Доча, давай потом. Видишь, папа занят. Папа действительно был занят: он постоянно курил, наполнял стаканы и ходил к машине за новыми бутылками, которые охлаждались в пластиковом ведре с водой. – Мам, давай в прятки сыграем! – предложила Машенька, и мама вроде бы согласилась, вручив имениннице большой бутерброд и пообещав, что вот-вот начнет считать. Но, слопав подсохшие на солнце хлеб с колбасой, выглянув на полянку из-за дерева и услышав смех гостей, Машенька поняла, что ее никто не ищет. Всем было весело и без нее. Просидев в укрытии полчаса, Машенька вновь вышла к месту празднования. Села с краю стола, надув губы и всем своим видом показывая, как сильно обижена. Казалось, вот-вот родители спросят, где она пропадала, обнимут, нальют сока, предложат интересную игру… Но взрослые ее не замечали. – Мам, мне скучно! Мама вздохнула, нехотя повернула голову и сказала: – Родная, ты ведь не маленькая уже, займи себя чем-нибудь, ну. Хочешь, на планшете поиграй, он в машине лежит. – Не хочу я планшет! Я домой хочу! – Так, – вмешался в разговор папа, – ну-ка, без истерик мне тут. А то по жопе получишь. От обиды у Машеньки задрожали губы. В глазах защекотало. – А я, а я тогда… в лес уйду! И умру! И больше меня не увидите! Папа встал с бревна, которое использовали вместо скамейки, подошел к Машеньке и взял ее за ухо. Очень больно взял. После застолий папа часто делал больно, хватая всех медвежьими своими лапами и не рассчитывая силу. – Я тебе что сказал?! Хватит капризничать, а то в машине закрою! – Ну, пап… – Цыц. Веди себя нормально, не позорь нас с мамой перед гостями. Понятно тебе? Машенька быстро-быстро закивала, стряхивая слезы с длинных ресниц, и папа ее отпустил. Она постояла так еще пару минут, надеясь, что подойдет мама, пожалеет, заступится. Но мама только покачала головой и вернулась к разговору с тетей Светой. Тогда Машенька утерла нос и медленно зашагала в сторону леса.
Алексеич выбрался из палатки по нужде. Поежился и сразу накинул штормовку – в теплом спальнике было куда комфортнее. Поверхность реки серебрилась в лунном свете, от воды тянуло холодом. Журчание волн прибавляло желания сделать свои дела как можно скорее. Помочившись на куст дикой малины, Алексеич подошел к берегу. Пригляделся: на месте ли сети? Он собирался проверить улов утром и двинуться ниже по реке. Может, хоть там рыба будет, а то такими темпами скоро придется использовать старый добрый динамит. Над деревьями уже занимался рассвет, и Алексеич отметил для себя, что спать осталось всего ничего. А потом до него дошло, что солнце встает с другой стороны. Источник света был живой – он пер сквозь лес, в небо от него поднимался черный дым. Огонь пожирал нечто огромное, жуткое. Алексеич влетел в палатку и схватил ружье. Руки тряслись, не слушались. В ноздри бил запах горелого мяса. В палатку потекла вода, и ноги обожгло холодом – это река вышла из берегов. Он вылез наружу и уставился на встающего из воды монстра. На кошмарную нелепую тварь, будто сшитую из разных зверей. Огня больше не было, чудовище распрямлялось во весь свой исполинский рост. Вонь паленой шкуры валила с ног. Едва дыша, Алексеич поднял ружье и выстрелил – как придется, не целясь, ведь промахнуться было невозможно. Чудовище шагнуло к нему, и земля вздрогнула. Шкура на животе монстра разошлась, выпуская щупальца, будто кишки из вспоротого брюха. Змеящиеся отростки оплели Алексеича, сдавили, и он с ужасом понял, что это гигантские черви. Ничего другого Алексеич понять не успел, потому что кольца сомкнулись, превратив его в кровавую кашу.
Конечно, Машенька не собиралась исполнять угрозу, просто хотела проучить родителей. Пусть поволнуются. Может, в следующий раз не будут портить ей день рождения. Она углублялась в лес, разглядывая красивые цветы и подсвеченные солнцем паутинки, которые висели над головой. Машенька то и дело оборачивалась: видно ли еще полянку? Слышны ли голоса? Может, ее уже начали искать? Машенька представила, как папа с мамой бегают по лесу и зовут ее, кричат испуганно – да так, что слышно даже в городе. От этой картины сразу сделалось веселее. Но когда солнце свалилось за горизонт, веселье прошло. Темнота рухнула на лес в один миг – будто на небе лампочка перегорела. Усилился ветер, раскачивая верхушки деревьев. Похолодало. Машенька решила, что пора возвращаться. Мириться с родителями и ехать домой, где ждала теплая кровать с любимым плюшевым медведем. Не без труда, но полянку она отыскала, вот только сейчас там никого не было. Ни мамы с папой, ни гостей, ни машин. Лишь мусор, оставшийся после праздничного застолья. Машенька побежала по следам колес в траве, но быстро потеряла их в сгустившемся мраке. Лес не хотел выпускать жертву. – Мам?.. – едва слышно позвала Машенька и испугалась собственного голоса. Вдалеке захлопали крылья, кто-то зашуршал в кустах. Стали оживать тени. Машенька прижалась спиной к березе, тревожно озираясь вокруг и прислушиваясь ккаждому шороху. Не веря, что ее могли тут забыть. – Мам? Пап?.. По щекам катились слезы. Машенька хотела докричаться до родителей, попросить прощения, но боялась привлечь тех, кто проснулся в чаще, кто ходил вокруг, пробирался сквозь деревья, ломая ветки. Дрожа всем телом, обняв себя за плечи, она сползла по стволу березы и замерла в холодной траве. С неба на нее глядели тысячи звезд и один уродливый лунный глаз. Ветер трепал рыжие косички и непослушную челку, продувал до костей. Лес шумел и присматривался к новой обитательнице. Машенька тихонько плакала и вспоминала страшные сказки, в которых родители отводили своих детей в лес и оставляли там умирать. Но ведь ее папа и мама не могли так поступить. Да, они часто ее ругали, наказывали, но никогда бы не бросили. Получается, просто забыли? А когда приедут домой и обнаружат пропажу, сразу вернутся?.. Но время шло, а за ней никто не возвращался. Машенька не знала, сколько уже сидит под деревом – час, два или сто миллионов лет. Холод и страх парализовали ее, силы кончились вместе со слезами. Она больше не могла шевелиться, не могла отбиваться от поедающих ее мошек, от пьющих кровь комаров. Сердце стучало все тише и тише. Машенька умирала. Засыпая, проваливаясь во мрак, она увидела падающую звезду и загадала желание. Мама говорила, что такое желание обязательно сбудется, это настоящее волшебство. И Машенька пожелала стать большой – хотя бы на один денечек. Настолько большой, чтобы ее точно заметили и никогда не позабыли.
Промышленным альпинизмом Карим занимался второй год. Работы хватало, но больше всего он любил мытье окон в новом деловом комплексе. Точнее, он любил не сам процесс, а возможность подглядывать за людьми. В высоченном здании было несколько жилых этажей, где квартиры скупили городские богатеи – в том числе и богатеи с молодыми любовницами. Квартиру на двадцать первом этаже Карим особенно ценил за панорамные окна в ванной. Не раз и не два он сквозь стекло любовался рыжеволосой красавицей в душе, которая принципиально не закрывала жалюзи. Однажды Карим сделал пару фотографий на телефон и хранил их как настоящее сокровище, пересматривая перед сном и никому не показывая. Безымянная девушка наверняка его видела, просто не могла не видеть. А раз Карима до сих пор не уволили, она не имела ничего против его визитов. Эта мысль согревала даже в те дни, когда в душе вместе с девушкой оказывался хозяин квартиры – местный депутат, похожий на перекормленного борова. На этот раз она была в спальне – дремала в лучах рассветного солнца. Копна огненных волос рассыпалась по подушке, скомканное у края постели одеяло не мешало разглядеть стройную фигуру в майке и трусиках. – Доброе утро, красавица моя, – сказал Карим, приложив ладонь к стеклу. Странно, но оно вибрировало. С крыши посыпался мелкий мусор, задрожал трос. Вдалеке протяжно громыхнуло, будто начиналась гроза. Заверещали автосигнализации. Когда по всему зданию зазвенели стекла, рыжая красавица проснулась. Не стесняясь, она подошла прямо к окну. Карим улыбнулся ей, но быстро понял, что девушка смотрит сквозь него – на просыпающийся город. И на что-то еще. Он развернулся на тросе и не поверил глазам. По городу шагало нечто, напоминающее уродливую детскую поделку, – словно кто-то не смог решить, какую лесную зверушку слепить, и нахватал от каждой понемногу. Гигант шел вперед, а вместе с ним приходили звуки: собачий лай, гудки машин, крики. Карим машинально достал телефон и начал снимать. С верхотуры открывался отличный вид и на чудовище, и на оставленные им разрушения, и на охваченный паникой людской муравейник. Когда монстр оказался рядом, телефон Карима предательски стрельнул солнечным зайчиком. Голова ящерицы повернулась к висящему на уровне двадцать первого этажа человеку, а в следующий миг того вмяло в здание могучей лапой. Карима протащило через окно, стены, холл и шахту лифта, через весь этаж, через квартиры и людей, через чужие жизни, за которыми он так любил наблюдать. Умирая в обломках здания, Карим радовался лишь тому, что рыжеволосая красавица была рядом. Они стали единым целым, одной грудой переломанных костей. И теперь даже спасатели не смогут их разлучить.
«Впусти нас, Машенька». Она практически не чувствовала собственного тела, зато слышала голоса внутри головы и хорошо видела все, что происходит вокруг. Даже то, как к ней подбираются маленькие тени. – Вы – лесные жители? – прошептала Машенька. Она больше не боялась. Скорее, ей было любопытно. «Да. Впусти нас. Нам очень холодно». Из маленьких теней вырастали узнаваемые силуэты. Их было много, они приходили из чащи и собирались возле Машеньки. – Я же скоро умру. И буду совсем-совсем холодной. «Нет. Если поможешь нам, мы поможем тебе. Так делают настоящие друзья. Впусти нас в себя, Машенька». Она посмотрела на тех, кто прятался в темноте. Рядом с ней ждали ответа мышка-норушка, лягушка-квакушка и другие обитатели леса. Почти как в той сказке про теремок, только в этот раз теремком стала сама Машенька. – А вы меня не обидите? «Нет. Настоящие друзья так не поступают. Впусти нас». – Ладно, входите, – сказала Машенька, и тени бросились к ней. Ее тело содрогалось, в рот вползали змеи и черви, забирались мыши и ящерицы. Челюсти треснули, чтобы впустить тех, кто побольше. Нёбо царапали иголки ежика, в животе вили гнезда птицы. Машенька раздувалась, наполнялась новыми зверями и насекомыми. «Спасибо, Машенька. Нам очень тепло». Кости с хрустом вытягивались, сквозь кожу прорастали шерсть и чешуя. Волосы на голове выпадали, на руках вырастали когти. «Теперь мы поможем тебе, Машенька. Поможем исполнить желание. Теперь тебя заметят». Через час то, что когда-то было Машенькой, зашагало в сторону города.
Лена проглотила очередную дозу успокоительного, но лучше ей не становилось. Да и как могло стать лучше матери, забывшей собственную дочь в лесу? Как такое вообще могло произойти?.. Она вытерла слезы дрожащими руками и еще раз проверила телефон. Игорь не отвечал. Что-то творилось со связью, Лена не могла дозвониться ни до полиции, ни до МЧС. Беспомощность убивала, уходило драгоценное время, ведь поиски нужно было начинать еще вчера. На шашлыках они явно перебрали. Кто-то ляпнул, что обидевшаяся на папу и маму Маша поедет во второй машине – со Светкой и ее мужем. Это были друзья семьи, Маша у них неоднократно ночевала, ничего необычного. Только вот Светка была не в курсе этой ночевки и считала, что Машу забрали родители. Лена пыталась вспомнить, когда в последний раз видела дочь. Та ходила вокруг машин, играла в прятки сама с собой и вроде бы постоянно была на виду… Как же они могли без нее уехать? КАК??? Игорь с утра рванул на ту самую полянку, а Лена осталась в квартире на случай, если Маша найдется. Но сидеть дома было невыносимо, неизвестность оказалась хуже самой изощренной пытки. В голову лезли страшные образы: ночь, темный лес, одинокая девочка зовет родителей… Лена, глотая таблетки, тихо подвывала и до крови впивалась ногтями себе в лицо. Телефон не звонил. Она сидела в Машиной комнате, когда солнце вдруг погасло. Все потемнело буквально за секунду, словно в квартире шторы задернули. Лена перевела взгляд на окно и ахнула. На нее смотрел гигантский глаз. Снаружи к дому привалилось настоящее чудовище. Оно долго вглядывалось в Лену, а потом запустило в комнату здоровенный коготь. Треснул бетон, на пол брызнули осколки стекла, из проломленной стены задул ветер. С улицы прилетели крики и вой сирен. Лена заорала, срывая горло, стала отступать и упала на ковер. Грохнула входная дверь, в комнату вбежал Игорь. – Что за… Коготь задел потолок, и ковер запорошило штукатуркой. Стеклянным дождем осыпались плафоны на люстре. – Что это за тварь?! – крикнул Игорь, хватая Лену и пытаясь вытащить ее в коридор. «Тварь, тварь, тварь…» – отозвалось эхо то ли в комнате, то ли у Лены в голове. Коготь-переросток завис над ней с мужем. В проломе вновь возник глаз. Чудовище смотрело на двух людишек-букашек, и Лена не сомневалась, что сейчас их раздавят, перечеркнут их никчемные жизни. Но коготь зацепил что-то в вещах Маши и исчез. Немного отдышавшись, Лена набралась смелости и подошла к дыре в стене. Чудовище уходило. Оно не стало нападать, не стало рушить дом. Просто на минутку заглянуло в гости и убралось восвояси. Лена смотрела вслед невероятному созданию и не могла отделаться от ощущения, что его взгляд ей знаком.
Этот день вошел в историю как День великана. Никто так и не выяснил, откуда взялось чудовище, но к вечеру его удалось убить. Правда, кое-кто из военных потом рассказывал, что пулеметы, ракеты и прочее оружие не причиняло монстру особого вреда, пока тот сам не стал разваливаться на части и гнить заживо. Будто разные звериные куски не ужились в одном теле. Умирая, чудовище продолжало идти вперед – а потом и ползти, – оставляя за собой след из слизи и лоскутов смердящей плоти. В итоге он растянулся на три километра, отравив реку и превратив несколько кварталов в зараженную зону. Город пострадал очень серьезно, зато стал настоящим магнитом для туристов. Фотографии разрушенных зданий и громадных птичьих следов облетели весь мир. Ученые пытались подсчитать, сколько живых существ причудливым образом сплелись в неизвестном монстре, но к единой версии не пришли. Хотя правильного ответа они бы все равно не дали, ведь одно живое существо никто так и не заметил. Если бы ночью после смерти чудовища кто-нибудь додумался подежурить у замершей навсегда головы ящерицы, он бы увидел очень странную картину. Кожа над глазами треснула, словно яичная скорлупа, и из образовавшейся дыры выбралась маленькая девочка. Это была самая обыкновенная девочка самого обыкновенного роста. Две рыжие косички, легкое платьице, гольфы и сандалики. Единственное, что было в ней необычного, – это большие и красивые крылья за спиной, как у бабочки. Девочка осмотрелась, окинула взглядом копошащихся вдалеке военных и взмыла в небо. Ветер подхватил ее, подбросил над разрушенным городом, и крылья понесли ее прямо к звездам. В руках она держала любимого плюшевого медведя. Девочку звали Машенька, и у нее был день рождения.
Подколодные
Змея лежала прямо у входа в теплицу. По-хозяйски грелась на солнышке и не обращала никакого внимания на подошедшего деда Славу. Тот потопал по траве, грохнул лопатой по каменной ступеньке, но ползучая гадина никак не отреагировала. Только показала шустрый язычок. – Совсем обнаглели. Это был уж – с полметра длиной, с привычными желтыми отметинами на голове. Пятый за неделю – и опять у теплицы. Можно было решить, что это один и тот же, если бы дед Слава не скидывал их в ведро и не относил в лесок за железной дорогой. Змей дед Слава не любил. Особенно на своем участке. Весна в этом году пришла рано: уже к началу апреля солнце грело по-настоящему, а не работало вполсилы. На деревьях набухали почки; сбросив снег, распрямлялись кустарники. Всюду галдели птицы, звенела капель. Природа выбиралась из кокона матушки-зимы, а вместе с ней просыпались змеи. – Откуда вы лезете, а? Дед Слава привычным движением сгреб незваного гостя в ведро и зашагал в сторону дома. На веранде суетилась Нинка, громыхая большими кастрюлями для засолки и прочим законсервированным с осени добром. Оно и сейчас ей не требовалось, но после семидесяти с головой у нее стало совсем худо. Много чудила, забывала самые простые вещи. Измученная хроническими болячками, мало спала и мало двигалась. Этакая барабашка в отставке: сил давно не осталось, но пошуметь в доме по старой памяти надо обязательно. Дед Слава любил ее, хотя с каждым годом с ней становилось труднее. Но куда деваться? Жена все-таки, больше полувека рука об руку. Да и он сам, если разобраться, потихоньку превращался в такого же странного старичка. Уж в ведре лениво сворачивался спиралью, заранее принимая свою участь. Дед Слава обогнул дом со стороны сарая и вышел к калитке. Из будки выскочил Полкан, но, поняв, что хозяин без гостинца, тут же залез обратно. По пути к железной дороге дед Слава думал о приметах. Если встретишь бабку с пустым ведром – это не к добру. А что насчет старика со змеей? Причем уже который раз… – Змеиный дед! – донеслось сзади. Дед Слава улыбнулся. Так его встречали мальчишки, приезжавшие сюда на выходные и каникулы. Без компьютеров и Интернета в этой глуши им было скучно, вот и бегали они по деревне в поисках развлечений. И старик, который постоянно таскал змей в ведре, наверное, казался им кем-то вроде лешего. Он повернулся, резко махнул ведром в сторону мальчишек, и те с радостным визгом бросились наутек. Дед Слава поглядел им вслед и зашагал дальше. Почти все его знакомые давно умерли, а с новыми соседями отношения не сложились. Кому нужны два доживающих свой век старика? Здравствуйте, до свидания, и на том все. Их не то чтобы сторонились, но и на контакт особо не шли. Это раньше можно было в любой момент подойти к соседской калитке, окликнуть хозяина, поболтать ни о чем. Теперь же всюду высились высокие сплошные заборы, как в какой-нибудь тюрьме. Времена другие, у всех своя жизнь, свои проблемы. Чужих не надо. Конечно, никто не мешал выпустить ужа и поближе, но, во-первых, тогда бы тот наверняка приполз обратно, а во-вторых, деду Славе были в радость эти прогулки. После выхода на пенсию он не мог найти себе места. Вставал в семь утра, как раньше, и просто бродил по участку. Да, дела в деревне всегда найдутся: забор поправить, землю вскопать, собрать в кучу листья и сжечь их к чертовой матери. Но это не то. Вместе с работой ушло ощущение, что он кому-то нужен. Никто больше не просил выручить и выйти вместо него на смену. Никто не приезжал в гости пообедать, когда оказывался неподалеку. Никто не советовался, не интересовался его мнением, не делился сплетнями. Буквально через пару месяцев дед Слава окончательно понял, что для всех сослуживцев перестал существовать. Словно вместе с ключами от родного грузовика оставил в диспетчерской табличку «Не беспокоить». Звонить самому гордость не позволяла, вот и проверял он старенький мобильник каждые полчаса: а вдруг Валентиныч опять ушел в запой и срочно нужен человек на знакомую технику? Первое время его изредка дергали, он с радостью бежал на работу и соглашался на мизерную оплату, снова чувствуя себя членом коллектива, но после полной смены, едва шевеля ногами, приползал домой и сразу падал спать. Все-таки возраст брал свое. Но работа наполняла жизнь хоть каким-то смыслом. Нинка могла целыми днями смотреть свой телевизор, а вот дед Слава на стену лез от скуки. Мастерил в погребе ящики под картошку, потихоньку обновлял баню, гонял ворон, разорявших кормушки для синичек, – и все равно часами не знал, куда себя деть. Ему не хватало обычного человеческого общения, шуток с мужиками в курилке. А вот Нинки, наоборот, стало слишком много. И если раньше ее заскоки так в глаза не бросались – все же он каждый день пропадал на работе – то теперь приходилось наблюдать их круглосуточно. Нашествие змей внесло в распорядок дня деда Славы неожиданное разнообразие. Помимо загорающих у теплицы ужей, были и другие. То и дело в траве мелькали темные хвосты, на дорожке к туалету лежала сброшенная кожа, а у декоративного пруда больше не квакали лягушки – всех сожрали. Нинка на днях пожаловалась, что видела гадюку прямо в доме, под кухонным столом. После этого спать она стала еще хуже. Дед Слава перебрался через небольшую канаву по самодельному мосту и застыл между железнодорожных путей. От станции вдалеке прилетало призрачное эхо, над головой шумели провода. Тучи медленно пожирали солнце, ветер залезал под воротник плаща. Собирался дождь. Лесополоса тянулась вдоль путей и прятала за собой пару садовых товариществ и коттеджных поселков. Дед Слава помнил эти места, когда никакого новостроя еще не было: только березовое море и большущий пруд с илистым дном, которое норовит тебя засосать. Теперь же всюду множились дачи и домики, а пруд превратился в болото с берегами из пустых бутылок и прочего мусора. Люди все здесь отравили. Дед Слава вошел в лес, который еще не нарядился как полагается, но и по-зимнему костлявым уже не был. По выкорчеванному пню у тропинки медленно ползли два ужа, свиваясь в узел на рельефной коре. – О, а вот и дружки твои. Дед Слава вытряхнул ужа из ведра, и тот моментально исчез под корневищем. На земле рядом лежал мертвый мышонок – на него и нацелились две змеиные пасти. Судя по виду звереныша, его уже ели, но почему-то не переварили до конца и выплюнули. Сейчас это собирались исправить. – Не подавитесь только, твари подколодные. Дед Слава сплюнул себе под ноги и зашагал дальше в лес – там он оставил банки для сбора березового сока. Ближе к железной дороге пахло прогретой солнцем травой и сгнившими за зиму листьями, а вот из чащи, где до сих пор лежали сугробы, тянуло холодом. Вдавив в землю чужой сигаретный окурок, дед Слава остановился на небольшой полянке. Это было то самое место, те самые банки, но то, что оказалось внутри… На зрение он не жаловался, в свои годы неплохо видел и без очков, только вот сейчас верить в увиденное отказывался. Все до одной трехлитровые банки почти доверху были наполнены змеями. Десятки ужей переплетались друг с другом, жались к стеклу, ощупывали мир вокруг раздвоенными языками. И их шипение проникало прямиком в мозг, пробуждая давний кошмар.Много лет назад, когда дед Слава был просто Славкой, они с друзьями любили гулять в Курьяновке – заброшенной деревне в пяти километрах от их собственной. Это было здорово: можно влезть в любой дом, поковыряться в чужих вещах и придумать страшные истории про хозяев, которые никогда не вернутся. Скрипучие полы и выбитые окна, оживающие в углах тени, вороны на обугленных крышах и стаи собак, рыщущие в округе, – такие места и пугали, и привлекали одновременно. В них тянуло, будто звало что-то из развалин. И дети не могли не откликнуться на этот зов. Была в их компании и Нинка, озорная девчонка, которая с радостью поддерживала любые приключения. Обычно они не задерживались до темноты, но в тот день жуткий ливень не дал им двинуться назад вовремя. В качестве укрытия выбрали дом на окраине, травили байки и смотрели на струи дождя в сгустившихся сумерках. В такую погоду пришлось бы шагать по размытой дороге, не видя, куда наступаешь. То еще удовольствие. Мало того что промокнешь насквозь за минуту, так еще и навернуться проще простого. А с вывихнутой или сломанной ногой и к ночи до дома не доберешься. Мальчишки пытались развести костер из обломков мебели, а любопытная Нинка ходила по дому и разглядывала узоры на облезлых обоях. Тогда-то доски под ней и треснули. Она ухнула вниз – в сырой мрак подвала, в царство паутины. Но жили там не только пауки. Прибежав на крики, мальчишки увидели Нинку на ложе из змей. Весь пол был устлан ими, всюду извивалось и шипело. Это было самое настоящее гнездо. Славка оцепенел от ужаса, глядя, как Нинка погружается в змеиное болото, как скользят по ней черные ленты, прячут ее от постороннего мира. Но страшнее всего был Нинкин крик. Ни до ни после Славка никогда не слышал, чтобы человек так вопил. Жутко и бесконечно долго. Кое-как бледную и зареванную Нинку вытащили и отвели домой. Несколько дней она тряслась, не произнося ни звука, и родители увезли ее в город на лечение. Не сразу, но врачи вернули девочку к нормальной жизни, однако змеи навсегда поселились в ее голове, как черви в гнилом яблоке. И рано или поздно они должны были выбраться на свободу вместе с заточенными в прошлом страхами.
Накормив Полкана, дед Слава зашел в дом и тяжело плюхнулся в кресло. Ноги ныли после целого дня в сапогах, в ушах гудело. Нахлынувшие воспоминания не сулили ничего хорошего. Он провел несколько часов, гуляя по лесу и пытаясь понять, как такое могло произойти. Змеи были живыми: дед Слава потыкал палкой бесконечные темные переплетения и убедился в этом лично. Неужели гадины сами забрались в банки? Это звучало – и выглядело – очень странно, но других вариантов все равно не было. Детвора вряд ли решилась бы так подшутить над Змеиным дедом. Его побаивались, да и собрать столько ужей – задача непростая. Нет, вариант с чьими-то проделками можно было не рассматривать. Просто этой весной что-то происходило со змеями. Уже сейчас их было слишком много – как никогда в предыдущие годы. И дед Слава чувствовал: все только начинается. Дома было тихо, лишь на кухне урчал холодильник да в комнате Нинки привычно бормотал телевизор. Они давно жили порознь – в их возрасте так гораздо удобнее, никто никому не мешает. Правда, в последнее время и за обеденным столом практически не собирались, ведь Нинка могла целый день не вылезать из своей берлоги, активничая ночью. Барабашка и есть барабашка. – Что смотришь? – спросил дед Слава, просунувшись в приоткрытую дверь. В комнате жены пахло пылью, лекарствами и давно немытым телом. Лампы не горели, свет давал только выпуклый экран телевизора. Завернутую в одеяла старушку было толком не разглядеть, лишь стекла очков мерцали в темноте. – Кино. Интересное очень, – сказала она. – Уже третий раз показывают. На экране люди с топорами расчленяли гигантскую змею – похоже, анаконду. Разрубали ее плоть, лезли во внутренности и доставали оттуда маленьких детей. Или то, что от них осталось. – Совсем ополоумела, старая?! Ты чего включила?! Дед Слава подошел к телевизору и, не найдя нужной кнопки, выдернул шнур из розетки. Комната погрузилась во мрак. В звенящей тишине мерно тикали часы с кукушкой, а вот сердце деда Славы стучало все быстрее и быстрее. Ему стало тяжело дышать, он не мог повернуться к Нинке, только глядел на ее замершее отражение в большом настенном зеркале. Казалось, она даже не заметила, что экран погас. – Наверное, четвертый раз тоже покажут. Про змей-то. Змеи, змеи, змеи… Чертовы змеи были повсюду. – Чтоб больше не включала дрянь эту, понятно тебе?! Жена закивала, не сводя глаз с выключенного телевизора. – А то насмотришься, и мерещится потом всякое. Нинка заворочалась в одеялах, отвернулась к стене и стала водить пальцем по ковру. По ее сбивчивому дыханию было понятно: она хочет что-то сказать. То ли боится, то ли собирается с мыслями. Наконец она произнесла: – Но они ведь правда шуршат под полом, Славушка. Из-за них я не сплю. – Я тебе уже говорил, это просто мыши. Потравлю их, и все будет хорошо. – Нет, Славушка. Мышей они давно съели. Дед Слава вздохнул. Хотел в очередной раз выругаться, ударить кулаком в стену, закричать, да что толку? Нинка – когда-то бойкая и веселая Нинка – теперь обитала в своем мирке и с каждым днем становилась все дальше от реальности. – Спи давай. Утро вечера мудренее. Завтра посмотрю, кто там тебя изводит. Когда он устроился на диване, за стенкой вновь заработал телевизор. Сквозь неразборчивое бормотание до него иногда долетали тихие всхлипы. Нинкина ночная смена только начиналась. Вдалеке загудел поезд, и в доме едва заметно задрожали стекла. Из-за соседства с железной дорогой это место никогда не оставалось в тишине надолго. Дед Слава вдруг представил, что ползущий сквозь ночь состав – это громадная змея, а пассажиры – проглоченные жертвы. Он покачал головой и натянул одеяло до самого носа. Нужно было поспать. Но сон не принес облегчения, ведь этой ночью деду Славе снилось, как под домом ворочаются исполинские кольца.
Никаких следов змей в подвале он не нашел. Впрочем, как и мышей, что его удивило. Уж эти-то товарищи всегда были рядом – только успевай обновлять лотки с отравой. Но в последние дни дед Слава не слышал привычного шороха и писка, будто мыши дружно решили уйти к соседям. Или их кто-то спугнул. Дед Слава никогда не был специалистом по змеям, но жизнь с Нинкой вносила коррективы. Главное правило гласило: никакой ползучей живности на участке и тем более дома. Любая встреча даже с крохотным ужиком могла принести кучу неприятностей. После того случая в Курьяновке Нинка полностью оправилась и даже не вспоминала о змеином подвале. По крайней мере, так всем казалось. Когда возмужавший Славка вернулся из армии, их детская дружба переросла в нечто большее, и вскоре молодые сыграли свадьбу. Жить остались здесь же – сперва под крылом родителей, а потом и в собственном доме. И хотя завести детей у них не получилось – у Нинки обнаружились проблемы по женской части, – на судьбу они не жаловались. Жили не лучше, но и не хуже других. Нормально жили. Пока прошлое их не настигло. Дед Слава не мог точно сказать, как давно это началось. Если раньше, завидев ужа или полоза, Нинка морщилась и старалась поскорее проскочить мимо, то потом стала замирать от ужаса. Превращалась в каменное изваяние и молилась, чтобы змеи уползли восвояси. Это могло продолжаться часами: однажды вечером дед Слава, не дождавшись жены, нашел ее на полпути к дому. Она стояла у старого колодца и смотрела прямо перед собой, словно загипнотизированная. По щекам катились слезы, губы подрагивали, а рядом в мутной луже медленно скручивалась полутораметровая гадюка. С годами ситуация только ухудшалась. Пришли кошмары и крики посреди ночи. Нинку могли испугать переплетения проводов или садовый шланг. В старости голова и без того барахлит, а уж если она забита змеями… Теперь Нинка видела их везде. Он как мог оберегал ее: еще в юности затыкал рты местным, которые называли Нинку Королевой змей. Прозвище приклеилось намертво, тут уж ничего не попишешь, но при Нинке оно больше не звучало. Кто же тогда мог знать, что спустя десятилетия титул змеиной королевы будет наименьшей из проблем? На привычном месте у теплицы никого не было, и дед Слава уже обрадовался, но потом уловил движение в бочке. Змеи плавали на поверхности воды, словно водоросли или обломанные ветки в пруду. Только живые и юркие. – Да как вы… Откуда?.. Он огляделся. Нинка сегодня не выходила на улицу: закопалась в одеяла и телевизионную программу. Значит, этой картины она не видела. Хоть какая-то польза от ее затворничества. Вылавливать гадин по одной было неудобно, поэтому дед Слава опрокинул бочку. На поверхности он заметил трех или четырех ужей, но внутри змей оказалось намного больше. Вместе с водой в траву хлынули бесчисленные чешуйчатые твари всех размеров: от маленьких, не крупнее червя, до длинных, едва ли не двухметровых. В раскисшей земле извивались темные кольца, по ногам сновали пятнистые жгуты. Зубастые пасти пробовали на прочность резиновые сапоги. Дед Слава отшатнулся от змеиного месива, едва устояв на ногах. По спине тек холодный пот, дыхание перехватывало. А многоголовая темная масса медленно ползла к нему, заглушая ветер протяжным «с-с-с-с-с». Он знал, что змеи обычно не нападают первыми. Они вообще предпочитают держаться подальше от людей, атакуя, только когда им угрожает опасность. Но эти… Они вели себя иначе, чересчур активно интересуясь человеком. – Совсем ошалели? Намазано вам тут, что ли?! А ну, пошли вон! В висках стучала кровь, внутри все кипело. Страх смешивался со злостью. Дед Слава взял в руки лопату и разрубил одну змею пополам. Он не хотел живодерствовать, потому и носил ужей в лес, но сейчас другого выхода не видел. Ползучих гадов было слишком много. Он перехватил черенок поудобнее и нанес новый удар. Вместе с комьями земли в сторону отлетела голова с желтыми пятнами. – Нравится вам так? Нравится?! В сапоги тыкались черные морды, маленькие зубки, а дед Слава продолжал орудовать лопатой. Змеиное море вокруг бурлило, шипело, осыпало его брызгами крови. Наблюдая за резней, в небе кружили вороны. Когда все было кончено, дед Слава без сил опустился на землю. Змеиные обрубки еще шевелились и напоминали содранный скальп Медузы Горгоны. Черная кожа блестела на солнце. – Твари… Сами же вынудили. Сами. Голова кружилась, подкатывала тошнота. – Твари как есть. Он посидел так пару минут, отдышался, а потом зашагал к дому. Ополоснул руки с лицом в умывальнике и заглянул к Нинке. Нестерпимо хотелось поговорить, рассказать обо всем, но он понимал, что жене такие разговоры ни к чему. Тем более что она была полностью поглощена телевизором. В новостях показывали репортаж о женщине, в чей рот заползла змея. Заползла – и двинулась дальше, глубже. Женщина эта решила прилечь отдохнуть где-то в горах, уснула, и тогда к ней наведалась хвостатая гостья. В итоге врачам пришлось доставать живую змею прямо из горла – кадры из операционной прилагались. Нинка как завороженная смотрела на длинную извивающуюся тварь, извлеченную из человеческого рта, а дед Слава с трудом сдерживал желание выбросить телевизор в окно. Опять змеи? По всем каналам только они, или это Нинка их выискивает?.. Дед Слава поскрипел зубами, открыл было рот, а потом махнул рукой и вышел из комнаты жены. Он слишком сильно вымотался, чтобы устраивать скандал. Пропади оно все пропадом. Наскоро перекусив, он пошел топить баню. Нужно было смыть с себя этот чертов день. Отскрести ошметки змей, перебить мылом запах смерти. Печка раскочегарилась будь здоров, и дед Слава втянул ноздрями горячий воздух. Впервые за день на его лице появилась улыбка. Все-таки баня – волшебное место, все проблемы и беды уходят отсюда в землю вместе с водой. Хотя бы на время. Дед Слава плеснул воды на камни и занял среднюю полку. По комнате поплыли клубы пара, жар обволакивал тело. Дед Слава любил вот так посидеть в тишине, хотя врачи не рекомендовали ему с этим частить. Но в парилке расслаблялись не только мышцы, а еще и мозги – разве откажешься от такого? Особенно когда у тебя в жизни творится черт знает что. Когда жар перестал покусывать, дед Слава взял ковшик и шагнул к тазу с водой. В этот момент под ногой у него скользнула змея. От неожиданности он неловко завалился набок и упал прямиком на чугунную печку. Взвыл, отлепился от раскаленного железа и рухнул на пол, ударившись головой. Боль ошарашила, наводнила мир вокруг черными точками. Перед глазами все поплыло. Но, прежде чем окончательно провалиться в темноту, дед Слава увидел раздвоенный язык перед своим лицом. Гораздо ближе, чем ему бы хотелось. Он пришел в себя, когда печка уже остыла. С трудом встал на ноги и выбрался из парилки. Каждое движение отдавалось болью, с правой стороны туловища будто кожу содрали. В голове стучали барабаны. Доковыляв до дома, дед Слава тут же обработал ожоги и выпил обезболивающего. Раны были не такими страшными, как показалось вначале, но все равно ничего хорошего. Получить клеймо от собственной печки – это надо умудриться. А все из-за проклятой змеи… Он залез в постель и повернулся на здоровый бок, лицом к стене. Сил больше не осталось. В былые времена Нинка переживала бы, хлопотала вокруг него, но сейчас все изменилось. Дед Слава звал ее, а она так и не пришла. Зато из ее комнаты доносился тихий голос: – Они уже в доме, Славушка… Прогони их… Прогони их, умоляю… Дед Слава смотрел в стену, слушал непрекращающийся шепот и понимал, что боится. Он давно осознал, что Нинка сошла с ума. Возможно, это произошло еще в детстве – просто сильнее проявилось уже с возрастом. К ее бзикам он привык много лет назад и научился с ними жить. Но он действительно боялся. И не того, что Нинка забудет выключить газовую плитку или слишком рано задвинет печную заслонку. Нет, он боялся осязаемого безумия. Одно дело, когда про него говорят по телевизору или пишут в книгах, и совсем другое, когда оно рядышком, на расстоянии вытянутой руки. Шепчет за стенкой и переключает каналы в поисках чего-нибудь про змей. Змеи… Про них дед Слава тоже думал. Точнее, про одну змею, ту самую. Когда он уходил из парилки, то успел осмотреться. Никого там не было. Змея не могла спрятаться или забиться в щель – парилку дед Слава только обновил, там минимум места и все на виду, никаких схронов. За тазиком ее тоже не было. Заползти в парилку у нее бы получилось – ведь поначалу дверь была открыта. А вот выползти незаметно – нет. Так куда же эта гадина делась?.. Дед Слава дотронулся до рта и тут же отдернул руку. Пальцы подрагивали. Нинка за стеной продолжала умолять: – Славушка, милый, найди их, прогони, нет с ними жизни, не могу я больше, Славушка… Сердце норовило выскочить из груди, а еще казалось, что в животе что-то шевелится. Будто кишки решили выползти наружу. Когда обезболивающее наконец подействовало и дед Слава уснул, ему приснилась Нинка. Она раскрыла огромную пасть и пыталась проглотить его, точно питон. Вместо волос на ее голове колыхались змеи.
– Змеиный дед! Змеиный дед! Мальчишки ждали стандартного приветствия, но дед Слава был не в настроении: – А ну, брысь отсюда, мелюзга! Он вновь нес змей за железную дорогу. Это стало ежедневной традицией: ведро, ползучие гады, до боли знакомый маршрут. Он ходил в лес как на работу, потому что змеи продолжали заполонять участок. А если верить Нинке, то и дом тоже. Теперь она вообще не покидала комнату. Да что там – она не покидала кровать, ведь всюду ей мерещились ужи и гадюки. Даже в уличном туалете, поэтому пришлось приспособить под ее нужды отдельное ведро. Что-то у нее в голове окончательно лопнуло, и от былой Нинки не осталось следа. Она увязла в своем странном тревожном мире. И деду Славе иногда казалось, что змей там слишком много, поэтому они начали проникать в реальность. Он вытряхнул ужей в траву и поморщился. Ожоги все еще давали о себе знать. В кронах берез над головой чирикали птицы, прохладный ветер обдувал лицо. Небо заволакивали тучи. Дед Слава проверил банки для сбора березового сока – теперь они пустовали. Рядом на поляне все заросло ромашками, и он нарвал букет для Нинки. Может, вспомнит, что это ее любимые цветы. Вспомнит молодость, ухаживания и хоть ненадолго станет прежней собой. Время клонилось к вечеру, очень быстро темнело. Первые капли дождя упали на землю, когда дед Слава преодолел железнодорожные пути. До дома оставалось всего ничего. Он издалека услышал, как надрывается Полкан, а потом и увидел почему. У калитки стоял сосед – здоровенный детина лет сорока. Дед Слава не знал, как его зовут, но иногда с ним здоровался. Тот не жил в деревне постоянно, а приезжал с семьей в теплое время года. Можно сказать, пришлый дачник. И, судя по манере общения, друзей он тут точно не искал. – Здравствуйте, – сказал дед Слава и протянул руку, но сосед этот жест проигнорировал. – Ну привет. Короче, я сразу к делу. Чтобы возле пацанов я тебя больше не видел, усек? Не хрен их своими змеями пугать. – Так я не пугаю, я ж просто… – Усек или нет? Дед Слава кивнул. Спорить с этим человеком он не собирался, себе дороже выйдет. – Вот и хорошо. Спасибо за понимание. Сосед хлопнул деда Славу по плечу и двинулся к своему дому, но на половине пути остановился и крикнул: – Да, и завязывай этих мразей таскать из леса! Они же по всей деревне расползаются. Устроил, мать твою, серпентарий! Сосед скрылся за своим бесконечно высоким забором, а дед Слава так и стоял у калитки, ничего не понимая. В животе вновь заворочалось. Он опустил взгляд к ведру, где лежал букет ромашек. Аккуратно двумя пальцами отодвинул цветы, открывая вид на узелки змей, на шевелящиеся кольца и дрожащие язычки. – Господи… Ведро упало в лужу возле калитки, а дед Слава поспешил домой. Нинки нигде не было, а вот змеи были. На полу, у печки, под кухонным столом, в шкафу и даже на кровати. Куда ни глянь – десятки, если не сотни. Их будто равномерно распределили по дому, развесили-разложили, как елочные игрушки и гирлянды. Чтобы ни один уголок не остался без их шипения. В деревянных рамах задрожали стекла, вдалеке загудел поезд. На небе громыхнуло, и вспышка молнии осветила погруженный в сумерки сад. – Нинка! Нина! Он обыскал все, но жены не нашел. Голова раскалывалась, оттуда рвалось что-то, готово было выплеснуться наружу очевидными фактами, но дед Слава не хотел их принимать. Змеиное шипение уничтожало остатки разума. Выбежав за калитку, он огляделся по сторонам. Дождь набирал силу, размывая дорогу. – Нинка! Дед Слава опустил взгляд к земле и будто впервые увидел собственные сапоги. Обычные резиновые сапоги, которым уже сто лет в обед. Только сейчас на них виднелись кровь и узнаваемая рыжая глина из карьера у Курьяновки. Следы он заметил почти сразу – большие и маленькие, двумя вереницами уходящие в темноту. Почти пять километров спустя, после указателя с названием деревни, маленькие сбивались и превращались едва ли не в лыжню. Здесь ему пришлось тащить Нинку. Дом на окраине практически ушел в землю: крыша обвалилась, стены покосились. Но в развалины все еще можно было попасть. Дед Слава продрался сквозь заросли можжевельника, переступил через опрокинутый шкаф и оказался внутри. Пол испещряли огромные дыры, словно после бомбежки. В черном зеве подвала капала вода. – Нинка… Она лежала там же, где и много лет назад. Змеи оплели ее, закутали в одеяние из своих шкур. Но на этот раз Нинка не кричала, ведь была мертва. Гадюки в волосах и правда делали ее похожей на Медузу Горгону. Дед Слава опустился на колени, и его вырвало. Он выплевывал желчь, надеясь, что вместе с ней выйдет все лишнее; все, что заползло туда против его воли и заставляло его делать страшные вещи. Но шевеления в животе прекратились, все затихло. Здесь остались только дед Слава и воспоминания, наконец открывшиеся ему полностью. Он посмотрел на свои искусанные руки, которыми собирал змей. На кровь, засохшую под ногтями. На неестественную позу Нинки, лежащей внизу со сломанной шеей. – Как же так… Дед Слава, Славка, любящий муж. Он оплакивал свою жену, которой действительно хотел помочь, которую оберегал и из последних сил удерживал на этой стороне, не давая провалиться в кошмар. Но был и кое-кто другой. Тот, кто устал от десятилетий борьбы, от постоянных приступов, от страха, от змей, которые всегда рядом, всегда в голове. Тот, кто решил отпустить Нинку в мир подколодных тварей и закончить эту историю там, где все началось. По черному небу над мертвой деревней ползали молнии, точно огненные змеи. Дождь наполнял канавы и барабанил по развалинам никому не нужного дома. Вой ветра можно было принять за чей-то бесконечный стон. Королева змей воссоединилась со своей свитой, а в последний путь ее провожал Змеиный дед. Он думал о жутком вопле, услышанном много-много лет назад, и о том, кто на самом деле сошел с ума в тот день. На его лице не отражалось ничего. Змеи поедали его голову изнутри, и дед лишь надеялся, что они закончат как можно скорее.
Земляной
Юля вспомнила о подземном чудовище, только когда ее похоронили заживо. Гроба не было, поэтому пошевелиться она не могла. Холодная земля сдавливала со всех сторон. Это напоминало сонный паралич, бодрствование посреди кошмара. Сознание будто заперли в мертвом теле. Юля ослепла, провалилась в черное ничто. Совершенно беспомощная, она растворялась в пустоте и собственных мыслях. Когда в детстве они с сестрой гостили в деревне, бабушка рассказывала о Земляном. «У него двенадцать когтистых лап, чтобы рыть. У него огромная пасть, чтобы глотать землю. Он ползает под домами людей и слушает. Когда кто-то ведет себя плохо, Земляной выкапывается. И уж если выкопался…» Юля стала задыхаться. Как она могла забыть такое? Как могла оказаться здесь? По щекам катились слезы, сердце пробивало дорогу на поверхность – из грудной клетки, из могилы, из тьмы. Юля превратилась в ту маленькую девочку, которая обходила стороной ямы и каждую ночь в ужасе прислушивалась к звукам из погреба. Но теперь рядом не было старшей сестры, чтобы ее успокоить. Все изменилось часа через три после захоронения. Юля вдруг поняла, что до сих пор жива. Более того, она научилась видеть на многие километры вокруг. Бесконечная система корней стала ее глазами и чувствами. Пришли вспышки. Люди, машины, города… Юля могла заглянуть куда угодно. Деревья, точно антенны, принимали сигналы с поверхности и передавали фантастически яркие образы вниз. Туда, где лежала новая хозяйка подземного царства. Юля рассмеялась. Земля переварила ее, и проблемы ушли вместе с физической оболочкой. Загубленная карьера, неудачный брак, выкидыш – все это казалось мелочью в масштабах мира, который наконец ей открылся. Теперь она была центром планеты, ее ядром. Ей подчинялись растения и ползучая живность, она управляла течением рек, повелевала горами и холмами. Юля сама стала матерью-землей. И тут она услышала Земляного. Краски потускнели, вернулась чернота. Затих шепот деревьев. Только чудовище рыло ход к жертве. Юля все поняла. Земля играла с ней, заманивала в ловушку, отвлекала… Чтобы накормить выползшее из ее чрева создание. Юля пыталась кричать, звать на помощь, но лишь зря расходовала кислород. Под ней ворочалось, в бездонную тьму осыпа́лись комья грязи. Лапы скребли рядом, земля дрожала. Что-то ухватило за ногу, и Юля взвыла. Царапнуло, хлынула кровь. Много крови. Она текла подземным ручьем, питая почву, вымывая неподвижное тело из ямы, заливая глаза, рот. Юля захлебывалась, перед ней кружили алые пятна. В каждую частичку ее кожи будто ввинчивались черви. Земляной ел. …Свет резанул глаза. Юлю раскопали, сняли маску с дыхательным шлангом и вытащили из ямы. Ее подбадривали, поздравляли, хвалили, что продержалась целых двадцать минут. Кто-то аплодировал. Юля вдохнула полной грудью, вытерла слезы и улыбнулась. Ее до сих пор трясло, онемевшие конечности покалывало, из прокушенной губы сочилась кровь. Но на душе было так хорошо, спокойно. Словно все беды действительно остались в могиле. За время под землей в Юле что-то поменялось. – Галлюцинации были? – хитро прищурив глаз, спросил инструктор. – Черт, да. Обалдеть можно. – Потом расскажешь. Пойдем сестрицу твою вызволять. Это Катя привезла ее на тренинг «Перерождение». Организаторы завлекали возможностью открыть себя заново, заглянуть в неизведанные глубины души. И многое переосмыслить. Оказавшись в могиле (пусть даже неглубоко и под контролем профессионалов), смотришь на вещи совершенно иначе. Куче народу это помогло изменить жизнь. Они подошли к захоронению, которое располагалось чуть дальше в лесу. Из земли торчал шланг, ребята раскидывали грязь руками, чтобы лопатойненароком не покалечить клиента. Юле было немножко обидно, что ее вытащили из-за стонов и всхлипов, а сестра продержалась все сорок минут. Но Катя – это Катя. Она даже Земляного в детстве не боялась. – Осторожно! Земля просела и обвалилась. Инструктор отбросил в сторону перекушенный шланг. Это была не яма, а настоящий туннель. Стены его покрывали волосы, куски плоти, одежды. Он уходил вниз и резко загибался в сторону. Там, в сыром мраке, хлюпало и чавкало. Земляной ел.Кап-кап
Дом всегда был наполнен звуками. Сквозь хлипкие стены они расползались по этажам, точно невидимые крысы. Из квартиры в квартиру, из шахты лифта на чердак, из мусоропровода в подвал. Так звуки влезали в чужую жизнь. Стас слышал соседей и понимал, что те слышат его. Он различал их по кашлю и чихам, знал любимые телеканалы и песни, был осведомлен о семейных проблемах и привычках. Дом знакомил людей, хотели они того или нет. Чета пенсионеров снизу привычно занималась делами: гудел пылесос, шумел кухонный кран. А вот сверху творилось что-то странное. Стас не знал имени соседки, как не знал имен остальных обитателей дома, поэтому про себя называл ее Сменщицей. Неделю она работала с утра до вечера и возвращалась очень поздно. Это было время тишины. Но следующую неделю соседка оставалась дома, и тогда ее квартиру распирало от звуков. Голоса, звон посуды, музыка. Ругань или смех, хлопающая по ночам дверь или стучащая в стену кровать. Немолодая тетенька любила принимать гостей. Около часа назад она начала двигать мебель. По полу елозило, скрежетало, с шумом падали предметы. А хозяйка плакала. Подвывала в пустой квартире, точно забытая на даче собака. Потом сверху раздался крик. Громыхнуло, будто уронили шкаф, и Сменщица затихла. Стас сидел за компьютером, представляя распластавшийся на полу труп соседки. Нелепая поза, посиневшие губы, стеклянные глаза. Отогнать образ не получалось, наоборот – Стас начинал чувствовать какой-то нездоровый душок. Запах старости, лекарств, умирающего тела. Стас тряхнул головой и подошел к окну. Дождь стучал в стекло, барабанил по карнизу и размывал силуэт недостроенной высотки, что закрывала вид на город. Ее уродливую тушу возводили слишком близко – казалось, до раскрашенных в клетку стен можно добросить камень. Скоро там появятся жильцы, и к звукам примкнут образы. Люди будут наблюдать друг за другом, выглядывать из-за стекол, точно животные в террариуме… Стас поморщился. Открыл форточку пошире, запуская в квартиру свежий воздух и косую морось. К высотке качнулась стрела башенного крана, облила электрическим светом, и на секунду почудилось, будто в черных окнах что-то шевелится. Бум. Стас поднял голову на шум. Похоже, соседка пришла в себя. Бум-бум. Бум-бум. Звуки становились громче. Сменщица измеряла комнату шагами – слишком тяжелыми, словно разнашивала сапоги на огромной платформе. И ковра на полу у нее не было. Топот гулял от стены к стене, дребезжала люстра под потолком. Вернулись и рыдания. Стас вздохнул и потер переносицу. Мертвой Сменщица нравилась ему больше. Он пытался сосредоточиться на сайте, который должен был доделать и сдать заказчику еще вчера, но грохот наверху этому не способствовал. Да и снизу уже черт знает сколько не замолкал пылесос. Шум не перемещался, как обычно, а застыл на месте. Будто пылесосили одну точку. Или специально заглушали другой звук. Потому что сквозь равномерный гул прорывалось странное «шурх-шурх-шурх». Кажется, старички скоблили стену. Запах стал сильнее. На кухне Стас вытащил из мусорного ведра пакет с отходами, завязал горловину. Аромат был тот еще, но беспокоил вовсе не он. И на утечку газа это не походило. Необъяснимая вонь потихоньку заполняла квартиру. В дверь позвонили, и Стас вздрогнул. Он никого не ждал. Не прямо сейчас или сегодня, а вообще. Гостей у него не бывало, да и сам он без особой нужды квартиру не покидал. Ему хватало своей однокомнатной зоны комфорта. Позвонили еще раз. Одиннадцать утра, середина недели, все нормальные люди на работе. Бродить по подъезду могли разве что продавцы бесполезных товаров и впариватели ненужных приглашений. Стас вышел в коридор и, стараясь не шуметь, доковылял до двери. Прислушался. Человек снаружи звонил и в другие квартиры. Стас приник к глазку и замер. Прямо перед дверью стоял незнакомец в плаще, лицо его прятал раскрытый над головой зонт. Стас сглотнул, и этот звук вдруг показался ему чудовищно громким, настоящим пушечным выстрелом, который невозможно не услышать с той стороны. По телу пополз холодок. Стас точно знал, что никого из соседей по этажу нет дома. И не будет до самого вечера. Кажется, теперь это знал и человек с зонтом. Он больше не поворачивался к другим дверям, а ждал, когда откроет Стас. Он поднял руку к звонку, и в эту минуту в шахте загрохотал лифт. Незнакомец резко развернулся и поспешил вниз по ступенькам. Зонт он так и не сложил. – Вот дебил… – прошептал Стас с облегчением и двинулся в комнату. Но тут услышал новый звук. Кап-кап. Кап-кап. Кап-кап. Он вошел в ванную и влез тапками в небольшую лужицу. – Твою мать… На грязно-желтой поверхности потолка, точно ожоги на коже, набухали пузыри. Они медленно раздувались и капельками срывались на пол. Стас вытер мокрое пятно и поставил тазик под местом основной протечки. Но пузыри висели по всему потолку, будто дозревали, прежде чем просочиться в квартиру. Теперь все вставало на свои места. В доме прорвало трубу, вот сантехник и обходил квартиры. Стас повернул кран, чтобы услышать знакомое гудение, но в раковину ударила струя кипятка. Странно. Ему всегда казалось, что первым делом при аварии отключают воду. Тогда проблема не в трубах. Стас не слышал, чтобы Сменщица сегодня набирала ванну, да и ее «поющий» кран перепутать с другим трудно. Значит, сама она вряд ли устроила потоп. Однако дом был той еще развалюхой, а Сменщица жила на последнем этаже. Наверное, к ней могло натечь с чердака, тем более что дождь шел третий день. Залило ведь однажды лестничную площадку. Стас присел у тазика. Жижа на дне не была прозрачной, а напоминала ту разбавленную ржавчиной дрянь, что льется из труб после перекрытия стояка. И знакомая вонь… Пахло не хлоркой, а затхлостью и гнилью. Он подставил ладони под морось с потолка. Вода оказалась ледяной, точно в проруби. Кап-кап. Стас вернулся в комнату и выглянул в окно. Дождь усилился. Теперь высотка просматривалась словно сквозь туман. Махина строительного крана пылала прожекторами, стрела рубила валящий с неба поток воды. А на недостроенной крыше здания стояли люди с зонтами. Он с трудом оторвался от этой картины. Сердце стучало сильнее обычного, покалывало кончики пальцев. Ванная. Ему нужно было сосредоточиться на ванной, потому что другие мысли сейчас не помогали, а царапали психику, уводили в дебри фантазий. Кап-кап. Наверху проблему никто не решал. С потолка в ванной тянулись длинные струи, точно в нем просверлили отверстия. Тазики и кастрюли закончились, тряпки промокли насквозь. Стас не справлялся. Скоро вода просочится на этаж ниже, и виноват в этом будет только он. Как ни крути, надо идти к соседке. Может, она и не в курсе, что у нее там творится. Стас не очень-то любил людей и старался свести любое общение к минимуму. Одно дело – переписка, где всегда есть время подумать, найти нужные слова. Но решение вопросов с глазу на глаз приводило его в ступор. Прежде чем выйти наружу, он попробовал прикинуть, что говорить. Как обращаться к соседке? На «вы» или на «ты»? Надо ли здороваться, если раньше никогда не здоровался? Не ополоумела ли она там вообще, раз носится по квартире в каких-то чугунных башмаках? Стас встал перед зеркалом в прихожей, пригладил волосы. Руки подрагивали. Вдох, выдох. Он захватил с собой мусорный пакет из кухни и выскользнул в подъезд. Дверная ручка снаружи была влажной. Пол пересекали мокрые следы, будто бы оставленные водяным. Шлеп-шлеп-шлеп. Почему-то очень не хотелось с ними соприкасаться. Стас обошел лужицы, взбежал по ступенькам к мусоропроводу и отворил его железную пасть. По внутренним стенкам трубы струилась вода, запах валил с ног. Он зажал нос, и тогда из черноты раздался свист. Стас отпрянул, выронив пакет. Свист был коротким, негромким, таким пытаются привлечь внимание конкретного человека. Иногда дом создавал иллюзии и прятал источники звуков – например, кто бы из соседей ни затеял ремонт, казалось, что сверлят и стучат именно у тебя за стеной. Не спасала даже разница в несколько этажей. Но сейчас Стас был уверен: кто-то посвистывал на дне мусоропроводной кишки. – Эй!.. – просипел он в черноту и едва узнал собственный голос. Но его услышали. Снизу засвистели громче, и… звук не пропал. Он набирал силу, сливался с эхом и не обрывался ни на мгновение, будто гудение телевизора на канале с профилактическими работами. Человек не способен на такой долгий выдох. В трубе заскребло, застрекотало, принялось перебирать лапками, коготками. И поползло вверх. Дрожащими руками Стас запихнул пакет в жерло мусоропровода и захлопнул крышку. Он подошел к лестнице, перегнулся через перила и посмотрел вниз. Люди с раскрытыми зонтами стояли сплошной массой, как слипшиеся грибы. Шляпки раскачивались из стороны в сторону, сочащиеся влагой ножки под всевозможными углами врастали в пол, стены, потолок, друг в друга. Подъезд накрывало волной смрада. Стас бросился к себе на этаж и влетел в квартиру. Вокруг было темно, словно ночью. Горели лампы, которые никто не включал. Он сумел запереть дверь, несмотря на то что почерневшие пальцы не слушались. Тапочки хлюпали по воде, в ванной плескалось. В квартире снизу что-то скребло потолок. Мир за окном исчез в дожде, растворилась даже высотка. Мрак разгоняли только огни крана, который больше не походил на букву «Г». Стрела извивалась и скручивалась кольцами, в кабине проклевывалось красное, моргающее. От каркаса отделялись новые металлические отростки. Покрытые прожекторами щупальца переплетались в ливневой стене, скрежетали, блестели в неживом свете. Стас слышал, как стучит в висках кровь, как стучит в окно тьма. Он почесал переносицу изогнутым когтем, вспоминая случай трехлетней давности. Сел перед компьютером и оставшимися пальцами вбил запрос в поисковик. Мерно гудел системник, работал Интернет, поскрипывало кресло. Все как обычно. Если бы ноги не срослись с промокшими тапками и кто-то не пытался вломиться в квартиру через внешнюю стену на высоте восьмого этажа. По экрану ползли строчки старых новостей. На другом конце страны исчезла новостройка – вернее, так только показалось, потому что целый день лил сильнейший дождь и видимость была нулевая. Другие здания района просматривались, хотя и плохо, а это – нет. Но когда непогода утихла, только что сданная многоэтажка выглядела давно заброшенной. Гигантские трещины по всему корпусу, пустые глазницы окон, обвалившиеся балконы. Запустение царило и внутри – здание будто пережило войну. Осколки ступеней и штукатурки в подъездах, копоть, выбитые двери, пожравшая стены плесень. Заселиться туда успели четыре десятка семей, никого так и не нашли. В доме погас свет, и фотографии аномальной высотки сгинули в небытие. У Стаса остались только звуки. Шаги наверху, шуршание снизу, движения в стенах, стрекот, свист… Кап-кап повсюду. Он добрался до полки и нашарил телефон. Включил фонарик, отгоняя шевелящуюся вокруг тьму. Подумав, взял из шкафа еще кое-что. На дисплее горели три полоски сигнала, не так уж и плохо, но Стасу некому было звонить. Дюжина ненужных номеров в записной книжке, третий месяц ровно сто сорок четыре рубля на счете. Его никто не хватится. О нем никто не будет грустить. Стас задернул шторы, чтобы не видеть, как снаружи накатывает чернота. Как то, что живет в ней, оплетает дом. Внутри хлюпало и чавкало. Трескались перекрытия, хлопьями осыпалась мебель, расплавленным шоколадом стекал потолок. Вот-вот к нему провалится соседка, и тогда Стас проверит свою догадку. Он не сомневался, что не будет никаких сапог на огромной платформе. Новые суставы, черная шкура, когти… Стас почти не чувствовал рук, да и не руки это теперь были. Но раскрыть зонт у него получилось. Дом всегда был наполнен звуками, а сейчас их стало слишком много. Половину Стас уже не узнавал. Он поднял зонт над головой и принялся ждать. Медленно растворяться в звуке, который все изменил. Кап-кап. Кап-кап. Кап…Ненужные
Солнечный диск валился с неба и увязал в тучах, с минуты на минуту готовый столкнуться с линией горизонта. Юрка взглянул наверх и прибавил шагу. Погода испортилась в один миг, и угасающий день пытался уступить место ночи, пока не разразится гроза. Перемахнув через гору бетонных плит за рядами гаражей, Юрка оказался перед тропинкой, что вела к железной дороге. Тут цивилизация и заканчивалась. Город оставался за спиной, а перед глазами вырастали бесконечные верхушки деревьев с тусклой листвой. Юрка взобрался по насыпи и зашагал вдоль пары рельсовых полосок. Добраться домой он мог и через вокзальную площадь, но там обычно полным-полно милиции, а встречаться с этими товарищами ему не хотелось. К тому же в последнее время на него стали недобро поглядывать местные бомжи. Лучше уж сделать крюк, чем лишний раз светиться. Закон улицы. Слева от путей что-то звякнуло. Юрка повернул голову и уставился на ворону, которая терзала цветастый пакет. – Кыш, засранка! Спрыгнув с насыпи и спугнув птицу, он распотрошил находку. Куриные кости и пустые банки из-под кильки – в сторону. А вот парочка вареных яиц и полдюжины картофелин попали по адресу. Достав из-за спины рюкзак, Юрка запихал туда дары поезда и отправился дальше. Дом был совсем близко. Высокая трава подкрадывалась прямо к железной дороге. Юрка, по привычке оглядевшись вокруг, вошел в родные заросли и вновь посмотрел на небо. Мрачная завеса туч едва заметно сверкнула. Спустя пару секунд, когда он миновал первые ряды деревьев, за спиной послышался топот убегающего вдаль поезда. Три деревянные стены и крыша – так выглядело Юркино жилище. Он понятия не имел, откуда взялась эта постройка на лесной опушке, да не сильно-то и любопытствовал. Возможно, ее использовали при работах на железной дороге, которая располагалась в паре сотен шагов отсюда, или же кто-то задумал развести огород, да так и не довел дело до конца. Какая теперь разница? Наткнувшись четыре месяца назад на этот сарайчик, Юрка сразу понял, что живут в нем одни пауки. С тех пор все изменилось. Прежде всего – эти самые жители. На входе путников встречал бесцветный ковер, прибитый к верхней балке. Отодвинув дверь-занавеску, Юрка ступил на выложенные кое-как доски, призванные заменить нормальный пол. Внутри было тесно и темно, в стекло единственного окошка робко стучался дождь. – Вернулся наконец-то? – сквозь кашель проговорил Алик из вороха курток в углу. – Ага. И не с пустыми руками! Вылезай из своего кокона, хватит болеть. Где Мелкий? – За водой ушел. – Так поздно? – удивился Юрка. – Ты опять все выхлебал? Поднявшись с матраса, Алик приковылял к пластмассовому столу и присел рядом с ним на скамейку. – Отвали, у меня горло болит. – Ладно, хрен с тобой, температурщик. Гляди-ка сюда! Юрка стал выкладывать содержимое рюкзака на стол, с удовольствием замечая, как на бледном лице друга появляется улыбка. – Погоди, чего мы в темнотище сидим?.. – прогнусавил Алик, доставая из-под стола лампу, слепленную из свечки и двухлитровой пластиковой бутылки. Взмах спичкой, словно волшебной палочкой, – и в домике стало гораздо светлее. Выход в город получился довольно удачным. Юрка притащил с собой три буханки хлеба, пакетик майонеза, конфеты, слегка обветренные огурцы с помидорами и пять супов быстрого приготовления. И это не считая выпавших из поезда продуктов. Что-то удалось добыть попрошайничеством, что-то лежало без присмотра. Для полного счастья не хватало только мяса. – Отлично, – сказал Алик, пытаясь сдержать кашель. – Что с ментами? Цеплялись? – Не-а, тишина. На крыше во всю силу заплясал дождь, выстукивая странную мелодию на сворованных со станции пластах шифера. – Ну все, – сказал Юрка. – Мелкий попал. – Этот придурок и куртку-то не надел. Будет знать в следующий раз. Юрка бросил пустой рюкзак в угол и стал что-то высматривать под столом. – Опа, а говорил, кончилась вода. – Он достал пластиковую бутыль, в которой плескалось литра полтора. – На чайник хватит. – Все равно надо еще, а я бы точно никуда не поперся. – Ну да, старик ты немощный. Ладно, пойдем пока хоть воды вскипятим. Алик кивнул, утерев нос рукавом свитера. Прихватив все необходимое и накинув куртки, мальчишки выскочили наружу. Небо встретило их очередным раскатом грома. Широкие ветви кленов были неплохой защитой от дождя. Обложенное кирпичами кострище с радостью приняло охапку веток, и вскоре к шуму листвы добавился треск хвороста. Ветер подхватывал полетевшие к небу искры и уносил их в лесное царство. – Темнеет все раньше, – задумчиво произнес Алик. – Ага. Пара фонарей нам бы тут не помешала. – И печка тоже. – Микроволновая? Алик улыбнулся, но отвечать не стал. – Хорошо сидим, – с легкой грустью сказал Юрка, доставая очередную ветку из-под брезентового укрытия у дерева. Он понимал, что совсем скоро наступят холода и придется искать новое место жительства. Опять переселяться в подвалы, подъезды, поближе к трубам теплотрасс. – Не то слово, как на курорте. Только бревна задницу натирают. Юрка отвернулся от дыма и посмотрел на лес. – Что-то долго Мелкий ходит. – Тормоз он. Вот и все дела. Вдалеке загудел поезд, послышался стук колес. За чернеющими прямо перед костром стволами деревьев что-то хрустнуло. Затем еще раз. Юрка заметил, как Алик притянул поближе обгорелый черенок лопаты, которым они мешали угли. Из леса в освещенный круг выскочил Пират и тут же, отряхиваясь, обдал мальчишек холодными брызгами. – Тьфу, собачатина, опять ты здесь шныряешь! – беззлобно пробурчал Алик. – А ты кого дубиной встречать хотел? – Да мало ли. Юрка все понял без лишних объяснений. Почесав черную шкуру Пирата, которому дали такое имя за отсутствие одного глаза, он бросил пару веток в огонь. Пират деловито обошел импровизированную кухню и, не найдя ничего интересного, развалился в ногах у Алика. Увязавшись за Мелким две недели назад, пес хорошо запомнил путь к жилищу троицы беспризорников и теперь наведывался сюда несколько раз в день. Иногда даже помогал собирать хворост, за что получал премию в виде куска хлеба. – Знаешь, у меня уже третий день какое-то хреновое предчувствие, – вдруг заговорил Алик, глядя в догорающие перекрестья палок. – Позавчера я поздно возвращался с огородов и… – Он помолчал. – И увидел на железной дороге человека. Он никуда не шел, просто стоял. И куда смотрел – непонятно. Но у меня мурашки по спине побежали. – И что? Только не начинай опять про черного бродягу или еще кого. Алик хмуро ковырялся огрызком деревяшки в раскаленных угольках. Пламя заглатывало березовые кости. – И вообще, – продолжал Юрка, – завязывай общаться с той компашкой городской. Они же наркоманы конченые, еще не такие бредни рассказать могут. – Сюда я их не приведу, не боись. Просто иногда проще толпой по тому же рынку побродить, так нас никто из азеров не сцапает. По небу словно чиркнули огромной спичкой, и черное полотнище вспыхнуло трещинами молний. Проснувшийся ветер пробежался по лесу, вороша мокрую листву. В кронах деревьев под грохот небес захлопали птичьи крылья. – Они, может, и наркоманы, – не унимался Алик, – но своих вроде не бросают. И то, что двое вдруг куда-то подевались, меня совсем не радует. Тем более что пропали они неподалеку от железки. Юрка не знал, что сказать. Он и сам слышал эти истории, но значения им не придавал. Прожив столько лет на улице, он повидал вещи и пострашнее, чем внезапное исчезновение парочки беспризорников. Верить россказням о непонятном типе, который поселился в районе путей, Юрка не собирался. Одни говорили о психе, возомнившем себя электричкой, другие о призраке и маньяке, третьи чуть ли не о демоне – пожирателе детей. Подобных бредней хватало, но если у железки кто и жил, так обычный бедолага без крыши над головой. Тем временем чернильные лапы сумрака медленно подбирались к костру. Вокруг все проваливалось в темноту. Дождь немного утихомирился, но безлунное хмурое небо подсказывало, что запас воды еще не исчерпан. Юрка сбил угли в одну кучу и взгромоздил сверху металлический чайник с кривым носиком. В парящем над костром облаке дыма засуетились пепельные снежинки. Огненные блики прыгали по нарисованным на чайнике цветам, а в железных внутренностях плескалась вода. – Что-то совсем он заблудился, – чихнув в ладошку, сказал Алик, прерывая мерный сап Пирата. – Я схожу, прогуляюсь, – буркнул Юрка. – Спокойнее будет. – Мысль хреновая. – Нормальная. Пока лить перестало. Может, Мелкий нашел что. – Ага, приключения он нашел, – уточнил Алик, вытирая сопли о траву. – Хватит ныть уже, гундосый. Ты за главного, сооруди что-нибудь пожрать. Мы скоро вернемся. – Юрка поднялся и накинул капюшон. – И призраков никаких без нас не лови тут. В ответ он получил только кривую усмешку и поднятый вверх средний палец. Улыбнувшись, Юрка отвернулся от костра и двинулся прямо в размазанную по ночному пейзажу лесную пасть. Глаза быстро привыкли к темноте. Теперь среди частокола древесных стволов можно было разглядеть просветы. Юрка смело шагал вперед по хлюпающей траве, изредка отмахиваясь от веток. Ноги знали дорогу не хуже его самого. Ночью тут легко можно заблудиться, но только не тому, кто много раз прошел лес вдоль и поперек. По крайней мере, тот его кусочек, что опоясывал хижину. Садоводческое товарищество находилось примерно в двух километрах от пристанища мальчишек и тянулось до самого озера. Этот рассадник крошечных домиков делился надвое узкой, накатанной машинами дорогой, обрывающейся в кукурузном поле. Второй ее конец пропадал где-то за станцией. Расстояния были не самые большие, и ребята быстро научились бродить тут по своим делам, не привлекая внимания. Все укромные пути и лазейки они давно изведали. Среди шороха листвы Юрка вдруг разобрал шепот. Едва различимое бормотание шло сзади, растворяясь в ветряных вихрях. Он резко обернулся – и ничего не увидел. Привычные деревья да пни с корягами. Легкая дрожь пробежала по телу, заставляя вспомнить слова Алика. Что-то в пейзаже было не так. Шагнув вперед, Юрка боковым зрением заметил, как одна из высоких теней медленно передвигается. Остаток пути он преодолел бегом. Когда практически невидимая тропинка окончательно растворилась во мраке, впереди послышался крик. Юрка остановился, увидев пару выглядывающих из темноты желтых глаз. Свет шел с дороги. Там гремели мужские голоса, рычал мотор, перед фарами мелькали черные силуэты. – Эй, говно! Я же тебя поймаю и голову оторву! Внутри у Юрки все похолодело, сжалось. Он замер на месте, стараясь слиться со мхом на дереве. – Да нету его здесь, – говорил второй. – Или ты собрался всю ночь по лесам лазить, как обдолбавшийся медведь? – Завали хлебало! Не мог этот оборванный сморчок так быстро свалить. Призрачные очертания людей подобрались ближе к машине. Открылась дверца. – Димон, езжай тогда дальше, а мы тут немного попасем. Если поймаешь, пихай в багажник. Разберемся с этой сукой. Машина нехотя покатилась по кочкам и рытвинам, погружая округу в темноту. Бесшумно двигаясь параллельно дороге, Юрка стал пробираться через лесную чащу. У него не было никаких сомнений в том, кого ищут эти люди. Идти скоро стало некуда. Лесной частокол плавно переходил в первые ряды деревянных домов. Выглянув из-за покосившейся березы, Юрка быстро оценил обстановку. На улице, освещенной всего двумя фонарями, было пусто. В ближайших окнах черными кляксами плескалась ночь, и только на затемненном участке через дорогу светились сигаретные огни да слышался приглушенный разговор. Юрка перемахнул через невысокий забор и плюхнулся на сырой газон. В тишине стрекотали насекомые, сердце билось в груди с удвоенной скоростью. С козырька сарая в железное ведро капала вода. Если Мелкий до сих пор не вернулся, значит, спрятался где-то неподалеку. Когда на шепот не последовало никакой реакции, Юрка поднялся и подобрался к калитке на смежный огород. Ржавые петли чуть не выдали его, но спустя мгновение он уже затаился под широкими ветвями яблони, которая не раз кормила всю их компанию. Следующий участок охраняла лишь табличка «Осторожно! Злая собака!». Самого пса никто и никогда не видел. Юрка приземлился в кусты крыжовника и на карачках добрался до конца участка. Через сетку-рабицу отлично просматривалась колонка у дороги. В растекшейся под ней луже плавали знакомые пятилитровые бутыли. Фонарный столб вылавливал из темноты только рвущуюся к лампе мошкару. Внимательно осматривая участок, Юрка едва слышно проговорил: – Мелкий, пошуми, если тут. Отвечать на вопросы Мелкий не умел. Да и вообще издавать звуки – молчал как партизан с первого дня знакомства. Где-то вдалеке сипло залаяла собака. На дорогу выехала машина, и Юрка тут же упал на траву. Прокатив мимо, огоньки задних фар миновали колонку и скрылись из поля зрения. В лоб Юрке врезалось что-то холодное. Он взглянул вверх, и еще несколько капель стукнули его по капюшону. Неприятная морось вновь опустилась на едва отдохнувшую землю. Подкравшись к забору из металлических прутьев, в зарослях малины Юрка увидел знакомую физиономию. – Мелкий, иди сюда. Только тихо. На чумазом лице испуг быстро сменился радостью, и Мелкий засеменил к выглядывающему между черных железок Юрке. – Что ж ты натворил, дурик? Хорошо хоть не на той стороне затаился. Ладно, надо сматываться. Не бойся, вроде нет никого. Сможешь перелезть? Мелкий покачал головой, ежась от холода. В тягучей тишине можно было расслышать стук зубов. – Так, – сказал Юрка, оглядываясь по сторонам. – Вон поленница, дуй туда. С нее перепрыгнешь. Мелкий кивнул и зашагал к горе бревнышек. Высота была небольшой, а мальчишка совсем легкий, поэтому забор он перескочил шустро и практически бесшумно. – Что это за черти? – спросил Юрка, надевая на дрожащего друга свою куртку. Мелкий пару раз стукнул пальцем по горлу, а потом покрутил им же у виска. – Бухарики? Ну и черт с ними, пошли домой. Вдвоем они добрались до крайнего участка, тенями мелькая в редких освещенных окнах. Юрка помог Мелкому перелезть через забор и тут же последовал за ним. Тогда они и услышали голос: – Пацаны, сюда! Юрка в ужасе смотрел на вывалившегося из-за дерева мужика, который на ходу боролся с застежкой брюк. Мелкий спиной вжался в забор. Позади ребят, на дороге, раздался свист. Послышались топот и отборный мат. – Валим! – рявкнул Юрка, дергая Мелкого за рукав. Бросившись в сторону от мужика, который не удержал равновесия на скользкой траве и рухнул вниз, ребята что есть сил рванули по раскисшей дороге. Стараясь не увязнуть в лужах, они даже и не думали оглядываться. Впереди возник еще один черный силуэт. Секунду помедлив, мальчишки переметнулись на тонюсенькую тропку – к станции. Новый путь уводил их в сторону от родного уже леса, но они хорошо знали бреши в ограждениях у железной дороги, так что укрыться там было проще простого. Оставалось только не дать себя догнать. Дождь нещадно лупил по лицам, словно был заодно с преследователями. Миновав забитую мусором канаву, ребята оказались у забора из стальных листов. Мелкий сразу нашел небольшую яму у основания и нырнул в этот крошечный подземный ход. Пока замызганные ботинки друга исчезали в черной глотке, Юрка обернулся к тропинке. Сверкнувшая молния на мгновение выхватила из черноты несколько бродящих неподалеку теней. Юрка, услышав стук с другой стороны ограждения, сполз в яму и, вдохнув запах сырой земли, оказался на территории станции. Дождь стоял стеной. Мальчишки укрылись под платформой, свет на которую падал только из окошка пристройки для рабочих, неподалеку от выхода в город. Последняя электричка давно убралась восвояси. – Переждем еще немного, пусть поутихнет, – сказал Юрка. – Потом по путям домой доковыляем, ага? Мелкий кивнул. Они торчали тут уже минут двадцать. Преследователей спугнул ливень, или они просто потеряли мальчишек из виду. Все было хорошо. Из-под платформы мрачная картинка ночи просматривалась чуть лучше. По убегающим в бесконечность рельсам отбивали барабанную дробь водяные струи. Слева мокли грузовые вагоны. Из переполненных луж змеились крохотные ручейки. – Слушай, – начал Юрка, – они точно к тебе просто так привязались? Им больше делать нечего, как за детьми носиться? Утерев грязный нос, Мелкий нехотя стал выуживать что-то из кармана штанов. – Ни черта себе! – удивился Юрка, глядя на пухленький кошелек. – Как же ты его спер-то? Если бы нас пойма… И замолк. В темноте сквозь пелену дождя он рассмотрел движение. Смутное, призрачное, как тогда в лесу. Будто нечто пробиралось сквозь мрак, вспарывало его. Вырастало из теней. – Тихо… – прошептал он, вглядываясь в ночь. Чернильное пятно исчезло. Юрка надеялся, что ему показалось, что здесь просто некому ходить, но… Но на железке действительно пропадали люди. В ограждение за путями что-то ударило. Спустя мгновение в яме показалась копошащаяся тень. Мелкий всхлипнул, и из черной воронки высунулась косматая голова. – Фу… – с облегчением выдохнул Юрка. Мелкий улыбнулся и замахал рукой, подзывая Пирата. Этого собакина он любил по-настоящему и всегда ждал его возвращения. Но до ребят Пират так и не добрался, замерев в метре от платформы. Шерсть его вздыбилась, раздалось рычание. Юрка удивленно глядел на всегда добродушную дворнягу, пока не понял, что смотрит она чуть выше. На платформу. От страшной догадки бросило в дрожь. Пират поджал хвост, сделал несколько шагов назад и посеменил в темноту. Мелкий тоже все понял и с запрокинутой головой отполз подальше от края платформы. Сверху что-то заскреблось. Притихшие мальчишки в ужасе переглядывались, а звуки становились все громче. Шепот переходил в бормотание и спускался к ним – стелился по земле, словно утренний туман. Пока не сложился в единственное различимое слово: – Нену-у-ужные-е-е… Глядя в круглые, точно две луны, глаза Мелкого, Юрка не мог пошевелиться. Ему вдруг открылась простая истина: ни звание вожака беспризорников, ни многолетнее выживание на улице, ни завидная самостоятельность не имеют никакого значения. Как ни крути, а он всего лишь маленький мальчик, которому тоже бывает страшно. В чувство его привел звук, сумевший прорваться сквозь дьявольский шепот. Паровозный гудок. Юрка, заметив вибрацию рельсов, схватил Мелкого за шиворот и рывком вытащил из-под платформы. Вновь оказавшись под дождем, они отскочили в сторону от приближающегося состава, который разрезал мрак мощным фонарем. Выхваченная электрическим светом фигура на платформе лопнула, сбросила человеческие контуры и бесформенной черной лужей уползла за перрон. Мальчишки выскочили на щебенку у параллельного пути и понеслись в сторону дома. Теперь их мало интересовали обворованные выпивохи. На железной дороге жило кое-что пострашнее. Юрка бежал впереди, стараясь не замечать царапающего лицо ливня. Едва миновав ряд отцепленных вагонов, он услышал глухой удар. Обернувшись, успел проводить взглядом исчезающие над грузовым контейнером крошечные ботиночки. – Мелкий! Металлический лязг, грохнувший сверху, сменился приглушенным смехом. Нервы не выдержали, и Юрка помчался вперед, не думая уже ни о чем. Когда он спускался к лесу у заваленного тополя, который всегда служил им ориентиром, за спиной раздался захлебывающийся крик. Так Юрка в первый и последний раз услышал голос Мелкого. Домик был пуст, стол перевернут. Юрке не хотелось думать, куда подевался Алик. Ответ казался таким простым и в то же время таким страшным. Подхватив стопку газет, Юрка вылетел на улицу. Горе-навес из веток справлялся с работой довольно сносно, но костер давно потух. Трясущимися руками Юрка разбудил заснувшие угольки, и маленькие языки пламени принялись жевать пожелтевшую бумагу. Накидав в огонь щепок, он осмотрелся по сторонам. Лес спал. Тьма подступала к костру со всех сторон. И в ней кто-то прятался. Когда в ход пошли крупные дрова, стало гораздо светлее. Юрка вновь окинул взглядом пляшущий на ветру лес и всхлипнул. В темноте двигалась высокая фигура. Она держалась подальше от костра, медленно блуждая за кольцом света. Юрка поднял брезентовую накидку с земли, оценивая запас дров, и едва сдержал плач. – Нену-у-ужные-е-е… – растягивая гласные, прошелестело черное существо. Из кустов неожиданно показался Пират. Затравленно глядя на призрачный силуэт, он подбежал к костру. Бросив в ноги Юрке толстую березовую ветку, вильнул хвостом и свернулся клубком у опрокинутого чайника. – Спасибо, малыш. – Юрка улыбнулся, почесывая Пирата за ухом. – Но даже с твоими запасами до утра нам не дотянуть. Слопав мельтешащую рядом мошку, Пират уткнулся носом в собственный хвост и засопел. Вглядываясь в спасительный огонь, Юрка вытер слезы и подсел ближе к теплу. Первые лучи рассвета ожидались здесь еще очень нескоро.Ветки
Иван Данилович любил чистоту и порядок. Он жил многолетними привычками и верил, что у каждой вещи должно быть свое место. Если кто-то из коллег по смене забывал вернуть заварочный чайник на полку или оставлял в раковине посуду, Ивану Даниловичу кусок не лез в горло. Стол в бытовке был сколочен из деревянных поддонов, и Иван Данилович, прежде чем выложить бутерброды с сыром и докторской колбасой, всегда стелил на него разворот «Советского спорта». Потому что по столу, когда в помещении никого не оставалось, бегали крысы. На глазах у людей они не позволяли себе такого непотребства, но кубики рафинада из общей упаковки пропадали исправно. Крысы воровали вообще все, что надолго оставалось без присмотра, а будь их чуточку больше, наверное, унесли бы и саму бытовку. Иван Данилович тщательно вымывал руки до и после туалета, постоянно возвращал на место передвинутое мусорное ведро и за четыре года использования телефона так и не снял с экрана защитную пленку. Над его бзиками подшучивали, не задумываясь о том, что именно такие люди наделены обостренным чувством неправильности. Там, где какой-нибудь Даниил Иванович прошел бы мимо складского ангара и ничего не заметил, Иван Данилович сразу понял: что-то не в порядке. Не так, как всегда. Неправильно. На территорию складов ночь спустилась вместе с дождем. Повозилась на главной площадке у гаража с погрузчиками да и расползлась по закромам базы. Зажглись прожекторы, в бытовке желтым пятном вспыхнуло окошко. За последней фурой запечатали ворота, проводили кладовщиков и спустили собак. Ждать утра здесь остались три охранника и пять дворняжек, с которыми даже на крыс ходить было бессмысленно. Но собаки лаяли так громко и дружно, что в глазах начальства выглядели самыми настоящими сторожевыми псами и обеспечивали себе неплохое довольствие. Одним из охранников и был Иван Данилович. Он стоял перед вытянутым ангаром, в котором поместилось сразу три склада, и осматривал крышу. Дождь шуршал в морщинах его плаща, разбивался о козырек кепки с эмблемой ЦСКА и брызгами размазывался по стеклам старых очков. Иван Данилович глядел вверх и прислушивался к чувству неправильности. Двойные прожекторы высились над каждыми воротами и бурили тьму в обоих направлениях. Конструировали ангар отъявленные садисты – летом металлический корпус нагревался и пытал внутренности смертельной духотой, а зимой промерзал так, что не спасали никакие батареи. Сейчас же с выгнутой крыши, точно с горки, по стене катилась вода. В луже под козырьком третьего склада плавали пятна света. Но не только они. Там шевелились тонкие длинные тени, словно очертания веток, сбросивших листву. Иван Данилович протер очки и присмотрелся, потому как доподлинно знал, что на обшивке ангара нет и не может быть никаких растений. Однако теперь у прожектора на ветру что-то шевелилось. Мощная лампа слепила глаза, пряча неясные контуры за электрической завесой. Иван Данилович искал лучшую точку обзора, когда прожектор сморгнул и на земле мелькнула паучья тень. Клубок веток, черное отражение того, что колыхалось сверху. Небо разразилось громом, и по металлической шкуре ангара с двойной силой затопали дождевые капли. «Или же, – подумалось Ивану Даниловичу, – чьи-то маленькие ножки». Будучи человеком въедливым и рациональным, Иван Данилович не мог просто так оставить странное происшествие. Ему требовалось объяснение. По ангару иногда гуляли птицы, кошки, забирались туда и крысы, но чтобы ветки? Какой силы нужен ветер, чтобы закинуть туда целый куст? Иван Данилович зашел в бытовку и снял с гвоздя мощный фонарь – почти что ручной прожектор. За столом на его месте сидел Пал Палыч и в разложенной скатерти-газете читал о подготовке ЦСКА к дерби со «Спартаком». На «Советском спорте» виднелись мокрые следы чашки, отчего Иван Данилович сжимал ручку фонаря сильнее, чем того требовала ситуация. Пал Палыч ему не нравился не только из-за красно-белых болельщицких пристрастий. Он, Пал Палыч, работал здесь уже пятнадцать лет, и этот факт, как ему, наверное, казалось, давал право нарушать личное пространство других (в основном, конечно, Ивана Даниловича), забывать о всяческих приличиях и вообще вести себя как хозяин квартиры с нерадивыми съемщиками. В середине смены Пал Палыч добавлял в кофе коньяк, благодаря чему становился чересчур активным и веселым, поэтому от его инициатив стоило держаться подальше. Иван Данилович поправил кепку и вышел из бытовки. Он отправился к третьему складу и осветил крышу над прожекторами. Никакого облезлого куста, никаких веток там не было. Как и странных теней на земле. Иван Данилович шагал вдоль ангара и изучал крышу на предмет непонятных наростов. С плаща текло так же, как и с неба. В жирном луче фонаря капли сменяли друг друга так быстро, что казалось, будто они висят в воздухе. Всполохи молний подсвечивали ночь, вылавливая силуэты собак из темноты. У главных ворот под козырьком сторожки, покуривая сигарету, стоял Сашок. Из-за нагромождения деревянных контейнеров залаяла Альма. Иван Данилович поспешил туда и уперся взглядом в плиту забора. Альма рычала и смотрела на самый верх, в переплетения колючей проволоки. – Тише, девочка, тише. Не шуми. Иван Данилович потрепал собаку по голове и поднял фонарь. В проволоке запутались ветки. Десятки тонких, с человеческий палец, но длинных, с полруки, прутиков, соединенных в одной крохотной точке. Иван Данилович вспомнил внука, Олежку. Тот примерно так рисовал солнце: кружок, от которого к земле тянется много-много лучей. Вверх лучи у Олежки никогда не тянулись, все тепло он дарил людям. Листьев на ветках не было, зато имелись почки – в одной из них, самой большой, и сходились все лучи неведомого солнца. Эта штука напоминала чучело гигантского паука, слепленное из оборванных сучков. Иван Данилович любил засыпать под одну телепередачу по кабельному каналу. Там всклокоченный ведущий рассказывал о различных тайнах и мистификациях: рептилоиды среди нас, база НЛО на дне Бермудского треугольника, могущественные секты правят миром. В одном эпизоде речь шла о крупных свалках и их обитателях. Это целые помойные континенты, и крысы размером с собаку там дело привычное. Ивану Даниловичу запомнился одноухий бомж, который утверждал, что его цапнула метровая многоножка толщиной с батон колбасы. Якобы на отшибе большого города еще и не такие чудовища водятся. Когда ведущий с выпученными глазами начал во всем обвинять секретные эксперименты масонов, Иван Данилович отключился. Альма продолжала лаять. Иван Данилович взял лопату и осторожно подцепил ветки. Что-то в них ему категорически не нравилось. По счастью, ничего не произошло. Иван Данилович подцепил их с другой стороны и вздрогнул. Почки открылись. Одна ветка обвилась вокруг полотна, остальные оперлись на нее и вмиг высвободились из проволоки. Иван Данилович отбросил лопату и приставшую к ней паукообразную тварь. Ударил светом вниз, почки моргнули. Альма прыгнула прямо на ветки, защелкали челюсти. Существо согнулось в многочисленных суставах-узелках, выбросило вперед пару конечностей и забралось на собаку. Альма зарычала, пытаясь скинуть тварь. Ветки шевелились, дергались – они залезали под шкуру. Альма упала на землю, завыла. Раздался хруст. Ветки вползли в нее целиком, под собакой растекалось черное пятно. Альма несколько мгновений хрипела и кашляла, а потом ветки вышли из нее сквозь плоть. Прицепились к кирпичной стене котельной, в две секунды взобрались наверх и исчезли в темноте. Когда подоспел напарник, Иван Данилович не помнил. – Как она попала-то сюда, зверюга эта гребаная? – спрашивал Пал Палыч, пока катил тачку с разорванным трупом Альмы к воротам. – Что за порода? Мать вашу, нужно дыру искать, псина ж небось бешеная. Иван Данилович не стал рассказывать о ветках. Просто не смог. Соврал, что услышал грызню, а потом нашел Альму у котельной. – Не знаю я, Пал Палыч. Ничего не знаю. – Слышь, Данилыч, а это точно не из наших кто? – Да точно, точно. Они в другой части базы бегали. – И что делать-то теперь? – Да не знаю я! Для начала Альму похоронить надо. Сашок открыл одну воротину и принял у Пал Палыча тачку. На базу он только устроился и в свои сорок шесть для коллег-пенсионеров был салабоном, поэтому без лишнего ворчания брал на себя грязную работу. – Ёптыть, ее как будто топором порубали. Мясо вон кусками, шкура… Чикатила напала? – Собачила, – сказал Пал Палыч, – из-под заборчила. – Так это, – заволновался Сашок, – а если она там меня и встретит?! Не, я все понимаю, но когда такое дело… Пал Палыч свистнул, и к воротам сбежались собаки. – Вот тебе конвой, бери кого хошь. Сашок в компании Джека и Лорда скрылся из виду, а Пал Палыч шепнул: – Пойдем помянем, что ли. Иван Данилович никогда не пил на работе и делать исключений не собирался. Хотя после увиденного выпить ему хотелось чрезвычайно. Не каждый день наблюдаешь смерть такблизко, особенно столь страшную. – А на воротах тогда кто? Закрывать нельзя, пока Сашок там. – Ну, не хочешь – как хочешь. Наше дело – предложить. Пал Палыч побрел в сторону бытовки, озираясь вокруг. Дождь кончился. В густой черноте над головой возникали прорехи. Иван Данилович подошел к открытой воротине и посмотрел на разбитую дорогу. Слева – ряды полузаброшенных гаражей, пустырь и лента железной дороги, справа – склады, еще склады, замороженные стройки. Их база располагалась в промзоне неподалеку от метро «Нагорная», можно сказать, на отшибе. И что-то вроде свалки рядом имелось. Значит, масоны виноваты?.. Иван Данилович устало приземлился на лавочку и только теперь, в свете лампы под козырьком сторожки, увидел, что покрыт бурыми пятнами. Он дернулся, вспрыгнул, будто оторвавшись от раскаленной сковороды, и скинул плащ. Сердце ухало, давило на ребра. Пальцы дрожали, между ними подсыхала кровь. Иван Данилович стал тереть ее, скрести ногтями, выцарапывать из морщин. Он всхлипнул, во рту сделалось горько. Медленно-медленно, ворочая внутренности, подкатывала горячая тошнота. – В-вылезло… Что… – захлебываясь воздухом, шептал Иван Данилович. Он упал на колени и опустил руки в лужу. По щекам катились слезы, рядом, виляя хвостами, кружили собаки. – Откуд-да… В-вылезло… Он поднял голову к деревьям. Ветер перебирал ветки, шумела листва. – Где? Где?! Вернулся Сашок и, подхватив Ивана Даниловича под мышки, усадил того на лавку. Спустя двадцать минут они пили чай за столом в бытовке и слушали сбивчивый рассказ о ветках. Ближайшая машина ожидалась через два часа, а рабочие – через час, так что о дежурстве у ворот временно позабыли. Иван Данилович привел себя в порядок в туалете и все-таки отхлебнул коньяку. К его удивлению, безумная история не вызвала смеха и подколок. Ровно наоборот. – На той неделе перед сдачей смены убирался у котельной, – заговорил Сашок. – Гляжу, короче, у контейнеров хрень какая-то валяется. Типа как прутья из метлы вытащили и пучком бросили. Ну, я струей из шланга грязь по площадке гоняю, листья, туда-сюда, оборачиваюсь, а хрени уже нету. Сдристнула, ёптыть. А потом в углу нахожу разорванного вдрызг кошака. Свеженького. Вот и думайте. Пал Палыч тоже видел ветки. Еще месяц назад. – Когда крыс травил во втором ангаре. Разбросал эту дрянь по углам, а потом смотрю: крыса, жирная такая, прям на меня пялится с ящиков. Сидит и натурально пялится! Вот, думаю, совсем оборзели, и тут крыса эта напополам раскрывается, а из-под нее ветки во все стороны. И шмыг-шмыг по стене в дыру на потолке, помнишь, Данилыч, где в прошлом годе ласточкины гнезда разоряли? Вот там. Не то насекомое на полметра, не то растение живое, поди ты разбери, етиху мать. Пал Палыч плеснул коньяку в крышку от термоса, жестом предложил коллегам и, когда те отказались, махнул одним глотком. – Я потому и бухать тут начал! Когда знаешь, что где-то по территории ползает такая кракозябра, свихнуться можно. Причем я-то думал, что она по мелким гадам специалист. А тут – собаку задрала! Иван Данилович был в полнейшей растерянности. Ветки никак не укладывались в его видение мира, сформированное годами, людьми и правилами. Их просто не могло существовать в его системе координат. Обычно Иван Данилович нехотя впускал в свою жизнь что-то новое, а тут новое влезло само. Грубо, через боль, сквозь смерть. – Так. Если пойдем к начальству, в лучшем случае засмеют, – рассуждал он вслух. – В худшем, что скорее всего, спишут на пенсию. Этим только повод дай. Выходит, работу менять? Пал Палыч хмыкнул: – Нужны мы кому-то с тобой в таком возрасте. – А вы чего, – сказал Сашок, – реально думаете, что эта хрень может и человека завалить? Вспомнив, как ветки секунд за пять разорвали взрослую собаку, Иван Данилович кивнул. С котом и крысой было то же самое, и ведь они, в отличие от Альмы, вряд ли представляли угрозу. Эта жестокость казалась бессмысленной, неправильной. Ветки не ели, они убивали ради убийства. Сменщикам сказали, что Альма убежала. Сашок ляпнул что-то про ветки, хотел проверить реакцию, но ребята виду не подали. Может, и не встречались они с этой напастью. После смены Пал Палыч с Сашком потопали через железнодорожные пути в сторону Варшавского шоссе и автобусных остановок, а Иван Данилович поплелся по Электролитному проезду к «Нагорной». Он вернулся в привычный мир, в персональную зону комфорта, где все расписано по минутам и разложено по полочкам. Раннее утро, люди спешат на работу, а он идет домой. Знакомые лица, знакомые машины, знакомые запахи: газовая заправка, свежая выпечка у метро, духи толстухи-собачницы… Чувство неправильности кольнуло вновь, и Иван Данилович замер. Толстуха-собачница уже вторую неделю ходила без свиты. Обычно дворняги поджидали ее у выхода из метро и провожали до проходной офисно-складского здания, а женщина оделяла их приготовленными заранее гостинцами. Если Иван Данилович встречал собачницу на полпути к метро, то переходил на противоположную сторону дороги, чтобы не пробираться через ее плешивое войско. Но в последнее время собак не было. Ни у подземки, ни в переходе у обогревателей, да и, похоже, нигде в районе. Сейчас толстуха шагала навстречу и что-то оживленно рассказывала такой же пышной брюнетке: – …эти догхантеры, кто еще. Потравили, поубивали. Без ошейников, чтоб ты понимала, собачки бегали – вот и все, сразу виноваты… Иван Данилович спустился в переход и купил свежий номер «Советского спорта». Он жил неподалеку, поэтому всегда ходил пешком. По пути заглянул в магазин, где взял блинчиков со сгущенкой, сока и два киндер-сюрприза. Сегодня к Ивану Даниловичу приезжал любимый внук. Пяти часов сна хватало Ивану Даниловичу с запасом. В тринадцать ноль-ноль, одновременно с будильником, он проснулся бодрым и отдохнувшим. Ночной кошмар и последующая истерика казались какой-то нелепостью, даже теоретически невозможной в его размеренной жизни. Он принял душ, приготовил бутерброды с сыром и докторской колбасой, заварил чаю. Футбольная трансляция была намечена на половину второго. Обычно Иван Данилович смотрел игры ЦСКА с пивом, селедочкой и чесночными сухариками, но только не в день няньки. За шустрым Олежкой нужен был глаз да глаз – разумеется, трезвый. И эти полные смеха и открытий часы наедине с внуком не способно было заменить никакое дерби. ЦСКА проиграл со счетом ноль – три. Иван Данилович снял с плеч шарф «армейцев», вздохнул и выключил телевизор, на экране которого довольные спартаковцы поздравляли друг друга. – Куплено все. Сдали матч, паршивцы. Следующие полчаса Иван Данилович превращал смертельно опасную квартиру в худо-бедно пригодное для ребенка место. Проверял резиновые нашлепки на углах столов и тумбочек, запирал ящики, заново связывал ручки по обе стороны дверей, чтобы они, двери, полностью не закрывались, и Олежка ничего себе не прищемил. После футбола расположение духа было прескверным, а тут еще в окно застучал дождь. Значит, на горку сходить не получится. Иван Данилович пожарил первую партию блинчиков и достал сок из холодильника. Расставил Олежкиных динозавров на столе, снял с верхней полки книжного шкафа сказки. Но внука не привезли ни в четыре, как обещали, ни в пять. Дождь усиливался. Квартира Ивана Даниловича располагалась на первом этаже, и росшая под окнами береза при сильном ветре скребла стекло. Скребла ветками, точно паучьими лапами. Иван Данилович смотрел во двор и слушал шум капель, что плясали на карнизе. Под лавкой у подъезда жались друг к другу кошки. Они выглядели довольными. Ветки. Могли ли они стать причиной исчезновения собак? Иван Данилович слышал о догхантерах, но никогда их не видел, потому не очень-то и представлял, как те работают. А вот ветки он видел. Олежка не приехал и в шесть. Иван Данилович со стационарного телефона позвонил себе на мобильный – все работало. Звонить первым и теребить кого-то он не любил, считал, что навязывается, да и неинтересно никому слушать стариковское ворчание. Иван Данилович покрутил в руках телефон и вновь подошел к окну. Зятек был парнем необязательным, всегда опаздывал, мог даже из кровати сонным голосом соврать, что уже подъезжает. Такой вот человек, ничего не попишешь. Говорят, женщины подсознательно выбирают мужчин, похожих на своих отцов. Иринка отчего-то выбрала полную противоположность Ивану Даниловичу. Ветер подул в сторону дома, и в окно уперлись ветки. Нужно спилить. Они же не должны так близко к дому расти. Раньше эта неправильность Ивана Даниловича не раздражала. Он даже подумывал примостить там кормушку для птиц. Выглянешь за окно, а на расстоянии вытянутой руки – жизнь, синички чирикают, семечки клюют. Но после ночной смены многое поменялось. Телефон запиликал стандартной мелодией, но звонила не дочка, а один из сменщиков. Он как раз сегодня в ночь заступал, а тут вдруг попросил подойти. Иван Данилович сослался на то, что обещал посидеть с внуком, но сменщик, тоже, кстати, Олежка, не отстал. Дело касалось гаражей – начальство наконец-то дало команду на снос, поэтому нужно было что-то решать. Желательно, поскорее. Иван Данилович сказал, что посмотрит по обстоятельствам, и повесил трубку. Свет включать не хотелось. В квартире совсем потемнело, динозавры на столе перестали отбрасывать тени. Иван Данилович посмотрел на часы, секундная стрелка которых разгоняла тишину. Все правильно, раз звонил Олег, значит, он уже на базе. Начало восьмого. Иван Данилович собрал динозавров в коробку и спрятал в ящике. Снял с турника в коридоре самодельные качели, и тогда зазвонил телефон. – Пап! Ну прости, прости, пожалуйста! Совсем из головы вылетело, хотела же позвонить! – Да ничего, Ирин, все нормально. Как вы? – Нас тут в гости пригласили, за город. Большой компанией поехали, с детьми, на трех машинах. Как стали мужики футбол обсуждать, так я и вспомнила, что не предупредила, блин! – Все нормально. Жаль, конечно, но чего уж теперь. – Как твои-то сыграли? – Никак, дочка. Никак. – Ну ладно, пап, я тебе на неделе позвоню еще. А то тут шумят, сам слышишь. Пока, целую! От Олежки привет! Дождь закончился, ветер стих, но ветки по-прежнему царапали окно. Иван Данилович осмотрел дерево, двор. Все как обычно. Он плотно закрыл форточку, задвинул шторы, но звук не исчез. Скрёб-скрёб-скрёб. Он накинул плащ, кепку и вышел из дома. Влажные улицы блестели в огнях фонарей, грузовики, точно поливальные машины, рассыпали брызги по тротуарам. У метро играла музыка, слышались пьяные смешки, гремела ругань на ближнезарубежном наречии. В девять часов вечера в Москве все только начинается. Иван Данилович шагал по Электролитному проезду в сторону железной дороги и присматривался к кронам тополей, стараясь обходить их по дуге. Ветки могли забраться куда угодно, а деревья вдоль тротуара – отличное прикрытие. По левую руку за забором высился скелет недостроя, брошенный года полтора назад. Справа, за двумя стальными листами с табличкой «Территория охраняется собаками», ржавыми балками топорщился другой объект-призрак. Первый ярус давно накрыло кустами, стальные кости оплели растения. Природа пожирала промзону, перерабатывала все ненужное, и прямо сейчас Иван Данилович чувствовал себя таким же ненужным. Возле гаражей Ивана Даниловича встретил Олег. Давно ходили разговоры, что все постройки в низине у путей будут сносить. У городского начальства были свои виды на эту территорию. А если процесс пошел, значит, через годик-другой не станет и складской базы. – Короче, расклад такой, – объяснял Олег. – Гаражей тут шестнадцать штук, как раз на четыре смены поровну. Отдельных людей для этой работы нанимать не будут, денег-то жалко. Вот, стало быть, весь хлам из них выгребать нам. Дневники прямо во время смены свою часть могут раскидать, а нам либо уже после на два-три часа задерживаться, либо кто как может. Не впотьмах же тут ползать с фонариком. Спешки нет, главное – до зимы управиться. С владельцами, где они есть, вопросы улажены. Здешние гаражи были обычными контейнерами, чуть приличнее гаражей-ракушек. Гробами из металлолома с таким же металлоломом внутри. Большая часть не использовалась уже много лет. – А поздоровее найти они никого не могли? Вон ребята со складов за пару дней бы тут и управились. – Господь с тобой, Иван Данилыч! Они же делом занимаются, деньги для фирмы добывают денно и нощно. Это мы, нахлебники, чаи гоняем и дрыхнем на посту. – И то верно. – Короче, когда вычистим все, свалку забьем, техника придет гаражи эти забирать. Ломать вроде как не планируют. Покрасят да и поставят еще где-нибудь. Хотя это уже не наше дело. – Вопрос-то в чем? – А вопрос в том, как их по сменам распределить. Там ведь где пусто, где густо, а платят за каждый одинаково – аж штуку на всех. Мы с мужиками уже взяли первые четыре от ворот, они полупустые. Тут уж извиняй, повезло, что приказ пришел под нашу смену. А вот из остальных – выбирай любые. Кое-где среди хлама можно и полезного чего для себя урвать, просто покопаться надо. Погляди, короче, и мне скажи. Я вроде как главным по этой части назначен. Даже ключи от запертых выдали. – Олег протянул Ивану Даниловичу связку. – Иди, ознакомься. Тебе, как местному, преференции, ну и ночная смена за ночную горой. А то завтра с утра набегут дневники, не до выборов будет. Кто-то махнул бы рукой в сторону первых попавшихся гаражей, не забитых под завязку, и отправился домой отдыхать. Или просто-напросто убежал бы, памятуя о здешнем обитателе. Но только не Иван Данилович, у которого с детства чувство ответственности было сильнее чувства страха. Он попросил у Олега фонарик и перчатки, взял ключи и начал осмотр. Дело касалось не только его, но и коллег по смене. И раз уж ему выпала возможность облегчить всем работу, он должен сделать все четко и правильно. К тому же не так страшен черт… Иван Данилович, обходя гаражи, убеждал себя, что ветки не нападут на человека. В конце концов, крысы, кошки и даже собаки – это одно, а тут совсем другой разговор. Главное, шуметь. Греметь мусором, хлопать воротами, кашлять. Чтобы ветки услышали издалека, не сунулись. Они ведь все время убегали, значит, опасались. Иван Данилович считал, что такое поведение вызвано обычным животным страхом перед более крупным существом. На каждый гараж он тратил от силы пару минут. Отворил дверь или воротину, быстренько прикинул фронт работ, мысленно записал результат в кондуит и двинулся дальше. Мусора хватало. Кое-что можно было сдать на цветмет, но с таким количеством больше мороки, чем прибыли. Внутри одного из гаражей луч фонаря упал на эмблему ЦСКА. Иван Данилович улыбнулся, осветил флаг армейцев на стене и решил тут задержаться. Гараж, несмотря на захламленность, был довольно уютным. В дальнем углу пылились стол с табуреткой и креслом, а чуть правее на коротких ножках стояла «буржуйка», врастая дымоходом в крышу. К одной из стен были привинчены полки, на которых под слоями паутины хранились запчасти, консервы, аптечка и даже игрушки. Иван Данилович снял оттуда пластмассового медведя, тряхнул его, и медведь закатил глаза. Коробки с пожелтевшими фотографиями, футбольный мяч с росписями-закорючками, дипломы и благодарности в рамках – здесь уместилась чья-то жизнь. По крыше от стены до стены что-то простучало. Пробежало. Звукопроводимость была прекрасная – все равно что выйти под град с кастрюлей на голове. Тук-тук-тук. Иван Данилович посветил наверх – дыр не обнаружилось. Он сглотнул, поправил козырек кепки и обернулся к двери. В еле заметных отсветах уличных фонарей на изгибах ворот плясали причудливые тени. По земле, точно призрачный кисель, стелился туман. «Нужно шуметь», – думалось Ивану Даниловичу, пока стук приближался к воротам, а тени вырисовывались в облезлые ветки. Стены этой железной коробки тут же разнесут любой звук, нужно как следует пнуть, громыхнуть что есть силы… Но силы покинули Ивана Даниловича. Их хватало ровно на то, чтобы светить в участок над воротами, где шевелилась тьма, где ее щупальца складывались в пальцы с бесконечным числом фаланг. Со стороны пустыря донесся кошачий визг. Следом еще один. Похоже, самцы делили территорию. Тени дрогнули, стук прошелся вниз по стене и растворился в шепоте ветра в дымоходе. Иван Данилович выбрался наружу и закрыл гараж, попав ключом в замочную скважину лишь с третьего раза. Туман загустел и оплел землю молочной паутиной. Осматривать последний гараж совершенно не хотелось. – Ну что, Иван Данилыч, выбрал? Из-за громыхания поезда он не услышал, как подошел Олег. Сердце в груди отстукивало тот же танец, что и ветки на крыше несколько минут назад. Быстро и противно. – Да, Олежа, можешь записывать. Этот вот только не успел проглядеть. – Ну так давай посмотрим, какие проблемы. Олег забрал связку ключей и ловко скинул навесной замок. Скрипнул проделанной в воротах дверцей, шагнул внутрь и тут же вылетел обратно. – Матерь божья, ну и вонища! Крыса, видать, сдохла. А то и не одна. – Он прикрыл дверь и состроил брезгливую рожу. – Тьфу. Не хватало нам еще падаль разгребать. Последний гараж оставили на откуп дневным сменам, пусть между собой делят такое богатство. Олег зафиксировал в блокнотике выбор Ивана Даниловича и ушел на территорию. Иван Данилович заговорил было о странностях на базе, о звуках и тенях, но, увидев недоумение на лице Олега, перевел все в шутку. Ветки остались только их проблемой. Олег забрал и фонарь, и связку ключей, но последний гараж запирать не стал. Иван Данилович поднял с земли кусок арматуры и от души постучал по стенкам. Нужно было проверить догадку. Когда гараж перестал гудеть, он включил фонарик на телефоне и шагнул в смрадную коробку. Дышалось с трудом, но задерживаться тут Иван Данилович не собирался. В покореженной стене на уровне потолка была дыра. Ее рваные края загибались внутрь, напоминая ржавые челюсти. Иван Данилович вспомнил, что во время урагана два года назад на один из гаражей завалился столб. Он прошел чуть дальше и обнаружил закладку. За горой старых покрышек располагалось крохотное кладбище. Тела были в разной стадии разложения, поэтому не все можно было так сразу распознать. Пара голубей, собака, то ли гигантская крыса, то ли кошка с облезлым хвостом, а еще… Иван Данилович дернулся, ударившись коленом о мотоциклетную коляску, и взвыл. На полу покоился трупик ребенка. Когда в дыре что-то завозилось, Иван Данилович вылетел прочь. До следующей смены ему предстояло многое обдумать. Они собрались в бытовке. Пал Палыч налегал на коньяк, Сашок курил, пуская кольца дыма под потолок. – Падальщик, значит. Ну тогда это многое объясняет, етиху мать. – А не должны мы полицию вызвать, не? Или МЧС? – спросил Сашок. – Ребенок же, это тебе не пес чихнул, я извиняюсь. Пускай разбираются, ищут убийцу, а там, может, наткнутся на ветки эти чертовы. – Дело говорит Сашок. Ты вообще уверен, что именно ребенка видел? Вдруг кукла какая? Иван Данилович задумался. Было темно, он нервничал, задыхался от запаха, прислушивался к каждому шороху. Мог и напутать, нафантазировать. Но трупик этот до сих пор стоял у него перед глазами. Слишком реальный, чтобы быть выдумкой. Как бы ни хотелось обратного. Закрыв ворота и оставив собак за главных, они двинулись к гаражам. Сашок прихватил с собой алюминиевый прут, Пал Палыч обновил батарейки в фонаре-прожекторе и теперь нервно гонял электрический кружок по всей округе. По путям буквально в паре десятков шагов то и дело грохотали составы, по направлению к метро светились огоньки, но в промзону спустилась непроглядная тьма, едва разбавленная подслеповатыми уличными фонарями. Цивилизация была рядом и одновременно бесконечно далеко отсюда. Воняло так же, но трупов не было. Ни одного. Фонарный луч облизал каждый закуток гаража и уперся в лицо Ивана Даниловича. – Перепрятал… Учуял, значит, опасность. Засуетился, паразит. Пал Палыч опустил фонарь. – Умная срань. – Так делать-то чего теперь? – спросил Сашок, проводя прутом по краям дыры. По входу в нору. – Идеи есть? Иван Данилович сжал в кармане ключ от гаража с «буржуйкой». Идея была. Пока Пал Палыч ходил за канистрой, Иван Данилович собрал сушняка у гаража, подготовил старых газет на растопку. Тщательнейшим образом проверил печь – особенно засов на дверце и заслонку. Похоже, ветки затаскивали добычу по стене, но хватит ли им сил выбраться из «буржуйки»? Иван Данилович надеялся, что нет. Одно дело – тащить, как те же муравьи, и совсем другое – выламывать железо. Дымоход был достаточно широким, но веткам хватило бы и мелкой щели. Главное, чтобы они учуяли запах. На вид корпус гаража был целым, без дыр и лазеек, куда можно протиснуться – Пал Палыч прошелся с фонарем от и до. Снаружи крикнул Сашок, и ему открыли ворота. Он закатил внутрь тачку, вытер лоб и сплюнул. – Последний раз я такой херней занимаюсь! Нашли, ёптыть, разорителя могил! Альма выглядела – и пахла – ужасно. Она больше не напоминала собаку. В тачке лежал комок из грязной шерсти, сломанных костей и мяса, в котором что-то копошилось. Останки Альмы облили бензином и уложили в печь на сушняк, газеты и обломки деревянного манежа. Пал Палыч подцепил лопатой выпавший из «буржуйки» шмат и, выйдя из гаража, закинул его на крышу. Поближе к трубе. Они заперлись на все засовы и стали ждать. Фонарем по-прежнему руководил Пал Палыч, так что луч света беспрерывно гулял по гаражу и откликался на любой шорох снаружи. Запах бил в нос, норовил свалить, но они терпели. Через три часа они сроднились и с запахом, и с темнотой. Сашок откинулся в кресле, сжимая в руке прут и зевая, как заведенный. Пал Палыч зафиксировал фонарь на столе и направил свет на печку. Иван Данилович крутил колесико зажигалки, наблюдая, как от коротких вспышек раскалывается мрак. По корпусу с той стороны что-то царапнуло. Труба шевельнулась. Сверху понеслось знакомое «тук-тук-тук». Сашок вскочил с места, Иван Данилович поджег свернутую в трубочку газету. – Ну, с богом… – прошептал Пал Палыч, хватаясь за заслонку. По дымоходу вниз заскользило, поползло, зашипело. Ветки опустились в Альму, засопели, будто внутри включился насос. Чавкнула гнилая плоть. Пал Палыч скрежетнул заслонкой, отрезая твари путь наверх. Глаза-почки раскрылись и уставились на Ивана Даниловича. – Не спи! Иван Данилович почувствовал жар на пальцах и пришел в себя. Он бросил горящий комок в печь, и огонь накинулся на добычу. Сашок тут же захлопнул дверцу, дернул ручку засова. В печи с жутким воем заворочалось нечто. «Буржуйку» трясло, дым валил в гараж. На крыше загрохотал дождь. Пламя в печи пожирало ветки, но тварь ломилась наружу. Одна паучья лапа сумела пролезть под дверцу. Сашок охаживал ее прутом, когда петли не выдержали. Дверца отлетела, и из «буржуйки» в снопе искр вывалилось обугленное существо. Состоящая из одних только конечностей тварь шарахнулась в сторону и воткнулась в угол гаража. Многочисленные лапы перебирали в воздухе, цеплялись за стены и вскоре оказались на потолке. – Ёптыть… – выдохнул Сашок. Ветки упали на него и ввинтились внутрь. Сашок рухнул на колени, изо рта брызнула кровь. Через дыру в спине торчали черные лапы. Тварь зарывалась глубже. Пал Палыч шагнул к Сашку, но тот дернулся всем телом, заорал. На руках лопалась одежда, а с ней и кожа. – С-с-с… – прошелестел Сашок, из последних сил указывая на канистру. – С-спал-лите… Из его горла вырвалась ветка, и Сашок повалился на спину. Он умер. У Ивана Даниловича все плыло перед глазами, но он сообразил, что ветки оказались в ловушке. Им не хватало сил, чтобы выбраться из тела. – Срань такая, гореть тебе, сука, с потрохами! Пал Палыч опорожнил канистру на Сашка и придавленную его телом тварь. Росшие сквозь плоть ветки шевелись все медленнее. – Сука! Иван Данилович нащупал зажигалку. Он посмотрел на Пал Палыча, тот кивнул. Свет сдвинутого в суматохе фонаря разрубал гаражную тьму по диагонали, отсекая фрагмент с Сашком и ветками. В печи до сих пор полыхало, крошечные островки огня были и на полу. Барабанная дробь дождя стала оглушительной. – Неправильно это… – прошептал Иван Данилович. – Поджигай. Иван Данилович присел и крутанул колесико над лужей бензина. Пламя волной прошлось до Сашка и принялось жевать труп. Ветки задергались, почуяв огонь. Зашипели. Тело Сашка шевельнулось, будто пытаясь подняться. Иван Данилович сполз по стене и зажал уши, стараясь заглушить предсмертные крики твари. Ветки беспорядочно вырастали из тела Сашка и колотились об пол. Брызгами разлеталась кровь. Вокруг в каком-то страшном танце наползали друг на друга тени. «Все это неправильно, – подумалось Ивану Даниловичу. – Жутко». Смрад горелой плоти подгонял тошноту. Дым заволакивал гараж, мешал дышать. Нужно было выбираться. На свежий воздух. Под дождь. И только когда Пал Палыч освободил ворота от запоров, Иван Данилович опомнился. Чувство неправильности проснулось в последний раз. Он слышал только удары дождевых капель о крышу, но не характерный шум. Не стелющееся по земле «ш-ш-ш»… Это понимание пришло за долю секунды. Так же быстро, как в Пал Палыча перебралось паукообразное существо с двери. Так же быстро, как оно протянуло внутри свои ветки и вырвалось сквозь кости, мышцы и одежду. Так же быстро, как живой человек превратился в разорванный на части труп, ожидающий «дозревания». Не было дождя. Не было догхантеров. Не было одной неведомой твари на отшибе города. Иван Данилович пытался подсчитать количество вползающих в гараж существ. На своих бесконечных ножках они двигались по полу, по стенам, по потолку. Спешили к нему. Он бросил считать, когда ветки проткнули кожу сзади. Казалось, позвоночник пробирается вглубь тела. Извивается, роет ход. Внутри лопалось и рвалось. Иван Данилович упал на колени и заметил свою тень на стене. Он напоминал динозавра с большим спинным гребнем. Олежка таких очень любил. Вспомнить название динозавра он не успел. Ветки вошли в мозг, и Иван Данилович умер.Мешок без подарков
Если долго вглядываться в Деда Мороза, Дед Мороз начнет вглядываться в тебя. У Ницше было чуть-чуть по-другому, но ему не доводилось оказаться в Великом Устюге перед самым Новым годом. Город наводняли седовласые бородачи всех мастей и возрастов, однако такого подозрительного за свою недолгую карьеру Снегурочки Кира еще не видела. Маленький и сморщенный, точно соленый огурец, в дырявой шубе наизнанку, вместо шапки – серебристый колтун, перетекающий в бороду из сомнительного реквизита. Страшилище росло из сугроба у обочины, а на вылепленном из грязного снега лице сверкали отблески лунного света. Даже в темноте чудилось, что невидимые глазки наблюдают за ползущими по дороге санями. Словно в ледяную корку был замурован бродяга, который вот-вот поднимет руку и попросит подвезти. Санями управлял Марк, самый странный Дед Мороз из тех, что доставались Кире в напарники. Энергичный и веселый во время выступлений, любимец детей и лучший друг родителей, за порогом он превращался в угрюмого молчуна. Сгорбившийся на сиденье Марк больше походил на Харона в лодке с мертвецами, чем на волшебного старичка с полными санями подарков. – Мне так-то за хорошее настроение не доплачивают, – жаловался он с утра, едва не подпалив накладную бороду сигаретой, – поэтому и веселюсь я в строго оговоренное время, после предоплаты. Вот и сейчас он был отключен от внешнего мира. Гнал вперед болезного вида кобылу и мотал головой под звон многочисленных колокольчиков. Идея с санями и лошадью принадлежала начальству. Клиенты довольны, в городе встречают целыми дворами, заказов полно, значит, и цену поднять не грех. А то, что кому-то в этой повозке мерзнуть весь день, так это дело житейское, бывает. Зато платили очень прилично, особенно по меркам студентки великоустюжского меда, которая только начинала самостоятельную жизнь. Кира куталась в пледы и всматривалась в огоньки впереди. Новогодняя ночь выдалась безоблачной, спокойной. В ногах, как любимый кот, урчал переносной генератор, раскрашивая повозку во все цвета электрической радуги. Свет редких фонарей вдоль трассы выедал в темноте оранжевые треугольники, точно куличики из песка. За спиной в городе громыхали первые фейерверки. Машин практически не было. Они проехали взятый в плен шеренгами елок участок дороги и миновали деревню Журавлево. Прямо по курсу лежал последний пункт назначения – Коробейниково. Последний, но самый важный, потому что этот визит Кира оплатила из своего кармана. – Как мальчишку зовут? – спросил Марк. – Коля. Ты только по стишкам его не гоняй долго, не любит он их. И не пей с отцом, а то тому лишь бы повод. Марк хмыкнул: – С тем не пей, с этим… Так и околеть недолго. – Успеешь еще, десятый час только, – сказала Кира, проверяя мобильник. В общаге все сейчас шампанским год провожали, а ее от одного вида застолий выворачивало. За неделю насмотрелась на много лет вперед. – Ну-ну, – пробурчал Марк, и сани покатили к деревне. Их встретили на улице большой компанией, но предложить Деду Морозу рюмку никто не догадался. Марк распрямил горб, расправил плечи и фирменным басом принялся расписывать свои приключения на пути сюда. Кира с улыбкой смотрела на довольного Кольку. Он носился по снегу, запрыгивал в сани, пытался читать стихи, прятался за взрослых, а потом выныривал в маске медвежонка, на которого и впрямь был похож в своей лохматой шубе, ушанке и рукавицах. – Вот это Топтыгин! – воскликнул Дед Мороз. – Ну и егоза! – А как зовут вашу лошадь? – поинтересовался Колька, мастер нескончаемых вопросов на любую тему. – А почему она одна? Должно же быть три! Марк на секунду завис, а потом вспомнил про мешок: – Давай-ка мы лучше посмотрим на подарочки! Только пара цветастых коробок смогла угомонить Кольку, который собирался кормить лошадь конфетами. Пока брат раздирал упаковку прямо в санях и под чутким наблюдением Марка изучал игрушки, отец бубнил Кире на ухо. Рассказывал, как ходил за елкой и как сильно-сильно соскучился по своей доченьке любимой, Снегурочке-красавице. Хвастался другом, который обещал устроить на работу в очередной раз. Но Кире было неинтересно слушать заплетающийся язык, неинтересно смотреть на залитых по самые веки папиных гостей. Интересовал ее только снеговик у соседнего дома, схоронившийся в тени крыльца. Снеговик, сделанный под Деда Мороза. Шуба наизнанку, борода, грязный снег вместо лица – все то же самое, только у этого был посох в виде громадной сосульки. – Ну а чего губы надула-то? Чего такого-то? – говорил отец, по-своему расценив молчание Киры. – Ну посидели. Ну выпили, да, выпили. Так ведь праздник, все как полагается ведь. Что ж нам, плакать тут, что ли? – Мама и в Новый год в больнице дежурит, – с трудом сдерживаясь, произнесла Кира, – а ты тут чего устроил? Дружки отца помалкивали, запихнув руки в карманы и переминаясь с ноги на ногу. Эта компания черных истуканов напоминала Кире колядующих времен язычества, которые изображали духов. Вместо масок – проспиртованные пластиковые лица, вместо «деда», самого страшного и молчаливого духа – жуткий «снегомороз» с ледяным посохом. Оставалось вывернуть тулупы и пойти колядовать по деревне. – Мама твоя, знаешь, мама – она еще о-го-го как со своими там отметит, нам всем не снилось. Вспомнила маму, ишь. Вспомни еще, где и с кем она там в городе ночует, пока мы с Колькой тут вдвоем, сами по себе. Колька вовсю хозяйничал в санях. Дергал за поводья, гремел колокольчиками и пытался раздобыть еще подарков. Кира хотела подойти к снеговику поближе, рассмотреть это странное чучело, но отец взял ее под руку и зашептал, точно заговорщик: – Кир, понимаешь, ну… тут ведь случай какой. Возьмите Кольку на часок, а? Покатайте там, туда-обратно, красота ведь кругом какая. Зима, чудеса. Тепло ж на улице, а Кольке как раз нужно шубу новую выгуливать. Мне сходить там надо, ну, по делу одному. – К Кате этой, что ли? Или как там ее? Может, вам еще и постелить в моей комнате? Отец поморщился и опустил голову, разглядывая следы на снегу. Нервно пожал плечами, как виноватый школьник. Он был жалок и сам это понимал. – Зря ты так, я ж ведь… Казалось, холод чуточку прояснил сознание, прочистил мозги, но вернувшаяся на лицо ухмылка разрушила иллюзию. – А, ладно. Колька! – крикнул он, повернувшись к саням. – Поедешь с Дед Морозом кататься, а? Салюты в городе смотреть поедешь? С лошадкой на санках! После такой подлянки загнать ребенка домой не было ни единого шанса. Их ждали на пересечении Гледенской и Песчаной улиц, километрах в пяти от деревни. Марк, отключивший режим доброго Деда Мороза, просто взбесился, узнав о новом пассажире. Видимо, решил, что обратно везти Колю именно ему и второй ходки не избежать. – А ваша шуба теплей, чем моя? Марк убедительно прикидывался глухонемым, но Колька не сдавался: – А вы когда-нибудь залезали в дом через трубу? Кира усмехнулась, похлопала Марка по плечу, но тот наотрез отказывался развлекать ребенка. – А из чего делают бороду Деду Морозу? – Коля, видишь, дедушка устал, старенький он, так что лучше к нему не приставай, – сказала Кира, заворачивая брата в плед. – Да я знаю, что он ненастоящий Дед Мороз. И даже не дедушка никакой. – Господь всемогущий, – притворно изумился Марк, на развилке уводя сани вправо, – нас раскрыли! Колька захохотал, и ребяческий голос эхом зашагал по пустынной дороге. Греться под пледом оказалось слишком скучно. Кольке не сиделось на месте, он вылавливал крупные снежинки, теребил светоотражатели и лампочки, криком «ура!» встречал любой распускающийся в небе цветок фейерверка и привычно сыпал вопросами. С какой скоростью едут санки? Сколько осталось до Нового года? Когда приедет мама? Почему второй Дед Мороз такой маленький? И тут Кира увидела его сама. Это был не снеговик. Знакомый коротышка стоял посреди дороги, выглядывал из шубы-кокона, а с его лица сыпались льдинки, точно лоскуты мертвой кожи. Оттаявшая борода походила на собачью шкуру, в черном провале пасти кривым частоколом наползали друг на друга челюсти. – Привет, Дед Мороз! – закричал Колька. Старик повернул голову к мальчишке, вдохнул и со свистом выпустил воздух. Лошадь заржала и дернулась вперед. Чертыхнулся Марк. Ледяной вихрь ударил в сани, окутывая их серым крошевом. Кира повалилась на пол и прикрыла собой Кольку. В спину вонзились холодные колючки, мороз сдавил кости. Стало нечем дышать. – Пошла! Пошла! – орал Марк в молочном тумане. В небе вспыхнул огненный шар и развалился на тысячи искорок. Вторая волна фейерверков смела с неба темноту, и облако снежинок над санями рухнуло в дорожную кашу. Все затихло. – Вот это круто! – рассмеялся сквозь кашель Колька. Кира высунула голову и посмотрела назад. Старик зарывался в снег у деревьев, утаскивая с собой здоровенную палку, похожую на замороженный сталактит. Чертов посох… – Кир, а это ж он был, да? Ну, Злой Мороз? Помнишь, ты рассказывала? Если я буду плохо себя вести, придет вот он, страшный такой. Бог язычный. Кира помнила. Дернул ее черт попугать любопытного братишку, хотя кто в Устюге не знает историю Деда Мороза? Вот она и рассказала о не самой популярной его личине. – Не говори глупостей, я же шутила. – Значит, детей он не ворует? – с недоверием спросил Колька. – Никого он не ворует, успокойся. Просто дедушка много выпил, вот и все. – Как наш папа? – Нет, наш папа гораздо лучше. Ого, смотри какой салют! До города оставалось совсем чуть-чуть. Дорога тянулась сквозь лесной коридор, который сторожили заснеженные ели-великаны. В обычные дни машин тут хватало, но не сейчас. Марк дозвонился до начальства, и теперь их должны были встретить еще раньше – у поворота на железнодорожный вокзал. Черноту неба все чаще прорывали разноцветные вспышки, лошадь перестала дергаться, а чокнутый старик сгинул в сугробе за спиной. Больше никаких причин для волнений не было. Кира попыталась улыбнуться брату, но лицо все еще не отошло от прикосновения мороза. Деда Мороза… Прежде чем согласиться на подработку Снегурочкой, Кира перелопатила кучу сайтов в поисках информации о новогодних традициях и героях. Она решила изучить образ Деда Мороза поглубже, раз уж собралась стать его помощницей. Тогда-то и выяснилось кое-что интересное. Добряком Дед Мороз был далеко не всегда. В стародавние времена его считали жестоким языческим богом, сыном Мары-смерти. Он собирал человеческие жертвоприношения и замораживал не только леса с реками. Повелевая пургой, губил урожаи, убивал животных и даже людей. Неспроста ведь в поэме Некрасова «Мороз, Красный нос» встреча с Морозом-воеводой для героини закончилась плачевно. В памяти всплыли строчки оттуда, после которых Колька отказался заучивать даже отрывок:Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.
Тесто
В очаге трещал хворост, дым по трубе полз к ночному небу.Снаружи шумела листва, кричали птицы. Сквозь щели в досках задувал ветер. Дед смотрел в черноту за окном и прислушивался к шорохам. Животные уходили в сторону деревни, подальше от зараженной реки. От кроваво-молочной жижи с гниющей рыбой и болотистых берегов, где можно увязнуть, как муха в киселе. Но зверей поджидали. Сторожку егеря бросили много лет назад, отдали на съедение природе. Опоясанная подлеском, она пряталась в глубине северной чащобы. Даже дед, родившийся в этих краях и знакомый с каждой кочкой, с трудом ее нашел. Здесь пугало не должно до них добраться. По крайней мере, не сегодня. Внучка лежала у огня, укрытая крапивой и неровными тенями. На бледном лице подсыхали кровавые повязки. Кое-где тесто проникло слишком глубоко, и его пришлось срезать вместе с кожей. Но девочка дышала. Значит, надежда была. Пугало отравляло все живое, искривляло саму явь. С каждым часом тесто проникало дальше в лес. Оно свисало с деревьев, словно огромная паутина, протягивало отростки меж стволов, вило петли-ловушки. В одну такую угодил дед с внучкой на руках, когда спешил к сторожке. Щупальце оплело ногу и сбросило его с тропы, но тут же потеряло интерес к охоте. Дед тихонько привстал и огляделся. Его защищали заросли крапивы. Тесто сторонилось их, ползло мимо. И это был шанс. Он закончил связывать крапивные стебли и примерил накидку. Руки горели, ныли волдыри на ладонях, но боль придавала сил. Дед поцеловал внучку, подхватил ружье и вышел за порог. В этой части леса тесто еще не показывалось, однако нужно было спешить. Дед включил фонарь и двинулся в путь. Через час он наткнулся на первые коконы. Тесто волочило добычу туда, где все началось. Где они выдернули из земли небывалых размеров репу и в открывшемся провале нашли черную трубу. Над деревней плыл дым. Искореженные дома поедало зверье, а с крыш к нему спускалось тесто. Горели огоньки глаз в тени дворов, слышался вой. В сырой траве змеи сплетались с червями. Дед вошел в родную избу и осветил помещение. Дом стал игрушечным, ненастоящим. Мебель блестела шоколадной коркой, по пряничным стенам струился сироп. В стеклах, будто в янтаре, застыла мошкара. Через выходящее на огород окно был виден край ямы с огнями. А рядом – неподвижное пугало, раскинувшее руки в стороны. Отовсюду к нему тянулось тесто, из провала в земле шел дым, обволакивая тощую фигуру. Дед сам набивал соломой старые штаны с рубахой, сам вешал это чудище на крестовину. Но теперь вместо дырявого ведра на плечах пугала сидела хлебная голова с вросшими в мякиш угольями глаз. У картофельных грядок высилась гора костей. Длинных и мелких, цельных и расколотых, слишком больших для человека и будто бы детских. Когда щупальца притаскивали к пугалу коконы, оно оживало. Вспарывало серпом тягучую оболочку и разрывало трупы. Головы летели в яму, кости – на верхушку пирамиды. Мяса почти не было, всю плоть успевало высосать тесто. Под сапогом деда лопнул вафельный пол, и пугало вывернуло голову к избе. Нога ухнула в трещину, снизу дернуло липкое, сильное. С потолка поползли длинные тени. Дед сидел над дырой, срывая с накидки крапивные листья и сбрасывая их во тьму подпола. Дом словно пытался откусить ему ногу, а снаружи, все ближе и ближе, свистел серп и шелестели соломенные шаги. Наконец тесто ослабило хватку, и дед вырвался. Перекатился на спину, поднял ружье. Сердце стучало в грудину, дрожал палец на спусковом крючке. Пугало проломило окно. Дед выстрелил. Заслонивший луну ржаной колоб разорвало на части. Тесто отступало. Трещали стены, оседал пол, с потолка сыпалась сахарная пудра. Снаружи гудело и гремело, окна заволакивало черным дымом. Дед добрался до погреба и оторвал крышку. Снизу дохнуло холодом и… падалью. Дед спрыгнул с лестницы, упал на колени перед коконом и трясущимися руками стал срезать тесто. Сквозь желтый саван проступила кровь. Капли пота катились по лицу и застревали в бороде, моргал свет фонаря, но дед освобождал тело кусок за куском. Он продолжал работу, даже когда вместо кожи увидел гнилое мясо с торчащими костями. И лишь череп с кульком седых волос заставил его поверить. Когда они обнаружили трубу, на глубине их услышали. Почувствовали. Дед схватил лопату и начал копать. Он стирал ладони в кровь, ломал черенки, чинил их и ломал опять, пускал слюни и вместе с Жучкой рыл яму голыми руками. К вечеру он полностью освободил от земли громадную печь и рухнул без сил на дно воронки. Его трясло в припадке, а из печи кто-то тянул к нему едва видимые пальцы, кто-то звал по имени, рвался на свободу. Сверху, как настоящая ведьма, хохотала бабка. Она забыла про отнявшуюся ногу, наколола дров, выпотрошила домашнюю живность и замесила особое тесто. Внучка отмыла печь и кровью нарисовала на ней глаза. Пришла пора готовить колоб. Вспыхнул огонь во мраке печной пасти, и в могильном холоде воронки закричал дед… …Дед кричал в сыром провале погреба. Ему пришлось выбирать, он не мог унести из дома двоих. Когда они опомнились, тесто было повсюду. Внучку уже облепило, а бабка… Она совсем обезумела. В погребе казалось безопасно, здесь не было щелей, не было этих туннелей в земле… Сверху на него рухнуло пугало и всадило серп между ребер. Дед взвыл. Над ним нависла голова – обглоданный полумесяц, треть колоба с уцелевшим глазом. Тесто запечатывало выход. Он вынул из-за пояса нож, которым рубил крапиву, и воткнул его в мякиш. Пугало вздрогнуло, попыталось отпрянуть, вытащить серп. Дед оскалился и ухватил свободной рукой ворот рубахи. Ножом он полосовал чертов хлеб, размельчал уродливую голову, не давая пугалу вырваться. Крошево забивало ему ноздри, попадало в глаза, рот, застревало в волосах и одежде. Соломенное туловище содрогалось в беззвучных конвульсиях, пока, обезглавленное, не затихло навсегда. Дед шагал к яме, а тесто расступалось перед ним и отползало к куче костей. Печь дышала жаром, дым из трубы пах мокрой псиной. Ее бока раздувались, как набитые едой щеки. Громадные кровавые глаза пожирала копоть, в пылающем зеве ворочались языки теста. Через тлеющие на земле угли и островки огня тянули они внутрь отрубленные головы. Печь разбухала, сквозь возникающие тут и там трещинки пробивалось пламя. – Объелась, падаль ты нечистая?.. – прохрипел дед и сбросил вниз серп и остатки пугала. Солома тут же загорелась. – Подавись! Он зажал рану и побрел в сторону леса. Пряничные домики падали один за другим, словно собранные из колоды карт. В небе галдели вороны. Когда деда укрыли переплетения веток, за спиной раздался оглушительный взрыв. До сторожки он добрался вместе с рассветом. Сосновые пики подкрашивал багрянец, в тумане увязали черные стволы. Остатки подлеска пожирал кисель. У деда не было сил бежать, он просто шагал по чавкающему в земле молоку и вглядывался в леденцы на двери сторожки. Под крыльцом по-змеиному ворочались клубки теста. Внучка была жива. Дед взял ее на руки, и ребра пронзила боль. Кровь по телу сползала в сапог. – Красавица ты моя спящая… – прошептал дед. – Мы выберемся. Обещаю. Он верил в это около минуты. Ровно до тех пор, пока не вынес внучку из сторожки. Пока не увидел идущее сквозь лес – и над лесом – пугало. Обгоревший колоб размером с печь на новом туловище. Дед присел на крыльцо и погладил внучку по слипшимся волосам. В траве птицы клевали хлебные крошки, по которым и шло пугало. Пахло хвоей и сладостями. Из-за верхушек деревьев выплывал солнечный диск, а навстречу ему шагал гигантский идол, собранный тестом из звериных и человечьих костей.Повелители мелков
Город рос не по дням, а по часам. Мосты перепрыгивали реки, каменные коробки с людьми обрастали зеленью, парки множились в каждом районе. Дружные хороводы машин везли своих хозяев на работу, а веселые стайки птиц в солнечном небе даже и не думали гадить на головы прогуливающимся по набережной старичкам. Город толстел, город удлинялся. Его границы сторожили танки с зелеными солдатами, а на центральной площади довольных жителей поливал огромный фонтан. По железной дороге катался поезд с доверху набитыми деньгами вагонами – развозил зарплату. А рядом с депо отворил двери магазин шоколадных конфет. Он был такой огромный, что даже непонятная корова-великан не могла накрыть его своей тенью. – Аленка! Ну что ты тут нарисовала опять?! Девчушка поморщилась и с высунутым языком подкрасила корове хвост. – Это коровка, – смущенно сказала она измазанному мелками Максиму. – Да какая это коровка?! Это ж целая Годзилла! Левка, выцветший на солнце восьмилетка, похожий на альбиноса, отвлекся от создания кинотеатра своей мечты. Он глянул на друзей-одноклассников и ядовито захихикал. – А ты чего ржешь? Это чудище хвостатое нам тут все портит! – Тебе никогда ничего не нравится! – возмутилась Аленка. – А коровка тут просто травку жует, ты сам вон какой луг нарисовал! Максим закатил глаза. Когда он сам себя назначил начальником города, то и не думал, что придется так тяжело. Двое помощников постоянно пытались изобразить что-то непонятное, идущее вразрез с его задумками. Но, даже несмотря на это, результат общих трудов не мог не радовать. Город на асфальтовой дороге стал настоящим украшением парка. Прохожие подбадривали детвору, подбрасывали идеи, а старшие ребята, которые поначалу приписывали к рисункам нехорошие слова, быстро оставили их в покое. Теперь даже девчонки рисовали квадраты для своих «прыгалок» ближе к центру парка, оставляя место на асфальте либо для судоходного причала, либо для аэропорта. – Да не жалко мне, – чуть успокоившись, говорил Максим, – только чего она у тебя такая здоровая? Мы ж ее не прокормим. – Она, ну, просто она такая… Не знаю. Левка вновь захихикал, потирая замазанное зеленкой колено. – Ладно уж, пусть до утра попасется, – сказал Максим. – Хватит на сегодня, а то меня мамка уже три раза звала. – Ага. – Левка кивнул. – Мне вообще по шее дадут, опять чумазый весь приду. Аленка, в отличие от мальчишек, умудрялась оставаться идеально чистой, хотя мелков расходовала больше всех. У Максима даже возникали подозрения: уж не ест ли она их?.. Шагая на родной седьмой этаж мимо давно застывших лифтовых дверей, Максим не мог сдержать улыбки. Город получался чудесный, в таком сказочном царстве не отказался бы жить любой человек. Даже сам президент! Создавать этот мир было настолько увлекательно, что неразлучная троица проводила едва ли не все свободное время у входа в парк, где и ширился их асфальтовый холст. Дождей не было как по заказу, так что рисовать никто не мешал. Единственное, что огорчало Максима, так это никак не шедшее в голову название. Грешно было оставаться такому городу безымянным. Дома Макса заставили съесть целую тарелку борща, а папка сказал, что в следующий раз придется мыть сына из шланга. Спать Максим отправился, как всегда, на балкон. Мягкий матрас и любимое одеяло уже давно дожидались хозяина, а за окнами ворчали полчища насекомых. Это лето выдалось очень жарким, за день стены прогревались так сильно, что ночью в комнате нечем было дышать. Поэтому Максим и переполз с липкой и горячей кровати на проветриваемый и прохладный балкон. Обидно только, что следом за ним ушли и комары. На следующее утро ребят ждали неприятности. От коровки остались только полупрозрачные линии-кишки, но не это было самым страшным. Город изменился. Зелень словно отцвела, по высотным домам пошли трещины, а поезд обокрали, выпотрошив все вагоны. Кроме того, на месте центральной площади расползлось какое-то болото с вытянутыми из жижи черными перекрестьями. Кладбище. – Это… это… Как это?! – тараторила Аленка. Максим в ужасе смотрел на старания неизвестных и не мог выдавить ни слова. Ладно еще найти собачью какашку в городском пруду – ничего страшного, это все-таки парк, – но такое! Рисунки были весьма неплохи, так что времени они отняли прилично. Получается, кто-то заранее это спланировал, а потом и провернул. Но когда? Неужели ночью? – Старшаки, козлы! – выплюнул Левка, косясь поросячьими глазками на кинотеатр, который переплетали стальные цепи с амбарным замком. – Ничего, – процедил Максим, – мы все поправим. И сделаем еще лучше! Вновь закипела работа, засверкали на солнце разноцветные мелки. Пыхтящие ребята устраняли последствия чьей-то злой шутки, ползая по асфальту, как муравьи. Сложнее всего пришлось с кладбищем. Разгоняя мрачность, Аленка превратила кресты в деревья, а Максим на ходу выдумывал зверей для будущего заповедника. Левка же с осторожностью хирурга освобождал от пут кинотеатр, стараясь не протереть в его стенах дыры. К обеду город вернул свое великолепие, что не осталось без похвалы гуляющих в парке молодых мам с колясками. Солнце жарило нещадно, поэтому ребятня перебралась к фонтану. Там все опустили руки в холодную воду, а потом сделали себе смешные прически. – А если они опять все испортят? – спросила Аленка. – Может, оставим часовых? – предложил Левка. – Да у нас и так здесь целая армия, – усмехнулся Максим. Левка хитро посмотрел на друга и выдавил фирменное зловещее хихиканье. На таком солнцепеке бледная кожа Левки будто просвечивалась, поэтому сейчас он напоминал призрака. – Я имею в виду настоящих часовых. – Ночью? Ты что, мне папка таких часовых устроит, мало не покажется! – Ага, – кивнула Аленка, – я даже спрашивать не буду. Левка развернулся и опустил босые ноги в фонтан, имитируя движения ластами. – Да и мне не разрешат, – сказал он. – Но я ж могу и не спрашивать, первый этаж все-таки. Окно не так высоко. – А обратно как? – Что-нибудь придумаю. – Знаем мы тебя. Придумаешь домашний арест до конца лета. Друзья загоготали, а потом вода из фонтана в их руках превратилась в опасное оружие. Спустя пару минут довольные и насквозь сырые повелители мелков, как их окрестили зеваки, шлепали к дому. За ними оставались отпечатки ног, а чуть в стороне жил своей жизнью небывалых размеров город на асфальте, имя которому еще где-то зарождалось. Днем позже родители Аленки утащили дочь в зоопарк показывать жирафа, поэтому новый образ города довелось увидеть лишь Максиму и Левке. Кинотеатр сгорел дотла. На железной дороге выстроилась вереница людей, закапывающих останки поезда. Все здания приобрели заброшенный вид, в парках царило запустение. Огромные очереди змеились всего к двум открытым заведениям – булочной и водонапорной башне. Все остальное, включая магазин конфет и заповедник диких зверей, погибло и развалилось. Кладбище проглотило полгорода, едва не захватывая бесконечные очереди черных человечков. Райский уголок превратили в выжженный край, жители которого могли сразу становиться в другую очередь – к могилам. В этой долине теней не было ничего, только толпы голодных людей. Вся красота, все цветущее великолепие, над которыми так долго трудилась ребятня, исчезли под беспроглядным слоем тьмы. – Это уже не смешно, – чуть слышно буркнул Левка. – Кто же это делает?.. – стараясь сдержать слезы, проговорил Максим. – Разве так можно шутить? – Наверное, их много. Как бы еще они столько успели? – Я все папке расскажу! – не выдержал Максим. – Он им так уши отдерет! – Да ты чего, нас тогда все малявками звать будут! Родителям жаловаться – последнее дело. Тем более мы ж не знаем, на кого. – Ну да… – вздохнул Максим. – Но мы подловим их… Подловим обязательно. А пока надо эту гадость стереть. Этой ночью он упросил родителей разрешить ему ночевать на втором балконе – кухонном, который выходил в парк. Разобрав залежи каких-то банок и ведер, Максим приютился в импровизированном спальном мешке и стал ждать. Балкон не был застеклен, а у самого соединения пола с перегородкой располагалась щель в несколько сантиметров. Максим не понимал, для чего строители ее оставили, но любил высовывать наружу пальцы ног, когда дышал тут свежим воздухом. Теперь же это место превратилось в отличный наблюдательный пункт. Вход в парк лежал прямо по курсу, забор из черных прутьев уходил в темноту. Свет из окон дома медленно пропадал, оставляя гореть снаружи несколько фонарей у тротуара и россыпь ламповых глаз в глубине парка. Ветер свистел в пролетах и хрустел карнизами. Ночь приходила спокойно, словно подкрадывалась. Тьму в центре парка не рассеивал и электрический свет, а округа затихала под убаюкивание насекомых. Максим слушал писк комаров над головой и смотрел из своего укрытия на улицу. Ничего особенного там не происходило: изредка проезжали машины или местная дворняга ковыляла вслед улетающему пакету. Нарисованный город почти целиком скрывался за густыми елочными ветвями, похожими на старинные сарафаны, но часть его все же попадала в кружок света. Старшие пока не показывались, но Макс знал, что они обязательно явятся. Внизу скрипнуло. Угол обзора не позволял разглядеть источник шума, и Максиму пришлось подняться. Легонько высунув голову над поручнем, он уставился в небольшой сад, который примыкал к дому. В тамошних зарослях что-то шевелилось, и это был не ветер. Максим вжался в железную шкуру поручня и задержал дыхание. Ему казалось, что таким образом он точно станет невидимкой. Теперь Максу уже не хотелось никого выслеживать, потому что вдруг до него дошло, что портить рисунки могли не только старшие. Существо продолжало шуршать в карликовых кустах. По дороге проскочил кошачий патруль, наполняя ночь отважным мяуканьем. Тогда из садовой зелени показалась голова, и даже с высоты седьмого этажа не узнать ее Максим не мог. Левка! Он, как мешок с картошкой, перевалился через невысокий забор и метнулся в парк. Макс улыбнулся, глядя на друга-разведчика, однако улыбка быстро сползла с его лица. За Левкой двинулась огромная тень, все это время дожидавшаяся под брошенным сто лет назад грузовиком. Словно масляное пятно на воде, она переплыла дорогу и вползла в парк. Вскоре темнота опоясала редкие фонари, и асфальтовая дорожка провалилась в ночь. Электрические глаза потухли, как залитые водой угли. Не дать испортить, не дать сломать, не дать вновь развалить идеальный город, куда ушло столько трудов! Но ведь там сейчас Левка и… эта штука. В голове Максима плясали фразы, мысли, но сделать он ничего не мог. Бродя взад-вперед по балкону, мальчишка натыкался взглядом на черноту парка. Что происходило там в этот самый момент? Что происходило там с его лучшим другом?! Наконец ноги сами потащили Макса в нужном направлении. Входная дверь была рядом с кухней, поэтому выскользнуть на улицу он сумел очень быстро. Ворчание замка и дверных петель разбудило кого-то из родителей, но Максиму было не до этого. Он пересчитывал ступеньки вниз, стараясь за раз захватить по две штуки. Обежав дом и выскользнув из-под защиты тротуарных светил, Макс остановился. Темнота плескалась в парке, как мутная вода в бассейне, но две фигуры, уходящие в глубину черной воронки, он все же разглядел. Одна маленькая и едва ли не прозрачная, а вторая – высоченная и нескладная, как огородное пугало. – Левка! – крикнул Макс во тьму, подняв в воздух птиц, ночующих в тополиных кронах. Эхо его голоса пронеслось по сумрачному парку, и фонари зажглись. Обе фигуры исчезли, на дороге возились только клубки листьев. – Оно нас поджидало… – прошептал Макс, и по щекам поползли слезы. – Специально портило город, чтоб мы… Откуда-то из другого мира прибежали напуганные родители. Максим пытался все объяснить, но это оказалось непросто. Ближе к утру полицейские прочесывали парк и окрестности, но, кроме заспанного бомжа, так никого и не нашли. Максу никто не поверил. В городе стали искать маньяка, а жизнь потекла дальше. Левкины родители почему-то перестали здороваться, но Максим не обращал на это внимания. Теперь он облюбовал кухонный балкон, хотя прекрасно знал, что тень вряд ли появится тут снова. Но, если в ночной уличной тишине раздавался шорох, Макс подскакивал на месте, а с губ летело имя лучшего друга. Когда у Аленки наконец-то закончились слезы, ребята уселись на прогретом асфальте у своего города, ловя нитки солнечных лучей. Город стал лучше. Страшные очереди разошлись, вновь открылись магазины, а на дорогах появились автомобили. Машиниста денежного поезда теперь удавалось разглядеть: им был худой мальчишка с полупрозрачной кожей. Похожий на альбиноса. Ни Аленка, ни Максим этого не рисовали – картинка изменилась в ту ночь. С тех пор прошла почти неделя, а город словно застыл на фотографии. В новостях крутили сюжеты о других пропавших детях, и в каждом из них Макс видел игровую площадку с рисунками на асфальте. Много ли еще повелителей мелков осталось в их городе? – Все равно когда-нибудь дождик смоет, – грустно сказала Аленка. – А мы новый нарисуем. А потом еще один. И еще. – Правда? – Конечно, – кивнул Максим, доставая коробку с мелками. – И на этот раз уже не безымянный. Они нависли над асфальтом и стали выводить название города. Дурацкое, но зато правильное. Не просто надпись, а настоящую вывеску, которая должна встречать всех гостей. Левкинград. И это был не бедный и полумертвый мир, который рисовала сама ночь, а натуральный чудо-уголок. Город, в котором поезд с полными вагонами денег развозил зарплату. Город, где был самый лучший кинотеатр в мире. Город, в котором не отказался бы жить ни один человек. Даже сам президент.Пазл
Черная «девятка» выскочила из потока машин и на большой скорости врезалась в толпу на автобусной остановке. Оказавшиеся под колесами люди тряслись в агонии, крики наползали друг на друга. Под машиной расцветала бурая лужа. Водительская дверь приоткрылась, и из салона выбрался рыжий мужчина в джинсах и пропитанной кровью майке. – Твою мать! Переборщил… – Он достал из-за спины пистолет и дважды выстрелил бьющемуся в конвульсиях старику в голову. – Не мучайся, папаша. Я не со зла. Прохожие уносили ноги, оставляя искалеченных людей умирать. Вдалеке выла сирена. С металлическим скрежетом распахнулась пассажирская дверь. Появившийся из нее высокий черноволосый парень едва держался на ногах, вытирая разбитое лицо. – Хватай любого! Времени почти не осталось! – заорал водитель. – А ты выползай, дебил хренов! – Он ударил по крыше автомобиля, обращаясь к тому, кто сидел внутри. – Или последние части будем собирать из тебя! Пара машин тормознула у остановки, но пистолет рыжего быстро разогнал всех зевак. С заднего сиденья «девятки» под теплое летнее солнце вылез двухметровый лысый амбал, все лицо которого страшными узорами разрисовывали шрамы. На нем были только спортивные шорты и шлепанцы. Девяносто процентов тела покрывала засохшая кровь. Амбал подошел к шатающемуся пассажиру и вместе с ним вытащил из-под колес автомобиля девушку. Часть ее лица была содрана, окровавленные волосы слиплись. На виске пульсировала жилка. Погрузив тело на заднее сиденье, заляпанный кровью экипаж уже собирался залезть обратно в машину, когда послышался визг тормозов. Напротив замершего трио остановился джип, и раскаленный воздух разорвала автоматная очередь. В следующее мгновение по изрешеченному пулями кузову «девятки» размазалось содержимое продырявленного черепа…Двумя часами ранее Гвоздь сидел в новенькой «ауди» и никак не мог унять дрожь в руках. Он мысленно прокручивал в голове все возможные варианты, от которых становилось только хуже. Но, по крайней мере, они оставляли шанс на жизнь, а это уже что-то. Высокий, хорошо сложенный парень с внушительной черной шевелюрой, прозванный Гвоздем, сильно облажался. А в том мире, к которому он принадлежал, проступки наказывались очень просто и отнюдь не гуманно. Но сегодня ему повезло. Если, конечно, можно назвать везением участие в сборе Пазла. Шанс на успех микроскопический, а если и повезет, то потом придется разгребать невероятное количество проблем с законом. И все же это лучше, чем оказаться заживо похороненным в богом забытой деревне или превратиться в четвертованную секс-куклу, которой будут пользоваться при съемках подпольных порнофильмов для извращенцев. Гвоздь зажмурил глаза. Пазл. Забава, придуманная местным царьком по прозвищу Колпачок. Под таким вот милым именем скрывался человек, которому была подчинена вся криминальная сфера Подмосковья. Влияние этого выродка расползалось и по регионам, подобно раковым клеткам, подчиняя своей власти здоровые и благополучные районы. Очень медленно, сопротивляясь из последних сил, в империю Колпачка вливалась и столица. Выражение «под колпаком» приобрело новое удручающее значение. Гвоздь работал на Колпачка два года и уже давным-давно проклял тот день, когда ступил на манящую богатством и красивой жизнью бандитскую тропинку. В окно автомобиля постучали, возвращая из воспоминаний в реальность. Гвоздь нажал на кнопку, и боковое стекло заскользило вниз, впуская в охлажденный кондиционером салон пары прожаренного на славу дня. – Ты, что ли, Гвоздь? – спросил рыжий мужик среднего возраста. – Я, – ответил Гвоздь, разглядывая причудливое лицо незнакомца, на котором клочьями росла щетина. – Ну, привет, напарничек! Я – Рыжий. – Он протянул в салон руку для пожатия. – Будем вместе Пазл собирать. – Понятно… Рыжий бросил взгляд на машину: – Отличная тачила, на ней попрем? – Не-е-е… – протянул Гвоздь. – Я все-таки надеюсь на лучшее, так что она может еще пригодиться. Жалко ее как-то… Сам знаешь, что такое Пазл. – Ну да, ну да… Я свою тоже дома бросил. Приехал на старой «девятке» – на вид убитая, но еще о-го-го. Можно и на ней выдвинуться. В ней же хватает, скажем так, снаряжения. – Я не против. – Ну, тогда я за баранкой сижу. – Лады. Гвоздь вышел из машины и захлопнул дверь. Заглянув в багажник, достал короткоствольный автомат Калашникова и повесил его на плечо. – Нормальная вещица, – сказал Рыжий. – А я пока с «макарычем». – Главное, чтобы не пришлось пользоваться ими слишком часто. Интересно, кто у нас третьим будет? – Мне насрать. Все равно рассчитывать можно только на себя. Без обид. Гвоздь грустно кивнул. Время Пазла приближалось, напряжение росло. – Нехеровая усадьба, ага? – спросил Рыжий, разглядывая владения Колпачка. Огромная площадь, приспособленная под стоянку, три шикарных особняка и бог знает сколько мелких строений, отданных под посты охраны, оружейные, кухни, бани и прочие необходимые для беззаботного существования босса помещения. – Угу, чтоб я так жил… – Ей-ей! Повернувшись, Гвоздь увидел одного из охранников, который с улыбкой заговорил: – Пора, ребятки. Правила вы знаете. Два часа – крайний срок. Делать можете что хотите, мусора все равно сюда не сунутся. Но за воротами они имеют полное право вас пристрелить. Выгоняйте машину за территорию – и можете отправляться. Два других экипажа уже готовы. – Погоди-ка, – пробормотал Рыжий, лихорадочно теребя шевелюру, – нам ведь полагается третий человек. – Он уже давно ждет, щас позову, – сказал охранник и не смог сдержать смеха. – Вам необыкновенно повезло!
Рыжий и Гвоздь сидели в черной «девятке» и задумчиво разглядывали остальные автомобили. Справа стоял наглухо тонированный джип, еще чуть правее – потрепанного вида «хонда». В этих машинах собрались такие же неудачники, мечтающие добыть себе право на существование с помощью Пазла. – Сколько до старта? – Пятнадцать минут. – Рыжий посмотрел в зеркало заднего вида и закашлялся, едва не выронив сигарету. – Мама дорогая, ты глянь, кто к нам чешет… Открыв дверцу, Гвоздь встретился взглядом с полуголым качком, шагающим к «девятке». – Кто это? – поинтересовался Гвоздь, стараясь, чтобы амбал не услышал вопроса. – Да это же самый натуральный дебил! – заголосил Рыжий. – Тьфу! Видел его несколько раз – полнейший идиот! Здоровяк подошел к машине со стороны водителя и открыл дверь. Одет он был словно курортник. Лицо представляло собой перекопанное шрамами кочковатое поле. – Сереженька поедет здесь. Пазл. – Да-да, Сереженька… – не глядя на новоиспеченного напарника, пробурчал Рыжий. – Вот что, дебила кусок, садись на заднее сиденье и помалкивай. – Кусок, – безразлично повторил бугай и залез в автомобиль, на полу которого была разбросана целая куча металлического хлама. – Значит, так, – продолжал Рыжий, – похоже, я тут самый старший, значит, буду главнюком. Надеюсь, возражений нет? Ну и славно. Наши действия: работаем тихо, не привлекая лишнего внимания. Ищем одиноких пешеходов, огнестрел только в крайних случаях. Слышь, недоносок, у тебя пушка есть? Амбал поморщился, нагнулся к полу и стал разбирать ворох инструментов. Выпрямившись, он поднял внушительных размеров топор, и впервые на его обезображенное лицо заглянула улыбка. – Без пушки. И так от-лич-но, – делая упор на гласных, отчеканил дебил. – И за что нам такое счастье? – проворчал Рыжий, заводя мотор. – Ну, по крайней мере, с мясником в нашем пионеротряде мы определились. – Не то слово, – буркнул себе под нос Гвоздь, разглядывая в зеркало Сереженьку, который, казалось, совсем не моргал. Первой тронулась «хонда», рванув в город по центральной дороге. Следом очень медленно пополз джип, словно оттягивая предстоящее действо. – А мы пойдем другим путем! – бросил Рыжий, и «девятка» покатила к трассе, которая вела не к центральной части города, а к окраине. – Начало-о-ось… – дрожащим голосом протянул Гвоздь. – Что, соберем Пазл? – А куда мы денемся! – Уверенность в голосе Рыжего придавала дополнительных сил. – Пазл, – сказал дебил, пытаясь найти собственное отражение в полотне топора. Автомобиль мчался по нагретой солнцем дороге, оставляя позади однообразные коробки домов. Движение было не слишком оживленное, и в город троица добралась достаточно быстро. – Значит, нам нужно шесть кусочков, – Гвоздь повторял правила вслух. – И все из разных мест. – Ага, – включился Рыжий, – а то эти долбанутые наблюдатели живо стуканут кому следует. Но я думаю, их все-таки можно обмануть. – Наверное. Но что-то стремно так рисковать. Они ведь могут быть где угодно, а могут вообще сидеть дома и дрочить на мультики. У нас и так положение не ахти, так что лучше всего просто следовать правилам. – Тут ты прав… Но мне интересно: на кой хер Колпачок придумал всю эту галиматью с Пазлом, если он не видит, как мы его собираем? – Да потому что он больной, вот и все. Ему уже неинтересно просто избавляться от «косяков», ему нужно шоу. К тому же результат-то, если кто собрал, он видит. Он ведь лично проверяет Пазлы и решает, кто победил. – Мужчина? Женщина? – подал голос Сереженька. – Чего? Куски, что ли? Да вроде разницы никакой нет. Главное, чтобы все по науке, ну там: лево-право, верх-низ. Рыжий одобрительно кивнул и хотел было подытожить разговор, как вдруг заметил колесящего по тротуару велосипедиста: – Опа, вариант! Машина обогнала старика на велосипеде и пристроилась к заросшему кустарником забору. Когда Гвоздь покидал «девятку», он почувствовал, как к горлу подступает комок. – Извините, – начал он, когда дед подъехал совсем близко, – можно вас попросить… Фразу не понадобилось договаривать до конца, потому что Рыжий кулаком опрокинул деда на землю. Тот, ударившись головой, не издал ни звука. – Тащи быстрее, – бормотал Рыжий, бегло осматриваясь по сторонам, – пока не видит никто. Гвоздь схватил старика за руку и потащил за машину со стороны багажника – подальше от взоров с детской площадки, расположенной через дорогу. Дед оказался довольно тяжелым, и Гвоздь устал уже на полпути к кустам. Но в эту минуту с заднего сиденья поднялся Сереженька и без единого слова ударом топора отсек велосипедисту левую руку. В стороны хлынула кровь, а пришедший в сознание старикан заорал в полную мощь легких. Гвоздь плюхнулся на пятую точку, удивленно сжимая отрубленную конечность. Следующий удар топора пришелся деду в голову, размозжив тому череп и заставив его замолчать навсегда. – Твою мать! – выпалил Гвоздь. – Ты хоть предупреждай! Чуть и мне заодно руку не оторвал! – Первый кусок, – беззаботно заметил дебил, складывая взятый у ошарашенного Гвоздя обрубок руки в багажник. – Ладно, поехали, – торопливо произнес Рыжий, залезая в машину, – пока тут толпа не собралась. Через мгновение автомобиль исчез за углом, оставив труп на липком от крови тротуаре. – Ну что ж, начало неплохое! – воодушевленно изрек Рыжий. – Хотя можно было и поаккуратнее… – добавил Гвоздь, косясь на Сереженьку, который оттирал кровь с рук. – Рыжий, а ты чем провинился? – Ох, это очень длинная история. Если коротко – хотел кинуть серьезных людей, а получилось, что кинули меня. Ну и Колпачка соответственно. А ему это ой как не нравится. А сам-то как залетел? – По дурости своей. Только об этом я, пожалуй, умолчу. – Дело твое. Ты представляешь, чего натворил наш недоношенный друг? Лично я даже боюсь это вообразить. Но дебил не проявлял никакого интереса к беседе, безучастно глазея в окно.
– Магазин! – резко выкрикнул амбал. – Ма-га-зин! Рыжий посмотрел на приближающееся здание «круглосутки», в которое тыкал пальцем Сереженька. У входа была привязана собака непонятной породы, тут же пили пиво двое парней. – Ма-га-зин! Ма-га-зин! – никак не унимался дебил. – Селезенька хосет манную касу? – закривлялся Рыжий, но здоровяк уже открыл свою дверь и собирался вылезти прямо на ходу. – Да стой ты, ушлепок несчастный! Остановлю я, остановлю. Только куда ты в таком виде намылился? Сереженька не ответил и выбрался из машины, едва та остановилась. – Вот мудак! У нас времени – полтора часа, а он по магазинам шляется… – Э-э-э, Рыжий?.. – Чего тебе? – Он унес с собой топор. Глаза Рыжего округлились, и в эту же секунду из магазина раздался дикий визг. Входная дверь распахнулась, едва не слетев с петель. Из помещения вылетела женщина с ребенком на руках, за ней, переходя на бег, выскочили еще три человека. Привязанная у входа собака разразилась сиплым лаем, уделяя каждому посетителю отдельное внимание. Рев всполошил всю округу, когда на пороге показался Сереженька, тянущий за волосы продавщицу в зеленой манишке. Женщина вопила что было сил, упираясь ногами и брызжа слюной. Ее седеющие локоны в руках дебила походили на веревочки, с помощью которых управляют марионетками. С силой бросив женщину на капот, Сереженька опустил топор точно в середину ее горла. Лобовое стекло расцвело кровавыми узорами, а лежащее на машине тело задергалось, будто под действием тока. Беспорядочные крики сменились неразборчивым бульканьем. Новый удар дебила пришелся в то же место, что и первый. Этого оказалось достаточно, чтобы голова продавщицы отделилась от туловища и скатилась вниз. Среди царящей вокруг суматохи Рыжий с трудом смог прийти в себя. Он выбрался наружу и, не замечая криков прохожих, взял забившуюся под переднее колесо голову. Затем, стараясь не смотреть на новый кусочек Пазла, быстро подбежал к багажнику, отправил туда окровавленный ошметок и юркнул обратно за руль. Дебил уже сидел на своем месте и как ни в чем не бывало глядел в окошко. Гвоздь потерянным взором всматривался в рассекающую лобовое стекло полосу крови. – Валим! – буркнул Рыжий и надавил педаль газа. Машина рванула с места, сбросила обезглавленное тело безымянной продавщицы и колесами опробовала его на прочность. – Включи дворники! – не выдержал Гвоздь. Щетки заработали, размазывая по стеклу кровь с водой. – Похоже, шифроваться нам уже бессмысленно. Что будем делать? – Топор забыл, – грустно произнес Сереженька. – Да пошел ты! – рявкнул на него Рыжий. – Времени все меньше, так что я предлагаю хватать первых попавшихся, только соблюдать расстояние, как в этих шизанутых правилах. Слушал его только Гвоздь, потому что Сереженька уже копался под ногами в поисках новых орудий расчленения. – Вот, гляди, – произнес Гвоздь, указывая на «Макдоналдс». – Подъезжай. Есть идея. И возьми что-нибудь острое. – Ну уж нет, пускай этим занимается наш дебилушко. «Девятка» заехала на полупустую стоянку и проследовала дальше, к указателю с надписью «Мак-авто».
– Неплохая мысль, – одобрил идею Рыжий. Затем обернулся к амбалу: – Только в этот раз без самодеятельности. Забираем руку и уматываем как можно быстрее. Никакой очереди не было, что значительно облегчало собирателям Пазла задачу. Подъехав к первому окошку, они увидели молодого прыщавого парня, который с удивлением вытаращился на машину. – Здравствуйте, – сказал он, разглядывая помятый капот в багровых пятнах, – что… будете заказывать? – Чего-нибудь попить. Сушняк замучил, – стараясь улыбаться, произнес Рыжий, а поймав направление взгляда кассира, сразу добавил: – Собаку сбили только что. Здоровая дворняга попалась… Сама под колеса кинулась, бешеная небось. Оплатив заказ, Рыжий повел машину к следующему окошку, где их встретила девушка лет двадцати. Она поздоровалась и протянула фирменный бумажный пакетик водителю, но тот неожиданно взял ее за запястье. Та смущенно улыбнулась, не заметив в своей кабинке, как из машины вылез лысый полуголый мордоворот, запачканный кровью. – Спасибо, красавица, но это еще не все… – грустно пробормотал Рыжий и сильно потянул на себя. Оторопевшая девушка вжалась лицом в стеклянную перегородку и теперь могла разглядеть пассажира с заднего сиденья во всей красе. Ее пальцы разжались, и на асфальт рухнули пластиковые стаканчики с газировкой. Сереженька перехватил массивной ладонью трепыхающуюся руку и принялся пилить чуть ниже плеча. Следующие минуты округу сотрясали нечеловеческие вопли. Девушка беспорядочно дергалась и билась в забрызганное кровью стекло, пытаясь остановить мучения. В помещении мелькали ошарашенные лица сотрудников, которые не решались хоть что-то предпринять. Пила, так легко расправившаяся с мышцами и сухожилиями, с костями справлялась гораздо хуже. Несмолкающая девушка выпученными глазами наблюдала, как ее рука превращается в безобразного вида культю. На стоянку выскочили работники ресторана, и Гвоздь открыл огонь из автомата Калашникова. Пули дырявили тела, асфальт покрывался кровью. Пахло смертью. Когда все было кончено и очередной кусочек Пазла оказался в багажнике, автомобиль двинулся вперед, отбрасывая в стороны людей на пути. Он увозил троицу преступников на поиски следующей части головоломки.
– Черт, – сокрушался Гвоздь, – а я думал, что двух часов вполне достаточно! Нужно поторапливаться. Рыжий не успел ничего сказать, потому что в этот момент в считаных сантиметрах слева пронеслась та самая «хонда», оторвав боковое зеркало. Следом за ней под оглушительный вой сирен промчались три милицейские машины. – Гонщики сраные! – рявкнул Рыжий, сбавляя скорость. – Еще чуть-чуть правее, и нас бы уже не волновал никакой Пазл. – Похоже, у них проблемы посерьезней наших. – Ну и хорошо. Меньше конкурентов – больше шансов на победу. Милиция открыла огонь. По шипящему асфальту запрыгали снопы искр. Из «хонды» высунулся автомат и ответил свинцовым градом. – Осторожнее! – крикнул Гвоздь. – Держи дистанцию! «Девятка» оставалась на небольшом расстоянии от погони, умело обходя посторонние автомобили. Те предпочитали тормозить и прижиматься к обочине. Вскоре перестрелка принесла плоды – задние колеса «хонды» с шумом лопнули, машину повело. Раздался визг шин, автомобиль развернуло на всем ходу. Головная ментовская иномарка, не успев затормозить, протаранила «хонду». Искореженная груда металла кувырком полетела на встречную полосу. В этот момент второй милицейский автомобиль, не справляясь с управлением и пытаясь уйти от столкновения, врезался в светофор. «Хонда», задев несколько встречных машин, улетела в кювет. Вспыхнуло пламя. В воздух стал подниматься легкий дымок. Третий экипаж милиции едва не влез в аварию, но успел тормознуть у обочины. – Охереть! – Красиво! – согласился Рыжий, останавливаясь сразу позади милицейской машины. В это время, не говоря ни слова, из «девятки» вылез Сереженька, сжимая в руке окровавленную пилу. Бугай направлялся прямо к машине с синими номерами. Заметив это, Гвоздь выскочил следом. – Отойди! – крикнул он и, не дожидаясь, пока дебил уберется с линии огня, нажал на спусковой крючок. Сереженька все же успел отпрыгнуть в сторону. А вот два милиционера, прошитые пулями, так и остались сидеть в салоне. – Сдохли? – спросил появившийся на дороге Рыжий, и Гвоздь кивнул. – Погоди секунду, нужно кое-что проверить. – И Рыжий побежал к кювету, где покоилась «хонда». Водители встречных автомобилей в ужасе поворачивали обратно. Участвовать в этой заварушке никто не хотел. Гвоздь подошел к ментовской иномарке, обнявшей столб со светофором. Машина превратилась в ком железа, вытащить трупы из которого было под силу только спасателям со спецтехникой. Еще в одном милицейском автомобиле, застывшем прямо посередине дороги, со стонами копошилась пара человек. Вдавленная в салон морда машины проламывала кости обоим. – Громко стреляли, – сказал неожиданно подошедший Сереженька. Его тело покрылось запекшейся кровью, но лицо выражало абсолютное спокойствие. Дебил есть дебил. – Ваша мама пришла! – весело завопил из-за спин Рыжий. – Молока принесла! Обернувшись, Гвоздь увидел Рыжего, волочащего на плече бесформенный кусок мяса. – Откройте добытчику сраный багажник! Я думаю, тому фаршу в «хонде» этот кусочек не понадобится. Болваны ничего, кроме него, собрать не успели. Гвоздь быстро подбежал к «девятке» и помог Рыжему погрузить в багажник обрубок тела – самую важную и самую затратную по времени часть Пазла. – Отлично! – не скрывал радости Гвоздь. – Хоть так время сэкономили. – Некогда шампусик распивать, живо в машину! Нас ждут ноги! Отъехав несколько километров от места аварии, Рыжий вдруг резко нажал на газ. – Ты чего?! – заволновался Гвоздь. – Разобьемся к чертовой бабушке! – Будь что будет! – завопил Рыжий. – Пристегните ремни, ребятишки! Он засмеялся и повел автомобиль прямиком в гущу собравшихся на автобусной остановке людей.
…по изрешеченному пулями кузову «девятки» размазалось содержимое продырявленного черепа. Рыжему снесло полголовы, и обезображенный труп рухнул на землю. Оказавшиеся позадиавтомобиля Гвоздь и Сереженька пользовались машиной как щитом. Пули пролетали совсем близко, вонзаясь в металлический корпус и разбивая стекла. Обстрел прекратился, и джип с грохотом помчался прочь. Там тоже помнили об истекающем по крупицам времени. – Не попали. Плохо стреляли, – сказал Сереженька. Оглядевшись по сторонам, он залез на заднее сиденье, проталкивая тело уже умершей девушки дальше в салон. Гвоздь бегло осмотрел себя и, убедившись, что цел, бросился к водительской двери. Раскинувшееся на асфальте тело походило на решето. От лица остался только подбородок, кровь сочилась из многочисленных отверстий. Не задумываясь ни секунды, Гвоздь взял труп Рыжего и подтащил к задней двери. Сереженька уже стянул с девушки джинсы и примеривался пилой чуть ниже выскакивающих из крохотных трусиков ягодиц. – Возьми его тоже. Вторую ногу у него отрежешь. – Нельзя, – задумчиво произнес дебил, не отводя глаз от румяного зада девчонки. – Против правил. – Да он ведь не стоял на остановке, а с нами приехал. Врубаешься? Точно так же мы могли убить всех в разных местах на оговоренном расстоянии, а кусочки собрать уже после. В одном месте. Так что помогай! Они втащили труп на заднее сиденье, которое теперь походило на морг. Сереженька с трудом умещался тут и в полном одиночестве, а в компании двух мертвецов свобода движения испарилась окончательно. – Времени у нас ровно на то, чтобы добраться до Колпачка, – садясь за руль, сказал Гвоздь. – Ты занимайся оставшимися частями, а я поведу. Если эта колымага заведется… Но опасения не подтвердились. Мотор с первой же попытки издал приятное слуху урчание. Автомобиль несся к конечной цели путешествия, вызывая изумленные взгляды водителей встречных машин. Салон наполнял тошнотворный запах: Сереженька трудился в поте лица. Брызги крови, вырывающиеся из-под лезвия пилы, то и дело попадали на Гвоздя. Он старался держаться и молча вел машину, не смотря назад. Уже в нескольких минутах езды от владений Колпачка Гвоздь едва не взвизгнул от радости. У бензоколонки лежал перевернутый автомобиль, вокруг которого собирались менты. Это был так хорошо знакомый всем джип. Гвоздь с невероятным трудом преодолел желание посигналить неудачникам, которые уже совершенно точно не жильцы. Ведь у Колпачка очень длинные руки, и достать кого-либо в тюрьме – не проблема. На счастье двух оставшихся в живых собирателей Пазла, менты были заняты, иначе обязательно обратили бы внимание на продырявленный автомобиль, несущийся по дороге. – Ну что, Сереженька! – радостно воскликнул Гвоздь. – Справились, мать твою! Пазл собрали, уложились вовремя. Да еще и конкуренты сошли! – Красивая… – пробурчал дебил, лаская изуродованное тело девушки. Он уже закончил со своим малоаппетитным занятием, и две отпиленные ноги лежали в стороне от трупов. – Да разве там разберешь? Да и вообще, какая разница! Мы же победили! Как ты не врубаешься, дубина?! – Пазл, – как обычно не к месту вставил Сереженька, а «девятка» тем временем выехала на дорогу, ведущую к усадьбе Колпачка. – Успели! – удивленно воскликнул охранник, открывая ворота. – А мы уже думали, никто не появится. «Девятка» заехала на территорию, моментально попав в оцепление вооруженных людей. – Черт! – бросил один из собравшихся. – Не на тех поставил. Эх, просрал я штуку зелени… По толпе прошел довольный смешок. Настроение у охраны было отличное. – Прошу за мной, – сказал высокий блондин в военных штанах. – Где Пазл? – В багажнике, – устало ответил Гвоздь. – А ноги в салоне. Там немножко испачкано, не обращайте внимания. – Заберите и принесите наверх! – приказал блондин своим людям. – Колпачок уже ждет.
Комната была наполнена солнцем. Со стороны открытого балкона веял приятный ветерок, игриво цепляя шелковые занавески. Колпачок сидел за столом и с любопытством разглядывал обоих победителей. Был он крепким стариком с огромным животом и торчащей, как сорняк, седой бородой. Вокруг кучковались вооруженные охранники. – Что ж, – начал он, – молодцы. Можете считать себя полностью амнистированными и продолжать работу. Только учтите – подобных проколов быть не должно. Следующая ваша оплошность, негативным образом отразившаяся на работе всего нашего дружного коллектива, станет последней. Гвоздь молча кивал, а Сереженька тупо разглядывал собственные ноги. В комнату вошли двое, таща с собой небольшую металлическую ванну. – А вот и Пазл, – с улыбкой произнес Колпачок. – Сами понимаете, я должен взглянуть на результат ваших стараний. Он поднялся со своего места и, опираясь на трость, подошел к ванне, в которой лежали части человеческих тел. – Очередной мутант, – едва сдерживая смех, заявил он. – Женская голова, тело мужское… И где вы такую рожу откопали? – Колпачок сделал паузу. – Ну, все нормально. Все куски на месте, да и правил вы, как мне сказали, не нарушали. Посему можете быть свобод… Колпачок проглотил окончание слова и присмотрелся к Пазлу. Гвоздь почувствовал, как по телу запрыгали мурашки. Поморщившись, старик стал ковырять тростью в металлическом корыте, внимательно разглядывая останки. – Похоже, я немного погорячился, – не без удовольствия сказал Колпачок, глядя в бледнеющее лицо Гвоздя. – Я, конечно, слышал, что бывают люди, у которых обе ноги левые, но, сколько живу, всегда думал, что это выражение используется в переносном смысле. – Как?! Да не может быть! – недоумевал Гвоздь. Он подбежал к зловонной куче мяса и с ужасом убедился в правоте старика. Две левые ноги – мужская и женская. Гвоздь посмотрел на Сереженьку. Тот безразлично хлопал огромными глазами, не соображая, что его ждет. – Это он отрезал ноги! Дебил! Я тут ни при чем! У нас же труп в машине, это просто ошибка! Вы же не можете из-за такой ерунды… – Я все могу! – рявкнул Колпачок, делая знак охране. – Правила есть правила. – Подождите, ну это же смешно… – взмолился Гвоздь. Грохнул выстрел. Гвоздь несколько секунд балансировал на слабеющих ногах, а потом повалился на пол. Его глаза погасли рядом с Пазлом, который он с таким трудом собирал. И то, что должно было принести жизнь, подарило лишь смерть. – Ну, а с тобой-то что теперь делать? – обращаясь к Сереженьке, сказал Колпачок. В ответ амбал только потер один из шрамов. – Хорошо еще, что вся эта шушера тебя толком не знает. Но такими темпами, боюсь, придется придумывать тебе другую забаву. Ладно, езжай домой, приведи себя в порядок. Машина ждет внизу. Сереженька кивнул и уже собирался покинуть комнату, когда услышал голос Колпачка: – Ты хотя бы доволен? – Доволен, – улыбаясь, выдавил дебил. А потом дружелюбно добавил: – Спасибо, папа.
Метео
От холода была только одна польза – труп не вонял. Ноги мертвеца торчали из-под заляпанной маслом простыни и подергивались на ухабах. Рукоятка ножа холмиком топорщилась под белой материей, точно дикое, но симпатичное привидение. Крови почти не было. Печка в салоне сдохла часа два назад, и теперь морозные узоры на окнах «буханки» срастались в одну большую льдину. Машина ползла сквозь густую ночь, фары высвечивали лишь снег да кусок дороги. Мельник сидел у перегородки и ловил теплый воздух из кабины. Там печка кочегарила на полную мощность, но Оля все равно дрожала. Немудрено, в осенних-то сапожках. Зима выдалась настолько теплой, что даже шапку в поездку брать не хотелось, но погода в очередной раз проявила чувство юмора. В Казахстане горе-путешественников встретил совсем другой климат. – Ни хера не видно! – выругался Саня. – Ну и куда тут рулить? – Твоя же идея ночью ехать, – напомнил Мельник, – вот и думай. Саня рассмеялся. Его неспроста прозвали Бешеным: жила в нем сумасшедшинка, которая удивительным образом сочеталась с призванием закостенелого механика. Широкие плечи, здоровенные кулачищи, всегда заляпанные черным пальцы, щетина, очки с толстыми стеклами и голос, точно у персонажа мультфильма. Улыбчивый, добрый, но при этом крикливый, раздражительный и вечно пропадающий в гараже, Саня был идеальным кандидатом для беззлобных подколок. Если бы в их краях кто-то надумал снимать очередной фильм о сумасшедшем ученом, то чудака с автопарком разнообразной рухляди утвердили бы на роль по одной лишь фотографии. – Вообще-то я думал, наш ниндзя штурманом будет. Он же местный! Бахтияр даже не повернул голову к кабине, продолжая смотреть на труп. – Задрал ты уже тупить, – без улыбки сказал Мельник. – Баха тут такой же местный, как и мы. Или ты думаешь, что всем казахам в голову атлас дорог Казахстана загрузили? – На заправке Баха ничего, сориентировался вроде. Вон трупак лежит. Теперь нам ехать только через эту жопу, без вариантов. – Вы оба достали! – не выдержала Оля. – Что сделано, то сделано. Главное, сами живы. Могло быть и хуже. Мельник хмыкнул, зарываясь в куртку и натягивая свитер до носа. Да, могло быть намного хуже. Особенно для самой Оли. Стройняшка с блондинистой косой до пояса так понравилась аборигенам на заправке в Аральске, что те решили забрать настоящую русскую Снегурочку с собой. Лопотали что-то на чужеземном, дышали перегаром, распускали руки. Мельник как раз загружал канистры через заднюю двустворчатую дверь, когда один из местных достал ствол. Началась кутерьма. Баха втянул Олю в салон уазика, следом прыгнул детина в кожанке, вынимая нож. Хорошо еще, что возню разглядел Саня, нажав на газ, едва в машину влетел Мельник. Оборудована «буханка» была что надо: утепленные стекла, две печки, две длинные и неудобные скамейки превращены в кинотеатральные кресла с подлокотниками, так что ехать в салоне было даже комфортнее, чем в кабине. И места тут хватало. Оля забилась к перегородке, пока Мельник с Бахой пытались скрутить незваного гостя. Тот был абсолютно пьян, но успел полоснуть ножом по рукаву куртки Бахтияра. Они сцепились. Резкий поворот ударил обоих о ряд сидений, и парочка грохнулась на пол. Баха отделался отбитой челюстью, а вот незнакомец застыл с собственным ножом в груди. Когда Мельник захлопывал заднюю дверь, машины преследователей еще не показались. Саня увел «буханку» во дворы, проехал через заметенные снегом гаражные лабиринты, окольными путями миновал одинаковые серые здания. Возиться с трупом в городе было опасно. Слишком людно. Придя в себя и переждав час между двумя гаражами-ракушками, друзья вернулись на трассу М-32. До родного Оренбурга оставалось меньше тысячи километров. Термометр на приборной панели показывал минус восемнадцать градусов за бортом. Машина начинала промерзать, не говоря уж о людях. Одноэтажные домишки давно кончились, исчезли редкие кафе. Ям с кочками становилось все больше. В следующем году дорогу ждал капитальный ремонт. – Все, приехали, – сказал Саня, останавливая машину. Мельник отвинтил крышку с фляги, глотнул коньяка и повернулся к водителю: – Только не говори, что сломался. – Сплюнь, дубина! Дай лучше хлебнуть, раз гаишники тут не водятся. У меня вообще стресс из-за вас, душегубы хреновы. Саня сделал два больших глотка, передал флягу Оле и заговорил: – Че смотрите? Пора избавляться от пассажира. Такой сувенир на границе точно завернут. Место было подходящее. Далеко от чужих глаз. Цивилизация кончилась часа полтора назад. Вокруг тонула во тьме настоящая казахская степь. – Пойдем, лопаты только захватите. Под сидушками они. – Ты хочешь его похоронить? – удивился Мельник. – Я хочу, чтобы его не нашли и не повесили на нас. Согреемся заодно. – Саня поправил очки, натянул шапку чуть ли не на глаза. – Это… Оль, посмотри пока там пожрать чего в пакете. Организуй, ладно? – Хорошо, – кивнула девушка, снимая варежки. Мельник вытащил из-под сидений две лопаты – штыковую отдал Сане, а Бахе вручил саперную. – Значит, по очереди будем, – подытожил Саня. – Ну что, убийца, освежимся? Бахтияр молча вышел через заднюю дверь, впуская внутрь облако снежинок. Схватив труп за ноги, он сбросил его на землю и потащил к обочине. – Завязывай, тебе говорят, – ковыряясь с термосом, сказала Оля. – Все, умолкаю! – поднял руки Саня. – По сторонам глядите. Если заметите фары, сразу сигнальте. Мельник пересел на водительское сиденье, и отапливаемая кабина показалась раскаленной сковородой. Из колонок тихо сопела какая-то певичка, дворники скребли лобовое стекло. В свете фар кружили снежные вихри. Мельник снова взглянул на термометр. Минус двадцать. На новогодние праздники к двоюродной сестре Бахтияра они уезжали из плюсовой температуры Оренбурга. Неладное друзья почуяли сразу после границы. Вопреки прогнозам, с каждым километром на улице становилось холоднее. Пока работали обе печки, Мельник обращал внимание на погоду только во время марш-бросков до туалетов или заправок. И уже тогда стало понятно, что двадцатник мороза в городе мало чем похож на двадцатник посреди голой степи. Несмотря на ужасные дороги, которыми пугал весь Интернет, до Аральска они долетели за пятнадцать часов. Саня был отличным водителем, и даже незнакомые пустынные пейзажи его не смутили. Он словно старался доказать, что легко обойдется и без карт Казахстана, которые из-за безалаберности забыл загрузить в навигатор. Хватило бумажного атласа и советов местных жителей. Через белоснежную степь, где встречались многочасовые перегоны без единой постройки и указателя, где метель засыпала следы гусеничной техники, а вдоль дороги встречались брошенные фуры, уазик протащил пассажиров почти без задержек. Здорово прошли и сам праздник, и последующие дни. Прием казахстанской родни оказался столь душевным, что Мельник, который в самый последний момент ввязался в это приключение, готов был остаться в Аральске хоть до февраля. Они пели песни, плясали, поедали национальные блюда и слушали местные легенды. Никаких «Голубых огоньков», черт бы их побрал. Совсем обрусевший Бахтияр наконец-то дорвался до родной речи и, казалось, выдавал годовую норму тарабарских слов. Причем заикание ему ничуть не мешало. После посещения Байконура развеселый экипаж уазика в полном составе был готов признаться в любви Казахстану и его жителям… А потом Саня предложил ехать назад ночью, чтобы не терять целый день. И сам выбрал ту злосчастную заправку. Ветер снаружи свистел и забрасывал уазик снегом. Ритмичные движения дворников гипнотизировали, будто хотели усыпить. Туда-сюда, туда-сюда. Два столба электрического света тьму совсем не пугали. – Почему именно мы в это вляпались… – прошептала Оля. Она нервно поправила шапку, перекинула косу с левого плеча на правое. Эта дурацкая привычка сохранилась еще с тех пор, когда Оля с Мельником были вместе. – Ничего, прорвемся. Дома обо всем забудем. Ты смотри только, лишнего не болтай. Мельник ожидал, что девушка ответит в духе «за кого ты меня держишь?», но та молчала. Молчала и смотрела в боковое зеркало. – Юра, там что-то сверкнуло… А если это они? Мельник присмотрелся, но ничего не увидел. Только снег и черноту. – Отморозки с заправки… Они же наверняка номер запомнили! – Оля повысила голос. – А если менты?! – Тихо, да тихо ты, не психуй! Ничего там нету. Да и не проедут они на своих легковушках по такой дороге. Не сунутся даже. Как и к ментам. «Извините, мы тут девушку средь бела дня умыкнуть хотели, но нам помешали эти проклятые рюсские», – так, что ли? Мельник и сам хотел бы в это верить, но в глубине души не исключал ничего. Он прикурил сигарету, натянул варежки и вылез наружу, сказав Оле, что сменит Бахтияра. Свет фар желтыми струями растворялся в нескольких метрах от морды уазика. Ноги увязали в слое снега, под которым был погребен асфальт. Мельник зашагал вдоль машины, вглядываясь в черное полотно. Никаких сверканий, ничего. Оле почудилось. Оказавшись у кузовного задка, Мельник замер. То ли в глаз попала снежинка, то ли на дороге действительно что-то шевельнулось. Будто здоровенная тень прорвала сдерживающий ее сумрак. Выпустив дым, Мельник повернулся к полю. Метрах в тридцати от машины Саня с Бахой копали черноту. Фигуры их почти слились с ночью, только два сигаретных огонька говорили о том, что парни еще живы. С дороги кто-то фыркнул. Тень пришла в движение. Приближалась. Задрожала сигарета в зубах. Мельник вжался спиной в створки двери уазика, подпирая бампер. В голове щелкнуло, и память подкинула недавнюю байку от Бахтиярова дяди. Этот усатый весельчак с непроизносимым именем рассказал целую кучу местных страшилок и городских легенд, но одна запомнилась особенно. О девушке, которая живет на дорогах Казахстана и убивает водителей. Чаще всего ее якобы видели в белом платье, иногда даже свадебном. Симпатяга напрашивалась в попутчики, а когда залезала в машину, люди замечали, что ноги ее покрыты черной шерстью, а вместо стоп – копыта. Сигарета уткнулась в землю, оставив на куртке несколько угольков. Мельник отряхнулся, поднял глаза к существу из темноты и чуть не поскользнулся от неожиданности. По дороге шел верблюд. Двугорбый здоровяк спешно протопал мимо машины и исчез в чернильно-снежном мареве. Мельник выдохнул и достал новую сигарету. Верблюдов они насмотрелись по пути в Аральск, животные тут разгуливали сами по себе и запросто могли перегородить дорогу. Обычное для степи дело. Новый звук шагов Мельника не испугал, потому что вместе с хрустом наста до него долетели и матюки. – С-с-следующий, – стуча зубами, произнес Бахтияр, и Мельник взял лопату. Могильщики из них получились неважные, и только через полтора часа уазик вновь тащился к границе с Россией. Обледенелая земля погубила обе лопаты, но труп все-таки нашел покой на небольшой глубине. Через неделю метель превратит холмик в огромный курган, поэтому до поздней весны едва ли кто обнаружит тело. Оля пропадала в мобильнике, Саня бурчал что-то под нос и матерился на дорогу, темноту и президента. Разговаривать не хотелось. Бахтияр грел руки о кружку с чаем, оставаясь мрачнее тучи. Мельник отхлебнул коньяка, но алкоголь больше не согревал. Не утешал и чертов градусник: минус двадцать два. Шевеля замерзшими пальцами на ногах, Мельник понимал: пора всем перебираться в кабину. В тесноте, да не в обиде. Если температура будет падать с такой же скоростью, они с Бахой тут просто замерзнут. В крышу уазика ударило что-то тяжелое. Саня выкрутил руль, переехал сугроб и с трудом удержал машину на дороге. Нажав на тормоз, он помянул кого-то по матери и взглянул в зеркало. Мельник подошел к задней двери и всмотрелся в участок замерзшего стекла, где хоть что-то можно было разобрать. В свете тормозных огней лежал труп. Мельник вышел первым. На снегу валялся узкоглазый здоровяк без одежды, но с небольшой дырой в груди. Словно от ножа. Тело мертвеца было странным образом высушено: левая рука совсем скукожилась, тогда как на правой по-прежнему проступали мускулы; бледная кожа обтягивала широкий скелет, но по всему туловищу кусками росли уплотнения мышц. Наверху завывала вьюга, сметая с ночного неба звезды. Появились Баха с Саней. За ними плелась и Оля. – Как это дерьмище умудрилось мне на крышу приземлиться? Че за херня?! – Саня подсветил труп фонариком и повернулся к Бахтияру. – Слышь, косой, узнаешь друга? И без того молчаливый по жизни Бахтияр после случая на заправке превратился в немого. – Быть не может, – сказал Мельник. – Мы же… – Что с ним такое? – всхлипывая, спросила Оля. Саня заржал: – Не поверишь, он окочурился! Сначала на заправке, потом в земле, а теперь вот, похоже, для верности из самолета выпал! Мельник заметил что-то за трупом, там, куда едва добивал свет Саниного фонаря. Он отобрал карманное светило и подошел ближе. По заснеженной дороге пополз электрический желток, пережевывая мрак. Когда сгустки тьмы убрались за освещенный круг, на земле возле головы мертвеца проступили черные хлопья. И дальше, и чуть в сторону… В двух шагах от них вся дорога была покрыта этой дрянью. – Пепел? – М-м-м-м… – пытался заговорить Баха, но захлебывался воздухом. – Это черный снег, – сказала Оля, в очередной раз перекидывая косу через другое плечо, будто этот ритуал мог оградить девушку от неприятностей. – Тот самый. Мельник поднял голову к небу, где черный океан бескрайних размеров заглатывал последние куски света. Дорога проваливалась в темноту. Ветер доносил до путников шепот снежной пустыни, и от этого звука стонали даже металлические кости уазика. – Мэ-мэ! – передразнил Саня заику. – Хватит мычать, валить отсюда надо. Даже не думай сказки свои рассказывать. – М-м-метео! – наконец выплюнул Бахтияр. Среди кучи местных страшилок была и такая. У каждого рассказчика имелась своя версия, но если слепить все воедино, выходило, что в Казахстане живет блуждающая атмосферная аномалия. Из-за нее резко портится погода, небо наливается облаками черного снега, которые плывут против ветра, а иногда даже спускаются на землю. В них и пропадают люди. Годы спустя обескровленные тела некоторых обнаруживали в разных уголках страны, но большая часть исчезала навсегда. Старики твердили, что это проделки злого духа. Так или иначе, истории о неком явлении, сопровождающем зиму, или природном демоне расползались по всей округе. Ему дали кучу имен, самым подходящим для русского уха оказалось Метео. Пару часов назад Мельник добавил бы к этой байке еще с десяток придумок от себя лично, но теперь было не до шуток. Ехали молча, отключили даже магнитолу. Чтобы лучше слышать преследующий их вой. Мельник посадил Олю на колени, Баха разместился ближе к коробке передач. Саня задвинул окошко на перегородке, отделяя от кабины замерзающий салон. На часах было ровно три утра. Двадцать пять градусов мороза. Казалось, асфальт закончился минут сорок назад, и теперь машину трясло, точно механического быка в парке аттракционов. Баха бездумно таращился в пустоту за лобовым стеклом. Глядя на него, Мельник вспоминал, как читал про казахских кочевников, которым природа подарила узкий разрез глаз, чтобы укрываться от суровых степных ветров. Теперь же словно кто-то хотел продемонстрировать недружелюбность здешних краев к квартету чужаков. В другой раз Мельник был бы рад елозящей на коленках Оле, но сейчас девушка раздражала. Ноги затекли так, что он переставал их чувствовать. Оля не выпускала из рук мобильник, на экране которого то и дело проклевывались полоски сигнала. Вертела его сначала по часовой стрелке, затем против. И заново. Мельник даже подсчитал количество вращений – в каждую сторону выходило по двадцать три раза. Как будто звонок из этой глуши им чем-нибудь поможет… Мертвец догнал их примерно через час. Рухнул на крышу с таким грохотом, будто на этот раз его скинули из космоса. – Сука! Сука! Мать твою! – орал Саня, буксуя в снежной колее, едва не завалив машину. – Что ему надо?! – заплакала Оля. – М-м-может, он злится, п-п-потому что мы привезли труп сюда. П-п-похоже, это его владения. – И что, с собой его теперь забирать? Саня снял очки, протер их подрагивающими руками, нацепил обратно и открыл дверь. – Нет уж, – произнес он, – это говно я в машину не положу. – А если… – Ниче не если! – заверещал Саня. – Не будет этого долбоежика дохлого у меня в машине! Точка! Срать на него. И на снег этот грязный срать. Пролетим Иргиз, дальше попроще станет. А там, глядишь, и посветлеет. Плюс заправки, цивилизация. Саня хлопнул дверью и растворился во вьюге. Сзади заскрежетали створки, бахнула об пол канистра. Когда все вылезли под недружелюбное небо, вокруг трупа уже растекалась лужа бензина, по черному снегу ползли ручейки. – Нам самим х-х-хватит? – Хватит. С запасом, – сказал Саня, бросая на тело зажженный коробок с остатками спичек. Пламя накинулось на предложенную еду, заурчало, завыло. Ветер подхватил заунывный мотив и утащил его в небо, где бесновались черные тучи. В воздухе потянуло теплом и мертвечиной. – Может, хоть теперь этого говнюка не поднимут. Крыша и так уже черт знает на что похожа. Хлопнула дверца – это Оля спряталась в кабине. Саня сплюнул на чадящий в снегу факел и убрал канистру. Потом показал небу средний палец и нервно заржал. Мельник сидел у трупа и грел руки, наблюдая, как огонь поглощает незнакомца. В реве ветра все время мерещились какие-то слова. Метео… Нужно было убираться с открытой местности. Мельник дернул Баху за рукав и пошел к машине, но друг не сдвинулся с места. Он глядел в отступающую темноту. – Не с-с-слышишь? Ш-шаги… – Чего? Мельник ничего не слышал. Разве что ветер. Словно живой, говорящий. И черный снег. Но у Бахи был очень хороший слух. Потому что Мельник ничего не услышал, даже когда увидел. Отсветы пламени над землей выхватывали из тьмы ноги. Голые бледные стопы медленно пробирались сквозь снег, и из чернильного тумана появлялись высушенные фигуры. Костлявые, молчаливые, с обмороженными лицами. Парни забрались в кабину, чуть не задавив Олю. – Эй! – Вы че, поссать на брудершафт там решили? В задок уазика что-то ударило. Рассыпалось стекло. – Саня, гони. – Че там такое?! – Гони, придурок! Машина заворчала. Фары высветили частокол обнаженных мертвецов впереди. Те стояли и смотрели глазами-льдинками в пустоту. Рядом кружили черные перья снега. Когда створки задней двери застонали под тяжелыми ударами, Саня нажал на газ. Бум. Бледные лица уходили под «морду» уазика. Бум. Машина плясала на костях. Бум. В стальных щелях кабины злобно рычал ветер. Уазик расчистил дорогу и стал набирать скорость. Но в зеркалах все еще можно было разглядеть десятки преследователей. Потому что среди них шагал покрытый огнем человек, а ветер раздувал пламя и разбрасывал искры над головами вязнущих в снегу мертвецов. Они шли за машиной. Дорога в районе Иргиза была просто кошмарной, но машина справлялась. Хотя скорость заметно упала. Все понимали, что в намеченный срок до Оренбурга они не доберутся. – И что нам теперь делать? – тихо спросила Оля. – Ехать. Че ж еще. Эти манекены нас никогда не догонят, срать на них. – Если только их кое-кто не подбросит, – хмыкнул Мельник. – Кстати, у нас бензин на нуле почти. – Да знаю я, знаю… – поморщился Саня. – Зальемся. Уазик остановился у едва различимой развилки. Снежное крошево, будто исполинский рой насекомых, пожирало темноту. Казалось, машину окружил бледный водоворот. – Я постараюсь быстро, – начал Саня. – Мотор не глушите. Его тень унеслась к задку уазика сквозь седую рябь. Заскрипели створки задней двери. Мельник посмотрел в наружное зеркало, но пурга смыла все изображения. Саня не возвращался. Прошло уже минут десять. Баха вздохнул и посмотрел на Мельника. Они одновременно вылезли с разных сторон «буханки» и подошли к задней двери. Пустая канистра вмерзала в лед, колеса уже на треть ушли под снег. Никаких следов. – Саня! – заорал Мельник, чувствуя, как звук уносится в чернильную бесконечность. – Са-а-ань! Он поднял голову, и на секунду ему показалось, что снежные крупицы сложились в лицо. Ветер растащил уродливую морду на запчасти, стоило лишь моргнуть. Оля ничего не спросила, только снова тихонько заплакала. За руль сел Мельник. Потратив минут пять на то, чтобы выбраться из леденеющей вокруг колес каши, он понял: без своего Шумахера машина далеко не уедет. Часы показывали десять минут шестого, а термометр замерз на отметке «-30», когда уазик окончательно застрял. Баха вернулся в кабину живой и невредимый, растирая варежками лицо. – Прип-плыли, – порадовал он. – Похоже, н-н-наст провалился. Придется копать. – Я никуда не пойду, – сказала Оля, пряча косу под капюшон куртки и превращаясь в эскимоса. – Может, тебя тогда вообще высадить? – огрызнулся Мельник. – Давайте просто тут дождемся утра. Кто-нибудь приедет же наверняка. А эти… отстали, наверное. Сколько времени прошло. – Ну-ну, отстали… И кто-нибудь обязательно приедет, да. На лимузине. Пойми ты уже наконец. По этой дороге зимой почти никто не ездит. Разве что экстремалы да отморозки. – И дебилы, – добавила Оля. – Которые маршрут этот составляли. – Сюда проехали, значит, обратно проедем. Хватит ныть. Ветер едва не сдирал кожу. Забирался под куртку и проходил по всему телу ледяным языком. Лицо затвердевало за какие-то минуты, говорить было невозможно. На ресницах вырастали настоящие сосульки. Копали втроем, поглядывая в колыхающуюся рядом темноту. Ошметок штыковой лопаты они так и не нашли. Оле досталась доломанная саперка, а парни раскидывали снег открученными номерами. Каждые десять-пятнадцать минут копатели заваливались в кабину погреться, вернуть пальцам чувствительность и дохлебать остатки чая и коньяка. Внутри из последних сил кряхтела печка. Спустя час работы «буханка» так и лежала на пузе. Сцепления с дорогой не было. Больше всего Мельник боялся застрять тут, когда кончится бензин. В памяти все еще стояли запертые в снежном плену грузовики между Иргизом и Аральском. Их водители утеплили кабины и на полном серьезе ждали весны, покупая продукты и топливо у редких проезжающих. К восьми утра они почти выбрались из ямы. Вернее, утро наступило где-то там, за линией мрака. Вокруг по-прежнему жила темнота. – Я их не чувствую. – Оля подошла к Мельнику, стянула варежки и показала замерзшие ладони. Пальцы едва ли не почернели. – Твою мать… Иди в машину, тут ерунда осталась. Сами доразгребем. Копать номерами оказалось настоящим мучением, но ничего лучше они не придумали. Не руками же. Расшвыривая последние комья снега, Мельник заметил в темноте фигуру и замер. Обнаженный человек стоял в десяти шагах от них и смотрел на дорогу. – Баха, надо заканчивать. Мертвец повернул голову к копателям, и Мельник его узнал. Саня был высушен, выпит, от него осталась лишь обледеневшая оболочка. Но оболочка эта могла передвигаться, поэтому шагнула к своей машине. – Д-д-должны выбраться теперь. Мельник с Бахой метнулись к кабине, но внутри никого не оказалось. У распахнутой пассажирской двери валялось полотно саперки. Снег вокруг был примят, и в темноту уходил след гигантской улитки. – Оля… – прошептал Бахтияр, блокируя дверь. Мельник нажал на газ, и уазик вылез из снежной ловушки, грохнув боковиной бывшего хозяина. Проверили зеркала. Мертвец поднимался очень медленно, но за его спиной вырастали другие тени. Отъехав метров на двадцать, Мельник бросил руль и схватил фонарик. – Ты ч-чего? – Меняемся. Вдруг она жива? Ты же видел след, ее не снег унес. Бахтияр кивнул и перелез на водительское место. – Десять минут, не больше, – сказал Мельник, выбираясь наружу через пассажирскую дверь. – Потом уезжай. Держись, они рядом. Просто дави их к чертовой бабушке. Привлеченные огнями уазика, навстречу по дороге шагали карикатурные человечки. Мертвые. Десятки, если не сотни худосочных неповоротливых фигур. Мельник отыскал место, где забрали Олю, подхватил огрызок лопаты и только тогда включил фонарь. За спиной завыли мертвецы. След уползал в сугробы, а на снегу черными дырами красовались провалы от ног. Мельник застревал, цеплялся ботинками за мерзлую корку, но лез дальше. Электрический свет пятнами прыгал по ночной степи и терялся в нескончаемой стене белого крошева. Кровь на земле чуть притормозила Мельника, но тот двинулся дальше. Рука с фонариком дрожала, впереди шевелилась ночь. Над головой, казалось, кто-то хохочет. Теперь Мельник шел сквозь кровь. Она была всюду, снег стал красным. Понимая бесполезность затеи, Мельник тем не менее волочил ноги вперед. Ведь там была Оля. Когда-то его Оля… Свет фонарика уперся в серые спины. Мертвецы стояли на коленях, опустив головы к земле. Они чавкали, рычали, ворчали, из-под ног тек багряный ручей. Неровный луч мазнул по безволосым затылкам, по едальне из внутренностей, по оторванной белоснежной косе… и по заляпанным лицам. Мельник отшатнулся. Двое мертвецов шагнули к нему. Завыли остальные, но тут же вернулись к кормушке. Погасив фонарь, Мельник попятился. Заскрипел снег, и тени пришли в движение. Кто-то навалился сзади, над ухом заклацали зубы. Мельник с трудом вырвался, отмахнулся саперкой и побежал. Теней стало больше. Гораздо больше. Похоже, с Олей они закончили. Баха давно уехал, хотя и не умел толком водить. Мельник тащился через абсолютную черноту. Никаких проблесков на небе, никаких фар. Он застрял в огромных сугробах, где можно было пробираться вплавь. Включать тут фонарь было бы самоубийством. Снег трещал со всех сторон, приближались стоны безвестных обитателей этих мест. И тут Мельник услышал автомобильный гудок. Именно гудок, как у настоящего паровоза, Саня его очень любил. Уазик верещал не так далеко, и Мельник, точно ледокол по замерзшему морю, двинулся к дороге. Ноги были насквозь мокрыми, снег попал даже в трусы, а рук и лица он давно не чувствовал. Но для последнего рывка силенок хватило. У самой обочины Мельник остановился и зажег фонарь. Гора снега рядом с ним чуть приподнялась. Бахтияр каким-то чудом разглядел мигающий свет и почти сразу сдал назад. С крыши посыпались серые фигуры, под колесами захрустели переломанные конечности. Мельник обернулся. Сугроб стал еще выше, словно шевелился. Дорога была забита мертвецами, превратившись в живую реку смрада. Они никуда не торопились, словно верили, что машина не сдвинется с места. Или ждали остальных, ведь из снегов вылезали новые и новые трупы. Мельник отворил заднюю дверь, увернулся от вывалившейся оттуда женщины с обглоданными руками и нырнул внутрь. Все окна тут оказались разбиты, пришлось приземляться на осколки. Крупными трещинами разошелся снежный курган у дороги, выпуская на волю настоящее чудовище. Из кабины послышался голос Бахтияра: – Жив-вой? – Поехали!!! В салон влезла огромная безглазая морда на длинной шее. Болезненного вида тварь без шкуры заслонила собой дорогу, в крышу уазика упирались горбы. Сплющенная пасть метнулась к Мельнику, врезаясь в стекло на полу. По всей голове существа росли рубцы и открытые раны. Мельник воткнул полотно саперной лопатки прямо в здоровенный нос. Уазик тронулся, по корпусу застучали высохшие руки, но было уже поздно. Мертвецы остались на заснеженной трассе. Великан с пробитой мордой переминался на четырех ногах, не собираясь отправляться в погоню. «Буханку» было уже не догнать. Мельник перелез в кабину, а как только чуточку отогрелся, сел за руль. Дорога стала лучше, посреди утренних сумерек появились долгожданные просветы. Кошмар уходил. Давить на педали становилось все сложнее, усталость ломила кости и склеивала глаза, но близость границы придавала сил. Баха спал, держась за разорванный рукав. Пальцы раскрашивала засохшая кровь. Мельник только сейчас сообразил, что они даже не перевязали рану, когда придурок на заправке полоснул Бахтияра. С этого и начались неприятности. Не верилось, что с тех пор минуло всего несколько часов. Ледяная пустыня снаружи расцветала, таял снегопад. Черный занавес нехотя поднимался, впуская в мир осколки света, из которых должен был вырасти новый день. Мельник закурил, рядом закашлялся Бахтияр. – С каких это пор ты от дыма нос воротишь? Баха не ответил. Открыл окно, высунулся наружу и выблевал половину внутренностей. Потом повернул к Мельнику бледное лицо, вытер рот и заплакал. – Твою мать… – едва смог выговорить Мельник, останавливая машину. Теперь он вспомнил, что на заправке Бахе порезали правую руку, а не левую, за которую тот держался. – Так вот почему они всей толпой не бросились на машину. – М-может, и так. – Бахтияр залез в бардачок, достал пучок проводов и сунул их Мельнику. – Я не хочу с-с-среди них ход-дить. Мельник сомневался, что удавка поможет. Он смотрел на Бахтияра и вспоминал, как тот пришел к ним в школу в третьем классе. С такой внешностью, да еще и с заиканием он был обречен на издевки, но неожиданно быстро со всеми сдружился. Особенно с Саней, Олей и Юрой, которого уже тогда почти все звали по фамилии. Дружная четверка и в институт поступила вместе, а вот после него их судьбы разошлись. За минувший год они почти не виделись, и праздничная неделя показалась отличной возможностью наверстать упущенное. Бахтияр понял без слов. Кашляя и шатаясь, он выбрался из кабины и поковылял к капоту. Мельника трясло, руки едва удерживали руль. Бред, сумасшествие, еще вчера они все вместе хохотали над закидонами Сани, а теперь… – С-с-спасибо, – проговорил Баха в открытое водительское окно. – Скажи род-дителям, что… что-ниб-б-будь. Не знаю. Он отошел, улегся головой под переднее колесо и замолчал. – Тебе спасибо, друг, – вытирая слезы, произнес Мельник. – Обязательно скажу. Скажу. Мельник закрыл окно, включил магнитолу на полную громкость и нажал на газ. Уазик два раза едва заметно наклонился вправо и поехал дальше. В зеркала заднего вида Мельник не смотрел. В бак ушли последние двадцать литров бензина, и алюминиевая канистра улетела в салон. Вокруг окончательно рассвело, снегопад закончился. С ночью ушли и страхи. Столбы электропередач утопали в белом море и растворялись в утреннем тумане вдалеке. По дороге бежала поземка, а солнечные блики купались в залежах снега. Мельник ехал вперед, даже не представляя, куда уткнется эта дорога. Линия горизонта казалась бесконечно далекой. Во все четыре стороны тянулось одинаковое снежное полотно. Когда он увидел движение, то не поверил своим глазам. В сотне метров впереди бежала лошадь, волоча за собой переделанную в сани телегу. На грубо сколоченных досках сидел человек. Настоящий живой человек. Мельник выехал на середину дороги и прибавил скорости. Догнав самодельную повозку, он посигналил, и лошадь замедлила шаг. Наездницей оказалась старуха, по виду разменявшая вторую сотню годков. Закутанная в серую телогрейку, она улыбалась одними деснами и жмурила без того узкие глаза. – Здравствуйте! – обрадовался Мельник. – Ну слава богу, хоть кто-то. Не подскажете, далеко до города? Или до заправки? Тут есть вообще что-нибудь поблизости? Бабка улыбалась, не понимая ни слова. Ничего связного на казахском Мельник произнести не мог. – Го-род! – кричал он по слогам, будто так станет понятнее. – За-прав-ка! – Мельник тыкал на уазик, потом на дорогу, пытался изъясниться на языке варежек. – Актобе, – неожиданно сказала старуха. – Актобе, точно! Далеко? Вы знаете дорогу? Она как-то хитро улыбнулась и похлопала по карману телогрейки. – Деньги, что ли? Вам деньги нужны? Мани? – спросил Мельник, понимая, что с тем же успехом мог бы и с лошадью по-английски заговорить. – Не вопрос, минутку! Мельник забрался в кабину, переполз на пассажирское сиденье и стал искать сумочку Оли. Они наменяли местной валюты, но все потратить не успели, и теперь от этих тенге проку никакого не было. По крайней мере, Оле уж точно. Кабину шатнуло, и Мельник обернулся. Старуха залезала на место водителя. – Э, бабуля, спокойно, я сам все принесу. Старуха опять похлопала по карману. – Говорю же, не надо никуда лезть. У вас тут так принято, что ли?! Беззубая улыбка обратилась к Мельнику. Старуха запустила руку в карман и выудила оттуда замызганную железяку. Полотно саперной лопатки. Очень быстро стемнело. Пошел снег. Мельник прижался к пассажирской двери, пытаясь нащупать ручку. Старуха, раскрыв рот пошире, стала переваливаться к нему. От ее копыт в кабине оставались смешные круглые следы.Забытые чертом
Валенки скользили по льду, будто настоящие коньки. Самодельные клюшки отстукивали деревянную дробь, а голоса эхом уносились в туман. В хрустальной поверхности под ногами отражались румяные детские лица. Привычный мороз за тридцать не давал скучать. – Какой ты Третьяк?! – вопил Леха. – Третьяк – вратарь! – Ну и что! – не соглашался Мишка. – Он самый хороший игрок! Как и я! Из мехового кокона показалась улыбка. Чуть съехавшая набок ушанка Лехи походила на растрепанную голову какого-то диковинного зверя. – Ты – дырка! – подначивал он. – Спорим, два из трех забью? – Ха! – воскликнул Мишка, протирая замерзшие под носом сопли. – Да ты и не добросишь, слабак! Начертив две линии на льду, он занял место ровно посередке. Маленький вратарь сборной СССР, пусть даже вместо красивой формы на нем была потрепанная куртка на гагачьем пуху. Леха отошел на более-менее приличное расстояние и ковырнул шайбу в сторону «ворот». Каучуковый диск, который не раз жевали собаки, приполз в распростертые объятия Мишки. – Ха-ха! – радовался тот. – Я ж говорил – слабак! – Это тренировка! – отозвался Леха. Он был годом старше и раза в полтора крупнее, так что на нехватку сил жаловаться ему было не с руки. Второй удар вышел будь здоров. Шайба юркнула под ногой Мишки и зарылась в сугроб позади. – Штанга! – довольным голосом заверещал Мишка, хотя прекрасно видел, что гол был. – Че ты брешешь? Там до штанги еще километр! – А вот и нет! Ты просто мазила! Леха не ответил, и на секунду Мишке подумалось, что друг обиделся. Это было бы очень странно, ведь подобные сцены повторялись изо дня в день, и мальчишки просто дурачились. Неуловимо менялась разве что их площадка: широкая наледь, которую с начала зимы грунтовые воды подняли уже на добрый пяток метров. Но Леха молчал потому, что уставился куда-то в сторону леса. Мишка обернулся и уловил движение вдалеке. Там, где к зарождающейся цивилизации со всех сторон подкрадывалась тайга, шагала вереница черных человечков. Привычным маршрутом они направлялись к участку магистрали, который должен был соединить Усть-Кут и Тайшет. Остальным бамовцам там показываться запрещалось, и жители небольшого поселка тянули рельсы в другую сторону – к Комсомольску-на-Амуре. Стройки века хватало на всех. – Они теперь еще и ночью работают? – спросил Мишка, тотчас позабыв о хоккейных баталиях. – Похоже. – Страшные они какие-то. Живут в лесу, дед Семен говорит, у них там лагерь свой. Интересно, а как в темнотище строить? Ночью же за сорок подморозит! – Ну-у-у, – промычал Леха, – они ж военные, армия. Им это раз плюнуть. – Мы когда дорогу построим, я тоже в армию пойду. И буду там самым главным. И получать буду много денег. Тыщи две в месяц! – А я еще больше тебя! – усмехнулся Леха и закинул клюшку на плечо. – Ладно, темнеет. Ничья? – Ничья, – без раздумий согласился Мишка, вытаскивая из снега шайбу. Мальчишки отряхнулись и двинули к дому. Впереди бежал пар изо рта,разгоняя морозную дымку. Туман, который второй месяц не давал любоваться солнцем, с сумраком справиться не мог, и спускающаяся с неба тьма наступала друзьям на пятки. – И все равно я – Третьяк, – как бы между делом сказал Мишка. – И все равно ты – дырка, – отозвался Леха. До родных домишек они добрались уже бегом, бомбардируя друг друга снежками. Поселок встретил их звуками топоров – это мужики рубили замерзшую воду. На БАМе наступала пора ужина.Вездеход затих где-то в таежной глуши, превратившись в бесполезную груду железа. Запас солярки не предусматривал столь долгого путешествия, и теперь перед заплутавшими в темноте пассажирами открывались нерадостные перспективы. – Молодец, водитель! Ладно службу несешь! – Товарищ лейтенант, я же говорил, что… – Говорил-говорил. Можешь не повторять. Олег осмотрелся. Верхушки кедров терялись в черноте, которая куполом нависла над вездеходом. Снег лежал ровно, будто его специально утрамбовывали, желая показать в лучшем виде. По ледяной дороге в темноту уходили две змейки проторенной лыжни. Сковавший лес мороз медленно добирался до людей, покусывая лица и кончики пальцев. – Бойцы! Соорудите-ка костер, что ли. – Товарищ лейтенант, да как мы его тут зажжем? Мы ж не егеря какие-нибудь. – Не знаю, смекалку проявите, – сказал Олег и отвернулся к огрызку дороги, который белым языком вываливался из темной пасти тайги. – Я пока посмотрю, куда капитан пропал. Распределение закинуло Олега в зону вечной мерзлоты, край высокой сейсмической активности, где паутины трещин от землетрясений распугивали таежную живность. Молодой лейтенант поначалу обрадовался возможности служить в месте возведения Байкало-Амурской магистрали, но ему хватило недели, чтобы насытиться прелестями всесоюзной комсомольской стройки: холод, который не всегда могла вынести даже техника, тяжелейшие условия жизни, непонятная суета вокруг этой дороги и полная неопределенность с собственным будущим. Олега привезли в Усть-Кут, ничего толком не объяснив. Сказали лишь пару слов об объекте, на котором предстояло нести службу: неприметном лагере близ магистрали. Рвущийся почувствовать себя командиром лейтенант никого в подчинение не получил и кормился только наставлениями старших по званию. Олег понимал, что все, чему его учили, в здешних суровых краях никому не нужно. Единственная хорошая новость с момента приезда на БАМ заключалась в обещанной начальством доплате за секретность. Хотя какие секреты могут быть в такой глуши, Олег не представлял, а на вопросы ему тут обычно не отвечали. И вот теперь, после долгого пути на объект, вездеход заснул в снегу. Капитан, который сопровождал группу, с полчаса назад ушел на лыжах дальше по дороге. Оставив Олега за главного, он сказал, что поселок недалеко и найти его проще тому, кто там уже бывал. Капитан производил впечатление уверенного в себе человека, однако Олегу показалось, что тот чего-то недоговаривает. Последними словами были указания держаться всем вместе и внимательнее смотреть по сторонам. Шагая наедине с собственными мыслями, Олег не заметил, как отошел от вездехода довольно далеко. Впереди хрустнул снег. Сначала Олег решил, что ему мерещится. Завывания стихии не умолкали, маскируя посторонние шумы. Но треск снежного покрова раздался вновь. Теперь было очевидно, что прямо по курсу кто-то очень медленно движется навстречу Олегу. – Товарищ капитан? – спросил Олег у пустоты. Шаги приближались. Становились быстрее. Только сейчас лейтенант сообразил, что лыжи такого звука издавать не могут. Человек из темноты шел пешком. – Кто тут? Ответа не последовало, но сквозь снежную завесу стали проступать контуры идущего. И чем ближе подходил незнакомец, тем быстрее пятился Олег. Шагающий сквозь сугробы человек был одет лишь в легкую рубаху и рваные штаны. Темные пятна на коже, провалы вместо глаз, неровный шаг и странные, какие-то звериные звуки. Все говорило о том, что человек серьезно болен и ему нужна помощь. Все, кроме одного. Из грудной клетки незнакомца торчала лыжная палка.
Внутри было тепло, а это – самое главное. Печь жевала дрова, выдыхая в трубу сизый столб дыма. За столом гремели посудой голодные бамовцы, с мороза в здание столовой постоянно кто-то заходил. – Закрывайте двери, елки-палки! – рявкнул бородатый мужик с проседью. – Не ворчи, Иваныч. Сейчас надышим и напердим, так опять потеплеет. К звону ложек с вилками прибавился смех, тут же в ответ понеслись колкости и подначивания. Мишка спрятал довольную улыбку в кулак, но мама все равно шутливо погрозила ему пальцем. В их семье нехорошие слова были запрещены, хотя не слышать их вокруг было невозможно. А уж после того, как папа взял Мишку на лесопилку, мальчонка сразу втрое увеличил свой нецензурный словарный запас. Мишка любил поселок. Ему очень нравилось чувствовать себя одним из строителей нового мира, о котором так много говорили взрослые, ведь даже он понимал, что стал частью чего-то очень важного. Так происходило на каждом километре магистрали, куда съезжались люди со всего Союза: обычная стройка для многих превращалась в дело жизни. Потихоньку Мишка привыкал к морозам и изучал таежную природу. Однажды охотники дали ему подержать в руках бурундука, а совсем недавно им с Лехой удалось углядеть возле одного из котлованов настоящего горностая. Пушистый зверек рассматривал их издалека, а потом бросился наутек, мелькая черным кончиком хвоста на снегу. Детей в поселке пока было мало, и под школу отдали одну из небольших изб. Занятия проходили три-четыре раза в неделю, но Мишке казалось, что это чересчур часто. Разве можно сидеть за столом с книжкой в руках, когда вокруг раскинулась красивая и загадочная тайга?.. Скрипнула дверь, впуская внутрь холод. – Да сколько ж можно, в самом деле?! Закрывайте за собо… Бородач замолк. С порога на него таращился высохший человек в дырявой военной куртке. На глазах блестел иней, матовая кожа головы в некоторых местах обнажала кость. – Твою ж мать, мужик, что стряслось? – сказал кто-то из строителей. Мишка завороженно глядел на гостя, который словно врос в доски. Снежная пыльца за его спиной валила в помещение, и пол быстро покрылся белесым ковром. Из-под стола выбралась сонная овчарка и с любопытством подошла к человеку. Она стала обнюхивать обклеенные льдом сапоги, как вдруг незнакомец резко пригнулся к полу и вгрызся в загривок псины. Визг пронзил помещение, бамовцы повскакивали со своих мест. В дверном проеме возникли еще две полусогнутые грязные фигуры, и Мишка почувствовал, как по ногам заструилось что-то теплое.
– Ты к-кто?.. – только и смог выдавить Олег. По дороге пронесся грохот выстрела, и верхняя половина головы незнакомца разлетелась на части. Осколки черепа вперемешку со стеклянными волосами упали к ногам Олега. Разлетевшаяся прямо на глазах голова походила на разбитую вдребезги сосульку. Туловище сделало шаг и плавно опустилось на дорогу. Рядом скрючился и Олег, освобождая желудок от скудных запасов пищи. Утерев рот, он встретился глазами с дулом ружья и моментально поднял руки. – Кто такой? – спросил человек в военной форме без знаков отличия. Новый оружейный гром не дал Олегу даже подумать над ответом. – Стоять на месте! – проорал кто-то из темноты, и Олег понял, что выкрик был адресован солдатам, которые прибежали на выстрел. – Следующий будет на поражение! – Кто такой и какого хрена тут делаешь? – повторил мужик с ружьем, подцепляя ледяным дулом замерзший нос Олега. – Я п-по распределению, служить приехал… – промямлил Олег. – Младший лейтенант Егоров. На объект, к-который… – Ладно, все ясно. Вставай давай, лейтенант. Только из учебки, что ли? – Так точно. – М-да… Не хватало мне еще и за тобой ходить, сопли вытирать. Вставай, говорю, жопу отморозишь! Олег поднялся, хотя ноги не слушались. Труп с размазанной по дороге головой лежал в двух шагах от него. Из-за спины широкоплечего собеседника показалось еще человек десять. Все вооружены. – Товарищ майор, пятеро осталось, – сказал один из военных. – Ты лучше патроны посчитай, которыми все ветки посшибал. – Человек, которого назвали майором, помолчал, а потом вновь обратился к Олегу: – Где командир? – Не знаю, ушел на лыжах к поселку. У нас соляра кончилась. – На лыжах, говоришь… Значит, нету больше твоего командира. Только лыжи и остались. Но палкой махнуть успел, здоровый мужик был. Кто сопровождал? – Капитан Стрельников. – Сашка?! Его же в Тынду переводить собирались! Ну, зверье… Значит так, слушай мою команду, – проговорил майор, обращаясь уже не только к Олегу, но и к перепуганным срочникам. – У нас тут ЧП. Причем такое, что вам, соплякам, и не снилось. Оружие имеется? – В вездеходе есть. – Вот очень плохо, что в вездеходе! С собой нужно его носить, понятно? Тут вам не учебка. Хватайте все, что есть, и попрошу с нами. Фонари захватите, наши сдохнут скоро. Где-то в тайге еще пятеро очень нехороших ребят, которых нужно срочно обезвредить. Пример лежит у вас под ногами. Предвидя вопросы, отвечаю сразу: это живые мертвецы, и стрелять нужно только в голову. Чтобы мозги разметало по всей округе. Вопросы есть? – Шутите? Это ж бредни какие-то… – Не бредни, а военная тайна. Вам выпала честь оказаться на засекреченном объекте, который должен был стать отправной точкой славного будущего великой державы. Только вот беда: все тут пошло наперекосяк. Так что пока вам… – Движение! – пронзил темноту крик. – Вон там! Все обернулись к вездеходу, возле которого шевелилась тьма. Что-то метнулось из снега и исчезло за массивными гусеницами. – Может, волк? – спросил Олег. – Ага, – кивнул майор, шагая вперед. – Или бабайка. Стой тут со своими архаровцами. Без оружия от вас толку нет. Майор раздал несколько команд, и небольшой отряд стал окружать вездеход. Только сейчас Олег заметил, что на ногах военных снегоступы. Будто шахматные фигуры, солдаты шли вперед поочередно. Снежные вихри над головой бесновались все сильнее. Олег чувствовал, как замерзает дыхание. Сейчас он был лишь бесполезным зрителем, чему в глубине души несказанно радовался. Все-таки он приехал в эту глушь отрабатывать контракт за очень неплохие деньги. О разгуливающих в округе покойниках никто не упоминал. Рядиться героем Олег не собирался. Автоматные очереди пробежались по верхушкам сугробов, смахивая снежную крупу. Серая сгорбленная фигура метнулась к лесному частоколу. Темноту прорубили вспышки выстрелов. Существо, не обращая внимания на огонь, спешило под защиту тайги. Точные попадания в спину лишь подгоняли тварь, и вскоре мертвец исчез за стеной деревьев. Военные кинулись следом, дав оружию передышку. Под матовым небом вновь воцарилась тишина. Темнота проглотила людей, словно их никогда и не было. Олег не знал, почему у него дрожат колени. Хотелось верить, что из-за холода. Время будто отмотали назад, возвратив его к знакомому моменту. Он стоит перед мертвым вездеходом, рядом – троица солдат. Так, может, ничего и не случилось? Прямо сейчас из леса выйдет капитан с соляркой, а остальное – только работа воображения. Олег почти поверил в это, но все испортил один из рядовых: – Товарищ лейтенант, что будем делать? Олег тяжело вздохнул. Мыслить в таком состоянии его мозг отказывался. – Не знаю. Будем ждать возвращения майора, он-то уж подскажет. Как я понял, к нему нас и везли. – А если их… это… – не унимался рядовой, у которого за шапкой и высоким воротником можно было рассмотреть только глаза. – Сожрут? – Тогда жмурики будут сытые и нас не тронут. – Товарищ лейтенант, может, все-таки достанем оружие? Олега осенило. Это была самая умная мысль. – Да, как раз об этом думал. За мной! Карабкаться на гусеницы было не слишком удобно, но Олег никого вперед себя не пропустил. Рядовые забирались следом. В кабине что-то мигнуло. То ли отблеск лунного света, просочившегося сквозь ночной туман, то ли… движение. Олег сразу вспомнил слова одного из бойцов отряда майора. Их осталось еще пятеро… Черт, и зачем он полез самым первым?! – Тише, – прошептал Олег, изо всех сил стараясь подавить дрожь в голосе. – Кажется, возвращаются. – Он замер прямо перед дверью, обернувшись к лесу. Звенящая пустота не несла никаких звуков. Однако Олег продолжал: – Точно. Слышите? Пойду встречу, а вы пока хватайте оружие – и пулей ко мне. Эта невинная перестраховка едва ли могла кому-то навредить, ведь крайне сомнительно, что мертвецы из всех укромных мест вокруг выбрали бы кабину вездехода. Спрыгнув на снег, Олег с облегчением наблюдал, как водитель спокойно проникает внутрь. Но тут же раздался крик, который подкосил и без того ватные ноги лейтенанта. – А-а-а! – летело из темноты. – Стреляйте в него! Стре-ляй-те! Топтавшиеся на входе солдаты напоминали пару маятников. Животный страх гнал их подальше от этого места, но вопли товарища звали на помощь. Последнее все-таки пересилило. – Он сожрет мою руку! Он же сожрет! Солдаты ворвались в кабину. Началась возня. Грохнули выстрелы, осыпалось стекло. Темный закуток освещали вспышки. Новые выстрелы смешались с жутким воем. И все затихло. Олег ждал, но ничего не происходило. Ветер будто хотел смахнуть его с дороги. Наконец из вездехода выбрались двое. Опирающийся на товарища водитель еле волочил ноги. Его правый рукав безжизненно повис вдоль тела, словно там ничего и не было. На гусеницы обильно стекала кровь. Рядовой бормотал: – Откусил… он просто откусил. Вырвал ему кадык, отгрыз и сжевал… – Тише, Колян, – успокаивал его солдат, который, похоже, не пострадал. – Мы выкарабкаемся. И Вовку помянем обязательно. Если б не он, та тварюга на руке не остановилась бы. – Он же из-за меня умер! Да что тут вообще творится такое?! Олег помог парням спуститься. Несмотря на все случившееся, они умудрились прихватить с собой два калашникова. Один автомат Олег приютил на плече, второй оставил целому рядовому. Раненого водителя посадили у колес вездехода. В кабину, которая могла защитить от ветра, соваться даже не думали. – Мне пара месяцев до дембеля, – всхлипнул водитель, – возил всех туда-сюда… Это ж надо в такое вляпаться. А если они нас всех пристрелят? Может, не для наших глаз такое зрелище. Свист ветра над головами напоминал странную колыбельную. В беспроглядном ночном небе копошились заблудившиеся снежинки. Насквозь пропитанная кровью рукавица водителя замерзла и теперь походила на стальные доспехи. Сквозь чернильное марево стали проклевываться болезненные пятна. Вспышки, напоминавшие огромных светлячков на последнем издыхании, спешили пробраться к вездеходу. Олег выпрямился и поднял автомат. Свет фонарей приближался. Людские голоса становились громче, и Олег немножко успокоился. Пришли люди майора. Над раненым сразу принялся колдовать медик, группа сомкнулась вокруг вездехода вооруженным кольцом. Присутствие этих людей добавляло уверенности. Но, похоже, на месте сидеть никто не собирался – всех мертвяков в лесу выловить не удалось. – Отправляемся к поселку бамовцев, возможно, они там, – сообщил майор. – Подтянутся наши, будем уничтожать отработанный материал. Пока и остальные не превратились в человекоедов… – Остальные?! – изумился Олег. Солдаты двинулись вперед по дороге, а майор подошел к замершему Олегу. – Егоров, кажется? – спросил он. – Пошли, обрисую тебе ситуацию по пути, коли в одной упряжке теперь. Хотя даже мне известно далеко не все. Олег нехотя повиновался. Дрожь в ногах не проходила. Майор продолжал: – После войны наше правительство занималось разными экспериментами. Удачно и не очень. Одной из стратегических задач являлось создание рабочей силы, которой не страшны любые условия. Так вот, решение в итоге нашли. Как они научились поднимать мертвецов, одному богу известно. Хотя, скорее, черту. Какая-то химия, куча опытов и так далее. В итоге мы получили идеальных работяг, которым и мороз нипочем, и спать не нужно, и жрать они не просят. По крайней мере, не просили до недавнего времени. Майор смачно сплюнул, и Олег мог поклясться, что на землю упал уже замерзший шарик. – А где проверять новую рабсилу, как не на стройке века? Вот и был создан наш объект. Сначала все шло хорошо. Страшно было, конечно, но работали мертвецы как проклятые, ни малейшей агрессии не проявляли. Идеальные чернорабочие. Даже вони от них немного, холодина местная все заглушает. Мы уж было попривыкли, и тут у некоторых что-то замкнуло. То ли от морозов, то ли еще от чего. Результат ты видел. А у нас их сорок единиц. Вы как раз должны были помочь, ведь через месяц еще пятьдесят жмуриков подвезти обещали. – А что с покусанным будет? Не заразится ничем? – Сложный вопрос. Ученые проводили и такой эксперимент. Правда, на зверушках. В общем, контакт для живого организма не опасен. Вроде бы. Но если живой организм через какое-то время после укуса становится мертвым – от потери крови или еще как, тогда возможны варианты. Короче говоря, водителю твоему лучше не умирать. На всякий случай. Олег решил больше ничего не спрашивать. От всего этого начинало мутить. Не верилось, что за какую-то неделю жизнь может так поменяться. Если бы при поступлении в военное училище ему сказали, что он будет шагать через тайгу с автоматом на плече в поисках взбесившихся мертвых строителей, то люди в погонах до сих пор искали бы его по городам Союза. – Приготовьтесь, – сказал майор, – вот и поселок. Нам теперь уже не до секретов, так что главное – результат. И ради бога, не попадите в кого из гражданских. Бамовские вагончики с избушками сонно выглядывали из снежной завесы. К ночи мороз крепчал, загоняя людей под защиту стен и печей. На улице не было никого. Фонарный свет, который питали местные генераторы, скользил по обледенелым крышам. Поселок напоминал обиталище призраков. И когда темнота принесла с собой многочисленные крики, едва ли этому хоть кто-то удивился.
Поднялась паника. Столы летели в стороны, трещали стулья, звенела посуда. Трое неизвестных рывками перемещались по залу, сбивая людей с ног и вгрызаясь в них зубами. Валенки и сапоги размазывали по полу кровь. Входная дверь колотилась о косяк, словно сумасшедший зритель хлопал в ладоши. Мишка схватил маму за руку, отступая ближе к кухне. Рядом разлетелись по полу тарелки с кружками. Кто-то кричал, звал на помощь. Один из страшных гостей метнулся к тучной поварихе и, завалив ее на пол, содрал с макушки чуть ли не все волосы. Окровавленный парик торчал из кривой пасти, в то время как черные зрачки шарили по комнате. – Упыри! – завопил кто-то из стариков. Мишка заплакал. Трое оборванцев превращали комнату в скотобойню, кровь хлестала так, будто работал разбрызгиватель. – Ма-а-а, бежим отсюда, – всхлипывая, скулил Мишка, – съедят ведь! – Упыри! – надрывался все тот же старик. – Антихристы! Рука мамы шевельнулась, в глазах женщины появилась жизнь. – Сейчас, сейчас… где же твой отец… Позади мамы возникла фигура в военном тряпье. Чудовище прыгнуло, и Мишка почувствовал невероятную тяжесть. Ноги подкосились, он грохнулся головой о доски, и из груди вышибло воздух. Сверху навалилось сразу два тела. Мама в последний раз улыбнулась сыну, а потом в Мишкино лицо словно выплеснули тарелку борща. Дышать стало нечем, и мальчик закатил глаза. Вверх ногами он увидел дверной проем. Оттуда показались новые люди в военной форме, и Мишка понял: теперь надеяться не на что. Неожиданно грянули выстрелы. Задымилась голова одного из нападавших, на лице его выросли сквозные черные круги. Рядом что-то хрустнуло, и Мишка поймал мертвый взгляд мамы. Оторванная голова покатилась в угол, будто огромный снежок. Повторить то же самое с мальчишкой прогнивший насквозь человек не успел. Едва разинув черный рот, он получил удар топором в голову. Возле Мишки возник дед Семен в разорванном тулупе. Но существо поднялось даже с топором промеж глаз. – В сторону! – рявкнул кто-то. – Пацана, пацана заберите! Бахнул гром, зазвенело в ушах. Топорище разлетелось в щепки, а вместе с ним и череп мертвеца. Из развороченной пасти посыпались зубы, точно дохлые мухи из сорванной паутины. Почти тут же за стенами столовой откликнулись автоматные очереди. Сидя в луже, в которой словно выпотрошили свинью, Мишка пытался вспомнить, как правильно дышать. Засохшие слезы скрылись под багровой коркой, в волосах запутались какие-то липкие кусочки. – Товарищ майор, – донесся до Мишки голос сквозь звон колокольчиков, – третьего успели прямо у порога уложить. Вроде не осталось больше. – Успели, говоришь?! Да ты вокруг посмотри! Матерь Божья… Ничего мы не успели. Ни-че-го. Мишку подняли на ноги и увели подальше отсюда. Спустя минуту к нему подошел командующий военными дядька: – Привет, смельчак. Тебя как зовут? Мишка в ответ моргнул два раза. – Не бойся, теперь тебя никто не обидит. Мишка моргнул еще раз, но военный никак не отставал: – Хочешь, буду звать тебя почетным бамовцем? Мальчуган посмотрел в доброе, но смертельно уставшее лицо человека и заговорил: – Мишкой меня зовут все, мамка назвала так. – Хорошее имя, Мишка. Просто отличное! – сказал дядька, похлопав паренька по плечу. – Меня вот все майором зовут, а ведь я тоже Мишка, так что мы с тобой тезки. А раз так, будем дружить, точно? – Наверное. – Ну и отлично, по рукам. Майор огляделся и подозвал к себе пару человек: – Присмотрите за парнем, головой отвечаете. Найдите родственников или знакомых. Егоров, пора и тебе покомандовать немного. Здесь все нужно прибрать, а мертвых подготовить к захоронению. – Так точно, товарищ майор. – И тех и других мертвых. Рисковать не будем. Военные еще о чем-то шептались, но Мишка их уже не слышал. К нему кинулись заплаканные родители Лехи. Голоса их сливались в один заунывный стон. На выходе из столовой они встретили курящего деда Семена. Тот попытался улыбнуться Мишке, но получилось неуклюже. Обменявшись парой фраз с Лехиным отцом, дед Семен вернулся в помещение и захлопнул за собой дверь, из-под которой ползла красная лужа. Скрывшиеся за деревянной перегородкой родители и друзья исчезли для Мишки навсегда. Сутки спустя он сидел у окна, которое обросло новым морозным узором. Снаружи будто занималась заря, хотя время только шло к ночи. Багряные лучики выглядывали из-за спин деревьев, слегка раскрашивая черное небо. Мишка знал, что это до сих пор горит самый большой костер, какой он только видел. Пускай и издалека. Военные сожгли всех. Те страшилища, что перебили людей в столовой, были мертвыми еще до того, как им разорвало головы. Наверное, даже раньше, чем Мишка появился на свет. Он не понимал, как такое может быть, но видел все собственными глазами. А потом из леса вышел еще один отряд – с теми самыми черными человечками, которых они с Лехой провожали взглядом чуть ли не каждый день. Оказалось, военные строители тоже не были людьми. Конечно, Мишке прямо никто ничего не рассказывал, но слышал он достаточно, да еще и напившийся дед Семен много чего наболтал. Теперь от всех этих чудищ остались только догорающие в самом глубоком котловане кости. Там же сожгли и убитых, и этого Мишка никак не мог понять и принять. Ведь если бы ожил его папка, которого нашли на полу столовой под грудой тел, то он бы точно не стал ни на кого нападать. Потому что добрый. – Не спится? – спросил Леха, выглядывая со второго яруса двухэтажной кровати. – Не-а. Теперь мальчишки жили в одной комнате, как братья. Мишке, который остался без родителей, предстояло ждать отправки домой к бабушке в Ленинградскую область. Но когда это произойдет, никто не говорил, ведь вокруг хватало и других хлопот. – А хочешь посмотреть? – стараясь растормошить друга, спросил Леха. – Ты что? Нам все уши отдерут. – А мы тихо, я много раз в окно сбегал. Мои спать рано ложатся, нужно только на знакомых не наткнуться. – А солдаты? – Так они вроде подожгли – и все. Где-то в вагончиках ждут своих. Мишка взглянул в темноту за окном. Сидеть в четырех стенах, где любой зашедший в гости лез к нему со своей жалостью, было невыносимо. А котлован теперь навсегда останется могилой его родителей. Так почему бы их не навестить? Друзья выбрались в таежную ночь через окно. По спящему поселку носился ветер, блестели в свете фонарей сосульки. Котлованы располагались к северу от железной дороги, ближе к трассе, по которой ходила крупная техника. Словно лунные кратеры, выеденные экскаваторами, они разрастались там, где тайга должна была уступить место городу. Сейчас они только заглатывали снег и таращились в низкое небо. Все, кроме одного. Жарко было до сих пор. Причудливые тени гуляли по краям котлована, из которого вился легкий дымок. Вокруг никого не было: превратив всех мертвецов в пепел, военные вернулись в поселок. Ужасы прошлого вечера были погребены под угольной пылью, которая под стоны деревьев смешивалась со снегом. – Всех просто подожгли? – спросил Мишка. – Как спички? – Не знаю. Кто бы нас пустил смотреть? Наверное, чем-то залили сначала, чтоб горели хорошо. Так им всем и надо. – Леха помолчал, глядя вниз, а потом спохватился: – Ну кроме наших. Я про этих, военных. Мишка глядел в погребальную дыру и пытался представить казнь. Другого слова он подобрать не мог. Ведь людей просто загнали в котлован, расстреляли и сожгли. Пусть и не совсем людьми они были. – Ничего не оставили, так даже не интересно, – ворчал Леха, который ожидал хоть какого-то зрелища. – Только зря вылезали в такую холодрыгу. Кончики пальцев и впрямь стали чужими, и Мишка согласился, что затея вышла так себе. Хотя из огромной ямы и тянуло теплом, кусачий мороз это не останавливало. Пора было возвращаться. Но на дне ямы вдруг что-то вздыбилось. Мишка удивленно перевел взгляд на Леху – тот тоже заметил. Талый снег, смешанный с грязью, легонько шевелился. В середине котлована из разваренных внутренностей земли показалась облезлая кость. Мальчишки отступили чуть назад, не веря своим глазам. – Они ж сгорели… – прошептал Мишка. – Должны были. Копошение внизу продолжалось, и вскоре на поверхности возникла голова, похожая на изъеденную крысами тыкву. Из глубины замерзшей земли прорывался мертвец. – Ух ты! – возбужденно воскликнул Леха. – Значит, этот целый остался. Нужно… нужно в него чем-то бросить! – Дурак, что ли? Нужно позвать военных. – Да что он нам сделать-то может? Такая развалина по склону и не поднимется. Это ж настоящий живой труп! Представь, а? Ну, представь! – Мы ж не в зоопарке, – сказал Мишка. Ему все это очень не нравилось. Как армия могла проморгать целого мертвеца? – Да мы только немножко понаблюдаем, а потом, конечно, позовем всех. Интересно, если в него комком бросить, он зарычит? Глянь на него только. Ковыряется внизу, как жук какой-то. – Или два жука, – пробормотал Мишка, указывая в котлован. – Ого. – Леха нахмурился. – Это, наверное, уже плохо? Чуть дальше от первого «жука» выпрямлялся черный силуэт. Он двигался гораздо быстрее, словно ледяные ставни не схватывали его конечности. Обугленная фигура хлюпнула ногами по пепельному киселю и задрала голову. – Бежим! – шепнул Мишка, чтобы тварь внизу не услышала. Леха втянул носом соплю и без лишних разговоров ринулся к поселку. Следом затопал и Мишка. Перед тем как броситься за другом, он мельком успел кое-что заметить. Возможно, это очередные проделки воображения, но в трясине на дне котлована кто-то был. Вся огромная поверхность пузырилась, будто в снежно-земляном месиве ворочалось нечто живое. Или мертвое. Свет горел только в одном вагончике, поэтому мальчишки недолго выбирали, куда бежать. За столом сидели четверо молодых солдат. Они играли в домино, рядом в чугунной сковороде дымилась картошка. – Эй, пацаны, вы чего ночью бродите? Совсем, что ли?! – Там… это… как их… опять! – тараторил Леха, пытаясь отдышаться. – Которые мертвые, из могилы горелой! – Ты чего несешь?! – Вылезают из земли опять! – выпучив глаза, голосил Леха. – Мы не врем, – подключился Мишка, – там правда они есть. Черные такие… и страшные. По лицам военных прошла волна непонимания, но буквально через пару секунд они уже спешно одевались, подгоняя друг друга. Из занавешенной одеялами части помещения выбрались еще несколько человек заспанного вида. Среди них Мишка сразу узнал майора, своего тезку. Тот быстро взял командование на себя, расспросив мальчишек еще раз и отправив куда-то двоих солдат с автоматами. Выстрелы сработали вместо петухов, и поселок проснулся. Тут и там стали зажигаться слабые огоньки, где-то захлопали двери. Мишка с Лехой стояли на пороге вместе с майором, который смотрел в темноту у лесной дороги. Стрельба там притихла, и это могло означать все что угодно. – Что стряслось опять? – спросил всклокоченный дед Семен, на ходу запахивая телогрейку. – Пока ничего, – ответил майор, даже не глядя на старика. На дороге возник силуэт. За ним второй. Майор напрягся, потянувшись за ружьем, но из темноты бежали его люди. Мишка не мог стоять на месте, холод волнами гулял по телу. Солдаты, спотыкаясь, добрались до порога. По глазам читалось, что за ними гонится сам черт. – Их слишком много, нам патронов не хватит, – звенящим голосом стал рассказывать солдат с красным от мороза лицом. – Нужно что-то делать, они сюда идут. Некоторые бегут. Вокруг собирался народ, чье бормотание заглушало скулеж ветра. Из вагончиков и косых срубов появлялись новые солдаты с оружием. – Как же так… – проговорил майор. – Все же ладно сделали… Что, они все мясом обросли за сутки? – Товарищ майор, по-моему, их стало даже больше. Взвыл автомат, и Мишка зажал уши. От неожиданности он чуть не грохнулся с порога. Вспышки выстрелов пятнали ночь, отражаясь в глазах перепуганных бамовцев. Появились бегуны, которых и пытались остановить солдаты, стоящие у дороги. Нескладные тени приближались к поселку, двигаясь неуклюже, но при этом быстро. Пули кусали их, разносили коленные чашечки и кости, однако мертвецы продолжали выскакивать из тьмы, точно поезда из туннелей. Снег взъерошивали выстрелы, осыпая гостей белесыми фонтанчиками. Некоторых удавалось утихомирить на полпути, но адский конвейер продолжал выплевывать десятки невесть откуда взявшихся тварей. – Да кто ж вы такие? – спросил майор сам у себя, перезаряжая ружье. Мишка старался держаться к нему поближе, чувствуя за человеком невероятную силу. Да и некуда ему было бежать, никто его не искал. Все спасали собственную шкуру. Когда дорогу поверх ковра разорванных свинцом тварей заполонили мертвецы, военные решили отступать. Основную массу бегунов отстрелили, и теперь к поселку приближались тихоходы. Но их было много. Очень много. Народ не поддавался контролю, в панике кидаясь от здания к зданию. Люди прятались, кто где может, совершенно наплевав на попытки солдат собрать всех вместе. Ужас поглотил бамовский поселок без остатка. Дверь заколотили сразу за Мишкой, которого вместе с Лехой притащили солдаты. Вход тут же загородили столами и шкафом. В обоих окнах небольшой пристройки у лесопилки уже дежурили люди с автоматами. Темноту прогоняли керосиновыми лампами. Внутри было холодно, пахло опилками. Среди дюжины собравшихся Мишка обрадовался разве что деду Семену с майором, хотя и присутствие других военных немного успокаивало. – Если они ломанутся – ничего не поможет, – грустно сказал кто-то из солдат. – Четыре автомата с полупустыми рожками и ружье, – подсчитал дед Семен. – Негусто. – Окна тоже заколотить! – приказал майор. Леха не отходил от Мишки, держась подальше от дверей. Ребятня уселась в углу, стараясь унять страх. В помещении гремели удары молотков. – Ну, командир, рассказывай, пока можешь, – сказал дед Семен, который, в отличие от пары строителей, примкнул к военным и старался помочь. – Чего вы в этот раз нахимичили? – Мы – ничего, – голос майора был спокоен, словно они мило беседовали о том, как скоро цветные телевизоры придут на смену черно-белым. – Оно и видно. – Серьезно, это не наши. Их чересчур много. – Тогда, может, это из дальних поселков заразившиеся? Майор кивнул в сторону Мишки с Лехой: – Ребята же сказали, что из котлована. Да и не должны они заражать. Им ведь в организм какую-то дрянь засунули, а действует она только на неживое. Эх, вот сейчас бы нашего доктора сюда, засыпал бы заумностями. Я так не умею. По стенам прошло первое эхо стуков. Голоса сразу затихли. Перекрытия заскрипели сухими костями, с потолка посыпалась древесная пыль. В дверь будто врезался гигантский молот. Раздавшийся снаружи вой даже отдаленно не напоминал человеческие голоса. Удары неслись со всех сторон, под верстаком для циркулярной пилы плясала березовая стружка. Заплатки на дальнем окне стали выплевывать скрюченные гвозди. – Экономьте патроны, – сказал майор, поднимая ружье. – И в первую очередь держите дверь. Женщины, в одной из которых Мишка с опозданием признал свою учительницу, заплакали, но до них никому не было дела. Дед Семен, для своих лет выглядевший настоящим богатырем, в подсобке раздобыл колун и подошел к окну. Когда последняя полоска дерева вместе с остатками стекла влетела внутрь, он размахнулся и саданул по подоконнику. На пол свалилась отрубленная кисть, похожая на черного паука-гиганта. Мишка уставился на редкие судороги мертвой руки, непроизвольно вцепившись в Лехин локоть. Ему казалось, что пальцы вот-вот поднимут обглоданную временем кисть и побегут прямо к нему. Тем временем дед Семен охаживал топором мелькающие, словно щупальца, конечности мертвецов в оконном проеме. Военные отстреливали головы, как только те показывались в зоне поражения. Развалилось и второе окно, в баррикаде у двери стали появляться дыры. Гомон покойников снаружи тупой дрелью сверлил мозг. Видя, что сил и патронов у военных остается в обрез, бамовцы перебрались в подсобку. Пусть и не было там никакой защиты, смотреть на то, как последние минуты доживает заслон от рвущейся внутрь нежити, не желал никто. Леха тянул Мишку вместе со всеми, но оторвать друга от пола так и не удалось. Мишка остался в большой комнате, где шестеро человек еще пытались зацепиться за жизнь. Колун исчез за оконной рамой, и что-то очень сильное потянуло деда Семена в темноту. Солдаты едва успели втащить его обратно до того, как он перевалился через подоконник. Но вместе со стариком в комнату ввалился труп, в чьей темно-зеленой голове зияли раны от дроби. Мертвец был сухим коротышкой в какой-то полуразложившейся робе. Зубы его сомкнулись на плече деда Семена, челюсти скрипели прямо под ухом. – Снимите! Снимите его, на хрен! Солдаты нависли над катающейся по полу парой, боясь попасть в человека. Мертвецы ломились уже в оба окна, дверь доживала последние секунды. Мишка очень хотел хоть чем-то помочь, но страх просто-напросто парализовал его. Заплаканные глаза смотрели на деда Семена, который, кажется, переставал сопротивляться. Но вдруг помещение наполнил знакомый шум, и Мишка вспомнил о потерявшемся в кошмаре майоре. В его руках была «Дружба-4» – бензопила, которой частенько пользовался отец. Цепь вращалась с невероятной скоростью, блестели звенья с режущими зубьями. Майор направил пилу в затылок мертвеца, и мозговое крошево оросило пол. Дед Семен, весь в ошметках, оставшихся от чудовища, беззвучно открывал рот, пытаясь отдышаться. – Уходим, сейчас ворвутся! – крикнул майор. Солдаты подобрали выбитые доски и стали отходить. Мишка заметил, что половина уже побросала оружие. В окна начали влезать скрюченные мертвецы. Чьи-то сильные руки сгребли Мишку в охапку, и развороченный вход он уже не увидел. Дверь заколотили остатками досок, хотя такой заслон выглядел просто смешно. В подсобке было тесно, дыхание людей жалобными хрипами ползало по комнате. – Теперь ясно, – тихо проговорил дед Семен, когда Мишка попытался вытереть кровь с его лица. – Что? – спросил майор, наваливаясь на дверь. С другой стороны никто не скребся, словно мертвецы сперва решили осмотреться. – Форма… – прохрипел дед Семен. – Я разглядел форму. Это бамлаговцы. Заключенные. Привет из прошлого. Военные, подпиравшие дверь, переглянулись. Один из солдат знающе присвистнул. – Эту чертову дорогу в тридцатых годах строили заключенные. Обращались с ними хуже, чем со скотом, каждый день кто-нибудь умирал. Дверь едва не сорвало с петель, но первую атаку она выдержала. Дед Семен откашлялся рубиновыми сгустками и продолжил: – Трупы валили штабелями прямо в бараках, рядом с кроватями. Они смерзались друг с другом, и отковырять человека можно было только по частям. – Замолчите! Замолчите вы! – заголосила Мишкина учительница. – Зачем вы все это рассказываете?! – Чтобы ты, красавица, знала, кто тебя кушать будет, – ответил дед Семен и рассмеялся. Короткая очередь по верху двери снесла кому-то с той стороны макушку, и автомат отозвался грустными щелчками. Дед Семен не обращал внимания на происходящее, полностью погрузившись в рассказ: – Своими жизнями они и прокладывали тот первый, довоенный БАМ. Кто ж знал, что рельсы потом снимать придется и тянуть в Сталинград. Видать, и в наших краях было отделение этого БАМлага. Хоронили их как зверей, хотя настоящих душегубов среди зэков было не много. В основном враги народа. Похоже, на месте того котлована и так было трупов полно, а вы туда еще своих потащили. Майор шагнул от двери неровной походкой. В такое совпадение просто нельзя было поверить. Сдерживающие толпу нежити люди призывали его вернуться, но треск досок проглотил их крики. – Та дрянь… – прошептал майор, устало усаживаясь на пол. – Та гадость, что жила внутри наших мертвецов, просто подняла бамлаговцев? Осталась на пепелище и спустилась ниже… Но как можно было раскопать котлован в том же самом месте?! – Откуда теперь узнаешь… Только все о том и говорит. Видно, крепкую штуку придумали ученые ваши, раз через столько лет она оживила мертвяков. Своим костром вы заварили жуткое зелье, ребята. Спалив остатки этого проклятого эксперимента, только открыли крышку бездонного гроба. Дверь уже походила на решето, женщины вслух обращались к Всевышнему, а вой бамлаговцев резал уши. – В полу, – прокашлял дед Семен, – есть схрон. Прямо у стены за мной. Думали погреб маленький сделать, да так и не докопали до зимы. – Да что ж ты молчал тогда?! – возмутился лысенький солдат с трясущимися губами. – Потому что места там на двоих, меня можете не считать. Мишка оглянулся, но ничего такого не заметил. Майор бросился к доскам, на которые указал старик, и за грудой хлама расковырял проход. – А ну-ка, мелюзга, мухой ко мне! Мишка подошел к схрону, и его туда буквально запихнули. Это была небольшая яма с обледенелыми стенами. Сверху на друга повалился Леха. Внутри царил жуткий холод, пахло сыростью. – Только одна из вас поместится, – сказал майор, глядя на женщин. – Чего уставились, решайтесь кто-нибудь, пока не поздно! Съежившись внизу под полом, Мишка слышал, как заплакали женщины. Места совсем не было, и в компании с третьим человеком здесь они станут как те самые смерзшиеся бамлаговцы из рассказа деда Семена. – Думайте, мать вашу! – взревел майор. – Закрывать надо! Мишка выглянул наружу, понимая, что больше никого из этих людей не увидит. Он хотел сказать «спасибо», но, кроме всхлипов, ничего выдавить так и не смог. По полу застучали сапоги. Один из солдат, на ходу сбрасывая объемистую форму, подбежал к провалу и нырнул внутрь, едва не задавив мальчишек. Теперь Мишка мог наблюдать за происходящим только через крохотную щелочку меж досок. – Ах ты, гаденыш! – Майор потянулся к солдату, но тут лопнула дверь, и в застывших около нее людей врезалась волна мертвецов. Майор наскоро замуровал схрон, припорошив его инструментами и досками. В комнату осторожно входили мертвецы, точно не веря, что им удалось прорваться. – А я ведь сразу почувствовал, что ты гнилой, – сказал майор в лица выходцев из могил, но слова предназначались тому, кто скрылся в подполе. – Если с детьми что-то случится, я тебя и с того света достану, Егоров. Мальчишки должны жить. Подпирающие сзади своих собратьев мертвецы заполняли помещение. Мишка, будто сложенный втрое, мог видеть, как над головой мелькают черные босые ноги. Он знал, что сейчас начнется, потому и закрыл глаза. И тогда прямо над головой наступил настоящий ад.
Дышать в крохотной яме было нечем. Они словно находились в материнской утробе, упираясь друг в друга и ледяные стены схрона. Мальчишки больше не плакали, ведь прошло уже черт знает сколько времени. Кровавый водопад перестал сочиться в щели наверху, пропали и звуки последних шагов. Олег не чувствовал себя виноватым. Если бы не он, то погибнуть могли вообще все. Ведь пока те клуши выбирали, кому же из них спастись, мертвецы почти проломили заграждение. Еще полминуты, и времени не хватило бы даже на то, чтобы прикрыть схрон. А так у троих появился шанс. Слова майора – только эмоции. Пока над головой пожирали людей, Олег был уверен, что бамлаговцы найдут и их. Закончат с основным блюдом и спустятся за десертом. Но чавканье нежити постепенно стихало, а вскоре чудовищные тени убрались из комнаты. Олег непослушными руками приоткрыл створку, которая их прятала. Со второй попытки распахнуть ее удалось, грохнули какие-то железки. Пол будто покрыли фаршем, смешанным с лохмотьями одежды. Олег сразу отвернулся, но желудочные спазмы скомкали внутренности, как использованную салфетку. Он помог выбраться наружу детям, за которых теперь отвечал. Что делать в такой ситуации, Олег понятия не имел. Мальчишки смотрели только на него, стараясь случайно не зацепить взором останки. Выбравшись из подсобки, Олег убедился, что у развороченного входа никого нет. – Давайте за мной! – шепнул он. – Только очень тихо. Скрип досок действовал на нервы. Олег слышал за спиной шаги мальчишек, которые словно ступали по минному полю. Он подошел к оконной дыре и взглянул в темноту. Интересно, сейчас все та же ночь или уже миновали сутки?.. На подоконнике замерзала кровь, припорошенная свежим снегом. Где-то далеко кричал не то зверь, не то умирающий человек. Сзади по-старчески зашаркали по полу ноги, и Олег резко обернулся,едва не повалив вжавшихся в него ребят. К ним топал мертвец, покрытый кровью с ног до головы. Обрывки тюремной робы свисали вперемешку с внутренностями. Из-под верстака выбрался еще один покойник и заковылял за товарищем, распахнув рот. Мальчишки кинулись к двери, и Олег поспешил следом. На улице валил снег, дальше пары метров видеть было нельзя. Белая стена подходила все ближе, пожирая последние кусочки ночи. – Дядь, – сказал Мишка, который, казалось, повзрослел лет на десять, – что нам теперь делать-то? Из снежного водоворота доносился какой-то скрежет. – Если бы я знал. – Двигать надо, там ведь эти гады, они ж вылезут, догонят! – тараторил Леха. На крыльце под тяжестью мертвецов застонали доски. Нужно было бежать, но куда? В необъятной молочной мгле жили черные тени прошлого, голодные и опасные. Пробираясь едва ли не на ощупь, они шли сквозь таежный снегопад. Практически ослепленные нескончаемым крошевом, просто шагали вперед. Когда на пути вырос частокол деревьев, Олег обрадовался. Лес казался самым безопасным местом. Но вцепившиеся ему в руку мальчишки вдруг потянули назад. Тогда Олег увидел, что стволы деревьев вовсе не такие толстые, как ему показалось. Их облепили мертвецы, вгрызаясь в кору, точно спятившие зайцы. Треск стоял оглушительный. Мертвые были везде. Завидев людей, они прервали свое занятие и с любопытством уставились на живых. Из черной массы стали отделяться тощие фигуры, приближаясь со всех сторон. Теперь Олег окончательно все осознал. Куда бы они ни пошли, где бы ни спрятались, рано или поздно мертвецы найдут их. Если и удастся затеряться в тайге, протянуть на морозе больше суток все равно не получится. Лететь сломя голову в неизвестность было глупо. От тех, кто не спит и не устает, убежать невозможно. – Слушайте меня внимательно, – проговорил Олег. – Бежим что есть сил к котловану, ясно? К тому самому. – Зачем? – Потому что я хочу жить! – бросил Олег и потащил мальчишек к едва видимой в темноте снежной дороге, вокруг которой пока еще не успели сомкнуться мертвецы. Шальная мысль посетила голову неожиданно, и Олегу было не до раздумий. Все, чего он хотел, – выжить любой ценой. Любой. Вспомнились слова майора о мальчишках. Что ж, Олег позаботится и о них. К ним тянулись облезлые руки, стараясь ухватить свой кусок человечины. Мертвецы вылезали отовсюду, и от них едва удавалось увернуться. Абсурдная идея гнала к котловану, а рассудок заранее противился тому, что предстояло осуществить. Дикость будущего поступка давила на черепную коробку, но Олег несся вперед, пока десятки, если не сотни бамлаговцев медленно ковыляли следом. У котлована никого не оказалось, и Олег, взглянув на первую волну мертвецов, столкнул Леху с Мишкой вниз. Мальчишки покатились по склону, обрастая снежной коркой. Когда они уткнулись головами в растекшуюся по дну слизь, Олег прыгнул следом. Ворчание мертвецов приближалось, на другом краю котлована уже вырастали серые силуэты. – Вы что ж натворили такое?! – плакал Мишка, размазывая зловонную жидкость по лицу. – Нас же теперь всех сожрут! В земле будто ковырялись огромные кроты. Изрытые мертвецами туннели сочились снежной влагой, в глубинах невообразимой трясины копались проснувшиеся бамлаговцы. – Нас бы и так сожрали… – хриплым голосом ответил Олег, глядя на новые фигуры вокруг котлована. – До последнего куска, как остальных. Леха сидел на земле, смотря в одну точку. Его, казалось, уже ничего не интересовало. Мишка пытался что-то сказать, но издал лишь бессильный стон. – Но здесь, – продолжал Олег, намазываясь оставшейся после костра дрянью, – может, проживем. Хоть и немножко в другом качестве. Если не разучимся говорить, скажете мне спасибо. Снежинки на ресницах Мишки дрогнули. Сверху донесся знакомый вой. Мальчишка медленно опустился рядом с Лехой, из чьих закрытых глаз, словно рельсы, тянулись ледяные полоски. Над головами ребят в сплетении деревьев ухнул филин. На востоке занимался рассвет. Мишка обнял друга и, дрожа всем телом, зажмурился. Олег уповал на то, что разбудившая мертвецов химия все еще сохранилась здесь. Огромное кострище должно было стать его пропуском в новый мир. Мир без боли и усталости. Без адского холода и болезней. Мир без жизни. Он последний раз поднял голову к туманному небу тайги. Стройка века подошла к концу, и Олег лишь надеялся, что успеет ожить до того, как мертвецы оставят от него человечий обрубок. В котлован спускались бамлаговцы. Падая, запинаясь, путаясь в снегу, они шли за своей добычей. Волочили мертвые ноги, чтобы впервые за сорок с лишним лет наконец-то наесться.
Нечистые
Убить ведьму предложил Юрец. Вот так просто, невзначай, будто комара ладошками расплющил. Мы сперва подумали, что он шутит. Юрец вообще много болтал, особенно о девчонках, и верить всем его россказням могли только полные идиоты. Но потом он достал нож, воткнул его в стол, глянул на нас серьезно так и сказал, что видел, как бабка Софья потрошила курицу во дворе и умывалась кровью. И бабка Софья видела, что Юрец видел. После этого стало как-то не до смеха. Юрцу было семнадцать, и он был крутой. Ездил на мотике, жил один, неделями пропадал на заработках где-то в области. В Церковище он появился год назад – примчался на красной «Яве». Весь такой важный, хоть и сильно побитый, в клевом шлеме и кожаной куртке. Занял свободный дом прямо на берегу Усвячи – в том месте, где из реки друг за другом торчат три островка. Деревня у нас тихая, считай что заброшенная наполовину, хотя до границы с Белоруссией всего ничего. Люди тут сами по себе, если ты человек хороший, то и вопросов лишних задавать не будут. Вот и Юрцу не задавали, хотя тот и сам рад был почесать языком. И от бандитов он прятался, и в кругосветное путешествие собирался, и от богатой тетки скрывался, которой тройню заделал. В общем, брехло, что твой пес. Из-за трех лет разницы мы с Арбузом были для Юрца мелкотой, но он все равно дружил с нами. В Церковище народу осталось не много, человек пятьсот, и для пацанов примерно нашего возраста развлечений тут было негусто. Кто помладше – рыбу ловили, тритонов, гоняли мяч и бродячих котов. Кто постарше – девок в кустах щупали, самогонку пили, ходили в соседние деревни раздавать тумаков и их же огребать. Ну и какое-никакое хозяйство у всех: двор, огород, птица, животина. Дела найдутся всегда. Школа еще была, куда без нее. Старое деревянное здание сгорело четыре года назад, а новое забабахали там, где когда-то давно церковь стояла. Из кирпича забабахали, не хухры-мухры – к нам ведь еще и с соседних деревень учеников сгоняли. Школу я, понятное дело, не любил. То ли дело каникулы! Никаких занятий, а главное – приезжает Арбуз. Я дружил со всеми понемножку, но ни с кем по-настоящему. Кроме Арбуза и Юрца. Даже не знаю, как так получилось. Не, с Юрцом-то понятно, мне хотелось стать таким же, сбежать куда глаза глядят, самостоятельным быть, деньги зарабатывать и девчонок на мотике катать. Ну а Арбуз был просто Арбузом. Прикольным таким балбесом из города. Во время каникул он жил в дачном поселке неподалеку и почти все свободное время лазил с нами по окрестностям. В Церковище ведь такая природа, что городскому и не снилось. Мы мастерили ловушки для слепней, кормили лошадей, залезали в заброшенные бани… И следили за ведьмой. Я не знаю, как где, но у нас, у деревенской ребятни, любая странная бабка считалась ведьмой. О каждой ходили легенды, каждую хоть кто-нибудь видел на метле или у чугунка с варевом из детских пальчиков и крысиных хвостов. От звания ведьмы старух избавляла только смерть. С годами вся эта дурь из головы уходила, а вот бабка Софья в мир иной уходить не хотела. У нас на нее накопилось целое досье. Она ни с кем не разговаривала, но все время что-то бубнила под нос. Словно заклинания какие-то. Она разводила только черных кур и едва ли не каждый день что-то жгла на участке. Шептали, что во время пожара в школе бабку Софью видели рядом – всю в золе и в обгорелой одежде, точно черт из печки. Ей было лет двести на вид, но она легко таскала по два полных ведра воды в горку, рубила дрова и куриные головы, копала огород. А еще бабка Софья портила реку. Вываливала туда непонятное месиво, бормотала что-то, палкой расчерчивала землю на берегу, изображая зверей и разные фигуры. Мы думали, что старуха совсем двинулась на голову, но потом пришло лето, а вода в Усвяче осталась ледяной – как в проруби. Опустишь ногу, и по телу пупырышки до самого горла выскакивают. Уже и июль почти кончился, дачников навалом, а никто не купается. Девки только загорают, пацаны кругами ходят, пялятся и трусы поправляют. Окунаются разве что закаленные, тут проще в бочку нырнуть. Самое интересное, что в год пожара было то же самое. Как будто солнце до речки недосвечивает. Бабка была страшной, сгорбленной, всегда завернутой в черные тряпки. Только косы и не хватало. Пройдешь мимо – и сразу все зачешется, заколется, жуть всякая мерещиться начнет. Ты быстрей ходу давать, пока в таракана не превратился, а она вслед смотрит, губы жует. Ведьма и есть. Но убивать? Я, бывало, лягушек разрубал, когда траву косил. Признаю. Мышей давил в погребе, одну даже поленом по крыльцу размазал. Ну и все, не считая рыбы и всякого гнуса. Про Арбуза и говорить нечего. – А чего мы-то? – спрашиваю. – Сама помрет. Старый дом поскрипывал деревянными костями, в щелях выл ветер. Наши тени липли к стенам, вокруг свисающей с потолка лампочки кружила мошкара. Пахло сливовым вареньем. Мы сидели у Юрца и под чай жевали пирожки с капустой, которые принес Арбуз. Здесь он попадал в лапы бабушки, и его кормили на убой. С каждым летом он становился круглее, еле-еле влезая в любимые полосатые футболки. Юрец вытащил ножик из стола, ковырнул грязь под ногтем. Глянул на нас. – Потому что надо, – говорит. – Я тут в городе шуры-муры крутил с одной, поняли, да? Про Церковище проболтался. А она такая: «Это ж проклятая деревня!» Врубаетесь? Умирает здесь все. Самая пора пришла. Я не очень врубался. Деревня умирала, потому что вокруг умирало хозяйство. Молочная ферма, совхоз, льняной завод – все позакрывали. Вот люди и разъезжались по городам. Деньги зарабатывать, детей учить. Батя мой нашел работу электриком в райцентре, сутки через трое трудился. Укатил на велосипеде, смену отпахал, потом день с мужиками пропьянствовал – и назад, отсыпаться. Продукты привозил, деньги, генератор бензиновый упер где-то. В общем, нормально жили. – Я ее потискал, пощекотал, поняли, да? Все рассказала. Нечистая сила тут живет, серьезная. Городские просто так трепать не будут. Потому и утопленников летом много, и другие смерти странные. Утопленников не то чтоб много было, но случались. Оно и ясно. Пьяным в Усвячу влезешь, особенно когда та ледяная, – сразу можно ко дну пойти, что твой топор. Если бог пьяных и бережет, то точно не в воде. Ну а странные смерти… Кое-чего вспоминалось, было дело. Юрец поднялся и подошел к окну, которое с той стороны подсвечивал малиновый закат. – Я даже знаю, как эту нечистую зовут, – говорит. – А теперь она за мной придет. Тут верь не верь, а придет. Арбуз заерзал на месте, доедая пирожок. Его задница с трудом помещалась на табуретке. Он подавился, запил пирог чаем и пробормотал: – Я фильм про ведьму смотрел. Она там в летучую мышь превращалась. Юрец взял с дивана куртку и шлем, звякнул ключами. – Мотоцикл не догонит, – говорит. – Я студенточку одну подвозил на днях, у нее сегодня родителей не будет. В гости позвала, поняли, да? И сиськи у нее, как у Арбуза. Что надо сиськи, да, Арбуз? Арбуз оттянул футболку, чтоб она не слишком облегала рыхлые телеса, и показал средний палец. Я хохотнул. Юрец открыл дверь, остановился на пороге. – У нее подружки есть, сестры-близняшки. Взял бы вас, но мелковаты еще. Женилки не выросли. – Иди уже, заливала! – Пойду. – Он постучал шлемом о дверной косяк. – А ведьму надо убить. Прикиньте план пока. Я завтра вернусь. Дом давно стал нашей штаб-квартирой. Юрец не возражал. Мы знали, где что лежит, могли приходить в любое время, брать что угодно и были такими же хозяевами. Убирались, приносили еду, заросли во дворе стригли. Всего понемножку. Арбуз забрался на печь, устроился на лежанке и стал глядеть в потолок, почесывая живот. – Мих, а Мих, – говорит, – думаешь, Юрец струсил? Бабки Софьи испугался? Она же может ночью прийти сюда, да? – А черт его знает. Ты б не испугался, если б ведьма на твоих глазах кровью умылась, а потом зыркнула в твою сторону? – Я бы? Я бы нет. – Ну да, как же. Рассказывай тут. – Спорим? – Брехло. – Сам брехло. Мы молчали. За окном стрекотали насекомые, шумела речка. Под полом шуршали мыши. – Мих, а Мих. – Чего? – Думаешь, это правда все? – Про сестер-близняшек? – Да нет. Про ведьму. И про проклятую деревню. Через три дома от нас завыл Джек. Он на той неделе цапнул дядь Славу, так что теперь сидел на цепи. Вот и жаловался. – Мих. Я вспомнил вопрос. – Мож, и правда. Тебе-то чего? Укатишь в свой город, маманька с папанькой защитят. Да и не водятся у вас там ведьмы. Моя маманька повесилась, когда мне шесть было. С утра приготовила оладьи, подмела в комнатах, ковер выбила. А потом пошла в сарай, сделала петлю на балке, на ведро перевернутое залезла и шагнула. Мы с батей так и не поняли почему. – Мих, а Мих. – Ну чего тебе? – А было бы круто здесь переночевать, да? Я всегда любил дурацкие затеи. Сначала мы двинули к Арбузу. Бабушке сказали, что у меня заночуем. Костер во дворе жечь будем, картошку запечем, хлеба пожарим. А батя за нами проследит. Бабушка разрешила, снарядив нам с собой пакет еды и заставив Арбуза взять ветровку. Батя был на смене, так что ко мне мы забежали, только чтоб взять одеял. В штаб-квартире мы ночевали и раньше. Лежали кто где и слушали истории о похождениях Юрца. Было весело, считай что кино смотрели. В жанре фантастики. Мы перетащили в дом две охапки поленьев и растопили печь. С Усвячи тянет холодом, стены хлипенькие, так что ночью и задубеть недолго. Да и как-то спокойнее с печкой, уютнее или типа того. Решили нести дежурство у окон. Домик был маленький – одна комната с прихожей, зато выглядывать можно и на реку, и на улицу. Лампочку мы не включали. Запалили несколько свечек и убрали их вглубь дома, чтоб снаружи не так заметно было. Когда солнце закатилось за ельник и Церковище окончательно накрыла темнота, стало чуточку не по себе. Шорохи сделались громче. Голосила ночная живность, хлопали крылья. На вой Джека будто откликался кто-то из леса. Надолго нас не хватило. Торчать у окон оказалось страшновато – вдруг и впрямь кого за стеклом увидишь? На словах-то все здорово, а вот на деле… Да и в сон клонило, чего уж там. Мы разбрелись по лежанкам, поболтали ни о чем и стали засыпать. О плане убийства ведьмы никто даже не заикнулся. Глубокой ночью меня разбудил шум. Это Арбуз проверял щеколду на двери, словно та могла спасти от настоящей ведьмы. Кажется, ему было совсем не круто. Он обернулся со свечой в руках, и полоски на его футболке зашевелились. На лицо легли неровные тени. – Мне в туалет надо, – говорит. – А там темно совсем. – Ага. И силы зла уже ждут. Видал, как крыжовник разросся? Теперь там кто угодно схорониться может. – А тебе не надо? – Не-а, – отвечаю. Хотя мне было надо. Арбуз замолчал. Подошел к окну. В реке что-то плескалось, квакали лягушки. То и дело сверху прилетали крики сычей. – Надо бы еще поленьев принести, – говорит. – Мало осталось. – Нормально осталось. Арбуз вгляделся в черноту снаружи. Вздохнул, поставил свечку на подоконник и вышел на улицу. Я с трудом сдержал смех. Но через минуту веселье как рукой смахнуло. Арбуз ввалился в дом и тут же запер дверь. Я вскочил. – Она? – спрашиваю. Арбуз кивнул. Я вдруг почувствовал холодок. Такой противный, с душком сырого подвала. – У дома дяди Славы ходит. Лампа над калиткой горит, а она… Потому Джек и воет. Из меня словно весь воздух выбили. Ладошки вмиг вспотели. – Тебя заметила? Арбуз пожал плечами. Я погасил свечи и подошел к окну. Кроме дядь Славиного дома, рядом только брошенные – слишком темно, чтоб чего-то разобрать. Фонари здесь давно не работали. – Мих, зря мы, наверное… Зашелестела трава под окном со стороны реки. Кто-то продирался через крапиву. Мы затаились. Свет в штаб-квартире давали только пунцовые угольки в печной пасти. От сильного порыва ветра задрожал дом, и снаружи потянуло гарью. По стеклу заелозило, точно мокрым пальцем грязь стирали. Арбуз медленно отшагнул от окна. Закряхтела половица, выдавая его с потрохами. За стеной послышалось бормотание. Мокрый палец уткнулся во второе стекло. – А если Юрец прикалывается? – спрашиваю. Арбуз не ответил – он тихонько подгребал к себе кочергу. Вокруг дома кто-то шнырял. Пыхтел, ворчал, дотрагивался до ставен, под его весом опускались доски крыльца. Но дверь никто не трогал. Все затихло. Полная луна выкатила из-за туч, и возле дома чуть посветлело. Я подобрался к окну и разглядел на стекле черные рисунки. Какие-то символы, вписанные в круги звезды, фигурки зверей. – Мих, Миха… – Арбуз стоял у самой двери. – Если вдвоем выбежим, то не поймает, да? Не поймает же? Я зачем-то кивнул, хотя в голове уже прикидывал, кого из нас бабка Софья схватит. Арбуз толстый, неповоротливый, но у него кочерга. Я могу вылезти из любой дырки, могу за десять минут сбегать до магазина и обратно, но у Арбуза-то кочерга. Сидеть в доме нельзя, я как будто чувствую, что колдовские рисунки смотрят на нас из темноты. А вместе с ними смотрит кое-кто еще. Мы хотели выждать момент, когда зашуршит и заскребет в другой части дома, но ведьма затаилась. Договорились вылететь на счет «три». Дернули дверь, припустили вперед… и тут же наткнулись на бабку Софью. Она поднялась с земли возле крыльца, перемазанная и жуткая. Я махнул через перекладину над ступеньками, но зацепился за нее и так вывернул ногу, что боль прошлась от пальцев до самого копчика. Рухнул в кусты и застонал. А потом увидел, как Арбуз, пытаясь протиснуться между перилами и ведьмой, умудрился врезаться и туда и сюда. Бабка Софья вскрикнула, теряя равновесие. Из ее рук выпала банка, раскололась о доски, и ноги Арбуза окатила темная жижа. Кочерга свалилась в траву, бабка следом за ней. Арбуз подбежал ко мне, помог подняться, и мы дали деру куда глаза глядят. Но далеко уйти не получилось. Ступня болела и словно сделалась на пару размеров больше. Мы еле доковыляли до забора дядь Славы. Я оперся на него, чтоб отдышаться, и увидел знаки. Увидел их и Арбуз. – Чего это? – спрашивает. Я сполз на траву и стал тереть ногу. Сперва было очень больно, потом просто покалывало, а теперь ниже голени начало неметь. – Чего-чего, – говорю, – отметины колдовские! Вот почему деревня пропадает! Юрец же говорил! Из-за этой все! «Эта» не показывалась – растворилась в темноте у штаб-квартиры. Арбуз глянул вглубь деревни. Здесь жилых домов было мало. Какие-то на треть провалились в землю, какие-то ссохлись и впустили в себя растения. Можжевельник, папоротник, дикие розы оплетали брошенные избы со всех сторон. А впереди над домами поднимался огромный столб черного дыма. Арбуз всхлипнул: – Мама… Дым напоминал колдовской смерч. Казалось, сейчас он сорвется с места и проглотит нас со всей деревней. Вокруг него бесновались вороны – они каркали, налетали друг на друга и бросались прямо в черное марево, будто пытаясь оторвать от него кусочек. Арбуз застучал по забору, стал звать дядь Славу, но замолк, оказавшись у калитки. Лампа гудела, высвечивая заляпанные ноги, пятна на пальцах, знаки на досках… – М-мих, это что, кровь? В темноте у дома Юрца шевельнулось, закряхтело. – Надо двигать, – говорю. – Быстро! Двигать оставалось только в одном направлении – к дачному поселку. Не в глухой же лес подаваться, не говоря уже о дымящем участке старой ведьмы. Арбуз помог мне встать, я обнял его за шею и запрыгал на одной ноге. Мы ковыляли по узкой тропе сквозь ивняк у реки, а за нами трещали ветки. Бормотание и шамканье могли б нас подгонять, если б у Арбуза не кончались силы, а я не наваливался на него все больше. Ведьма догоняла. У старого лодочного причала стало ясно, что дальше я не ходок. По крайней мере, без отдыха. Одна нога как будто потерялась по дороге, как будто и не было ее вообще, а вторая болела так, словно я месяц не снимал батин кирзовый сапог. – Все, хана, – говорю. – Дальше если только по воде. Травы на берегу было по колено, на склоне лежали останки сгоревшей лодки. Сколоченный из старых досок настил уходил в воду и пропадал в тине. Вокруг плавали кувшинки, в лицо и глаза лез гнус. Арбуз посмотрел в холодную черноту под ногами и поморщился. Он тяжело дышал, держался за бок и явно не хотел открывать купальный сезон. – Ты б дальше двигал, – говорю, – я сам как-нибудь. – Один я не могу. Погоди… – Он глянул в сторону зарослей у болотной заводи, подпрыгнул и сорвался с места. – Сейчас! Я улыбнулся, потому что тоже вспомнил. Прошлым летом мелкие в индейцев играли и где-то здесь бросили свое корыто. Лишь бы никто не упер. Из кустов взлетела выпь с лягушкой в клюве. Арбуз вскрикнул, что тот индеец, и чуть не упал. Но вскоре запыхтел, волоча по земле маленькую лодчонку. Каноэ не каноэ, дырявая или нет, но хотя бы дно на месте. В этот момент из ивняка вышла бабка Софья. Мы кое-как сбросили лодку на воду и угнездились внутри. Вообще говоря, это было натуральное корыто, которое дядь Олег, батя одного из «индейцев», приспособил под игры в лягушатнике. Я отломал от настила доску и оттолкнулся. Лодку подхватила Усвяча, по дну тонкой струйкой поползла вода. Ведьма стояла на берегу и смотрела на нас. Потом медленно опустилась на колени, подобрала прутик и стала выводить на земле свои каракули. Мы старались двигаться аккуратно, чтоб сразу на дно не пойти. Я подгребал к основному течению, а Арбуз вычерпывал воду. Бабка Софья резко выпрямилась, насколько может выпрямиться горбатая карга. Мы отдалились от нее метров на тридцать, когда из Усвячи поднялись рога. Арбуз охнул и дернулся, едва не перевернув лодку. Меня скрутило холодом, но не из-за ледяной воды, которая пробивалась к нам снизу. На берег выходил огромный человек-козел. Мохнатый, что твой полушубок, рога – с полметра каждый. Он выбрался уже по пояс, а потом вдруг обернулся к нам. Арбуз застонал: – Мама… Черт – а как его еще назвать? – двинулся обратно. Громадные рога рассекали воду, пока не исчезли на глубине. Берег тоже был пуст. Бабка Софья схоронилась в темноте. Усвяча потянула нас вниз по течению, по прочерченной луной дорожке. Мы проплыли всего ничего, но уже продрогли насквозь. Прямо под нами текла черная вода, то и дело окатывая борта лодки волнами. Просачиваясь сквозь дно, хватая за ноги. Руки посинели, пальцы долбились друг об дружку. Арбуз стучал зубами и говорил как заика из моего класса. Вычерпывать воду становилось все труднее. Столб черного дыма, вороны и колдовские знаки – все это оставалось позади. Но теперь меня волновало кое-что другое. Кое-что рогатое и косматое. – М-мих, а Мих… – А? – Она, п-получается, выз-звала этого? – Получается. На такой конструкции далеко мы б не уплыли. Сколочена она была крепко, но наш вес для нее казался перебором. Да и вода все прибывала. Нужно было грести к берегу и надеяться, что бабка Софья не пошла следом. – Мих. Это… д-дьявол? Я смотрел ф-фильм один… – Достал ты со своими фильмами! Я что, в этой чертовщине должен разбираться?! – Н-не знаю. Ты ж местный. Слыш-шишь, что народ говорит. Луна спряталась. Тучи вспыхивали по очереди, но дождь сквозь них пока не просачивался. Нас прибивало к камышовому берегу, наверху сквозь черноту выплывало пепелище старой школы. – Дед Макар чертей каждый вечер видит, у него спроси. Он тебя и познакомит заодно. Руки отваливались. Я передал Арбузу доску, которая у нас была заместо весла. Лодка уже ползла через трясину, выбравшись из течения. У бортов всплывала трава, бегали водомерки. Рядом плескалась рыба. Можно было б попробовать доплыть до другого берега, но с щелями в днище мы бы, скорее, ушли под воду посередине Усвячи и утопли в ледяной воде. Ну и поселок-то с бабкой Арбуза на этом берегу, на ведьмовском… Рога поднялись справа по борту. Арбуз заорал, вскочил и повалился в воду. Ну а я просто застыл. Точно в ледышку превратился. Это как сидишь зимой в уличном туалете, тужишься над ямой, мерзнешь, а оттуда вдруг ветром в самое о-го-го дунет. Вот такое же чувство. Страха уже не было, вышел весь. Арбуз захлебывался, лупил руками по воде, звал меня, а я смотрел, как рога болтаются на волнах. Никакие черти за нами не увязались, просто мы проплыли по ковру из речной зелени, а оттуда вылезли поломанные ветки. – Нормально все, Арбуз! Не кри… Бабка Софья вынырнула из камышей, подцепила Арбуза и потянула в прибрежные заросли. Шмыг – и нет его, только круги на воде и кроссовок один. Я сиганул в воду и взвыл от холода. Ноги не слушались, меня затягивало в ил. Рядом на волнах болталась доска. Я подобрал ее, воткнул в ил как опору и выбрался на берег. Думать времени не оставалось. Увидел ведьму над другом, увидел скрюченные пальцы на шее и груди, услышал вопли Арбуза – и махнул доской со всей силы. В стороны разлетелись щепки. Бабка Софья охнула, схватилась за голову и повернулась ко мне. Поднялась, забормотала. Я махнул доской еще раз, потом еще и еще, пока не хрустнуло. Ведьма оступилась, ее зашатало. Она пыталась что-то сказать, во рту надувались пузыри. Глаза на грязном лице казались мертвыми, слепыми. Она шагнула вниз по берегу, мимо меня, протягивая руку к воде. Вздрогнула всем телом последний раз и рухнула в реку. Арбуз откашлялся, отплевался и встал рядом. Мы смотрели на тело ведьмы, которое утаскивала Усвяча. Река принимала ее в себя, чтоб пережевать и выплюнуть далеко-далеко, ниже по течению. Провожали ведьму склонившие головы ивы да камыши. Над водой, словно похоронное эхо, множились крики ночных птиц. Небо вновь сверкнуло, и в реку ударили первые капли. Бабку Софью забрала черная вода, и на поверхности Усвячи осталась болтаться только крохотная полузатопленная лодка. Мы шагали по поляне у сгоревшей школы. После Усвячи дождь казался нагретой на печи водой. Я хромал вперед, опираясь на доску – настоящую палку-выручалку, как в том мультфильме, – и все время оборачиваясь к реке. – Мих, а Мих. – Чего тебе? – Прикинь. Мы правда убили ведьму. Юрец обалдеет. – Да не то слово. Я не хотел пугать Арбуза, но в камышах мне померещился рогатый. Он не двигался, просто смотрел нам вслед. Когда я повернул голову опять, его уже не было. – Наверное, теперь все ее заклинания не работают, да? Ну, знаки эти, с кровью. Молния подсветила здание школы, и в окне второго этажа появилась рогатая тень. Я зажмурил глаза так сильно, как мог. Пытался выкинуть из памяти все, что сегодня случилось. Ведьму, страшилки от Юрца, черта из воды, убийство… Следующая вспышка высветила уже пустое окно. Потому что рогатый стоял в дверях первого этажа. – Мих. Я обернулся к Арбузу. Рогатый рос над ним мохнатой тушей и длинными пальцами гладил по волосам. По лицу Арбуза текли слезы. – Мих. Козлиная голова наклонилась, из пасти вывалился язык и лизнул Арбузу лицо. Я перестал дышать. Рогатый шагнул ко мне, оставляя в дорожной колее следы копыт. На небе вновь вспыхнуло, но на этот раз погасло не все. Полоска горизонта будто нагрелась, накалилась. Где-то там, за лесной чащей, поднимался солнечный диск. Запели петухи. Я моргнул, и рогатый исчез. Я упал в грязь, отбросил доску и разревелся, как девчонка. Одна ночь, прошла всего лишь одна ночь. А для меня считай что лет десять. – Мих. Арбуз поднял доску. С одного края у нее торчал гвоздь. Арбуз ткнул в него пальцем, на землю капнула кровь. – Ты прости, Мих, – говорит. – Он из меня все забрал. Слизнул. Я пустой теперь. Он поднес гвоздь к горлу, с силой надавил и вытащил. Брызнуло, потекло по шее, по футболке. – Арбуз! Я бросился к нему, попробовал отнять доску, но получил такой удар, что рухнул назад в грязь. Арбуз глядел прямо перед собой. Туда, где темноту вокруг заброшенных изб еще не прогнал рассвет. Где стучали о землю копыта, где когти скребли стекло, где рога царапали гнилые доски. Арбуз всматривался во мрак и видел свою смерть. – Не надо… Но Арбуз не послушал. Он превратил свою шею в решето и умер. А я просто сидел рядом с телом лучшего друга, испачканный в его крови. Дрожал, всхлипывал и молился, чтобы солнце скорее залило каждый уголок этой проклятой деревни. Через час или два я ковылял по разбитой асфальтированной дороге, которая уходила из Церковища. Шагал вперед и надеялся, что меня кто-нибудь заметит, подберет. Батя со смены, Юрец, мужик на продуктовом грузовике – кто угодно. Лишь бы выбраться из этого кошмара. Утренний туман плыл по земле, укутывая основания столбов вдоль дороги. На их верхушках в гнездах ворочались аисты. Просыпались лесные обитатели. Мотоцикл я узнал сразу. «Яву» Юрец прислонил к старому колодцу у дороги, а сам встал посреди развалин дома, от которого сохранилась только печь. Он смотрел в лес. – Високосный год, понял, да?! Я сошел с дороги и двинулся к нему. – Ламес! Праздник урожая! Я поравнялся с ним и наконец увидел его лицо. Юрец плакал. – Каждый високосный год. Ламес. Вот когда нечистым раздолье. Юрец говорил, не поворачивая ко мне головы. Он смотрел в чащу, где в темноте кто-то большой пробирался через листву. – У студенточки сиськи все-таки лучше, чем у Арбуза. Мы с ней поиграли немного, понял, да? Она тоже Церковище знает. Показала мне статьи в компьютере. В високосный год всегда смерти, понял, да? С Ламеса начинаются, тринадцать дней. Юрец повернулся и сунул мне шлем. – Зачем? – спрашиваю. Юрец покачал головой. Моргнул. У него были совершенно пустые глаза. – Не надо было шлем снимать, – говорит. – Как бы он тогда лизнул? Может, не забрал бы все, понял, да? Юрец доковылял до колодца, сел на мотоцикл и оглянулся к дороге. Вдалеке, за пригорком, шумела машина. – Смотри, как умею, – говорит. Заурчала «Ява». Юрец выкатился на дорогу, отъехал подальше и развернулся. – Понял, да?! Он погнал «Яву» вперед и на полной скорости влетел в дерево. Мотоцикл смяло, как консервную банку, а голову Юрца вывернуло в обратную сторону. В чаще все стихло. Я так и стоял с его шлемом в руках, когда рядом затормозила машина и все закончилось… …Я правда думал, что все закончилось. Потому что ничего не знал. Прошло четыре года, а я помню все до детальки. Хотел бы забыть, но никак. После той ночи батю моего нашли в петле там же, где повесилась мама. Тогда в Церковище много кого нашли, в газетах писали о двух сотнях. Кто на косу упал, кто дом по пьяни спалил, кого собаки загрызли. И все из-за меня. После интерната я вернулся. Теперь это мертвая деревня, жилых домов наберется десятка полтора, да и те используют только как летние дачи. Я занял нашу старую штаб-квартиру. Юрец бы не возражал, да и Арбуз тоже. Ради них, ради родителей, ради всех мертвых и всех, кто еще живет в ближайших деревнях, я и приехал. Потому что пришел очередной високосный год, праздник урожая. Ламес. И вода в Усвяче такая же ледяная, как и четыре года назад. В доме бабки Софьи я нашел книги и дневники, по ним и готовился. Из них узнал, что рогатые выходят из проклятых водоемов по всему миру, и везде есть те, кто их сдерживает. В високосные годы после Ламеса в Церковище умирало по пять-семь человек, а рогатому семь душ за весь цикл – только аппетит нагулять. Но четыре года назад он попировал знатно. У меня все было готово. В комнате среди оберегов стояла и фотография бабки Софьи. Той, которая рисовала на домах защитные символы, спасала тонущего Арбуза из воды, в одиночку держала рогатого в Усвяче, но не смогла довести ритуал до конца, потому что я убил ее. Солнце закатилось за ельник, Церковище накрыла темнота. Шорохи сделались громче. Голосила ночная живность, хлопали крылья. Все как тогда. Но теперь будет по-другому. Я умылся кровью черной курицы, запалил костры, взял все необходимое и отправился к реке. Вокруг стрекотали насекомые, квакали лягушки. Полная луна светила мне в спину. Я шел встречать нечистого.И пришел дракон
У старика Тинджола не было друзей, потому что он недолюбливал живых. Живые шумели, ругались, называли его сумасшедшим, но все равно привозили своих мертвецов. А уж с ними Тинджол всегда находил общий язык. У старика Тинджола не было родственников, потому что все давно умерли. Еще до того, как он познал истинную цель джатора. До того как природа обратилась против людей. До того как появился дракон. У старика Тинджола не было никого, кроме птиц. Все они любили Тинджола, ведь тот долгие годы кормил их мертвецами, тогда как остальные сбрасывали тела в прозрачные воды Брахмапутры на радость речным духам. С древних времен жители окрестных деревень верили, что поселившиеся у погребальных мест птицы – призраки, которые караулят души умерших. Рассказывали, что они чуют смерть и заводят свои песни, когда та рядом. Рассказывали, что они могут ухватить душу, едва та покинет тело. Рассказывали, что они могут унести ее прямо в ад. Хижина Тинджола стояла на безымянном плато вдали от городов. Здесь чахлую растительность трепал холодный ветер, а голубое небо казалось еще одним притоком Ганга. Здесь границы Тибета сторожили величественные горы, уходящие заснеженными вершинами прямо в облака. Тут костер из можжевеловых веток разгонял запах тлена, а серый дым путался в тряпицах молельных флажков. На этой высоте некоторым было тяжело дышать, но именно здесь и жил последний рогьяпа. Тинджол лежал в расщелине у дороги и слушал землю. Раньше он улавливал только обычное ворчание гор, треск колес или шаги путников. Но теперь все изменилось. Далеко-далеко, в подземельях большого города, что-то проснулось. Пробудилось и двинулось в страну высокогорья. Тинджол слышал, как оно роет ход, как ползет сквозь камни и песок, как удаляется от пещерной тьмы, что породила чудовище. Это был дракон. А еще Тинджол услышал Ринпуна. Вскоре его повозка показалась на холме. Лошадь нервничала, и Ринпун бил ее хлыстом. – Приветствую тебя, брат Тинджол! – Здравствуй, брат Ринпун. В повозке лежал труп молодой женщины в белых одеждах. Ее руки и ноги были перевязаны бечевкой. – Какое горе, брат Тинджол! Сердце прекрасной Лхаце не выдержало потери второго ребенка. Что-то ужасное происходит у нас, брат Тинджол. Это уже пятый ребенок за месяц. Горе, страшное горе для всех нас. Ринпун был сухим стариком, чьи седые космы и борода всегда шевелились на ветру, словно щупальца осьминога. Узкие щели глаз его сливались с морщинами на лице, превращая старца в слепца. Ринпун стащил тело с повозки и положил на траву. По земле поплыли ширококрылые тени грифов. – Это мог сделать дракон, брат Ринпун. Я же говорил. Ринпун усмехнулся: – Какой дракон? Брат Тинджол, ты совсем обезумел. Ты хоть понимаешь, в каком мире живешь? Тинджол знал, что по всей земле изменились растения. Виной тому были страшные войны, что гремели на каждом материке и отравляли царство природы. У растений проснулся разум, и они стали защищаться. И поэтому Тинджолу нравилось жить здесь, где мир казался таким же, как и несколько веков назад. Где люди не умели читать и писать, где не знали, как управляться с механизмами, где все еще верили в важность ритуала небесного погребения. На высокогорье, где не выжить ни единому деревцу. – Дракон идет сюда, – сказал Тинджол. – Я слышу его, я чувствую. И он скоро будет здесь. Ринпун покачал головой, поглаживая лошадь, которой не было покоя в этом месте: – Брат Тинджол… Я смотрю на твои мускулистые руки и вижу в них великую силу. Я смотрю в твои глаза и вижу там великую мудрость. Но я смотрю на твою лысую голову, слышу твои слова и больше не вижу монаха. Я вижу безумца. – Я говорю правду, – возразил Тинджол. – Дракон идет сюда. И только я знаю, как его остановить. Давным-давно, когда стали пропадать первые дети, кто-то обнаружил ходы. Первая пещера вела во вторую, вторая – в третью, пещеры превращались в туннели, а туннели уходили все ниже и ниже. Их стены покрывали невиданные растения, которые шевелились даже при отсутствии ветра. А во тьме этих подземелий передвигалась огромная фигура. Тогда двадцать три мужчины спустились в катакомбы, а вернулся лишь Тинджол. Он замолчал на долгие десять лет и уехал от людей в высокогорный монастырь Тибета. С тех пор под миром росла система туннелей, а жители больших городов слышали по ночам страшный вой. Но дети перестали пропадать, ведь чудовище из тьмы было накормлено. На какое-то время. А Тинджол… Он сказал, что видел настоящего дракона, и дракон дотронулся до него. Дракон из самых темных недр земли оставил на Тинджоле отпечаток. – Слишком много бед, брат Тинджол. А еще эти дьявольские птицы… У нас были люди из города. Они приезжали на большой машине, похожей на бочонок с бобами. Очень странные люди. У них были какие-то склянки… Они рассказывали о страшной болезни, брали нашу кровь. Проверяли ее. Говорили, что растения выбрасывают семена, и те плывут по воздуху. Плывут, а потом опускаются на людей, попадают в нос или уши и пускают корни внутри. Двух наших мужчин забрали в город, потому что внутри нашли ростки. – Прекрати, брат Ринпун. Мне это неинтересно. Езжай обратно, а я буду делать свою работу. Иначе твоя лошадь сойдет с ума. Ринпун выгрузил свертки с едой и погнал лошадь назад в деревню. Когда повозка достигла холма, в развалинах монастыря у дороги шевельнулась черная точка. Тинджол давно заметил маленького воришку. Тот приходил ночью и брал немного еды, а иногда прятался за камнями и наблюдал за ритуалом. Мальчишка жил среди порушенных стен и разбитых фигурок Будды уже пять дней. Еды Тинджолу хватало, а другой платы за свою работу он не брал, так что и воровать было нечего. Поэтому к появлению чужака он отнесся спокойно. Тинджол отволок тело Лхаце на огороженный камнями луг с пожелтевшей травой и уложил его у столбика с одним флажком. Присел рядом и стал читать мантры из Тибетской книги мертвых. Раньше этим занимались ламы, но после того, как началась великая война, после того, как природа сошла с ума, джатор оказался в списке табу. Небесное погребение стало историей, как целые страны и культуры. Теперь Тинджол сам отпевал души и сам же разделывал трупы для подаяния птицам. Оставшиеся приверженцами религии бон верили, что тело должно служить добру и после смерти. Приносить пользу. Загрязнять землю или священные воды гниющей плотью – не богоугодное дело. Эту проблему веками решал джатор. Спустя час Тинджол услышал шаги за спиной. Чужак больше не таился. Он сел между стариком и мертвецом и, затаив дыхание, наблюдал за обрядом. Тинджол никак не реагировал, прочитывая мантру за мантрой, готовя душу покойной к перерождению, пронося ее через сорок девять уровней Бардо. Оставляя смерть позади. Во время отпевания, которое длилось целые сутки, Тинджол обменивался взглядами с чужаком. Тот был юн и напуган, из его боков выпирали кости, а одеждами ему служили грязные лохмотья. Он читал по губам и прилежно повторял все мантры. И он выдержал несколько часов молитвы подряд, пока Тинджол жестами не отправил его отдохнуть. Так у старика Тинджола появился ученик, который откликался на имя Цитан. Проснулся Тинджол вечером следующего дня. На столбике у тела Лхаце появился второй флажок, а само тело оказалось нетронутым. Цитан, вооружившись бамбуковой палкой, не позволял птицам добраться до него раньше времени. Юный помощник с честью выдержал проверку. Две дюжины грифов сидели у пустых столбиков, обратив к обидчику уродливые лысые головы. – Знаешь ли ты, юный Цитан, что призвание рогьяпы передается из поколения в поколение, от отца к сыну? А если бог не наградил рогьяпу сыновьями, то делом должен заняться муж дочери. Они спрятали труп под корытом и уселись в тени хижины. Солнце почти скатилось к линии горизонта. Грифы оставили надежду поживиться и улетели. – Да, учитель, – ответил Цитан, уплетая рисовую похлебку. Тинджол улыбнулся: – Пока в Тибете есть хоть один человек, почитающий небесное погребение, должен быть и рогьяпа. Ты мне очень пригодишься. – Да, учитель. Спасибо. Юный Цитан рассказал, как скитался по пыльным дорогам, воровал еду, пытался выжить. Его родители зацвели, подобно многим другим, поэтому люди из большого города сожгли их вместе с отравленными лесами. С тех пор Цитан остался один. Он держался подальше от городов, бродил по нагорьям и деревням, сторонился людей. Искал спасения в храмах, но не задерживался там надолго, ведь даже обитель бога не могла противостоять растениям. – Ты что-нибудь знаешь о драконе, юный Цитан? – спросил Тинджол, раскуривая трубку. – Нет, учитель. Я знаю лишь то, что мир уже не такой, как прежде. – Все так. Но дракон – самое страшное порождение нового мира. Хищные растения, о которых рассказывают люди из города, служат дракону. Поверь мне, я знаю, что говорю. Цитан поморщился: – Когда я ночевал в развалинах храма, то видел их. Они приближались. В первую ночь растения едва показывались из-за холма, но когда темнота пришла вновь, они уже росли у дороги. Нам нельзя тут оставаться, учитель. – Ты не прав, юный Цитан, – усмехнулся Тинджол. – Когда тебя еще не было на свете, меня коснулся дракон. И теперь я чувствую его приближение. Растения не придут за нами, пока дракон не разрешит. А завтра мы его остановим. – А как выглядит дракон? – Он соткан из тьмы, а глаза его горят светом тысячи костров. – Тинджол докурил, вытряхнул табак, спрятал трубку в карман жилетки и укрылся льняной накидкой. – И этот жар, это пламя до сих пор живет во мне. – Как же мы его остановим, учитель? – Пора спать, Цитан. Завтра будет третий флажок, третий день перерождения души. Завтра мы проведем джатор. – Хорошо, учитель. И они отправились спать. На следующий день растения подошли совсем близко, но Тинджол не переживал. Цитан старался не смотреть в сторону холмов, погрузившись в таинство джатора. Он справлялся очень хорошо для своих лет, и со временем из него мог вырасти прекрасный рогьяпа. Когда мантры закончились, пришло время самой трудной части. Цитан привязал труп Лхаце кстолбику, чтобы птицы не смогли утащить его целиком, и Тинджол принялся за работу. Он делал надрезы по всему телу и вынимал внутренности, а грифы дожидались подаяния в небе, страшными тенями кружа над скалистой землей. У Цитана тоже был нож, и мальчик так уверенно вспарывал кожу, будто занимался этим с начала времен. Они сидели и смотрели на птиц, которые поедали мертвую плоть. Тинджол курил, Цитан не отрывал взгляда от перепачканных клювов. Лхаце становилась ветром, пылью, частичкой стаи грифов. Когда птицы обглодали скелет, Тинджол взял топорик и превратил кости в песок. Смешал прах с пшеничной мукой и высыпал птицам. Грифы вернулись и унесли остатки тела Лхаце вслед за ее душой. На небо. Джатор был завершен. – Ты хорошо держался, юный Цитан. Но ты должен помочь мне еще в одном деле. – Конечно, учитель. Что угодно. Они отправились к расщелине у горного склона, где хранились завернутые в мешковину запасы Тинджола. – Что это, учитель? – С помощью этого мы остановим дракона. Нужно все перенести к молельным флажкам до наступления темноты. Ноша оказалась тяжелой. Завернутые в мешковину предметы были большими и плохо пахли, но Цитан не жаловался. Растения стали еще ближе. Насытившиеся грифы убрались прочь. Надвигалась тьма. Когда все было готово, Тинджол заговорил: – Скажи мне, юный Цитан, какова истинная цель джатора? Ученик задумался и произнес: – Очистить человеческую душу, проводить ее со всеми почестями. И сделать так, чтобы тело усопшего было полезно и после смерти. – Я тоже всегда так думал, – сказал Тинджол, доставая из-за пояса бечевку. – У джатора множество назначений. Но главная его цель очень проста. Тинджол схватил Цитана за руки, закрутил на них причудливый узел и привязал мальчика к столбику. – Истинная цель джатора – кормление. Не пытайся освободиться, юный Цитан. Иначе мне придется сделать с тобой то же, что и с телом Лхаце. Тинджол достал нож и стал разрезать мешковину. Под ней оказались тела пропавших детей. – Птицы служат своим чудовищам, а у растений есть свое. Дракон. И его нужно кормить. Задрожала земля. Тинджол улыбнулся: – Он насытится сегодня. На какое-то время оставит эти места. Без твоей помощи, юный Цитан, этого бы не произошло. Цитан сидел на земле в окружении мертвых тел и дрожал. Гудели скалы, вдалеке кричали птицы. Тинджол разводил костры. А в земле открывался ход. Тинджол отошел в сторону и вдохнул запах дыма. Глаза старика слезились. Он наблюдал. Из земли лезли корни толщиной с лошадь. Растительные щупальца обвивали тела и уносили их во тьму. Черные сплетения неизвестной жизни, точно исполинские змеи, скручивались вокруг Цитана. Когда в уродливом нагромождении корней вспыхнули глаза, когда раздался рев чудовища, когда Цитан закричал, Тинджол отвернулся к дороге. Растения отступали. Дракон пришел. Он получил то, что просил. И до следующего раза у Тинджола оставалось еще очень много времени. Лишь бы хватило на его век юных учеников.На краю земли
Шаги за спиной дробные, как удары дождевых капель в стекло. Оборачиваюсь в пустоту, и теперь слух улавливает лишь отдаленное пение колокольчиков. На ведущей к смотровой площадке тропинке нет никого. Туристов становится все меньше. С наступлением темноты посетители рассаживаются по автобусам и покидают парк Сирэтоко. Но мне можно и задержаться, тем более в последний день. Если не удалось проститься с Кумико, нужно хотя бы сказать «прощай» нашему любимому месту. Полгода пролетели как одна поездка в токийском метро. Будни успешного архитектора, которого завидный заказ забросил в Страну восходящего солнца, смешивались с исследованием загадочного Востока. И чем больше я узнавал о Японии, тем сильнее влюблялся в эту страну. Правда, у таких чувств была и другая причина. Причина эта полностью оправдывала свое имя, которое в переводе означало «вечный красивый ребенок». Кумико порой и впрямь вела себя как школьница, для которой выданные на входе в национальный парк колокольчики – лучшая забава. Служащие всегда просят создавать побольше шума, и это единственное, что мешает наслаждаться здешними красотами. Все из-за огромных бурых медведей. Звон колокольчиков должен их отпугивать, но все равно лучше держаться туристической тропы и в одиночку не ходить. Конечно, в отличие от японцев, я правил не соблюдаю, и пару раз мне удалось заметить огромную тень, протискивающуюся сквозь многовековые леса. Хотя это мог быть и не медведь, ведь Сирэтоко – место необычное. Останавливаюсь у терминала, на мониторе которого сияет карта парка. Есть указатели и на русском. За спиной вновь стучат шаги. Оглядываться нет смысла, я и так знаю, что позади только вечерний ветер гоняет листья. Чудеса в Сирэтоко дело нередкое, а сегодня, если верить снам, и вовсе собираются духи со всей округи. Тем более что о проказнике, чье шлепанье за спиной пугает путников префектуры Нара, я давно наслышан. Кумико любила рисовать – особенно персонажей японского фольклора. По ее работам я изучал восточноазиатскую культуру, а с ее слов узнавал о призраках и таинственных существах, которым нет места среди людей. Мой японский был так же плох, как ее русский, поэтому связывала нас чужеземная английская речь. Но мне всегда казалось, что с Кумико мы можем общаться без слов. Слыша мысли друг друга, читая все в глазах. Закоренелый одиночка, я и не думал, что когда-нибудь буду испытывать такие чувства. Тем более к девушке из другой страны. Да что там – из другого мира, ведь Японию на нашу грешную землю занесло из какого-то сказочного уголка. Как и в любой сказке, здесь царили свои законы, но я влился в эту жизнь на удивление легко. Все благодаря этой замечательной девушке. Хотя для большинства японцев я навсегда остался гайдзином – человеком извне. Иду в сторону знаменитых Пяти озер, а невидимые шаги топают следом, не отставая. Людей практически не остается, только рабочие парка, которые провожают меня внимательными взглядами. Похоже, им невдомек, кто сегодня гостит в Сирэтоко. Кумико исчезла два месяца назад, как раз в тот момент, когда в моей жизни появилась другая женщина. Я не придавал значения повторяющимся вновь и вновь снам, но лишь до тех пор, пока не узнал их героиню на рисунках Кумико. Карандашные линии создавали образ настоящей красавицы, вот только человеком она не была. Голова на изогнутой длинной шее спускалась чуть ли не до колен, в прекрасном лице таилось нечто пугающее. Как я узнал позже, ее звали Рокурокуби. Ёкай, сверхъестественное существо из японской мифологии. С тех пор все пошло наперекосяк. Сон превратился в мучение, я стал раздражительным, грубым. На работе не ладилось, а дома я устраивал скандалы на пустом месте. И вскоре Кумико пропала. Телефон был отключен, в своей квартире она не появлялась, а ее друзей и родственников я не знал. Очень хотелось верить, что девушке я просто надоел. Или испугал ее своим поведением, ведь она наблюдала перемены из первого ряда. Пусть это было больно, но второй вариант выглядел гораздо хуже. Разные источники особой кровожадностью Рокурокуби не наделяли, но кошмары говорили об обратном. Мне оставалось только надеяться, что странная женщина с бесконечной шеей не имеет власти в мире материальном. Оставив чудесные водоемы позади, я наконец-то решаюсь. Чужие шаги замирают вместе с моим дыханием. – Бетобето-сан, пожалуйста, проходите, – произношу я на ломаном японском фразу, подцепленную из книги о нечисти. Теперь остается только ждать. Либо дух ночной прогулки, как и все остальные, на самом деле существует, либо кому-то давно пора лечиться. На минуту все звуки исчезают. Но вскоре невидимый бродяга продолжает свой путь вслед за ветром, и топот шагов растворяется в пустоте. Я тяжело вздыхаю и бреду дальше уже в одиночку. Осталось только одно место, в котором Кумико, наверное, хотела бы сейчас оказаться. Возможно, это глупо, но мне нужна хоть какая-то весточка от нее напоследок. Какое-то воспоминание. Ведь только она пробудила во мне чувство, о котором сложено столько хайку. Поднимаюсь по ступеням, которые будто вросли в бесконечно высокую стену деревьев, и шагаю навстречу спускающемуся с гор туману. В царстве зелени вокруг кипит жизнь, кто-то наблюдает за мной из своего неприметного укрытия. Я подхожу к лавочке под изящным фонарем, который разгоняет синеватую мглу. С этого места зимой мы с Кумико наблюдали за дрейфующими льдинами, которые перебирались через Охотское море. Я устало опускаюсь на деревянную поверхность, прислушиваясь к перекличке насекомых. Прекрасная ночь для прощания. Со страной, с этими красотами, с Кумико. С чудом. На ступеньках внизу раздаются шаги. Неспешные, осторожные. Идущего не видно, но я точно знаю, что это уже не Бетобето-сан. В волшебную ночь можно встретить кого угодно, но догадки давно рвут меня изнутри. Не зря ведь в последний день сны привели меня именно сюда, на край земли, что и означает Сирэтоко на языке народа айну. В глубине души я знаю, что Кумико больше не принадлежит миру живых. Об этом рассказывают сновидения, которые теперь служат маяком в моих странствиях. Но, быть может, всему найдется простое объяснение. И кошмарам, и исчезновению Кумико, и тому, что вокруг оживают персонажи с мистических картинок. Рокурокуби. В последнее время я научился идеально произносить имя существа, которое принялось переписывать мою судьбу. Сложно сказать, почему выбор пал на меня, да это уже и не важно. Ничего важного у меня теперь не осталось. Шаги уже рядом, но я по-прежнему стараюсь не смотреть на идущего. Периферийное зрение выхватывает из тьмы женский силуэт. Теперь даже можно услышать чужое дыхание. Ветер треплет непослушные волосы на лбу, и я закрываю глаза. Прикосновение на секунду обжигает холодом, но вскоре дрожь уходит. Ее сменяет волна тепла, и из глубин сознания приходит долгожданное спокойствие. Здесь, в одном из самых красивых мест на планете, под лунным взором я больше не один. Рядом – она. Моя судьба или мое проклятие. Но, так или иначе, мы будем вместе. Всегда. На краю этой волшебной и загадочной земли.Хозяин туннелей
Попрошайки из нас получились аховые. За полчаса пути от «Алтуфьево» до «Менделеевской» в пакет для пожертвований не бросили ни монеты. Девять станций, восемь вагонов, табличка «Помогите на операцию» и аутентично-затрапезный внешний вид – казалось, все сделано по уму. Но, похоже, в этой сфере деньги с потолка не падали. Хотя нас они и не интересовали, целью были настоящие попрошайки-инвалиды, а вернее – их хозяева. Затея была рискованной, но Женя сама вызвалась сыграть инвалида. Ей надоело торчать дома, монтировать видео и накладывать субтитры, пока я добывал материалы «в поле». Она и раньше спускалась в метро со скрытой камерой, но тогда мы не изучали криминальную сторону подземки, а пытались найти истоки городских легенд и прочего народного творчества. Никаких особых дверей наши журналистские корочки не отворяли, так что с Метро-2 и секретными бункерами не сложилось, хотя знакомый диггер устроил нам небольшую экскурсию по ночным туннелям. Ничего интересного, как выяснилось. Измазались, как черти, а ни одной, даже самой завалящей, крысы-мутанта так и не встретили. Не говоря уже про путевого обходчика или черного машиниста. – Дальше по серой? Или перейдем? – спросила Женя, когда я выкатил коляску из вагона. Сальные волосы, бледное лицо без косметики, куртка из восьмидесятых, джинсы в пятнах и тапочки на шерстяных носках вместо башмаков – Женя выглядела кошмарно. Пожалуй, мы даже чуточку переборщили. Я смотрелся не лучше, но, по крайней мере, не прятал руку, демонстрируя людям пустой рукав-культю, и не изображал парализованного ниже пояса. – Дальше поедем, – шепнул я, осматривая платформу. – Не таскать же эту телегу по переходам, а к твоему чудесному исцелению народ пока не готов. В потоке пассажиров мелькнул «ветеран». Классика. Безногий мужик в форме шустро передвигался на какой-то подставке с колесиками, работая руками. Ему уступили дорогу, поэтому до вагона он дополз быстро. Но перед дверью вдруг остановился. Повернул голову, уставился на нас и тут же покатил прочь от поезда. Охраны, которая обычно таскается за добытчиками, рядом не было. – Вы как здесь? Кто такие? На пальцах сидели татуировки, на форме – награды, на лице – борода. Натуральный ветеран. – Беда у нас, – сказал я. – Серьезная. Вышли у народа помощи просить. – Ну, дают, – усмехнулся калека, – опять самодеятельность. Хозяин, сталбыть, не в курсе? Ему подобные – лишь песчинки в огромном организме метрополитена, марионетки, у которых есть кукловод. За месяц работы здесь я записал десятки часов видео: интервью с подземными аборигенами, разговоры по душам, моменты различных сделок – от продажи наркотиков до оформления регистрации очередному душману, – разоблачения «беременных» попрошаек, бездействие полиции, зачистку молодчиками вестибюля, когда к ряженым нищим стала приставать компания пьяных фанатов. Удалось узнать даже некоторые имена держателей бизнеса. В общем, материала было навалом. За исключением одной темы. Как только речь заходила об инвалидах, все сразу замолкали, какие бы деньги я ни предлагал. Мол, у них свой хозяин. Хозяин туннелей. Будто бы и живут они все в туннелях где-то, наверху не показываются. Короче говоря, отдельная структура в подземельном синдикате. Как музыканты, только те и сами в охотку общаются, нормальные ребята, а эти всегда особняком. Странные, мол, и нечего о них рассказывать. – Какой еще хозяин? Мы сами по себе. Ветеран осмотрел коляску, Женю, табличку. – И что за болезнь такая страшная? Сколько денег надо, чтоб тебя починить? Женя начала было рассказывать, но ветеран схватил ее за коленку. Она вскрикнула и рефлекторно дернула ногой. – Ну-ну, – поморщился калека, разворачиваясь. – Валите, пока не поздно! Он прокричал что-то про хозяина, но слова зажевал гул поезда. Инвалид нырнул в вагон и исчез за волной пассажиров. – Не нравится мне все это, – сказала Женя. Первый раз она произнесла ту же самую фразу, увидев новую себя в зеркале. А вдруг кто знакомый узнает? – Все по плану, не волнуйся. У меня и впрямь все было под контролем. Во внутреннем кармане хватало денег, чтобы откупиться от кого угодно, а на быстром наборе ждала своего часа пара полезных номеров. Да и занятия боксом даром не прошли, хоть и отъелся я в последнее время, сменив редакционный офис на фриланс и ведение популярного блога о Москве. Главное, что контакт был налажен. Раньше инвалиды – в меру возможностей – от меня бегали, другие о них говорить не хотели, а стоило только покуситься на их хлеб, как сами полезли с допросами. Но это была мелкая рыбешка, хотелось увидеть кого-то поинтереснее. Или разговорить одного из калек. Хозяин туннелей, живут прямо в туннелях, наверху не показываются… Нужно было всю эту чушь расшифровать. Мы поехали дальше, вниз по Серпуховско-Тимирязевской линии. Народу в вагонах хватало, но обходилось без толкучки. Время было выбрано идеально. На каждой станции я ждал, что нас встретят добрые ребята с головами в виде шаров для боулинга. Внутри бурлило какое-то детсадовское предвкушение, словно мы с Женей секретные агенты в тылу врага, работаем под прикрытием. И миссия наша сколь опасна, столь и интересна. Но Женя, похоже, былого энтузиазма не испытывала. Нервно смотрела по сторонам и каждый раз вздрагивала, когда ее случайно задевали в вагоне. Срисовали нас на «Нагорной». Высокий тип в кожаной кепке и пальто, с засунутым в карман пустым рукавом. Для попрошайки инвалид выглядел слишком прилично, но принадлежности к той же песочнице даже не скрывал. Сперва демонстративно пялился на Женю, затем на «Нахимовском проспекте» перешел с нами в соседний вагон, а выйдя на «Севастопольской», принялся кому-то звонить. Я даже чуточку расстроился, когда до конца серой ветки мы доехали без приключений. Я катил Женю вдоль платформы «Бульвара Дмитрия Донского», а она подсчитывала прибыль. – Один билет на метро мы уже отбили, – с усмешкой сказала она. – Как делить богатство будем? – Добровольно отказываюсь от своей доли, так и запишите в протокол. – Лучше запишу, что у меня попа затекла. – Я бы размял твою попу, но за это нас точно загребут. – Фу, пошляк, – засмеялась Женя, – нас вообще-то две камеры пишут! С нее слетел тапочек, и я обошел коляску, чтобы водрузить его обратно. Со стороны это наверняка смотрелось какой-то извращенной сценой из «Золушки». Сказочный принц в лохмотьях припал на одно колено и примеряет парализованной красавице тапок. Тот ей подходит, и живут они дальше долго и счастливо. Женя улыбнулась, будто прочитав мысли. Погладила меня по немытой шевелюре. – Мы выглядим слишком счастливыми для сирых и убогих, – сказала она. – Без разницы уже. Нас эти заметили. Я хотел поцеловать Женю, но вдруг увидел его. Великан стоял в тупиковом туннеле, доставая почти до потолка. Черное лицо, безразмерная дубленка на голое тело, повсюду ожоги и паленая шкура. Он прижимал к стене калеку в военной форме, того самого. Сотканный из горелой плоти великан одним движением оторвал попрошайке руку, сгреб его под мышку и шагнул в туннельную тьму. Из черной дыры не донеслось ни звука. – Гребануться можно… – Что такое? Я развернул Женю, но в туннеле уже никого не было. – Ну и? Действительно, ну и что? – Ничего, забудь. Померещилось, – ответил я, прикидывая, засняла ли это камера в куртке. Хотя, даже если засняла, на таком расстоянии качество картинки будет «вырвиглаз». – Когда у тебя «гребануться можно», значит, дело плохо. На противоположный путь подали поезд. Народ пошел на абордаж. Я затолкал коляску в вагон и пристроился у закрытых дверей. Изображать попрошаек больше не хотелось. Все мысли были только о машине, а ее, как назло, мы оставили возле станции «Алтуфьево». Час пути. – Ты скажешь мне, что стряслось? – Сам не знаю. Ерунда какая-то почудилась. В вагон что-то ударило, и я заметил огромную обожженную пятерню на стекле соседней двери. Со стороны стены, где быть никого не могло. Помнится, гуляла по сети байка о призраках, которые пугали пассажиров, стуча в окно. Вроде бы потом пара машинистов призналась в розыгрыше с резиновыми руками на палках, а может, это и не у нас было. В любом случае на резинку или призрака такая лапища не тянула. Поезд зашипел и двинулся в темноту. Рука исчезла, оставаясь лишь в моем больном воображении. Мы прошли пару вагонов, подальше от отмеченного, и решили третий раз по тому же маршруту не ехать. Женя ничего не заметила. Пугать ее я не хотел, поэтому просто предложил свернуть наше расследование до лучших времен. Попадется нам кто-то до конечной – хорошо, нет – и черт с этими инвалидами, без них сюжет сделаем. Ближе к центру людей становилось больше. Вскоре началась давка, на кольцевой вагон забился под завязку. Я все время смотрел в окно за спиной, сверля глазами надпись «Не прислоняться». Так ждал эту проклятую руку, что пропустил самое главное. Когда Женя дернула меня за рукав, я наконец увидел наших попутчиков. Все они были калеками. Не полный вагон, конечно, но вокруг нас собрались только инвалиды. Одноглазые, однорукие, на костылях с пустой штаниной, у одного на лице зияла дыра вместо носа. – Саша… – прошептала Женя, крепче хватая меня за руку. Они смотрели на нас и скалились. Качали головами, облизывали губы и переговаривались друг с другом. – Саша… – совсем уж тихо сказала Женя, и я опустил взгляд к ней. Из-за коляски выполз маленький безухий цыганенок, пряча что-то в карман. Нырнул между ногами мужика в кожанке и слился с людской массой, которая в этом гребаном вагоне переваривала сама себя. – Саш… я не могу… шевелиться… Поезд ворвался в туннель, и я перестал ее слышать. Женя уронила голову на грудь. Я наклонился к ней, чувствуя, как чужие пальцы шарят в карманах. Женя была в сознании, по щекам змеились ручейки слез. Приближалась станция. Я продвинул коляску к выходу, и тут состав тряхнуло. На меня повалился одноглазый жирдяй в спортивном костюме не по сезону. Из глаз посыпались искры, а из легких пополз последний кислород. В нос ударила вонь немытого тела, по сравнению с которой мой собственный запах казался цветочным благоуханием. – Хозяина нельзя обмануть, – сказал жирдяй. Коляску с Женей подхватили и вывезли на платформу. – Стоять! Вы чего творите, уроды! Я поднялся, но передо мной выросла живая стена. Калеки. На платформе мелькнула коляска с двумя провожатыми. В вагон хлынула людская река, вдавливая меня в стекло, на котором уже красовался отпечаток руки. – Женя! Помогите! Люди, вы не видите, что ли?! Ногу кольнуло. – Я журналист! У меня камера! Все ваши рожи… Слова больше не вылетали изо рта. Язык не слушался. По телу разливался холод. Цыганенок улыбнулся мне, убрал шприц в карман и спрятался за взрослых. Меня взяли под руки и забрали остатки вещей, включая камеру. Последнее, что я услышал, прежде чем уйти в наркотическую дрему, – окрик кого-то из пассажиров: – Да выкиньте вы отсюда этого бомжару!…станции плыли сквозь туман, вспышками пробивались сквозь молочную стену, а потом вновь приходила тьма, непроглядная тьма туннелей, ходов черного мира, которые сожрали землю под городом, а скоро сожрут и сам город. Фантомы кружились вокруг, фантомы с людскими лицами, людские лица в отражениях ламп, людские голоса в стонах железа, людские… – Хозяин должен тебя попробовать. Как и любого новичка. …мрак, первородный пещерный мрак, который пришел к нам из древних времен и обосновался в человеческих городах, в муравейниках электрического света, чтобы враз поглотить все и вся, и в этом мраке дышит он, в этом мраке живет и питается он, этот мрак и есть он… – Лучше мы, чем хозяин. …я слышу его шаги, слышу его дыхание, стук сердца, тук-тук, тук-тук, тук-тук, он древнее туннелей, древнее нас, древнее всего этого, он был всегда, и всегда был голоден, потому что голод тоже он… Боль ослепила, иглами влезла под кожу, но прогнала морок. Я лежал на земле в каком-то темном закутке, из дыры открывался вид на туннель. Оттуда несло могильным холодом, сыростью. А еще была страшная вонь. Будто в нору забралось раненое животное и там сдохло. Похоже, я и был этим животным. В темноте скрылся калека, держа в руке… другую руку. Я застонал. У правого плеча вились жгуты, а дальше ничего не было. Только забинтованная культя. – Мрази, я всех вас убью… Всех… Где она… Рядом над инструментами колдовал тот тип в плаще и кепке. Он усмехнулся: – Все это не имеет никакого значения, молодой человек. Ни вы, ни ваша подруга больше не подниметесь на поверхность. Голова кружилась, боль рвала на лоскуты, но я нашел силы на один удар. Ногу мне отрезать не успели, и он вышел что надо. Даром что лежа. Если бы у этого мясника были яйца, по туннелю разнесся бы колокольный звон. Пока он корчился на земле, я кое-как подполз, нащупал в инструментах нож и всадил ублюдку прямо в горло. – Да пошел ты. Меня шатало из стороны в сторону, но я шел вперед. Ощущал на себе липкий взгляд из темноты, слушал эхо, которое перемешивало жуткий шепот со звериным рычанием. Я знал, что хозяин видит, как я покидаю тупиковый туннель, как падаю на контактный рельс, но тот оказывается обесточен. Как какой-то выпивоха помогает мне забраться на платформу и как я сажусь в поезд. Снова «Алтуфьево», снова вниз по серой ветке. Я выходил на каждой станции, искал ее, пытался привлечь внимание людей, но теперь я стал частью этого мира. Человеком из подземелья. От меня отсаживались в вагоне, меня сторонились, игнорировали, толкали и шли дальше. Даже полицейские. Ведь я был никто, грязный калека без документов. А на поверхность меня не пускали они. Когда станции на серой ветке закончились, я понял, что Женю больше не увижу. Я походил на лабораторную крысу в макете лабиринта. Сотни ложных ходов вокруг, иллюзия выбора. Но в конце концов крыса всегда придет туда, куда ей положено прийти. За моей спиной топтались наблюдатели без частей тела. Страшно было представить, сколько их в метро. Они подталкивали крысу в правильном направлении, следили, чтобы та играла по правилам, не нарушала границ лабиринта. И я подчинился. Свод туннеля на «Бульваре Дмитрия Донского» подпирала громадная тень, и я покорно спустился туда. Чернота пришла в движение. Загудел от голосов туннель. Исполинская фигура нависла надо мной чернильным облаком. Хозяин раскрыл объятия, и я задохнулся от его запаха… Теперь я живу в туннелях. Разумеется, я жив, иначе как бы рассказал эту историю? Вы можете встретить меня на серой ветке с восьми утра до полуночи. Каждый день. Пока от меня еще что-то осталось. Калеки – самые уважаемые люди в метро. Нас никто не трогает, нас боятся все работники подземки – как официальные, так и теневые, – мы можем оставлять себе всю выручку и отправлять гонцов на поверхность. Потому что у нас есть хозяин. Говорят, если слушаться и не пытаться сбежать, хозяин никогда не съест тебя целиком. Я не слушаюсь, я жажду наказания. Иначе зачем мне вам все это рассказывать, правда? Я устал, сломался. Пропитался туннельной мглой, запахами нашей норы, точно выгребной ямы. Но покончить с собой здесь не может никто. Женя тоже жива. По крайней мере, они так говорят. Но встретиться нам не суждено. Она много дней провела в яме под рельсами, пока не оглохла, а потом хозяин съел ее язык. Ни услышать меня, ни позвать она не сможет. Лишь увидеть. А от этого никакого толку, ведь хозяин объел мое лицо, забрав и глаза. Теперь мы с Женей словно покалеченные мухи, застрявшие в паутине метрополитена. Можем находиться рядом, можем спать в соседних норах, но никогда друг о друге не узнаем. Пора заканчивать, за мной уже идут. Дам вам последний совет. Держитесь подальше от калек в метро, не пытайтесь с ними заговорить, не старайтесь помочь. Просто уходите. А особенно опасайтесь четвертованного уродца на инвалидной коляске. Безглазого, безгубого, безносого. Да, этот комок мяса – я. Понятия не имею, что написано на табличке, но прибыль я приношу. Впрочем, речь не обо мне. Сам я передвигаться не могу, и коляску должен кто-то толкать. Не знаю, кого все видят за моей спиной, возможно, он умеет надевать на себя других людей, но… Но я его чувствую. Эти запахи горелого мяса и сожженной собачьей шкуры нельзя спутать ни с чем. Поэтому, если увидите меня – бегите. Бегите, не задумываясь. Наш хозяин всегда высматривает новичков в толпе. Потому что очень любит есть.
Между
Каменный столб рос прямо из глубины – верхушка, точно перископ, едва показывалась над водой. Настя прижалась к холодной глыбе, ухватилась за штырь и прикрыла глаза. Шум волн, брызги в лицо, крики птиц… Нет, она не умерла. Пока еще нет. – Откашляйся, подыши. Женский голос откуда-то сверху. Спокойный, заботливый. Таким хорошо убаюкивать перед сном, и Насте сейчас больше всего на свете хотелось отдаться течению и уснуть. А уже потом, очнувшись у себя в каюте, рассказывать подругам о ночном кошмаре. – Но из воды вылезай. Здесь неспокойно. Голова кружилась, картинка перед глазами плясала, роняя небо на воду. Солнечные лучи отражались в волнах и ослепляли, расползались по морю и дорожкой уходили в чащу облаков у горизонта. Столба было три. Все они на полметра выступали из воды и скрывались в черной бесконечности внизу. На столбе слева стоял тучный мужчина в одних шортах, бритая макушка сияла на солнце, как ангельский нимб. Взгляд толстяка жадно перепахивал волны, словно оттуда вот-вот должна была явиться спасательная подлодка. Женщину из-за двух рыжих косичек, драных джинсов и домашней кофты веселенькой расцветки можно было принять за студентку, но ее выдавало лицо – измученное, тронутое морщинами. Она сидела на столбе справа, по голень опустив ноги в воду. – Живая? Настя оперлась на металлический штырь и взобралась на свободный столб. Присела, осмотрелась. – Пока не знаю. Море было повсюду, темно-синие волны лениво переваливались друг на друга и что-то шептали. Посреди треугольника из столбов высилась труба. В метре от верхушки на нее был насажен железный диск, точно здоровенная гайка. А от него на глубину уходила цепь. – Ничего не понимаю, – удивилась Настя, – а где корабль и остальные? Берег же рядом был… – С «Софии»? – спросила рыжая, умывая осыпанное веснушками лицо. – Откуда же еще? – Так, ну-ка все дружно завалили матюгальники! – перебил мужчина. – Опять эта тварина плывет. Вынимайте грабли из воды и не кудахтайте. Настя недоуменно посмотрела на толстяка, но тут же вытянулась на столбе во весь рост. Потому что в воде мелькнул акулий плавник. Когда жуткая рыбина вплыла в треугольник, угольки ее глаз, открытая пасть, ряды огромных зубов оказались так близко, что до них можно было дотянуться. Брызги облизывали пальцы ног, а Настя пыталась не грохнуться со скользкой поверхности: ее ступни едва уместились на верхушке столба. Обогнув трубу, акула ушла вниз, оставив лишь круги на воде. Прошел час. Настя смотрела в воду, с трудом узнавая себя в отражении: прическа развалилась и торчала темными прядями во все стороны, лицо стало бесцветным, что только подчеркивало природную худобу и острые скулы. Если бы не красивая униформа с вышитым названием корабля, ее легко можно было бы принять за привидение. – Сколько в зеркальце ни смотрись, морда лица ровней не станет! – засмеялся толстяк. Настя боялась свесить ноги в воду, но силы оставили ее. Усевшись на столб, она подтянула к себе короткую цепь, которая прорастала из каменной глыбы и заканчивалась раскрытым наручником. Точно клешня неведомого существа. Такие же кандалы болтались на воде у других столбов. – Что это за место? Кошмар какой-то. – А что не так? – спросил толстяк и улыбнулся. – Не любишь садо-мазо? Настя показала ему средний палец. – В дырке им у себя покрути, костлявая. – Да пошел ты, мудак! – не выдержала Настя. – Видимо, наручники для тебя и оставили. Толстяк заржал. – Они без замков, – сказала рыжая, смыкая наручник вокруг звеньев и тут же размыкая. – Самой можно освободиться. Попробуй, пристегнись. Как ни странно, успокаивает. – Ну уж нет, спасибо. – Все равно бутафория. – Как-нибудь в другой раз. Меня сейчас должны растолкать и сказать, что корабль прибывает в Палермо. И не было никакой катастрофы и тем более вот этих вот столбов. – Хорошо бы… Но я думаю, что с Италией можно попрощаться. Под недобрым взглядом Насти рыжая отвернулась и уставилась туда, где солнце царапало линию воды. Ветер гнал облака в неизвестном направлении, становилось темнее. Море почернело, теперь подводная часть столбов едва просматривалась. Вокруг плескалась мелкая рыба. – А знаете, что я вам скажу, дорогие мои бабы? – почесывая голый живот, проговорил толстяк. – Мы с вами в глубокой жопе, хотя это вы и без меня поняли. Самое смешное другое: я никогда не был ни в Италии, ни на вашей сраной «Софии». Я вообще невыездной. Женщины переглянулись. Настя хмыкнула и покрутила пальцем у виска. – Можете не верить, но мне незачем вам в уши ссать. Наш теплоход плыл по Волге с песнями и плясками, все чин чинарем. А потом вдруг стал переворачиваться. Без понятия, что за херня там произошла. Помню, как грохнулся башкой – и привет. А вынырнул уже тут. Вот вам и Италия, пропади она пропадом со всеми макаронами! Цепь, болтавшаяся все это время у трубы, дернулась, натянулась, лязгнула металлом о диск. Поползла в сторону столба с Настей, затем обратно. Словно секундная стрелка часов, она описала круг у столбов и вернулась к трубе. Теперь цепь вновь висела посреди треугольника, как оставшийся после собаки поводок. Однако по ту сторону был кто-то живой. И теперь он проснулся.Бородач гнал собак вперед. Они выбивались из сил, но бежали сквозь снежные брызги, через метель туда, где под светом красной луны виднелись четыре высокие тени. Сани скользили по замерзшему морю, а собачий лай разгонял призраков безжизненной пустыни. Мальчик спал. Ледяной ветер кусал псов, лицо бородача, но пробраться под слои медвежьих шкур ему не удавалось. Они миновали черные остовы кораблей в тисках льда: фантомы с той стороны. Их оказалось больше, чем в прошлый раз, а значит, все сильнее становился перевозчик. Но даже он не смел нарушить законы этого места. И люди могли его остановить. Нужно было торопиться. Красная луна зажглась еще вчера, открыв путь. Бородач до сих пор не мог поверить, что выбор пал на его мальчишку, совсем еще ребенка. Хотя мужчинами тут становились гораздо раньше, да и само время шло по-другому. Но каждый раз, встречая красную луну, бородач раздевался и выходил к чистому снегу в надежде найти на теле знаки. И каждый раз, не находя их, молился, чтобы они не тронули его семью. Когда знаки пришли к сыну, стало понятно: молитвы море больше не слушает.
Рыжая назвалась Юлей, а толстяк – Миллером. На вопрос о немецких корнях он ответил предложением взглянуть на его могучий корень, и Настя послала шутника куда подальше. Она удивлялась, как этого урода терпит Юля, которую тот называл исключительно Пеппи. Хотя ситуация и без того была сложная, не хватало только друг с другом собачиться. С наступлением ночи море успокоилось. Не слышались случайные всплески, затихли волны, исчезли и птицы, если днем они не почудились. Над забытой в мировом океане троицей зависла огромная луна, налитым кровью глазом наблюдая за тенями у столбов. Цепь больше не шевелилась, поверхность моря не рассекали плавники. И это всех устраивало. – Интересно, нас уже начали искать? – спросила Юля, потирая плечи. – Должны, – ответила Настя, прижимаясь к столбу ногами, чтобы не упасть. Сон так и манил в свои объятия, обещая возможность проснуться совсем в другом месте. В нормальном человеческом мире. – Дуры вы сиреневые, – беззлобно буркнул Миллер, – все в сказки верите. Он закряхтел и с трудом поднялся. Повозился с шортами, и в воду ударила струя. – Фу, – поморщилась Настя, – ты всегда такой мерзкий? – А ты, костлявая, мне предлагаешь отплыть в сторону, чтобы никого не смущать? Я не самоубийца. Наше дело поросячье: обоссался и стой. Настя покачала головой и решила не продолжать разговор. Миллер походил на типичного бандюка, а от таких можно ожидать чего угодно. Раз уж он оказался не обезображен воспитанием, лучше вообще никак не реагировать. Юля молчала, массируя виски. Она говорила мало, короткими фразами. Из нее так и сочилась усталость. Под светом этой странной луны рыжая копна выглядела сотканной из огня. – Юль, а вы долго тут одни торчали? – Нет. Я приплыла первой. Часа через два – он. Ну и ты почти сразу. – А сама ты откуда? Юля обернулась, в темноте блеснули глаза: – Говорила же. С «Софии». – Нет, я про город, – пояснила Настя, поднимаясь и разминая кости. – Я вот из Питера. Сделала себе отличный подарок на день рождения: устроилась на работу мечты. Пускай обслуживающим персоналом, зато отличная зарплата, путешествия, море, романтика… Эх. Контракт на восемь месяцев, и в первом же плавании такое. – Да уж. А я из Новосибирска. Из Академгородка. В кои-то веки решила отдохнуть по-человечески. Копила долго. Ну и вот. – Да насрать на вашу географию! – как всегда элегантно влез Миллер. – Вы лучше подумайте, что мы тут есть будем. Помню, обожрался я как-то морепродуктов, а потом так дристал, что чуть сатана из жопы не вылез. Еле отцепился от меня этот лисий хвост. Ночь тянулась слишком медленно. Укрывшись за тучами, в темноте растворилась луна. Со сном каждый боролся по-своему: Настя делала подобие зарядки, Юля с головой окуналась в холодную воду, а Миллер травил похабные анекдоты, пару раз даже пробудив смех у спутниц. Они заметили черную махину чуть поодаль от столбов, когда луна вновь раскрашивала море красноватым сиянием. Поверхность пересекало длинное тело, рассыпая брызги вокруг. – Красавец! – воскликнул Миллер. Кит выстрелил в черное небо фонтаном воды и ввинтился в море. Настя с улыбкой провожала глазами уходящего в ночь гиганта, который периодически выглядывал из пучин и разгонял тишину причудливыми звуками. Его песня казалась грустной, словно он тоже потерялся посреди этого бесконечного массива воды и пытался позвать близких. Но ответа не было, и вскоре до Насти доносился только шелест волн.
Столбы были метров под сто высотой, но сейчас бородача больше интересовала труба. Вокруг нее он разложил дрова, мох, кости животных, сверху насыпал щепок и облил все тюленьим жиром. Мальчик проснулся и встал с саней, когда бородач высекал искру. Он был совершенно голый, снежные колючки царапали кожу, на которой дышали раны. Знаки. Ему оставалось недолго, и он это чувствовал. Червоточины покрывали все тело, меняя облик ребенка. Залаяли собаки. Бородач повернулся и увидел свет. Вдалеке, у черной кромки льда, двигались огни факелов. Перевозчик. За его упряжкой змеились цепи. Он направлялся к открытой воде, к треугольникам, чтобы вновь попытаться вывести свою лодку в реальный мир. К людским водоемам. Огонь принялся за подношения. Бородач присел у костра, рядом пристроился мальчик. Лепестки огня хватали снежинки и растапливали их в черном мареве. Дым под красной луной приобретал кровавый оттенок. Отец и сын ждали.
– Эй, Пеппи, ты у нас глазастая? Ну-ка, глянь туда. Не мерещится ли мне? – У меня имя есть вообще-то. – Ты лучше не языком чеши, а гляди, куда показывают, – не унимался Миллер. – Это ж корабль! Точно, а?! При слове «корабль» вскочила и Настя. В темноте действительно что-то двигалось. Издалека неразборчивой кляксой к ним приближалось черное судно. – И вправду корабль… – отозвалась Юля. – Только… почему без огней? – Электричество кончилось? Лампочки перегорели? Спички детям не игрушки? – сочинял на ходу Миллер. – Не знаю. Не нравится мне это. Настя с Миллером принялись кричать, прыгать на столбах, звать на помощь. Они срывали голос, но на корабле никак не реагировали. Теперь его можно было рассмотреть получше и убедиться, что он на самом деле мертвый. Ни единого огонька на борту, ни души на палубе, ни шума двигателей. А еще цепи… Ржавая громада была опутана цепями. – Вот же паскудство… Значит, надо самим плыть. Если прохлопаем момент, то никогда этот гребучий крейсер не догоним. Тут всего-то полсотни метров пилить! Настя перевела взгляд на Миллера, затем на корабль. Тот шел по прямой и скоро должен был поравняться с треугольником. Но что там на борту?.. – Лучше остаться тут, – сказала Юля. – Эта махина нас раздавит. – А здесь нас со всем говном сожрут акулы. Я точно валю, а вы как хотите. По цепям наверняка можно вскарабкаться. Или тебе, Пеппи, в кайф на этой каменной дуре куковать? – Я просто… – Ты просто Пеппи, я понял. С тобой каши не сваришь. – Я поплыву, – неожиданно произнесла Настя. Ее трясло, ноги подкашивались. – Вот! Это по-нашему! Настя посмотрела на трубу. Цепь не шевелилась. За черной водой не было видно ровным счетом ничего. – Ну что, тощая, – ощерился Миллер. Казалось, этот отвратительный тип никогда не унывает. – Как говорится, кого сожрет акула, тот в море больше купаться не будет? Готова? – Нет. – Вот и отлично. Бомбочкой! Миллер плюхнулся в воду с залихватским криком, с брызгами. Следом прыгнула Настя. Когда она вынырнула на поверхность и стала нагонять Миллера, до нее долетел лязг цепи. – Стойте! – крикнула Юля будто бы с другой планеты. Настя очень хорошо плавала, поэтому поравнялась с толстяком Миллером довольно быстро. А еще ее подгоняла цепь, металлическим хвостом тянувшаяся прямо за ними. Вода вокруг забурлила и вспенилась. Едва почувствовав прикосновение снизу, Настя набрала воздуха в легкие. Тварь дернула с такой силой, что чуть не оторвала ногу. Захлебываясь, судорожно перебирая конечностями, Настя открыла глаза. В черном вакууме двигалось чешуйчатое существо. В облаке пузырей кувыркался Миллер, воду рассекала цепь. А из глубины поднимались лица. Тысячи лиц. Настя вынырнула на поверхность, вдохнула и зашлась в кашле. Тварь утащила ее обратно к столбам. Рядом матерился Миллер. Красная лунная дорожка перечеркивала треугольник. Настя вскарабкалась на столб и взглянула вслед кораблю. Тот быстро удалялся от них, а потом вдруг накренился и бесшумно ушел на глубину. Сгинул в одно мгновение, словно всем он лишь приснился. По морю прошла рябь, задрожали столбы. Над водой пронеслось протяжное урчание. – Что это за море, которое пердит, как сраное болото?! Что это за место вообще?! Юля заплакала, Настя подняла голову к луне. Никто Миллеру так и не ответил. Рассвет прогнал страхи, но теперь здесь веяло безнадежностью. Все понимали, что им не выбраться. Цепь как ни в чем не бывало обвилась вокруг трубы, подводная тварь затихла на глубине. Солнце обещало издевательски хороший денек. У Миллера наконец остановилось кровотечение – во время ночной суматохи он распорол бровь о столб. Не без помощи их нового друга. – Да не хотел нас угробить ихтиандр этот, зуб даю. Он даже кильку какую-то от меня отогнал, могла ведь и сожрать. Хотел бы убить – утопил бы давно. Похоже, ему надо, чтоб мы тут заседали. – Он сплюнул в воду и потер рану. – И ведь не для прикола он меня рылом в столб ткнул. Там на небольшой глубине какие-то надписи были или рисунки. Прямо на столбе вырезанные, типа как на пирамидах этих. Не видно ни хера, зато рожа почувствовала будь здоров. Миллер нырять отказался, Юля вообще никакого интереса к новости не проявила, так что Насте пришлось все делать самой. Нужно было разобраться. Хотя призрачные лица в воде до сих пор стояли перед глазами и пугали ее не на шутку. Не говоря уже об акулах. Настя погрузилась под воду и стала изучать изображения, высеченные на гранях столба. Два овала моря наплывали друг на друга, образуя восьмерку. Фигуру перечеркивали четыре вертикальные линии: очевидно, столбы с трубой. Сросшееся море казалось живым существом – в центре рисунка, точно исполинское око, находился клубок цепей-щупалец, которые расползались по воде и обволакивали столбы. Роль зрачка в этом чудовищном глазу выполняло изображение лодки. Настя выныривала, делала вдох и возвращалась к рисункам, с которых приходилось соскабливать водоросли. И с каждым погружением общая картинастановилась чуть яснее. По обе стороны столбов были люди, причем те, что снизу, изображались кверху ногами. Это напоминало детские рисунки Земли, где жители другого полушария всегда оказывались вверх тормашками. Перевернутые человечки жгли костры, молились и как будто привязывали кого-то к трубе. На следующей серии рисунков лодка, связанная с системой цепей, плыла сквозь многочисленные треугольники на воде. Ползла через свои владения, словно паучиха, проверяющая паутину. Люди со столбов прыгали в лодку, и когда на треугольнике никого не оставалось, тот уходил на глубину. А цепи рассыпались. В конце концов все треугольники исчезали, лодка полностью освобождалась от цепей и переплывала в новое море. Оно тоже было изображено в форме овала, только вместо столбов внутри угадывались очертания земных континентов. И вся вода была наполнена человеческими лицами.
Прорубь открылась, и в черной воде мелькнуло лицо бородача. Он схватился за рычаг на трубе и с силой его опустил. Заскрипели древние механизмы, труба завибрировала. Мальчик подошел ближе и посмотрел в темный провал. Мелкие льдинки расступились, и из воды выскочил металлический диск. Он звякнул у перемычки наверху и застыл. В прорубь от него уходила массивная цепь. Бородач надел варежки, перехватил звенья и потянул. Подключился и сын. Вдвоем они тащили страшный улов, скользили по льду, упирались и снова тянули, пока не достали из черной воронки тело. Души от него мало что оставили, но кости сохранились, кое-где просматривалась и чешуя. Бородач вынул из кармана ключ и снял с трупа ошейник. Оттащил тело в сторону и накрыл шкурами. Теперь предстояло самое трудное. Мальчик подошел сам, уже готовый исполнить предназначение. Бородач очистил ошейник в снегу и сомкнул оковы на шее сына. Регуляторами подогнал их под меньший размер, зафиксировал ключом и проверил цепь. Все держалось как надо. При такой конструкции самостоятельно освободиться невозможно. – Я… – промямлил бородач. – Я не знаю, что сказать. Мальчик кивнул. Червоточины на его теле расширялись, сквозь кожу лезла чешуя, зрачки меняли цвет и форму. Бородач обнял сына и подошел к рычагу. – Прости. Это из-за моих грехов. Надеюсь, следующим буду я. Он вернул рычаг в вертикальное положение, и диск с большой скоростью помчался вниз по трубе, увлекая на глубину и цепь. Когда произошел рывок, мальчик уже наполовину погрузился в прорубь.
Настя раскрыла наручник. Потянула к запястью и стала потихоньку сводить металлическую клешню. Притормозив, оглядела остальных. Юля, будто в трансе, наблюдала за процессом, по ее щекам текли слезы. Миллер покачал головой: – Не дури, тощая. Настя опустила взгляд на руку: кисть все еще свободно вынималась. – Давай уже! – закричала Юля. – Тупая ты сука, давай! Настя бросила цепь, и та повисла у столба, как оторванный телефонный провод. – Нет! – Юля едва не перешла на визг. – Я не останусь! Хватит! Я больше… Только не я… Не я… Солнце забралось на самую верхушку неба, просвечивая облака насквозь. В белоснежных зарослях появились вороны, наполняя тишину гулким карканьем. Ветер обдувал узников столбов и играл цепями. Когда Юля успокоилась, Миллер заговорил: – Давай, Пеппи, рассказывай. Что за срань тут творится? – Он придет сегодня ночью. Лодочник. Захочет забрать всех троих. Потому что все мы должны были умереть. Может, и умерли, не знаю. Но, раз попали на треугольник, значит, есть шанс. Значит, море решило, что нам еще рано. Вы видели их? В глубине? Вот они точно умерли. А мы… – Пеппи, тебе голову напекло? – Я пыталась утопиться. Дома. Просто легла в ванну в этой самой одежде и стала захлебываться, пока не навалилась темнота. Никаких кораблей, как вы понимаете. Но это море дало шанс все осознать. Понять свою ошибку. И сделать что-то важное, ведь не просто так мы здесь. – А я-то думал, это меня об столб шарахнули. Юля грустно усмехнулась: – Наверное, это место – что-то вроде чистилища для утопленников, не знаю. Но, чем бы оно ни было, его надо обязательно сохранить. – Так ты не с «Софии»? – спросила Настя. Юля покачала головой: – Нет, прости. Название корабля на форме прочитала, ну и… Миллер оживился: – А нашей тощей пристегнуться советовала, красава! Не проканало, правда. Бывает. Юля закатала штанину на ноге и показала глубокий след от оков на коже. – Да потому что я тут уже полгода! И свою вину искупила! Понятно вам?! Она оглядела остальных и зажмурилась. По щекам поползли ручейки. – Ты сама видела лодочника? Юля кивнула. – Куда он нас отвезет? – Не знаю. Хочется верить, вернет назад. – Что за тварь сидит внизу? – Да не знаю я. Знаю только, что нельзя эту лодку выпускать к нам. Миллер засмеялся. – Значит, вариант первый. Один из нас тут остается, а двое других с капитаном Немо плывут туда, не знаю куда. Вариант второй. Мы всей толпой плывем хрен знает куда, но тогда может случиться лютый апокалипсис. Обосраться! Вот это я понимаю – гульнуть в выходные! Юля рассказала все: и о предыдущей троице, и о жребии из пуговиц, и о том, как у нее через пару дней пропали жажда с голодом, и о диске на трубе, который ушел под воду ровно в тот момент, когда расстегнулись кандалы. Пришла ночь, а с ней и красная луна. У Насти уже голова раскалывалась от рассуждений и догадок. Казалось, все это происходит не с ней. – Ах у ели, ах у елки, ах у ели злые волки… – пел Миллер, скручивая из водорослей шарик. Сейчас он по-настоящему нервничал. – Если разобраться, я бы и сам за пару месяцев на поганом столбе придумал и загробный мир, и демонического морского таксиста, да хоть отряд тюленей-разбойников. Лично меня эти каракули ни в чем не убеждают. Да даже если и нужно оставлять, мать его, дежурного, почему обязательно мы? Тощая же сказала, что на картинках херова гора треугольников была! Из воды выпорхнула ворона и села на трубу. Ковырнув клювом железо, с любопытством стала разглядывать людей на столбах. Она поворачивалась против часовой стрелки и, когда дошла до Миллера, залилась мерзким карканьем. – Да пошла ты, без тебя тошно! – Миллер швырнул в птицу шарик, и та поднялась в воздух. – Теперь хоть ясно, откуда вы повылезли посреди моря. Настя закрыла глаза, пытаясь собрать мысли в кучу, тяжело вздохнула и начала говорить: – Мы же спаслись, правильно? Должны были утонуть, но очутились здесь. А сколько людей было до нас? Сколько еще будет? Если мы утопим треугольник, а он окажется последним… – Слышь, тощая, да мы вообще хер знает где! Застряли, как сопля между этажами. С чего ты вообще взяла, что чертов лодочник не свезет всех дружно в ад? – Тебя, может, и свезет. – Эта штука внизу… – Юля указала под воду. – Она не пыталась запихнуть нас в наручники. Хотя, наверное, могла. Так что выбор только за нами. Может, это такая проверка. Спасение нужно заслужить, спасая других. Оставить грехи здесь, очиститься. – Аллилуйя! – Миллер взмахнул руками. – Пеппи уже как сектант шпарит! Если вам так хочется, очищайтесь тут на здоровье, спасайте каких-то там выдуманных людей. Я лично намерен отсюда сдристнуть. Любой адский Зажопинск меня устроит больше, чем отсидка на кончике какого-то сраного трезубца. На трубу присели сразу две вороны. Настя подняла голову и в изумлении открыла рот: над ними кружила черная пернатая туча. – Он уже плывет… – прошептала Юля. – Ребята, решайте. Второй раз я не выдержу… Миллер истерически заржал, бубня неразборчивые ругательства. – Я согласна на жребий, – робко сказала Настя. – Но ты ведь мужчина, мог бы… – Ишь как запела! – перебил Миллер. – Да вы же, бабы чугунные, все время за равноправие боретесь, так? Ну так какие проблемы? Давайте, в бой! Настя не могла решиться на такое, просто не могла. Полгода одиночества тут… А если год? Или вечность? Юля, съежившись на столбе, бесшумно плакала. Миллер бултыхался в воде, стучась головой о цепь. У него опять пошла кровь из раны, но теперь акулы его ничуть не беспокоили. – Ладно, – сказал он мрачно, – уболтали, суки драные. Я останусь. Женщины встрепенулись. Юля вытерла слезы и заговорила: – Спасибо, это очень сме… – Тихо-тихо, – перебил Миллер. – Есть одно условие. Вернее, даже два. – Он оскалился. – Вы обе прямо сейчас раздеваетесь, и я оттрахаю каждую так, чтобы глаза на лоб полезли. И не надо удивляться. Мне еще полгода без бабы здесь яйца высиживать. Так что до прихода лодочника ваши тушки в моем распоряжении. Ну или цепляйтесь сами, наручники есть у всех. Настя посмотрела на Юлю, которая, казалось, выплакала все веснушки. Та тихонько проговорила: – Какая же ты все-таки мразь. – Лады, наше дело предложить. Миллер крякнул и забрался на столб. – А как же «тощая» и «костлявая»? – ехидно спросила Настя. – Сухие дрова жарче горят… – пробурчал Миллер и заржал. Через час с неба на волны опустилось облако сажи. К столбам плыло пятно тумана, за которым тянулись черные птицы. Море довольно урчало. Раздался громкий щелчок, и женщины повернулись к Миллеру. Его ногу обвивала цепь. – Да пошутил я, пошутил. Такая уж натура, не держите зла. Тем более что вы и впрямь слишком тощие. Все равно что смерть с косой оприходовать. Он грустно улыбнулся. Перевозчик был рядом, из тумана торчал нос лодки. Треугольник затягивало белой дымкой. Юля спустилась в воду и подплыла к Миллеру: – Спасибо тебе. Правда. На самом деле это не так страшно, как кажется. – Ага, конечно. Лодка заплыла в центр треугольника и уперлась в трубу. У весла стояла почти трехметровая фигура в пепельном балахоне, чуть дальше виднелись другие люди. Юля быстро чмокнула Миллера в щеку, подгребла к лодке и перевалилась через деревянный борт. Настя до сих пор не могла поверить в такую развязку. Оказавшись в воде, она оттолкнулась от своего столба и добралась до Миллера. Фигура перевозчика нависла над ними огромной тенью. – Ну ты даешь, – произнесла Настя, качая головой. – Скажи мне только одно: ты же нормальный мужик, зачем выставлять себя таким ублюдком? Весло упало на воду, и по днищу лодки застучали тяжелые шаги. – Наверное, потому что я такой и есть. Миллер схватил Настю за руку и сомкнул кандалы на ее запястье. Да, цепь была обмотана вокруг ноги, но сама клешня первый раз щелкнула вхолостую. Миллер обманул. – Зря ты прощаться удумала, свалили бы втроем. Но раз сама приплыла, то на всякий случай спасем мир. – Миллер улыбнулся и подмигнул ей. – Не скучай, тощая. Перевозчик швырнул Миллера в лодку и схватился за цепь. Дернул с силой, еще и еще. Поднимал, пока висящая на цепи Настя не закричала от боли, и только потом отпустил. Когда девушка забралась на столб, лодка уже уходила. Капюшон перевозчика скрывал лицо, но волны ненависти чувствовались даже с такого расстояния. Туман уплывал вслед за хозяином, забирая с собой и воронье. А Настя, едва дыша и уже не сдерживая слез, смотрела вслед исчезающей лодке, пытаясь в последний раз разглядеть человеческие лица.
Прорубь затянулась буквально на глазах, и бородач погрузил труп на сани, чтобы потом его по-человечески похоронить. Растормошив собак, он развернулся в сторону селений и погнал упряжку к дому. Обратная дорога была быстрее, ведь собаки не любили моря и неслись от него изо всех сил. Работу здесь он закончил. По крайней мере, до следующей красной луны. Встречный ветер щипал лицо, тревожа старый шрам над бровью. Замерзшее море оставалось позади вместе с воспоминаниями. Бородач закутался в меха и прикрикнул на собак. Дома его ждали жена и трое рыжих, как само солнце, ребятишек.
Твари из Нижнего города
Вниз взглянула рыбьим оком Недовольная Луна — Там, тумана поволокой Город скрыт, в объятьях сна Пребывает безмятежный, Спят спокойно млад и стар. Только нет уже надежды — От прибрежных черных скал Рыбы движутся отрядом, Позабыв извечный страх, Человек, не жди пощады — Кровь сверкает на зубах. Этой ночью вышли рыбы Человечье мясо есть, В эту ночь познают рыбы, Что такое злая месть. «Человек хорош покойным» — Приговор у рыб таков… А пока что спит спокойно Мирный город рыбаков.Крысы мешали спать вторую ночь подряд. Пока молнии перечеркивали больное небо Нижнего города, а дождь затапливал подворотни, рядом копошились эти твари. Местное пойло не помогало отключиться, ведь шорохи в стенах и полу проникали даже в сон, обращаясь новыми кошмарами. Лампы вокруг устроенной в кресле постели горели до утра, и грызуны не показывались. Но я чувствовал их присутствие, как и они – мое. Потому что зверь всегда чует другого зверя. По стеклу сползала мутная жижа, размазывая вид на трущобы. Озеро приближалось. С каждым годом оно увеличивало границы, пухло, пожирало берега, принося в жертву своему главному обитателю рыбацкие бараки. Накинув плащ, я открыл окно, выбрался на решетчатую площадку обрубленной пожарной лестницы и закурил. Дождевые капли заплясали вокруг башмаков, а струйка дыма едва не утонула в потоке воды. Никаких высоток, никакой техники, никаких верениц газовых фонарей. Все это осталось в Верхнем городе. Здесь властвовал мрак. Заводские трубы выплевывали в небо облака копоти, и над уродливыми домишками нависали черные тучи, не давая выглянуть солнцу. Трущобы напоминали живой организм. Они росли вдоль береговой линии, к ночи расцветая огнями костров и пожаров. Тысячи прижатых друг к другу комнатушек, больше похожих на собачьи будки, сплетались в медленно уходящий под воду лабиринт. Где-то там и должен был прятаться убийца Анны. Пятиэтажная ночлежка в этой части города выглядела настоящим небоскребом. Выплюнув потухшую сигарету, я поднялся на крышу. Флюгер порос ржавчиной, но стороны света на нем все еще узнавались. С юга тянулась единственная нормальная дорога в Верхний город, с которым меня теперь ничего не связывало. Не считая пресвятых карточных долгов. Одинаковые здания топорщились из земли, будто перевернутые кружки на стойке грязного кабака. Бары, притоны, подпольные игровые клубы и сутенерские помойки – всего этого здесь было едва ли не больше, чем обычных жилых домов. Поймав новый порыв ветра, флюгер заскрипел костями и повернулся ко мне. На север. – Куда пялишься? – спросил я уродца, что напоминал ежа. Хотя дураку понятно, чье изображение поставили на крыше. Я тоже развернулся и взглянул на темно-синие волны вдалеке. Утренний туман поднимался из низины, где оживали трущобы. Озеро казалось бескрайним, словно и не было остального мира за кромкой воды. Вспомнились кошмары, что начались, как только я заселился в «Морок». Перед глазами встали рыбаки… Фанатики считали, что сказывалась близость к нему, не зря ведь Обитателя озера называли еще и Властителем мертвых снов. Если раньше подобная чушь жила только в мозгах рыбаков, то теперь и самые обычные люди верили в этот бред. Газетчики, психи, любители легкой наживы и народная молва превратили спящую на дне тварь в древнее божество. Служители культа Глааки были довольны. Вторая пожарная лестница спускалась с другой стороны здания, плюс дверь на чердак еле держалась на одной петле. В случае чего уйти можно было через крышу. Но эти же ходы наверняка пригодятся и незваным гостям, если тем хватит ума искать здесь. А искать они начали еще вчера. В комнате было тихо, движение в гнилых перекрытиях исчезло с наступлением утра. Разложенная на столе колода вновь предвещала неприятности. Карты всегда помогали мне заработать на жизнь, от подростковых игр на сигареты с друзьями до закрытых турниров с участием городской верхушки сейчас. Они давали мне очень многое, ничего не прося взамен. Как выяснилось, просто выжидали момент, чтобы забрать все и сразу. Удача, как и любая опытная шлюха, вмиг перекинулась к другому, ведь всегда найдется тот, у кого и кошелек потолще, и член побольше. Но карты все еще говорили со мной, пускай теперь я сам надеялся на ошибку. Черный джокер Глааки приходил раз за разом, исключая возможность совпадения. Проститутка очнулась. В заплаканных глазах отражался страх, на запястьях под веревкой проступили кровоподтеки. – Ну что, надумала говорить? – Она послушно закивала, и я вынул кляп. – Мне нужен великан. Уродец из рыбаков, одноглазый. И у меня мало времени, так что советую переходить сразу к делу. – Если ты думаешь, что я работаю одна, – процедила назвавшаяся Евой шлюха, – то ты конченый. Знаешь, что с тобой сделают? Знаешь?! Наряд проститутки ей подходил: молодое тело в нижнем белье пряталось под коротким плащом, который едва прикрывал шикарную задницу. Стройные ноги в чулках, высокие каблуки, чернильные волосы до плеч – для местных уродов слишком хороша. К животу присосалась татуировка в виде осьминога. Верхние щупальца поддерживали крепкие груди, а нижние переплетались друг с другом и заползали под ткань шелковых трусиков. В пупке, который выступал глазом подводного чудища, красовалось серебряное кольцо. Назвать Еву красавицей мешали только синяки на ребрах да исколотые до черноты вены. – Меня ищут люди куда серьезнее твоих дружков. Это раз. Я знаю, что несколько дней назад ты с ним виделась. Это два. И если ты не заговоришь, я тебя убью. Это три. Если у меня с такой легкостью забрали самое дорогое, почему я должен ограничиваться в средствах? Анну разорвали белым днем в одном из переулков Верхнего города. Просто так, ради забавы. Через полгода после нашей свадьбы. Оказавшийся рядом полицейский ничего поделать не смог – ему выжгли глаза кислотой. В последние месяцы это превратилось в странный ритуал, на улицах все чаще встречались люди с ожогами вместо глаз, но шумиху никто не поднимал. Что еще удивительнее – калеки не просили помощи у законников, потихоньку привыкая к жизни в вечной темноте. Будто так и надо. Настолько силен был страх. Похоже, чешуйчатые так отвечали на появление молодежных банд, которые отлавливали рыбаков и избивали до полусмерти, запрещая показываться в Верхнем городе. Как бы правительство ни старалось сохранить нейтралитет между людьми и глубоководными, столкновения случались почти каждый день. – Не хочешь по-хорошему? Значит, начнется моя любимая часть. Тогда полиция вздернула пару полубезумных рыбаков и закрыла дело. Однако мне этого было мало. Я наведался к пострадавшему. Полицейский, совсем еще мальчишка, явно недоговаривал. Трясущееся от ужаса тельце выдавало новоиспеченного калеку с потрохами. Боялся он не столько меня, сколько того, о ком не смел говорить. Но я всегда был мастером переговоров. Крича от боли, полицейский выложил все. Анну убил здоровенный рыбак, больше любого из местных, больше многих людей, и вместо правого глаза на лице ублюдка была отпечатана паутина шрамов. А еще полицейский расслышал последние слова Анны: «Только не ты». С тех пор эта фраза поселилась в моей голове. Неужели Анна знала убийцу? Откуда? Спустившись к хозяйке, я взял у нее граммофон и пару пластинок. Музыка и слова на чужом языке наполнили комнату, зазвенели под потолком, отражаясь от оконных стекол. Нашарив в карманах плаща Евы губную помаду, я расчертил ее тело короткими алыми линиями. – Это для удобства. Чтобы ничего не забыть. Потому что теперь я собираюсь по всем этим черточкам пройтись ножом. Смелости в ней поубавилось. – Не надо, пожалуйста! Я достал нож и сделал первый надрез. Ева взвыла, будто передразнивая певичку из граммофона. – Говори. Мне нужен Циклоп. Она плюнула мне в лицо и заверещала: – Сука, сдохни, мразь! Ты сдохнешь! Тут и останешься! Скучно, раз за разом одни и те же угрозы. Когда я вырвал кольцо из ее пупка, Ева клялась, что ничего не знает. Уже прогресс. Но она врала. В Верхнем городе одноглазого не было. Я облазил все места сборищ рыбаков, посетил передвижные цирки уродцев, сходил в глубоководный театр в Центральном парке. Ничего. С помощью немалых денег достучался до чешуйчатых из «верхов», ведь теперь эти твари заседали почти в каждой структуре. Дружба народов, мать их за щупальце. Но ни рыбаки, ни полукровки толком не помогли. Они узнали одноглазого и даже вспомнили имя – Циклоп, только вот в Верхнем городе его никто не видел. Тогда я завел целую сеть информаторов в Нижнем городе, чью работу оплачивали влиятельные и очень азартные люди. Правда, догадались они об этом только вчера, до того мошенничество за карточным столом проходило как по маслу. Беда в том, что и в Нижнем городе Циклопа не было. Он просто исчез, словно знал, что за ним открыли охоту. Два месяца тишины и впустую потраченных денег сменились вереницей долгожданных весточек: Циклоп вновь мелькает среди полуразваленных построек Нижнего города. И как бы я ни тянул с визитом в эту загаженную помойку, как бы ни пытался отмахнуться от детской боязни рыбьих лиц, время пришло. В Верхнем городе меня и то, что уцелело от моих капиталов, искала каждая собака, а в Нижнем ждал своего часа убийца. Все-таки жажда мести способна перебороть любой страх. Я продолжал полосовать красивое женское тело, получая все новые проклятия в свой адрес. Девчонка попалась не из сговорчивых. – И ты вот так просто меня убьешь? – От постоянных криков голос Евы охрип. В нос бил запах крови, мочи и пота. – Без причины? – А что такого? Убийцей я стал, едва появившись на свет. Смотри. – Я показал ей уродливые рубцы на шее. – Петля из пуповины – не лучший подарок новорожденному. Мать была шлюхой вроде тебя, я оказался ей не нужен. Но задушить меня не получилось – она потеряла слишком много крови. Получается, я убил ее, даже не зная, что она хотела убить меня. Забавно, правда? – Ты просто больной. Больной сын шлюхи. – Возможно. Тем хуже для тебя. Я почти вырезал осьминога, когда Ева сбивчиво заговорила. Простыня настолько пропиталась кровью, что на полу собралась целая лужа. – Хватит, хватит, прошу, все, хватит… Я его не знаю, и никто из моих не знает… Живет где-то у озера. – Озеро большое. Точнее. – Да не знаю я, правда, не знаю… Говорят, на одном из островков у северной части, у топей… – Очень мало информации. Понимаешь? У нас ведь с тобой еще и спина не охвачена. – Не надо, прошу! – заскулила Ева. – Его долго не было, а недавно появился, да, наркотики искал, у нас тут все на них сидят, даже рыбаки, почти все… Затейник три дня не приезжал, я сама в ломках, а тут ты… – Затейник – кто такой? – Умелец один, старик, варит, химичит, делает дрянь всякую, кислоту, все подряд, говорят, прямо из крови Глааки делает… – Где живет? – Не знаю. Я вздохнул, окинул взглядом перечеркнутое ранами тело. Теперь Еве придется серьезно скинуть цену на свои услуги. Если, конечно, она выживет. – Я правда не знаю, Затейник сам приходит, сам привозит, к себе никого не пускает… Знаю только, что в трущобах где-то… Отойдя к окну, я достал сигарету. За стеклом свистел ветер, разгоняя остатки дождя. На улице посветлело, высыпал народ, загудели такси. Обычные будни рабочего квартала. – Похоже на правду. Только зачем такие жертвы, почему сразу не рассказала? Боялась, что одноглазый накажет? Этот ваш Циклоп, считай, уже труп. За спиной раздался булькающий смешок. – Не-е-ет… – с улыбкой протянула Ева. – Скорее, ты труп. Потому что Циклоп – особенный. Ты видел его вообще? Все говорят, что со дня на день Глааки проснется… И разбудит его особенный рыбак… И все изменится. – Понятно… – выдохнул я. – Так ты фанатичка. – Я просто верю, что скоро исчезнут ублюдки вроде тебя, глаза которым закрывает ненависть. Те, кто не видят среди рыбаков нормальных… – Они не могут быть нормальными, это грязные мрази, чье место – в их болоте. А лучше – в банке собачьих консервов. – Среди людей мразей еще больше. Я не собирался ничего доказывать. Десятилетия назад все решили за нас, теперь оставалось просто жить в этом мире. Бок о бок со всеми его обитателями. И ждать, чья чаша терпения переполнится раньше. – Кляп вставлять не буду, дыши. Если не обманула, перевяжу, как только вернусь из трущоб. Если обманула, то лучше бы тебе сдохнуть до моего возвращения. На улице меня окружила свора ребятни. Чумазые беззубые оборванцы толкались и пихались, дергая за плащ. – Добрый человек, дай денег! Помоги! На пропитание, добрый человек! А, добрый человек?! – Попрошаек не кормлю, пошли вон! – процедил я. – Зачем попрошаек? – удивился самый длинный, с горизонтальным шрамом на лбу. – За газету! Хорошая газета, добрый человек! Сегодня привезли из Верхнего города, да! Хороший город, хорошие новости! Зверьки заплясали вокруг, а длинный достал из мешка бумажный сверток. Газета была заляпана черными пальцами, но выбирать не приходилось. Не расстреливать же их стаю средь бела дня. – Давай сюда. – Я схватил газету и швырнул мелочь в лужу у тротуара. Дети кинулись к мутной жиже с такой радостью, будто добывали настоящее сокровище. Хотя для них, возможно, так оно и было. Когда я садился в такси, попрошайки уже вились вокруг нового клиента. Таксист помалкивал, чувствуя мое настроение. Мимо проносились серые стены домов и серые лица. Это был серый мир, в котором я чувствовал себя чужаком. Люди как-то приспособились к жизни рядом с животными, но только не я. У меня из памяти еще не вытравились времена, когда мы были хозяевами на своей земле. Когда по улицам не ходили сектанты, предлагая бессмертие в обмен на душу, когда рыбаки жили только у водоемов. Когда спящее на дне озера существо привлекало туристов, а не фанатиков. «Культ Глааки принимает новых послушников». На первой полосе изобразили самого Властителя мертвых снов. Из чудовищного слизня цвета озерного ила топорщились сотни металлических отростков, шкура из железных волос покрывала тварь, словно броня. Где-то в глубине этой массы едва виднелись глаза Глааки, что росли на щупальцах. Вокруг Обитателя озера скучились люди в балахонах, воздевающие руки к своему повелителю. Смотреть на эту мерзость было тошно. Недоумки со всей округи в суеверном ужасе падали на колени перед озерным гигантом, но для меня он оставался всего лишь редким животным. И если вдруг когда-нибудь эта штука проснется, ее можно будет убить. Как и любое другое существо. – Почти приехали, – подал голос таксист. Дождь закончился. Я полистал газету и завис еще над одной заметкой. Как ни странно, она была посвящена человеку. «Очередное убийство человека-рыбы. Тридцать восьмой продолжает охоту». Это был маньяк нового времени, человек, уничтожавший жаберных тварей по всему Верхнему городу уже несколько лет. Трупы находили в парках, у рек, в подворотнях, даже в рыбных лавках. Пресса тут же сделала из него психопата, который разрушает и без того хрупкое перемирие. Мол, мы давно научились жить рядом с рыбаками и даже работать вместе. Только продажные писаки отказывались замечать, как эти лягушкоголовые уроды ведут себя с людьми, когда чувствуют свое превосходство. И разумеется, никто не собирался подсчитывать число жертв с нашей стороны, хотя чуть ли не каждый месяц от перепончатых лап умирали несколько человек. Всем было плевать. До конца дочитать я не успел – в окне уже виднелась линия деревянных развалин. Рыбаки здесь водились не только глубоководные, встречались и обычные старики с бамбуковыми удочками. Но все же у основной массы можно было обнаружить жабры, и мурашки на спине я почувствовал в тот же момент, когда фонари такси растворились в дорожной пыли. С самого детства я и боялся, и ненавидел рыболицых, в их присутствии меня начинало потряхивать. Со своей фобией я боролся как умел, но сейчас на это не было времени. Повсюду ощущалось дыхание озера, от воды несло прохладой и тленом. Под ногами сновали крысы, ничуть не стесняясь человека, а местные жители лишь на мгновение поднимали ко мне глаза и возвращались к своим делам. Кто-то мастерил сети, кто-то запекал на углях странного вида мясо, голая детвора играла с собаками на дорожке, и матери поглядывали на отпрысков из-за кривых заборов. Часть хижин оказалась сожжена, стекол не было. Тропинки становились все уже, дома жались друг к дружке, точно выстраивая неудачную баррикаду, и мне приходилось шагать сквозь чьи-то жилища. На вопросы никто не отвечал, беседовать с чужаками здесь не привыкли. Я углублялся в лабиринт, путаясь в бараках, натыкаясь на одинаковые комнатушки и одинаковые лица. Переплетения стен кружили перед глазами, ведь среди исчезающих троп я давно заблудился, да еще и потерял счет времени. Казалось, либо я вот-вот выйду к самому Глааки, либо окажусь у того места, откуда начал искать Затейника. Наконец я разглядел вдалеке высокий черный столб и двинулся туда, точно сбившаяся с курса шхуна к маяку. Питаемая озерной водой почва кое-где проваливалась, и в очередной луже я раздавил нечто вроде каракатицы. Тварь напомнила осьминога на животе Евы. Я ускорил шаг. Столб оказался сгоревшей сторожевой вышкой, на площадке возле которой из проволоки и арматур собрали памятник Глааки. У железного страшилища в два человеческих роста высотой на четвереньках сидела старуха. Она почувствовала меня, закончила молитву и поднялась. – Ты не любишь Глааки, так ведь? – с ходу спросила она, обратив ко мне выжженные глаза. – Я ищу Затейника. Ведьма протянула руку, на пальцах не было ногтей – только черные углубления. – Ты не любишь Глааки. – Теперь это было утверждение. – Ты знаешь, как найти Затейника? Я могу заплатить. – Глааки дарует тебе бессмертие, но ты должен верить. Должен почитать могущественного Древнего, величайшего из великих. Ты должен верить, и тогда у тебя будет шанс стать слугой Глааки. Затейник не верил, он принес в наш общий дом заразу и погубил себя. Глааки никогда не дарует ему вечной жизни! – Погубил? Что с ним? – Он стал жертвой своих деяний. Это кара, кара Глааки! Чокнутая фанатичка опять рухнула на землю перед статуей, яростно прожевывая очередную молитву. Это скрюченное существо уже мало походило на человека, закапываясь седыми патлами в придорожную грязь. Я подошел и развернул старуху к себе: – Слушай меня очень внимательно. Сейчас я оторву тебе голову, и никакой Глааки обратно ее не пришьет, поняла? Но ты можешь спастись. Просто скажи, где Затейник. Старуха тряслась всем телом, только сейчас сообразив, чем ей грозит наша встреча. Сухой рот открывался беззвучно, точно рыбий. Наконец она произнесла: – Иди вниз к озеру. Там, где земля становится болотом, найдешь его хижину. Ее сожрала зараза, сожрет и тебя. – Я рискну. – Затейника искали три дня назад. Его уже нет, его давно нет! Я бросил старуху на землю и поднялся. – Это мы еще посмотрим. – Я буду молиться за тебя, чужак. Потому что Глааки вот-вот проснется, и теперь он тебя не пощадит. Особенный уже знает, как разбудить его. А ты будешь умолять о простой смерти. Но Глааки не послушает. Он окунет тебя в кошмар! – Ваш Глааки – это вонючая лужа рвоты, вот и все. Болотная тварь, которую кучка идиотов считает божеством. И скорее вы сами подохнете в своих трущобах, чем эта гниль выползет наружу. Про Особенного уже слышал. Как раз его я и собираюсь убить. Чем ниже спускалась тропинка, чем ближе становилось озеро, тем мрачнее делалось вокруг. Живой свет уходил из этих мест, и во встречных бараках загорались огоньки. Шлепанье чужих лап за спиной я услышал пару минут назад, но оборачиваться не стал. Башмаки промокли насквозь и мешали идти, и я невольно позавидовал преследователям, которые шли босиком. Жилище Затейника смахивало на металлическую пещеру – округлой формы здание трубой уходило в землю. Снаружи оставались сплетения проводов и кабелей, которые врастали в серебристые стены. В темноте чудилось, что они пульсируют, будто дублируя удары огромного сердца. Заходя внутрь, я оглянулся. Минимум четыре тени ползли следом сквозь сумерки, уже ни от кого не прячась. Спички в кармане не промокли, и душную темноту разогнало маленькое пламя. Стальные вены расходились повсюду, вонзаясь в странные образы на стенах. Змеевидные щупальца, сотканные из проволоки конечности, похожие на лица узоры и механические детали с шестеренками и трубками… Помещение словно вылепили из железа и плоти. Я шел вдоль стен и зажигал все новые и новые спички, разглядывая соединения проводов и человеческих тканей. На меня смотрели червеобразные отростки, вьющиеся вокруг металлических костей… И тут я увидел старика. Он был сожран стеной и распят на черном кресте. Ноги почти исчезли, руки покрывала масса из проводов, а развороченное туловище будто расплавили кислотой. Запечатанный в алюминиевой бороде рот навсегда замер в крике. – Он принес в наш дом заразу, – вдруг повторил я за старухой, – и погубил себя. Рыбаки стали входить. Похоже, им надоело караулить меня снаружи. Я уперся в стол и стал перебирать банки, шкатулки, коробки, открывать ящики и колбы. Ничего, никакой химии. Если тут что-то и оставалось, то все унесли до меня. Не тронули только гору металлолома, из которой я вытянул нож. Потухла последняя спичка. – Ну что, лягушата, – сказал я, доставая любимый короткоствольный револьвер. Глаза привыкли к темноте, черные фигуры стояли в нескольких шагах от меня, блокируя выход. – Как вы думаете, какого калибра эта штука? По пещере поползло заменявшее им речь гавканье. Они разевали рты и издавали звуки, от которых сводило зубы. В пальцах нарастала дрожь. Но на этот раз страха в ней было меньше, чем предвкушения. – Правильно, лягушата, – прервал я их блеяния. – Револьвер у меня тридцать восьмого калибра. Тридцать восьмой! Слышали о таком, мрази?! Я выстрелил в ближайшего рыбака, и тот с пробитой головой откинулся назад. В короткой вспышке света я прочитал тревогу на их мордах, ведь, конечно же, они обо мне слышали. Выстрел – и на землю повалился второй рыбоголовый. Кто-то бросился бежать, но остальные оказались смелее. Я всадил в рыбаков еще три пули, ощутив склизкую кровь одного из них у себя на лице. С утробным воем из темноты вылетел глубоководный с острогой. Я нажал на спуск, но рыбак успел пригнуться. В ту же секунду у выхода согнулась чешуйчатая тварь. Барабан был пуст, все пули нашли новых хозяев. Увернувшись от удара, я ногой воткнул рыбака в стену. Он отбросил оружие и вцепился мне в плечо. Повалил на землю. Зубы-лезвия без проблем разорвали плащ и пустили кровь. Я закричал, пытаясь удобнее перехватить нож. Рыбак, почуяв теплую плоть, стал вгрызаться еще сильнее. Одной рукой я старался не пустить его к шее, а другой нанес удар. Нож вошел прямо в жабры. Несколько сильных рывков – и хватка ослабла. После новых ударов из горла твари потекла вонючая вода, и я отбросил труп. Жилище Затейника превратилось в молчаливый склеп. Из трущоб я выбирался бегом, насколько это возможно. Плечо ныло и кровоточило, но задерживаться я не имел права. В темноте мерещились нескладные силуэты, над развалинами громыхали крики рыбаков. Меня спас их собственный страх. Знай эти лягушачьи мозги, что знаменитый Тридцать восьмой не наскребет патронов даже на барабан, – похоронили бы прямо здесь. Угнав грузовик для перевозки рыбы, я не снимал ногу с педали газа до самого «Морока». В машине пахло рыбой. У входа в «Морок» стоял странный тип в шляпе, слишком хорошо одетый для этих мест. По дороге, огибая пьяниц, носились дети-попрошайки. Тип в шляпе мне не нравился. Он воровато озирался по сторонам, не вынимая рук из карманов серого плаща. Грузовик я остановил через дорогу от ночлежки и выходить не спешил. Я мог и не возвращаться в номер, но привык выполнять обещания. Ева не обманула, хоть Затейник мне ничем и не помог. Самое главное: в номере осталась колода, а ее, в отличие от окровавленной проститутки, я бросить не мог. Я вытащил из кармана патроны и зарядил револьвер. До полного барабана не хватило одной штуки. Придется наведаться к местному оружейнику. В другом кармане был нож из пещеры Затейника. Теперь, при свете, его можно было рассмотреть. Он вряд ли принадлежал старику, потому что на рукоятке красовалась золотая лампа, идеальная тюрьма для джинна. А такую эмблему я уже встречал.Алексей Грибанов. Вертер де Гёте, «Рыбье око»
– Добро пожаловать в «Лампу Альхазреда», вам столик на одного? Я огляделся. Среди редких обитателей бара на охранника тянул только один, остальные не смогли бы поднять ничего тяжелее стакана. – Веди к главному, быстро! Миловидная блондинка наморщила носик: – Не поняла… Я достал револьвер и повторил. В этот раз девчонка оказалась понятливей. В кабинете было накурено, за столом сидели два жирных борова и играли в карты. От количества перстней на руках рябило в глазах. – Ты еще кто такой? – спросил лысый, и я заметил у него жабры. – Меня зовут Тридцать восьмой. За спиной заскулила дверь, и в комнату протиснулся здоровяк в свитере. Увидев оружие, он попытался схватить меня за руку, но реакции ему явно недоставало. С пулей в груди он осел на пол, разрисовывая дверь собственной кровью. Блондинка прижалась к стене, прикрывая рот. – Что вы забрали у Затейника? Ко мне развернулся второй толстяк, чья борода напоминала засохший куст: – Эй, ковбой, остынь, зачем так нервничать? Я выстрелил ему в голову. – Мне некогда. Повторить вопрос? Полукровка вскочил с места и отворил шкаф. Вытащил четыре склянки с разноцветными порошками, разложил на столе. Он выворачивал наизнанку все свои схроны, стараясь не показывать перепонки между пальцев. – Послушай, парень, это очень сильные наркотики. Очень. Мне не жалко, забирай, но с ними нужно обращаться умело. Да и все тебе точно не понадобятся, понимаешь? – Полукровка вытер испарину с лысины и покосился на мертвого бородача. Блондинка всхлипывала уже из-под стола. – Может, попробуем договориться? Затейник свихнулся, мы просто решили… – Что еще? Это все, что вы взяли? Полукровка засуетился, вытряхивая из сумки разную мелочь: – Да, все, а что там еще брать, этот псих чуть ли не из себя какое-то зелье варил. Он умер? Мы его не убивали, если что. Там какая-то чертовщина творилась, стенки шевелились, как внутренности какие. – Он бросил взгляд на выросший посреди стола холм наркоты. – Пойми, это очень большие деньги, а я задолжал серьезным людям. Ты, конечно, можешь меня убить… «Все мы кому-нибудь должны», – мелькнуло в голове. Но вслух я сказал: – Хорошая идея. Пожалуй, так и сделаю. Если только у тебя нет нужной мне информации. – Расскажу все, что знаю. – Я ищу Циклопа. Рыбака. Слыхал о таком? Затейник мог знать, где он живет. В дверь вломились двое доходяг с обрезами. Один с ходу пальнул. Треснула стена, комната задребезжала. Завопила позабытая под столом девка. Я откинулся на пол и двумя выстрелами успокоил обоих недоделанных снайперов. Второй так и не сообразил, в кого нужно целиться. – Отошел к стене, быстро! – отогнал я полукровку, принимаясь потрошить сумки. – Еще охрана есть? – Н-н-нет… – выдавил он. Затем набрал воздуха в легкие. – О Циклопе я немножко могу рассказать. Я уже нашел кое-что интересное среди хлама Затейника. Это была карта Нижнего города. С пометками. Очень хотелось верить, что крестиками обозначены обиталища клиентов. – Слушаю. Полукровка откашлялся, корябая переносицу длинными ногтями: – Пару месяцев назад сюда нагрянули люди из Верхнего города. Агрессивный молодняк. Сняли склад, и больше их никто не видел. Ну сняли и сняли, кому они нужны… Но с неделю назад выяснилось, что они там делали. Девчонка вдруг завыла так громко, что я чуть не выстрелил. – Эти молокососы отлавливали рыбаков, – продолжал он, – и сажали их в клетку. А потом ждали. Слышал о методе крысы? Это когда крыс запирают в одном месте без еды, и от голода они начинают жрать друг друга. А когда остается одна, то мозги у нее уже набекрень. Она не может есть ничего, кроме крысятины. Ее выпускают, и тварь начинает жрать сородичей. – Крысиный король, – усмехнулся я. – Вроде того. То же самое сделали и с рыбаками. Два месяца продержали там. Два месяца они жрали друг друга. Нужный тебе Циклоп как раз и оказался этим крысиным королем. А теперь он убивает всех подряд. Не только рыбаков. И если ты собрался его грохнуть, я даже могу тебе приплатить. И не я один. Это многое объясняло. Значит, в какой-то степени мы с Циклопом делали одно дело. Что ж, пусть так, но все равно придется его пристрелить. Убийство моей жены – преступление намного страшнее, чем попытка пробудить древнего бога. Странно, что полукровка не завел речь о божественном предназначении Циклопа. Выходит, даже среди рыбаков не все повернуты на этой псевдорелигии. – Это встанет вам в хорошую сумму, – пробурчал я. – Очень хорошую. Но мертвого Циклопа вы получите. Только не думай, что я решил на тебя поработать. Просто мне надоело брать деньги просто так. А с одноглазым у меня свои счеты, я в любом случае его убью. Как и тебя, если попробуешь обмануть. В вестибюле «Морока» было пусто. Отперев дверь номера, я застыл на месте. Музыка оглушала так, что крысы должны были удрать даже от соседей. Но все произошло наоборот. Твари слезли с кормушки, только когда я пнул кровать. Повсюду мелькали хвосты, лапки, пропитанные кровью шкуры. Крысы – некоторые размерами напоминали взрослых кошек – разбегались по комнате и уходили через невидимые щели. Глаза и рот Евы были раскрыты и полностью передавали тот ужас, что испытывал обездвиженный человек, пока грызуны отщипывали от него кусочки. Я поморщился. Это было уже слишком. Такой участи для девушки я не желал. Стены затрещали, в полу началась вибрация. Плотоядные обитатели «Морока» не хотели отходить от праздничного стола. Я наскоро перевязал плечо и разложил на столе карту Нижнего города. Если не считать трущоб, Затейник отметил только один объект у озера. Как и говорила Ева – островок у северного берега. У топей. Один из многих. Теперь я знал, где искать Циклопа. В окно постучался дождь, заворчали небеса. Игла давно соскочила с пластинки, погрузив комнату в тишину. Я никогда не жаловался на слух, поэтому шаги на пожарной лестнице тайной не стали. Они приближались. Я спокойно сложил карту, убрал ее в карман плаща и достал револьвер. Когда за тусклым стеклом возник человек, я выпустил в него пулю. На меткость я тоже не жаловался, и гость из Верхнего города свалился вниз. Распахнулась дверь, и в комнату ворвался еще один. Я стрелял и стрелял. Давил на спусковой крючок, целился в голову, в сердце, в пах.Незнакомец лишь улыбался, держа меня на мушке. – Опустел, как я погляжу? Вот это невезуха! – ощерился он. – Меня зовут Блоха, и ты поедешь со мной. Он подошел к окну и посмотрел вниз. – А ты молодец, – похвалил Блоха, почесывая рыжую бородку. – Уважаю. За твою задницу обещают хороший гонорар, а теперь и делиться не с кем. Давай, на выход! Передо мной стоял худощавый юнец, тот самый тип в шляпе и сером плаще. Револьвер в его руке ходил ходуном. Парень чуть ли не пританцовывал, нервно обводя взглядом комнату. Блоха как блоха. – Я хочу взять свои карты. – Карты?.. – удивился Блоха. – Тебе мало, что ли? Еще поиграть решил? Я двинулся к столу, и он прилип к стене, давая дорогу. Из-за его поведения казалось, что он вот-вот начнет палить с перепуга. Отражение в стакане тыкало в меня оружием и отходило к кровати. Я стал собирать колоду. – Мать твою, Тридцать восьмой… Ты чего натворил, мясник гребаный? Двойки, тройки, пятерки, десятки. – Ты точно больной. Какая красивая баба была. Получше твоей почившей женушки. Валеты, дамы, короли, тузы и, конечно же, пара джокеров. Колода была из пластика – бумажными картами я никогда не пользовался, потому что они годятся только для подтирания зада. Да и то сомнительно. Отражение поспешило убраться от постели и замерло в двух шагах за моей спиной. В разбитое окно со свистом вваливался дождь. – Не вздумай что-нибудь прихватить со стола, – голос Блохи дрожал, зрелище в кровавых простынях его явно впечатлило. – Я все вижу. – Тебе не следовало этого делать, – сказал я, поворачиваясь. – Чего? – Упоминать мою женщину. Пятьдесят четыре карты черно-красным облаком полетели Блохе в лицо. Грохнули выстрелы, выбивая щепки из стен. Я пытался отобрать револьвер, но малец не сдавался. Он расстреливал потолок и силился направить дуло в меня. Мы могли танцевать так и дальше, но Блоха скользнул по крови подошвой и стал валиться на пол, волоча меня за собой. От удара пальцы разжались, и револьвер откатился в сторону. Я схватил Блоху за волосы и бил головой об пол, пока он не перестал сопротивляться. А потом бил еще и еще, пока он не перестал жить. Я поднялся. Почти вся колода упала рубашками вверх, но в центре кровяного пятна лежал перевернутый джокер. Оставалось только ухмыльнуться. Выпотрошив карманы Блохи, я зарядил свой револьвер – парень знал толк в оружии, сунул его тридцать восьмой в карман и отошел к двери. Последний раз опустил взгляд на черного слизняка, что смотрел с карточного рисунка. – Что ж, Глааки так Глааки.
Топи раскинулись на противоположном от трущоб берегу, поэтому ехать пришлось долго. Бросив грузовик, я приблизился к старой пристани. Постройка терялась в дождевой дымке, капли плясали на заплывшей поверхности озера. Рядом никого не было. Спрятавшись под навесом, я сверился с картой. Заветный крестик притаился в гуще других островков. Моторы первых трех лодок признаков жизни не подали, а вот следующий закашлял от моих прикосновений, и ржавый винт в водной толще даже сделал пару оборотов. Из болотистой жижи, что окаймляла берег, раздалось урчание, точно чей-то вздох. Вспомнились россказни о том, что это и есть дыхание Глааки. Выбравшись из густых зарослей на весельном ходу, я врубил мотор. Воды бескрайнего озера раскинулись передо мной во всей красе. Стемнело. По пути встречались мелкие островки, кое-где возвышались постройки, но все было не то. Озеро ворчало, в днище лодки ударялась рыба. У сожженной водяной мельницы я заглушил мотор. Хотелось устроить одноглазому ублюдку сюрприз. Остров оказался таким мелким, что, кроме дряхлого сарая, на нем ничего не поместилось. В грязных окнах плясали огоньки и шевелились тени. Циклоп был на месте. Я привязал лодку к подобию крыльца и перебрался на сушу. Достал револьвер. Казалось, вся кровь организма сейчас тарабанила в виски. Пальцы, сжавшие ручку двери, покалывала дрожь. Там, за сырыми досками, был убийца. Отворив дверь, я встретился с ним глазами. Вернее, встретился с его глазом. Двухметровая тварь раззявила рыбий рот, сжимая в лапе металлическую тару. – Не дергаться, – стараясь не выдать волнения, пробормотал я. Перед Циклопом на коленях стояла девушка, руки за спиной. Банку одноглазый держал на уровне ее лица. – Не дергаться! – повторил я, осматриваясь. На полу были расставлены свечи, у стола выросла пирамидка из одежды, рыбьих хвостов и самодельных изображений Глааки. Алтарь. А с потолка свисали крюки с частями тел. Как людских, так и рыбацких. Запах здесь витал, будто на припортовой свалке. Когда с обрубка туловища струйкой стекала кровь, падая на одну из свечей, к стуку дождя по крыше добавлялось шипение умирающего огарка. Циклоп наклонил банку к девушке, и я выстрелил. Тара улетела в сторону, с пола пополз дымок. Рыбак бросился на меня, хотя я продолжал стрелять. Сильнейший удар сбил меня с ног, сверху упал обглоданный труп на цепи. Дохнуло замогильной вонью, и мокрая лапа выбила револьвер. Я пытался встать, но стальная хватка сомкнулась вокруг тела. Над головой поминальными колоколами гремели крюки. Возле лица щелкала рыбья пасть. Мне удалось вырваться, оставив Циклопу плащ. Тварь поднялась и зашипела. – Не трогай его, пожалуйста! – крикнула девушка. Но Циклоп был другого мнения. Он врезался в меня и вместе с дверью хижины вынес прямо в озеро. Ледяная вода вцепилась в кожу, поползла в легкие. Я стал задыхаться. Уже не понимая, с течением борюсь или с подводной мразью, я наугад лупил руками и ногами, пока башмаком не угодил во что-то твердое. Выбравшись на поверхность, я догреб до хижины и через лодку заполз на крыльцо. Из воды поднимался одноглазый. Пытаясь откашляться, я услышал его тяжелые шаги. До револьвера было уже не добраться. Рванув в хижину, я схватился за первый пустой крюк и дернул на себя. Сзади скрипнули половицы. Натянувшись на потолке, лязгнула цепь. Я развернулся и крюком прочертил дугу снизу вверх. Железяка размером с крысу из «Морока» вошла Циклопу под нижнюю челюсть. Чешуйчатые лапы подогнулись, вздрогнули, и рыбак повис среди своих жертв. – Это за Анну, – прошептал я. Единственный глаз чудовища закрылся навсегда. Поддев голову Циклопа как следует, я спустил цепь. Предстояло доставить тушку к людям. А потом забрать свой охотничий гонорар. Никого грабить я не собирался, мне нужно было только рассчитаться с долгами. – Я же просила не трогать его. Обернувшись на голос, я уставился в дуло собственного револьвера. – Советую положить, это не игрушки. Раздались два выстрела. Вслед за ними в небе грянул гром. Далеко в темноте с необычной грустно-вопросительной интонацией закричала какая-то птица. Я упал на колени. В животе поселился раскаленный уголек, а из грудной клетки при дыхании выходили странные хрипы. А еще пузыри. – Сука, я же тебя спас. Девушка заплакала: – Спас?! Лишение зрения – это не наказание, а великая благодать! Они отмечают ожогами только самых достойных! – Что? – Человеческий рассудок не выдержит вида Глааки. Они убирают нам глаза, чтобы мы могли приветствовать его, когда он проснется! – Как… – едва выдавил я. – Я так долго добивалась его милости, а ты… ты все испортил! Поэтому ты умрешь медленно. А мне без покровителя тут делать нечего. Надеюсь, Глааки примет мою грешную душу. Фанатичка уперла дуло в висок и вышибла себе мозги. Если бы я сам их не увидел, то никогда бы не поверил, что они у нее были. Я доковылял до лодки и затащил в нее пойманного на крючок Циклопа. Мотор закряхтел почти сразу. Перед глазами кружилось матовое небо, дела мои были совсем плохи. Теперь, помимо денег, кое-кому не помешал бы и доктор. Но сперва нужно было не сдохнуть по дороге. С трудом добравшись до пристани, я вытащил свое дважды пробитое туловище из лодки. С трупом получилось сложнее. И в груди, и особенно в животе не только жгло, но и хлюпало. Я передвигался как налакавшийся забулдыга. Запихнув Циклопа туда, куда и положено – в кузов для перевозки дохлой рыбы, – я ввалился в кабину и оживил грузовик. Руки на руле стали неметь. Вместо дороги перед глазами зависло улыбающееся лицо Анны. Она была мной довольна. Черные точки, словно назойливые мухи под носом, мешали разглядеть дорогу. Я жал на педаль, проваливался в темноту, опять вдавливал педаль газа, кого-то сбивал, смеялся, харкал кровью, падал на руль, отключался, снова и снова выжимал из грузовика лошадиные силы. Я будто умирал и воскресал в пропахшей рыбой жестяной коробке на колесах. Когда вновь пришла темнота, когда лопнуло лобовое стекло, когда машина перевернулась, я наконец-то с улыбкой закрыл глаза…
…Но это было бы слишком просто. Я не умер. По крайней мере, адская боль внутри лишь нарастала. Дорога привела меня в трущобы. Я выбрался из грузовика и выпрямился во весь рост. Земля с небом то и дело менялись местами, но ничего страшного, можно привыкнуть. Для умирающего – самое обычное дело. Теперь глупо было надеяться на доктора, старая костлявая проститутка запихнула в меня косу уже наполовину. Но перед смертью хотелось показать тварям из трущоб их спасителя. Особенного. Того, кто пробудит Глааки. Того, чей труп оставлял за собой след крови, воды и дерьма. Ночь сползла с неба и угнездилась в низине. Косой дождь лез в бараки через окна, наполнял ямы, бросался на огонь. Костры жгли под навесами и прямо в хижинах, у заборов под открытым небом и в железных бочках. Я шагал через трущобы, волоча на цепи тушу Циклопа и наблюдая, как повсюду рождается свет. К жужжанию мошкары и лягушачьему кваканью вскоре прибавились голоса чешуйчатых. Они выли и созывали своих, ведь к ним в дом явился убийца. – Спаситель прибыл! – из последних сил кричал я. – Вот он, ваш Особенный. Вот он. Я шел в черноту, а по сторонам сновали сгорбленные тени. Гул нарастал, к нему добавлялись и людские голоса. Огни зашевелились. Теперь за мной двигались факелы, горящие точки впереди расступались, образуя коридор. Первый камень угодил в спину, и рыбаки оживились. Стараясь не обращать на это внимания, я прибавил ходу. Еще один камень рассек губу, с подбородка потекла кровь. Теперь вокруг бесновалась целая толпа. Люди, полукровки, рыбаки… Они размахивали факелами, кричали, ревели, словно звери, и швыряли в меня все, что попадалось под руку. Вставали на пути, новыми ударами указывали направление, не давали покинуть живой коридор, но никто не пытался вырвать мою страшную ношу. Обитатели трущоб вели меня к Глааки. Я оскалился. Карты не обманули, черный джокер сделал свое дело. – Ну и где ваш рыбий царек?! – закричал я, стараясь, чтобы голос расслышал хоть кто-то, кроме меня самого. – Где эта кучка говна?! Меня столкнули в воду. Из живота просачивались внутренности, а из груди – душа. Один глаз заплыл, во рту недоставало пары зубов, а все тело было покрыто синяками. Преследователи не стали входить в озеро, выстроившись на берегу. Волны подхватили Циклопа, меня и потянули за собой. Я механически греб куда-то в сырой мрак. Будто там, в озерной темноте, где кончалась реальность, меня ждала Анна. Ждала не с пустыми руками, а с трупом ее убийцы. Когда силы кончились, я перевернулся на спину. Берег полыхал огнями. К воде высыпали все жители этого рыбьего края. А я стал безумцем, который обеспечил им представление. Озерная вода была внутри меня. Зрители на берегу замерли в ожидании. Циклоп пошел ко дну, и я отпустил цепь. – Спаситель гребаный. Крысиный король… Тьфу. «Я буду молиться за тебя, чужак», – заговорила в голове старая ведьма. Пусть. Пусть смотрят, как я умираю. Как умирает Тридцать восьмой. Теперь они будут помнить меня всегда. А я буду помнить танцующие на небе звезды… Из воды показалось щупальце, и я чуть не захлебнулся. Оно поднялось над поверхностью озера, из чешуйчатых складок вылупился глаз. С берега послышались крики. – Глааки, – проговорил я, едва вспоминая буквы. – Не может… «Потому что Глааки вот-вот проснется, и теперь он тебя не пощадит». Второе щупальце было крупнее, толщиной с человека. Теперь на меня глядели два красных глаза с черными овалами зрачков. Подо мной что-то происходило, но я не мог посмотреть вниз – едва хватало сил удерживаться на плаву. По воде пошли пузыри, ударяли в лицо волны. Щупальца нырнули на глубину и подняли Циклопа. – Не может… – повторил я. Два огромных отростка оплели труп рыбака и рванули в разные стороны. – Да, – хмыкнул я, запивая кровь озерной водой. – За Анну… Руки и ноги переставали слушаться, но боль не отступала. В живот пробралась мелкая рыбешка. Огнем пульсировали рубцы на шее. Щупальца исчезли в воде, оставляя на неспокойной поверхности разорванное тело. Берег ожил ревом сотен глоток, и меня окатило огромной волной. Я чувствовал, как за спиной поднимается нечто. Запахи мертвечины и стоялой воды ворвались в ноздри, в отражениях замелькали металлические шипы. Брызги валились со страшной высоты, а дыхание чудовища заставило упасть на колени всех обитателей суши. Казалось, застыли даже огни. – Не может… Рубцы на шее открылись, всасывая воду. Надо мной вились щупальца, вонь резала глаза. Потекли слезы. Я окунулся в воду с головой. Стало легче дышать. Жабры. Никакие не рубцы… все это время… Я вынырнул. Присоски опустились на голову, щупальца обхватили живот. «Ты будешь умолять о простой смерти. Но Глааки не послушает. Он окунет тебя в кошмар!» Как бы я ни храбрился, оборачиваться не хотелось. Моя роль в этой истории оказалась слишком неожиданной. Я молил только о том, чтобы достойно встретить конец. И кажется, кто-то меня услышал. Спасительная пустота пришла чуть раньше, чем я взглянул на Властителя мертвых снов…
Я открыл глаза и вытер с лица кровь. Нос был сломан, кружилась голова. Передо мной все расплывалось, я видел будто сквозь мутное стекло. На мне сидел рыбак и шипел. Озеро исчезло, мы находились в городской подворотне. Слева раздался крик, и я увидел высокую фигуру, выливающую что-то на лицо парня в полицейской форме. Бедняга ревел и трясся в конвульсиях, но, кажется, смеялся. Я попытался ударить рыбоголовую тварь, но тело было слабым, точно чужим. Меня припечатали к земле, и резкая боль вгрызлась в затылок. Надо мной нависли еще двое рыбаков. Под их гавкающую болтовню я попытался рассмотреть себя. Вьющиеся каштановые волосы свалялись в грязи, разорванная лямка обнажала грудь, туфли лежали в паре шагов от мусорного бака. Я схватился за лицо, но не нащупал никакой щетины. Зато увидел накрашенные ногти. В голове все перемешалось. Двое рыбаков держали мне руки, пока третий лез под платье и срывал трусы. Я кричал что было сил, лупил их ногами, но добился лишь очередной пощечины. Ублюдки сорвали с меня одежду и куском сети перевязали запястья, прицепив к штырю у забора. Я вырывался, но они были гораздо сильней. Слева послышалось хихиканье. В этом звуке было столько безумия, что я едва нашел в себе силы повернуть голову. Ко мне полз полицейский. За его спиной удалялась двухметровая тень. – Я отмечен, – радовался полицейский. – Я должен. Я должен доказать верность. Должен доказать на человеке. И докажу… Рыбаки отступили. Зрение начинало возвращаться, но теперь я не хотел смотреть. Холодные пальцы ухватили за ноги и потянули в разные стороны. И только когда я почувствовал на бедрах липкие руки, только когда на меня навалилось трясущееся тело, только когда картинка окончательно прояснилась и из размытого морока проступило знакомое лицо с выжженными глазами, из меня вырвалось бесполезное: – Только не ты…
Свиньи
Никого из любимиц на сайте не было – слишком рано. В онлайне висели четыре десятка моделей, но смотреть на них он не мог. Рыхлые домохозяйки с обвисшими грудями, носительницы целлюлитных доспехов, неухоженные, с плохими камерами, из-за которых картинка транслировалась точно сквозь пакет. Вдруг среди знакомых юзерпиков и лиц Джоли, Беллуччи и Курниковой он разглядел новенькую. Кликнул. Его звали Поляк, ударение на «о». Никто не знал, имеет ли он отношение к Польше, фамилия это, имя или только никнейм. О Поляке и его прошлом было очень мало информации, потому что среди подобных людей не принято болтать. Деньги любят тишину, особенно завязанные на сексе деньги. И эротические видеочаты, по которым Поляк бродил от скуки, в сравнении с его основной деятельностью выглядели семейным трепом по скайпу. Она назвалась Сучкой-в-кубе. Помещение и впрямь смахивало на куб: в крошечную комнату влезла только кровать, стены и потолок были зеркальными, но ощущения замкнутости не рассеивали. Никаких дверей в отражениях, никакой мебели. Кровать, ноутбук и полуголая красотка. Поляк облизал губы и улыбнулся. Новенькая отличалась от прочих моделей. Стройная, чистенькая, с красивым лицом, она не пялилась в экран взглядом продавщицы из ларька, не смолила сигарету за сигаретой, не рассказывала о тяжелой жизни, а постоянно двигалась. Потягивалась на кровати, оголяя чуть бледноватую кожу под бельем. Запускала руку в трусики, ласкала себя и стонала ангельским голосом. С подушкой между ног садилась ближе к камере и плавными движениями бедер изображала наездницу, сваливая на лицо копну черных волос. Ее кошачью грацию копировали зеркала, ее идеальную фигуру множили отражения, ее тело извивалось и дергалось в настоящем экстазе. Девушка была великолепна. Он завозился с молнией на джинсах, а когда освободил хозяйство и поднял голову к экрану, встретил лишь черноту. Поляк обновил страницу – ничего. Проверил соединение – все в порядке. Сучка-в-кубе оборвала трансляцию. – Ты и впрямь сучка! – выругался Поляк. – На самом интересном месте. Он нажал на кнопку «Добавить модель в избранное». Попытался найти замену на сайте – безуспешно. Залез в папку со своими роликами, но все было не то. Эта Сучка его раззадорила, и унять столь сильную похоть можно было единственным способом. Поляк жил в двухкомнатной квартире в самом маргинальном районе города, и алкаши с наркоманами за стеной его полностью устраивали. С таким отребьем по соседству можно было не опасаться лишнего внимания к гостям или жалоб на крики. А кричали в доме Поляка часто. Когда он насиловал очередную безмозглую королеву дискотеки, то надевал на голову маску кабана. Каждый раз новую. Девицы визжали под ним, дергались и выли, пока кабаний член хлюпал в крови. Поляку была нужна достоверность страданий, и он не щадил никого. Когда все заканчивалось, Поляк обрисовывал гостьям ситуацию. Первое: они сами пошли с ним, без принуждений. Кто-то велся на дорогую тачку, кто-то – на брутальную внешность, а кому-то просто хотелось приключений. Второе: Поляк всегда был осторожен. Никакой спермы, никаких волос, никаких следов ДНК. Доказать его вину было очень сложно, ведь Поляк отмывал изнасилованных дурочек после секса, а постельное белье вместе с маской сжигал в тот же день. Третье, самое главное: все это было не бесплатно. За молчание Поляк предлагал хорошие деньги. Тусовщицы, студенточки и любительницы секса на одну ночь, услышав сумму, утирали сопли, натягивали трусы и сваливали с пухлым конвертом в сумочке. Поляк мог себе это позволить, потому что на одной такой потаскушке зарабатывал в разы больше. Спальня была оборудована веб-камерами, и платный онлайн каждый раз смотрели сотни извращенцев по всему миру. Вскоре новый фильм о похождениях кабана утекал на закрытые трекеры и сайты для взрослых, а банковский счет Поляка продолжал жиреть. Был еще и четвертый аргумент – Ютуб. Но его Поляк использовал редко. В тех случаях, когда понимал: девка может заговорить. Одно видео – и никому уже не хотелось искать правды. Тут бы ноги унести. Красота, да и только. Поляк колесил по городу, высматривая симпатичных девушек. Дела у него шли хорошо, никакой необходимости в новом фильме не было, но против природы не попрешь. Сучка разволновала его так, что кабана придется кормить раньше времени. Осень принесла с собой сырость и грязь, спрятала девушек в серые коконы, скрыла фигуры под бесформенной одеждой. Короткие юбки с маечками уступили место плащам и курткам, словно и не было только что жаркого разгульного лета. Похотливые самки замаскировались под монахинь. Выбирать приходилось интуитивно, абы кто для целей Поляка не годился. К примеру, одна слишком пышная. Хотя на толстушек в Интернете спрос огромный, да и подцепить их куда проще, Поляк любил совмещать приятное с полезным, а копошиться среди жировых складок – то еще удовольствие. Значит, мимо. Вторая шла под ручку с третьей – сразу нет, с парами Поляк не работал. Слишком опасно. А вот четвертая, миниатюрная девица с длинными рыжими волосами, вполне подходила. Она шагала по тротуару вдоль дороги, разглядывая витрины, лужи, голубей, все подряд. Смазливое личико, мечтательный взгляд, узкие джинсы. То, что нужно. Подкатить, заболтать, свозить поужинать в красивое место, продемонстрировать платежеспособность – и дело сделано. Едва Поляк перестроился в правый ряд, как на машине у него оказался человек. Послышался удар, завизжали тормоза, уши резанул короткий крик. Поляк ухмыльнулся, включая аварийку и вылезая из салона. Это не был наезд. Человек сам сиганул на машину, и не на бампер, что было намного опасней, а на капот. Древний как мир развод, да еще и неумело исполненный. – Убили! – завизжала старуха на тротуаре. – Люди, убили! – Спокойно, мамаша, – сказал Поляк, – никого не убили, все живы и здоровы. Правильно я говорю, да? С земли, морщась от боли, поднималась девчонка лет тринадцати-четырнадцати. Одета прилично, не бродяжка. Но актриса никакая. – Не убили… – прошептала она. – Хотя вроде собирались… Поляк бегло осмотрел пострадавшую, потом огляделся по сторонам. Такую ссыкуху никто бы не отправил на дело одну, должны быть сообщники. Но вокруг собирались обычные зеваки. – Средь бела дня! – все причитала старуха. Пацаны с ранцами достали мобильники и начали снимать. Какой-то алкаш цокал языком и изучал вмятину на капоте. Отовсюду неслись советы и указания. – Мужчина, ну чего стоите, в больницу же надо ее! – Это перелом, точно вам говорю. У меня такое в институте было. – Ага. Вызывайте ментов. Нужно обязательно проверить водилу на алкоголь. Поляк помог девчонке дойти до переднего сиденья и сесть в машину. Затем повернулся к зевакам: – Всем спасибо, мы в больницу. Расходимся. Ехали молча. Девчонка то ли на самом деле серьезно ушиблась, то ли оказалась тормознутой, то ли это был ее дебют в роли кидалы. Поляк ждал. Он гнал машину по городу и смотрел в зеркала заднего вида. К его удивлению, на хвост так никто и не сел. Девочка работала одна. – Как звать? Она встрепенулась. Легкая заминка, потом ответ: – Лида. «Ага, Лида…» – подумал Поляк. – Хорошая девочка Лида на улице Южной живет, – заговорил он, припоминая стишок. Девочка и впрямь была хорошей. Соблазнительно выпуклой для своих лет. Черное платье средней длины, кожаная курточка сверху, старые, но приличные сапоги. – Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Поляк повернулся. В ее глазах читался испуг. Коленки прижаты друг к другу, ноги подтянуты под сиденье. – Как там дальше? – Я не знаю. Детское личико, какие-то нелепые косички, разноцветный лак на ногтях, сумка с сердечками… Поляк вспомнил, какие деньги платят за фильмы с детьми. Была у него парочка педофильских сайтов в закладках, но сам он подобное видео не снимал. Только смотрел. Смотрел и уверял себя, что никогда на такое не пойдет, даже за те сумасшедшие гонорары, которые там предлагали. Поляк еще раз взглянул на Лиду. Фигурка уже почти сформировалась, ножки ничего, губы пухлые, как у его надутых дискотечных подруг. Решение пришло само. – Слушай, ты меня извини. Я на нервяках весь, все-таки первый раз человека сбил. Лады? Понимаю ведь, что виноват. Готов, так сказать, понести заслуженное наказание. Ну в конце концов, я же не специально. Лида смотрела на Поляка, который барабанил пальцами по рулю, зыркал по сторонам, вытирал нос и вообще изображал крайнюю степень волнения. В голове у нее решалась задачка. Пожалуй, самая важная в жизни. Поляк даже представил весы, на одной чаше которых деньги, на другой – безопасность. – Мне от этого не легче, – пробурчала она, откидываясь на сиденье. Движения стали более расслабленными, голос не дрожал. Она вновь контролировала ситуацию. Так ей казалось. – Слушай, мне, если честно, проблемы не нужны. Совсем не хочется полицию втягивать в это дело, а врачи сразу им сигнал дадут, такие правила. Может, как-нибудь полюбовно решим, а? Ну, договоримся там, я не знаю. Деньгами не обижу. Ответ прозвучал сразу, она даже не успела подумать: – Можно. Наверное. «Да, – усмехнулся про себя Поляк, – такие аферы ей проворачивать рановато. Палится на ровном месте». – Тогда смотри какой вариант. С собой у меня денег нет, надо заскочить домой. Там все будет. Ее лицо дрогнуло. Она хотела что-то возразить, но Поляк уже заговаривал ей зубы: – Плюс жена моя сегодня выходная, она врач. Отличный врач, между прочим. Посмотрит тебя, подскажет чего. Один момент. – Поляк достал телефон и сделал вид, что набирает номер. Приложил трубку к уху и стал слушать фантомные гудки. – Так что не волнуйся, у тебя там и так ничего серьезного на первый взгля… Алло! Да, Марин, привет! Ты дома? Никуда не уходи, я щас прилечу. Я тут в легкое ДТП попал, пешехода одного зацепил случайно, девчушку, надо бы… Да не ори ты! Не психуй, кому сказал! Все в порядке! Просто ушиб, девчушка жива и улыбается. Ага. В общем, я за рулем, говорить не могу, приеду и все объясню. Жди! Поляк спрятал мобильник в карман и пожалел, что не носит кольца на безымянном пальце. Но деваться было некуда. – Все тип-топ. Лида с сомнением глазела на Поляка, на потеки дождя на стекле, на выползающий из клоаки города район. Ей все это явно не нравилось. – Только имейте в виду, – сказала она, доставая телефон из сумки, – что я эсэмэску с номером вашей машины отправлю маме. У нас с ней уговор. – Не вопрос, хоть папе. Поляк не сомневался, что Лида блефует. Во-первых, номер она вряд ли запомнила. Во-вторых, существуй уговор, эсэмэска ушла бы с самого начала, а не в конце пути. В-третьих, слишком неуверенно девочка тыкала кнопки, словно не знала, что и кому писать. Поляк смотрел за дорогой, но то и дело бросал взгляды вправо, на Лидины ноги. Вспомнилась новенькая из видеочата. В штанах сделалось совсем тесно. Дальнейшая дорога до пункта назначения превратилась для него в звуки и образы. Шум дождя шептал непристойности, дразнил воображение. Капли барабанили по крыше и стеклам, имитируя аплодисменты зрителей грядущего шоу. Шоссе стонало, сдавалось под мощью колес. Лужи у дома заглатывали, принимали в себя горячую резину, растекались под ней. У Поляка кружилась голова. Невиданное возбуждение подключило и запахи. Теперь он чуял абрикосовый гель для душа и ромашковый шампунь. Он чуял каждую клеточку Лиды. Чуял ее молодость, ее невинность. Сочность. Стук дверцы грохнул по двору пушечным выстрелом, спугнув голубей с козырька над ступеньками. Протяжный вой сигнализации призывал Лиду одуматься, повернуть назад, сбежать, но Поляк уже тащил ее через подъездную грязь, мимо бутылок, шприцов, газет и окурков. Сквозь царство паутины и разбитых лампочек прямо в свое логово. Не помогал дойти сбитой на дороге девочке, а, будто в трансе, волочил домой жертву. Такое с ним случилось впервые, и новые ощущения пришлись по вкусу. Лида слишком поздно все поняла, поздно стала упираться и кричать. Ее наивность, глупость и надежда на чудо остались в другом мире, когда Поляк захлопнул за собой стальную дверь. – Дяденька, миленький, отпустите меня, пожалуйста! – плакала Лида. – Я никому не скажу, обещаю, правда-правда. Я ведь ребенок, несовершеннолетняя, вы же не будете… Поляк привязал ее руки к изголовью кровати и теперь освобождал от одежды. – Вот что я тебе скажу, ребенок. – Куртку и сапоги с нее он стащил еще в коридоре, дело оставалось за платьем. – Раньше надо было думать. До того как под машину бросаться. – Простите, простите меня, пожалуйста, простите, я в первый раз, больше не буду, деньги были очень нужны, мама умирает, я больше не буду, честно, отпустите, прошу вас, умоляю… Она тараторила без остановки, пока Поляк ножом срезал с нее платье и лифчик. – По-твоему, ребенки носят такое белье? Лида не ответила. Поляк стянул с нее трусы, погладил синяки на боку. Ладонью прошелся по грудям, сдавил соски. Его распирало от возбуждения, но все нужно было сделать по правилам. По наработанной схеме. Поляк отошел к комоду и открыл ящик. – Красные, зеленые или фиолетовые? Лида молча рыдала. – Красные, зеленые или фиолетовые? – повторил Поляк. – Отвечать, сука! Лида открыла рот, на губах надулся мыльный пузырь. – Зеленые… – сквозь стон шепнула она, и пузырь лопнул. Поляк вынул из ящика полосатые бело-зеленые гольфы и стал натягивать их Лиде на ноги до самого колена. Она уже не сопротивлялась. – Теперь ты похожа на голенького эльфа. И под твои ноготки моя кожа точно не попадет. Нам ведь не повредит лишняя осторожность, правда? Поляк поцеловал Лиду в сжатые, точно тиски, губы. Обмазал взглядом ее совсем не детское тело. Поднялся и уже на выходе сказал: – У этой комнаты отличная звукоизоляция, а моим соседям на все насрать. Лучше оставь силы, они тебе понадобятся. Не скучай, я скоро. И захлопнул дверь. Он подобрал сумку в коридоре и сел за компьютерный стол в соседней комнате. На одном мониторе висела вкладка с эротическим видеочатом, на втором – онлайн из спальни. Камер там хватало, некоторые даже встроили в конструкцию кровати, поэтому шоу можно было рассмотреть с любого ракурса. Лида лежала как труп. Но Поляк умел расшевелить своих гостий. Он обошел несколько сайтов, оставил заявки и вбил короткое описание: «Изнасилование несовершеннолетней». Пока админы оформляли новый статус, подключались к его камерам и переводили описание на другие языки, Поляк разорял сумку Лиды. Мобильник. Никакого сообщения маме, как и ожидалось. Да и любых других тоже – папка с сообщениями была пуста. За последние две недели все звонки на три номера: «Мама», «Роман Игоревич док», «Регистратура». Входящих и того меньше – только «Роман Игоревич док». Поляк отвлекся на монитор. Заявки одобрили, статус со «зрителя» сменили на «вещателя», счетчик посетителей его приватной комнаты пополз вверх. Пиликнули уведомлением первые начисления на электронный кошелек. Учебники, калькулятор, платки, косметика и прочая ерунда. Поляк вытряхнул все на стол и нашел две картонные коробочки с лекарствами. Надпись гласила: «Эбермин. Мазь для наружного применения». Он вбил название в поисковик, в результатах выскочили статьи об ожогах и их лечении. Стоила эта мазь прилично. Число посетителей перевалило за сотню, хотя еще ничего не началось. Просто голая девочка в полосатых гольфах валялась на кровати и тихо скулила. Поляк потер пах и достал Лидин бумажник. Денег там не было, внутри лежали фотография полной женщины и пропуск в городской ожоговый центр. Поляк вернулся к мобильнику и изучил записную книжку. Имен с гулькин нос, ни «Папы», ни «Бабушки», ни одного контакта, который можно было принять за родственника. Только «Мама». Перед Поляком нарисовалась четкая картина: как и почему Лида оказалась у него на капоте. И если он правильно сложил детальки, девчонке крупно повезло. Помучается несколько часов и заработает мамке на лечение. Может, она бы и сама согласилась, раз судьба так прижала. Но добровольный секс никому не интересен. Этой публике не нужны постановки, она жаждет реальных криков, крови, унижений. И она их получает. Возбуждение росло вместе с количеством посетителей. Уже пять сотен человек – так и до рекорда недалеко. Поляк на всякий случай проверил программу, которая гоняла его IP-адрес от Пномпеня до Мадагаскара, и решил заглянуть на вкладку с эротическим видеочатом. Не зря. Сучка-в-кубе была в ударе. Абсолютно голая, она опустилась к камере и поочередно вылизывала три резиновых члена. Крупный план фиксировал ее губы, бездонные серые глаза, пряди волос, шустрый язычок, но можно было рассмотреть и набухшие соски, и выбритую ложбинку между ног. И все это представление в бесплатном чате. Поляку стало интересно, что же она устроит в платнике или привате. Модель отложила игрушки, растопырила ноги и принялась ласкать полоску розовой плоти. – Да, сучка, – проговорил Поляк, натирая пах. – Мокренькая сучка. Изображение потухло. На черном экране появилась надпись: «Модель находится офлайн». Поляк, тяжело дыша, ударил по столу. Закусил губу. Поднялся, разделся и аккуратно повесил одежду на спинку стула. Встал напротив зеркала и не без удовольствия осмотрел богатырскую фигуру. Мускулы, ни волоска на теле – все выбрито; готовый к работе член. Поляк снял с крюка маску кабана, поправил огромные уши, клыки, втянул носом запах щетины. Нацепил ее как можно удобнее и зарычал в зеркало. Лида вздрогнула, когда он вошел в комнату. А потом завизжала. Яркий свет заливал все вокруг. Поляк натянул презерватив и забрался на кровать. Скрипнули полы. – Сучка, мать ее, в кубе! Сейчас кого-то трахнут! Лида пыталась отбрыкаться, молотила воздух ногами, но Поляк без труда схватил ее за бедра и навалился сверху. В маску полетели слюни. Лида затыкалась только для того, чтобы наполнить легкие и заорать снова. Поляк засопел. В маске было жарко, но это ему всегда нравилось. Лида резко дернула головой и попала в кабаний пятак. Маска съехала набок, Поляк на секунду ослеп. Получил несколько ударов ногами и отшатнулся. – Вот теперь ты по-настоящему меня разозлила, – сказал он, возвращая маску на место. В прорезях для глаз возникло раскоряченное дрожащее тельце. Поляк рывком перевернул Лиду на живот. Широко раздвинул ее ноги и придавил их своими. Привязанные к изголовью кровати руки перекрутились, узлы сильнее впились в кожу. – Придется начать с заднего хода, раз ты такая дерганая. Лида заорала, как свинья, заживо подвешенная на крючьях в скотобойне. Поляк в голос засмеялся, а потом понял, что визг слишком громкий. Оглушительный. Звук шел снаружи. Поляк поднялся и выскочил из спальни. В коридоре было темно, входная дверь заперта. Поросячий визг гремел в комнате с компьютером. На экране мигало всплывающее окно с рекламой порносайта. Свинья-копилка энергично трахала такую же свинку, а бегущая строка сообщала: «Снимите секс на видео и заработайте $$$». Поляк закрыл окно, визг прекратился. Он снял маску, вытер пот с лица и взглянул на статистику. В онлайне за его спальней следили почти полторы тысячи человек, и это при тройном тарифе за малолетку. Огромные, невиданные ранее деньги за один сеанс. Поляк присел у компьютера и стал прикидывать. Судя по всему, искать Лиду просто некому. С мамой, похоже, совсем плохо. Соседи с докторишкой, конечно, засуетятся, но не так, чтобы рыть землю и ставить на уши все инстанции. Значит, Лиду можно использовать для шоу постоянно. Устроить из ее жизни секс-реалити. Риск большой, но куш еще больше. А если станет слишком опасно, если надоест, если девчонка не выдержит… Тогда поможет Ютуб. Медлить было нельзя, публика уже собралась, но вкладка с видеочатом так и манила. Это было новое чувство. Необъяснимое. В комнате ждала живая девушка, а Поляка тянуло к виртуальной. Он решил, что просто глянет на тех, кто онлайн, и вернется к Лиде. Но мигающий юзерпик Сучки не позволил этого сделать. Сучка не смотрела на экран, она занималась собой. В многочисленных отражениях змеей вилось прекрасное тело, подминая под себя простыни. В чате меж тем бесновались привычные полудурки. 23sm: В реале встречаешься? Только скажи адрес деньги не проблема AleXXX: мать моя женщина, какая киса! senoid: крутые зеркала, где покупала? PERDOZER: ЗАЙ МОЖЕШ ПОКОЗАТЬ КРУПНО ПЯТКИ Поляк кликнул на кнопку «Пригласить модель в приватный чат»: делить сероглазую красавицу он не хотел ни с кем. Сучка склонилась над камерой и ухмыльнулась. Что-то нажала на клавиатуре. На экране всплыло окошко с надписью: «Вы переходите в приватный чат с моделью Сучка-в-кубе, стоимость 50 кредитов/минута. Продолжить?» Поляк нажал «Да» и облизал губы. Бросил взгляд на соседний монитор – Лида копошилась на постели, под ней желтело здоровенное пятно. – Я хочу на тебя посмотреть, малыш, – сказала Сучка из колонок. Поляк сомневался пару секунд, а потом включил свою веб-камеру. Попытался улыбнуться, но губы выдали нервный оскал. Похоть раздирала его изнутри, он переставал себя контролировать. – Приветик, поросеночек. Поляк вздрогнул от неожиданности. Сообразил, в чем дело, схватил маску с клавиатуры и отбросил в угол. – Что там у тебя такое колышется, поросеночек? Покажи мне. Не стесняйся. Он очень странно себя чувствовал. Так, будто его пристыдили. Поймали за онанизмом в школьном туалете. – М-м-м, поросеночек, ты такой горячий. У тебя такая мощная сексуальная энергетика… Ням-ням. Так бы и съела без остатка… Ну же, малыш, покажись. Ему не нравилось, как она его называла. Не нравилось ее наглое поведение. Не нравились ее указания. Но он не мог противиться ее гипнотическому голосу, поэтому встал и продемонстрировал член. – Ого, а ты большой мальчик, – проворковала она. – Рассказать тебе сказку про таких же поросяток, как и ты? Она достала знакомые фаллоимитаторы и показала в камеру. Затем разложила подушки и устроилась на спине с разведенными в стороны бедрами. Взяла самую маленькую игрушку в форме чуть согнутого стручка. Поляк вернулся на место и заурчал от удовольствия. По телу побежали тысячи электрических уколов. – Первый поросеночек построил себе домик из соломы. Жил в нем и радовался. Но однажды он повстречал злого серого волка и так испугался, что заперся в домике на все замки. Она отправила резиновый член себе в зад. Позвоночник Поляка выгнулся и хрустнул, от затылка к копчику поползло жжение, точно волна кислоты. – Волк пришел ночью… – прошептала Сучка, закатывая глаза. – Сломал дверь… Ворвался внутрь… Поляк обмочился, из его задницы непрерывно текло. На полу скапливалась кровь. Сучка содрогалась в спазмах и стонала. В чате появилось новое сообщение: Сука-в-кубе: Волк убил поросеночка. Поляк не мог пошевелиться и даже отвести взгляд от экрана. Под кожей рвались мышцы, внизу живота открывался шрам от аппендицита. Сучка взяла второй член. Размером побольше. Поляк попробовал дотянуться до кнопки выключения компьютера, но движение нагрело все кости внутри, заменило их раскаленными прутьями. Он завыл, по щекам потекли слезы. Сука-в-кубе: Второй поросеночек построил домик из дерева. Волк пришел и за ним. Он разломал дерево… Забрался внутрь… Сучка ничего не писала. Текст появлялся сам. Отражения подтверждали, что в комнате никого нет. Шрам Поляка кровавой полосой протянулся через все брюхо по горизонтали, как молния на спортивной сумке. Сучка вдавила игрушку в себя, и живот Поляка раскрылся. Кишки вывалились наружу. Сукавкубе: Волк убил второго поросеночка. Он собрал последние силы, чтобы выдернуть провод из розетки. Глубоко вдохнул. Тогда суставы на его руках и ногах вывернулись в обратную сторону, треск грохнул на всю комнату. В глазах потемнело, но прикованный к стулу Поляк продолжал жить. Смотреть, как в зеркалах появляются лица. С самого начала ему казалось странным, что Сучке удалось зарегистрировать русскоязычный никнейм, хотя это запрещено настройками сайта… Наблюдая, как ник меняется с каждым сообщением, Поляк начинал понимать. Сукавкубе: Третий поросеночек был самым хитрым. Он построил домик из камня. Но волка это не остановило. Он разрушил камни и залез в домик… Сучка соединила ноги и задрала их. Правый глаз Поляка лопнул. Взорвался и стек на пол с остальными жидкостями. Лужа растеклась по всему полу комнаты от стены до стены. Сучка взяла третий член, самый большой. Облизала и целиком запихнула его себе в глотку. Ребра Поляка разорвали мясо, пробили кожу и распахнулись, как птичьи крылья. Сукакуб: Волк убил третьего поросеночка. В том, что сидело на стуле, уже нельзя было признать человека. Оно булькало и хрипело, пока с черепа слезала кожа. Дрожало и, наконец, умирало, когда завершившая сеанс демоница самолично набирала финал сказки на клавиатуре. Суккуб: Потому что серый волк сильнее любого кабана.Дворник Юсуп выглядывал из окошка своей подвальной каморки и курил. Машина Поляка стояла у дома третий день, хозяин не выходил. Юсуп был в этом уверен, потому что лобовое стекло птицы засрали аж позавчера, а Поляк не терпел грязи. Строго говоря, Юсуп был не просто дворником, а местным мастером на все руки. Рано утром он подметал асфальт и тротуары в районе, за отдельную плату мог убрать и в подъезде. Днем трудился на рынке мясником, вечером чинил проводку, трубы, таскал мебель, брался за любую работу – лишь бы платили. Лучше всех платил Поляк, который почему-то звал его Ютубом. Юсуп не обижался. Приезжего в большом городе как только не звали, да и перечить Поляку не смел никто. Обычно Юсуп выполнял его мелкие поручения, но бывали особые случаи. Юсуп набрал номер Поляка, но ответа не дождался. Опустил окурок в консервную банку с водой и вышел на улицу. Квартира Поляка располагалась на первом этаже. Окна были зашторены и закрыты решетками. Юсуп подошел к двери и прислушался. Показалось, что изнутри раздается поросячий визг. И запах… Из квартиры полз сладковатый аромат гнилого мяса. Он позвонил в дверь, постучал. Выждал десять минут и нагнулся к полу, где за обломком кирпича в стене был спрятан запасной ключ. Поляк показал схрон после первого особого случая, ввел Юсупа в круг доверенных лиц. В квартире воняло так, что Юсуп закурил новую сигарету, стараясь дышать табачным дымом. Он прикрыл за собой дверь и двинулся в комнату, откуда шел запах. Ноги приклеились к полу. Развороченное тело хозяина было сложено на стуле, как тряпичная кукла. Кости, гирлянды мяса, срезанная кожа висели на спинке рядом с джинсами, футболкой и трусами. На заляпанном кровью мониторе мерцал черный экран, а в маленьком окошке одна свинья-копилка сношала другую. На соседнем мониторе – спальня с привязанной к кровати девочкой лет пятнадцати. Девочка была совсем голой, если не считать полосатых гольфов. Она шевелилась. Юсуп вышел в коридор, оставляя на ламинате бордовые следы. Онразмышлял. Те, кто сделал такое с Поляком, давно ушли. И вряд ли вернутся. Ключи от квартиры у него есть, вычистить комнату он сможет, хоть и не без труда. Получается, квартира свободна. Незваных гостей и тем более родственников тут ждать не приходилось, потому что за три года знакомства с Поляком Юсуп вообще не видел у него посетителей. Кроме женщин, конечно же. Именно их и касались особые поручения. Пять раз Поляк перегибал палку со своими фильмами, и пять раз к нему приходил Юсуп. Он разделывал трупы в ванне, выносил их из квартиры по частям и закапывал в мусорных контейнерах. Первый раз Поляк заснял весь процесс на видео, чтобы у Юсупа не возникло желания разболтать кому-нибудь секрет. Тогда он и поведал о своем кабаньем занятии. Юсуп подошел к спальне, потянул на себя дверь и заглянул в щелочку. Запахи мочи и пота ударили в нос, но после скотобойни в соседней комнате это даже освежало. Пленница его не слышала. Ее кожа блестела в свете ламп, электрические отблески ласкали молодую плоть, веревка делала девочку такой беспомощной, беззащитной… И такой красивой. Юсуп вернулся в комнату с компьютером и приоткрыл окна, оставив шторы плотно задвинутыми. Втянул воздух с улицы, помусолил сигарету. Поставил второй стул напротив монитора с девочкой и стал смотреть. У Юсупа давно не было женщины. Слишком давно. Он любовался пленницей, пока истлевшая сигарета не обожгла пальцы. Не найдя ничего похожего на пепельницу, Юсуп затушил окурок в крови на полу. Взор упал на резиновую голову кабана. Юсуп поднял ее, немного оттер и огляделся по сторонам, будто кто-то мог за ним наблюдать. Покрутил маску в руках, а затем примерил. Кабанья голова села как влитая.
Зов страны невидимок
На берегу росло огромное скрюченное дерево, которое все называли просто корягой. Оно нависало над водой и тянуло уродливые лапы к центру пруда, расчерчивая его поверхность длинными тенями. К самой толстой ветке кто-то очень давно привязал веревку. Никита прыгнул с тарзанки с залихватским воплем. Полетели брызги, поплыли круги. Раскололось отражение солнца, и на волнах будто заплясали яичные желтки. В прозрачной воде под бултыхающимся мальчишкой шевельнулось темное пятно. Отплыло в сторону и опустилось на дно. – Давай сюда, ну! – кричал Никита, стирая с лица блестящие на солнце капли. – Вода теплючая такая! Вовка только качал головой и улыбался. Он видел, как от этой теплючей воды стучат зубы друга. Лето ушло, листву обволакивало желтизной. Небо становилось серым и скучным, а солнце, как бы сильно ни слепило глаза, больше не грело. – Вылезай, балбес! С тобой даже Усач не хочет в этой холодрыге играть. – Да он ленивый стал, прям как ты! – голосил Никита, высовываясь из воды веснушчатой рыжей кляксой. – Я вот щас как занырну к нему, как растормошу! А лучше давай вместе! Так он точно растормошится! – Да ну, холодно. Заболеем. – Слабак! Чтоб тебя невидимки холодными ладошками похватали! Вовка поежился, невольно повернув голову к мосту, где без устали звенели колокольчики. Ветер в последнее время только усиливался. А вместе с ним – и предчувствие чего-то нехорошего. Того, что неминуемо приближалось. Никита всегда по-доброму подначивал Вовку и подбивал его на всякие сумасшедшие штуки и приключения. Однажды даже предложил влезть в клетку к невидимке. Слава богу, остальные ребята его отговорили. Но расстраивался он недолго. Тут же перевернул вверх дном чулан и построил из хлама космический корабль во дворе. Тощий и вытянутый, как гороховый стручок, Никита без устали мельтешил по территории Школы с новыми идеями, не давая никому скучать. Он был настоящим заводилой и душой их детской компании. Но теперь все изменилось. Некому стало носиться по здешним садам и лабиринтам из подстриженных кустов. Не гремел больше многоголосый смех, не дребезжали окна от шума и гама. В Школе остались только Вовка с Никитой. Когда Вовка подошел к мосту, колокольчики встретили его ленивым побрякиванием. Похоже, ветру надоело с ними играть, и он переключился на опавшие листья у кладбища. Отсюда открывался замечательный вид на Школу и ее окрестности. Пятиэтажное здание возвышалось над растительным морем невероятным глазастым чудовищем. Изумрудными волнами разливались вокруг кусты можжевельника, сияли золотистыми кронами березы, а в косматой голове дуба-великана виднелись доски секретного домика. Когда тут кипела жизнь, казалось, места очень мало – всех не уместить. Но теперь осень приходила в пустынные края, где можно было заблудиться. Вовка изучал землю, пытаясь найти следы. Грязные отпечатки на мосту, вмятины в земле, затоптанная трава – что угодно. Он знал, что невидимки сюда не ходят. Боятся. Зовут детей с той стороны, не решаясь ступить на мост. После того как один невидимка попался, другие стали осторожнее. Так рассказывали. Кто и когда – Вовка уже не помнил, но это было не так важно. Главное, что он помнил истории про зов. А еще наблюдал, как от моста стайками улетают птицы, будто их спугнули. Как громче начинают петь колокольчики на привязи, словно кто-то задел их. И как с наступлением темноты оживают тени. Территория Школы располагалась посреди густого леса, который раскинулся до самого горизонта во все четыре стороны. Ее опоясывала бездонная пропасть, как защитный ров, не давая чаще проглотить последнее обиталище горстки детей. Единственным связующим звеном был мост. Скрипучий, страшный и очень древний. По ту его сторону деревья казались живыми: их ветки сплетались в причудливые фигуры и лица, манили к себе, шелестели листвой и что-то шептали. Никита как-то раз добежал до самой границы и почти дотронулся до одной из веток. Вовка даже до середины моста не доходил, это было уже чересчур. Там, где темная шкура леса вздувалась волнами от дыхания ветра, начиналась страна невидимок. Жуткий мир безликих и одинаковых. Не найдя никаких следов, Вовка немного успокоился. Главное ведь что? Не поддаваться зову. А здесь их никто не тронет. Таковы правила. И не нужно выдумывать всякую жуть. Он побросал камешки с края обрыва, разбудив нескольких светляков, которые раньше времени стали подниматься из темноты внизу. Почему-то это занятие его успокаивало. Когда рядом в воздухе плавали живые лампы, дурные мысли отступали. Набегавшись в облаке бабочек в сиреневом саду, Вовка завалился на газон и смотрел на тучи. Одни были похожи на кувшинки, другие – на странных зверушек, а большинство размазалось по небу великанскими кукурузными початками. Захотелось есть. Вовка пробрался через живую изгородь боярышника и вышел к пруду. Никиты не было. В воде мелькнуло темно-зеленое тело Усача, и сом исчез на глубине. На берегу, громко переквакиваясь, за мошкарой следили лягушки. Когда он забрался в домик на дереве, небо уже потемнело. Маша, Коля, Илья, Юля, Игорь – все доски были исписаны детскими именами. Десятки, сотни, если не тысячи имен. Многих Вовка даже не знал. Хотя Олесю он не только знал, но и вспоминал часто, поэтому обвел ее имя кружочком. Это была первая девочка, которая ему понравилась. Достав из сундука подзорную трубу, Вовка решил найти Никиту. Высунулся в окно и принялся изучать окрестности. В траве около моста ковырялся ежик, на кладбище сразу три галки взгромоздились на одно надгробие и о чем-то спорили на своем птичьем языке. Слепые окна Школы отражали уходящий свет, а из трубы валил дым. Значит, ужин не за горами. Вернувшись взглядом к мосту, ежика он уже не нашел. По ту сторону пропасти колыхалась тьма. Из провала летели новые светляки. Вовка направил трубу над чащей, но увидел только черноту. Тогда он достал еще одну линзу, приделал ее к первой, собрался с духом и заглянул в страну невидимок. Одинаковые нагромождения домов и этажей росли ввысь до бесконечности, а между ними куда-то спешили машины, которые Вовка видел в кино. Ни деревьев, ни цветов, ни водоемов – ничего. Только серый туман перебирался от одного здания к другому, рвался на части и присоединял к себе новые сгустки. Это и были невидимки. В сундуке лежала третья линза, самая мощная. Говорили, что с ее помощью можно разглядеть даже невидимку, как бы далеко тот ни находился. Но Вовке не хватало смелости это проверить. Вдруг тогда и с той стороны кто-то его увидит?.. На крышу опустилось что-то тяжелое. Раз и два. Шаги. Лестничные перекладины были прибиты прямо к стволу дуба, а вход в домик располагался сверху, где в потолке проделали небольшой люк. Чтобы попасть в этот секретный наблюдательный пункт, надо было подняться по дереву, перелезть на здоровенную ветку, потом на окутанную листвой крышу и уже оттуда спрыгнуть на пол домика через люк. Ну или потихоньку спуститься по приколоченным на внутренней стене дощечкам, если прыгать боишься. Шаги измерили крышу от края до края. Медленно-премедленно, словно человек (человек?) сверху размышлял, лезть ему внутрь или нет. У Вовки пересохло во рту. Хотелось позвать Никиту, сказать, чтобы прекращал дурачиться, но топот сверху становился громче, и все остальные звуки тонули в нем. Вовка радовался лишь тому, что по привычке прикрыл люк от дождя. Так тихо, насколько это вообще возможно, он отложил трубу, взобрался на пару ступенек и схватился за ручку люка. Шаги замерли где-то над головой. С той стороны дернули. Люк не сдвинулся – вспотевшая за секунду Вовкина рука тянула вниз. Вновь шаги, на этот раз быстрые, нервные. В люк пришелся сильный удар, и Вовка вздрогнул. Кто-то сверху рванул на себя, скрипнули доски. Еще удар, на голову посыпалась древесная пыль. Когда крышка люка стала ходить ходуном, а в возникающих щелях так никто и не появился, Вовка расслышал шепот. И тогда он закричал.Никита ухохатывался, рассказывал, какая рожа была у Вовки, показывал эту самую рожу и снова ухохатывался. А Вовка молчал, скрипел зубами и злился. Розыгрыш удался, ничего не скажешь. – Ну ты даешь, совсем же помешался на этих своих невидимках! Они сидели в обеденном зале. В лампах, не давая темноте затопить комнату, жужжали светляки. Никита уплетал ужин, давясь смехом и жареной картошкой. Стоило ему взглянуть на Вовку, как случался новый приступ хохота. – Дурак ты, вот и все, – сказал Вовка. В зеркале возникло усталое лицо. Вовка помахал призраку, тот кивнул и уступил место еще одному. Здесь жили шесть стариков – незаметные, безголосые, являющиеся лишь в отражениях. Почти невидимки, только очень добрые. Вовка видел, как они грустят по ушедшим детям, как им до сих пор хочется накрывать столы на сотню человек, шить для них одежду, заботиться, оберегать. Школа всегда отличалась порядком. Газоны пострижены, цветы посажены, еда приготовлена, постели разобраны – стоило только отвернуться. Призраки взяли на себя все, живи да радуйся. Только вот от зова они защитить не могли. – Ну не придут они, у нас ведь этот в клетке сидит, а они его чуют; чуют, что ему плохо, вот и не идут, – тараторил Никита. – Вот ты б к ним пошел? – Я что, дурак? – Вот и они не пойдут! Вовка кивнул. Подумал немного и спросил: – А ты… если услышишь, скажешь мне? Никита закашлялся, выпил воды. – Тьфу на тебя! Я закрою уши и не буду ничего слушать. Что и тебе советую. Они всегда договаривались, клялись рассказывать о любом шепоте, но ни один из ушедших обещания не сдержал. Невидимки звали, умели найти слова, и дети уходили.
Время летело очень быстро. Через месяц листва стала больной и сморщенной, ветер ледяным, а ночь начала приходить намного раньше. Теперь даже Никита не рисковал купаться. Усач, казалось, впал в спячку где-то на дне пруда. Вовка нашел друга на их крохотном кладбище: всего два ряда безымянных могил, по три штуки в каждом. – Там что-то жужжит, точно тебе говорю. – Никита прислонил ухо к земле у одного из надгробий, слушал. – Как будто скребется кто. Прикинь? – Надоели уже твои шуточки. – Да я серьезно, – сказал Никита, поднимаясь и отряхивая колени. – Мож, раскопаем? Вовка выпучил глаза: – Совсем сдурел, что ли?! Никита пожал плечами и задумчиво уставился на надгробие. В последнее время он был очень странным. Почти не предлагал поиграть и побеситься, зато целыми днями торчал на верхних этажах Школы. В библиотеке, в учебных классах. Мог даже в кинотеатре вместо боевика или комедии попросить поставить какой-нибудь дурацкий фильм о садоводстве или типа того. Вовка учиться не любил. Призраки были готовы вести уроки каждый день, но никогда никого не заставляли их посещать. Все только по желанию. Иногда дети забредали на занятия от скуки, иногда из любопытства, кому-то учеба даже нравилась. Но вскоре это стало плохой приметой. Чем чаще посещаешь классы, тем быстрее уйдешь на зов. Как будто невидимки специально заманивали учеников. Все об этом говорили, но никто не воспринимал примету всерьез, когда дело касалось его. И теперь Вовка чертовски переживал за друга. – Кажется, на мосту сегодня кто-то побывал, – сказал он, чтобы сменить тему, пока Никита не вздумал бежать за лопатой. Тем более что была и другая причина для тревоги. – Листья прям комками валялись. И в грязи какая-то ерунда. – Да сколько ж можно… – Погоди ты. Они к нам не ходят, пускай так. А что, если это наш ходит?.. В глазах друга сверкнул знакомый огонек. На секунду даже показалось, что Никита обрадовался. Не испугался, а просиял в предвкушении. Ведь это было приключение в его духе. Они решили сходить к клетке. Просто проверить, что к чему, а не лезть внутрь – они ведь не самоубийцы. Никита отломал у лиственницы большущую ветку, и мальчишки, миновав теплицы, отправились в самую заросшую часть сада. Говорили, к клетке с невидимкой ни в коем случае нельзя подходить, потому что тот может до тебя дотянуться. Сейчас Вовке очень хотелось послушаться, но надо было все проверить ради собственного спокойствия. А вот Никите не терпелось нарушить старые запреты. Клетка напоминала птичью, только была под два метра в высоту. Располагалась она в центре виноградников. Поблекшие лозы опутывали закругляющиеся кверху решетки, а дно скрывалось в высокой траве. Сюда никто не ходил, потому что иногда невидимка очень громко выл. И это было действительно страшно. – Готов? – шепнул Никита. Вовка покачал головой. Друг улыбнулся и перехватил палку удобнее. – Давай! Вовка схватил виноградные щупальца, рванул в сторону. Растительное покрывало сползло и обнажило часть клетки. Подскочил Никита и палкой стал махать во внутренностях невидимкиной тюрьмы. Вовка вполглаза смотрел за другом, чувствуя, как шевелятся волосы на макушке. Вот сейчас, сейчас его схватят за руки и дернут на себя, прижмут, протащат сквозь прутья то, что останется… – Пусто, ну! Никого! Палка свободно гуляла по клетке и обстукивала прутья, ни в кого не утыкаясь. Никита, совсем осмелев, даже просунул туда обе руки. Невидимка сбежал. Мальчишки набрали ила в пруду и вывалили целую гору у моста. Теперь, если кто-то захотел бы по нему пройти, обязательно оставил бы следы. На кухне дышала жаром большая печь. Пахло березовыми поленьями и тушеным мясом. – Ничего, – говорил Никита, нарезая огурцы с помидорами. – Завтра что-нибудь придумаем. Поймаем его, если еще не умотал к своим! В вечернем небе, разгоняя темноту, кружили сотни светляков. Из своих потусторонних окон смотрели призраки. Их тревожные лица сменяли друг друга в развешанных по стенам зеркалах и напоминали большие черно-белые портреты. Самые старые обитатели Школы чуяли беду. – Ты чего делаешь? – спросил Вовка. – А? – Ты что… готовишь? – Да какой там. Просто салата захотелось. Ну или ножом помахать немного. Они посмеялись, поужинали и разошлись по комнатам в хорошем настроении. Но перед этим впервые за много-много дней закрыли все двери. Укладываясь спать и прислушиваясь к крикам сычей из темноты, Вовка на какое-то время поверил, что завтра они и вправду поймают невидимку. Но все получилось не так. Никита ушел на зов. Все вокруг можно было не обыскивать, хватило отпечатков детских ног в иле у моста. Вовка остался один.
Там действительно что-то скреблось. Прямо перед уходом Никита втихаря успел выкопать под могильной плитой небольшую яму, но бросил дело на полпути. Вовка подобрал лопату и ковырнул землю. Он копал и копал – скорее в память о друге, чем для чего бы то ни было еще. Вовка просто знал, что это правильно. Когда лопата уткнулась в дерево, звук усилился. Теперь снизу не просто скреблось, но и жужжало. Вовка раскидал грязь и увидел, как из трещины в гробу вылезает светляк. Жирный, черный, неправильный светляк. Он был больше любого другого раз в пять и, казалось, сам рано или поздно проломил бы крышку и выкопался. – Ты-то как туда попал? – спросил Вовка, присаживаясь на корточки. Жук задребезжал крыльями и поднял тяжелое тельце в небо. Он так и не вспыхнул, просто завис в воздухе на мгновение, а потом полетел в сторону садов. Вовка смотрел ему вслед, пока черная точка не исчезла в умирающих зарослях. А потом повернулся и зашагал домой. Школа хранила молчание, потому что жизнь из нее ушла вместе с детьми. Вовка ни в чем не нуждался, призраки делали все, чтобы мальчишка забыл о невидимках. Он перестал выходить на улицу, целыми днями не вылезал из кровати. Ел, спал, разговаривал с зеркалами, подолгу смотрел в сумерки с балкона. А ночью заворачивался в одеяла и всхлипывал под завывания ветра. Так прошла осень. Он не сразу узнал собственное отражение. Сквозь рябь на поверхности пруда смотрел чужой человек, водомерки бегали по чужому лицу. – Все поменялось, да? Сом не отвечал. Вечно удивленные глаза поднимались из темной воды, наблюдая за сидящим у берега мальчишкой. Усач слушал. Вовка поймал двух светляков, запихнул их в стеклянный фонарь к остальным и тряхнул как следует. Стало ярче. По ночному небу плыли крохотные жужжащие солнца, заслоняя даже звезды. Сегодня днем Вовка вставил третью линзу в подзорную трубу и разглядел лица невидимок. Почти все злые, серые, с усталыми глазами. Но среди них были и знакомые. Даже Никита. Вовка с трудом его узнал, потому что тот был взрослый. А с ним была и взрослая Олеся. – Ну и пусть, да? Усач развернулся, и его трехметровая туша начала погружаться. Хвост вскинулся над водой и исчез в пузырящихся кольцах. Сверху посыпались первые снежинки. …На стене в библиотеке висел ключ. Его никогда не трогали, потому что никому и в голову не могло прийти выпустить невидимку. Но, если тот сбежал, какая теперь разница? Содрав с клетки ошметки винограда, Вовка отыскал замок. Ковырнул скважину и обнаружил, что тот не защелкнут. Клетка всегда была открыта. Шагнув внутрь, он увидел люк в полу. Там тоже был замок – на этот раз защелкнутый, – но ключ из библиотеки подошел. Под потолком пряталась труба, из которой тяжелым дыханием выходил ветер – тот самый вой невидимки. Все истории оказались неправдой. В подземелье светляки сложили крылья, спрятались под панцирем, но Вовка их растряс. Желтые пятна поползли по рядам колыбелек, по спящим в них младенцам. Десятки кроваток терялись в темноте. Из каждого свертка с малышом раздавалось едва слышное жужжание. Слева выросла высокая фигура, и Вовка вскрикнул. В стенки фонаря забились светляки. Один из стариков-призраков приложил палец к губам и вышел за край зеркала. Вовка тихонько отступил и выбрался наружу. Он не слышал зова, но шагал вперед. Ноги не слушались, фонарь в руке дрожал. У моста Вовка обернулся к Школе. Красивые места, отличный дом, жизнь без хлопот… А впереди была неизвестность. Страна невидимок, где так просто потеряться. Он ступил на мост. В животе кольнуло, заскребло. Еще шаг. Вовка уронил фонарь, из треснутого стекла выбрались на свободу светляки. Вовка упал на колени, закашлялся – что-то царапало горло. Вместе со слюной изо рта вывалился черный жук. Он прополз пару метров, замер, а потом расправил крылья и вспыхнул, точно пламя свечи. Уже через минуту блуждающий огонек исчез в тени виноградников. Дышалось легче, страх ушел. Вовка поднялся и в последний раз оглянулся туда, где по садам, цветникам, особняку и пруду плыли причудливые тени, а в воздухе ворочались жуки-осветители. – Я буду скучать, – сказал он и двинулся к шепчущим деревьям на той стороне моста. Страна невидимок встречала нового жителя.
О стеклянных человечках
В комнате было слишком холодно, и Ира перенесла мольберт на кухню. Газовые лепестки на плите давали хоть какое-то тепло. За окном голосил ветер, разгоняя спящие на карнизе снежинки. Зима стучалась в замерзшее стекло мягкими пушистыми варежками. Сквозняк лизнул шею прямо сквозь горловину свитера, и Ира поежилась. Она заклеила оконные рамы и все щели, которые нашла, но это не спасало. Пару дней назад сантехники сказали, что батареи надо менять, иначе тепла не будет. Платите денежки – и мы все устроим. Вот только денежки у Иры давно не водились. Светло-серое изображение на холсте медленно приобретало человеческие черты, однако неправильные изгибы конечностей и пустые глазницы делали создание похожим на персонажа мрачных сказок. Безликое существо с прозрачной кожей. Заколдованный принц из стекла. Зазвонил телефон. Ира положила кисть и вдохнула запах краски. Руки дрожали. Она сильнее натянула шапку, локоны сбились у влажных глаз. Телефон звонил. От этого звука, казалось, вибрировала вся квартира. Звенели стекла, гудела свисающая с потолка лампа, дверные петли скрипели многолетней ржавчиной. Ира прошагала в ванную и встретила отражение в лопнувшем зеркале. Глядящая сквозь паутину трещин девушка походила на привидение. Изможденное лицо, бледная кожа, бесцветные заплаканные глаза и волна морщинок вокруг высохших губ. Ира зажмурилась. У нее не было телефона, но надоедливая трель сверлила голову вторую неделю. Вернувшись на кухню и достав с полки полупустой пузырек, Ира отправила две таблетки в рот. Горечь скрутила челюсть, к подбородку поползли слезы. Запив лекарство остатками вчерашнего чая, Ира подошла к мольберту. Странный человек смотрел прямо на нее, пусть даже у него не было глаз. Ира аккуратно дотронулась до серого лица, погладила нежно. На пальцах остались следы краски. В этот момент телефон наконец-то заткнулся.Сотни стеклянных лиц наблюдали за собирающейся хозяйкой. Они были повсюду: на книжных полках, на подоконнике, на новогодней елке. Прозрачные человеческие фигурки. Всего лишь кусочки стекла, однако благодаря Ире имеющие собственные имена и судьбы. Ира взяла сумку с недавно законченными игрушками, виртуозно склеенными из битых бутылок. Подхватила тубус с картинами. – Пожелайте удачи, ребятки. Висящие на елке фигурки зазвенели от прикосновений сквозняка, и такого напутствия Ире было вполне достаточно. Застегнув куртку и натянув перчатки, она покинула медленно замерзающую квартиру. В метро, как обычно, было суматошно. Людские потоки в попытках затоптать друг друга штурмовали выскакивающие из туннелей вагоны. В этой шумящей массе Ира чувствовала себя капелькой воды, которая уносится в канализационные трубы. В спрятанный от дневного света водоворот, пожирающий людей. Здесь она становилась частью организма, живущего в своем подземном логове и не признающего законов мегаполиса над головой. Карта метрополитена с прошлого раза ничуть не изменилась, но Ира рассматривала ее, словно любимые работы Бексинского или Зара. Она не могла вглядываться в людей, потому что ее творческое мышление переделывало их образы в нечто странное. Прижатые к сиденьям, вдавленные соседями в стены и двери случайные попутчики превращались в насекомых. В блошек, жучков, мушек, которых запихнули в спичечный коробок и тянут за собой на веревочке ради забавы. А изнутри, из самого центра коробка, доносятся тревожное жужжание, стрекот, скрипят жвалы, и букашки поедают друг друга, и букашки умирают… Когда объявили нужную станцию, Ире даже не пришлось пробиваться к выходу – хлынувший из вагона поток просто вынес ее на платформу, стоило отпустить поручень. Огромный муравейник метрополитена не затихал ни на мгновение. Ира ловко миновала зубастые турникеты и проскочила шеренги попрошаек, музыкантов и продавцов всего на свете. Толкнув сопротивляющиеся двери, она шагнула навстречу свежему воздуху в ощетинившуюся сосульками Москву. Колючий ветер задувал в подземный переход у Центрального дома художника случайных прохожих, которые были только рады немного погреться и бесплатно посмотреть на представленные в импровизированной галерее работы. Ценниками интересовались, скорее, из спортивного интереса. Завидев знакомое лицо, Ира стряхнула снег с головы и двинулась вперед. Лицо тоже распознало девушку, несколькими фразами распрощавшись с заросшим, как Робинзон, собеседником. – Привет, Ирин. Ну и погодка нынче, хоть нос из дому не высовывай, ага? – Здравствуйте, Игорь Степанович. Да уж, бывало теплее. Я тут вот принесла кое-чего… – Ну пойдем посмотрим, коли так. Коли кой-чего. Забавного вида старичок-толстячок с седым казацким чубом повел гостью вдоль разномастных творений творческого люда столицы. Акварель, гуашь, уголь, масло – техники и способы рисования на любой вкус. Прекрасные работы сменялись бездарной мазней, присутствие которой здесь приводило Иру в недоумение. Игорь Степанович усадил гостью на складное кресло, налил чаю из термоса и принялся изучать картины. – Что, совсем плохо? – грустно спросила Ира, прочитав на лице Игоря Степановича знакомое выражение. – Да нет, почему же. Техника у тебя отменная. Но… – Он вздохнул. – Опять они? Зачем? Мы же с тобой говорили на эту тему. Ира непроизвольно затеребила рукава куртки. Действительно, зачем? Как объяснить, что она рисует не обычные стекляшки, а будто бы людей из другого мира? Которые чувствуют ее, общаются с ней, которые без нее умрут. – Игорь Степанович, мне очень нужны деньги. Уже и есть нечего, про оплату квартиры я вообще молчу… – Дорогая моя, я все понимаю. И сочувствую. Но ведь и себе в убыток работать не хочется. А ты зациклилась на своих стеклянных человечках… Неужели больше рисовать нечего? – Больше ничего не рисуется, – сказала Ира. – Физически не могу. А они для меня как родные… Сама это объяснить не в состоянии. Но я точно знаю, что рано или поздно они мне отплатят. – Ну, скорее поздно, уж прости за откровенность. Народ этих чудиков-юдиков не покупает. Кто автор, спрашивают часто, но не берут. Как ни играй с ценами. – Игорь Степанович, может, в последний раз? И больше не буду с ними к вам приставать. Честное пионерское. – Прости, Ирин. Ну не пойдет так. Игрушки возьму, под Новый год спихнуть должны. Денег могу одолжить немного. Но картины не приму. Мой тебе совет: меняй профиль. Работу еще какую-нибудь найди, чтобы, так сказать, увереннее на ногах… Старик еще что-то говорил, но Ира его уже не слышала. Телефонный звон опять ворвался в мозг, уничтожая последние крупицы самообладания. Окружающие никак на звук не реагировали, и Ира, пошатываясь, побрела в сторону метро. Несуществующую трубку никто не брал. В этот раз удалось присесть. Ира лишь надеялась, что место ей уступили не потому, что она похожа на старуху. Когда поездка завершалась удачной сделкой, обратная дорога казалась короче. Другое настроение, другие перспективы. Теперь же состав еле плелся в темной кишке подземки, словно собирался умереть прямо в туннеле. Ира плохо помнила, как покинула галерею, хотя сейчас ее это мало заботило. Участившиеся приступы ничего хорошего не сулили. Теперь она хотела только одного – попасть домой. Подальше от людских взоров, под защиту своих стеклянных друзей. Снег под ногами превращался в серое месиво. Ира шагала к дому мимо детского садика, в котором давным-давно так любила играть. За обросшими морозной коркой прутьями забора вдруг что-то мелькнуло. Ира остановилась и прильнула к холодному железу. На территории садика находился живой уголок, целиком сделанный изо льда. Ира понятия не имела, когда успели создать всю эту красоту. Белые медведи, пингвины, олени и зайцы тесным кружочком скучились неподалеку от карусели. Но не эти скульптуры заставили застыть в изумлении. Посреди зверей стоял высокий человек, чье движение и померещилось Ире. Скорее всего, ее внимание привлек отблеск солнца на ледяной поверхности, но сейчас это не играло никакой роли. Ира узнала заколдованного принца – образ, засыхающий на холсте в ее квартире. Бледно-серая фигура, деформированное тело, пустые глазницы. Очередной стеклянный человечек, которому Ира еще не успела дать имя. Она очнулась, только когда поняла, что превращается в сосульку. Перчатки прилипли к забору, ноги ниже колен практически не ощущались. Ледяной человек стоял всего в нескольких шагах поодаль. Ира была обязана хотя бы прикоснуться к нему. Она повернула голову в сторону калитки, зажмурилась, сбрасывая с ресниц прилипшие снежинки, а когда вновь открыла глаза, в мир пришла тьма. На улице густела ночь, за забором в свете фонарей блестели лишь одинокие сугробы. Ноги сами несли Иру, словно пьяницу, по ночным переулкам. Прохожие сторонились ее, предпочитая не встречаться взглядом. Ира ничего не понимала. Все грани ее маленького мирка потерли огромным ластиком. Явь, сон и бред слепили в грязный снежный комок и выбросили с крыши небоскреба. В квартире холод ощущался не так сильно. Закрыв дверь, Ира бросилась на кухню. На заветной полочке ждали своего часа таблетки. Набрав из крана воды, Ира трясущимися руками стала заглатывать содержимое пузырька. Сбивавшиеся в кучки таблетки царапали горло, но ей было плевать. Когда безумие стучится в черепную коробку, на лекарствах можно не экономить. Отправив пустой пузырек в ведро, Ира вошла в комнату. Как всегда, безмолвно приветствовали хозяйку стеклянные человечки. От одного взгляда на эти фигурки у девушки наворачивались слезы. Что за навязчивая идея? Почему именно они? Мрачные людские карикатуры подчинили себе все ее существо. Но Ира по-настоящему любила их и не могла представить другой жизни. Или стеклянные человечки не хотели другой жизни для нее. Ира подошла к мольберту. Запах краски немного приводил в чувство. На нее смотрел ледяной человек с игровой площадки детского садика. Заколдованный принц. – Я не сумасшедшая… – сквозь слезы пробормотала Ира. Лампа под потолком загудела сильнее, и болезненный свет выхватил ползущие по стене трещины. – Я не сошла с ума. Вязкий пол, напоминающий снежное болото, медленно засасывал Иру. На ковер сыпалась штукатурка, хрустели оконные рамы. Ветер трепал края холста. Стеклянные человечки двигались сами по себе. – Как же я буду скучать по вам, ребятки, – сказала Ира под легкий звон фигурок. Ее глаза лопнули, тело раскололось и брызнуло стеклянными крошками. Вторгнувшаяся через окно стужа взяла умирающую Иру в свои объятия. В ее странный мир окончательно пришла ночь. Теперь уже навсегда.
Когда Оля вошла в комнату, кот с блестками на шерсти вылетел оттуда как ужаленный. – Зараза-ты-такая-я-тебе-сейчас-хвост-оторву! – злобно протараторила она. Паршивец уже второй раз опрокинул елку. У Оли и так не оставалось времени, муж с дочкой должны были вернуться через час, на кухне дел невпроворот, а тут еще этот вредитель… Она подняла елку и стала сметать разбитые стекляшки в совок. По счастью, пострадали только странноватые фигурки, которые дочка упросила купить в переходе метро. Пузатый старик, мужик с разводным ключом, девушка с мольбертом… В дверь позвонили, и тут же заверещал телефон на тумбочке возле елки. – Да вы издеваетесь! Оля на мгновение застыла посреди комнаты с совком, потом оставила его на ковре у тумбочки и пошла открывать. – Кому надо – перезвонят, – пробурчала она. Наступал Новый год. Елка мигала всеми цветами радуги. В совке умирали стеклянные человечки. Телефон звонил и звонил.
Черепаший архипелаг
Берег пропал в туманной дымке минут десять назад. Пока моторка прыгала по волнам, Глеб смотрел на небо. Тяжелые тучи опустились еще ниже, едва не касаясь кромки воды. Плохая видимость играла на руку, хотя солнечные просветы оставляли место для тревоги. Давно прошли времена, когда блюдца путались в облаках. Скляр, как обычно, бубнил под нос, держась за борта лодки. Море пенилось и брызгалось, стараясь залезть в моторку и добраться до людей. Прямо по курсу показались контуры Черепашьего архипелага. – Прилетит вдруг волшебник, – пропел Скляр, поднимая голову. – В голубом вертолете… Темные облака, взявшись за руки, плыли к границе неба и воды. – Чего? – спросил Глеб отца. – Глуши мотор. Быстро. Глебу два раза повторять не потребовалось. Зрение отца было каким-то аномальным, казалось, он и без бинокля все видит. И если ему почудилось, что лодку лучше остановить, испытывать судьбу не стоило. Посудина перестала хрипеть и поддалась течению. Глеб вскинул бинокль и далеко в небе рассмотрел темное пятнышко. – Похоже, в нашу сторону, – сказал он, разматывая брезент. – Точно, – кивнул Скляр. – А птицы против ветра вроде не летают. Голос погаси. Если это блюдце, а он заорет, то все. Крышка. Глеб отключил громкость рации и стал заваливаться на днище. Оптический прицел «Винтореза» оказался прямо перед лицом. Скляр прикрыл лодку брезентом, раскрашенным под цвет воды, и улегся рядом. Волны шумели под ухом, словно нашептывая молитвы голосами мертвых моряков. Небеса застыли в ожидании грозы. – Наш бы уже пролетел, – едва слышно произнес Глеб. – Слишком тихо. Как в воздухе завис. – Типун тебе… Лодку качнуло от удара в днище. По брезенту поползли морские капли. Рядом механически-скрипучим голосом что-то зашумело. Глеб перевернулся на бок и схватился за «Винторез». Выбравшись из-под брезента, он направил ствол в небо. Тягостная пустота плескалась над головой. В черной воде исчезал кусок плавника, распуская по волнам пузырящиеся круги. – Ну вот что ты за человек? – спросил Скляр. Вновь зашипела рация. Пасмурное небо оставалось спокойным, как и море. – Да я выключил ее вроде… – Сын… У тебя куда ни глянь – одни «вроде», – скрежетал Скляр. – Вроде вырубил рацию, вроде зарядил винтовку, вроде заправил моторку. Глеб поморщился. В очередной раз вспоминать многочисленные промахи ему не хотелось. Он взял рацию и стал настраивать частоту. Этот чудо-агрегат слепил один из умельцев на большой земле. Все величали устройство Голосом, и главной его особенностью было то, что в конструкции практически не использовались земные детали. Мало кто мог разобраться во всех возможностях склеенного из техники визитеров аппарата, но сигналы из разных уголков планеты он ловил довольно легко. А порой в эфир пробивались такие звуки, о природе которых оставалось лишь догадываться. – Пойми же наконец, – продолжал Скляр, – здесь уже не до шуток. Тут любое твое «забыл» может обернуться совсем печально. Причем не для тебя одного. – Я понял, понял. Извини. – «Извини!» – передразнил сына Скляр. – Вот и что бы ты с винтовкой сделал, если бы они висели над нами? Глеб закатил глаза и стал ковырять мотор. Отца он уважал безмерно, но вот его любовь ткнуть носом не могла не раздражать. Лодка ожила и стала набирать скорость. В воде не было никаких признаков жизни, хозяин плавника ушел на глубину. Черепаший архипелаг рос посреди моря неровной линией горбов. Сверху он походил на группу маленьких островов, которые жались друг к дружке в попытке согреться. На самом же деле это было настоящее кладбище. На дне покоились обломки боевых кораблей, раздутые мертвецы в черной воде сделали это место пастбищем акул. Поверхность моря заполняли выпуклые спины сотен кораблей пришельцев. Словно черепашьи панцири, они усеивали воду едва ли не до горизонта, очерчивая территорию самого крупного морского сражения последней войны. Людям здесь места не было. Глеб не знал, из какого материала сделаны корабли визитеров и почему они не спешат идти ко дну. Его это не слишком интересовало. Зато он знал, что среди обломков порой удается отыскать образцы инопланетной техники и даже оружия. Такими вылазками они с отцом и занимались, давая мозговитым ребятам с острова возможность смастерить что-то полезное. Лодка перешла на весельный ход, протискиваясь между искореженных остовов. На самом деле, когда среди осколков неба на землю посыпались пришельцы, корабли их не слишком напоминали блюдца или тарелки. Они вообще имели разную форму. Но называли их только так и никак иначе. Небо загудело, и над головой пронеслись два истребителя. Глеб выпученными глазами смотрел на инверсионный след, расцветающий под грузными облаками. – Что за херня! – выругался Скляр. – Как мы их не услышали? – А я откуда знаю? Думаешь, с «Невидимки»? Скляр стоял в лодке, разглядывая проглотившее самолеты небо. Вокруг на волнах колыхались развороченные спины тарелок. – Я ничего не думаю. Лишь бы они не привлекли внимания. Они стали пробираться вглубь архипелага. Скляр нервно поглядывал вверх, но продолжал имитировать спокойствие. От Глеба это не ускользнуло, он видел, что отцу страшно, и на то были веские причины. Случись что в этом мрачном месте, быстро выбраться отсюда не получится. Сначала нужно будет добраться до открытой воды. В ушах вновь стал нарастать гул, и они заметили еще один самолет. Прятаться тут смысла не было, и Глеб просто сел ближе к отцу. Зачеркнув небо белым фломастером, истребитель стал превращаться в точку. – Давай-ка послушаем эфир, – задумчиво сказал Скляр. – Не к добру эти полеты. Глеб поднял причудливой формы рацию и прибавил звук. С виду эта штука напоминала будильник с единственным окошком для цифр и россыпью рельефных регуляторов с каждой стороны. Только вместо цифр на экране мелькали желтые полосы неизвестной породы. Пока Глеб пытался поймать частоту, на которой в большинстве случаев слышались голоса «Невидимки», лодка сменила направление. Теперь она двигалась к черепашьему хвосту – тянувшемуся из воды шпилю, будто вросшему в один из разбитых кораблей визитеров. – …собрать сведения, как можно… – заголосила рация, заикаясь и увязая в помехах. – Продолжить разведку квадрата… Скляр остановил лодку и стал надевать акваланг. – Оставь этих, вдруг что проклюнется. Глеб отложил в сторону дребезжащую рацию, которая выплевывала лишь обрывки фраз, и обратился к отцу: – Ты куда собрался? Сегодня же моя очередь. – Нельзя, – покачал головой Скляр. – Слишком много плавников попалось по пути. Будешь подстраховывать, если что. Возразить Глеб не успел: отец уже исчез в большом пенном круге воды, словно пуля в сердцевине мишени. Где-то вдалеке послышался плеск. Глеб огляделся, протягивая руку к «Винторезу». В этом месте не акулы были самыми страшными врагами. Край мертвых кораблей походил на сборище урн колумбария, но никто и никогда не проверял, все ли хозяева тарелок нашли тут свою смерть. Черепаший хвост тонул далеко в глубине, где среди черной воды был открыт проход в корабль. В тамошних внутренностях имелось много чего любопытного, однако вытащить весь инопланетный хлам на поверхность оказалось не так просто. Поэтому Глеб с отцом наведывались сюда не слишком часто, но почти всегда уходили с уловом. Среди помех выскакивали голоса. Сообщения по большей части были шифрованными, но Глеб понял, что готовятся какие-то действия. Да и самолеты в небе просто так никогда не летали – теперь это была чужая территория. «Невидимкой» звался авианосец, в существование которого верил каждый житель их небольшого поселения. По каким-то причинам до него не могли добраться пришельцы, он, как «Летучий голландец», призраком бродил по водам, обреченный держаться подальше от опасных берегов. Иногда переговоры с корабля попадали в эфир, и из них становилось ясно, что «Невидимка» старается вносить свою лепту в войну, причем весьма успешно. Когда в небе появились реактивные птицы, Глеб наблюдал за курсирующим между «панцирей» плавником. В прицеле винтовки акула уже не казалась такой страшной. Пока эта чертова рыбина плавает на поверхности, отец в безопасности. Если только к нему не нагрянут другие местные завсегдатаи. Троица самолетов на высокой скорости пронеслась мимо, как вдруг один из них превратился в размазанную по небу кляксу. Оглушительный взрыв заменил природный гром. В воду полетели горящие обломки. Глеб вскочил на ноги, в ужасе задрав голову. От облаков отделилось черное пятно и выплюнуло еще пару молний. Все они угодили в цель, обрубив крылья второму истребителю. Дымящаяся машина по спирали пошла вниз и торпедой продырявила море. Глеб упал в лодку, не соображая, что делать дальше. Блюдце повисло в паре сотен метров от него, ожидая разворота последнего истребителя. Самолет не обладал и толикой той маневренности, которой славились корабли чужих, и ему пришлось делать крюк. Где-то посреди разыгрывающейся сцены Глеб разглядел купол парашюта. Но его разглядело и блюдце, тут же стерев с бугристого облачного горизонта. Все случилось настолько быстро, что казалось давно отрепетированным спектаклем. – Борт двадцать девять, что у вас там? – спросила рация, и Глеб чуть не грохнулся в воду. Самолет развернулся, и к блюдцу бросились ракеты, словно озверевшие цепные псы. От одной корабль играючи уклонился, но вторая врезалась в корпус и лопнула красным заревом. Блюдце задергалось из стороны в сторону, по чешуе побежал огонь. Новая ракета разорвала небо пополам, и Глеб непроизвольно вскрикнул от радости. Но выстрелил не истребитель. Заряд из корабля пришельцев скомкал самолет и превратил его в горстку пепла. Металлическая пыль посыпалась на воду, точно черный снег. – Немедленно возвращайтесь на базу, это приказ! – закричала рация. Только Глеб наклонился, чтобы ее подобрать, как в ушах опять громыхнуло. Он оступился, едва не перевалившись через край. Лодка ходила ходуном. Равновесие Глеб все-таки сохранил, но рация уже выскользнула за борт. – Твою ж мать! – гаркнул Глеб, предвидя реакцию отца. Но, подняв голову, он забыл обо всем. Пылающее блюдце падало прямо на него. Оно рухнуло в воду в нескольких метрах от лодки, словно отпружинив, пронеслось над макушкой Глеба и через пару прыжков по морской поверхности завязло среди собратьев. В небе кружил виновник последнего взрыва – небольшой гидровертолет, смахивающий на спасательный. Тому тоже досталось, дымвалил от лопастей перегоревшим туманом. Метрах в десяти от лодки темным поплавком замаячил Скляр. Глеб перевел взгляд на корабль пришельцев, огонь с которого жевал края волн. Из корпуса поползли механические отростки, но сразу замерли в облаке кашляющих искр. Яркая вспышка осветила блюдце в последний раз, и все огни на инопланетном металле погибли. Корабль затих. – Отец! – крикнул Глеб. – Давай быстрее! Причина для спешки была. Глеб заметил, что рухнувший корабль не закрыт полностью и в нижней его части есть что-то вроде люка. И сейчас его ничего не заслоняло, давая пришельцу доступ к воде. – Шевелись же ты! – вновь заголосил Глеб, и за спиной отца кое-как приземлился поврежденный гидровертолет, осыпав того брызгами. Скляр добрался до лодки и влез в нее. Рядом распластался Глеб, не выпуская винтовки из рук. – Что тут, на хрен, произошло?! – спросил Скляр, стараясь отдышаться. Глеб сам с трудом понимал, как их угораздило вляпаться в такую историю. Лодка забралась слишком глубоко в Черепаший архипелаг, в воде передвигались смутные тени акул. Мертвое блюдце находилось всего в трех-четырех десятках шагов, гидровертолет уселся на волнах еще ближе, но с другой стороны. Что случилось с людским экипажем, Глеб не знал, а вот пришельца он рассмотрел, и это было самое страшное. В образовавшуюся дыру к воде протянулась серая конечность и тут же спряталась обратно. Глеб знал все, что рассказывали о визитерах, которых удалось поймать. За панцирем корабля они были в безопасности, но без своих инопланетных доспехов превращались в хрупкую размазню, которую можно подстрелить из любого оружия. Однако при контакте с водой с их телами что-то происходило, давая им дополнительное преимущество. И это «что-то» было в море прямо сейчас. – Я с кем разговариваю вообще?! – Да ты можешь хоть иногда не орать! – не выдержал Глеб. – Тут и без меня понятно все, глаза разуй! Скляр смотрел то на сына, то по сторонам, по щетине ползли крупные капли. Взгляд упал на воду, и Скляр выругался. Вокруг лодки, будто корни дерева, расплетались подвижные серые нити. Они походили на тонкие щупальца, скользящие через волны в поисках пищи. – Хреново дело, – буркнул Скляр. – Надо убираться. Только сначала дело сделать. Давай рацию. – Нет ее. – Как нет? – Утонула… Так вышло. Да и зачем тебе? Мы же никогда не говорим, только слушаем. Скляр потер лоб, качая головой. Водные нити поползли к вертолету. – А вот теперь она нам очень нужна. Там, под водой… Треск пулемета заглушил слова. Из вертолета высунулось огромное дуло, и по шкуре инопланетного корабля заплясали снопы искр. Пули отскакивали от внешней брони и рикошетили по сторонам. – Не трать патроны, баран! – крикнул Скляр. Стрельба прекратилась. Глеб увидел, что вертолет накренился и стал уходить под воду. Человек за полуоторванной дверью был одет в военную форму. – Кто там вякает? Вы кто такие, срань вас раздери?! – Мы люди, мудак недоделанный! Тебе этого достаточно? Вновь заревел пулемет. Глебу показалось, что стрелок палит уже по ним, но целью по-прежнему оставался корабль. – Эта чертова дрянь еще живая, – без умолку тарабанил солдат, – шевелится там, срань ее дери! По воде словно пошли трещины. Серые отростки устремились к вертолету, и только сейчас Глеб заметил, что море уже коснулось ног солдата. – Отойди от воды! – пытался перекричать стрельбу Глеб, но было поздно. Пулемет затих, когда солдат в одно мгновение исчез в море, точно провалившись под лед. Это было невозможно, потому как вертолет и на метр не ушел на глубину, но для пришельца этого оказалось достаточно. Обвязанное серыми нитями тело мелькнуло на поверхности и скрылось в пучине. Море спокойно играло волнами, привычное к подобному кормлению. – Он его просто выдернул… – прошептал Глеб. – Да, – кивнул отец, избавляясь от акваланга, – но вояка сам виноват. Нужно было смотреть по сторонам, а не палить в молоко. Скляр откашлялся и продолжил: – Теперь смотри, чтобы и меня не утянуло. Глеб вытаращил на отца глаза. Он не понимал ровным счетом ничего. Пока они в лодке, пришельцу их не достать. Хотя и он не будет вываливаться в воду целиком, делая из себя отличную мишень для винтовки. Нужно было валить из этого проклятого места, пока сюда не явились остальные визитеры. – Мне нужно в вертолет, – спокойно сказал отец. – Ты с ума сошел? Если что и нужно, так уматывать отсюда скорее. Скляр улыбнулся. Это была очень странная улыбка, и Глебу она не понравилась. – Я видел их внизу, прямо сейчас. Десятки, если не сотни кораблей. Живых, понимаешь? Они ползут по дну, как стадо подлодок. Не знаю, может, они вычислили «Невидимку». Или еще кого-то. Но не предупредить людей мы не имеем права. И времени на это почти не осталось. Глеб с открытым ртом хлопал глазами и сейчас наверняка походил на идиота. Он все понял. Людей, конечно, необходимо было предупредить, иначе война могла закончиться гораздо быстрее. Но еще он понял, что утопил единственное средство связи, и теперь отец собрался искать рацию в вертолете. А в воде, помимо акул, было еще кое-что. – Я сам пойду, – проговорил Глеб. – Исключено! – отрезал Скляр. – Я быстрее плаваю, да и с техникой разобраться будет проще. К тому же кто из нас двоих больше на снайпера похож? Глеб грустно усмехнулся. – Вот именно. Так что на тебе винтовка. Держи эту мразь подальше от воды. Когда с поверхности исчез последний плавник, Глеб посмотрел на корабль через оптический прицел. Из люка торчал маленький отросток, уходящий в воду, будто старый насос. От него змеились червеобразные нити, вороша морскую толщу. Конечно, проще всего было подплыть на лодке прямо к вертолету, но тогда люк с пришельцем оставался вне зоны обстрела. А это, при условии погружения в воду, означало одно – смерть. Глеб затаил дыхание и навел прицел на уродливую конечность. Палец чуть подрагивал, но на курок лег как надо. «Винторез» выстрелил одиночным, и над морем разнесся дикий вой. Тут же из воды убрались псевдощупальца, словно втянувшись в своего хозяина. Всплеск воды и быстрые гребки Глеб услышал за спиной почти сразу. Отца он не видел, не спуская глаз с люка. Руки дрожали, оптика улавливала только пустой черный зев корабля. – Лучше тебе не вылезать… – прошептал Глеб, держа перекрестье прицела у днища корабля. Серая культя потянулась к воде, и Глеб нажал на спусковой крючок. Выстрел цели не достиг, но визитера спугнул. Глеб не смог сдержать улыбки. Эти кошки-мышки даже начинали ему нравиться. – Гле-е-е-б! – истошный крик долетел до ушей и оборвался. Слишком резко. Развернувшись к вертолету, Глеб не увидел ничего. Отец исчез. Море безмятежно качало на волнах водоросли. Вертолет продолжал валиться в воду хвостом, высоко задрав кабину и растянув застывшие лопасти. Забыв про все на свете, Глеб схватил весла, и лодка сдвинулась с места. Вода перед вертолетом молча пожирала отсек с пулеметом. Небо совсем потемнело, едва сдерживая дождь. – Пап! – крикнул Глеб, работая веслами. Из воды выплыл Скляр, вокруг расцветало красное пятно. Он откашлялся и одной рукой загреб к вертолету. Кровавый шлейф тянулся следом, и из красной воды поднялся плавник. Глеб вскочил в лодке и стал опустошать магазин «Винтореза», даже не целясь. Он не знал, попал ли в акулу, но та вновь ушла на глубину. Отец тем временем добрался до вертолета и стал влезать внутрь. Хотя, скорее, вплывать, потому что над водой теперь топорщилась только кабина. – Ты как там? – спросил Глеб, поражаясь дурацкому вопросу. Он плыл по кровавому следу отца, которого только что жевала акула, и еще интересовался его состоянием… – Самая хреновая рыбалка в моей жизни, – отозвался Скляр. Еле-еле он вполз в кабину, точно огромный червяк. Левая рука висела, как бесполезный протез. Вокруг вертолета уже кружило волосяное облако, корни которого пульсировали в космическом корабле. Среди шевелящихся отростков плавали привлеченные кровью акулы. Их пришелец отчего-то не трогал. – Отец, в воду теперь нельзя. Придется прыгать. Глеб видел только лицо Скляра, который что-то ковырял на приборной панели. Вскоре в кабине раздался треск, через него пытались проклюнуться далекие голоса. – Если я дотяну до прыжка, – сказал Скляр Глебу и тут же переключился на рацию. – Меня слышит кто-нибудь, але! Не шуршите там, говорите нормально. Повисла полная тишина, словно на кладбище объявили минуту молчания. Затем в эфир прорвался удивленный голос: – Кто говорит? Назовите код доступа. Вертолет шатнуло от очередного шажка на глубину. Инопланетная жизнь в воде смыкала кольцо. – Хреном тебе по лбу. Сойдет такой код, нет? – Я, я не… – замялся человек по ту сторону связи. – Кто это? Голос был молодой, не иначе совсем еще зеленый солдатик. Глеб подплыл как можно ближе к тонущей кабине и взглянул вниз. Стрелять в распушившийся подводный клубок не было никакого смысла. Оставалось только надеяться, что отец не провалится в воду вместе с вертолетом, а у акул не возникнет интерес к лодке. – Слушай меня, дружок, – втолковывал Скляр, тяжело дыша. – Мы находимся в районе Черепашьего архипелага, на свалке кораблей. В эту минуту на глубине в сторону материка ползут какие-то штуки, вроде подлодок. Медленно ползут, но их очень много. И они явно не выходили с наших заводов. Врубаешься? – Я, тут у нас… – блеял солдат. – Секунду. Эфир вновь взял паузу, не давая протиснуться даже помехам. – Говорите, – раздался строгий, почти наставнический голос. – Все, что знаете. – Да я все уже сказал, – пробубнил Скляр. – Эти сволочи что-то задумали. Хотят напасть из-под воды. На кого именно – думаю, вам виднее. Если у вас остались лодки, бомбы, еще какая-нибудь хрень, то пора все это доставать из загашника. Потом может быть поздно. Хорошо бы встретить их по-русски гостеприимно. Тишина заволокла эфир. Вокруг вертолета словно раскрылась пасть Кракена. – Пап, – произнес Глеб, – пора. Скляр отмахнулся, продолжая воевать с рацией. – Вы меня поняли там? Але! Это никакие не шутки, тут дело пахнет керосином! Шум рации будто превратился в шепот ветра. – Але! Твою мать! Резко нахлынувшая трескотня выплюнула всего три слова: – Спасибо за сигнал. Скляр выпал из кабины прямо в лодку, благо та уже почти поравнялась с останками вертолета. Уходящая под воду техника последний раз в жизни захлебывалась помехами. С черного неба наконец-то упали первые слезы. Они двигались очень медленно. Лодку шатало на волнах, и та едва не цепляла бока похороненных на поверхности кораблей. Скляра била крупная дрожь, от лица отхлынула краска. Он кашлял кровью и широко открытыми глазами смотрел наверх. – Потерпи, пап. На острове тебя залатают. Глеб накрыл отца брезентом и бросил взгляд вдаль. Дождь усиливался, совсем размывая картинку впереди. Однообразные развороченные блюдца, колыхающиеся повсюду, спрятали за собой открытое море. Глеб заблудился. Морской лабиринт закупорил все выходы, поймав в ловушку двоих припозднившихся путников. Пришелец остался умирать в своем корабле, не было видно и акул. Дождь колотил море, а то лишь жадно хватало капли, словно мечтающий напиться цветок после долгой засухи. Скляр поднял руку, указывая на слившуюся с тьмой полосу горизонта. Там что-то шевелилось. Глеб отыскал бинокль и разглядел несколько самолетов. – Они поверили… – прохрипел Скляр, вытирая кровь с губ. Глеб приподнял краешек брезента, вся внутренняя сторона которого пропиталась кровью, и ужаснулся. Раны оказались серьезнее, чем подумалось сперва. Днище лодки приобретало бордовый оттенок, сквозь рваную руку отца торчала кость. – Держись, пап. Ты должен держаться. Скляр разразился каркающим смехом и чуть не подавился кашлем. Он прикрыл глаза и что-то бормотал себе под нос. Глеб переставал его понимать. Самолеты пришли из темноты, и только в этот момент Глеба коснулась догадка. Сердце остановилось, замершие глаза наблюдали за приближением механических птиц. Картина вдруг стала настолько очевидной, что другие варианты и предположить было смешно. Военные действительно поверили. Возможно, нехотя, но поверили, ведь Скляр передавал сообщение с борта вертолета. Очень важная информация дошла до адресата вовремя. А вот дальше начались серьезные разногласия с тем, на что рассчитывал Глеб. – Прилетит вдруг волшебник… – тихо пропел Скляр. Глеб взял отца за здоровую руку и крепко сжал ладонь. Самолеты фантомами мелькнули над головой, успев выплюнуть в дождь темные пятна. – В голубом вертолете… В воду упали бомбы. – Зачистка… – сквозь зубы проскрипел Глеб. – Быстро сработали, молодцы… Глеб однажды видел в записи, как глубинная бомба, начиненная ядерным зарядом, меняет местами море с небом. Это был страшной силы взрыв, выжить в котором не смогло бы ни одно живое существо. Глеб представил удивление пришельцев, когда они прямо сейчас наткнутся на такие подарки, и уголки его дрожащих губ уползли вверх. Скляр заметил улыбку сына и расценил ее по-своему. – Мы молодцы, – сказал он, из последних сил сохраняя сознание. – Да, пап, – кивнул Глеб. – Еще какие молодцы. Посреди вод Черепашьего архипелага вставал первый гриб.В коробке
Вся соль в том, чтобы выбрать правильного пассажира. Его не так легко распознать сразу, обычно понимание приходит после того, как он залезет в машину и завяжет разговор. Хоть как-то себя проявит. Главное – подмечать детали, ловить маячки. Ведь кого попало убивают только идиоты. Важна каждая мелочь. Куда человек едет, откуда? Много ли народу видит, как он садится к вам? Чем занят во время поездки, не строчит ли кому эсэмэс? Пьяный, сосредоточенный или витает в облаках? Очень важно смотреть за руками. Если они в карманах – жди беды. Сейчас у каждой второй девчонки либо баллончик, либо шокер, а у мужика и нож запросто найдется. В общем, проколоться можно на любом этапе. Зима хороша тем, что все люди становятся одинаковыми, неотличимыми друг от друга. Закутанными в черно-серое тряпье клонами, которые снуют по магазинам и елочным базарам. Зимой автомобильный номер можно как бы случайно заляпать снегом и грязью, а сквозь замерзшее стекло никто никогда не разглядит сгорбленного водителя в шапке и шарфе. Хороший снегопад скроет любые следы, хороший лед на водоеме спрячет целого человека. Предновогодняя суета – мое время. Зима – моя союзница. Правильный пассажир всегда идет навстречу, помогает. Как прошлогодний интеллигент, которому одного вида пистолета хватило, чтобы сходить в лес и выдолбить себе небольшую могилку в морозной земле. Жаль только, что с пулей промеж глаз закопать ее он уже не смог. Многие убийцы следуют киношным штампам и создают себе некий образ. Выбирают одни и те же орудия, технику, типажи жертв, придумывают целые ритуалы и неукоснительно их соблюдают. Это скучно, банально и недальновидно. В конце концов, что за нелепое желание пометить территорию? Ну убили и убили, какая разница, на кого повесят труп? Но нет, обязательно надо оставить личный автограф, дать полиции зацепку… Детали, маячки, помните? Они работают и в обратную сторону, поэтому нет ничего важнее. Я жил в согласии с собственным «эго» и не мечтал о специальной кличке от журналистов, так что никакого образа у меня не было. Я просто убивал. Без всей этой лабуды вроде шизофренических голосов в голове или импотенции, которая излечивается исключительно тыканьем ножа в красивое тельце. Я не был угрюмым маньяком из подвала, помешанным на садизме. Жил скромно, не пил, не кололся, таксовал круглые сутки, исправно отсылал основную часть денег бывшей жене и дочкам в другой город. Но я умел различать лишних людей. Тех, кого безболезненно (не для них самих, конечно) можно стереть, вычеркнуть из жизни планеты. Наверное, именно эти особые чувства принято называть даром. Пробуждался он всегда ближе к Новому году, однако я убивал не для того, чтобы помочь мирозданию очистить род людской от гнили. Никаких великих целей, никакой заумной философии. Я просто изредка баловал себя. Мне, как поручику из анекдота, нравился сам процесс, только и всего. Отнять жизнь, насладиться последними секундами бесполезного человека и остаться безнаказанным. Чем не экстремальное хобби, вроде прыжков с парашютом или дайвинга? Так что дар не застилал сознание кровавой пеленой, не делал меня неосмотрительным психопатом, а помогал выбирать жертв. Он был как мобильное приложение. Весь год можно не включать, но когда понадобится – очень полезно. Ведь я усвоил главную истину: далеко не каждый лишний человек – правильный пассажир. Девушку невозможно было не заметить, потому что люди с коробками на головах на улицах встречаются довольно редко. Она стояла на обочине у бесконечной стены мукомольного завода и голосовала. Стройная, в длинном пальто, сапожках, с дорогой сумочкой. Такая чужеродная здесь, в запорошенной снегом и тусклым светом фонарей промзоне, и такая нелепая в здоровенной квадратной коробке с двумя прорезями для глаз. Я остановил машину рядом и приоткрыл окно: – С Наступающим, красавица! На картонную фабрику едем? Девушка молча открыла заднюю дверь и забралась в салон, изгибаясь, чтобы влезла коробка. – Эй, что за манеры, дамочка?! Она сунула мне новогоднюю открытку. На обороте карандашом был выведен адрес. Гаражный кооператив в десяти километрах отсюда, ряд, номер. – Это какой-то прикол? Коробка повернулась влево, вправо. Она была действительно великовата, туда влезло бы головы три-четыре, но глаза девушки плотно прижимались к круглым щелям, словно лицо приклеили к передней стенке. Девушка сползла немного по сиденью, чтобы коробка не упиралась в потолок. Положила сумочку на колени, достала оттуда кошелек и выудила тысячерублевую купюру. Огромные глаза в прорезях все это время смотрели на меня, ни разу не моргнув. Чувства молчали. Они будто не рассматривали странную пассажирку в качестве объекта для сканирования. Я не видел вокруг нее ни темного, ни светлого марева, не ощущал ничего. Девушка с коробкой на голове была пустышкой. – Так, выметайся, я психов не вожу. Она не сдвинулась с места. Только глаза, кажется, стали еще больше. Теперь они будто бы выпирали из прорезей, по-рыбьи вылезая за границы коробочной головы. Я огляделся. На ночной улице не было никого, за перекрестком растворялись огни снегоуборочной машины. Я включил свет в салоне. Вблизи девушка уже не выглядела такой прилизанной. Пальто было старым, его покрывали заштопанные дырочки, словно маленькие шрамы. Торчали нитки. От одежды пахло дешевыми сигаретами. Ногти были обломаны, на пальцах подсыхала грязь. Из-под коробки торчали жидкие волосы мышиного цвета. Девушка была правильным пассажиром и одновременно самым неправильным из всех. Правильный пассажир выглядит слегка потерянным. Садясь в машину, он уже готов к смерти. Здесь он будто проваливается в черную дыру, междумирье. Никто его не видел, никто не слышал. Он мой. И дальнейшее развитие событий зависит от нескольких факторов. Подвернется ли удобный случай, захочется ли мне отправить на тот свет очередного лишнего, найдутся ли нужные инструменты… Бывает по-разному. Год назад возле станции ко мне подсела одна заплаканная симпатяга – видать, провожала кого-то. У вокзала таксисты заламывают дикие цены, и народ проходит чуть дальше, чтобы поймать частника подешевле. Так она ко мне и попала. Темные переулки, брошенные на ночь машины под слоем снега, закрытые ларьки у дороги. Чужих глаз тут значительно меньше. Я вырубил ее прямо в салоне и отогнал машину за торговые палатки. Насиловал, душил ремнем, пока девчонка не испустила дух. Ни до ни после ничего подобного я не делал. Да и тогда не планировал, все получилось само собой. Нужно ведь постоянно менять почерк, не повторяться, не выстраивать систему. И пока мне это удавалось. Но, глядя на эту идиотскую коробку, я впервые захотел повторить. – Ладно, поехали. Я спрятал купюру в карман и надавил на газ. Город терял границы и усыхал до размеров погребаемого под снегом туннеля. Мрак подступал со всех сторон, исчезали новогодние огни. Застывали в коматозном сне черные силуэты зданий. В свете фар копошились белесые хлопья. Мы проехали через мост, с которого я сбросил пучеглазого школьника. Ведь правильный пассажир всегда слабее убийцы. В идеале он вообще не должен сопротивляться. Парнишка был так увлечен игрой в планшете, что даже не успел толком испугаться. Ворота были открыты, окна сторожки тонули в темноте. Вдоль узкой колеи, пересекающей кирпичный лабиринт, не работал ни один фонарь. Впрочем, как и всегда. Я ехал медленно, вглядываясь в черноту вокруг. В самом начале на глаза попалась пара распахнутых освещенных гаражей, кое-где мерцали огоньки сигарет. У частного шиномонтажа стоял грузовик, просверливая фарами ночь. Но ближе к последнему ряду, который упирался в старый карьер со свалкой, никого не было. Девушка вышла из машины, едва я остановился. Слева и справа сплошной линией тянулись гаражи, прямо по курсу обрывалась в огромную снежную яму площадка с парой бетонных плит и остовом «москвича». Я вылез наружу и осмотрелся. Убедился, что из-под ворот не струится свет. Проверил навесные замки на гаражах – нужный тоже оказался заперт. Съемочной группе приколистов негде было прятаться. Эта часть лабиринта спала, только где-то далеко лаяла собака. Мы были одни. – Ну вот и все, красавица. Приехали. Девушка неподвижно стояла в свете фар, спиной ко мне и машине. Смотрела в черное небо и слегка покачивала сумку в руке. На снег ложились причудливые тени, коробка в темноте казалась просто громадной. Особые чувства так и не проснулись, дар не реагировал. Девушку сопровождала холодная пустота. Я не знал о ней ровным счетом ничего. Она была настолько странной, насколько и манящей. И кажется, хотела того же, что и я. Я подошел сзади, взял ее за плечи. Девушка не шелохнулась. Попробовал снять коробку, но та словно присосалась к туловищу. Вырез снизу был сделан аккурат под тонкую, гладкую шею. – Что это за гребаная коробка?! Не верилось, что все это происходит наяву. Я развернул девушку к себе и наткнулся на выпученные не моргающие глаза. Рванул пальто, в стороны полетели пуговицы. Ощупал тело. Никаких микрофонов, никаких камер, никакой подставы. Я действительно встретил долбанутую бабу с коробкой на голове. – Снимай коробку, дура! Девушка по-прежнему не моргала, только безостановочно бегал ее взгляд. От коробки пахло сыростью. Картон заглушал дыхание внутри… если оно вообще было. Мне вдруг стало жарко. – Что там? А? Я попробовал подцепить картон снизу, сорвать, разломать… Ничего не выходило. С силой ударил по коробке, еще раз, еще… Звук был такой, словно кулак проваливался в диванную подушку. Дышать становилось тяжелее. В кармане пиликнуло уведомление, но сейчас было не до этого. Я вернулся к машине, швырнул мобильник в салон, скинул куртку и достал биту из-под водительского кресла. Девушка напоминала вросший в землю столб. Она не попыталась увернуться от удара – только выронила сумочку и рухнула на снег. Молча, даже не вскрикнув. – Что под коробкой, сука?! Что есть мочи я охаживал ее битой и кричал. В свете фар плясали снежинки, брызгала кровь. Я переломал девушке все конечности, разодрал одежду, кожу… но гребаная коробка не поддавалась. Человеческий череп давно бы раскололся, не выдержал бы и шлем. У коробки помялись углы, появились трещинки на картоне. И все. Она даже не сплющилась, словно под ней была не голова хрупкой девушки, а бетонный блок. – Что это за срань?! Я вытащил из кармана нож и сел на девушку верхом. Стал дырявить картон, рубить, полосовать. Лезвие входило с огромным трудом, в местах ударов расцветали кровавые пузыри, пятна. Нож застревал в коробке, в мясе, в гигантской голове. Я пихал лезвие в щели и пытался разодрать их, помогал себе пальцами, зубами. Коробка не рвалась. Сквозь красную кашицу из-под картона на меня смотрели безумные глаза. Взвыв от бессилия, я поднялся. Голова кружилась, тошнило. Силуэт машины качало из стороны в сторону. – Сейчас, мразь такая… Сейчас… Я доковылял до багажника и немного отдышался. Внутри лежала канистра с бензином. Огонь поможет, огонь сделает все как надо. Я поднял крышку… и закричал. Стройная фигура, пальто, сапожки, коробка на голове. – Что… Вывалив тело на снег, я упал рядом на колени. Джинсы и трусики девушки были спущены, на бедрах запеклась кровь. Пальто той же модели, что и у первой, но без дырочек-шрамов. На шее – полоса от ремня. – Откуда?.. Я помнил, что выбросил труп удавленной девушки в канаву у мукомольного завода. Это случилось год назад, перед Рождеством. Была зима, точно такая же зима, как сейчас. Разве я мог перепутать? В голове что-то хрустнуло, словно под тяжелым сапогом проломился наст. Налетел снег, перемешивая вчера-сегодня-завтра, стирая границы. Коробка поддалась, но теперь я не хотел ее снимать. По щекам бежали слезы, пар изо рта смешивался с дыханием выхлопной трубы. Тормозные огни окрашивали все вокруг бурым. Я пытался вспомнить, какой сегодня день. Ведь в один из ближайших дней я должен был… Прыснул свет фар, я зажмурился. По ряду ехала машина. В голове стучали мысли, образы, вспышки узнавания, словно самые яркие кадры из фильма, которые собрали в один ролик. Жизнь длиной в пару минут. Машина остановилась, скрипнул снег. Открылась дверца. Из салона послышалась музыка, зазвучали голоса. – Мужик, ты… ты чего это там? – спросили из темноты. Я отбросил нож, которым изрезал девушку в канаве мукомольного завода. Не изнасилованную, а другую, очень похожую. В таком же пальто. Они будто слились в моей памяти. И когда все это случилось?.. – Мужик… Я умыл лицо снегом и крикнул, едва выговаривая слова: – На н-них были ко… коробки! Несколько минут я слушал удары собственного сердца и удивлялся, как же они похожи на стук колес поезда. Дверца захлопнулась. Огни поползли назад. Я медленно снял с головы девушки коробку и прижал к себе мертвое тело так сильно, как только мог. Заревел в голос, проклиная черные небеса, снегопад и зиму, которая не была никакой союзницей. Она наводила морок. Как побитая дворняга, я пополз к первой девушке, расколотой на части, разорванной. Выдернул из кровавого крошева лоскуты картона, будто бы лепестки из цветка. Любит, не любит… Вытер слезы и из последних сил прошептал: – Это кто-то другой… они снимают… шутки такие делают… Нужно было покурить, хоть как-то прочистить мозги. Я искал зажигалку в кармане и нашарил ключ от гаража. Теперь, конечно же, я его узнавал. Пелена сползала медленно и больно. В другом кармане нашлась открытка с поздравлениями от бывшей жены. Сил не осталось. Самый правильный пассажир никогда не заподозрит неладное. Потому что он хорошо вас знает. Он может быть вашим соседом интеллигентного вида или сыном любовницы. Убить такого человека проще простого, но последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем обычно. Это слишком опасно. Поэтому трогать самых правильных пассажиров нужно только в крайних случаях. Я открыл ворота и загнал машину в гараж. Мотор глушить не стал. Нашел шланг, вставил один конец в выхлопную трубу, а второй через окно опустил в салон. Поднял все стекла и расплылся по сиденью. Но что-то мешало. Я привстал и вытащил из-под пятой точки телефон. Десяток пропущенных вызовов от бывшей жены, горстка сообщений. «Девочки доехали, все нормально? Что-то не отвечают». «Ау!» «Перезвоните, волнуюсь». Резь в глазах стала невыносимой. Задыхаясь, я разглядывал родной гараж сквозь мутную пелену. Старые покрышки, коловорот, удочки… и коробка на верстаке. Я вывалился из машины, подошел к верстаку и трясущимися руками сорвал скотч. Из коробки дохнуло пылью и воспоминаниями. Внутри лежали стеклянные шары, гирлянды, новогодние игрушки. Утерев нос, я грустно рассмеялся. Взял коробку и вышел на улицу. На снегу лежало два мертвых тела, а коробка была всего одна. Та, что у меня в руках. В ней умещалось наше прошлое, те времена, когда все было по-другому. Когда Новый год был любимым семейным праздником. В ряд сворачивали тени, фары, переливались разноцветьем мигалки. Снег потихоньку заметал кровавые следы. Я сидел рядом с трупами и доставал новогодние украшения из коробки. Елки рядом не было, но нарядить можно что угодно. Да хотя бы меня. У дочек это всегда получалось прекрасно.Соль
Сумерки вылезали прямо из грозовых туч, медленно опускаясь на белую пустыню. Силуэты гор кутались в мутной дымке, которая заволакивала небо. Усиливался ветер. Он метался между соляных пирамидок и уносился вдаль по высохшему озеру. Если днем тут стояла настоящая жара, то сейчас Инге пришлось застегнуть куртку до горла и накинуть капюшон. Вдалеке исчезала пара внедорожников. С каждым днем туристов становилось все меньше, словно они что-то чувствовали. Инга подумала, что скоро не останется вообще ни единой живой души. Никого, кроме призраков, заблудившихся здесь, на высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. И кроме соли, которая сейчас хрустела под ногами и царапала подошвы кроссовок. Боливия давно значилась у Инги в списке обязательных к посещению мест, а тут еще и подвернулся отличный вариант с велопробегом по странам Южной Америки. Упустить такую возможность девушка никак не могла. Имея в Питере сеть салонов красоты, дела у которой шли на удивление хорошо, она при первой же возможности старалась вырваться из городской суматохи, ведь только путешествия не давали ей утонуть в сером круговороте будней мегаполиса. Причем маршруты Инга выбирала самые необычные и далекие от стандартных туристических направлений. Ее не привлекали экскурсии и лекции по истории стран, она наслаждалась жизнью и свободой, путешествуя по интересным именно ей местам, не завися от составленных заранее программ, гидов и толп зевак, которым и из отеля порой лень выходить. – А что там, в Боливии этой? – с изумлением спросила тогда Аня. – Грязища да беднота? Чего ты там смотреть-то собралась? – Да много чего, – улыбнулась сестре Инга. – Но в первую очередь Салар де Уюни. – А если по-русски? – Солончак Уюни. Крупнейший в мире, между прочим. Проще говоря, высохшее соляное озеро здоровенных размеров. Место, похожее на бесконечную пустыню из соли, которое под любым слоем воды сразу превращается в нечто волшебное. – Звучит любопытно, но все равно лучше куда-нибудь на море, – произнесла Аня. – Хотя расскажи-ка еще что-нибудь, может, и я с тобой напрошусь по этой пустыне побродить. – Да кто тебя возьмет! – шутливо сказала Инга. – Эх ты, а еще и сестра… – Они обе понимали, что стоит Ане попросить, и Инга не откажет. Слишком велика была связь между девушками, несмотря на пятнадцатилетнюю разницу в возрасте. – Рассказывай давай! Должна же ты мне подарок на совершеннолетие организовать. Магнитиками в этот раз не отделаешься! Инга не стала ничего рассказывать, она просто показала фотографии из Интернета. После этого Аню было уже не остановить. Она без умолку болтала, что ничего красивее в жизни не видела, что фотографии будто делали на другой планете, что давно уже пора собирать вещи, а они тут языками чешут. Инга только улыбалась, давая выговориться младшей сестренке. Пейзажи солончака и впрямь могли вскружить голову. Ведь даже Инга, которая и перуанский город инков Мачу-Пикчу видела, и закаты под драконовым деревом на Сокотре наблюдала, и разнообразную живность на Большом Барьерном рифе в Австралии подкармливала; даже она на некоторое время потеряла дар речи, увидев боливийское чудо природы. С момента того разговора прошло много-много дней, точное их количество Инга не смогла бы назвать. Теперь ее жизнь поменялась, и в ней не было места таким мелочам, как цифры. Ведь после того, как она на себе ощутила природу солончака, прежние представления об этом мире можно было выбрасывать на помойку. Особенно после знакомства с огоньками. Трещины под ногами образовывали причудливые узоры, напоминающие пчелиные соты. Они расползались по бескрайней территории солончака, словно ища свой гигантский улей. Инга шагала вперед к тому месту, где нашли рюкзак Ани. В ожидании грузовика с местными сборщиками раньше здесь томились большие кучки соли, но Инга еще с неделю назад все раскидала, изобразив на земле неровное сердце. Слишком уж эти треугольники из соли напоминали ей надгробия. – Привет, сестренка, – сказала Инга в пустоту, заворачиваясь в куртку. Впервые такое сердце Инга нарисовала, когда Аня была еще совсем козявкой. Тогда они жили под Петербургом, в загородном домике, где бабушка на площадке у колодца каждое утро рисовала белым углем солнце. Так она якобы привлекала хорошую погоду. Однажды Инга решила немного изменить бабушкин рисунок, и у нее получилось сердце. Причем такого размера, что в его контурах идеально помещалась маленькая Анюта. С той поры о солнце забыли, и каждый день начинался с того, что белокурая девчушка завороженно наблюдала за старшей сестрой, пока та очерчивала вокруг нее очередное сердечко. Ребенку настолько нравился этот процесс, что отвертеться от своих обязанностей Инга даже не помышляла. Позже такое сердце стало настоящим символом для сестер. Они дарили друг другу украшения в форме сердец, разрисовывали ими открытки, лепили «сердечные» магнитики на холодильник… и вот теперь собирали из соли в месте, где одна сестра потеряла другую. Вокруг совсем стемнело, тучи протянулись до самых гор. Гроза обещала бессонную ночь и невероятное преображение солончака утром. Впрочем, к бессоннице Инга уже привыкла. Она обернулась на далекий звук. Где-то у линии холмов плясал свет фар, пока, как и солнце, не утонул во мраке. Хотя ближайшие населенные пункты находились довольно далеко, иногда среди ночи Инга видела блуждающие по солончаку огоньки. Это могли быть работяги, добывающие соль, или же обычные туристы. А могли быть и те, о ком порой нехотя рассказывали здешние старики. Озеро занимало площадь больше десяти тысяч квадратных километров, так что места хватало всем. И людям, и тем, кто поселился в этой пустыне задолго до них. – Мне тебя очень не хватает, – проговорила Инга, пересыпая соль из ладошки в ладошку. Ветер каждый день помаленьку разносил изображенное сердце, а девушка его восстанавливала. Она очень боялась однажды не найти даже контуров, тем самым потеряв последнюю ниточку, связывающую ее с сестрой, да и вообще с прежней жизнью. Потому что без Ани этой самой жизни не стало. Чернильная туча над головой злилась, ворчала, гнала прочь. Настала пора возвращаться. Инга сразу заметила огонь у кактусового островка. Значит, Полина уже развела костер. Сестры познакомились с ней во время велопробега и быстро сдружились. Когда случилось несчастье, Полина оказалась единственной, кто остался с Ингой на солончаке, хотя та об этом не просила. Девушки разбили палатку на одном из островков, который сторожили кактусы-великаны. Инга просто не могла покинуть это место, не могла оставить Аню, о возвращении в Россию даже и думать не приходилось. – Чересчур долго ты сегодня, – произнесла Полина, красивая брюнетка в аккуратных очках. – Нужно же и отдыхать. – Я знаю, – против воли согласилась Инга, – но ничего поделать не могу. Полина ковыряла прутиком угли, на которых шипели банки консервов. Ветер выхватывал из освещенного уголка снопы искр и уносил их в гигантские тени за спинами девушек. Некоторые кактусы здесь вымахали до десяти метров и в темноте смотрелись по-настоящему жутко. – В посольстве молчат, словно знать нас не знают, – Полина говорила, глядя на засыпающий солончак. – Пихают очередную кипу бумаг и идут чай пить. А властям местным вообще ничего не надо. От них только и слышно: «Ждите». Извини, я просто не знаю, к кому еще обратиться. – Ничего, все нормально. Ты и так уже очень много для нас сделала. Спасибо тебе, правда. Если бы не ты… Инга хотела добавить «то я бы сошла с ума», но потом вдруг подумала: а может, у нее и правда помутнение рассудка? – Я все-таки взяла обратный билет. – Полина старательно уходила от взгляда подруги. – У меня же выставка в Оренбурге, а я и так все сроки сорвала. Извини, просто я не могу потерять эту работу. – Не за что тебе извиняться, – перебила Инга. – Давно пора. Мы же фактически чужие люди. Да и не хочу я, чтобы меня сейчас кто-то видел. Да и не я это уже. – Я за тебя очень волнуюсь. Правда. Как там твой друг этот? На связь не выходил? – Олег… Ну его в задницу. Первый раз в жизни попросила о помощи. Он сейчас всеми делами по салонам занимается, но ради такого дела мог бы и прилететь. Ведь обещал. – Так может, прилетит еще. – Конечно. Может, он уже в Боливии. Но на сотню моих сообщений ответить постеснялся. – Вы с ним как бы… – Вот именно, что мы с ним «как бы», – не дала закончить вопрос Инга. – Отношения двадцать первого века: только бизнес и немножко личного. Курам на смех, проще говоря. Вдалеке громыхнуло, будто заурчал пробудившийся вулкан. Костер уже не справлялся с темнотой, и сгоревшие головешки потихоньку растворялись в сумраке. Редкие угольки походили на чьи-то злые глаза. – Пора прятаться, – поднимаясь, сказала Полина. – Того и гляди польет. Утро вечера мудренее. Инга горько улыбнулась и кивнула. Совсем не такой отдых она себе представляла. Поначалу ведь все шло замечательно. Велопробег, новые знакомства, атмосфера приключения, светящаяся радостью сестренка рядом. Солончак превзошел все самые смелые ожидания, представ настоящим раем, чью прелесть не дано передать ни одной фотографии, ни одному видеоролику, ни единому художнику. Но все закончилось слишком быстро. Аня отлучилась от лагеря группы на пять минут, и больше ее никто не видел. Остался только легкий рюкзачок и тонны соли вокруг. Когда первые капли дождя ударили в палатку, Инга выпросила у Полины фотокамеру. Снаружи небо поливало солончак, а щупальца ветра ползли внутрь, пробираясь даже в спальники. Полина была профессиональным фотографом и всюду таскала с собой здоровенный Canon с парой объективов. Инга любила пересматривать кадры с сестрой, которые теперь казались сделанными в другой реальности. – Ты же знаешь, что только еще сильнее расстроишься, – предупредила Полина. – Мне все равно. Инга перебирала кадры, едва сдерживая слезы. Аня была прирожденной моделью и на всех снимках выходила идеально. И на велосипеде в своей любимой красной бандане, и кривляясь у острова Рыбы, и даже выглядывая из-под колес ржавого локомотива на знаменитом кладбище паровозов. Притворная серьезность, с которой в отеле из соляных блоков девушка изучала табличку «Не лизать стены», лишь придавала ей какой-то особый шарм. Звук снаружи раздался, когда Инга почувствовала, что изображения стали расплываться. Вытерев глаза, она прислушалась. Теперь, кроме надоевших песнопений ветра да стихающего дождя, никаких звуков солончак не рождал. На экранчике тем временем пошли фотографии с кактусового островка, где сейчас и была разбита палатка. Аня в охотку позировала на фоне срастающихся неба и земли, в полете пыталась ухватить фактически невидимую линию горизонта, в общем, всячески дурачилась. Инга улыбнулась, но вдруг замерла, глядя на первые вечерние снимки. Позади Ани, где горы уже стали тонуть в опускавшейся темноте, светился едва заметный оранжевый силуэт. Не то неровный треугольник, не то какой-то сгусток слабого огня. Размеры его определить было невозможно, однако ледяные иголки вдоль позвоночника Инга почувствовала сразу. Она видела его раньше неподалеку от лагеря их группы, но тогда не обратила внимания. Уже потом, услышав истории местных индейцев о духах пустыни, Инга совсем по-другому провожала глазами возникающие на территории солончака огоньки. – Это призраки, души, поселившиеся в пустыне, – рассказывал им у стен соляного отеля сморщенный мужичок, которого и переводчик с трудом понимал. – Они застряли в междумирье и теперь иногда являются в виде таких огоньков. – Страх какой, они, наверное, еще и детей едят! – веселился кто-то из парней. – А работают они не на угле, случайно? Призраков на газу ведь не бывает? – Держитесь от них подальше, – невозмутимо продолжал старик. – Никто не знает, чего они хотят. Тогда Инга хохотала вместе со всеми. А позднее были отчеты здешних властей о пропадающих на солончаке людях, в число которых вошла и Аня. Инга и сама не раз видела странные огни, которые никак не походили на горящие фары и далекий отсвет костров, но до поры до времени не хотела себе в этом признаваться. Сейчас же было уже поздно. На следующем кадре силуэта не было. А еще через десяток снимков он оказался ощутимо ближе к Ане. Дрожь в руках мешала возиться с камерой, но Инга продолжала ворошить прошлое. Как только небо стало темнее, на фотографиях возник второй силуэт. Последний снимок того вечера, где Аня позирует на фоне гигантского кактуса, зацепил сразу три светящиеся фигуры, которые подобрались совсем близко к девушке. И силуэты не были браком при съемке, теперь Инга знала это на все сто процентов. Утром машина не пришла. Они платили чудаковатому боливийскому водителю, который два раза в сутки приезжал сюда на своем грузовичке. Обычно он привозил немного еды и забирал Полину в город, а к вечеру доставлял обратно. У девушек имелись и велосипеды, но до цивилизации на них добраться было трудновато. Прошедший ночью дождь превратил солончак в то самое чудо, ради которого в Боливию тянутся туристы со всей планеты. Ровную поверхность соленой пустыни накрыл тонкий слой воды, и теперь под ногами Инги раскинулось самое большое в мире зеркало. Облака вальяжно перебирались с наскучившего неба на облюбованную влагой землю, не замечая линии горизонта. Вулкан Тулипа рос и вверх, и вниз одновременно, рисуя для стороннего взгляда причудливую картину. Озеро ловило отражения окружающего мира и преображало их в сюрреалистические пейзажи, от которых кружилась голова. На многие километры вдаль убегала зеркальная гладь, а два одинаково красивых солнца боролись за звание главного по обе стороны горизонта, различить который без труда не мог даже самый глазастый снайпер. Ну а с ходу указать «верх» и «низ» в буйстве облаков не стоило и пытаться. Тянущийся под землю дублькактусового островка выглядел настолько реально, что Инга боялась туда провалиться. Температура вновь поползла вверх, поэтому слой воды под ногами был очень теплый. Инга словно шла по небу, стараясь не топтать особо красивые облака. Где-то ворчали грузовики сборщиков соли, в линии отражений у гор промелькнул и один автобус. В этом безумном месте не хватало только Ани. Смотреть на свое отражение Инга не любила, особенно в последние дни. Хотя она и догадывалась, в кого превратилась. Инга шагала в сторону Аниного сердца, как вдруг прямо под ногами мелькнула большущая птица. Девушка едва не наступила на ее отражение, но, перепугавшись, грохнулась на пятую точку. Хлопнув крыльями, фламинго исчез из поля зрения, а когда Инга подняла глаза к небу, ослепительный свет спрятал его за солнечными лучами. Поставив ладошку козырьком, она еще пару минут пыталась разглядеть диковинную птицу, но так ничего и не заметила. Та будто растворилась в фантастическом пейзаже. – Решила позагорать? – спросила из-за спины Полина. – Почти, – сказала Инга, поднимаясь. – Никак не могу привыкнуть, что небо плывет под ногами. Машины до сих пор нет? – Не-а. Уж не забыл ли этот странный тип про нас? – Про нас он, может, и забыл бы, а вот про наши деньги вряд ли. Никуда не денется, приедет. И опять будет бухтеть извинения на ломаном английском. Полина кивнула и подошла чуть ближе. На ее лице читалась такая усталость, что Инге стало стыдно. – Слушай, Поль, извини за все. Я понимаю, что тебе со мной пришлось непросто, но я безумно тебе благодарна за то, что осталась поддержать меня. Правда-правда. И слава богу, что ты не увидишь, как я превращусь в сумасшедшую старуху, распугивающую туристов. Полина молча смотрела на подругу, точно пробуя на вкус слова. Так и не ощутив в них ни капли шутки, она сердито ответила: – Ты и впрямь в нее превратишься, только туристы к тебе на шаг не подойдут. Самой не надоело? Что бы Аня сказала? Хотела бы она видеть свою сестру такой? Инга вдруг улыбнулась: – Все, не злись. Отставить панику. Но и ты меня пойми, я ведь даже не смогу домашним ничего объяснить. – Понимаю. Но все еще наладится, я знаю. – Надеюсь. Кстати, ты чего фотик не взяла? Я тут только что живого фламинго видела! Иди давай за зеркалкой своей, такой кадр сделать можно. – Фламинго?! – округлила глаза Полина. – Быть не может, они сюда только в ноябре прилетают. – Забавно, но его отражение меня чуть не сшибло минут пять назад. Он наверняка и сам перепугался, только непонятно, куда потом делся. Ладно, бог с ним, – махнула рукой Инга, глядя в сторону зарослей кактусов у палатки. – Пойдем обратно, кто-то едет. У островка возникли сразу две вырастающие точки, которые словно пробирались по трубке калейдоскопа. Отражения плелись следом, а небо надвигалось со всех четырех сторон. Раздолбанный грузовик знакомого боливийца девушки сразу признали, а вот второй внедорожник им был незнаком. Когда машины остановились, у Инги от смелой догадки вдруг сильнее забилось сердце. Поверить в такое развитие событий она очень хотела, но не могла. Однако когда с переднего сиденья показался улыбчивый бородач, Инга впервые за последнее время ощутила подзабытое чувство радости. – Готов поспорить, ты не ждала увидеть тут мою шикарную задницу, так ведь?! – крикнул он. Инга не могла расстаться с улыбкой. – Тебя не учили на сообщения отвечать, засранец? – Прости, но в этой дыре вообще ни хрена не работает. Инга подошла и устало повисла на шее у Олега. Этот человек всегда возникал в ее жизни, когда, казалось бы, уже становилось поздно. В глубине души Инга знала, что частенько он ее просто-напросто использует, но ничего поделать со своими странными чувствами не могла. Из вьющихся вокруг кавалеров она почему-то всегда выбирала самых грубых и неотесанных. Олег был партнером по бизнесу, а на отношения вне работы у Инги времени не хватало. Так что приходилось совмещать и довольствоваться хоть какой-то личной жизнью. В последние годы девушка даже почти убедила себя, что ее это устраивает. Олег рассказал, как нанял двоих местных ребят в помощь и они нашли нужный островок в бесконечном зеркальном море. – Попался нам этот ваш водила, по его тарабарскому мычанию я кое-как допер, что катается он именно к вам. Так и добрались. А ребята как проводники, ну или помочь, если что надо будет. Я слыхал, у вас тут не шибко весело. В небе прогудел самолет, а оставленная им борозда в облаках моментально обратилась трещиной на зеркальной поверхности озера. Инга вспомнила, что это уникальное место используют для калибровки спутников, и уж с такой техникой отыскать Аню было бы проще простого. Но у властей совсем другие мысли, да и туристы им интересны ровно до той поры, покуда тратят деньги. Так что проще сделать что-то самому, чем дожидаться реакции посольства. Полина собирала свой нехитрый скарб и мыслями была уже в аэропорту. Увалень-водитель грузовичка что-то рассказывал своим молодым коллегам, которые странно косились на Ингу. Олег запихивал велосипед Полины в багажник внедорожника, бубня что-то под нос. – Ну, вот и все, – сказала Инга и крепко обняла подругу. – С Анькой так и не попрощались, могли бы сходить на то место… – Глупо прощаться с человеком, который жив и здоров. Ты ее найдешь, я знаю. А следующим летом ждите в гости, давно хотела Питер посмотреть. – Договорились. Агрегат свой дорогущий не забыла? – Я скорее голову забуду, – отшутилась Полина, – хотя лучше еще раз проверить. Я мигом до машины. К Инге подошел Олег и взял ее за руку. Девушка улыбнулась и сильнее сжала ладонь. Только сейчас Инга поймала себя на мысли, что уже не чувствует на душе той тяжести, что ей на самом деле хочется жить дальше. – Ребят, – раздался голос Полины, – я, наверное, лучше с нашим толстячком поеду. А то чего он сюда тащился? – Красавица, я твой лисапед заколебался в багажник пихать, какая тебе разница? – Так просто будет лучше, мы с ним уже подружились. Что-то во взгляде Полины при этих словах Инге не понравилось. Совсем не понравилось. – Елки-палки, – рассердился Олег, – какие мы капризные! Пара молодых боливийцев, похожих друг на друга, как братья, принялись перетаскивать велосипед, пока Олег на пальцах что-то объяснял водителю грузовика. Полина еще раз обняла Ингу и достала сложенный вдвое листок. – Все в порядке, такси до города оплачено, шеф в накладе не остался, – пробормотал подошедший Олег. – Хорошо, – кивнула Полина, шустро выводя что-то на бумаге. – Мягкой посадки дома, – произнесла Инга. – Передавай привет России. И спасибо большое-пребольшое за то, что ты есть. – Вы с сестрой замечательные, я вас обеих люблю. – Полина поцеловала подругу и запихнула лист бумаги в задний карман ее джинсов. – Я оставила тебе и телефон, и мыло. Обязательно напиши мне. Обязательно! – Первым делом, как что прояснится. – Ну все, по коням! – воскликнул Олег. Девушки попрощались, и Полина залезла в кабину грузовика. Инга помахала ей со страшной уверенностью, что они никогда больше не увидятся. Когда дурные мысли совсем заполнили голову, Полина вдруг высунулась из окна и нарисовала пальцами в воздухе прямоугольник. Машина прибавила скорости и покатила искать черту, соединяющую небо с землей. Через несколько минут грузовик окончательно исчез из виду. Остаток светового дня Инга с Олегом слонялись по округе и разговаривали, а нанятые боливийцы запасали ветки кустарника на ночь. Толку от этих двоих было немного, и большую часть времени они проводили в своем внедорожнике. Хотя наличие машины под боком не могло не успокаивать. К вечеру небо вновь сморщилось, нахмурилось. Похолодало. А ночью пришел дождь. Олег спал тут же, в палатке, но к Инге даже не прикоснулся. Ее разбудил знакомый звук, который она слышала прошлой ночью. На этот раз через дождевую дробь он просачивался гораздо настойчивее. Инга смогла его распознать. Это была мелодия мобильного телефона Ани, который сгинул вместе с хозяйкой. Не веря своим ушам, Инга стала выбираться из палатки, путаясь в спальнике и судорожно воюя с молнией. Дождь сходил на нет, но холодные капли, казалось, проникали сквозь куртку, обжигая льдом до самого сердца. Мелодия растворилась во мраке, где разве что невзначай угадывались горные хребты вдалеке. Луну сожрали тучи, оставив на небе только россыпь звезд. Этот чудесный соленый край заснул, и все его обитатели спрятались за чернильной занавеской ночи. Сплошная линия тьмы протянулась во все четыре стороны, и лишь циклопических размеров кактусы, как молчаливые указатели, высились над крошечным лагерем чужаков из другого полушария. Хлопнула дверца автомобиля. От внедорожника в сторону Инги медленно поползла тень. Девушка вдруг вспомнила странное поведение Полины, когда они прощались. А эта пара одинаковых с лица боливийцев ей сразу не понравилась. – Вернись в палатку, – раздался голос Олега позади. Инга смотрела на спящий солончак, как вдруг далеко по правую руку вспыхнул маленький огонек. Чуть заметный, робкий, но определенно приближающийся. – Ты слышала, что я сказал? Ты вся промокнешь. Тени теперь росли по обе стороны внедорожника, сейчас эти двое напоминали цепных псов, ожидающих команды хозяина. Впервые у Инги внутри зашевелилась мысль, что приезд Олега может быть связан совсем не с поисками ее сестры. – Я не хочу в палатку. Я только что слышала, как звонил Анин телефон. Огоньков стало больше. Они перемигивались и перемещались в той области, куда не падал свет звезд. На таком расстоянии они походили на призрачных светляков, которые собирались в человеческие контуры. – Вот об этом нам и нужно поговорить, – сказал Олег. – Раз до утра не терпит, придется сейчас. – Он вздохнул и подошел ближе. – Инга, родненькая, ты же больна, и тебе нужна помощь. Послушай только, что ты несешь. Мне тоже очень жаль Аньку, она была классной девчонкой… – Она не «была». – …но здесь ее уже нет, – спокойно продолжал он. – Это Южная Америка, Боливия – одна из самых бедных здешних стран. Тут часто похищают людей, просто влезь в Интернет и посмотри. Но то, что выдумала ты… Он замолчал. Инга начинала понимать, куда Олег клонит, но принять это не могла. Все-таки он был едва ли не единственным мужчиной, которого после смерти отца она могла назвать родным. Несмотря на все недостатки. – Какие-то призраки, блуждающие огни, духи пустыни, поселившиеся на поверхности мертвого озера. Ты правда думаешь, что они забрали Аню? Это же полный бред! – Я их видела, и они далеко не бред. Инга зажмурилась, потекли слезы. Потусторонние огни вновь исчезли, будто затаившись на время. – Я уже договорился с отличной клиникой, тебе там помогут. Вернешься домой сразу, как станет лучше. А за дело не волнуйся, я и один с ним справлюсь. И тут Ингу осенило: – Так это все из-за бизнеса, что ли? Да? И с психушкой ты договорился еще до того, как меня увидел, получается? Ах ты, мразь… Ну какая же мразь! Олег грубо схватил ее под руку. Его боливийские псы приготовились к броску. – Мой тебе совет, – с улыбкой сказал он, – делай, как говорят. Никто ведь не удивится, если вместо одной сестры исчезнут две. Небо расчертила гигантская молния, щупальца которой словно дотянулись до спящего за многие километры отсюда вулкана. Дождь вновь набрал силу и превратился в настоящий ливень еще до того, как гром разбудил мертвый солончак. – Какая же я дура… – прошептала Инга. – А ты просто ублюдок. Удар по лицу оказался таким сильным, что Инга скатилась с пригорка кактусового островка и осела в расползающейся по озеру луже. Дождь барабанил по тонкому слою воды, маленькие круги на поверхности походили на следы невиданных насекомых. Три двигающиеся фигуры среди кактусов-исполинов будто насмехались над девушкой. Инге хотелось закрыть глаза и уснуть навсегда. Прямо здесь, под этим невероятным небом на другом конце земли. Но она знала, что такой поступок никогда бы не одобрила Аня, и, собрав последние силы, побежала в темноту. – Стоять, сука полоумная! Мышцы едва слушались. Инга неслась вперед, а под ногами хлюпала вода. Темнота кружила рядом, словно живой организм. Обернувшись, Инга увидела свет фар внедорожника, который копошился где-то в дожде. Рано или поздно они все равно найдут ее, девушка не тешила себя глупыми мыслями. Но пока оставались силы, следовало двигаться дальше. Хотя бы ради Ани. Темнота вдруг на секунду разомкнулась, и впереди возникла светящаяся фигура. Инга опешила и едва не споткнулась о собственные ноги. Неровный силуэт вдалеке своими движениями будто приглашал идти за ним. Огонек, похожий на карикатурного человека, медленно уменьшался, пока не остался световым пятном на черном полотнище. Инга прибавила шагу. Дойдя до нужного места, она увидела горящий кустарник, который плевался искрами в ночь. Только присев рядом, девушка поняла, насколько замерзла. Дождь кончился, о его бомбардировках напоминал только слой воды под ногами. Все вокруг словно застыло в ожидании утра, не было видно и огней внедорожника. Инга наблюдала за редеющим кустарником и видела в нем свою догорающую жизнь. Возможно, ей и впрямь было бы лучше навсегда поселиться в комнате с мягкими стенами и решетками на окнах. Сначала она потеряла сестру в самом красивом месте на планете, потом начала видеть блуждающих духов солончака… Даже мужчина, которого она так ждала, оказался совсем не тем, за кого все эти годы она его принимала. И никому не было дела до ее проблем. Никому и никогда. Кроме одного человека. Инга вспомнила о Полине с ее странным жестом на прощание. Прямоугольник вполне мог означать и листок бумаги, но зачем она лишний раз о нем напомнила? Достав из кармана размокшее послание, Инга поднесла его к огню. Адрес электронной почты прочитать было невозможно, влага размыла и номер телефона. Но приписку снизу девушка, хотя и с трудом, разобрала: «Кажется, у них в машине оружие. Будь осторожнее». Теперь становилось понятно, почему Полина не согласилась ехать в город с этими двумя. Значит, в случае отказа от психушки судьба Инги была предельно ясна. – И давно ты стал таким чудовищем, Олежа? – спросила Инга у дымящихся веток, опуская бесполезный листок в огонь. Над головой мелькнуло розовое пятно, и за пределами круга света приземлилась большая птица. Красавец-фламинго с удивлением уставился на гостью ночного царства, оставаясь на безопасном расстоянии. – Привет, старый знакомый, – улыбаясь, сказала Инга. – Значит, не такая уж я и полоумная. Фламинго посмотрел на девушку пару секунд, а затем медленно отправился в темноту. – Хоть ты меня не бросай. Ну пожалуйста. Фламинго гордо вышагивал вперед, не обращая на посторонние звуки никакого внимания. Инга поднялась и огляделась по сторонам. Солончак все еще дремал, а ее преследователи как сквозь землю провалились. Последнее не на шутку тревожило, не могли ведь они просто так о ней забыть. Поэтому, топая следом за красивейшей птицей, Инга старалась не пропустить во мраке движущиеся силуэты. Пока же все было тихо. Никуда не торопясь, фламинго все-таки не подпускал Ингу ближе. Отсвет догоревшего кустарника остался далеко позади. Ночное небо растолкало тучи, и над солончаком зажглись звезды. Впереди показались вереницы пирамидок из соли, которые перечеркивали высохшее озеро. Инга смотрела на эти клонированные горки, как вдруг заметила среди них проплешину, словно кто-то выгрыз клок из ровных рядов. С каждым шагом дрожь в ногах усиливалась. Теперь уже можно было различить лежащее на земле тело. Вернее, человека в потрепанном спальнике. Фламинго потерял интерес к прогулке и поднялся в воздух, и в этот момент из спальника показалась светловолосая голова. – Аня… Быть не может. Аня! Инга бросилась к сестре, которая в панике пыталась вылезти из спальника. Ничего не соображая, она прильнула к истощенному, чумазому, но такому близкому и родному Аниному телу и разрыдалась. Только спустя пару минут Инга ощутила ответные объятия и услышала знакомые всхлипы. – Я знала, что ты меня найдешь… – сквозь плач прошептала Аня. – Как ты? Все это время тут была, почти под носом?! Что случилось?! – тараторила Инга. – Да я чуть с ума не сошла! – Ну да, – улыбнулась Аня, – под носом. Но это только кажется так. Я никак не могла вас найти, да и вообще людей не видела. Сама чуть не свихнулась за эти пару дней. – Какие пару дней?! – изумилась Инга. – Тебя больше недели ищут! Аня хлопала красивыми глазами и смотрела куда-то вдаль. На лице девушки читались одновременно и понимание, и изумление. – Но это ничего, это из-за шока, ты обязательно поправишься. – Инга все время тормошила сестру, будто не веря, что та наконец рядом. – Но больше я тебя с собой никуда не потащу ни за какие коврижки. Хватит приключений таких. На всю жизнь хватит. Девушки встали и поплелись подальше от соляных вышек, бесконечные ряды которых ночью еще сильнее напоминали кладбище. Сестры болтали, взахлеб пересказывая события этих страшных дней. По словам Ани, она отошла не дальше чем на километр, а когда вернулась, никакого лагеря уже не было. Она часами бродила здесь, надеясь на помощь, но даже днем не появлялось ни души. Исчезли и грузовики сборщиков соли. – А спальник ты где раздобыла? – Не знаю, просто наткнулась на него в первую ночь. Наверное, кто-то потерял. Как я потеряла мобильник. Сама удивилась. Мне тогда еще везде мерещилось свечение. Как будто вдалеке чучело Масленицы сжигает кто-то. Хлопанье крыльев слышалось то слева, то справа, фламинго не хотел отставать от новых знакомых. Дело шло к рассвету, когда девушки доковыляли до места стоянки. Точнее, это Инга была уверена, что они вышли к нужным кактусовым зарослям. Само же место не сильно напоминало их лагерь. – Как так? Мы же именно тут были… Даже кострища не осталось. – Я же говорила, – откликнулась Аня. – Здесь все вроде как на ладони, а заблудиться – проще простого. Инге это совсем не нравилось. Вот лежало пробитое колесо, на котором они с Полиной сидели вечерами; чуть дальше валялись камни, пригодившиеся для самодельного мангала, а над ними нависал уродливый кактус, получивший прозвище Осьминог. Но никаких следов пребывания здесь людей не было. Не говоря уже об отпечатках автомобильных шин поблизости. Аня заметила что-то в кустарнике и выудила из сухих зарослей очень красивый камень причудливой формы. Точно такой же она достала отсюда в день приезда. – Инга, что происходит? – сказала Аня, протягивая камень, на котором были нацарапаны буквы «АЯАМ». – Это ведь тот же самый? Что ты в первый день нашла? Аня кивнула. В ее глазах отчетливо клубился страх. – Только надпись тогда была другая. «MARA», если я не путаю. Инга подрагивающей рукой взяла камень у сестры. Все сходилось, ошибки быть не могло. Изменилась только надпись. – Я, кажется, начинаю понимать… – едва слышно пробормотала Аня. Инга устало опустилась на знакомое до боли колесо, которое, судя по виду, бросили тут лет десять назад. Небо над головой становилось все светлее. Девушка закрыла глаза и услышала, как рядом присела Аня. «MARA» на языке индейцев аймара означает «время», «год». Этот язык весьма распространен в Боливии, так что Инга запомнила некоторые слова. Теперь она стала догадываться, почему не изменились буквы в письме Полины, ведь его она принесла с собой, и оно не принадлежало этому месту. – Мы что же… – начала Аня, но Инга не дала ей закончить. Крылья хлопнули совсем близко, их розовый друг явно хотел посмотреть, чем все закончится. Аня положила голову сестре на плечо и вздохнула. Догадка вертелась на языке у обеих, но озвучить ее не спешил никто. Она объясняла и то, почему Олег так легко отстал, и нетронутую стоянку, и даже одинокую птицу, поселившуюся тут. Самое большое зеркало на планете сыграло с ними злую шутку. – Время, – наконец сказала Инга. – Вот что им нужно. Это место и его обитатели… Они перетаскивают жизнь на другую сторону, чтобы самим иметь возможность выхода наружу. Поэтому после твоего исчезновения огоньков стало больше. – Звучит по-дурацки, – отмахнулась Аня. Казалось, она совсем успокоилась. Инга только улыбнулась в ответ. Самое главное, что они с сестрой были вместе. Оставался только последний кусочек мозаики, который поставит точку в вопросе о том, где они сейчас находятся. Измученная поисками сестры Инга очень плохо спала и каждое утро воочию наблюдала, как из-за раскинувшихся прямо по курсу гор нехотя вылезает солнечный диск. Судя по небу, как раз приходило время рассвета. Прижавшись друг к другу, Инга с Аней сидели на покрытом ржавчиной колесе и смотрели в сторону восточных хребтов, которые по-прежнему окутывала тьма. Время тянулось очень медленно. Солончак не хотел просыпаться, будто день здесь боялся поссориться с ночью. Лишь ветер неустанно носился по земле, ворошил траву и норовил зарыться в волосы. – Я очень устала, – произнесла Аня. – Понимаю. Я тоже. Когда первые лучи солнца поползли из-за спин девушек и новый день стал рождаться у западных холмов, сестры переглянулись. – Зато у нас есть собственный фламинго, – сказала Инга. – А на той стороне их до ноября ждать будут. Аня грустно рассмеялась и беззлобно пихнула сестру. Инга посмотрела на лениво расцветающую зеркальную гладь солончака. Солнечные зайчики были единственными коренными жителями высохшего озера с этой стороны. Другие его обитатели застряли где-то посередине, а редкие чужаки едва ли задерживались тут надолго. Несмотря на полную похожесть, все-таки это был мертвый мир. Безумно красивый, но мертвый. – Ну что, может, прогуляемся чуть-чуть? – спросила Аня. – Смотри, какую погодку нам обещают. – Почему бы и нет, – с улыбкой кивнула Инга. – Лично у меня нет никаких срочных дел на сегодня. Посмотрим, сохранилось ли тут твое сердце. – Какое еще сердце? – Я покажу. Салар де Уюни, одно из неназванных чудес света. Место, где исчезает понятие реальности, место, которое может поглотить человека без остатка… Инга с Аней поднялись и двинулись к идеально ровной поверхности озера. Удивительный соленый край встречал утро вместе с незваными гостями. Когда девушки входили в бесконечную панораму отражений, над ними хлопали сверкающие на солнце крылья одинокого фламинго.Парк исполинов
За двое суток на помощь никто не пришел. Скорее всего, станцию уже признали затопленной. Запас гелиево-кислородной смеси подходил к концу, оставался лишь вариант с водолазным скафандром. Глозман с самого начала знал, что все закончится на глубине. Если программу он выбрал правильно, то давление его пощадит и не расплющит. По ощущениям, окружающая среда была скопирована верно и в барокомплексе поддерживалось то же давление, что и на морском дне. Плотность воздуха поражала. Ноздри слипались, поэтому дышать можно было только ртом. Пропали звуки и запахи. Но до их исчезновения Глозмана не покидало чувство, что кто-то пытается вломиться во внешний люк. Глозман влез в водолазный скафандр и запустил воду в гидрокамеру. Пришла пора прогуляться по морскому дну, выйти из-под защиты стен подводной станции, почувствовать себя частью этого невообразимого глубинного мира… Раз уж мир на поверхности отказывался его принимать.Ранее Шторм бушевал уже несколько часов, блокируя видеосвязь. Призрачный силуэт перепуганной блондинки давно растворился в облаке помех, пропал и звук. Глозман отодвинулся от монитора и вздохнул. В висках стучало, дрожь в руках усиливалась с каждой минутой. Хороших вестей с поверхности он уже не ждал. За сверхпрочным стеклом в холодных водах Мурманского моря дремали исполины. Стометровые гиганты, созданные безумным гаитянским скульптором, казалось, вырастали прямо из земли, потому что платформу покрывали донные отложения. Между статуями едва виднелась линия перевозки экскурсионных групп, которую обволакивали искусственно выведенные водоросли. – Марина, – сказал Глозман, – если слышишь, посылай всех к черту. Нет меня. Отбой. На огромный экран вернулись застывшие заголовки новостей из Интернета. «Правительство Норвегии требует привлечь Глозмана к ответственности». «Ученые со станции „Фортуна“ неожиданно свернули глубоководные исследования в районе желоба Медвежьего острова». «К берегам Мурманского моря вновь выносит мертвых китов». Тишина здесь была абсолютная. Ни людской болтовни, ни жужжания многочисленной техники, ни писка сонаров. Ничего. Большую часть оборудования уже вывезли, разбежался и персонал. С завтрашнего дня Парк исполинов вместе со станцией официально переставал существовать. Место, которое пять лет дарило радость и эмоции тысячам людей, доживало последние часы. – Батискаф только что отправился с «Верфи», – пронесся по пустым коридорам механический голос Фортуны. – Ожидаемое время прибытия на станцию: через один час. – Да хоть завтра! – рявкнул Глозман, и эхо затрепыхалось под металлическим потолком. Он сидел перед экраном, хрустя костяшками пальцев. Как только удавалось чуть успокоиться, либо вспоминался разговор с Мариной о новых судебных исках, либо Фортуна сообщала о скором прибытии батискафа. Проклятой железяки, которой суждено забрать отсюда основателя парка, а по совместительству и последнего проводника по этому странному месту на глубине пяти сотен метров. Покрутившись на стуле, Глозман закрыл окна с новостными ресурсами и вернул на экран сохраненные отчеты путешественников. Бесконечные благодарности создателю нового чуда света, сотни фоторепортажей, признание лучших турагентств и экскурсоводов мира – вот что заставляло Глозмана бороться за свое детище все эти месяцы. И он держался до последнего, порой даже переходя грань дозволенного. Идею он подсмотрел у какого-то британца, который без особого успеха опустил на десять метров глубины в мексиканском Канкуне несколько сотен статуй, чтобы привлечь внимание дайверов. Теперь от музея подводных скульптур ничего не осталось, но в те годы находились желающие заплатить за экскурсию с аквалангом. Глозман же хотел сделать нечто умопомрачительное, огромное, страшное и красивое одновременно. Он хотел войти в историю. И своего добился. Самым сложным оказалось найти место. Даже с его деньгами и связями путешествовать из кабинета в кабинет с конвертами разной степени пухлости пришлось почти полгода. Отказы сыпались один за другим, привлекательные для туристов теплые воды никто под нужды Глозмана выделять не собирался. То же самое касалось и большой глубины. Но Глозман был не из тех, кто сдается. Он не хотел устраивать второй музей на мелководье и продолжал гнуть свою линию. Агрессивная манера ведения дел, в свое время превратившая его в одного из самых богатых людей России, помогла и здесь. Далеко не всем понравилась идея строительства на дне Мурманского моря, но разрешение было получено. Сыграла роль и исследовательская станция, которую Глозман обещал соорудить в парковом комплексе, что сразу заинтересовало некоторых ученых. Парк исполинов, несмотря на многочисленные протесты «зеленых», вырос буквально на глазах, а Мурманская область стала превращаться в притягательный для иностранцев кусочек неизведанной русской земли. Глозман поднимал инфраструктуру, возводил гостиницы и развлекательные центры, создавал на берегу суперсовременную зону отдыха. Но изюминка всего этого нежданного великолепия, конечно же, располагалась под водой. Глозман шел вдоль прозрачной стены и глядел в море. Подсветка в парке была отключена, и исполинов окутывала тьма. Двадцать девять скульптур – каждая выше Статуи Свободы – циклопическими тенями смотрели сквозь черную воду. В отблесках внешнего освещения мелькали рыбы. За спиной что-то скрипнуло. Там, у двери в просмотровый зал. Глозман повернулся, удивленно нахмурив лоб. Он был под водой уже неделю, а последние дни еще и совсем один, но на галлюцинации никогда не жаловался. – Фортуна, – сказал Глозман, поправляя гарнитуру. – Быстрое сканирование. Число персонала на станции. На пару секунд все вокруг заполонили вспышки света, по коридорным стенам поползли пятна. Снаружи от стекла метнулась длинная тень, а у подножия исполинов засверкали контуры пешеходного туннеля. – В настоящий момент на станции находится один человек. У Глозмана имелась причина бояться, он это понимал, оттого и не спешил на поверхность. На суше его ждали люди по другую сторону закона, и договориться с ними было куда сложнее, чем с прикормленными чиновниками. Он подошел к пульту управления и разбудил уснувшие огоньки. Зажглись мониторы эхолота, замелькали цветом многочисленные кнопки, вокруг исполинов стали набухать ламповые пузыри. – Превышен лимит допустимой мощности, – прошелестел голос Фортуны. – В условиях ликвидации станции не рекомендуется использовать все ресурсы. Это может вызвать сбои в работе системы. – А не пошло бы все на хер?! Пока я здесь, никакой экономии энергии. Да будет свет, мать твою! Темнота попряталась по углам. За стеклом, которое было сделано с добавлением серебра и палладия и могло выдержать даже взрыв бомбы, включились мощные прожекторы, отпугивая жирных зубаток. Море посветлело, и в нем зашевелилась глубоководная жизнь. Глозман ввел код и открыл дверь в просмотровый зал. Здесь прозрачная стена выгибалась дугой, превращаясь в «брюхо» станции, а часть потолка сменяла металлическую шкуру на стеклянную, так что можно было взглянуть наверх. Исполины в перекрестных лучах подводных фонарей обретали жизнь. Впервые Глозман увидел их в миниатюре на одном из интернет-аукционов и сразу заинтересовался создателем. Им оказался глухонемой гаитянин, лепивший странные фигуры из всего, что попадалось под руку. Остальное было делом техники и средств, и уже вскоре на Медвежьем острове началось возведение каменных гигантов для последующего погружения. Безымянному гаитянину помогали десятки других скульпторов, но, несмотря на это, все исполины были выполнены в общем стиле, будто каждого из них лепила одна рука. Монументальные творения и притягивали, и отталкивали, но не восхититься ими было нельзя. Впереди всех стоял Рыбак, печального вида великан с сетью, которая переплеталась с его ногами, превращая их в чешуйчатый хвост. Рядом томился Лесоруб. Свисающий до самого дна топор давно облюбовали мелкие моллюски. Над шлемом Стражника до сих пор виднелись остатки верхнего пути для экскурсий, а сам исполин, сотканный из различного оружия и напоминающий морского ежа, всей своей могучей статью показывал, что акватория под надежной защитой. Выше остальных был Четырехрукий, так что его силуэт просматривался с любой точки станции. Он служил неким компасом-указателем, протягивая длинные пальцы-щупальца к Медвежьему острову со Шпицбергеном на севере и к Новой Земле на востоке, а двумя другими руками обозначая норвежские границы, которые сузились с тех пор, когда морю еще не вернули старое название и оно звалось Баренцевым. Всех исполинов роднила одна деталь – у них не было глаз, но при этом не покидало ощущение, что слепые глыбы смотрят именно на тебя. Скульптор долго ничего не хотел объяснять, а потом написал: «Эти фигуры и так несчастны, им не следует видеть то, что живет на глубине». Глозман не стал спорить, тем более что жуткие, но необъяснимо притягательные изваяния в таком экзотическом месте быстро стали лакомым кусочком для туристов со всей планеты. Однако проблемы начались почти сразу. Еще во время строительных работ у берегов расположенного рядом Норвежского моря нашли несколько мертвых гренландских китов, которые считаются исчезающим видом. «Зеленые» тут же связали это с Глозманом и потребовали прекратить загрязнение моря. Вскоре уже мурманские воды принесли полдюжины трупов нарвалов, и Глозманом заинтересовались на более высоких уровнях политики. Он накидал встречных обвинений в адрес норвежских заводов по переработке радиоактивных отходов, которые еще раньше загадили побережье, и на какое-то время все затихло. За эти месяцы парк стал очень популярен, здесь побывали многие знаменитости, и никто не сказал о нем ни одного дурного слова. Но парадокс заключался в том, что насколько все боготворили чудное детище Глозмана, настолько все ненавидели его создателя. Богатый, успешный, грубый и наглый – таких людей обычно не любят, однако Глозману было плевать. Он и не жаждал всенародного признания, ему хватало того, что парк пользуется невероятным успехом. Но успех успехом, а у сильных мира сего оказались другие взгляды. Сперва бучу подняло министерство обороны, которое использовало Мурманское море как место дислокации своих кораблей, и лишние глаза им вдруг стали сильно мешать. Зато восторгу посетителей парка не было предела, когда однажды над головами исполинов проплыла громада подводной лодки. Глозману удавалось сдерживать негодование властей, пока в акватории не пропало рыбацкое судно. Сразу же отовсюду полетели обвинения, порой на редкость смешные. На сцену вылезали разномастные экстрасенсы и охотники за аномалиями, доказывая, что Глозман чуть ли не Кракена разбудил. Даже церковь не упустила возможности обвинить миллиардера во всех смертных грехах. А еще через месяц в этих водах бесследно исчезла атомная подлодка норвежцев. Последний раз гидролокаторы засекли ее недалеко от Парка исполинов. Назревал международный скандал, и правительство России стало готовить закон о сворачивании необычного проекта. Спустившись на нижние уровни, Глозман вошел в стеклянную трубку пешеходного туннеля, и воды Мурманского моря обступили шагающего сквозь бездну человека. Исполины возвышались за границей черного леса из водорослей и отсюда выглядели поистине огромными. Головы их терялись на высоте вне купола света, где в каменных кудрях пытались угнездиться маленькие жители глубины. Плавающие тени сновали в толще воды куда ни глянь, а в иле у стен туннеля копошились морские звезды. За спинами чудовищных Палача и Безголового, которых сторонились даже рыбы, Глозман разглядел одного из своих любимцев – Тонкого. Он походил на изогнутое дерево, корнями уходящее в донный рельеф. К верхушке ствол обретал человеческие контуры и заканчивался вытянутой головой неправильной формы, так что широкая шляпа едва на ней держалась. Тонкий всегда напоминал Глозману какой-то жуткий гриб, а искривленный в крике рот делал это создание еще мрачнее. – Батискаф прибыл на станцию, – сообщила Фортуна. Глозман поморщился. Ему совсем не хотелось покидать это место, их связывало слишком многое. Он взглянул на часы и улыбнулся. – Фортуна, пускай ждет. По решению суда я могу здесь находиться еще часа два как минимум. Лично я никого сюда раньше времени не звал, так что это не мои проблемы. Станция затихла. Снаружи отдыхало Мурманское море, среди жителей которого поселились двадцать девять титанов, рожденных удивительной человеческой фантазией. – Добро пожаловать на станцию «Фортуна». Глозман с изумлением обернулся к настенному монитору: – Ты чего несешь?! Фортуна, свяжи-ка меня с батискафом. На экране возник знакомый «снег». Глозман переключался на камеры поблизости, но изображение дала только одна. На ней просматривалась открытая дверь транспортного отсека, код от которой никто знать не мог. Ну или почти никто. – Фортуна, быстрое сканирование. Численность персонала. Глозман закрыл глаза, но все равно чувствовал вспышки. Обычный транспортник ни за что не смог бы проникнуть на станцию. Никогда. А с «Верфи» должны были отправить именно его. – В настоящее время на станции находятся шесть человек. – Фортуна, – Глозман вытер испарину и приник к монитору, – быстрый доступ ко всем камерам станции. Корпус связи, лабораторный сектор, галерея, панорамные залы, лестницы, лифты, механический блок… Никого. Яркое освещение вылавливало лишь пустые комнаты и коридоры. Тишина начинала напрягать. – Фортуна, попробуй соединить с поверхностью. – Соединяю. Вместо изображения на экране возникла снежная рябь. Белый шум стучался в голову, а тонны воды за стенами словно пытались забраться внутрь станции. – Офис, мать вашу, куда делись все?! – Игорь Леонидович? – вопрошал знакомый голос. – Вас очень пло… слышно. – Марина! – крикнул Глозман, косясь в сторону лифтов. – Кого вы мне прислали?! Что это за дебилы и какого хрена они по станции шатаются?! Пускай сидят в своей посудине! – …никого …присылали, – сказали помехи, – …пробую …вязаться …«Верфью» и… Экран потух. Грохнув по нему кулаком, Глозман отошел к противоположной стеклянной стене. Транспортного отсека видно не было. – Связь с поверхностью временно утрачена, – сообщила Фортуна. – Да неужели? – усмехнулся Глозман. – Кто бы мог подумать. Он двинулся назад к проходам на верхние уровни. Лифты и лестницы отлично просматривались, и место казалось пустым. Сквозь толстое стекло морская фауна таращилась на человека, который разгонял тишину своими шагами. – Фортуна, где находятся эти люди? – Информация недоступна. Лифты пришли в движение, и Глозман отступил к туннельной перегородке. – Фортуна, заблокируй все двери! Ответа не было. – Фортуна! И тогда Глозман услышал смех. – Кончилась твоя Фортуна, – зазвучал из динамиков прокуренный мужской голос. – И ты скоро кончишься. Глозман вручную заблокировал дверь и отправился вглубь туннеля, удаляясь от здания станции. – Можешь побегать, – веселился незнакомец, – так даже интереснее! Потому что сразу мы тебя не убьем. Не заслужил. Глозман ждал, но никак не думал, что это случится на дне Мурманского моря. Наверху, среди продажных людишек, но не здесь. Здесь он чувствовал себя в безопасности, потому что батискафы приходили с подконтрольной ему «Верфи», где сумасшедшая система охраны, за которую он каждый месяц отваливал баснословные деньги. Без его ведома просто не могли отправить другой батискаф. Так или иначе у аппарата должны быть коды доступа для стыковки со станцией, а кроме Глозмана знал их лишь начальник охраны. – Ты ведь знаешь, почему мы здесь, да? Конечно, знаешь. Тогда ты не сильно удивишься, если мы убьем тебя так же, как и ты их. – Это был несчастный случай, – тихо сказал Глозман. – От такого никто не застрахован. Не убивал я никого! – Ошибаешься, паскуда. Я собственными руками опускал их гробы в землю. Все три штуки… Разом открылись все двери. Теперь туннель просматривался насквозь, перегородки больше не мешали. У лестниц исчез человек в черном комбинезоне. Глозман подошел к сенсорному экрану на стене и попытался оживить могучий затвор, но электроника больше ему не подчинялась. – Не трать силы. Станция уже наша, и скоро начнется самое интересное. Туннель закончился. Раньше он упирался в трехъярусные пути, по которым катались туристические кабинки, но теперь все было затоплено. Техника вывезена, пустоту сожрала вода. Вода… До Глозмана вдруг дошло, какая участь ему уготована. Выход оставался только один. Дом акванавтов. Он побежал назад сквозь внутренности пешеходного туннеля. Наверху что-то громыхнуло. Электронные щиты с описаниями глубоководных организмов потухли, кровавыми пятнами зажглись аварийные лампы. Громыхнуло вновь. Вода пришла, когда Глозман уже добрался до лифтовой площадки нижнего уровня и по ступенькам стал скатываться к механическому затвору барокомплекса. Дом акванавтов буквально врастал в дно. Он был самой глубокой точкой станции. И самой защищенной от посторонних глаз. Ученые испытывали здесь новое глубоководное оборудование и проводили какие-то исследования прямо в открытом море. Доступ в барокомплекс был ограничен, никакой видеосвязи, никаких автоматических дверей и дистанционного управления. Больше всего он напоминал подводную лодку. Как раз это и могло стать спасением. Ледяной поток схватил ступни. За спиной шумело так, будто там бурлила река. Холод поднимался вместе с уровнем воды. Глозман выкручивал вентиль размером с руль грузовой фуры, пока люк не поддался. Внутрь поползла вода. Пробравшись в барокомплекс, Глозман с трудом задраил люк и рухнул на пол. Руки тряслись, мокрая одежда прилипла к телу. Через крошечный иллюминатор было видно, как тонет нижний уровень. – Молодец, заслужил щепотку уважения напоследок, – казалось, этот проклятый голос звучит в голове. – Замуровался в консервной банке, хвалю. И долго ты там протянешь? Глозман поднялся. Это место напоминало титановый цилиндр метра в три диаметром. За все пять лет существования парка Глозман был внутри барокомплекса не больше двух десятков раз. Сейчас он находился в отсеке для исследований, основное помещение с душем, туалетом и кубриком скрывалось за еще одним люком. Там-то и обитали смельчаки, которые неделями трудились на дне, а потом жили в этих спартанских условиях до окончания работ, чтобы не проходить долгую декомпрессию. Даже в период ликвидации станции все здесь осталось нетронутым, ведь ученые настояли на том, чтобы демонтаж оборудования производился после официального закрытия и только специальными людьми. Это не могло понравиться Глозману, но с исследовательским центром приходилось идти на компромиссы. Да и сейчас это было уже не важно. – Жаль, я тебя больше не вижу. Хотелось посмотреть, как ты подохнешь от удушья, когда наш умник разберется с системой подачи кислорода. Ты же не думал, что эта металлическая кишка питается сама от себя? Глозман грустно улыбнулся и подошел к шлюзовым камерам, через которые акванавты получали еду и при необходимости лекарства. Он знал, что в рабочем барокомплексе хватает различных дыхательных смесей. Другой вопрос: как с ними обстоит дело теперь, когда вылазки наружу больше не предполагаются? – Кстати, забыл сказать, – ухмыльнулся человек из динамиков. – Тебя элементарно продали. Твои же люди. Так что никому ты на хрен не сдался, даже со своими погаными бабками. Экономь воздух, Глозман! Ну а если вдруг найдешь акваланг… Связь прервалась, задрожали стены. Потух свет. Однажды Глозман застал на глубине подводное землетрясение, поэтому толчки его не удивили. Сейчас у него были проблемы посерьезнее. Электричество вскоре вернулось – заработал резервный генератор барокомплекса. – Хоть так, – усмехнулся Глозман. Его радовало, что не придется умирать в клаустрофобном мраке. Но главным подаркомстала сгинувшая радиосвязь. О себе он наслушался достаточно. Станцию все время трясло, дышать становилось нечем. Глозман много читал и общался с командиром акванавтов, видел его отчеты после декомпрессий, но никогда не думал, что сам окажется запертым в барокомплексе. Теорией он владел, с практикой дело обстояло хуже. Глозман задраил люк, отгородившись от исследовательского отсека, куда попала вода. Он включил компьютеры. Без Фортуны разобраться со здешними приборами было нереально, оставалось надеяться на автоматические программы. На одном из мониторов появилось схематичное изображение существа, похожего на осьминога, но через мгновение экран потух. Все остальные пока работали. В гидрокамере виднелся водолазный скафандр. Глозман знал, что до него дойдет дело. Но пока следовало подготовиться. Снаружи ждало избыточное давление в сумасшедшие пятьдесят атмосфер.
Шаги давались с трудом, ныли неподготовленные мышцы. Казалось, вот-вот хрустнут кости. Первое, на что Глозман обратил внимание, – свет. Подводное освещение уцелело. Электрический огонь пылал вокруг статуй, сохраняя возможность видеть на глубине. Глозман отошел от гидрокамеры метров на десять и обернулся к зданию станции. Ноги подкосились, и он едва удержал равновесие. Станцию опутывало огромное кольчатое тело, по сравнению с которым исполины казались игрушечными солдатиками. Остатки искусственного света терялись в серых складках существа, щупальца копошились внутри базы. Похожие на гигантских змей кольца постоянно вращались, сжимаясь вокруг конструкций «Фортуны». Верхние уровни были уничтожены, обломки поглощала невообразимая масса синего цвета, напоминающая человеческий мозг. С трудом совладав с нервами, Глозман развернулся к парку и сделал шаг. Он не знал, насколько хватит дыхательной смеси, но теперь его это не сильно беспокоило. Со своей участью он смирился еще в барокомплексе. Пробираясь сквозь высоченные водоросли, которые никто бы не отличил от настоящих, Глозман вспоминал, как в детстве терялся в деревенском кукурузном поле. Обступающая со всех сторон зелень, шелест листьев на ветру, падающий за линию видимости раскаленный солнечный диск и отсутствие всяческих ориентиров – тогда в этом чудилась подлинная жуть. Сейчас заблудиться он бы не смог – исполины пронзали море чуть ли не до самой верхней границы. Рыбак остался позади. Глозман просто шагал вперед, задирая голову для приветствия каждого нового исполина. Он и представить не мог, что каменные глыбы придется оставить. Сотни фильтров воды для лучшей видимости, тысячи ламп, из-за которых стали изменяться привыкшие к вечной ночи растения и рыбы, – все это приказали бросить на дне, велели погасить свет навсегда. Но за годы существования парка Глозман стал частью этого места, и кусочек его души остался бы в здешних глубинах. Световые пятна теперь плясали в пузырьках воды, которые ползли следом за глубинным пешеходом. В песке под ногами постоянно кто-то шевелился. Глозман миновал Посейдона со сросшимися в трезубец руками и ступил под защиту Священника. Воздетые к поверхности руки разрезали воду. Глозман остановился и тяжело вздохнул. Голова кружилась, перед глазами стали возникать черные пятна. Его окружали тени гигантов, в них прятались морские обитатели, которые не переносили яркого света. Мурманское море ползло сквозь строй каменных великанов, незваных чужаков из другого мира. Наземного. Глозман поднял голову, вглядываясь в перечеркнутое искусственными лучами течение. Это место не нуждалось в людях, и оно их не принимало. Тонны техники на дне моря лишь на время отвоевали у природы право на существование. На деле же вторжение в подводный мир оказалось ошибкой. Исполины вырастали слева и справа, оставались позади и все реже маячили прямо по курсу. Глозман уходил от парка, уходил от станции – он уходил от своих мыслей. Три недели назад тут случилось несчастье. Из-за недосмотра рабочих одна из кабинок вышла на туристический маршрут неисправной. Произошел сбой электроники. Кабинка застряла на втором ярусе, и аварийная дверь вдруг открылась. Спасатели подоспели, когда вода наполнила ее до самого потолка. Аквалангов внутри не нашлось. Среди тринадцати погибших была молодая женщина с двумя сыновьями. Как вскоре узнал Глозман – супруга человека, который контролирует криминальный мир всей Мурманской области. Через пару дней вместе с прислугой и домашними животными сгорел особняк Глозмана, а еще через неделю на станцию пришла первая и последняя электронка от анонима. Никаких эмоциональных криков, никаких оскорблений, только обещание, в которое нельзя было не поверить. «Ты ответишь». Замыкал строй титанов Клоун. Каменные волосы торчали во все стороны, безглазое лицо пересекала тонкая линия рта. Костюм был высечен на голом теле – из грудных мышц топорщились помпоны, кисти рук обращались распушенными рукавами, а ступни были изуродованы шрамами, чтобы обрести сходство с настоящей обувью. Глозман миновал страшного весельчака и уставился в темноту. Парк закончился, а вместе с ним – и освещение. Впереди в воде плескался мрак. Задрожала земля. Во время дороги сюда Глозману мерещилось, что исполины шевелятся. Кто голову повернет, кто руку поднимет, кто сдвинется с места. Галлюцинации он списывал на глубоководное опьянение, о котором рассказывали акванавты. Глозман из последних сил старался держаться на ногах, потому что подняться в скафандре он бы уже не смог. В парке потух свет, вернув морское дно в первозданную тьму. Земля поднималась и опускалась – это шли титаны, заслоняя собой само море. Глозман ослеп, оглох, но воображение дорисовывало шагающих великанов. Дрожал сомкнувшийся вокруг него вакуум, исполины уходили. Глозман задержал дыхание, пытаясь представить шепот моря. Его последнюю песню. За свои методы достижения цели, за отношение к людям, за вторжение в подводный рай и за погубленные жизни Глозман заслужил смерть. И хотя он создал любимое многими, по-настоящему волшебное место, в памяти людей ему суждено было остаться отщепенцем, который так и не нашел пристанища ни в верхнем мире, ни в нижнем. «Им не следует видеть то, что живет на глубине», – вспомнил Глозман записку гаитянина. Этот сумасшедший наверняка знал больше. Как и ученые, которые что-то раскопали у желоба Медвежьего острова… Землетрясение продолжалось, и Глозман шагнул в чернильную завесь. Он ступил в строй, стал тридцатым. Клоун, Палач, Четырехрукий, Лесоруб – теперь Глозман шел среди исполинов. Со старших товарищей сыпалась каменная крошка, била в скафандр, но великаны не втаптывали человека в ракушечный грунт, приняли за своего. Привыкшие к мраку глаза уже различали грандиозные силуэты, и Глозман спешил. Через изнеможение двигался вперед, потому что боялся умереть в одиночестве. Он хотел доказать гигантам, что чего-то сто́ит, что может быть частью их стаи, как всю жизнь доказывал это людям. Давясь остатками дыхательной смеси, Глозман улыбался. Несмотря ни на что, он чувствовал себя счастливым. Здесь и сейчас. В загадочном и невероятно красивом подводном царстве на окраине Северного Ледовитого океана.
Хранители волшебства
Девчонка была чуть помладше меня, с косами, с дурацким ведерком и в резиновых сапогах. Сидела и ковырялась в луже. Во дуреха! Всю дорогу покрывали эти лужи, дождь капал и капал, хотел залить дома и сараи. Соседи испугались плохой погоды, спрятались у печек и грели ладошки. Тучи летели в сторону железной дороги, а на земле ветер шебуршил желтыми листьями. Осень тут была грустная. Я не знал, знакомая это девочка или нет, потому что все забывал. Иногда вспоминал, но в основном забывал. Тем более такую ерунду. Да и чего веселого – вычерпывать лужу, моя игра куда интереснее. Я пронесся мимо, перепрыгивая болото грязи, а девчонка вдруг что-то крикнула. – Привет, – отозвался я и остановился. – А что ты делаешь? – Играю. – Я улыбнулся и поправил свитер с оленем. Мою гордость. Не помню, кто его подарил, но очень хотелось им похвастаться. Потому что олень там был как настоящий. И совсем не страшный. – А во что играешь? – Девчонка бросила ведерко и поднялась. Из него выбралась маленькая лягушка, квакнула и попрыгала к траве у забора. Наверное, там жили другие лягушки – ее папа и мама. – Я помогаю волшебнику делать разные дела. Залаяла собака. Сквозь дырку в досках показался плешивый нос, обнюхал холодный воздух и исчез. Звери тоже не любят осень. – Какая странная игра. – Уж получше, чем в ведре лягушек полоскать! Да если б не волшебник, тут давно все со скуки померли! Никто не гуляет, ничего не делает, все дряхлые и ленивые! А я вот сейчас бегу на старую водокачку. С секретным заданием. Вот так вот! Хочешь со мной? Девочка обернулась к калитке, подняла голову на дым, что полз из трубы скособоченного дома. На почтовом ящике еле-еле виднелось число «23». – Понятно, – ухмыльнулся я, – ты еще малявка. Ну, как хочешь! Машка догнала меня у заколоченного магазина. Вернее, я не знал, что это Машка – она сама сказала. А меня назвала Мишкой. И еще дураком. Наверное, мы все-таки были знакомы, деревня же маленькая. У колонки толкались два мужика, а вода лилась прямо им на ноги. Вот-вот подерутся. Скорее всего, пьяницы, они всегда кричат и ругаются. Каждый день. Мы незаметно проскочили за кустами, перелезли через заваленный фонарный столб и очутились у тропинки к пруду. Она вся раскисла и хлюпала под ногами, но нам нравилось размазывать сапогами эту слякоть. Деревья вокруг шумели и трясли сырыми макушками. Листья тут еще держались, но попадались и костлявые ветки. Потемнело. – Волшебник все про всех знает, поэтому придумывает веселые игры, – рассказывал я. – Даже взрослые любят с ним играть! – А какая у нас сейчас игра? – Нам надо помочь водяному попасть домой, потому что у него кончились силы, а без воды ему плохо. Поняла? Бежим скорее! Машку все время приходилось ждать, она еле ползла. Да еще и куртку напялила слишком большую, и ей мешали свисающие до колен рукава. Пруд был здоровенный. Мы вышли из-под березок прямо к каменному туннелю, который вел к водокачке. На стенках красовались всякие слова и рисунки, через потолок проходили жирные трубы, а пол затопило водой. Машка встала у картинки с птичками и посмотрела на плывущие в воде листья. – Мы тут не утонем? – Да ты чего! Здесь же мелкота, только сапоги промочить. Боишься, что ли? – И ничего я не боюсь. Просто… А как водяной выглядит? – Ну, водяной как водяной, – пробормотал я, потому что забыл, как выглядят водяные. – Наверное, как человек, только… водяной. – Понятно, – кивнула Машка, хотя наверняка ничего не поняла. Мы шли по туннелю, рассекая воду, как корабли. Навстречу плыли ветки, трава и разный мусор, глубина была всего в полсапога, и на дне мелькали красивые камушки. Туннель напоминал маленькую пещеру. Раньше тут катались на велосипедах, а потом пруд расплылся и залил все водой. Я засмотрелся на рисунок осьминога, и Машка меня обогнала. Она плеснула водой в оленя на свитере и велела поторапливаться. Совсем обнаглела! Но главное – Машка улыбалась. Значит, игра ей понравилась. Хотя в этом я и не сомневался. Водокачка смотрелась как кусок подводной лодки. Большущий бачок подползал ближе к глубине, в него втыкались трубы, тянувшиеся из зарослей пожухлой травы. Огромные валуны подпирали эту штуковину прямо из воды. Вокруг бачка деревяшками сделали что-то вроде пола, смастерили даже перила. И сейчас по доскам взад-вперед ходил человек с седой бородой. – Это водяной? – спросила Машка. – Не знаю. Я и вправду не знал. Казалось, что водяной не может ходить по суше. Из-за деревьев показались трое. Один тащил лом, другой вилы, третий что-то бормотал. Я схватил Машку и утянул за трубу. Мы затаились и стали слушать, чувствуя себя в настоящей засаде. Приключение удавалось на все сто. – Я не знаю, как это вышло, – говорил не-водяной. – Ребята, правда… Я даже не помню этого! Двое схватили его за руки, ударили в живот. Третий отошел за бачок водокачки, потом вернулся. – Ах ты, сука! – сказал он и врезал не-водяному по лицу. Машка посмеялась ругательному слову, но было видно: ей страшно. Теперь я понял, что это колдуны. Про них волшебник тоже рассказывал. На глаза им лучше не попадаться. Могут заколдовать. – Что за хрень тут творится, вашу ж мать?! – злился дядька с ломом. – Потащили этого. Потом нужно будет вернуться, не бросать же их в таком виде… Я не знал, знакомая это девочка или нет, потому что все забывал. Иногда вспоминал, но в основном забывал. Тем более такую ерунду. – Мишка, ты совсем дурак, что ли?! – ругалась она. Мы сидели в кустах у трубы и смотрели на водокачку, которую заливал дождь. Машка рассказала про колдунов, про мужика с седой бородой и про слово «хрень». А еще про водяного. Это было страннее всего, ведь я точно помнил, что волшебник говорил про мостик, а не про водокачку. – Может, поглядим, что там? – спросила Машка, указывая на ржавый бачок. – Нам не до всяких глупостей, нужно скорей помочь водяному! Вообще зря я тебя взял, от тебя одни проблемы. Машка нахмурилась, губы задрожали. Под глазами появились слезы. – Ну не реви ты, я же пошутил! Я один и не справлюсь. А потом мы сами можем стать волшебниками! – Что, правда? – Она утерла нос и улыбнулась. – Еще бы! Побежали, а то вон как темно. Небо уже стало черно-фиолетовым, а солнце прогнали тучи. Берега пруда покрылись оранжевым цветом, серые деревья на другой стороне потеряли почти всю листву. На холмике в рыжей траве виднелись размазанные чьей-то подошвой поганки. Водяного мы заметили сразу, он лежал на самом краю мостика и свешивался к воде. Рядом болталась перевернутая лодка, у берега из ила росли рыбацкие рогатины. – Ну что, кто первый до водяного? – предложил я. Машка недоверчиво поглядела на мостик, который шагов на двадцать уходил в пруд, а потом побежала. – Ах ты!.. – завопил я и бросился вдогонку. Доски скрипели под ногами, мостик точно на волнах качался. Проигрывать не хотелось, и я уже стал переходить на прыжки, но зацепился носком за торчащую деревяшку и грохнулся вниз. Растянувшись на досках и почесывая ободранный нос, я слышал, как радуется Машка: – Проиграл девчонке, проиграл девчонке! Бе-бе-бе! – Так нечестно! – ляпнул я, поднимаясь и оглядываясь по сторонам. Не хотелось, чтобы этот позор кто-то видел. – Так что не считается! Но Машку было не остановить, она смеялась и кривлялась, прыгала на месте и строила рожицы. Я кое-как сдержал злобу и тыкнул пальцем на край мостика, и Машка наконец угомонилась. Водяной не шевелился. Его голова свешивалась с досок, а туловище растянулось в форме звезды. Он почти добрался до дома, но силы кончились над самой водой. Мы взяли его за шкуру, которая напоминала плащ, и стали тянуть. Водяной оказался очень тяжелым, от Машки толку было мало, но чуть-чуть мы его сдвинули. Когда голова водяного дотронулась до пруда, мы начали толкать, и вскоре та погрузилась в темную воду. Поверхность лупили дождевые капли, и было похоже, что тут везде бегают многоножки. Мы поднажали еще немного, и водяной, брызгами распугивая рыбок, ушел на глубину. – Ура! – вскрикнула довольная Машка. – Теперь мы тоже волшебники? – Да погоди ты! Это уже сам волшебник решит. Он живет в домике на дереве за рощей, что у железной дороги. Надо к нему идти. Если помогаешь делать дело, он дает тебе хранителя. Это и есть игра. – А что за хранитель? – Не помню. Скоро сама все увидишь! Погода совсем испортилась, небо громыхало, гудело, опускало на землю черноту. Мы решили продолжить игру завтра, тем более что волшебник мог уже спать. Наверняка он устал, придумывая целый день разные задания. Я взял Машку за руку, и мы пошли домой. – Это гораздо веселей, чем дома сидеть, – лыбилась Машка. – А то! Волшебник и не такое выдумать может. Мы шагали по дороге между черных домов. Свет мало где зажигали, видимо, все уже разлеглись по теплым постелькам. Вдалеке лаяли собаки, в ушах завывал ветер. Дождь кончился. – Колдуны… – прошептала Машка, дергая меня за рукав. На дороге показались тени. Разглядеть их я не мог, поэтому рисковать не собирался. Путь к Машкиному дому был отрезан. Мы свернули в узкий проход между заборами, пробежали несколько участков и вышли к самым старым избушкам. Хотелось отвести Машку к себе, все-таки мы устали и промокли, только вот я никак не мог вспомнить, в каком доме живу. Окна не горели, не вился дым над трубами, не было слышно даже разговоров. Как будто все отсюда давно уехали. В туннеле и то светлее было! Я подходил к заборам и таращился на незнакомые номера, разбитые почтовые ящики, пока на крылечке одного из домов не заметил старика. – Внучок, ты? – поднялся старик и выплюнул сигарету. – Тебя где носит-то? Ты на улицу-то посмотри! Я подошел к калитке и просунул голову между прутьев. Дом не вспоминался, но я часто все забывал. – Деда, а можно Машка у нас останется? Ну пожа-а-алуйста… – протянул я. – Об чем речь-то?! Заходите, забегайте. Замерзли все небось. Кто вас чаем напоит, как не дед-то! Я отворил калитку и потянул Машку за собой. Старик скрылся в доме. Чаек бы не помешал – у меня хлюпало уже не только в сапогах, но и в носу. Олень на свитере замерз не меньше моего. – У тебя что, здесь дедушка есть?! – выпучила глаза Машка. – А что тут такого? Будто у тебя нет. Мы прошли в большую комнату, где долго грелись в пледах и пили вкусный чай. Дед рассказывал байки, а мы смеялись, слушали треск поленьев в печи и переглядывались друг с дружкой. Про волшебника мы ничего не рассказали. Это было нашей тайной. Меня разбудил какой-то старик. Его лицо съежилось от морщин, волосы были встрепаны, на седую бороду словно пролили тарелку борща. Дед выглядел добрым, только очень грустным. В окно светило солнце. – Внучок, поди погуляй. Утро уже, пора тебе. Я спал прямо в одежде, поэтому собрался быстро. Никак не вспоминалось, куда мне надо идти, а просто так гулять неинтересно. Наверное, я еще не проснулся. – Только куртку надень, не бегай в одном свитере-то. Хотелось что-то спросить у деда, но он уже занимался делами. В деревне всегда полно дел. Каждый день. Дед, кажется, что-то готовил, потому что плакал. А мамка моя часто плакала, когда готовила. Это все из-за лука. Я накинул куртку и нашел сапоги, но они оказались слишком маленькими. Другие стояли на крыльце и пришлись по размеру. Только вся подошва была глиной заляпана, точно кто-то по болотам целый день таскался. – Дед, я… это, ну… пойду тогда! – Иди уж, иди с богом! – Дед начинал сердиться. Он что-то чинил на терраске, но у него не получалось. Из-под старых одеял виднелась протекшая краска помидорового цвета. Дед набросал туда еще тряпок, почесал глаза и достал из ящика моток веревки. Посмотрел на меня: – А ну, пулей гулять! Я скакал по лужам и веселился, потому что вспомнил самое главное: меня ждет волшебник! На улице было тихо, даже собаки не гавкали. Люди куда-то подевались, хотя солнышко над головой так и звало прогуляться. – Подъем, лежебоки! – кричал я и смеялся, потому что настроение было отличное. Из пустынных дворов не отзывались, только у избушки почтальона кто-то высунулся в окно. А потом оттуда высунулась какая-то труба. Туч на небе я не заметил, но гром бахнул о-го-го какой! Лужа передо мной булькнула и окатила брызгами. Я с улыбкой вспомнил, что забыл умыться. Кажется, волшебство теперь окутывало всю деревню. Когда я припустил к железной дороге, за спиной еще пару раз проворчал гром. Да такой, что аж из земли крошки выбил. Я понадеялся, что это не к дождю. Так не хотелось опять мокнуть! Домик на дереве был похож на улей – круглый и без окон. Летом, когда на ветках растут зеленые листья, он, наверное, намного красивее. Зато он большой! Потому что и сам волшебник большой. – Вол-шеб-ник! – позвал я. Застучали колеса по рельсам, и я обернулся. Здоровенная зеленая гусеница ползла по железной дороге, ее было видно даже сквозь деревья. Поезд ехал в теплые края, на море… Мамка говорила, что в той стороне море. А я на море никогда не был. Волшебник уже спустился и стоял рядом. Высоченный, в три меня. Черный, как ночь, и косматый, как медведь. Такой косматый, что глаз не разглядишь. Он протянул мохнатую руку и положил что-то мне на голову. – Хранитель, – сказал он, и от скрипучего голоса заболели уши. В волосах шевелилось и щекоталось. Я ждал новых заданий для игры. – Поезд-призрак. Ненастоящий. Приведи детей. Рельсы. Прогоните его. Ненастоящий. Я шел аккуратно, чтобы не уронить хранителя. Сначала он показался маленьким, но теперь уже шуршал в волосах по всей голове. Я забрался на бугорок и встал на пути к морю. Сквозь шпалы росла трава, деревяшки почти развалились. Железки около рельсов стали подпрыгивать, и я увидел поезд-призрак. Он ничем не отличался от обычного, бежал ко мне и плевался дымом. И гудел. Я присел на рельсы и стал ждать. Волшебник же сказал, что он ненастоящий. Вдруг я и один смогу его прогнать. В ухе закололо, больно-пребольно. Я ойкнул и тряхнул головой. Боль прошла, но теперь в волосах не чувствовалось возни. Ни в земле, ни в траве, ни на рельсах, ни в щебенке рядом хранителя не было. Я искал его у другого пути, когда поезд-призрак промчался мимо, все время гудя. У меня даже голова заболела. Хранитель потерялся. Хотелось плакать от обиды, ведь волшебник мне его только подарил! Я не стал ждать следующего поезда, а сразу побежал в деревню. Нужно было заслужить нового хранителя и сделать дело, как просил волшебник. Тем более другим детям тоже хочется сыграть. Кто ж от такого приключения откажется! Детей я не встречал, как и взрослых. Шел себе по дороге и шел, пока не услышал голоса. Вдруг стало страшно. Залез на первый же участок и спрятался в будке. От собаки не осталось даже миски, не то что поводка. Наверное, она давно умерла, а новую хозяева заводить не стали. Собаку же надо кормить, поить, расчесывать. Любить еще надо, а то будет кусать и самих хозяев. – Видел, точно тебе говорю. – Голоса были рядом. Я представил, как с лаем выскочу из будки и перепугаю всех, и еле-еле сдержал хохот. – Чертовщина гребаная. Ладно, пойдем отсюда, в пруду еще одного нашли. – Господи, сколько их… А тут мелкий был, – говорил колдун. – В курточке, как вчера описывали. Ну, на девчонке пропавшей. Не померещилось же?! – Девчонки, мальчишки… Ты как хочешь, а в дом я заходить не буду. Хватит с меня. Не дай бог эта дрянь заберется. – Типун тебе… Голоса уходили, и дальше я ничего не слышал. Все стихло. Чуточку переждав, я прокрался к дому деда. Скрипнув половицами, вбежал на терраску, но старика не было. Только краска растекалась и растекалась. – Де-е-ед! – звал я. – Ну дед же! Я собирался предупредить о колдунах. Мало ли что. И тогда его увидел. Он сам стал волшебником, а мне ничего не сказал! – Эй, дед, ты чего молчал? – тряс я его за ногу. – Научи! Ну научи-научи-научи! Он висел под потолком и даже не размахивал руками, чтобы держаться в воздухе. Лучше птицы! – Де-е-ед, ну не вредничай, дед! С него сполз черный червяк. Толщиной с обычного, зато в сто раз длиннее. Ну, может, и не в сто, но полметра точно. Почти целая змея! – Хранитель?! – удивился я. Он обвился вокруг ноги и стал забираться вверх. По спине побежали мурашки. Я попытался его стряхнуть, но он сжал ногу, сделалось больно. – Хранитель, ты чего?.. – всхлипнул я. С трудом отбросив его в сторону, я почувствовал, как зашевелились мозги. В голове что-то ворочалось. Червяк снова полз ко мне, так что пришлось его перепрыгивать. Это оказался какой-то неправильный хранитель. Злой. Опять заболело ухо, на секунду стало совсем темно. На улице я добрался до бочки с дождевой водой и посмотрел на отражение. Снова потемнело, подкосились ноги. Меня зашатало, как вчерашних пьяниц. В воде был чумазый и страшный я. Такой чумазый, что никто бы на улицу не выпустил. Но меня выпускали. Я промыл больное ухо, и там что-то шевельнулось. В отражении показался черный хвостик. Он извивался и делал больно, как будто грыз. Я заплакал. – Ма-а-а! – хныкал я. У меня точно была мама. И папа. Теперь все это вспомнилось. А вот дед с бабкой жили в другом городе… Я ухватил червяка и дернул со всей силы. Ухо точно огнем прожарило. Этот гад крутился и обвивал пальцы, но я выкинул его за ограду. Когда я умылся, оттер грязь, отражение наконец-то улыбнулось. Теперь это был я, только… глаза почему-то окрасились черным. Очень болела голова. Там все время шевелилось, дергало; жгло теперь в обоих ушах. По спине что-то ползало, но, когда я совал руку под свитер, ничего не было. Как будто ползало под кожей. И у меня все так сильно чесалось, что хотелось разодрать ногтями. Я больше не плакал. Терпел, потому что слезы стали красными, и я их испугался. – Эй, внучок! – позвал лысый старик с тонкой козлиной бородой. – Ты где лазаешь? Ну-ка, быстро домой, а то накажу! Странный старик. Я же вспомнил, что дед живет далеко отсюда. Наверное, перепутал меня со своим внуком. Пришлось убежать. Я забыл, где живет волшебник. Хотелось реветь, но приходилось держаться, хлюпая носом. С дальних дворов слышались крики и слабые выстрелы грома. Где-то звенели стекла. Но это волшебство меня больше не радовало. Волшебник что-то перепутал. Он испортил хранителей, он испортил волшебство. Они все испортили. На почтовом ящике еле-еле виднелось число «23». Собака на меня даже не гавкнула, только вильнула хвостом и забилась назад в свой домик. Отворив дверь, я снял сапоги в прихожей и взял тапки. Я откуда-то знал, что это мои тапки. Наверное, из-за нарисованных оленей, прям как на свитере. Печь давно погасла, и в доме было холодно, но родители спали на полу. Я боялся к ним подойти. Вдруг они меня тоже забыли. В другой комнате нашлись фотографии в красивых рамках. Я сгреб их в охапку и завалился на кровать. Под окном заворчал гром. То ли обычный, то ли волшебный. С картинки смотрели мама и папа, а в стекле отражались мои черные глаза. И там уже что-то шевелилось. На следующей фотографии были мы трое, а с нами какая-то девочка. У нее была смешная куртка, точно как моя. И дурацкое ведерко. Я не знал, знакомая это девочка или нет, потому что все забывал. Иногда вспоминал, но в основном забывал. Тем более такую ерунду.Этот Человек
Ульяна встретилась с ним взглядом, когда развешивала объявления в районе проспекта Вернадского. Он смотрел с черно-белой листовки на столбе и улыбался. Чуть ли не круглая голова, большие уши, большие глаза и очень большой рот – прямо как у замаскированного под бабушку волка из сказки. Темные волосы спускались до висков, оставляя проплешину на лбу, а брови-гусеницы соединялись в одну жирную мохнатую полоску. Под фотороботом была надпись: «Вы видели этого человека?» Ульяна видела. За неделю он снился ей три раза. Объявление не походило на обычный крик о помощи – этого человека никто не искал. Ни слова о пропаже, никаких личных данных, никаких контактных телефонов. Просто кто-то повесил на столб фоторобот с вопросом, отвечать на который было некуда и некому. Ульяна сложила свои объявления в сумочку и поспешила на автобус. По пути до Новопеределкина, где она с двумя подругами снимала однушку, в голову лезли последние сны. В первый раз незнакомец появился в метро. Поезд ввинчивался в землю глубже и глубже, за окном сквозь туннельную ночь мелькали аварийные огни, а Ульяна рассматривала пассажиров. Все выглядели одинаково: пальто, сорочка, красный галстук и шляпа-котелок – вагон наполняли копии «Сына человеческого» Рене Магритта. Но если на картине бельгийского сюрреалиста лицо персонажа закрывало яблоко, то у здешних обитателей вместо него чернело пятно, будто клякса на тетрадном листе. Безликие не обращали на девушку внимания, пока один из них не поднялся с места и не сел напротив Ульяны. Он снял шляпу, темнота колыхнулась, и из пятна выросло лицо. Толстые губы растягивались в улыбке, а черные глаза напоминали акульи – такие же мертвые и жуткие. Незнакомец не делал ничего, только смотрел и улыбался, но проснулась Ульяна вся в поту. Через пару ночей он пришел вновь. На этот раз место действия сузилось до кабины лифта. Ульяна прижималась к стенке и чувствовала, как та движется, толкая ее вперед. Чувствовала, как под болезненным мерцанием лампы опускается потолок. А человек смотрел и улыбался. Когда Ульяна поняла, что проваливается в незнакомца и задыхается, сон выплюнул ее в реальность. Квартира была пуста. Зимняя сессия отгремела, пришли каникулы, поэтому подружки укатили к родным, оставив Ульяну дорабатывать последнюю неделю перед отпуском и кормить общего любимца – котенка Тиму. Полосатый зверек размером с пару ладошек хозяйку сильно не терроризировал, но и скучать не давал. Ульяна заварила чай и угнездилась в кресле перед компьютером. Она была автором проекта «Пропавшие в Москве» и посвящала ему почти все свободное время. В столице чуть ли не каждый день кто-нибудь исчезал, не выходил на связь с родственниками, и Ульяна помогала донести информацию о «потеряшках» до максимально возможного числа людей. Она мониторила городские доски объявлений, районные форумы, сайты полиции, а потом поднимала шум на весь Интернет. «Пропавшие в Москве» за пару лет существования нажили группы-миллионники в популярных соцсетях и интерактивный портал, поэтому сарафанное радио и волна перепостов запускались сами собой – стоило только добавить новое объявление. Не забывала Ульяна и про реальный мир, распечатывая листовки и при помощи волонтеров расклеивая их по городу. Дохода эта работа не приносила, однако сотни благодарностей от родителей найденных детишек и воссоединенных семей стоили таких трудов. Загрузив на сайт несколько объявлений, Ульяна нежилась в ванне. Она наслаждалась редким моментом, когда целая квартира осталась в ее распоряжении: не нужно никуда торопиться, думать о соседках или ждать своей очереди помыть голову. В приоткрытую дверь был виден коридор, по которому Тима гонял розовый носок. Из комнаты доносилось сладкоголосое пение Ланы Дель Рей. Не жизнь, а малина… если бы не вечерняя смена на работе. И если бы не сны. В третьем сне незнакомец впервые чем-то занимался, но лучше бы он, как обычно, лыбился и смотрел. Ульяна приклеивала объявление к автобусной остановке, когда рядом возникла высокая фигура. Незнакомец прилепил листовку поверх других и показал на нее пальцем. Ульяна отступила на шаг, и остановка исчезла. Теперь перед ней растянулась бесконечная стена с чешуей в виде объявлений. Незнакомец обвел руками мозаику из лиц пропавших и еще раз ткнул в листовку. Палец упирался в фотографию полной рыжеволосой девушки с добрым лицом, усеянным веснушками. Ульяна узнала себя, но проснулась прежде, чем успела закричать. После ванны она вернулась к компьютеру и набрала в поисковике: «снится один и тот же человек». По экрану побежали ссылки на форумы парапсихологов и эзотериков, на онлайн-сонники и магазин свитеров от Фредди Крюгера. Прокопавшись в сетевой шелухе с полчаса, Ульяна ввела тот же запрос в поиск по картинкам и вздрогнула. На многочисленных изображениях был он. Его так и звали – Этот Человек. История началась в 2006 году в Нью-Йорке. Известный психиатр предложил своей пациентке изобразить того, кто никак не выходил у нее из головы, потому что раз за разом являлся во снах. Во время другого сеанса рисунок попался на глаза старичку, который узнал человека и заявил, что в одном кошмаре тот гнался за ним по пустому супермаркету. Психиатр показал портрет Этого Человека всем своим пациентам, а также разослал коллегам – в первую очередь тем, кто занимался повторяющимися снами. Результат оказался невероятным: десятки людей узнавали незнакомца из снов, и все клялись, что никогда не встречали его в реальной жизни. Вскоре эта информация утекла в Интернет, воплотившись в сайт http://www.thisman.org. Ульяна перебирала портреты Этого Человека на сайте, фотографии со всего мира с его физиономией на объявлениях (копиях того, что она видела на проспекте Вернадского), изучала теории – от «коллективного бессознательного» Юнга до явления людям Божьего лика, – читала описания чужих снов в гостевой книге. Кого-то Этот Человек пугал, кому-то помогал выбраться из сна, а некоторые рассказывали о нем как о сексуальном партнере и даже убийце – историй хватало на любой вкус. И порой достаточно жутких. Но, если препарировать интернет-легенды, у истоков каждой второй можно обнаружить компанию шутников или хитрых рекламодателей. Этот человек не стал исключением: самые любопытные и въедливые юзеры давно докопались до истины. Почему-то «известного нью-йоркского психиатра», как и его пациентов, нигде не называли по имени, так стоило ли верить в анонимусов? Домен thisman.org оказался собственностью итальянской маркетинговой компании, руководство которой неровно дышало к розыгрышам; а одновременно с запуском сайта кто-то – вероятно, сами создатели – разбросал ссылки на него по форумам любителей осознанных сновидений. Все признаки качественной вирусной рекламы были налицо, только вот эту теорию вдребезги разбивал один факт: никто так и не понял, что и зачем рекламировали. Потихоньку сновидческая сказка рассеялась, сайт забросили, гостевая книга перестала обновляться, но к тому времени Этот Человек превратился в узнаваемую крипипасту – страшилку, разносимую по миру сетевыми волнами. Лысоватый улыбчивый тип стал порождением фольклора цифрового века. Но факты говорили одно: путешественника по чужим снам не существует, как и сотен столкнувшихся с ним людей.– Девушка, передайте за проезд. Ульяну прошибла дрожь от одной мысли, что придется до него дотронуться. – Девушка, – настаивала тетка в очках на пол-лица, – ну передайте же, ну! Водитель маршрутки ни разу не повернулся, но Ульяна не могла оторвать от него взгляда. В зеркале заднего вида отражались проплешина на лбу и сросшиеся брови. – Совсем уже! Тетка нехотя поднялась с места и насыпала мелочь водителю в руку. На секунду стала видна нижняя часть его лица. Человек улыбался. Ульяна выскочила на следующей остановке. До бара, где она работала официанткой, предстояло шагать минут двадцать. Мысли занимал Этот Человек. Прочитала на свою голову… Ульяна старалась не смотреть в лица прохожим, потому что боялась узнать в них его, как узнавала всю дорогу от Новопеределкина. Если история с сайта – выдумка, откуда сны? Наиболее очевидный ответ успокаивал: рисунок когда-то уже попадался Ульяне на глаза, да и сама история тоже. Тогда она не обратила на нее внимания и забыла в тот же миг, но подсознание все запомнило и теперь вытащило наружу. Снятся же ей люди и эпизоды из детства. Значит, где-то эта информация хранится? Вот и вся чертовщина. Нужно перестать думать о круглой улыбающейся голове, и тогда она не будет мерещиться на каждом углу. Но проще сказать, чем сделать. Ходжа Насреддин велел не думать о белой обезьяне, и чем все в итоге кончилось?.. Посетителей было немного, поэтому смена проходила спокойно, без нервов. Время тянулось очень медленно. Пиво, кольца кальмаров, чесночные гренки и повтор вчерашнего футбольного матча. Все как всегда. Пока в бар не вошел высокий мужчина в пальто и шляпе-котелке. Ульяна отшатнулась от него, как от чумного, пропуская в глубину зала. Гость выбрал столик под приглушенным светом в самом углу. – Ульян, двадцать третий на тебе, – сказала Катя. Двадцать третий тонул в полутьме, но Ульяна была уверена: гость смотрит прямо на нее. Смотрит и улыбается. – Ульян? Она перевела взгляд на подругу: – Кать, возьми его сама. Что-то я не очень хорошо себя чувствую. Умоюсь пойду. – Хорошо. – Катя кивнула, доставая из-под барной стойки меню. – Ты сегодня и впрямь чудна́я какая-то. Случилось чего? – Да нет. Переутомилась, наверное. – Знакомо. Выспись как следует, завтра же в ночную. А то вон бледная какая. Катя упорхнула к клиенту, а Ульяна пошла в туалет. Холодная вода привела в чувство, взбодрила, но лишь на пару секунд. Когда Ульяна подняла голову к зеркалу, ей захотелось плакать. Ее лицо не было бледным, просто с него исчезли все веснушки. Она сошла с ума, других объяснений нет. Скоро ее закроют в комнате с мягкими стенами и станут кормить манной кашей с ложечки. А Ульяна будет орать на санитаров и называть их Этими Людьми… – Ульян?.. – В дверь постучали. – Ты как? Может, врача вызвать? – Не надо, Катюш, я выйду сейчас, просто отравилась чем-то. Или кем-то. Ульяна с трудом отодвинула защелку, руки не слушались. Привела себя в порядок и вернулась в зал. Двадцать третий столик пустует, до конца смены – полтора часа. Можно выдохнуть. Хотя бы на время. Ульяна выставляла на поднос рюмки бехеровки и текилы, когда рядом возникла Катя. – Кстати, тот дядя с двадцать третьего оказался с прибабахом, ты как чуяла, – проговорила она. – Молча тыкал пальцем в меню и пялился на меня так, будто я ему голая прислуживаю. Даже слюни пустил. Фу, мерзкий тип такой. Да еще и чаевых не оставил, жмот монобровный. Пот с Ульяны катился рекой, голова кружилась. Что-то происходило. Что-то очень нехорошее. Варианты с галлюцинациями или навязчивыми идеями отпадали, значит, сдаваться в психушку было еще рано. Пока готовился очередной заказ, Ульяна не удержалась и влезла в Сеть через планшет. С сайта на сайт кочевала одна и та же информация об Этом Человеке, одни и те же фотороботы, одни и те же комментарии. Но в конце концов нашлось и кое-что новое. «Теперь мне не только мерещатся эти безобразные морды, теперь я сам, кажись, превращаюсь в Этого Человека… ЫЫЫЫЫ. Придумавшие эту дичь мудаки, горите в аду!» Блог назывался «Безумные записки с планеты Плюк», и все последние посты были посвящены Этому Человеку. Иногда совсем коротенькие, иногда развернутые, но в правдивость каждого из них Ульяна верила безоговорочно. «Начал лысеть со лба, как наш добрый друг с сайта http://www.thisman.org. Обхохочешься. Самочувствие все хуже, какая-то полнейшая жопа, скажу я вам. И да, меня еще никуда не упекли, и я настаиваю на том, что не употребляю никаких психотропных веществ. Хотя давно пора!» Следующая запись была оставлена два дня назад. «Сегодня опять снилась стена. Я видел, как она работает. Как работает Этот Говнюк. Он вешает на стену свой фоторобот и проходит сквозь нее. А когда возвращается – оп-ля! – вместо фоторобота там висит новое лицо, новое объявление о пропавшем. Кажись, новым лицом был я…» Дальше шли сегодняшние записи в форме обрывков, опубликованные с интервалами в час-два. «Бухаю. Пошли все в жопу». «он заходит в наши сны… прощупывает… забирает слабых… я слабый не могу ничего сделать телефон не работает и дверь как же болит… Похоже я подыхаю…» «вы воообще их когда-нибудь рассматривали объявления эти? почему повлоина из них одинаоквые? почему разные люди лепят их по одному шалбону и кто их делает когда у пропавщих нет родственников с друзьями?» «гребаный сайт снего все началось эти шутошные обявления с ними он набрал силу и теперь лезет…» «объявы питают его и его стену, когда ищут он чуствует он вылезает…» «эта сука лезет не через стену ОН ЛЕЗЕТ ЧЕРЕЗ МЕНЯ!!!!!1» Последний пост был загружен пятнадцать минут назад и уже собрал кучу комментариев. «Чувак, жги еще!», «Сатурну больше не наливать», «Срочно скинь это в Мракопедию, реальная тема», «Завязывай, Серега. Уже не смешно». Ульяне тоже было не до смеха. Она с трудом дождалась конца смены, выпросила у администратора отгул на два дня и вышла во тьму зимней Москвы. Что делать? Чему верить? Что вообще с ней происходит? В глазах почернело, крупицы снегопада сложились в стену с тысячей лиц. Ульяна стала заваливаться набок, но ее подхватили чьи-то сильные руки. Скорая приехала на удивление быстро. Осмотрели, что-то вкололи, ничего страшного не нашли и посоветовали полный покой. Как известно, все болячки от нервов, а уж в мегаполисе заработать стресс проще простого. Тут и самые здоровые в обморок падают. Про исчезнувшие веснушки Ульяна даже не заикнулась. – Ну ты даешь! – говорила Катя, провожая ее до такси. – Десять метров от работы отошла – и здрасьте, приехали! Хорошо хоть мужчина тот тебя поймал, а то бы головой о тротуар грохнулась. Ульяна чувствовала себя лучше, но при упоминании о мужчине по спине пополз холодок. – А как он выглядел? – Да я не рассматривала особо. В пальто черном, в шляпе такой. Этот Человек был везде. А вот ключей в кармане пуховика – не было. Пока она ездила к хозяйке за дубликатом ключа, пока добиралась до дома, страх точил ее изнутри, пожирал нервные клетки. Коврик перед входной дверью оказался сдвинут. Его мог случайно задеть кто-то из соседей, но за один день Ульяна превратилась в настоящего параноика. В квартире было слишком тихо. – Тима, мама пришла. Ульяна зажгла свет в коридоре, скинула сапоги. Закрыла дверь на все замки и навесила цепочку. Сердце бахало в груди, дыхание сбивалось. – Выходи, малышок! Сейчас она жалела, что подруги далеко, что ей придется ночевать здесь одной. Хорошо хоть Тима никуда не делся. Сонный котенок выполз из комнаты и не спеша приковылял к хозяйке. Ульяна взяла на руки пушистый комочек, и тот сразу замурчал. – Ну что, докладывай. К нам никто не приходил? – спросила она, почесывая котенка за ухом. Тима зевнул в ответ и зажмурился от удовольствия. Музыка, включенный телевизор, свет по всей квартире – и стало уже не так страшно. Ульяна осмотрела каждый угол, но следов чужого присутствия не заметила. В домашней обстановке недавние мысли казались полным бредом. Одинаковые люди? Так зимой почти все одинаковые на вид. Лысина и густые брови – те еще «особые приметы». Веснушки? Наверняка какие-то проблемы с кожей. Ключи? Выпали из кармана, что немудрено, если вспомнить обморок. Сны? Да и черт с ними! Она надавила кнопку питания компьютера, подхватила Тиму и отправилась на кухню. Там скормила котенку сосиску, приготовила себе салат и вернулась в комнату, чтобы досмотреть финальный сезон «Декстера». Как ни странно, в сериале не нашлось никого, кто напоминал бы Этого Человека. – Нервы, нервы, нервы… – прошептала Ульяна. – Все ведь можно объяснить, да, малышок? Тима клевал носом, поэтому можно было решить, что он кивает. – Напридумывала сама себе и мучаюсь. Ульяна достала бутылку вина, сыр, который сестра привезла из Греции, вместе с Тимой укуталась в плед и впервые за деньулыбнулась. – Все фигня, кроме пчел. Кошмарный морок рассеивался. На следующее утро она заглянула к дерматологу. Сидя в очереди, зашла в блог «Безумных записок с планеты Плюк», где автор вовсю насмехался над комментаторами, принявшими его пьяный бред за чистую монету. – Вот же дебил… – прошептала Ульяна, пряча планшет в сумочку. Попадись ей этот шутник, удавила бы собственными руками. Из больницы она выскочила счастливая. Доктор уверил ее, что с веснушками такое случается, ничего необычного. Ульяна свернула к своему дому, миновала продуктовый магазин и замерла. Прямо перед ней стоял человек в пальто и котелке, вокруг него вихрями кружились снежинки. Он подошел вплотную и схватил Ульяну за руку: – Дочка, миленькая, где тут остановка, подскажи, а? Совсем заплутал, старый пень. Дедушка с гусарскими усами и козлиной бородкой виновато улыбнулся и пожал плечами. Ульяна протянула руку в направлении остановки, но старого прохода там не было. Сквозь снег проступали очертания бесконечной стены, на которой от укусов ветра дрожали сотни, тысячи листовок. Дедушка снова взял Ульяну за запястье: – Плохо дело, дочка. Он не отпускает. Ульяна проснулась в кресле у компьютера, электронные часы показывали три утра. На полу стояла пустая бутылка вина, на столе лежал греческий сыр, а на коленках сопел Тима. Декстер уплывал на своей лодке прямо в шторм. Все болело, жутко зудела кожа. Ульяна принялась чесать голову, и со лба полезли волосы. Целыми прядями они падали на ковер, оставались в руках рыжими пучками. Точно в коматозном кошмаре, Ульяна закрыла окошко с сериалом, набрала в поисковике «Безумные записки с планеты Плюк» и загрузила страницу. Блог был вычищен под корень, теперь в нем значилась всего одна запись. Свежая. «Внимание! Пропал человек! Галямин Сергей Александрович 1987 г. р.» Красная рамка, фото в правом верхнем углу, куда звонить – внизу, жирным шрифтом… Стиль на самом деле был узнаваем, точно таких же объявлений из общего потока «Пропавших в Москве» насчитывалась едва ли не четверть. Желудок скрутило, тошнота подобралась к горлу, и Ульяна еле успела добежать до туалета. Вместе с ужином в унитаз вывалился ее язык, скрывшись в мутной жиже, как речная змея. Ульяна грохнулась на пол и завыла, ощупывая пустой рот. А боль тем временем растекалась по всему телу. Пальцы стали вытягиваться, горло будто резали изнутри – посреди шеи сквозь кожу надувался хрящ. Ульяна шла по коридору, опираясь на стены. Во входной двери заскрипел ключ, опустилась ручка. Через минуту на лестничной площадке послышался топот ног. Ульяна переборола страх и подошла к глазку. Снаружи никого не было. Она дернула ручку, но та не поддалась. Замок на прикосновения не реагировал. Никто не пытался вломиться в квартиру – наоборот. Ульяну здесь заперли. Тазовые кости хрустнули, и Ульяна свалилась на пол. Ее тошнило, выворачивало наизнанку, текли слезы. Она ползла в комнату, оставляя на линолеуме липкую дорожку, словно гигантский слизень. Ульяна менялась. Телефонная трубка ответила тишиной. Ульяна с помощью спинки дивана сумела подняться на ноги и подтолкнуть чужое тело к окну. Ручки оказались откручены, поэтому выдернулись из рамы. За стеклом снежное марево накрывало город, а в отражении виднелась лысоватая голова с большими ушами, большими глазами и очень большим ртом – прямо как у замаскированного под бабушку волка из сказки. Ульяна сползла на ковер и забилась под компьютерный стол. Подобрала плед и накрылась им целиком, пытаясь внушить себе, что это всего лишь очередной кошмар. Все фигня, кроме пчел. Все фигня, кроме пчел. Все фигня, кроме…
Отодвинув кресло, из-под стола выбрался Этот Человек. Снял с себя порванную женскую одежду, подошел к шкафу и надел заранее заготовленные вещи: брюки, сорочку, красный галстук. Пальто и шляпу-котелок он отложил на диван. В квартире оставалось еще одно дело. Этот Человек скопировал фотографию Ульяны из соцсети в графический редактор, добавил текст, информацию и соорудил объявление. Загрузил на сайт «Пропавших в Москве» и выключил компьютер. Сел на диван, почесывая проснувшегося котенка за ухом. Во входной двери щелкнул запорный механизм. Начинался новый день, и Этот Человек улыбался.
Демьяновы фильмы
Дворняги бесновались у входа в подъезд. Грязные шкуры, ободранные уши, злобные морды… Они огрызались и гавкали, прыгали друг на друга и пристраивались сверху, косились на прохожих и жрали (человеческие останки) что-то со ступенек. В общем, занимались своими обычными делами. Я ненавидел собак. Псины любой породы напоминали о бешеном сенбернаре Стивена Кинга и случае из детства, когда на пустыре меня окружила стайка плешивых тварей. Они не нападали, но щелкали зубами на расстоянии кулака, рычали и не давали сдвинуться с места. Обливаясь потом, слезами и не только ими, я простоял столбом минут двадцать, пока свору не спугнул местный дед с палкой и матюгами. На первом этаже жила двинутая тетка, которая подкармливала собак. Организовала целую дворовую кухню у подъезда, вот они и ходили сюда, точно в столовую. Псин постоянно гоняли, никому такое соседство не нравилось, однако сейчас рядом никого не было. О том, чтобы прорваться мимо, не шло и речи. Есть куда более приятные способы покончить с собой. Иногда в таких ситуациях выручали родители, но они были на работе. Оставалось одно – ждать. Желательно, не выставляя свою слабость напоказ. – Шавки поганые! – буркнул я, набрасывая капюшон и застегивая куртку. На эсэмэс Катя ответила с опозданием. «Извини, замучилась на парах. Да и не хочу никуда идти в такую погоду». Проситься в гости я не стал – последнее время мы не слишком ладили. Запихнул телефон в карман и двинул в сторону торгового центра с любимым кинотеатром. Вообще-то поход в «Синемаксимум» для безработного студента, тем более с девушкой, – удовольствие недешевое. Да и бессмысленное, когда все можно бесплатно скачать в Интернете. Однако новые ужастики я никогда не пропускал, не мог отказать себе в удовольствии очередной раз слиться с волшебной темнотой кинозала. А сейчас и фильм крутили подходящий. Как гласила реклама, «Первый отечественный зомби-хоррор». Кинотеатр врастал в последний этаж ТРЦ «Подмосковье» и состоял из четырех небольших залов, вытянутых друг за дружкой в линию. В первом показывали похождения очередного супергероя, во втором – мелодраму о лесбиянках, ну а зомби ждали в третьем. Площадка у четвертого зала была огорожена громадными рекламными щитами с изображениями кайдзю – зал закрыли на ремонт месяц назад. За своеобразным забором света практически не было. Этот мрачный уголок в ярком и шумном торговом центре походил на заколоченный досками чулан. И, как в любом чулане, здесь жил Бука. Он вышел из темноты между Годзиллой и Мотрой. Мелкий старикашка с зачесанной назад седой гривой, открывающей россыпь пигментных пятен на лбу. На чисто выбритом лице – глубокие вертикальные морщины, будто шрамы от ударов плетью. Пиджак с заплатками на локтях, мятые брюки, ботинки с засохшей грязью. Он быстро прошаркал до касс, умыкнул ручку со стойки и вернулся в свое царство тьмы. Этот странный персонаж не походил ни на строителя, ни на администратора, ни на уборщика – больше всего он напоминал помесь лепрекона и Хранителя склепа. Я оглянулся на оживленное фойе, на людей и шагнул вслед за ним в узкий проем между щитами. Стробоскопом в темноте мигала настольная лампа, а сам стол жирным слоем покрывали листы бумаги. В углу прятался завернутый в полиэтилен диван, рядом – пара сломанных кинотеатральных кресел. Старика нигде не было. Я дернул ручки обеих дверей в зал, но двери не поддались. Бука слинял. Внимание привлекли постеры на стенах. Раньше тут висела реклама новинок, а теперь афиши несуществующих фильмов. Маньяк в хоккейной маске против хеллоуинского убийцы, ксеноморф на борту «Тысячелетнего сокола», старина Лектер в одной камере с Энди Дюфрейном… Сделано было круто, профессионально – не подкопаешься. Особенно удался Эш, с безумной физиономией отпиливающий себе ногу в узнаваемой комнате с трупом на полу. Изображения были такими реальными, так будоражили воображение, что хотелось прямо сейчас отдать все деньги (и почку) за билет на один из этих фильмов. Хотя бы один! Но снимали их в другом, идеальном мире, меня же ожидали два часа ужаса от российских киноделов. В заснеженной тайге зомби строили Байкало-Амурскую магистраль. Как и положено по законам жанра, вскоре мертвецам надоело работать, и они принялись жрать всех вокруг. Советские солдаты отстреливались от орды покойников, лихой дед махал топором, выла бензопила «Дружба»… Не хватало только Гоши Куценко в роли предводителя мертвяков. Во время просмотра этой галиматьи меня заинтересовало одно: звуки, к фильму никак не относящиеся. То и дело справа от экрана раздавались приглушенные крики – не из колонок, а из-за стены. Из закрытого четвертого зала. Зрители ручейком тянулись к зеленому пятну света с надписью EXIT. Через вторую дверь в зал уже проник уборщик и стал Тем, Кто Обходит Ряды. Лампы под потолком раскрашивали потертые сиденья, а народ вываливался в фойе с шутками и подначками, радуясь скорой встрече с фастфудом и сортиром. Оказавшись снаружи, я повернул голову к четвертому залу. Бука стоял в проходе и улыбался. Он поманил рукой (следуй за седым старикашкой) и отошел за рекламный щит. Казалось, тьма за Годзиллой сгустилась до состояния абсолютной черноты, которую никакая болезная лампа не отгонит. Если бы не грохот игровых автоматов за спиной, довольные детские крики, объявления из динамиков, я бы давно отсюда сбежал. Очень уж странной выглядела ситуация. С другой стороны, меня не троица парней в трениках подзывала, а дед, которого сопля перешибет. И не в сырую подворотню, а в отделение кинотеатра, где полно людей на расстоянии вытянутого «по-мо-ги-те!». – Ничего не говорите, молодой человек, даже не смейте. Демьян все уже знает. До сеанса считаные минуты, нельзя так задерживаться, в конце-то концов, – сообщил Бука из-за стола. Его рот шевелился как-то лениво, еле-еле, будто он просто выдыхал готовые слова, не прибегая к помощи губ и языка. В свете мигающей лампы глаза старика казались черными пуговицами. Видна была только верхняя часть тела, поэтому так и напрашивалось сравнение с куклой чревовещателя. – Вы мне? – Конечно же, Демьян вам. – Он достал очки, нацепил их на нос и взглянул на меня во все четыре пуговицы. – Так-так-так. Ну что же, будем оформляться? Демьян видел, как вы смотрели на афиши. Поверьте, Демьян сразу чует своих. Ценителей. – Он стал копошиться на столе, раскладывая бумажки, доставая из ящика новые, расписывая ручку. – Нужно торопиться, фильм начнется точно по расписанию. Демьян приносит извинения за условия, сами видите, но ничего не поделаешь, проект целиком и полностью экспериментальный. Еще не все отлажено. – Честно говоря, я пока ничего не понимаю. – Для того тут и сидит Демьян. Чтобы объяснять. Кстати, будем знакомы. – Его рукопожатие оказалось очень крепким, а длиннющие (звериные когти) ногти поцарапали внутреннюю сторону ладони до крови. Не сильно, но неприятно. – Итак. Перед вами совершенно новый формат ночных показов. Безбилетный. Автономный. Руководство торгового центра пошло навстречу, и теперь каждую ночь здесь, в четвертом зале, можно увидеть редчайшие фильмы ужасов. «Редчайшие» в данном случае не преувеличение, за фильмы отвечает лично Демьян. – Что за фильмы? Уж не эти ли? – спросил я, указывая на стены. – В числе прочих. Уникальные, не побоюсь этого слова, ленты. Все они существуют в единственном экземпляре. Представляете? Никакого копирования в наш цифровой век. После показа пленка уничтожается. – Вы серьезно? Неужели на такую чушь кто-то покупается? Я, пожалуй, пойду. До свидания. Демьян вскочил из-за стола, словно невидимый чревовещатель провернул руку у него в заднице: – Постойте, молодой человек. Не делайте скоропалительных выводов. Демьян понимает, что вы прекрасно разбираетесь в предмете. И что поверить в существование таких фильмов очень сложно, ведь вы никогда о них не слышали. Но у Демьяна есть связи. Демьян умеет доставать пленки. Кроме того, коль скоро показы идут в тестовом режиме, все просмотры бесплатны. И вы вместе с другими зрителями сможете разобраться, интересны вам Демьяновы фильмы или нет. Сладкое слово «халява» сработало безотказно. Демьян вручил мне договор на оформление карты и поведал, что проекту всего-то пара дней от роду. Перед полноценным запуском решили провести несколько дневных сеансов – чтобы привлечь первых зрителей, собрать фокус-группу, запустить сарафанное радио. И теперь четвертый зал возвращался в строй с новым графиком работы. Утром, днем и вечером – привычный репертуар, ровно в два часа ночи – Демьяновы фильмы. Договор я читать не стал. Полистал пять страниц расплывающихся в темноте букв, накорябал ФИО, дату и подпись и вернул бумаги Демьяну. За время нашей беседы в зал вошли четыре человека. Значит, меня не глючило. Какой-то странный дед действительно открыл кинотеатр в кинотеатре, самолично вербуя зрителей. – Помните, молодой человек, – сказал Демьян, выдавая мне пластиковый прямоугольник белого цвета, – одна карта – один зритель. И карта эта принадлежит только вам. Вы не имеете права передавать ее третьим лицам, как не имеете права проводить в зал кого-то вместе с собой. Демьян полагается на вашу честность. Я приложил карту к магнитному датчику, и дверь открылась. С такой системой и впрямь не требовались контролеры. В зале царила темнота. Экран вываливал на зрителей телевизионный «снег», в ушах гудел мерзкий саундтрек профилактики. Рассмотреть номера кресел было нереально, да и на карточке не отметили ни ряда, ни места. Сэкономили даже на эмблеме кинотеатра. Значит, садиться можно было где угодно. Фильм начался, как только я приземлился на последнем ряду, подальше от других зрителей, которых здесь набралось около тридцати. И после первых же кадров в голове возник вопрос: а сработает ли карточка на выход?.. Мы уже час смотрели на Лео, молодого и худого Лео, который даже не догадывался, что в ближайшие двадцать лет «Оскар» ему не светит. Он бегал по кораблю и кричал про «короля мира», рисовал даму сердца и был счастлив под песню Селин Дион. Человек десять покинули зал, когда поняли, что им показывают. Это радовало. Значит, Демьян вряд ли был маньяком, заманивающим подростков в замкнутое помещение, чтобы сыграть с ними в игру. Не радовал только выбор фильма. Я бы тоже ушел, но родители еще не вернулись, а кто гарантирует, что собак разогнали? Лучше тянуть время здесь, в бесплатном тепле. Вот Кате этот фильм нравился. Что было удивительно, ведь вкусы у нас совпадали вплоть до мелочей. Ужасы, мистика, триллеры, фантастика… Мы читали одни и те же книги, зависали на одних и тех же сайтах и пабликах в соцсетях, смотрели одно и то же кино. Катя могла назвать всех актеров, когда-либо исполнявших роли сенобитов. Могла процитировать считалочку из «Кошмара на улице Вязов» в оригинале или перечислить очередность всех смертей из «Пунктов назначения». Она даже в космических кораблях разбиралась, без труда отличая «Ностромо» от «Сулако». Катя не была красавицей – полноватая, с короткой стрижкой, с приятным лицом, но (с усами) с плохой кожей. Одевалась по-мальчишески, в джинсы и свитера, косметикой практически не пользовалась. Но она была доброй, интересной, веселой. От нее всегда вкусно пахло. А у меня не то что с девушками – вообще с людьми было не очень. Я остроумил и юморил в Интернете, но прежде чем выйти из квартиры всегда проверял в глазок, нет ли на лестничной клетке соседей. Ехать с кем-то в лифте, не зная, куда смотреть и что говорить, было для меня настоящим мучением. На улице спасали наушники. Включил плеер – и будто бы нет меня. В домике. Студенческие пьянки-гулянки я игнорировал, предпочитая компанию дивана и хорошего фильма. Катя стала для меня не только первой девушкой, но и первым настоящим другом. В общем, нам было хорошо вместе. Но я хотел, чтоб было еще лучше. По-взрослому. А Катя, точно старомодная бабуля, считала два месяца недостаточным сроком для перехода на новый уровень. От размышлений отвлек фильм. Да так, что у меня отвисла челюсть. На первых рядах дружно охнули. Айсберга не было. Вместо него корабль встретился с громадным океанским монстром. Борта оплели щупальца, смахивая людей в воду и размазывая их по палубе. Скрипели корабельные кости, визжали пассажиры, лилась кровь. Трансатлантический лайнер разваливался на части. Я вжался в подлокотники, словно сам находился на умирающем корабле и пытался не сорваться в пучину. Туда, где в черной воде, как циклопических размеров змеи, передвигались кольца глубоководной твари. Финальную сцену снимали, должно быть, с вертолета. Корабль затонул, на поверхности плавали обломки и спасательные шлюпки. А из толщи воды во всей красе поднимался кракен, водоворотом затягивая в чудовищную пасть все, что осталось на волнах. До дома я добрался как лунатик. Смотрел прямо перед собой, но вместо улицы видел бурлящий кровью океан. Карточка в заднем кармане джинсов казалась артефактом, который нужно срочно спрятать, оградить от людей и никому не показывать. Собаки ушли, и я спокойно попал в подъезд. Весь вечер я, подпитываемый кофе и бутербродами, просидел в Интернете. Форумы, блоги, интервью с режиссером и съемочной группой, наши и зарубежные источники… Я искал хоть какие-то сведения об альтернативной концовке. Хотя бы намек, даже шуточный, на то, что она существует. Ведь там были те же самые актеры, дорогущие съемки, чумовые эффекты. И это почти двадцать лет назад. Такое невозможно утаить, но никаких следов хоррор-версии хита тысяча девятьсот девяносто седьмого года я не нашел. Взглянув на часы, я едва не взвыл. Четвертый час, глубокая ночь. Дело было не в том, что я, как зомби, провел в Сети столько времени. Это как раз обычное явление. Но я пропустил сеанс. Ведь дневной показ, если верить Демьяну, был исключением, презентацией, заманухой для зрителя. А в два ночи крутили что-то новое. Или, скорее, старое по-новому… Не хотелось даже думать, что я мог профукать (Все они существуют в единственном экземпляре. После показа пленка уничтожается) из-за собственной глупости. Заветную карточку я оставил на книжной полке – под защитой фигурки Макриди с огнеметом. Выключив компьютер, зажег ночник над кроватью и устроился поудобнее с томиком Лавкрафта в руках. До утра о сне можно было и не мечтать. В институт я не пошел. Дождь лил второй день, и город затянуло серой дымкой. По стеклу сползала вода, размывая силуэт соседской многоэтажки. Напоминая темную поверхность океана, в котором живет нечто огромное и жуткое. Все фильмы казались полной ерундой, игры надоедали через пять минут, не спасали даже любимые книги. Интернет, который не мог дать нужных ответов, приводил в бешенство. Проверка времени превратилась в нервный тик. В голове запустили обратный отсчет, поставили будильник. Дин-дон, дин-дон, до вашего сеанса осталось одиннадцать часов. Одиннадцать, мать их, часов. Вечером я впервые пожалел, что в двери моей комнаты нет замка. Родители заходили и донимали идиотскими вопросами. Что случилось? Не заболел ли? С учебой проблемы? Как там Катя? Шесть часов до сеанса. Маме пришлось прямым текстом сказать, чтоб отвалила. Она побледнела, точно панночка, и ушла. Хлопнула дверью, чтобы я не сомневался в собственных прегрешениях. И это сработало. Сразу стало стыдно, горько внутри, будто проглотил что-то мерзкое и колючее. Зато больше меня никто не трогал. Три часа до сеанса. Катя писала какие-то глупости, сообщения ни о чем, и я не отвечал. Мачете не эсэмэсит. В конце концов пришло коронное: «Понятно». Самое странное, что мне было плевать. Главное – дождаться сеанса. Дин-дон, дин-дон. Отец храпел так, что любой домушник мог вынести полквартиры и остаться незамеченным. Не включая свет в коридоре, я обулся, накинул куртку и тихонько выскользнул в подъезд. Горло пересохло, пальцы с ключом дрожали, царапая замочную скважину, а сердце с силой долбилось в ребра, словно я действительно что-то украл. Но из ценностей со мной был только кусок пластмассы без опознавательных знаков. Двери главного входа заблокировали, но одна из запасных чуть дальше работала. Еще на подходе к торговому центру я видел, что за ней исчезают люди. Как и главные двери, она была стеклянной, поэтому я мог рассмотреть темные недра здания. Магнитная карточка впустила меня в мир безлюдных пространств и призрачного эха. Первый этаж был почти полностью задействован под продуктовую зону, огороженную специальными воротами. Возле неработающих эскалаторов располагались забранные решетками салоны связи и магазин спорттоваров. Людей было мало, все шли поодиночке, не разговаривая друг с другом. Этакие члены элитного клуба, объединенные общей тайной. Но были и исключения, причем очень странные: запомнился дядька в пальто и шляпе, который додумался по своей карте провести сына-дурачка. Тому явно не было восемнадцати, он без передыха что-то лопотал, показывал пальцем на все подряд, то ржал в голос, то пугался теней и плакал. Таким только ужастики и смотреть. На втором этаже было чуть оживленнее. В гипермаркете бытовой техники горел свет, сонные работники таскали коробки, раскладывали товар и меняли ценники. Охранник у касс смотрел телевизор. В сторону от эскалаторов в темноту уходили два длиннющих торговых ряда. Магазины одежды, косметики, нижнего белья. Отблески электрических огней сверкали на витринах, сквозь которые проступали (и двигались) человеческие тени. Кое-где густой мрак, обрывки света и отражения в стекле создавали иллюзию, что манекены стоят не внутри бутиков, а снаружи. Я поднялся на последний, третий этаж, с трудом обогнув поломоечную машину, которую кто-то оставил прямо у эскалатора. По левую руку от себя я наблюдал всевозможные кафешки и закусочные, росшие сплошной стеной, по правую – россыпь столиков и вид на ночной город через панорамные окна. Света было ровно столько, чтобы люди смогли добраться до кинотеатра в конце этажа. Ничего не работало, но пара столиков оказалась занята. Одинокие тени сидели неподвижно, наблюдая за поздними посетителями. В зал я вошел, так и не застав Демьяна в фойе. Хотелось задать ему кучу вопросов, но еще больше хотелось посмотреть фильм. На поиски странного старикашки времени не оставалось. Лопоухого пацана опять забыли одного дома, вот только в этот раз его глупые ловушки не сработали. Все произошло так, как случилось бы в реальной жизни. От комедии в фильме не осталось и следа. «Мокрые бандиты» вломились в дом, нашли ребенка, избили и отнесли в подвал. Бандиты оказались теми же – но лишь по именам. Нет, Гарри с золотым зубом был на месте, а вот Марв… Бородатого балбеса заменил тезка из «Города грехов». Пока Гарри собирал по дому ценности в мешок, Марв обрабатывал лицо пленника паяльной лампой. Мальчишка был в сознании и визжал так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Марв срезал с него кожу, снял скальп, раздробил кости молотом и выкорчевал глаз. Второй оставил только для того, чтобы мальчишка мог увидеть, как ему отрубают ноги. Как кусок за куском его тело исчезает в подвальной печке, которую он так боялся. Это был самый жестокий пыточный хоррор из тех, что мне довелось видеть. И вновь с ума сводила стопроцентная узнаваемость. Актеры, декорации, планы, даже оригинальные голоса. Все было тем же самым, один в один, но… по-иному. Кино из параллельной реальности, где ужасы всему голова. А теперь еще и с участием персонажей из разного времени в одном кадре. В голове не стихали крики, а перед глазами мелькало развороченное детское тельце. Я брел в сторону эскалатора, словно дед – едва отрывая подошвы от пола. Ошарашенный, не в силах переварить впечатления. Перед тем как начать спускаться, я обернулся к столикам. Теней-наблюдателей стало больше. Манекены на втором этаже приблизились. Их передвинули за время сеанса. У некоторых увеличились головы, будто сверху надели (собачьи) звериные маски. В дальнем конце темной коридорной кишки между бутиков кто-то бродил. Кто-то невысокий, нескладный. Этот кто-то шаркал ногами и смеялся. Свежий ночной воздух взбодрил лишь на мгновение, потому что следом пришло понимание: до нового сеанса практически вечность. Эйфория от прикосновения к чему-то уникальному, запретному рассеялась вмиг. Ее вытеснила злость. На кинотеатр, на Демьяна, на долбаный один сеанс в сутки. Во дворе было тихо. У подъезда, в грязном закутке, лежал щенок. Такой же мерзкий, как и все его племя. Услышав меня, он поднял голову, заворчал и тявкнул. Я огляделся. Спали завернутые в серую пленку дома, дремала и пустая улица – ни людей, ни собак. Свет горел только на лестничных клетках и в глазницах фонарей. Я подошел ближе и пнул щенка ботинком. Он оскалился, попытался укусить. Тогда я встал на (поганого ублюдка) него двумя ногами. Раздался скулеж. Озираясь по сторонам, я начал месить его подошвами, топтать. Убивать. Я прыгал на нем под стук крови в висках, под дьявольские барабаны в голове. Еще и еще, бум-бум-бум, еще и еще… А когда щенок перестал визжать, когда хрустнул его череп, когда красная лужа растеклась до самой двери, мне захотелось завыть по-собачьи. Чтобы город слышал мою победную песню. Весь следующий день я проспал, и снились мне люди с песьими головами. До третьего сеанса я не дожил, а досуществовал. Выбирался из липких кошмаров, где щелкали звериные пасти, брал что-то из холодильника, ел, засыпал вновь, стоял у окна в ожидании темноты, ругался с родителями и слушал звуки города. Время плыло медленно, оно было против наших свиданий с кинотеатром, завидовало чужому хронометражу, но я научился терпеть. Обходить ловушки в виде звонков, пустых разговоров и просьб. Я знал, что меня ждет экран, и не мог оставить его. Я старался не смотреть на тех, кто двигался в темноте. У витрин, у эскалатора, между столиков на третьем этаже, даже в самом зале. Не смотреть на тени с песьими головами. На слуг кинотеатра. Пока у меня есть карточка, они не тронут. Людей в зале прибавилось. Многие приводили кого-то с собой, нарушали правила, но это сходило им с рук. Теперь нельзя было отделиться от других зрителей, найти кресло подальше от всех. Я выбрал место у стены, последний ряд. В двух креслах слева от меня села женщина в длинном платье и кожаной куртке. В темноте казалось, что у нее нет лица. Когда слабый свет с экрана падал на нее, то оголял пустой овал – словно вареное яйцо, прикрытое черной копной волос. Шварц подрезал мотоцикл юного Джона Коннора, и тот врезался в заграждение. Желающих помочь парнишке не нашлось, после того как первый же доброволец получил в голову из дробовика, разметав мозги и осколки черепа по шоссе. Над местом аварии кружил вертолет телевизионщиков, где-то вдалеке выли сирены. Шварц ухватил Коннора за волосы и оторвал ему нижнюю челюсть. Кровь рекой хлынула на горячий асфальт, изуродованное тело забилось в припадке. Шум проносящихся мимо автомобилей смело нечеловеческим воем. Но Шварц не остановился. Он перехватил Коннора за горло, поднял над шоссе, а другой рукой вырвал ему сердце. Hasta la vista, baby. Женщина без лица тяжело задышала. Она гладила шею, поправляла волосы и скребла ногтями по спинке соседнего кресла. На экране появился жидкий терминатор в облике полицейского. Он проник в палату Сары Коннор и запер дверь. Навис над прикованной к кровати матерью спасителя человечества, покачал пальцем у нее перед носом и принялся раздеваться. Женщина без лица задрала подол платья и раздвинула ноги. Я смотрел то на нее, то на экран, задыхаясь от возбуждения. Т-1000 спустил с Сары больничные штаны и навалился сверху. Женщина без лица застонала так, будто он вошел в нее. Она ласкала себя двумя руками, елозя на кресле, содрогаясь в сладостных конвульсиях. Я подсел ближе, не сводя глаз с ее бедер, на которых появлялись капельки крови. Сара закричала. Вторгающаяся в ее лоно плоть превратилась в жидкий металл. На белой простыне под сцепленными телами ширилось кровавое пятно. Сара захлебывалась визгом, но лезвие рвало ее изнутри, меняло форму, с каждым новым толчком пробиралось дальше по телу, пока вместе с мясными брызгами не вышло изо рта. Я сунул руку под платье женщины без лица, но вместо податливой горячей плоти нащупал (мертвую) холодную, точно подводный камень, кожу. И больше ничего. Женщина кряхтела, царапала гладкую промежность до крови. Как мультяшка, которой забыли дорисовать жизненно важный орган и которая надеялась найти его за верхним слоем краски. Когда она взвыла от бесплодных попыток, фильм закончился, и зал накрыла тьма. В фойе я вышел самым последним. Никогда не напивался до скотского состояния, но сейчас примерно представлял, каково это. Мутило, тело не слушалось, перед глазами все плыло. Хотелось упасть где-нибудь и уснуть. В кармане запиликала заглавная мелодия из «Кэндимена». Присев на автобусной остановке, я достал телефон. Мама. Непринятых от нее набралось девять штук, был один звонок от старосты группы и один от черт знает кого. А еще два сообщения от Кати. Утреннее: «Куда ты пропал? Волнуюсь». И недавнее, пришло около полуночи: «Мои остались у друзей на ночевку, а одной в квартире страшно. Придешь?» Катя встретила меня в домашних шортах и футболке с Карпентером. Когда я вошел в прихожую, ее улыбка померкла. Взгляд был удивленный, испуганный. – Ты… – пробормотала она. – Что с тобой? – Просто устал, – ответил я, вешая куртку на крючок. – Плохо сплю в последнее время. Да и родители достали. Она заперла дверь, зачем-то прильнула к глазку и еще раз осмотрела меня. – Выглядишь помятым. И сильно. Ладно, проходи, я чайник поставлю. Мы устроились на диване в гостиной. На столике рядом остывал чай, по телику шел второй сезон «Ганнибала», а на балконе громадными тенями высились песьеглавцы. – У меня к тебе разговор, – сказала Катя. – Серьезный. Послушай, пожалуйста. Я не хотел слушать. Время тикало, дин-дон, дин-дон. Два месяца вместе, а толку нет. Песьи головы отражались в зеркальных дверцах шкафа, поэтому смотреть я мог только на Катю. И она была ничего. Не такая стройная, как Сара Коннор, но ничего. Я погладил ее по бедру. Кожа была теплой, приятной на ощупь. – Что ты делаешь? – Глажу свою девушку. Нельзя? Она отстранила мою руку: – Ты вообще меня слышишь? – Мы же оба понимаем, зачем ты меня позвала. Не ломайся. Я притянул ее к себе и поцеловал. Залез под старину Джона и нащупал груди, за что тут же получил пощечину. – Да что с тобой такое?! Ты больной?! Даже выслушать меня не можешь? Потерев место удара, я улыбнулся и набросился на (грязную шлюху) Катю. Задрал футболку, стал стягивать шорты, пристраиваясь между бедер своей разбухшей ширинкой. Сара закричала. Она дергалась, стонала, и это возбуждало еще сильнее. Жидкий металл просился наружу, но я не хотел ее убивать. Сперва нужно было поразвлечься. Пока я возился с шортами, ей удалось схватить кружку. Сара плеснула на меня кипятком и размозжила керамическую склянку о голову. Вспышки боли прошлись по черепу, лицу, по обожженной шее. Сара пнула меня в пах, и я сполз на пол. – Мудак озабоченный! У меня сосед опер, сейчас тебя быстро куда надо отвезут! Она вопила, угрожала, оскорбляла. И плакала. Я поднял на нее глаза, потом медленно встал сам. – Не вздумай подходить! Вали отсюда! На ковре темнело пятно, под диван забились осколки кружки. На балконе никого не было. – С-сука… – процедил я сквозь зубы. – В кого ты (обратился) превратился вообще? Выглядишь как бомж! Что это на джинсах, кровь? Кровь, да? А мылся ты когда последний раз? Вали давай отсюда! Я мог бы убить ее, а потом сделать с телом все что угодно. Я мог бы попробовать на нем паяльную лампу. Мог бы оторвать нижнюю челюсть. Мог бы… Но я извинился и молча убрался вон. Все-таки это была (мразь, динамо, недотрога сраная) моя Катя. Голова потяжелела на целую тонну, из носа потекла кровь. Я видел только черноту, сквозь которую неохотно проступали контуры реального мира. Если бы не идущие по пятам люди с песьими головами, сил добраться до дома у меня вряд ли бы хватило. Пришел в себя я только после обеда. Спал прямо в одежде, как какой-нибудь Марти Макфлай. Чудовищно болела голова. Я проглотил пару таблеток и попробовал поесть, но, кроме дюжины разваренных пельменей, ничего не полезло. Посмотрел на (выглядишь как бомж) свое отражение и набрал ванну. Бросил одежду в стирку и погрузился в горячую воду. Ранка на ладони запеклась и чесалась. Раньше она казалась простой царапиной, но теперь выглядела куда серьезнее. Я ковырнул ее, и вода чуть окрасилась. Поднял руку и убедился, что по ней тонкой струйкой стекает кровь. Дотянулся до пузырька одеколона на раковине и прижег ранку. Защипало. Наконец я растянулся в ванне и попытался расслабиться. Запахло сыростью, гнилью. Я открыл глаза и вновь увидел кровь. Целую ванну крови. Я лежал в вязкой красной мерзости, за которой не мог разглядеть собственного тела. К горлу подкатила тошнота, сердце ухнуло куда-то вниз. Ладонь горела огнем. Я дернулся, попытался опереться на бортик ванны, но рука соскользнула. Ноги проехались по дну, будто его обмазали слизью, и я с головой ушел под (собственную кровь) воду. Красный морок поглотил меня, размыл границы чугунного корыта, уничтожил их. Я пробовал всплыть, дышать, но лишь наглотался жижи, и меня вывернуло. Там что-то было, на глубине. Сквозь багровую толщу пробивались изувеченные мертвецы, ко мне несло части тел, куски мяса, осколки костей… А гораздо ниже, во тьме, откуда тянуло холодом океанского дна, проступали контуры исполинской пасти. Я вывалился из ванны, как младенец из материнской утробы. В ушах громыхали тамтамы, в глазах полыхали алые огни. Капли стекали на полотенце, на пол, изо рта толчками выходила кровавая рвота. Я отполз к двери, выбрался в коридор и отдышался. Возвращалось нормальное зрение. – С легким паром, молодой человек! Демьян вас уже заждался. Ну что, как говорится, пора и честь знать? Демьян придумал для вас отличную роль! Он вышел из кухни в том же потертом костюме с заплатками на локтях. Старый, нелепый и веселый. Я съежился у стены, прикрывая срам, обтирая кровь с лица. – Ч-что? – Что-что, пора переходить, так сказать, к самому интересному. Демьян полностью выполнил свои обязательства, теперь ваш черед. Все ведь зафиксировано, помните? Договор, заверенный кровью, – это не какая-то там филькина грамота. Демьян подошел, выудил из внутреннего кармана пиджака договор и показал мне: – Подпись узнаете? А кровь? Впрочем, в крови вы и не должны разбираться, но уж поверьте Демьяну, который на скупке душ собаку съел. Вы ведь любите собак, молодой человек? – Я просто… просто смотрел кино. – Все верно. Вы просто смотрели кино. Кино, которое никто и никогда больше не увидит. Это дорогого стоит, согласитесь? Я судорожно мотал головой из стороны в сторону, отползая к своей комнате. – Ох, бросьте, это был риторический вопрос. Вы посетили три положенных по договору сеанса. Заглянули в нашу маленькую потустороннюю киностудию. – Он улыбнулся. – Теперь ваша душа переходит в собственность Демьяна и будет использована для создания новых фильмов. Да что там, вы сами станете героем одного из них! – Я же… я просто… – Вот поэтому всегда нужно читать бумажки, которые подписываете. Безусловно, это не самое выгодное соглашение, однако наше дело предложить. Есть товар, есть цена. Все просто. Вам еще повезло, молодой человек, мои коллеги работают куда жестче. Да будет вам известно, начальство не одобряет самодеятельность Демьяна. Ну, знаете, растрату энергии души на материализацию страхов, на скрещивание реальностей и прочие чудеса. И уж тем более начальство не одобряет сотрудничество с руководством ТРЦ «Подмосковье». Вы знаете, сколько эти люди берут за аренду зала? Немыслимо! Но ничего не поделаешь, фильмы – слабость Демьяна. Должно же быть у человека хобби, не правда ли? Впрочем, у какого еще, к Иисусу, человека… Меня колотила дрожь. Пол стал (кладбищенской землей) сырым и холодным, очертания квартиры съедал туман. Свет уходил отсюда. За Демьяном шевелились высокие тени. – Я же просто смотрел кино… Даже не сказал никому, а эти водили чужих… Почему именно я? Демьян засмеялся. Туман сожрал все пространство вокруг, подо мной чавкала жижа. Неведомо откуда дул ветер, парализуя холодом. Вдалеке что-то протяжно заурчало. – Да нипочему. Во-первых, договор есть договор. А во-вторых, Демьян не выбирал вас, ваша душа сама отозвалась на предложение кинотеатра. – Он наклонился ко мне и шепнул на ухо: – Но в том же договоре указан пункт, по которому можно получить отсрочку. Его смрадное дыхание валило с ног. Склизкий язык проник в ухо и пополз глубже, к мозгу. За россыпью огней перед глазами я увидел схему работы кинотеатра, изуродованные зрительские души, увидел черную зависимость, пожирающую изнутри… И узнал условия. Мы шли к торговому центру, держась за руки. После недели извинений и ухаживаний Катя простила меня. Дулась еще, но на предложение посетить ночной сеанс необычного ужастика согласилась сразу. Мы даже целовались как прежде, со странными объятиями: засунув руки в задние карманы джинсов друг друга. Я по-джентльменски пропустил Катю вперед и убрал красную карту. Зрительский абонемент на месяц, на три десятка фильмов, после которых все-таки придется расстаться с душой. Или найти еще одного близкого человека и принести его в жертву кинотеатру. Робокоп выслеживал Маньяка-полицейского, но я почти не смотрел на экран. Зал был полон. Люди наслаждались зрелищем, заплатив страшную цену. По крайней мере, на пару часов они становились счастливыми. Я думал, как это произойдет. Если Катю заберут (что ты наделал?) прямо из кинотеатра, как мне объясняться с родителями и полицией? Какой облик будет у ее страхов? И как теперь с этим жить? А еще я вспоминал вспышки. Знания, полученные в тот раз от Демьяна. Сами по себе его фильмы не калечили души, они лишь обнажали человеческую сущность. Они не могли сломать сильного, по щелчку превратив белое в черное, но с легкостью добирались до гнили внутри слабых. Обратно мы шли в потоке зрителей. Задумчивых, потерянных. Загнанных. Я взглянул на Катю. За неделю она немного похудела, стала (ЧТО) симпатичнее. Несмотря на простую одежду, она (ТЫ) все-таки следила за собой. От нее по-прежнему вкусно пахло. И никаких усов у нее не было, просто так падала тень от носа. Катя простила меня после всего того, что я (НАТВОРИЛ) сделал. Мы понимали друг друга, нам нравилось быть вместе. И у нас могло все получиться. – Давай я?.. Катя выдернула у меня карту и сама приложила ее к магнитному датчику. Шагнула за порог торгового центра, и дверь захлопнулась перед моим носом. Я оглянулся. Люди, помещения, эскалаторы – все исчезло. Мир с этой стороны провалился во мглу. Катя плакала. Она положила руку на стекло. – Прости. Я же пыталась тебе сказать. Ранка на ее ладони выглядела еще больше моей. – Но, если ты решил отдать меня ему, пропадай сам. Я подменила карту. И месяц засчитали мне. За спиной раздался пробирающий до костей вой. Туман окутывал стеклянную дверь, стирая город позади Кати. Я пытался найти слова, попросить прощения, но выдавил лишь жалкий всхлип, когда рядом заурчало нечто. Я протянул руку к Кате, к своей девушке, но серое марево разлучило нас навсегда. Я пробирался по тропинке наугад, выплевывая в холодный воздух облака пара. Туман понемногу рассеивался, открывая мне ночное болото в свете луны. Это оно урчало, будто подзывая кого-то. Под ногами хлюпало, чахлая растительность льнула к земле, а в темноте вырисовывались очертания холмов. Чудовище завыло в нескольких шагах позади меня, и я остановился. Застыл на месте, как тогда, в детстве. Ноги больше не слушались. А вот тварь приближалась. Я слышал ее тяжелую поступь, дыхание. Чувствовал запах мокрой шерсти. Время пришло. Дин-дон, дин-дон. Не в силах обернуться, я смотрел вперед. Там, на вершине холма, из тумана показались двое. И человек со знакомым с детства голосом возвестил: – Ватсон! Это собака!Трюк с фонарем
Выступали азиаты-карлики в пестрых пижамах блевотного цвета. Недомерки показывали карточные фокусы, дурачились, дрались, но публика никак не реагировала. Жалкое зрелище. – А что полиция? – спросил я, выдыхая дым. – Да срать им, – сказал Боров. – Оформили самоубийство, мол, никаких вопросов, чего, мол, тут голову ломать. Разбираться не стали. Им висяки не нужны. Как и мне – проблемы. Десять минут истекли, и платформа поползла вниз, забирая карликов под сцену. Народ лениво похлопал – скорее скрипящим механизмам, чем циркачам. Сегодня людей было мало, сотни три. Но вечерний куш никто не отменял. «Платформу» придумал Боров. Я никогда не понимал прелести этого местечка, но оно понравилось очень многим. Идея была в том, чтобы собрать в одном заведении кучу разномастной творческой живности, выделить каждому время для выступления, а лучших потом наградить. Сцена тут располагалась в здоровенной раковине, выглядывая в зал, будто глаз из дырки в черепе. Пола не было – его заменяли многочисленные платформы, которые тащил наверх подъемник. Пока выступали одни умельцы доставать кролика из шляпы, готовились следующие, и так три часа подряд семь вечеров в неделю. Безостановочное шоу на потеху зрителю. У каждой команды была своя платформа, которую она разрабатывала, обставляла и готовила к номеру. Отсюда и пошло название. Взнос участника, конечно, кусался, но шанс тем же вечером получить в десятки раз больше привлекал куда сильнее. Плюс к тому здесь частенько практиковалось поощрение отдельных удачных номеров неплохой денежкой. Победителя выбирали зрители, и он заграбастывал половину банка. Посетителей тянули сюда иллюзия власти, возможность решить чью-то судьбу. Ну а вскоре «Платформа», укрывшаяся от больного города в промзоне, стала любимым местом для представителей мира криминального. Полиция сюда не заваливалась, Боров платил исправно, так что публика собиралась соответствующая. Хотите снять бабу на ночь,заказать соседа или прикупить таблеток? В «Платформе» всегда отыщется нужный человек. Главное – знать, к кому подойти. – Тогда зачем тебе копать? Боров с трудом перекинул ногу на ногу и отхлебнул пива, расплескав его по второму подбородку. Кличку он оправдывал на все сто. – Мне и не надо, Дым. А вот эти паскудники, – он ткнул жирным пальцем в сегодняшнюю афишу, – такое устроили! Мол, это знак, это убийство, мол, пора валить из «Платформы», пока целы. Слыхал, да? Идиотов куски. Мистика им, мол, мерещится. Призраки гребаные. Подъемник явил зрителям платформу с парнем в красном костюме и двумя полуголыми девушками. Всяко интереснее карликов. Рядом с парнем стоял куб – полтора на полтора метра, – оформленный под газовый фонарь. Из деревянных ребер росли золотые перья, боковые грани казались бумажными. Сверху виднелась дыра, точно сливная щель в сортире. Зазвучала музыка, и на табло пошел отсчет новой десятиминутки. – Вот они, – показал Боров на сцену. – Гляди внимательно. Девушки задвигались. Они были действительно хороши: длинноногие, подтянутые, фигуристые. Короткие топики подчеркивали груди, а обтягивающие шорты не мешали по достоинству оценить задницы. Волосы – брюнетка и блондинка, как и положено, – до плеч, чулки в крупную сетку, каблуки, по-кошачьи плавные движения… Их танец не только завораживал, но и отвлекал. Это и была основная задача помощниц. Фонарь оказался на колесиках. Девушки стали его вращать, показывая, что за ним никто не спрятался. Фокусник с умным видом наблюдал за этим, сжимая в руке полуметровый жезл с лампой на конце. Куб остановился ровно посередине сцены, и техники приглушили освещение. Брюнетка откинула переднюю панель, обнажая пустые внутренности фонаря. Девушки взялись за руки и отошли от куба, жестами приглашая к нему фокусника. Тот ухмыльнулся, поправил галстук и двинулся вокруг фонаря, насквозь просвечивая каждую грань своей странноватой лампой. Бумажные стенки вспыхивали электрическим огнем, не находя теней сообщников или других подставных. Сделав круг, фокусник запихнул лампу внутрь куба и поковырял там, словно смахивал паутину в углах. Фонарь был пуст. Подоспели помощницы. Сексапильная брюнетка захлопнула стенку, а блондинка волнующими движениями приняла у фокусника жезл и уместила штуковину в отверстие на верхней панели фонаря. Лампой вниз. Теперь фонарь светился изнутри, раскрашивая каждую бумажную грань. – Лишь бы не опять… – шепнул Боров, вытирая пот салфеткой. Фокусник с закрытыми глазами замер в пяти шагах от фонаря и погрузился в транс. Девушки кружили рядом, а когда музыка стала громче, упали на колени. Фокусник взял блондинку за руку, поднял, а потом ее словно током ударило. Девушка вытянула вторую руку, и дрожащее движение выросло внутри фонаря-переростка. Тень тряслась в такт с рукой блондинки, а потом исчезла. Фокусник поднял брюнетку и проделал с ней ту же процедуру. Каждый раз в фонаре появлялась тень и в точности копировала движения девушек. Шагнув к залу, фокусник резко протянул руки вперед, и тень прорвала бумажную стенку фонаря. Из куба вылезла рыженькая красотка. Полный комплект. Роды прошли удачно. – Слава богу… – выдохнул Боров. – А то несут хрень всякую мне тут: сказки, мол, страшные! Идиотов куски. – Но у тебя ведь и вправду пропадают люди, да? – Так и раньше пропадали! Кто у нас здесь на это смотрит? Один запил, другая искололась, третий прыгнул на корабль – и привет. Баб вообще считать не стоит. Выступила один, ты понял, один раз! Приглянулась какому-то богатому извращенцу и теперь сидит на поводке, яйца ему чешет. Думаешь, откуда все мои бабы? Это же смотры! Официантка поменяла пепельницы, улыбнулась и свалила. Боров проводил ее голодным взглядом и достал из кармана диск с блокнотом: – Здесь запись вчерашнего фокуса с фонарем. В бумажках – всякие там данные, ну, адреса, имена и остальная чепуха. Я не верю, что это убийство, да ты сам только что видел номер! Как можно, мать их, в этом кубике кого-то зарезать, когда там даже третьей бабы быть не должно?! Боров был прав. Показуха, ритуальное самоубийство, да что угодно. Съехала у девчонки крыша. Или довел кто-то. Никакой мистики. Я знал, о чем шепчутся в «Платформе», но в сказки верить перестал лет тридцать назад. – Но, если вдруг это на самом деле убийство… Кто, куда, зачем, какого хера? В общем, никто, кроме тебя, не разберется. Разузнай все, ты сможешь. Нужно дать народу отмашку, что тут, мол, безопасно. Нет никакого, мать его, черного мага. Деньги он мне вручил сразу, знал, что не откажусь. Странная работка, но почему бы не навариться на людском суеверии? Убийство в гигантском фонаре… Даже звучит смешно. Но копнуть будет занятно. Тем более за такие бабки. На улице шел снег. Ночное небо вываливало белое крошево на грязную дорогу, ветер свистел в развалинах складов. Я укутался в пальто и двинулся к набережной, обходя примерзшего к тротуару забулдыгу. – Ну, чего тебе? – по сонному голосу Шмеля было ясно, что он не особо рад моему звонку. – Спишь, что ли? – Поспишь с тобой. Чего надо-то опять? Только давай скорей. – К вам вчера привезли бабенку одну. – Я достал блокнот и сверился. – Оксана Счастливая. Из «Платформы». И ножик вместе с ней. Как бы на нем пальчики посмотреть? – Ты опять проблемы себе ищешь? Самоубийца это, угомонись. Никто с ней не возился. – Я понимаю. Но очень интересно, заснуть не могу. Посодействуй, будь человеком. Я же не обижу, ты знаешь. Шмель вздохнул: – Все завтра. Отбой. Я терпеть не могу полицейских, но без своих людей в этой конторе не обойтись. Шмель, хоть и тот еще засранец, все сделает. Поворчит, поворчит, но шелест заветных бумажек ни на что не променяет. Ближе к центру города пошли работающие фонари. Машины дымили на тротуар и развозили выхлопное зловоние по кишкам каменного муравейника. Над горбами многоэтажек в черном небе проклевывались пятна салюта. Пир во время чумы. Половина забегаловок здесь после одиннадцати обрастала металлическими решетками на окнах. Гулять в темноте было опасно. Но не для меня. Я шагал через парк к дому и размышлял. Черный маг. О нем стали болтать пару недель назад, причем не только обитатели «Платформы». Якобы в городе появилось подпольное шоу, где некий отморозок в маске разоблачает фокусы, новые и не очень, используя в своих представлениях других фокусников. Последние, как правило, не выживают. То девушку распилит по-настоящему, то утопит неудачливого колдуна в стеклянном гробу. Сказки все это, конечно, зато девкам в «Платформе» есть о чем потрепаться. У каждого города должна быть городская легенда, тем более у такого. Хотя извращенцев здесь хватает, так что желающие заглянуть к черному магу нашлись бы наверняка. Обогнув безголовый памятник неизвестного поэта, я уткнулся в стайку местной черни у лавок. Четверо парней, две девки, куча бутылок, никаких мозгов. – Слышь, лысый, дай закурить! – завел знакомую песню сопляк с красным носом. Я улыбнулся. Сунул руку в карман пальто, нашел выемку со вшитыми ножнами. Здесь хранился подарочный кинжал в две ладони, почти невесомый и невероятно острый. Приятная на ощупь ручка всегда успокаивала, как и пистолет за поясом. На всякий случай. Обычно доставать их не приходилось. – Мал ты еще. Года через три подходи. Компашка загоготала. – Дядя, ты похож на член, – пришла на подмогу усатая девка с синяком, глядя на мою бритую голову. – Да еще и обрезанный! Она хотела дотронуться до шрама на лбу, но я перехватил руку. Сжал и вывернул запястье в сторону. Девка взвизгнула. Дернувшийся было красноносый курильщик уткнулся в кулак и спрятался в снегу. – А ты похожа на трансвестита, но твоим дружкам, похоже, так больше нравится. Девчонка улетела к собутыльникам, цветасто матерясь. – Ладно, ладно, мужик, – вскочил с лавки патлатый блондин, пока остальные скрипели извилинами, – че ты такой злой? Обознались просто, бывает, не серчай. Приносим, так сказать, глубокие, ну ты понял. Мир, все дела. Город окончательно испаскудился. Таких ублюдков можно встретить в каждом районе, иногда даже днем. Молокососы, едва от сиськи отлипшие, а все туда же. Я сплюнул и зашагал дальше. Родная пятнадцатиэтажка подслеповато щурилась горящими окнами. Лампа гудела так, словно напоминала о счетах за электроэнергию. Я закрыл дверь, повесил пальто и прошел к компьютеру. Закурил. Призрачный дым окутал экран, где на платформу поднялась знакомая команда с фонарем. Я просмотрел запись дюжину раз. Номер был точной копией того, что сегодня показывали живьем, только вот в финале «тень» не воссоединялась с остальными, а вываливалась из фонаря с перерезанным горлом, рассыпая какие-то бумажки. Далее – немая сцена, и платформа с трупом исчезала в недрах конструкций здания. Когда тень внутри фонаря дублировала движения помощниц, в радиусе пяти метров никого рядом не было. Получается, убийцами не могли быть ни блондинка с брюнеткой, ни сам фокусник. Хотя… кто их знает. Волшебники гребаные. Я поймал себя на мысли, что отношусь к делу именно как к убийству. Не изучаю фактуру, чтобы выяснить, почему девочка решила покончить с собой на людях, а пытаюсь впихнуть в стартовый расклад еще одного человека. Убийцу. Черного мага, тьфу ты… Когда пепельница превратилась в холм из окурков, я допил кофе и выключил компьютер. Запись ничего не проясняла. Обычный номер, наверняка устроенный банально, только вот фокус с трупом кто-то провернул без согласия организаторов. Часы показывали половину второго ночи. Снежная пыль через форточку забиралась в квартиру. Мороз оплетал стекла ветвистыми узорами. Имена, фамилии, адреса, даты – в блокноте собралось неплохое досье. Счастливая снимала однушку в старой общаге, что в получасе ходьбы отсюда. Все равно не спалось, и я решил прогуляться. Но сперва позвонил Борову и сквозь его недовольное хрюканье сообщил, что мне обязательно нужно посмотреть фокус изнутри. С самого утра. Стены были покрыты граффити, словно на здании испытывали краску все уличные художники города. Странные, смешные и страшные рисунки опутывали общагу разноцветными сюжетами. В углу дома старик и собака смотрели на воздушный шар, чуть дальше по стене сквозь метель в виде снежной пасти полз уазик, а подъездные двери прикрывал совсем уж наркоманский банан в башмаках и с тесаком. Коридор пустовал, поэтому громыхание отмычки никто не услышал. А даже если и услышал – всем было плевать. Свет не включился – оно и к лучшему. Я прикурил очередную сигарету, чуть осветив комнату. По квартире точно смерч прогулялся. Одежда черным ковром липла к полу, все шкафы были открыты, сумки свалены у кровати. Ни в кухне, ни в ванной свет не зажегся, но холодильник по-стариковски кряхтел, а внутренности его сияли не хуже газового цветка на плите. Кто-то выкрутил все лампочки. Достав пистолет, я еще раз обошел квартиру и приземлился в кресло. Подступала паранойя. Дым растворялся в темноте, впитывался в обшарпанные стены и переползал к соседям. Зачем девушке, которая собиралась перерезать себе горло, переворачивать квартиру вверх дном? И даже если не собиралась – зачем? Что-то тут нечисто. Замки на двери были целыми, но это ни о чем не говорило. В районе хватало умельцев. Другое дело – кому понадобилось лезть в нищенскую квартиру? Еще один вопрос. Они начинали наслаиваться друг на друга, как горки пепла у кресла. Будь в квартире детекторы дыма, меня бы уже окатило струей с потолка. Я решил вернуться к раскладу с убийством. Бардак говорил о том, что либо жертва собиралась валить из города, либо тут еще кто-то похозяйничал. Если бы Боров соображал быстрее, то позвонил бы мне вчера. А теперь целые сутки потеряны, погром могли устроить и пару часов назад, и неделю. Не говоря уже, что место убийства придется осматривать после плясок табуна циркачей. Все равно что искать пятна крови на рубахе из химчистки. От табака приятно кружилась голова. Я сидел тут третий час, решив дождаться утра. Сон потихоньку завладевал телом, расслаблял мышцы и рисовал в голове полуголых девушек и чулки в крупную сетку. Я парил над сценой, словно какой-нибудь долбанутый супергерой, а воришка-ветер трепал складки пальто, пытаясь вытряхнуть карманы… Когда перед глазами всплыл сияющий фонарь с трупом, в дверном замке повернулся ключ. Затем еще разок. Дверь приоткрылась, пуская внутрь кусок света и чужое дыхание. А потом по длинному коридору затопали шаги. Я бросился к двери, но незнакомец оказался спринтером и уже успел добраться до лестниц. Перед тем как исчезнуть в черноте подъездного провала, он обернулся, и в болезненном моргании лампы мелькнула коротко стриженная голова с россыпью колец в ухе. Догнать его я бы не сумел, поэтому вернулся в квартиру. Кто это был? Воришка, убийца, местный наркоман? Чем открывал дверь? Снова вопросы… Зажевывая новую сигарету, я поморщился. Этот тип наверняка учуял дым, потому и сбежал. Но с курением бороться я не мог, да и не хотел. Пускай даже оно иногда вредило делу. За этими мыслями в свете зажигалки я не сразу заметил фигуру у окна. Широкоплечая тень в секунду оказалась по ту сторону стекла. Сквозь черную маску с рисунком паука на меня смотрел человек, который все это время находился в квартире. Я поднял пистолет, но образ здоровяка уже смело пургой. Оконное стекло дребезжало от укусов ветра, в щель валил снег. Я подошел и взглянул на спящий город. Десятый, мать его, этаж. Никаких лестниц. Это становилось интересно. Утро влезло через окно, распихивая темноту по углам. Ночь не дала ответов, а только все запутала. Похоже, самоубийством здесь не пахло, раз к рыженькой проявляют такое внимание. Словосочетание «черный маг» просилось на язык, но я не собирался о нем говорить. А вот не думать не получалось. Я выпотрошил все, каждый ящик, каждую полку, каждый гребаный карман в груде одежды. И кое-что нашел. Сложенный вчетверо листок, размерами похожий на презерватив, оказался в заднем кармане дырявых джинсов. Это была фотография. На ней хозяйка квартиры обнималась с еще одной стройняшкой. Лица подруги рассмотреть было нельзя, кусок фотографии кто-то оторвал, но изображение меня и не интересовало. На обороте красовался номер телефона. Его пытались замалевать карандашом, но цифры читались. Я достал мобильник и набрал номер. Абонент – не абонент. Что ж, у Шмеля появилась еще одна халтурка. Через два часа я был в «Платформе». Утром ее рабочие помещения напоминали огромный склад. Пчелиными сотами все пространство заполняли налепленные друг на дружку клетки: гримерки, сцены для выступлений и репетиций, камеры хранения реквизита и другого барахла. – Извините, я бы тут не курил, – сказал тот самый парнишка, что вчера махал над кубом волшебным жезлом. – Здесь и пиротехники хватает. – А я тебе и не предлагаю. С ним была брюнетка. Без макияжа и откровенного наряда она не казалась привлекательной. Мешки под глазами, плохая кожа, самая обычная девчонка из неблагополучного района. Хотя имена мне пока не требовались, парочка боялась. Они боялись меня, боялись, что обвиню их в убийстве. Но в глазах читался и другой страх, к которому я отношения не имел. Громадный подъемник спустил сцену с фонарем. Обычный металлический пласт черного цвета, никаких двойного дна и секретных кармашков. Гладкая поверхность с отметиной в виде маленького креста в центре. – Для чего это? – Сердце площадки, – ответил парень. – Самое удобное место для всяких махинаций, чтобы зритель не заметил, в какой бы части зала ни сидел. Я осмотрел жезл. Была надежда, что туда запихнули какой-нибудь механизм с выдвижным лезвием, но нет, обычное древко с плафоном. Магический посох эконом-класса. Хотя его могли тысячу раз поменять после убийства. Эх, Боров, Боров… Но даже если бы из него внутрь куба выкидывалась катана, горло ею перерезать было невозможно. Этот вариант отпадал. Отпадали вообще любые варианты, кроме появления в кубе призрака-убийцы. Я сам там с трудом уместился, а была еще и девушка, да так, что зрители не видели тени… Чертовщина. – Чего встали? – спросил я. – Давайте, разоблачайте. В чем секрет? Самое главное – откуда третья вылезает? – Да все просто. Она с самого начала сидит в кубе. Вращение – просто отвлекающий маневр. Вот, смотрите. – Парень показал на маркированную едва заметным крестиком стенку фонаря. – Эта панель с секретом, стенка здесь складная, она не распахивается, как остальные, а опускается-поднимается, точно занавес. Так что нам нужно развернуть фонарь этой стороной от зала и дождаться приглушения света. Тогда девушка поднимает полотно, прячется сзади и заделывает стенку обратно. Все продумано, дело нескольких секунд. – М-да, вот тебе и магия… – хмыкнул я. Загадка оказалась совсем легкой. – А почему тогда при подсветке задней панели не видно тени? – Марина, давай покажем. Они открыли переднюю панель фонаря, а я отошел на место зрителя. Пустой куб смотрел на меня раззявленной пастью. Брюнетка спряталась за фонарем, паренек взялся за лампу. Электрический свет прошил материю насквозь, но тень девушки не появилась. – Отсюда посмотрите. Девушка прижалась к самому краю куба и выгнулась так, что лампа кружила рядом, едва не касаясь ее тела. – Я не охватываю всю заднюю стенку, понимаете? Но с той стороны кажется, что просвечивается весь фонарь. Дальше все было еще проще. Когда захлопывалась передняя панель, девушка ныряла обратно в фонарь и прижималась к задней стенке. Сверху крепили лампу, но на самом деле она освещала только лицевую часть куба, хотя для зрителя создавалась иллюзия, что в фонаре поселилось солнце. Эти ребята рассчитали каждый сантиметр тени, проверили вид с каждого ракурса. Теперь я понял, почему в подобных фокусах не используют толстух. Помощница дожидалась определенного момента – сигналом была музыка, – приближалась к передней панели и дублировала заученные движения партнерш, добавляя номеру зрелищности. Ну а потом – резкий звуковой сигнал, прорыв бумаги, поклон, аплодисменты. Фокус как фокус. После разоблачения так и вовсе не впечатляет. А вот трюк с убийством был гораздо интереснее. В кармане завибрировал телефон. Звонил Шмель. – Слушаю. – В общем, ложная тревога. Пальчики на ноже принадлежат Счастливой Оксане Эдуардовне, двадцати шести лет и дальнейшее бла-бла-бла по паспорту. По нашей базе проходила два раза, задерживали за проституцию. Других данных нет. Паспорт, вероятно, поддельный. Короче, типичная клиентка «Платформы», не парься. – Печаль. Ладно, пробей тогда номерок один. – Я продиктовал цифры с задника фотографии. – Желательно поскорее. – Дым, не наглей. – Не могу. Мне надо. – Тебе всегда надо. Отбой. Итак, теперь уже все факты подталкивали к версии о самоубийстве, только вот ночные гости с ней никак не состыковывались. И перепуганные лица обитателей «Платформы» тоже. – Мы свободны? – спросил фокусник. – Ты – да, а вот подругу оставь. – Она посмотрела на меня так, будто я собирался продать ее в сексуальное рабство в страну третьего мира. – Пообщаемся. Мы засели в занюханном баре неподалеку от «Платформы». Публика здесь была молчаливой, заходили в основном одиночки. Выпивали, заедали горькую вчерашними закусками и убирались. Пахло кислым пивом и по́том, под потолком кружил сигаретный дым. Много дыма. – Не трясись ты так, не съем. Я не полицейский, если что. – Знаю. – Ну и славно. Расскажи о Счастливой. Чем жила, что говорила, чем занималась? – Да нечего рассказывать, – отмахнулась брюнетка, чье имя я уже забыл. – Она и сама не была любительницей поболтать. Тут у каждого свои секреты. Мы проработали всего-то две недели в таком составе. Собирались днем на репетиции, вечером выступали, потом разбегались. Все. Не дружили мы особо. Но и убивать бы друг друга не стали, конечно. – А кто стал бы? Девушка поморщилась: – Вы и сами знаете, что болтают. – Знаю. – Я затушил сигарету и взял новую. Дым ворочал мозги, без него думать не получалось. – Но хочу, чтобы ты рассказала. – Оксана тоже про него говорила. В шутку болтала, что не отказалась бы поработать у черного мага… А в последние дни совсем перестала разговаривать, грустная ходила. У нее явно что-то случилось. Или она что-то чувствовала. Вот теперь и я чувствую… – Что? – Что могу стать следующей. Ведь в тот день была моя очередь выходить из фонаря, но Оксана попросила поменяться. И тут такое… Мне везде мерещится маска с пауком, да и всем мерещится… – С пауком? Брюнетка крутила кольцо на пальце, смотрела по сторонам, не желая встречаться со мной взглядом. Она действительно боялась. – Говорят, так он выглядит. Здоровый амбал в черном. И маска с белыми паучьими лапами вокруг глаз. Его не интересуют фокусы, ему интересно убивать. Фокусы – для шоу. А фокусники – как расходный материал. Я бы сказал, что это полнейшая чушь, если бы ночью не видел описанного здоровяка в окне. Того, который исчез на высоте десятого этажа. Который сумел остаться незамеченным в заваленной хламом однушке. Который кого-то там ждал. – Похоже на мистическую белиберду. Вы не думали, что работают конкуренты «Платформы»? Хотят вас всех распугать, чтобы закрыть лавочку к чертям собачьим. Подумаешь, пара человек пропала. – Пара? – усмехнулась девушка. – Это вам Боровинский сказал? Я насчитала десятка три. Народ бежит. И это уже не шутки. Никто ведь не знает, сколько из этих пропавших решили сменить профессию. А что, если все они попали к нему? Она начинала меня утомлять. Страх и богатая фантазия способны на многое. Хотя отрицать существование черного мага было глупо. Только вот верить в его сверхъестественность я не собирался. Обычный ловкач со съехавшей крышей. Оставалось выяснить его роль в этой истории. – Что скажешь о новенькой? – Ничего. Боровинский назначил одну из своих баб, пока замену не найдем. Ей даже не платят, так что мотива нет, если вы про это. – Почему у вас вчера не было бумажек? – Каких еще бумажек? – Тех, которые рыженькая разбрасывает, выходя из фонаря. Девушка замолчала. Вытащила из моей пачки сигарету. – Потому что у нас в номере нет никаких бумажек. – Очень интересно. Тогда с чего вдруг они появились в тот день? Она сверкнула зажигалкой. Выпустила дым в сторону пары замызганных работяг, что искоса на нее поглядывали. – Боровинский бесится при любом упоминании черного мага. Вы должны знать. Поэтому мы ему ничего и не сказали. – Мне можно, я не буйный. Девушка обернулась к старику с кружкой пива за соседним столиком, окинула взглядом барную стойку. Продолжила уже вполголоса: – Я не знаю, откуда они взялись. Похоже, что Оксана и принесла. Или убийца. Когда я поняла, что произошло, сразу их заметила. Листки эти были рассыпаны вокруг тела, штук двадцать. Карта метро на черной бумаге. Кружком был обведен закрытый перегон в конце золотистой ветки. А в каждом углу бумажки сидел белый паук. Вот и думайте. Дела… Добрые люди уже шепнули, что на перегоне нашли раритетную пушку… а еще цепи и человеческие ошметки. Похоже, чертов психопат совсем осмелел. Попади эта информация ко мне вовремя… С другой стороны, этот тип знал, кому давать наводку. Не в полицию же пошел. – Они сохранились? – Нет, мы их выбросили, народ и так с ума сходит от страха, не хватало еще этого. Тем более нам запретили шум поднимать. Самоубийство и самоубийство. Точка. Зрители бумажек не заметили, Боровинский и подавно. Сами понимаете, не до того. Да и не для них это было представление. Для нас. Он хотел, чтобы мы боялись. Хотя куда уж больше… Пепел обжег пальцы, и я вспомнил про сигарету. – И что говорит народ, чему верит? Убийство? – Вы же видели фонарь изнутри, видели платформу. Тут либо Оксана сама, либо… А даже если сама, то ее заставили. Передать послание. Еще раз напомнить о черном маге. Нагнать страху. – Она что-нибудь о себе рассказывала? Откуда родом, есть ли родственники? – Как-то обронила, что в город попала на корабле. Значит, с севера откуда-то. Про родственников ничего не знаю. Хотя пару дней назад она вроде собиралась кого-то встречать в порту. Улицу заметало, хороня следы. Где-то вдалеке выла сирена, и над домами вставал черный дым. Город жил в привычном режиме. Девчонка исчезла во дворах, а я спустился в подземку. Грязные стены подпирали попрошайки и музыканты, грелись друг о друга плешивые собаки. Запах тут царил, точно в приюте для больных животных. На полу станции бурой краской пылала какая-то сатанинская звезда. В вагоне оказалось тепло, и я закрыл глаза. Таращиться в серые злые морды вокруг не было никакого желания. Жертва, как обычно, оказалась без роду и племени, никакой информации. Только некто мифический, кого она собиралась встречать. А если Счастливая приторговывала натурой, это мог быть обычный клиент. Но она что-то знала и наверняка даже встречалась с черным магом. Иначе какого лешего он забыл в ее квартире? Тогда кто был тот, второй? И было ли убийство? Ведь при таком раскладе, чтобы пролезть в чертов фонарь и перерезать девчонке горло, нужно быть либо призраком, либо дьяволом. В общем, мозаика не складывалась. Наоборот – каждый кусочек жил своей жизнью и пытался запутать. Нужная станция была чуть ли не самой грязной в метро. Я сразу узнал Шустрика, сегодня он изображал ветерана войны. Отрубленные ноги ему в этом сильно помогали. Всклокоченная борода росла до самого пупа, втыкаясь в перевернутую шапку с монетами. Рядом с инвалидной коляской никого не было, но в толпе узнавались телохранители. Это был бизнес со своими законами. – Здравия желаю, товарищ капитан! – отсалютовал я. – Не ерничай, Дым, видишь же, нету публики сегодня. Какими судьбами? – Да вот, магии захотелось. Сходил к Борову в «Платформу», но не впечатлился. Слыхал, ты знаешь какую-то альтернативу. Недавно вот, говорят, спасение из жерла пушки показывали. Правда, не совсем удачно. – Мало ли что молва несет, Дым. Ты вроде не мальчик, а веришь всякой ерунде. Я улыбнулся: – Хорошо, скажу по-другому. Мне нужно попасть на шоу черного мага. Я знаю, что ты в курсе дела. Ты называешь время и место, и мы остаемся друзьями. Это первый вариант. Вариант второй: ты строишь из себя дурака, и я случайно опрокидываю тебя на рельсы. Молодчики не помогут, ты меня знаешь. Шустрик нервно сгреб шапку с подаяниями, поморщился и оглянулся на якобы случайных зевак, которые без единой эмоции на физиономиях наблюдали за нами. – Ты хоть знаешь, сколько это стоит? – У меня хороший спонсор. – Борзеешь, Дым. В эту тусовку тебе лучше не соваться. Там совсем другие люди. – Я рискну. Говори. Шустрик воровато стрельнул глазами по сторонам, обмазал взглядом своих покровителей и сплюнул на пол. – Черт с тобой, Дым, но я тебе ничего не говорил. Сегодня ночью в доках представление. Сразу после полуночи. В том забросе, где раньше верфь была. Проход по приглашениям. – Он сунул мне в руку какую-то картонку. – Но ты теперь мой должник. – Не вопрос, разберемся. – Ну-ну. – Счастливо оставаться, товарищ капитан! Несколько бессонных ночей давали о себе знать. С мороза казалось, что дома воняет. Я открыл бутылку коньяка, зацепил сигарету и включил запись с фокусом. Ничего нового. Теперь, когда я знал схему изнутри, при желании можно было заметить тень во время просвета задней стенки куба. Или это только иллюзия? Мобильник заворочался в кармане, когда я открыл новую пачку. – Короче, по обычной ставке ты не отделаешься, – сказал Шмель. – Новости такие. Номер телефона принадлежит какому-то подпольному агентству, которое продавало билеты на паром. От них многие пострадали, у нас пачка заявлений лежит. Половина обилетившихся в списках пассажиров себя так и не нашли. – Паром, конечно же, отчалил? – Сегодня в одиннадцать уходит. Там ожидается хренова гора недовольных. В голове что-то зашевелилось. – Это все? Шмель хмыкнул: – Если бы… Не поверишь, но твою рыжую красавицу вернули в наш морг. В городском что-то начудили с документами, как обычно, в общем, и спихнули труп полиции. Родственников у нее нет, хоронить некому и прочее нытье. Самое интересное другое. Я не поленился проверить и ее пальчики. На всякий случай. Мы ведь просто сравнили рожу с паспортом, в «Платформе» труп опознали, избавив нас от лишнего геморроя. Я затушил сигарету. В голове уже возникла разгадка. Но вонь… Казалось, она усилилась. Я подошел к двери в кладовку и дернул дверь на себя. Запах шел отсюда. – Так вот, – продолжал Шмель, – пальчики на ноже, которые по базе принадлежат Счастливой, с пальчиками трупа не совпадают. То есть это либо двойник, либо… – Сестра-близнец, – закончил я, разворачивая фотографию с оторванной головой второй девушки. – Вот-вот. Надеюсь, теперь-то ты оценишь мое участие. А не как в прошлый раз. Я закрыл кладовку, вышел в прихожую и обшарил пальто. Ножны были пусты. – Спасибо, в долгу не останусь. У тебя ведь и без меня работы полно, угадал? – Еще бы. Где живем, не забыл? Тут гопоту кто-то порезал. Хорошо так причем, конкретно – бошки всем отпилил. Слышал уже, наверное, в твоем районе ведь было. Шесть трупов, головы не нашли, зато орудие на месте. Ребята как раз щас разбираются. – Весело тебе… – процедил я. – Ладно, сочтемся. Головы были тут. В кладовке. Шесть штук, каждая выглядывала из старомодного цилиндра. Из квартиры нужно было валить. Прибытие нехороших гостей – дело времени. Кусочки начинали срастаться в целую картину. Счастливая была жива. Горло перерезали ее сестре, о которой никто знать не знал. Или все отлично сыграли дурачков. Хотя циркачи с фонарем были так перепуганы, что и не подумали бы соврать. Потому что черный маг паучьей тенью навис над всей платформенной тусовкой. Это раз. Два – какой им от этого вранья прок? Да им срать на Счастливую, лишь бы самих не тронули. Я запустил представление по очередному кругу, чтобы взглянуть на номер теперь, когда никаких сомнений насчет убийства не оставалось. Но глаз уже настолько замылился, что пришлось отвлечься и пойти перекурить на балкон. Сирен слышно не было. Пока. Холодный воздух привел в чувство, коньяк подпитал мозг, а сигаретный дым добавил спокойствия. Дело было за малым – сесть и разобрать все имеющиеся детали по косточкам. Уже во время третьего просмотра я понял, что мне не нравилось в записи. На картинке происходило все то же самое, все наизусть выученное, но при этом другое. Дело было в платформе. Гладкая и будто пять минут назад рожденная на свет сцена, что я видел днем, в точности копировала экранную. И разницу заметить было практически невозможно. Но я заметил. Пусть и слишком поздно. Когда маг со своим жезлом проходил справа от куба, на пару секунд в кадре подсветились длинные царапины на платформе. Сегодня их там уже не было. Через сорок минут я принялся изучать программку вечернего мероприятия в «Платформе» и сразу отыскал самое интересное. Номер одиннадцать, «Невероятное исчезновение человека из клетки с тигром». Пройдя по улью, нашел команду «одиннадцатых». Судя по времени, ребятам оставалось минут двадцать до выступления. В комплекте имелись и чудотворец, и сексапильная помощница в мини-юбке, и, конечно, тигр. – Кто главный? – спросил я, обнаружив знакомые царапины справа от центра сцены. – Че?! – поинтересовался чародей. – Пошел на хер отсюда, щас охрану вызову, тебе яйца оторвут, не пугай животное, ты, скотина, дайте же сосредоточиться уже, твари драные! Я прервал этот поток сознания ударом в живот. Великий маг согнулся пополам. – Слушай сюда. Где была твоя платформа позавчера вечером? – Где-где, – прокряхтел он, – в клетке и была, где ей быть, не выступали мы, Нуара в лечебницу возили, сожрал он что-то, мудаки бросают всякую херню потому что. Я ударил по почкам. Маг упал на колени. – Вторая попытка. – Ты кто такой вообще?! – взвыл волшебник. – Третья попытка. Я замахнулся, но укротитель тигров застонал и затряс руками: – Ладно-ладно, угомонись, я здесь вообще ни при чем, говорю ж, Нуара увезли, а мы проплатили участие уже, деньги жалко ведь… – Ближе к делу. – Она подошла и попросила платформу, сказала, что у них там чего-то поломалось, просто на время, обещала компенсировать, не всю сумму взноса, конечно, но хоть что-то. А после выступления я чуть дуба не дал, заплатил технику, чтобы тот помалкивал, отвез платформу назад, так и знал, что жопа будет. Я обошел клетку. Под лапами тигра виднелись сборные панельки из дерева, наверняка и тут загадка фокуса была простецкой. Центр платформы тоже маркировали едва заметным указателем. А чуть позади него, в том месте, которое должно быть скрыто от глаз зрителей, сцена чуточку отличалась по цвету. Я присел рядом и разглядел тайник. Сделано отлично, даже с трех шагов подвоха не обнаружишь. В платформе вырисовывается малюсенький схрон, прикрытый материей, которая изображает металлическую поверхность. Дырка такая крошечная, что поместится там только карлик или ребенок. Или худенькая гимнастка. – Кто к тебе подошел? – спросил я, хотя уже знал ответ. – Рыжая ихняя, та самая и подошла. Счастливая, черт ее раздери, в гробу переверни. Вечер обещал быть веселеньким. На черном полотне неба бесновался снежный призрак. За серой пеленой растворялись звезды. Ветер заползал даже за воротник пальто. Паром стоял у причала, но народ не пускали. Толпа перекрикивалась, материлась, толкалась и проклинала всех подряд. Людям не хватало только транспарантов и лидера с мегафоном. – Мне плевать, я билет оплатила! – Почему так мало мест, что за херня?! – Вокзалы закрыли! Сосед звонил, грит, мост опять перегородили! Крандец городу, правительство давно отсюда свинтило! – Люди, ну будьте людьми! Не видите, с детьми же! Ветер подхватывал голоса и сбрасывал в ледяную воду. Паром лениво качался на волнах, брызги летели на берег. Пахло птичьим дерьмом. Меня заметили раньше. Хрупкая тень отделилась от толпы и нырнула в ряды грузовых контейнеров. Я двинулся следом. Электрические фонари освещали площадку с людьми, а здесь клубилась темнота. Жестяные лабиринты уходили под снег, седая сыпь накрывала погрузчики. Крики чаек разбавляли воинственный гул толпы. Мы углублялись в лабиринты доков, паром оставался за спиной. Шустрая тень всегда оказывалась на шаг впереди, но теперь я понимал: ей не убежать. Именно ей, потому что коротко стриженный парнишка с пробитым серьгами ухом, с которым мы обменялись быстрыми взглядами в общажном коридоре, и был той самой жертвой. Я представил физиономию Борова, когда приведу к нему живую и здоровую танцовщицу, чье убийство он поручил мне расследовать, и не смог сдержать улыбку. Пазл оказался не из простых, но сложить его удалось. По крайней мере, в моей голове. Счастливая чем-то насолила черному магу или просто привлекла его внимание. Причем самым серьезным образом. И решила устраниться, выдав нагрянувшую сестру за себя. С фантазией у девки все было в порядке, раз удалось провернуть такое убийство. Только зачем эти сложности? Почему не оставить труп сестры в квартире? Теперь она ответит на все вопросы. Расскажет о маге. А потом я разберусь и с ним. – Красавица, выходи! – нараспев произнес я, и эхо зазвенело среди контейнеров, путаясь в цепях над головой. Ветер сюда не пробирался, но от ледяного металла веяло смертью. Под морозной коркой едва узнавались цифры. – Я не полицейский. И на сестру твою мне плевать. Я просто отведу тебя к Борову и задам пару вопросов. Прятаться здесь было негде. Оставалось только шагать вперед. Сквозь механические туннели мы незаметно добрались до заброшенного здания верфи, и я вспомнил. Вспомнил слишком поздно. Когда закурил и на секунду отвлекся. От удара трубы из темноты увернуться было невозможно. Очнулся я внутри метрового куба. Передо мной сидела она. На голове рыжий ежик, в ухе сплетение колечек, даже под бесформенной мужской одеждой угадывалась точеная фигура. – Ну, привет, что ли. Счастливая молчала. Она уперлась в противоположную стенку и на меня не смотрела. Грани куба, естественно, бумажными не были. Волшебный фонарь, к которому за два дня я так привык, заменили на ящик из непробиваемого стекла. Пошарил по карманам, проверил – телефон и оружие забрали. Зато под ногами нашлись пачка и знакомая зажигалка. В верхней части куба виднелось мелкое отверстие. Ни одной дверцы или петли я не отыскал, но как-то сюда нас поместили. Не через дыру ведь, куда и половина задницы не пролезет. Значит, велика вероятность, что куб наскоро слепили для одноразового использования. Прозрачные стены намекали на грядущее шоу. – И не жалко тебе было сестру убивать? – спросил я, заваливаясь на спину и ударяя ногами в крышку будущего гроба. – Да пошел ты! – впервые подала голос Счастливая. Развернуться тут было негде, мои движения вдавливали девушку в стенку. Счастливая и не думала помогать. Я долбил ногами это чертово стекло, но оно отзывалось лишь безразличными вибрациями. Силы совсем кончились, когда вокруг собрались люди. Перед тем как ящик накрыли черной материей, мне показалось, что в углу появилась брешь. Снаружи что-то происходило. Нас сдвинули с места и потащили. – Такая молодая и красивая, но такая долбанутая, – проговорил я, пытаясь отдышаться. – Заткни пасть! – Да еще и невоспитанная. – Если бы не ты… Я поднял пачку, внутри оказались три сигареты. – Если бы не я, тебя бы еще прошлой ночью забрали. Или грохнули. Он тоже в квартире был. Угостить? Счастливая выбила сигарету из рук, и ящик остановили. Послышалось гудение многочисленных глоток. Я догадывался, что сейчас произойдет. – Сегодня я показал вам суть китайского трюка с фонарем, – прогремел голос снаружи. Он звучал отовсюду. Похоже, черный маг использовал колонки и микрофоны. Настоящий концерт. – Настал черед наказать лжецов. Тех, кто служит обману. Тех, кто одобряет существование псевдомагии. Покрывало улетело в сторону, и в квадратный аквариум вернулся свет. На нас смотрела маска с белым пауком вокруг глаз. За неподвижной фигурой в темноте здания проступали десятки силуэтов. Любители экзотики. Извращенцы. – Ты ведь за фотографией с номером вернулась? – спросил я, пристраивая сигарету меж зубов. – Большая ошибка. Счастливая заплакала. – Ты не врубаешься, что ли?! – всхлипнула она. – Крутого из себя строишь? Я пожал плечами: – А чего грустить? Хотя трепаться мне с тобой некогда. Я выдохнул и что есть силы приложился ногами к верхней панели. В ней открылось окошко, и внутрь полился бензин. Счастливая закашлялась, зажимая рот. А я улыбнулся. Брешь мне не почудилась. – Эти люди дурачили нас, – шелестело эхо. – Они прятали свои деяния за секретными стенами и двойными полами. Но их фокусы смешны. Сигарета в зубах подрагивала, как ни старайся держать ее ровно. Закуривать я не собирался, но с ней было спокойнее. Из-за бензина кружилась голова. Нытье Счастливой становилось громче. Теперь ее фамилия выглядела настоящим издевательством. – Посмотрите на их жалкие попытки выбраться. Так выглядит реальность. Они ничего не могут без своего обмана. Еще бензина. Фонарь должен полыхать по-настоящему. – Он заставил меня сыграть в наперстки, чтобы выбрать себе смерть, – сквозь слезы сказала Счастливая, когда сверху потекла новая волна горючего. – Если не нашла бы шарик, то сгорела бы заживо в тот же день. Но я угадала. И он отпустил. Отпустил передать послание. Я ее уже почти не слушал, все мысли были заняты расширяющимся в углу отверстием. В конце концов, святой отец из меня никудышный, и со своей исповедью девчонка не по адресу. – Отсчитал мне время до представления, – не затыкалась она, переходя на бессвязное бормотание. – Или я жертвую собой… дал мне эти приглашения… по его задумке, окончательно распугивая… остальных, или он припасет мне такую участь. Пострашней сожжения… Он как будто питается страхом чужим… Олеся приехала, мы давно разругались… Я думала, вдруг… Ведь могло получиться. Этот больной маньяк должен был поверить, что я все сделала, как он и сказал… Отстал бы… Надеялась… У сестры СПИД… Я просто хотела спастись, уехать из города, выжить. Дыра расползалась, верхняя панель ходила ходуном. Жаль только, времени совсем не оставалось. На импровизированной сцене из бетонных блоков возникла девушка с факелом. В «Платформе» такую бы и на подтанцовку не взяли, слишком страшная. Остальные помощники разбежались. Черный маг так и не сдвинулся с места. – Теперь не будет никаких фокусов! – объявил он. – Не будет потайных дверей. Не будет вранья. Вы все увидите своими глазами. Огонь решит судьбу каждого. Человеческие истуканы в тени, как завороженные, наблюдали за пламенем. Счастливая закричала, молотя руками по стенкам. Она кашляла, плевалась в истерике, разбивая костяшки пальцев в кровь. Я снял ботинок и зачерпнул столько бензина, сколько сумел. Черный маг нависал над самой головой. Улыбчивая помощница с факелом подошла ближе, в ее глазах читалось абсолютное безумие. Стеклянная задвижка уползла в сторону. К бензиновой вони прибавился запах дыма. – Это и есть настоящее волшебство, – произнес маг, и динамики зашипели. Через отверстие в крышке я плеснул бензином прямо в помощницу. Ботинок оказался не самой удачной катапультой, но горючка попала на факел и вспышкой огня ударила в лицо девушке. Она отпрянула, завизжала. В толпе кто-то закричал. Я резко выпрямился и с третьего удара снес разболтавшийся край верхней панели. До чудесного спасения оставались секунды. Уже вываливаясь в небольшой проем, я услышал крик Счастливой. По спине побежал огонь. Помощница успела бросить факел в нашу клетку. Я грохнулся наружу, скинул пальто и швырнул его в мага. Затушил всполохи на одежде, откашлялся. Перед глазами все плыло и плясало. Счастливая плавилась в прозрачной тюрьме, девчонку было не спасти. Помощница мага каталась по полу и вопила, пытаясь погасить слизывающий лицо огонь. Сам же маг стоял на коленях и дрожал, раскинув руки. С пальто на него переползал огонь. Я отыскал тару с бензином и окатил психа. Вспыхнув, точно спичка, он не произнес ни звука. Казалось, за складками материи и сморщенным рисунком паука пряталась улыбка. Огонь жевал покрытые бензином плиты и распластанные на них тела, но зрители не разбегались. Они наблюдали. – Самый лучший трюк, – раздалось из ниоткуда, – это трюк с двойным дном. С отвлекающей обманкой. Маг поднялся, и только тут яразглядел всю картину. Огонь не уходил дальше пяти метров от фонаря – он упирался в прозрачные стены. – Вы только что видели невероятное вызволение. Что ж, не могу не признать мастерство исполнителя. Но такой финал нам не интересен. Стены росли до самого потолка. Они были из того же материала, что и фонарь. Аквариум внутри аквариума, гребаная матрешка. От рук и туловища мага вверх тянулись тонкие тросы – тянулись туда, где поблескивали ряды разбрызгивателей. – Этот человек оказался слишком любопытен. Он решил, что может противостоять мне. Поэтому он должен отправиться вслед за остальными глупцами. За теми, что возомнили себя кудесниками, не зная ничего о магии. Подвешенной к потолку марионеткой больше не управляли. Она облезала, с нее сползали горелые лохмотья и лоскуты маски. Теперь я понимал, что мясная туша на тросах гораздо крупнее любого громилы. Изуродованное лицо с кляпом во рту не опознал бы никто, но по фигуре, часам, кускам дорогой одежды из-под бесформенной робы Борова вычислил бы любой обитатель «Платформы». С потолка хлынула вода. Я принюхался. Нет, не вода… За секунды все заволокло пламенем и черным дымом. Огонь стал живым. Он бросался на трупы и проглатывал их целиком, чудовищными фигурами вырастая до самой крыши. Толпа довольно гудела. Последняя сигарета сломалась пополам, но расстраиваться было некогда. Я уперся в стену, пытаясь сохранить сознание и припомнить, как отсюда уходили помощники. За несколько секунд найти дверцу в этой дьявольской конструкции я не смог бы и в лучшем состоянии, но в такие моменты очень хочется верить в чудеса… С той стороны стекла на тросах спустился черный маг. Здоровяк в маске с паучьими лапами. – Это мое лучшее шоу, – сказал он. Прежде чем меня смело волной жара, я успел запихнуть в рот сигаретный огрызок и крутануть колесико любимой зажигалки. Всегда знал, что курение меня погубит.Человек-банан
Желтые сморщенные листья бежали по пустынной дороге, словно эфиопские детишки за палкой колбасы. Осенний ветер, как строгий извозчик, гнал их по темным улицам, бессердечно сводя на нет все труды местных дворников. Славный город Подольск, отсмотрев вечерние новости и размазав по обоям попавшихся на глаза комаров, медленно погружался носом в подушку. Афанасий шагал в сторону дома вот уже пятнадцать минут. Его очередное свидание с милой, на первый взгляд, девушкой Верой закончилось совсем не так, как он планировал. И теперь его спутниками в ночной прогулке выступали только опустошенный бумажник да железобетонная эрекция, унимать которую вновь придется собственноручно. Под взором одноглазого кривого фонаря Афанасий протопал мимо автомобиля, который будто вернулся из сафари по аду. Прогнившая насквозь рухлядь ярко-рыжего цвета смотрелась среди припаркованных иномарок, как итальянский костюм на посетителе чебуречной. Еще одна деталь привлекла внимание – на матовом лобовом стекле красовалась большая шкурка банана. Машину словно выбросили тут, просто не найдя подходящего по размеру мусорного ведра. Афанасий с улыбкой обвел взглядом спущенные колеса этой мечты автогонщика и ступил на тротуар, ведущий к круглосуточному магазину. Толстая продавщица переписывала в кроссворд правильные ответы с последней страницы журнала. Этот умственный труд не должен был остаться без поощрения, и в качестве приза за столь необычный подход к решению проблемы перед женщиной лежало огромное пирожное. Завидев посетителя, продавщица шустро спрятала истекающий вареньем ломоть выпечки под прилавок и обратила к вошедшему все три подбородка одновременно. – Здравствуйте, – следуя заветам бабушки, культурно начал разговор Афанасий. – Дайте, пожалуйста, пачку сигарет. – Каких? – спросила продавщица, невольно сползая взглядом под прилавок. – Чтобы можно было курить, – безразлично бросил Афанасий, разглядывая ценники. – Только не слишком вонючих. Когда продавщица с превеликим трудом отсчитала сдачу и Афанасий покинул магазин, на улице похолодало. Усилившийся ветер швырял в лицо подобранную с асфальта пыль, а желтое лунное бельмо на мрачном небе будто приобрело голубоватый оттенок. Вспыхнувший под носом огонек зажигалки выхватил движение в темноте, и только что купленная сигарета грохнулась изо рта прямиком на свидание с чьими-то подошвами. Афанасий смотрел перед собой, не смея пошевелиться. Во мраке сгущающейся ночи пробежало что-то большое и желтое. Афанасий почувствовал, как холодеют уши. По ногам запрыгали мурашки. Он мгновение промедлил, собираясь с мыслями. В конце концов, мало ли кто там может быть… Афанасий достал новую сигарету, посмотрел по сторонам и, не заметив никого вокруг, прикурил. Табачный дым придал уверенности. Афанасий отбросил странные мысли и спешно направился к дому, который уже виднелся из-за спин карликовых трехэтажек. Пройдя сотню-другую метров, Афанасий непроизвольно вывернул голову влево. Под огромным дубом стоял ужасный автомобиль, который он видел совсем недавно. Только теперь на лобовом стекле не было никаких банановых шкурок. Афанасий услышал шорох за спиной и резко повернулся. За невысоким забором, ограждающим стройку, торчала верхушка огромного банана. Афанасий в недоумении отступил назад и тогда услышал самый страшный звук на свете. Это был настоящий дьявольский смех. Вряд ли кто-то знает, как смеются бананы, но сейчас у Афанасия не было сомнений: хохочет именно похожий на полумесяц фрукт. Жуткое хихиканье расползалось по глухой улице, как школьники после выпускного. Бездумно моргая выпученными глазами, Афанасий каждой жилой своего рыхлого тела чувствовал присутствие бананового ужаса. В голове стали всплывать сообщения о загадочных убийствах в городских переулках. Газетные статьи о появлении в Подольске неуловимого маньяка разом возникли перед лицом, заставляя сердце трепетать от невообразимой жути. Медленно отступая к магазину, Афанасий стал грызть ногти. Этот процесс всегда успокаивал, но сейчас парень даже не чувствовал знакомого привкуса. Страх объял все его существо, проглотив остальные ощущения. Когда из тьмы вылетел серповидный желтый снаряд, Афанасий наконец-то понял, что его положение становится угрожающим. Банановый выстрел оказался не совсем точным, и немного подгнивший фрукт лишь царапнул ухо. В ночи вновь загремел сводящий с ума смех, слушать который Афанасий был уже не в силах. Дверь магазина чуть не слетела с петель, когда туда ворвался спотыкающийся Афанасий. Подгоняемый дыханием ветра, он кинулся к прилавку и в ужасе слегка намочил штаны. Продавщица была мертва. Из ее глазниц на гостя смотрели два банана, воткнутые в голову почти наполовину. Язык вывалился изо рта жертвы, словно перед смертью хотел попрощаться с любимым пирожным, размазанным по полу. Ужасную картину расправы усугублял третий банан. Место, где разместился этот смертоносный бумеранг, говорило только об одном: убийца совершенно безумен. Стараясь не смотреть на погибшую, Афанасий быстро отыскал телефон и набрал номер полиции. Серию заупокойных гудков так никто и не прервал. Парень взглянул на часы и хлопнул себя по лбу, коря за необдуманный шаг. Ведь рабочий день заканчивался в шесть часов, и все полицейские, равно как и пожарные с врачами, уже давно разъехались по домам. Теперь помощи ждать было неоткуда. Афанасий подошел к стеклянной двери, через которую неплохо просматривалась улица. Сумрак подкрадывался к магазину со всех сторон, и где-то во тьме скрывался безжалостный человек-банан, похоже, уже выбравший себе новую жертву. Пляшущие на стекле отблески фонаря издевательски поигрывали тенями, похожими на кладбищенские силуэты. Убедившись, что за дверью чисто, Афанасий ступил за порог. Ночь будто замерла в ожидании, желая посмотреть, чем же все закончится. Афанасий медленно зашагал посередине дороги, стараясь не шуметь и держаться подальше от зарослей деревьев. Но успокаивающая тишина царила недолго. Проклятый ветер тут же потащил вслед за парнем непонятно где найденный кусок пенопласта. Характерный мерзкий звук прогнал по спине Афанасия выводок мурашек и спешно направился распугивать кошек в мусорных контейнерах. Родной дом уже спал. Пустые окошки безжизненно таращились в ночь, а у входной двери болезненно мигала доживающая последние деньки лампа. Афанасий почти поверил, что все может быть и не так плохо, как вдруг перед ним возник убийца. С несвойственной бананам проворностью он спрыгнул с козырька подъезда и врезал парню серповидной желтой головой. Распятый на асфальте Афанасий в ужасе следил за приближающимся врагом. Это порождение фруктового ада медленно раскачивалось из стороны в сторону, будто повторяя какой-то оккультный танец. Лунный свет скакал по гладкой кожуре человека-банана, а ветер задорно трепал желтеющую в ночи верхушку. Вопль сирены раздался настолько неожиданно, что Афанасий едва не закричал. Огни фар скользнули по асфальту, и неподалеку от места разворачивающейся драмы притормозил ярко раскрашенный уазик-«буханка». Маньяк застыл над своей жертвой и, казалось, еще сильнее пожелтел. Из машины выскочили двое нескладных ребят в серых комбинезонах и суетливо стали что-то бормотать. До Афанасия доходили лишь обрывки диалога. – …от самый. – …ящий банан. – Взгляни на ориентировку, точн… – …пускаем? Ночь пронзил лихой свист, и в корпус автомобиля незнакомцев врезалось несколько бананов. Люди чудом смогли увернуться от смертоносных снарядов, которые оставили после себя внушительные вмятины. Водитель бросился к задней двери, но поскользнулся на неожиданно возникшей под ногой кожуре. Раздался хруст ломающейся кости, а вслед ему – заливистый гогот бананового психопата. Афанасий отползал подальше от маньяка, пользуясь тем, что внимание убийцы переключилось на людей из уазика. Парень разглядывал машину своих спасителей, пытаясь распознать надписи. Сквозь густую, как забродивший кисель, темноту и размазанные по корпусу бананы Афанасий увидел пробивающуюся надпись «Специальный звероотряд». Смысл происходящего дошел до него, только когда второй мужчина, увернувшись от очередного разрезающего сумрак банана, добрался до заветной дверцы. Распахнувшиеся металлические створки выпустили наружу целое шерстяное облако. Это были обезьяны. По дороге застучали волосатые лапки, и в небо понесся хоровой рев разбушевавшихся приматов. Обезьяны набросились на маньяка, словно рой пчел на уснувшего у разоренного улья медведя. Банан рухнул на землю, не в силах противостоять невероятной звериной мощи. Во все стороны полетела кожура разрываемого на части бананового монстра. Жизнь человека-фрукта, ступившего на скользкий путь разбойника, подходила к концу. Обезьяны уже сорвали с маньяка кожу и принялись поедать сладкие внутренности. Корчащийся в муках огрызок походил на обреченную живность в бурлящем водовороте пираний. Афанасий больше не мог смотреть на происходящее. Он шустро вскочил и со всех ног бросился к дому. Хотя загадочный звероотряд и спас ему жизнь, Афанасий не одобрял столь жестоких методов работы. В конце концов, банан тоже человек… В квартире Афанасия встречал любимый кот Никита. Немного отдышавшись и потискав мурчащий пучок шерсти, парень пробрался в свою комнату и упал на кровать. Почувствовав под пятой точкой пульт от телевизора, он выудил его оттуда, и темный экран ожил. Передавали ночные новости. Афанасий, засыпая, отстраненно прислушивался к информации об ограблении семьи пенсионеров, а затем диктор стал расписывать очередную бандитскую разборку. Афанасий почти провалился в сновидение, когда на экране телевизора возник фоторобот объявившегося в столице маньяка. Стоп-кадр завис на мерцающем экране, и Афанасий почувствовал новый прилив ужаса в издерганный за ночь мозг. Отличающийся повышенной кровожадностью убийца, по словам очевидцев, как две капли воды походил на огромный ананас.Цифропокалипсис
Ему всегда нравились книжные этажи. Прижатые друг к другу корешки, выцветшие страницы, шелест бумаги. Жук понимал, что больше всего в изгнании ему будет не хватать этого волшебного запаха библиотеки. Тут даже номера страниц писали буквами, а за стенами Башни бушевал совсем другой мир. Оцифрованный. На лбу с каждым ударом сердца пульсировала буква «Ж», полученная при рождении отметка о принадлежности его к группе оборотней. Так уж вышло, что единственные друзья Жука тоже относились к началу алфавита. Азия и Бор ждали на крыше, пришли прощаться. Чуть поодаль докуривал сигарету Филин, которому и предстояло оставить Жука под цифровым небом. – Мне так жаль… – прошептала Азия и полезла обниматься. – Превращайся при любой опасности, понял? Не тяни, сразу превращайся. Так больше шансов… так ты хотя бы сможешь… – Прожить подольше, я понял, – закончил Жук. Под ногами всё ещё виднелась засохшая кровь, заставляя вспоминать снова и снова. Крики, цифру, убитых. Вчера ночью он дежурил на крыше и спутал в тёмном небе оборотня буквы «Ф» с обратившейся восьмёркой. Издалека «Ф» и «8» очень похожи, но Жук различил чудовище, только когда оно оторвало голову первому часовому. А потом и вовсе растерялся, наблюдая за резнёй. Если бы не огнемётчики, четырьмя трупами дело бы не ограничилось. – Там же не только враги, – сказала Азия. – Остались люди, есть и блуждающие буквы. – Ну, всё-всё, – растолкал их Бор, – хватит тут соплями исходить, расценивайте это как вылазку в стан чисел. Как знать, авось вернётся ещё наш Жучара! Жук хмыкнул. В такую перспективу он не верил. Вот наткнуться на флибрусеков, с которых и начался цифропокалипсис, на фанатиков или дикарей – это пожалуйста. – А даже если и нет, – с неуместным весельем продолжал Бор, – какая разница? Годом раньше, годом позже. Мы проиграли, когда они убили последнего Ё. Теперь эту заразу не победить. Так что наслаждайтесь жизнью, дети мои! Жук подошёл к краю и посмотрел вниз. Рёв нарастал, поглощал остальные звуки. Казалось, от него пульсирует даже цифровая пелена, закрывшая большую часть неба. Оцифрованные совсем обезумели. Они кидались на стены, громоздились друг на друга, волнами врезались в металл, размазывая по нему своих же собратьев. Башня держалась. Рядом возник Бор и сунул что-то Жуку за пазуху. Азия вытаращила глаза: – Это что? Это… – Окстись, женщина! – заткнул её Бор, театрально грозя пальчиком и глазами показывая в сторону Филина. Затем прошептал: – Раз ни оружия, ни припасов ему с собой не дают… Филин сбросил с себя человеческое обличье и глядел на границы новых небес, на сцепленные в замки тройки. Вдалеке вспыхнуло, и к земле полетела маленькая точка. Цифровая сеть поджарила очередную птицу. – Держись там, брат, – произнёс Бор. – И соберись. Все ошибаются, усёк? – Усёк, – кивнул Жук. – Вспоминайте меня иногда, хорошо? Азия кивнула, сбрасывая слёзы на румяные щёки. Бор улыбнулся уголком рта и дважды стукнул кулаком в грудь. Мохнатая птица подхватила Жука, и Башня осталась в прошлой жизни. С высоты это место казалось пустым, но Жуку не хотелось проверять, живёт ли кто в здешних пещерах. Филин бросил его на Голодном Пике, чтобы бедолага сразу не угодил к оцифрованным. Валуны и каменные изгибы – плохое укрытие, чего не скажешь о системе туннелей. Но Жук помнил россказни о них, поэтому обходил тьму в горных воронках и двигался как можно тише. Восьмёрок обязательно привлёк бы одиночка на открытой территории, так что выбирать не приходилось. Спустившись с Пика, Жук ступил в проросший сквозь мёртвый город лес.Никто бы и твёрдого знака не поставил на то, что выросший в Башне неумеха протянет снаружи хотя бы пару дней. Жук держался уже месяц. Домом ему стал автомобильный скелет, который со всех сторон оплела зелень. Травы, цветы и листья так спрятали машину, что обнаружить убежище можно было, лишь подойдя вплотную. Цивилизация здесь давно уступила место природе, и о городе напоминали редкие стволы фонарей среди деревьев, обломки зданий да разбросанная по лесу техника. И такое запустение не могло не радовать. Значит, числа сюда не добрались. Жук не отходил далеко от своей берлоги, не углублялся в чащу. Сперва он ел только ягоды и грибы, потом стал охотиться. Звери чувствовали в нём что-то своё и не боялись. А Жук этим пользовался. Все оборотни для удобства носили просторные комбинезоны, чтобы в случае превращения быстро раздеться и не разорвать одежду в клочья. Но за минувшие дни Жуку ни разу не понадобилось обращаться. Он потихоньку привыкал к лесной жизни, частокол вековых деревьев больше не пугал его, широкие ветви заслоняли от цифрового неба, а живущие в кронах птицы каждый раз радовали новыми песнями. Пока всё шло неплохо, и о будущем думать не хотелось. Сто страничек, мягкая обложка, ни одной напечатанной буквы, только нарисованные – но всё равно это была книга. Жук не знал, как Бор утащил её, но о таком подарке не мог и мечтать. Выкрасть из библиотеки томик со словами друг бы не решился, а вот на сборник иллюстраций духу хватило. Жёлтые листы пересекали морщины старости, где-то не хватало кусочков страниц, тем не менее перед Жуком в картинках открывалась история этого мира. Довольная детвора менялась красиво оформленными сказками, коллекционеры возводили целые пирамиды из романов всех мастей, на книжных базарах толкались люди, а писатели лепили на форзацах смешные закорючки. Но чем меньше страниц оставалось до конца, тем мрачнее делался Жук. Цвета уходили, картинки становились чёрно-белыми. Да и содержание иллюстраций менялось не в лучшую сторону. Вот флибрусеки – одержимые копированием сущности, первые заражённые – скармливали тексты компьютерам. Бумажные книги исчезали из магазинов и уходили в подполье. Сеть засасывала буквы в цифровую трясину, физические носители умирали. Жук отложил книгу, он и так всё знал наизусть. Земной шар оплела сетевая паутина, а люди увязли в социальных сетях. С зависимостью от мерцающих мониторов боролись единицы. И в этой системе вырос вирус, который вскоре поселился в людях. Маниакальное желание оцифровать пожирало мозг и по сети передавалось каждому новому заражённому. Живые буквы стали никому не нужны, власть захватили числа. Они тоже были оборотнями, но от старой дружбы не осталось и следа. Цифры очищали базы данных, переводили слова на свой кодированный язык, уничтожали книги и убивали носителей букв по всей земле. Цифровые оборотни были гораздо сильней. Если буквенные оставались людьми, только со способностью иногда обращаться, то числа давно потеряли всё человеческое. Они могли целые дни проводить под личиной оборотня, и никакой экономии сил им не требовалось. Именно числа построили Башню, чтобы сгноить в этой тюрьме остатки оборотней с литерами на лбу, сделать из них рабов. Но буквам удалось отбиться и взять Башню под свой контроль, превратив её в крепость. Последний оплот. Букв было слишком много: иврит, латиница, иероглифы… Каждая община жила сама по себе, а вот цифры держались вместе. Что и предопределило судьбу войны. Община Кириллицы осталась последней. Оторванная стрела подъёмного крана перечёркивала лесную долину, точно заросшая мхом речушка. Здесь частенько водились грибы, и Жук с надеждой принялся за очередной осмотр. Солнце пролезало сквозь кольчугу цифровой сети и роняло на землю причудливые тени. С ветки сосны сорвалась птица, и хлопанье крыльев прогремело над зелёной завесой. Жук прислушался. Возня в зарослях прекратилась. Кроны деревьев едва поскрипывали на ветру, а их жители затаились. Со стороны озера шли звуки. Даже не шли, а бежали. И за ними тоже кто-то бежал. Жук ухватился за ветку, взгромоздился на дерево и схоронился за листвой. Стал ждать. Для себя он вывел одно правило: не высовывайся, если хочешь жить. Оцифрованные, конечно, не могли заразить оборотня, а вот загрызть или разорвать – ещё как. Из зарослей показались двое. Люди без меток. Одетая в зелёную спецовку женщина бежала впереди, следом еле волочил ноги мужчина со здоровенным рюкзаком. А за ними уже трещал лес, стонали сучья, под тяжестью босых чумазых ног пригибались кусты. Один, второй, третий – Жук насчитал пятерых оцифрованных. Грязные туши в лохмотьях ломились вперёд, выли, скулили, орали, не замолкая ни на секунду. Слепые молочные зрачки можно было разглядеть даже из укрытия. Жук расстегнул комбинезон, вздохнул и приготовился к прыжку. Настала пора действовать. Шестой, восьмой, десятый – заражённые выскакивали из чащи, как пчёлы из разорённого улья. Нога на ветке дрогнула, Жук замер. Одно дело – остановить пятерых, а вот с двумя десятками так просто не сладить. Парочка беглецов миновала дерево, где притаился Жук, и теперь он смотрел на их спины. В конце концов, почему буквенный оборотень должен помогать людям? Ведь это они ещё в благополучные времена отказались от использования «Ё», из-за собственной лени и любви к упрощению заменили её на «Е», подписав букве смертный приговор. Как выяснилось позднее, приговор распространялся на весь алфавит. Жук почти убедил себя, что поступает правильно, когда из рюкзака теряющего силы бегуна высунулась кучерявая голова. Это был ребёнок. Полные страха глаза на крохотном личике развеяли все сомнения. На оцифрованных рухнуло двухметровое чёрное тело с шестью гигантскими лапами. Хрустнули кости одного из преследователей. Четыре красных глаза встречали воющую толпу. Каждая лапа Жука заканчивалась крюкообразным когтем, и уже через минуту все они были в крови. Оцифрованные не знали страха, они лезли вперёд, прыгали на оборотня, цеплялись зубами, пытались вырвать глаза. Уродливая буква «Ж» покрывалась липкой коркой, а на землю валились человеческие останки. Жук сбрасывал безумцев, но чувствовал каждый укус. Одним когтем он насквозь пробил живот оцифрованного, и труп застрял на лапе, как дичь на вертеле. Тела разлетались в стороны, размазывались по деревьям, с разорванными глотками навсегда засыпали в траве. Последний оцифрованный затих на полпути к ржавой махине стрелы. Без нижней части туловища он бы далеко и не уполз. Голова кружилась, двоилось в глазах. Обращение всегда отнимало много сил, а уж такого побоища в его жизни ещё не случалось. Жук вернулся к человеческому облику, осмотрел раны и с трудом влез в комбинезон. В багряной траве лежали мертвецы, от запаха выворачивало наизнанку. Как сомнамбула, он побрёл по лесу, спотыкаясь о коряги и царапая лицо ветками. В ушах звенело. Жук не мог вспомнить дороги. Все силы остались в теле оборотня. Следующий шаг ухнул в пустоту, и дружелюбный лес вдруг стал очень и очень высоким. – Ау! Привет, что ли. Хватит помирать тут, валить пора. Ага. Ночь скоро. Деревья смыкались наверху, пряча небо. Яма была метров тридцать глубиной. Колодцы или коллекторы – кажется, так их называли раньше. Перед Жуком сидел толстяк с кружком на лбу. Улыбался и продолжал болтать: – Ты молчун, что ли? Да всё нормально у тебя, ничего не поломал, я уж поглядел. Ага. Ты ж час в отключке валялся. Жук протёр глаза. По ощущениям руки-ноги были целы, голова на месте. Самое главное. – Я говорю, ночь скоро, ага, – не унимался толстяк. – Знаешь, что тут может из земли вылезти? Единицы. Черви-оборотни, ага. – Ты из блуждающих букв? – спросил Жук. – Ага. Целый день тут сижу, людишки чёртовы накопали. И кого ловят-то, видал, ага? Оцифрованные пачками шастают, а они вон чего. – Тебя как звать-то, бедолага? – Ом, – представился толстяк, почёсывая лоб. – Меня Жук. Я из Башни. – Ого, какими судьбами? Хотя какая разница, давай потом, ага? Ты ж ведь должен превращаться в паучка-жучка с липкими мохнатыми ногами, так? Для этих стен как раз такое и надо. Я-то если в пончик, блин, превращусь, толку не будет. От меня и наверху-то толку нет, а в дыре этой треклятой и подавно. Я однажды застрял между деревьев, тот ещё случай был… Ом бубнил и бубнил, словно планировал поведать новому знакомому свою полную биографию. Жук осмотрелся. Вертикальные стены трудности для него не представляли, но нужно было хоть немного очухаться перед превращением. Толстяк вспомнил про червей. Странно, Жуку казалось, так далеко в лес единицы не заползают. В любом случае встречаться с ними не хотелось. Эти существа не чета оцифрованным, они – враги совсем другого калибра. Болтовню Ома прервал шорох сверху. Затем оттуда спустились две верёвки. Вокруг пасти вертикального туннеля толпились люди. Превращаться не пришлось.
– А вот там, в деревьях, всегда часовые. У них даже автоматы есть! А ещё много-много-много ям и ловушек вокруг, чтобы эти безглазые до нас не добегали. Они всё равно иногда добегают, но найти никого не могут, потому что деревья очень хитро растут! Девчушку звали Соня, она и была тем лицом из рюкзака. Два дня Жук с Омом провели в лагере людей, удивительным образом спрятанном в сердцевине леса. Сперва оборотней хотели вытащить из ловушки и отправить восвояси, но в Жуке признали того самого спасителя. Родители девочки предложили им остаться, а Соня вызвалась стать гидом по здешних природным лабиринтам. Ом отнекивался и хотел тихонько сбежать, но передумал, увидев накрытый по такому случаю стол. – Цифры сюда не ходят, так папа говорит. Но всё равно нужно быть осторожными. И всегда-всегда смотреть по сторонам. А меня теперь отсюда и не выпустят. Так мама говорит. Ну, пока не вырасту. Чтобы больше не рисковать. Может, с тобой меня отпустят на озеро? Ты же такой сильный и страшный! А озеро такое здоровское! – Всё правильно родители говорят, ты их слушайся. Там и для взрослых слишком опасно, а для детей и подавно. Никуда не денется твоё озеро, ещё искупаешься. – А почему вы не хотите победить цифры? Вы их боитесь? Тогда бы все смогли везде ходить, и небо стало нормальным, чтобы солнышко разглядывать. – Соня подняла голову и уставилась на переплетение троек наверху, сквозь которое, будто вода из дырявого настила, сочился свет. – И не было бы этих, страшных. Папа говорит, что, если эта сеть накроет всю землю, станет очень-очень плохо. Только ты ему не говори, что я рассказала. Это я подслушала потому что. Жук почесал макушку. К беседе по душам со столь юным и наивным созданием он был явно не готов. – Цифр слишком много. А оцифрованных, – Жук глянул вниз на Соню, – ну, этих, страшных, их ещё больше. В сотни раз. И они помогают цифрам. Они миновали землянки с припасами, сколоченные из дерева столы и лавки, и вышли к дубу необъятных размеров. В диаметре тот был не меньше пятнадцати метров, а огромные ветви походили на корни. Складывалось ощущение, что он растёт кверху ногами. – Ну и толстяк. – Это наш дубовик-великан! – заулыбалась Соня. – Давай поднимемся! Прямо из коры росли ступеньки, а у вершины сидели часовые. Лиственный купол шелестел на ветру, оберегая от взглядов чисел. – Соня, – грозно сказал парень с рыжей бородкой, закуривая сигарету, – нельзя тебе здесь лазить. А ну-ка, марш отсюда! И дружка забирай. – Я только показать! Это же Жук, он нас спас! И победил всех-всех бегунов в лесу. Голодных этих. Рыжий затянулся и махнул рукой: мол, делайте что хотите, только меня не трогайте. Вдалеке над лесом вился дым, перекрывая линию горизонта. Казалось, столб этот царапает даже цифровую сеть. – Горит что-то? – Не, это болотный туман, – ответила Соня. – Из болот. Там всегда туман. Потому что это плохое место. Там маньяк живёт. – Маньяк? – удивился Жук. Он знал, что на болотах селятся двойки, а тут было что-то новенькое. – Ну да, – кивнула Соня. – Злой и страшный. Он специально в лес приходит, чтобы людей убивать. – Из ваших, между прочим, – выпуская дым, произнёс рыжий. – Из наших? – Жук начинал чувствовать себя глухим идиотом, который всё время переспрашивает и переспрашивает. – Не из моих же. Чокнутая буква на людей охотится. – Рыжий сплюнул, затушил окурок о подошву и запихнул его в карман. – Мало нам оцифрованных с числами, так и этот Ё болотный который месяц уже кровь портит. Через полчаса Жук сидел у костра и дрожащей рукой подкидывал в огонь хворост. В это невозможно было поверить, но один Ё выжил. Рыжий не врал, это подтверждали и другие. Рядом на лежанке развалился Ом, задумчиво смотрел на пламя Андрей – отец Сони. Они ждали Лесника. Когда люди отказались от Ё, эти буквы ушли в горы, подальше от всех. Там их и перебили в самом начале войны. Гордость не позволяла им искать убежища в Башне, ведь другие буквы за них не заступились. Последнего Ё убили десять лет назад. Цифропокалипсис восторжествовал. Так казалось до этого дня. – Правда, гулял слушок, – рассказывал Жук, – что одна семья превратилась в изгоев среди изгоев. По каким-то причинам они не ушли в горы со всеми, а просто исчезли. Спрятались, потому что блуждающие буквы о них ничего не знали, либо умерли, что самое вероятное. Эту байку в Башне знает каждый. Но никто не верит. – Зря. К костру подошёл низенький мужчина в дождевике, хотя никаким дождём и не пахло. Щуплый, бородатый, в дурацкой шляпе, он напоминал заплесневелый гриб. Лесник откашлялся и присел на бревно. – Я даже догадываюсь, почему они сбежали. Вы про уродов слыхали? – А как же, – кивнул Жук. – Дети, застрявшие в шкуре букв. Неспособные превращаться в человека. – Ага, такое бывает, если писькой тыкать в чужие буквы. Точно говорю, – согласился Ом. Лесник уставился на Ома и замолчал. Будто завис. Толстяк аж заворочался под столь неуютным взглядом. – Дело говоришь, парень. Так вот. Мой дед, земля ему пухом, давным-давно нашёл у тех болот труп мамаши. Свежий, похоронить не успели. Живот был разорван, лохмотья одни. Смекаете? Жук переглянулся с Омом. Андрей подкинул дров в огонь, и пламя довольно заворчало. Тьма спустилась быстро и незаметно. – Так это ведь, как его, звери-рыбы всякие могли ведь, ну, и пожрать, как бы. В первый раз, что ли? – Да скажи ты им самое главное! – не выдержал Андрей. – Сидит, в загадки играет… Лесник улыбнулся: – Мамка была из Е. Вот такая вот любовь межбуквенная. До Жука дошло: – Так ведь урод и в утробе растёт сразу как буква. А без специального оборудования такие роды… – То-то и оно. Чем они думали, пёс знает. Короче говоря, не свезло им. Как пить дать, надеялись: мол, коли буквы похожие, то всё может один к одному сойтись. – Так чего дальше-то было? – Ом подтянулся ближе к огню. – Они ведь все могли передохнуть, ага? Я таких историй, блин, могу столько рассказать, вам всем ушей не хватит слушать. Я вообще однажды по ту сторону болот ночевал как-то, правда, приснилось мне это, ага, но всё так по-настоящему было, словно… – Я видел их год назад, – сказал Лесник, отмахиваясь от болтуна. – Папаша, на самом деле уже глубокий старик, на моих глазах выкопал яму, опустил туда уродца и похоронил. И остался на болотах один Ё. Вот тут и сказке конец. Где-то в лесных дебрях закричала птица, точно жаловалась на грустный финал истории. Ей ответили с соседних деревьев, но вскоре всё затихло. Чернота вокруг густела с каждой минутой. Лес готовился ко сну. – А папаша, стало быть, решил мстить, – подвёл черту Жук. – Скорее, свихнулся просто, я однажды видел свихнутого, так тот вообще неадекватный был, ему что буквы, что люди, что знаки препинания, ага, всё одно, совсем плохой, таким лучше не попадаться, точно говорю. Пока Ом набирал воздуху для продолжения речи, заговорил Жук: – Всё это не важно. Главное, что Ё жив. Вы же знаете, что в Башне огромная библиотека? Так вот, есть там и книжки на забытом языке. Большие. Главные. Старые буквы называют их прародительницами всех книг. Где-то с полгода назад мы расшифровали небольшой кусочек, но толку от него не было. Расшифровали и забыли, только вас, людей, недобрым словом опять вспомнили. Зато сейчас в той расшифровке толк очень даже есть. В общем, остановить цифропокалипсис можно только одним способом: собрав алфавит. Все тридцать три буквы. Ом аж подскочил на месте. Лесник хмыкнул. – И не абы где, а в Долине Букв. Не зря же её так прозвали. – Сказка, – буркнул Андрей, качая головой. – Как есть сказка. – Раньше я тоже так думал, – ответил Жук. Внутри у него всё кипело. – Но не теперь. Он расстегнул комбинезон и вытащил из внутреннего кармана маленькую книжку. Ту самую, с картинками. Положил её на ладонь и стал медленно приближать к огню. Искры поднимались в ночной воздух, не задевая бумагу, но книжка едва заметно отползла в сторону от пламени. Ом чуть не уронил челюсть на живот, Андрей выпучил глаза. Лесник подошёл ближе, присел на корточки рядом с Жуком. Книга шевелилась. – Живая… – прошептал Андрей. – Мать вашу, как так?! – Кровь. Оцифрованные меня погрызли сильно, а книга всегда была под комбинезоном. Пропиталась кровью, и вот… – Чушь какая-то, – не верил Ом, – живые книжки для колыбельных, блин, придумали, да и когда это было? А тут вон она, сама шевелится, вся такая ползёт, и вообще… Жук не знал, что происходит, как это работает, но ему нравилось. Он чувствовал книгу, точно часть себя самого. Мысль, что числа можно остановить, затмила все остальные. Если Ё действительно жив, у них появлялся шанс. Жук раскрыл книгу посередине, на рисунке высилась Башня. – Дайте что-нибудь острое. Андрей протянул нож. Остальные заворожённо наблюдали за Жуком, будто за каким-то жрецом, который вот-вот совершит спасительный обряд. Лезвие скользнуло по запястью. Капли упали на бумагу, и книга взъерошилась, зашелестела страницами. Кап, кап, кап. Книга пила кровь. Нарисованная Башня окрасилась алым, засияли контуры заслонов. На странице расцветали буквы, сплетаясь в послание. Книжка вспорхнула, переворачиваясь в воздухе, набрала высоту и провалилась в темноте, разрывая тишину хлопаньем бумажных крыльев. – Сонька никогда мне не поверит, – с улыбкой произнёс Андрей. – Главное, чтобы в Башне поверили.
Жук удивился, когда Ом вдруг вызвался идти с ним. Опасная затея могла закончиться чем угодно, хотя и важность её нельзя было не осознавать. Самый короткий путь в Долину Букв лежал именно через болота, не самое приятное место, но сейчас делать крюк было нельзя. Оставалось дело за малым: отыскать Ё, убедить или заставить его помочь, дойти до места встречи и ждать подкрепления из Башни… Если крылатая посланница долетела до адресата. Если её не сожрали восьмёрки. Если из книги смогли извлечь нужную информацию. Если поверили трусу, с которым отказались жить под одной крышей. Люди не бросили лагерь, всё-таки это было не их дело. Лесник вывел оборотней из самой чащи, дал пару советов и пожелал удачи. Жук с Омом остались одни. Они шагали по узкой просеке, стараясь держаться ближе к деревьям. Небо выглядело спокойным, лес молчал. Туманная дымка приближалась, протягивала сизые щупальца и выползала за территорию топей. Из белого марева слышалось ворчание болот. – Этот Ё, он ведь, блин, и начудить может. Ну, наброситься там, поломать или в тине утопить, ага, наверняка тот ещё типчик. – Заткнись, – сказал Жук. Шагающий впереди Ом повернулся, нахмурился и хотел уже возмутиться, но его на полметра приподняла земля. Толстяк застыл изваянием, выключив наконец звук. Единицы в шкуре оборотня были слепыми, под землёй ориентировались на слух, ловили чужие вибрации. Холмик чуть опустился, вздыбился дёрн, фонтанчиком прыснула трава в трёх шагах поодаль. Подземная тварь нехотя поползла в сторону леса. Две статуи пришли в движение, когда конечности совсем затекли. Четырёхметровый червь не вывинтился из-под ног и не сожрал обоих. На этот раз пронесло. Туман не позволял видеть дальше своего носа. Под ногами хлюпало и чавкало. Горланили какие-то птицы. Другие. Жук и Ом шли по тропинке, тыча палками под ноги, чтобы не ухнуть в трясину. Как здесь можно было кого-то найти – непонятно. Впрочем, Ё тут умудрялся ещё и жить. Они шагали медленно, прислушиваясь к каждому шороху. Всплески воды раздавались ближе, тропинка таяла на глазах. Кругом переговаривались лягушки. Мошкара, хоть и боялась нападать, сопровождала путников с назойливым писком. Лесник предупреждал, что на ту сторону ведёт единственная тропа, и ориентир в виде метровой коряги-каракатицы они уже миновали. Вот только без Ё на той стороне делать было нечего. – Кто такие? Отвечать быстро. – Буквы, – сориентировался Жук. – Не вздумайте превращаться, если хотите жить, – казалось, говорил туман. Голос слышался отовсюду. – Что надо? – Помощи. Мы ищем Ё. Болото затихло. Даже лягушки затаились и ждали ответа. В туманном мороке, точно в паутине, запутались солнечные лучи. – Рассказывай. И Жук рассказал. Всё и в красках. О книге, о Башне, об алфавите, о затянутой над миром цифровой петле, которая вот-вот совьёт последний узел. Умолчал лишь о лагере людей, чтобы не испытывать судьбу. – Зачем мне вам помогать? Нам никто не помогал. Никогда. Жук не находил, что сказать. Ом, похоже, изначально самоустранился из числа переговорщиков. – Это же шанс. Последний. Ведь и вы – последний. Если у нас не получится, то цифры уже не остановишь. – Я их останавливаю здесь. Как могу и умею. – Да, но этого мало, – продолжал давить Жук. Он чувствовал, что голос Ё уже не так грозен и категоричен. – Ведь погибнут и люди… – Поделом. – …и буквы. Нас уничтожат. Всех. Ё молчал, и Жук решился на запрещённый приём. На который не мог не отреагировать отец, похоронивший своего ребёнка. – Ладно мы, но как же дети? Знаете, сколько детей в Башне каждый день плачут, слушая вой оцифрованных? Тишина. Тягучая и страшная, будто вот-вот должно что-то произойти. Ветер не треплет войлок тумана, через воду не пробиваются пузыри. Болото изображает кладбище. – Идите. Ждите на той стороне. Они торчали там больше часа. Туман потихоньку отступал, светлело. Ом вертел головой, встречая взглядом каждый хруст из зарослей. Жук не сразу различил Ё в молочной завесе, потому что тот был седой. Длинные волосы, борода, даже брови – всё точно снегом присыпало. На усталом лице кольцами свернулись морщины, так что можно было сосчитать возраст Ё, как на пеньке. – Чего замерли, идём! – скомандовал Ё. – Если поторопимся, часов через шесть будем на месте. Старик провёл их сквозь травный пролесок, по мосту перемахнул через ручей. В воде Жуку померещилась большая змея, но оборачиваться он не стал. Несмотря на возраст Ё, за ним было не угнаться. Они пролезли сквозь бурелом, обошли громадный муравейник и спустились в яму. Вернее, даже не в яму, а в настоящую траншею, зигзагом уходящую в лесополосу. О происхождении этой подземной тропинки Жук догадался сразу, невольно задержав дыхание при спуске. Так они и одолели большую часть пути. Войдя в старый ельник, троица остановилась. Над деревьями, распахнув круглые крылья, парил оборотень. – Восьмёрка? – спросил Жук, проталкивая ком глубже в горло. – Не знаю, – пожал плечами старик. – Не видно. Говорливый Ом молчал уже бог знает сколько. В воздухе висело ощущение тревоги. Приближалась Долина Букв. Лесная прогалина вела прямо к ней. Долину прозвали именно так, потому что с высоты, если верить летунам, можно было различить на земле контуры букв. А ещё, согласно старой легенде, здесь зародилась первая живая книга. Две огромные птицы перечеркнули небо, и Жук их узнал. Теперь никакой ошибки. Это были Ф. – Наши! – радостно воскликнул Жук и побежал. – Это же наши! За спиной раздался один-единственный чавкающий звук. И почти одновременно с ним хруст. Словно сухую ветку переломили о колено. Щёлк! И вместо одной деревяшки стало две. Жук почувствовал, что задыхается. Вся кровь организма барабанила в виски. Еле-еле шевеля ногами, Жук повернулся. Перекушенный пополам Ё лежал в две разные стороны, вокруг набухала красным трава. Над ним стоял Ом в лохмотьях, одежду он снять не успел. – Нету, нету теперь вашего последнего, ага, – сказал он и оскалился. – Никакого алфавита. Точно говорю. Жука трясло. Глаза застилали слёзы. Ом, хотя какой, к чёрту, Ом, виновато развёл руками: – Как-то само собой оно всё вышло, не знал же я ни про какого Ё, случайно в яму попал, а потом ты ещё. – Убью… – процедил Жук. – Попробуй. Хотя не советую, ага. Не нравится мне Ом, дурацкое имя. Только Ноль ещё хуже, поэтому друзья зовут меня Зеро. Но вообще-то, точно говорю, здорово мной быть. Всегда ваши путаются, смешные, вот как ты. Из комбинезона Жука показался первый коготь, конечности превратились в чёрные лапы. Туловище распухло, голова втянулась. На шкуре проклюнулись глаза. Зеро просто лопнул, и вся плоть срослась в громадное кольцо. Оборотень состоял из пасти. Снизу росли настоящие сталагмиты, сверху хлопала гильотина из зубов. Эта тварь не могла даже проглотить кого-то – только перекусить. Грызть, рвать и убивать. Для того Зеро и появился на свет. Жук попробовал обойти цифру, но кошмарная челюсть на муравьиных ножках поворачивалась вслед за ним. Тогда Жук бросился прямо в пасть. Зеро никак не ожидал этого и чуть запоздал, смыкая челюсти. Паукообразное тело пронзило нулевого оборотня, словно цирковой лев – горящий обруч. Хрустнули зубы. Задние лапы Жука упали на землю, но он не замечал боли. Неуклюжий Зеро стал разворачиваться, в спрятанных под жировыми складками глазах мелькнул ужас. Жук мазнул по тучному туловищу когтями-крючьями, и бывший Ом развалился на четыре части. В человеческом обличье оказалось гораздо больнее. Обе ступни были откушены, любое движение отдавалось в культях огненным прикосновением. У тела старика Ё провалилась земля, и возник знакомый холмик. Жук взвыл от боли и ярости. Не хватало здесь только единичек. Он попытался ползти, но ноги будто обвили раскалённой цепью. Жук откашлялся, вытер глаза и поднял голову к небу. Он почти потерял сознание, когда его подхватили трёхметровые ходули. Это был кто-то из Л. Вой окружал долину. Буквам не удалось добраться сюда незамеченными. Судя по звукам, оцифрованных было очень много. Через лес продирались чужие оборотни, в небе кружили восьмёрки. – Только не все, не все же пришли, в Башне должны были остаться… – стонал Жук, когда Л бросил его у Долины Букв. – Господи, Жук! – закричала Азия. – Помогите кто-нибудь! Его ноги… Букв было много, гораздо больше тридцати трёх. Они поверили. Числа наступали со всех сторон. Оцифрованные неслись за добычей. – Они убили, убили Ё… Рядом присел Бор. С брови крохотной струйкой стекала кровь. Друг улыбнулся: – Тут все добровольцы, никого силком не тащили. Мы знали, на что шли. – Нужно было дождаться вас, –качал головой Жук, – всем вместе идти на болота… Но я хотел всё сделать сам. Шея Бора удлинилась и согнулась под прямым углом. Пока оборотень ещё имел человеческий вид, он успел проговорить: – Какие, к чёрту, болота? Оглянись, мы привели с собой все числа в округе. До болот никто бы не дожил. Буквы превращались. Они в надежде смотрели на Жука, но тут же всё понимали. Последний раз залезали в шкуру оборотней, чтобы достойно встретить врага. – Простите меня… – прошептал Жук, когда волна оцифрованных врезалась в первые ряды букв. Бегуны насаживались на выставленные из Ш и Щ колья, умирали, но брали количеством. Река обезумевшей плоти проглатывала оборотней, накрывала с головой. Числа расправлялись с буквами, пока те отбивались от толпы оцифрованных. Побоище превращалось в истребление. Перед глазами Жука была только кровь. Своя, чужая, друзей, врагов… Долина утонула в криках и багровой жиже. Единица ползла прямо к Жуку. Он даже не сомневался, что подземный червь – именно тот, что не добрался до него у тела Ё. Холмик из травы замер в метре от Жука, и оттуда показались два глаза. – Быть не может… – пробубнил Жук, а существо уже вылезало из земли. Размерами оно и в подмётки не годилось единичкам. Из продолговатого тельца росли три щупальца, сквозь безволосую бледную кожу виднелись жилы существа. Пара огромных глаз испуганно шарила по сторонам. Уродец, подгребая щупальцами, уткнулся в Жука и замер. Его кривое тельце выгнулось, что-то хрустнуло. И Жук не смог сдержать смеха, почувствовав, как поглотивший его свет растворяет физическую оболочку. Долина вспыхнула огнями, прямо из земли в цифровое небо вспышками вонзились контуры всех букв. Числа отпрянули. Уродец уже влился в Жука, рядом срастались другие буквы, собираясь в исполинскую живую массу. Великан Т стал растягиваться и расширяться, хребет ощетинился надписями. Буквы ломались, склеивались, распадались и превращались в страницы. Из свалки оборотней росла обложка. С каждой секундой книга толстела, набирала вес, расправляла картонные плечи. Оцифрованные бросились в атаку, но их пожирали страницы, увеличивая в объёмах алфавитное создание. Когда циклопических размеров книга поднялась в воздух, засасывая между строк остатки оцифрованных, числа побежали. Тень накрыла лес, под взмахами книжных крыльев цифры стали разваливаться. Ураганный ветер сдирал с них куски и превращал в пыль. Самая большая книга в истории этого мира поднялась ещё выше и вдребезги разнесла цифровую сеть. Сморщенные тройки сыпались вниз, разбивались о землю и засыхали в пролитой над долиной крови. Небо освободилось. Облака расправили могучие крылья, приветствуя налитый яростью солнечный глаз. Теперь любоваться закатом ничто не мешало.
– Соня, ну сколько можно здесь лазить! – ругался рыжий. – Вот расскажу всё отцу, посмотрим тогда… Девчушка показала часовому язык, но тот уже не обращал на неё внимания. С неба сыпался дождь из троек, а сквозь него летели книги. Тысячи бумажных птиц, следующие за настоящим книжным монстром. – Буквы их победили! – закричала Соня. Размах крыльев у книги был такой, что она с лёгкостью могла накрыть весь лагерь. Остальные томики на её фоне казались соринками в песочных часах. – Как это вообще?.. – буркнул рыжий. – А вот так! – радовалась Соня. – Теперь у нас нормальное небо! Цифр наверху не осталось. Облака разгоняла книжная река, а поднятый крыльями ветер едва не сдувал людей с деревьев. – Живые. Вся библиотека Башни… В лучах заката переливались бесконечные страницы и сплетения слов. Рождённый в Долине Букв фолиант взмыл над линией облаков, за ним устремился и книжный шлейф. Но от общего потока что-то отделилось. Что-то маленькое и юркое. Книжка пробила листву, прошмыгнула мимо рыжего и приземлилась в руках у Сони. Девчушка засмеялась. На обложке был нарисован мохнатый жучок-паучок. Совсем как один её знакомый.
Игорь свернул текстовый документ на мониторе и откинулся на спинку кресла. Понапишут же! Буквы, цифры, оборотни… И за это ещё платить? Вообще-то он редко читал книги, которые переводил в цифровой формат, но эту посоветовали друзья. Говорили, что интересная. Необычная. Ага, не то слово… Он зашёл на «Флибрусек» и загрузил файл. Сайт ждал подтверждения команды перед публикацией текста, но Игорь смотрел на панельку со своим профилем. Ему вдруг стало не по себе. Он хорошо помнил, какие личные данные вводил при регистрации. А теперь «Гарик Звонарёв», известный на сайте под ником Zvonar, превратился в «Гарика Звонарева». Без буквы «Ё». «Флибрусек» выплюнул окошко-напоминание: «Файл Цифропокалипсис. rtf успешно загружен. Опубликовать прямо сейчас?» Игорь с минуту покрутил колёсико мыши туда-сюда, задумался. Цифропокалипсис. Прямо сейчас. Да/Нет. – Тьфу, совсем башку заморочили… – пробормотал он и нажал на кнопку.
Колумбарий
День клонился к закату, а шара все не было. Крохотные облака пытались сбежать от линии горизонта, ветер копался в высокой траве у колодца. Со стороны моря ползла прохлада, распугивая последние солнечные лучи. Старик подхватил ведро с водой и зашагал по каменистой тропинке к дому. Следом двинулся Иафет, волоча свою несуразную тушку на коротких лапах. Пес старался не отставать от хозяина, успевая при этом ворчать на болтающихся в воздухе насекомых. Глядя, как неуклюжий бассет забирается по ступенькам, старик в очередной раз подивился его чудно́й породе. Иафет уткнулся носом в дверь и с важным видом завилял хвостом. Пропустив собаку внутрь, старик обернулся к солнцу. Последние облака растворялись в спускающихся сумерках, тени выползали из углов, а силуэт маяка приобретал какой-то зловещий вид. В небе не было ничего. Никакого воздушного шара. И старику все это очень не нравилось. На печи вода вскипела быстро, и старик уселся за стол с кружкой травяного чаю. Вокруг огарка свечки колыхались тени, за окнами выл ветер. Иафет развалился на своей лежанке у стены, и огромные уши прикрыли его глаза. Вскоре к треску горящих головешек прибавилось собачье сопение. Старик размышлял. Если шар не прилетит и завтра, приготовленные урны придется распихать обратно по ячейкам. Такого не случалось никогда, за многие-многие годы хозяин колумбария успел забыть собственное имя, потому что некому было его произносить, но шар всегда выплывал из зарослей облаков, как только солнце добиралось до самой высокой точки неба. Что могло случиться там, наверху, страшно было даже предположить.Факел чадил и сыпал искры в ночь. В облаке света шел старик, а темнота пожирала его следы. Стоящий на скальном выступе маяк был хорош – стройный белоснежный исполин с чешуей из гладких лестничных ступенек, которые оплетали его тело, словно виноградная лоза. Единственное, что умаляло его величие, – это циклопических размеров здание колумбария, на фоне которого терялась даже такая громада. – Я же велел тебе остаться в комнате, – сказал старик, но Иафет уже просеменил мимо. Старик понимал, что Иафету все сложнее преодолевать некоторые препятствия в силу возраста, но не мог себе позволить запереть собаку. Тысячу, а может, и все две тысячи лет назад, когда его борода еще не была такого пепельного цвета, а Иафет только осваивался на острове, старик вызволил его из кустов шиповника. Крошечный щенок влез в самые заросли колючек и запутался в них ушами. Он жалобно скулил, пытаясь вырваться из плена, но цепкое растение не отпускало. Старик вытащил собаку, и та уткнулась холодным носом ему в плечо. Тогда-то старик и осознал, что это живое существо станет единственной радостью, которая будет скрашивать дни хранителя колумбария. Он понятия не имел, кому наверху пришла мысль прислать Иафета, но теперь не представлял себе другой жизни. Пускай поначалу находка этого комочка шерсти в обычно пустой корзине воздушного шара и не вызвала особой радости.
Поднявшись на самый верх, старик отворил дверь. Иафет просочился сквозь щель, не давая себя опередить. Больше маяка он любил разве что прогулки у береговой линии. Не зажигая сигнального огня, старик посмотрел в подступившую ночь. Море бесшумно колыхалось у подножья скалы, черными брызгами хватая холодные камни. Луна так раскрасила полоску воды, будто в глубине затаилась огромная светящаяся рыбина. Россыпь звезд глядела на забытый всеми кусок земли холодно и безразлично. – И все-таки тут очень красиво. Иафет среагировал на голос, поглядев на хозяина умными глазами. Подъем на маяк дался псу нелегко, и теперь его язык свисал к полу вровень с ушами. – Что скажешь? Пес только облизнулся, продолжая пристально смотреть на старика. – Что же случилось с шаром?.. Неужели у них там места кончились? Не может ведь быть такого, никак не может. Но Иафет уже не слушал, он проковылял в затемненную часть башни и стал что-то вынюхивать. Старик улыбнулся и подпалил вязанку дров, сложенную в специальной нише. Затем проверил все зеркала и линзы. Пока огонь нехотя обволакивал дерево, снаружи громыхнуло. Далеко, за горбатыми рифами, занималось зарево бури. На востоке сразу стало чуть светлее, когда горизонт перечеркнули первые молнии. – Пойдем, Иафет. Похоже, к нам движется гроза. Плохой сегодня день, очень плохой. Иафет выполз из темноты, морду покрывал слой паутины. Громко чихнув, он с готовностью выскочил наружу, цокая когтями по каменным ступенькам. Старик еще с минуту смотрел в черноту за стеклом, пока вокруг разгорался сигнальный свет. Увидеть его было некому, маяк лишь притягивал тот улов, за который отвечал старик. И он не сомневался, что завтра утром сети не окажутся пустыми. – Очень плохой день, – повторил он. Вдалеке отозвались раскаты грома. В месте, откуда приходил шар, по небу размазывались красные вспышки. Когда на землю упали капли дождя, кругом властвовала ночь. Только маяк ронял в море свет, да едва заметный огонек проглядывал на высоте первого этажа колумбария. Так засыпал этот мир.
Утром старик сидел на прибрежном валуне и наблюдал, как Иафет играет с волнами. Едва вода откатывалась обратно в море, пес с отважным лаем топал следом, но тут же давал деру, спасаясь от новой волны. Отпечатки лап на песке быстро затапливались и растворялись в соленом потоке. Старик улыбался, хотя и знал, что после таких пробежек Иафет отсыпается минимум до вечера. В первых сетях обнаружилась только рыба. Старик не стал ее забирать и оставил до следующего раза. Сейчас его интересовало совсем другое. Урны оказались всего в двух крайних сетях – гораздо меньше обычного. Они были совершенно разные: одни напоминали вазы, другие – шкатулки, некоторые и вовсе походили на самые натуральные гробницы с крестами и могильными плитами. Объединяли их только наглухо заделанные крышки, чтобы прах не вымыло наружу во время морского путешествия. Набив уловом мешок, старик побрел наверх мимо древних каменных скульптур, которые, словно стражники, охраняли проход на скалу. Пасмурное небо выглядело еще печальнее, чем вчера. Старик был почти уверен, что шар не прилетит и сегодня. А может, и вообще никогда. – Иафет! Мокрая, грязная, но очень довольная собака перестала терзать водоросли и потащилась за хозяином. Над крышей кружили черные точки – птицы, будто напоминая, что сперва колумбариями называли голубятни. Теперь же, когда это место стало хранилищем урн с прахом, голуби бывали тут редкими гостями. Старик прошел единственную жилую комнату и остановился напротив пустых ячеек первого яруса. Ему не нужны были надписи на урнах, он и так мог рассказать все о людях, прибывших на эту перевалочную станцию. Их дальнейшая судьба открывалась ему сразу или через много лет, яркими картинками или полупрозрачными штрихами. Кому-то из них предстояло ждать решения несколько дней, кому-то – веками, но так или иначе все уходили либо на шар, либо во впадину. Бесконечные ряды ячеек тянулись во все стороны, превращая стены колумбария в безумную систему окон, за каждым из которых скрывались людские души. Десятки тысяч урн с прахом заполняли хранилище сверху донизу, поднимались под самую крышу и спускались на подземные уровни. Старик-смотритель год за годом раскидывал по свободным местам выловленные в море урны, а за ночь на зов маяка откликались новые умершие. Они стекались к его обители, желая побыстрее преодолеть последний шаг на пути к вечности. Очередная урна обдала старика волной холода. Он увидел, как все произошло. Девочка лет десяти возвращалась домой из школы в компании подруг. На перекрестке было слишком много машин, и один из водителей решил проскочить на красный свет… Затем перед глазами возникли похороны, заплаканные родители. Фотографию улыбающейся девочки в углу пересекала черная лента. Старик поставил урну в свободную ячейку и поморщился. Дети всегда уходили на шар, но что делать, если он больше не явится? Зато судьба водителя была предельно ясна, и оставалось лишь дождаться урны с его останками. Впадина всегда с удовольствием принимала таких, как он. Из библиотеки раздался какой-то звук. – Иафет, ты чего хулиганишь? Дверь в библиотеку была приоткрыта, и оттуда полз тусклый солнечный свет. Старик переступил через порог и оказался в царстве знаний. Пыльные томики заполняли все вокруг, походя на диковинный ковер, сшитый из книжных корешков. Собаки внутри не оказалось. – Иафет?.. – позвал старик. В комнате было тихо. Слишком тихо даже для такого места. Старик огляделся, но ничего странного не нашел. Все книжки стояли на местах, шуму взяться было неоткуда. Вот только старик не сомневался: что-то гулко ударилось об пол минуту назад. Иафет практически слился с лежанкой и всем своим видом показывал, что не горит желанием тащиться до впадины. Старик не стал его тормошить, тем более что на улице собирался дождь. Загрузив урны в небольшую деревянную тележку, он вытолкал ее на заросшую чертополохом дорогу. Колеса нехотя скрипнули, старик толкнул чуть сильнее – и тележка сдвинулась с места. Над головой ворчали серые небеса, в воздухе ощущался запах грозы. Теперь на фоне облаков не было видно ни одной птицы. С силой захлопнулась дверь, и старик, отошедший всего на десяток шагов, врос в землю. Он медленно повернулся к колумбарию, чувствуя усиливающуюся дрожь в руках. На пороге было пусто, здание выглядело как обычно. Из маленьких окон смотрела темнота. – Ветер, – сказал он себе под нос. – Это ветер. Старик часто разговаривал сам с собой, просто чтобы не забыть собственный голос. Но сейчас он его не узнал. Во рту сразу пересохло. – Проклятый шар, – процедил старик сквозь зубы, – все из-за тебя… Впадина раскрыла свою пасть севернее маяка, ближе к другой стороне острова. Неровная дыра в земле размерами была у́же колодца, по краям покоились черные булыжники, словно очерчивая круг. В радиусе нескольких метров всю траву будто сожрал огонь, обугленные скелеты кустов клонились к пепельной земле. Взяв в руки первую урну, старик за секунду увидел всю жизнь умершего. Им оказался никчемный человечек, убийца и наркоман. Для его души альтернатив не было, и урна полетела в черный зев, ударяясь о каменные стены. Следом отправились и остальные, чьи судьбы давно оказались предрешены. Старик на секунду замешкался. Ему вдруг пришла в голову мысль: а не нарушит ли он своими действиями равновесие? Ведь на небо часть урн так и не попала. – Прах к праху, – произнес он наконец и опустил последние урны во впадину. Он делал эту работу уже так долго, что не довести ее до конца просто не мог. Обратная дорога была куда легче, опустевшая тележка чуть ли не сама скакала по колдобинам. В гуще деревьев мелькнула чья-то тень. Фигура казалась слишком большой, и старик сначала не поверил глазам. Быть здесь никого не могло, это место населяли лишь рыбы, птицы и мелкие насекомые. Не считая старика с Иафетом, конечно. Остальные же попадали сюда только в урне в виде праха. По крайней мере, так было до недавнего времени. Когда из придорожных зарослей показалась уродливая черная голова, старик побежал. Он не помнил, бегал ли вообще в своей бесконечно долгой жизни, но сейчас на то имелась причина. И на лице этой причины горели узкие глаза, оранжевые, как свет маяка. Дверь была открыта. Еще не войдя, старик услышал возню в хранилище. Урны с грохотом летели на пол, сыпались стекла в ячейках. Стараясь не шуметь, старик прошел в свою комнату. Лежанка была пуста, только одеяльце, в которое любил заворачиваться Иафет, комком валялось у перевернутого стола. – Иафет… Старик вернулся ко входу и шагнул к двери библиотеки. Визитеры были слишком заняты в хранилище и не слышали его передвижений. Нижние ряды книг засы́пали пол вокруг огромной дыры. Из черной воронки тянулся смрад, от которого кружилась голова. – Иафет?.. – шепотом позвал старик, чувствуя, как к горлу подступает ком. Складки в уголках глаз стали влажными. Раскат грома ударил по ушам, сотрясая стены, и в стекло забился дождь. Одно из окон, едва держась на ржавых петлях, отстукивало на ветру какую-то странную мелодию. – Иафет!!! – старик не выдержал и закричал во весь голос. И тут в комнату медленно вошли они. Горбатые черные фигуры, больше похожие на зверей. В руках у всех были урны. – Мало вам грешников?! – рявкнул старик, глядя в светящиеся глаза. – Как вы посмели сюда вылезти?! Это против всех правил! Убирайтесь! Подземные гости побросали урны и стали окружать старика. В библиотеку входили новые горбуны, комнату заполнило громогласное рычание. – Впадинские выкормыши! Что вам собака сделала?! Старик швырнул в приближающихся тварей поднятую с пола книгу, затем еще одну. Визитеры никак не реагировали, словно изучая новое для них живое существо. Однако расстояние сокращали, и уже очень скоро старик уперся спиной в стену. Под ногами мешались книги и брошенные урны. Из дыры в полу показалась еще одна косматая голова. – Вы все равно сгниете в своей грязной яме… – шепнул старик и закрыл глаза. Он не видел смысла сопротивляться. Похоже, за него уже все давно решили, и многовековая служба оказалась никому не нужна. И тут его словно ударило током. К ноге подкатилась исцарапанная урна, и он узнал ее. Там был прах девочки, которую сбила машина. Старику стало противно от одной мысли, что эта невинная душа окажется внизу. Он схватил урну и бросился к окну, заметив боковым зрением, что тени пришли в движение. Вывалившись на улицу, он едва не захлебнулся в дожде, который сейчас больше напоминал водопад. Старик ковылял к маяку, пробираясь сквозь ливень, спотыкаясь и оскальзываясь. Повсюду вставали горбатые фигуры, они выскакивали из окон колумбария, вылезали из-за деревьев, выглядывали из колодца. Тварей было очень много, и стена дождя превращала их в бесконечные темные кляксы. Теперь старик понял, для чего маяк оборудовали запорами. Раньше ему не приходило в голову, что ими когда-нибудь придется воспользоваться. А сейчас задвинутые изнутри двери перекрыли дорогу существам снаружи. Хотя бы на время. До самой башни им не дотянуться, но дверь не задержит их надолго. В окне плескался мрак. И океан, и береговая линия, и громада колумбария – все исчезло. Только едва заметные черные точки суетились в темноте внизу, стекаясь к маяку. Старик обшарил стол, но не нашел ничего, чем мог бы зажечь огонь. Он не верил, что сигнальный костер способен отогнать тварей, но рядом с ним, по крайней мере, было бы не так страшно встречать свою судьбу. Удары снизу становились сильнее. Старик поставил урну перед собой и вздохнул: – Не такой конец я себе представлял… Тут его глаза уловили пятно света в небе, будто одна из звезд решила спуститься пониже и осмотреться. Огонек парил в воздухе и увеличивался, походя на заблудившееся солнце. – Что… Когда огромный светляк достиг пределов маяка, старик не смог сдержать радости: – Шар! Быть не может, это же шар! Воздушный шар плыл в потоке дождя, качаясь в вихрях, словно лодка на волнах. Старик запихнул урну за пазуху и подошел к настенной лестнице, которая утыкалась в люк. Уже забравшись под потолок, старик услышал, как в темноте ворочаются поленья. Он только сейчас сообразил, что кто-то мог залезть сюда раньше него, ведь дверь никогда не закрывалась. Дрожь в пальцах не давала сладить с засовом на люке, старик впопыхах пытался отпереть створку, а снизу кто-то утробно рычал. Наконец задвижка слетела в сторону, и через открывшийся проход внутрь хлынул дождь. И тогда старик услышал лай. Такой знакомый и родной. – Господи, Иафет! Старик спрыгнул с лестницы, едва не задавив бассета. Тот сразу приник к хозяину, пытаясь встать на задние лапы. – Вот молодец, вот же умница! Иди сюда, нужно убираться. Пристроив передние лапы пса у себя на плече и поддерживая задние рукой, старик стал очень осторожно подниматься на крышу. Иафет был тяжелым, да еще и ерзал на месте, охаживая хозяина языком. Перехватывая лестничные ступеньки только одной ладонью, старик все же смог выбраться наверх. Он чувствовал, как колотится сердце прижавшейся к нему собаки, и по лицу вместе с дождем текли счастливые слезы. Шар был уже у крыши, его корзина, как обычно, пустовала. Купол метало из стороны в сторону, дождь будто старался помешать им выбраться отсюда. Снизу лязгнула дверь – в башню все-таки прорвались. Но старику было уже все равно. Как только они с Иафетом оказались в корзине, шар быстро стал набирать высоту, словно кто-то тянул его за веревочку. Темный маяк удалялся, и ветер доносил только звуки бьющихся стекол в башне да разозленный вой. Старик отдышался и в последний раз взглянул вниз. Буря проглотила остров, и пелена дождя практически стерла скалу из видимости. Величественная махина колумбария превращалась в маленькую точку где-то в глубинах прежнего мира. Хранилище урн с прахом теперь обрело других хозяев. Но одну душу старику спасти все же удалось. Он улыбнулся и поправил металлическую вазу за пазухой. Иафет быстро нашел себе удобное место и улегся спать на кольцах каната. Пес возвращался домой, туда, откуда пришел много лет назад. Шар летел сквозь облака, и огонь под куполом развеивал темноту. Высоко в небе, куда не по силам забраться даже солнцу, расцветал яркий силуэт врат. Старик почесал бороду и устало опустился на пол. Он лишь надеялся, что наверху найдется место и для него. Когда ослепительный свет принял шар, Иафет едва заметно вильнул хвостом. Ему снились другие собаки.
Самые страшные чтения Сборник рассказов
© Авторы, текст, 2022 © ООО «Издательство АСТ», 2022* * *
Александр Подольский Плесень
Шкет был пьян вдрызг. Он подпирал фонарный столб и пытался прикурить. Ливень тарабанил по немытой голове, по рваному бушлату, заливал сапоги. Норовил смыть с тротуара. Шкет выругался. Окна дома пялились на него, осуждали. Давным-давно, когда у Шкета было нормальное человеческое имя, он жил в этой пятиэтажке. Однако со своими гулянками даже не заметил, как оказался на улице. А теперь его и из родного подъезда вышвырнули. Ноги еле-еле волочились по дороге, промокшая насквозь одежда камнем тянула вниз. Городское небо перечеркивали молнии, во дворах ревели автосигнализации. Нужно было где-то переночевать, и Шкет вспомнил о «двушке». С тех пор как везде поставили кодовые замки, жить стало тяжелее. Но бывшее военное общежитие никогда не запирали. Шкет знал, что о нем рассказывали, но во время редких ночевок странностей не замечал. Если не считать трупа кошки, покрытого толстым слоем плесени. Свет не горел даже у входа в единственный подъезд. С козырька тянулись дождевые нитки, покрытая копотью дверь висела на одной петле. Шкет прошел внутрь и замер посреди длинного, во все здание, коридора. Слева и справа уходили в темноту два ряда квартир. Большая часть из них опустела после пожара, но кое-где еще жили. Шкет чувствовал родство со здешними погорельцами, ведь, если они остались в этом склепе, им тоже некуда деваться. Под ногами шуршали куски каменной плитки, по сторонам фанерные двери соседствовали с темными провалами. Мрак пожрал все лампочки, отправив дом в вечную ночь. Шкет, хватаясь за ржавые перила, поднялся на второй этаж. В дальнем конце коридора, у другой лестницы, мелькнул зеленый огонек. Наверное, кто-то из жильцов. Шкет затих. Не хватало, чтобы его и отсюда выгнали. Лестница продолжала загибаться крюком, утыкаясь в чердачную дверь. Шкет приземлился на широкой площадке, которая нависала над вторым этажом. Чердак, запертый аж на три замка, его не интересовал. На грязном полу ему было по-королевски комфортно. Он скинул сапоги, постелил промокший бушлат вместо простыни и завалился сверху. Сон вполз в него быстро и разом высосал сознание из продрогшего тела. Его разбудил звук снизу – то ли кашель, то ли лай. Всюду густел мрак, ветер гудел в щелях старого дома. Пахло плесенью. Шкет привстал и выглянул на лестницу. Этаж исчез, словно здание затопило нефтью. В темноте тут и там вспыхивал зеленый огонек. Шкет шумно сглотнул. В памяти всплыли разговоры с дружками. «Плохой это дом, даже зверье чует». «Поселилось там что-то после пожара». «Думаешь, все сгинувшие жильцы переехали?» Ступенька за ступенькой растворялась лестница на чердак. Шкету стало тяжело дышать. Прогоняя хмель, крепла вонь. Чернильная река поднималась, а вместе с ней что-то еще. Оно на мгновение вынырнуло из укрытия – неправильное, нескладное, огромное. Пальцы не слушались, но Шкет нащупал зажигалку в кармане. Он вытянул руку вперед и надавил на кнопку. Щелк. В маленьком кусочке света Шкет успел разглядеть поросшее мхом лицо. Зажигалка чуть не выпала из руки. Пламени не хватило надолго, и спустя несколько секунд все пространство заволокло тьмой. Лицо было в паре метров от Шкета, а за ним… болотного цвета туловище, вросшее в стены и потолок. Щелк. Никого, только юркие тени на осколках пола. Огонь вновь потух, и что-то дернуло Шкета за ноги. Отсчитав копчиком несколько ступенек, он вырвался и стал ломиться в чердачную дверь. Шкет ее не видел, он не видел вообще ничего, словно ему вырвали глаза. А вот запах он чуял, и от него в животе переворачивались внутренности. Сжимая зажигалку, Шкет повернулся к лестнице. Казалось, тьма залезла в каждый кусочек этого здания, в каждую щель, а теперь решила поселиться и в нем. Руки тряслись, зажигалка в ладошке приросла к коже. Шкет нащупал кнопку, но выпустить наружу огонь не хватало духу. Он знал, что увидит в неровном свете; знал, что никогда больше не покинет этот дом. Шкет знал, что прямо сейчас умрет. В лицо дунула теплая волна гнили, что-то коснулось плеча. Шкет последний раз в жизни поднял зажигалку. Щелк.Денис Назаров Качели
Степан сварил кофе, открыл окно на кухне и с чашкой в руке подошел к настенным часам с кукушкой. Он уже давно не заводил их и правильнее было бы их снять и убрать в кладовку, но он не мог. Они нравились Ане. Она любила их разглядывать. Однажды попросила отца показать, как поет кукушка. Шутила, что хочет спросить у той, сколько ей жить осталось. И сама жутко перепугалась, когда из дверцы выскочила деревянная птичка с жутким неестественным «Ку-Ку!». Аня попросила больше никогда ей этого не показывать, но часы попросила оставить. Степан протянул руку, дотронулся до минутной стрелки и стал вращать ту в обратную сторону, пока не сделал полный круг. Подумал вдруг, как здорово было бы провернуть время назад. Снова начнет светать, наступит день, затем утро, минует прошлая ночь. И если крутить достаточно долго, то можно докрутить и до прошлого года, до того самого утра… С улицы донесся скрип качелей. Степан отвлекся от часов, поставил чашку на стол и подошел к окну. Посмотрел на заснеженный двор. Гирлянды на елке плавно переливались разными цветами. Грудь сдавило и резко стало нечем дышать. Аня всегда любила качаться по вечерам, какая бы ни была погода. И теперь она там. Он рванул в прихожую, накинул куртку, торопливо обулся и кинулся вниз по лестнице. Выбежал на площадку. На качелях никого не было, но они продолжали покачиваться. – Аня! – нерешительно позвал Степан, осматриваясь. Дочери нигде не было. Поспешил через арку в соседний двор и оказался в своем же дворе. Замер на месте и растерянно оглянулся. В арке за спиной стояла непроглядная тьма. Холод коснулся затылка, забрался под куртку. Дрожь пробежала по телу. Скрипнули качели. Развернулся и посмотрел на площадку. Качели высоко подлетали, и девушка на них тихо посмеивалась. – Аня! Степан бросился к ней, но вдруг ноги стали ватными, как во сне. Подвели. Мужчина повалился на мягкое покрытие площадки, скользя ладонями по снегу. Задрал голову. Аня. Точно она. Вот ее бледное лицо, непослушные темные волосы, выбивающиеся из-под белой шапки, вечно хитрая улыбка, будто дочь что-то замышляет. И ведь замышляла… Стало невероятно холодно. Степана затрясло. Что-то схватило его за плечи и ноги и резко потянуло назад, прочь от площадки. – Нет! – закричал Степан, пытаясь удержаться руками, но ладони предательски скользили по снегу. Он пытался повернуться на спину, но ему не удавалось. Цепкие лапы держали крепко, а кожу даже через одежду обжигал холод. Его утянули в темноту арки, и что-то тяжелое резко навалилось сверху, выбивая из легких воздух. Над головой раздался жуткий вопль и повторился эхом под сводами арки, а затем Степана отпустили. Он вскочил на ноги, вытянул руки, пытаясь нащупать хоть что-нибудь в густой тьме, но хватал лишь пустоту. – Папа! – раздалось за спиной. Резко обернулся, дрожа от невыносимого холода, и посмотрел на освещенный желтыми фонарями двор. Вошел в него и взглянул на площадку. Качели стояли на месте, и никого на них не было. Поднялся домой. Пахло чем-то приторным, сырым, испорченным. У зеркала висело фото улыбающейся Ани в шапке Деда Мороза. Год назад они веселились, гуляли, дарили подарки, смотрели на фейерверки и дурачились. А второго января Аня убила себя, убила его дочь, перечеркнув все это, оставив лишь глупую записку, которая ничего не объясняла. Заметив что-то белое на кухонном столе, вошел в кухню. Вонь усилилась. На столе лежал знакомый листочек в клетку с аккуратно выведенными прощальными словами. Их Степан читал уже сотни раз. В чашке с остатками кофе виднелись пятна плесени. Взглянул на часы и прошептал: – Сколько мне жить осталось? – Ку… Вздрогнул и повернулся на голос. В кухню вошла заспанная Аня в своей любимой пижаме с пони. Живая, настоящая. Она подошла к отцу и крепко обняла его, забравшись руками под куртку. Холод обжег спину. – Куда ты ходил? – спросила она. Степан крепче обнял ледяное тело дочери и вдохнул запах ее волос. Они пахли сырой землей и кровью. С улицы донесся скрип качелей. Стрелки на часах за спиной с тихим хрустом сдвинулись с места, но Степан не знал, в какую сторону.Вадим Громов Доброе дело
От ублюдочной улыбки безногого Зимину хотелось блевать и убивать одновременно. Мог бы вцепиться зубами в тощую, кадыкастую шею – не раздумывал бы. Очень жаль, что не мог. – Видишь, Антошка, бывает и хуже, – старуха, мразь, ласково погладила инвалида по редким волосам, чмокнула в небритую щеку. – У тебя только с ногами напасть, а у него, бедолаги, еще и руки, и уха нет. Жизнь, гадина, такая… Лежащий на облезлом дощатом полу Зимин скрипнул зубами, вспомнив, как умоляюще она смотрела на него три дня назад, на улице, размазывая слезы по худому благообразному лицу: «Поговорите с ним! Да, не повезло ему, но ведь и без ног живут-поживают. Христом Богом прошу, он намедни нож себе в сердце хотел воткнуть, насилу отобрала! Это ж недолго, доброе дело-то сделать… Меня и брата слышать не хочет, так может, вы вразумите». Потом был недолгий путь до старого, но крепкого дома с большим, отчасти пришедшим в запустение участком. Хмурый, глуповатый взгляд габаритного, лысого толстяка – второго сына старухи. Сидящий на тесноватой кухне безногий – лет сорока, похожий на актера Трибунцева, – коротко кивнувший при виде Зимина. И – удар по голове, сзади. Беспамятство… Очнулся он, надежно привязанный к верстаку в сарае, когда толстяк прижег отрубленную чуть выше колена ногу нагретым мастерком. Через несколько минут точный и сильный удар топора оставил Зимина без второй ноги. Ухо отрезали чуть позже, а правую руку – спустя день. Старуха умело останавливала кровь и обрабатывала раны, монотонно бормоча о своей многолетней работе в хирургии, а Зимин люто жалел, что не может дотянуться до топора и раскроить ей череп. Сгодились бы гвоздь или отвертка в глаз, но толстяк неотвязно был рядом, начеку, как сторожевая собака – не даст ни единого шанса… Сейчас Зимину хотелось выть и орать матом, но вместо этого он хрипло сказал: – Отпустите меня. Безногий заулыбался еще шире, показывая крупные кариесные зубы. – Отпустим, мать? Мне, вроде как, полегчало… – Сынка, точно? – встрепенулась старуха. – Да не, шучу, – хохотнул он. Почесал бровь и велел стоящему сбоку от Зимина брату: – Васька, завтра не всю руку, а только кисть оттяпаешь. Понял? – Ага, – тот послушно кивнул и наступил на лицо Зимину, прерывая зарождающийся крик. Потом убрал ногу и ловко впихнул в рот тряпичный кляп, сгреб Зимина за руку и поперек туловища, потащил в сарай. Судя по сноровке, Зимин был у него не первым. Далеко не первым… Через пять дней у Зимина остался лишь торс и голова – без ушей, носа и левого глаза. Большую часть суток он проводил в сарае, а вечером его приносили к безногому, и тот смотрел на него – долго, с отчетливым превосходством в глазах цвета жидкого чая. Он всегда молчал, курил, щурился и улыбался. Зимин хотел умереть еще после того, как лишился второй кисти, но смерть не спешила приходить. – Мать, все… – наконец процедил безногий, туша окурок. – Отлегло. Убирайте. Только не стряпай из него ничего – одни жилы. Разве что, – он махнул рукой в сторону брата, – Ваську можешь мозгами подкормить – своих мало, хоть чужих полопает… В следующий раз кого помоложе и помясистей выбирай, вроде того, лопоухого. – Как скажешь, Антошка, – мелко закивала старуха. Потом наклонилась к Зимину, улыбаясь широко, искренне. – Видишь – сделал доброе дело-то… Василечек, пошли. Толстяк унес Зимина в сарай, положил на верстак, потянулся за топором. – Ты на нас не серчай, – скорбно вздохнула старуха. – Жизнь – гадина, такая… Она поджала губы, глядя на Зимина. В ее взгляде не было и намека на раскаяние или сочувствие, только подобие озабоченности. Наверное, о том, как быстро получится заманить сюда еще одного отзывчивого к чужой беде. Толстяк поднял топор, примериваясь к шее Зимина. Старуха вздохнула: – Куда тебе теперь такому-то, без всего, горе мыкать? А Василечек – раз, и все. Доброе… Топор отрубил голову с одного удара. – …дело сделает.Валерий Лисицкий Истина
Деревенская родня Олега оказалась совсем не страшной. Ира даже засомневалась, что приехала в нужную деревню. Вдруг перепутала повороты и оказалась у каких-то радушных незнакомцев? Но нет, пожелтевшие фотографии, развешанные по побеленным стенам, говорили об обратном: Олег, совсем маленький, с мамой, Олег, чуть подросший, с папой… Щекастый карапуз, ухоженный и счастливый. И это именно те люди, которых он называл жестокими и дремучими? Вот эта бабушка, которая веселой курочкой-наседкой снует по комнате, квохча над Ирой и их с Олегом сыном – жестокий человек? Или дед, только посмеивающийся, когда внук хватал его за густую окладистую бороду? И как можно было лишать Андрюшку общения с ними! Телефон пиликнул, на экране появилось сообщение от мужа: «Вы где?!» Затем сразу же новое: «Ира, надеюсь, у тебя хватило мозгов не слушать их уговоры!» И третье: «Ира, бери Андрюшу и уезжай оттуда немедленно!» Она взяла трубку и, опустив руку под стол, выключила мобильник. Пусть попереживает. А то привык орать, чуть что не так… Ира перевела взгляд на свекра, осторожно подкидывающего Андрея на колене, и улыбнулась. Придерживая мальчика руками, старик ласково приговаривал: – А ну, малец, расскажи, Васька Коваль оправится? А корова Настась Федрны как, хорошо отелится? Дожди-то будут летом? Очень ждем мы тут, как ты ответишь, вся деревня ждет, что Ильи Ильича внучок расскажет! Ты же младшенький! За нашей семьей-то исстари заметили… Почувствовав взгляд невестки, старик выпрямился и улыбнулся в ответ. – Молодцы, что приехали, Иришка. Познакомились хоть. А Олежка чего же, не смог? – Работа у него. – Ира пожала плечами. – Работа? У него всегда работа, а тут, почитай, вся деревня с мальцом познакомиться желает. Разве ж может работа быть важнее? Ох, воспитали мы! – Да хватит уже, старый! – вступилась за сына старушка. – Семью кормит, чего ты! – Ну, мы-то тоже семья, – произнес старик и чуть виновато покосился на Иру. Та кивнула, давая понять, что согласна. Родители же. – Только я чего не понял-то. А чего Андрейка все молчит? Стесняется? – Ой, он… – Ира замялась. – Он, ну, как бы… Глухонемой. Резко грохнуло за спиной: мама Олега уронила глиняную миску, которая рассыпалась на крупные осколки. Глаза пожилой женщины стремительно набухли слезами. – Да как же тогда… – Тихо, – голос старика звучал по-прежнему ровно. – Так даже лучше. – Да, не переживайте! – бодрым голосом включилась в разговор Ира. – Он у нас учится в специальной группе, знаете, в Москве сейчас все условия для… Она не успела договорить. Только поразилась тому, как быстро свекор оказался рядом. И чудовищной силе, с которой он ударил ее кулаком в лоб.Олег примчался уже в сумерках. Проклиная пробки, превратившие четыре часа пути в семь, он ввалился в знакомую дверь и натолкнулся на целую толпу местных, набившихся в сени. Из комнаты донесся тонкий, карикатурно детский голосок: – Васютка Коваль оправится, как новенький будет! И телятки народятся всем на зависть у баб Настиной коровки. Валюша жениха найдет! А Риту хворь отпустит. Засухи, как в тот год, не случится… Олег растолкал стариков, шагнул в темную комнату. И увидел сына. Тот сидел на коленях у своей бабушки и вещал, пророчествуя удачу во всех делах всей деревне. Только вот тело у Андрюши было какое-то слишком уж большое. И голова, разве была у него такая здоровенная голова? Почему он выглядит так, будто лицо мало для громадного черепа? И еще он говорил… Олег понял все еще до того, как разглядел наспех притороченные к детским щекам ремешки, крепящие кожу на лице старика. Понял, но не сразу смог поверить и застыл, беззвучно разевая рот. – Не мешай, Олежка! – шикнули сзади. – Видишь, сынок твой нам благие вести принес! – Прятал еще малого, скотина такая! – подхватил другой голос. – Знаешь же, что порода непростая у вас! – Батя… – пролепетал Олег, робея и боясь сказать не то, совсем как в детстве. – Бать, ты чего наделал-то… – Нет тут бати! – старуха покачала мужа, изобразившего обиженное хныканье. – Не видишь разве? Тут истина глаголет! Устами младенца!
Анастасия Пушкова Кот Конфуция
Дверь подвала захлопнулась, и я оказался в вязкой темной пустоте. Пустота цвета дыма сырых дров пахла лишайником и сырой глиной. Я бросился назад, туда, где слабо светилась щель по периметру косяка, замолотил кулаками, ногами – все тщетно. С той стороны щеколда, покусанная ржавчиной, стояла намертво. – Проклятый сквозняк! Мигнув в последний раз, погас светлый прямоугольник – близилась ночь. Старинный купеческий дом вздохнул, покряхтел стропилами и запер меня в клетке. Десять ступеней по прямой вверх, чтобы выбраться наружу. Я вспомнил, что дома никого, бабуля обещала вернуться из города только завтра на утро. Рубашка прилипла к спине, в животе заструились дорожки боли. «Успокойся, – велел я себе. – Это только подвал с парой ящиков из-под овощей и остатками кукурузных початков». Глубокий вдох и выдох. Мне определенно станет легче, если дойду до другого конца подвала и пойму, что там ничего нет. Пошатываясь на слабеющих ногах, я заковылял вдоль шершавой кирпичной стенки. Невозможность оценить глубину заставляла вестибулярный аппарат сходить с ума. Горло пересохло. Черный дым впереди посерел и свился клубком. Воображение нарисовало что-то живое внутри. Да нет, глупости. Я ступил точно в середину клубка и завопил, когда нога коснулась чего-то податливого. Клубок ответил низким кошачьим воем. «Кот? Здесь?!» Переход от панического ужаса до понимания оказался слишком резким. Колени предательски подогнулись. Серый клубок сменил гнев на милость, мяукнул и обрел два желтых глаза-светлячка. «Да это же бабулин кот по кличке Дымок, черный как сажа!» Голой коленки в дыре разорванной штанины коснулся мокрый нос, жесткая шерсть скользнула по руке, вызвав мурашки. Котейка замурчал, выгнул спину, да так старательно, что уперся мне в подбородок. Подвал вдруг стал не таким огромным и вполне уютным местом. Теперь рядом живое существо. Кот уселся спиной, словно охраняя, и уставился куда-то в темноту. Неожиданно утробное урчание зародилось в глубине его тела. «Увидел кого-то?» В этот момент мне отчаянно захотелось получить такие же глаза, как у кота. Вокруг нас один за другим загорались светлячки, море светлячков, океан светлячков. Среди шороха, среди шуршания и топота мелких лапок. Крысы?! Их, должно быть, десятки здесь! С душераздирающим воплем, слабо похожим на кошачий, мой охранник бросился на огоньки. Те прыснули врассыпную, а потом разом накинулись на кота. Шипящий и фыркаюший искрами клубок покатился по подвалу, поднимая сухую пыль. Один за другим гасли светлячки. Натужный писк, а потом «хрясть», когда мощные челюсти ломали шейные позвонки грызунов. «Ай да Дымок, вот бабуле повезло с крысоловом». Все закончилось. Кот растворился в темноте и снова превратился в туманный клубок дыма, который медленно поплыл ко мне, виляя из стороны в сторону. Я так и представлял роскошный черный хвост. Бабуля говорила, что предками Дымка были кошки благородной сибирской породы. Мерное движение клубка гипнотизировало, как танец змеи. Я поймал себя на мысли, что глаза закрываются сами собой от пережитого или из-за холода. Два желтых глаза смотрели в упор. «И когда он успел взгромоздиться мне на колени?» Горячее влажное дыхание коснулосьноса. Кот становился все тяжелее, дыхание горячее, а глаза разгорались ярче. Я вяло махнул рукой, пытаясь согнать наглеца, но повалился на бок, не в силах даже головы повернуть. В нос ударило смешение запахов крови и молока – было в этой смеси что-то жуткое. – Ды… – начал я, едва ворочая языком, и тут осекся. Из дверной щели повеяло сквозняком и на миг прогнало дурман. «Стоп, разве у бабули не белый кот? К тому же она повезла его в клинику в город. Но если так, тогда кто же со мной в подвале?» Желтые светлячки вспыхнули с новой силой, в свете глаз блеснули клыки длиной с мизинец. В следующий миг они сомкнулись на моей шее. Угасающим сознанием я понял – нечто только прикидывалось котом и оно не спасало меня от крыс, а отгоняло конкурентов. Да и крысы ли то были? Хотя… какая теперь разница?Марина Крамская Песок
В Машеньке все было хорошо и красиво: загорелые длинные ножки, белесые бровки домиком, впалый животик, бледно-розовые ноготки. Костик поплыл в первый же день, когда она с матерью появилась на пляже, – чудо, а не ребенок! Себя Костик ребенком не считал, хотя только-только перешел в третий класс. Но Машенька-то вряд ли даже из детского сада выпустилась. Подойти к ней было как-то страшно. Костик наблюдал, как она с помощью двух ведерок и совочка возводит многоярусный замок из песка. Песок слушался ее маленьких ручек беспрекословно: выходил из ведерка гладким кирпичом в кладку замка. Даже когда конструкция начала усложняться и башенки росли вверх, ни песчинки не просыпалось мимо. Наблюдать за ней дальше не было сил. Костик поднялся с мокрого полотенца, выдохнул, как перед прыжком в холодную воду, и побежал. Прямо по замку. Шмак! Нога раздавила две башенки и крепостную стену. Хрясь! Сломались сооруженные из веточек ворота. – Ой, прости! – взмолился Костик не вполне искренне. – Не заметил! Машенька подняла на него глаза. На мгновение почудилось, что зрачки у нее сжались в зерно. Губы задрожали. – Прости, прости! – повторял Костик, пряча улыбку. – Давай я починю? Можем вместе новый построить. Машенька задумалась. Губы дрожать перестали, их тронула робкая улыбка. – Ладно, давай, – согласилась девочка. Костик обрадованно принялся насыпать песок в ведерко, но куличики у него получались скверные – трескались, разваливались, осыпались в руках. Машенька, правда, из-за этого не расстраивалась. И даже напротив – улыбка ее все ширилась. – А давай лучше ноги друг другу закопаем, – предложила она, когда стало ясно, что из Костика паршивый строитель. – Только чур я первая! Садись! Костик послушно сел возле песчаных руин. Машенькины руки порхали над ним, горстями рассыпая мокрый песок. Под его тяжестью ногам было приятно и прохладно. Рыжая горка росла, закрыла коленки, пятки, большие пальцы. Костик не шевелился, только бы не пошла зловредная трещина. – Ну вот, – Машенька взглянула на него, и теперь он уже не мог ошибиться – у нее и впрямь были кошачьи зрачки. Но не успел Костик ничего сказать, как почувствовал странный зуд в ногах. Песок задвигался, защекотал, хотя внешне куча оставалась совершенно неподвижна. – Курьи ножки, курьи ножки, – пропела Машенька, – не ходите по дорожке. Костик дернулся, но сырой песок придавил гранитной плитой. Движение под ней не прекращалось, а ноги… Они стали легче. Будто песок незаметно и безболезненно слизывал плоть, оставляя только кости. – Перестань, – прошептал Костик, но Машенька приложила палец к розовым губкам. – Еще не все. Раздался звонкий хруст. Костик почувствовал, как ступне стало прохладно. Кости до самой пятки разъехались в стороны, образовав три длинных пальца. Машенька поднялась, отряхнула пыль с ладоней. Золотые искорки вспыхнули в воздухе. – Мам, идем домой, – крикнула она. – Тут скучно. Костик попытался закричать, но голос пропал. Машенька летящей походкой удалялась по песку, а из-под ее ножек летела золотая пыль. По плите на ногах Костика пошла трещина. Он закрыл глаза, и в голове всплыл простой мотивчик: «Курьи ножки, курьи ножки, не ходите по дорожке!» Костик пошевелил пальцами. Из-под песка выехал загнутый птичий коготь.Любовь Левшинова Смешно
«Есть Киа-Рио, а есть Киа-Дежанейро» – горело в настенной плазме. Не смешно – не заражена.А племяшка хочет стать юмористом, когда вырастет. Иронично. Еще десять лет назад это было лишь развлечением. «Если слышите смех, нажмите тревожную кнопку» – на повторе вещал динамик на улице. «Если начнете понимать шутки, значит, вирус заразил спящих в глазных яблоках паразитов, которые блокируют вентральный стратум, отвечающий за понимание юмора. В таком случае немедленно обратитесь за помощью».
Целый день в голове был сумбур. В метро передо мной человек рассмеялся над шуткой из громкоговорителя, звучащей перед названием станции. Люди в вагоне запаниковали, но ликвидаторы появились быстро. Зараженного увезли. Поколению племяшки будет легче с этим справляться. У них не будет воспоминаний о прежней жизни. В садик я приехала только к восьми, торопилась в зал продленки, но замерла. В пустом коридоре эхом разнесся детский смех. Я нажала тревожную кнопку. Шла на непривычный звук, пробирающий до костей. Сашка сидела на ковре среди игрушек, рядом от смеха скручивалась ее подружка Лейла. На полу лежала воспитательница. – Саш… – Голос от напряжения осип, подступающая истерика не давала дышать. Племяшка обернулась на голос. Белая юбочка была измазана кровью. – Она смеялась, а потом упала, – Сашка всхлипнула, я задушила в себе панику, сделала шаг вперед. Заливистый смех Лейлы резал по ушам. Ее еще можно было госпитализировать. Но женщина… ее смерть меняла все. Паразиты не покидают живое тело, только мертвое. – Все хорошо, – я осторожно приблизилась к племяшке, сквозь ужас пытаясь оценить ее состояние. – Русалка села на шпагат… Сашка мотнула головой. Я взглянула на потерявшую связь с реальностью Лейлу. Ждать бригаду помощи было нельзя. Тело мертвой женщины может быть опасно. Неизвестно, как вирус заражает паразитов, спящих в нас. Я рухнула коленями на пропитанный кровью ковер. Голова женщины была разбита. Хотелось кричать и плакать, но я обязана была спасти Сашку. Шанс был. Лейла смеялась. Но она была не опасна. А распахнутые в предсмертном ужасе глаза холодеющего тела – да. Природный инстинкт подогрел кровь. Пусть заражусь я, а Сашка выживет. Я взяла со стола железную линейку. Глубоко вздохнула, уронила на ковер слезы безысходности. Дрожащими руками острым краем поддела глаз, сдерживая рвотный позыв. Кровь хлюпнула, ребро линейки разрезало жилы. Я плакала. Лейла смеялась. Нельзя было допустить, чтобы глаз растекся. Я протолкнула линейку глубже, сохраняя глазное яблоко целым. Выдохнула. Рычагом вытолкнула глаз из глазницы. Дернулась от омерзения, взяла его пальцами. Линейкой рубанула несколько раз по жилам, яблоко осталось в ладони. Времени раздумывать не было. Зараженные паразиты не могли выбраться только из живого тела. А Сашку надо было спасти. Разом запихнула глазное яблоко в рот. Желейная субстанция с привкусом гноя расползлась во рту. Я ее проглотила, рвотная судорога два раза вернула прокушенный глаз в полость рта. Окунувшись в истерику, оба раза я его проглотила. Сознание кололо иглами ужаса, я снова взяла линейку в руки. Я заражена. Но Сашку спасти еще можно. Звук, будто копаю землю, полную мясистых корней, заполонил сознание. На этом глазу жилы резались сложнее, я начала линейкой их пилить. Глазное яблоко в руке, как склизкая лягушка, дребезжало. Зажмурившись, я забросила его в рот. Сербнула, как спагетти, длинными жилами, втянув их губами. Постаралась, не жуя, проглотить. Сквозь зажатые пальцы на губах с рвотой вышла кровь, остальное я заставила остаться в желудке. Разрыдалась. Все хорошо, я спасла Сашку. Все было не зря. Лейлу и меня госпитализируют, Сашка будет жить. Оно того стоило.
Но Сашка засмеялась. Я в ужасе посмотрела на племяшку. Тихий детский смех колокольчиком отдался в ушах. – Я поняла, – смеялась Сашка. – Русалка не может сесть на шпагат, потому что у нее хвост! Все было зря. Мы обе скоро будем овощами. Я расслабленно улыбнулась, слушая топот ног спасательной бригады в коридоре. Погрузилась в приятное, давно забытое чувство. Мне было смешно.
Натанариэль Лиат Жил-был Один Мальчик
Когда я был маленьким, мама рассказывала мне сказки про Одного Мальчика. Они были не слишком веселые. Например, про то, как Один Мальчик не хотел есть кашу, заболел гастритом, и в больнице его утыкали иглами, как ежа. Или про то, как Один Мальчик гулял во дворе без взрослых, и его похитили злые дядьки. Или про то, как он, играя с ножницами, выколол себе глаза. Вряд ли он очень о них горевал, потому что по маминым рассказам выходило, что еще до этого Один Мальчик читал в темноте и ослеп, но больно ему наверняка было. Помню, я недоумевал, как он, безглазый, переходил дорогу – ну, в той истории, где Один Мальчик забыл посмотреть по сторонам, и его насмерть сбила машина. Но я еще с беззубого возраста усвоил: мама знает все и всегда права. Если она сказала, значит, так все и было. Мне не нравилось слушать эти сказки, но, как оказалось, всегда может быть хуже. Один Мальчик стал приходить ко мне по ночам. Не помню, когда это началось. Я просто просыпался в темноте и видел, что он стоит у моей кровати. Стоит и смотрит на меня. Не знаю, как и чем он смотрел, если вместо глаз у него зияли сочащиеся кровью дыры. Ушей тоже не было – однажды он не надел шапку зимой, и они у него отвалились. Правая рука походила на сгоревшую куриную лапку – память о том, как он сунул пальцы в розетку, – а весь левый бок был ободран, как коленка об асфальт: это та машина протащила его по дороге. Он не двигался. Не говорил со мной. Просто смотрел. Со временем я привык засыпать под его взглядом. Мне очень хотелось рассказать маме, но я помнил, что Один Мальчик придумывал всякие глупости, чтобы напугать свою мать, и свел ее этим в могилу. Мама умерла от рака четыре года назад, и я до сих пор перебираю каждый свой поступок, каждое слово, пытаясь понять, есть ли в этом моя вина. Один Мальчик стоял рядом со мной на ее похоронах. Он так и не вырос. Сейчас мне тридцать шесть. Я никогда в жизни не напивался с друзьями. Ни разу не был на свидании. У меня дома нет ни одного острого ножа. По утрам я иду на работу, вот как сейчас. По вечерам возвращаюсь домой и ложусь спать. Раз в неделю закупаюсь продуктами. Раз в месяц получаю зарплату. Не знаю, приходит ли Один Мальчик, пока я сплю. Я перестал открывать глаза, чтобы проверить, еще в четырнадцать. На дворе пыльный городской июль. Я шагаю на работу – отпуск только в ноябре. До офиса – полчаса пешком по парку и мосту над дорогой. Я ходил здесь тысячу раз, но сегодня все не так. У ограждения моста толпится народ. Гудит испуганно и тревожно. Я останавливаюсь поодаль, смотрю вниз и вижу женщину. Она лежит там, поломанная, как птица, врезавшаяся в оконное стекло. Лица не видно, но стрижка у нее свежая, и одежда приличная. Не бездомная, не какая-нибудь наркоманка. Может, просто упала? И тогда я замечаю ее. Маленькую, толстую фигурку со спутанными волосами. Неумело размалеванное косметикой личико в страшных синяках, надутые для плача губы разбиты. Юбка совсем короткая. На внутренней стороне пухлого бедра – засохшие потеки крови. Она стоит неподвижно, глядя на разбившееся о землю тело, и я отчетливо, как наяву, слышу голос чьей-то чужой мамы – бабушки, тети, – говорящий о том, как Одна Девочка ела слишком много сладкого, потолстела, и ее никто не взял замуж. Как Одна Девочка сказала что-то наперекор папе, и тот ударил ее и был прав. Как Одна Девочка оделась как шлюха, и ее изнасиловали в подворотне. Одна Девочка там, внизу, поднимает голову, и мы с ней встречаемся глазами. Я поворачиваюсь и вижу Одного Мальчика, стоящего у моего плеча. Он тоже смотрит на меня. И тогда я вдруг понимаю, какой же это простой и изящный выход. А главное – какой очевидный. И почему это не приходило в голову мне самому? Я бросаю портфель на асфальт и перекидываю ногу через ограждение. Вдалеке слышна сирена спешащей скорой. Зеваки на мосту замечают меня, и ко мне бросается сразу несколько человек. Они не успеют. Один Мальчик стоит, не двигаясь с места, и мне кажется, что я впервые вижу в его взгляде тень страха. Я улыбаюсь ему и делаю шаг.Евгения Русинова Проделка
Аня сидела на краю кровати и с умилением смотрела на сына. Когда он только успел вырасти? Страшно подумать – первоклассник! Ее защитник, ее единственная опора… В квартире было тихо, лишь в ванной подтекал кран. Конечно, его уже сто лет в обед пора было заменить на новый, с удобными смесителями. Но лишних денег не было. Аня неохотно поплелась в ванную. Вот что значит – в доме нет мужчины. Все приходится делать самой. Может, чем-то заткнуть? Она огляделась – на полу валялись грязные Темкины носки. Ну сколько можно повторять, что носки надо класть в корзину для белья?! Аня подняла носки, подошла к корзине. Сверху небрежно лежала ее желтая ночнушка. Аня присмотрелась. Что это? Ажурная ткань на груди была порвана. Точнее, из нее будто вырезали два неровных кругляша на тех местах, где должны быть соски. Вот же дрянь! Недаром она удивлялась, что дверь вечером оказалась закрыта всего на один замок, хотя она точно помнила, что запирала на два. Все это проделки мужа. Теперь уже бывшего! Хотел отомстить за то, что она не дает ему видеться с сыном? Заладил на суде как попугай: «Сыну нужен мужской контроль!» Никакой контроль ее Темику не нужен! Аня в сердцах швырнула испорченную ночнушку в мусорку. Ничего, купит новую! А с краном-то что делать? Она согнулась буквой зю и заглянула в трубу. Естественно, ничего там не увидела. Все беспросветно, как и ее жизнь! Зачем-то сунула в трубу палец. Раздалось мерзкое «кр-р-р!» – А-а-а-а! – Аня резко одернула руку. – Что случилось, мамочка? – В ванную зашел сонный Темик. – Извини, дорогой, – Аня виновато улыбнулась. – Не хотела тебя будить. Кажется, я сломала ноготь… Так и есть. Ноготь надломился очень неудачно, прямо посередине. Было больно. – Иди спать. Я сейчас. Придется теперь отстричь. Аня взяла маленькие ножнички и срезала все ногти под корень. Покрытые зеленым лаком обрезки лежали горкой на краю раковины. Надо бы еще заклеить пульсирующий палец пластырем… Кажется, он был на кухне в аптечке. Через минуту Аня вернулась в ванную протереть раковину и выключить свет. Что-то не так… Что-то… Ногти. Исчезли! Неужели она сама выбросила их на автомате? Надо больше спать! Аня легла в кровать и с наслаждением закрыла глаза. Наконец этот бесконечный день закончился. Она перевернулась, и ей в бок уперлось что-то холодное. В ужасе Аня включила ночник и быстро одернула одеяло. На простыне лежал… нож. Настоящий нож! В ее кровати! Это было уже слишком! Он псих! Его в психушке держать надо! Правильно сделала, что с ним развелась. Завтра же вызовет полицию и обо всем расскажет! Трясущимися руками Аня вернула на кухню нож и тут же провалилась в сон, удушающий и тревожный. На рассвете она проснулась от саднящей боли во рту. С трудом оторвала голову от подушки. По белой наволочке расплывалось красное пятно – густое и липкое. О боже! Боже! Аня потрогала щеку, ощупала голову… Откуда кровь? Метнулась к зеркалу… Оттуда на нее смотрела какая-то полубезумная тетка с серым лицом, выпученными глазами и… без двух передних зубов. Только не заорать! Не напугать снова Темика! Сердце колотилось, как бешенное. В груди было туго и тесно. С ней явно происходит что-то страшное – зубы просто так не выпадают. Только без паники… Сперва она вызовет скорую, потом полицию… Или наоборот? Надо еще придумать, кто отведет Темика в школу. Кстати, где он? Его кровать была пуста. – Артем! – из горла вырвался отчаянный крик. – Я здесь, мамочка. Аня влетела на кухню, опрокинув по дороге Темкин собранный с вечера портфель. Сын сидел спиной к ней, низко склонившись над столом. – Что ты делаешь? Аня никак не могла вытрясти из головы туман. – Мамочка, я вспомнил, нам еще задали сделать на сегодня поделку. Темик обернулся. Аня пустым взглядом смотрела на альбомный лист. По его краю, имитируя рамку, были неровно приклеены пряди ее волос. Ажурный кругляш в углу, видимо, обозначал солнце. Зеленые обрезки ногтей изображали траву. – Это что? – Аня непонимающе ткнула пальцем в нечто белое в центре листа. – Это зайчик. Вместо ушей у зайчика торчали два пожелтевших от кофе зуба. – Тебе нравится, мама? А здесь я хочу приклеить цветочки. Помнишь, ты мне про них рассказывала? Анютины глазки. И Темик вопросительно заглянул в мамины голубые глаза.Оксана Заугольная Хорошая
Автомобиль последний раз чихнул и затих. – Что за ерунда, – Пашка нехотя выбрался из-за руля и открыл капот. Смотрел он так долго и вдумчиво, что Света почти поверила, что он понимает в моторах. – Никогда такого не было. Он достал из кармана телефон. – Вызову помощь, – неловко произнес он. Света тоже вышла из машины. – Не надо, тут до поселка пара километров, а там разберемся, – уверенно произнесла она и поправила сумку на плече. Она проследила за его печальным взглядом на автомобиль и добавила: – И ничего тут с ним не случится. Пойдем, надо успеть до темноты. С этим Пашка спорить не собирался, и вскоре они уже двигались по обочине. – Я здесь родилась и училась, а потом уехала поступать в город, сейчас бываю дома очень редко, как там мама без меня, – ни на минуту не замолкая, щебетала Света. – Ты ей понравишься, точно говорю! – Ага, – буркнул Пашка, поддевая пальцы под лямки рюкзака. А ведь хотел взять чемодан, да Светка отговорила. Будто знала. Хорош бы он был с чемоданом! За этими мыслями он не сразу заметил, что Света на ходу копается в сумке. Остановился, лишь когда вместо бутылки с водой она вытащила молоток. Со Светой он встречался уже полгода, и последние два месяца они даже жили вместе, но все равно первая мысль была недостойная любящего парня. Просто навевало: пустая дорога, мрачные ели вдоль нее и Светка с молотком. Пашка попятился. – Господи, ну ты чего. – Светка разок взмахнула молотком. – Это на всякий случай. – Успокоила, – буркнул Пашка, но пошел за Светой чуть в отдалении. Зачем он поехал? Жениться он не собирался, к чему ему Светкины родители? Но девушка была очень убедительна, а теперь Пашка жалел себя и свои уставшие ноги. Впрочем, это не помешало ему первому увидеть крыши домов, а потом их. Серые, слишком высокие и даже на вид склизкие, они обладали двумя руками и ногами, но на этом их сходство с людьми заканчивалось. Вместо пальцев у них были подобия щупалец, а на голове не было ничего кроме рта, который у некоторых существ беспрестанно открывался, как у рыбок в аквариуме. И как у тех рыбок, рты были безгубые, с прозрачной каймой. А внутри лишь чернота. И эта чернота напугала Пашку сильнее всего прочего. Непонятно как оказавшаяся рядом Светка крепко схватила его за руку. – Быстрее, – шепнула она. – Они медленно двигаются, но проворно хватают. Нужно успеть к дому. И она взмахнула молотком. Твари отступили. Теперь, когда они были так близко, Пашка к отвращению и ужасу обнаружил, что под серым скользким налетом угадываются человеческие лица. С закрытыми глазами, плотно прижатыми ушами и вздернутыми носами, но они были. – Идите, дядя Витя, идите, – Светка быстро шагала по дороге, волоча за руку Пашку. Вторая рука была занята молотком. – Вы его не получите. А тете Зине так и скажите, пусть Стасика ждет. Не дождется, правда. Стасик-то ку-ку, с катушек слетел, в дурке отдыхает! Подающий надежды отличник, не то что Светка, да? Пашка едва поспевал за Светой, пытаясь удерживать в поле зрения всех тварей. А их становилось все больше. – Бегом, – скомандовала Света. – Почуяли, твари. Немного осталось, Паш. Держись. Пашка бегать не любил. В боку начинало колоть, а во рту появлялся горький вкус. Но сейчас он бежал как никогда в жизни. И, когда Света указала на дом, первым ворвался через незапертую дверь, с трудом удержавшись от желания уронить засов до того, как войдет Светка. Пока он колебался, она вбежала следом и плотно закрыла дверь. – Успели! – радостно воскликнула она. – Да уж, – Пашка неприязненно уставился в окно, за которым маячили серые. Гладили стекло щупальцами, оставляли круглые влажные следы ртами. – А обратно как? Но Света не ответила. – Идем, мама, – услышал он ее приглушенный голос из другой комнаты. – Ты совсем ослабла. А все дядя Витя! Я же тебе Эдика везла!.. Но я снова тут. Я тебя не брошу. Пашка уперся затылком в окно, за которым заволновались серые. Точно такие же, как та, что сейчас с трудом стояла, опираясь на Свету. – Я не знаю, что тут случилось той зимой, – Светка смотрела в упор. – Мне плевать на других, но она моя мама. На ее руках и щеках краснели круги ожогов щупалец, но Света их не замечала. – Я не как другие, я возвращаюсь, – добавила она, пока Пашка молча боролся с щупальцами, не в силах даже закричать. Безгубый рот наклонился над Пашкиным лицом, но он еще успел услышать: – Я хорошая дочь.Анастасия Демишкевич Чужие сны
Если во сне ты видишь себя со стороны, а после пробуждения на теле появляются синяки и тебе стыдно, как будто ты подглядывал за собственной бабушкой в туалете, то это был не твой сон. Катя начала видеть чужие сны год назад. Сначала она пересмотрела сны всех домашних, потом сны кое-кого из друзей, что оказалось не особенно приятно. Так она узнала, что у матери есть любовник, а ее лучшая подруга Машка тайно мечтает о Катином парне – Эдике. С Машкой Катя общаться перестала, а от матери было так просто не избавиться, поэтому приходилось терпеть. Чем дольше Катя жила с этой сомнительной суперспособностью, тем меньше она ей нравилась. Смотреть на мать, трахающуюся с пузатым дядей Витей, было мерзко, а по Машке Катя просто скучала. Все чаще она думала, что лучше бы было вообще ничего не знать – не лишилась бы подруги. Но она знала и назад это знание было не засунуть. Иногда Катя видела сны совсем незнакомых людей. Вот они-то ее больше всего и пугали. Чаще других ей снилась какая-то изможденная голая женщина. Кто она, Катя понятия не имела, но точно знала, когда женщина ее обнаружит, ей не поздоровится. Каждый вечер, ложась спать, Катя просила кого-то: «Пусть сегодня мне снятся только мои сны. Пожалуйста. Аминь». Чаще всего ей везло, но иногда полоса удач заканчивалась, и ее выбрасывало в чужой сон.Катя идет по коридору и трогает обои. На них выдавлены пальмы. «Нет, в моей жизни таких обоев точно быть не могло. Хоть убейте. Кажется, я опять в чужом сне», – подумала Катя и свернула на свет в гостиной. В гостиной светло́ желто-зеленым светом. За накрытым столом сидит семья: мужчина, двое детей, женщина. Женщина почему-то голая, но никого это, кажется, не волнует. Никто на нее даже не смотрит. А она сидит, положив руки на стол, ладонями вверх, как будто просит помолиться с ней, но никто не тянется к ней в ответ. – Не скрипи вилкой по тарелке, – делает замечание брату девочка. – Пусть ест как хочет, – одергивает ее отец. – Но, папа, он балуется с едой. – Пусть ест как хочет, я сказал. Не превращайся в свою мать. Женщина неожиданно поднимает голову, висящую над тарелкой, и начинает истошно орать. Катя невольно зажимает уши и почему-то зажмуривается. Когда она открывает глаза, то видит, как пристально женщина смотрит на нее, пока ее семейство как ни в чем не бывало продолжает есть. – А ты здесь откуда? – Злобно шипит она. – Я? Я не знаю, – шепчет Катя и особенно остро чувствует, что она тут не за чем, ее тут быть не должно, она опять влезла в чужой сон. Волна жуткого стыда разбивается о страх. «Она имеет право здесь быть, а я нет», – думает Катя, глядя на то, как голая женщина медленно переворачивает руки, подается вперед и закидывает ногу на стол. – Мерзавка, тварь, пришла как к себе домой. Вторая нога тоже оказывается на столе, и женщина медленно ползет вперед. Руки шлепают по тарелкам с едой ее отпрысков, она жадно облизывает их и, виляя тощим задом, подталкивает себя вперед, к Кате. – Но это не твой дом. Не твой, а мой, – женщина замирает, выжидающе смотрит на непрошенную гостью. «Она убьет меня», – бьется в голове у Кати. – «Нет, не убьет, а хуже. Не знаю, что может быть хуже, но что-то точно есть». Понимание того, что может быть хуже приходит тогда, когда женщина змеей кидается на нее, и холодные руки сжимают Катино горло.
Катя просыпается. Тяжело дышит, ощупывает руками горло. «Фу-у, дурацкий чужой сон, лучше бы мамка с дядей Витей приснились, вот ей богу. А почему так шея болит?» Катя хочет оторвать голову от подушки и покрутить шеей, может даже хрустнуть пару раз, но только сейчас замечает, что под ее головой не подушка, а что-то твердое. «Блин, я что, за столом вчера уснула?» – Катя с усилием отрывает голову от холодной белой поверхности. На середине вдоха ее дыхание замирает – за столом сидят мужчина и двое детей, они едят, не обращая на нее никакого внимания. «Нет, нет, нет», – Катя смотрит на свои иссохшие руки и ниже. Она голая. – Не скрипи вилкой по тарелке, – делает замечание брату девочка за столом. Катя беззвучно кричит.
Иван Миронов Шкаф
– Черт, да он же почти все пространство сжирает! Прохор с разочарованным видом разглядывал огромный шкаф, занимающий едва ли не треть комнаты. Чудовище о двух створках, лоснящееся лаком, смотрелось привычно и уютно, но в то же время казалось чрезмерным, невероятно большим в увешанной ветхими азербайджанскими коврами гостиной. Татьяна Васильевна, хозяйка квартиры, пожала плечами. – Хотишь – соглашайся, не хотишь – вали на все четыре стороны. Прохор осекся. Чего он еще хотел по такой-то вкусной цене? – Нет, нет, нет. Все устраивает. – Ну а раз устраивает, сынок, так и въезжай.* * *
Ему снилась мама. Она отчего-то плакала и виновато протягивала к Прохору испачканные в крови руки. Прохор пытался отстраниться, но покрытые красным пальцы все же настигли его. Он закричал и проснулся. Никаких окровавленных рук, никакой мамы. Плач, однако, не растаял вместе с остатками сна. Прохор прислушался. Откуда шел звук? С улицы? Он поднялся с кровати и медленно, на ощупь, двинулся к окну. Проходя по узкому коридору между монструозным шкафом и противоположной стеной, он замер. Еле различимый, звук доносился именно из шкафа. Тонкий, выворачивающий душу, младенческий плач. Он потянул руку к круглой деревянной ручке, но замер на середине пути. Его пальцы дрожали, а сердце с безумной скоростью качало кровь. Ругая себя последними словами, он убрал руку. Нет, сначала свет, решил он и повернулся к выключателю. Удар в плечо сбил его с ног. Вскрикнув, Прохор повернулся к шкафу. Гостеприимно распахнутые дверцы поскрипывали петлями. Он попытался отползти, но дверцы, слегка вытянувшись, ухватились рассохшимся потемневшим деревом за лодыжку. Прохор завизжал. Он чувствовал, как впиваются в ноги похожие на жадные пальцы занозы, как царапают на прощание спину паркетные доски. Он пытался ухватиться хоть за что-нибудь, но под руки ничего не попадалось. Дверцы сомкнулись, переломив берцовые кости. Снова приоткрылись, снова подтянулись и раздробили колени. Приоткрылись, подтянулись, и уже бедра погрузились в черное чрево, из которого доносилось жадное чавканье. Прохор лишился голоса одновременно с тазобедренным суставом. Но он не лишился слуха и отчетливо слышал, как перемалывал его кости, сухожилия и мышцы голодный шкаф. Он не лишился глаз и видел, как выплеснулись из разорванного брюха кишки, которые шкаф тут же засосал, словно спагетти. Потом уже он не видел ничего.* * *
Она снова плакала. Эта мелкая паскуда постоянно требовала жратвы. А у Таньки ее не было. Грудь пересохла, как почва без дождя. А драный студентишка, заделавший мелкую сучку, узнав, что Танька на сносях, тут же укатил в Казахстан на целину. Там-то почет и комсомолочки, а здесь – сраные пеленки. Чего тут выбирать? Сел, вольный ветер, в поезд и был таков. А Таньке что делать? Родители ее умерли, оставив ей квартиру да украшения в шкатулке. Квартира-то никуда не делась, а вот побрякушки быстро ушли на пропитание. А мелкой твари все мало. Голова раскалывалась, грозя взорваться, а желудок крутило от голода. Нужно было выйти на улицу. Немедленно! Она открыла шкаф и вытащила серое поношенное пальто. Сзади крик превратился в поросячий визг. Танька повернулась, и на миг ей показалось, что это не ребенок, а самый настоящий поросенок. Грязный, мерзкий и орущий, орущий, орущий… Она подошла, взяла в руки безымянного ублюдка. В ней всколыхнулось омерзение. С какой стати она должна этим заниматься, если отцу насрать? Танька повернулась к незакрытому шкафу. На дне лежал половичок, оставшийся от их пропавшей кошки. Самое место для незаконнорожденной мерзости. Она положила ребенка на половик, закрыла створки. Звук стал тише, а в душе начало растекаться спокойствие. Да, так было гораздо лучше, почти хорошо. Ей просто нужно было подышать свежим воздухом. Одной. Накинув пальто, Танька вышла. Вернулась она уже ночью. Квартира встретила ее тишиной. Она подбежала к шкафу и раскрыла дверцы, надеясь, что сучка уже издохла. Но на дне лежал лишь пустой половичок, который, казалось, стал меньше. Или это шкаф стал больше?* * *
Татьяна Васильевна смотрела на сытый шкаф с остатками крови на дверцах. Шестьдесят лет. Шестьдесят лет, где год шел за три. Итого сто восемьдесят. Она пыталась уехать, но неизменно возвращалась. Она прыгала из окна, топилась и вешалась, но неизменно возвращалась. И кормила свой шкаф. Кормила все больше и больше. Досыта. От пуза. Чтобы тот рос. Чтобы тот сжирал пространство и в конце концов мог сожрать ее. Но боже, как же медленно! За шестьдесят лет ее дочка выросла бы и состарилась, но этот ребенок требовал больше времени, он требовал больше терпения и отдачи. Но детей не выбирают. И несут свое бремя до конца.Раздался звонок. – Алло? – … – Квартира? Да, сдается.
Елена Щетинина Лев зимой
Ребята убежали час назад, хохоча, прочь из темноты двора – в теплые квартиры. А Лешка остался стоять. У горки. Примерзнув языком к холодному металлу. Он знал, что нельзя зимой лизать горки и турники. Но его взяла на слабо Ирка – и Лешка не смог удержаться. Разумеется, он сразу прилип. Ребята стали прикалываться над ним – и грозить стащить штаны, чтобы он прилип еще кое-чем. Лешка всхлипнул. Штаны остались на месте, но воспоминание – как подзуживал всех Юрка, когда-то его лучший друг, и как веселилась при этом Ирка – жгло его маленькую детскую душу сильнее морозного железа. Юрка знал, что Лешка боялся боли. И что никогда не сможет изо всех сил рвануться, чтобы освободить себя – потому что боль пугает его больше стыда. Больше всего на свете.* * *
Пошел снег. Он валил с черного неба белыми хлопьями, падал за воротник, вгрызаясь в голую кожу острыми иглами. Кто-то ходил там, во мраке, между домами – сгорбленный и кривоногий. Дворник. Ребята боялись дворника. Он орал на них, потрясая метлой или лопатой, грозил кулаком – а еще убивал детей. Об этом знали все, от пяти до двенадцати. Именно дворник убил всех тех детей, что пропали в последний год. Убил, закоптил в вечно горящей помойке – и съел. Об этом знали все – кроме, почему-то, взрослых. Лешка снова всхлипнул. Под ногами тихонько булькал телефон – он выскочил из кармана, когда Лешку дергали за штаны, и провалился в снег. Мама названивала, ища Лешку – но она не знала, что он здесь, в чужом дворе, стоит, примерзнув языком к горке. Ненавидя себя за слабость и трусость, но не в состоянии что-либо сделать.* * *
Из темноты на Лешку смотрел лев. Лев – огромный, косматый, размером с Лешку – появился в их дворе три месяца назад. Потом ему составили компанию прибитая к дереву сизая мартышка, розовый слон с завязанным узлом хоботом, три пчелы из пластиковых бутылок – и еще с десяток каких-то непонятных существ. Бывших ранее чьими-то любимыми игрушками. Лешка всегда ощущал какую-то вину перед ними. То ли за то, что не может забрать их домой; то ли за то, что и не хочет этого делать: настолько грязными и драными они были. Но сейчас, в этой морозной тишине и темноте игрушки были единственными свидетелями того, что происходило с Лешкой. – Пмгиии, – промычал он льву. Лев молчал. Его черные глаза влажно поблескивали. Дворник, кажется, заметил, что что-то происходит в глубине двора. Его сгорбленная фигура замерла. Лев покачнулся. – Пмгиии… – промычал Лешка в отчаянии. Он мысленно умолял льва подойти и освободить его. Пусть даже силой оторвать от горки – сделать то, что не мог сделать сам Лешка ни за что на свете. Лев медленно встал, разминая лапы. Прибитая к дереву мартышка оскалилась. Слон покачал узлом хобота. Пчелы застрекотали крыльями. Дворник сделал несколько шагов вперед. Кажется, он что-то заметил – или догадался. Лешка зажмурился. Он не видит дворника – а значит, тот не увидит его.* * *
Когда Лешка открыл глаза, дворник уходил прочь – его горбатая спина мелькала на фоне света из подвала далеко-далеко. А за спиной Лешки слышались мягкие, вкрадчивые шаги. Лев подошел к Лешке сзади. От него терпко пахло мочой. Гнилыми яблоками. Прелыми листьями. Мертвыми мухами. И кровью. Лев лапой коснулся Лешкиной ноги. Осторожно шевельнул. Затем пнул. А потом, выгнувшись в каком-то странном, немыслимом, невозможном для настоящего льва движении, поднырнул под мальчика, вытолкнув его вверх – Лешкин язык дернулся в этот момент, полуотрываясь от холодного металла, и мальчик глухо взвизгнул, – и снова опустил на себя. В себя. Лев натягивался на Лешку медленно, поглощая сначала ступни, потом голени, затем колени. Когда он натянулся до бедер, Лешка обмочился и ему показалось, что лев удовлетворенно вздохнул. Прибитая к дереву мартышка зааплодировала.* * *
– Опять разбросали все ночью, говнюки, – дворник пнул ногой валяющегося около горки льва. – Еще и камнями набили. Внутри льва раздался тихий стон – и тут же прервался. Алый глаз влажно блеснул. Льву определенно нравился двор зимой. Мартышке – когда ей перепадало – тоже.Твари Сборник рассказов
* * *
© Авторы, текст, 2022 © Парфенов М. С., Дмитрий Костюкевич, составление, 2022 © Валерий Петелин, обложка, 2022 © ООО «Издательство АСТ», 2022Максим Кабир К вопросу зоохоррора
Когда мой друг, замечательный белорусский писатель Дима Костюкевич, предложил мне написать рассказ для антологии, посвященной животным, я услышал тихое, но настойчивое жужжание в той области мозга, что ответственна за фантазию. Жужжание отдалось приятным зудом в пальцы, я не знал, о чем будет моя история, но заранее определился с антагонистом. Дима создал чат, в котором писатели, авторы ужасов, взрослые мужчины и женщины, сочиняющие тексты о призраках, вампирах и оборотнях, застолбили темы, чтобы животные не повторялись. Александр Матюхин выбрал рыбу, Александр Провоторов – собаку, Дима Тихонов – сов. «Беру пчел», – сообщил я, словно намеревался пасеку открывать. Мы шутили про такс и гусей. Авторы ужасов – те еще юмористы. В текстовом документе шрифтом Times New Roman я написал слово «Жужжание». На том и застопорился. Поясню. Зоохоррор – поджанр о столкновении людей с различным зверьем. «Челюсти», «Куджо», «Анаконда», такие штуки. Зоохоррор не предполагает мистику, а мистика всегда была для меня отличным подспорьем. В том смысле, что можно ничего не объяснять: некая кровожадная херня вылезла из болота (могилы, колодца etc) и ну давай бесноваться. У меня совсем немного рассказов без фантастических элементов: «За пределами котьей страны», «Ползущий» – вроде всё. Потому я стал думать об, условно говоря, реалистичной новелле, в которой персонажи, что твои винни-пухи, подвергнутся нападению «клада в надсемействе Apoidea летающих насекомых подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылых» (скопировано из «Википедии»). Полагаю, любой апиолог (человек, изучающий пчел, – термин, подсмотренный в той же «Вики») поднял бы на смех задумку, но… к черту апиологов! Я даже набросал несколько предложений: герои уединяются на даче, но тут… Но тут я понял, что такую же локацию использовал Костюкевич в романе о муравьях-убийцах. Пчелы дразнились, никак не желая опылять цветы моего творчества. В течение нескольких месяцев я периодически открывал документ, имевший лишь название, и прислушивался, не зажужжат ли снова? Закинут в покетбук книги «Повесть о биологии пчелиной семьи» Евгения Васильева, «Пчелы и медицина» Наума Иойриша и «Уж-ж-жасные пчелы» Р. Л. Стайна. Я, без шуток, хотел, чтобы меня укусила пчела (в последний раз такое случалось лет двадцать назад, было больно), но за окнами падал снег, а сроки, отведенные Костюкевичем нам, дедлайнерам, истекали. Обычно я использую какие-то моменты из личной практики или из биографии знакомых. Я был членом жюри поэтического конкурса, проходившего в задрипанном шахтерском городке, – так появились «Скелеты», дебютный роман. Родственники выселили товарища из квартиры – бытовой инцидент лег в основу «Мух» (в голове тогда тоже жужжало). Но выяснилось, что с пчелами я практически и не сталкивался, не считая нескольких жал, оставленных ими в моей плоти. На коктебельском литературном фестивале поэтессу Женю Чуприну, читавшую стихи, ужалила пчела, и ей пришлось вызывать скорую помощь: шея отекла. Такая себе история, но я готов был схватиться и за нее. Файл, озаглавленный «Жужжание», мозолил очи. И почему я не выбрал кошек или акул? Почему доверился подлым насекомым? Ладно, сказал я себе. Займусь читерством. Если я набил руку на мистике, то кто запретил мне включить в сюжет необъяснимые явления? Кэндимен, здоровяк с крюком, был ходячим ульем. Придумаю своего Кэндимена, или Кэндивумен, чтоб не обвинили в плагиате, делов-то! Чудотворцы Зосима и Савватий мне в помощь. Приведу полностью черновой кусок, который я набросал за полчаса:«– Папа, папа! – Растрепанная Тоня выбежала из пустой хаты, оглянулась в предрассветных сумерках, заметила движение на пасеке и кинулась через кусты смородины. – Папочка, я так испугалась! – А чего ж бояться, глупая? – пожилой пасечник улыбнулся разбитыми губами. Левый глаз заплыл – били крепко, ногами. – Не сахарный ведь. До свадьбы заживет. Взрослая дочь припала к отцовской груди. Легкие саднило – мчалась через все село сломя голову. На рамках в раскупоренном улье копошились пчелы, семья вентилировала леток. Отец отстранился, чтоб подкормить хозяйство сладкой водой из баклажки. – Сколько их было? – Двое. – Зачем же ты открыл, глупый? – Меда попросили. Как же путников медом вкусным не угостить? – Что, добавки захотели? – Сердце Тони сжалось. Пасека тихонько гудела. – Видать, понравился мед сладкоежкам! Поколотили меня во дворе и пять литров с собой забрали. – На машине? – На мопедах. Да черт с ними… – В смысле „черт“? Это же ограбление! С избиением! Отец беззаботно махнул рукой. – Лучше скажи, как ты узнала? Пчелы нашептали? Тоня медленно кивнула. Не в первый раз ей снились пчелы – желто-черное облако нависало над кроватью, над дремлющей женщиной, и чужие мысли жужжали в черепной коробке: „Газ проверь, воняет“… или „Матери позвони“… или как сегодня: „К отцу беги!“ Нелепица, конечно, откуда пчелам знать, что такое „звонить“, что такое „газ“ – и впрямь поддувающий из трубы? – Умницы мои. – Пасечник закрыл улей. Поманил дочь в дом. У красного угла она перекисью протирала его ссадины. Отец улыбался смиренно и глядел на старую потемневшую икону, изображавшую двух святых с лукошками в руках. – Помнишь еще, кто это? Тоня порылась в памяти. – Зосима и Савватий. – Верно. Соловецкие чудотворцы, заступники православных пчеловодов. Раньше на Руси совсем пчел не было, святые их из Египта принесли в тростниковой палочке. Тоня вспомнила, как семнадцатого апреля, на день Зосимы, ребенком молилась пчелиному богу, как отец обмазывал ее медом и вместе они ели трупики пчел. – Что случится с теми, кто тебя обокрал? – осторожно спросила она. Улыбка отца из робкой превратилась в довольную, злую, и Тоне стало не по себе, словно жала вонзились в живот. – Распухшие, – нараспев произнес отец. – Мертвые на дне оврага, под мопедами своими. Пчелки в рот залезали и кусали за языки. В глотки залезали. В желудки, в легкие, в анусы – и везде кусь делали. Пасечник захохотал, захрюкал, засучил ногами. Ошарашенная Тоня ждала, пока минует припадок. Периферийным зрением уловила: кто-то смотрит в окно, большой, пучеглазый, мохнатый. Но, обернувшись, увидела лишь облачко пчел в утренней дымке. И перекрестилась, как папа учил, чтобы пальцы двигались по спирали, будто насекомые летали от плеча к плечу, ото лба к пупку. Отец смеялся, скрипел зубами. Зосима и Савватий молчаливо взирали из угла, а по их суровым лицам ползали негромко жужжащие пчелы».Не густо – скажете вы, и будете, несомненно, правы. Знаете, что мне нравится в этой безделице? Слово «анусы». Пчелы в прямой кишке, по-моему, это ух! А знаете, что мне не нравится? Все остальное. Я не понимал, как мне продолжить историю, и уже представлял, в какое неудобное положение поставлю Костюкевича: добрейшему Диме придется подбирать слова, чтобы тактично отказать мне в публикации. Но нет худа без добра – по крайней мере, так я думал. Образ пчел, оккупировавших икону, явился ко мне из прошлого и щелкнул тумблером. Забавная вещь – мозг. Я забыл фамилии одноклассников, но помню название фильма, который смотрел один раз – четверть века назад. «Ликвак». Черт знает, что этозначит, – может, так звали персонажа. Я напряг извилины. Фильм был русским. Он шел по ТВ в середине девяностых и изрядно меня напугал. Думаю, послевкусие, оставшееся на всю жизнь, помогло мне написать рассказ «Курьи ножки»: там ребенок из девяностых боялся детской передачи. «Ликвак» пугал не спецэффектами, не монстрами, выпрыгивающими на зрителя, а атмосферой безысходности, какая встречается сплошь и рядом в перестроечных фильмах. Лично мне хочется принять душ после нетленок «Кислородный голод» или «Камышовый рай». Думая о том фильме, я пришел к выводу, что он был не столько хоррором в духе малобюджетного трэша «Killer Bees» или «The Deadly Bees», сколько обыкновенной чернухой. Ни в одном списке отечественных ужасов мне не попадалась картина «Ликвак» (тут я снова подумал о феноменальном устройстве памяти, а еще засомневался, так ли звали фильм). При слове «ликвак» на ум приходил режиссер Анатоль Литвак и легендарный харьковский сумасшедший, исписавший городские стены таинственными надписями «век – вак». В «Ликваке» были пчелы: меня, подростка, впечатлила и по-настоящему встревожила сцена, в которой полосатые насекомые заполнили избу, ползали по вещам, по иконам, по покойнице. Тумблер снова щелкнул. Всплыл образ: гроб посреди комнаты, водруженный на стулья гроб, в нем девушка. Не сомневаюсь, оператор снимал долгим планом, а картинка рябила дефектами. Ни о какой динамике речи не шло – это, конечно, была статичная тягомотина. Итак, зимой, полулежа в кресле, закинув на стол ноги, я думал о древнем российском фильме, а жужжание нарастало. Жужжало вдохновение. Окрыленный, я начал гуглить (яндексить, раз уж на то пошло). Интернет сказал, я на верном пути. «Ликвак, – прочел я, – традиционный норвежский танец мертвых. За день до захоронения гости заполняли дом покойника и выплясывали так, что домовина подпрыгивала. Обряд подразумевал непристойное поведение живых участников и нередко перерастал в оргию». Статью, аккуратно мною скопированную, иллюстрировал данс-макабрический набросок художника Николая Аструпа (был бы я не Кабиром, а каким-нибудь Ивановым, взял бы псевдоним Аструп). Художник, сообщалось, в детстве стал свидетелем ликвака. Я вспомнил, что в фильме действительно танцевали, и воспоминания заиграли новыми жутковатыми красками. Школьник, то ли пяти-, то ли шестиклассник, смотрит, как в ящике актеры танцуют вокруг гроба, и отчаянно дрейфит. Из всего прочитанного я мог бы состряпать занятный сюжетец, но где тут пчелы? Где, собственно, фильм? Самое время посетить «Кинопоиск». «Ликвак» – я не ошибся с названием! – в базе был, но страничка выглядела скупо. Ни постера, ни описания, ни баллов, зато я узнал, что сняли его еще в СССР, в девяностом году, и режиссер Павел Матейшин ограничился одним проектом. Имена актеров мне ни о чем не говорили, единственной звездой был композитор Артем Артемьев, сын Эдуарда Артемьева (годом ранее он сочинил музыку для боевика «Фанат»). Я приготовился к киносеансу, но переоценил всемогущество Интернета. «Ликвака» попросту не было в Сети. За тридцать лет никто не удосужился оцифровать пленку. Всеядный «ВКонтакте» смог предложить мне лишь уже знакомую картину Аструпа «The Corpse’s Dance». Вырисовывалась история про проклятый фильм, но Костюкевич не собирал антологии о проклятых фильмах. Пока я рылся в Сети, наступил вечер, с работы вернулась жена, мы ужинали, смотрели голливудские комедии, в которых никто не танцевал вокруг гробов, поссорились, помирились и легли спать. А утром я вскочил с полной уверенностью, что «Ликвак» даст мне ключ к будущему зоохоррору (к будущему зоохоррора даже). Мне бросили вызов. И я этот вызов принял. Я полез на IMDb. Вот что нашел.
Ликвак (1990) Likvak (original title) 1h 16min | Drama | TV Movie 1990
Director: Pavel Mateishin Writers: Pavel Mateishin Stars: Dennis Zaharenko, Nadejda Lin.
Plot Keywords: folklore, paganism
Country: Soviet Union Language: Russian Filming Locations: Odessa, Ukraine Production Co: Tonis Color: Color
На сайте отсутствовала афиша, но имелось аж два скриншота. Первый запечатлел голую барышню, может быть, Nadejdu Lin. Она таращилась на меня глазами, полными то ли ужаса, то ли священного экстаза. У нее были маленькие груди с торчащими сосками и густые черные волосы на лобке. Вторая фотография привела в замешательство. Она изображала корову, закопанную в землю: наружу торчала часть спины и голова чуть выше уровня глаза. Тушу коровы покрывали пчелы, и это была квинтэссенция арт-хауса, что-то среднее между экзерсисами Линча и кадром из короткометражки, которая убивала персонажей «Звонка». Таких подробностей я не помнил, но смотрел ли я кино целиком или попал на середину, щелкая каналы? Бог весть. Сохранив оба скриншота, я посетил страницы актеров. У всех без исключения «Ликвак» оказался единственным фильмом в картерах. Я решил, что Матейшин нанял непрофессионалов. Сцепив замком пальцы, я крепко задумался. Надо сказать, я почти забыл о Диме Костюкевиче и антологии. Меня занимал «Ликвак». Прекрасно понимая, что кино не стоит затраченных усилий, я зажегся идеей его найти. А заметка в отсканированном киножурнале подлила масла в огонь. Рецензент писал: «Пасечник, мечтающий вывести особый сорт пчел, обращается к магии. Он приносит в жертву корову, и из коровьего рога (без шуток!) рождается пчелиная матка. Мед „особенных пчел“ по-особенному воздействует на людей. Они тянутся к смерти, ночуют на кладбищах, покупают гробы. Пристрастившаяся к меду соседка проникает на пасеку, но ее жалят пчелы. Решив, что девушка умерла, односельчане устраивают странные похороны с танцами. Героиня же приходит в себя в гробу, полном пчел. Не ищите логику, ее нет. Дебютант Павел Матейшин снял алогичное, невнятное, попросту раздражающее кино. Здесь плохо все: актерская игра, операторская манера, работа осветителей (точнее, отсутствие таковой). Но хуже всего пафос, многозначительность, которой создатели лакировали эту неумелую поделку. Аллюзии на повесть Михаила Коцюбинского „Тени забытых предков“ (и одноименный шедевр Параджанова), цитаты из Вергилия… так и подмывает сказать Матейшину: либо раздобудь мыло, либо грязными руками великих не тронь!» Негативная оценка критика лишь завела меня. Черт подери, я жаждал видеть это дерьмо! Я обратился за помощью к друзьям-киноманам, в том числе к завсегдатаям закрытого паблика, тихопомешанным гикам. И явно их возбудил. «Ликвак», – бормотали они, выпростав руки на манер ромеровских зомби. В тот день слово «Ликвак» гуглилось по всему СНГ. Живущий у Черного моря фанат некрореализма известил с сожалением, что Одесская киностудия закрыта на карантин и разузнать что-либо про их детище сейчас невозможно. За ужином я рассказал о расследовании жене. «Боже, какой же ерундой ты занимаешься», – удивилась она. Я страшно обиделся. В понедельник я накатал письма в ряд архивов. Мол, такой-то фильм необходим для научной работы. В четверг получил ответ из российского Госфильмофонда.
«Здравствуйте, Максим Ахмадович. Мы можем предоставить вам цифровую копию картины „Ликвак“, но для этого необходимо разрешение от правообладателей».Я ринулся на IMDb. Правообладателем значился украинский телеканал «Тонис»; в две тысячи семнадцатом он прекратил вещание, мутировав в канал «Прямой». Им я тоже отправил письмо. И уперся в тупик. Топ-менеджмент «Прямого» ответил, что «не володіє інформацією про проекти „Тонісу“ і нічим не може мені допомогти». Я признал поражение. Я думал о том, как бы мне высосать из миниатюры о Зосиме и Савватии полноценный рассказ, а писатели вовсю слали Диме готовые тексты: в текстах кишели обезьяны, медведи, волки, лисы и прочая живность. Только пчел там не было. В феврале мне написал фанат некрореализма. Его звали (и зовут) Толик, и он мой самый старый знакомец в Сети – общались мы года с две тысячи девятого. Про кино общались, естественно.
«Короче. Сведений об актерах – ноль. Матейшин на том свете. Но я отрыл контакты оператора. Поеду к нему в субботу. Присоединишься?»«Только мысленно!» – написал я. Покурил, вернулся за компьютер и отредактировал сообщение. «Присоединюсь!» Позвонил жене, жаловавшейся, что мы давно никуда не выбирались, и обрадовал новостью: выходные проведем в Одессе! Мы выехали рано утром. Жена вела автомобиль, а я дремал на пассажирском сиденье. В ночь перед вояжем я отвратительно спал. Бывают сновидения, запоминающиеся на всю жизнь. Кошмарнейшим моим кошмаром был давнишний сон про монашек, игравших в футбол младенцем. Я вставил его в рассказ «Причастие». Но сон, приснившийся накануне поездки, монашек переплюнул. Я лежал в гробу, а вокруг водили хороводы какие-то люди. Они извивались и экстатически заламывали руки. Музыки младшего Артемьева не было, я слышал лишь топот ног по деревянному настилу и навязчивое жужжание. Я не мог пошевелиться, бессильно наблюдал за сатанинскими плясками. Лица танцующих покрывали маски из мягкого воска и проволоки. Пчелы ползали по мне, щекоча брюшками. Я проснулся в предрассветных сумерках с колотящимся сердцем и прильнул к жене. В город Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова мы прибыли в полдень. Теплая и слякотная зима расщедрилась: температура упала до минус пяти, снег прихорошил улицы. Мы сняли гостиничный номер возле автовокзала и отправились гулять. Пообедали пиццей, фотографировались у памятника Дюку де Ришелье и на Потемкинской лестнице, бродили по пляжу, любуясь морем, а окоченев, грелись в кафешках. К вечеру разбежались. Аня упорхнула к одногруппнице-одесситке, а я – к Толику, которого ни разу не видел вживую. Толик оказался упитанным говнарем: морозоустойчивый, расхаживал в легкой косухе и бандане с черепами. У него были милые усики, я разглядывал их, пока мы болтали о режиссере Юфите и писателе Мамлееве. Я впечатлил Толика тем, что встречал старенького Мамлеева. Мы пили крафтовое пиво в пабе; за панорамными окнами, на другой стороне улицы, снимали то ли сериал, то ли юмористическое шоу. Я узнал Валерия Чигляева, сыгравшего капитана Флинта в клипах из мультика «Остров сокровищ». После десятка дублей киношники свернули оборудование, а прохожие ринулись к Чигляеву за автографом. Оператор пересек проспект и вошел в паб; Толик помахал ему рукой. Оператора звали Сергей. Тщедушный и угрюмый, он отказался от выпивки, не стал снимать пальто, всем видом демонстрируя, что спешит. – Ну, помню, – буркнул он. – Ерунда редкостная. Матейшин этот в кино ни черта не смыслил. Набрал каких-то алкоголиков, на главную роль свою бабу взял. Снимали у него дома, за городом. Сценарий… ну что говорить, вы сами видели. – Я не видел, – возразил Толик. Мы объяснили оператору, что ищем фильм или правообладателей. – Ничем не помогу, – сказал Сергей. – Я «Ликвака» только на премьере смотрел, от стыда сгорал. Публика в зале улюлюкала. Матейшин покончил с собой в девяносто вроде первом. Он странным малым был. Со странными идеями. – Например? – взбодрился я. – Ну, танец этот вокруг покойника – он намекал, что в его семье такой ритуал практиковали. Его предки, говорил, в Одессу из Скандинавии переселились до революции. Были известными пчеловодами. В сцене с похоронами он пчел выпустил – я в обмундировании снимал, как пасечник. Надька, баба его, вся в пчелах лежала. – А как ее найти, не в курсе, Надю? Ее фамилия Лин? – Нет, она псевдоним взяла. Артемида Черная. Я чего запомнил – пару лет назад делали передачу про гадалок. Гляжу, лицо знакомое у аферистки. Ба, Надька! Мы поблагодарили Сергея, и он раскланялся. Толик полез в Интернет: – А вот и телефон ее! – Он показал рекламу: «Предсказания будущего, тайны прошлого, индивидуальный подход. Артемида Черная, экстрасенс». Набирая номер, я резко шлепнул себя по загривку ладонью. Показалось, на основании шеи сидит какое-то насекомое, щекочет кожу. Прокуренный женский голос назвался нелепым и высокопарным псевдонимом. Я соврал, что пишу статью о Матейшине и разыскиваю фильм «Ликвак». Повисла пауза. – Перезвоните в понедельник, – сказала Артемида, она же – Надежда Лин. – Боюсь, я в Одессе проездом. Завтра отбываю. Толик сложил пальцы баранкой. – Хорошо, – сжалилась Артемида. – Приезжайте через час. Стоимость консультации – пятьсот гривен. «Ого! – подумал я. – Жирно живут современные гадалки». Артемида продиктовала адрес. Толик сказал, что сейчас на мели, но вызвался составить компанию. Я позвонил Ане: она веселилась с подругой, и я был вольной пташкой. Мы отправились к настоящей гадалке. В такси я ослабил шарф, проверил, что там такое постороннее трогает мою шею, причиняя дискомфорт. Ничего не обнаружил и откинулся на сиденье, разглядывая проносящиеся дома. Артемида жила вдали от туристических троп, в многоквартирном здании с одним подъездом и консьержем – здание, как я догадался, было общагой. Болтая о кино, мы с Толиком поднялись на третий этаж. Вправо и влево от лифта уходили бесконечные коридоры. Лампочки давали минимум света, и вся эта полутьма, и все эти цветы, неряшливо намалеванные на стенах, так и просились в мою прозу – правда, оставалось проблемой населить локации пчелами. Мы сунулись не в то крыло, вернулись к лифту и курилке, пошли мимо общей кухни с парой засаленных печей. Из-за обитого дерматином полотна доносились отзвуки блатняка: «Розы гибнут на газонах, а шпана – на красных зонах». Спустя десяток дверей и десяток ветхих половиков мы добрались до нужной квартиры (тут вы можете проворчать, что, посетив такой чудесный город, как Одесса, вы вряд ли бы слонялись по неухоженным общагам, но я слонялся). Дверь открыла очень худая короткостриженая женщина в атласном халате поверх свитера и джинсов. Хоть и с трудом, но я узнал девушку со скриншота на IMDb. Девушке было хорошо за пятьдесят, и она скорее напоминала кассира из АТБ, чем гадалку. Костистое лицо выражало подозрительность. – Максим, – представился я. – Мой коллега – Анатолий. – Деньги вперед, – сказала Артемида. – Мы хотим спросить вас о фильме. – Деньги вперед, – повторила она. Скрепя сердце я вынул кошелек. Гадалка сразу подобрела, впустила в квартиру и снабдила домашними тапочками, словно сделанными из картона. Мои лапы сорок шестого размера не втиснулись в обувь, и я пошлепал по ледяному линолеуму в носках. Квартира пропахла табаком. Полумрак просочился сюда из подъезда. Окна были плотно зашторены, в трехрогой люстре горела сиротливая лампочка. Но в целом это была самая обыкновенная двушка, без черных кошек и магических шаров. Разочаровывающе обыкновенная: сервант, диван, телевизор, ворсистый ковер. К запаху курева прибавился душок потных носков – его принес Толик. Мы уселись за стол. – Вы застали меня врасплох, – призналась Артемида. – Я думала, никто не видел этот фильм. – Я видел его по телевизору в девяностые. – Понравился? – Артемида выгнула бровь. – Необычная работа, – дипломатично сказал я. – Критики фильм разгромили. – Гадалка сморщила нос презрительно. – Они не поняли идеи Павла. – А какая была идея? – спросил Толик. Артемида уставилась на моего компаньона, будто только что его заметила. – Я просто не смотрел, – стушевался Толик. – Это кино о смерти, – сказала Артемида. – О том, что разница между живым и мертвым не так велика, как нам кажется. И мы все рождаемся мертвыми. Не хотим верить, двигаемся, суетимся. А осознав, ложимся в гроб. – Это правда, – интервьюировал я хозяйку, – что Матейшин использовал реальные практики? Танец смерти, где вы лежите в гробу. – Да. Так прощались с его отцом, с его дедом и прадедом. И на его похоронах мы плясали как чокнутые. – Офигеть, – вставил Толик. Я вспомнил свой сон и ощутил холодок внутри. А может, это мерзли мои ноги. – Самоубийство Матейшина связано с провалом фильма? Теперь и я удостоился высокомерного взгляда. Исключительно противной теткой была урожденная Надежда Лин: надменная, холодная, как ее обитель. – Вы знаете, что такое «душа»? – Бессмертная субстанция? – предположил я. – Павлик сравнивал душу с зародышем, умершим в животе матери. В момент нашего рождения душа начинает разлагаться, и постепенно распад охватывает все наше тело. Убить себя – значит перестать отворачиваться от истины. – Это как у Летова, – сказал Толик. – Ищет дурачок мертвее себя. – Один среди червивых стен, – задумчиво промолвила Артемида. – Получается, – спросил я, – «Ликвак» – философский манифест? – Что вы. – Впервые Артемида улыбнулась, и улыбка эта не добавила ей очарования. – «Ликвак» – попытка зафиксировать на целлулоиде ту атмосферу, в которой мы жили. – СССР? – Нет, мы с ним. С Павликом. «Веселенькая атмосфера», – хмыкнул я мысленно. – Павел явил мне чудо, – выспренно заявила Артемида. – Указал путь, которым я двигаюсь до сих пор. Я предсказываю будущее, но никакого будущего нет. Я лгу, как и все теплокровные мертвецы. Заглядывая в человека, я вижу лишь гниль и опарышей. «Милочка, – подумал я, – добро пожаловать в мой следующий рассказ». – А что насчет пчел? – Мне не терпелось перейти к главному. – В сцене похорон были пчелы. – Бычьи пчелы, – кивнула Артемида. – Слышали о них? Мы ответили отрицательно. Ни в «Повести о биологии пчелиной семьи» Евгения Васильева, ни в «Пчелах и медицине» Наума Иойриша, ни в «Уж-ж-жасных пчелах» Р. Л. Стайна я не встречал такого словосочетания. Артемида смежила набрякшие веки. – И сказал им: из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое. Эту загадку загадал библейский Самсон друзьям. Отгадка же в том, что Самсон убил льва, а через несколько дней обнаружил в трупе пчел и мед, которым он угостил родителей. Пчелы из тлена – это бычьи пчелы. Семья Матейшина делала их много веков подряд. – Делала? – нахмурился я. – Вот именно. Нужна дохлая корова, ее закапывают в землю в стоячем положении, так, чтобы наружу торчали рога. Через месяц рога спиливают, и из них вылупляются бычьи пчелы. Толик закряхтел, а я пихнул его под столом. Не хватало, чтоб он своим скепсисом обломал мне такой сюжет. – Бычьи пчелы, – продолжала Артемида, – психопомпы. Так называют проводников, которые сопровождают души в загробный мир. Но бычьи пчелы выслеживают мертвецов, прикидывающихся живыми. Они находят гнилое и селятся в душах. Утаскивают нас заживо в ничто. Я прочистил горло, пошевелил озябшими пальцами ног: – То есть в фильме Матейшин воспроизводит языческий ритуал? Артемида встала, запахивая халат, прошествовала к серванту. – Люди на съемочной площадке думали, это трюк. Но мы стали свидетелями чего-то потрясающего. Бычьи пчелы появились на наших глазах. – Артемида сняла с полки прозрачную пластиковую коробочку вроде мыльницы. – Я сохранила одну. Вот уже тридцать лет она напоминает мне о великой лжи – жизни, и великой правде гниения. В коробочке лежала пчела. Крупная, размером с половину моего мизинца, цвета жженого сахара, без полос. Я видел усики и две пары темных крыльев, мощные мандибулы и темно-коричневые фасеточные глаза. Протянув руку, я коснулся пальцами коробочки и отдернулся. Насекомое очнулось ото сна, расправило крылья, поползло по пластику. – Оно живое, – Толик невольно процитировал доктора Франкенштейна. – Погодите, – опешил я. – Пчелы живут четыре-пять месяцев. Но не тридцать лет. – Нет никакой жизни, – проговорила Артемида тихо. И обвела нас пристальным взглядом. – Вы хотите посмотреть фильм? За сеанс она запросила еще пять сотен. Аня прибила бы меня, узнай, на что я трачу кровно заработанные деньги. Толик прошипел на ухо, что обязательно возместит мне часть убытков. Я уединился в туалете – если слово «уединиться» применимо к каморке, кишащей прусаками. Брезгливо перетаптываясь, я звякнул жене и убедился, что она не скучает в компании подруги. Мы договорились встретиться в восемь на Дерибасовской. Я думал о пчеле-долгожительнице, о психопомпах, в честь которых, вот так совпадение, нарек сборник новелл, и потирал руки. Гадалка, то ли выжившая из ума, то ли имитирующая сумасшествие форса ради; грязная одесская общага; пчела в коробке, невесть откуда взявшаяся среди зимы, – вот тот сор, из которого я слеплю зоохоррор для Костюкевича. Ликуя, я вернулся к чудаковатым знакомцам. В стоимость сеанса входил коньяк: Артемида разливала его по захватанным стаканам. Я вежливо отказался от алкоголя. Телевизор был уже включен, видеомагнитофон слопал кассету. В последний раз я слышал этот характерный звук лет пятнадцать назад. Кто сегодня смотрит фильмы на Ви-Эйч-Эс? Разве что экстрасенсы – в комнате не было ни компьютера, ни иных современных приборов, эта мебель, пыльный сервиз, прожженный ковер идеально смотрелись бы в сериале «Внутри Лапенко». Я сел на стул. Артемида закурила тонкую сигарету. Я же решил не утолять никотиновый голод – уровень кислорода в комнате и так стремился к нулю. Я посмотрел на гадалку, на прихлебывающего коньяк Толика, и уставился в экран. «Ликвак» никогда не выпускался в прокат. Артемида записала телеэфир, возможно, тот же, что подарил мне незабываемые ощущения в девяносто пятом или шестом. В правом верхнем углу маячил значок давно не существующего канала, а качество пленки было ужасным. «Ожоги» и черточки шли бонусом к атмосфере беспримесного уныния. В своем рассказе я, конечно, превращу загадочное кино в ужастик про дьявольских пчел. Но «Ликвак» находился вне жанровых категорий. Это было кошмарное (и, в теории, культовое) кино, которое давало фору всем кошмарным фильмам, мной просмотренным: «Вазе», «Ста двадцати дням Содома», «Подопытным свинкам», «Посетителю Q», опусам Фреда Фогеля и Йорга Буттгерайта. Чернуха в вакууме, «Ликвак» предлагал зрителю аморфную историю безымянного пасечника. Как и прочие персонажи, пасечник напоминал сомнамбулу, а оператор Сергей любил тыкаться камерой прямо в его одутловатую морду с отпечатком вырождения. Пасечник ел мед и говорил на пчелином языке, то бишь издавал раздражающее жужжание. Убийство коровы произошло за кадром, но туша, которую он закапывал, была настоящей, она по-настоящему сгнила в следующей сцене. И после стольких хорроров я отвел взгляд от экрана. Ладно человеческие трупы, но глазеть на позеленевшую, разлагающуюся корову для меня, вегетарианца, было чересчур. Потом пасечник вооружился лобзиком, и из спиленного рога полезли коричневые пчелы. Надо отдать должное, фокус режиссеру удался. Без понятия, как он их туда без графики запихнул. «Как-как! Они родятся в падали, сказано же!» Я придумал способ самоубийства: режиссер в моем рассказе перережет глотку осколками разбитой банки из-под меда. На экране возникла Артемида, Надежда Лин. В молодости она была ничего, но я никак не мог определиться, хорошая она актриса или плохая. Порой она казалась манекеном, умеющим лишь пучить глаза, но порой отмороженная манера игры и лютый взгляд фанатички били в цель. Где-то на сороковой минуте мне захотелось сигануть в окно. Монотонность «Ликвака» граничила с садизмом. От жесткого стула ныли ягодицы. Затхлый воздух и полумрак вводили в транс. Оборачиваясь, я видел озаренные всполохами лица: вялое, осоловевшее – Толика, хищное и птичье – Артемиды. Почти все время мы молчали, лишь однажды, когда голая Надежда Лин вышла из бани, Толик сказал: – Ты красивая. Ничего более неуместного я и вообразить не мог, но Артемида хмыкнула у меня за спиной. Нагота актрисы возбудила бы разве что некрофила. В этом чертовом фильме все было дохлым, бледным и смрадным, в том числе ее эрегированные соски и треугольник волос меж ног. Ближе к часовой отметке появились маски. Несправедливо, что они не попали в золотой фонд стремного российского кино, потеснив фотографию мужика из «Прикосновения». Пчелиный воск держался на проволочном каркасе. Проволока выпирала наподобие собачьего намордника. Я поерзал. Долгие годы маски хранились в дальнем уголке памяти, а вчера просочились в ночной кошмар. Все верно, эта сцена мне и снилась: оператор снимал из гроба, с точки зрения покойницы, собравшиеся танцевали вокруг, но музыки не было. Был топот, было жужжание, были учащенные удары моего сердца. Бычьи пчелы ползали по иконам. По белому лицу Надежды Лин. По мягким маскам плясунов. Будто у меня за пазухой ползали. Сумею ли я верно передать весь ужас, сконцентрированный в ритуальном танце, всю эту российскую хтонь, почерканную зигзагами дефектов? Закопанная корова, домовина, трупный мед? Я размял затекшие пальцы, поглядел на руку. Ее покрывал толстый слой жужжащих коричневых пчел. Сотни крылышек трепыхались. Сотни жал одновременно впились в мою кожу. Я замычал и проснулся, едва не сверзившись со стула. Синий экран мерцал. Я вырубился перед телевизором и спросонья не мог сообразить, видел ли пляски с покойницей в фильме или во сне. Гостиная опустела. Я растерянно заозирался. Я чувствовал себя подавленным, как после вечеринки, на которой напился и опозорился. В квартире было холодно, но одежда пропиталась потом. В поле зрения попала прозрачная коробочка на столе. Пчела исчезла. Но мне было не до пчел. Часы показывали девятнадцать сорок. Через двадцать минут я должен оказаться в центре. Кликнув на ярлычок «Убера», я пошел к межкомнатным дверям, приоткрыл их. И, как сам я пишу в таких случаях, онемел-окаменел-одеревенел. Толик трахал гадалку. В тусклом свете лампы я видел складки на его спине, дряблую задницу, татуировку между лопаток: синюю мышку-бурозубку. И все это выглядело так омерзительно и так бредово, что я на миг завис, и, уверен, со стороны напоминал персонажа какой-то фривольной викторианской гравюры, Peeping Tomа. Сочини бы я рассказ, в нем стоящая на четвереньках Артемида обязательно повернула бы голову и вперилась в меня фасеточным глазом пчелы. Но на деле я вообще не видел заслоненную дородным мужским телом любовницу, лишь хромая логика подсказывала, что раз Толик кого-то сношает, то этот «кто-то», к гадалке не ходи, Артемида. Я попятился и тихонько покинул голубков. Аня задубела, ожидая меня у памятника де Рибасу. Я не стал ей рассказывать о своих приключениях, она бы восприняла превратно походы к престарелым женщинам легкого поведения. Мы провели сносный вечер, я смеялся как ни в чем не бывало и почти не думал о пчелах, занимаясь любовью в гостиничном номере. Утром мы встретились с Аниной подружкой, и она спросила, что бы мы хотели посмотреть. Меня интересовал Преображенский парк: согласно Интернету, это была Мекка одесских привидений. Подружка заморгала озадаченно, Аня кивнула, мол, он у меня блаженный, и мы поехали в район Привоза. По дорожкам трусили бегуны, собачники вяло плелись за питомцами. Я сказал воодушевленно: – Под нами – четыре некрополя. Христианское, еврейское, караимское и магометанское кладбища! Аллеи проложили поверх могил! – Зачем ты пишешь такие гадости? – спросила Анина подружка без тени улыбки. Я же стойко улыбался, выслушивая критику. – Это ужасно. Крови и убийств предостаточно в реальной жизни. – Хоррор, – сказал я, – не обязательно про кровь и убийства. – Ужасно, – повторила подружка, отворачиваясь. Девушки ускорили шаг, отрываясь от меня, болтая о своем. Я брел, горделиво одинокий, как Басилашвили за собутыльниками в «Осеннем марафоне». Увидел среди деревьев необычную карусель: высокие фигурки двигались по кругу в оглушительной тишине морозного дня. Я сошел с асфальта, чтобы сфотографировать их, но никакой карусели там не было, плохое зрение и полумрак в зарослях обманули меня. Я почесал основание шеи, сгоняя мнимую мошку, и заторопился. Девушки говорили о детях, которых пора рожать. Остаток уикенда омрачили досадные подозрения. За обедом выяснилось, что я утратил вкус и обоняние. Пришлось менять планы. Аня волновалась, гоня автомобиль по трассе. И хотя у меня ничего не болело и температура была нормальной, я чувствовал себя сломанным. На заправке мне померещилось, что за нами наблюдает притаившийся в тени тополей человек и что бесформенное лицо его – маска из воска и проволоки. Дома мы сдали тест на ковид; он дал негативные результаты. Мы оба были здоровы, но предприняли все необходимые меры. Вкус вернулся, однако еда теперь не вызывала у меня никакого энтузиазма, все, что я ел, отдавало тухлятиной. Пчелу я увидел во время бритья. Типичная бу-сцена, настолько заезженная, что я не стал бы включать ее в текст – если бы она не случилась в чертовой реальности. Персонаж смотрит в зеркало, наклоняется, чтобы умыться, смотрит в зеркало вновь, а там!.. Там была коричневая пчела, она выползла из моей ноздри и устремилась вверх по влажной коже. Я завопил. Вбежала жена. Надо ли говорить, что пчела исчезла, а Аня усомнилась в словах благоверного? Вы правы, я слишком много говорю о собственном творчестве, но в рассказе «И наступила» (о, сколь ничтожны все мои рассказы!) я описал женщину, не верящую, что с ее супругом происходят чудовищные физические перемены. Я напророчил: Аня стала такой женщиной. Прошел месяц с тех пор, как я увидел в зеркале пчелу. Вы знаете, какие процессы происходят за месяц в переставшем дышать человеке? Испарения тканевой влаги. Помутнение роговицы. Пятна Лярше. Крошечные сухие чешуйки на кайме губ и головке пениса. Трупное окоченение. Натеки. Полный комплект. Внешне я остался прежним, разве что сильно похудел. Но внутри… там, где пчелы Матейшина свили гнездо… там смрад. Да, пчела, подселившаяся в мою бедную душу, дала потомство, порой ее детва выползает, незримая для всех остальных, уносит меня по кусочку и жалит ежесекундно. Я слушаю, как бьется сердце. Меряю пульс. Щиплю себя, выдираю волосы с луковицами, растягиваю татуированную кожу, эту гнусную шкуру, под которой красное мясо, вонючие кишки и белые кости. Как изгой Лавкрафта, увидевший в амальгаме монстра, я ужасаюсь, разглядывая уродливое лицо, которое носил столько безоблачных лет. Мне снятся люди в масках, они пришли, чтобы танцевать славный танец ликвак, людям в масках и бычьим пчелам ве́дома истина. Не знаю, почему они выбрали меня и была ли Артемида ходячим трупом, но мир с его приземленными удовольствиями мне больше не принадлежит. Если бы я писал рассказ, то бы придумал причины, но я не собираюсь ничего писать. Толик оцифровал видеокассету и выложил фильм в Сеть. Пересматривая его снова и снова, я будто смиряюсь с распадом. С пчелами смерти. Есть такая разновидность пчел: Vulture Bee, они питаются мертвой плотью. Я стал вместилищем насекомых, питающихся мертвыми душами, и Гоголь тут ни при чем. Об этих тварях знал еще Вергилий. Жена была слепа. Требовала, чтобы я обратился к психологу. К психиатру. Подмешивала таблетки в еду. Я колотил кулаками в стены и кричал на нее – кричал от беспримерного уныния и тоски – соседи однажды вызвали полицию. Сегодня жена собрала вещи и съехала к родителям. Я ее не виню. Сложно жить под одной крышей с трупом, даже с трупом любимого человека. Я зашторил окна и лежу на кровати, внимая жужжанию. Плясуны таятся в углах, готовые приступить к обязанностям. Им так не терпится танцевать! Дмитрий Костюкевич собирает антологию зоохоррора. Я пошлю ему рассказ, состоящий из одного предлож-жения.
Дима, Дима, бычьи пчелы ползают по моим глазам.
Михаил Павлов Маралы продолжали реветь
Началось все с того, что Гриша подъехал к дому с телом оленя на капоте «Нивы». Ольга подходила к машине медленно, с опаской, хотя понятно было, что животное уже отмучилось. Пасть, показавшаяся беззубой, была разинута в немом реве. Ноги выглядели переломанными, одна свисала, почти отрубленная. Густая малиновая кровь сползала по радиаторной решетке, капала с бампера. Прикоснуться к телу Ольга не решилась, остановилась в метре от машины и ближе не подошла. Ее пугали рога, разлапистые, остроконечные, в них, несмотря ни на что, ощущалась угроза. Гриша заглушил мотор и выбрался наружу. Что-то сказал, но слова выхватил и утащил порыв ветра. Ольга поежилась и обхватила себя руками, сообразив, что выскочила из дома налегке. Она вопросительно поглядела на Гришу, тот не заметил. Он уже достал нож и резал веревку, которая удерживала оленя на капоте. – Бросился прям под колеса, – наконец расслышала Ольга. Туша съехала по металлу и бухнулась на землю. Гриша тяжело дышал. Видно было, что тоже нервничает. Прежде чем убрать нож в ножны, тщательно вытер и без того чистое широкое лезвие. Поглядел на Ольгу широко распахнутыми ошарашенными глазами: – Бросился сам. Под колеса. – Помолчал, жуя губы, затерявшиеся где-то в глубине густой каштановой бороды, а потом отвернулся и добавил: – Может, не заметил меня. Может, сам смерти искал. Природа. Не зная, что делать, как подступиться к телу, они еще несколько минут простояли на ветру. Наконец Гриша сочувственно глянул на жену и улыбнулся: – Ты иди, не мерзни. Я уж сам тут как-нибудь. Ольга помялась и пошла к калитке, оставив мужа наедине с трупом оленя на каменистой земле. Черные круглые глаза на искаженной морде оставались открытыми.Вечером, накинув куртку, с кружкой чая в руках и сигаретой за ухом, Ольга вышла на крыльцо. Небо было огромным, почти чистым, с рассеянными растертыми мучными щепотками перистых облаков. Серо-синие сумерки на востоке тянулись вверх, огибали земной шар, светлели, наливаясь нежной голубизной, и таяли в розовом дыму заката. На юге выпирал изломанный хребет Хамар-Дабан, белели заснеженные вершины. Сквозь аквамарин небосвода проглядывал призрачный месяц. Осенний ветер гулял по огороженному пустынному участку вокруг дома. Издалека донесся вой, тонкий, тоскливый, оборвавшийся неожиданным переливом, будто кто-то учился игре на саксофоне. Вскоре на вой ответили, еще дальше и глуше, с той же тоской и странным перебором нот. Ольга отпила чай и закурила. Пару лет назад она обещала бросить, когда забеременеет, но пока повода не было. Взгляд Ольги задумчиво скользил по горизонту. Там, у подножия гор, раскинулись густые хвойные леса, а повыше – просторные альпийские луга с клочьями кедрового стланика. И вот там сейчас перекликаются эти странные, как будто несчастные создания. Ольга вслушивалась в нестройное причудливое многоголосье, которое хорошо запомнила еще по прошлой осени, и как могла старалась не замечать шум, долетающий порой из-за дома. Туда, к сараю с инструментами, Гриша оттащил оленя, чтобы ничего не запачкать. Слышались охи, короткий мат, глухие удары топора. Может, стоило пойти и помочь? Ольга никак не могла решиться. Курила и слушала тревожные саксофоны в сумерках. Понурив плечи, усталый, подбрел Гриша и тяжело облокотился о крыльцо. С ладоней капала вода – уже умылся. Ольга затянулась в последний раз и поспешно затушила сигарету. Вдали снова завыли. – Маралы ревут, – улыбнувшись уголком рта, прокомментировал Гриша. – Гон идет. Вот так же он говорил в прошлом году. И в позапрошлом, в их первую осень здесь. Ольга кивнула, накрыла его холодную мокрую ладонь своей теплой. – Хочешь чаю? Он взглянул на нее с благодарностью, кивнул и улыбнулся чуть шире.
Ужинали они очень поздно, незадолго до полуночи. Бо́льшую часть своей порции Ольга оставила на тарелке – кусок не лез в горло. От пористого нежного сладковатого мяса, напоминавшего печенку, тянуло блевать. А вот Гриша старательно уминал все, что было. То ли и впрямь проголодался, то ли чтоб хотя бы это не пропадало. Он уже рассказал, что мясо в основном придется выбросить, в холодильнике нет для него места. Кажется, он хотел поскорее избавиться от всего, что напоминало о произошедшем, и Ольга его вполне понимала. Только спросила, нельзя ли пристроить мясо куда-то в городе, подарить, кто-то ведь сейчас голодает. – Хрен его знает, – ответил Гриша. – Еще оштрафуют. В ту ночь, лежа рядом с мужем, Ольга долго не могла уснуть. Ее продолжало мутить.
Следующий день выдался пасмурным. Дождя не было, но и солнце едва показывалось. Ольга копалась в земле, воюя с бесконечными щупальцами хвоща и камнями. Любопытная синица желто-серым комочком скакала среди вывернутой наизнанку почвы, выискивая, чем бы поживиться. С забора наблюдала бурая в крапинку кедровка. Хотелось покурить, но Ольга старалась держаться, только отходила попить воды. В пыли на протоптанных дорожках среди следов от ее кед и Гришиных ботинок угадывались отпечатки когтистых лапок – похоже, ночью забредал заяц. Близость леса, пусть и едва видимого отсюда, часто давала о себе знать. – Оль, привет. Не узнав поначалу голос, Ольга вздрогнула и оглянулась. У калитки стоял Климов в желтой куртке. Инспектор Росприроднадзора и волонтер поисково-спасательной службы, он жил неподалеку и время от времени обходил соседей – удостовериться, что все живы-здоровы. С Гришей они немного дружили. – Испугал, что ли? – Немножко. – Ольга подошла ближе. – Как дела? – Потихоньку, Оль. – Климов положил руки на калитку. – А у вас как? Как Гришка? Дома? Почему-то захотелось соврать. Только один черт, «Нива», припаркованная у забора, сдавала с потрохами. Ольга оглянулась в сторону дома и протянула неуверенно: – Да, отсыпается, наверное. Муж и вправду еще не показывался. – Ну ладно, передай, что я хотел кое-что спросить у него. – Климов усмехнулся. – Не знаешь, он лицензию охотничью оформлять не хочет? – Не знаю. – Ольге стало не по себе. – Ружье-то есть. Зверь тоже. – Зверь? – Да, изюбрь, кабарга. Маралы расплодились. Этим дай волю, они всё под ногами выедят как саранча. Надо контролировать. Вспомнилась искривленная, будто ревущая, оленья морда. Переломанные ноги. Вязкая кровь. – Все нормально? – В смысле? – Ольга растерянно уставилась на Климова. – Да ты побелела вдруг. Показалось, сейчас сблеванешь. – Не, нормально все. – Она выдавила улыбку. – Точно? Ну ты давай, береги себя, если что. – Климов глядел на нее встревоженно и как будто изучающе. – Потопал я. Гришке привет. Когда он удалился, на пороге дома показался Гриша, молча поглядел вслед и вновь скрылся.
Следующие несколько дней прошли спокойно. Напряжение, копившееся в Грише, похоже, ушло. Ольга, чутко прислушивавшаяся к настроению мужа, к его шагам, к его молчанию, тоже смогла наконец выдохнуть. В будни Гриша работал в городе, в своей маленькой строительной фирме, которая как раз потихоньку выползала на самоокупаемость, а вечера они проводили вместе за чаем или бокалом белого сухого и сериалами. В субботу решили съездить в лес, набрать валежника для печки. Гриша пошелестел брезентом, подготовил багажник и заднее сиденье, принес из сарая электропилу. Ольга покидала в сумку бутылки с водой и перчатки. Хлопнули дверцы, «Нива» заворчала мотором и тронулась в путь. Надвинулся зеленый бор, раздался вширь и впустил в себя. Кроны сосен нависали по сторонам. Дорога была довольно ровной, но недостаточно широкой, чтобы по-настоящему рассечь толщу леса – машина будто в одну из пор на его теле нырнула. Лежины хватало, забираться вглубь не было особого смысла, но «Нива» ползла и ползла вперед. Проводив взглядом большое поваленное дерево неподалеку, Ольга подала голос: – Там хорошее место было. – А? – Погруженный в свои мысли, Гриша не сразу ее понял. – Впереди еще будет. Он стал внимательнее вглядываться в пейзаж, правда, как казалось Ольге, уделяя все внимание лишь правой стороне. Джип сбросил скорость – Гриша слегка перегнулся через руль, высматривая что-то через лобовое стекло, – и остановился. Ничего не объясняя, он выбрался наружу и обошел машину спереди. Ольге пришлось последовать за супругом. Тот стоял у правой фары, уставившись в сторону леса. Кинул косой взгляд на жену и потупился. – Тут это случилось. – Он помолчал и добавил: – Ну, с маралом. Ольга опустила глаза в поисках следов столкновения, понимая, что совсем не хочет их находить. К счастью, и не нашла. Гриша снова пялился куда-то вдаль. Приоткрыл было рот, словно собрался что-то сказать, но не стал, а просто сошел с дороги и двинулся к деревьям. Ольга постояла нахмурившись – делать было нечего – и пошла следом. Под подошвами высоких кед хрустели стелющиеся по земле жухлые кустарнички брусники. Стройные сосны перемежались размашистым сибирским кедром. В вышине среди просачивающихся солнечных лучей чирикали невидимые птицы. Остановившись у поросшего мхом пня метрах в двадцати или двадцати пяти от дороги, Гриша что-то рассматривал у себя под ногами. Ольга приближалась медленно, ей отчего-то стало не по себе. Муж, казалось, позабыл о ней. Но вот в глубине сосняка щелкнула ветка, послышалась мягкая шелестящая поступь, и они оба одновременно повернулись на звук. Метрах в десяти от пня застыл красивый олень с выпуклыми черными глазами и светлой коричневато-серой шерстью. Алтайский марал. Одна из местных гордостей. Так близко видеть их Ольге до сих пор не приходилось. В смысле, живых. Самец, довольно молодой, худощавый, сделал пару шагов навстречу людям. Потоптался на месте и прошел еще немного. Ольга все ждала, когда он испугается и даст стрекача. Но марал подступал все ближе, низко кивая головой, выставляя впереди себя вилы рогов. Им только предстояло спустя несколько сезонов разрастись, превратившись в раскидистую корону, но и эти скромные костные наросты в виде четырех изогнутых шипов выглядели вблизи достаточно угрожающе. Сообразив, что олень настроен недружелюбно, Гриша стал пятиться. – Тихо-тихо, – зашептал он. Ольга замерла, не зная, что делать. Марал продолжал неуверенно наступать. Может быть, он просто хотел прогнать незваных гостей? Гриша украдкой повернулся к Ольге и успокоительно поднял ладонь: – Не бойся. Грянул топот копыт. Мимо собрата проскакал еще один олень и, склонив голову, врезался в Гришу. Удар пришелся в бедро, Гриша охнул и упал в траву. Стискивая зубы, попытался подняться, но рогач, неистово мотая башкой, подцепил его за ногу и снова повалил. Ольга закричала что-то, сама не разбирая слов, и бросилась к мужу. Тот пыхтел и старался вырваться, пока марал таскал его по земле. Второй скакал рядом, норовя ткнуть рогами в лицо. Ольга подлетела к первому и что было дури пнула по ребрам. Потом добавила еще. Животное от пинков отступало боком и крутилось, волоча за собой Гришу – рваная штанина джинсов прочно зацепилась за рога. – Щас, щас… – бормотал натужно Гриша. Ольга заметила в его руке нож. Олень взбрыкнул, вскинув мощную шею с темной гривой, отчего Гришу тряхнуло и ударило оземь. Сквозь перестук копыт и шумное звериное дыхание Ольгарасслышала стоны и хрипы. Все закружилось, она почти не видела мужа – только оленьи ноги и бока. Гриша заорал. – Господи… – шепнула Ольга и рванула вперед, расталкивая взбесившихся животных. Гриша выскочил навстречу, окровавленный, с горящими глазами. – Давай, давай, давай! – Он потащил ее за собой. Ольга побежала бы, да Гриша хромал и мог только быстро идти. Маралы гневно всхрапывали где-то за спиной. Ольга так и ощущала, как рог вонзается ей под ребра. Гриша тихо матерился и все время оглядывался. Левая нога у него кровоточила, штанина была в лоскуты, причем большого куска не хватало. Похоже, он смог то ли отрезать его, то ли оторвать, чтобы освободиться. До машины оставалось метров десять. Ольга поглядела вперед, затем через плечо на танцующих позади молодых рогачей. Кажется, и впрямь появился шанс вырваться. Взор Ольги мотнулся по сосняку и остановился. Впереди чуть в стороне стоял третий олень. Выше остальных, но с тонкой шеей и без рогов. Самка. Что было в ее больших карих, с горизонтальными зрачками глазах? Ольга прохромала с мужем мимо, не сводя глаз с неподвижной ланки. Спустя несколько минут они оказались в салоне «Нивы». Хлопнули дверцы, щелкнули замки. Ольга думала, что машина сразу рванет прочь, но Гриша сидел на водительском месте и пялился прямо перед собой. Его лицо нервно подергивалось, дыхание было частым, прерывистым. – Ты как? – спросила Ольга. Покосившись на нее, Гриша показал алую от крови руку. – Боже! – охнула Ольга. – Не, – Гриша ответил негромко. – Это я его зацепил. По морде. Он держал ладонь так, будто хотел сберечь в ней немного этой остывшей загустевшей жижи. Несколько секунд прошло в молчании. Он указал на бардачок: – Подай салфетки, пожалуйста. А потом выудил нож и стал оттирать лезвие. Рукоятка, конечно, осталась заляпанной, поэтому он взялся очищать руки и вдруг рассмеялся. – Охренеть, да? – Гриша с улыбкой повернулся к жене. – Ты вообще… ты могла такое представить? Наконец автомобиль тронулся. Ольга оглянулась, но никого сквозь заднее стекло не увидела.
Вернувшись домой, они открыли бутылку «Мерло», чтобы успокоить нервы. Ольга забралась в кресло с ногами и отпивала из бокала по глоточку, будто вино было горячим. Время от времени она морщилась или усмехалась, невпопад отвечая на реплики мужа, но в основном просто таращилась куда-нибудь по-птичьи, широко распахнув глаза. Гриша, наоборот, пребывал в возбуждении, кружил по всем двум комнатам дома, болтал о случившемся, о том, как едва не наложил в штаны, схватившись с оленем, и гулко хохотал над собственными шутками. – Понимаешь, это же неестественно все! Как они себя вели! Это не похоже на маралов. Мне просто не поверит никто, если расскажу! – А ты расскажешь? – Не знаю. Ну да, наверное. – Надо рассказать. Они же опасные. – Ты не понимаешь! – Гриша снова возбуждался. – Вспомни, какие они были! Как нападали! Господи!.. В конце концов ему стало тесно, и, подхватив ополовиненную бутылку, он выскочил на улицу. Ольга повернулась к окну. Гриша шагал к своему сараю. Этот сарай с инструментами появился почти сразу, как только они, молодожены, пусть уже не слишком молодые, переехали сюда. Гриша хотел построить просторный дом взамен хибарки, оставшейся от прежних хозяев. Разбить сад. Ну и чтоб дети бегали среди всего этого благолепия. Было странно и почти безумно сорваться сюда, в горы, такие далекие от привычного движения, скорости жизни мегаполисов, к которым они оба привыкли. Но Гриша, живописуя свои мечты, был так убежден и так убедителен, что Ольга тоже поверила. К вечеру Ольга понемногу ожила, а Гриша, вернувшись в дом, поуспокоился. Скромно поужинав, они откупорили еще одну бутылку красного. Гриша с увлечением разглагольствовал о местной фауне, все больше о бурых медведях и лисах, потом о рябчиках и глухарях, но в итоге вернулся к алтайским маралам. Ольга поняла, что захмелела. – Знаешь, их же разводят даже, фермы есть. Не знаю, как за бугром, а у нас немало, на том же Алтае и в Свердловской области. – А зачем? – Ольга слушала уже вполуха, хотелось прилечь. – Ради пантов. Это молодые рога, мягкие еще, пушистые. Срезаешь их, а внутри кровь. Кучу всяких бальзамов и БАДов из нее делают, даже лечебные ванны на крови принимают. – И что, это от чего-то помогает? – Не знаю. – Гриша усмехнулся. – Вряд ли. Но знаешь, так уж повелось… На несколько секунд он замолчал, то ли задумавшись, то ли прислушиваясь к чему. – Кажется, сегодня не ревели, – проговорил он. – Странно, самое начало гона. Знаешь, зачем они ревут? Это такая битва у них среди самцов – кто кого переорет. А на крайняк рога есть. По-моему, это красиво, знаешь… – Знаю, – негромко с улыбкой сказала Ольга. – Ты мне много раз рассказывал. – Весь год во главе стада стоит самка, детки за ней ходят, и только осенью вот это вот что-то заставляет самцов сходить с ума и реветь что есть сил! Они так заявляют о себе, о том, кто они есть! Потому что это природа – вот она такая, так устроено у нее! – Гриша разгорячился и активно жестикулировал. – Этот рев, этот гон!.. И когда самцы между собой разберутся уже, самые сильные могут собрать гарем из самок и… Гриша расплескал вино. Ольга хихикнула, наблюдая, как он суетится в поисках тряпки. На секунду показалось, будто стекающая по его руке красная жидкость слишком уж густая, слишком вязкая. Улыбка на Ольгином лице притухла, а вот Гриша скалился во все зубы, блестя пьяными глазами, и по очереди обсасывал пальцы. Они не занимались сексом уже пару недель, но в эту ночь Гриша накинулся на нее, только они забрались в постель. Потом они лежали, потные, в темноте. Ольга не шевелилась, ощущая, как теплое липкое семя стекает по ягодицам. Гриша раскинул руки и долго пытался отдышаться. Понемногу его дыхание становилось все более тихим, все более поверхностным. Прежде чем провалиться в сон, он сказал: – Знаешь, хочу лицензию на охоту получить. Ольга дремала, и смысл сказанного прошел мимо нее. Нужно ли тут что-то отвечать? Она не понимала, что чувствует. Она устала, была немного пьяна и хотела спать.
За занавесками серело утро. Ольга проснулась слишком рано, можно было еще подремать часик-другой, но полный мочевой пузырь гнал из уютной постели. Оставив Гришу глухо сопеть в подушку, она кое-как оделась и пошлепала на кухню. Почему-то ныли икры и голову приходилось нести осторожно, чтобы ничего там не рассыпалось. Глотнув минералки из холодильника, Ольга зачем-то потрогала холодную печку-буржуйку, после чего направилась к тесной прихожей, сунула ноги в ботинки, заметила в зеркале свое припухшее хмурое отражение с черными винными следами на губах, влезла в куртку и вышла. Утро встретило холодком. Брезжил рассвет, горы вдалеке казались полупрозрачными. Ольга спустилась с крыльца и двинулась в обход дома. К туалету на улице она привыкла. Конечно, с новым домом должен был появиться и новый санузел, но когда это еще будет? Поначалу Гриша со свойственным ему пылом взялся за подготовку к строительству – так появился сарай, инструменты, первые стройматериалы – но со временем энтузиазм пошел на спад. Они об этом не говорили, но Ольга догадывалась почему. Это было несложно. Она прошла мимо истоптанного пустыря, который уже три года пыталась превратить в сад. Почва противилась, не хотела рожать. Скрипнула дверь, Ольга юркнула в деревянную будку туалета. Пописав, пошуршав салфетками, она натянула штаны и вышла. Хотелось курить, но сигареты остались в доме. Вокруг носился промозглый ветерок. То ли из-за длинных холодных теней, то ли из-за дурного настроения участок земли перед глазами казался Ольге особенно пустым и безжизненным. Забор покосился, что ли? А там что, Гришка забыл сарай запереть? Еще и топор воткнутым в чурбан оставил. Пришлось заставить себя сдвинуться с места. Вот уже много дней она не приближалась к сараю, обманывая себя тем, что ей там делать нечего. Это ведь Гришина вотчина, его маленький храм с перфораторами и ножовками. Ольга преодолела отделявшее ее от сарая расстояние, помедлила у приоткрытой двери и осторожно распахнула ее. Громадные ветвистые рога с убийственно острыми концами прокололи мглу. С перепугу почудилось, будто там, посреди сарая, стоит олень-исполин, возвышается над Ольгой, готовый вот-вот обрушиться на нее. Но прошло несколько секунд, и Ольга поняла, чтό видит на самом деле. Рога висели на стене, над верстаком и полками с гвоздями, прямо напротив входа. Какого хрена? Страх схлынул, и на его месте вспыхнула злость. Гриша что, решил оставить себе сувенир после того несчастного случая на дороге? Ольга ступила в полумрак сарая. Оторвавшись от опасно нависающих оленьих рогов, ее взгляд скользнул по полупустому верстаку. Справа, в глубине, лежало что-то громоздкое, металлическое и зубастое. А может, это и не сувенир, подумала Ольга. Может быть, это трофей? На верстаке криво скалился большой покореженный капкан, густо покрытый, словно заросший, кровавой коркой, волокнами плоти и потемневшими клочьями шерсти. Ольга попятилась к выходу. Ее замутило, но она справилась с приступом, подышав немного снаружи. Похоже, Гриша многое ей недоговаривал. Во рту скопилась кислая слюна, Ольга с омерзением сплюнула в землю и поспешила к дому. Взвинченная, она так и не заметила появившиеся за ночь прорехи в заборе, будто кто-то пытался вломиться к ним со стороны леса.
За спиной хлопнула дверь. Не разуваясь, Ольга протопала через кухню в спальню. Гриша, нагой, жилистый, с парой татуировок, еще дремал, разметав себя по кровати. Услышав шум, он приподнял голову и, помятый, со всклокоченной бородой, сонно уставился на жену. Та скинула куртку на стул и секунд на десять застыла, играя желваками. – Ты чего? – сипло спросил Гриша. Ольга уже приоткрыла рот, чтобы ответить, когда окно слева от нее взорвалось. Волна осколков окатила комнату, в туче стекла мелькнули копыта. Животное грохнулось на пол и тотчас подскочило, бешено оглядываясь вокруг. Ольга отпрянула к стене, не веря своим глазам. Один из тех молодых маралов, оторопело подумала она. Гриша, как был без одежды, спрыгнул с постели, оказавшись в противоположном от жены углу комнаты. Ошалевший зверь топтался между ними, шумно всхрапывая и водя рогатой башкой. Серая шерсть блестела, усыпанная бриллиантовой крошкой. По ногам сбегали струйки крови. Олень повернулся к Ольге. Из морды тоже торчали осколки, а левый глаз исчез под жуткой багрово-черной запекшейся кляксой. Это тот, что первым напал в лесу, сообразила Ольга. Значит, Гриша и впрямь достал его ножом. Олень сделал пару шагов к Ольге, и та метнулась к выходу. За спиной гулко стучали копыта, с тумбочки у постели посыпались тюбики и флаконы с косметикой. Вскрикнул Гриша: – Оля! Предчувствуя удар, она все же задержалась на пороге и оглянулась. Может, олень переключил внимание на Гришу? Она успела выставить перед собой руки. Рога вспороли кожу на запястьях, Ольга завизжала. Схватилась за остроконечные отростки, уперлась, пытаясь оттолкнуть наседающее животное, но сдвинуть его казалось невозможным. Гриша перепрыгнул через постель, подбежал, уцепился за рога и потащил в сторону. Зверь поддался, потерял цель и на секунду замешкался. Гриша толкнул Ольгу к выходу, и они вдвоем выскочили в кухню. – Зачем ты кричал? – Что? – Гриша не понял вопроса. Он захлопнул дверь, но ни замка, ни щеколды на ней все равно не было. Они поспешили в прихожую. Ольга шла первой, она толкнула дверь наружу и встретилась со вторым маралом, занявшим собой крыльцо. В проем тотчас сунулись иглы рогов. Ольга отстранилась, дернув на себя дверную ручку. Раздался треск и скрежет дерева, но закрыться не удалось. Сзади продолжал толкать Гриша. – Чего там? – Он попробовал отодвинуть жену и вдруг выпрямился, выгнулся, схватившись за правый бок. Сквозь стиснутые от боли зубы вместе с пузырящейся слюной сочились какие-то неразборчивые ругательства. – Господи, Гришка… – прошептала Ольга. Рога из проема исчезли, зато теперь снаружи в дверь бодали и били копыта, да так, что сотрясался весь дом. Гриша оглушительно зарычал и развернулся, сдирая себя с костяного крюка, на который оказался насажен. Ольга охнула, заметив его раскроенную спину. Гриша размахнулся, ударил куда-то кулаком и, озверевший от боли, продолжил наступать. Щелкнув замком на двери, Ольга метнулась из прихожей на кухню, а там – вправо, к столу и кухонному шкафу. Увидела, как дезориентированный марал трясет головой: должно быть, Гриша заехал ему в единственный глаз. Дернула ящик, ложки, половники и вилки едва не разлетелись в разные стороны. Рука сама сграбастала большой разделочный нож. Напружиненная, вжав голову в плечи, Ольга двинулась по краю комнаты в обход мужа к неугомонному оленю. Подобраться, всадить нож в бок или в шею. Вот о чем она думала. Плечо коснулось тюля: она проходила мимо окна. Подумалось вдруг: снаружи тихо. В дверь никто не ломится. Тень заслонила собой свет, отфильтрованный тюлем. Ольга едва успела отступить, когда стекло зазвенело и посыпалось на пол крупными кривыми кусками. В образовавшейся дыре крутилась рогатая башка. Олень закинул на подоконник передние копыта, захрипел, взвизгнул, забил задними ногами в стену дома. Ольга едва не выронила нож, все это выглядело слишком безумно. Олень дергался, мучил себя и резал ноги о кусочки стекла, торчащие из рамы. Казалось, он попал в ловушку и не сможет выбраться. – Охренеть, – выдохнула Ольга, пятясь от окна. За спиной Гриша снова сцепился с одноглазым. Ругань смешалась с натужным храпом животного. Ольга развернулась к ним, вспомнив о ноже в руке. Оставалось лишь выверить момент для удара. Мешала дверь в спальню, хлопавшая туда-сюда, да еще печка, за которую отступал олень. Ольга попробовала раз – нож рассек шкуру длинной наливающейся красным галочкой, но глубоко не вошел. Она полоснула опять, отскочила, чтобы не угодить под копыта, и подлетела снова. Гриша держал одноглазого за рога, но стоять на месте тот не собирался – то с силой напирал, то принимался крутиться. Пырнуть его как следует у Ольги никак не получалось. Послышался грохот, и второй марал все-таки ввалился в кухню. Он прокатился по полу, расшвыривая стулья, и рогом зацепил Ольгину ногу. Вскрикнув, Ольга неловко грохнулась оземь, загудели отбитые локти. Казалось, дом вот-вот рассыплется, не выдержав буйства животных. У обеденного стола подломилась ножка, и пузатая сахарница, солонка и перечница – все поехало вниз. Алтайский марал, стройный и особенно красивый на фоне учиненного хаоса, поднялся на ноги и неровной походкой, болезненно припадая на передние конечности, направился к Грише. Опустил голову, нацелился на незащищенную спину. – Гришка! – окликнула Ольга. – Осторожно! Тот оглянулся, опалил совершенно безумным взглядом, заметил хромого и как будто побледнел. Рванув за голову одноглазого, он попытался прикрыться его тушей. Рогачи столкнулись, но не сцепились, а, развернувшись, вдвоем насели на Гришу, прижимая его, окровавленного, с руками в ссадинах, к двери в спальню. Та распахивалась наружу, поэтому отступать было некуда. Правда, Гришу как будто интересовала другая дверь, правее, в чулан, но маралы не собирались его туда пускать. От их взбрыков дом ходил ходуном, трепетали половицы, подпрыгивала мебель. Гриша рычал, тщетно пытаясь удержать рогатых, а те перли и перли, выставив перед собой костяные копья. Ольга взвизгнула, в пару шагов оказалась рядом с животными и, сама не понимая, что творит, запрыгнула на спину одного из них, хромого. Вцепилась левой рукой в загривок, а правой стала бить оленя ножом. Тот попятился и в панике заскакал по комнате. Нож соскальзывал, сковыривая лишь кусочек шкуры, или пружинил, наткнувшись на кость, но то и дело находил путь между ребер и погружался вдруг глубоко и влажно, по самую рукоятку. Олень тяжело храпел, его вело то влево, то вправо. Иногда из глотки вдруг прорывался визг, тонкий, металлический, словно смычком вдоль струны резали. Крутящаяся туша боком врезалась в шкаф, внутри посыпалась посуда. Ольга здорово приложилась коленом, плечом и головой, но чудом сумела удержаться. Олень встал на дыбы, и Ольга повисла в воздухе без какой-либо опоры. Ощущение невесомости длилось лишь миг, но внутренности успели завязаться узлом. Ольгу швырнуло в стену. Что-то хрустнуло – то ли старые доски, встретившись с ее спиной, то ли ребра. Мир тревожно замерцал, подкатила мерзкая беспамятная темнота. – Нет, нет, нет… – бормотала Ольга, выгребая из мрака. Оказалось, она лежит на полу у стены. Прихожая совсем рядом. Можно юркнуть туда, сбежать, нестись по дороге до соседних домов, вопить, звать на помощь – кто-то ведь должен отозваться!.. Комната покачивалась. Ольга зарычала, пытаясь встать. В нескольких шагах ее муж старался удержать двух обезумевших парнокопытных. Она не могла сбежать, даже на секунду отвернуться не имела права. Где нож? Ольга балансировала, опершись на одно колено, борясь со слабостью. Она подняла глаза и увидела, как… Маралы выволокли Гришу на середину комнаты. Одноглазый вырвал рога из захвата, пригнулся и боднул в ребра, в левый бок, чуть ниже подмышки. Гриша застыл выгнувшись, на цыпочках, задыхаясь. Хромой вонзил ему рог в правое бедро. На мгновение все застыло. Это было почти красиво. На мгновение Ольга решила, что мужа убили у нее на глазах, и зарыдала. Не раздумывая, вся в слезах, она упала вперед, на четвереньки, заметила нож – вот он, у холодильника! – схватилась за рукоятку и успела продвинуться еще на полметра, когда хромой, не глядя, лягнул ее в грудь. Ольгу словно взрывом отбросило. Вместо левой ключицы, казалось, осталась только черная воронка. Перед глазами вновь потемнело. Гриша упал, тотчас попытался подняться, цепляясь за выдвинутый ящик шкафа, но поскользнулся и вновь рухнул. Половицы блестели от человечьей и оленьей крови. Ящик из шкафа грохнулся вместе с Гришей. Повсюду рассыпались вилки и поварешки. Ольга не знала точно, видит ли она все это или рисует у себя в помутненном сознании. Гриша, рубиновый от крови, подобрал отбивной молоток и встал на корточки. Маралы неловко топтались, спотыкались, собираясь напасть снова. Ольга чувствовала себя зверьком, выглядывающим из мрака собственной норы. Гриша напал первым. Молоток размазался в молниеносную серебристую дугу и, должно быть, проломил бы череп хромого, если бы тот вовремя не отстранился. Выругавшись, Гриша по инерции сделал шаг вперед. Одноглазый подался к нему, намереваясь атаковать открывшийся бок. Гриша успел обернуться и почти без замаха отвесил тому оплеуху молотком. Дальше все стало совсем нереально. Хромой заметил Ольгу и, выставив рога, с опаской, словно ожидая ловушку, подбирался к ней. Второй олень блуждал по кухне, неуклюже круша все, что попадалось на пути. Он сбивчиво дышал и время от времени тоскливо выл. Молоток превратил в багряное месиво его последний зрячий глаз. Гриша торопливо отбрасывал в сторону обломки стульев и стола, блокировавшие дверь в чулан. Справившись с этим, он оглянулся на Ольгу. Та не поняла, что было написано на его окаменевшем запачканном и неузнаваемом лице. Гриша приоткрыл дверь и скрылся за ней. Хромой оказался совсем близко, уже нависал, фыркал, давил запахом железа, аммиака и, кажется, мускуса. Крючья рогов раскачивались в каких-то сантиметрах от лица Ольги. Хотелось занырнуть обратно в беспамятство, но ужас выталкивал наружу. Только сил пошевелиться не осталось. Ольгу прошиб пот. Слепой врезался в брата, боднул в бедро, отскочил. От удара хромой едва не повалился на Ольгу, рога ударили ее в грудь, но не задели острыми концами. Слепой уже вернулся к своему сумбурному болезненному вальсу, натыкаясь на стены, печку и остатки мебели, оставляя повсюду кровавые отпечатки. Выпрямившись, хромой двинулся в его сторону, потоптался нерешительно, а потом вдруг ударил в грудь. Слепой упал, засучил копытами, размазывая вишневую жижу по полу, и после нескольких неудачных попыток сумел подняться. Подвывая, он заметался по кухне, всякий раз внезапно меняя направление движения. Ольга поползла было к выходу, но обезумевший зверь подскочил, преградив ей путь. Воздух с шумом вылетал из его ноздрей. Морду и грудь усеивали бурые пятна, алело вспоротое мясо. Огромной тенью надвинулся хромой. Он коротко двинул брата в лоб, и они сцепились рогами, заплясали, норовя затоптать Ольгу, скрючившуюся у их ног, пока не смогли расцепиться и откатиться по разным сторонам. Они двигались медленнее, обоих мотало от усталости и ран, но опасность, от них исходившая, никуда не делась. Ольга заметила Гришу. Тот стоял у противоположной стены, сжимая в руках ружье. Новенькую двуствольную «Тайгу», хранившуюся в чулане. Быстро-быстро выдыхая через рот, выпучив глаза, Гриша пялился на хромого. А потом прошлепал босыми ногами по загустевшим багровым лужам, наставил двустволку и почти в упор выстрелил в оленя. Грохнуло так, что Ольга с криком схватилась за голову. Казалось, что-то треснуло в черепе. Слепой в панике ломился в стену. Гриша сделал два шага в его сторону, вжал приклад в плечо и выстрелил снова. Вместе с громом Ольгу обдало кипятком. Это были брызги крови. Ничего не соображая, оглохшая, она продолжала завывать, пока не охрипла.
Когда едкий пороховой дым рассеялся, Ольга обнаружила, что осталась одна в разгромленном доме. С гудящей головой и слезящимися глазами она кое-как поднялась и, стараясь не задевать мертвые оленьи туши на полу, заглянула в спальню и зачем-то в чулан. Никого. Растерянная, она вышла из дому. Судя по всему, уже давно рассвело, только солнце не хотело показываться, мутно просвечивая сквозь серую облачную плеву. На крыльце Ольга вдруг закашлялась и наконец увидела Гришу. Тот стоял спиной к ней в нескольких шагах от дома, голый и грязный, с «Тайгой» в опущенной руке. Приблизившись, Ольга заметила, что его бьет крупная дрожь. У ног валялась разодранная коробка от патронов – значит, ружье снова заряжено. Гриша пучил глаза, уставившись куда-то в сторону автомобиля, и часто с усилием моргал. Кажется, некоторые из ран на его спине все еще кровоточили, но разобрать было трудно: он весь был покрыт ржавой коркой, где-то она подсохла, а где-то влажно поблескивала. Ольга коснулась локтя супруга, и тот поежился. – Гриш, пойдем в дом, – подала она голос. – Тебя надо помыть и перевязать. – Нет. – Он мотнул головой. – Ты чего? Тебе же надо, ты посмотри… Гриша помолчал, растерянно озираясь, очевидно не в себе, и пробормотал: – Нет, поехали так. – Куда поехали? – В больницу. – Хорошо, – робко сказала Ольга и снова взяла Гришу за локоть. Он не сдвинулся с места. – Ну пошли? – позвала Ольга. – Я не знаю, где ключи. – Какие ключи? – Ей уже хотелось разреветься. – От машины. С минуту они простояли так, ежась от ветра, пока Гриша не спросил: – Охренеть, да? – Да. – Ольга помолчала. – Охренеть. – Я не понимаю. В смысле… – Гриша говорил прерывисто, с паузами, – как это вообще? Они же так… не ведут они себя так. Получается, выследили нас. И пришли. – Гриш… – С какого хрена вообще? Понимаешь? С чего вдруг? Ольга вспомнила о сыто скалящемся капкане на верстаке в сарае: – А ты не думаешь, что они хотели отомстить? – Чего? – Гриша презрительно усмехнулся. – Какое еще на хрен «отомстить»? Ольга едва успела подумать, что муж приходит в себя, как он вдруг взорвался: – Отомстить, блин? Это я могу отомстить! Я! Это природа! Понимаешь, природа! Есть охотники, есть олени! Охотники убивают оленей! Всё! Ольга подалась назад и успокаивающе подняла руки. Но гневная тирада уже закончилась, так же внезапно, как и началась. Гриша шумно дышал, раздувая ноздри, а потом вдруг буркнул: – Мне холодно. Ольга не нашлась что ответить. И вообще, что делать? Вести его к машине? А где ключи? Вернуться домой? Она поглядела в сторону их разоренного жилища. Дверь осталась распахнутой, осколки стекол торчали из оконных рам, будто редкие больные зубы из десен. Из глубины дома доносились шаги. Гриша затаил дыхание и медленно обернулся, проследив за взглядом жены. Стараясь не шуметь, они двинулись к дому. Слышно было, как неуверенно постукивают копыта о доски пола. В окне мелькнула иссера-бурая оленья спина. Супруги испуганно переглянулись. Животное бродило по кухне то в одну сторону, то в другую. От одного тела к другому, догадалась Ольга. Вдруг шаги стали ближе и мягче – из-за коврика в прихожей. Ольга поспешила убраться подальше от крыльца, укрывшись за стеной здания. Гриша последовал за ней. Вскоре они увидели, как из дома, тихо и нетвердо ступая, выходит оленуха. Она была выше погибшего молодняка, но стройнее и безрогая. Ольга вспомнила ее. Гриша поднял ружье и прицелился. Оленуха, как будто потерянная, слабая, почти добралась до забора. Еще несколько секунд, и она выйдет на дорогу к лесу. Ольга посмотрела на мужа, на его пальцы, впившиеся в ореховое цевье «Тайги», на черные сдвоенные стволы. В голове уже разрывался гром, в груди закручивались тиски. Она чуть подалась вперед и разомкнула слипшиеся вдруг губы, еще точно не зная, что хочет произнести и произнесет ли. Гриша скосил на нее взгляд, сперва недоуменный, затем презрительный. Так и не сумев ничего выговорить, с заложенными ушами от подскочившего давления, Ольга почувствовала движение вне поля зрения. Справа выросла тень, слишком массивная, слишком высокая. На лицо Гриши обрушились копыта. Почва ушла из-под ног. Ольга с воплем бросилась к Грише, как в пустоту, без чувства опоры. Схватила за руку, заслонила, подставила спину под град копыт. Тотчас ухнуло в правую лопатку, словно метеорит упал. Ударило по затылку, чиркнуло по левой стороне черепа, отчего внутри на секунду погас свет. Ольга очутилась на земле. Перевернулась, приподнялась, крутя головой в поисках мужа, и, к своему ужасу, сразу его нашла. Он лежал скорчившись, пока оленуха втаптывала его голову в багровую грязь. Ольга завыла, царапая землю. Попробовала встать – ноги не держали. Ружье! Где ружье? Взгляд запрыгал, закружился, но «Тайга» будто сквозь землю провалилась. Разъяренное животное продолжало топтать Гришу. Казалось, оно просто издевается над мертвым телом, но Ольга видела, как скрючиваются пальцы на руках Гриши, как он слабо сучит ногами. Его лицо исчезло. Лучше туда было не смотреть, чтобы не увидеть нечаянно, как в алом булькающем месиве распахивается слишком широкий рот и щелкают неприкрытые кожей прореженные зубы. Глаза Ольги застило слезами, она отвернулась. Господи, что делать? Бежать? Не верилось, что она успеет пересечь двор. Ольга толкнула себя к дому, неловко поползла, уже у крыльца сумела подняться на четвереньки. И тотчас повалилась снова от удара в поясницу. Сперло дыхание. С перекошенным лицом Ольга оглянулась, заметила, как с неба вновь падают копыта, и перекатилась. Она успела вскочить и сделать пару шагов на полусогнутых ногах, прежде чем ее настиг очередной увесистый тычок в спину. Снова подняться, снова упасть, стискивая зубы от боли. Не разбирая дороги, Ольга двигалась куда-то вглубь огороженного участка. Оленуха шла рядом, то и дело напоминая о себе новым ударом. Угодив лицом в холодную рыхлую почву, Ольга обмякла. Казалось, сил больше нет. Она лежала раскинув руки, разбитая, посреди так и не разбитого сада. …Гриша отчего-то не хотел идти в центр по планированию семьи. И даже «нет» не говорил, чтобы у Ольги не было возможности поспорить. Он просто всякий раз находил отговорку, повод отложить поход в клинику на потом. Ольга ездила одна, сдавала анализы, консультировалась. Она видела сопротивление мужа, поэтому ничего ему не говорила. С ней все было более или менее в порядке: ничего такого, что помешало бы зачать и выносить ребенка. Гриша все реже делился вслух своими мечтами о большой семье, большом доме и пышном саде, но продолжал привозить из города семена, которые Ольга сажала в землю, а та продолжала их отвергать… Теперь Гриша лежал где-то у крыльца с растоптанным лицом и грудью. Ольга приподняла голову и повернулась, но не сумела разглядеть мужа. Правую кисть пронзила боль. Ольга оглянулась и сквозь слезы увидела копыто, пригвоздившее ее ладонь к земле. Она взвыла, попыталась вырваться, зашарила свободной рукой, швырнула вверх комья почвы, попробовала лягнуть оленуху в брюхо, а потом нащупала в земле гладкий увесистый булыжник и вцепилась в него. Получилось оттолкнуть маралиху плечом, и та отступила. Не прекращая подвывать, Ольга схватилась за камень обеими руками, крутнулась, ощущая, как груз норовит выскользнуть из пальцев, и врезалась в морду животного. Оглушенное, оно рухнуло наземь. Камень куда-то отлетел, и Ольга опять осталась безоружной. Оленуха пробовала встать, по темному носу сбегала кровь, рот приоткрылся, на миг показались мелкие красные зубы. Баюкая раненую руку, Ольга осторожно попятилась, и ланка, то и дело падая, тоже отступила подальше. Ольга не решалась отвести глаза от зверя и не знала точно, в какую сторону двигается. Просто делала шажок назад, потом другой. Сама себе она казалась подушечкой для иголок, только иглами служили собственные кости, и каждое шевеление, каждый вдох отзывались мучительными уколами внутри. Отойдя метров на семь, Ольга поняла, что оказалась у сарая. Дверь была распахнута. Оленуха, похоже, оправилась от удара. Теперь она нервно переступала с ноги на ногу и пялилась на Ольгу с противоположной стороны участка. Та вдруг подумала: чего ей надо? Почему она нападает? Почему бы ей просто не уйти? От изнеможения хотелось лечь прямо тут и уснуть. Накатывала тошнота. Вспомнилось Гришино многозначительное «Природа!», как он, Гриша, расплескивая вино из бокала, рассуждал: так у животных все устроено, так уж повелось. И пусть он бы сейчас с ней не согласился, Ольге казалось, что ответ на возникшие у нее вопросы как-то связан с этой его «природой». В голове у Ольги пьяное Гришино эхо откликнулось: «Это неестественно!» И тут она не стала бы спорить с мужем. Жив ли он еще? Возможно, умирает прямо сейчас и прямо сейчас ему нужна она, Ольга. Сквозь пелену облаков в вышине продрался сноп солнечных лучей, на миг ослепив Ольгу. И в этот же миг оленуха сорвалась с места. Разделявшие их метры она преодолела в несколько прыжков. Встала на дыбы, неожиданно громадная, темная, в золотом ореоле. Рукоятку топора Ольга скорее нащупала, чем разглядела. Казалось, правая пострадавшая рука не сможет ничего удержать, но выбора не было, и она удержала. Копыта уже падали на Ольгу, пробивая солнечный нимб, когда та выдернула топор из чурбана и коротко махнула им перед собой. Хорошего удара не вышло, но, получив в брюхо тяжелым металлическим полотном, пусть и тупой его частью, животное дернулось и завалилось в сторону. Копыта успели съездить по плечам и по лбу, и Ольгу отбросило назад. Каким-то чудом она устояла и даже занесла топор над головой. Промахнулась – оленуха успела вскочить и отпрянуть. Они хрипели, били друг друга, мазали, попадали, дрожали от ударов и, изнуренные, плохо соображающие, опять лезли в драку. Кровь сбегала у Ольги по лбу, по носу, капала с брови на веко, мешая видеть. Один черт перед глазами то и дело темнело. В ухо затекало что-то горячее. Топорище едва держалось в руках. Ноги казались ватными. Боль отдалялась, и это пугало. Ольга не могла позволить себе потерять сознание, ведь это означало смерть. Маралиха хромала и била передними ногами намного слабее, чем прежде. Топор ободрал с них шкуру, разлохматив мышцы на левой и, возможно, расколов колено. Зарубки на груди, на шее и морде сочились ярким рдяным соком. В очередной раз отступив, Ольга споткнулась о порог сарая. Чтобы не упасть, привалилась к косяку, но вновь взметнувшиеся вверх тяжелые роговые башмаки втолкнули ее внутрь. Оленуха ввалилась следом. Она меня здесь зажмет, подумала Ольга. Конец. Затем пришла другая мысль: я могу ее тут запереть. Не мешкая, Ольга попробовала протиснуться к выходу – не вышло. Оленуха навалилась на нее, протащила до стены, от удара с полок на утоптанный земляной пол посыпались гвозди, зазвенели ножовки. Держа топор левой рукой, Ольга неловко ударила животное по спине, сначала широкой щекой полотна, а потом все-таки лезвием, пусть и не глубоко. Оленуха толкнула ее к другой стене. Будто почуяв что-то, она все время старалась загородить выход своей тушей. Так их и мотало в тесном полумраке от стены к стене, трещали доски, рушились полки, гремели инструменты. С грохотом низвергнулся верстак со всем содержимым, следом пали подвешенные рога. Ольга никак не могла выбрать момент для хорошего удара, пока наконец не отпихнула животное ногой, отчего то повернулось боком. Ольга вцепилась в топорище двумя руками и заревела от боли, поднимая оружие над головой. Шаг вперед, и топор сам ринулся вниз. Сам вспорол шкуру, сам нашел дорогу между ребер. И застрял. Рукоятку вырвало из ладоней, и Ольга в ужасе отшатнулась. Ланка совершенно обезумела. Она верещала, брыкалась, пятилась, прыгала на стены. Ольга вспомнила слепого марала и последние мгновения его жизни. Потом тела на кухне в тумане пороховых газов. Ее замутило. Надо валить, подумала она и развернулась к выходу. Оленуха возникла перед ней, снова заслонив дверной проем, и встала на задние ноги – не для атаки, а как будто в конвульсии. Ольга не знала, что делать и как защищаться. Она оторопела. В следующую секунду оленуха обрушилась на нее всем своим весом. В спину что-то вонзилось, и Ольга задохнулась. Ланка дергалась, сучила копытами, но не могла подняться. Боль была колоссальной. Такой боли не могло существовать. По-рыбьи хлопая ртом, с трясущейся головой, Ольга скосила взгляд вниз, но не сразу поняла, что видит. Она ожидала увидеть свое разодранное в клочья тело, но это было нечто другое. Справа из ее груди под ключицей торчал длинный рог. Ниже выглядывали и другие. Пробив шкуру ланки, рога исчезали в ее груди. Это рога марала, подумала Ольга. Того большого сильного марала, самца, отца семейства, которого Гришка привез на капоте «Нивы». Гребаные рога, они грохнулись со стены, а я упала сверху. Пригвожденная к ней ланка еще предпринимала попытки встать, но понемногу слабела. Она скрипуче вскрикивала, кусалась, множа синяки на плечах Ольги, и фыркала ей в лицо. Та уже не замечала этого. Из-под полуприкрытых век она наблюдала за тем, как кровь покидает раны на теле оленухи, струится, вьется по изгибам рогов и изливается на раны Ольги. Это что-то могло или должно было значить, но вместе с кровью в раны проникал мрак, тягучий, сладкий, как смородиновое варенье, и неподъемный, как Вселенная. Ольга не заметила, как он заполнил ее всю.
Ольга не услышала, как кто-то встревоженно окликал ее. Она не увидела толпящихся над ней силуэтов. Кажется, она услышала, как воет электропила, распиливая рога. Костная стружка летела ей прямо в нос, она должна была это почувствовать, но не чувствовала. Ольга ненадолго пришла в себя лишь во дворе, обмотанная ремнями, на носилках. Сквозь мглу притупленной боли она разглядела Гришу. Узнала, несмотря на полиэтилен, которым его накрыли. Глухо переговариваясь, у сарая переминались мужчины. Ольга заметила Климова в желтой куртке и поняла, кто ее спас. Климов почему-то держал в руках Гришину двустволку, глядя себе под ноги. Остальные мужчины тоже смотрели вниз и хмурились. Там, на земле, судорожно подергиваясь, лежала грязная израненная оленуха. Во рту пересохло, Ольга сглотнула вязкую болотную жижу, наполнявшую рот вместо слюны. Она снова посмотрела на мужа в мешке для трупов, потом подумала о двух тушах в доме. Губы задрожали, стало трудно дышать. Она не сразу поняла, что это гнев. Ее душил гнев. Климов проверил патроны в «Тайге», вжал приклад в плечо и прицелился. Остальные молча подались в стороны. Кажется, Климов медлил. Ольга не могла это вынести, выстрелы разрывали ее изнутри, они отскакивали от стенок черепа и возвращались множественными вибрирующими отзвуками, от которых стиралась эмаль на стиснутых зубах. Ольга тянулась к Грише с ружьем, тот отвлекался, и копыта били его в нос, в щеки и в челюсть. Ольга тянулась, Гриша отвлекался, копыта били его. Гриша был мертв. Гриша ходил по кухне и расстреливал маралов. Гриша ходил по кухне и расстреливал маралов. Гриша ходил по кухне и расстреливал маралов. Эхо выстрелов умножалось на бесконечность. Ненависть лопнула в Ольге, словно абсцесс, словно воспаленный желчный пузырь. Волна взмыла к горлу, заставив приподняться, пусть и только на несколько сантиметров, натянув ремни на груди. Ольга выкрикнула что-то. Выкрикнула злобно. И от усилия, не успев до конца понять, что именно произнесла, потеряла сознание. После чего еще очень долго была только тьма.
Вдали в сумерках розовела величественная, протянувшаяся на сотни километров гряда Хамар-Дабан. Чирикали притаившиеся птицы. По пустынному участку вокруг дома гулял ветер, не по-летнему пронзительный, холодный. Осень еще нельзя было увидеть, но уже чувствовалось, что она здесь, уже пришла. Снова. Ольга вышла на крыльцо. Кружка чая в руках, сигарета за ухом. Закинула ногу на перекладину, прислонилась к стене, повозилась немного, устраиваясь поудобнее, и наконец отхлебнула чай. На лбу серебрился старый шрам, другой прятался в волосах. Но самые страшные, конечно, скрывались под одеждой. Ольга почти свыклась с ними. Она все еще пугалась громких звуков, но теперь уже была спокойнее. Она исхудала, стала жилистой, по лицу рассыпались мелкие морщины. Зато она снова могла есть сама, не выблевывая пищу. Только с мясом все еще бывали проблемы. Иногда на нее нападал беспричинный страх, и она металась по дому, с бешеным пульсом, задыхаясь, пока не забивалась куда-нибудь в угол, зажимая уши руками. К счастью, терапия и прописанные препараты, кажется, помогали, и теперь это происходило все реже. Иногда она просыпалась ночью, раз за разом выкрикивая одно и то же слово. – Хватит, – задумавшись, Ольга не заметила, что шепнула это вслух. Как ей потом рассказали, именно это слово она прокричала, прежде чем отключиться на носилках. Ольга закурила. Неподалеку шелестел обильно разросшийся по земле березовый ерник. Медленно переступая, оленуха срывала зеленые листочки и пережевывала. Ее шрамы, проглядывающие сквозь серовато-бурую шерсть, были заметнее. Она прихрамывала, и это уже нельзя было исправить. Где-то взвизгнули, завыли саксофоны. Ольга встрепенулась, подобралась на секунду и неловко улыбнулась своему испугу. Ланка подняла голову, прислушиваясь. Звук доносился из леса. Он был долгим, переливчатым, в нем смешались тревога, тоска и угроза. – Маралы ревут, – зачем-то произнесла Ольга дрогнувшим голосом. – Гон идет. Она вспомнила Гришу, захотелось расплакаться. Ольга торопливо затянулась, раз, еще раз, выдохнула. Поднесла к губам кружку чая. Подумала о том, сколько дел предстоит завтра. Мысленно представила список, прошлась по пунктам и потихоньку успокоилась. Оленуха опустила голову, вернувшись к трапезе. Густели, сочились тени, на западе теплился закат. Маралы продолжали реветь вдалеке.
Олег Савощик Как живые
– Превосходно. – Петр Васильевич погладил бок животного, утопил пальцы в густом меху. – Вот это красота. Давно? Он взглянул поверх очков, таких тонких, что, казалось, в них совсем нет линз. Дима на миг задумался. – Меньше двух часов назад, – ответил он рассеянно, расстегивая куртку и стараясь не смотреть на стол, где лежала рысь. Охотник устроился на скамье у стены и с удовольствием вытянул уставшие ноги. В мастерской едва различимо пахло химией и диким зверем. Несмотря на прохладу, Диму душил жар, хотелось выйти на улицу, умыть лицо горстью снега. – Хорошо, тогда сразу и начну. – Петр Васильевич накинул через шею чистый фартук, завязал за спиной. – На тебе лица нет, все в порядке? Дима напрягся, облизнул пересохшие, почему-то горькие губы. Он ждал этого вопроса, но не успел придумать ответ: – Илай… Она его убила. Не удержался, посмотрел на рысь. В ярком свете потолочной лампы пепельно-серая шерсть отливала голубизной. Мускулистые лапы заканчивались изогнутыми когтями. Такими кошка может вскрыть даже лося. Петр Васильевич цокнул языком. – Жаль, хорошая была псинка. Я тебе говорил – одной лайки на рысь мало. Дима мотнул головой, отгоняя образ: разорванное горло, кровь на обивке сиденья. Сказал: – Я у тебя посижу маленько? Выдохся что-то. «Илай все еще в машине». – Да хоть до утра оставайся, дом большой, – отозвался Петр Васильевич, пробуя большим пальцем кромку ножа. На столе уже стояла миска с крахмалом; под столом, у ножки, – запечатанная пачка крупной соли. – Может, тебе горячего налить? Или у меня там коньяк початый стоит. Хороший, сын подарил. – Коньяку можно. – В гостиной у камина. В конце коридора направо. – Тебе принести? – Потом. После работы. Ты, может, мясо хочешь забрать? – Вопрос застал Диму на пороге. – Кто же ест хищников? Петр Васильевич покачал головой. – Дурацкие нынче традиции. А мясо у рыси, между прочим, нежное, вкусное, как телятина. Когда-то на стол боярам подавалось как деликатес. Ладно, дело твое. Под потолком коридора застыл в пикé пернатый охотник. Дима почти готов был признать в нем коршуна, но запутали непривычный окрас и ярко выделявшийся рыжий хвост. А еще подвешенная на невидимых лесках птица казалась крупнее коршуна, но, может, дело было в непривычной близости или в размахе крыльев, способном накрыть лежащего человека. Если встать под отбрасываемую чучелом тень, казалось, что острые когти вот-вот вцепятся в лицо, сорвут его как маску, пробьют череп с той же легкостью, с какой нож пробивает арбузную кожуру. Дима невольно пригнул голову, проходя под вытянутыми в атаке лапами, хотя высоты потолков хватало, чтобы даже с его ростом не цепляться за чучело. За дверью справа послышался шорох, будто кто-то скребет лапой по дереву. Илай так просился на прогулку: за несколько лет все косяки в квартире ободрал. Дима не мог припомнить, были ли у Петра Васильевича животные. Живые животные. Он замер, прислушиваясь, но звук не повторился. «Сейчас хряпну коньяку, и все пройдет. Перестанет мерещиться всякое говно. Всякое…» С противоположной стороны коридора на Диму смотрел кабан. Накренившись вперед, приподняв переднее копыто – чем ближе подходишь, тем больше кажется, что он бежит на тебя. И в узком коридоре не скрыться. Из спины кабана торчало древко копья,черная кровь застыла на вздыбившейся щетине. Дима присел рядом, в очередной раз любуясь работой мастера. На клыки животного налипла грязь, к бокам пристали репьи. Вся морда была усыпана пожухлой хвоей. Зверь только что выбрался из леса. Внимание к деталям дает вторую жизнь: на пятачке можно рассмотреть торчащие белесые волоски, в глазах – налитые кровью капилляры. И дикую, присущую лишь раненым и больным ярость. Дима знал, что Петр Васильевич заказывает дорогущие стеклянные глаза из Германии, такие, что отражают свет совсем как настоящие. Но зажечь в них эмоцию может только опытная рука таксидермиста. …В камине тлели угли, отдавая последнее тепло. Бутылка в руке Димы дрогнула, и коньяк пролился мимо бокала, ароматные капли потекли по пальцам. Охотник выругался, вытер руку о штаны. Обжег горло первым глотком. В третьем месяце зимы темнеет все еще рано, и за окном едва можно различить высокий забор, а дальше лишь стена из густого ничего. Дима поймал себя на мысли, что даже примерно не представляет, который сейчас час. Телефон остался на приборной панели, и в гостиной почему-то, как назло, не оказалось часов. В котором часу он тащил тушу рыси, весом почти в четверть центнера? Было светло или уже легли сумерки? Дима попытался вспомнить, как пробирался через чащу, запыхавшись от своей ноши и уклоняясь от колючих веток, а рядом бежал Илай, и… Нет, Илай остался лежать там, головой в растаявшем от крови снегу. Остался или хозяин за ним вернулся? Дима застыл, глядя, как дрожит бокал в побледневших пальцах. Плеснул себе еще, запил тревожность. Коньяк не помогал. Казалось, охотник что-то потерял в том лесу, что-то очень важное. Словно зацепился головой, и воспоминания остались висеть на ветке, попробуй теперь отыщи. Дорога сюда тоже расплывалась. Перед глазами стояли руки, вцепившиеся в руль, но сама трасса… Трассу Дима не помнил. Что играло в салоне? Включал ли он вообще радио? Останавливался ли на заправке? И почему боялся повернуть голову, посмотреть на пассажирское сиденье… Звук повторился. Кто-то скреб в соседней комнате, только на этот раз прибавилось то ли тявканье, то ли скулеж. Дима вернул пустой бокал на место и обошел гостиную полукругом, толкнул приоткрытую дверь. Выключатель нашелся сразу. Книжный шкаф, высокое кресло за письменным столом, раскрытый ноутбук. «Кабинет? Зачем я вообще здесь лазаю?» У стенки справа боролись волки. Один перехватил другого в прыжке, вцепился в горло. У проигравшего на клыках кровавая пена, в глазах – последняя боль. И злоба. «Волки умирают с оскалом, – вспомнил Дима слова отца. – Страх делает сильнее травоядных. Боль – хищников. Поэтому не причиняй им боли – бей один раз и наверняка».Стена позади кресла увешана картами: Беларусь, Литва, Польша, Украина, кусочек России. Цветные булавки – заповедники, заказники, национальные парки. Пунктирные линии – ареалы птиц и крупных млекопитающих. Комната оказалась проходной, и Дима нажал на ручку следующей двери. Тусклый свет потолочной лампы лениво коснулся пустых углов, в небольшом помещении не было мебели. Только очередное чучело. Лиса запуталась в колючей проволоке. Оцинкованные петли удавкой стянули рыжую шею, обвили морду, острый шип вошел в глазницу. Лиса отчаянно тянулась к своей лапе, норовя разгрызть, стянуть с себя смертельные оковы. Диме казалось, что она кричит, просто он не может ее слышать, настолько естественно выглядела скрюченная фигура, пропитанная болью, настолько точно отпечаталась во взгляде зверя та самая тьма – черная линия между жаждой жизни и принятием неизбежности. «Зачем?» Дима передернул плечами, будто избавляясь от невидимой тяжести, и обернулся, убеждаясь, что один в комнате. Он услышал вопрос у себя в голове, но сам ли он его задал? Стараясь больше не смотреть на пойманную лисицу, Дима выключил свет и вышел в коридор через боковую дверь. Вернулся в мастерскую. Коршун проводил его стеклянным взглядом. – Полегчало? – спросил Петр Васильевич не отвлекаясь от работы. Он уже успел сделать разрез на грудине и теперь точными аккуратными движениями снимал шкуру с бока рыси, не забывая посыпать края крахмалом, чтобы мех не слипался от крови и не приставал к мясу. Дима буркнул нечто неразборчивое и вернулся на скамью. Справа от него стоял барабан для сушки, у противоположной стены – морозильник и шкаф с реагентами для дубления. В мастерской было всего два чучела: пара кукушек над входом, доказательство мастерства таксидермиста. Из этих птичек чучело сделать сложнее всего, и дело не только в размере, слишком уж тонка у них шкурка, слишком ювелирного обращения требует. «Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось»? – почему-то вспомнилось из детства. Птички не ответили. – Как Илая хоронить будешь? – спросил Петр Васильевич. – Кремация или… – Хочешь предложить свои услуги? – Нет, – твердо ответил мастер. – В нашей профессии, знаешь ли, это что-то вроде табу. Домашние животные. – Почему? Дима спросил не столько из любопытства, сколько чтобы отвлечься от дурных мыслей. Почему ему так не хочется возвращаться в машину? Можно ли ему сейчас уходить? «Я просто устал». – Все дело в привязанности. Ее не подделать – такое, увы, нашему искусству неподвластно. Я могу сделать из Илая чучело. И это будет хорошее чучело собаки, просто собаки, а не твоего друга. – Отчаяние и боль у тебя отлично удается подделать. Петр Васильевич оторвался от свежевания, поправил очки тыльной стороной запястья. – Я видел лису, – пояснил Дима. – Извини, не стоило шататься по твоему дому. – А, это, – таксидермист махнул рукой. Снова взялся за нож и сделал разрез на пятнистой лапе. – Последний заказ для частной коллекции, завтра заберут. Не поверишь, за какие извращения эти японцы порой готовы платить. Хорошие деньги, надо сказать. Ведь хорошие? Дима не ответил. Хорошие. Настолько, что он уже лет десять как выходит с ружьем не только в охотничий сезон. Объездил почти все заповедные места Европы. На краснокнижников всегда особый спрос. – Рысь тоже… Так? – спросил Дима. – Да. Но над исполнением буду думать. Когда-то у нас были толстенные папки с вырезками. Приходилось часами изучать журналы о природе, вырезать фотографии, искать естественные позы, ситуации… Сейчас проще, конечно. В Интернете чего только не найдешь. Вообще, многое стало проще. – Петр Васильевич деловито перевернул тушу. – Но варварами и живодерами нас зовут до сих пор. А я ведь животных люблю. Я их даже не стреляю, в конце концов! В жизни ружья в руки не брал. Дима следил за отточенными движениями Петра Васильевича: каждый разрез именно там, где он должен быть, ни одного лишнего движения. И думал, что сложно верить в любовь человека, чьи пальцы красны от крови. – Я дарю им посмертие. Рано или поздно их сожрут черви. Я могу превратить их в память. А как именно… Какая им теперь разница? – Может, разница в уважении? К тому же посмертию. – Уважение, – Петр Васильевич фыркнул. – О да, мне говорили об уважении. «Недопустимость негуманного изображения животного» – такой была точная формулировка. А потом эти лицемеры возят по выставкам «Упоротого лиса» этой недоучки Морзе, и посмертное оскорбление уже никого не волнует, пока есть известность и капают деньги. Дима не нашел что ответить, в голове гудело. Историю старого таксидермиста он хорошо знал. Петр Васильевич в профессии уже тридцать лет, начинал в Гомельском государственном музее, после перебрался в знаменитый Дарвиновский. Его чучела украшают даже частную коллекцию космонавта Леонова. Однажды Петр Васильевич сам перечеркнул свою карьеру, когда на чемпионат по таксидермии в Питере привез крапчатого суслика с инсталляцией «Под колесами». Мастер старался: делал специальную подставку, имитирующую асфальт, рисовал следы шин, особо тщательно проработал искусственные внутренности, подобрал зверьку реалистичную позу. Слишком реалистичную. Потом был скандал и позорное исключение из Ассоциации. Но оказалось, что даже на такое творчество нашлись ценители, готовые платить, и Петр Васильевич продолжил заниматься любимым делом, оборудовав мастерскую в своем загородном доме. За дверью послышалось хлопанье крыльев, словно ночная птица залетела в окно. Дима вжался спиной в стену, перестал дышать, пытаясь уловить еще хоть звук, но все стихло. Посмотрел на Петра Васильевича: тот продолжал орудовать ножом не поднимая головы. – Как, кстати, в Беловежской прошло? – спросил он. – Человечек провел без лишних вопросов, как я и говорил? «Я не помню!» – Да, – ответил Дима, оттягивая высокий воротник свитера. – Нормально вроде… Охотники в Беловежскую пущу едут со всей Европы, потому что там дешево, часто бывают гости из Италии и Германии. Но попасть на закрытую территорию, где нет туристов и где даже для научных сотрудников ограниченный доступ, – это не кабанов под присмотром пострелять. Поэтому у Петра Васильевича везде есть такие вот «человечки» без имен и принципов. И без вопросов. – Говорят, фашисты окрестили Беловежскую пущу Мертвым лесом, – сказал Петр Васильевич понизив голос. – В сорок первом наши отступали и оказались отрезаны от основных сил. Потому стояли насмерть. Фрицам пришлось нелегко: артиллерией не бахнешь, а в лесу творится черт знает что. Представь: непроходимые дебри, под ноги смотреть надо постоянно, чтобы не переломать их о корни да коряги. А из-за папоротников пули летят, все кричат… И не понять, свои или чужие, рядом или вдали. Твои товарищи свинец поймали или раненый испуганный зверь их сейчас на части рвет. Последние фразы Дима различал с трудом, стук сердца заглушал голос таксидермиста, выбивал из них всяческий смысл. «Зачем он мне это рассказывает»? Дима помнил тишину. Деревья росли так тесно, что их кроны скрывали солнце и даже днем в лесу стояли сумерки. И тишина такая, что хруст снега под ногами как гром выстрела, а собственное дыхание, казалось, слышно далеко за польской границей. Диме подумалось, что он не найдет сегодня свою добычу, что нет здесь никакого зверья. Что оно давно вымерло. – Сегодня туристам показывают жертвенный камень, на котором славянские племена делали подношения своим богам, – продолжил Петр Васильевич. – На нем все еще остались прожилки, по которым стекала кровь зарезанных животных. И показывают дубы, которым по три-четыре века. Но мало кто знает, что в закрытой зоне есть деревья старше – девятьсот лет, а может, даже и за тысячу. Они выросли на жертвенной крови, когда последние из язычников пытались прогнать со своих земель нового бога. Говорят, что старые хозяева… – истинные Хозяева леса – все еще там, среди ветвей. «Я видел эти дубы». Дима тщательно вытер о штаны вспотевшие ладони. – Что-то ты на старости фольклором увлекся. – Охотник попытался выдавить из себя улыбку. Петр Васильевич пожал плечами. – Эти байки хорошо продают. Настоящий таксидермист отчасти художник, отчасти скульптор, но все равно чучело – это всего лишь шкура на искусственном теле. Она может быть дорога́ охотнику как память, как трофей, может представлять интерес для музея… Но чтобы попасть в хорошую частную коллекцию, ей нужна история. Легенда красивая… Или страшная. Дима не ответил. Ему чудился стук копыт в коридоре и тявканье где-то в глубине дома. Застывший взгляд рыси уперся ему в грудь. Петр Васильевич уже освободил передние лапы, снял шкуру вместе с когтями. Когда закончит с задними, возьмется за голову, начиная с ушных хрящей. Последним будет короткий, будто обрубленный хвост. А тело порубит и съест. Или выкинет. Главное, что избавится. От него надо поскорее избавиться! «Побыстрее бы старик закончил». – И тем не менее… – Петр Васильевич отложил нож, уперся руками в стол. – Когда фрицы взяли пущу, Гитлер подарил ее своему подручному, главному лесничему Третьего рейха Герману Герингу. Рейхсмаршал быстро навел там свои порядки: ближайшие деревни расселили, людей расстреливали и вешали пачками, лес вывозили в Германию, зубров тоже планировали вывезти, тех, кого не угробили… Но в самую глушь, к тысячелетним дубам, он своим карателям запретил лезть строго-настрого. Даже если бы туда вели следы советских партизан. Доподлинно не известно, что немцы там нашли. Или увидели? Может, боялись гнева тех, кого разбудила пролитая кровь? Уже после, когда были расшифрованы секретные переписки с Германией, выяснилось, что Геринг называл то место «зеленый ад». Дима прикрыл глаза. …Его ад был белым и хрустел под ногами. Дима пробирался сквозь чащу, обливаясь потом, пригибаясь под размашистыми лапами-ветвями с припорошенной хвоей, перелезал через упавшие, сломленные бурей или старостью стволы. Снег плотный, но местами все равно проваливаешься, рискуя вывихнуть лодыжку о невидимую корягу. Двустволка давит на плечо. Уже дважды они упускали добычу. Натасканный на рысь Илай дважды находил следы: оставленные мягкой поступью, неглубокие, словно кошка совсем ничего не весила. И дважды следы обрывались через сотню-полторы шагов. Разглядеть хищника среди ветвей при таком свете не представлялось возможным, а «по верхам» рысь уходит не хуже, чем по земле. Наручные часы остановились, чертова батарейка опять подвела в самый неподходящий момент, и время будто замерло вместе с секундной стрелкой. Днем рысь отдыхает, но, встревоженная, может пройти до пятнадцати километров, петляя и возвращаясь на старые маршруты – непреодолимое расстояние для охотника в этих лесах. «Если сейчас не найдем больше следов, значит, ушла далеко. Придется возвращаться». «Вернуться», – стучало в голове. Столько соблазна было в этом слове, что, будь с Димой кто-нибудь рядом, позови его, предложи пойти обратно, он повернул бы не задумываясь. Но Дима был один на один со своим упрямством, которое гнало его вперед. В чаще становилось тесно. С каждым пройденным шагом деревья росли все плотнее и, казалось, намеревались раздавить своими стволами незваного гостя, проткнуть ветвями, впитать его последний вдох. Еще никогда Дима не чувствовал такой тяжести в лесу, когда зимний воздух впивается в разгоряченные легкие еловыми иголками. И лежало на плечах ощущение собственной чужеродности, словно ты кость в горле громадного древнего чудища, которую вот-вот отхаркнут, камень в почках, который надо вырезать. Даже Илай вскоре растерял привычный охотничий задор. Его фигура то и дело мелькала меж деревьев впереди, где он кружил, будто нехотя тыкаясь носом в порошу. В стылой тишине Дима отлично его слышал, мог различить по оттенку лая, вышел ли пес на след, зовет к себе или загоняет добычу. Дима торопился, сбивая дыхание – отпускать собаку далеко не хотелось. За себя он не боялся: несмотря на охотничьи байки, рысь не нападала на человека. А вот за Илая волновался: лично видел, что раненая кошка сделала с двумя взрослыми овчарками. Дима только сейчас понял, что не видел других следов: будто эту часть заповедника намеренно обходило, оббегало, облетало всякое зверье. На третий раз им повезло. Илай сработал, как учили: обошел зверя с нужной стороны, облаял и погнал на Диму. Рысь запоздало заметила охотника и лишь в последний момент успела уйти с мушки, рвануть на ближайшее дерево – старый дуб, чей ствол можно было обхватить разве что впятером. Дима пошел по дуге, собираясь занять удобную для выстрела позицию и высматривая добычу в ветвях. Внизу ее уже ждал, задрав морду, Илай. Дуб стоял обособленно, будто остальной лес не смел приблизиться к древнему исполину, коснуться его кроны. До соседних деревьев кошка бы не допрыгнула. «Попалась!» Дима вскинул ружье. Любой охотник знает, что, вопреки расхожему заблуждению, рысь не прыгает на добычу с дерева, а устраивает засады на земле. Знал и Дима, пока не увидел, как хищник метнулся сверху прямо на застывшего Илая. Пес не успел ни зарычать, ни взвизгнуть, пропал на миг из виду под гибкой тушей, втоптанный в снег. Дима было бросился к ним, но резко остановился, зарываясь в сугроб по самые голенища сапог, качнулся, едва не полетев лицом вперед, и выстрелил навскидку. Кровь плавила снег. Дима приблизился, но не смотрел на мертвых – только на забрызганный ствол дуба. Кровь стекала, собираясь в узорах потемневшей коры, и исчезала впитавшись. «Зачем?» – вопрос из ниоткуда и отовсюду разом впился в виски, сотряс все тело до хруста позвонков. А потом на Диму обрушился лес. Всей своей чудовищной силой вдавил в землю. Дима смотрел, как кружатся кусочки неба в просветах между дубовыми ветвями, а затем корни потащили его на глубину, стерли о промерзшую землю и камни, раздавили, разорвали, и грунтовые воды разнесли его во все стороны на километры вокруг, чтобы он стал пищей деревьям, стал всем и никем, ощутил себя и хвойной иглой, и безграничной бездной, над которой стоит это место, откуда доносится лишь: «Зачем?» Стал лесом. Разбуженным. Недовольным. – …Эй, слышишь? Ты чего? – Петр Васильевич похлопал охотника по щеке. – Тебе плохо? Дима? Дима открыл глаза, дернулся, приложившись о стену затылком, уставился на таксидермиста. Пахло кровью и хвоей. – Ты отрубился. Все хорошо? – Нет. Нет, не хорошо… – Сердце? Или что болит? Я лучше врача вызову. – Петр Васильевич всматривался в бледное лицо. – Нет. – Дима схватил его за руку. – Давай уедем, прямо сейчас. «До Бреста пятнадцать минут. Там камень и сталь. Бетон и стекло. Там безопасно». – Хорошо, отвезу тебя в больничку, – кивнул Петр Васильевич. Тонкие стекла очков не могли скрыть беспокойство в его глазах. – Сейчас только тушу закину на лед. Потом с ней закончу. Ты пока заводи, но за руль сяду я. Сам дойдешь? – На твоей поедем. – Мою пока лучше из гаража не выводить, я там в движке собирался… – Надо на твоей! – отрезал Дима. – Почему? «Потому что Илай еще в машине!» Теперь он помнил, как по пути сюда не сводил взгляда с дороги. Ни разу не осмелился повернуть голову и посмотреть на Илая, сидящего рядом. Увидеть эти застывшие глаза и кровь из разорванного горла на обивке сиденья. Мертвого Илая, который сам добежал до машины. Головокружение не давало вспомнить что-то еще. Как он выторговал у леса себе время? Умолял, оправдывался? Или обещал? Лес послал с ним бывшего друга. Конвоира. …Любой другой мог бы принять этот звук в мастерской за работу электромотора. Любой, кто никогда не слышал, как мурчат кошки размером с добермана. Петр Васильевич повернулся к столу и отшатнулся. Посмотрел на Диму, снова на стол и опять на Диму. – Ты… ты что? – Лицо мастера разгладилось и обесцветилось, а потом приобрело какое-то совсем уж детское выражение. Ребенка не испуганного, а пока только удивленного, но готового вот-вот испугаться. – Ты ее не убил? «Пять миллиметров картечи чуть ниже правого уха. Один раз и наверняка – как учил отец. Конечно, я ее убил!» Рысь стояла на столе. Петр Васильевич не успел закончить с головой, линией хребта, хвостом и задними лапами, и шкура сидела на кошке распахнутым плащом. Открытая грудь блестела свежим мясом и белесыми прожилками жира. Серые, с зеленоватым отливом глаза смотрели на людей. – Извини, – сказал Дима, вставая и прикидывая расстояние до двери. – Ей нужен ты. И толкнул Петра Васильевича к столу. Таксидермист успел развернуться в тот момент, когда кошка прыгнула. Рысь повисла у него на плечах, вцепилась в голову. Петр Васильевич взвыл, и от этого крика внутри Димы разлился холод, сковал конечности. Надо было бежать к выходу, убираться из проклятого дома, но Дима лишь стоял и смотрел, как кружится по мастерской его старый приятель, стараясь скинуть с себя ожившего хищника, а тот продолжал драть задними лапами бока и спину своей жертвы. Когти все глубже утопали в плоти, как совсем недавно в пепельно-сером меху утопали пальцы таксидермиста. Послышался треск, с каким рвут на тряпки старые простыни, и Петр Васильевич упал, а рысь отскочила, сжимая в зубах его скальп. Она повернула к Диме окровавленную морду, и тот попятился, обходя комнату полукругом, чтобы стол оставался между ним и зверем. Рысь ступала мягко, неспешно, все еще держа в пасти добычу. Тяжелые темные капли падали на пол с человеческих волос. Петр Васильевич пополз к выходу на локтях, щурясь от заливающей глаза крови. Голова его превратилась в сплошную рану, неестественно красную в электрическом свете, воротник рубашки и распоротая когтями шерстяная жилетка пропитались насквозь. Разбитые очки остались лежать под столом. Ему удалось дотянуться до дверной ручки, опереться на нее и встать, выйти за порог. Секунду спустя его снесла пробегающая по коридору туша. Дима бросился в открытую дверь и захлопнул ее за собой. Дверь сотряс удар. Кабан куда-то пропал. В шаге от Димы лежал Петр Васильевич, хватая ртом воздух, будто кислорода вокруг стало совсем мало. Кровь легла маской на его лоб и глаза, ослепив, левая нога была вывернута и бледный осколок кости проткнул штанину чуть ниже колена. Таксидермист водил руками над собой, пытаясь схватить или уцепиться за что-то невидимое. – Дима! – сипел он на выдохе. – Где ты? Помоги… Дима аккуратно переступил его, увернулся от скрюченных пальцев. Подходя к входной двери, запоздало подумал, что оставил куртку на лавке в мастерской. Потянулся к ручке – и сзади налетела тень. Дима успел выставить руку, почувствовал, как когти впиваются в кожу через плотную шерсть свитера. Крылья молотили по плечам и голове, острый клюв целил в лицо, и Дима закрылся ладонью. Боль обожгла запястье. Он дотянулся до ручки, протиснулся в узкий проем. Коршун рванул следом, но мужчина потянул на себя дверь и прижал птицу к откосу тяжелым стальным полотном. Резко приоткрыл – захлопнул. Приоткрыл – захлопнул. Ломая хрупкие крылья, выбивая из тушки перья и пух. Отлетел и покатился по крыльцу стеклянный глаз. Птица ввалилась обратно в коридор, и Дима захлопнул дверь. Прислонился спиной, вдыхая морозный воздух и прижимая к груди искалеченную руку. Пальцы, кроме большого, отказывались сгибаться. Из дома доносились приглушенные рыдания Петра Васильевича. – Помоги мне, пожалуйста! Дима, слышишь меня? Дима не слышал. Смотрел, как к крыльцу приближается Илай. Мех на шее и груди пса стал бурым. «Я не закрыл дверь? Или он разбил окно?» Илай поставил передние лапы на нижнюю ступеньку, оскалился. – Что? – закричал Дима. – Что надо? Я привез тебя сюда, как ты и хотел! Показал тебе! Чего ты еще хочешь? Лес внутри Илая не ответил. Пес поднялся на крыльцо, зарычал. Дима пошарил по поясу свободной рукой: охотничий нож был на месте. «Он ходит с дырой в горле. Что ему твой нож?» – Отпусти… меня, – сказал Дима тихо, не отрывая взгляда от мертвых глаз, не находя в них своего друга. – Дай мне уйти. Илай широко расставил лапы и пригнул голову, готовый к прыжку. Время сжалось до мгновения между ударами сердца, Дима сам не заметил, как вновь оказался в доме, хлопнув дверью, наступил на рыжий хвост раздавленного коршуна. Не дав опомниться, на него бросилось что-то лохматое, колючее, щелкнуло зубами перед самым лицом. Не успей Дима выставить руки, остался бы без носа. Проволока впилась в пальцы. Дима взвыл и отбросил лису, приложил с размаху сапогом. Хрустнуло, скрипнуло – как если проткнуть пальцем сухую монтажную пену. Сердце билось в висках. Слева кабан разносил кухню. Впереди была открытая дверь в мастерскую. Петр Васильевич лежал на том же месте без звука и движений, лицо было обглодано, рот без губ превратился в оскал. Справа лестница. Наверх! На второй этаж! Дима бросился по крутым ступеням и встретился взглядом с желтыми глазами. Наверху сидел волк. Дима развернулся, шагнул назад. Другой волк приблизился к лестнице снизу. – Суки! – рявкнул Дима. – Что вам от меня надо? Он прислонился спиной к перилам. С пальцев на ступеньки капала кровь, пачкала штаны. Все-таки стеклянные глаза смотрятся как настоящие, только когда животное неподвижно. Сейчас немигающий взгляд чучел казался противоестественным, чуждым природе и самой жизни. Хищники скалились, рычали, клоня голову вбок и переминаясь с лапы на лапу, но медлили. Дима зажал уши. Рык никуда не исчез, даже усилился. «Это все в моей голове! Они не могут рычать, у них не осталось связок. Только легкий пенополиуретан. Чучела легкие!» Дима отогнал мысль, что кабан точно не был легким, раз смог вот так сбить с ног Петра Васильевича. – Давай! Ну! – закричал Дима, разрываясь взглядом между двумя хищниками. – Чего ждете? Пластиковые твари, я вас голыми руками сломаю! Вы всего лишь пластик! Рысь появилась из коридора, скользнула мимо волка, стала подниматься по лестнице. Даже наполовину освежеванная, она ступала мягко и грациозно, по одной линии, как модель на подиуме; снятая с передних лап шкура болталась при каждом движении, бесполезные теперь уже когти стучали по ступеням. «Она тяжелая… И все органы на месте. Кроме мозгов, которые я вышиб!» Дима подавился ругательством, отступил и поскользнулся на залитой кровью ступеньке. Больно приложился копчиком. – Нет-нет-нет, прошу… не надо! Рысь не рычала, волки тоже стихли. Она подошла вплотную, нависла над охотником. – Подожди! Послушай, ну пожалуйста! Это еще не все, есть другие. Другие, понимаешь? Я могу… Могу помочь… Найти их. Понимаешь? В глазах рыси отражалась хвоя вечного леса. Зеленый ад.
– О, Димон, здарова! Ты как здесь? – Васильич отъехал в город по делам. Меня за главного оставил. Дима впустил Валеру в дом. Тот тщательно вытер ноги о коврик, повесил тонкую, не по сезону, куртку на вешалку. – А-а, я ему набирал. – Знаю. Он телефон забыл. – А с этим что? Валера кивнул на перебинтованные руки Димы. – Зверь попался. Лютый. С Валерой охотник пересекался всего пару раз и только в этом доме. Щуплый лысоватый помощник таксидермиста носил громоздкие очки, яркие кроссовки в любое время года и решал для Петра Васильевича все вопросы с клиентами. – Ну, показывай тогда. – Валера не разуваясь прошел по коридору. Остановился, подняв взгляд под потолок, где лишь присмотревшись можно было различить свисающие лески. – А что, старик своего красного коршуна продал? Мне не захотел загнать. – Нет, – бросил Дима через плечо. – Там перья полезли. Нужна реставрация. – А-а… Птицу Дима утрамбовал в мусорное ведро, а вот кабан вернулся на место сам. Охотник не знал, в каком часу Валера приедет за заказом, Петр Васильевич лишь оговорился, что сегодня. Ночь Дима потратил, чтобы смыть кровь с видных мест. Тело таксидермиста оттащил обратно в мастерскую и там запер. Не представлял, что с ним делать. Постоянно хотелось протереть сухие, зудящие от недосыпа глаза. Дима толкнул дверь, пропуская Валеру вперед. Лиса запуталась в колючей проволоке. Оцинкованные петли удавкой стянули рыжую шею. Валера даже не взглянул, прошел дальше. – А это что? Рысь сидела в распахнутой шкуре. В застывших глазах отражался лес. – Это что, скальп? – Валера наклонился, брезгливо потрогал обрывок кожи в сжатой челюсти. Волосы слиплись и почернели от запекшейся крови. – Блин, как настоящий! – Последняя работа. Ее тоже надо забрать. Валера достал телефон и, обойдя рысь, сделал несколько фото. – Мех шикарный! Дима сглотнул, вспоминая, как мыльным раствором вымывал густую шерсть от крови и крахмала. Кажется, успела подсохнуть. – Но тело – это нечто! – продолжал Валера. – Мышцы, мясо… – так реалистично! – Заберешь? – Конечно! Наши извращенцы будут довольны. И чего Васильич молчал? Когда успел только, я на рысь заказ только недели две назад сбрасывал. – Повезло. Я вовремя подсуетился. А уж Васильич поколдовал. – Дима отвернулся от скальпа, к горлу подступила жгучая жижа. Дважды за последние часы его рвало желчью, и даже коньяк не помогал избавиться от горечи во рту. – Когда… Когда клиенты их получат? – Если все пойдет хорошо, через недельку будут на островах. У меня все схвачено. – Валера с серьезным видом поправил очки. – По деньгам, кстати, скажи Васильичу, всё по старой схеме. Подсобишь в тачку закинуть, или у тебя руки? Почему-то Дима не сомневался, что рысь доедет невредимой и гниение ее не коснется. Обесшкуренное мясо выглядело свежим даже спустя двенадцать часов. – Нет-нет, все нормально. Я возьму рысь, она тяжелее. Каркас… новый. Валера уже поднял лису, аккуратно, чтобы не пораниться о проволоку. – И скажи деду, что он, как всегда, крут. Его чучела – это, конечно… – Ага, – Дима кивнул. – Как живые.
Дима остановил машину у старенького деревянного забора, который давно не мешало бы подправить, а лучше отжалеть денег на новый, железный, как у Петра Васильевича. Охотник заглушил мотор и посмотрел на руки. На бинтах проступили кровавые пятна. Боли почему-то не было. Возможно, она осталась в том доме. Дима прислушался к себе: что еще он оставил там? И ничего не услышал. «Всё». Когда Валера уехал, Дима еще долго стоял под открытым небом, чувствуя, как хлопья снега лениво падают за воротник, покусывают холодком. Прислушивался. Илая нигде не было видно. Не верилось, что можно вот так вот стоять, что можно сесть в машину и выехать в открытые ворота. Медленно, едва касаясь руля больными руками. И все-таки он уехал. Выбрался наконец из вечного леса. Те, кто веками дремлют в дубах и охраняют пущу, отпустили его. Дима понимал, что, когда найдут тело Петра Васильевича, у милиции появятся к нему вопросы. Но думать об этом не было сил. Не сейчас. Дима закрыл машину. Толкнул калитку и прошел во двор пошатываясь. Старик вышел из дома, толкнув дверь плечом, в руках он нес железный таз. Медленно спустился с крыльца, высунув от усердия язык. Поднял голову и подслеповато уставился на Диму. – Пап… Старик наклонился и поставил таз, расплескав воду себе под ноги. – Дима, Дима! – протянул он руки, совсем как Петр Васильевич не так давно протягивал свои, моля о помощи. – Родной, господи! Дима подошел и обнял отца. – Куда пропал? Не звонил! Я думал, сцапали тебя, охотничка. «Как ему сказать про Илая?» – Нет, отец, не сцапали. Выбрался. Старик вытер губы, погрозил пальцем. – Говорил тебе, добегаешься… – Подбородок его дрожал каждый раз в минуты волнения. – Воду куда нес? – устало спросил Дима. – Так Илай! Молодец такой, сам прибежал. В кровище весь. Я уже извелся весь, думал, что стряслось. Без очков не вижу, его подрали или он кого, отмыть сначала… Дима не слышал. В ушах звенела тишина, как тогда, на охоте. Илай вышел из-за дома, и на секунду показалось, что он вот-вот завиляет хвостом и побежит лизать руки, что он прежний, все тот же комочек шерсти, которого они когда-то кормили из пипетки и который любил клянчить сосиски, едва подрос. Дима сжал зубы. Через калитку – к машине, открыть багажник, достать из чехла ружье, зарядить… Слишком долго. – Бать, – сказал Дима тихо. – Где карабин? – Так это… – Старик замолчал, замер, всматриваясь в собаку. Понял. Старый охотник не потерял чуйку. – Висит, где и всегда. – Возьми. Дима сделал шаг вперед и в сторону, привлекая к себе внимание собаки, достал нож. Будет ли прок от стали? Боль вернулась в руку, но Дима даже обрадовался – боль слилась с деревянной рукояткой, стала оружием. Илай залаял. Он то подходил, то отскакивал назад и прижимался к земле. Его неподвижные глаза блестели словно стеклянные. Запахло хвоей. «Это еще не все, есть другие. Другие, понимаешь? – вспомнил Дима, когда старик скрылся в дверном проеме. – А другие – это еще и мы. Охотник и тот, кто его всему научил». Лес пришел за ними. У него нет хозяев, ему не нужна стража. И он сам никого не собирался охранять. Только мстить. Боль в руке с ножом вспыхнула ярче. Илай перестал лаять. Человек и зверь прыгнули одновременно.
Ярослав Землянухин Вороньё
Жарко. Хорошо растянуться в тени, отгоняя хвостом назойливых мух. Только редкий стук в зарослях у покосившегося столба электропередачи не дает уснуть. Лень идти и проверять, что там. В прошлый раз, когда я туда сунулся, основание столба было почти все изгрызено древоедами. Сами жуки плотной кишащей массой облепили дерево, хруст их челюстей слился в монотонный гул. Гадко. Воздух медленный, похожий на липкую пшенную кашу, которую старуха Степанида выбрасывает вместе с объедками на задворках столовой. Над трассой колышется марево, через него продираются с ворчаньем редкие большегрузы. Они поднимают тучу пыли, в которой то появляется, то пропадает баннер над выездом «Спасибо, приезжайте к нам еще!». Жарко. Мне лень даже дойти до очередной порции объедков. Зачем вылезать из спасительной тени? Внучка Степаниды Ната выскальзывает из-за покосившихся дверей. Пробегая мимо, треплет меня по загривку – вытягиваюсь в истоме. Девочка засовывает мне в пасть печеньку – спасибо, добрая душа. Печенька еще теплая и сладкая, с горчинкой имбиря, от которого в носу становится щекотно. Видно, Ната стащила ее из печи специально для меня. Дети. Дети – добрые. В конце весны ее вместе с младшим братом Михасем привез низкий тарахтящий драндулет. Громкая женщина выскочила из него на несколько минут, высадила детей и поспешила обратно. Драндулет исчез в пыли так же быстро, как и появился. И кто ее надоумил притащить сюда детей? На придорожный пустырь посреди сухой безжизненной степи. Одноэтажная крытая шифером постройка – это закусочная Степаниды. Из удобств – уличный туалет, в который даже я побрезгую зайти. Есть еще сарайка с шанцевым инструментом, тут же приютилась моя будка. Спасибо, хоть на цепь не посадили. На краю пустыря поднимаются надгробия ржавеющих колонок – в лучшие времена тут была заправка, а сейчас лишь звенят провода вокруг. Короче говоря, у нас мало общего с детским лагерем. Степанида сразу пристроила девочку к работе. Предыдущая помощница – молчаливая Гуля – сбежала накануне от старухиного властного характера. А Михась в силу малого возраста оставлен в покое, он день напролет шатается по пустырю и ковыряет палкой в пыли. При ходьбе он переваливается, и это вызывает у меня улыбку. Немногие люди знают, что мы умеем улыбаться. – Халесы собатька, – говорит Михась. И деловито хлопает меня по морде. Я не обижаюсь. Дети добрые почти всегда. Когда-то давным-давно были Ма, Па и Аля. Они были для меня целым миром, и другого мира я не знал. Потом Па предложили работу. Где-то очень далеко-далеко, кажется за океаном. И все сразу засуетились, засобирались. И я суетился вместе с ними, радовался, что увижу океан, о котором много говорила Аля. Представлял, как бесконечное солнце искрится на гребнях набегающих волн, а я буду бежать по горящему золотом песку следом за нею. Они посчитали, что я им не нужен. Совсем. Я стал им в тягость. Лучше бы усыпили. Но нет. Они сделали хуже. Они меня предали. Мир стал больше и страшнее, и в нем уже не было ни Ма, ни Па, ни Али. В пыль падает ворона, выклевывает из земли крошки, косится на меня то одним глазом, то другим. Потом шагает к окну, за которым Степанида высказывает что-то единственному дальнобою, соблазнившемуся на ее «домашние обеды». О-о! Старухины домашние обеды – это отдельная песня. Многие водительские желудки храбро пали в сражении с жареной сельдью или комковатой манной кашей на прогорклом молоке. Но это не касается имбирного печенья. Ни капли. Печенье волшебное. Степанида готовит его в огромной печи, куда, наверное, могу не только я поместиться, но и Ната с Михасем. Когда-то именно печь и выпечка сделали закусочную знаменитой. Теперь же они – единственное, что осталось у старухи. Ворона замирает. Неужели слушает? Конечно. Внимательно слушает. Ворóны – умные птицы. Могут сесть втроем на дерево и полдня лыбиться на тебя, только перекаркиваются на своем, вороньем, а ведь они еще и по-человечьи могут. Не нравятся они мне. Умники вообще никому не нравятся. Майская жара к вечеру спадает, небо темнеет. У меня ноют кости – это к дождю. Я прячусь в грубо сколоченной будке, где меня встречают остатки утреннего «пиршества» – недоеденная скумбрия. Она косится на меня мертвым глазом, будто все еще жива. Я так и не смог заставить себя доесть ее. Туча над нами стонет и готовится пролиться весенним дождем. Засыпаю. Мне снятся Ма, Па и Аля, они снятся каждую ночь. Сначала они рядом, а потом удаляются, становятся меньше и меньше. Обычно после этого я пробуждаюсь. Но на этот раз все по-другому. В сон приходит что-то чуждое – огромное, размером с целый мир. Низкий гул наполняет меня, зовет. Следую за ним. Бегу. Рядом со мной другие такие же – сжатые клубы злости, страха, обиды. Мелькают клыки, зубы, когти, клювы. С каждой минутой нас становится больше. Мы кого-то преследуем. Я узнаю среди призрачных фигур Алю. Я очень зол. Мы набрасываемся на нее. Меня будит страшный треск, потом звук медленного падения. Гавкаю – надо выполнять свои обязанности, – но в горле снова сухо, пасть болит, будто всю ночь скулил. Под утро туча разрешается мелким назойливым дождем. Оказалось, что ночью рухнул деревянный столб электропередачи. Тот самый, вокруг которого кишели древоеды. Он теперь похож на завалившуюся колонну в руинах греческого храма, на которой подобно хищным гарпиям расселись ворóны. Смотрят. Коротко и резко переговариваются: кар-кар. Кажется, их стало больше. Откуда я знаю про греческий храм и гарпий? Аля часто читала вслух книгу с большими картинками про Древнюю Грецию. Кстати, читать я умею тоже благодаря Але. Хотя, кроме «СпасибоПриезжайтеКНамЕщё», читать тут особо нечего, да и люди будут смотреть на меня странно, если я стану изучать выброшенный журнал, а не грызть кость в пыли. Уж лучше кость. Так спокойнее всем. Степанида колдует со щитком, ощетинившимся проводами; потом колдует с дизелем, который в конце концов с рыком заводится. Отключения энергии в наших краях – обычное дело. Наступает время завтрака, после которого Ната выносит объедки. Они дразнят мой нюх. Разве когда-то мне в голову могла прийти мысль, что я, породистый ретривер, буду питаться объедками у придорожной рыгаловки?! Даже сам запах этой незатейливой пищи будет мне казаться дивным! Немыслимо! Неторопливо поднимаюсь, пока она соскребает яичные обжарки и кусочки колбасы со дна сковороды, но ворóны опережают меня. Три птицы хлопают крыльями, пронзительно кричат, вырывают из рук тару с объедками. Инстинкты включаются во мне раньше, чем я успеваю осознать их. С лаем бросаюсь на ворон, перья летят черными брызгами, птицы взлетают. Ната от неожиданности взвизгивает и шлепается на костлявый зад. Кажется, ворóны целились не в еду, а ей в голову, поэтому она закрывается руками. Усердно лаю на них. Это дает Нате время встать и скрыться в доме, засунув под мышку тазик. Раньше ворóны себе такого не позволяли. Распустил я их. Теперь точно не подпущу к объедкам. «Гарпии» возвращаются на поверженную колонну. Доедаю яичницу с колбасой. Самое вкусное – сердцевина глазуньи – от падения растеклось в грязи, поэтому я довольствуюсь белком. Ладно, кому я вру? Он тоже восхитителен вперемежку с кружочками обжаренного колбасного сала. Сурово поглядываю на «гарпий» и возвращаюсь на свое обычное место – рядом с будкой у стены сарая. Прикрываю глаза, но заснуть не получается – гудит, зовет тот самый монотонный звук, от которого едва подрагивает земля. Люди не слышат его, слишком он для них низкий, но они начинают нервничать, и я чувствую, как тонкие фибры страха разбегаются от Степаниды, Наты и даже от маленького Михася. Мне тоже не по себе. К слову, после утреннего нападения ворон ни старуха, ни ее внуки без острой необходимости на улицу не высовываются. Вот только туалет на улице, а не внутри закусочной. На трассе сегодня подозрительно пусто, с утра ни одного посетителя, хотя обычно к завтраку уже сидит в закусочной пяток водителей и еще пара курит у входа. Моросит мелкий дождь. К полудню на пустырь, пердя и чихая двигателем, поворачивает старый грузовичок аварийной службы. Я это знаю, потому что так написано у него на двери. Наконец-то решили заняться упавшим столбом! Грузовичок останавливается. Оттуда вылезает озабоченный мужичок, волосы у него растрепаны, спецовка висит мешком на тщедушном теле. Опасливо оглядываясь, он направляется в дом. Я поднимаю уши, чтобы быть в курсе последних новостей. А новости на этот раз необычные: в городе происходит что-то странное, напарник водителя оказался в больнице – его то ли заклевали птицы, то ли подрал дикий кабан, вышедший из леса. Водитель рассказывает много и очень путано. Они со Степанидой говорят о других нападениях, слухи о которых только-только просачиваются в новости. Это настораживает. Закончив разговор, аварийщик – или кто он там – выходит и замирает, уставившись на «гарпий». Его кадык нервно дергается. В другой раз я бы его облаял для профилактики или даже оттаскал за штанину, но внутреннее собачье чувство подсказывает, что это сейчас ой как неуместно. Шаг за шагом человек приближается к столбу, а над лесом тем временем поднимается столб черного дыма. Прищурившись, смотрю, как он приближается. Дым повисает над человеком. Всё вокруг замирает. Словно в сердцевине этого столба вибрирует натянутая до предела пружина. А потом пружина лопается. Дым рассыпается на множество ворон. Они в полном молчании обрушиваются на несчастного, который едва успевает закрыться руками. Не скажу, что новоприбывший был мне приятен, но эти птицы куда более противны. Срываюсь с места и кидаюсь на них. На секунду черные бестии рассеиваются в стороны – это дает человеку время подняться, – но потом они возвращаются, и дым опять становится плотным, но на этот раз вокруг меня. От птичьих перьев трудно дышать. Удары крыльями и когтистыми лапами почти не ощущаются, а вот клювы, наоборот, бьют очень болезненно. Они не столько ударяют, сколько пытаются вырвать из меня куски мяса. Опрокидываю на землю тех, до кого могу дотянуться, еще парочку треплю зубами, но все равно их слишком много. – Барон-мальчик, скорее сюда! – Это голос Наты. Ненавижу эту кличку, в семье Али меня называли по-другому. Хотя это сейчас неважно! – Барон, ко мне! – кричит девушка. Несусь на голос. Сквозь мельтешащие черные туши вижу Нату, стоящую в дверном проеме. Отбрасываю еще несколько птиц, а потом совершаю затяжной прыжок, которому бы позавидовала даже какая-нибудь борзая. Пролетаюмимо Наты, мельком подмечаю, что ее руки усеяны мелкими царапинами. Тут же сверху меня припечатывает чье-то тело. Аварийщик! Его спецовка так продырявлена, что Степанида могла бы откидывать на нее макароны. Он в шоке и бессмысленно оглядывается по сторонам, но, кажется, жив. – Если бы не п-пес, – заикается водила, – они бы меня раз-зорвали. Он тянется, чтобы погладить меня, – рычу. Не нужно мне твоих реверансов. Ната врачует мои раны. Приятно, что она занялась вначале мною, а не покусанным аварийщиком, хотя ему тоже прилетело достаточно. Скулю от жгучих припарок, а потом расслабляюсь в нежных руках. – Кароси собатька, – лопочет Михась и гладит меня по морде. Стук по крыше. Сначала редкие удары падающих камней, потом они превращаются в мелкую дробь, словно начался град. Степанида вытаскивается на улицу, с высоты своего роста окидывает взглядом шифер на одноэтажной закусочной. Ее лицо вытягивается, и она юркает обратно, даром что неуклюжа. – Там птицы, – произносит она медленно. – И что птицы?! – Аварийщик мерит шагами комнату. – Там все время птицы! Я скалюсь на него, и он шарахается в сторону. Град то становится интенсивнее, то затихает на некоторое время. Через мутное окно закусочной я вижу ворон, которые пролетают над нами, цепкие когти держат камни. – Птицы заваливают крышу камнями, – шепчет Степанида. – Шифер там старый, долго не выдержит. – И чего вы ждете? – кричит аварийщик. – Звоните в службу спасения! Ната, которая давно копается в мобильном телефоне, чуть не плача говорит: – Я не могу дозвониться – там постоянно занято! – И что мы им скажем? Что на нас напали ворóны? – громыхает Степанида. – А я говорил! Говорил, что птицы в городе людей клюют! – невпопад вставляет аварийщик. – И сейчас они ломают нашу крышу. – Старуха заламывает руки. – Знаете что?! – Аварийщик тычет пальцем почему-то в Нату. – Знаете что? Разбирайтесь с этим сами, а меня не втягивайте! Он натягивает драную спецовку и намеревается дернуть ручку двери, но Степанида баррикадирует ее своим телом. – Куда? – голосит она. – Заклюют! Не пущу! – Успею! Пусти меня! Он прорывается сквозь Степанидову оборону на улицу. До машины буквально десяток моих прыжков. Его сбивает с ног темный снаряд, обрушившийся с неба. Человек пытается встать, и черный дым опускается на него, обволакивает. Я не слышу ни единого «кара», звук такой, будто булькает варево в кастрюле. А потом ворóны разлетаются. Ната коротко всхлипывает и отворачивается, прикрыв рот рукой. Степанида не шевелится, не отводит взгляд от того, что осталось от аварийщика. А Михась… Хорошо, что Михась еще низкий и не может дотянуться до окна. Мы уже давно сидим внутри закусочной. К сожалению, я так и не научился мерить время. Если светло, то надо проснуться, если темно, то ложиться спать. Вот и предел моих представлений о времени. Всё просто. Размышления о Хроносе прерывает треск шифера. Он поддается птичьему напору. Все прислушиваются к звуку на крыше. – Так больше нельзя! – не выдерживает Степанида. – Мы должны уехать! Ната испуганно смотрит на бабушку: – Как? – На аварийной машине. Ключи у щуплого в руке. Ната прилипает к окну, некоторое время брезгливо вглядывается в останки. Радостно вскрикивает: – Там они, там! – Я выбегу и подберу ключи! – грохочет старуха. Скептически оглядываю массивную фигуру. При такой комплекции она станет легкой мишенью для ворон. Степанида целеустремленно шагает к выходу, но Ната перегораживает ей путь. – Бабушка, нет! – С дороги, пигалица! – Бабушка, пусть Барон сбегает! Он умный – он сможет! Почему это звучит так, будто меня хотят послать за брошенной палкой? Когда люди от тебя что-то ждут, они становятся невероятно милыми и норовят подкупить. Конечно, я вижу их фальшивые улыбки и слышу приторно сюсюкающие голоса, но сладкие печеньки на имбирном тесте с кусочками сушеных фруктов не обманывают. Ради них можно и сбегать за ключами. В конце концов, кто, если не я? На улице подозрительно тихо. Прекратился град на крыше, только хлопает на ветру баннер со «спасибом». Птицы облепили все горизонтальные поверхности на пустыре. Глазеют. Скулю и оглядываюсь. Может, не надо? – Давай, Барон. Принеси ключики, – подбадривает за спиной Ната. В ее руке печенька, очаровательный запах свежего имбиря дразнит мой нюх. Иду к цели под пристальным взглядом ворон. Делаю вид, что это обычная прогулка до дерева, но мышцы напряжены – я готов прыгнуть и драться в любой момент. Что-то они все-таки замышляют. Среди окровавленных лохмотьев, в которых я уже не узнаю щуплого аварийщика, блестит металл. До него меньше одного прыжка. С неба падает тень, едва касается земли и тут же, хлопая крыльями, подрывается обратно наверх. В клюве у нее позвякивают заветные ключи. Она отлетает довольно далеко, за ржавый остов бензоколонки. Рысью бегу за нею. Ворона разглядывает меня, крутит головой, бряцают ключи. С лаем подпрыгиваю, но этого недостаточно, чтобы схватить блестяшку. Пернатая будто насмехается надо мной. Черный дым сплетается над пустырем. Слышу голос со стороны закусочной, оборачиваюсь – это бежит Степанида. И зачем она вылезла? Неужели не увидела, что я погнался за ключами, неужели думает, что глупый пес гоняется за вороной играючи? Дым вытягивается в тонкую нить, которая одним концом бьет старуху сверху, а потом вся черная масса накрывает ее. Забываю обо всем и с диким лаем бегу обратно. Ворóны тут же разлетаются, я успеваю цапнуть лишь одну за лапу и приложить о бетонные ступени. Все равно опоздал. Старуха лежит раскинув руки. Глаза удивленно смотрят в небо. Я вылизываю еще теплое лицо. Я облажался. В закусочной остались только дети и я. У меня нету рук, чтобы вести машину, нету голоса, чтобы говорить по телефону с человеческими службами. Град над нашими головами снова усиливается, а еще появляется стук за дверью. Два удара. Молчание. Коротко лаю. Молчание. Снова два удара. – Кто-то пришел! – подскакивает Ната. – Это за нами! Принюхиваюсь – не пахнет там человеком. Это запах гниющего на солнце мяса, запах осыпающейся под когтями штукатурки, запах копошащихся опарышей, но это не запах живого человека. Рычу, пока Ната не отступает, поняв, что за дверью не спасатели, а кто-то другой. – Тук-тук. Кто там? – говорит голос за дверью. Фальшивый, высокий и скрипучий. Снова два коротких удара. – Потьтален петькин, плинес нам письмо, – лопочет Михась. Чертовы умники. Ведь могут подражать людям! – Тук-тук, – повторяет голос за дверью. Лаю. Долго. Очень долго, пока не начинаю хрипеть. По ту сторону раздается каркающий смех, следом удаляется хлопанье крыльев. Я кладу лапы на подоконник и смотрю в окно. Вороньё собралось на пустыре перед закусочной. Переговариваются, косятся на дверь, деловито отрывают куски от мертвяков. За ними трасса, по которой проносятся редкие машины, зачастую нагруженные вещами. Рядом с трассой растянут баннер «Спасибо, приезжайте к нам еще!», его растяжки висят низко над землей. Настолько низко, что только ухвати одну – и потянешь за собой весь транспарант. А говорят, собаки неспособны к абстрактному мышлению. Сажусь у двери и начинаю скулить, словно прошусь в туалет. Ната долго не решается открыть, но через какое-то время сдается. Есть какой-то страх у людей, что собака нагадит в доме, хотя порой люди и не такое позволяют себе. Мне наплевать на вороньё, наплевать на ключи, я бегу к трассе. Птицы провожают меня равнодушным взглядом, ведь их основная цель – люди, и сейчас у ворон нет ни малейшего подозрения, что на уме у туповатого пса. В этом основная проблема умников – они недооценивают других. Долго ждать не пришлось. На горизонте появляется черная точка – приближается машина. Стоит мне потянуть веревку баннера, как она лопается. Рву зубами и лапами простреленную пылью ткань. Черная точка становится ближе, обретает форму. Бегу через дорогу с обрывком баннера, ветер расправляет его, и поперек шоссе трепещет надпись «Спаси…». Теперь остается ждать. Автомобиль гудит, мне страшно, но я держусь на ногах, вцепившись в ткань. Кажется, он немного притормозил, но совсем чуть-чуть. Вас когда-нибудь били кирпичом? Рывок баннера из пасти оглушает меня, как удар кирпичом по морде. Я качусь на обочину и скулю. В пасти вкус крови, зубов у меня существенно поубавилось. Слышу, как жужжит мотор. Машина пятится назад. Из окна высовывается борода. Большие подозрительные глаза глядят на меня. Не подозревал, что пес умеет чуть больше, чем выпрашивать крошки со стола? Но моя собачья интуиция подсказывает, что за подозрительностью, удивлением и недоверием скрывается тот, кто готов прийти на помощь. Вскакиваю, забыв про боль и кровоточащую пасть: скорее показать, где нужна помощь! Бегу обратно к закусочной, иногда поворачиваюсь и призывно лаю. Машина неуверенно ползет за мной. Когда она оказывается напротив покойников, я слышу из салона пару крепких выражений, которые не использовал даже Па, когда я таскал стельки из его блестящих туфель. На подходе к цели понимаю, что опоздал. Ворóны перестали закидывать крышу камнями и столпились у прорехи. Ее саму я, конечно, не вижу с земли, но слышу их нетерпеливое карканье, чувствую, что они уже внутри. Еще раз лаю водителю, а потом прыгаю в дверь, вышибая ее лбом. Черный дым заполнил собой помещение. Из дыры в потолке появляются новые ворóны. И все они кричат. Громко, скрипуче. Нюх улавливает запах крови, не моей – чужой. Алый след тянется по полу. Иду по нему и упираюсь в печь. Там за массивной заслонкой кто-то скулит. Копаю шершавый металл. – Барон – это ты? – Тонкий голос по ту сторону. Гавкаю в ответ. – Михась, ты слышал? Это Барон! Заслонка со скрежетом отползает, на меня глядят две пары напуганных глаз. Хлопанье крыльев за спиной, удар по затылку выводит меня из равновесия, но я быстро прихожу в себя, разворачиваюсь и не глядя смыкаю челюсти на шее напавшей. Тут же получаю еще два удара. Тесня друг друга, ворóны ныряют ко мне так, что я оказываюсь внутри птичьего шара. Неважно где верх, а где низ. Я бью и не вижу своих лап, это уже новые конечности, состоящие из боли, крови и перьев; зубы не знают ничего, кроме хруста. Я сам становлюсь черным дымом. Низкий гул наполняет меня. Холодею и проваливаюсь в него. Мир взрывается грохотом выстрела. Черная сфера вокруг меня разваливается на множество шуганых птиц. Утекающее сознание замечает в свете дверного проема силуэт Бородача с карабином наперевес.Я лежу на заднем сиденье тарахтящего драндулета. Чувствую цветочный аромат Наты и запах печенек с молоком, принадлежащий Михасю. Еще есть незнакомый запах дешевого табака, пороха и чего-то пропитанного потом и дорожной пылью. Это Бородач за рулем. – Бася, конечно, удивил. Мало того, что он привел меня к вам, так еще дрался с этими тварями. И как дрался! – Бородач улыбается всеми своими морщинами. Сам ты Бася. – Он не Бася, он Барон. – Ната вступается за меня. Бородач соглашается. И даже не Барон. Эх, знала бы ты мое настоящее имя. Стократ лучше твоего «барона». Там у печи была кровь Наты, птицы чуть-чуть задели ее, когда она закрывала собой брата, теперь все в порядке. Мне досталось больше: одну лапу я не чувствую, остальные при малейшем движении отзываются лютой болью. Поэтому я лежу без движения в теплом гнезде из одеял, которое соорудили для меня дети. Дети добрые. Закрываю глаза, чтобы увидеть Ма, Па и Алю. Их образы на мгновение проскальзывают перед глазами, а потом растекаются, будто краски размыло дождем. Низкий гул неумолимо заполняет мою дрему. Он словно шепчет: «Беги, но я все равно буду с тобой, буду рядом». Я настолько сжился с людьми, что мне этот зов нипочем, но почему-то я его продолжаю слышать, будто застрял между миром людей и миром подобных мне. Смотрю на перепуганную Нату, на Михася, который не понимает, что происходит. Их лица измазаны сажей. Кроме меня, у них никого нет. И я не знаю, сколько еще смогу сопротивляться.
Оксана Ветловская Имаго
«Когда же ты повзрослеешь?» – всю жизнь слышал Евгений от окружающих. Начиная с детства, когда мать, пережившая развод – тяжелый, скандальный, с дележкой имущества, – начала неосознанно искать опору в единственном сыне. Однако Евгений в качестве опоры не очень-то годился: мелкий, тощий, с нежными русыми девчоночьими кудряшками, с девчоночьим же именем Женя, Женечка – за все это, вместе взятое, сверстники его иногда поколачивали, но не слишком рьяно, просто по дворовой традиции. Доводить его было неинтересно, слишком он был чудной, отрешенный, не плакал, не жаловался – спокойно поднимался, отряхивал одежду, собирал разноцветные учебники первоклассника в портфель и невозмутимо уходил по своим делам. Дела у него тоже были чудные: например, чуть ли не часами торчать в дальнем углу большого заросшего газона возле школы и наблюдать, как на крепкие, выше колен, ослепительно-желтые цветы одуванчиков приземляются расторопные пчелы, тяжеловесные шмели или шустрые рыжие бабочки-крапивницы. Бабочки интересовали Женю особенно. Например, в свои семь лет он уже знал, что майские крапивницы – это всё перезимовавшие бабочки. Долгие несколько месяцев эти крохотные существа, бережно сложив книжечкой хрупкие крылья, прятались в трещинах древесной коры, или в дуплах, или на чердаках, или забившись между старыми рассохшимися оконными рамами, промерзшие в ледышку, будто мертвые. И вот весной они отогрелись, выпорхнули, чтобы дать многочисленное потомство и пропорхать все лето, пока их нарядные крылья не поблекнут, растеряв пыльцу, и не обтреплются – пожилые бабочки лишались красоты, будто люди на старости лет. Крапивницы нравились Жене больше всего: быстрые, яркие, веселые – и вездесущие, стойкие, эти маленькие солдатики природы не брезговали даже самыми загазованными городскими районами, самыми разбитыми каменистыми газонами в редких одуванчиках, в окружении ревущих авторазвязок. Порой на майском разнотравье школьного двора попадались более крупные, драгоценно-пурпурные бабочки павлиний глаз – по образу жизни очень похожие на крапивниц, тоже зимующие, и их гусеницы паслись на той же крапиве, но павлиноглазок в городе было меньше, и потому Женя, с малых лет привыкший все систематизировать, назначил их офицерами. Крайне редко на городских газонах можно было встретить настоящую элиту мира чешуекрылых – например, бабочку-адмирала; эти бабочки, перелетные, как птицы, возвращались по весне с юга. И пока лишь раз Жене довелось увидеть в городе царственного махаона – прошлым, предшкольным летом. Даже обидно было, что махаоны, такие большие, крепкие с виду, в виде бабочки живут всего лишь до трех недель. Женя уже вычитал в детской энциклопедии, что эта стадия развития насекомого, высшая и последняя, называется «имаго». Законченный образ. Совершенная взрослая особь. Увы, своими многочисленными и такими увлекательными знаниями Жене было совсем не с кем поделиться. Сверстникам было скучно слушать, как он без конца рассказывает об особенностях той или иной бабочки, и друзей у него не было. Мать считала его увлечения совершенно неподходящими для мальчишки. «Опять с букашками возишься?» – вздыхала она, когда сын приносил домой большую зеленую гусеницу в стеклянной банке, чтобы выкормить ее листьями сирени (бабочка закономерно называлась «сиреневый бражник»). «Лучше бы пошел дяде Коле в гараже помог». Молчаливый мужик дядя Коля, сосед, иногда откликался на просьбы матери и выполнял в доме мужскую работу – чинил утюг или менял кран на кухне, – но к ее попыткам сблизиться относился без энтузиазма. Впрочем, иллюстрированную энциклопедию насекомых, огромную, толщиной с Библию, мать все-таки купила Жене на день рождения, сдавшись после его бесконечных просьб. И в просторные заросшие, совсем не знавшие, по счастью, косилок солнечно-зеленые дворы своих первых летних каникул Женя выходил, уже с крыльца безошибочно распознавая белянку-капустницу, лениво летящую к зарослям пижмы. Или графичную, с крыльями в черных жилках, боярышницу возле лужи – самую глупую и неосторожную бабочку, которую можно спокойно брать руками. Или пронзительно-небесные сполохи голубянки, порхающей в траве. А стоило заглянуть под скамейку возле подъезда или под карнизы низко расположенных окон на первом этаже пятиэтажки, и можно было обнаружить укромно приткнувшихся, окрасом идеально маскирующихся под серые доски или обшарпанную стену, мирно спящих бражников – сумеречных, ночных бабочек. По соседству с пятиэтажками стояли старые деревянные бараки, где вовсю еще кипела жизнь – голосил радиошансон из открытых окон, под которыми ворчливые женщины развешивали белье на натянутых между деревьями веревках, и мальчишки тут жили самые задиристые, с ними лучше было не связываться. Но Женя ходил сюда собирать гусениц – возле остатков дощатого забора, окружавшего бараки, росли самые сочные заросли крапивы, в них чаще всего попадались гусеницы крапивницы и павлиньего глаза, а еще тут можно было надергать листьев им на прокорм. Из дома Женя предусмотрительно захватил варежку, чтобы не обжечься. Обходя кусты крапивы, всматриваясь в жгучую зелень, он заметил куколку крапивницы на заборе. Обычно куколки удачно мимикрировали – на дереве они были бурыми, серыми, а на траве – перламутрово-золотистыми, зеленоватыми, но эта, вызывающе ярко-золотая, здорово выделялась на темной доске. Женя наклонился, рассматривая куколку. Куколки бабочек его завораживали. Самая непостижимая загадка. Великое таинство. Внутри куколки живое существо буквально переплавлялось, распадалось на отдельные клетки, собиралось заново, чтобы стать чем-то совершенно иным, нежели прежде, стремительным и крылатым, легким и прекрасным, прихотливо расписанным яркими красками – никакого сравнения с неуклюжей и порой довольно страховидной гусеницей. Процессы, происходящие внутри куколки, Женя в свои восемь лет, конечно, не понимал, и даже в энциклопедии про них было до странности мало написано. Будто сами ученые толком не разбирались в творящейся внутри куколки магии. Женя осторожно протянул руку, чтобы снять куколку и забрать домой, положить в накрытую марлей банку – куда более безопасное место, чем этот забор. Но тут его отвлекло появление компании барачных мальчишек. Почти все они были на пару лет старше, а единственным ровесником был одноклассник Юрка, привязчивый балбес, от которого в школе Женя старался держаться подальше. – Смотрите, пацаны, Клоп, – сказал Юрка. – Опять каких-то жуков ловит. Так Женю прозвали за маленький рост, он всегда стоял в самом конце строя на физкультуре, и физрук как-то назвал его клопом – вот и прижилось. – Эй, Клоп, чего это у тебя? Таракан? – Ничего. Листья собираю, – соврал Женя, пряча куколку в банку, забитую крапивными листьями. Разумеется, банку у него сразу отобрали, как он ни прижимал ее к себе прохладным скользким боком. – Клоп, а зачем тебе крапива, для супа? – Мальчишки вытряхнули листья на утоптанную дорожку, выпала и куколка – такая беззащитно яркая на темной земле. – А это чего такое? – Юрка поднял золотистую штуковину, повертел в пальцах. Куколка несколько раз дернула брюшком. Единственное, что она могла сделать, чтобы хоть как-то попробовать напугать. – Эй, пацаны, да оно живое! – Это куколка, – объяснил Женя, чувствуя подступающую холодную тошноту, будто кто-то понемногу сдавливал желудок ледяной ладонью. – Чья-то личинка, да? – уточнил один из старших мальчишек. – Там, внутри, бабочка, – объяснил Женя, пытаясь приглушить тошноту сухими сглатываниями. – Она еще не вылупилась. Отдайте, пожалуйста. – Пожа-алуйста, – передразнил Юрка. – Пацаны, а давайте поможем бабочке вылупиться! Посмотрим, что внутри этой фиговины. – Он достал из кармана маленький складной ножик. Старшие мальчишки пришли от идеи в восторг. – Отдайте! – Женя рванулся отобрать куколку, но старшие скрутили его и крепко держали, пока одноклассник деловито примеривался острием ножа к крошечной куколке. – Сейчас мы ей сделаем вскрытие. – Трепанацию черепа, – сумничал один из старших. – Аборт, – добавил другой. Из надреза выступила вязкая рыжая жидкость. Юрка поддел край надреза ножом, расширил, затем подцепил ногтями. Женя и не хотел смотреть, и в то же время смотрел во все глаза, с жутким леденящим любопытством. Внутри никакой магии не оказалось. Куколка была заполнена мерзкой жижей разных оттенков коричневого, из которой Юрка вытащил что-то отдаленно похожее на раздавленную бабочку без крыльев. – Фу, дрянь какая. – Юрка отбросил остатки куколки и принялся вытирать пальцы лопухом. – Вот тебе твоя бабочка, Клоп. Мальчишки быстро потеряли интерес к вскрытой куколке и вскоре ушли. А Женя подобрал валявшуюся в лопухах банку (за нее от матери могло влететь, если не принес бы домой), аккуратно нарвал новых крапивных листьев для гусениц, стараясь не смотреть на остатки куколки на дорожке. И пошел домой. Его все еще слегка тошнило. Дома на подоконнике в банках, закрытых марлей, жили гусеницы, они ели листья, оставляли на укрытом бумагой дне банки мелкий черный помет и через некоторое время окукливались. Обычно процесс окукливания – когда гусеница приклеивалась кончиком брюшка к марле, к стенке банки или к специально для того оставленной веточке и линяла в куколку – а затем двухнедельный процесс ожидания, пока из куколки не вылупится бабочка, – был для Жени самым торжественным и увлекательным временем. Теперь же он смотрел на куколок в каком-то отупении, без прежнего трепета и причастности к чуду. Магия испарилась. Перерождение гусеницы в бабочку, как оказалось, выглядело мерзко и страшно: насекомое будто переваривало само себя, превращалось в мешанину из внутренностей и телесных соков. Женя долго сидел на стуле рядом с подоконником, отрешенно глядя на куколок. Кажется, он не думал ни о чем определенном, но пару раз почему-то захотелось плакать. Он даже подумал, не рассказать ли маме про вскрытую куколку, но представил, как та говорит: «Женя, ну что ты как девочка, когда же ты повзрослеешь?», и не стал. Насупился и принялся чистить банки с гусеницами от помета. На следующее утро он проснулся от шороха в крайней банке – это вылуплялись бабочки. Две крапивницы уже сидели, свесив вниз расправленные крылья, на марле. Бумага на дне банки была обильно заляпана расплывшимися красными пятнами гемолимфы – при выходе из куколки ее выделяется много, и у крапивниц она красного цвета. Прежде Жене не приходило в голову – но теперь он отчего-то подумал, что гемолимфа по виду очень похожа на кровь. В сущности, гемолимфа и есть кровь насекомых. Как будто бабочка рождается из куколки в сильных муках и еще некоторое время истекает кровью. Впрочем, он и сам не раз видел, скольких усилий стоит насекомому выбраться из ставшей почти прозрачной, но, очевидно, жесткой оболочки. Женя выпустил бабочек, совершенно не чувствуя обычной в таких случаях радости, выбросил бумагу и пустые скорлупки куколок, помыл освободившиеся банки. И вроде бы перестал думать о кровавых пятнах и о вскрытой куколке крапивницы. Однако когда осенью пошел он во второй класс, стал наглухо игнорировать Юрку. Не заговаривал с ним, не отвечал ему, просто отворачивался – и так продолжалось многие последующие годы, до самого выпускного. Юрка уже и забыл давно, отчего этот мелкорослый чудик с ним не общается, да и не больно-то надо было. Что же касается Жениного увлечения бабочками, то оно не отступило, просто банок и гусениц в них с каждым летом становилось в его комнате все меньше, а книг о бабочках – все больше. И к старшим классам стало окончательно ясно, что, кроме как на биологический факультет, с прицелом на кафедру энтомологии, поступать Жене просто некуда. Мать, разумеется, была не в восторге – «Женя, ну это же все несерьезно, чем ты на жизнь будешь зарабатывать, да когда же ты повзрослеешь?» – но переломить решение сына не смогла.Последним майским днем научный сотрудник Евгений Павлович шел на работу, точнее, ехал на трамвае в Институт экологии растений и животных, где так и остался со времен аспирантуры – а куда ему еще было идти. Ехал мимо шеренг застрявших в пробках сверкающих на солнце автомобилей и привычно думал о том, что вот ему уже тридцать, а денег как не было, так и нет – ни на машину, ни на собственную квартиру. «За такие копейки мужчине трудиться – только унижаться», – часто говорила мать; и правда, в институте работали почти сплошь тетки значительно старше него, так что место работы было в каком-то смысле продолжением дома, только вместо матери было множество женщин, которые относились к Евгению по-матерински. Они подкармливали его домашними пирожками и пытались познакомить со скучными лаборантками – но не со своими дочерями, нет, безденежный зять и им не был нужен. На горизонте его монотонной жизни незримым чудовищем поднималась необходимость смены профессии. Потому что так дальше было просто нельзя. Его ровесники были уже в основном семейными и вполне состоявшимися людьми, а он все мечтал об энтомологических экспедициях, о неведомых открытиях, но при этом составлял бесконечные отчеты о морфологической изменчивости крыльев боярышницы в зависимости от динамики численности. Недавно соцсеть подкинула ему фото одноклассника Юрки – «вы можете знать этого человека». Евгений, почему-то стыдясь себя, воровато заглянул на его страницу и сразу увидел название известной в городе фирмы, огромный джип, симпатичную жену, пухлого ребенка. У Юрки, которого он все школьные годы презирал и игнорировал, – собственная фирма и джип, а у него – сборы боярышницы. Крохотные сухие тельца в конвертах, ломкие крылья, которые следовало рассмотреть и систематизировать. Тлен, мусор. От остановки он пошел мимо забора ботанического сада, машинально отмечая на одуванчиковых газонах привычных крапивниц – редких, надо сказать: со времен его детства бабочек в городе значительно поубавилось, да и за городом тоже. Конечно, этому было самое прозаическое объяснение: вырубки лесов, новые автострады и закатанные асфальтом обширные кварталы многоэтажек. Однако порой Евгению казалось, что обилие бабочек было как-то связано с детством как таковым, временем более ярким и беззаботным, чем взрослая жизнь, в которую, впрочем, Евгений так и не вписался, так и не выпорхнул полноценной взрослой особью – низкорослый, нелепый, одинокий, безденежный. Он подошел к зданию института, серому, из силикатного кирпича, всего в три этажа, с деревянными рамами и треснувшим крыльцом – денег не хватало не только на зарплаты, но и на ремонт. Начинался обычный день в однообразной череде прочих дней. Но когда Евгений зашел в кабинет, готовясь погрузиться в отчеты о боярышницах и тем самым отрешиться от того, что следовало серьезно, по-взрослому обдумать, навстречу ему распахнулось солнечно-рыжее и шелковистое – будто вспышка крыльев весенней крапивницы в серой прошлогодней траве. Это незнакомая девушка, рыжеволосая, в оранжевом платье, снимала курточку. И пожилая сотрудница Анна Михайловна с улыбкой сказала: «Знакомься, Женя, это Танечка, наш новый младший научный сотрудник». С того утра Евгений принялся выслеживать Таню, будто редкую бабочку – очень осторожно, чтобы не вспугнуть, и очень упорно. Украдкой наблюдал за ней из противоположного угла кабинета. Ближе к одиннадцати часам и после полудня, когда до обеда или до вечера еще далеко и все сотрудники по сложившейся традиции чаевничают, как будто ненароком проходил мимо и предлагал заварить чаю. В маленькой столовой старался оказаться за одним столиком. Впрочем, в столовую Таня ходила нечасто, предпочитая кафешки через дорогу от института. Евгения одинаково страшила мысль как вести Таню в ресторан (и оставить там разом половину месячной зарплаты), так и приглашать к себе домой, в старенькую сумрачную двушку, к вечно ворчащей матери. Но своей тихой охоты он не прекращал, и его ненавязчивое упорство дало определенные результаты: поначалу вовсе не замечавшая его Таня стала с ним здороваться, улыбалась, и однажды, упорхнув на обед, затем принесла ему из пекарни поблизости пирожок с рыбой – именно такие пирожки он брал в столовой по четвергам, когда их там пекли раз в неделю. Не кому-нибудь, а ему одному. Евгений принялся разрабатывать план, как ему однажды проводить ее – ну, если не до дома, то хотя бы до трамвайной остановки. Автомобиля у Тани, по счастью, не было. На ответственную операцию «проводить девушку» Евгений решался с неделю. В конце концов он случайно подслушал, как Анна Михайловна говорила кому-то, что надолго новая сотрудница в институте явно не задержится – поднаберется рабочего стажа да упорхнет. Евгений даже похолодел от этих слов и сказал себе: надо торопиться. И вот он вышел из института сразу следом за Таней, намереваясь как бы невзначай догнать ее на пути к остановке. И даже тему для разговора придумал – недавно открывшийся в городе парк экзотических бабочек, куда он собирался Таню пригласить. Но все пошло не по плану. – Извините, нам, кажется, по пути? Вы ведь тоже на трамвай?.. – Что?.. Нет, Жень, мне тут рядом совсем, – ласково улыбнулась Таня и вдруг резко свернула за киоск с шаурмой: как оказалось, к припаркованной на обочине черной «тойоте». Оттуда ей навстречу выбрался парень: «Привет, Танюш!», и Евгения, поспешно попрощавшегося, прямо-таки сдуло за шаурмичную, будто гонимый ветром лист. Он сразу понял: никаких шансов. Парень был под два метра ростом, в кожанке на широченных плечах, с выбритыми по моде висками и затылком – и в этой псевдоармейской стрижке на густых блондинистых волосах, в черной коже, в черном авто было что-то смутно вражеское и невыносимо захватническое. – Кто этот мелкий чудик? – отчетливо услышал Евгений из-за шаурмичной. – Ой, Леш, да нашел к кому ревновать! Это Женька из нашего института, он даже не мужик, а так, чисто ребенок, его вообще ничего, кроме бабочек, не интересует… Эти слова так и катались в пустой гулкой голове туда-сюда, как свинцовый шар – бум-м, не мужик, бум-м, чисто ребенок, – пока Евгений не чуя ног шел к трамвайной остановке. Дома он с ненавистью посмотрел в темное зеркало в коридоре: маленький, узкоплечий, со слабыми кудрями, подозрительно редеющими на макушке – мать упоминала, что давно пропавший за горизонтом отец был лысый как коленка… И никаких сил на свете не было, чтобы перекроить и переиначить не только его жалкое тело, но и, главное, разум – дать другое призвание, другое сознание, забыть проклятых бабочек, чтобы душевных сил хватило работать там, где можно заработать хотя бы на чертову «тойоту». Тут с кухни его позвала мать: – Жень, а Жень! Ты, как поешь, зайди к Гале с четвертого этажа, у них там какая-то проблема с бабочками, может, разберешься! – С бабочками? – Узкие брови темного отражения поползли вверх. – Моль, что ли, завелась? Это не ко мне. – Нет, не моль, экзотические бабочки. Галиному сыну кто-то целую коробку живых бабочек на день рождения подарил… Плач соседского сына стало слышно, едва Евгению открыли дверь. Соседка принялась сбивчиво объяснять ситуацию, но Евгений и так уже все понял. Слышал он о таких, модных в последнее время, подарках. Коробки с наборами живых куколок, из которых, по замыслу создателей затеи, должны дружно вылупиться яркие тропические бабочки, что будут весело порхать по комнате на радость детишкам. Однако на деле все выходило обычно по-другому. Ведь куколкам из экваториальных лесов, равно как и вылупившимся из них бабочкам, нужна строго определенная температура и влажность, а мало кто станет заботиться о создании у себя в квартире климата джунглей… – Почему они умирают? – пятилетний мальчишка повторял эту фразу как заведенный, тянул и тянул на одной ноте, размазывая слезы по лицу. – Почему… Почему они умирают? Зайдя в комнату, Евгений увидел на столе бабочкарий – красивую прозрачную емкость с куколками – и вылупившихся бабочек. Он сразу оценил масштабы бедствия. Куколок было больше десятка – очень дорогой и до жестокости бесполезный подарок: многие бабочки уже вылупились и являли собой гнетущее зрелище, от которого даже взрослому становилось не по себе. От сухости воздуха или по какой другой причине у них так и не расправились крылья, превратились в затвердевшие цветные комочки, и насекомые медленно ползали по столу, неуклюже с него падая, либо сидели на месте в ожидании близкой кончины. Некоторые безостановочно мелко дрожали, будто в припадке. Две бабочки, у которых крылья все же расправились – большая голубая морфа и черно-красный парусник Коцебу – были настолько слабы, что не могли летать, не могли даже есть. Меланхолично сидели возле лужиц разбавленного меда (которым их явно пыталась накормить соседка, размотав им хоботки валявшейся тут же булавкой) и не проявляли никакого интереса к окружающей действительности. У них даже не хватало сил смотать обратно неуклюже размотанные хоботки. Евгений вспомнил давнее, из собственного детства – задиристых соседских мальчишек, разрезанную ножом живую куколку – и подумал, что такой подарок ребенок уж наверняка запомнит на всю жизнь. А еще на мысленном фоне прокрутилась картина сегодняшнего унижения – двухметровый красавец конкурент, черная «тойота», будь она неладна, – и так до сих пор жгло нестерпимое, до беззвучного крика, ощущение собственной ничтожности и никчемности. Как общаться с детьми и тем более как их успокаивать, Евгений понятия не имел. Поэтому лишь потоптался возле мальчишки, а соседка спросила: – Так им можно как-нибудь помочь? Вы ведь работаете с бабочками… Евгений не стал уточнять, что на работе он систематизирует уже мертвых бабочек, и жестом отозвал соседку в коридор. – Им ничем не поможешь. Я не знаю, в каких условиях выращивали гусениц на ферме, чем их там кормили, но результат налицо. И вообще, квартира – не место для тропических бабочек. Соберите их и выкиньте куда-нибудь на клумбу. – Так Стасик не дает… – Ляжет спать – выкиньте. – Но такие деньги заплачены… Евгений почувствовал, будто откуда-то из солнечного сплетения к горлу поднимается тонкий стальной стержень, от леденящего холода которого аж сводит горло. И, наверное, впервые во взрослой жизни он, старавшийся быть предельно вежливым и неконфликтным со всеми, тихо, но очень тяжело произнес, нимало не заботясь об ответном возмущении: – Вам вообще что важнее: деньги или психика ребенка? Почему вы для начала не погуглили вообще, какие риски есть при покупке бабочкария? – Так по телевизору рекламировали… – А собственные мозги у вас есть? Соседка молча вытаращилась на него: такого от безобидного как тряпичная кукла чудака Жени, тихого научного сотрудника, она никак не ожидала. Евгений молча развернулся и не попрощавшись вышел из квартиры. Назавтра ощущение тонкой стальной трубки в груди, проходящей вдоль пищевода, никуда не делось. От этого несуществующего, но ясно ощущаемого внутри железа тело казалось более тяжелым, и по дороге на работу каждый шаг Евгений делал с ощутимым усилием. С таким же усилием приходилось смотреть на все вокруг. «Точно пора увольняться», – сказал он себе. Но сначала все-таки следовало подыскать другую работу, с зарплатой, хоть немногим более достойной. Он решил, что не даст вчерашнему унижению разрастись, и потому, как обычно, приветливо поздоровался с Таней и улыбнулся ей, хотя улыбка далась с такой болью, будто он сам себе надрезал щеки ножом. Таня безошибочным женским чутьем явно определила: что-то не так, поначалу все посматривала на него, но потом отвлеклась на телефон, фыркая в ладошку – по-видимому, ее кавалер прислал ей что-то очень смешное, – затем убежала на обед и – конечно же – про Евгения и думать забыла. Его тем временем вызвал к себе в кабинет заведующий лабораторией эволюционной экологии, в которой, собственно, они с Таней и работали. Заведующего за глаза уважительно именовали аксакалом – лет ему уже было за восемьдесят, тем не менее держался он молодцом и ходил на работу пешком, правда, из соседнего квартала, но зато не по-стариковски бодрым шагом. – Знаю, вы давно мечтаете о научной экспедиции, Евгений Павлович, – сразу выложил заведующий. Евгений растерянно промямлил что-то нечленораздельное. Уж этого он ожидал меньше всего – особенно теперь, когда наконец-то отважился уволиться. Да, он со студенчества грезил энтомологическими экспедициями, но все как-то не складывалось, у института не было средств, а мечта таяла, и сегодня утром, с решением об увольнении, умерла окончательно. И вот она объявилась, как водится, именно тогда, когда стала совсем не нужна. – Посмотрите, вас это должно заинтересовать, – прибавил заведующий и развернул к Евгению большой ноутбук. На фотографии была бабочка – ночная, со сложенными домиком крыльями, серо-коричневый рисунок на них очень напоминал сухой лист. Бабочка относилась к роду калиптра. Евгений определил бы ее как калиптра василистниковая, если бы не размеры особи. Обычно калиптры чуть больше ногтя взрослого человека – этот же экземпляр был размером более чем вполовину мужской ладони. Собственно, на ладони насекомое и было сфотографировано. Бабочка проткнула кожу человека хоботком и явно пила кровь. В этом факте в общем-то не было ничего удивительного. Калиптры среди энтомологов известны именно как бабочки-вампиры. Самцы тропических видов питаются слезной жидкостью и кровью животных – хоботок этих бабочек достаточно твердый, чтобы прокалывать кожу. Калиптры, способные пить кровь, встречаются и в России, на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Гораздо больше кровопийства Евгения заинтриговал огромный размер бабочки на фотографии. – Что скажете? – поинтересовался заведующий, пролистав еще несколько подобных снимков, позволявших оценить размер насекомого: бабочка, сидящая на рюкзаке, на куртке. – Я бы сказал, что это калиптра редкого, еще неизвестного науке вида. Где сделаны эти снимки? – На Алтае. Окрестности горы Белухи. Туристы прокладывали новый маршрут и наткнулись на вот этих созданий. Те края сейчас вовсю осваиваются. Строятся новые туристические базы, люди все дальше заходят в нетронутые леса. Думаю, энтомологу там откроется еще немало интересного. – Я поеду, – решительно сказал Евгений. Наконец-то ему представился шанс вырваться из привычного круга тусклых будней. Съездит в экспедицию, а там видно будет, что насчет увольнения; может, энтомологическое открытие как-то изменит его жизнь. – Подождите, это еще не всё. – Заведующий открыл следующую фотографию. – Как утверждают туристы, их товарищ был покусан множеством таких бабочек. Человек на фотоснимке выглядел скорее изжаленным роем пчел. Сильно опухшее, туго надутое синюшное лицо и такие же руки. Кожа глянцево блестела от натяжения. Ее усеивали алые точки укусов. – Туриста не довезли до областной больницы. Скончался, – ровно произнес заведующий. – А это точно бабочки постарались? Может, турист просто разворошил гнездо шершней? – Все может быть, – заведующий помолчал. Его сухая рука с желтыми ногтями по-старчески тряслась над компьютерной мышкой. – Даже не знаю, достоин ли внимания последний снимок, – сказал он наконец. На сей раз на фотографии было что-то вроде куколки. Гигантской коричневой куколки почти в человеческий рост, лежащей в какой-то пещере. Рядом, для масштаба, бросили чью-то кепку. – Ну, это фейк, – пренебрежительно сказал Евгений. – Подделка, – пояснил он, встретив непонимающий взгляд заведующего. – И, кстати, проверить бы фото с бабочками. Не подделки ли тоже? – Куколка-то явный розыгрыш. Но вот бабочка… Часть экземпляра туристы привезли с собой. Кто-то догадался вложить оторванные крылья бабочки в чехол смартфона. – Заведующий открыл ящик стола, достал треугольный бумажный конверт для энтомологических сборов и осторожно вытряхнул на лист бумаги два коричневых крыла – нереально огромных, действительно почти в ладонь, мощных, бархатистых, с толстыми жилами – подобные крылья Евгений раньше видел только у тропических бабочек, распятых под стеклами в коллекциях. – Сбором это, конечно, не назвать, но даже то, что есть, впечатляет. Знаете, будь я помоложе… В мире осталось так мало заповедных мест. Такой мизерный шанс сделать настоящее открытие. Я вижу, как оно вам нужно. Еще немного – и вы бросите науку. Я вас понимаю. Обычно наука не кормит. Но если нам удастся и дальше получать гранты под это дело… – заведующий снова открыл первое фото: гигантская бабочка, пьющая человеческую кровь. – Однако учтите: экспедиция может оказаться опасной. У меня был телефонный разговор с медиком, который делал вскрытие. Турист погиб не столько от анафилактического шока, сколько от сильного изменения состава крови. По словам медика, она превратилась в какой-то растворитель. В общем… мне хочется вас уговорить, но вы все-таки крепко подумайте. Решение за вами. Евгений выдержал паузу не отводя взгляда от огромных крыльев. Представил возмущение матери: «Женя, ну какая экспедиция, опять бабочки! Кран вон на кухне потек, ну когда ты повзрослеешь?» Подумал, что опять хочет укрыться от будничных задач взрослого человека – на сей раз в экспедиции. Поежился при мысли о том, что неведомые огромные твари могут быть и впрямь ядовиты. И еще подумал, что всю сознательную жизнь ждал этого чуда – подлинного энтомологического открытия. – Я согласен.
Кроме Евгения, в экспедицию ехали еще трое энтомологов. Виталий Дмитриевич, он же Дмитрич, был сотрудником той же лаборатории – вроде самого Евгения, если прибавить тому еще лет пятнадцать, тоже маленький, но еще более нелепый, головастый как игрушка, все теплые выходные проводивший в поле с сачком. От столичного института были: рыхлый, потный, заикающийся парень Гоша и начальница экспедиции – коренастая мужеподобная Жанна, неопределенного возраста, некрасивая, угрюмая и нарочито, вызывающе неженственная. Перед отъездом Евгений состриг в парикмахерской почти под ноль жиденькие свои кудри, с мрачным удовлетворением заметив, что на макушке и впрямь намечается ранняя лысина. Стрижка даже пошла на пользу его внешности и самооценке – лицо стало резче, серьезнее. К тому же экспедиция словно бы придала ему веса в собственных глазах – он наблюдал заокружающими спокойно и пристально. И не мог отделаться от мысли, что в науку зачастую прячутся люди самые неприспособленные к жизни – эволюционный тупик, человеческий неликвид. Плохо социализированные, патологически безденежные. Особи, не способные на свободный полет, те, чьи крылья так и не расправились до конца. Бывают ли вообще в реальности импозантные кинематографические ученые, что расхаживают в белых халатах по шикарным лабораториям?.. И все росло, росло в душе злое желание что-то изменить в своей жизни – радикально и навсегда. До Барнаула ехали поездом, в одном купе. Евгений основательно подготовился к экспедиции, изучил все свидетельства очевидцев – таковых, впрочем, было мало, в основном статейки в желтой прессе про «алтайских вампиров» – и поднял все легенды местных народов, в которых хоть как-то упоминались бабочки. Почти ничего интересного, впрочем, не нашел, кроме нескольких интригующих фото: схематичное изображение бабочек на древних алтайских петроглифах. Он хотел было обсудить это с коллегами, но Жанна оказалась до странности мрачна и неразговорчива, а Гоша спал почти всю дорогу на верхней полке, да и толку от него как от собеседника было немного: заика каждое слово брал приступом. Только Дмитрич без конца пил чай из граненого стакана с подстаканником, обязательного атрибута дальних поездок, и все вспоминал, как мальчишкой ловил жуков в деревне и собирал свою первую коллекцию. По настойчивости, с какой он обращался к детским воспоминаниям, складывалось впечатление, что подлинная жизнь Дмитрича закончилась, когда он перестал быть ребенком, а дальше пошло что-то другое, просто существование. И Евгению снова вспомнились несчастные тропические бабочки с комочками крыльев. Люди, не достигшие состояния имаго. Или достигшие, но не расправившие крылья. Вот кто собрался в этом купе. Ночью в тряском вагоне Евгению приснилась огромная куколка. Он, по правде сказать, напрочь забыл про эту дурацкую, явно фейковую фотографию, но во сне куколка оказалась настоящей, и кто-то шевелился внутри нее, стремясь выбраться на свободу. Куколка разломилась – Евгений вздрогнул и проснулся. От Барнаула ехали на автобусе до Горно-Алтайска, там экспедицию ждала машина. Дальше, до последнего населенного пункта на пути, села́ Тюнгур, группу вез на джипе русский водитель. Он лишь посмеялся, когда Евгений попытался расспросить его про бабочек-вампиров, и ответил: «А еще на Белуху приземляется НЛО. Вы, что ли, из этих, которые типа Шамбалу на Белухе ищут? А мне сказали, что вы энтомологи». Настроение у всех в группе мигом испортилось, в том числе у Евгения – хотя он-то видел огромные крылья, которые никак не могли быть подделкой. Тюнгур оказался обычным преимущественно русским селением с серыми покосившимися заборами и ржавыми драндулетами-вездеходами. Необычной для Евгения была местность кругом – высокие, будто с картинки, горы и нездешняя, вышняя, сияющая белизна Катунского хребта, видневшегося за стекающей как раз с него рекой Катунь. От Тюнгура дальше, туда, где уже не было сёл – сначала турбазы, затем только леса и горы, – группу ранним утром повез шофер-алтаец на «шишиге», машине ГАЗ-66, единственном колесном транспорте, который мог преодолеть здешние разбитые дороги. Путь лежал туда, где, по свидетельству незадачливых туристов, те столкнулись с неведомыми бабочками – а произошло это в окрестностях заброшенной турбазы, неподалеку от бурной реки Аккем, истекающей из ледяного Аккемского озера у подножия величественной Белухи. Мимо тянулись лиственничные и кедровые леса с вкраплениями берез. Между деревьями виднелись горы – пока еще не самые высокие, до вершин поросшие лесом, но крутые, со шлейфами воздушно-синих теней в долинах. По обочинам рос шиповник, усеянный крупными, еще зелеными ягодами. Изредка попадались алтайцы верхом на лошадях. Солнце светило как-то особенно ярко, словно в этих краях находилось ближе к земле. – Вы слышали что-нибудь про больших бабочек, пьющих кровь? – спросил Евгений у шофера-алтайца во время одной из остановок – шофер заодно развозил кое-какой груз по местным турбазам, новеньким, недавно построенным. – А вам что за интерес? – ровно произнес алтаец, глядя на Евгения непроницаемыми темными глазами. – Мы ученые. Энтомологи. Я думал, вас об этом предупредили. – Ученые – не ученые. Мне какое дело? А им и подавно. Если они вам и впрямь нужны – вы их увидите. – Их – вы имеете в виду бабочек? – А вы сами видели таких бабочек? – вклинился Дмитрич. Гоша и Жанна в разговоре не участвовали, но стояли рядом и внимательно слушали. – Мне без надобности, у меня и так все ладно, – чувствовалось, что алтайцу не хочется говорить. – Вы их как-то называете? У них есть местное название? – продолжал Евгений. – У них нет имени. Мы про них не говорим. Камы знают. – На этом алтаец прекратил диалог и полез в кабину. Камы – таково название местных шаманов. Алтайский шаманизм бытует только в устной традиции, что передается от старших камов к младшим, и наверняка многие местные сказания, особенно редкие или тайные, по сей день так и остались полностью вне внимания фольклористов. Такие мысли текли под плавно меняющийся пейзаж – высоких деревьев становилось больше, лес густел. Их высадили на большой поляне перед совсем новой бревенчатой постройкой. С виду и не сказать было, что турбаза заброшена. Все чистое, аккуратное, недавно построенное. За красной кровлей из металлочерепицы в гору поднимался густой кедровый лес. – Приеду за вами через неделю, как было оговорено, – сказал на прощание шофер-алтаец. – Сотовой связи здесь нет. – У нас спутниковая, – махнул рукой Дмитрич. Глядя на горы вокруг, Евгений в очередной раз порадовался, что спонсор экспедиции снабдил всю группу «иридиумами». С полной оторванностью от цивилизации ему было бы здесь не по себе, ведь прежде он выезжал в энтомологические экспедиции лишь на несколько дней в безобидные, прирученные пригородные леса, исхоженные дачниками и грибниками. Еще среди багажа группы были походные антимоскитные сетки и антимоскитные костюмы, отпугивающие средства от насекомых – в общем, предусмотрено было все возможное. На случай, если группа, конечно, вообще найдет бабочек. Внутри пустующей базы было тоже аккуратно и стерильно чисто. Евгений прошел по комнатам со смутным желанием найти следы человеческого присутствия, но не находил ни мусора в новеньких контейнерах, ни единой складки на постельном белье, ни каких-то оставленных вещей – притом что на кухне была посуда и запас консервов. Простая деревянная мебель, такие же пол и стены. Не оставляло ощущение, что кто-то здесь регулярно бывает и прибирается. Впрочем, сами помещения были еще слишком новыми, чтобы пропитаться духом заброшенности. На пустующей базе группа отдыхала пару часов перед последним отрезком пути – следовало пройти еще несколько километров по лесной тропе до туристической стоянки, где и были замечены неизвестные науке насекомые. Дмитрич снова рассказывал про свое детство – на сей раз вспоминал школьные туристические походы, Гоша умудрился порезаться консервным ножом, когда открывал банку, а Жанна зло и обидно ворчала на него, доставая пластырь, – что-то насчет «недомужиков», которые сами ничего сделать не в состоянии. Евгений вышел на заднее крыльцо и обомлел: на влажном после недавнего дождя песке возле крыльца явственно виднелись следы голых человеческих ступней. И следы эти вели из леса. Он побежал рассказать о своей находке коллегам. Все вышли посмотреть на следы. Нога была мужская – крупная. Они еще раз прошлись по всем постройкам, заглянули даже в новенькие дощатые сортиры, но нигде не нашли больше никаких признаков человеческого присутствия. Только следы свидетельствовали о том, что все же совсем недавно здесь кто-то был. – Ладно, пошли, – отрывисто сказала Жанна. – Нам до вечера надо к стоянке успеть. Вы ведь, конечно, не умеете палатки ставить? А одна я долго копаться буду. Почему она всегда такая злая, думал Евгений, неужто только из-за того, что, как украдкой сказал невзлюбивший ее Дмитрич, «мужика ей не хватает»? Вообще, Евгения порядком раздражал узколобый и вульгарный бытовой фрейдизм, но постоянное скверное настроение Жанны выглядело прямо-таки патологическим. Тропа, ведущая от турбазы, перевалила через невысокую гору и снова пошла вверх. Лес здесь был самым впечатляющим из того, что Евгению довелось увидеть за все время пути. Настоящий реликтовый кедровник. Причем деревья тут росли какого-то очень редкого, возможно, уникального вида: они были крупнее и с иглами еще более длинными, чем у обычного сибирского кедра. Кругом высились неохватные гиганты, одетые в кору-броню медного оттенка, напоминающую драконью чешую. Толстые корни сплошь увили землю подобно исполинским узловатым венам. Идти было трудно, приходилось постоянно смотреть под ноги. Сильно пахло хвоей, смолой и озоном – так сильно, что порой начинала кружиться голова. Ориентиром служил расколотый молнией засохший кедр возле обрыва, под которым текла река. Мертвое дерево, огромное, с загнутыми кверху ветвями, напоминало стилизованный рисунок на бубне алтайского шамана. Неподалеку ниже по склону располагалась стоянка – небольшая поляна с парой дощатых щелястых не домиков даже, скорее навесов. По контрасту с оставленной позади базой, постройки были очень старые, ветхие, с поросшей мхом частично провалившейся кровлей. Там нашлось кострище, возле него и принялись ставить палатки – вернее, занималась этим в основном Жанна, опытная походница, остальные помогали, как могли. Распаковали оборудование. Антимоскитные костюмы надели еще на базе. Бабочку Евгений увидел вечером. Сумерки наступили резко: еще несколько минут назад закатное солнце заливало расплавленной медью вершины окрестных гор – и вдруг опустилась сизая полутьма. Он подкладывал дров в костер, когда услышал тихое и густое басовитое гудение, будто над ухом включили вентилятор. Ни одно из виденных им насекомых – даже гигантские черно-синие пчелы-плотники – не издавали настолько низкого и характерного, с потрескиванием, звука. Евгений оглянулся и отпрянул. Сначала ему показалось, что у самого плеча зависла в воздухе птица. Но это оказалась огромная бабочка. Массивным мохнатым брюшком и манерой зависать на месте она напоминала не калиптру, а некоторых бражников. Быстро-быстро взмахивая крыльями и производя гипнотическое гудение, чуть покачиваясь, бабочка, казалось, рассматривала человека. Она была настолько близко, что Евгений видел отблески костра в ее круглых фасеточных глазах. Он так растерялся, что даже не догадался наклониться за лежащим неподалеку на земле сачком. Бабочка повисела еще и вдруг рванула прочь, мгновенно растворившись в сумерках. – Вы ее видели? Видели?! – закричал Евгений Дмитричу и Гоше, что возвращались от реки, замахал им руками, даже запрыгал от радости. – Она существует! Я ее видел! Оживилась даже Жанна, до того сидевшая как сыч в палатке. До глубокой ночи, очень ясной, светлой, полнолунной, они ходили по поляне и всматривались в многоярусную хвойную тьму в надежде, что вот-вот, привлеченная огнем костра, к стоянке прилетит еще бабочка, и, быть может, не одна. Они предусмотрительно надели перчатки, опустили на лица противомоскитные сетки и вооружились сачками. Но бабочки больше не показывались. – Я слышала, они любят более сырую погоду, – сказала Жанна, однако на ее слова как-то не обратили внимания. Этой ночью впервые со времен детства Евгений засыпал с ощущением настоящего чуда, озарившего его жизнь. На следующий день группа отправилась изучать окрестности стоянки, в надежде найти где-нибудь дремлющих бабочек – созданий явно сумеречных. У каждого при себе был сачок, морилка, прикрепленная к поясу, – обшитая брезентом банка для умерщвления насекомых, внутри нее находился пропитанный этилацетатом тампон – емкости для живых гусениц и коробки с конвертами для готовой добычи. Евгений захватил пару шприцев с нашатырем для докалывания бабочек – столь крупным созданиям явно будет мало обычной морилки. В сущности, любой энтомолог – прежде всего, профессиональный убийца. Энтомологическая экспедиция – массовое жертвоприношение во имя науки. Сдавливание грудки живой бабочки пинцетом, помещение в морилку и, наконец, докалывание нашатырем, если после перечисленных манипуляций насекомое еще живо – вот обязательные умения каждого ученого, собирающего материал. Почему-то именно обо всем этом подумал Евгений, когда наткнулся на труп зайца. Он осматривал стволы деревьев – сумеречные бабочки часто пережидают светлое время суток, забиваясь в щели коры, – и размышлял, что гусеницы, по-видимому, питаются только хвоей здешнего уникального кедра – этим объясняется малый ареал обитания. За очередным деревом обнаружилось мертвое животное странного вида. Очень сильно раздутое, со множественными следами укусов крупных насекомых. Евгений даже не сразу опознал в трупе зайца. Потыкал труп палкой – тот был твердый как камень, будто мумифицированный. И на нем не было видно ни мух, ни прочих падальщиков. Бабочки. Иного объяснения просто не находилось. Так вот как это бывает. Евгений машинально опустил на лицо антимоскитную сетку, наглухо застегнул плотную куртку, поправил перчатки на запястьях. Конечно, днем бояться было нечего, но от вида убитого животного стало не по себе. Он хотел позвать коллег, но тут его внимание привлек крупный камень у обрыва, оплетенный корнями старых кедров. Это был петроглиф. На камне было хорошо различимо высеченное примитивное изображение толстобрюхой бабочки с расправленными крыльями. Евгений припомнил аналогичные изображения, виденные на фотографиях. В древности алтайцы уже знали про этих тварей. Поклонялись им? Или просто остерегались их, и камни эти – вроде предупреждающих знаков: мол, путник, не суйся сюда, здесь опасно?.. Евгений спустился немного ниже по течению реки, туда, где обрывистый каменистый берег переходил в пологий. Вдоль скалы можно было пройти по песчаной кромке у самой воды. Отвесная каменная стена обрыва отлично годится для наскального творчества – быть может, на ней обнаружатся и другие петроглифы? Предположение оказалось верным. На скале были во множестве высечены бабочки – а еще несколько фигурок людей, заключенных внутрь каких-то сфер. Что все это значит, Евгений не брался судить. Возможно, люди были покусаны бабочками, погибли, и неправильные сферы обозначают вырытую яму под могилу или что-то вроде того. Евгений сделал несколько снимков, а затем увидел пещеру. Он осторожно посветил фонариком внутрь, с опасением, что потревожит какого-нибудь зверя – впрочем, медведей в окрестностях вроде бы не водилось (хотя в багаже экспедиции на всякий случай имелись новогодние петарды, по словам бывалых энтомологов, отличное средство для отпугивания медведей). Зверей внутри не обнаружилось, зато нашлось кое-что другое: засохшие обильные кровавые следы на камне. И какая-то полупрозрачная скорлупа у стены пещеры, поломанная, но очертаниями больше всего напоминающая… гигантскую куколку. Неимоверно огромную куколку, размером с человека. Из которой кто-то недавно вылупился. Евгений почувствовал, как слишком плотная, не по погоде, куртка холодит спину из-за обильно выступившего пота. Что это, чей-то розыгрыш? Инсталляция? В тайге?.. Он побоялся трогать остатки куколки руками, но пошевелил их прихваченной палкой, которой тыкал заячий труп. Очень твердые. И легкие. Похоже на поликарбонат. Но если это искусственное творение, то отливали форму специально, виртуозно, мастерски… А если все это настоящее – то что же за тварь тут вылупилась?! Евгений поспешил ретироваться, запоздало сообразив, что из-за шока от увиденного не догадался достать фотоаппарат. Ему навязчиво мерещилось, будто в темной глубине пещеры что-то есть. Кто-то. Тот, кто смотрит на него, не двигается, но дышит. Он не отводил оттуда луч фонаря, пока пятился по песку, ничего там не видел, кроме камней, но ощущение чьего-то присутствия его не покидало. Отойдя немного от пещеры, он бегом припустил по песчаной полоске к косогору, по которому можно было подняться наверх. – Гоша! Жанна! Дмитрич! Я там такое нашел… Я сам не понимаю, что это, но вы должны взглянуть! Коллеги обернулись, и Евгений увидел, что Гоша держит отломанную ветку кедра с большущей гусеницей. – М-мы тут тоже т-такое нашли! Гоша поворачивал ветку так и этак, разглядывая насекомое. Коричнево-зеленая, длиной более чем в ладонь и толщиной чуть ли не с пылесосный шланг, гусеница лениво ворочала крупной башкой и жевала мягкие иголки. – Ее мы должны довезти живой, – заметила Жанна. – Придется собрать побольше веток. Гоша, ты будешь за ней следить. – Погодите, вы должны увидеть! – прервал ее Евгений. – Гусеница – это, конечно, круто, но у реки в пещере я нашел что-то вообще мозговыносное… – Сначала мы отнесем гусеницу в лагерь, – непререкаемым тоном сказала Жанна. Пока дошли до лагеря, собралась гроза – грозы здесь, в горах, были частым явлением. Дождь пришлось переждать в палатке, ветхие навесы не очень-то защищали от потоков воды. И уже под вечер все вместе снова направились к реке. После дождя было сумрачно, сыро и очень тихо. Евгений вдруг сообразил, что за все время пребывания в реликтовом лесу, кажется, ни разу не слышал птиц. Только шум древесных крон. А сейчас тишина и вовсе оглушала. – До темноты мы должны вернуться в лагерь, – напомнила Жанна. – Успеем. Если что, у нас костюмы, – ответил Евгений и невольно вспомнил про мертвого зайца. – Елки зеленые, ну это действительно нужно увидеть… Они спустились к реке и прошли по песку до пещеры под обрывом. – Вот здесь! – Евгений торжественно направил луч фонарика внутрь пещеры. – Как по-вашему, что это… – На что смотреть-то, Жень? – спросил Дмитрич. Евгений полез вперед, судорожно водя лучом фонаря по камням. – Оно… оно же было здесь… куда оно делось? Клянусь, оно было здесь! Пустой куколки нигде не нашлось. Ее просто не мог смыть дождь – вода не попадала вглубь пещеры, хоть и основательно размыла кровавые следы у входа. Тем не менее куколка исчезла. – Мы теряем время, – железным тоном произнесла Жанна. – Скоро начнет темнеть. Сейчас сыро, поэтому в лесу оставаться опасно. – Она же была тут! Я шевелил ее палкой! Она была очень большая! – Евгений залез в пещеру, принялся водить по полу ладонями, собирая песок и мелкий мусор вроде веточек. – Ч-что б-большое-то? – по своему обыкновению заикаясь, спросил Гоша. – Куколка! Чертова куколка размером с человека, пустая… – Жень, да тебе, похоже, голову напекло, – заметил Дмитрич. Ладонь напоролась на что-то острое. Евгений поднял темновато-прозрачный осколок, похожий на кусок гибкого пластика. – Вот! Смотрите, вот кусок! А остальное кто-то утащил, знать бы кто… – Это просто пластмасса, – сказал Дмитрич. – Жень, ну ты правда немного того, переволновался, похоже. – Всё, пошли назад. – Жанна демонстративно посмотрела на часы. Низкие серые облака снова набрякли дождем, вдалеке погромыхивало. В лесу стало совсем сумеречно, невзирая на еще не поздний час. Волнами накатывал ветер, и исполинские деревья над головой издавали густой шипящий шум, который, вместе со скрипом ветвей, почему-то действовал на нервы. Мимо пролетело что-то большое и быстрое. – С-смотрите, б-бабочка! – сказал Гоша. Трепеща крыльями, насекомое резко развернулось и вновь пролетело мимо них. Дмитрич взмахнул предусмотрительно прихваченным сачком, но промахнулся. Тем временем появилась вторая, третья, и скоро их уже невозможно было сосчитать. Все опустили на лица сетки, Дмитрич, который как заведенный махал сачком, вскоре радостно объявил: – Опаньки, поймал! Но сразу болезненно вскрикнул и выронил сачок с бьющейся в нем добычей. Евгений бросился к нему, но тут его плечо пронзила такая боль, какой он не испытывал никогда в жизни. От нее почти меркло сознание, а тело вытягивалось дугой. Казалось, в плечо ввинтили толстый раскаленный прут. Евгений едва устоял на ногах, сбросил с плеча толстое, мохнатое, живое. Оказалось, бабочка мгновенно проткнула хоботком ткань куртки, которую, по уверениям производителя, не было способно прокусить ни одно насекомое. – Ходу, ходу! – прикрикнула Жанна. Поддерживая друг друга и отмахиваясь, они что было духу побежали к лагерю. Проклятые бабочки атаковали сверху, снизу, мгновенно протыкали хоботками плотную защитную одежду. Евгений упал, когда боль пронзила под коленом, его подхватили под руки, потащили, затем упал Гоша, и его, тяжелого, поднимали уже втроем. Наконец, пробежав мимо тлеющего под навесом костра, вкатились внутрь палатки, Жанна лихорадочно дергала молнию, остальные добивали проникшую следом пару-тройку бабочек. На некоторое время воцарилась тишина. – Вашу ж мать, – сказал Дмитрич. – Знаете что, в дупу такое открытие. – Тихо, – цыкнула на него Жанна. – В-вы-вы это с-с-слышите? – спросил Гоша, заикаясь больше обычного. Все замерли. Евгений не сразу сумел отдать себе отчет в том, что именно слышит. Снаружи доносился ровный тихий, почти механический гул, будто рядом работала вентиляционная установка. Источник звука был не просто совсем близко – он окружал палатку. – Вашу ж… Теперь и поссать не выйдешь, – попытался пошутить Дмитрич. – Выключите фонари, – сказал Евгений. – Может, они просто на свет летят. В палатке стало темно. Однако гул снаружи не умолкал – более того, к нему присоединился дробный топоток и царапанье множества лапок по туго натянутой ткани палатки. – Господи, – сказала Жанна. В следующее мгновение послышался треск раздираемой молнии и чей-то истошный крик боли. Евгений вдавил кнопку фонарика: поспешно, рывками застегнутая молния предательски разошлась посередине, бабочки нашли эту щель, вклинились в нее, и та становилась все шире, а тем временем несколько тварей уже кружило в палатке. – Закройте! Закройте! – орали все наперебой. Евгений попытался расстегнуть и снова застегнуть молнию, но ту, проклятую, вовсе перекосило и заклинило, щель все ширилась, и в пальцы впилось сразу несколько раскаленных игл-хоботков. Дальнейшее Евгений помнил плохо. Последнее, что он видел и слышал в заполненной бабочками палатке, – сплошное шевелящееся мохнато-крылатое покрывало, с ног до головы укутавшее Гошу, и сверлящий уши нечеловеческий визг. Не помня себя от боли, Евгений как-то вырвался из палатки, потеряв фонарь, и в густых сумерках побежал ко второй палатке, где обычно спала Жанна и хранилось оборудование. Но Дмитрич его опередил, застегнул молнию прямо у него перед носом. – Открой! – Евгений ударил в палатку кулаком, а подбежавшая Жанна готова была прямо-таки разодрать ее. – К реке! – Евгений дернул Жанну за руку, и вместе они почти наугад побежали к берегу. Несколько раз падали, только чудом не переломав конечности. Наконец черные тени деревьев расступились, и энтомологи, подгоняемые укусами, скатившись к реке, плюхнулись в ледяную воду. Евгений почувствовал, как над мокрой головой пролетело несколько насекомых, обдав упругой волной разгоняемого крыльями воздуха. Скоро по реке зашлепали первые дождевые капли. Когда дождь усилился, они выбрались из воды и, совершенно продрогшие, в почти кромешной темноте пошли обратно. Евгений вспомнил, что где-то совсем рядом находится зловещая пещера, и все время пути до лагеря ему казалось, что нечто неведомое, куда страшнее бабочек, может наброситься сзади. В лагере под деревянным навесом горели фонари. Дмитрич, хоть и покусанный, был, кажется, более-менее в порядке. А вот Гоша лежал на дне разворошенной палатки неузнаваемо распухший, с закрытыми глазами, но дышал. На удивление спокойно и ровно, будто всего лишь спал. – Давайте ему хоть антигистаминного вколем. – Дмитрич суетился рядом, копался в аптечке, словно в попытке загладить вину за то, что позорно спрятался во второй палатке, оставив товарищей на съедение чешуекрылым тварям. – Поздно. – Жанна склонилась над горой распухшей плоти, в которую превратился Гоша. – Теперь уже нельзя прерывать цикл. – Какой еще цикл, чертова ты курица! – истерически набросился на нее Дмитрич. – Человек погибает, а еще ты тут… – Он отпихнул Жанну и все-таки сделал парню укол. – Говорю же, поздно, кретин, – не осталась в долгу Жанна. – Замолчите все, – сказал Евгений. – Я вызываю помощь. – Он достал из рюкзака и включил спутниковый телефон, обратив внимание, что места укусов, поначалу отчаянно болевшие, теперь совершенно онемели: пальцев правой руки он почти не чувствовал. Он-то задавался вопросом, как же была сделана фотография с бабочкой на ладони, пьющей кровь, когда ее хоботок ощущается в коже как раскаленный штырь; а вот как – по-видимому, искусанная рука на фото уже полностью онемела. «Иридиум» не находил Сеть. Телефон, способный удержать связь со спутниками из любого уголка планеты, просто не видел спутников. – Да что здесь творится, – пробормотал Евгений, выходя из-под навеса и умоляюще поднимая телефон к черному небу, ронявшему последние капли. – Может, взобраться на вершину горы? Там-то должно достать! – Меня предупреждали, что здесь такое возможно, – сказала подошедшая Жанна. – Здесь сильная магнитная аномалия. – Но Гоша… – Ему уже ничем не помочь, сколько можно повторять. Только ждать, когда закончится цикл. Если, конечно, все пойдет как надо. – Откуда вы вообще столько знаете, Жанна? – Евгений внимательно посмотрел на коллегу, неприметную некрасивую женщину с мрачным взглядом. – О каком цикле вы говорите? – О цикле перерождения, – помолчав, ответила Жанна. – Это секретная информация. О ней знают в некоторых правительственных кругах… и кое-где еще. Перерождение возможно только здесь. Со здешними уникальными магнитными рудами под землей, со здешним особенным воздухом, который насыщают эти деревья. Куколок пытались вывозить. Они погибают. Я имею в виду не куколок бабочек, конечно. Хотя бабочки вне этого леса тоже долго не протянут. Гусеницы нужны, чтобы изучить ДНК… Яд этих бабочек в большом количестве меняет человека. Полностью. Начиная с генов. – В кого он превратится? – Евгений мотнул головой в сторону целой палатки, куда перетащили неподвижного Гошу. – Я толком не знаю, – едва слышно ответила Жанна. – Перерождаются немногие. Большинство покусанных просто погибает. По старинным сказаниям, которые передают друг другу местные шаманы, человек должен быть готов… Дождь закончился. Евгений всматривался во тьму древнего леса – уникального, единственного в своем роде, питающего гусениц треклятых бабочек. Он снова услышал низкое монотонное гудение. Мимо фонаря промелькнула крупная тень. – Надо прятаться, сейчас они снова налетят. На вершину горы пойдем утром. – С этими словами Евгений повлек в целую палатку Жанну, почему-то сомнамбулически застывшую на месте и тоже всматривавшуюся в ночной лес, полнившийся зловещим гудением. Прежде всего он проверил у второй палатки молнию и, когда все собрались внутри, аккуратно застегнул ее до упора. Покусанная рука почти не повиновалась. И еще страшно клонило в сон – видимо, это тоже было действие яда. Евгений из последних сил боролся с сонливостью, прислушиваясь к шуршанию бабочек с той стороны натянутой ткани палатки, и в конце концов все-таки отключился. Он представления не имел, сколько проспал. Наручные часы в водозащитном и противоударном корпусе в какой-то момент приказали долго жить – возможно, на них тоже подействовала магнитная аномалия. Евгений очнулся от странных звуков, похожих на сдавленные завывания, уставился на мягко сияющий солнечным светом купол палатки, затем на сдохшие часы. А странный захлебывающийся вой рядом не прекращался. Евгений повернул голову и сначала увидел Дмитрича, который сидел в углу палатки, издавал жуткие нечленораздельные звуки и тыкал пальцем куда-то в сторону. – Ж-женя-а… Что эт-то-о… – едва сумел произнести он наконец. Евгений сел и тогда увидел. Гоши не было. На его месте посреди разошедшейся по швам Гошиной одежды лежало нечто длинное, округлое, напоминающее древнеегипетский саркофаг. Темно-коричневый глянцевитый чехол в человеческий рост, с очертаниями человеческой фигуры. Больше всего чехол был похож на невероятных размеров куколку. – Цикл начался, – пересохшими губами произнес Евгений. От увиденного волосы на затылке зашевелились, и это была не метафора: он прямо почувствовал, как остатки коротких волос на макушке будто ерошит ледяная ладонь. – Где Жанна? – Уш-шла… – выдавил Дмитрич. – Звони-ить… Пересиливая дикое тошное отвращение, Евгений прикоснулся к куколке. Она была гладкой и теплой. Очень теплой. Как человеческое тело. – Женя, – прошептал Дмитрич уже отчетливо. – Из этого… что-то должно вылупиться, да? Евгений кивнул. – А что? Кто? – Понятия не имею. – В воображении закружились болезненно-яркие картины: чудовищная бабочка с человеческим лицом и кроваво-алыми светящимися глазами. Кинематографический человек-мотылек. Еще что-то столь же безумное и пугающее. Дмитрич, видимо, представил себе то же самое, потому что его бледное лицо сделалось вовсе серым как штукатурка. – Жень, а Жень… Если бабочки пьют кровь, то эта хрень сожрет нас целиком, когда вылупится? – Не знаю. – Евгений на четвереньках пробирался к выходу. Покусанная рука по-прежнему плохо действовала. – Надо от этой штуки избавиться, – сказал Дмитрич. – Может, ее в реку выбросить? – Не знаю, – повторил Евгений. – Погоди, Жанна вернется, тогда решим. – Да кто такая эта Жанна? – взбеленился вдруг Дмитрич. – Почему эта стерва тут все решает?! – Она начальник экспедиции. – Мужик должен решать, мужик, а дело бабы кашу в котелке мешать да помалкивать! Дождемся в конце концов тварюги, от которой уже не спасет никакая палатка! – Успокойся. Сейчас я схожу за Жанной. Наверняка она на гребне горы. Евгений выбрался наружу, прошел несколько шагов и обернулся на шорох и кряхтенье. Дмитрич выволакивал из палатки чудовищную куколку на спальнике, взявшись за его края. – Ну не могу я, когда это рядом… – Дмитрич, я сказал, подожди, оставь пока ее в покое. – Евгений убедился, что Дмитрич отошел от куколки, и двинулся в сторону тропы, ведущей от края поляны вверх по склону. Перед тем как углубиться в лес, снова обернулся – и с воплем бросился назад. – Нет! Не смей!!! Дмитрич вооружился маленьким походным топориком и уже замахнулся на куколку: – Ну уж нет, не дам я этой падле вылупиться! Евгений не успел. Будто во сне, он видел, как топорик прорубает глянцевый бок огромной куколки и изнутри нее брызжет густое, темно-кровавое. Дмитрич сумел нанести еще пару размашистых ударов, прежде чем Евгений со всей силы толкнул его в плечо и опрокинул на землю. Топор, впрочем, Дмитрич не выпустил и даже замахнулся им на Евгения: – А ну, пошел к черту! Разрубленная куколка чудовищно подергивалась и сокращалась, внутри нее что-то клокотало и булькало, из прорубленного отверстия обильно текла пузырящаяся кровавая жидкость. Края раны расширились, и оттуда высунулась ярко-алая рука. Человеческая. Замороженный ужасом, Евгений смотрел, как из куколки вылезает совершенно лишенный кожи человек, похожий на компьютерную анатомическую модель – полупрозрачные мышцы, почти обнаженные внутренности, которые скоро вывалились на траву. Человек страшно кричал, корчась на залитой кровью траве. Кричал истошным, но человеческим голосом. – Вы что наделали?! – На поляне появилась Жанна. Евгений просто не мог ей ответить: на несколько минут что-то будто расстыковалось в сознании, и он не способен был произнести ни слова. Он молча смотрел, как Жанна фурией набрасывается на Дмитрича и вырывает из его рук окровавленный топор. Смотрел, как вылезший из куколки человек корчится в судорогах и наконец затихает. Слушал, как Жанна и Дмитрич орут друг на друга матом, видел, как Дмитрич бьет Жанну в лицо, а та вдруг стремительно замахивается, и лезвие топорика застревает у Дмитрича во лбу. Тот падает. Жанна выдергивает топор. И снова наносит удар. И снова… Евгений прикрывает глаза. Кругом водят хоровод солнечные пятна, неповторимый густо-хвойный и озоновый аромат леса мешается с липким запахом свежей убоины. Мерно шумят кроны реликтовых кедров в недосягаемой вышине. Жанна до сих пор что-то вопит, уже не разобрать. Солнечные пятна сливаются в карусель, Евгений падает на колени, и его рвет желчью почти до потери сознания. – Я не смогла поймать сигнал, – услышал Евгений, выплывая из звенящего полуобморока. – Мы тут застряли до конца недели. – Вы его убили, – едва выговорил Евгений непослушными губами. – Это он убил, – жестко возразила Жанна. – Доносить на меня или нет – дело ваше. Можем сказать, что он погиб в походе. Упал с обрыва. Евгений посмотрел на мясное, перевитое сухожилиями скорчившееся тело и отвел взгляд. Выбравшийся из куколки ничем не напоминал рыхлого мешковатого Гошу – длинный, поджарый – но это был человек. – Надо как-то сохранить его, – прошептал Евгений. – Надо доставить его в лабораторию. Тело… оно ведь изменилось. – Есть гипотеза, что вещества из яда бабочек каким-то образом взаимодействуют с человеческим мозгом, – говорила Жанна, пока они с Евгением упаковывали в спальник тело без кожи – это была дикая, жуткая работа, от которой Евгения несколько раз чуть снова не вывернуло. – С теми участками мозга, где хранится информация об идеальном образе этого человека. К тому же яд активирует мозг, так что он начинает работать не на обычные десять процентов, а, наверное, на все сто. Человек становится гением, способным достигнуть высот в любой области. Когда-то в этих местах проходили посвящение шаманы. Считалось, что их забирают к себе боги и достойных возвращают обратно. А в нынешние времена на это решаются некоторые политики, спортсмены… ученые… – Почему, как вы говорите, выживают не все искусанные? – Видимо, потому, что далеко не у всех есть четкое представление об идеальном себе. Тело того, кто раньше был Гошей, они спрятали в палатку со сломанной молнией – ничего лучше придумать не удалось. А тело Дмитрича оттащили к обрыву и сбросили головой вниз. Евгений отдавал себе отчет в том, что становится соучастником преступления, но испытывал до странности мало эмоций по этому поводу. Его, к собственному удивлению, даже почти не мучила совесть. Ученый в нем холодно и бескомпромиссно оправдывал все тем, что Дмитрич тоже совершил преступление, возможно, куда большее – прервал уникальный эксперимент. – Что теперь? – спросил Евгений, пока они стояли на краю обрыва и смотрели на очередные грозовые облака, накатывающие с горизонта. – Нам нужно вернуться к базе. Мы можем, – он сглотнул, – утащить с собой тело. Здесь оставаться нельзя. Жанна молча смотрела вдаль. Грозу они переждали в целой палатке. Сидели друг напротив друга и слушали шум дождя. – Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как мало на самом деле вокруг по-настоящему взрослых людей? – произнесла вдруг Жанна. Ее глаза были тусклыми и очень усталыми. – Лет до двадцати – двадцати пяти тебе кажется, что старшие обладают какой-то суперсилой, которая решает любые проблемы и задачи. Потом ты сам становишься старше и осознаёшь, что кругом по большей части запутавшиеся большие дети, которые кое-как пытаются следовать правилам социума. Такие же, как ты сам. – Она умолкла на некоторое время, и Евгений ничего не ответил. Ему нечего было возразить, даже если бы он захотел. – Мне всегда казалось, что я должна была родиться кем-то другим, – продолжила Жанна. – В другом теле. И для чего-то другого. Не для той ничтожной жизни, которую я веду. И которую у меня не хватает – то ли мозгов, то ли воли – изменить. – Почему же ничтожная, вы ведь столько всего знаете, – осторожно возразил Евгений. – Эти знания уж точно не делают меня счастливее, – усмехнулась Жанна. – А вы думаете, совершенство – сделает? – Холодок понимания, куда коллега ведет разговор, Евгений ощутил подобно промозглому сквозняку. – Не знаю. Но я хотя бы попытаюсь узнать. – С этими словами Жанна поднялась и взяла банку с живой гусеницей безымянной бабочки, для которой их группа так и не успела придумать название. Евгений смотрел из палатки, как она идет по мокрой поляне, где дождь смыл всю кровь, к ближайшему дереву и сажает гусеницу на низко растущую ветку. Небо после грозы было мглисто и темно-серо, окружавший поляну кедровый лес таил в себе сумрак. Евгений уже знал, что именно в такую погоду – сырую, мрачную – бабочки вылетают на охоту и днем. – Жанна, пожалуйста, подумайте! Не надо этого делать! – крикнул он. Прежде чем скрыться среди деревьев, женщина обернулась. Евгений хотел было броситься за ней, остановить, но уже понимал, что бесполезно: Жанна приняла решение. Давно, еще до экспедиции, но именно сейчас наконец решилась. – Это будет очень интересный естественно-научный опыт! – громко сказала она и вдруг улыбнулась. Евгений впервые увидел, как она улыбается. Он просто смотрел, как она уходит. Становилось все темнее, тучи над головой налились тяжелой чернотой. Кедры хором шипели свое извечное «ш-ш-ш-ш»: бесконечную песню о ветре, о дожде, о созданиях, которые нашли убежище в огромных кронах. И сквозь шум деревьев уже пробивался знакомый тихий гул с примесью мелкого треска – звук, с которым воздух быстро-быстро рассекают множество бархатистых жестких крыльев. Появилась первая бабочка, начала нарезать круги возле Евгения, затем вторая… Из леса раздался пронзительный крик боли. Именно так кричит человек, которого протыкают раскаленные железные стержни – или хоботки больших ядовитых тварей. Крик все длился, долго, как пытка, пока не достиг совсем невыносимой ноты и не умолк. Евгений забрался в палатку и сидел там бог весть сколько времени, уставившись в одну точку. Выглянул, когда снаружи стало светлее: тучи разошлись, солнце начинало клониться к закату. Он подумал, что еще одну ночь в этом месте, да еще в полном одиночестве, просто не перенесет. И начал лихорадочно собирать рюкзак – лишь самое необходимое. Проверил документы, деньги, по-прежнему бесполезный спутниковый телефон. Надел поверх своего антимоскитного костюма еще один, чужой, забрал все фонари и батарейки. И быстрым шагом пошел прочь от палатки. Небо совсем расчистилось; по прикидкам, он должен был успеть выйти к базе до темноты. Идти тут недалеко, несколько километров, тропа одна – не заблудится. А на базе, в доме, можно будет запереться и переждать ночь. Быть может, там есть связь. В любом случае там больше шансов дотянуть до возвращения «шишиги». Евгений шел так быстро, как только мог, не смотрел по сторонам – лишь под ноги, чтобы не запнуться об огромные корни. Солнце стреляло меж стволов кроваво-золотистыми закатными лучами, и, пока оно еще оставалось здесь, можно было не бояться. Он успел. Солнце тонуло в неподвижном море дальних лесов, когда он вышел на большую поляну за деревянной постройкой пустующей базы. Или уже не пустующей? Дверь на широком заднем крыльце-веранде была распахнута. Здесь есть люди, значит, наверняка есть и транспорт! Евгений из последних сил ускорил шаг. На веранду вышел мужчина. Он был в коротком для него спортивном костюме и почему-то босой. Непроницаемое рубленое лицо. Космически спокойный, ледяной взгляд. Именно перед такими людьми, от которых харизмой и властностью веяло за километр, Евгений всегда сильно робел. В то же время ему вдруг подумалось, что именно во время этой экспедиции он впервые – наконец-то – жил по-настоящему: это была жизнь странная, страшная, но подлинная и полнокровная, когда он действовал и принимал решения. И это позволило ему сейчас не отвести взгляд под чужим холодным взглядом. – Ты зачем сюда приехал? – спросил вдруг незнакомец, и Евгения продрало морозом от его голоса – что-то в нем было неправильное, нечеловеческое, стальной хваткой берущее за душу. – Ты проделал весь этот путь, чтобы в конце трусливо повернуть назад? Действительно… Евгений резко остановился. Он понял, какого рода человек перед ним. Или, точнее, уже не совсем – совсем не? – человек. А еще осознал, что по возвращении будет влачить такую же жизнь, как прежде, – его рассказам о перерождении людей, конечно, никто не поверит, а никаких образцов он в спешке с собой не захватил. Вспомнились рассказы алтайца о том, что бабочки прилетают только к тем, кто готов. Интересно почему? У бабочек есть какое-то коллективное сознание, вроде как у колонии муравьев, но более совершенное? Есть вероятность, что он сможет узнать и это… Готов ли он? Евгений повернулся туда, откуда пришел, к лесу. Солнце уже опустилось за горизонт, и реликтовый лес был полон влажной тьмы и крылатых существ, живущих в ней. Евгений опустил на землю рюкзак. Снял антимоскитную одежду. Прошел до края поляны, обернулся. Человека на крыльце уже не было, но дверь стояла распахнутой. Как намек: решай сам, дело твое, можешь и вернуться. Совершенство не сделает тебя счастливым, раз уж ты не научился жить счастливо с тем, что есть. Но оно покажет тебе иные возможности – доступные тем, кто создан летать. Лишь немного помедлив, Евгений глубоко вздохнул и шагнул в сырую хвойную тьму.
Дмитрий Костюкевич Черно-белый
– О, Мартын! – воскликнул директор зоопарка, будто и не вызывал перевозчика. – Дуй в аэропорт. Манулы и панды прилетели. – Два рейса? – спросил Мартын (вообще-то, фамилия перевозчика была Мартынов, но коллективу было плевать; Мартыну тоже). – Один. Пополнение из Китая. Ты езжай, езжай. Там уже ждут. Забыл тебя раньше вызвать.Дорожки между вольерами и клетками. Антилопы, тапиры, овцебыки, волки, фламинго, козлы в искусственных скалах… «Вот козел, – подумал Мартын. – Забыл он! Конец рабочего дня, а я езжай, езжай». Он шел, опустив голову, настроение было ни к черту. Навстречу пер табун посетителей – толкутся, галдят, мороженым давятся. Достали! «Ничего-ничего, – сказал он себе. – Летом всегда так. Зимой полегчает». Зимой в парке почти безлюдно – ходи на здоровье по белым аллеям, стряхивай снег с деревьев и заборов, и никаких тебе зевак, орущих детей и мамаш с колясками. Путь преградила группа азиатов. И чего дома не сидится, мало народине зверюшек? Он протиснулся сквозь вязкую массу, обошел очередь за лимонадом, пропустил уставшего пони с упитанным мальчуганом в седле. – Зимой полегчает, – сказал вслух и резко остановился. Вспомнил, что обещал дочке посидеть с внуком: ей вечером на смену. Черт бы побрал этих манулов и панд! Пока в аэропорт, пока обратно, привези, в клетку пересади… Вернулся в дирекцию и позвонил из приемной. Договорился, что заедет за внуком. – В аэропорт? А это не опасно? – спросила дочь. – Опять крокодилов забираешь? – Не опасно, – уверил он. – Увидит бамбукового мишку. Из кабинета показалась голова директора. – Первая панда в Союзе – и в наш зоопарк, а ты еще здесь! – Большой мишка? – сбил порыв Мартын. – Что? А… нет, медвежонок. Его нам на год в аренду. Как символ дружбы. – С каких пор мы с Китаем дружим? – спросил Мартын. – С таких! – Директор метил в депутаты. – Ты езжай, езжай!
У гаража ждал потрепанный автобус. Водитель курил. Молодой парень, недавно взяли. Мартын протянул руку. – В аэропорт? – Водитель немного покачивался. – Ага. – За кем? – Панда и манулы. – А это кто? – Кошаки дикие. – А-а… – В город заскочим? Внука заберу. – Не вопрос! Мартын думал о внуке. Может, хоть панда его разговорит! А то слово деду сказать боится. Или не хочет. Забьется в угол со своим конструктором и глазенками лупает. Внук называется! Перед тем как свернуть во дворы, проехали мимо ресторана «Пекин» – не ресторан, а белоснежный храм с колоннами. Мартын засмотрелся.
Дорога бежала через лес. На обочине кланялись березки, будто выбежали из чащи к автобусу. Внук прилип к окну. Автобус свернул с шоссе, и через пять минут впереди замаячило высокое серое здание. Аэропорт. Долго ждали, когда откроют ворота. Въехали. Мартын взял внука за руку. – Ну что, пошли? Внук зачарованно смотрел на стеклянные двери, которые разъезжались автоматически. Пассажиры скучали на скамейках зала ожидания. К Мартыну сразу подбежал высокий желтолицый парень в очках. – Из зоопарка? – Ага. – Чего так долго? Парень повел к камерам хранения. – Животных в багаж сдали? – спросил Мартын. Парень не ответил. Вдоль коридорной стены стояли две тележки с тремя деревянными ящиками и длинными матерчатыми свертками. – А таможню как оформили? – Провели как личное имущество, – сказал парень. На китайца он не смахивал – скорее на монгола. – А это что? – Мартын показал на свертки. – Бамбук. На первое время. Потом еще пришлют. Внук заинтересовался ящиками. В каждом было по сетчатому окошку. – Поможешь деду толкать? Внук кивнул. Мартын и желтолицый парень отвезли тележки к автобусу. Водитель помог погрузить всё в салон. Мартын подписал документы, и парень ушел. Водитель глянул по сторонам и закинул в автобус одну тележку. Улыбнулся: «Пригодится».
Катили через вечерний лес. К сетчатому окошку ящика прижался черный нос, мелькнул розовый язычок. – Какой холоший, – сказал внук, и у Мартына потеплело на душе. Поддавшись порыву, подошел к ящику. Что, он с медвежонком не справится? – Хочешь посмотреть? Внук закивал. Мартын повозился с крышкой, сдвинул. Отошел, встал в проходе. Из ящика показалась белая пушистая голова с черными кляксами вокруг любопытных глаз. Внук запрыгал на сиденье, запищал от радости. Водитель глянул сквозь плексигласовую перегородку. – Ты, этого… зачем открыл? – Он сам, – сказал Мартын и подмигнул внуку. Медвежонок-подросток выбрался из ящика и кинулся к задней двери. Прижался к ржавому металлу, завыл. – Ему плохо? Деда? Мартын смотрел на панду с благодарностью. Внук назвал его «деда»! Ради этого и ящик с манулами вскрыть можно! Дикие кошки смотрели сквозь проволочную сетку немигающими глазами. – По дому скучает. Ничего-ничего, привыкнет. – А можно его погладить? – Нельзя. – Ну-у, деда… Мартын был непреклонен. Автобус потряхивало. Над дорогой догорал клок закатного неба. Заморский медвежонок жалобно подвывал у двери. То пялился в щель на лес (не бамбуковый, и ежу понятно), то на людей. Потом забрался на свертки и лег на бок. Пошевелил короткими лапами. Чихнул. – Холоший мишка, холоший… «А мне его в клетку пихать, когда приедем», – приуныл Мартын.
В ветпункте не горел свет. Мартын не удивился: так животных любят, так за них волнуются, а как встретить… Вот тебе и первая панда в Союзе! Он спустил внука, затем сошел сам и сделал знак водителю. Тот закрыл дверь. Из желтого домика комендатуры спешил дежурный. – Что у вас? – Панда и дикие кошки. – Ребенка тоже в карантин? – Дежурный хохотнул. – Этот со мной. Водитель закурил. Дежурный стрельнул сигарету. – Врачи уехали, – сказал он сонно. – Сами в карантин занесете? Или как? Мартын почесал затылок. «А оно мне надо?» – Загоняй в гараж, – сказал водителю. – Поутру разберутся. Переселят. Из салона донеслись звуки возни. – Они у вас там что, гуляют? – спросил дежурный. – Один выбрался, – сказал Мартын. – Деда, а мишка в автобусе останется? – Да. – А он не умлет? – Ничего ему там не будет. Бамбука налопается и спать ляжет. Водитель сплюнул бычок, залез в кабину и загнал автобус в гараж. Панда выла в пропахшей бензином темноте. Шипели манулы. – А мишка не задохнется? – не унимался внук. – Я не задохнулся, а я не медведь, – сказал водитель весомо. – А вы там ночевали? Водитель потер опухшее лицо. – Случалось. Мартын помог закрыть тяжелую дверь, навесил замок, взял внука за руку и повел к остановке.
Утром первым делом зашел к начальнику отдела. – Ты зачем панду выпустил? – спросил начальник. – Убежала? – испугался Мартын. – Лаборантку цапнула. Только что из секции звонили. – Да ладно… – Вот тебе и ладно. Это ж медведь! У Мартына похолодело в груди. А ведь могла и внука – и чем он вчера думал! – Сильно цапнула? – Не сильно, но девонька испугалась. – Еще бы. Если бы меня плюшевый медведь укусил… – Так зачем выпустил? – Сам выбрался. А я не стал загонять. Боялся, что задохнется. Как бы тогда директор с китайцами объяснялся? – Ты мне тут не выкручивайся. Директор… Кстати, о директоре. – Начальник покопался в бумагах, протянул несколько. – Закинь главному на подпись.
– О, Мартын! – привычно воскликнул директор. – Как панда? «А манулы тебя не интересуют», – подумал Мартын, подсовывая бумаги. – Хорошо панда, – сказал он, – шерсть пушистая, зубы острые. Директор с сомнением глянул на перевозчика, но уточнять не стал. – Слушай, Василич, а чего панда одна? – спросил Мартын. Директор настаивал, чтобы сотрудники обращались к нему на «ты» – видимо, мечтая о депутатском кресле, хотел быть ближе к народу. Директор отмахнулся. – На китайской таможне что-то случилось. Не знаю, не говорят. Две ехали, приехала одна. – Наверное, и с делегацией случилось… – С какой? – С китайской. Или они только панду отправили? – Отправили и отправили, тебе что? Директор Пекинского зоопарка должен был прилететь, да не срослось. Ладно, не твоей головы боль. Ты мне, этого, после обеда белых медведей в аэропорт отвези. – В Китай летят? – В Китай, в Китай. – Дружба народов крепчает? Директор замахал рукой. – Ты иди, иди.
Хотелось заглянуть к панде, передать привет от внука, пожурить за лаборантку, но в карантине было не протолкнуться из-за клеток с мартышками и птицами: таможня конфисковала и передала в зоопарк – так и стоят третий день. Голоса животных рикошетили от кафельных стен. – Ну давайте не будем, хорошо? – упрашивала санитарка в белом халате. – Подождем немного, может, поправится. Хорошо? – Хорошо, – устало сказал ветврач и отложил шприц. На столе лениво перебирала лапками морская свинка. Мартын глянул на руки санитарки – ранок и бинтов нет, значит, не она, – и вышел на улицу. «Все равно усыпят твою свинку, – подумал Мартын. – Придешь с выходных, а ее нет». Вдоль слоновника брел зоопарковский художник. Полинялый пиджак, лысоватая голова. Художник был талантливым и пугливым, особенно после того, как беркут отхватил ему часть уха. – Кого рисуешь? – спросил Мартын. Художник остановился и развернул ватман. – О! Видел уже? – Это я так… по энциклопедии. – Красиво. А чего только морда? – Для эмблемы. Будет символом зоопарка. Художник свернул лист и пошел дальше. «О как, – подумал Мартын. – Не успела приехать, а уже символ зоопарка. Так и до директора дорастет!»
После обеда Мартын отвез белых медведей в аэропорт; под медведей выделили грузовик. Кладовщица уперлась рогом: – Не буду принимать! Перегруз! – Да какой перегруз? – возмущался Мартын. – Животные ведь! Мне от них что, отрезать? – Не приму на самолет! – кричала кладовщица. – Это ж в Китай! Дружба народов! – Дашь сколько? – Да откуда у меня? В зоопарк звоните! В Китай! Кладовщица сдалась.
На следующий день панду перевели в вольер, где раньше обитали ягуары. Два месяца ягуары жили спокойно, а потом додумались взобраться на дерево и сигануть на свободу. Носились по парку гигантскими прыжками, загнали под лавку толстуху мороженщицу и давай лупцевать. Служители пытались отогнать. Не вышло. Винтовок, стреляющих шприцами со снотворным, в зоопарке не было – имелись две обычные. Из них и уложили опьяневших от свободы ягуаров. Толстуха выжила, правда, осталась без ноги. Ох и шуму тогда было… Дерево спилили, вольер вычистили, домик покрасили в светло-зеленый, на ограду повесили табличку: «Панда. Китай». Публика пошла валом. «А панда где?» – постоянно слышал Мартын на дорожках парка. Там. Туда. От махания болела рука. Он и сам часто подходил к вольеру. Панда все больше сидела в домике. На поляну выбиралась за бамбуковыми стеблями, сахарным тростником, яблоками и мандаринами. Соглашалась на творог и каши. Ловко расправлялась с рыбой. Пришлись по душе и заваренные березовые листья. Медвежонок жевал, поглядывая сквозь прутья грустными глазами, которые казались воспаленными. Иногда – на радость посетителям – неуклюже обходил свои владения. Ветврач – чудак, который уверял, что понимает язык животных, а в детстве оживил мертвого щенка, – сокрушался, что панда не хочет с ним разговаривать. «Наверное, не знает русского», – предположил фельдшер. Когда Мартын звонил дочке, трубку брал внук. Спрашивал, когда дед сводит его к мишке. «На следующей неделе», – каждый раз обещал Мартын.
На следующей неделе, во вторник, на планерке обсуждали мертвого журавля. Австрийского красавца обнаружили во время утреннего обхода. Лежал себе на берегу озера с перегрызенной шеей. Осмотрели место происшествия. Крови на траве оказалось совсем мало. Словно вылизали кругом. Рядом печально топталась журавлиха: не могла понять, почему муженек не встает. Мартын прокатился на вокзал за мартышками, по приезде заглянул в карантин. Ветврач вскрыл птицу и осмотрел раны. – Пробита сонная артерия и яремная вена. – Грызун? – спросил Мартын. – Не, тут хищник поработал. Видишь, какие дыры. Ветврач отошел от патанатомического стола, стянул перчатки и навис над протоколом вскрытия. Мартын смотрел на мертвого журавля. Одно крыло купировано на треть. Так делают, чтобы птицы не улетали из вольеров. Раз – и нет у крыла кончика. – Выпили его, – сказал ветврач. – Выпили? – До дна. – Точно не куница какая? – Куницы все по местам, – сказал стоящий в дверях зоотехник. – И горностаи, и норки. Выдра могла заглянуть… с реки. Река и правда была недалеко – в ста метрах от внешней ограды. – Не выдра это. – Ветврач оторвался от журнала. – Выдра если хватанет, то всей пачкой. Капкан, а не рот. А тут ювелирно сработано. – Твоя правда, – сказал зоотехник. – Да и не питаются выдры журавлями. – Может, лиса? Или шакал? – В клетках сидят. – А с улицы если? Зоотехник обдумал. – Лиса могла забежать. Или собака. Скорее, лиса. Хотя какой… тогда бы и мясца отхватила. – А если старая, почти беззубая? – предположил Мартын. Зоотехник пожал плечами. – Ты у нас охотник. – Давно не выбирался. Ветврач ковырнул в зубах пинцетом и посмотрел на то, что удалось извлечь. – Кровосос у нас завелся, – сказал он, – кровосос.
Животных нельзя хоронить в земле – не велит законодательство. Павших питомцев кидают в биотермическую яму с кирпичными стенами и бетонным дном – глубокий гидроизолированный колодец, где они разлагаются до компоста. Ветврач поднялся по булыжной отмостке, сдвинул крышку и бросил журавля в яму.
Кровосос напомнил о себе следующей ночью. Утром птичница нашла три трупика. Хищник польстился на башкирских уток. Высосал из них всю кровь. Небольшое озерцо располагалось между террариумом и виварием. Ночной сторож разводил руками: ничего не видел, ничего не слышал. Проверили клетки и вольеры с хищниками – все на месте, сытые и безразличные к следствию. Погулять на свободе, конечно, не прочь – да только тяжеловато в цементном полу подкоп делать. Директор созвал собрание. Дело серьезное. Налеты надо пресечь. Кто выйдет на ночное дежурство? За отдельную плату, разумеется. За мертвого кровососа – премия. Мартын поднял руку. И удивленно смотрел, как она одиноко торчит над толпой специалистов.
Средствами задержания беглых животных заведовал ветврач. Сети, трезубцы, брезентовая тесьма и две винтовки. Ружейные патроны набивали самостоятельно – купить было негде. Ружья пускали в ход только в крайних случаях, как с ягуарами. Собрание решило – случай крайний, надо стрелять. После обеда Мартын съездил на вокзал за альпийскими козами. Вечером заскочил к дочке, вручил внуку стебель бамбука, рассказал о панде – хорошо мишка устроился, рыбу, яйца кушает, скоро встретитесь – вот только одного паразита изловлю, и сходим. – А что за палазит? – Зубастый. Заехал домой за двустволкой – свое ружье, оно всегда сподручней – и заступил на ночное дежурство.
Мартын устроил засидку в подсобке террариума. Хорошее место – озеро как на ладони. Немного нервировала близость змей: шевелятся небось за стеной, сворачиваются в чешуйчатые кольца. Не любил он змей. Особенно анаконду. Помнил кролика, которого кинули за стекло живьем (убить не поднялась рука, только крыс головой о бетон могли шваркать). Поставив перед окошком стул, Мартын сидел и смотрел на пруд. На воде лежала круглая луна, тянулась дорожкой к берегу. Проплыла утка, и лунная дорожка задрожала, как тот кролик. Мартын приложил двустволку к плечу. Отлично легла: тихо, бесшумно. Прикинул, что следовало закатать в патроны дробь «тройку», чтобы не испортить лисе шкуру; махнул рукой – и «пятерка» сойдет. Подсобка не проветривалась. В тесном строении стояла влажная духота. Прачечная, а не подсобка. Тихая лунная ночь нагоняла сон. Мартын смотрел в окошко и клевал носом.
Он дернулся, ружье грохнулось на пол. Глянул на часы. Половина третьего. Поднял двустволку, приоткрыл дверь и вышел. Ныла спина. Зато голова была легкой, три часа сна пошли на пользу. Вот только – не проворонил ли гостя? Пошел по дорожке к озеру. Тянул носом воздух, пьяняще свежий после духоты подсобки. Луна освещала парк. Звери спали в вольерах. Тишина… уж больно подозрительная, решил Мартын. На озере закрякали утки. Небольшая стая мандаринок шумно сорвалась с берега и криво полетела над водой. Уткам удаляли рулевые перья – взлетать могли, а вот рулить не больно-то получалось. Но все лучше, чем кувыркаться и падать при взлете – смотреть за потугами других птиц, особенно лебедей, было больно. Мандаринки пошли на снижение, выставили вперед лапы и грациозно заскользили по воде. Мартын перемахнул через ограду и побежал туда, откуда сорвались утки. Пернатые обитатели пруда были чем-то встревожены. Мартын двинул вдоль кустов, всматриваясь сквозь ветки. Обошел водоем, остановился у самой кромки воды, глядя на гусей, пеликанов и уток. На крошечном островке в центре озера стояла на одной ноге журавлиха. Вращала головой, курлыкала. Послышался треск в дальних кустах. Мартын кинулся на звук. Ничего. Он постоял, прислушиваясь. Снова какой-то звук, на этот раз у ограды. Мартын ломанулся сквозь кусты, скинул с плеча ружье, перевалился через забор. По аллее мелькнула тень. Мартын побежал, всматриваясь в освещенный луной парк. Фонари не горели. Он выскочил на помойку. В ржавых баках гнило сено. Ни звука, ни шороха. Мартын плюнул с досады. Что-то шевельнулось у стены, и он вскинул двустволку. – Ай, зачем целишься! – раздалось из темноты. – Не стрелять в Махди. Мартын выдохнул, опустил ружье и поставил на предохранитель. – А, это ты… – Хай, Мартын! – Хай, Махди, – сказал он сторожу, таджику. – Ты чего здесь? – Туалет не работать. Сюда ходить. Плахой зверь стрелял? – Пока не стрелял, – сказал Мартын и пошел обратно. Шагал мимо темных клеток и вольеров, прислушивался. Тишина. Только листья над головой шелестят. Всматривался. Ничего. Зимой было бы легче. Зимой на снегу видны следы. Он перелез через ограду и еще раз прочесал на четвереньках кусты у озера. Тяжело сел возле трупика мандаринки, положил на траву ружье и чертыхнулся. Упустил кровососа!
Утром провели вскрытие. Прокушены сонная артерия и яремная вена. Знакомый почерк. Мартын спугнул хищника – тот не успел выпить всю кровь. Бросил утку, когда Мартын шастал вдоль берега, затаился, а потом удрал. Одно хорошо – теперь охотник знал, во сколько появляется зверь. Где-то с двух до трех ночи. – Завтра опять в караул? – спросила птичница после пятиминутки. – Ага. – Вампир, значит, у нас завелся? Летает по ночам. – Выходит, так. Только не летает, а по кустам шастает. – Ты уж, этого, прижучь паскуду. Совсем совести нет! Птичница была крупной бабой с огромными руками. Мартын немного ее побаивался. Не он один. Если кого невзлюбила – беда. Допечет, выживет из зоопарка. Когда заселили панду, Мартын подслушал разговор двух лаборанток из орнитологии. Одна сказала, что мамы-панды если народят двойню, выбирают того, кто поживее, а другого бросают. Совсем как эта (вторая лаборантка назвала фамилию птичницы): младшего в интернат сдала. – А если не подохнет сразу, – добавила птичница, – мне паскуду неси. Я уж с ним поговорю.
После обеда он зашел к начальнику отдела отпроситься пораньше перед ночным дежурством. Начальник махнул: иди, иди. Мартын продрых до одиннадцати. В полночь был в зоопарке. Земля размокла после вечернего дождика. Стояла звонкая тишина. Мартын обошел озеро, проверил кусты, ограду. Наткнулся на узкий лаз. Пролезть в дыру могла разве что худенькая лиса, на арматуре висел клок рыжей шерсти. Перед лазом подсыхала грязь. Следов не было. Хищник еще не появлялся. Мартын двинул к подсобке террариума. Возле обезьянника встретил Махди. – Хай, Мартын! – приветствовал сторож. – Птица живай? – Живые, не дам сегодня в обиду. – Чой менушем? – Не, Махди. Пойду зверя караулить. Хотя… – Мартын глянул на часы: без пяти час. – Рафта, рафта! – Ладно, пошли, – согласился Мартын. В сторожке Махди разлил по стаканам горячий чай, развязал большой платок – и в помещении сразу запахло костром и свежим хлебом. Лепешки были жаркими и вкусными. Инжир, изюм, пахлава, печак и нуга – сладкими как мед. Мартын с трудом встал из-за стола и раскланялся с гостеприимным сторожем. – Некогда расслабляться. Кровососа надо ловить!
Животные спали. У вольера с черной пантерой Мартын немного напрягся. Проказница приучила к внезапным нападениям: подкараулит, бросится на перегородку, понесется кругами под потолком клетки. Мартын прошел сквозь яблоневый сад, обогнул пруд, нырнул в подсобку и устроился на стуле с ружьем по правую руку. Думал, что чай взбодрит, но тут же потянуло в сон, будто и не спал вечером. За окошком лежал притихший парк. В небе висела большая красноватая луна. Ну и духота! Мартын встал, нашел в ящике у стены плоскогубцы, подошел к окошку, достал штапики и вынул из рамы стекло. Вот теперь порядок. Вернулся на стул. Стал клевать носом. Установил внутренний будильник на два часа и закрыл глаза.
Проснулся без пяти два. Размялся, прислушиваясь к хрустящей спине. Переломил стволы, проверил дробовые «пятерочки», взвел курки. Сидел наблюдая за озером – за той частью ограды, под которой обнаружил дыру. Тихо. Как тихо. Будто уже случилось все и ничего не осталось, кроме этой тишины. Мартын выскочил из подсобки и, стараясь не шуметь, побежал к лазу. По грязи тянулась цепочка лисьих следов. «Проспал, старый хрыч! Проворонил!» Перемахнул через забор и, сжимая двустволку онемевшими пальцами, двинулся к берегу. Всматривался, прислушивался. Следы терялись в траве. Мартын мысленно ругал себя за то, что понадеялся на «часы посещения». Плевала лиса на «с двух до трех ночи». Раньше приперлась, хитрая рожа! Может, еще не ушла? Он напряженно, до боли в глазах, вглядывался в кусты, и картинка поплыла: ветки и листья слились в темное месиво. Кусты зашевелились, затрещали. Затаив дыхание, Мартын повел ружьем и спустил курки. Стволы полыхнули огнем. Мартына окутало облако пороховых газов. Над озером с кряканьем взмыли утки. Закликали лебеди. Мартын загнал в стволы по патрону и ринулся в кусты. Промазал? Ранил? Если ранил, то надо перекрыть путь к лазу. Он что-то заметил, какую-то тень, бесшумно мелькнувшую по стволу. Затерявшуюся в ветвях. Вскинул ружье, долго всматривался в темноту. Мотнул головой: показалось. В ушах звенело, перед глазами скакали белые искорки. На кустах покачивались листья. Сперва Мартын почувствовал неприятный запах – опилки и дерьмо, – и лишь потом увидел саму лису. Убитая лиса лежала вытянув передние лапы в сторону ограды, будто и правда надеялась доползти до спасительной дыры. Мартын сел напротив. – Ну что, братец, допрыгался? Допился кровушки? Радости он не испытывал. Был неприятный осадок, червячок сомнения. Мартын поднял лису за хвост и понес в карантин. Под козырьком горела красная лампочка. Он открыл дверь, повернул выключатель, зашагал между клетками. Каблуки стучали по растрескавшемуся кафелю. Миновав лабораторию, Мартын толкнул дверь в патанатомку, включил свет, положил лису на стол.
Лис был очень старый и почти беззубый: несколько коренных да одиноко торчащий клык. С такими зубами не до твердой пищи – только пить. Высасывать. Тощий и плешивый зверь. Порванное ухо, облезлый хвост. В желтом свете мелькали черные точки – тушка остывала, и блохи затеяли переселение. Мартын поискал следы от дробинок. Присвистнул. Две дробинки пробили шею. Стрелял почти вслепую, а вон оно как вышло. Будто не дырочки от дроби, а… ранки от укуса. Чувствуя бегущие по спине мурашки, Мартын осмотрел лиса целиком. Больше никаких следов. Только эти. Две аккуратные ранки на шее. Из нижней ранки вытекла капелька крови, запуталась в грязной шерсти. Мартын отошел от стола, заламывая руки. Глянул на ружье, которое прислонил к стене. Почему рядом с лисом он не нашел утки или другой птицы? С кем тогда возился хищник? Утка вырвалась и улетела? Он бы заметил… А еще этот клык… единственный гнилой клык… На шее убитых уток и журавля было по два прокола. Мартын пялился на шею лиса. За огнестрельные раны он принял следы укуса. Не он убил старого хищника. Кто-то другой.
Мартын долго кружил по парку. Пытался вспомнить то, что заметил в ветвях над мертвым лисом. Тень. Движение. Силуэт. Знакомый силуэт… Наконец он остановился у вольера панды. Всматривался в темный контур домика. «Мне не поверят». Мартын и сам себе не верил. Он опустил взгляд к основанию ограды. В клетках и вольерах хищников был цементный пол: в клетках – сплошная цементная заливка, в вольерах – полоса вдоль забора, чтобы не подкопали. Во всех, кроме этого. Мартын поднял ружье и стал обходить вольер. Искал лаз.
На пятиминутке было жарко. Толпились в приемной, слушали с приоткрытыми ртами. – Нужны еще люди, – подытожил Мартын. – Сегодня ночью никуда не денется. – Да на кого мы охотимся? – не понимал директор. Никто не понимал. А сам Мартын не был уверен. – Волк? – спросил ветврач. Мартын пожимал плечами. – Да лис это, лис! – лезла птичница. – Я же объяснял… – Не лис, – подтвердил ветврач. – Его самого выпили. – И где он сейчас? – В яме Беккари. – Улики скрываете! Директор стукнул кулаком по столу. – Да угомонись ты, Люб! – и добавил ласково, словно испугавшись последствий: – Ну что ты? Птичница скрестила под грудью большие руки и шумно выдохнула. Директор осмотрел собравшихся. – Ну, кто с Мартыном в ночную пойдет? Вызвались ветврач и зоотехник из слоновника.
Проверили казенные ружья. Порядок. – В полночь у ветпункта, – сказал ветврач. – А пока откланяюсь. Пациенты ждут. Мартын поплелся за ним. Не знал, куда податься – на сегодня выездов не было. Собирался пройтись, подумать. Мысли разбегались, отвлекали посетители и голоса животных. Он остановился у большой клетки, в которую вошел ветврач, и сонно смотрел, как тот уговаривает гиббона, сидящего на полу с подобранными под себя лапами, принять лекарство. Из соседнего вольера за Мартыном наблюдал бегемот. Кто-то толкнул в спину. Мартын обернулся. Папаша с белобрысой девочкой; даже не извинился. Мартын побрел по аллеям. Мимо вольера с обезьянами: на толстой ветке сидела смешная мартышка, прижимая к животу резиновую грелку; другая подбежала к прутьям, вытянула губы в трубочку и крикнула на Мартына. Мимо клетки с бурым медведем, который потерял смысл зоопарковского существования после того, как клетку затянули мелкоячеистой сеткой, – как теперь руки отрывать да пальцы откусывать? Вокруг озера: журавлиха чавкала клювом в мутной воде, справа от островка плыли лебеди. Навстречу шел зоотехник из террариума. Крепкий, высокий, с шапочкой из проволоки на голове. Шапочка защищала от космической радиации. Судя по перекошенному лицу, помогала не сильно. Мартын кивнул зоотехнику и пошел дальше. Замер возле вольера панды. Медвежонок прятался в домике. На поляне лежали нетронутые стебли бамбука. Ночью он не нашел никакого лаза. Исходил ограду туда и сюда, прополз на карачках – ничего. Возле барьера гудела нетерпеливая публика. – Да где ваша панда хваленая? – Час стою! Не выходит! – Дурят нас, как есть дурят. Нет никакой панды! Медведь крашеный! – Ничего-ничего, – сказал Мартын. – Зимой полегчает. Мужчина слева подозрительно глянул на перевозчика: – С чего это?
После обеда Мартын заехал к дочке на борщ. Внук был в садике. Вечером бродил по пустой тесной квартире. Нашел на балконе пачку папирос, закурил. Год не курил – и на тебе. Сел на диван, включил телевизор, узнал, что в Сычуане и Тибете горят бамбуковые леса, потом выключил телевизор.
В ночном небе висела громадная луна. Яркая, ноздреватая и красная, как жидкая кровь. Казалось, что вот-вот упадет и покатится по парку, ломая ограды и деревья. Лунный диск пятнали большие и маленькие круги, от которых разбегались неровные лучики. – Если ошибся, с меня пиво, – сказал Мартын. – Портвейн, – сказал зоотехник. – Не пью, – сказал ветврач. Залегли на траве в яблоневом саду. – За кем следим? – спросил ветврач. Мартын показал. – Шутишь? – Надеюсь. – «Массандровский», – сказал зоотехник. – Чего? – Ну, портвейн. Мартын смотрел на вольер. – Моя сказала, чтобы домой не возвращался. – Зоотехник вздохнул. – Думает, что к бабе на ночь пошел. У-у, ведьма. Мартын глянул на зоотехника, потом на неженатого ветврача, который понимал звериный язык. Вспомнил чудака в проволочной шапочке. «Может, и правда, что в зоопарк идут работать одни обделенные. Умом или простым человеческим теплом. У животных это тепло ищут. С животными ведь легче. Вот и идут».
Мартын пощупал пальцем правый спусковой крючок, убрал палец, облизал губы. Он смотрел поверх стволов на деревянный домик в центре вольера. В воздухе гудели комары. Ветврач постоянно хлопал себя по шее и лицу. Из домика выбралась панда. Мартын тихо свистнул, привлекая внимание коллег. В движениях медвежонка не осталось забавной медлительности и неуклюжести. Он остановился в двух метрах от ограды и задрал голову. Мартын готов был поклясться, что панда уже не выглядит подростком… да и простым животным больше не выглядит. Всклокоченный мех, удлинившиеся лапы, подергивающаяся морда. – Твою ж! – вырвалось у зоотехника. Панда резко обернулась в их сторону. На освещенной луной морде животного в темных норах горели красные угольки. А потом панда… (Мартын не ошибся: под оградой вольера не было лаза. Панда не делала подкоп.) …оттолкнулась от земли толстыми задними лапами и взмыла вверх. Зоотехник вскочил и побежал прочь от вольера. – Стой! – крикнул Мартын. Зоотехник не послушался. Его ружье осталось на траве. Мартын тоже вскочил. Приклад в плечо, палец на спуске. Он целился в звездное небо, проглядывающее между тяжелыми ветвями. Услышал бормотание ветврача: – Не понимаю… как это она… – Ружье, – процедил Мартын. Ветврач поднял ружье, но держал его так, словно собирался отдать первому встречному. Над головой затрещали ветки. Посыпались листья и яблоки. Деревья ожили, ломко заголосили, одно, второе, третье. Зверь ловко и стремительно двигался в кронах. – Они древолазы, – сказал ветврач. – Они… – Да подними ты ружье! – крикнул Мартын. Тяжелая тень мелькнула вверху и слева. Панда проворно цеплялась за ветви шестипалыми передними лапами. На прошлой неделе ветврач объяснил Мартыну, что пальцев на самом деле пять, а шестой – не палец вовсе, а обтянутый кожей костный нарост, подаренный пандам эволюцией. Тень пролетела над головой, на этот раз справа. Панда приземлилась в дальнем конце сада. Замерла – голова опущена, глаза-угольки смотрят прямо на человека. Мартын прицелился и нажал на спуск. Панда развернулась и огромными скачками понеслась к озеру. Мартын ошалело смотрел на предавшую его винтовку. Предохранитель! Не снял с предохранителя! Он побежал за пандой. Удивился – увидел бегущего рядом ветврача. – Я не смог, понимаешь? – задыхался тот. – Я же врач… Как в нее выстрелю? – Раком! – огрызнулся Мартын и выстрелил на бегу. Мимо. Спустил второй курок. Панда рывком ушла в сторону. Мартын замедлился, перезаряжая двустволку. Крякали утки. В клетках кричали обезьяны. За бетонным валом слоновника отрывисто и тревожно трубил слон. Панда догнала зоотехника, набросилась и повалила на землю. Зоотехник заорал. Мартын остановился и прицелился. Человек и зверь катались по земле. Панда вонзила зубы в ногу зоотехника, тот вопил, пытаясь побороть ощетинившееся животное. Неудачно перевернулся, оказался под задними лапами панды – острые когти прошлись по лицу. Сорвали его как маску. Брызнула кровь, черная в свете луны. Крик оборвался. Мартын выстрелил, боясь задеть зоотехника. Облачко дроби прошло выше. Панда уселась на человеке, вцепилась лапами в ногу-соломинку, через которую продолжала сосать кровь, и… Мартына передернуло от громкого треска, с которым сломалась кость. Руки дрогнули – и он снова промазал. Переломив ружье, он уронил в траву патрон, не стал поднимать, зарядил только левый ствол, рванул рамку вверх и прицелился. Что-то заслонило панду. Спина ветврача. Ветврач подбежал и набросил на голову панды куртку. – Дурак! – прошипел Мартын. – Отойди! Панда отпустила зоотехника и поползла назад, мотая головой. Ветврач попятился. Мартын рванулся вперед. Медведь – страшный черно-белый зверь, который казался костистым и грязным, – все никак не мог стряхнуть куртку. Он поднялся на задние лапы и стал рвать ее когтями. Будто хотел раскроить себе морду. Зоотехник развернулся и замахал руками. – Не надо… не стреляй… Мартын оттолкнул его. Панда прихватила превратившуюся в лохмотья куртку ложным пальцем и сдернула с головы. Мартын влепил заряд дроби в черно-белую кровоточащую морду. Стрелял в упор. Дробь сработала как разрывная пуля – снесла половину головы вместе с глазом и ухом. Кровосос повалился на спину в траву, заляпанную собственной кровью и плотью. Забился, дергая лапами. Правую ногу Мартына полоснуло болью. Он отскочил и, прыгая на одной ноге, зарядил ружье. Панда гребла лапами. Мартын обскакал ее справа и спустил оба курка. Брюхо зверя взорвалось черным фейерверком. Вампир затих. Мартын опустился на землю, отложил ружье, согнул в колене раненую ногу и стал рвать штанину на полосы.
На ногу наложили больше двадцати швов. Крепко зверь приложил: до кости разодрал. Но мог ведь и сломать. С зоотехником вот что натворил: в открытый гроб не положишь. В больницу приходили из милиции. Навещали коллеги. Часто забегал ветврач: нес вздор про вспышки вампиризма среди панд. Про эпидемию в китайских заповедниках и панда-резервах. – Я с Пекинским зоопарком разговаривал… по-английски… – лепетал ветврач. – Там у них такое… такое… «Почему я? – подумал Мартын. – Ему что, поговорить не с кем?» И догадался: не верят ветврачу в зоопарке. Не хотят верить. Бешеная панда – хорошо, допустим, а панда-вампир – тут уж увольте. Мартын зажмуривался. А он сам верит? Ветврач дергал его за рукав и просительно заглядывал в глаза. Что-то там искал. – А если не только панды? Если во всей экосистеме? Это ведь не только через укус передается… у них, в Пекине… даже медведи наши заразились… по воздуху! – По воздуху, – повторил Мартын. – Да! А ведь что выходит, ведь как раньше считали… не человеческий это феномен, не только человеческий! Душа ни при чем! Не нужна душа, чтобы кровь пить!
А потом вздор прорвался на экраны телевизоров. После выписки Мартын перебрался к дочери. Та была испугана новостями. Мир катился к черту под хвост. По старенькому телевизору в квартире дочери этот мир был черно-белым, как панда. Телемосты между Ленинградом и Шанхаем вел Познер. Больше всего стращал «Взгляд». Рассказывал об участившихся нападениях на людей диких панд в Южном Китае. О зачистке войсками тренировочного центра для панд в горах Тяньтая. «И никакие они не милые! – кричал в камеру краснолицый эксперт. – Это свирепые хищники со своими инстинктами! Только раньше они нападали в целях самообороны, а теперь делают это по воле неизвестного науке неклеточного организма!» «Взгляд» закрыли, журналисты Москвы вышли на Красную площадь с митингом в защиту гласности. «Взгляд» ушел в подполье. Подключились независимые газеты. Вещали на русском «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Немецкая волна». Даже на радио «Россия» стали проскакивать панические нотки. Неизвестная инфекция распространялась на Дальнем Востоке с огромной скоростью.
Ветврач заявился без звонка. Топтался на пороге, лопотал: – Он ускоряется, понимаешь, ускоряется… и адаптируется… сначала только ночью, а теперь… – Кто ускоряется? – Вирус! У них это раньше началось… медленно шло, а потом… Может, и видовой барьер сломает! Люди, понимаешь, люди! Я разговаривал, прервали… а дозвониться больше не смог… Понимаешь? Мартын захлопнул дверь. От слов ветврача похолодело в желудке.
Через неделю он вышел на работу. Заглянул в секцию, где работала укушенная пандой лаборантка. – С больничного не вернулась, – сказала женщина в матерчатом комбинезоне. – А давно ушла? – С неделю, может. – И никто не знает, что с ней? Женщина пожала плечами и стала натягивать резиновые перчатки.
Биометрическую яму залили бетоном. – Зачем? – спросил Мартын у начальника отдела. – Затем, – сказал начальник. – К директору дуй. Вызывал. Развернулся и двинул прочь. – Так зачем забетонировали? – крикнул Мартын. Начальник обернулся и долго молчал, пристально глядя на перевозчика. – Шевелились они, – сказал он наконец и ушел.
Под глазами директора пролегали черные тени. – О, Мартын… – вяло сказал он. – Дуй с ящиком в аэропорт. – С каким ящиком? – Ну, с этой… пандой. – А ее что, не в яму? – Нет. Надо на родину отправить. Там разберутся. – Кто сказал? – Кто надо. – Чего тогда сами не заберут? – Ты езжай, езжай.
Ящик был металлический, массивный. Стоял в кузове грузовика; гроб, одним словом. Водитель – тот самый молодой парень, с которым они забирали панду и манулов, – с четвертой попытки залез в кабину. Мартын постоял, посмотрел и тоже залез. – Башка болит, – сказал водитель. – Захворал. – В аэропорту здоровье поправишь. – Страшно ехать. Руки дрожат. – Поехали, – сказал Мартын. Ему тоже было страшно – пока не тронулись, чудилось, что в металлическом ящике кто-то скребется. Остановились на полпути. Шоссе перекрыто: грузовик с военными и бело-синие милицейские «Жигули». Что-то лежало на разделительной полосе, накрытое брезентом. – Разворачивайтесь, – сказал милиционер. – А что случилось? – спросил Мартын. – Лось случился. Кабан случился, – сказал милиционер и нервно дернул головой, когда в чаще громко треснула ветка. – Ну, разворачивайтесь.
– В город закинешь? – спросил Мартын. Водитель кивнул на ящик в кузове. – А с этим что? – Не моей головы боль. Хватит, навозился. Он выскочил на остановке у ларька. Купил бутылку портвейна, шоколадку. Хотел купить букет, но на дверях цветочного висела картонка: «Закрыто навсегда». В квартире вкусно пахло жареной курицей. Мартын поцеловал дочь, вручил внуку шоколадку. Потом сидели на диване перед стареньким телевизором. Смотрели, как по черно-белым улицам бегут черно-белые китайцы. Одни убегают, другие догоняют, третьи стреляют. Мартын обнял внука, тот не отстранился. Он обнял крепче и сказал: – Ничего-ничего, летом всегда тяжело. Зимой полегчает. – Деда, а панды зимой спят? – спросил внук. – Да кто их знает.
Зимой мир обезлюдел.
Елена Щетинина Все псы и все хозяева
Валера заскочил в магазин буквально на минуту – купить молоко и яйца на завтрак. В овощном отделе была какая-то распродажа – и там толклись с десяток бабок, придирчиво выбирая огурцы и давя пальцами помидоры. По хитро закрученному маркетинговому плану молочка находилась в самом дальнем конце зала – и Валера, шипя сквозь зубы что-то среднее между «сдохни, старая тварь» и «прошу пардону», еле-еле протолкался туда. Затем мрачно щурился на пакеты, пытаясь распознать полустертые цифры даты, снова пробирался через толпу – но уже обратно, к кассам, – и наконец плотно застрял в очереди. – Девушка, а позовите кого-нибудь еще! – не выдержал он минут через пять, наблюдая, как какой-то хипстер безуспешно пытается выдоить из своего смартфона деньги, прикладывая его к терминалу. – Ну сколько стоять-то! – Да! Да! – согласно загалдели за его спиной. – Кс-сю-ю-ю-ю! – гаркнула продавщица. – Иди сюда! Молодой человек, да сколько можно! У вас налички, что ли, нет? Хипстер горько вздохнул и еще более остервенело стал тыкать смартфоном в терминал. Валера раздраженно цыкнул зубом и, привстав на цыпочки, стал выглядывать в окно – как-то там Бугай? Он привязал пса к перилам пандуса – маленький лохматый добродушный Бугай никогда не лаял и не приставал к людям, смирно ждал его, свернувшись комочком и пристально наблюдая за дверью магазина. Да, конечно, так делать нельзя, собаку не стоит оставлять без присмотра, тем более такая дорогая порода – но ему было так лень идти домой, а потом возвращаться в магазин! Да и что случится-то – не первый же раз? Отсюда даже на цыпочках не было видно того, что происходит у пандуса. Валера чуть подпрыгнул, едва не задев стоящую впереди женщину. Та с раздражением обернулась. – Простите, – шепнул он и снова вытянул шею. Да, вон что-то темное виднеется. Молодец Бугай, жди папочку. Вдруг очередь заволновалась, зашевелилась – и рассыпалась как порванные бусы. Часть людей метнулась куда-то вправо, часть дернулась вперед – и, пока Валера крутил головой, пытаясь понять, что произошло, все перегруппировались теперь уже у двух касс: старой и только что открытой. Он оказался в самом конце. – Да твою мать! Когда он выскочил из магазина, на ходу пересчитывая сдачу, Бугая на месте не было. Лишь небольшая вмятина в песке и несколько клочков бурой шерсти.Валера икал и пил водку. Руки у него тряслись, и текст объявления выходил какой-то бредовый и бессвязный.
«Внимание! Просьба! Помощь! Пропала собака! Была привязана у магазина „Пятерочка“ на улице Красина. Порода бельгийский гриффон. Откликается на кличку Бугай. Цвет – бурый с подпалинами, на животе клеймо. На собаке розовый ошейник с медальоном в виде косточки. Нашедшему – вознаграждение!!!»Он выпил залпом еще рюмку и дописал:
«Собака нуждается в лечении!»
Конечно, он врал. Бугай – а по паспорту Диамонд Мечта Короля фон Болингброк – был здоров как бык. Даже как стадо быков. Неудивительно – за такие-то деньги, что он отвалил за него. Родословная этой мелкоты была такой длинной, что ее распечатками можно было обклеить всю квартиру. И имена-то, имена-то – Монтисория Розовый Цветок, Саргасс Высокий Утес – словно кто-то в детстве недоиграл в индейцев и все еще тосковал по всяким Монтигомо Ястребиным Когтям. Правда, вот с мозгами псу не повезло. Хотя должны ли они вообще быть у этой породы? Может быть, так и задумано было природой, чтобы до конца жизни оставаться развеселым лохматым дурачком, вызывающим умиление и желание потрепать за ушком? Бугай мог провалиться в кастрюлю с борщом, сожрать любимые кеды, нассать в кадку с фикусом, полуповеситься на шторах и даже утащить и утопить в поилке айфон – но впоследний момент, когда нога уже была занесена для смачного поджопника, Валера ее опускал. Потому что пес глядел на него такими трогательными черными влажными глазами на почти что человеческом лице. А еще потому, что на него в этот момент смотрела Марина.
Валера купил пса два года назад – для нее. Это она буквально выпрашивала щенка, словно как-то ненароком присылая ему картиночки с милыми бутузами, это она мимишкала и тетешкала каждую встречную собаку, даже если это был самый разблохастый шакалоид, это она в конце концов на его обреченное «ну давай, выбирай породу» ткнула именно на бельгийского гриффона. Не на банальных таксу, йорка или чихуахуа – а на вот это вот дорогущее страховидло, похожее на волосатую обезьянку. Марина любила это страховидло. Собственно, Валера, смотря на себя в зеркало, подозревал, что у Марины в принципе страсть ко всяким страховидлам. И чем страшнее – тем для нее лучше. Маленький, кривоногий, с уже проглядывающими залысинами – он никогда не пользовался успехом у девушек. Да, он был крепок и силен – занятия греко-римской борьбой принесли свои результаты, но они же подарили ему сломанное ухо и приплюснутый нос – так что минус на плюс дали минус. Девушкам подавай симпатичную внешность, затем – тугой кошелек, и лишь потом они соизволят взглянуть на тело. Он уже понял это на горьком опыте. Но Марина оказалась совсем другой. Красивая, яркая – и в то же время какая-то вся неземная – она была полной противоположностью всем его прежним пассиям. Да и тогда, в плацкарте Москва-Абакан, уступая свою нижнюю полку девушке со сломанной рукой, он и не мог предположить, что у них что-то будет. Они проболтали всю ночь, сопровождаемые возмущенными шиканьями соседей, – даже приходилось выбегать в тамбур. Выяснили, что живут в одном городе, что имеют общие интересы – во всяком случае, оба смотрели «Игру престолов» – что любят шаурму и терпеть не могут, когда ее называют шавермой… Марина была типичной инста-чикой на минималках, Валера – совладельцем сети маленьких ломбардов. Она таяла, когда он рассказывал о том, как определить пробу золота на зуб, – его возбуждали ее истории о том, как правильно фотографировать еду. Она не была дурой – как-никак высшее образование, хоть и филологическое, он не был быдлом – как-никак политех, экономический факультет. У них оказались точки соприкосновения – а точкой пересечения стала постель. Собственно, на годовщину их официального признания себя парой Марина и захотела щеночка. В принципе, она обычно держала себя в руках и не замахивалась на дорогие подарки – даже дежурный айфон приняла не из фирменного магазина, а из Валериного ломбарда. Но собака стала камнем преткновения. Марина очень хотела ее – и пускала в ход все свое оружие: от обаяния до трогательности. Валера не стал ждать, когда она перейдет к откровенному клянченью и шантажу, – и купил щенка. По стоимости последней модели айфона.
Он ревновал к этому псу. Ревновал так, как не смог бы, наверное, ревновать ни к одному мужчине. Поскольку если супротив даже самого аполлонистого Аполлона у него нашлись бы хоть какие-то крохотные доли шанса – интеллект там или умение хорошо готовить, – то Бугай был недосягаемой высотой. Марина таскала пса с собой везде – в машину, в магазин, – никогда не привязывала и готова была ругаться с продавцами до посинения – даже в душ не ходила без питомца. Сам же Валера допускался до совместного принятия ванны только в отдельных торжественных случаях. Лишь один раз Марина не смогла взять Бугая с собой, как бы этого ни хотела, как бы на этом ни настаивала, – сейчас, когда полетела на обучение за границу. Грант от какого-то университета, факультет журналистики и чего-то там – Валера особо не вдавался в подробности. Тем более что для него все произошло совершенно неожиданно и внезапно – Марина подавала документы тайком, опасаясь сглазить, и поставила его уже перед фактом: чао, дорогой, я улетаю, а когда вернусь, не знаю, пока! Точнее, она знала когда – и даже сказала об этом – через восемь месяцев, – но в пылу скандала, который закатил Валера, выкрикнула: да я вообще вернусь, лишь когда захочу.
Прошло уже десять месяцев – а она все так и не захотела. Сначала звонила – не каждый день, обида за то, что он не сумел порадоваться вместе с ней, была еще сильна, поэтому раз-два в неделю, в основном для того, чтобы узнать, как там Бугай. Потом звонки стали все реже и реже – а затем и вообще прекратились. Он пытался навести хоть какие-то справки, ее страница в социальной сети висела у него постоянно открытой – но никаких обновлений там не появлялось. Ее подруги писали ему, звонили – мол, что с Мариной, мы никак не можем с ней связаться? – а он нехотя и со стыдом признавался: я тоже, девочки, я тоже. Он все еще никак не мог смириться с осознанием: она уехала навсегда и не вернется или вернется – но не к нему. У нее уже другая, новая жизнь – ведь за восемь месяцев так легко создать себе другую, новую жизнь! Он просто надеялся, что где-то там, за океаном, на экране ее ноутбука открыт его профиль в социальной сети. И поэтому он постоянно обновлял его. Он постил фотографии – свои, природы, дома, ее любимых мест в городе – ради этого специально выкупил профессиональную зеркалку, записывал видео, на которых о чем-то весело болтает – не с ней, нет, ни в коем случае, просто с кем-то за кадром. И, конечно, постил Бугая. Десятки, сотни фотографий – как тот ест, спит, играет, грызет плинтус, нюхает траву… Он надеялся, что хотя бы собака, которую Марина так любила, вернет ее к нему.
А теперь Бугай пропал. И вместе с ним для Валеры пропала Марина.
Он расклеил объявления по всему району. Забросил их на все городские форумы, на «Пикабу», «Реддит» – здесь его ободряли, мол, чувак, не ссы, найдется, все псы возвращаются к своим хозяевам, – и даже на «Лепру» – там его активно заминусовали и загнали в состояние, близкое к бану. А еще подал объявление на телевидение и радио – в самое рейтинговое время, после прогноза погоды. Все было без толку. Ему звонили какие-то странные, мутные личности и вкрадчиво предлагали перевести деньги на указанную карту – мол, тогда они скажут, где собака. Валера уточнял – как ее состояние, личности в красках описывали, как пес не ест, не пьет и задыхается. В это поверить было невозможно – Бугай жрал как не в себя, спал как убитый и задыхался, только если давился особенно крупным непрожеванным куском. Валера и не верил. А через пару часов объявлялись новые мошенники. Несколько раз ему звонили вроде бы приличные люди и говорили, что подобрали его собаку – он срывался с места и несся смотреть. Это оказывались лохматые кабыздохи, даже близко не похожие на бельгийского гриффона. От вкрадчивых «ну сделайте доброе дело, возьмите хвостика к себе, что вам стоит? И ваш тогда домой вернется» его тошнило. Когда он разворачивался и уходил, в спину ему неслись проклятия: «Ишь, только породного ему подавай! Сам свою собаку небось и убил, живодер!» Он даже ходил в полицию. К чести полицейских, его не подняли на смех, а мягко и вежливо объяснили, что участковый если что и может сделать, то лишь обращать внимание на встречных псов: уж больно характерная собачка – но полноценные поиски ему обеспечить не смогут. Он согласился и на это.
Бугай не находился. Каждые утро и вечер – время, когда основная масса собачников синхронно выводит своих псов гадить, – Валера обходил окрестные дворы. Затем купил велосипед и стал объезжать районы. Лишь пару раз он увидел гриффонов – но их хозяева ничего не знали о том, появлялась ли где рядом похожая собака. Валеру трясло от ужаса. Он выкладывал на страничку старые фотографии, фотографии, когда-то отбракованные им – не в фокусе, с заваленным горизонтом, хоть какие – лишь бы казалось, что Бугай все еще с ним. Он даже подумывал о том, чтобы нагуглить картинки похожих собак – но вовремя остановился: это был бы совсем уже примитивный и глупый обман, который быстро бы вскрылся. То и дело он выходил из дома с поводком и миской, гремел ими, звал Бугая – а при соседях делал вид, что пес где-то там, в кустах, роется в любимой помойке и вот-вот прибежит к нему.
Бугай не прибегал.
Валера обнаружил его через месяц. Машина сломалась, а для велосипеда была не та погода – уже неделю над городом висела плотная, удушающая жара. Люди задыхались, обливаясь потом даже в легких майках, – и от мысли, что сейчас в автобусе к нему будут прислоняться холодными, липкими, склизкими телами, Валеру передернуло. Но надо было ехать, разбираться с недостачей в ломбарде в Старом Кировске – и он покорно поплелся на остановку. По своему опыту Валера знал, что в это время в транспорт не сесть – народ так плотно набивается в салон, что автобус накреняется вправо и скрежещет об асфальт, а когда двери открываются, люди просто повисают гроздьями с воплями: «Ну пройдите хоть чуточку!» Поэтому он решил перебраться на пару остановок назад – вдруг там будет попроще. Дорогу он срезал у местной стихийной свалки – когда-то тут был пустырь, но рядом построили дом, новоселы стали стихийно делать ремонты и сносить строительный мусор сюда. Позже к строительному мусору прибавился хлам из окрестных домов – и теперь свалка радовала глаз пустыми бутылками, картонными коробками, старыми матрасами, битыми унитазами и пакетами с объедками. Последние облюбовали бродячие псы – так что стабильно раз в полгода после очередного эпизода с покусанными сюда приезжала служба отлова.
Тяжелую сладковатую вонь – будто где-то гнили мокрые бархатные шторы, политые липовым медом, – он учуял через сто метров. К горлу подкатил комок, рот наполнился густой липкой слюной. Кто-то сдох здесь неподалеку – и сдох явно давно, успев разложиться и, судя по запаху, протечь. Может быть, в окрестных домах травили кошек, может быть, местные догхантеры раскидали колбасу с изониазидом. А может быть… Валера сбавил шаг. Может быть, какой-то бомж отдал концы? Бездомных в окрестностях не водилось, но тем не менее… Он в растерянности остановился. Не то чтобы он боялся трупов – к ним он был равнодушен. Просто придется же вызывать полицию, идти свидетелем, выслушивать неудобные вопросы… Он почесал затылок. Время поджимало. Холодные липкие пассажиры на одной чаше весов – на другой труп и теплая встреча в полиции. Ладно, была не была! Вонь усиливалась с каждым шагом. Она уже напоминала огромное ватное одеяло, которое окутывало Валеру, – и казалось, что в этой вони меркнут и затихают даже звук, цвет и свет. Его уже не тошнило – просто сердце делало на один удар меньше и дыхание стало слабее и мельче. Он попытался поднести руку к лицу, чтобы перекрыть вонь, – но, наоборот, всколыхнул муть миазмов, и те рванули ему прямо в желудок густой плотной струей.
Блевал Валера долго, успев в подробностях рассмотреть не только завтрак, но и вчерашний ужин. Болела голова, звенело в ушах, содрогались в спазмах кишки. Но Валера был упрямый и злой – и поэтому он пошел дальше. Когда он увидел Бугая, блевать было уже нечем.
Он скорее понял, что это был пес Марины, нежели узнал его. Бурая шерсть свалялась и спеклась на палящем солнце, живот провалился, обнажив ребра, зубы щерились в злобном, так нехарактерном для Бугая оскале. Но на шее виднелся грязно-розовый ошейник с тусклым медальоном в виде косточки – и ошибки быть не могло. – Да бли-и-и-ин, Буга… – Валера опустился на колени рядом с трупом. Он уже настолько пропитался этой вонью – удивительно, как может так смердеть такое маленькое тельце? – что перестал ее замечать. – Буга, ну как же так? Пес молчал. По выпученному левому глазу ползал деловитый муравей. Правый вытек и запекся кровью и слизью. – Буга… Впалый животик чуть поднимался и опускался – словно пес еще дышал. – Буга, Буга, – затормошил его Валера чуть не плача. – Буга… Высохшая на солнце кожа треснула. С тихим чпоком, испустив желтовато-зеленое облако. И из прорванного живота на землю вывалился пульсирующий ком извивающихся червей. – Тьфу, млять! – Валера вскочил на ноги, дрожа от омерзения.
Он не стал хоронить Бугая. Только швырнул на труп кусок лежавшей рядом картонки – и поспешил прочь, отплевываясь едкой слюной и вполголоса матерясь.
Через пару недель фотографий, которые он мог бы выставить на страничке, не боясь, что поймут, насколько те старые, уже не осталось. Можно было, конечно, купить похожего гриффона – или хотя бы любого другого и покрасить тому шерсть, – но, взглянув на цены подрощенных щенков, Валера отказался от этой мысли. В конце концов, он не обязан поддерживать иллюзию, что все в порядке. Пусть Марина гниет дальше там, где она сейчас. Это был ее выбор. И вместо того, чтобы выложить очередную фотографию пса, он репостнул из группы своего ломбарда пост о новом поступлении обручальных колец.
Бугай пришел к нему ранним августовским утром, аккурат после теплого ночного дождя, который колотил в окна и заливал подоконник. Когда Валера открыл входную дверь, чтобы вынести мусор, мертвый пес сидел на половичке и приветственно стучал хвостом по полу. Валера икнул, отскочил назад в квартиру и захлопнул дверь. Отдышался, сглатывая вязкую слюну, и прислушался к тому, что происходило в коридоре. – Тук-тук, – стучал мертвый полураскисший хвост. – Тук-тук. Валера сел на пол и потер виски. Белочка? Белочка в виде песика? Но в последний раз он пил на прошлой неделе, в пятницу, – да и то только пиво, пару бутылок. Галлюцинация? Опять-таки – не с чего. Веществ он не употреблял никогда – ну не считать же покурку по пьяни лет пять назад. Таблеток не принимал – лишь от головы что-то, да и то позавчера. Так что и глюк отметаем. Может быть, Бугай на самом деле не помер тогда? Просто… очень неважно выглядел? А лопнувший живот и черви… ну собаки же живучи, да? Очнулся, зализал раны… и пришел, ага. Как там ему говорили – все псы возвращаются к своим хозяевам, да? Он встал и трясущимися руками открыл дверь. На половичке было пусто. Лишь лежало несколько комочков грязи и чуть тянуло липовым медом.
Второй раз он встретил Бугая, когда выходил из магазина – как и в тот раз, с упаковкой яиц и пакетом молока. Пес сидел там же, где он оставил его много-много дней назад. Розовый ошейник сгнил и висел на паре ниточек, от косточки остался только ржавый обломок. Бугай увидел Валеру и высунул сизый распухший язык. От передних зубов и клыков остались лишь раскрошенные обломки. По морде полз, крупно пульсируя, жирный слизень. – Да блин! – Валера быстро оглянулся. Люди выходили из магазина, не обращая внимания на жуткую полуразложившуюся тварь около своих ног. Какая-то бабка прошла совсем рядом с псом, зацепив его лапу своей тележкой. Валера услышал хруст гнилой кости и увидел, как лапа подогнулась – точь-в-точь как у мягкой игрушки с проволочным каркасом. – Буга, – шепотом спросил Валера, опасаясь, что его примут за сумасшедшего. – Буга, это ты? Пес застучал хвостом – в стороны полетели ошметки шерсти – и тихонько гавкнул. Точнее, попытался гавкнуть. На деле из глотки вместе с гнойными брызгами вышло что-то вроде гулкого бульканья – словно внутри собаки была пустота. Валера отшатнулся – и снова заозирался. Тетки, продававшие из картонных коробок зелень и ягоды, лениво болтали друг с другом. Какой-то мужик вышел из магазина с целой упаковкой пивных бутылок, поставил на землю, откупорил одну – и стал жадно пить, дергая кадыком. По пандусу лихо взлетел к дверям пацан на скейте – и, попав колесом в щербину, чуть не упал, потеряв равновесие. Никто не видел мертвого пса. Никто не чувствовал этот легкий запах липового меда и высохших мух. Валера снова перевел взгляд на Бугая. Собаки не было. Лишь жирный слизень озабоченно копошился в пыли.
В третий раз Бугай встретил его в лифте. Когда двери вызываемой на первый этаж кабины раскрылись, в лицо Валере ударил черный упругий рой мух. Они облепили его, мгновенно забившись под воротник, в рукава, в подвороты брюк, закопошились в волосах, ушах и носу. Он закашлялся, замахал руками – но лишь загнал себе в приоткрытый рот с десяток мерзких тварей. А потом мухи исчезли – так же внезапно, как и появились. Рассосались в воздухе, растворились в обшарпанных стенах подъезда. Он глубоко вздохнул, тряхнув головой, – и едва успел подставить ногу в закрывающиеся двери лифта. А когда они открылись, он увидел в них Бугая. Тот уже мало напоминал собаку. Скорее плюшевую игрушку – из тех, которыми любят украшать дворы в стиле «ЖЭК-арта». Прибитые к деревьям, насаженные на заборы, они мокнут под дождем, гниют в снегопаде – чтобы по весне пугать случайных прохожих облезлыми безглазыми мордами и распоротыми хлопотливыми птицами животами. Бугай полусидел-полулежал. Перебитые в нескольких местах гниющие кости лап уже не слушались его. Из него словно вытряхнули часть внутренностей, перемешали – а потом запихали как в мешок, нимало не заботясь о том, чтобы хотя бы равномерно распределить. Он был какой-то… комковатый. Неровный. Бугристый. И эти комки, неровности и бугры шевелились. – Буга, – сказал Валера. Бугай дернул хвостом. На полу лифта осталось пятнышко слизи и клок шерсти. – Буга, мне надо зайти в лифт. Бугай попытался отодвинуться, но лишь закопошился на полу, размазывая вокруг себя какую-то бурую жидкость. Валера зашел в кабину и нажал нужный этаж. – Я не могу пустить тебя такого в квартиру, – сказал он псу, стоя к тому спиной. – Я потом не отмою ее. Кроме того, я собирался ее продавать. Из-за тебя она потеряет несколько сот косарей – ты засрешь весь ремонт. Пес за спиной молчал. Когда лифт прибыл на нужный этаж, Валера вышел из него не оборачиваясь. – Я не могу пустить тебя такого, – сказал он, глядя в стену. – Кроме того… ты же пес Марины? Вот и иди к ней. Все псы должны быть со своими хозяевами. Двери лифта закрылись – и кабина устремилась куда-то вверх, на очередной вызов. Когда Валера обернулся, пса на площадке не было. Лишь барахталась на полу черная муха с переломанным крылышком.
В четвертый раз Бугай появился сразу в квартире. И не один. Марина сидела в кресле, закинув ногу на ногу и подперев щеку ладонью. Распоротый живот распустился багровым цветком. Сизыми червями из него извивались внутренности. «Длина человеческого кишечника составляет примерно четыре метра», – почему-то пришло в голову Валере. И эти четыре метра, истекая гнойными соками и слизью, сейчас лежали на ковре. Том самом ковре, который Марина с такой любовью выбирала в «Икее» и на который запрещала вставать в уличной обуви. Там, где сукровица и липкая жижа уже впитались, ворс дыбился и вонял тухлятиной. – Валерик, – прохрипела Марина. Гортань у нее была передавлена, поэтому звуки выходили с трудом. – Вале-е-е-ерик. Его передернуло. Он ненавидел это имя. Валерик-холерик – перекатывается как сырой хрящик на зубах. Он хотел бы быть Виктором, Александром, Артемом, на худой конец, – но не этим вялым, каким-то импотентским Валерой. Он подумывал сменить имя, да, – но к тому моменту накопилось уж слишком много документов, и Валера предпочел страдать, лишь бы не связываться с бюрократией. Из черных, разъеденных муравьями губ трупа это имя было еще омерзительней – липкое, вонючее и словно лопающееся на зубах гнилое слово. – Вале-е-ерик, – снова прохрипела Марина и попыталась улыбнуться. Верхняя губа лопнула, и разрыв пополз вверх, разводя полугубия как театральный занавес. Прореха обнажила желтые, с черными пятнами зубы. – Тебя нет, – твердо ответил Валера. – Тебя нет. Ты всего лишь мне кажешься. Соседи делают ремонт, пары краски, все такое. Марина захохотала, запрокидывая голову. Это было скорее похоже на сиплое карканье – и с каждым звуком из ее рта вылетали брызги пенистой слюны. Один из желто-черных зубов покатился по полу. – Тебя нет, – повторил Валера. – Я убил тебя. А потом закопал в лесополосе. Там, где мы устраивали пикник на майские. Ты давно уже сгнила, стухла и превратилась в дерьмо. Я знаю это – и поэтому ты мне кажешься именно такой – тухлой. – Да, я немного испортилась, – с грустью призналась Марина. Это неожиданное подтверждение факта как-то примирило Валеру с действительностью. Ну что же, галлюцинация так галлюцинация. Тульпа, да же, – так она называется? Хорошая, качественная тульпа, да. – Да ты и при жизни испортилась, – сказал он. – Все эти придирки, нытье, докапывание до мелочей. Почему носки воняют, почему зубную пасту не закрутил, почему стульчак не опущен… Какой-то бред из анекдотов про тупых баб – и весь он в тебе. – Но я не просила шубы, – возразила Марина. – Не просила айфоны. И красненькую машину. И фапотьку. – Она попыталась пошутить, но Валера даже не улыбнулся. – Да лучше бы просила! – громко прошипел он. – Я бы знал, что делать: купить эту ерунду и заткнуть тебя на пару месяцев. Как было с этой шавкой! – он мотнул головой в сторону Бугая. – Но нет, тебе было приятнее клевать мне мозг. Раз за разом, раз за разом… – Ты же говорил, что тебе нравится Буга. – Марина наклонилась к мертвому псу и потрепала того за загривок. Гнилая шерсть пучком осталась в кулаке вместе с кусочком кожи. Валера пожал плечами. – Ты говорил, что полюбил его. – Марина почесала пса за ухом. Послышался хруст и хлюпанье. – Хотя ты и мне говорил, что любишь меня. Только вот взял и убил. Почему? Кажется, ты заметил, что у меня вонючие дешевые духи`? – А ты ответила, что эти вонючие духи стоят три сотни евро, – хрипло сказал Валера. – А ты подошел поближе – и мне показалось, что ты хочешь понюхать меня. – Твой пес крутился под ногами – и я чуть не запнулся об него. – А потом ты положил руки мне на шею. Ты знаешь, как это страшно – слышать, как трещат твои хрящи? Ты помнишь, как твои пальцы провалились мне в горло?
И Валера вспомнил.
После смерти Марина стала пахнуть свежескошенной травой. Чуть позже – свежей рыбой. Валера сидел на табуретке перед трупом и усиленно думал. В ванной, запертый, надрывался Бугай. Он выл, лаял и царапал дверь лапами. Соседка уже приходила, осведомлялась, все ли в порядке с собачкой. Валера вежливо ответил, что нет, ожидаем ветеринара, собачка что-то сожрала, теперь дрищет и блюет-с. Соседка огорченно покачала головой, поцокала языком – и ушла, пожелав песелю здоровья. Валеру до трясучки бесили все эти зоошизные мимишенья, особенно всякие «собакомальчики» и «песий ребенок», которыми некоторые особо одаренные пытались именовать Бугая, – но в этот раз он был сама любезность. Ему уже не впервой было имитировать любезность. А также внимание, терпение, мягкость. Любовь, в конце концов. Все когда-нибудь заканчивается. А когда что-то заканчивается, приходится имитировать. Он хорошо это умел. Хорошо настолько, что начинал верить в имитацию больше, чем в реальность.
Труп Марины он завернул в ковер и выволок из дома. Открыто, не таясь. – Песель обосрал, – объяснил он сидящим на лавке трем бабкам и одному дементному деду. – В химчистку несу, а то уже весь дом провонял. А потом охнул и схватился за поясницу. – В отпуске продуло, – снова пояснил он. – Маринка кондей в номере все включала, ну вот и… Бабки синхронно закивали. – До свиданья, – вежливо попрощался Валера. И преувеличенно надрываясь, потащил ковер к машине. Запоздало закивал дементный дед. Все было просчитано. Он сообщил о причине выноса ковра – а соседка подтвердит, что слышала, как собака мучается; рассказал, почему несет его с такими усилиями, – и добавил повод для капельки классовой ненависти упоминанием отпуска в жаркой стране, а не на дачных грядках. Бабки с удовольствием расскажут следователям, что Валера – хороший мужик, хоть и жирующий мудак. Но хороший. А дементный дед подтвердит.
Земля была податливой и копалась хорошо. Сотни, тысячи отдыхающих перелопатили ее за эти годы, забрасывая костры, ставя палатки, закапывая мусор – Валера то и дело натыкался то на проржавевшую консервную банку, то на старательно завязанные узлом презервативы, то на рваные сланцы. Теоретически, если кто-то потом так же наткнется на старый ковер, скорее всего, просто поржет на тему того, чего только люди не тащат на пикники, может быть, даже сделает фоточку и выложит на какое-нибудь «Пикабу» – но тут же забудет. Прячь подобное в подобном. Книгу в библиотеке, кольцо – в обрезках металла, дерьмо – в мусоре. – Дерьмо ты, – сказал он трупу Марины, когда бросил на него первую лопату земли. Из ковра высовывалась прядь русых волос. Валера был рад, что не видит лица Марины. Посиневшее, с выпученными глазами и раззявленным ртом – он достаточно насмотрелся на него, пока примеривался к телу с ножовкой, пока прикидывал, сколько щелочи придется налить в ванну, – и пока заворачивал труп в ковер, поняв, что старое доброе закапывание вернее всего прочего. – Дерьмо ты, – повторил он, притаптывая землю и стаскивая на могилу кучку нарванной травы. – Дерьмом была, в дерьмо и превратишься. Прах к праху, так сказать.
Вернувшись домой, он выпустил Бугая из ванной. Изнутри дверь к тому моменту уже превратилась в лохмы. Кто бы мог подумать, что у такой мелкашки – такие острые когти. Вырвавшись на свободу, пес мгновенно обежал квартиру, ткнулся несколько раз носом в диван – Марина любила спать с краю – и, сев посреди комнаты, громко и тоскливо завыл. – Уехала твоя мамочка, – сказал Валера, присаживаясь с ним рядом. – Уехала и бросила нас. Ничего, так бывает. Переживем. Вот твоя мамочка выучится на крутого журналиста, будет много-много денюжков зарабатывать – тогда и заживем. Бугай заскулил и уткнул лохматую голову ему в колени.
Марина позвонила в понедельник утром – как раз вечер или сколько-то там по забугорному времени. Валера всю ночь жрал пиццу и смотрел видюхи на «Ютьюбе» и так и уснул, уронив лицо на смартфон. Поэтому на вызов откликнулся, даже не глянув, кто там с утра пораньше. – Приве-е-ет. – Голос Марины звучал глухо. Словно из-под земли. Валера мгновенно покрылся холодным потом. – Ка-а-ак дела? Она манерно чуть растягивала слова – как всегда, когда выпивала. – Ка-а-ак там Бу-у-уга? – Хорошо, – сглотнув внезапно ставшую вязкой слюну, прохрипел Валера. – Спит. Вчера полбанки корма слопал, нагулялся, спит. – По-о-озови его-о-о… – Эмн… – По-о-озови е-е-его, ма-а-амочка хо-о-очет с ним пого-о-оворить… – Буга! Пес, валявшийся в другой комнате, не отозвался. – Буга! Тишина – ни заливистого лая, ни цокота коготков. Валера встал и на ватных негнущихся ногах поковылял в комнату, сжимая в руках телефон. Иногда он подносил его к уху. Из трубки слышалось шуршание, хлюпанье и чавканье. Пес спал на спине, раскинув лапы и приоткрыв пасть. На какое-то мгновение Валере показалось, что тот не дышит. – Буга! – сипло пискнул он. – Буга! Пес открыл один глаз и вывалил язык. Тот отчего-то был синим. – Буга, – повторил Валера, присев на корточки и протягивая трубку. – Мамочка. Пес подорвался и бросился к телефону. Валера приложил смарт к лохматому уху. – Бугабугабугачка, – заворковали из телефона. – Мамамамамочка… Потом все превратилось в мерное бормотание – и, как Валера ни старался, он не мог больше не разобрать ни слова. Он даже отобрал трубку у Буги и приложил к своему уху – но оттуда лилось только мерное татаханье, словно где-то работал комбайн. Пес нетерпеливо взвизгнул. Валера вернул ему телефон. Через несколько минут у него уже устала рука – а пес все слушал и слушал. Его глаза была полуприкрыты – и более того, подернуты какой-то белой пленочкой, которой Валера до сих пор у него никогда не видел. Бугай медленно кивал – и при каждом кивке внутри него что-то попискивало, как проглоченная резиновая игрушка. Когда пес, вздрогнув, замер и уставился на Валеру, тот понял, что разговор окончен. – Ну все, сказал мамочке «пока»? – спросил, убирая телефон. Пес продолжал смотреть на него не отрываясь. – Ничего, мамочка сделает свои дела – и вернется. Обязательно вернется. Все хозяева возвращаются к своим псам. Все хозяева всегда возвращаются к своим псам. Имитация – и вера в эту имитацию – начались.
Марина больше не звонила. Валера уже понял, что это был лишь дурной сон – из тех, что рождаются на грани бодрствования, мутные, липкие и муторные, искажающие реальность, перетекающие в сонный паралич. Марина, конечно же, никогда не звонила. И он не слышал из трубки этот манерный глухой голос. Как не слышал шебуршание, чавканье, скрежет, шуршание. Звук дождя и падающей сырой земли. И пальцев, царапающих влажный гнилой ковер. И не будил мертвецки спящего Бугу, не давал ему послушать телефон – и не видел этих стеклянных псиных глаз, в которых отражалось его собственное бледное небритое лицо. Это просто прислышалось и привиделось. Так бывает.
Он поверил в это – как поверил во все остальное. Что Марина действительно уехала по какому-то гранту. И что они действительно поссорились. И что он выкладывает фотографии собаки для того, чтобы она усовестилась и вернулась – а не для того, чтобы создать видимость, будто Марина уехала по какому-то гранту, будто они поссорились, будто он выкладывает фотографии собаки для того, чтобы… Он поверил в это так искренне, что поверили и ему. Все: соседи, полиция, подруги Марины – и даже Буга. Да, тот долго тосковал, искал хозяйку по всей квартире, подрывался и вскакивал с растерянным воем посреди ночи, а на прогулке внимательно вглядывался в каждую проходящую женщину – но в конце концов притих, присмирел и лишь кивал, когда Валера рассказывал ему, что мамочка далеко-далеко, в другой стране. Кивал – и внимательно смотрел ему в лицо. Кивал – и обнажал зубы в легком оскале.
– Вале-е-ерик… – Распухший язык не слушался Марину, он цеплялся об обломанные зубы и набухал черной гнилой кровью. – Вале-е-ерик… Реальность прорвалась через слои имитации – будто вывалилась на него из кучи прелых занавесок – и оглушила холодным ужасом. – Я убил тебя… – прошептал он цепенея. – Я же… не убил тебя? Марина снова захохотала, запрокидывая голову. На синюшной шее лопнула кожа и обнажила трахею. По ней, как по стволу деревца, суетливо бегали муравьи. – Я убил тебя… Но как ты… Как… Марина наклонилась и положила ладонь Бугаю на лоб. По кисти побежал юркий пятнистый жучок и затерялся в обивке кресла. – Все псы возвращаются к своим хозяевам, – сказала она, поворачиваясь к Валере. – Все хозяева возвращаются к своим псам. Валера моргнул. Вместо серых, почти что прозрачных глаз у Марины теперь был лишь один – черный, круглый и влажный. Он опустил взгляд на Бугая. Пес смотрел на него серыми глазами. На почти что человеческом лице.
В квартире удушливо пахнет сырой землей, гнилой травой и липовым медом. На улице жарко, и, привлеченные этими запахами, в приоткрытое окно залетают пчелы и мухи. Они кружат по комнате, дурея от миазмов, ударяясь о стекла, стены и потолок, – и падают на пол, усеивая ламинат пестрым ковром. Если на него наступить, пчелы и мухи лопаются с тихим чавканьем. Марина возится на кухне, чем-то бряцая. Там же стучит об пол своей миской Бугай. Иногда они переговариваются: совершенно одинаковым глухим ворчаньем. Их языки давно сгнили и вывалились, а горла лопнули от скопившихся газов.
Они живут здесь втроем – как и жили когда-то. Иногда в квартиру приходят люди – их приводит младший брат Валеры, которому жилье отошло по наследству. Они смотрят комнаты, цокают языком, качают головой – их смущает черная плесень по углам, черные мухи на потолке и черные муравьи на полу. Каждый раз после очередного отказа потенциальных покупателей брат, матерясь, звонит дезинсекторам и в клининговое агентство. На следующий день приходят дезинсекторы. Мужчины и молодые парни. Они распыляют какой-то порошок, вводят гель в щели в плинтусах и мажут мелками вокруг кранов. Затем наступает черед уборщиков. Чаще всего это женщины средних лет. Они возюкают тряпками по полу, пшикают растворами на стекла и зеркала, проводят щетками по полкам и шкафам. Никто из тех, кто приходит в эту квартиру, не видит, как за ними – след в след – следуют мертвая женщина и мертвый пес. Не чувствует, как пес лижет их ноги склизкими губами – и женщина гладит их уши пальцами, сгнившими до костей. Не слышит, как те хлюпают, шуршат и урчат. Они не видят и не слышат и Валеру.
Он кричит – но не громче, чем пищит комар. Он колотит руками по воздуху – но легче, чем мимолетный сквозняк. Он мечется перед их глазами – но те видят лишь мутные разводы. Он здесь – но для других его нет.
Он есть только для Марины и для Бугая. Но он им не нужен. Им достаточно их двоих – псу и его хозяйке. Всем псам и всем хозяевам достаточно друг друга.
И в ужасе от того одиночества – тотального, бесконечного, беспросветного одиночества, с которым он встретит вечность, – Валера вспоминает своего хомячка, сдохшего в далеком-далеком детстве, и молит того прийти к нему. Молит и молит. Молит и молит. Прийти и вывести его отсюда. Прийти и вызволить. Прийти и хотя бы просто побыть рядом. Разве только всем псам и их хозяевам дозволено вечно быть вместе? Он молит его исступленно и отчаянно – и на этот раз уже не может сыграть в имитацию и веру в нее. Он бьется в вакууме своего одиночества, задыхаясь и корчась, раздирая себе горло, царапая лицо и кусая язык, – чтобы умереть, хоть как-то, пусть даже мучительно, но умереть. Но раны тут же затягиваются – а ногти и зубы выпадают, чтобы начать снова медленно, по миллиметру в неделю, расти.
А где-то в другой части квартиры переговариваются на только им понятном, пахнущем тиной и могилой, мертвом языке Марина и Бугай. Иногда они даже смеются. Пес и его хозяйка.
Евгений Шиков Клетка
Из материалов следствия, допрос сержанта М. Васюкова:‹…› Нет, приказ на утилизацию боеприпасов поступил еще раньше, еще по зиме… Нам отдавал приказ лично старшина Хомченко, он же выделил и два автомобиля… ‹…› Полигон у Оладьево был недоступен из-за непогоды, поэтому Хомченко нам на словах дал указание подорвать снаряды на стрелковом полигоне. Он теперь уже не используется, как две части закрыли, мотострелковую и ту, дальше, до меня еще которая… Сам я на стрелковом полигоне был всего дважды, оба раза осенью, в октябре и начале ноября, когда возили туда молодое пополнение, поэтому я не мог точно определить его точное нахождение, еще даже снег не сошел, и мы не поняли, какое поле – наше… Там раньше стояли мишени, но они от времени сгнили, поэтому теперь и по мишеням не определишь. Сейчас говорят, что мы ленились ехать и поэтому выбрали поле поближе, но это только по карте, по расстоянию оно ближе, а на самом деле туда добираться столько же ровно… Я, конечно, не предполагал, что так выйдет… мне очень, очень жаль всех погибших, но я не несу ответственности, ну, по крайней мере, полной ответственности за произошедшее, ведь с нами даже не было сопровождающего офицера…
Валька, как и обещала, встретила ее на остановке у поворота на Жарцево. Сонная и немного опухшая, она зевком проводила отъезжающий автобус и, окинув взглядом Лариску, сморщилась. – Вот на фига на каблуках-то? – сказала она и, откинувшись на деревянной скамье остановки, подняла ноги вверх, будто на качелях, став на мгновение похожей на себя саму в детстве. – Вишь, что одевать надо? Это тебе на будущее! Лариса посмотрела на ее ноги в обычных черных и потасканных ботинках на липучках. Затем – перевела взгляд на свои ноги в туфлях на каблуках. – Я думала, так быстрее получится, – сказала она. – Ну, в смысле – стоять придется меньше… – Плохо подумала. – Валька опустила вниз ноги, качнула ими несколько раз – и, прочертив подошвами по асфальту, замерла, подавшись вперед и уперев в колени розоватые припухшие ладони. – Когда по трассе едешь, особенно в сумерках – вообще не видно, что у тебя там ниже колена. Юбки вот – да. Юбки решают. На юбки чаще тормозятся, но на юбки и менты чаще реагируют. К тому ж с фуры вообще только башку видно. Это если на горочке встать – но там, опять же, менты чаще… Валька поднялась на ноги, вышла из-под навеса и посмотрела в сторону цыганского поселка. – Че-т ее не видно, – сказала она. – Короче, пока не затормозят – не видно твоих каблуков. А если затормозили – то там уж им не до каблуков. Большая часть на лицо клюют. Чтобы, значит, не пропитое. Поэтому – выспаться обязательно, а каблуки не очень… Да где ж она? – Кто? – спросила Лариса, глядя в ту же сторону. Ей стало неуютно. – Ты ж говорила, что мы вдвоем только будем? – Это я вчера говорила. А сегодня Диана написала, что решила на трассу вернуться. Тут уж без вариков. Все равно будет работать тут же сегодня. Зачем ссориться? Лучше вместе. Утроих всяко быстрее управимся. На трех чаще тормозят. Вообще – чем больше, тем лучше. Мужики любят бабьи стаи. Иногда кажется, что им выбирать нравится больше, чем то, чего они потом с нами делают, сечешь? – Она присмотрелась и хохотнула. – Вон она идет. Узнаю шмару цыганскую… да не одна, кажись… По трассе, по направлению от цыганского поселка, шагала смуглая женщина лет тридцати, худая и высокая. За ней, стараясь поспеть за широким шагом, семенила смуглая девчонка, на вид – совсем школьница. – Вот жопа, – протянула Валька. – Малую свою притащила. Теперь понятно… – Что понятно? – переспросила Лариса. – Какую еще малую? – Сестру свою тупорылую, – просто ответила Валька и сплюнула. – Я-то Дианку уже почти год не вижу. Она, говорят, в эскорт попала, стала по Жарцево кататься. Ее черные крышевали. А потом залетела и родила зачем-то. Хотя понятно зачем. За маткапитал. – Валька хохотнула. – Потом пропала. Даже в чатике не появлялась. А вчера вот набрала, говорит – давай как раньше. Верно, не берут теперь после родов в эскорт-то. Даже в жарцевский. С такой-то жопой. – Она вновь засмеялась и помахала рукой. Идущая по направлению к ним женщина расцепила руки на груди и тоже вяло махнула им. – А с ней сестра ейная, – продолжила Валька, опуская руку. – Она мелкая была, когда мы здесь работали, а теперь, видать, подросла для заработка. Только – пригляд нужен. В одиночку не приглядишь – если в машину села, то сестра, считай, сама по себе на трассе останется. Может и в кювете оказаться или у цыган тех же, те малое мясо любят, дай боже. У меня цыган один был, так он хвалился, что ни разу не спал с девкой, которой больше шестнадцати. А самому тогда за сорок было. – А тебе сколько тогда было? – спросила Лариска, сделав ударение на последний слог, и, как всегда, внутренне поправила себя. Мама говорила ей, что это ее проклятие – знает, как надо, но сначала ляпнет, а потом уже исправляется. – Ты ж вроде говорила, что позже начала? – Мне девятнадцать было. – Валька повернула к ней улыбающееся лицо. – Цыган тот идиот был, даже читать почти не умел. Все просил сзади дать. Говорил – я даже и поменьше кого натягивал, и ничего, не порвал. «Звездочкой» потом помажу – оно и пройдет, и даже муж будущий не поймет, будет думать, что сам распечатал. Так просил, что пришлось уступить. Когда девятнадцать – отказывать еще не умеешь. Черта с два эта «Звездочка» помогает, я тебе скажу, только хуже делает. – Она вздохнула, ступила с бордюра на асфальт и обхватила себя руками. – Его порезали потом, в шестнадцатом, по осени. Помнишь, в «Ручейке» поножовщина была, когда жарцевские заехали? Ну вот он один из тех, кто заехал. Ему брюхо вскрыли, а потом еще два дня в больницу везти боялись. А когда привезли – всё, сепсис уже. Он мне писал тогда, просил привезти денег да пожрать и еще пасту зубную и тапочки. Его дружки боялись там появляться, хотя в розыск вроде не подавал никто… – И что? Поехала? – с интересом спросила Лариса. – С чего бы? – удивилась Валька. – Мне уже двадцать четыре тогда было. Научилась таких на хер слать. Помажь «Звездочкой», говорю, оно и пройдет, и трубку повесила. Он так и сдох там, один. Без зубной пасты и тапочек. – Валька сплюнула вдруг с особенной, неприятной злобой. – Туда и дорога. Привет, Дианка! – сказала она совсем другим, звенящим и высоким голосом. – А чегой-то ты не одна? Здесь что тебе, продленка? – Вечар добренький, – проговорила Дианка с сильным акцентом. – Это малая моя. Мадина. – Динка я, – сказала «малая». На вид ей было лет семнадцать. – И я уже не в школе. С прошлого году. – Потому что выперли. – Дианка поднялась на бордюр, и они с Валькой быстро поцеловались в щеки. – Ей восемнадцать уже есть, не боись. Паспорт на всякий случай у меня. – А что черные твои? – спросила Валька. – Как эскорт-то поживает? – А нет больше эскорта, – пожала плечами Дианка. – Рифат больше не смотрит. – А чего так? – А он засучился. С прокурорами завяз смоленскими. И пошло-поехало… – Да иди ж ты! – Валька присвистнула. – И кто теперь за него? – Да никто. – Дианка достала из кармана мятую жвачку, выдавила пару подушечек в рот. – Будешь? А ты? – обратилась она к Лариске. Та аккуратно протянула руку – и на ладошку упало две подушечки. – Только осторожнее жуй, она острая с непривычки. Тебя-то звать как? – Я Лариса. – Она посмотрела на Вальку, но та лишь улыбалась. – Я сегодня первый день так-то… – Оно и видно. – Дианка кивнула на ее ноги. – Каблуки тебя уже к полуночи доведут, я тебе говорю. Одеваться надо тепло снизу и сверху, а жопу на обогляд выставлять. Из кабины на скорости только жопу и видно. – Ладно уж советы давать, – подала голос Валька. – Так что по Жарцево-то? Кто теперь верховодит? – Да Рифат и верховодит, говорю ж. Он теперь депутат. Эскорт прикрыли. Сделали контрольные, нескольких цыган закрыли, прокуроры звезды получили, Рифат – благодарность от губера. Теперь вот партийный. Обещает цыганский поселок снести. – Как это он его снесет? – удивилась Лариса. – Там же домов пятьдесят. – Спалит, наверное, – сказала Дианка и, широко открыв рот, зевнула. На половине зубов желтели золотые коронки. – Потом скажет – герыч варили и спалили сами. Они ж там реально герыч варят. Короче – Жарцево теперь красный город. Цыган будут давить, черных будут щемить, нас тоже, говорят, вместе с ними. Эскорт прикрыли, таксеры возить по клиентам боятся. Ментам за притоны звезды пообещали, так они свои точки сами исдают. Маришка в колонию уехала за мамчество, хотя на самом деле там Динара мамкой была. А Динару взяли в прошлый четверг, она в Пионерном в гаражах открылась. Ключицу сломали, пока укладывали, сейчас на больничке. Пробовала я из дома, индивидуалкой, – так цыгане шуганули. Пришлось Рифату звонить, но он говорит – в последний раз отмазываю. Ну, короче, теперь вот опять на трассе, вишь… – А как ребенок твой? – спросила Лариска, и Валька тут же шикнула на нее. – Ребенок у бабки, – хмуро ответила Дианка. – У него с ножками проблемы. Высылаем вот иногда им с мало́й моей. Понемножку, пару раз в месяц. Правда, она тупая, не смогла доучиться, шарагу, и ту кинула. Вот приобщаю к делу. Для начала – научила на соседе нашем, он теперь раз в неделю пятюню заносит, за минет и пожмякать. – Только я сосу редко, – сказала малая не отрываясь от телефона. – Он старый. – А сосала б почаще – авось и не пришлось бы на трассу лезть. – Дианка, стоя на бордюре, приподнялась на цыпочки. – Вон уже и наш идет. – Кто идет? – Лариска посмотрела в ту же сторону и увидела большой пузатый московский автобус. – Это зачем? Я на Москву не поеду. Обратно-то как? – Да не суетись ты, – махнула рукой Валька. – Мы одну остановку всего, до Сафоново. Нельзя работать у дома, понимаешь хоть? Местные пропалят, потом участковый какой захочет кого закрыть, поспрашивает по бабкам, кто тут шалавы, – и ему сразу скажут, так и так, мол, Валька Морозова да Лариска Тамарина на трассах члены сосут. Приедут, закупятся, оформят – и все. Раз в неделю будешь к ним на субботники кататься, отрабатывать, а то и на счетчик поставят, будешь как кредит – по десятке в месяц им башлять, чтобы работать не мешали. Так что – раз туда катаемся, – кивнула она в сторону Москвы, потом повернулась в сторону Минска и приближающегося автобуса, – а раз туда, за Смоленск. Чтобы выловить им сложнее было. – Мусора хуже цыган, – кивнула Дианка. – На цыган хоть управа есть. – Нет, цыгане хуже. – Малая оторвалась от телефона и сморщила накрашенное лицо. – Цыгане скоты. Ненавижу рядом с ними жить. – А нечего бухой по ночам шататься. – Дианка подождала, пока дверь остановившегося автобуса откроется, шагнула на ступеньку и улыбнулась водителю. – Привет, родной! Подкинешь до Сафоново? – Сорок рублей, – сказал тот, не отрывая глаз от трассы. Дианка отступила от ступеньки и подтолкнула младшую сестру. Та, заулыбавшись, вспорхнула сразу к окошку, наклонилась и что-то заговорила. – Давай, тоже встань рядом, – толкнула Ларису Валька. – Вишь, обрабатывает? Лариса поднялась по ступенькам, подошла к Мадине, которая уже, видимо, заканчивала. – …а мы тогда подумали – и как это мы проехали? Вот и стоим теперь. Вещи уплыли, денег нет. Довезете, дядь? – Ну ладно уж. – Водитель улыбался, потом глянул на Ларису. – Сколько вас? Эта с вами? – Да, это Машка, она на два курса старьше. Она не местная, вишь, стоит робеет. – Ну проходите на свободные. И сестер зовите. Но в Сафоново все выйдете! – Выйдем, не бойся! – Мадина прошла в салон, вновь поднимая экран к лицу. Улыбка растаяла на ее губах как туман поутру, и они вновь стали капризно поджатыми. – Холодно как тут! А говорят – еврозима! – Март уже, какая зима? – ворчливо ответила Валька, которая плыла между сиденьями позади Ларисы. Ее громадная грудь иногда задевала пассажиров. Некоторые отодвигались не глядя, другие – поворачивались и смотрели вслед. – Это просто автобус такой, еще гэдээровский, старше меня. Батька на нем меня в церкву возил, помню. На Пасху и другие праздники. – Он у тебя верующий был? – удивилась Лариса. – Он у меня нищий был, – просто ответила Валька. – Побираться мы ездили. В праздники хорошо подают. А чтобы, значит, в селе не шквариться – ездили в Сафоново или даже Вязьму. Только без толку, в колхозе все равно все прознали, нашлися добрые люди, принесли на хвосте… Вот здесь давай. – Она приземлилась на сиденье возле двери и вздохнула. – Ухх, че-то голова сегодня дурная. День такой, что ли… погода меняется или вроде того. Дианка опустилась на свободное кресло через проход. Сидящий у окна мужчина недовольно покосился и потянул на себя полу куртки, на которую села девушка. Та немного привстала, и Лариса увидела, как мужчина задержал взгляд внизу, видимо увидев нечто большее, чем ожидал. – Малая, ты куда побрела? – Я взади сяду, – подала голос Мадина. – Тут повыше, Инет лучше ловит. – Во брехунья, – с восхищением даже сказала Дианка. – Вся в меня. Далеко пойдет, если дать возможность. Ее бы в Москву куда, хоть в ПТУ, да прописка нужна. Или мужик сердобольный. Который нашими не брезгует. – Она шмыгнула носом и громко сглотнула. – Да, холодно здесь. Будет кто? – И она, достав пластиковую бутылку, потрясла ею в воздухе, заставив мутно-коричневое содержимое громко булькнуть. – От цыган? – скривилась Валька. – Себе оставь. – От каких цыган? – обиделась Дианка. – Это от теть Ольги. Она для себя гнала, не на продажу. В прошлый четверг. – Правда? – Валька сощурилась. – А у тебя тогда откуда? – А мы с ее сыном жучимся. – Она сноровисто открутила пробку пальцами той же руки, которой держала бутылку, отхлебнула, сморщилась, потом кашлянула. – Это Пашка который? – удивилась Валька. – Так он же малой? – В армии отслужил и вернулся, какой малой? – сказала Дианка, отдышавшись. – Такая ряха вымахала! Лицо детское, а плечи – во! И нежный, словно кутенок, все ноги целовать тянется. На, держи, – она протянула Вальке бутылку. – Только осторожно, там больше пятидесяти. – Ты что же, с ним после армии за самогон сговорилась? – хохотнула Валька и тоже приложилась. – Не дешевишь? – Дура, что ли?! – обиделась Дианка. – Я с ним для души и для веселья. То, что он тратится, – это чтоб нам веселей было. Я, по правде говоря, еще до армии с ним дружить начала. Он тогда на права учился. Мы с ним на автобусе частенько возвращались: он – с учебы, я от Рифата. На одной остановке выходили, в разные стороны шли. А потом однажды он за мной пошел – ну вот мы и дошли… – Она хихикнула. – До того, что он ко мне через ночь приходит, с гостинцами. – Смотри, чтобы Ольга не узнала. – Валька протянула бутылку Ларисе, и та приняла ее. – А то космы все твои крашеные повыдирает-то за мальца своего. – Не, мы осторожные. – Дианка вздохнула и откинулась на спинку кресла. – К тому ж мамка его тоже сейчас попивать стала. Уже не такая шустрая. Как уснет – так он ко мне лезет, а если что – через ворота выйдет и вроде бы как с остановки. Всё на мази. Была б помоложе – увела бы мальца в ЗАГС, хрен бы чего сделали. Или Мадинка моя, коли поумнее бы была. Выскочила бы да по цыганам больше не шкварилась. – Я все слышу! – подала голос Мадина с задних сидений. – И я не шкварилась! Один раз не считается! – Это ты людям скажи, не мне. – Дианка вздохнула. – Цыгане ей золота навешали, она и повелась. Оказалось – медяшки. А она с ними тремя за эти цепки полную ночь в машине прыгала. Думала, билет до Москвы купить и там квартиру снять, а в итоге – за пятьсот рублей отдалась. Цыгане, что с них взять… Верно я говорю, дядь? – обернулась она вдруг к сидящему рядом пассажиру, который застыл в одной позе, явно подслушивая. Тот вздрогнул, хмуро пробурчал что-то про подстилок и отвернулся к окну. – Ну-ну, так и живем, – неизвестно чему подвела итог Дианка. – Ты пей, пей. В первый раз лучше пьяной быть. Незачем помнить все, оно потом и вспоминаться будет реже. Лариса собралась с духом – и, запрокинув голову, несколько раз глотнула горючей жидкости. Горло мгновенно перехватило, она поперхнулась – и зажала рот рукой, чтобы не закашляться. Тут же набежала горькая слюна, Лариска сглотнула и ее – и вдруг стало хорошо. Горло расслабилось, в нос ударил цветочный душок, язык, сведенный было в судороге, – вновь стал живым и мягким. Пахнуло то ли вишней, то ли смородиной. – Славно, да? – подмигнула Дианка. – Раз хлебнешь – как стакан винца уработала. Два раза – как стакан портвешка приняла. Учись, пока жива. Бутылочка такого «сэма» в кармане – примета, что ночь будет доброй и спокойной. А пока отдыхай. Тут сейчас медленно поедем, светофоры да поселки кругом. Отдохни. – И она откинулась на кресло, прикрыв глаза. Лариска обернулась в сторону окна и вздрогнула, увидев свое отражение. Лицо в стекле казалось гораздо моложе, чем было на самом деле: размытые очертания убирали круги под глазами и смягчали линию нервно поджатых губ, скрывали выражение угрюмой растерянности, которое так часто старит вчерашних еще детей. Сквозь отражения глаз пролетали деревья, будто в заставке «Настоящего детектива», и это было даже красиво, кинематографично и отдавало серой мрачной эстетикой. Алкоголь тоже придавал картинке «мыльной приятности», но лишь до тех пор, пока обзор не закрывала очередная натужно обгоняющая фура с надписью во весь борт на том самом немецком языке, который Лариска так и не смогла сдать. Вспомнились слова баб Светы: «Будешь плохо учиться – проституткой станешь!» «Так оно и вышло», – подумала Лариска и почему-то улыбнулась. Баб Светка была неприятной женщиной, и осознание, что личные неудачи могут как-то насолить старухе, приносило Лариске некоторое облегчение и даже, можно сказать, удовольствие. Лариска училась неплохо – для сельской школы, конечно. Четыре человека в классе, один учитель на шесть предметов. Начальная школа далась ей с отличием, пятый и шестой классы – тоже довольно легко. А вот в седьмом начались проблемы. Учителя все больше читали из учебника, все меньше объясняли. Срезовые работы показывали четкое падение успеваемости у всего класса. А потом из города приехал Вадим Сергеич и стал их главным естественником. Он преподавал географию, биологию, химию и даже историю, но только русскую. Успеваемость поползла вверх, особенно у трех девчонок. Вадим Сергеевич был мужчиной интересным, вежливым и вообще – «производил впечатление москвича», хотя сам был из Калининграда. Но в их захолустье быть даже чуточку похожим на москвича – значило для человека многое и изначально определяло отношение окружающих. В конце восьмого класса Вадим Сергеевич начал давать дополнительные уроки. Сначала в школе, а потом и на дому. Он приходил после семи вечера, с портфелем, пахнущим кожей, и в длинном сером немнущемся плаще. Бабушка уходила прибирать скотину, а они занимались на кухне. Вадим Сергеевич никогда не позволял себе лишнего, не трогал ее за колени, не говорил пошлости, ничего, что обычно пишут в историях про учителей-развратников. Но Лариска чувствовала его интерес, как могут чувствовать только половозрелые молодые девушки, полные эмпатии и женской приметливости до самого края полупрозрачных век. Он иногда глядел на нее по-особенному, не то чтобы развратно, но с интересом. Другой раз – расскажет анекдот или случай «для взрослых», но не потому «для взрослых», что там про секс, нет, а потому, что про политику школы или тайные манипуляции их председателя. Так Лариска, например, узнала, что учителей-то ругают за их оценки гораздо сильнее, чем родители – школьников. Так же она узнала и о том, что Пашке Рукавичному вообще-то предписали школу коррекции и по документам он там и учится, а на деле – сидит со всеми в седьмом и ничем ото всех не отличается, потому что у них в школе программа после восьмого, оказывается, та же самая, что и в «дебилке». Эти разговоры «на равных» заставляли ее поверить, что у него какой-то к ней особенный, необычный и совершенно отдельный от прочих интерес. Что потом, когда она закончит школу – что-то да будет, чего-нибудь да произойдет. Потом наступил выпускной девятый, и Вадим Сергеевич охладел. Вскоре местные бабки на кончиках застиранных платков принесли к ним в дом весть – учитель сошелся с Полиной, продавщицей из магазина. Старой, почти сорокалетней, с глупым сельским акцентом, заставляющим ее окать через каждое слово. А еще она была мамой Наташи – ее, Ларисиной, одноклассницы. Та вздыхала и закатывала глаза, жаловалась, что мамка от любви совсем спятила и что она возьмет и «от их сбежит, потому как мочи нет глядеть, как они лобызаются». Но разочарованной почему-то не выглядела – лишь немного раздосадованной. Позже, после девятого, кое-как закончив школу, Лариска при помощи баб Светы устроится работать в магазин – сменщицей Полины, которая к тому времени была на четвертом месяце. Свадьба все еще не была назначена, но Полина не беспокоилась. Вадим Сергеевич подписал контракт со школой на четыре года, свадьбу хотел сыграть уже зимой. В магазине платили одиннадцать пятьсот за два через два, по двенадцать часов за смену, час обед. Хорошее место, в деревне хватало. Баб Света почти ничего не забирала, не меньше восьми оставалось внучке. Вадим Сергеевич, конечно, заходил, косился на нее, немного смущенно – но Лариска по нему страдала уже меньше, поняв, что у взрослых и интересы тоже свои, взрослые. А потом она однажды пришла на работу не в свою смену – дни перепутала. В то время привычные смены у них «поплыли», и решалось все чуть ли не на ходу, продавщицы подстраивались под Полину и старались, как могли, чтобы всем было удобнее. Полина тогда уже сидела в декрете, но с утра и до обеда работала все же сама, а с двух и до семи ее подменяла Наташка. Оказалось, замещала она мамку не только на работе. В тот день Лариска, как всегда, пришла сменить Полину во время обеда, хотя смена была, как позже оказалось, не ее. Она сразу поняла бы свою ошибку, если б дверь заперли изнутри, а не наружным замком. Лариске не пришло в голову, что кто-то мог зайти в магазин с черного хода и затаиться внутри, поэтому, не спеша снимая замок с входа для покупателей, она открыла заднюю дверь своим ключом и успела дойти до прилавка, прежде чем поняла: что-то не так. На пирамиде из мешков с комбикормом лежал тот самый несминаемый плащ да стояли подле него ярко-салатовые Полинины босоножки. Лариса подняла глаза – и увидела Вадим Сергеевича, который, повернувшись спиной, замер у дальней стены, где кондитерка, и что-то будто бы перекладывал на полке у самого пояса, но потом, по громкому звуку молнии, Лариска догадалась, что он застегивался, – и почему-то подумала, что он пьяный и просто перепутал магазин с туалетом. Услышав звук рядом с прилавком, она повернулась в сторону кассы – и обомлела. Держась за витрину, в проходе между стеной и прилавком, на полукорточках стояла Наташка, босая и всклокоченная, со злым, колючим взглядом. Она натягивала скомканные на коленях джинсы, в которых белели маленьким комочком спущенные трусики, а сверху болтались лямки расстегнутого лифчика. В спешке Наташка сунула голову в рукав своей модной водолазки, которая била растянутым воротом по влажной, блестящей от пота груди с большими темными и налитыми кровью сосками. Лариса хотела было спросить – чего это ты здесь, при Вадим Сергеевиче, переодеваться вздумала, но тут Наташка разжала губки и вывалила на нее целый поток мата и оскорблений. Лариса перевела взгляд на Вадим Сергеевича, думая, что он как-то прояснит ситуацию. Тот стоял так же, спиной, но теперь уже не шевелился совсем, а спина его была прямой, темной и безмолвной, словно школьная доска, с которой грязной тряпкой стерли все, что было на ней когда-то записано. Тогда Лариска повернулась, вышла и закрыла за собой дверь на висячий замок, оставив им все так, как было до нее, – и пошла домой по асфальту, и где-то ближе к остановке заплакала, и плакала всю дорогу, понимая, что больше уж «как было» ничего никогда не будет. Потом он явился к ней домой – так же, как и до того, непоздним вежливым вечером, сразу после семи. Разговаривал с бабушкой, смеялся. А когда та ушла убирать скотину – сразу откровенно сказал, что давно любит Наташу и хочет жениться на ней. Что Полина была ошибкой, а с ее дочерью у них все серьезно. Что осенью той уже семнадцать, а через год можно и свадьбу. А пока – поживут так. Вадим Сергеевич выговорил это «так», будто оно ранило его в самое сердце, будто говорил о тяжелой болезни родного человека или о новом несправедливом и глупом законе. Лариска молчала, разглядывая его ноги. Ей нечего было сказать, да и как скажешь, что лучше бы он умер, или уехал бы, или еще чего – только бы не пачкал ее чужими секретами и чужим нарождающимся горем? В тот вечер Вадим Сергеевич ушел, лишь добившись от нее обещания молчать. Лариска отдала ему это обещание, как отдают старый долг. За школу и его уроки, за надежды куда-то поехать и там куда-то поступить и за то, что он никогда не трогал ее колени, хотя она бы ему и позволила, а еще за то, что на КВНе однажды отдал ей роль принцессы. Она сказала ему «да», и это его обрадовало – почти так же, как он радовался в ее мечтах, когда она отвечала «да» на совершенно другой вопрос и в другом месте, и стоял он в мечтах на одном колене… Потом он встал, поднялся – и вышел из ее кухни, и все. Больше она никому вокруг ничего должна не была. В магазин она после этого в не свои смены не ходила, с Полиной почти не встречалась и ничего ей не говорила, да та и ни о чем не спрашивала – плод развивался тяжело, Вадим Сергеевич часто возил ее в Жарцево, а потом и в Смоленск, на стационар. Иногда на пару дней, иногда – и на две недели. В эти дни Лариска выходила и за себя, и за Наташку. Вадим Сергеевич, как возвращался из Смоленска один, обязательно заходил в магазин, брал фруктового пива, одну бутылочку коньяка и две одинаковых квадратных шоколадки с орехами. Оплатив, оставлял одну из шоколадок на кассе, немного подтолкнув ее указательным пальцем в сторону Лариски. Та благодарила, а потом – убирала шоколадку обратно в коробку. В конце каждого месяца подсчитывала лишние плитки – иногда их было восемь, иногда десять, а однажды – девятнадцать. Лариска брала пару бутылок коньяка – того же самого, как у Вадим Сергеевича, оставшийся излишек забирала из кассы, сводила чек – и шла до озера, к шумным, пьяным и молодым, где ей были рады с коньяком и без, как есть и просто так. Когда начался сентябрь, она никуда не пошла – ни в десятый, ни в подготовилку, ни в бурсу, ни-ку-да. Баб Света ругалась, но Лариске было плевать. Она привыкла жить незаметно и тихонько, со своими радостями вроде поцелуев с парнями из шараги и их пальцами под резинкой купальных трусов, со вкусом табака на губах и потертостями на коже вокруг сосков от юной, неумело пробивающейся щетины. Наташка же пошла в десятый – хотя оценки у нее были хуже, и баб Света часто ставила ее внучке в пример. «Почему ты не можешь быть такой, как Наташа?» – спрашивала она, не зная, что внучка каждую ночь в пьяных слезах повторяла и повторяла себе этот же вопрос. Почему он не с ней? У нее же нет глупой тощей матери, у нее только одна бабка, которая – это уж точно – ничего бы никому не промолвила, а помогла бы даже и сокрыть… Позже уже она поняла – потому он и выбрал Наташку, что у той мама, на которой можно жениться и жить без скандалов, осуждения и пересудов. В деревне говорили – «прилично». Учителю, к тому же – школьному, обязательно надо было жить «прилично», иначе пришлось бы искать другую работу или ехать в город, где у девок зеленые волосы, а у учителей – татуировки и пирсинг. Она поняла это в ноябре, на «осеннем вечере» в доме культуры, посвященном черт-те знает какому государственному празднику. Вадим Сергеевич пришел на него с двумя своими дамами – светящейся от счастья Полиной с уже надувшимся животом под цветастым сарафаном по левую руку и победоносно улыбающейся Наташкой в коктейльном платье, модно липнущем по талии, – по правую. После короткого концерта взрослые уселись за стол, а в соседнем зале, где гремела музыка, плясала вся сельская молодежь. Полина важно восседала за столом, а Наташка потянула «папу Вадима» потанцевать. Потом они вернулись, Вадим Сергеевич оглядел стол, сказал: «Что-то вина белого не взяли они нам, да?» – и вызвался скататься в город, до сетевика, и прикупить там пару пакетов. Взял с собой Наташку с подружкой (с Лариской, конечно же). Та села в машину, прекрасно понимая, зачем она им нужна. Посередине дороги они остановились и стали искать подходящее место. «Давайте прямо здесь, – сказала безразлично Лариска, – я лучше постою, чем буду ждать, пока вы что-то удобное найдете». Затем она смело протянула руку, взяла его сигареты и зажигалку, вышла, хлопнув дверью, отошла на несколько метров от машины, села и закурила. Курить было тошно – раньше она пробовала только «бабские», тонкие. Слегка закружилась голова, захотелось попить. Обернувшись, Лариска увидела, что они открыли дверь и вылезли наружу, повернувшись спинами, и ритмично дергались. Наташка стояла на цыпочках, и была видна незагорелая кожа на стопах. От их голов в небо уходил пар, и это было особенно обидно – у них там было горячо, а ей было холодно и тошно. Лариска отвернулась и попыталась поплакать, но вместо этого ее стошнило салатом «Мимоза» и китайским плодово-ягодным вином. Потом они закончили, позвали ее – и съездили-таки в сетевик, где взяли несколько пакетов белого и, конечно же, две шоколадки. Одну – Наташке, другую – Лариске. На обратном пути Лариска приоткрыла окно и выкинула свою шоколадку прямо в окно. Никто этого не заметил – они вообще на нее всю дорогу не смотрели. Это был их общий безмолвный договор – не смотреть друг на друга. Через две недели школьные врачи определили у Наташки беременность. Третий месяц. События стали происходить с ужасающей скоростью. Полина загремела в больницу, ребенок родился раньше срока и с какими-то научными нарушениями. Вадим Сергеевича вызвали в полицию. Лариску тоже вызвали на допрос, на котором ее спрашивали только одно – имела ли место школьная связь. Лариса отвечала им раз за разом – не знаю, не видела, не слышала. Вадим Сергеевича отпустили – Наташка была уже совершеннолетней. Потом Полинин ребенок умер прямо в больнице. Когда Полину выписали, учителя с Наташкой уже не было. Оставив после себя выжженную пустыню, он увез Наташку к себе в подмосковную квартиру, из которой когда-то и приехал. Полинка запила, в магазине больше не появлялась. Все вокруг почему-то теперь думали, что Вадим Сергеевич бросил ее из-за того, что она не смогла родить здорового ребенка, а Наташка, мол, – смогла. Откуда они взяли, что ребенок будет здоровый, Лариска так и не поняла. На бедную Полину смотреть было невозможно. Всего за полгода она допилась до того, что стала выглядеть на пятьдесят, у нее начали отказывать почки. Она продала магазин частнику – и тот закрыл его на ремонт. Лариска осталась без работы. На озеро она ходить перестала – после того, как ей там высказали при всех, что она с Вадим Сергеевичем тоже со школы гуляла и будто бы он ее бабке обещал, что с собой возьмет, но не взял, потому что Наташка первая забеременела. Самое странное – что все неизвестно почему считали, что ему обязательно нужно было, чтобы кто-то забеременел. Баб Света вообще перестала разговаривать с Лариской, разве что приказами. Называла не иначе как проституткой. Наверное – тоже поверила. А скорее – она-то слухи и распускала. Тогда Лариска и сошлась с Валькой – девка иногда пила на остановке, угощала всех сладким шампанским и курила «Парламент» – в общем, вела себя по сельским меркам довольно смело и даже почти элитарно. Однажды, попав с ней и с двумя немолодыми парнями в машину, они доехали до того самого места, где она сторожила Вадим Сергеевича с Наташкой, и тогда Лариска сама предложила тому, что постарше. Вышла со стороны двери, спустила трусы, встала на цыпочки, задрала голову к небу и сказала – давай уже, ну чего ты там? И он дал. Иногда так сильно, что у нее ноги отрывались от земли. Голова кружилась от выпитого, груди болели под мнущими их пальцами, старающимися нащупать ускользающий сосок, но в целом было неплохо. Почти что классно. Потом – покурили, она выпила еще – и очнулась дома, оттого, что баб Света орет на нее и называет девкошмарой. Лариска себя девкошмарой не считала – но, как оказалось, зря. Валька заставила того, что постарше, заплатить – и сунула деньги ей в джинсы. Четыре тысячи двести. За пятнадцать минут – больше, чем за неделю в магазине. А на следующий день, там же, на ночной и по-металлически гулкой остановке, Валька раскрыла все карты. Объяснила, что, где и как. Лариска испугалась, поехала в Смоленск сдавать анализы. Чисто. Потом – пересчитала деньги. Купила себе обувь – на каблуках, конечно. Купила две пачки «Парламента», коньяку и газовый баллончик. Позвонила Вальке и сказала, что согласна. Та лениво зевнула в трубку: «Во вторник давай подъезжай к трассе, на семичасовом. Только потеплей оденься. Может, до утра начесывать будем». И вот – она здесь, среди трех других, и ничем от них не отличается. И ей не то чтобы плохо. Теперь, когда она согрелась, а самогон раздвинул лицо в удовлетворенной улыбке, – даже, скорее, хорошо. Почти что – классно. – Приехали, – толкнула ее в плечо Валька, поднимаясь со своего места. – Вылезаем давай, чего ты дрыхнешь. Лариска вздрогнула, оторвала взгляд от окна и удивилась, как темно стало вокруг. На улице только начали сгущаться сумерки, но в автобусе уже наступила ночь. Вместе с несколькими другими пассажирами она спустилась по лесенке в середине салона, вышла через отвалившуюся в сторону дверь и поежилась от холодного воздуха. Последней на асфальт выпрыгнула Мадина, чертыхнувшись, когда слякоть из-под подошв запачкала яркую штанину. Где-то вдалеке, за лесом, громыхнуло. – Опять че-то на полигоне взрывают, бестолочи. И чего мы здесь забыли? – пробурчала Мадина. – Поехали бы до Можайска. В Московской области хоть обочины чистят. – В Московской области и менты московские… – начала было Дианка, но ее сестра закатила глаза: – Ой, да хватит уже! Мусора – они и в Африке мусора. А то ты никогда у них на заднем не лежала. Помнут и высадят. Валька достала из кармана пачку мятных сигарет с кнопкой, протянула Дианке, но та покачала головой и отвернулась. Лариска, подумав, вытянула одну – и склонилась над колышущимся огоньком зажигалки, меж сведенных наманикюренной лодочкой аккуратных ладошек подруги. – Или позвонят местным рафикам, и они тебе устроят московский шариат, – сказала Дианка и вздохнула. – Дура ты. Менты везде одинаковы, а те, на кого они работают, – нет. Со здешними лучше. Здесь можно по-свойски, здесь бабок больших не водится, и злобы такой поэтому тоже нет. – А кто там взрывает-то? – спросила Лариска, все еще глядя на лес, где опять громыхнуло. – Зачем взрывают? – Военные на полигоне снаряды просроченные бухают, только и всего. Пойдемте уже, хватит стоять. – Валька курила, засунув руки в карманы пуховика и зажав фильтр передними зубами, словно сторож на морозе. – Пожрем, моськами поторгуем и если голяк – то вон туда двинем, в сторону Минска. Под надземником. Там лес близко и поворот еще, там не видно, кто и зачем тормознул. – Там уже и стоят, – сказала Мадина, ткнув пальцем в сторону двух фигур в коротких юбках и темных рейтузах. Фигуры подняли руки и вяло махнули девушкам. Валька тоже подняла ладонь. – Горилка, что ли? – спросила она удивленно. – Вторая, кажется, Наташка, а эта, рядом, – не Горилка? Слышь, Диан, глянь – Горилка или нет? – А я откуда знаю? – проворчала Диана, затем остановилась и пригляделась. – Да черт ее знает. Вроде она. Но че-то она еще сильней потощала, что ли? – Замужняя, – сказала Валька, будто это приговор. – Говорила – по любви. А в итоге – вот, полгода всего… – Ну ты ладно, тоже не души, – Дианка посмотрела наверх. – Небо что-то хмурится. Опять, что ли, снег? – Еврозима, – подала голос Мадина. – Скорее всего – дождь, или мокрый снег, или вроде этого – пакость какая-то, в общем. Не будет в этом году снега. Отзимовали. – А куда мы идем? – спросила Лариска. – Я думала, мы на трассе будем… – Да вон, видишь? – Валька махнула рукой. – Вон там, где вывеска горит? Это раньше столовка небольшая была, при совке. А сейчас кафе. Мы туда идем. – Покушать? – спросила Лариска, и Валька кивнула. – Ну да, и это тоже. С пустым брюхом на трассе стоять совсем паршиво. А если дальнобойщики с собой утянут, тогда вообще неясно, где пожрать успеется. Но главное – тут хозяева понимающие. Можно просто посидеть, погреться… даже кипятку вынесут, если пакетики есть. Ну и – начинать лучше с тепла. Чтобы тебя приметили, чтобы если что – свидетели были. Понимаешь? Если вдруг кто увезет тебя в какой подвал – то потом хотя бы понятно, откуда искать надо начинать. – А можно и отсюда уехать, – сказала Дианка. – Тут иногда случаются гражданины… – Да, и такое бывает, – кивнула Валька. – Тут столуются дальнобои, в основном, что на Москву идут, – этим уже неинтересно, они часа через три уже докатят, куда ехали. А вот те, что из Минска или еще откуда, туристы или на заработки – вот эти уже да. Некоторые весь день с Польши катят, а здесь ночуют, чтобы к Москве отдохнувшими выехать. Вот таких высматривать надо. Они обычно носом клюют. И смотри на тех, кто водочку пьет. Не пиво только, а водку. – Почему водку? – Потому что у тех, кто водку пьет, – стоит, да недолго. А кто пиво тянет – только ссать будет бегать, эти обычно сидят и глушат до тех пор, пока не сползают. Здесь осторожнее, здесь разбито все… – Она переступила через большую яму. – Короче, с пивными сложнее. Водочных с полоборота можно завести, и они деньги хуже считают. Поняла? – Поняла. – Лариске стало тяжело и печально. – А что насчет трезвых? – А трезвые пожрут и дальше поедут. – Валька сплюнула бычок в грязь и забралась на бордюр перед входом в кафе. – Короче, внутри тихонько себя веди. Ты, малая, тоже, – обратилась она к Мадине. – Не груби никому, а то отведу в сортир и косметику твою в унитазе сполосну, поняла? – А я-то чего? – хмуро сказала Мадина. – Знаешь сама – чего. Лучше меня знаешь. Тебя сколько раз уже мудохали-то? Чего молчишь? То-то же. Смирной надо быть до последнего, а если что – не бычить и не огрызаться, а в глаз пальцем ткнуть – и ноги в руки. Понятно? Если что – говорю я, а вы киваете и улыбаетесь. Как пингвины в мультике. Нас как раз четверо. – Она хохотнула и потянула на себя дверь. – Все, пошли в тепло. Перед входом Лариска посмотрела вниз, на свои руки, – и увидела сигарету, о которой совсем забыла. Та прогорела сама, без всякой помощи с ее стороны – почти до середины. Лариска кинула ее в снег, зачем-то перед этим сщелкнув пепел, который вылетел с поднимающимся ветром на дорогу и исчез в гуле проезжающих автомобилей. Лариса посмотрела в сторону надземного перехода, увидела мигающую желтым фуру и высокую девушку, которая, игнорируя переход, перебегала Минку прямо наискось. Глянув еще правее, Лариска вздрогнула, поймав чей-то недобрый, изучающий взгляд из-под деревьев с другой стороны дороги. Проехала фура, девушку обдало грязным мартовским воздухом с трассы – и взгляд исчез. Лариска присмотрелась – вроде шел кто-то по лесу, к стороне надземного перехода, а вроде и показалось. Девушка засунула руку в карман, сжала там баллончик с перцовкой – и стало чуть спокойнее. Никто ее не тронет, никто не сделает ей ничего дурного сегодня. «Если, конечно, предварительно за это не заплатит», – подумалось вдруг, и стало опять тяжело и печально на душе. Захотелось все бросить и побежать через трассу, в лес и дальше, дальше, дальше – куда глядят глаза. Справившись с собой, отвернулась – и вошла наконец в тепло, пахнущее гречкой с курицей и макаронами с рыбными котлетами.
Внутри было немноголюдно, лишь щуплый старикан расплачивался на кассе, тыкая пальцем в каждое блюдо на пластиковом подносе, да сидели вдалеке двое ребят смуглой национальности, тихо о чем-то беседовавшие и никакого внимания на вошедших девчонок не обратившие, – вот и все посетители. У входа кемарил охранник, поглядывая изредка на висящий под потолком экран с каким-то русским стендапом, где рекламы и закадрового смеха было больше, чем шуток. Сразу за ним была дверка с окном-иллюминатором, из-за которой раздавался грохот посуды, а слева начинался проход за длинную железную стойку с витриной и подставками под серые влажные подносы, которые уже расхватывали остальные девчонки. За кассой стояла женщина в синем, «околосоветском» чепчике и таком же невнятном переднике. – Давай бери поднос и нахватывай! – сказала Валька, выставляя себе с витрины овощной салат и два стакана морса. – Не боись, я сегодня угощаю. – И меня? – спросила Мадина. – Я бы пожрала. – Тебя я сама угощу. – Дианка тоже выбрала овощной салат. – Я тебе возьму, не беспокойся. – Ты-то возьмешь, – скривилась Мадина. – Говна всякого больничного. А я мяса хочу жареного. – Жареного нельзя, изо рта нести будет, – сказала Валька. – Слышала умного человека? – кивнула на нее Дианка. – Пюрешка и салат – вот твой сегодняшний ужин. – Рыбу тоже не надо брать, – сказала Валька, когда Лариска взяла поднос. – И чай не бери. И котлеты тоже не надо никакие. Пюре или макароны, если суп – то только куриный, не рассольник, а то кислить будет. Из мяса вот – сосиски отварные… – Я вегетарианка, – сказала Лариска. Мадина позади нее расхохоталась. – Фига ты! Защитница экологии? Или как? – Вроде того. – Лариска посмотрела ей в лицо. – А ты чего, не одобряешь? – Я считаю, если нас жрут – то и мы жрать других должны, – сказала Мадина и взяла с витрины граненый стакан с яблочным соком. – А если жрать овощи – то и сама будешь как овощ. Перетрут, проглотят и высрут. – Какая-то философия гнилая пошла. – Дианка забрала у младшей сестры яблочный сок и поставила на свой поднос. – Я знаю только, что чем худее талия – тем богаче жопа. Так что – лучше бы не издевалась, а тоже на диету села. – Я не толстая нигде, – обиженно сказала Мадина, но вниз все-таки глянула. – Это я просто воды много пью. – Что пьешь ты много – это правда, – хмыкнула Дианка. – Давай, подруг, не тормози. – Она ткнула поднос Ларисы своим. – Ща самый чес будет, можно до полуночи десятку набить и свалить домой на таксо, как настоящие бомбиты. Или выйти по-позднему и до утра стоять, а потом в автобусе с вахтовиками тащиться. Торопись. Бери хлеб – и на кассу. – Эту со мной посчитайте, – ткнула пальцем Валька на Ларискин поднос, и кассирша приподнялась на цыпочках, рассматривая его содержимое. Отчего-то Лариске стало неприятно, будто кассирша не поднос, а ее саму рассматривала, душу ее. – Салат «Витаминный», пюре с сосисками и морс черносмородиновый. Греть будете? – Нет, спасибо. – Тогда – плюс двести десять за этот поднос. Хлеб? – Пару кусочков можно. – Вот от хлеба жопа-то и растет, – сказала Мадина. – А не от мяса. – Я могу сосиски отдать свои. Хочешь? – спросила Лариска. – Сосисок я сегодня насмотрюсь, – вновь засмеялась Мадина. – Но хочу, ага. Кидай на тарелку. Хотя я сама. – Она взяла чистую вилку, одним ударом нанизала обе сосиски и споро перекинула на тарелку с гречкой, стоящую у сестры на подносе. – Вот теперь заживем! – Ишь, оживилась! – сказала улыбаясь Дианка. – Пожрать-то мы горазды. – Подлива – со свининой, знаете? – отчетливо сказала кассирша, окинув взглядом поднос Дианы. – И сосиски эти вроде тоже со свининой. Предупреждаю сразу. – Да мы православные, ты чего, сестрен? – делано удивилась Мадина, повернулась к Диане и ткнула в нее пальцем. – Это Василиса, а я, сталбыть, сестра ее единоутробная, Марфушечка. Живем тут в избе на пригорочке, вяжем для смартфонов чехольчики, из барашка – Хуавеяшкам, а с козленка – для Ксяомки. А для айфона икс – шерсть с песьих ягодиц! – Ну чешет! – в голос расхохоталась Валька, присаживаясь за стол. – Вот кого на стендапы надо, а не глиста этого Волю! – Ишь какая… – Кассирша тоже засмеялась. – Новенькие? Не видела раньше. – Пускай будем новенькие. – Дианка, в отличие от остальных, не смеялась, а вместо этого покосилась на сидящих вдалеке смуглых ребят, но те все так же разговаривали, не обращая внимания на девчонок. – Мы здешние. – Смотрите сами, – пожала плечами кассирша. – А то если ваши увидят – могут предъявить. Харам и все такое… – Наши – это которые? – подала голос Мадина. – У нас мамка-то с Гагарина. То есть наши – это космонавты? Так они всё видят и всем улыбаются, как святые с икон, а если и спустятся, аки ангелы, то мы на их скафандре молнии-то быстро найдем, и… – А ну заткнись! – шикнула на нее Дианка и, приложив карту к приемнику, улыбнулась кассирше. – Мы тут покушаем, а потом иногда греться будем заходить, хорошо? – Грейтесь, чего уж… – Кассирша с некоторым презрением разглядывала Дианку. – Но заказывайте хотя бы чай. Если Гриша приедет, а вы за пустым столом сидите – то предъявит. – Что они все предъявлять-то будут? – спросила громким шепотом Мадина. – Одно и то же или у всех предъявлялки разной длины? – Лучше тебе не знать. – Валька уже вовсю хлебала суп, через раз откусывая хлеба. – Ешьте скорее, а то ливанет на улице – сами виноваты будете. Подошла Дианка, опустила на стол поднос, сняла с него тарелку и поставила перед Мадиной. – Рот свой на замке держи, – сказала она. – Целее будет. И с хлебом ешь. Так полезнее. – Забо-отишься, – улыбнулась Мадина и, подцепив сосиску, с хрустом ее откусила. – Может, волосы мне подержишь, пока я отсасывать буду? Дианка вдруг, без предупреждения, щелкнула Мадине звонкий подзатыльник. Та закашлялась, с трудом проглотила еду и со злобой поглядела на сестру. – Говорила же – пальцем не тронешь больше? Договаривались же? – А еще договаривались, что ты пасть свою разевать не будешь, – сказала Валька, не отрываясь от тарелки, потом отложила ложку, допила суп прямо через край – и посмотрела на девчонку. – Давай я тогда объясню. Еще раз что-то вякнешь поперек или до кого докопаться вздумаешь – поедешь домой и будешь в Жарцево с цыганами по подвалам трахаться за кусок конской залупы, ты меня поняла? Меня тут знают, скажу не пускать – выпнут на трассу, не понравишься этой бабе за кассой – вызовет своего Гришу, он стуканет ментам, а те отвезут тебя за ручей и устроят тебе заочное погашение ипотеки, потом прокатят до отделения – и там еще в СИЗО проценты отработаешь, по пятихату за пассажира. К утру сидеть сможешь только лежа. Потом бинтом перемотают, на такси посадят – и повезет еще, если до дома отвезут, а то к тем же цыганам. Поняла? – Поняла, – хмуро сказала Мадина. – Поняла, что нужно было одной на трассу выходить, как и собиралась. Вы мне только цену сбиваете. – Да как пожелаешь. – Валька подтянула к себе гречку с сосисками и стала вилкой делить их на маленькие кусочки. – Поедут твои братцы по крови из Москвы до Сирии транзитом через Ташкент, подхватят тебя в багажник – и через неделю окажешься в подвале каком-нибудь, ротным спермоприемником у славных бойцов джихадного государства. Думаешь, тебя кто-то искать будет, кроме сестры твоей? Кому ты на хер сдалась-то? Еще одна чурка с трассы, мясной автомат с ручкой, дернешь – маткапитал посыпется. Или на стройку свезут, в вагончиках черенки потные облизывать, или до республики докинут, в гарем какому-нибудь члену райсовета Колхоззаградотряда, будешь его второй слева женой, пятой снизу дочерью. – Ты за словами следи, слышь? – сказала Мадина, глаза у которой были уже мокрые, а нижняя губа подрагивала. Она посмотрела на сестру. – Диан, чего она такое себе позволяет? – Правду она говорит. – Диана ковырялась ложкой в своей тарелке. – Нельзя по одной. Вылавливают. А если вдруг выловят – целку строй, поняла? Не вздумай заигрывать. Они сначала подыгрывать будут, а потом зубы вырвут и снизу все ножом отчеканят. Лариска отложила вилку и вытерла салфеткой рот. Есть расхотелось. – Где тут туалет? – спросила она. – У меня от ваших разговоров живот заболел. – Ишь, испугали девку! – проворчала Валька. – Ты сама-то черных не бойся. Если что, говори – дядя мой мусор местный, на трассу вот поставил. Дадут телефон – ты мне набирай. А вот если русская гопота силком посадит – лучше молчи и делай, как скажут. Наиграются и отпустят. А будешь права качать – вывезут и палками отмудохают. За проституток мертвых не сильно много дают, да и одному только кому-нибудь, кто на себя возьмет. Судьи обычно бабы за пятьдесят, на них мужья не взбираются, а нас с радостью пялят. Вот судьи нас людьми и не считают, и за убийство могут даже и условкой пожурить. – И сама еще сильней напугала, – сказала Дианка, невесело улыбнувшись. – Отпусти девку в туалет, а то в обморок грохнется. Валька откинулась на спинку деревянного стула – и указала пальцем на еле заметную дверь в маленьком закутке, который начинался прямо под висящим телевизором с орущим из него стендапом. – Вон, в ту сторону. И хорош так трястись. Шансов, что тебя в приключение увезут, – меньше, чем что фура собьет. Поэтому перво-наперво выучи, где дорогу переходить, а потом уже сама поймешь, к какой машине подкатывать, а какой стрематься. И будет тебе счастье, кисельные берега и надои до небес. – Уж лучше фура, – пробурчала Мадина, в которой веселья тоже поубавилось. – По крайней мере – сразу… В туалете Лариска включила теплую воду – а потом надолго застыла, держа руки под струей и рассматривая свое лицо в зеркало. Как так получилось? Почему она стоит в туалете какого-то сраного кафе и переживает, что ее увезут в цыганский подвал, Сирию или «в СИЗО к пассажирам», что бы это ни означало? Как в современном мире вообще существуют такие вещи – прямо на огромной дороге между двумя вроде бы европейскими столицами? Это всегда так было? Все время? Или откуда-то появилось, нанесло, как му́сора ветром, – и зацепилось за местные заборы и заброшки, обросло темной пылью да бурой грязью, и жрет теперь местных девок одну за одной? Как это может существовать одновременно со стендапом на ТНТ, с салатом «Витаминный» за семьдесят рублей, с автобусами на Москву и из Москвы, в которых люди стараются не смотреть в окна, пока проезжают по всей их сраной Смоленской области, состоящей из кривых берез и покосившихся крестов, вечнозеленых елок да вечноржавых остановок? Как люди могут проезжать мимо всего этого, а потом приходить домой, снимать обувь, мыть руки – и садиться за стол с борщом на столе и сметанкой в борще? Почему в здешних школах не объясняют, что после девятого придется идти или на вахту, или на трассу? Выход один – рожать как можно раньше, рожать как не из себя, рожать раз в два года, а лучше – раз в год, и лучше от москвича, чтобы Собянин че-то там докинул, или от чечена, чтобы Кадыров, а лучше – от московского чечена, чтобы оба занесли. А жизнь – она для других, для тех, кому повезло родиться рядом с метро, в шаговой доступности от школы билингв и эпплстора, в городе с набережными и «Старбаксами», где на дорогах вместо коровпропускают электросамокаты, где из окна видна строящаяся кальянная с летней верандой, а не недостроенный с девяностых завод с прорастающими сквозь порванную временем крышу деревьями. Обида, огромная и беспросветная обида на весь мир заполнила ее всю, выплеснулась из глаз в раковину, залила ту доверху, а потом и всю туалетную комнату, вытекла за пределы кафе – и заструилась дальше и дальше, до самого дома, где Лариску не ждали, и до самой школы, где ее так и не выучили. Через какое-то время все прошло, как и появилось – схлынуло и отступило во тьму черепной коробки или, может, грудной клетки – было уже не разобрать, да и не очень-то и хотелось. Лариска вытерла покрасневшие глаза, высморкалась – и, вытащив из внутреннего кармана косметичку, быстро подвела глаза. Отражение в зеркале сразу стало старше на несколько лет – то ли из-за глаз, то ли из-за выражения скорбной усталой решимости. Когда она вышла, то увидела какую-то женщину, сидящую на ее месте и поедающую ее картошку. Лариска на секунду замерла, а потом решительно подошла к столу. – Эй, ты чего это мою картошку ешь? – спросила она. – Не охерела? – Тише, тише. – Валька посмотрела на нее снизу вверх, но потом улыбнулась. – Это Горилка. Приятельница наша давняя. Она возвернет. – Все равно – без разрешения. – Ты извини, подруг. – Женщина, лет за сорок и крайне худая, вытерла губы салфеткой. – Моя другая тетка в фуру полезла, а я вот пока не пригодилась. Увидела вас – решила добежать, поздоровкаться. Меня ж мой без денег высаживает, боится, что нахерачусь здеся заранее, а потом учудю чего-нить. Поэтому так и выходит – сначала клиент, хоть бы и один, а потом уж завтрак. – Ты бы хоть накрасилась, что ли. – Дианка уже закончила есть и теперь заливала самогон в стакан с остатками яблочного сока. – А то на мужика похожа. – А некоторым того и надо, – подмигнула Горилка. – Чай не эскорт. Схавают. Некоторые даже глаз от трассы не отрывают – километра четыре, и все, тормоз в пол, спрыгивай да сплевывай в кювет. – Можно мне? – спросила Лариска и, не дожидаясь ответа, протянула руку, взяла стакан с самогоном и яблочным соком – и выпила весь. – Ух ты! А вкусно! – Она легонько кашлянула. – Давайте уже пойдем, а? А то я не могу больше вас слушать. Орать от вас хочется, еще одна охерительная история – и я пешком до дома пойду на каблуках, я серьезно. Тошно от кафе вашего и от погоды тоже этой, ну? На улице опять бухнул далекий взрыв, сразу же засигналили автомобили – сначала далеко, потом совсем рядом – и вдруг яростно и громко заревела фура, и все ревела и ревела, удаляясь к Москве. – Что за дерьмо? – Горилка вскочила на ноги. – Не сбили там никого? А ну пойдем все вместе выскочим, а? – Пойдем. – Валька, а вслед за ней и Дианка поднялись на ноги. – Мадина, тут посиди. Если что – с вахты едем, поняла? – Поняла, – кивнула Мадина, потом посмотрела на двух ребят в углу и немного нервно добавила: – Но вы только недолго, хорошо? Они вышли на улицу вчетвером – Валька впереди, за ней Горилка с Дианкой и в самом конце – уже успевшая захмелеть Лариска. Первое, что бросилось в глаза, – темнота. Пока они ели – совсем уж стемнело, да так, что если б не пара фонарей у надземника – то хоть глаз выколи. Еще один небольшой фонарь освещал грязный снег на кафешной парковке и подмерзающие на асфальте лужи. – Смотри, вон стоит кто-то, – Диана махнула рукой в сторону Москвы, и все повернули головы. – Видите, машет чего-то? На дороге и правда замер жигуленок с приоткрытой дверью, а рядом с ним размахивал руками и что-то громко говорил человеку в салоне какой-то мужик. – Чего ты там? Сбил кого? – заорала Горилка, шагнув в сторону автомобиля. – Если сбил – то жопа тебе! Тут камеры! Человек обернулся к ним, затем вновь указал на кафе и закричал. Ветер донес одно слово: – Медве-е-едь! – Ну да, медведь! – крикнула Горилка. – И че? Он тут уже сколько! Ты кого там сбил? Но мужчина повернулся вдруг, запрыгнул в машину – и она неспешно тронулась в горку, тяжело набирая скорость. – Какой еще медведь? – испуганно спросила Лариска. – А ты название-то видела? – Диана ткнула пальцем вверх. – Вон там – что написано? – Кафе «Берлога», – прочла Лариса, сощурив глаза на вывеску. – Это что значит? – А сама-то как думаешь? – ухмыльнулась Горилка. – Там клетка за кафешкой, в ней медведица, – коротко бросила Валька. – Хорош ей мозги пылесосить. Иди ей лучше морса с водкой купи, ты ей должна. У девки первый день. Давай, давай, чеши. – Она подтолкнула старую проститутку к кафе. – Нам потрепаться нужно! – Прямо здесь? Живая медведица? – удивилась Лариска. – А где? – Говорю же – в клетке, за кафешкой. Не ссы, не вырвется. Короче, дело такое, – сказала она хмуро, когда Горилка зашла внутрь. – Здесь теперь смотрящий новый, надо платить по три кэса за ночь. Но смотрящий никчемный, муж Горилкин, звать Андрестом. Он шестеркой рифатовской был, а теперь вот вроде приподнялся, но все равно остался галимой чепухой. У него всего две девки здесь – жена евойная и еще одна, Шпалой кличут. Если подъедет кто по этому поводу – дуру корчите, поняли? Мол – не знаем никаких Андрестов, а если что узнать – перетри с мамкой. Мамка – это я. Если трясти будет – не ссыте, не тронет. Он трусливый. А Горилке не говорите ничего личного, она знать не должна ни имени вашего, ни где живете – ничего. Все мужу доложит, а он потом кому надо сообщит – приедут по прописке вашей, будете потом заносить до смерти, даже если с трассы уйдете. Сученая она, в общем… – Эй! – крикнула Горилка, выглядывая из кафе. – Там малая твоя вроде клиентов нашла! Просто сообщаю! – Вот же ж сучка! – Дианка побежала к дверям. – Тупица малолетняя, только и знает, что… Она забежала в кафе – и дверь закрылась, оставив снаружи двух девушек и одну дорогу. На секунду Лариске показалось, что будто и не было последних двух часов и они все так же стоят у поворотки на Жарцево. – Смотрю, зазнобило тебя? – спросила Валька. – Это ничего, это нормально. Пойдем, покажу. – Она одной рукой взяла Ларису под локоть, другой – достала сигарету, сунула между зубов, вынула из той же пачки зажигалку, споро подкурила – и кинула пачку обратно в карман. – Вот здесь осторожнее ступай, а то скользко. Вот. Видишь? – она протянула руку и указала вниз, на большую темную клетку, прилипшую к дальней стене кафе. В клетке кто-то беспокойно двигался туда-сюда. – Слышишь ее? Это Машка. Ей лет восемь уже. Я когда здесь впервые оказалась – она не совсем еще взрослой была. А теперь уже, поди, зрелая по медвежьим-то меркам. И всё в клетке. Вся жизнь взаперти. Мясом ее не кормят, чтобы на людей не бросалась, поэтому она такая небольшая выросла. Но злая иногда – дай боже. Однажды вырвалась – и подрала двух псов бродячих, что на нее лаяли постоянно. Сидели и гавкали, и отгонять бесполезно. Вырвалась, порвала их – и села у клетки. Понимаешь? Могла убежать – а не стала. Привыкла. Другой жизни не знает, понимаешь? – Зачем ты все это? – с какой-то даже жалостью спросила ее Лариска. – И так ведь… – Это я к тому, Лариска, что надо различать, когда судьба тебе шанс дает. Когда можно свалить к херам из своей клетки. Горилка, думаешь, сразу такой стала? По молодости была – глаз не отведешь. Один абхаз ее хотел к себе на родину увезти, жениться по закону. А она закуксилась – жирный, мол, и «мазда» у него говенная. Трахалась со своим Андрестом, думала, он поднимется – и ее за собой поведет. А в итоге – сторчалась с ним, и повел он ее на ту же трассу, сосать у дальнобоев по сто рублей за километр. Вернулась в клетку – и не рыпается. Понимаешь? Или Дианка. Та могла муслимкой прикинуться, ведь черная ж сама, хотя у нее только дед был из ихних. Платок бы натянула, косметику с Мадины смыла – и стала бы в мечеть ходить почаще, ее бы в итоге и пристроили к какой-нибудь ферме. Ну или Мадинку хотя бы выдала, да хоть за соседа. А они привыкли к жизни ночной – и слезть не могут. А ведь не молодеют. Мадина – та еще понимает, что лучше хоть в Москву одной, хоть на своих двоих – пока жопа не обвисла, покрутить ею перед университетом каким, найти папика и сладко прилипнуть. А сестра ее отпускать боится, в свою клетку тащит. Поняла теперь? – Что ты хочешь сказать? – спросила Лариска устало. – Говори, как есть, а то башка уже не варит. – Я хочу сказать, что, будь ты порасторопнее и понаглее – уехала б из своего колхоза с этим Вадим Сергеевичем, или вдвоем, или хоть третьей – мужики это еще как любят. Еще бы поумнее была – кольцо на палец от него получила, потом разводом по сусалам – и уже свободная московская девка с жилплощадью. И сейчас, думаешь, – чего все такие нервные, срутся да пужалки друг дружке рассказывают? Потому что ты тут сидишь рядом, губки бантиком, жопка помидоринкой. Ты ж на трассе и месяца не пробудешь – укатишь куда-нибудь. Главное – не провафлить вспышку, понимаешь? Поэтому не на хер смотри, и не на кошелек даже – а на руки да на машину. След от кольца снятого ищи. Чтоб кулаки не сбитые, без наколок зеленых. Если иконки на приборке – значит, как разденешься – сними крестик и попроси иконки прикрыть футболкой, мол – греха боишься. Они это любят. Если иконок нет, а всякие пацанские штуковины прилеплены – то кончай погромче и спину царапай, и потом, как отстреляется, – ты полежи с закатанными глазами, будто сознание потеряла, а потом – тоже заплачь, что, мол, не увидитесь больше и не будет тебе никогда такой радости. Вообще – в конце обязательно заплачь. Оно и безопаснее, и надежнее. Легче всего с пенсионерами какими, особенно если вдовец. Скромницей прикинься, поплачь в салоне, как он в тебя кончит, скажи, что стыдно домой возвращаться. Что вот дедушка, пока жив был, – помогал, а сейчас никто не заботится, страшно очень. Чулки порви над коленкой, как будто он по страсти. Скажи – бабка заругает. Зови его ласково – мась или коть. Или чуча. Короче – добейся, чтобы он тебя домой увез, понял? На нас не смотри – мы уже свои шансы просрали все, теперь вот только если Мадинка выпрыгнет куда, да она дурная, на жопе катышки, в башке опарышки. Эта если и уедет – обратно привезут, и хорошо, если целиком. А вот ты – у тебя все шансы. Ведь сама подумай – эта дорога идет из Европы, и почти к самому Сити, где башни все эти. По этой дороге такие люди катаются – у них в кошельке денег больше зараз, чем эта «Берлога» вся целиком с персоналом стоит. Главное – не верь, если скажут, что ты им должна что-то, сечешь? Ни хера ты никому не должна, это не ты должна, это мир тебе по яйца задолжал. Свалку нашу знаешь? Куда мусор с Москвы возят? Вот что они тебе уготовили – с самого детства. Коли родилась в навозе – вот и сдохни на свалке. А ты им доказать должна. Любыми путями выбраться. По головам иди, слышишь? Даже по моей. Всех кидай – а сама когтями цепляйся. Вырвись отсюда – и забудь Смоленск как потный кошмар, на кляп он тебе не сдался, здесь жизни нет и не будет. Гагарин отсюдова улетел – и тебе свалить пора пришла, поняла? И не оглядывайся даже – а то засосет опять, и будешь в лучшем случае на кассе сосиски из салата вычитать, с компотом складывать, а в худшем… – Она вдруг несколько раз затянулась, громко вбирая дым. – А в худшем станешь мной, или Горилкой, или Шпалой. Стояла вроде на трассе, потом фура проехала – и нет тебя. Потом еще одна – и опять стоишь. Туда-сюда, туда-сюда, пока однажды мелькнет какая фура – и совсем не пропадешь, и всем будет насрать, понимаешь? На-срать. На, подержи, – она протянула ей сумочку, а другой рукой стала спускать штаны. – Я сейчас обоссусь уже, а внутри неохота. Они там, небось, опять срутся. – Она присела и, вздохнув, выпустила изо рта клубы дыма, а секундой позже по траве зажурчало, убегая вниз. – Валь, – сказала Лариса. – А как ты думаешь, мне много придется… ну… – Порядошно, – сказала Валька и опять затянулась. В темноте свет фар проезжающей машины осветил ее лицо, а за ним вдалеке – клетку, в которой беспокойно, тревожно пыхтела медведица. – Считай – по двое-трое в день. Если через день ходить – то пятнадцать ночей в месяц. Человек, значит, сорок за март и столько же за апрель. К маю, думаю, укатишь с кем-то уже. А то и раньше. В общем – пятьдесят, максимум восемьдесят. – Восемьдесят, – как эхо повторила Лариска. – Это ж до хера как много, Валь? – Ну – по большей части сосать будешь. Максимум – через раз насаживаться придется, не у всех на тебя бабок хватит, мы ж не как за Горилку поставим. Короче, по минималке, думаю, пару десятков мужиков в себе потерпишь – и твой найдется. Обычное дело. В Москве, говорят, у школьниц к выпускному в одиннадцатом классе уже больше десяти партнеров. А к диплому – около тридцати. Я исследование читала. Так что за два-три месяца, почитай, вышку получишь, хе-хе… В тишине отчетливо стало слышно, как где-то снизу лакает крупный зверь. Лариска поежилась. – Громко как, – сказала она. – Жажда замучила беднягу, еще бы – по клетке носиться туда-сюда без продыху. Еще и я тут журчу. – Валька вытянула бычок изо рта, в последний раз в жизни затянулась – и щелчком пальца отправила его в темноту, да только он вдруг заискрил и застыл в воздухе, едва-едва покачиваясь. – Это какого хера? – спросила Валька, все еще сидя на корточках вполоборота, попыталась протянуть руку к застрявшему в темноте бычку – и в этот момент темнота пришла в движение, что-то крупное шевельнулось, бычок слетел в мокрую от мочи траву, послышался недовольный рык – и громадный медведь поднял к ним окровавленную пасть со светящимися над ней глазами. Валька вздохнула и начала приподниматься, рефлекторно попытавшись закрыть лицо рукой, – и тогда медведь вдруг вспрыгнул по склону к ней вплотную, оскалился – и почти аккуратно обхватил зубами ее голову вместе с ладонью, а потом сдавил. Что-то хрустнуло, лопнуло, и Валька засучила ногами в спущенных до колен джинсах. – А-а-ах, – только и выдохнула Лариска, которую от страха почти парализовало. Сумочка подруги выпала из разжавшихся рук на землю. Валька захрипела, подняла вторую руку и попыталась ударить медведя по морде, тот недовольно фыркнул, присел, а затем, сжав зубы, резко дернул головой назад и вверх – и Валька взлетела к небесам, сверкнув белой задницей. Сделав «солнышко», она ударилась ногами о землю. Из ее кармана вылетели сигареты с зажигалкой и ударили в грудь Лариски, которая будто очнулась и наконец попятилась от зверя. Медведь захрустел зубами, отделяя от тела голову на сломанной уже шее. Лариска нагнулась, подобрала зачем-то сумочку – и продолжила пятиться, не отрывая глаз от рычащего медведя. Тот заметил движение, раскрыл пасть, смятая голова вывалилась из его зубов, и Лариска с ужасом увидела, как из разорванного рта мертвой подруги медленно продолжают выходить остатки сигаретного дыма. Тогда она повернулась – и бросилась бежать к «Берлоге», от которой к ней приближалась высокая худая фигура. – Вы чего там, заснули? – спросила Горилка. – Нам уже… – Беги! – выдохнула Лариска, схватила ее за одежду и толкнула в сторону двери. – Медведь! Беги! – Куда-а? – Горилка вырвала руку и отступила, сощурившись. – Машки испугалась? Или она вырвалась? Не бойся, она… – Пошли! Давай! – Лариса вцепилась в руку и потащила Горилку к «Берлоге». Та хотела ответить, но услышала позади шум – и повернула голову к кювету, из которого выбрался уже иссиня-черный медведь. Он неторопливо, но резво валил в их сторону как бы немного боком, вывернув голову в сторону дороги и косясь одним глазом. – Охереть, это Машка? – спросила Горилка и тут же сама себе ответила: – Это не Машка! Не Машка! Почему-то она не сделала даже попытки увернуться, а только махнула свободной рукой и топнула на медведя, будто пытаясь отогнать, а тот, не сбавляя скорости, свалил обеих девушек с ног, нащупал раскрытой пастью руку, уцепился в нее – и потянул на себя, пятясь и вращая мохнатым задом. Головой он мотал неспешно и даже будто бы лениво, однако Горилка летала из стороны в сторону, словно игрушка на конце котоудочки, разбрасывая во все стороны мелочь из карманов, ботинки с ног и телефон с зарядкой откуда-то из-за пазухи вперемешку с мелкими кровавыми каплями. Пытаясь не дать медведю утащить Горилку, Лариска вцепилась в ее вторую ладонь, проехалась спиной по асфальту, затем – прочередила ногами по кювету, вновь по асфальту – и они вместе с Горилкой оказались лежащими прямо посередине трассы. Медведь отступил, мотая головой и разрывая что-то на краю обочины. Лариска вскочила на ноги, успев заметить разорванные на коленях джинсы и стертую до крови кожу под ними. – Вставай, вставай! – закричала она на Горилку и попыталась поднять ее на ноги. – Быстрее! – Едрить-колотить! – пробормотала Горилка, попыталась подняться, опершись на руку, – и в следующий момент нырнула лицом вниз, врезавшись в асфальт. Приподняв голову, посмотрела на свою руку, расщепленную в локте, словно надрубленное полено, и закричала: – А-а-а! Рука ж! Это ж рука! А-а-а! Лариса все старалась поднять ее на ноги, не отрывая взгляда от медведя, который прижал оторванную руку к асфальту, взялся зубами за ладонь – и стянул с нее пальцы, как стягивают в рекламах мясо с куриных ножек. Миг, и он захрустел ими, а из пасти полилась, пузырясь, кровавая слюна. Морда у него выглядела при этом добродушно-отстраненной и очень довольной. Лариске удалось поднять Горилку на колени, но ту вдруг вырвало, и она заревела, затем всхлипнула, замолчала и, посмотрев на Лариску снизу вверх, спокойно и твердо произнесла: – Руку мою жрет, – Горилка кивнула на медведя. – Этот, твой. Довольна? Пусть отдаст, воротит, как было. Пусть отдаст. – Пойдем, милая, пойдем. – Лариска потянула ее к «Берлоге», но Горилка, сделав пару шагов по направлению к обочине, вдруг остановилась, обернулась к медведю и громко заорала, чтобы он отдал ей руку. – Хуже будет, – грозила она ему и трясла культей, разбрызгивая кровь. Глаза у нее были будто пьяные. – Увидишь! Хуже будет! Медведь выпустил руку и вновь попер боком, на этот раз вывернув огромную голову влево и косясь на них уже другим глазом. Лариска выпустила плечо Горилки – и отшатнулась за секунду до того, как медведь сбил ту с ног, прижал лапой кричащее тело, обхватил зубами за живот и вновь повторил тот же фокус, что и с Валькой: перебросил через плечо, словно борец, но вместо рук используя челюсти. Часть живота осталась у него в зубах, и Горилка полетела, будто бы вся обмотанная веревками, выпадающими из ее куртки, – вот только это были не веревки. В этот момент всю дорогу залил свет, и из-за горки выскочила, набирая скорость, фура. Завыл клаксон, задрожал асфальт, медведь дернулся от света фар, в два прыжка оказался у обочины, а Горилка скрылась под бампером, не издав ни звука и даже не сумев приподнять голову. Фура взревела, качнулась вбок, лишь чудом не задев медведя, вставшего на задние лапы и оскалившего пасть. Потом ее колесо съехало в кювет, она задрожала по кочкам, наклонилась – и ушла вниз. Заскрипел ужасно металл, контейнер упал на асфальт, выбил искры и, развернувшись, обдал воздухом Ларису, которая, метнувшись поначалу к «Берлоге», вновь уже выскочила на середину трассы. Контейнер ударил в здание, своротил угол кафешки, обрушив даже и часть крыши, – и вместе со всем этим посыпался вниз по насыпи. Стоящий во весь рост медведь проводил взглядом исчезающую в темноте и пыли фуру, шевеля ярко-красным и волнистым, словно створки раковины, ртом. Затем аккуратно опустился на четыре лапы и не разворачиваясь, вновь боком побежал в сторону замершей на дороге Лариски. Та сорвалась с места, всего через несколько мгновений оказалась у открывающейся уже двери, ударила выходящего охранника в грудь плечом так, что он повалился на спину, повернулась, захлопнула дверь и закричала: – Замок?! Как закрыть? Дверь? Как? Все стояли и лупили на нее глаза – молча и ошарашенно. В помещении летала густая пыль, с кухни кто-то кричал. – Ты чего это, совсем? – Охранник попытался приподняться, и в этот момент по двери ударило так, что она распахнулась, отбросив Лариску на стол у двери, за которым когда-то сидел охранник. Не оборачиваясь, она перелезла через деревянную столешницу – и кинулась за стойку. Позади взревело, и охранник, закричав, пополз в ее сторону. – Мадина, назад! – закричала где-то Диана. – Туда, туда давай! К сортиру! Лариска нырнула вниз, затылком ударилась о стойку, выпрямилась – и побежала к кассе, за которой стояла побелевшая от ужаса женщина в чепчике. – Вызовите кого-нибудь! – закричала Лариска ей в лицо. – Звоните куда-нибудь! Кассирша вместо ответа открыла рот и выдохнула, глядя куда-то за стойку. Лариска повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из кавказцев, поднявшихся из-за стола, спокойно вынул из кармана небольшой черный пистолет, прицелился – и трижды выстрелил в надвигающегося медведя, который, даже не сбавляя ходу, взревел, поднырнул под стрелявшего, мордой подбросил его к потолку, а затем принялся бесноваться, крутясь на месте и лапами разрывая упавшего на пол, но живого еще человека. Тонко, даже по-девичьи, вскрикнул его товарищ и швырнул табуретку, которая ударила зверя по хребту и отскочила на соседний стол, сбивая с него посуду с остатками пюре, однако медведь даже не заметил этого, продолжая неистовствовать. Диана тащила Мадину за руку, пробираясь под одним из столов, когда разъяренный медведь задел его и тот отлетел к витрине будто игрушечный, ножкой едва задев Дианину голову, – но та вдруг клюнула ею вперед и замерла, а из-под волос потекла на кафель кровь, и сразу натекла лужа, а Мадина все тащила сестру за руку, словно мешок, и плакала. Тогда медведь наконец замер и обернулся к ней, рыча и фыркая. Кажется, он был подслеповат и потому водил головой то вверх, то вниз, а глаза то смотрели исподлобья, то закатывались к пасти, будто он пытался разобрать мелкий текст. Все-таки заметив девушек, он медленно направился в их сторону, иногда облизываясь. – Да сделайте хоть что-нибудь! – закричала Лариса на кассиршу, на сопящего под ногами охранника, успевшего пробраться под стойку, и даже на медведя. – Ну же! Скорее! В этот момент дверь с кухни открылась – и оттуда выбежал толстый, пожилой уже мужчина с кастрюлей в руках. Он в несколько шагов оказался рядом с медведем и окатил его из кастрюли чем-то, кажется кипящим. Медведь метнулся в сторону, упал на пол и забился, словно гигантская крыса, расцарапывая обожженную морду, затем поднялся на задние лапы, уцепился передними за люстру, сорвал ее с потолка и принялся топтать с той же ненавистью, что и стрелявшего в него кавказца за минуту до этого. Повар отступил, выронил кастрюлю, еле слышно вскрикнув (только сейчас Лариса поняла, что в кастрюле был куриный суп), – и тогда медведь увидел его. Он рванулся вперед и сбил повара с ног, с разгону выломав дверь на кухню и врезавшись там во что-то звенящее и железное. Посыпалась посуда, раздался рык, закричала истошно какая-то женщина, но Лариса не обращала на это внимания. Она перемахнула через стойку, задев кассу (та рухнула на пол, раскрылась и обдала ноги мелочью). Лариска подбежала к Мадине, которая тяжело и с надрывом продолжала тащить сестру в сторону туалета. – Давай, давай помогу! – крикнула она и схватила Дианку за вторую руку. – Много крови, – сквозь рыдания сказала Мадина. – Почему крови-то так много? – Не знаю, просто тяни. Когда они общими усилиями дотащили Дианку к двери туалета, к ним подбежал второй кавказец. Лицо его, раньше смуглое, теперь было бледно-серым, а справа от виска до подбородка краснели капли крови. – Куда дверь? – спросил он отрывисто, подскочил и дернул за ручку. – Заперта. Ах ты! Кто там? Кто там?! – И он несколько раз бухнул по двери кулаком. – Открывай, слышишь? Тут люди! Дверь не открывалась. Мадина вновь начала всхлипывать. Лариса посмотрела в сторону зала и увидела длинный кровавый след, который оставила за собой Дианка. – Черт, – сказала она. – Черт, и правда – крови-то как много… – Дай погляжу. – Кавказец присел, отвел налипшие волосы и присмотрелся. – Кожа лопнула. Видать, ножкой разорвало. Череп виден, но не пробит. Надо кровь остановить и промыть. Грязи много налипло. – Ты что, врач? – спросила Лариска. – Я студент. – Кавказец посмотрел на нее снизу вверх, и стало видно, насколько он испуган. – Я на третьем курсе. А там брат мой лежит. Он за меня платил. Он за меня воевал, понимаешь? – Понимаю. – Лариска кивнула на Диану. – Это ее сестра старшая. – Открывайте же! – Мадина выпустила руку сестры, которая безвольно шлепнулась на кафель, и изо всех сил заколотила в дверь с нарисованным на ней писающим мальчиком. – Открой, сволочь! Открой! – Тихо вы там! – зашептали со стороны витрины. – Мы пытаемся до ментов дозвониться! На кухне вновь посыпалась посуда, еле слышно прорычало – и раздались тяжелые шаги. – Нужно на улицу бежать, – сказал кавказец. – Прямо в дверь – и изо всех сил через трассу. Животные по асфальту хуже бегают, чем мы. – А пистолет? – тоже шепотом спросила Лариска. – У твоего брата пистолет ведь был? – Травмат галимый, – с обидой сказал кавказец. – Ты же видела. Ни хера он ему не сделал. Был бы настоящий ствол – положил бы на месте. Мой брат знаешь как стреляет! – Кто там? – раздалось из-за двери туалета. – Что вам от меня надо? – Это тот дедушка. – Кавказец подошел к двери, отодвинул плечом Мадину и аккуратно постучал. – Дедушка, откройте, пожалуйста, мы медведя пугаемся. – Какого медведя? – спросил испуганный старческий голос из-за двери. – Оставьте меня в покое, я милицию вызвал! – Открой, нас тут едят! – Мадина вновь ударила по двери кулаком, но кавказец перехватил ее руку. – Скажи ему, чтобы он открыл! – Уходите отсюда, – строго сказали из-за двери. – Я вас не боюсь! У меня сын в Афганистане майором служил! – При чем тут Афганистан? – Мадина посмотрела на кавказца. – Он не откроет, слышишь? Он акцент слышит и чуркам не откроет! Лариска! – она повернулась к девушке и сложила руки перед собой, – Лариска, попроси ты его, может, он… – Тут она замерла, широко открыв рот и уставившись куда-то за плечо Ларисы. Уже зная, что увидит, Лариса обернулась. Он стоял в проходе на кухню, вытащив морду из-за железной витрины и тяжело сопя. Сейчас он уже не казался таким огромным, но выглядел не менее страшно. Шерсть на морде свалялась от грязи и крови, глубоко запавшие глаза часто моргали. В наступившей тишине было слышно, как где-то в глубинах здания с грохотом льется вода. Снаружи громко засигналили – и все вздрогнули. Все – кроме медведя. – Э-эй! – заорал кто-то от двери. – Вы чего там устроили? Что это за херня? – Андрест, – сказал охранник из-за витрины. – Это Андрест, что ли? Чего он здесь делает? – Это я его вызвала, – громко зашептала кассирша. – Надо его как-то предупредить… Медведь тем временем неспешно пошел по залу, вступил в лужу крови – и стал ее с удовольствием слизывать. Вновь загудел автомобиль – но он даже не сдвинулся. – Он глухой, – сказал кавказец. – Смотрите, не реагирует вообще никак. Вот почему он здесь. Другие медведи трассы боятся, а этот пришел. – Шатун, – сказала Лариска, сглотнув. – Он шатун. Вылез от голода. Видать, осенью не нажрался, а сейчас думает, что весна уже. Медведь, слизав кровь, прошел чуть дальше – туда, где лежал мертвый кавказец, – и стал его громко обнюхивать. Стоящий позади брат погибшего громко, отчаянно выругался. Ноль реакции. – Надо выбираться, – сказал он. – Сначала за прилавок, к этим, а потом уже – к двери. Только быстрее. Здесь тупик, он нас всех разорвет. – Помоги с Дианой, – сказала Лариса, наклоняясь. – Нельзя ее бросать. – И меня тоже не бросайте. – Мадину била крупная дрожь. – Я собак очень боюсь. А это еще хуже. – Давай ее на плечи. – Кавказец присел, закинул безвольную бледную руку себе на плечо. Лариска с другой стороны сделала то же самое. Теперь голова Дианки висела покачиваясь в воздухе, а тяжелые от крови волосы рисовали на кафеле причудливые узоры. – Тащим туда, где касса. Ее сначала переваливаем, потом сами, понятно говорю? – Понятно. Давай быстрее. Страшно до усрачки! Они двинулись к прилавку, мелко переступая ногами, и окровавленные волосы Дианы с громким влажным звуком отделились от кафеля, поползли вперед, обновляя кровавый след. Мадина, тяжело дыша, шла за ними след в след. В зале горело всего две люстры – в дальнем углу у телевизора и над кассой – центральная же валялась на одном из перевернутых столов. Звук текущей воды был все громче. – Я ментов вызвал, понятно? – заорал с улицы неведомый Андрест. – Они приедут и вас, чурок, покрошат! – Он думает, это налет, – сказал кавказец, тяжело дыша. – Шакал тупорылый. – Быстрее, у меня спина уже. – Лариса почувствовала, как пот заливает глаза. Очень хотелось обернуться и посмотреть на чавкающего медведя – далеко ли тот, – но она понимала, что не стоит, иначе не выдержит и побежит, бросив Дианку. Почти добравшись до прилавка, они попытались положить раненую туда, где раньше стояла касса, – но в этот момент из-за него поднялась кассирша и выставила ладони. Лариска подумала, что она пытается помочь, и протянула к ней Дианкину руку, но, вместо того, чтобы схватиться за нее, кассирша сильно и по-неприятному отстраненно толкнула Лариску в лицо, поцарапав ей бровь накрашенным ногтем. – Уходите! – громко зашептала она. – Не видите, что мы здесь? – Чего? – Лариска посмотрела на нее часто моргая, стараясь смахнуть пот с ресниц. – В смысле – вы? – Идите отсюда! Вас здесь не нужно! Ты его, сука, и привела сюда. Иди на улицу. – Так медведь же у двери, – Лариса тоже начала шептать. – Тебе чего, жалко? – Не пущу. – Кассирша вновь попыталась их оттолкнуть, на этот раз – упершись руками в окровавленные плечи Дианы. – Он по крови пойдет – и сюда перелезет. – А мы тогда как раз с другой стороны выйдем – и к двери или через кухню! – На кухне выход в овраг, там потом карабкаться. Идите в туалет! – Там заперто! Ну же! – Вы что, не поняли? – Мадина оказалась рядом, с ненавистью глядя на кассиршу. – Эта сука по нам еще раньше все решила. Она же Андреста этого вызвала, чтоб нас похерил! – А ты чего молчишь? – повернулась кассирша куда-то вниз. – Тебя зачем здесь поставили? Иди помогай мне! – А пошла-ка ты в жопу, – раздался из-под стойки голос охранника. – Пусти уже людей. – Вот ты чмошник. – Кассирша двинула ногой под стойкой, раздался глухой удар. – Подымайся и прогони их! Ну? Пускай в туалет идут! – уже громче крикнула она. – А сюда нельзя! – Позволь-ка. – Кавказец перехватил Диану другой рукой, вытер рукавом пот со лба, затем вытянул руку, схватил кассиршу за волосы и со всей силы ударил ее лицом о прилавок. Та отступила назад, прижала ладони к окровавленным передним зубам – и врезалась спиной в полки с бутылками, которые тут же посыпались на пол. Запахло спиртным. Кавказец не удержал другой рукой Диану – и та тоже ударилась головой о прилавок. Чертыхнувшись, парень потянул ее за руку вверх, обернулся – и вскрикнул. – Он смотрит! Он нас учуял! Быстрее! – Ты чего сделал, урод?! – заорала кассирша, сидя на полу, а затем выплюнула что-то на пухлую ладошку. – Керамику сломал! Ты мне керамику сломал! Лариса из последних сил перевалилась через стойку, не выпуская Диану, – и все трое повалились на битое стекло, пахнущее водкой и сгущенкой. Мадина, крича, перемахнула прямо через стеклянную витрину, зацепившись ногой за поднос со вторыми блюдами, – и те тоже посыпались на измазанный ликерами пол. – По ходу, надо тикать, – сказал охранник, водя по сторонам запавшими глазами. – Мы все здесь, скоро и он придет… Лариса уперлась ладонью в пол, поморщившись, когда осколки впились в кожу, посмотрела вверх – и сердце ударилось прямо в горло. Он вырастал над прилавком, поднимаясь во весь свой рост, демонстрируя шерсть на груди, в которой копошились какие-то насекомые. Положив лапы на стойку, медведь вытянул шею и попытался уцепить кавказца за ногу, но тот пнул его в морду – и, перебирая плечами, отполз в сторону кухни. Охранник уже достиг на четвереньках противоположного конца прохода и сейчас, кажется, подумывал, в какую сторону бежать. Мадина сняла бутылку какой-то дешевой водки, размахнулась и швырнула в медведя, но промахнулась, и водка разбилась где-то в зале. – С вами говорит дорожная полиция! – раздался с улицы механический мегафонный голос. – Старший лейтенант Николай Романов. Выходите по одному! Нет нужды проливать кровь! – Здесь медведь! – заорала во весь голос Мадина. – Здесь медведь, придурки! Медведь тем временем попытался подцепить за ногу кассиршу, и та, завизжав, начала брыкаться. Медведь не обращал на ее удары особого внимания, лишь кривил чёрно-розовую пенящуюся пасть. На лежащих Ларису с Дианой он не реагировал – видимо, потому, что те не шевелились. Лариса, почувствовав под бедром что-то круглое, впившееся в кожу, сунула туда ладонь – и нащупала в кармане куртки что-то твердое. – Баллончик, – поняла она и, перевернувшись, попыталась его достать. Медведь тем временем подцепил наконец кассиршу за ногу, до хруста сжал ступню – и потянул на себя. – Убейте его! – заорала женщина, непонятно к кому обращаясь. – Застрелите его сейчас же! С улицы послышались выстрелы, треснул разбитый плинтус, отскочил от двери – и длинной лучиной повалился на пол, загремев по кафелю. Вместе с ним упал и охранник, пытавшийся незаметно выбраться на улицу. – Черт, ты посмотри, – сказал он удивленно. – Он мне в живот выстрелил. – Убейте его-о-о, – орала кассирша, которую медведь старался вытянуть из-за прилавка за ногу. Она вцепилась пальцами в полку на стене, с которой сыпались оставшиеся бутылки, и кричала прямо в потолок: – Стреляйте кто-нибудь! – Отпустите заложников! – крикнул кто-то в мегафон уже не таким уверенным голосом. – Спецназ уже на месте! – На каком, вашу мать, месте! – заорала Мадина, перекрывая вой кассирши, схватила две бутылки – «Ольмеку» и «Джим Бим» – и швырнула в зверя, на этот раз попав ему в плечо и живот. Одна из бутылок соскользнула вниз, ударила Лариску по лбу и грохнулась на пол, обдав осколками с запахом меда. – Тут медведь, драть вас в рот! Живой медведь! Он нас жрет! Медведь выпустил кассиршу, повернулся в сторону Ларисы, наконец заметил ее и облизнулся. Вспомнился почему-то Вадим Сергеевич, как она слушала его на кухне у баб Светы, и мороженое из «Макдональдса», которое за это время успело растаять и запачкало рукав. Учитель тогда рассмеялся, наклонился – и лизнул ее палец. Это было самое интимное, что случилось с ней за всю жизнь. Самое лучшее, что произошло наяву. Лариска подняла руку с баллончиком, нацелила его в глаза медведю и попыталась нажать на клапан. У нее ничего не вышло. Видимо, новый баллончик требовалось предварительно «сломать», как какой-нибудь лак для волос или взбитые сливки, а может, спуск был слишком жесткий. Лариса скользкими от крови пальцами пыталась вдавить чертову кнопку – но безрезультатно. В следующий момент медведь наклонился и аккуратно, практически нежно накрыл пастью всю ее правую руку по локоть. Лариса успела всхлипнуть – и тут же весь ее мир покрылся белыми пятнами, будто пересвеченная фотография. Она почувствовала, как тупые зубы, по ощущениям напоминающие кусачки, раскалывают ногти на пальцах и сжимают запястье, отозвавшееся тихим треском. Потом зубы достигли баллончика – и тот с отчетливым глухим хлопком лопнул. Медведь дернулся, качнулся назад, заставив Лариску подняться на ноги, и раскрыл пасть, выпуская искалеченную руку. Девушка вновь шлепнулась на пол и молча поползла назад, слишком испуганная и оглушенная болью, чтобы понять, что ее ноги прижаты лежащей без сознания Дианой и она просто дергает плечами, лежа на полу. Медведь ударил лапами по стойке, раскрыл рот, и оттуда полилась пена вперемешку с пузырящейся кровью. Он зарычал – дико и грозно – так громко, что Лариска на мгновение оглохла, а визжавшая рядом кассирша опомнилась и поползла от медведя на коленях прямо по окровавленной Диане, цепляясь пальцами за Ларискину одежду. Медведь вдруг рыгнул, наклонил пасть и вывалил на спину кассирши что-то красно-желтое и безумно вонючее, после чего подцепил зубами волосы кассирши и потянул наверх. Та вцепилась Ларисе в лицо – одной рукой в районе подбородка, другой – возле уха, раздирая ногтями кожу на виске, и тогда Лариса нащупала на полу отбитое бутылочное горлышко, подняла руку – и почти механическим движением вставила «розочку» ей в щеку, не размышляя и не понимая, что делает. Кассирша всхлипнула, взялась за торчащую пробку и почему-то попыталась ее открутить, но так и скрылась за прилавком, напоследок двинув Ларисе по голове дергающимися в воздухе ступнями в розовых кедах. Шлепнулось на кафель тяжелое тело – и медведь тут же принялся драть его когтями. Потом перестал, и его вновь вырвало. Слышно было, как кассирша дышит – тяжело и хрипло, будто через порванный брезент. Затем медведь покашлял, фыркнул и снова принялся рвать ее тело. Лариса соскребла что-то со своей щеки и увидела, что это палец. Наверное, Горилкин. Присмотрелась – нет, ее собственный. Тогда засунула палец в карман. Прижимая к груди разорванную руку, выползла из-под неподвижной Дианки. С трудом поднялась на ноги – и не спеша побрела к другому концу витрины, откуда ей махали кавказец с Мадиной. В раскрытую дверь заглянул человек в форме, что-то выкрикнул, потом выматерился и прицелился. Бахнуло. Еще раз. Посыпались стекла витрины, медведь опять взревел и стал подниматься на задние лапы, пытаясь развернуться в узком пространстве у кассы. Лариса с отстраненным интересом посмотрела в его сторону и увидела горбатую спину, трясущуюся от судорог ярости, словно холодец из плесени и шерсти. Затем бахнуло еще раз, что-то громко лопнуло, и во всем кафе погас свет. Лариска замерла. – Вот говно, – раздался слабый голос охранника от двери. – Ты в щиток шмальнул, по ходу. – А где он был? – спросил неуверенный голос, который, как не сразу поняла Лариска, принадлежал дорожному лейтенанту Николаю Романову. – Я вроде ему в спину палил. А вы давайте на выход! Лариска опустилась на колени, проползла под стойкой – и тут у двери закричали. Она не удивилась, а просто поднялась на ноги и повернула от криков в темную кухню. – Выходим! – орал где-то кавказец. – Давай, держи меня за руку! – Не бросай! Не бросай! – кричала Мадина. – Ах ты ж вымя собачье! – воскликнул дорожный лейтенант уже испуганно, и вновь выстрелил, потом еще раз. – Меня тоже! – кричал охранник. – У меня живот! Не могу! Дорожный лейтенант завопил, теперь уже от боли – и бахнуло снова, а потом загремело, зарычало, что-то упало на кафель, и все звуки растворились в необычайно резком, невероятно громком шипении. Лариска остановилась и обернулась, настолько ее поразил этот звук. В выломанную кухонную дверь с шипением проникало белое облако, оседало на стенах дрожащими лохмотьями в неверном свете, сочащемся из дыры в стене да исходившем от дежурных лампочек на блестящей в полутьме технике. – Огнетушитель уронили, – сказала Лариска с осуждением в голосе, а потом отвернулась – и побрела дальше. Переступив через разорванное тело, лежащее лицом вниз, посмотрела в сторону – и встретилась глазами с женщиной, забившейся под раковину, из которой ей прямо на голову хлестала и хлестала вода. – Умно, – сказала с одобрением Лариска. – Не высовывайтесь, когда он сюда зайдет. Может, и во второй раз не заметит. – Где? – спросила женщина с сильным среднеазиатским акцентом и посмотрела в сторону оседающего облака. – Где он сейчас? – За мной идет, – уверенно сказала Лариска и, обернувшись, ткнула окровавленной рукой в сторону двери, в которой как раз показалась раскачивающаяся темная фигура. Она не могла сказать, откуда в ней появилась эта уверенность, но знала, что медведь пришел лично за ней. – Он меня пришел из клетки забрать. Навсегда. – Уходи тогда! Уходи! – Женщина показала рукой в дальний угол кухни. – Там коридор есть, а за ним дверь. Лестница и потом… – Не успею, – сказала Лариска и, обернувшись, шагнула к разбитой стене. Выглянула вниз – и увидела мокрую траву да вывернутые трубы, из которых хлестала исходящая паром вода. Фура лежала на боку, вмяв кабину в мягкую мартовскую грязь, сплющив ее до размеров холодильника. Из окна торчало что-то – то ли ремень безопасности, то ли рука. Услышав позади себя шлепанье лап, Лариска вздохнула – и шагнула вниз. Она ударилась спиной о скользкую землю, выбившую из груди воздух, покатилась вниз, набирая на себя комки грязи, – и остановилась в паре метров от огромных, испачканных в глине колес. Рука горела огнем. Она посмотрела вниз, но теперь не увидела даже крови, все залепила грязь. Лариска встала на ноги и, шатаясь, побрела вниз по склону, придерживаясь здоровой рукой за покрытое ржавчиной днище фуры. Сзади взревел шатун, чихнул несколько раз – и тоже прыгнул. В отличие от Лариски, он не покатился, а медленно, неторопливо сползал вниз по грязи, не отрывая взгляда от добычи. Лариска встретилась с его глазами, обернувшись через плечо, и убедилась, что так и есть: медведь шел за ней – и только за ней.
Лариса отвернулась и пошла дальше – шаг за шагом, метр за метром. Лица коснулось что-то холодное. Подняв глаза, она поняла, что это снег. Где-то позади, на дороге, завыла-закрякала скорая, удаляясь куда-то в сторону Москвы. Куда же еще. Почему-то подумалось, что к ней медики уже опоздали. К ней самой скорая должна была приехать еще тогда, на поле, где она сидела спиной к Вадим Сергеевичу с Наташкой и курила, захлебываясь слезами. А теперь уже поздно. Теперь ее заберет Смоленск, разорвет на куски и зароет в стылую грязь между Гагарином и Жарцево, присыплет снегом, утрамбует фурами, и никто ее больше не найдет – потому что искать некому. Что-то тяжелое ударило в фуру – как раз когда она дошла до кабины. Посмотрев на разбитое водительское стекло, Лариса убедилась, что это и правда ремень торчит. Водителя видно не было, но ремень был испачкан темным. Грязью или кровью? Лариса не могла различить – даже на своей руке не могла, что уж говорить о каком-то ремне. Тьма впереди вдруг ударила в лицо вонью, оскалилась рыком, и на секунду Лариса подумала, что шатун обхитрил ее, что он обошел фуру с другой стороны и затаился за кабиной. Но это оказался не он, а медведица в помятой клетке, которую грузовик оторвал от стены кафе и спустил вниз. Там, где в клетку был вход со стороны кафе, зиялапустота размером с легковушку, но медведица не додумалась выйти. Она стояла на задних лапах у решетки и скалилась в свете разбитой фары грузовика, пытаясь понять, кто к ней идет. – Это я, – сказала Лариса. – Не бойся. Это я. Но я не одна. – Она взялась ладонью за угол клетки, перелезла через кусок вырванного железобетона с торчащей арматурой и шагнула вниз. Тут же поскользнулась, но устояла. Медведица обнюхала ее пальцы и вдруг лизнула их. – Тебя Машка зовут? А меня Лариса. – Теперь открытый угол клетки был совсем рядом, и Лариса, не раздумывая, вошла в нее. Медведица опустилась на четыре лапы и попятилась в угол, не сводя взгляда с девушки. Она привыкла, что с этой стороны заходят люди – но люди, пахнущие по-другому. – Я тут посижу у тебя, хорошо? Недолго. Пока этот не… Медведь, успевший забраться на кусок железобетона, ударил по клетке лапой, и та покачнулась. Он попробовал укусить прутья, но, видимо, они ему не понравились. – Ты уж извини, – сказала Лариса, усаживаясь на дощатый пол, пахнущий дерьмом и соломой, – но одна я помирать не умею. Мне одной страшно очень… Медведь спрыгнул с куска бетона на землю, вразвалочку подошел к открытой части клетки – и засунул голову в клетку. – И чего тебе не спалось-то, тварь? – спросила его Лариска устало. – Кто ж тебя разбудил? Вместо ответа медведь навалился на прутья передними лапами, клетка наклонилась к нему, и Лариса почувствовала, что сползает. Она попыталась схватиться за прутья правой рукой, забыв, что та побывала в пасти у медведя, – и мир вновь превратился в засвеченную фотографию. Скользя на испачканной в глине заднице, девушка скатилась к самому краю клетки, медведь тут же ударил лапой – и лишь поджатые ноги спасли от когтей. Лариса попыталась отползти, но от движения только съехала еще ниже. Медведь открыл пасть и громко зарычал, и Лариска увидела чье-то ухо с сережкой, застрявшее между губой и клыками. «Вот и все, – подумала Лариска. – Вот так оно и произойдет». Мимо метнулась тень, обдало запахом зверя. Медведица, склонив голову к полу, всем телом ударила шатуна, выбив его из клетки, и опрокинула в грязь. Насколько тот был тяжел и нетороплив, настолько Машка была быстра и яростна. Она вцепилась ему в живот – и звери зарычали, катаясь в грязи. Клетка, лишившись их веса, качнулась обратно и замерла, задрав дырявый край к небесам, из которых продолжал сыпаться снег. Лариска больше не видела медведей, только слышала. Со стороны трассы раздались крики, и по клетке мазнули лучи фонарей, сразу несколько, а потом устремились куда-то вниз и вбок, в сторону рычащей животной ярости. Пальнули выстрелы – один, второй, третий. Рычание прекратилось, и Лариска увидела крупную хромающую тень, которая брела в сторону фонарей. Шатун мотал головой и щерился на фонари окровавленной пастью, вся морда его была изорвана в лоскуты – Лариска увидела это, когда медведь отвернулся от бьющих в глаза лучей света и боком пошел на них. Вновь полыхнули вспышки выстрелов – и шатун наконец остановился, уперся головой в грязь, будто пьяный, и завалился на бок. Лариса подползла к краю клетки, выглянула вниз, туда, где сидела испуганная окровавленная медведица с широко открытой розовой пастью. Грудь ее ходила туда-сюда, быстро и часто, как бывает у испуганных кошек. Лапы были все залиты кровью, одну она поджимала к располосованному животу. – Беги, – сказала Лариска отчетливо. – Беги, милая. Вон туда, – она показала на речку в глубине оврага, на лес, на свободу. – Беги. Пожалуйста. Ну не надо, не надо сюда, не надо… – Она заплакала, когда медведица, поднявшись на лапы, попыталась заползти в клетку. Из дырок от когтей на ее животе толчками выбивалась кровь. – Ну что же ты, ну зачем? Ну зачем, ну не надо! – Еще один! У клетки! – заорали сверху, и фонари высветили двоих выживших, прижали их лучами будто тяжелым каблуком. – Это не она! – закричала Лариска. – Это не… – Понизу бей! – раздалось от фуры, и несколько выстрелов слились в один. Они вошли медведице в пузо, торчащее с края клетки – и вышли из спины, вместе с кусками мяса и шерсти. Машка вздохнула и стала сползать вниз, а затем в ужасе от происходящего вцепилась зубами в прутья и повисла, вращая белками глаз и царапая когтями доски. Она не понимала, почему не может просто взять и подтянуться в свою клетку – как раньше, как и всегда. – Милая. – Лариска оказалась рядом, положила здоровую руку ей на морду, провела по грязной окровавленной шерсти. – Милая, ну зачем… ну зачем ты? Ну зачем? Она гладила и гладила ее по голове – и Машка перестала вращать глазами, расслабила лапы, успокоилась и лишь тяжело, громко выпускала пар через нос. Потом она закрыла глаза, выдохнула – и больше не шевелилась. Зубы ее разжались, и медведица выпала наружу, ударившись спиной о грязь, которую уже успело накрыть мелким мартовским снегом. Лариска опустила голову на доски и затряслась всем телом от рыданий. Сквозь веки она видела приближающиеся бледные пятна фонарей, которые, раз на нее попав, так и застывали на ее коже, пачкая ее навсегда. – Девушка! Здесь девушка! С вами все в порядке? – кричали они. – Скажите, чтобы спустили носилки! Вы слышите? Вы здесь работаете? Вы можете выбраться? Слышите? Как вы оказались в клетке? Лариска слышала. Каждый их вопрос. Но не на один не находила ответа…
Из материалов следствия: комментарий эксперта-зоолога Ильинской И. М., доцента кафедры биологических наук РГПУ им. Герцена:
‹…› …после повреждения взрывами части берлоги, контузии и ранения осколками еще около суток находился под землей и вылез лишь на следующий день, с наступлением темноты. Животное полностью оглохло, поэтому его не пугал звук трассы, но все еще тревожил ее запах, однако сильнее его беспокоил запах пороховой гари, от которого оно и двинулось к востоку. Мы предполагаем, что поначалу медведь шел вдоль трассы в сторону Москвы, но затем его привлек запах самки, содержащейся в неволе. Скорее всего, его вело не половое поведение, а банальный голод – такие крупные самцы часто нападают на ослабевших самок с детенышами… ‹…› Медведи – одиночки, и каждая самка борется за жизнь самостоятельно. Но когда самец достиг наконец клетки с самкой, то не смог до нее добраться и переключил внимание на людей. Это типичное поведение шатуна, и, боюсь, учитывая упадок лесного хозяйства Смоленской области, снижение плотности населения и частые «еврозимы», в будущем следует ожидать, что крупные хищники чаще будут появляться возле населенных пунктов, в особенности – недалеко от федеральных трасс, которые являются некими «водоразделами» между охотничьими территориями. Лишь самые оголодавшие и, соответственно, самые опасные животные рискнут их пересекать. Решением данной проблемы могут стать заповедные зоны с буферными переходами, однако недостаток финансирования и общее состояние региона заставляют относиться к этим планам как к несбыточным…
Виктор Глебов Мемуары охотника на крупного зверя
Меня зовут Денис Николаевич Росляков. Возможно, вам знакомо это имя – по крайней мере, если вы увлекаетесь охотой. Вы могли читать такие мои сочинения, как «Охота на африканских буйволов» и «Записки траппера». Говорят, публика неплохо приняла их. Отец мой, граф Росляков, значительно приумножил унаследованное состояние, получив железнодорожные концессии, а также вкладывая средства в сталелитейную промышленность. Он был человеком более прогрессивным, чем идейные прогрессисты того времени, и, возможно, поэтому ему сопутствовал успех. Я и мой старший брат рано потеряли мать. Она умерла, когда мне исполнилось семь лет, от чахотки – как и многие другие. Отец, которого мы видели лишь изредка, нанял нам свиту воспитателей и гувернеров, от которых было много шума и мало пользы. Никто из них не вызывал у меня привязанности – полагаю, из-за того, что я слишком тосковал по матушке и никакой немец или француз не мог ее заменить. С детства я привык убегать в лес и там наблюдать за жизнью животных. Я чурался общества людей независимо от их возраста и социального положения. Куда больший интерес представляли для меня птицы, рыбы и прочая живность. Должно быть, я рос мизантропом. Единственный, кого я выделял среди своего окружения, – Парамошка, кривой от рождения, тощий как жердь мужик, служивший в имении отца лесничим. Именно он научил меня ставить силки и вообще заниматься трапперством. Свои трофеи я относил на кухню, где они поступали в распоряжение повара Игната. Не знаю, что он с ними делал. Судьба попавшихся в мои ловушки животных никогда меня не интересовала. В конце концов отец купил мне охотничье ружье. Изготовленное фабрикой И.Ф. Петрова с ремингтоновской сверловкой и стволами ленточного дамаска, замком укороченного типа и ореховым ложем пистолетного типа, оно лишь немного уступало размерами взрослому образцу, оставаясь при этом его точной копией. Я стрелял белок, зайцев и глухарей. Мог часами гулять по лесу, выслеживая или сидя в засаде. Думаю, уже тогда я развил в себе определенную меткость. К сожалению, мое увлечение охотой не нашло понимания у учителя французского языка, нанятого отцом. Его звали мсье Бюжо, и ему было, наверное, лет тридцать или сорок. Когда тебе четырнадцать, трудно объективно судить о возрасте взрослых. Этот заносчивый француз мнил, будто находится в имении на особом положении, и позволял себе порой драть меня за ухо. Впрочем, это я бы стерпел, но однажды кое-что произошло. Я в очередной раз опоздал на занятие, что по какой-то причине страшно выводило Бюжо из себя. Поэтому, когда я явился на четверть часа позже положенного времени, он подошел ко мне, вопреки обыкновению молча, и секунд десять пристально смотрел мне в глаза – уж не знаю, быть может, ища признаки раскаяния. Затем взял поставленное мною в угол ружье и переломил его ударом об стол. Помню, я был поражен. Хотелось кинуться на Бюжо и придушить там же, в классной комнате. Однако я сдержался. Уроки Парамошки не прошли даром: я умел быть терпеливым. Француз недолго пробыл у нас после этого случая. Он любил по субботам приложиться к вину, и спустя пару недель, спускаясь по лестнице, оступился и полетел кувырком, попутно сломав себе шею. Поскольку я уже вышел из детского возраста, отец не стал искать учителю замену и вскоре отправил меня в полк, где и началась моя военная карьера. Я служил ровно, ничем не выделяясь и плохо сходясь с другими офицерами. Полагаю, они находили мой нрав холодным. Им же казалось, что военный должен быть непременно горяч. Когда началась война, большинство из них поплатились за эти представления. Я же остался жив и даже, служа в артиллерии, был представлен к наградам. Едва получив звание майора (за атаку, предпринятую нашими орудиями и обеспечившую прорыв русских войск), я был досадно ранен и отправлен в госпиталь. Пока врачи занимались моим здоровьем, война закончилась. Отец приобрел для меня небольшой дом в Петербурге, куда я и перебрался. Служба вскоре наскучила мне. Ее однообразие тяготило меня – особенно после опасностей войны. То, что я всегда старался совершать поступки обдуманно, не означает, что я не испытывал острого удовольствия, чувствуя, как смерть проносится мимо. Я все чаще ездил на охоту, предпочитая бить крупного и опасного зверя, в то время как многие мои сослуживцы довольствовались стрельбой по уткам и глухарям да травили лис. Однако я чувствовал, что нуждаюсь в чем-то особенном. В конце концов, поскольку доктор посоветовал мне сменить на время климат и подлечить рану, полученную во время войны с турками, я взял отпуск и отправился в Индию, надеясь не только поправить здоровье, но и усовершенствовать свои навыки охоты на крупного зверя. При мне были три ружья разного калибра (двуствольный штуцер 500-го калибра для охоты на крупного зверя, стойкого к ранам, винтовка 275-го калибра, чтобы стрелять дичь и мелкий рогатый скот, а также винтовка 450-го калибра, из которой можно уложить леопарда, но которую не так тяжело носить, как штуцер, – это становится важно при длительных переходах или если охота затягивается на несколько дней), запас патронов с бездымным порохом, немного личных вещей и крупная сумма денег, которой, по моим расчетам, должно было хватить на полгода – именно столько я намеревался провести в Индии, выслеживая и убивая тигров и леопардов. Мне хотелось привезти домой богатые трофеи и испытать себя. Разумеется, у меня имелся опыт охоты, в том числе на кабанов и медведей, но я был уверен, что отстрел крупных хищников подарит мне совершенно новые ощущения. Добравшись до Индии, я поселился в регионе Гархвал, арендовав небольшой дом у местного фермера-француза. Сам он некогда приехал сюда, имея при себе только ружья, немного денег, справочник Джеймса Ролэнда Ворда «Рекордные трофеи крупных зверей» и страстное желание охотиться на медведей, тигров, леопардов, кабанов и слонов. Спустя пару лет он сколотил небольшое состояние на торговле шкурами, бивнями и так называемыми плавающими костями (последние оправляют в золото и носят в качестве украшений), но не уехал, а остался, продолжая время от времени охотиться и ведя фермерское хозяйство. Надо заметить, что многие европейцы и англичане поступают именно так. Первую неделю в Индии мне пришлось провести в поисках человека, который смог бы стать моим спутником. Необходимо было, чтобы он умел читать следы зверей и хорошо знал местность, а также обладал немалой отвагой, ибо жители Индии живут в постоянном страхе перед джунглями, которые, по их глубоким убеждениям, населены всевозможными злыми духами. Мне повезло, ибо тот, кого я нанял, вскоре стал моим верным спутником. Звали его Амрит, что означает «бессмертный». На вид ему можно было дать лет двадцать пять или тридцать. Амрит не успел обзавестись семьей, что делало его довольно свободным в передвижениях: он мог подолгу отсутствовать в деревне, не причиняя никому неудобства. Мы поладили с ним сразу – в основном потому, что я немного говорил по-английски, хотя, как быстро убедился, произношение мое оставляло в первое время желать лучшего, ведь учился я по книгам, почти не слыша живой речи жителей Британии. Около месяца я провел, выслеживая тигров и леопардов, но похвастаться большим количеством трофеев не мог, ибо животные эти умны и на людей по собственному почину никогда не нападают – за исключением тех, кому пришлось из-за старости или ранения стать людоедом. Иногда причиной тому становятся иглы дикобраза, глубоко вонзающиеся в мышцы зверя и загибающиеся при столкновении с костями почти под прямым углом, что делает их извлечение невозможным. Тигры отгрызают торчащие части, но рана воспаляется и причиняет хищнику ужасную боль. Впрочем, леопарды никогда не страдают от атаки дикобразов, поскольку охотятся иначе. Другой причиной (помимо старости) того, что зверь превращается в людоеда, становятся неудачные выстрелы недобросовестных охотников, которые отказываются от преследования раненого хищника, позволяя ему уйти в джунгли. Индусы не убивают тигров и леопардов. Если хищник не является людоедом, он не представляет для них опасности. Можно спокойно заночевать в джунглях, не опасаясь нападения, – если, конечно, не известно, что поблизости обитает людоед. Последних индийцы также не стремятся убить, поскольку боятся. Обычно тахсилдар (старейшина) деревни, подвергшейся террору хищника-людоеда, просит уездного комиссара или напрямую кого-нибудь из охотников (большая часть из них – европейцы) выследить и убить тигра или леопарда. Спустя три месяца после моего прибытия в Гархвал я уже считался осторожным и удачливым охотником, поскольку сумел добыть несколько шкур, и ко мне пришел тахсилдар Паури, умоляя уничтожить объявившегося в соседней деревне тигра-людоеда, уже убившего и унесшего в джунгли двух жителей – юношу и женщину. Конечно, он наверняка предпочел бы обратиться к другому охотнику, более опытному, но по стечению обстоятельств на тот момент я оказался единственным, кто мог выполнить его просьбу. Тахсилдар просил меня также отыскать хотя бы останки похищенных тигром людей, чтобы родственники несчастных могли похоронить их. Дело в том, что индусы предают умерших сожжению и следуют своим обычаям неукоснительно, стараясь всегда исполнить свой долг перед соплеменниками. Я никогда прежде не выслеживал тигров-людоедов и понимал, что подвергнусь большой опасности, преследуя зверя, пристрастившегося к человеческому мясу. Тем не менее мне казалось, что уничтожить его будет особенным приключением – не говоря уж о необходимости избавить жителей деревни от нападений хищника. Впрочем, не кривя душой, могу сказать, что это последнее мало заботило меня. Я охотился ради острых ощущений, а не ради чьего-то блага. Не знаю, может ли что-либо сравниться с тем особенным чувством, которое испытывает человек, идущий «челноком» по следу опасного и сильного зверя, зная, что тот, несмотря на все принимаемые предосторожности, способен обнаружить его приближение заранее и поджидать, выбирая момент для нападения. В общем, судьба преподнесла мне возможность добыть необычный трофей, и я решил воспользоваться случаем. Быстро собравшись, я нанял пятерых носильщиков из числа местных и пригласил Амрита сопровождать меня. Он согласился без колебаний, хотя понимал: охотиться на тигра-людоеда – смертельно опасная забава, поскольку нас хищник будет воспринимать как добычу. Я приобрел двух молодых буйволов, чтобы использовать их в качестве приманки, и утром мы отправились под предводительством крестьянина, выделенного нам тахсилдаром Паури, в деревню Бехор-Гай, где безобразничал тигр-людоед. Дорога заняла почти весь день, и на место мы прибыли только к десяти вечера, когда уже стемнело, так что пришлось даже зажечь факелы. К нашему удивлению, нас никто не встретил. Если точнее, деревня казалась пустой: на улицах не было ни единой живой души, а из домов не доносились голоса жителей. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь треском горящей смолы на наших факелах да звуками джунглей, в которых пробуждались ночные звери. Наш провожатый высказал предположение, что люди попрятались с наступлением темноты, опасаясь, что тигр войдет в деревню, привлеченный возможностью поохотиться. В Индии подобные случаи не редки. Однако вскоре, заглянув в несколько хижин, мы убедились, что жители покинули свои дома и скрылись, бросив вещи без присмотра. Скот они, правда, оставили, и несчастные животные стали добычей каких-то хищников: в загонах мы обнаружили немногочисленные окровавленные останки. Вероятно, их наличием объяснялся крайне неприятный запах разложения, витавший над деревней. Что могло заставить крестьян столь спешно покинуть Бехор-Гай, я не представлял. Едва ли страх перед тигром, поскольку они, конечно, знали, что к ним будет вызван охотник. Амрит возмутился, что нам не оказали достойной встречи, и предложил немедленно вернуться к Паури. Однако было уже поздно, а путешествовать в темноте, когда поблизости бродит хищник-людоед, – самое настоящее безрассудство. Кроме того, я не собирался отказываться от намерения застрелить тигра. Загнав буйволов в большую крытую хижину, мы с Амритом устроились на ночлег в соседней, а пятеро носильщиков заняли отдельный дом. Поскольку ночью было очень жарко и душно, Амрит выкопал поблизости куст колючки и врыл его на пороге. Таким образом мы были избавлены от необходимости закрывать дверь и в то же время защищены от нападения хищников. Съев легкий ужин и выпив для укрепления сил молока, запас которого я предусмотрительно взял с собой, мы легли отдыхать. Правительственные правила запрещают охоту в ночное время, поскольку в темноте можно попасть в человека, перепутав его с животным. Но даже если бы данного ограничения не существовало, я не стал бы ждать тигра: во-первых, без достаточного освещения можно самому стать добычей людоеда, а во-вторых, едва ли тигр явится в деревню впотьмах, зная, что может спокойно напасть на одного из ее жителей днем, когда крестьяне вынуждены выходить и рвать листья для скота (я подумал, что едва ли зверь успел заметить, что деревня покинута, ведь обычно сытый хищник уходит довольно далеко, чтобы спокойно сожрать добычу). Утром я намеревался привязать в окрестностях деревни одного из буйволов и устроить над ним засидку, или, как называют это местные, махан – небольшую площадку в ветвях дерева, откуда можно вести стрельбу. Вообще я не люблю охотиться с засидки, потому что при стрельбе сверху легко промахнуться: пуля часто дает перелет. Но иного выхода у меня не было, ведь жители покинули деревню и некому было указать мне места, где нападал тигр. Таким образом, я был лишен возможности выследить его. Чтобы застрелить людоеда, оставалось лишь дожидаться, когда он польстится на буйвола. Это, конечно, было не совсем то, на что я рассчитывал, отправляясь в Бехор-Гай, но другого способа встретиться с тигром не существовало. Ночь прошла спокойно. Лишь один раз я проснулся, встревоженный странными звуками. Они доносились с окраины деревни и не походили на рычание тигра, но, несомненно, издавались живым существом. Разбудив Амрита, я попросил его прислушаться и сказать, какой обитатель джунглей приблизился к Бехор-Гай, но мой сопровождающий не сумел ответить. На высказанное мной предположение, что это гималайский медведь, он лишь покачал головой. Мне показалось, что Амрит, хорошо знавший голоса животных, был удивлен и потому обеспокоен. Мы снова легли и проспали до рассвета. Позавтракав, я подозвал Амрита и отправился с ним в направлении, откуда ночью доносились странные звуки. Пришлось искать не менее получаса, прежде чем следопыт обнаружил место, где была примята трава, а на карпале имелись глубокие следы широко расставленных когтей. Поскольку я знал, что красными и сладкими плодами этого дерева любят лакомиться медведи, то решил, что Амрит ошибся и ночью вокруг деревни бродил именно этот хищник. Должно быть, провожатый угадал мои мысли, потому что взялся доказывать, будто медведь не мог оставить эти следы. Он указывал на слишком большое расстояние между когтями и на то, что животное не пыталось забраться по стволу дерева, чтобы полакомиться плодами, которые остались нетронутыми – как и нижние ветки. Так или иначе, надо было устраивать ловушку для тигра, и мы вернулись к хижинам, где оставили буйволов. Я взял одного из них и отвел на небольшое расстояние от Бехор-Гай, где и привязал к дереву. Сам же при помощи носильщиков устроил на стоявшем поодаль баньяне засидку из досок и веревок. Индусы вернулись в деревню ждать меня. Амрит отправился с ними: он был не нужен при охоте с махана, ведь мне требовалось лишь произвести меткий выстрел, когда тигр подойдет к буйволу. Со мной была фляга, наполненная водой, и немного сушеных фруктов, так что я приготовился ждать, сколько потребуется. Ветерок относил мой запах прочь от приманки, и хищник не мог меня учуять. Я надеялся, что направление ветра не переменится. Охоту с засидки (ее еще называют у нас лабазом) я нахожу не только неспортивной, но и невыносимо скучной. Мне не хватает терпения, а от неподвижности тело начинает ныть уже спустя пару часов, а то и раньше. Но спуститься и размяться нельзя, поскольку всегда остается вероятность, что тигр уже подобрался к приманке и залег в зарослях неподалеку, выжидая и наблюдая. Эти осторожные животные всегда проводят разведку местности, прежде чем напасть. Я сидел на дереве больше двух часов, когда услышал донесшийся из деревни крик. Явно человеческий. Никто, кроме Амрита и пятерых носильщиков, там кричать не мог. Поколебавшись, я решил спуститься и выяснить, в чем дело: вдруг тигр напал на моих спутников, вместо того чтобы атаковать привязанного буйвола? Мне понадобилось минут десять, чтобы добраться до Бехор-Гай. Я прибежал бы быстрее, но нужно было внимательно смотреть по сторонам, чтобы не стать жертвой хищника-людоеда. Амрита и остальных индусов я обнаружил в хижине. Они заперлись и впустили меня, только когда убедились, что это действительно я. Все шестеро были смертельно напуганы. Оказалось, что один из них, несмотря на мой запрет разгуливать по деревне, отправился на окраину Бехор-Гай, где заприметил накануне храм. Он хотел помолиться о счастливой охоте для меня и удачном возвращении для всего нашего маленького отряда. Намерение, безусловно, похвальное, хоть я и предпочел бы, чтобы мои спутники следовали указаниям неукоснительно. Амрит взялся переводить рассказ своего соплеменника, и вот что я узнал: когда юноша добрался до храма, то обнаружил, что двери заперты. Это показалось ему странным, тем более что снаружи не было никакого замка. Решив выяснить, в чем дело, он вскарабкался по стене и заглянул в одно из окошек. Тут рассказчика затрясло, а остальные индусы, уже слышавшие его историю до моего прихода, разволновались. Послышались возгласы. Понадобилось несколько минут, чтобы привести их в чувство и носильщик мог продолжить говорить. Молодой индус (звали его Ванада) утверждал, что внутри храма полно растерзанных хищником трупов. «Не знаю, сколько там мертвецов, – сказал он. – Думаю, жители Бехор-Гай спрятались там от напавшего на деревню тигра, заперлись и ждали, пока зверь уйдет. Но людоеду удалось забраться внутрь, и они оказались в ловушке». Мысль Ванады показалась мне нелепой. Хищник хватает одного человека и уносит, чтобы съесть. Он не устраивает резню, как хорек в курятнике. Оставив двоих юношей сторожить буйвола, я с Амритом и тремя носильщиками отправился на окраину деревни, где располагался храм. Пока мы шли, омерзительный запах, буквально пропитавший деревню, все усиливался. Когда мы добрались до относительно небольшого строения, явно возведенного силами местных жителей, оказалось, что вокруг него с жужжанием вьются тысячи насекомых. Как и сказал Ванада, дверь была заперта изнутри. Индусы сломали ее, нанося удары крупными камнями. Когда дверь распахнулась, наружу хлынула такая волна смрада, что одного юношу мгновенно вырвало. Я больше не сомневался в правдивости рассказа молодого индуса. Мне хорошо был знаком запах смерти и разложения. Не думаю, что его можно спутать с каким-либо иным. Никто из моих спутников не решился войти в храм. Стараясь не дышать, я заглянул туда. Света было мало, но его вполне хватило, чтобы разглядеть сваленные горой останки – по большей части обглоданные кости. Сделав шаг, я едва не наступил на оторванную кисть, у которой не хватало двух пальцев. Борясь с отвращением, я рассматривал эту груду смердящих костей. Некоторые были совсем маленькие – детские. Кто бы ни убил всех этих людей, он постарался съесть все мясо, оставив лишь несколько кусков и часть внутренних органов. Пол храма покрывала корка запекшейся крови, она же виднелась на стенах. Не в силах больше выносить смрад, я вышел на воздух. Индусы встретили меня молчанием. Они были напуганы и держались вместе, словно опасались нападения хищника, устроившего бойню в храме. Признаться, хоть я и повидал на войне многое, мой желудок готов был взбунтоваться и я едва сдерживался. Мне понадобилось полминуты, чтобы заговорить. – Здесь не меньше трех десятков человек, – объявил я. – Полагаю, все жители деревни. Видимо, они действительно спрятались и заперлись, но им это не помогло. Амрит и остальные покивали, не зная, что ответить. Они озирались и дрожали от ужаса и явно больше всего хотели убраться подальше от места резни. – Останки свалены в центре, – продолжал я. – Кто-то сложил их. Уж, конечно, не тигр. Кроме того, подобное количество мяса не в состоянии пожрать зараз ни один хищник. Думаю, животных было несколько, и в храм они пробрались через окна. Мне хотелось осмотреть кости более внимательно – изучить следы, оставленные на них зубами и когтями зверя. – Мы должны сжечь останки, – сказал Амрит спустя минуту. – Ни в коем случае, – отозвался я. – Сначала их должны увидеть представители власти. Возможно, убийства совершены вовсе не животным. Индусы переглянулись. – Тогда это злые духи, – сказал Ванада. – В джунглях полно демонов, охочих до человеческой плоти. У меня не было никакого желания выслушивать местные суеверия, поэтому я отправил своих спутников к нашим хижинам. Амрит не хотел оставлять меня, опасаясь, что и я стану добычей злых духов, поэтому пришлось послать его отвязать буйвола; я знал, что он достаточно опытен, чтобы не оказаться в лапах тигра, если тот вдруг появится. Оставшись один, я снова вошел в храм и вынес оттуда несколько начисто обглоданных костей с явно видневшимися отпечатками зубов. Тщательно изучив их, я окончательно пришел к убеждению, что к смертям жителей деревни не был причастен ни тигр, ни леопард. Зверь, уничтоживший их, имел совершенно иное строение челюстей: его треугольные зубы были почти одного размера, а их ряды шли куда ближе друг к другу, чем у кошачьих. Собственно, я бы предположил, что в храме побывал крокодил, если бы это не было совершенно исключено. Сравнив же следы на разных останках, я убедился, что в резне приняли участие по меньшей мере три особи. Мне не было известно животное, обитающее в Индии и способное устроить подобную бойню. Испытывая радостное возбуждение (а что чувствовали бы вы, узнав о существовании зверя, о котором никогда прежде не слышали?), я отправился к хижинам, где меня должны были дожидаться носильщики. Нам следовало немедленно вернуться в Паури и доложить о происшествии властям. Я рассчитывал, что англичане захотят устроить большую охоту на неведомых хищников, в которой я смогу принять участие. Однако Амрит встретил меня неожиданной новостью: буйвол, за которым я послал его, оказался убит тигром. Хищник полакомился мясом и, наевшись, ушел. Все это случилось, пока мы ходили к храму. Это заставило меня изменить намерение тотчас же вернуться в Паури. Я был уверен, что зверь вернется к туше, когда проголодается, и потому намеревался забраться с ружьем на махан и подождать его. В конце концов, убитым помочь было уже нельзя, а тигра-людоеда, ради которого было затеяно все дело, я так и не убил. Теперь же мне представлялась такая возможность. Индусы, которые были убеждены, что мы покидаем пустую деревню, побледнели, узнав о моем желании продолжать охоту. Должен сказать, что заметить бледность на их смуглых лицах совсем не просто, так что вы сами можете судить о степени страха, который они испытывали. Я оставил их в деревне, заверив, что утром мы отправимся в Паури независимо от того, удастся мне подстрелить тигра или нет. Прежде всего следовало выяснить, с каким зверем я имею дело. Для этого я тщательно осмотрел тушу задранного буйвола и землю вокруг. Следы тигра были крупными, но не слишком глубокими. Это означало, что хищник уже стар и, вероятно, стал людоедом, не имея сил охотиться на оленей и другую привычную пищу. Подушечки его лап стоптались, стали плоскими и оставляли едва различимые отпечатки. Один коготь на передней левой лапе был обломан. Сидя на махане, я приготовился к долгому ожиданию. Надо заметить, что охота с дерева – это не праздное времяпрепровождение. Необходимо постоянно вглядываться в джунгли и быть готовым в любое мгновение взять зверя на прицел. При мне были тяжелый штуцер 500-го калибра и патроны с бездымным порохом. Из такого оружия можно уложить крупного хищника с одного удачного выстрела. Я предпочитаю целиться под глаз, но такая возможность есть не всегда. Тогда я обычно посылаю пулю в грудь или горло. Спустя час я обратил внимание, что поблизости практически не видно и не слышно птиц, замбаров, каркеров, кабанов и читалов – обычных обитателей джунглей, которых можно встретить довольно часто. Мне вспомнилось, что и утром я почти не слышал звуков, издаваемых животными. Местность словно опустела. Можно было подумать, что животные покинули ее. Виной тому не мог быть тигр-людоед. Значит, дело в неведомых тварях, напавших на жителей Бехор-Гай. Я стал размышлять, почему крестьяне укрылись в храме, бросив свои хижины. Когда днем или ночью появились некие хищники, так напугавшие все население деревни, люди должны были спрятаться в домах. Вот если бы животные предприняли увенчавшиеся успехом попытки разрушить хижины… Но, находясь в Бехор-Гай, я не заметил признаков подобного поведения зверей. Значит, крестьяне собрались в храме по какой-то другой причине. Вероятнее всего, на молитву. Либо хищники застали их там днем и люди заперлись, либо они отправились туда вечером попросить богов избавить их от напасти (звери могли появиться в деревне с наступлением сумерек и затем уйти), но оказались в ловушке, когда животные вернулись. Полагаю, выяснить правду уже не удастся – эту тайну джунгли будут хранить вечно. Так я размышлял, поджидая тигра. Он появился только к семи часам. Это был огромный зверь, по оттенку шкуры которого сразу можно было сказать, что тигр прожил достаточно долго. Полагаю, хищник некоторое время находился в зарослях, прежде чем показаться. Осматривая тушу буйвола, я не прикасался ни к чему, чтобы не оставить свой запах, который мог бы насторожить зверя. Двигаться следовало крайне осторожно. Кажется, в ветвях баньяна не было птиц, которые могли бы вспорхнуть и выдать мое присутствие, но и неловкого жеста порой достаточно, чтобы тигр заметил охотника и скрылся. Особенно если у животного имеется опыт (например, когда в него уже стреляли из ветвей). Такой старый зверь, как тот, что был передо мной, вполне мог подвергаться подобной атаке и запомнить, откуда ждать опасности. Это был во всех отношениях прекрасный, очень крупный экземпляр, который занял бы почетное место в моей коллекции трофеев. Я нисколько не пожалел, что остался и встретился с ним. Пусть застрелить его с засидки и казалось мне не слишком спортивным, шкура этого людоеда стоила потраченного времени. Как только тигр появился, я начал плавно поднимать ружье. Дождавшись, когда он повернется, открыв грудь, я нажал на спусковой крючок. Пуля вошла хищнику в грудь и сразила наповал. Дело было сделано. Я не испытал особого удовлетворения – разве что оттого, что выполнил просьбу тахсилдара. Впрочем, смерть тигра уже не могла спасти жителей Бехор-Гай. Судьба настигла их в образе иного, более страшного существа. Спустившись с дерева, я подошел к поверженному животному и рассмотрел его. Мне было интересно, почему он стал людоедом. Вскоре стало ясно, что, помимо старости, имелась и другая причина: в плече тигра засела пуля и рана не заживала, причиняя хищнику боль и не давая охотиться на резвых оленей. Прежде чем снимать шкуру, я измерил тигра. Для этого пришлось растянуть его по земле и воткнуть колышки у морды и конца хвоста. Я всегда пользуюсь этим способом, именуемым англичанами «между колышками», поскольку считаю его более точным, чем так называемый «по кривой», когда замер производят по спине зверя – от носа до кончика хвоста. Тигр оказался длиной десять футов и пять дюймов. Покончив с этим, я аккуратно снял шкуру и, скатав ее, отправился в деревню. Мокрая шкура такого крупного зверя весит немало, так что я был рад, что хищника удалось прикончить недалеко от Бехор-Гай. Добравшись до наших хижин, я обнаружил, что все вещи и второй буйвол на месте, а вот носильщиков и след простыл. Был только Амрит, совершенно расстроенный. Он сообщил, что носильщики решили вернуться в Паури не дожидаясь темноты. Они ушли почти сразу после того, как я занял позицию на дереве, а следопыт не решился прийти и сообщить мне об этом, опасаясь выдать мое присутствие тигру в случае, если тот окажется неподалеку. Впрочем, думаю, что Амрит просто побоялся покинуть хижину, разделяя суеверия своих соплеменников и не меньше них допуская существование злых духов, устроивших резню в храме. – Я умолял этих трусов остаться и дождаться вас, – сказал Амрит сокрушенно. – Но они и слушать не желали. Словно обезумели от страха. Всё твердили, что в храме были злые духи-людоеды. Я видел, как разочарован мой верный спутник. Он очень гордился дружбой со мной и полагал, что пользуется авторитетом у своих соплеменников. Последние события развеяли его заблуждения словно дым. Отправиться вслед за сбежавшими носильщиками мы не могли: было уже слишком поздно. Поэтому я занялся выделкой шкуры. Процесс этот требует опыта и твердой руки. Стоит недоскоблить в одном месте, и оставшееся мясо начнет гнить, в результате чего появится дыра и трофей будет испорчен. С другой стороны, если перестараться, можно порезать шкуру. Впрочем, это не так страшно, поскольку разрез можно зашить. Я натер шкуру солью, которую прихватил с собой, отправляясь в путь, и присоединился к Амриту, сидевшему возле костра и готовившему ужин. Сумерки мы встретили в оранжевых отсветах пламени. В джунглях по-прежнему было неестественно тихо. Мы прислушивались, но до нас не доносились ни крики ночных птиц, ни рычание хищников. – Они обещали сообщить властям о том, что произошло, – проговорил Амрит, имея в виду своих сбежавших соплеменников. – Ушли налегке, чтобы успеть в Паури до темноты. Вероятно, уже завтра сюда прибудет полицейский отряд. Меня это мало интересовало. Я думал о зверях, бродивших ночью вокруг деревни и оставивших на дереве следы когтей. Что они предпримут сегодня? Вокруг становилось все темнее, несмотря на луну, поднявшуюся над деревьями. Джунгли обступали деревню шевелящейся массой, в которой, казалось, таятся невидимые существа. Я понимал, почему индусы населяли леса всевозможными духами. Трудно было не поддаться страху, глядя на эти бескрайние дебри, окружающие человека. Мы решили оставить костер гореть, а сами заперлись в хижине, несмотря на духоту. Колючий куст уже не казался надежной защитой. Потянулись часы ожидания. О том, чтобы спать, речи не было – мы сидели вооружившись и прислушивались, не донесутся ли снаружи те странные звуки, которые неведомая тварь издавала предыдущей ночью. Я подозревал, что она приходила на разведку и наверняка учуяла, что в деревне кто-то появился. Живой. Возможно, на этот раз она приведет остальных и они предпримут попытку добраться до нас. Я не боялся. Мне казалось, что хижина надежно защищает нас от нападения любых животных. Жители индийских деревень строят дома из толстых стеблей бамбука и тростника, а затем в несколько слоев обмазывают стены глиной, которая, высыхая на солнце, приобретает недюжинную прочность. Собственно, мы решили бодрствовать, потому что мне хотелось взглянуть на зверей, расправившихся с жителями целой деревни. Хотя подозреваю, что Амрит, несмотря на свою безусловную храбрость, боялся сомкнуть глаза. Спустя полтора часа снаружи послышались шорохи. Какое-то живое существо бродило вокруг, учуяв нас. Я подошел к маленькому окошку (его размер не составлял в диагонали даже двух пядей) и осторожно выглянул в него. Луна хорошо освещала деревню, но сначала мне не удалось никого увидеть. Справа послышался глухой скрежет: зверь провел когтями по стене нашей хижины. Он заурчал – низко, мурлыкающе, но почти сразу звук стал выше, задребезжал и оборвался. Да, это была та же тварь, что приходила предыдущей ночью. Я ждал, чтобы она показалась. Мне подумалось, что можно даже выстрелить в нее из окна. Прошло несколько минут, прежде чем в холодном сиянии луны показалась вытянутая морда. За ней из темноты выступили морщинистая шея и мощный загривок. Животное было совершенно лишено волосяного покрова. Его бледную кожу словно покрывал матовый слой пыли. Вдоль хребта тянулись темные пятнышки разного размера. Все тело было мускулистым и поджарым, но его пересекали складки и морщины. Существо передвигалось на коротких лапах с длинными пальцами. Хвост был довольно толст у основания и затем сужался. Судя по движениям, он обладал изрядной гибкостью. Когда это удивительное животное вышло на свет и я смог рассмотреть его целиком, то понял, что вижу нечто вроде рептилии, но лишенной чешуи. Его кожа напоминала человеческую, только была куда более грубой и белесой. Мне даже показалось, что временами она слегка светится. Впечатление зверь производил неприятное. Собственно, его вид отталкивал. В нем было что-то противоестественное. Я поднял штуцер и аккуратно просунул его в окно, стараясь не привлекать внимания существа. Однако мое движение не осталось незамеченным. Тварь мгновенно изогнулась и бросилась на стену, норовя вцепиться зубами в стволы. Я едва успел отдернуть оружие и, потеряв равновесие, упал на спину. Тотчас мощные лапы ударили по глине, покрывавшей хижину. Слышно было, как заскрежетали когти, выдирая куски засохшей массы. Казавшееся надежным строение затряслось. Неведомая тварь обладала огромной силой. Не прошло и десяти секунд, как когти впились в очищенный от глиняной «штукатурки» бамбук. Затрещали разрываемые волокна, шорох и пронзительное рычание зверя слились в ужасающей какофонии. Вспомнились сложенные в центре храма человеческие останки, следы зубов на костях, раздробленные черепа, запекшаяся кровь, покрывающая пол и стены. На миг мне представилось, как узкие челюсти смыкаются на моих ногах, отхватывая их напрочь, как длинные когти впиваются в живот, располосовывая мышцы подобно кинжалам. Я поднялся, не сводя глаз с дрожавшей под ударами хищника стены. Было ясно, что, если животное продолжит, скоро оно проделает брешь. Решив этого не дожидаться, я вскинул штуцер, прицелился и выстрелил сквозь стену. Мне говорили, что пуля 500-го калибра останавливает нападающего слона, заставляя его мгновенно сесть, так что я рассчитывал пробить стену хижины. Судя по воплям, огласившим окрестности, пуля достигла цели. Амрит, ободренный моим успехом, тоже разрядил в стену свою винтовку 450-го калибра. Не знаю, попал он или нет, но бледная тварь оставила хижину в покое и удалилась, протяжно подвывая на разные лады. Я видел, что моего следопыта слегка трясло, но он улыбался, чувствуя, что мы одержали победу. – Что это за животное? – спросил он, стуча зубами. – Вы видели его? – Да. Не знаю, как оно называется. Я описал Амриту атаковавшее нас существо, надеясь, что он сможет назвать его, но он лишь покачал головой. – Должно быть, это ракшас, – проговорил он. – Эти демоны умеют принимать разный вид. Я понял, что от Амрита толку не будет, и решил, что утром выслежу раненое животное и, когда прибудет полицейский отряд, представлю им по крайней мере одного из убийц. Хотя, если считать тигра-людоеда, то двух. Чучело из бледной твари смотрелось бы в моем доме в Петербурге просто потрясающе, и я решил, что должен добыть его светящуюся шкуру любой ценой. Впрочем, ждать утра мне непришлось. Не прошло и получаса, как животное вернулось, и не одно. Правда, на этот раз хищники принялись выламывать стену хижины, где мы оставили буйвола. Несчастное животное проснулось и издавало жалобные и испуганные крики, пока жуткие твари пытались до него добраться. К сожалению, я не мог стрелять по ним из окошка, а выходить наружу было бы безумием: в темноте, не зная ни повадок, ни нрава животных, я был бы почти наверняка обречен. Хищникам удалось разломать бамбуковую стену, и они ворвались к буйволу. Минут сорок мы слушали, как звери пировали. Амрит вздрагивал чуть ли не при каждом хрусте костей – должно быть, представлял, как эти твари доберутся и до нас. Я же надеялся, что звери насытятся и уйдут. Ну, или что один из них – тот, которого я ранил, – в ближайшее время издохнет. Но мои расчеты не оправдались. Покончив с буйволом, хищники взялись за нашу хижину. Похоже, они не могли успокоиться, пока поблизости находилось что-то живое. Ими руководила жажда убийства. Вдвоем они действовали настолько ретиво, что буквально спустя несколько минут в стене появилось отверстие. Мы с Амритом выстрелили в них не менее дюжины раз, и порой вопли тварей возвещали о том, что пули достигали цели, но, казалось, ничто не могло остановить этих зверей в желании отведать человечины. Признаюсь, наступил момент, когда я решил, что мы обречены. Мне уже мерещились челюсти, обхватывающие и сжимающие мою голову так, что кости лопаются, а мозг выплескивается наружу. Меньше всего я хотел стать добычей бледных тварей. Конечно, случается, что охотник бывает убит зверем, которого скрадывает, особенно если по неопытности идет прямо по оставленному хищником следу, вместо того чтобы обходить с подветренной стороны. Но одно дело погибнуть от когтей и зубов благородного хищника – тигра, льва или леопарда, и совсем другое – оказаться в желудке мерзких ящерообразных чудищ. Амрит бормотал про неуязвимость духов, но продолжал стрелять. Я же полагал, что черепа и грудины нападавших существ имеют слишком толстые кости даже для пуль 450-го и 500-го калибра, выпущенных практически в упор. Это открытие было поразительным, но я не имел возможности в должной мере оценить его научное значение, поскольку одна из тварей ринулась внутрь хижины. Я выстрелил по ней, целясь в глаз, но она с жутким воплем протянула лапу и схватила Амрита за ногу. Когти впились в икру и со скрежетом царапнули кость. Мой следопыт дико закричал и выронил винтовку. Я быстро перезарядил штуцер, но прицелиться не успел: бледный хищник, извиваясь, целиком вполз в хижину и набросился на Амрита, мигом подмяв его под себя. Длинные клинообразные челюсти сомкнулись на лице индуса, захрустели кости, и во все стороны брызнула кровь. В проломе показалась голова другого зверя. Увидев меня, он широко разинул пасть и заверещал. Недолго думая, я вскинул винтовку и выстрелил из обоих стволов сразу. Пули вошли в мягкое нёбо и попали в мозг. Хищник свалился замертво. Я кинулся вперед, перепрыгнул через терзавшую Амрита тварь и, протиснувшись в дыру, помчался по деревне. Позади раздался дребезжащий крик. Обернувшись, я увидел, как существо с окровавленной мордой выползает из хижины и устремляется за мной. Оно бежало, переваливаясь на коротких лапах подобно крокодилу, но гораздо быстрее. Хвост его при этом извивался, как у выброшенной на берег рыбы. У меня были при себе патроны, но я не мог ни зарядить штуцер на ходу, ни остановиться, чтобы сделать это. Я свернул наугад. Тварь не отставала. Она была полна решимости прикончить меня. Мы промчались по нескольким «улицам» Бехор-Гай, и я увидел впереди храм. Ноги сами понесли меня к нему, хотя было ясно: если жуткие хищники сумели недавно попасть туда, что помешает преследовавшему меня зверю сделать это снова? Тем не менее я ворвался в храм и захлопнул за собой дверь. Перекладину, на которую заперлись некогда несчастные, мои спутники сломали, поэтому мне не оставалось ничего, кроме как просунуть в пазы штуцер и надеяться, что он выдержит атаку чудовища. Отступив от двери, я поначалу не сводил с нее глаз, но затем сообразил, что упускаю из виду главное: окошки, проделанные в верхней части храма, были слишком малы, чтобы в них могли протиснуться бледные хищники, а дверь была ими не тронута. Значит, имелся иной способ проникнуть внутрь. Я попытался осмотреться, чтобы отыскать его, но было слишком темно. Можно было различить только темную груду смердящих останков, сложенных в центре храма. Даже странно, что запах разложения не привлек животных-падальщиков. Вероятно, их отпугивало присутствие бледнокожих тварей. Снаружи существо с разбегу ударилось в дверь, но не стало продолжать биться в нее. Должно быть, оно помнило, что это бесполезно, и решило, не тратя времени, воспользоваться ходом, которым проникло сюда раньше. Я был уверен, что оно ушло, и потому осторожно вытащил штуцер из пазов и зарядил оба ствола. Мне оставалось только прислушиваться и надеяться, что очередной выстрел остановит чудовище. Не знаю, сколько я ждал. Может быть, четверть часа, а может быть, лишь несколько секунд. В такие моменты ощущение времени совершенно пропадает. Я осознавал, что балансирую на грани жизни и смерти. Это не было похоже на напряженное чувство, которое испытываешь, скрадывая зверя. При обычной охоте шансы у человека и хищника практически равны, но тогда, в храме, я был скорее обреченной жертвой, которой оставалось жить ровно столько, сколько понадобится чудовищу, чтобы до нее добраться. Наконец я услышал его. Существо пробиралось под полом. Должно быть, там имелся лаз или твари сами прорыли ход, пытаясь добраться до укрывшихся в храме людей. Я определил на слух место, откуда должен был выползти зверь, и стоял, держа оружие наготове. У меня было только два выстрела. Если тварь останется жива, то непременно убьет меня и мои останки присоединятся к возвышавшейся над полом куче. Вероятность же того, что пули остановят зверя, казалась ничтожной. Я был готов умереть, хотя всей душой желал, чтобы этого не случилось. Бледная голова показалась в темноте. Она не светилась, но была хорошо различима. Существо вылезало из отверстия в полу, которое я не заметил днем. Я хотел было стрелять, но передумал. Меня словно осенило. Вместо того чтобы спустить крючок, я сделал три быстрых шага навстречу хищнику и буквально вонзил оба ствола штуцера ему в приоткрытую пасть. Тварь сомкнула челюсти, зубы заскрежетали по стали. Одно движение – и оружие было бы вырвано у меня из рук, но я спустил оба курка одновременно, не дожидаясь этого. Чудовище дернулось и замерло. Оно было мертво. Похоже, попасть в нёбо – единственный верный способ разделаться с подобными хищниками. Помню, что сел на пол, покрытый коркой запекшейся крови. У меня не было сил. Только теперь я почувствовал, что сердце норовит выпрыгнуть из груди и бьется о ребра, как полутораметровый махсир в сетях рыболова. Мой взгляд упал на треугольную голову, лежавшую на полу в двух шагах от меня. Черный блестящий глаз, казалось, уставился на меня в ожидании. Я протянул руку и не без труда выдернул винтовку из пасти. На пол, сочась между зубами, полилась кровь. Я осмотрел штуцер. Он не был поврежден, и я на всякий случай зарядил его. Когда я вставил второй патрон, тело убитой твари дернулось, а затем почти мгновенно скрылось в норе. Похоже, какое-то животное вытащило ее, чтобы употребить в пищу. Возможно, это было такое же чудовище, ведь кто знает, сколько водится их в джунглях Индии. Исчезновение трупа заставило меня просидеть до утра, держа лаз на мушке: раз из него убрали тело, он свободен и через него в храм может забраться бледнокожий собрат тварей, напавших на нас с Амритом. Мне было жаль, что я потерял столь хорошего следопыта: он мог бы принести мне еще много пользы. Утром я покинул храм и дожидался полицейского отряда в одной из пустующих хижин. Чудовища, очевидно, были ночными хищниками, так что я не опасался их появления. К восьми часам прибыли представители закона во главе с офицером по фамилии Уилкинс. Он был англичанином. Я рассказал ему обо всем. Полицейские осмотрели храм, обыскали деревню и округу, но не нашли тел убитых мною тварей. Похоже, они были унесены другими чудищами. Один из полицейских, индус, заявил, что на жителей Бехор-Гай и нас с Амритом напали ракшасы. Уилкинс строго отчитал его за суеверия и велел искать дальше. Индус подчинился, однако было заметно, что он остался при своем мнении и явно полагал, будто отыскать следы злых духов невозможно. – Я не знаю, что это за животные, – сказал я англичанину, – но они явно превосходят во всех отношениях всех известных хищников Индии. Уилкинс еще долго расспрашивал меня. Ему было трудно поверить в лысых гигантских ящеров, но останки говорили красноречивее моих слов: ни тигр, ни леопард не сумели бы устроить такой бойни. Англичанин знал повадки местных зверей не хуже меня и был поражен увиденным. Полицейские собрали останки Амрита (всего пару изгрызенных костей) и отвезли в Паури, где соплеменники следопыта предали их огню. Остальные кости были вынесены из храма и сожжены на берегу реки, как того требовал обычай. Уилкинс в конце концов пришел к выводу, что на деревню напали неизвестные науке животные. Мне было жаль, что не удалось добыть трофей и сделать хотя бы одно чучело бледнокожего чудища. За оставшееся время, проведенное в Индии, мне не довелось ни встретить представителя данного вида, ни услышать о нем. Пришлось довольствоваться чучелом тигра-людоеда, которое я увез в Россию. Оно еще долго напоминало мне о той ночи, когда я едва не стал пищей неведомых тварей. Незадолго перед тем, как я начал писать эти мемуары, мне пришло в голову освежить в памяти события прошлого, и с этой целью я взялся разобрать архив, включающий письма, заметки и газетные вырезки того периода, когда я жил в Индии. На глаза мне попалось нераспечатанное письмо, подписанное офицером Уилкинсом. Оно пришло спустя четыре месяца после моего возвращения в Россию. По какой-то причине я не вскрыл его – вероятно, просто забыл разобрать в тот день почту, как со мной нередко случалось. Или отложил на потом и… Ну, все знают, как это бывает. В общем, я распечатал конверт и пробежал глазами аккуратные строчки, выведенные рукой англичанина. К короткой записке прилагалась газетная вырезка, в которой с жаром рассказывалось о научном открытии, ставшем в академических кругах сенсацией. Зоологическая экспедиция профессора Найтвика обнаружила в джунглях Индии останки двух рептилий доселе неизвестного вида. Особи эти, достигая в длину тринадцати с лишним футов, имели гладкую светлую кожу, как ни странно неплохо сохранившуюся, а также обладали удивительно крепкими костями. В черепах ученые нашли глубоко засевшие крупнокалиберные пули, которые и стали, несомненно, причиной гибели животных. Профессор Найтвик с уверенностью причислил открытый вид к семейству варанов. Названный в честь дочери англичанина Varanus veronica, данный вид отныне является самым крупным из известных человечеству, обогнав так называемых драконов острова Комодо, чья длина составляет не более десяти футов. Я поместил эту вырезку из The News of India в рамку и повесил в зале охотничьих трофеев рядом с чучелом тигра-людоеда. Вот и сегодня, прежде чем написать эти последние строки, я глядел на нее, вспоминая времена, когда мне и в голову не приходило предаваться мыслям о прошлом и тем более – поверять их бумаге.Дмитрий Костюкевич Секач
«Везет как утопленнику, – подумал Захар. – Геныч ни за что бы в такое не вляпался». Внизу сопел кабан: тяжело тянул воздух – запах человека, прозрачный сигнал опасности. Звук был отчетливым и немного жутковатым. Захар поставил ногу на сук, подтянулся и устроился на импровизированном лабазе между ветвями. Место для засидки осталось незаконченным: прибив доски под сиденье и спину, он примерялся к доске для ног, но шарахнул молотком по пальцу и уронил инструмент. Приближение зверя услышал, когда спускался за молотком и карабином – «Вепрь» остался висеть на одном из нижних сучьев. Догорел закат. Кабан шастал под дубом, давил, точно жевал, копытами ветки, листья и траву. Захар открыл бесшумную застежку брючного кармана, вытащил фонарик, но не спешил включать. Не хотел раньше времени выдавать себя, хотя шанс, что зверь не учуял или не услышал его, был мизерным. «Меньше ануса червяка», как говорил Геныч. Правда, ночью парнокопытные не отличались живостью ума. Даже учуяв вблизи охотника, часто тугодумили. Вепрь перестал кружить и, судя по звуку, теперь рыл землю у корней. Бледно-желтый лунный свет путался в ветвях, гас; звезд не хватало и на это. Захар зажег фонарик и посветил по стволу. Кора дуба стекала глубоким рельефным рисунком – старая кожа со складчатыми выступами. Фонарик осветил голову кабана. Охотник нажал на кнопку. Луч оборвался. Но несколько мгновений Захар еще видел клыкастую морду секача: вперившиеся в него глаза, которые отражали злым, красным светом. Захар ощутил жар в затылке. Зверь находился прямо под ним. И наблюдал. Хряк смотрел на него еще до того, как включился фонарик. Захар приказал себе успокоиться. «Нечего нагнетать, еще поверишь в то, что мордан ухмылялся…» Но почему кабан не уходит? Ведь знает, что на дереве человек. Драпануть должен. Его сородичи при малейшем звуке бросаются в сторону, прочь от духа человеческого. Этот не спешил. «Ух и большой же гад… голова что валун». Захар поерзал. Ему действительно показалось, что секач ухмыляется, и одним болотным чертям ведомо, как морда животного сподобилась на этот мимический фокус. Тьма разжижила лес. Захар ощупал ветку. Пальцы прошлись по бугристой коре. Сейчас ветка казалась серой, но он знал, что она желтовато-красная… или нет, вот он, истинный цвет всего, а остальное – камуфляж? Хряк фыркнул. «Ну и засидка – и кто на кого охотится?» – Нарываешься, толстый? – спросил Захар у темноты внизу, негромко, неуверенно. Мысль о том, чтобы слезть и попробовать дотянуться до карабина, он отбросил – помнил, с каким трудом взобрался на старый дуб, вскинувший ветви уж больно высоко над землей, будто просился в райский сад. «Ладно, клыкастый, посмотрим, на сколько тебя хватит?» Он снова подумал о карабине. Приклад «Вепря» находился в полуметре от земли. Только бы секач не полез рылом, не сорвал… Охотник откинулся на доску, под спиной хрустнула сухая ветка. Заныла поясница. Кабан раскидывал пятаком почву дубравы. Захар прицелился на чавкающий звук из призрачного ружья – представил пятизарядный вальтер Геныча, идеально сбалансированный, легкий, изящный, и не подумаешь, что двенадцатый калибр, – и нажал на спусковой крючок. Промазал. Секач трапезничал. Захар натянуто улыбнулся. Призрак Геныча хохотнул: «Эх ты, помнишь, как я со ста метров козла круглой пулей снял?» «Под лопатку бью», – сказал тогда старший товарищ, упер приклад полуавтомата в плечо – стук! – козел на боку. Отличный у ружья был бой. Такие выпускались всего год в двадцатых, поэтому вальтер Геныч продал – не мог найти запчастей, гильзы приходилось обрезать под патронник; да и негоже профессионалу без нарезного. На последние охоты Геныч ходил с трехзарядным чешским автоматом. Безупречный во всем, мать его, Геныч. – Пошел на хер! – проревел Захар через час или два. Секач притих, затем грозно пфукнул, будто атакованный сворой собак. Захар посветил. Повсюду валялась вырытая с корнем трава. Хряк словно пытался выкопать дерево. Глупая мысль, но Захар поежился в куртке-трансформере – представил, как заваливается вместе с дубом, а вокруг трещат и ломаются ветви. Луч фонарика не мог поймать кабана, тот перемещался в темноте. Карабин по-прежнему висел на толстом суку. Ну хоть одна хорошая новость. Захар выключил фонарик и прислушался к давлению в мочевом пузыре. Сколько еще он должен терпеть? Должен кому? Кабану? Это рассмешило и одновременно разозлило Захара. Он что, стесняется долбаного секача? Черта лысого! Захар встал на доску, расстегнул пояс, клапаны ширинки и стал мочиться. Крутил тазом вправо-влево, дабы охватить больший сектор. Невидимая моча барабанила по невидимым листьям. Кабан обиженно рявкнул и принялся месить копытами землю. – Ага, съел? Как тебе издержки осады? Кажется, отбежал. – Куда это мы? Не расходимся! Тут у меня еще много! Много не оказалось. Струя превратилась в струйку и быстро иссякла. Головку члена неприятно защипало. Он попытался всмотреться: может, укусила какая-нибудь дрянь, но пальцы неожиданно потеряли ветку, доска словно сузилась и качнулась. Захар, судорожно взмахнув руками, повалился вперед, ударился подбородком о кору, едва не выколол глаз об острый сучок, взвыл, но успел вцепиться в ветку-обидчицу. Повис, пытаясь отыскать носком ботинка сиденье… Штаны съехали к щиколоткам, сморщенный зудящий член болтался в холодном ночном воздухе. Захар слышал возбужденное дыхание секача, похожее на работу старенького ручного насоса. – Сука-а… – прохрипел Захар и следом издал ликующий возглас: – Да! Хрен тебе с маслом! Нога зацепила доску, он стал осторожно перебирать руками, подтягивая и выпрямляя тело, и спустя полминуты, балансируя и улюлюкая на лабазе, уже натягивал штаны. «Хорош… утром разберемся… утро вечера мудренее». Он почти не удивился, как легко далось решение ночевать на дереве. Жжение стихло, всё нервы. Захар достал флягу, сделал несколько глотков, устроился спиной к прибитой между ветвями доске и, повозившись, привязал себя веревкой. Нож он вбил в ствол под сиденьем – упор для ноги. Так, вроде годится. Прежде чем сложить руки на груди и закрыть глаза в надежде на краткие вспышки сна, он снова зажег фонарик. Глаза хряка сверкали как бриллианты: живые, алчущие, злые. Чем-то неуловимо знакомые… …Захар почувствовал, что соскальзывает, проснулся и схватился за ветку. Или схватился за ветку и проснулся. Несколько долгих секунд думал, что ослеп, но с облегчением понял, что все дело в съехавшей на глаза шапке. Лес ворочался в утренней сырости. Светлел, не торопясь расправлял ветки. Захар устаканил свой зад на доске и тоже попытался распрямиться, впитать свежесть нового дня. Ягодицы и спина болели, шея затекла, рот слипался от высохшей слюны. Его потряхивало от озноба пробуждения. Секач появился из-за соседнего дерева. Тяжело посапывая, приблизился к дубу и поднял лохматую морду. Захара потрясли гигантские размеры хряка – тот наверняка весил в три, а то и в четыре раза больше него. Поразительная, внушающая трепет туша, с длинной щетиной у холки и по хребту. Рыжеватая голова светлела к рылу, щекам и горлу; бурые оттопыренные уши чернели на концах. Ноги кабана были темно-бурые, отливающие красным. Светлый хвост оканчивался черными волосами. Секач оказался намного крупнее, чем Захар представлял после ночного тет-а-тета в луче фонаря. А представлял он здорового зверя, брата-близнеца подстреленного Генычем кабана, которого долго и маетно тащили веревкой из лежки. Когда это было: семь, восемь лет назад? Вепрь был безукоризненно чистым, прямо-таки всецело прекрасным – от посапывающего пятачка, влажного и голого вверху и щетинистого снизу, до изогнутого штопором хвоста и светло-рыжих ляжек. Его голодные мутноватые глаза изучали Захара без страха и почтения. Кабан восхищался человеком гораздо меньше, чем Захар восхищался им. – Дерьмо, – вырвалось у Захара, – вот же дерьмо. Он наклонился вперед и долго смотрел на карабин, словно хотел приподнять его взглядом. Затем поискал глазами оброненный молоток, но вокруг дуба словно прошлись плугом. Ствол стоящего рядом граба покрывал слой грязи. «Прихорашивался, гад, – с истеричной ноткой подумал Захар, – бока о кору тер…» И все-таки почему не уходит, почему стережет? Раненый? Бешеный? Не похоже… Секач грузно плюхнулся на бок и продолжил гипнотизировать охотника злющими глазами. Посылал проклятия, делился планами: «Ничего, подожду. Хрю, мертвый человек на дереве!» Массивное тело хряка источало безудержную наглость. – Что тебе надо? – спросил Захар, закричал: – Чего ты хочешь?! Кабан не ответил. Они уже не могли застать друг друга врасплох. Ждали – каждый своего. Захар покопался в подсумке и выудил завернутые в целлофан бутерброды с вареной колбасой, сыром и помидорами. Быстро расправился с ними, глотнул воды, очистил и съел две вареные картофелины и яйцо. Секач лениво глянул на упавшую кожуру и перевернулся на другой бок. Хозяин положения. Густо пахло дубовыми листьями, уже пожираемыми ломкой желтизной. Ветер ронял в траву спелые желуди, один подхватила длиннохвостая сойка, парочку других уволокла нагло-рыжая белка. Кабан ждал другой пищи… Что бы сделал Геныч? Они познакомились около пятнадцати лет назад, когда Геныч купил у Захара щенка лайки, которого назвал Зариной. Стали вместе ходить на зверя. Геныч был потомственным охотником, невысокий, жилистый, спокойный, твердый характером. Необщительный с посторонними, он открывался в компании, становился ее душой и настроением. У Геныча был фургончик УАЗ, при транспорте всегда. Сколько охот прошли! И на кабана, и на лося, и на коз, а на зайцев уж и не перечесть. И в центре всего – Геннадий Геннадьевич Капитанов, лидер, матерый волк, который любил стрелять первым. «Геныч… ты ведь спал с ней, я прав, спал?» Немного сдвинувшись к краю сиденья, Захар опорожнил мочевой пузырь. На этот раз никаких мальчишечьих выходок. Доска под задом сделалась меньше и неудобней. Секач нежился на земле, будто в грязевой купальне. Повсюду были его глубокие следы. Рассудок Захара затуманило облако ярости. В голове замкнулась цепь неконтролируемого гнева. – Ах ты, сало говенное! – истошно завопил он. – Что, караул здесь развел?! Ждешь, пока упаду?! А вот хер тебе в рыло! Хер! Тебе! В рыло!.. Он кричал и кричал, по большей части бессвязные ругательства, которые вырывались через хрип, через боль, через гадкое бессилие. Зверь не подавал ни малейших признаков беспокойства. Захар не знал, что делать, как быть… мобильник он на охоту не брал – отвлекает; когда шли на зверя вдвоем, держали связь по рации, так что нечего и думать об этом… вот если бы достать карабин… «Карабин!» Мысль прозвучала звонко и отрезвляюще. Совсем не так, как вчера. Цепь разомкнулась. А если попробовать? Ночью он не хотел рисковать, думал, что кабан уйдет, но теперь… Захар насилу извлек из ствола нож, примерился и срезал ветку, очистил от побегов, оставив на толстом конце крепкий сучок. Получился неплохой отпорный крюк. Дуб был старым, патриаршим: от макушки до корней – двадцать пять метров; грубая, растрескавшаяся кора; разлапистая крона, которая начинала ветвиться на высоте около трех метров. Захар спускался. Крупные нижние ветви заметно высохли, ботинки срывали с них кору, словно струпья с зажившей раны. Он оседлал последнюю «перекладину» и поискал взглядом секача. Кабан возвышался на коротких мускулистых ногах. Боевые клыки – угрожающе загнуты кверху. Захар в который раз ужаснулся размерам секача: высота в плечах больше метра, пятак – что наконечник тарана. Мясосальный бронепоезд. – Даже и не думай, – прошептал Захар и вдруг понял, что это не его слова. Он всего лишь прочитал предупреждение в налитых кровью глазах хряка. Рациональная часть его «я» просила отступить, попробовать позже, когда кабан заснет или отвлечется, но гордость заставила лечь на ветку, обхватить ее ногами и правой рукой, а левую руку с «отпорным крюком» опустить вниз. «Кабаны в лесу ходили, землю всю они изрыли», – вспомнились строчки из детского стишка. Они немного успокоили; главное – не смотреть на зверюгу, только на карабин. Узкий, прошитый кожей «погон» карабина был рядом, крюк почти добрался до него, еще чуть-чуть, надо только… Секач с визгом бросился на дерево. Это напоминало дурной сон. Захар подцепил «погон». В этот момент хряк шарахнул мордой в ствол. Захару показалось, что зверь подпрыгнул перед ударом. Сверху посыпались желуди. Дуб содрогнулся, затрещала кора. Звук оглушил охотника своей фатальностью, он с ужасом понял: трещала не кора – карабин. Кабан впечатал приклад в ствол. Ветка выскользнула из руки Захара. Карабин упал к ногам секача. Тот отошел на два метра и мотнул головой. – Нет, – застонал Захар, лежа на ветке. Хряк фыркнул – с рыла слетели хлопья розовой пены – и принялся топтать карабин передними ногами. Над кронами плыла оранжевая плюха солнца. Мысли Захара путались, он пытался отмотать время назад, повторить попытку, на этот раз более проворно… Копыта крушили карабин, втаптывали в темно-зеленое месиво. – Тварь, сучара… – С нижней губы Захара сорвалась густая нить слюны; во рту было гадко и сухо. – Ты за это ответишь… – Хо-хо-хо, – гортанно издал кабан. Ему нравились слабость и отчаяние охотника. Захар стал взбираться к лабазу. Дорога наверх напоминала повторное пленение, эпичную сагу о потерянной надежде. Он думал о своей бывшей жене, Ларисе, о Геныче, о секаче – все трое были под дубом, наблюдали. Лариса сидела на хребте зверюги, постукивая каблуками по соломистым бокам и бубня излюбленное: «Я же говорила». Геныч стоял рядом, цельный, самоуверенный, с веселым прищуром и чешским автоматом на изготовку. Он сказал: – Видишь. – Заткнись, гнида! – закричал Захар. – Ты сдох! Сдох! И кто теперь в плюсе?!Он хорошо помнил, что в тот день стояла кошмарная жара. Мошки бились в воздухе словно странные объемные инсталляции. Наглость слепней и оводов не знала границ. Худо-бедно спасал спрей и прокуренная кабина уазика. Геныч медленно вел «буханку» по проселочной дороге, между прямоугольниками полей и опушкой леса, высматривая в посевах звериные тропки. Так докатили до лесной деревушки, за которой в лесах прятались два пшеничных поля. – Есть! – заорал Геныч, когда Захар совсем уж было приуныл. УАЗ остановился, водитель распахнул дверцу. Захар выбрался с другой стороны, сжимая в руках карабин с армейской оптикой и хмуро поглядывая на напарника. Из леса тянулась четкая тропа. Заползая на поле, она делилась на тропки. Охотники углубились в пшеницу. – Смотри. – Геныч остановился на примятой площадке. Из-за жары почва окаменела, и отпечаток кабаньего копыта был едва различим. Захар кивнул. Геныч отогнал фургон и вернулся с самодельной стремянкой. Разложили, устроились спина к спине. Солнце висело над горизонтом – залитая расплавленным оловом глазница. Тяжелые темно-бурые слепни безудержно жалили. Захар осматривал через оптику окрестности, выискивая в светлом разливе пшеницы кургузый профиль кабана. Эх, повыше бы лестницу. Геныч не шевелился: больше прислушивался, чем присматривался. В темнеющем лесу звучали беглые шаги и шуршание. Сменившие слепней комары висели плотным коконом. Захар попрыскал вокруг головы баллончиком репеллента. На нем была маска. – Учуют, – недовольно заметил Геныч. – Не должны, – чувствуя раздражение, ответил Захар. – Ветер на нас идет, с поля. – А если переменится? Захар промолчал. Через несколько минут ветер и вправду изменил направление. – Видишь, – многозначительно шепнул Геныч. Захар ненавидел это «видишь». Его словно макали лицом в дерьмо. «Видишь» – стучало в голове, рядом жужжали комары, им вторил настойчивый недовольный голос жены. Она постоянно долдонила про счастье подруг, про их успешных мужей, про переезд в город («Геныч твой квартиру присмотрел!»). При Геныче Лариса преображалась, оживала, чтобы после снова превратиться в недовольную всем и вся бабу. Геныч всегда хвалил Ларисину стряпню (и трахал ее, как пить дать трахал; возможно, это случилось лишь раз – очередной трофей, но кому от этого легче?)… Голоса слились в протяжный вой, готовый взорвать череп. Но тут Геныч ткнул его в бок. Захар различил протяжное сопение, фырканье, затем смачное чавканье. Два человека замерли на лестнице, пытаясь разглядеть зверя. Сердце сменило ритм, кровь сильными толчками прилила к лицу. Захару показалось, что зверь движется в их сторону; руки сжали приклад, палец прилип к спусковой скобе. Он напряженно высматривал в посевах пшеницы силуэт животного. За спиной громыхнул выстрел, словно рявкнул: «Видишь!» У Захара свело желудок. Геныч скатился со стремянки и побежал к болоту. Захар привстал на лестнице и увидел исчезающего в кустах упитанного кабана. Зверь тяжело шатался. Геныч мчался наперерез. Захар спрыгнул с площадки и прыжками понесся за напарником…
По кроне дуба застучали крупные капли, дождь начал неуверенно, но вскоре полил сплошным шумным потоком. Только этого не хватало. Захар поднял к прохудившемуся небу гневное лицо. – Ты шутишь? – Он натянул капюшон и поежился. В его голове по-прежнему крутилось воспоминание, ливень лишь отогнал его в сторону, но не спугнул. «Черта с два тебе удастся, – подумал Захар, – это момент моего триумфа». Словно прочитав его мысли, секач пронзительно завизжал. Захар достал платок, стал собирать с листьев дождевую воду и отжимать в рот. Дождь тут же стих. Издевается, гад! Но ничего, ничего. Захар хищно улыбнулся. Хорошо смеется тот, кто…
Охотники бежали по болотистому лесу. Впереди раздавался чавкающий звук копыт. В мшистых углублениях стояла илистая вода. Из торфяных кадушек торчали карликовые ели, пихты, рябины, обернутые в темный мох. На болотных кочках зрела брусника; быстро темнело, и красные капельки превратились в черные. – Не стреляй – скоро упадет, – шикнул Геныч. – Мой клиент. Захар сжал зубы, остановился. Справа, с форой в двадцать метров, шатаясь, брел кабан. Появлялся и исчезал за кустами. Раненый, опасный, упрямый. Захар вспомнил, как в прошлом году шли за подранком метров сто, а когда разделали, сердце у того оказалось пробито насквозь. Вепрь лежал головой к низкорослой черной ольхе, которая запустила в подсохшую грязь свои ходульные корни. Геныч подал знак рукой, и они стали заходить сбоку. Комары жужжали у лица, солнце ухнуло за горизонт, расплескав по небу красную муть, а раздражение Захара переросло в холодную уверенность. Здесь и сейчас он будет сильнее и удачливее напарника, хотя никто и никогда (если все сделать правильно) об этом не узнает. Здесь и сейчас, и каждую минуту после, потому что живые всегда смотрят на мертвых свысока. Как бы грациозно те ни лежали. Он поднял карабин к плечу и приник к оптике. Нить прицела была едва различимой. Захар выругал себя за то, что до сих пор не купил батареи для подсветки. Геныч резко обернулся – почувствовал? «Что ты делаешь?» – спросил он одними губами, лицо в прицеле казалось серой маской. «Собираюсь прикончить кабана», – чуть было не сорвалось с губ (Геныч действительно находился на линии огня). Захар отстранил лицо от прицела, взгляд сместился немного левее и ниже – уши кабана были прижаты, на загривке дыбилась щетина. Живой. Притворяется, хитрюга, выжидает – и Геныч хорошо об этом знал, выходил на контрольный выстрел, чтобы наверняка. «Педант говенный!» Захар ухмыльнулся и, не заглядывая в оптику, нажал на спусковой крючок. Он целил дулом в грудь Геныча, но пуля угодила прямехонько в лоб. Выстрел прозвучал как приказ к пробуждению. Человек и зверь встрепенулись. Захар мотнул головой и шагнул к упавшему ничком телу. Подранок рванул вглубь болота. Захар поднял «Вепря», несколько мгновений вглядывался в окуляр, имея возможность бить кабана в угон, но передумал. Он посмотрел на Геныча. То, что старший товарищ умер так быстро, стало для него полной неожиданностью. И это все? Не извивается на влажной подстилке, не ползет к малорослым березам, не выхаркивает проклятия. Все, что он делал, так это сочился кровью, которую жадно всасывал болотный мох. Захар присел рядом. Он жалел, что ничего не сказал перед тем, как спустить курок. Хотел запомнить – впитать – страх и смятение Геныча, унести их с собой как трофей. Но дело сделано – не переиграешь. Похоже, Геныч так ничего и не понял: всего лишь не хотел, чтобы кто-то другой пристрелил его добычу. – Что, чувствуешь себя уязвленным? – спросил Захар у трупа, испытывая облегчение. – Желаешь что-то сказать, а? Ну, не стесняйся! Помочь? Как тебе слово «немыслимо»? Собственная речь показалась ему немного пафосной и затянутой, но в целом он остался доволен. Такие вещи не отрепетируешь, он ведь не собирался убивать Геныча, все вышло спонтанно… или нет? Облегчение вытеснил страх. Захара затрясло. Что теперь? А чего, собственно, он боится? Да, пуля в голове Геныча – его. И что? Следов пороха нет. Несчастный случай. Сошел с номера до сигнала. Вот такая вот невезуха – случается… Но Захар не хотел, чтобы тело Геныча нашли. Чтобы оплакивали, прощались. Не хотел видеть обвиняющие глаза жены, этот презрительный взгляд… Геныч преследовал подранка и пропал. Геныч был его другом, сильным и волевым мужиком, но любой удаче приходит конец. Любой удаче приходит конец. Да, именно так он и скажет. Жене, следователю, всем, кто проявит интерес. И ни слова о болоте. Как там при царях простые мужики говорили? «Собрался на кабана – гроб с собой прихвати». – Видишь, – произнес он, хватая мертвого товарища за щиколотки, и неожиданно для себя рассмеялся. Эта версия финальной речи была идеальной.
Растоптанный карабин лежал в земляной воронке. Тот самый «Вепрь», из которого он застрелил Геныча. Захар не расставался с верным оружием, заслужившим его доверие. Захар с саднящей ностальгией подумал о своей кровати, которую он так мало ценил, а последние годы и вовсе презирал за обволакивающую пустоту. Какой же глупец! Плевать на пустоту, плевать на то, что жена уже пять лет как спит на других простынях в другом доме. Кровать была мягкой, большой, родной. Он бы отдал по пальцу с каждой руки, чтобы оказаться сейчас на ней, с бутылкой холодного пива, донышко которой оставляет мокрые круги на футболке, а телевизор показывал бы зрелищный боевик со всеми атрибутами: пальба, погони, кровь, большие сиськи. Он мог бы поонанировать, если бы девчонка главного героя оказалась действительно знойной, почему нет? Он часто делал это, даже когда безымянный палец правой руки еще стискивало тонкое золотое кольцо. Секс с Ларисой случался редко и непрезентабельно: копирка с самого скучного полового акта из их небогатой коллекции. Захар поерзал на доске, у него возникла слабая эрекция. Дождь прекратился, но капли продолжали скатываться с листьев и стучать по капюшону. Кое-что удалось собрать во фляжку. – Видишь, – бросил он призраку Геныча. – Видишь, кто оказался на высоте? – Двусмысленность последней фразы заставила его усмехнуться. – Я могу дышать, лизать листья, пердеть. А что можешь ты? Гнить? Хряк поднял огромный, неправдоподобно длинный с горбинкой нос и принюхался. Треугольные раскосые глаза сосредоточились на человеке. Захару стало не по себе от разгорающегося в глубинах кабаньего черепа сатанинского огня. Волосы на руках стали дыбом, эрекции как не бывало. – Сука, полезай в дедову рукавичку, – с пораженческой злостью сказал Захар, вспомнив сказку. – Собаки на тебя нет. Впрочем, он сомневался, что у любого, даже самого крупного пса будут хоть малейшие шансы против этого дьявольского отродья. «Бойся меня», – попытался внушить кабану Захар, и тут же, как о чем-то обыденном, подумал: «У меня едет крыша». Как ни странно, эта мысль его успокоила. Сумасшедшим ведь проще: всегда можно сбежать в вымышленный мир, слезть с дерева реальности. «Я – андский волк, – телепатически послал следом Захар. – Я – бурый медведь, который переломит твой сраный хребет». «Я – карабин, который продырявит твое сердце…» Хряк шевельнул мохнатыми, стоящими торчком ушами, поднялся и через минуту уже чавкал, хрустя скорлупой, у соседнего дуба. Штопор хвоста покачивался туда-сюда. Захар снял ботинки, развесил носки, чтобы просушить. Он снова подумал о бывшей жене: надо будет найти эту суку и глянуть, как и с кем она обустроилась. Городская пташка – тьфу! Он обязательно ее навестит, когда выберется из этой передряги. Если выберется. Солнце валилось за зенит. Захару казалось, что он торчит на дубе неделю, а то и месяц. Он вытряс из фляги жалкие крохи дождя, затем сорвал блестящий лист, вылизал. Сорвал другой. Когда пропал Геныч, в отношения с женой вернулись утерянные оттенки. Ненадолго. Лариса ушла. Был ли Геныч причиной их развалившегося брака? Захар не знал. Символом другого, лучшего мужчины – да: сначала живым, потом мертвым, и хватит об этом. Ему зверски приспичило по-большому, но он терпел. Вот уж дудки, он не собирается… Через час Захар потоптался на доске-сиденье голыми ступнями, стянул штаны и принялся в гротескной позе справлять нужду. Он не хотел думать, как смотрится с земли. Папа, мама, там дядя на ветке какает! Публичный унизительный акт стал последней каплей. Не хватало только подрочить при кабане. А потом перегрызть себе вены. «Хватит!» Хватит ждать манны небесной, уверяя себя, что секач рано или поздно уберется восвояси. Нельзя сидеть сиднем. Никто не придет, чтобы его спасти. И даже если сюда забредет другой охотник – каковы его шансы против хряка? Он должен слезть с этого сучьего дуба и драпать во весь опор. Тогда он умрет. Скорее всего, но не точно. А с каждым проведенным на дереве часом он будет только слабеть, так чего тянуть. Кабаны очень пластичны, но прямолинейны – и еще посмотрим, кто выйдет победителем в салочках между деревьями. Секач шумно трапезничал. Захар надел носки, зашнуровал ботинки и глубоко вдохнул. Он не видел, как замер хвост хряка, как зверь медленно повернулся, а его раскосые глаза налились кровью. Охотник посмотрел вниз, только спустившись на несколько веток. Увиденное едва не расшибло его рассудок. Кабан стоял на задних ногах, под светло-рыжим подшерстком перекатывались волны мышц, пенис животного – красная, полуметровая, закрученная винтом змея – вязко балансировал в воздухе. Зверь оглушительно завизжал, и Захар завизжал в ответ. Его голова словно превратилась в истеричный колокол. Захар никогда не испытывал столь сильного страха. Трезвость мышления и решительность испарились. Хряк сделал несколько вполне уверенных шажков, упал на передние ноги и что есть мочи заголосил. Захару показалось, что секач проревел: «Захар». Кожа на затылке съежилась. Разумеется, показалось. Кабаны не умеют говорить. Визжать, гудеть, хрюкать – да; издавать звук «ду-ду-ду» или «о-о-о», которое можно принять за «хо-хо-хо», но не более. Он просто ослышался, додумал. Говорят ведь, что самым приятным словом для слуха человека является его имя, а тут, похоже, обратный эффект: мерещится, что все против него – и секач, и сам лес. Все дело в шалящих нервах, потому что… Хряк вел себя чертовски пугающе. Захар запаниковал. Что это было? Что, к чертям собачьим, это было?! Кабаны ведь не ходят на задних ногах? Медведи, но не кабаны! «А еще они не умеют говорить». Захар прижался к стволу и закрыл глаза. Всему есть рациональное объяснение, всему. Секач точил о дерево клыки, затем взобрался передними ногами по стволу, оттолкнулся и… Что-то в таком духе. Зверь рявкнул «Зхрррхррр»? Нет. Он – демон, дух леса – прокричал: «Захар!» Захар принялся орать и размахивать руками, при этом опасно раскачиваясь на ветке. По лицу текли слезы. Он швырял в секача патронами из подсумка, словно надеясь, что они взорвутся от удара о толстую тугую кожу. Несколько патронов по чистой случайности действительно угодили в его мучителя, но кабан лишь ухнул пересмешничая. Припадок продолжался довольно долго, начало темнеть. Сутки в плену. В какой-то момент Захар начал взбираться: сначала к месту засидки, затем выше. Ветви делались тоньше, ненадежнее, в просветах дрожали звезды. Чем ближе к вершине, тем невнятнее становилось его бормотание. Он ломал побеги, звал на помощь, раскачивался на сузившемся стволе. Ветер принес с юга запах сосновой смолы, но Захар не отличил его от вони собственного тела. Он не помнил, как снова оказался на доске. – Я в порядке, в порядке, – твердил Захар, раскачиваясь взад-вперед. Ему удалось успокоиться. «Думай, думай, думай!» О чем? Он в ловушке. На, мать его так, жертвенном столбе! Он снова заплакал. Прежде чем привязать себя к лабазу веревкой, он отстраненно примерил ее к шее. Шло время. Глаза охотника стали слипаться. Захар захихикал во сне, потом застучал зубами. Сквозь листья проникал свет. Он очнулся от озноба, свешенные с доски ноги тряслись. По затекшей спине ползали муравьи. Веревка передавила левую руку, сделала ее чужой. Кости ломило. Он открыл глаза, вспомнил, где находится, и застонал. Понимание того, что кабана нет поблизости – ни в лежке, ни в кустах, ни у соседних деревьев, – пришло внезапно и ярко. Сладкая, зыбкая боль надежды. Секач ушел. «Не ушел, а спрятался!» С этим предположением стоило считаться. О да… Только что оно меняло? Если он не хочет подохнуть на дереве (или под ним, растерзанный кабаньими клыками), то надо рискнуть… «Заткнись и действуй». Захар стал приседать на доске, чтобы разогнать кровь. Спускаясь, он видел стоящего на задних ногах хряка. Длинный, похожий на штопор член. Ненависть в глазах секача, в глазах, которые говорили: «Видишь». Кровь стучала в висках, как товарный состав. На нижней ветке он осмотрелся, прислушался. Изувеченная рылом земля, повсюду следы, и шелест ветра в листьях. Чувствуя, что вот-вот откажется от побега, Захар хлестнул себя по лицу и прикусил до крови верхнюю губу. Крупная постыдная дрожь сотрясала тело. Он повис на ветке. В животе плескалась липкая гудящая пустота. Никого, кажется, никого… Захар спрыгнул в вырытую хряком воронку, завалился на бок, встал на четвереньки и огляделся. Из земли торчал приклад карабина. Захар уставился на него как на ногу мертвеца, пополз прочь, потом тяжело поднялся и заковылял по кабаньей тропе. Через несколько шагов он обернулся и глянул на дуб. Густая, расчлененная на этажи крона, основательная, прочная крепость. Захар захромал дальше. Он не был уверен, на сколько его хватит. Лес прислушивался к его поступи. Неужели это всё, неужели кошмар закончился… Он резко обернулся на хруст. Сердце рвануло в режим перегрузки. Взгляд заметался между деревьями. Из-за куста орешника выбежал еж и, покачивая иглами, поспешилдальше. Захар понял, что больше никогда не пойдет на охоту: засунет себя в шкаф, как итальянское ружье, и выбросит ключ. Он погрозил ежу пальцем, повернулся и закричал. Секач стоял посреди тропы. В этот момент Захар до конца осознал, что перед ним не обычный зверь, а злобное создание, одержимое смертоносной целью. Тело кабана покрывал слой жидкой грязи и смолы. Ноги Захара подкосились, будто из них вынули кости. Он рухнул на колени, больно приложился о притоптанную копытами землю и пополз в заросли кустарников. Ужас сдавил мочевой пузырь. В голове пульсировало: «В каком лесу вы были?», «Почему разделились?», «Кого позвали на помощь, когда поняли, что товарищ пропал?». Он пластался по земле и что-то невнятно отвечал следователю. Лес издавал дурные запахи: отовсюду веяло смертью, гнилью. Где-то справа пронесся секач. – Чего тебе надо? – закричал Захар. – Ты сам виноват! Он поднялся с земли и стал продираться сквозь заросли, но скоро снова опустился на четвереньки – ветви терновника цепляли, царапали, целили в глаза. Путь зверя – не человека. В непролазных кустах, на этот раз слева, раздалось грозное рюханье. Не прошло и минуты, как кабан повторил предупреждение. Захар выполз на подстилку из лапника и, хватаясь за мохнатый ствол ели, встал. За гущаком начиналось болото, крупные деревья копьями вонзались в серое низкое небо. Из носа охотника текли сопли, из глаз – слезы. Сзади трещали и ломались ветки. – Ты трахал ее… – просипел Захар. – Всегда смотрел свысока… ты виноват… ты… и она… Он покачнулся, отлип от ели и пошел дальше. Иллюзии развеялись – секач загнал его в свои кочковатые угодья, обрамленные камышом и тростником. Оборачиваясь, он видел страшного зверя. Хряк шел следом – темная туша, встопорщенная шерсть, воинственно горящие глаза. По краям заболоченной поляны возвышались могучие деревья, в центре чернел островок кустарника. Захар обогнул его слева. Кисло пахло торфом, застоялой водой. «Еще пара шагов, и все…» Он действительно сделал четыре или пять шагов и замер. Не оборачивался, ждал ужасного удара, который переломит его позвоночник. Затуманенный взгляд остановился на странной коряге, так похожей на изломанную фигуру… Он приблизился, уже зная, что увидит. Законсервированный труп. Кожа мертвеца уплотнилась и стала бурой. Разложение практически не тронуло тело, оно лежало раскинув руки, в илистой луже, приподняв над водой лицо, грудь и опавший живот – болотные кислоты растворили внутренние органы. С черепа свисали клочья волос. Белесые, затянутые пленкой глаза были устремлены на Захара. «Если они захотят провести анализ ДНК, – отстраненно подумал Захар, слыша чужое хихиканье в голове, – то ничего не получится». Он где-то читал, что торф разрушает ДНК болотных людей. Одежда покойника частично истлела, но в ней еще угадывался охотничий костюм. На дереве застрекотала сорока. Захар обернулся. Секач стоял перед ним, его передние ноги подрагивали. Захар стал забирать вправо, будто заходя кабану в тыл. Хряк тоже затрусил вправо, прошел мимо бурого трупа и, сделав крюк, двинулся по следу человека. Захар припустил. Он и кабан бежали на противоположных краях окружности, и в какой-то момент охотник усомнился: кто кого догоняет? Захар не вынес напряжения и остановился. Секач хрюкнул и стремительно бросился на него, перебирая короткими ногами. – Ге… – вырвалось у Захара, но воздух и слова закончились еще до того, как огромная туша нанесла сокрушительный удар. Острые как бритва трехгранные клыки, молниеносно вспоров кожу, проникли в живот и разорвали кишки. Кабан отшвырнул человека в сторону. Из ран брызнула кровь. Захар ударился о землю и захрипел. Он не чувствовал своего тела, но оно пробуждалось, обещая адские муки. Толстая шея секача изогнулась, он победно повел рылом. Затем открыл пасть и заговорил. Захар не понял, что сказал секач (единственно реальной и понятной была нахлынувшая на него ужасная, ублюдочная боль), но это были человеческие слова. У дикой свиньи был хриплый мужской голос. Хряк подошел и принялся обнюхивать ноги жертвы, из пасти разило гнилой рыбой, слюна текла в предвкушении плоти. Он рывками подтащил к себе человека, облизнулся, вгрызся зубами в ногу ниже колена, но тут же отпустил. Внутренности Захара густо исторгали кровь. Секач отодвинул пятачком порванную одежду и, придерживая тело копытами, оторвал сочный кусок плоти. Закопошился в кишках Захара. Эта боль! Огромная, свирепая. Она ослепляла. Захар пожалел, что смерть так медлит. Он широко раскрыл рот и завыл. Его начало рвать. Даже умирая, он не хотел захлебнуться, поэтому с трудом приподнял и повернул голову – по щеке потекла зловонная кашица. Взгляд туманился. Кабан смотрел прямо на него. С морды капала кровь. Затем хряк погрузил рыло в живот Захара, словно это был какой-то фокус. «Он. Поедает. Меня». Затылок охотника ударился о твердую кочку. Захар протянул руку, пальцы коснулись жесткой щетины, скользнули по ляжке. Раздалось недовольное хрюканье. Из глотки Захара вырвался предсмертный клекот. Тело бессильно содрогнулось. Пальцы конвульсивно царапали мох. Глаза заволокло патиной, зрачки качнулись потревоженными поплавками, но поклевка не повторилась. Захар умер. С дерева спланировал желтоватый лист и упал черешком в распахнутый рот охотника. Где-то прозвучала трель дрозда.
Оставив добычу выводку, кабан почувствовал потребность в награде. Дождевые черви хорошо насыщали, но в последнее время выпали из спектра его желаний. Он углубился в лес и потрусил по знакомой исхоженной тропе. К полю он вышел в сумерках. Кукуруза пахла изумительно, шелестела совсем рядом, пьянила, звала. Но прежде чем ринуться к хмельному аромату, секач принюхался. Пятачок задвигался на косточке, сморщился, улавливая подсказки ветра. Деревня была далеко – слабый, неопасный запах. Он бросился в высокие стебли, смял их, ткнулся рылом в початок. Разобрался с оберткой зелени, захрустел. Зерна таяли во рту. Он жевал и жевал, не чувствуя, как вертится от удовольствия хвост. За прошедшие годы его клыки стали желтыми и немного затупились, но по-прежнему исправно секли, а рыло с легкостью разрывало даже звенящие от мороза норы, в которых запасливые грызуны прятали свои припасы. Хороший день, вкусная еда. Кабан ощущал наливающийся под кожей калкан, тугой доспех. У него было огромное тело и сильные ноги. Ему был знаком гадкий вид прирученных человеком свиней, он помнил, как пахнет двуногий охотник, видел комбайн, трактор и автомобиль. Он знал, куда бежит река, где заканчивается лес и кто живет в домах за полем. Вокруг густела темнота, сдавливая серое влажное пятно воздуха, в желудке приятно урчало.
Максим Кабир Змееловы
В полотняном мешке лежал утренний улов: три сонные гадюки. Негусто. Григорий Ванягин шел ссутулившись, внимательно глядя себе под ноги. Пахло древесной смолой и багульником. Еловые лапы охлопывали по плечам панибратски, в лощинах колыхалась серебристая дымка. Таежное утро было душным и волглым, и Ванягин искал просохшую почву, взгорки, на которых принимали бы солнечные ванны ленивые рептилии. В семидесятом дядя устроил молодого Гришу Ванягина штатным ловцом в монгольский зоосад. Охотились на гюрзу для генетических исследований. Ежедневно Ванягин собирал до полусотни змеюк; платили по десять-двадцать рублей за голову, в зависимости от размера. И рубль за степную гадюку. У крупной гюрзы зубы вырастали до пятнадцати миллиметров, недаром ее латинское название было Vipera libetina – гробовая гадюка. С такой девчонкой зазеваешься, и пиши пропало. Но за десять лет змеи ни разу не кусали Ванягина; Бог уберег. Михалыч умудрился напороться на смертоносные клыки в институтском виварии. Насилу спасли, но хромота осталась. Вот что значит атеист. Под рифлеными подошвами хрустели изгрызенные скорлупки. Полевки выели нутро желудей. Дубы сменились ельником, справа потянулись болота и вересковые пустоши. Тайга услаждала взор своим разноцветьем: малахитовая, изумрудная, пурпурная – всякая. Постукивал дятел. Свиристели, налопавшись ягод, дремали на раскидистых ветвях. Над синей грядой лесов взмывали утки. Березка всплакнула росой, обронила сережку. Ванягин не отвлекался на красо́ты. Взгляд скользил по путаным следам зайцев, по чешуе еловых шишек, остаткам беличьего пира, по ящерицам и жужелицам в рыжих листьях папоротника. «Ну где ж вы?» Снаряжение змеелова состояло из проволочного крючка и корнцанга – хирургического зажимного инструмента. У бедра болталась рация. В рюкзаке – аптечка, сало, бутерброды, сварганенные Наталкой. Крестик на шее… Все, что надо для работы. В березах, белоствольных, с нежно-красными ветками, запели гаички, запищали пичуги. Ванягин обрызгивался диметилфталатом: комарье атаковало незащищенные участки кожи. Таежный гнус – самый лютый, от него и в спальном вагончике не схорониться, под двойной марлей. Змеелов пересек сосновую куртину и очутился на лужке. Рядом, за гривкой багульника, виднелись болота. Толстые подушки торфяного мха, кружево клюквенных веточек, колоски пушицы. Поддразнивая, шмыгнул в кусты таволги узорчатый полоз. Мысленно Ванягин снова перенесся в Монголию. Его любимицами были песчаные эфы. Нравилось наблюдать, как они ползают, свернувшись тарелочкой, периодически выбрасывая пеструю голову: ни одна другая змея так не перемещалась. «Сильна ты, – думал Ванягин, – да Бог сильней». И – хвать эфу! Или охота на кобр… днем отметить норку вешкой, а вечером вернуться и сторожить… В том не только азарт или прибыль. В том власть человека над природой. Власть подобия Божьего над хладными сумеречными тварями… Воздух постепенно прогревался, сгинул в распадках туман. Ванягин расстегнул штормовку, пообещал плененным змеям, что скоро к ним присоединится товарка. За спиной хрустнула ветка. Ванягин обернулся. Под кроны пихт набилась темнота, словно черное тряпье. «Должно быть, ежи шуруют…» – Змеелов почесал подбородок. Запоздало сообразил, что больше не слышит птиц. Первозданную тишину нарушали лишь жужжание комаров и шелест листвы на августовском ветерке. Запропастились куда-то глухари, зяблики, тетерева. В мешке заворочались трофеи. Ванягин поддел заскорузлыми пальцами крестик, пожал плечами. Не доходя до ольхового перелеска, вскарабкался на пригорок. Что тут у нас? Гнилушки, клок серой шерсти, шарики непереварившейся хвои – лосиный помет. На краю крутого склона торчал пень, и Ванягин заглянул в его выгнившую сердцевину. Колода была напичкана кусками пчелиных сот и гнезд шершней, перьями дятлов, яичной скорлупой. Ванягин осмотрел корневище и возликовал. На лишайнике лежала розоватая метровая лента – щитомордник. Вытянулся во всю длину, сплющился, подставляя себя солнечным лучам. Михалыч будет доволен. В террариуме сейчас ни одного щитомордника нет. Стараясь не спугнуть добычу, Ванягин избавился от рюкзака. Приготовил отдельный мешочек и ловчие инструменты. Приятно защекотало в груди. «Ну, с Богом». Змея почувствовала присутствие человека. Шевельнулась крупная голова, украшенная пятнистым рисунком. Тело пошло волнами, пытаясь ускользнуть под корни. Ванягин наступил на хвост – вполсилы, нельзя навредить. Одновременно воспользовался крюком. Толстая проволока придавила чешуйчатую шею к земле. По поводу змеиной шеи в лагере травили анекдоты. В нос ударил затхлый запах – вонь разъяренного щитомордника. Отворилась пасть, и зубы откинулись как на шарнирах, как выкидные ножи малолеток в переулке. Ванягин перехватил щипцами змеиную голову. Есть! Теперь забросить болезного в мешок, и дело сделано. Победная улыбка стерлась с лица Ванягина. Острая боль прострелила ногу ниже колена. Слепень, не иначе. Ванягин посмотрел вниз и успел заметить черный хвост, всасывающийся в сплетение веток. «Гадюка!» – Осознание обдало чистым дистиллированным ужасом. Он обронил корнцанг, и щитомордник исчез среди корней. В голове замельтешили картинки: мычащая монгольская корова, чье вымя разбухло от укуса кобры. Овцы, ужаленные гюрзой. Блеющие, они мечутся бессмысленно, перед тем как свалиться замертво. «Не паниковать!» – заговорил в Ванягине профессионал. Надо распороть штанину, разбить ампулу, ввести сыворотку. Максимум – будет лихорадить до утра. Змеелов потянулся за рюкзаком. Из пня, из-под мха и сот, выскользнула гадюка. Макаронина в палец толщиной. Широко раскрытая пасть выбрасывала в сторону врага тонкий язычок. От неожиданности Ванягина повело вправо. Почва осыпалась под подошвой, нога ухнула в пропасть, и сам Ванягин, барахтаясь, покатился по склону. Мох смягчил приземление. «Аптечка!» – Ванягина трясло. Пот стекал по лбу. Яд… яд разрушает кровь и кроветворные органы… сердце колотится слишком быстро… жар… На периферии маячила еще одна мысль. Змея никогда не нападает, только защищается… Никогда не нападает, а только… Он разодрал руками штанину и стиснул челюсти. Две крошечные ранки зияли в зарослях курчавых волос на икре. Место укуса пульсировало, пульсировала вена в районе щиколотки, будто живое существо, будто что-то забралось в сапог. Ванягин попытался подтащить ногу к губам. Не доставал нескольких сантиметров. Присосаться к ранкам мешал живот. Обильная Наталкина стряпня. Ванягин застонал от отчаяния. «Аптечка! Найти ее!» Но он продолжал сидеть, заторможенно баюкая ногу, взывая к Господу, и в этот момент из голенища, из укромного уголка между шерстяным носком и толстой кожей сапога, выскочила треугольная голова. Змея разогнулась пружиной и впилась в нос Ванягина. Отклонилась, ударила – теперь в оттопыренную нижнюю губу. Боль была адской, словно в лицо плеснули кислотой. Ванягин опрокинулся на болотную кочку, суча ногами, ощущая, как гадюка ползает по оголившемуся животу и кусает снова и снова. Агонизирующее сознание полыхнуло забытым словом: «Онгбаганджер». Так чабаны называли проклятые участки земли, заполоненные гюрзой, участки, где они не пасли отару. «Онгбаганджер». Ванягин с трудом разлепил веки и увидел нечеткую фигуру. Человек… спаситель… сыворотка… К зрачкам змеелова будто прилипла пленка. Выше груди фигуру скрывала пелена, но в фокусе оставались руки… человек неспешно распаковывал папиросы. Ноготь очертил изображение на пачке, прошелся по Волго-Донскому каналу имени Ленина. Пальцы оторвали уголок, выбили папиросу. «Так курил отец, – подумалось Ванягину в бреду, – скручивал пачку по мере того, как папирос становилось меньше». Человек сплюснул картонный мундштук. Раз, второй, передавил крест-накрест. Чиркнула спичка. «Неужели он не замечает меня?» А потом узкая черная морда заслонила курильщика. Гадюка вползла на лицо Ванягина и вцепилась зубами в его дергающийся глаз. Запах «Беломора» – последнее, что почувствовал змеелов.Лиля Субботина доила змею. Придерживая голову за теменными щитками, вынуждала впиться зубами в край мензурки. Змеиный хвост раздраженно шлепал по столешнице. Из клыков в посуду сочился прозрачный яд. Лиля действовала осторожно: один грамм этой жидкости мог свалить замертво пятерых. Или вылечить… пять сотен. Психические заболевания, несвертываемость крови, радикулит… – Давай, маленькая, – приговаривала Лиля. Второй лаборант, Наталка Якимова, по совместительству – экспедиционный повар, стряпала на полевой кухне, и никто не мешал Субботиной вдоволь поболтать с подопечными. – Еще капелюточку, и мы тебя отпустим. Пойдешь к деткам своим. Vibera berus, обыкновенная гадюка, исподволь цедила в мензурку яд. «Метровая самка, красавица», – нежно думала Лиля. – Правый зубик… левый… не жадничай… Детство Лили Субботиной прошло в Узбекистане. Родители занимались орошением Голодной степи, а Лиля была предоставлена сама себе. Заводила друзей, в основном шерстяных, пернатых и чешуйчатых; со сверстниками как-то не заладилось. Нехитрые секреты доверяла многочисленным дворнягам, ужам, слизням, ложному каракурту, живущему в банке. Одноклассники звали ее Маугли – будто было что-то обидное в имени киплинговского персонажа. Особенно их настораживала усиливающаяся привязанность Субботиной к рептилиям. Бабушка говорила: – Ничего. Повзрослеет, замуж выйдет, забудет блажь эту. Она поступила в Московскую академию имени Скрябина на ветеринарный факультет. Познакомилась с герпетологом Иваном Михайловичем, который и предложил присоединиться к змееловам. Однокурсницы охали: «Сдурела? Что ты в этой глуши делать будешь? А вдруг тебя кобры покусают?» «Нет в Сибири кобр», – возражала она. Понимала: что взять с комнатных девчонок, если даже товарищи по экспедиции считали ее чудной, дразнили змеиной мамкой? Лиля не обижалась, разве только добродушные шутки Черникова, шофера и механика, почему-то вгоняли в краску. – Ну вот и все, умница. Лиля обработала пасть гадюки раствором риванола. Лемберг использовал ток, чтобы добыть яд: прикладывал электроды к змеиной десне. Лаборант Субботина замечательно обходилась без такой экзекуции. Рептилии повиновались, будто зачарованные дудочкой индийского дервиша. Но Лиля знала: расслабляться нельзя. Видела на фотографиях последствия укусов, почерневшую плоть бедолаг. Она поместила извивающуюся подопечную в ящик, чтобы позже выпустить на свободу. За окнами кишела мошкара. Изумрудные мухи, просочившиеся в лабораторию, бились о стекла. До ближайшего населенного пункта – полчаса езды. До Москвы – тысячи километров. Лиля потянулась, вспоминая, как позавчера отметила день рождения в компании коллег. Ей стукнуло двадцать. Маленький, совершенно особенный праздник у костра. Наталка приготовила вкуснейший плов, вместо торта подала сгущенку. Ванягин пел под гитару Высоцкого – известие о смерти Владимира Семеновича застало группу в Хабаровске и сильно опечалило. Третьим тостом помянули великого барда, и Лиля нерешительно пригубила разбавленный спирт из фляги – а потом кашляла и отдувалась под смех мужчин. – В неизведанные чащи, кто-то реже, кто-то чаще, в волчьи логова, в медвежьи берлоги… Лиля пела для змей, кружась по тесной лаборатории. Служебный вагончик разделяли на три отсека перегородки. В первом была операционная, вотчина косматого и лопоухого Лемберга, студента фармацевтического института. Лемберг препарировал погибших рептилий, выявлял причины смерти. Для Лили стало потрясением, что змеи болеют человеческими хворями, например воспалением легких. В середине вагончика оборудовали серпентарий, где содержались пойманные змееловами особи. После сбора яда их отпускали в естественные условия, «по норам». Сейчас, кроме шестнадцати гадюк, там отдыхал двухметровый амурский полоз, гордость Михалыча. Специально для него ученый собирал по болотам мелких лягушат. Полоз готовился к отправке в Московский зоопарк. В последнем отсеке змей, по терминологии бригадира Ванягина, «доили». Чтобы работа ладилась, выносили прежде на солнышко погреться. Сухой змеиный яд, предназначенный для фармакологической промышленности, хранился в пуленепробиваемом сейфе. Каждый грамм – на вес золота, дорогущий и убийственный. Черников рассказал Лиле, что змееловов, недосчитавшихся учтенного яда, в Москве затаскали по судам. Для «сушки» сырой продукт десять дней сберегался в хлористом кальции, где твердел до состояния рыхлых белых хлопьев. Затем взвешивался на аналитических весах и расфасовывался по флаконам. Лиля аккуратно перелила яд в чашку Петри, а ту положила в прозрачный эксикатор. Приноровилась за три недели, отточила движения – одно удовольствие. Да что там, ей даже соскабливать яд было в радость: кропотливый труд, напрягавший всех. Скальпелем по дну тарелочки, до крупинки… И Иван Михайлович не нахвалится, и Черников хлопает по плечу: «Сразу я понял, ты на своем месте, Субботина!» Лиля оглядела мелкоячеистые клетки с питомцами. – Не голодные? А я, пожалуй, перекусила бы. Насвистывая, Лиля сняла хирургический халат, резиновые перчатки и колпак. В отменном настроении покинула лабораторию, вдохнула запах хвои, дыма, булькающей на костре каши. Пушистые облака плыли над мачтовыми соснами. Лагерь состоял из двух желтых институтских вагончиков и грузового ЗИЛа. В центре поляны – кухня, газовые баллоны, длинный стол под тентом, бензиновый генератор. За топливом и припасами ездили в соседний поселок, Варваровку. Воду давал кристально чистый ручей, подковой огибающий стоянку. Жили змееловы во втором вагоне, удобно размежеванном на кубрики с двухъярусными кроватями. Четыре человека в «мужском секторе», два – в «женском». «Изобрели бы еще действительно надежное средство от гнуса, – думала Лиля, – и тайга была бы раем». – Что, Субботина, натрещалась с гадами своими? – Наталка, хрупкая брюнетка, на год старше Лили, помешивала гречку в котелке. Рядом сидел Лемберг – кажется, у фармацевта и симпатичной лаборантки намечался роман. Перед сном, накрывшись с головой одеялом, затыкая уши, чтобы не слушать навязчивое пиликанье лазутчиков-комаров, Лиля представляла Черникова. Как он улыбается, похожий на поэта Есенина, как вытирает тряпкой машинное масло с больших ладоней и этими ладонями обхватывает вдруг талию Лили, а она вырывается, конечно, и, конечно, возмущается. От таких мыслей по телу разливалось тепло… – Вам привет передавали. – Лиля подошла к хрустящему головешками костру. – А где все? Лемберг запыхтел короткой ореховой трубкой, небось считал себя актером Ливановым. Лиля вспомнила, как расстроила ее «Пестрая лента» Конан Дойла: змея мало того, что спускалась из отдушины по шнурку – принципиальная ошибка, змеи так не ползают! – вдобавок Ройлотт приманивал рептилию свистом! Смешно же, ей-богу. – Вася в село поехал, – отчитался коллега, – Михалыч рыбачит, лягушек собирает для Дракоши… – так змееловы прозвали полоза. – А Ванягин на охоте. – До сих пор? – Лиля сверилась с часами. Без пяти два. Бригадир утопал в тайгу засветло. – Странно. – Она посмотрела на лес, частоколом окружавший лагерь. Тени сосен перечеркивали поляну, льнули к ногам. Оркестр сверчков долдонил однообразный мотив. Морщинка рассекла лоб Лили. Смутная мысль забрезжила… и ускользнула, не оформившись, как уж в осоку. – Ничего, – сказала Наталка. – Вместе поужинаем. Михалыч клятвенно обещал налима. – Хотя бы окуня, – сказал Лемберг, отмахиваясь от мошки. Наталка сервировала стол. К каше с грибами – чай, бородинский хлеб из сельмага и тушенка. Лиля отщипнула хлебную корочку и вздрогнула, осененная. – Птицы! – Что – птицы? – Птицы не поют. – Она воздела к небу палец, призывая коллег в свидетели. Щебет клестов, мухоловок, синехвосток, обычно сопровождающий будни экспедиции, умолк. Словно кузнечики и сверчки таки перекричали пернатых, а те, побежденные в песенном конкурсе, ретировались. – Да, и правда, – подтвердил Лемберг. – Тишина… как ее в городе недостает. – Скоро запоют, – сказала Наталка. – А если ты без птиц тоскуешь, попроси Васю – он тебе любую трель исполнит, – и лаборант подмигнула Лиле. Вася Черников имитировал птичье пение – не отличишь от оригинала. Механик вырос в тайге, относился к этому краю, к его обитателям, как любящий сын к родителям, как Лиля к змеям. Зазвякали ложки. – Вкусно, – оценила Лиля Наталкину стряпню. – Это разве вкусно, – поскромничала повариха. – Вот моя мама готовит – умереть можно. – Не самая удачная гипербола, – хмыкнул Лемберг. – Нет, серьезно. Попробовал бы ты ее пельмени! – Уговорила. Жди в гости. – Фармацевт стрельнул глазами. – Эх, мамуля. – Наталка загрустила. – Я ж наврала с три короба, что змеи у нас неядовитые. – Добыча яда из ужей? – Лемберг вскинул комично брови. Лиля заулыбалась. – Что-то новенькое. – Меня бы к батарее приковали наручниками, узнай они, что я гадюк дою… Мама, – по секрету сообщила Наталка, – в церковь ходит. Для нее змеи – от лукавого. Ну, от дьявола. – Грехопадение, – сказала Лиля. – А в буддизме вот змеи – священные животные. Защитники просвещенных… – Тебе такой подход ближе, а? Лиля проигнорировала комментарий. – Индусы почитают Нагов, богов в облике змей, последователей Будды. Змеиные культы существуют у негритянских народностей, папуасов, полинезийцев. А в религии вуду змея олицетворяет Иоанна Крестителя. – Я видела в «Вокруг света», – вставила Наталка. – Про бомбейских заклинателей змей. Они заставляют прирученных кобр танцевать! – Фокусы, – сказала Лиля. – Кобры глухие, так что не слышат звука флейты. Им вырывают клыки и морят голодом, лишая воли. Это не приручение. – Но они ползли к факиру по команде! – спорила легковерная Наталка. – Они ползли в его тень. – Лиля перечитала множество книг про рептилий, изучила труды Пестинского, Никольского, Брэма, и теперь блистала знаниями. – Спасались от палящего солнца. – Все ложь, – сказал Лемберг. И добавил, глянув через плечо: – Вася на запах каши спешит. Лиля вытерла губы, автоматически поправила прическу. Из-за сосен выехал белый, заляпанный грязью «москвич». Припарковался возле грузовика. Водитель выпрыгнул на одеяло спрессованной прошлогодней хвои. Кудрявый, стройный, щеки в светлой щетине. – Приятного аппетита. – Дуй к нам, – подвинулся Лемберг. – Купил? – осведомилась Наталка по поводу какого-то своего заказа. – Черта с два. – Черников был хмур. – Магазин закрыт. – Наверное, переучет. – Я час ждал. Варваровка… словно вымерла. Ни души. Лиля прислушалась к тайге, пытаясь различить среди гула насекомых птичьи голоса, но птиц по-прежнему не было. – Окна ставнями заперты. Собаки молчат. – А дед Кузьмич? – спросила Лиля. У говорливого приветливого Кузьмича змееловы брали яйца для себя и полоза, молоко и домашнее масло. – Нет его, – буркнул Черников. Сунул в рот ломоть хлеба. – Бригадир не вернулся? Лиля отставила тарелку. – Я с ним свяжусь. – Ага. Пусть поторапливается, съедим всё. Вон и Михалыч чешет. Из подлеска шагал, прихрамывая, научный руководитель экспедиции, шестидесятилетний Иван Михайлович Скрипников. На плече – удочка, в кулаке – авоська с уловом. Лиля издалека помахала герпетологу и вбежала в спальный вагончик. Переносная радиостанция стояла на столе при входе. – Охотник, охотник, прием, – пользуясь станцией, Лиля чувствовала себя героиней шпионского фильма. – Это лагерь, ответьте. Тишина. Лиля нервно пожевала губу. «Спокойно. Ванягин – профессионал. В бытность штатным ловцом монгольской зообазы гюрзу чуть ли не голыми руками брал. Он с гадами на „ты“». «А с медведями? – шепнул внутренний голос. – С браконьерами?» Лиля постучала костяшками по столу, снова пощелкала тумблером. Тщетно. «Да что ж такое…» – Не волнуйтесь, милочка, – сказал ей на улице Иван Михайлович. – Гриша, если в раж входит, глух и нем. – Нельзя так, – насупилась Лиля. – С нашей-то работой. – Я его пропесочу, будьте уверены. – Как порыбачили? – Лиля слушала не рассказ про сорвавшегося с крючка ельца, а фон из жужжания мух и сверчкового стрекота. Лемберг и Черников курили, Наталка куда-то отлучилась. – Будет на ужин уха, – подытожил Иван Михайлович. – И Дракоше угощения. Лиля все смотрела на сосны и все прислушивалась, мрачнея.
Со змеями Скрипникова «познакомил» дед, руководитель кружка юных биологов Ташкентского зоопарка. Забавно, что день посещения серпентария – самое раннее воспоминание Ивана Михайловича. До него – тьма забытья, после него – целая жизнь, связанная с рептилиями. И первая драка: Скрипников напал на хулигана, убившего безобидную медянку, вцепился ему в волосы, заранее зная, что проиграет. И первая любовь: с кареглазой Адлеей они ловили ящериц и черепах. Была и настоящая инициация, как в книгах про индейцев. Память запечатлела долговязую фигуру деда. В легком костюме, в тюбетейке, он идет вдоль верткой речушки, обучая внучка: – Змеи – древнейшие обитатели планеты. К ним надо с уважением, их надо беречь. Жестом требует внимания, садится на корточки, хрустнув коленями. – А вот и мы! Из дерна торчит чешуйчатый хвост. Двенадцатилетний Ваня приплясывает в предвкушении: хватай! – Сам хватай. – Дед вручает пинцет, смотрит Ване в глаза – как взрослому, серьезно-серьезно. – У тебя получится. Главное – не спеши. Ваня не спешит… затаив дыхание, подводит пинцет к хвосту. – Следи, – говорит дед, – за ее головой. Такое положение, когда головы не видно, самое опасное. Тут важно сразу оторвать от земли. Иначе уцепится чешуей за почву и выбросит морду назад. Ваня следит. Глаза вылезли из орбит от напряжения. Рывок – степная гадюка в воздухе, извивается, тянется зубами к незащищенной руке. Нервы мальчика не выдерживают. Он отбрасывает змею прочь, а дед, хохоча, придавливает ее рогатиной, наматывает, как вермишель на вилку, и лихо сует в мешок. – Ну, не вешай нос, – говорит. – Операция была рискованной. Все с опытом приходит. Идем. Ване хочется плакать от стыда, но он сдерживается, семенит за наставником… Деда вспомнил он позже, в страшном непроходимом Мончаловском лесу, где, утопая в болотах, держала последнюю оборону Двадцать девятая советская армия. Красная, разбухшая от крови жижа стала братской могилой павшим солдатам. В час затишья двадцатилетний сержант Скрипников обнаружил под ясенем, на кукушкином льне, раздувшуюся гадюку. Она вела себя необычно: голова и передняя часть туловища пытались ползти, но середину словно пришпилили к коричневым стеблям льна. Скрипников решил было, что змея повредила позвоночник, как вдруг под мелко вибрирующим хвостом образовался комок слизи. Комок шевелился… из него выбирался крошечный змееныш. На глазах ошеломленного Скрипникова, видевшего смерть вчера, видевшего, как артиллеристу начисто оторвало ноги и бурые кишки вывалились в грязь, на его глазах новорожденная змейка делала первые «ползки» по траве, а «мамаша» поедала гадкий послед и производила новых деток… Жизнь шла своим чередом, несмотря на взрывы и стрельбу. И Скрипников нашел утешение в этих змеиных родах… умиротворение нашел и силы довоевать до Победы. С того дня минуло без малого сорок лет. Иван Михайлович сотню раз наблюдал за тем, как появляются на свет рептилии. Дважды ядовитые змеи его кусали; после укуса гюрзы он хромал. Но гадюка, встреченная в тверских лесах, навсегда угнездилась в его памяти. И маленький «гадик», пробивающий оболочку. Иван Михайлович облачился в халат, перчатки. Хирургическую маску надел, но сдвинул ниже подбородка. Запах лаборатории был для него лучше французских духов. Пахло хлоркой, дезинфекцией, узнаваемо подванивало щитомордниками, хотя их всех Черников отпустил накануне. Стойкий душок у этой братии. Может, бригадир добудет экземплярчик… Научный руководитель экспедиции подковылял к ящикам. Гадюки спали, свернувшись тугими клубками, водрузив головы на свои кольца. В отдельном вольере пробудился амурский полоз, известный также как полоз Шренка. Расправился эффектно. Черную шкуру опоясывали косые желтые полосы. – Это я, Дракоша. Змея узнала, ткнулась в крышку, точно верный пес – в ногу хозяина. Улыбаясь, Иван Михайлович открыл клеть. Темная шкура гада красиво переливалась и поблескивала. Полоз положил морду на край ящика, следя за хозяином. Зрачки не вертикальные, как у соседок, а круглые, глаза – не меньше копейки. – Соскучился? А я тебе вкуснятины наловил. Работа приносила Ивану Михайловичу радость. И ему, и бригадиру Ванягину, и молоденькой Лиле – все читалось на их лучащихся лицах. Здесь, в тайге, где по утрам от росы сверкали травы и змеи сбегали от луж к прогретым плешинам и кочкам, лежали, недвижимые: бери – не хочу. Ведали бы, глупые, что огромная страна нуждается в них. Для приготовления болеутоляющего «Випросала» использовали яд гюрзы. В алтайском институте производили кровоостанавливающее средство на основе того же яда, в Таллине «гадючий сок» применялся при создании противовоспалительного и болеутоляющего препарата «Випраксин». Мази от артрита, отечественные, а не гэдээровские, и яд советский, не покупной, не валютный… Одной гадюки хватит на сотню тюбиков, а кто ловит этих гадюк, кто рискует собой на благо государства? Он, Скрипников, и его ясные соколы и соколята. Горделиво выпячивая грудь, Иван Михайлович сунул пятерню в банку, выудил перепуганную липкую лягушку, розовую, как конфета. Лягушка не квакала, а будто постанывала. – Угощайся. – Иван Михайлович бросил добычу в клеть. Вместо того чтобы отправиться за нею, Дракоша всплыл над вольером мускулистым черным канатом. – Разминаешься? Тесно, понимаю. В Москве будет тебе вольготно. Полоз демонстрировал брюхо, мелкие пластины. Несколько щитков отсутствовало: Иван Михайлович делал «выщипы», пинцетом удалял пластинки, чтобы пометить змею. И после линьки метки сохранялись. Дракоша вальяжно переполз на подставленную руку ученого. Оплел предплечье мощным прохладным телом. Потерся мордой. – Полегче, – закряхтел Иван Михайлович. – Отпускай… Но кольца сжались сильнее. Кисть Скрипникова вывернулась. В клетке квакнула лягушка. – Плохой мальчик, – морщась, сказал Иван Михайлович, – папе больно… Черные блестящие чешуйки «текли» вокруг локтя, могучее тело сворачивалось кольцами, холодные безжалостные глаза смотрели на человека выжидающе. – Эй… – слабо воспротивился Иван Михайлович. – Эй! Лучевая и локтевая кости сломались так же легко, как ребенок сломал бы хлебную соломку. Скрипников задохнулся от боли. Рванулся на поиски выхода, на поиски коллег, но вместо того, чтобы идти к двери, слепо поковылял в лабораторию. А полоз давил, круша кости, превращая их в труху. Взятая в капкан плоть между витками змеиных мышц опухла и стала фиолетовой. Иван Михайлович лишился дара речи. Не мог ни кричать, ни плакать. Отступая… от кого? От собственной руки?.. он врезался задницей в стол. На пол посыпались гирьки аналитических весов, грохнулся стерилизатор. – Лиля… – просипел Иван Михайлович, – Вася… Предплечье снова хрустнуло, и кисть заметно увеличилась, словно перчатку надули. Под прозрачной резиной ладонь посинела. Но не деформация конечности заботила Ивана Михайловича в первую очередь. Полоз «вытек» на самое плечо и в упор разглядывал перекошенное лицо кормильца. Пасть отворилась, по ее кайме, по нёбу протянулись ряды частых мелких зубов. – О-о-о… Челюсть Ивана Михайловича безвольно отвисла, с уголков губ сочилась слюна. Он вспомнил Мончаловский лес, разодранного снарядом артиллериста, рожающую гадюку. Вспомнил деда и себя, мальца, бегущего по степи с кружковцами, и длинные ресницы Адлеи… И, наконец, тьму, равную небытию. Полоз боднул лбом, расплющивая верхнюю губу Скрипникова о резцы, подмял под себя преграду – трепыхающийся язык человека и принялся пролезать в округленный распахнутый рот. Сдвинутая на шею маска промокла от капающей слюны. Глотка Ивана Михайловича разбухла и вибрировала, точно чрево удава, поглощающего жертву. Только вот удав находился внутри. Сосуды лопнули, окрасив белки́ Скрипникова багровым. Из ноздрей брызнули розовые сопли. Сухожилия, удерживающие скособоченную челюсть, заскрипели как несмазанные дверные петли. Скрипников умер, а полоз продолжал вползать.
За период тесного «сотрудничества» с ядовитыми змеями Лиля привыкла брать в тайгу аптечку, укомплектованную сывороткой и бинтами. Так она чувствовала себя спокойнее в тенистых рощах, наводненных гадюками. На случай иных недоброжелателей имелась двустволка; ружье нес Черников. Вдвоем они углублялись в тенистые дебри, в лабиринт шершавых стволов и переплетенных ветвей. Выдвинулись около трех, и уже час без толку шатались лесами и подлесками. Или с толком? Компания механика была приятной. Лиле нравилось, как он галантно подает руку, помогая перебраться через поваленное, расщепленное молнией дерево или перепрыгнуть овражек. Лаборантка одергивала себя, напоминая о цели вылазки. Ванягин мог свалиться в ров и сломать ногу. Или, чего хуже, забрести в топкое болото. Или впервые промахнуться щипцами, хватая змею… Да, опыта ему не занимать, но тайга опасна и сурова. Солнечные лучи еле пробиваются сквозь зеленую шапку, бурелом отбрасывает рогатую тень. На поиски бригадира Лилю снарядил Лемберг. Шепнул, дескать, Черников идет, не желаешь составить парню компанию? То ли хотел сбагрить коллег и провести время с Наталкой, то ли сватал Лиле Черникова… И вот они с механиком идут меж хаотично разбросанных сосен. В низине ветерок спутывал гривы тальника. Булькали и квакали болота, замаскированные осокой. Лиля прежде не заходила так далеко в тайгу. Озираясь на кусты калины и лимонника, на быстрые тени у ив, она задавалась вопросом: куда делись птицы? Иволга и удод, пичуга и глухарь. Почему утки не взмывают над болотами, не бормочут тетерева, не кряхтит вальдшнеп? – Ты такое слышал? – спросила Лиля. – Такую тишину? Черников принял вид человека, который слышал и видел абсолютно все. Молодецки заломленная кепка, травинка в зубах. Ему и гнус не мешал, противно зудящий над головами. – Слышал, и не раз. Бабка говорила «чертова минутка». То бишь птицы не поют. – Наверное, интересно – жить постоянно в тайге? Знать ее как свои пять пальцев. – Э, нет, – улыбнулся Черников, – так никто тайгу не знает. У нее всегда секреты. Вот, – он кивнул на изрытый пласт дерна. – Кабанья копка. Кабаны, ежи, лоси – они коренные обитатели тайги. А мы, мы – пришлые. На денек. Заразившаяся меланхолией, Лиля оглядела древние заросли, вековые топи. Когда-нибудь сюда пригонят рычащую технику, осушат болота, проложат железнодорожные рельсы и асфальтовые шоссе. По перегною, по живому, по трупикам гадюк, доенных лаборантом Субботиной. У уха прожужжал комар. – А змей, – спросила Лиля, подбросила хворост в костерок разговора, чтобы не идти молча, – змей ты давно ловишь? – С детства. Раньше убивал их, глупый был. Потом усвоил, что они… ну, что во многом лучше людей. – Ты перебарщиваешь. – Наверное… Лиля посмотрела исподтишка на спутника, на его светлые брови и пушистые ресницы. – Думаешь, с бригадиром все в порядке? – Само собой. Гадюка клюет, он и время позабыл. – Заговоришь об осле – уши покажутся. – Ты про что? Лиля подобрала длинный прутик и осторожно пошевелила им листья лопуха. Под листьями лежала кучка, которую Лилины сверстницы наверняка приняли бы за коровью лепешку. Потревоженная, кучка обратилась в резвый шнурок, мгновенно скрывшийся от глаз. – И в кого ты такая смелая? – спросил Черников без сарказма. Лиля была польщена. – Вроде как в прадеда, – сказала она серьезно. – А кем был твой прадед? – Клянешься не смеяться? – Интригуешь. Клянусь. – У меня сомнительное происхождение. – Она пнула сапогом кочку. Вспомнила моложавого усача на единственной черно-белой фотографии, хранившейся в родительском серванте. – Прадед был классовым врагом. Офицером царской армии. – О как! – присвистнул Черников. – В шестнадцатом году умер от туберкулеза. Бабушка до семи лет прожила в Петербурге, с гувернанткой и горничной. – Лиля хихикнула. Бабуля часто твердила о ее необычайном внешнем сходстве с предком-офицером. Надеялась, что внучка сменяет рептилий на лошадей, займется конным спортом. – Прадед, – разоткровенничалась Лиля, – участвовал в Туркестанской кампании. Освобождал от бандитов Среднюю Азию. По семейной легенде, из походов привез ручную кобру. Лиля ироничной гримасой продемонстрировала свое отношение к байке. – Тогда ясно, – заключил Черников. – Ваше благородие… – Но это между нами, да? – Слово офицера! Перешучиваясь, они преодолели мелкую протоку, текущую из распадка. Птицы все так же безмолвствовали. Взбираясь на возвышенности, Лиля и Черников наперебой звали Ванягина. Отвечали им жабы и комары. – Пацаном, – сказал Черников, – я искал в лесах двухголовую змею. Лиля возразила, обрызгиваясь вонючим средством от насекомых: – Не бывает таких. – Кто б знал! Дед Кузьмич вон говорящую гадюку встречал… позволь… Он взял у Лили флакон, поднял ее волосы и побрызгал на основание шеи. Растер пальцами, оказавшимися очень ласковыми. – Спасибо. – Лиля отвела взор. – Вась, – окликнула на очередном пригорке, – Лемберг с Наталкой в субботу в город едут, кино смотреть. – Имелся в виду районный центр, скопление хилых трехэтажных коробок. Дом культуры по выходным крутил фильмы. – Что-то с Жаном Маре, но не «Фантомас». От волнения вспотели руки. «Ну, отвечай же скорее», – сверлила она взором спину Черникова. – Я кино не люблю, – сказал механик после паузы. – Скукота. Но не успела Лиля расстроиться, как Черников добавил: – Лучше порыбачим вместе. – Хорошо. – Она убрала с глаз челку, прикусила губу. – Договорились, – чуть не сверзилась в яму, оскользнувшись на мокром пористом мху. Черников расторопно подхватил под локоть. Лиля фыркнула, сдувая приклеившийся к носу локон. – Гляди, – Черников указал куда-то вниз. Ступенчатый склон холма упирался в поросль мелкорослой осины. Чапыга окантовывала воротом каменистую площадку. – Ого, – сказала Лиля. Пустырь был выложен валунами. Обломки горной породы, пригнанные друг к другу, образовывали волнистый гребень по центру площадки, вроде вопросительного знака или… – Это что? Силуэт змеи? Черников подтвердил, обводя пальцем свернутый хвост и выгнутое туловище. Каменная рептилия изготовилась к прыжку, и было в ней добрых четыре метра. – Такие по всей тайге разбросаны, – сказал Черников. – Я сам видел штуки три. Лиля зачарованно оглядывала находку. От примитивного сооружения веяло такой же стариной, как от менгиров и дольменов на картинках в учебниках истории. Старые камни… масляное масло… – Это святилище, да? Она подумала о наскальных рисунках Сикачи-Аляна, амурских петроглифах. К петроглифам ее, Наталку и Лемберга свозил на экскурсию Михалыч, пока бригадир оформлял документы в райсовете. Среди изображений мамонтов и шаманов попадались картинки с рептилиями. – Старожилы, – сказал Черников, – называют их Гажьимикапищами. Говорят, племена, обитавшие здесь раньше, поклонялись праматери змей. Дауры или гиляки… до появления русских. Но капища они не строили, а обнаруживали, как мы. Будто натыкались на чужие храмы и начинали в них молиться. Тишина, царившая над осинником, набивалась в уши ватой, оглушала. Лиля балансировала на краю обрыва, жалея, что не прихватила фотоаппарат. Тень от камней трепетала второй, сотканной из темноты гадюкой. – Ходят слухи, на Гажьих капищах спрятаны клады. Подростком я копал под валунами. Не этими, но такими же, на севере. Мечтал о золоте Стеньки Разина. – Что-нибудь нашел? – Лиля не заметила, как прильнула плечом к твердому плечу Черникова. – Костище, – чуть слышно произнес механик. – Что? – Слой пепла и пережженных костей. – Человеческих? – Лиля сглотнула. – Нет, – усмехнулся Черников. – Змеиных. Целая гора змеиных косточек и ребрышек. Лиля намеревалась о чем-то спросить, но в кармане Черникова защелкало. – Бригадир отыскался. – Черников вынул рацию. – База, прием. Лиле никак не удавалось оторвать взор от простенького каменного змея, отороченного осинами. Но, услышав искаженный помехами голос Лемберга, она забыла про находку. – Ребята, возвращайтесь. Немедленно. – Что случилось? – Лиля привстала на цыпочки. – Возвращайтесь, – повторил Лемберг, и связь прервалась.
То, что стряслось нечто ужасное, Лиля поняла, как только они вышли из подлеска. Побледневший, взлохмаченный Лемберг наматывал по лагерю круги. Наталка сидела на складном стульчике, стиснув дрожащими руками алюминиевую кружку. Бурчал генератор, ему аккомпанировали мухи и комары. У Лили засосало под ложечкой. – Эй, вы чего? – Михалыч мертв. – От Лемберга пахнуло спиртом. – Что? Как? – Лиля ошарашенно таращилась на коллегу. Наталка быстро закивала. Ее личико распухло от слез. Подмывало выпалить: да вы просто наклюкались! Никто не умирает в нашей экспедиции! Мы здесь делом заняты, а не ерундой! – Он весь… – Наталка захныкала, крупная капля сорвалась с ресницы, – сломан, как кукла. – Толком говорите! – потребовал Черников. – Он там. – Лемберг посмотрел боязливо на служебный вагончик. – Ушел работать сразу после вашего ухода. Мы с Якимовой гуляли… Нашли его где-то в половине пятого. – Вы… уверены, что он?.. – Господи, да! – Лемберг оросил Черникова слюной. – Его убили, – сказала Наталка, зажмуриваясь. – Кто-то забрался в лабораторию и… Черников снял с плеча ружье. Направился к вагончику. – Милицию оповестили? – Я пробовал, но связи с городом нет. – А бригадир? – Ни слуху ни духу. Черников уже открывал дверь вагончика, и Лиля последовала за ним. Наталка всхлипнула: – Не смотри на него. Лучше не смотри. В операционной было жарко. Мошкара роилась в воздухе, и пахло скверно. Так пах мальчик, слетевший с мопеда в овраг. Это было несколько лет назад. Старшеклассница Лиля кинулась тогда на помощь; сталь барьерного ограждения вспорола пареньку живот. Он слабо охал. Внутренности вывалились грудой и изгваздались в пыли (как же их мыть? – ужаснулась Лиля). Лемберг, замыкающий шествие, пробормотал в Лилин затылок: – Дракоша пропал. Клетка с амурским полозом опустела. За металлическими сетками ерзали и шипели взбудораженные гадюки. Заговори они по-человечески, о чем бы поведали людям? Под ногами звякнула чашка Петри. Черников встал как вкопанный, и Лиля врезалась в его спину. – Не смотри, – продублировал механик мрачное предупреждение Наталки. Но Лиля посмотрела. Иван Михайлович сидел на полу среди блестящих гирек. Он, без сомнения, был мертв, и смерть его не имела ничего общего ни с естественными причинами, ни с укусом змеи. Вывернутая, явно сломанная рука покоилась на коленях. Челюсть выскочила из сустава, а шея разбухла вдвое. Крови было немного: на съехавшей под подбородок маске и на зубах в распахнутом рту. Лиля вскрикнула, отворачиваясь. – Я говорил! – зловеще прокаркал Лемберг. – Что, черт подери, произошло? – хрипло спросил Черников, будто требовал отчета у гадюк или у изувеченного мертвеца. Змееловы толпились в узком пространстве между серпентарием и лабораторией. – Яды! – осенило Лилю. Она протиснулась мимо Черникова, переступила через ноги Ивана Михайловича. Сердце норовило вылететь из груди как ядро из пушки. – Не похоже, что его цапнули, – сказал Черников угрюмо. Лиля хотела произнести вслух свое подозрение: напавшие на ученого ублюдки похитили ценный продукт. Но мысли не складывались в предложения, и она молча обследовала лабораторию. Сейф оказался надежно заперт, сырой яд сушился в чашках. Ни грамма не пропало. Лиля выругалась – в третий раз за двадцать лет жизни. Лемберг выдал свою версию: – А что, если Дракоша его убил? – Глупости, – процедила Лиля. – Агрессивный полоз способен укусить человека, но полоз – не удав и… Она запнулась. Из-за опечатанного шкафа с эксикаторами медленно и торжественно всплыл Дракоша. Словно черно-красный пожарный рукав, декорированный косыми полосами. Шкура лоснилась от крови, к брюшным пластинкам прилипли частички чего-то багрового и зловонного. Лиля распахнула рот, точно неумело пародировала посмертную гримасу Скрипникова. Полоз вмиг очутился на столе, черные ненавидящие глаза сверлили Лилю. Где-то в углу квакнула лягушка. Время замедлилось. Дракоша отклонился перед рывком… Громыхнул выстрел, и голова змеи взорвалась кровавыми ошметками. В тесной лаборатории звук рубанул по мозгам как молот. Лиля зажала уши. Обезглавленный полоз плавно оседал на столешницу. Из обрубка шеи вился сизый дымок. «Нет, – сигналил разум Лили, – змеи так себя не ведут. Я же читала…» Черников опустил двустволку. Его губы беззвучно шевелились. Колокольный звон заглушал слова. – А? А? Беспомощное «а» дробилось эхом в пещере между височными костями. Пахло порохом и медью. Так пахнет война? Потом в ушах хлопнуло – и слух вернулся. Не настолько, чтобы уловить шорох трущихся друг о друга пластинок дохлого уже полоза, но достаточно, чтобы услышать, как снаружи визжит Наталка.
Первое, что увидела Лиля, выпорхнув из вагончика за мужчинами, была лаборантка, зачем-то взобравшаяся с ногами на стол. Ножки стола, которые Черников укрепил брусьями, плясали под весом девушки. – Змеи! – вскрикнула Наталка, хлопая ресницами, отчаянно царапая ногтями заплаканное лицо. – Змеи в траве! Затем Лиля увидела гадюк. Черные змейки юркали в пырее, огибали опрокинутый котелок и желтую «Спидолу» Ванягина. Вопреки всему, что писалось в книгах, они ползли к людям. Лиля вспомнила глаза полоза. Бурлившую в них ненависть. Но ведь это абсурд! Рептилии не знают ненависти, равно как и любви… – Назад! – скомандовал Черников. Что-то мазнуло по плечу, зацепив шею, будто погладило холодным пальцем. В желудке Лили разлилась желчь. Периферийным зрением она засекла пикирующие сверху, извивающиеся макаронины. Дождь из змей… Она обернулась. Гадюки падали с крыши служебного вагончика. Лемберг истерично вопил и взлохмачивал волосы, избавляясь от мерзкого десанта. «Сколько же их здесь?» – опешила Лиля. Змеи не старались, как положено их племени, уползти, трусливо зарыться в дерн. Они атаковали. Выгнувшись морскими коньками, норовили клюнуть Лилины ноги. Они больше не испытывали страха, но сами были страхом. В полуметре от Лили серая гадюка с Z-образной полосой вдоль туловища зашипела и вздыбилась. Кинула вперед тошнотворно толстое тело. Черников ударил прикладом, впечатав в землю треугольную голову рептилии. – В машину! – крикнул он. Мир кружился в безумном хороводе. Гадюки сновали под подошвами. Извивались в умывальнике и на капоте ЗИЛа. Они оккупировали лагерь, жирные, блестящие, неуловимые. Они принесли людям свой драгоценный яд. – Сюда! – Лиля подскочила к столу. Наталка затрясла головой. Черные живые ручейки в сорняке струились к девушкам. – Давай же, дура! Наталка, хныча, схватила коллегу за руку и спрыгнула на землю. «Это нашествие, – подумала Лиля, утягивая Наталку в сторону „москвича“. – Птицы чувствовали». Лемберг пятился задом и высоко подбрасывал колени, словно персонаж немой комедии. Он шел вслепую и врезался в занозистый столб, одну из опор, удерживающих марлю над обеденным столом. Столб накренился, а полог спланировал прямо на голову фармацевту. Запутавшись в тройном слое ткани, Лемберг повалился ниц. – Иди, иди! – Лиля подтолкнула Наталку к машине, ринулась обратно. Заметила сумку с аптечкой и на ходу подобрала ее. Черников кружился, отгоняя обезумевших гадюк ружьем. Приклад вспахивал землю. «Нам никто не поверит», – подумала Лиля. Нагнулась над Лембергом… и сразу отпрянула. Фармацевт кричал на одной жуткой похоронной ноте. Марля облепила его, спеленала точно мумию, и под этим саваном кишели гадюки. Напоминающие угрей, они ползали по груди и лицу Лемберга и кусали, кусали, кусали, впрыскивая под кожу яд. – Идем, – подбежавший Черников моментально оценил ситуацию. Обнял протестующую Лилю за талию. Фармацевт затихал. Мышцы деревенели. – Его не спасти, идем. Слезы застили обзор. Лемберг… Михалыч… Коллеги, друзья… День рождения под песни Высоцкого… смех… В трех метрах от «москвича» ждала ловушка. Сырой карась, улов Скрынникова, невесть как оказавшийся в траве. Рыба хлюпнула под подошвой, выпустив кишки, а Лиля упала на четвереньки. Что-то кольнуло в мизинец. Кисть обожгло. – О нет! – Лиля воззрилась на гадюку, отползающую прочь, на свой палец, украшенный отметиной – уколом гадючьего зуба. И застонала.
Померещилось, что в салоне автомобиля прячется змея. Лиля ахнула и вытащила из-под задницы огрызок провода. Черников лязгнул дверцами, последним скользнув на заднее сиденье. Подвинул причитающую Наталку. – Пересаживайся за руль. – Но я… у меня не получится… Вечерами Лемберг учил Наталку водить машину. Теперь его нет. Веселого, дурашливого фармацевта прикончили рептилии, и он не раскурит трубку, не подмигнет задорно. А вдруг это сон – и Лиля проснется на верхотуре двухъярусной кровати, умоется, позавтракает овсянкой, болтая с Иваном Михайловичем о повадках аспидов… Лиля ошеломленно смотрела на мизинец. То ли змея была однозубой, то ли зацепила боком пасти. Укус пришелся во вторую фалангу. Палец распухал. – За руль! – рявкнул Черников так, что Наталка съежилась и перестала хныкать. Молча перелезла на водительское кресло. – Дай мне, – Черников взял Лилю за руку. – Ничего, до свадьбы заживет. – Аптечка, – вспомнила Лиля. – Не сейчас. Черников вынул из куртки охотничий нож. Машина забухтела и тронулась. Сквозь щелочки полуприкрытых глаз Лиля видела уменьшающийся в боковом зеркале гиблый лагерь. – Будешь резать? – спросила она. Язык опух, как и палец, и едва ворочался, царапаясь о пересохшее нёбо. – Нет. – Механик потянулся к своим ботинкам и лезвием откромсал кончик шнурка. «Москвич» вилял, подпрыгивал на ухабах. Пассажиров болтало по салону. Черников наложил на раненый палец тугой жгут. Лиля замычала от боли. – Крепись. Он обхватил губами раненый палец и принялся сосать. Лиля откинулась на спинку сиденья. Голова кружилась, за ребрами будто бы расцветал пышущий жаром огненный цветок. Единственное место, где ей было хорошо, – рот Черникова. Надо целиком просочиться туда… Черников сосал и сплевывал, и снова сосал. Через три минуты слюна его стала розовой. А палец – небесно-голубым. Черников удовлетворенно кивнул. – Яд сворачивает кровь и закупоривает рану. Кровь пошла, хорошо. Это точно была гадюка? – Точно… Нейротоксины разливались под кожей. Лилю словно сунули в печь. Она ощущала себя мешком, полным раскаленного песка. Вслед за пальцем раздалась вширь кисть. Выдубленный язык, выдубленный мозг… «Анафилаксия, – произнес приговор внутренний голос. – Аллергическая реакция, отек носоглотки…» Наталка вцепилась в рулевое колесо и изредка поглядывала на пассажиров. От дорожной тряски песок сыпался из ноздрей и ушей Лили… – так ей казалось. В руке Черникова появилась ампула с сывороткой. Укол, и иммуноглобулины отправились путешествовать по Лилиным венам. – Скоро полегчает. – Черников достал из-за подголовника бутыль и приставил горлышко к сухим губам Лили. Она сделала несколько жадных глотков. Вода была теплой, но неимоверно вкусной. – Спасибо. – Все кончено, – подбадривающе сказал Черников. – До больницы еще не доедем – будешь совершенно здоровой. – Бензин, – Наталка стукнула кулачком по датчику уровня топлива. Стрелка ложилась влево. – Я в курсе, – Черников промыл рот водой. – Дозаправимся в Варваровке. Лиле было сложно удерживать веки поднятыми. Она обвела друзей мутным взором. Лицо Черникова зыбко двоилось. А где остальные? Лемберг умер… и Михалыч… Михалыча убил полоз… бред… горячечный бред! Внезапно глаза Лили округлились: – Ванягин! Он вернется в лагерь, а там… – Прежде всего, – сказал Черников, убирая волосы с Лилиного лица, – мы позаботимся о себе. Тайга провожала автомобиль безразличными глазищами дупел. За деревьями клубилась мгла. – Змеи, – прошептала Лиля, – не должны… так… себя… Она нырнула в мазутную убаюкивающую темноту, а когда выплыла на поверхность, обнаружила, что «москвич» стоит, окруженный исполинскими соснами. Наталка уперлась подбородком в руль. Сиденье слева опустело. Лиля поискала глазами, вздохнула, увидев в окне Черникова с канистрой под мышкой. Свободной рукой механик вытряхнул из пачки «Беломорканала» папиросу, дунул в мундштук, чтобы вытряхнуть попавший туда табак, и сказал: – Ждите, я скоро вернусь. Задержать его не хватило сил. Лиля смежила веки и вновь погрузилась во мрак.
Поток слез иссяк. Наталка тупо таращилась сквозь лобовое стекло туда, куда полчаса назад ушел Черников. Искусанные ногти царапали руль. Проселочную дорогу подпирали с боков сосны. Вечерело, и небо насыщалось багрянцем. Солнце, прощаясь до утра, золотило хвойные лапы. Сумрак в глубине просеки казался мыслящим, живым, а поваленные деревья прикидывались ископаемыми рептилиями, громадными питонами. Если что-то решит прийти из леса и выломать хрупкие дверцы автомобиля, никто не защитит Наталку. На заднем сиденье спала Лиля. Ниточка слюны свисала с ее подбородка. Лицо было бледным, осунувшимся, под глазами образовались круги. Такие же темные круги украсили и Наталкины глаза; она посмотрела в зеркало, оттянула нижнее веко пальцем. Чужая, постаревшая за миг тетка. Мама была права, как обычно. Нечего Наталке делать в Сибири. И насчет гадюк права. Дьявольские отродья, олицетворение Сатаны. Змий искушал Еву яблоком в каком-то саду. Наверное, Гефсиманском – Наталка не помнила точно. Она, дуреха, слушала мамины россказни вполуха. И что теперь? Она и молитву-то ни одну не прочтет. Кроме «Отче наш, иже еси». А дальше? От жалости к самой себе сердце обливалось кровью. С сегодняшнего дня Наталка боялась змей. Боялась пуще смерти, или это были синонимы – смерть и гадюки, гадюки и смерть. Зажмуриваясь, она видела извивающиеся в траве веревки, слышала треклятое шипение. Всю оставшуюся жизнь – все семьдесят лет – напророчила себе Наталка – она будет вскрикивать, наткнувшись на садовый шланг. Выключать телевизор, транслирующий мультик про Каа или про тридцать восемь попугаев. Змеи на гербах, змеи в сказках, змея, оплетающая посох Асклепия… символ мудрости, но Наталка смотрела в желтые гадючьи глаза. Там была не мудрость, а дистиллированная злоба. Коварная осквернительница водилась даже в «Маленьком принце», любимой книжке Наталки. Позади Лиля всхрапнула и тихо, но отчетливо произнесла: – Эй ты! Ты, тебе говорю! Живой? Бормотала во сне или бредила. Не живые уже. Ни Михалыч, ни Лемберг. Скорее всего, и Ванягин помер в тайге, лежит где-нибудь под малинником, издырявленный ядовитыми зубами. Тишина была подобна пытке. Птицы улетели из этих страшных краев. Наталка втемяшила себе, что и она улетит – обязательно, на самолете. Ни разу не летала, будет ей моральная компенсация. Главное, пусть гробы транспортируют отдельно. Трупы Наталку пугали. В сосняке мельтешили бесформенные тени. Бензин закончился на подъезде к Варваровке. Черников забрал ружье, канистру и ушел за подмогой. Велел ждать. Они все уходят. Отец Наталки – к подколодной змее, чтобы нарожать змеенышей, сводных Наташиных братьев, чтобы мама свихнулась и сутками штудировала Библию. Лемберг уходит в смерть, обряженный привидением из хорошего мультика про Карлсона. Так заведено. Ах, если бы Наталка знала! Разве стала бы она уворачиваться от объятий Лемберга там, у ручья? Смеяться, корчить неприступную королеву? Они гуляли по бережку, любовались оранжевой белкой, и Лемберг пытался поцеловать Наталку. Когда это было? Вчера? Нет же, сегодня, три часа назад. Никто не называл фармацевта по имени – Антон. Лемберг и Лемберг. Она бы его и в браке так звала, если бы он предложил замуж. И в постели… в постели… Наталка испустила скрежещущий, полный скорби стон. Попробовала снова поплакать, поднатужилась, но только в туалет захотела. Мочевой пузырь напомнил, что Наталка жива. Дышит, сморкается, писает. Спаслась, ликовать надо. Она вытерла сухие глаза. Поерзала, отворила дверцы и внимательно осмотрела дорогу: не притаился ли кто под днищем «москвича»? Опустила в пыль дефицитные «выходные» кроссовки китайского производства. – Почти на месте, – выдала Лиля не просыпаясь. – Да, – согласилась Наталка. – Почти. Она выбралась из машины и размяла затекшие косточки. Ей бы не помешала компания: Черникова, бодрствующей Лили, птиц. Но были лишь деревья, коряги, тени в баррикадах бурелома. Наталка расстегнула пуговицу. Представила, что воротившийся механик застанет ее, раскорячившуюся, и посеменила к соснам. Мох пружинил под кроссовками. Наталка косилась в сторону лагеря. Напоминала себе, что до змеиного гнезда – километров тридцать. Под кустом, увешанным ссохшимися ягодами, она стащила штаны с трусами, присела, ухватившись за гибкую ветку. Зажурчала моча. Наталка смотрела меж колен не мигая. Но и с такого близкого расстояния не сразу поняла, что под ней – змея. Бурый, в мелких крапинках, щитомордник сливался с мхом. Глаза Наталки выкатились из орбит. Зубы застучали от страха, а мочевой пузырь продолжал опорожняться. «Не шевелись, – шепнул в черепной коробке голос покойного Лемберга. – У большинства змей слабое зрение, они реагируют на движущиеся объекты». Наталка замерла, скованная ужасом. Но движущийся объект появился из-за спины. Кусты захрустели, осыпаясь ягодами. Тень накрыла Наталку, мужская ладонь заблокировала рот. Лаборантка села задницей в лужу, а щитомордник молниеносно выбросил голову и укусил за бедро. Наталка мычала в кляп. Из дерна, как «макароны» фарша из мясорубки, вылезали гадюки. Они жалили голые икры, ляжки, ягодицы, впрыскивали в плоть яд. Наталка сучила китайскими кроссовками, комкая мох. Человек не позволял ей встать. Ступни Наталки выгнулись, как у балерины – Cou-de-pied, – в юности она боготворила Майю Плисецкую. Щитомордник прополз между ног, и она ощутила сквозь пламя невыносимой боли холодное, почти успокаивающее прикосновение к половым губам. Укуса она уже не почувствовала.
– Эй ты! – Пехотный офицер Субботина поторопила вороную лошадку, догнала ковыляющего солдата. – Ты, тебе говорю! Живой? Тощий и взлохмаченный эстляндец шатался под весом пятидесятифунтового вьюка. Бывший унтер, разжалованный до рядового за шашни с поварихой, он обвел всадницу осоловевшим взглядом, словно бы не узнал. – Отец… – Спаянные губы треснули. – Голубчик, ноженьки болят. – Терпи, – сказала офицер; как и этот молодой солдат, она впервые участвовала в степном походе, впервые топтала подошвами туркестанских сапог выжженную землю Средней Азии. – Две версты осталось. – Две, – улыбнулся эстляндец, чья кожа почернела от палящего немилосердного солнца. Семь часов в седле… семь часов под голубым небом забытого чертом края… Субботина мысленно осмотрела себя глазами доходяги-эстляндца. Стройная девица, красующаяся на лошади. Кавалеристский карабин за спиной, ушитый мундир, шашка в ножнах. Слабый ветерок колышет полотняный назатыльник кепи. Верно, думает эстляндец, почему она здесь, а не под крылышком у муженька? Субботина оглядела колонну. Лошади и верблюды едва плелись. Кибитки, затянутые кошмой, скрипели рессорами. Вокруг простирались на многие версты песчаные барханы, иссеченные кое-где белыми солончаками. Песок и соль, и больше ничего. Десять миллионов десятин «ничего». А под этой тоскливой желтизной, говорят местные, темница, в ней отбывает наказание шайтан, и жар от его помыслов губит все живое, даже неприхотливый саксаул. – Положительно ужасная погода, – изрек гардемарин флота Черников. Дареная черкеска верблюжьего сукна превосходно сидела на его поджарой фигуре. В пустыне погребально завывали шакалы. – Почти на месте! – подбадривала Субботина рядовых. Солдаты сосредоточенно двигали ногами в поршнях из бараньей кожи. Сотник таманского полка, коренастый, пропахший пороховым дымом Ванягин послал на разведку казачий разъезд. Проверяли балки – не притаились ли там бандиты. Вот-вот загорланят из пыльного облака: «товсь!», «пли!». И полезут, как гадюки, чекинцы с изъеденными волчанкой харями. – Чисто, – докладывали казаки. На горизонте вздымался лиловый хребет Копет-Дага. Шел июнь тысяча восемьсот восьмидесятого. – Упал! Упал! – крикнули в арьергарде. Субботина развернула лошадь. Версты, пройденные с утра, были простой разминкой перед настоящими трудностями, и она не уставала напоминать себе об этом. У остановившегося ротного фургона лежал солдатик, называвший Субботину «отцом». Глаза его выпучились и остекленели. – Умер, – заключил фельдшер, пряча бестолковую тряпку, смоченную нашатырным спиртом. Нашатырем мертвых не воскресить. Сотник Ванягин бегло перекрестился. – Грузите в фургон. Труп накрыли марлей, погрузили, пошли дальше, по барханам, к долгожданному привалу. Сорок градусов жары. Двадцать три версты. Двадцать четыре… – Вон она, – сказал поравнявшийся с Субботиной гардемарин Черников. Год назад он ходил из Чикишлада в Бами и ночевал на Черной Горе. – Хвала небесам. Казаки подозрительно озирали скалы, целились в собственные текущие по песку тени. Горнист сыграл «стой», и колонна замерла. Солдаты посыпались на песок – минутку передохнуть. – Теперь в гору, – командовали офицеры, – коли супу и спирта жаждете. Упоминание о еде и питье расшевелило утомленных ратников. Они вставали, помогая друг другу, опираясь на берданки. Верблюдовожатые ругали животину. В ранах кораблей пустыни кишели жирные личинки. – А змей тут много? – спросила Субботина. – Как вшей, – сказал Черников. Внизу простиралась долина. Сочная зелень после набившей оскомину желтизны. Гниющий в ручьях тростник вонял сероводородом, порчеными яйцами. Джигиты, мирные туркмены, пасли скот. Там прошлым летом русские герои, идущие из Ходжа-Колы, сражались с бандитскими шайками. Отбили долину и заложили укрепление на высоте тридцати саженей. – Целиком барана слопаю, – сказал сотник Ванягин, когда экспедиция взошла на скалу и присоединилась к размещавшейся здесь роте. Укрепление состояло из траншеи, скопления палаток и кибиток и редута на две медные картечницы. Выше, где утес выступал килем, караулил пикет. Пока новоприбывшие размещались под присмотром унтеров, офицеры в количестве трех человек отправились поприветствовать коменданта. За главного был майор Скрипников Иван Михайлович. Он попыхивал трубкой-стамбулкой и часто сплевывал в серебряную сухарницу. Грудь украшал орден Святого Владимира второй степени. Гости привезли новости из тыла и свежую прессу. Майор пригласил их за стол в комендантском шатре. – На молитву! – надрывались унтеры. – Шапки долой! При свете огарков заискрились аппетитно бутылочки с коньяком и водкой, кахетинским вином; денщик майора и денщики вымотанных офицеров озаботились пищей для господ. Подали плов с изюмом и черносливом, сардины, потом – шашлыки. – Кто ж у вас такое мясо делает? – замлел гардемарин. – Наташка, – горделиво сказал комендант, – золотые руки, мы ее в фельдфебели произвели. – Переперчено, – проворчал казачий сотник, вытирая жирные пальцы о штанину. – Не обращайте внимания, – с набитым ртом сказал гардемарин Черников. – Ванягин наш нрава скверного, но сердца доброго. – Сам ты! Матрос без суденышка! Пили, чокались, пили. Снаружи пили тоже – но дешевле, меньше и кислее – солдатики. Приехавший с ротой армянин продавал по разумной цене колбасу и фрукты. Казаки курили люльки, взгромоздившись на холщовые мешки с написанными ваксой инициалами, перемешивали пальцами горящий табак. Пускали по кругу деревянные баклажки. Вольноопределяющиеся спорили у коновязи о Вольтере. Фейерверкер спал, уронив голову на зарядный ящик, может, снился ему «Егорий» за военную доблесть. Крикливые персы ставили верблюдов на колени, вязали передние ноги, а верблюды ревели недовольно. – Хорош барашек, – хвалил в шатре гардемарин. – Хорош, – согласился комендант, вгрызаясь крепкими зубами то в мясо, то в черешневый чубук трубки, – но я бы его на судака сменял. Ох, сладок судак в сметане, со сливочным маслом, с петрушкой. – А я бы, – гардемарин отмахнулся от надоедливой мухи, – все променял на материнский хлеб. Не ели вы такого хлеба, друзья. – Вам бы и за сытным столом о жратве мечтать, – осудил кавалерист-казак чревоугодие. – Мне вот всего хватает, окромя прачки. – И он обнюхал свою рубаху. – Небось, – усмехнулся Черников, – прачка тебе надобна румяная и молодая. Наслышаны про твои приключения! – Румяные стирают лучше! – хохотнул Ванягин, доставая пеньковую трубку с длиннейшим чубуком. – Греховодник вы, казак! Гардемарин курил «Беломор». Субботина же вынула табакерку из черепахового панциря и сделала понюшку табака a la rose. Громко чихнула. Офицеры засмеялись. У Субботиной почему-то заболел мизинец. Сизое марево густело под палаточным сводом. Где-то пел хриплый русский солдат: – Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стегаю, ох, погоняю… Субботина откинулась на бурку, она оглядывала товарищей сквозь едкий дымок и вспоминала Петербург. Дом возле каланчи, кабинет светлого дуба, горку с фарфором, сестренку, расшивающую бархатом и сутажем скатерть из пеньковой материи. И пахнет не мужицким потом, не пылью, не отрыжкой сотника, а духами, набрызганными в курильницу, прогревшимися в самоваре углями. А еще деталь какая: в окна, между рам, напихана вата с обрезками синего гаруса для красоты. За размытыми фигурками товарищей встал кто-то высокий. Субботина напрягла зрение, и табакерка выпала из рук. В палатку проник чекинец, но никто, кроме Субботиной, не замечал его. В шароварах и красном халате, враг улыбался насмешливо, ворковал: – Алла… Алла, урус-с… «С» превращалось в змеиное шипение. Вместо человеческого лица у магометанина была морда кобры. Вокруг треугольной башки раздувался кожистый капюшон. Широкая пасть выстреливала раздвоенным языком. Глаза, посаженные на висках, излучали ненависть. – С-С-С! Чудовище прыгнуло через головы офицеров.
Лиля продрала глаза, захлебываясь от страха. Выкарабкалась из зыбучих песков пригрезившегося кошмара, чтобы очутиться в кошмарной яви. Правда сшивалась заново из лоскутьев. Пронеслись чередой: искалеченный бездыханный Иван Михайлович, умирающий Лемберг, змеи, атакующие лагерь. Это был не сон, подсказал организм. Автомобиль замер на проселочной дороге. В душном салоне она была одна. Наедине с реальностью. Лиля поборола сонливость и прислушалась к ощущениям. Гул в голове, среднеазиатская пустыня во рту. Кожа зудела неистово. Она потрогала здоровой рукой горячий лоб, поскоблила ногтями шею и ключицы. Когда она грипповала, мама потчевала ее ромашковым чаем и медом. Лиля облизала шершавые губы. Левая кисть – спасибо Черникову и сыворотке – не выглядела слишком отекшей, мизинец онемел. Пока Лиля была без сознания, друзья срезали шнурок и забинтовали палец. Угроза лишиться двух фаланг оставалась, но почему-то совсем не тревожила сейчас. Лиля подвигала рукой. Плечевой сустав отозвался тупой болью. Мышцы ныли, как после долгих физических упражнений. Ничего, в больнице ей введут противоаллергические препараты, глюкозу, кофеин. И будет как новенькая. Боевое крещение… Нет, Лиля сомневалась, что вернется «в бой», что заставит себя снова коснуться холодного тела рептилии. С третьей попытки она отвинтила крышку и секунд десять пила затхлую воду. Намочила рубашку, умылась из горсти. Стало легче дышать. – Где все? – вслух спросила Лиля. Логика подсказала: закончился бензин. Должно быть, Черников побежал в деревню. Точно! Ушел с канистрой за топливом. Как давно? Спасая Лиле жизнь, механик снял с ее кисти часики. Она нашла их под сиденьем. Стрелки тикали к восьми. Скоро начнет темнеть, Лиля окажется в ночном лесу, кишащем убийцами. Даже в машине она слышала, как скрипит тайга, как гудит в унисон с похмельной головой. Комарье облепило стекла, скапливались на щетке дворника серые трупики мошек. Лиля напрягла извилины. В половине пятого Лемберг связался с ними по рации. В пять тридцать они были на базе. Стычка с полозом и побег от гадюк растянулись до бесконечности, но на самом деле не заняли и пятнадцати минут. «Москвич» почти-почти доехал до деревни. Значит, она продрыхла полтора часа. Соромно, товарищ Субботина. Она глотнула воды. Полтора часа… Почему Черников не возвращается? Куда делась Наталка? Не усидела и побежала за ним? Лиля отогнала мысли, от которых желудок переворачивался и по позвоночнику тек ледяной пот. «Вспомни, днем Черников говорил, что сельмаг закрыт. Он просто ищет продавца, чтобы разжиться бензином». Привлеченная пляской лесных теней, Лиля вгляделась в просеку справа. Опустила стекло, и прохлада таежного вечера остудила пылающие щеки. Мошка хлынула в салон. – Эй. – Лиля прокашлялась. – Эй, есть там кто? Тени сосен лежали на тропе как сытые питоны. Тайга хрустела валежником, и так не хватало птичьих перепалок… Тени шарахались за буреломом, игра света путала, сбивала с толку. Лиля прихлопнула комара и подняла стекло. Лес пугал ее. Гадкий, нарушающий писаные правила, хоронящий в своей утробе древние языческие капища. Лучше уж бетонные высотки и кружевные мосты над сибирскими реками, чем эта темень среди деревьев, чем каменные змеи сгинувших племен. – Где же вы, родненькие? Отвечая ей, тени засуетились на просеке. По лобовому стеклу скользнуло что-то крупное. Лиля вжалась в сиденье. Перед собой она увидела гадюку. Тварь свалилась с крыши на капот. Метровая, темно-серая, с черным зигзагообразным рисунком. Она расправилась, демонстрируя себя. Тупой хвост шуршал по металлу. – Нет, – прошептала Лиля, – нет, нет, нет. Это было неправильно, это рушило человеческие представления о рептилиях. Змеи пугливы, они никогда не нападут стаей, не будут забиваться под марлю, чтобы кусать студента-фармацевта, не переползут существующую тысячелетиями межвидовую границу. Гадюка вскинулась, покачивая плоской трапециевидной головой, и «клюнула» в стекло. Лиля содрогнулась. На брюхе гадюки вздувался желвак величиной с яблоко. Переваривающийся обед. К горлу Лили подкатила тошнота. Как она могла считать красивыми этих уродин? Мысль, посетившая ее, была бы смешной, если бы не обстоятельства. «Змеи мстят за взятый без спросу яд». Гадюка больше не боялась людей. Она лениво выползла на стекло – прощупывала, искала вход в металлическую скорлупу. Лиля не выдержала. Распахнула дверцу и выскочила из машины. В первые секунды показалось, что чугунная голова перевесит и повалит ее в пыль. Ноги заплелись, но она устояла. Глубоко вдохнула, по дуге обежала автомобиль. Кости ломило, и дорога предательски двоилась. Деревья подступали к беглянке, словно намеревались оплести ветвями и раздавить, а череп всерьез задумал расплющить мозг. Лиля отвесила себе пощечину. Поморгала, мир немного стабилизировался. «Не сдавайся!» Через минуту открылось второе дыхание. Через пять лес разомкнулся. Лиля пробежала под электрическими проводами. Варваровка отвоевала у тайги клочок равнины. Три улицы, клуб, магазин, своя пожарная станция. Зимой и в весеннюю распутицу деревня была практически изолирована от цивилизации. Жило здесь полторы сотни человек. Дородные бабы в телогрейках гнали к пастбищу овец, пьяненький мужичок выписывал восьмерки на «Каме», слепая старуха лущила семечки под ольхой. Встречая змееловов, местные приветливо улыбались и спрашивали про большие города. Но в этот августовский вечер Варваровка обезлюдела. Приземистые дома за штакетником притворились покинутыми. Даже псы не лаяли привечая гостью. Лиля остановилась, уперлась кулачками в бедра. Пот струился по зудящему лицу, сердце колотилось бешено. А вокруг безмолвно нахохлились хаты с наглухо запертыми ставнями. Сельчане ушли за птицами, не забыв и цепных псов. Лиля сплюнула и поковыляла к ближайшим воротцам: – Помогите! Меня укусила змея! Пожалуйста! Никакой реакции. – Кто-нибудь! С тем же успехом она могла просить помощи в покинутом до интервенции староверском ските. Из пустой собачьей будки змеилась… – Лилю затрясло – …бесхозная цепь. – Вася! Наталка! Я тут! Сумерки окуривали улицу серой дымкой. Лиля совладала с желанием лечь у забора и уснуть. Она узнала двор, замусоренный кусками фанеры, и поплелась к нему. Дед Кузьмич продавал змееловам яйца и масло, а молоком угощал бесплатно. Обычно он не запирал ставни, но все «обычное» отныне кануло в Лету. Лиля шла, низко склонив голову, волочила взор по дороге и потому заметила их. Еще несколько шагов, и она бы наступила на чешуйчатую лепешку. Пелена спала с глаз. Лиля выпрямилась, обводя неверящим взглядом улицу. Змеи были всюду. Сотни змеиных куч в сорняках, в пыли, под лавкой. Кислый комок закупорил Лилину глотку, по внутренней стороне бедра потекло горячее. Наги и Нагайны ползли к ней со всех сторон, и не было Рикки-Тикки-Тави, который бы ее спас. Бурый щитомордник буквально кувырнулся в воздухе, приземляясь у ног. Лиля ринулась к ближайшему дому. Плечом саданула в калитку, панически захлопала по доскам с обратной стороны. Змеи ползли, как живые черные волосы в траве, роскошные локоны, кудри. Навершие калитки раздирало подмышку до крови. Лиля привстала на цыпочки и нашарила щеколду. Калитка отворилась. – Помогите! Раздался приглушенный лай, но не из будки или дома, а будто бы из-под земли. «Собак посадили в погреба», – осенило Лилю. Она забарабанила по дверному полотну. «Никто тебе не откроет, глупая». Змеи целеустремленно преследовали добычу, втекая во двор. Наука заблуждалась. Заблуждался бедняга Брэм. Не ведая, откуда берутся силы, Лиля метнулась к лежащей у крыльца лопате, вцепилась в древко. Замахала импровизированным оружием. Мизинец не сгибался в кулак, торчал вопросительным знаком. Рептилий безрассудный героизм жертвы не впечатлил. Щитомордник обыкновенный – Gloydius halys – резко выбросил голову и врезался зубами в металлическое полотно лопаты. Отпрянул, сердитый. Засмердело едко. Лиля прижалась спиной к двери: некуда бежать. Змеи копошились у ног. – Сволочи! – заорала она, давясь слезами. И ударила лопатой, как прадед шашкой. Отчлененная голова щитомордника поскакала по траве и напоследок щелкнула челюстью. Полотно перерубило пополам гадюку. Ее соратница, изловчившись, впилась зубами в Лилин сапог, но не сумела прокусить толстую кожу. По голенищу растекся яд. Лиля закричала, обрушивая вниз лопату и… древко выскользнуло из мокрых пальцев. Перед ней раздували бока тугие клубки гадюк. Позади… Дверь распахнулась, и Лиля провалилась в разверзшуюся пустоту. Успела подобрать под себя ноги. Дверь захлопнулась, преграждая путь шипящему полчищу. Лязгнул засов. – Ну все, – сказал дед Кузьмич, глядя вороном на незваную гостью. – Теперь нам обоим конец.
В избе слабость вернулась. Ныла каждая косточка, каждая мышца, левое плечо будто выкорчевывали из тела. Лиля присосалась к глиняной чашке. Молоко потекло на пол. – Простите… Лилю вывернуло наизнанку. Белая блевота оросила половицы. Молоко брызнуло из ноздрей. – Простите… мне так стыдно… – Не беда, – сказал старик. – Мертвые сраму не имут. Он ушел в сени, кряхтя, а Лиля рухнула на колченогий стул, баюкая раненую кисть. Тошнота постепенно проходила. Лиля осмотрелась. Окна в доме были не просто закрыты ставнями, но заколочены изнутри фанерой. Куцая лампочка освещала громаду печи, котелки в загнетках, поленья, черно-белые фотографии с перечеркнутыми уголками. Покойники бесстрастно взирали на живых. Дешевая, засиженная мухами репродукция Серова, фарфоровые рыбы в серванте, рядом, на алой подушечке, медаль за оборону Заполярья. На стене – ковер-картина «Утро в сосновом лесу», такой же висел у Лилиных родителей. Лиля снова уставилась на окно. Мысль медленно оформилась в голове. «Забаррикадированный дом, спрятанный скот, собака в погребе…» – Вы знали? Кузьмич бросил на пол тряпку и потолкал ногой, небрежно размазывая рвоту. «Я обедала гречкой, – невпопад подумала Лиля. – Наталкиной гречкой с грибами, собранными Ванягиным». Она не сомневалась, что коллеги мертвы. Все до единого. Змеи не пощадят никого. – Знал, знал. Кузьмич был щуплым, невзрачным старичком с мочками длинными, как сережки плакучих ив. – Про нашествие гадюк знали… – В голосе Лили зазвенели обвиняющие интонации. Да, Кузьмич пустил ее в дом, но ведь он мог предотвратить смерть невинных людей! – Это так не работает, – угрюмо возразил старик. Он сел у печи и обхватил красными натруженными руками угловатые колени. Фарфоровые рыбы разевали рты, немо кричали за пыльными стеклами серванта. – Чужакам говорить о змеях нельзя. То, что я тебя в дом пустил, – плохо, очень плохо. – Люди погибли! – вспыхнула Лиля. – Мои друзья! Ни одна морщина не дрогнула на лице Кузьмича. – Так надо. Это дань. Оброк. – Какая дань? Кому? Чингисхану? Гнев клокотал, и Лиля позабыла про зуд, про ноющие суставы. – Змеиной Матери, – произнес старик. – Что? – Лиля обомлела. Фыркнула, осмыслив услышанное: – Эти байки дикарей? Гадовы капища? Вы в них верите? – Гажьи, – поправил Кузьмич, – а не Гадовы. И не байки, увы, а правда. Ты, ученая, мне скажи. Все ли нормально? – Он метнул взгляд в сени. – Ведут себя змеи так? Лиля открыла и закрыла рот. – То-то же. – Вы… – Лиля осторожно подбирала слова. – Вы хотите сказать, это происходит здесь постоянно? – Нет, – Кузьмич почесал нос. Из ноздрей торчали пучками седые волосы. – Раз в двадцать лет, в первый день Успенского поста. Мы зовем его Гажьим днем. «Он сумасшедший, – ужаснулась Лиля. – Я заперта в доме с безумцем, а снаружи змеиное гнездо!» Громко тикали настенные часы. – Раз… в двадцать лет… – Лиля кашлянула. – Змеи нападают на людей? – Здесь, в треугольнике между капищами древних. На моей памяти это четвертый Гажьий день. – И вы не извещали правительство? Вы… просто живете тут как ни в чем не бывало? – Существует договор, – твердо сказал Кузьмич. – Его заключили задолго до моего рождения и рождения моих дедов. Мы прячемся, и змеи нас не трогают. А те немногие, кто рассказывали о Матери чужакам… – Кузьмич перекрестился. – Чушь! – выпалила Лиля. – Он тоже так считал. – Кузьмич ткнул артритным пальцем в портрет молодого парня, позирующего у берез. – Крестник мой, Валик. Отслужил и перебрался в Комсомольск-на-Амуре. Два года там прожил. Письма писал, слал посылки. Рассказал жене о наших… заблуждениях языческих. Ради хохмы. Она на поминках вспомнила этот разговор… – Старик покачал головой, осуждая. – Врачи сказали, его укусила змея. В городе, в ванне, на шестом этаже! «Соглашайся с ним, – шепнул внутренний голос, – он малахольный, не спорь, соглашайся, только сама не верь!» Поведение гадюк, безусловно, имело рациональное объяснение. Революционное научное рациональное объяснение. «Повторяй это снова и снова». – Ладно, – сказала Лиля, – говорить о змеях нельзя. Но как-то по-другому? Отослать нас куда-нибудь? Да хотя бы в погреб заманить и запереть? Старик невесело хохотнул, заставив собеседницу вздрогнуть. – Лучше тогда в «Московскую правду» письмо про Гажьий день написать! Вы! – он нацелил на Лилю палец. – Вы-то Матери и нужны! – Мы? – Вас как дудочкой манит сюда аккурат к Гажьему дню! В шестидесятом – туристы. В сороковом – археологи. В двадцатом – заблудившиеся республиканцы. И раньше, раньше, раньше! – старик хрипло каркал и яростно жестикулировал. – И баба! Баба среди вас всегда есть, голубушка! Чтоб, стало быть, Мать заново родилась! На двадцать годков – а тайга не сдюжит без Матери! Бессвязный бред старика был грубо прерван на полуслове. В дверь избы постучали. Кузьмич побледнел. – Тише, – шикнул он. – Тише сиди. Лиля смотрела то на безумца, то в сени. – Сынок ейный пожаловал… – Дедушка… – Лиля поднялась со стула. – Вдруг это спасатели? – Да! Как же, – старик захихикал мерзко. – Змееносец это. Думает, мы дураки. – Хозяин! – крикнули снаружи, и радость заполнила сердце Лили. Она узнала голос Черникова. Живой! – Вася! – Лиля кинулась в сени, но жесткие мозолистые пальцы сомкнулись вокруг плеча. – Идиотка! – зашипел Кузьмич. – Нас обоих погубишь! – Отпустите! – Она дернулась, но тщетно. Старик, хилый с виду, не разжал хватку. Притянул к себе грубо. Завоняло кислым потом и мочой. Лиля, впрочем, пахла не лучше. – Вася! Я тут! Кузьмич вдавил ее лицо себе в грудь. Объятия будто стальные обручи. – Сам виноват, чертов дурак… – Он в сердцах харкнул на пол. – Прячься не прячься, Змееносец сквозь стены смотрит.Валика вон где нашел… дурак, пожалел тебя… – Хозяин! – окликал Черников со двора. Только бы не ушел! – Вася, – всхлипнула ослабевшая Лиля. – Шофер наш… – А лет шоферу сколько, знаешь? – Двадцать семь… – Хах! Первый раз… дай прикинуть… да, точно. Первый раз он в деревне до войны появился. Мне сколько было? Тридцать? – Кузьмич послал в сени ненавидящий взгляд. – Валика моего… Антонину… Глашу пятилетнюю… потому лишь, что она туристам про змеек ляпнула, от мамки услышав… Но они решили, детский лепет… а Глаше в кроватку полоз залез… – Хозяин! – Черников не сдавался. – Открой! – Ишь! – рыкнул старик. – Не отстанет, бесовская гнида. – Это Вася, – устало твердила Лиля. – Обыкновенный парень. – Был обыкновенным. Видать, полез, куда не надобно. На капище ковырялся. И нашла его Змеиная Мать! До него другой был. Из каторжников… Лиля не вникала в стариковскую болтовню. Почти повисла на Кузьмиче и рассматривала его ухо, поросшее тонкими волосками. – Без Змееносца Мать не родится, он… Лиля вгрызлась зубами в мясистую мочку. По языку потекло соленое. Кузьмич ойкнул и инстинктивно отшатнулся. Освобожденная, Лиля вылетела в сени. – Вася! Старик нагнал и толкнул в поясницу. Лиля упала на груду газет. Лапы безумца кандалами окольцевали щиколотки. – Подумай! – взмолился Кузьмич. – Ты же видела гадюк! Почему они его не жалят? Лиля замешкалась с ответом. И зачем вообще отвечать? Вопи, чтобы Черников выбил дверь! Но она молчала, переваривая вопрос сумасшедшего. Кузьмич отпустил ее ноги и сел, вымотанный, на пол, среди смятых номеров «Советской звезды». – Лилечка… – Черников выстукивал ритм по дверному косяку. – Ау! Под землей надрывался пес Кузьмича. Лиля оцепенела. Старик проговорил: – Мать дала Змееносцу свой клык. Чтобы змеи ему повиновались. Так-то, дочка. – Хватит, – сказала Лиля. – Прекратите. – Дурак. – Кузьмич расплакался как ребенок. – Старый я дурак. За дверью прозвучала барабанная дробь. «Т-р! Т-р! Т-р!» Если бы не едва сдерживаемый смех механика, Лиля подумала бы, что это дятел клюет притолоку. Черников, дурачась, имитировал птичий перестук. «Как он может? – удивилась Лиля. – Товарищи погибли, а он балуется… Зачем?» Скрипнуло крыльцо. «Фьють! Фьють!» Будто дрозд сел на подоконник. Черников обходил дом по кругу. У первого окна чирикал, у второго кряхтел и «тэкал» глухарем. Старик утопил в ладонях зареванное лицо. – Я не понимаю… – произнесла Лиля. За стеной заблеял «бекас». Что-то звякнуло и зашуршало; Лиля уставилась на печь. Печная заслонка отворилась, и шесток выблевывал какие-то лохмотья, тряпичную пробку. Кузьмич тоже обернулся к горнице. С его нижней губы капала слюна. Раскидывая тряпки, из шестка вылез узорчатый полоз. Метровая пепельная тварь с поперечными пятнами вдоль хребта грациозно сползла на половицы. Испачканная в золе морда сверкнула круглыми глазками. Полоз двинулся через комнату. Кузьмич оскалился, на четвереньках пошел навстречу чешуйчатой смерти. Будто вспомнил что-то из заполярных дней. – Крестника моего… паскуда… убила… Полоз цеплялся брюшными щитками за половицы, подталкивал себя. Открылась пасть, полная мелких зубов. Змея ринулась вперед, и старик страшно закричал. Лиля не желала знать, что будет дальше. Она бросилась к двери, рванула засов. На улице стемнело. Варваровка не зажгла свои фонари, но над крышами светила луна, круглая серебряная тарелка. И Лиля поверила каждому слову Кузьмича. Пестрые ленты гадючьих тел покрывали двор. Они непрестанно извивались. Черников стоял на змеях, как библейский Иисус на воде. Гадюки ползали по его ступням. Лишенная воли, словно бы гуттаперчевая, Лиля прислонилась к дверному косяку. Позади что-то хрустело и ломалось, но все, что Лиля слышала теперь, был вкрадчивый голос Змееносца, все, что она видела, – глаза мужчины, сменившие цвет со светло-карих на желтые. Желтые глаза без белков, вертикальные зрачки, как прорези в свинке-копилке. – Не бойся, – сказал Черников, мягко улыбаясь. – Тебе ничего не грозит. Никогда не грозило. Он нагнулся и поднял с земли охапку гадюк. Протянул трясущейся Лиле. Сияющие глаза высасывали из нее энергию. Она стала лягушкой, которую гипнотизирует уж. – Я всегда был рядом, – произнес Черников. – Было необходимо, чтобы тебя укусили. Это как посвящение в пионеры. Больше они не укусят. Пойдем. Желтые глаза наплывали. Лиля провалилась в них. Пришло милосердное забытье.
Темнота. Мерные толчки. Мама качает колыбель. Или волны бьют в борт суденышка. Лиля свернулась калачиком на дне лодки. Отец в кои-то веки взял на рыбалку. Побаливает внизу. Кровь. Месячные. Что с будильником? На лекцию к девяти. Пора просыпаться. Лиля открыла глаза и катапультировалась прямиком в кошмар. Она была обнажена и лежала на холодной каменистой поверхности. Исполинский шатер неба инкрустировали звезды. Луна двоилась… две луны, как в небесах чужой планеты. Нечем дышать, здесь нет кислорода. Лиля захрипела, умоляя далекие равнодушные звезды о помощи или о смерти. Не речные волны и не материнская рука. Ее толкал, возил по камню, Черников. Голый, он лежал на ней, над ней, в ней – мужской таз работал поршнем, вколачиваясь между разведенных бедер. Одной рукой Черников держал Лилю за грудь. Она не могла сопротивляться. Распластанная под его весом, растоптанная, униженная. Не было даже слюны, чтобы плюнуть ему в лицо. Член рвал, травмировал сухое лоно. Казалось, в Лилю засунули тлеющую головешку. Боль была адской, но она привыкла к боли. Она явилась сюда, чтобы испытать боль. Пальцы насильника елозили по грудям, щипали соски. Выражение его лица было торжественным и вдохновенным, словно у монаха, возжигающего свечи, или художника, прикасающегося кистью к чистому холсту. Глазам вернулся обычный цвет и обычный вид, лишь где-то в глубине расширившихся зрачков иногда пробегали янтарные отсветы. Память о желтых бельмах разрушила Лилин мир. Ее насиловали на руинах Вселенной, под созвездиями полозов и гадюк. Лиля отвернулась от Змееносца. Ворочать головой – все, что она могла. Рано или поздно это закончится, и Черников наконец прирежет ее или застрелит. Просто потерпи. Каменное плато окружили осины. Они кланялись Лиле на ночном ветру. Пахло прелью, палой листвой и щитомордниками. Низкое сооружение справа – змея из пригнанных тесно валунов – было частично похоронено под телами извивающихся рептилий. Гадюки наблюдали за действом, за священной церемонией на Гажьем капище. Они ждали этой ночи двадцать лет. Холод вползал в поры, отрезвляя. Туман в голове развеялся. Лиля ахнула от очередного толчка. Она снова посмотрела на насильника, мечтая о том, чтобы сконцентрированная ненависть превратилась в нож и вонзилась меж карих глаз, погасив эти мелькающие болотные огоньки в зрачках. Но ненависть не ранила. Лицо Черникова – гипсовая маска. Таким скульптор изобразил бы поэта или мыслителя. Волосатые бедра хлопали, расплющивали. Змееносец подтянул себя вверх, выгнулся, привстал, позволяя вздохнуть. Его грудная клетка вздымалась и опадала. Что-то болталось в воздухе, между Лилей и Черниковым. Она сместила взгляд. На шее Черникова висела толстая нить. В потемках Лиля различила кулон величиной с мизинец. Вроде зуба змеи, но крупнее. Кулон покрывали какие-то наросты. «Мать, – сказал дед Кузьмич, – дала Змееносцу свой клык. Чтобы змеи повиновались». Лиля представила эту самую Мать, колоссальную гидру, свернувшуюся кольцами, опоясывающую Сибирь. Чресла Черникова двигались быстрее. Лиля догадалась: церемония приближается к развязке. Вот, оказывается, что это такое. И отец делал это с мамой. В постели, а не на языческом капище, но мама испытывала такую же боль, а отцу было плевать. Лиля подумала о своих родителях. О погибших друзьях. О фотографиях на стене Кузьмича. Почему-то, среди клейменных черной лентой незнакомцев, там был снимок ее прадеда. Царский офицер, который, по семейному преданию, привез из ахалтекинской экспедиции ручную кобру. Кулон коснулся Лилиного подбородка. Она оторвала от камня затылок и подцепила губами странное украшение. Кулон был шершавым, от него… Исходила сила. Лиля почувствовала это во рту и по всему телу. Белый свет внутри. Боль мгновенно утихла. Черников закатил глаза и таращился в таежное небо. Лиля вытянула шею. Зуб скользнул по языку… в горло. Слезы наполнили глаза. «Глотай!» Кулон канул в пищевод. Сейчас не только член, но и шерстяная нитка связывали Лилю с насильником. Если Змееносец дернется, зуб выйдет наружу, вспоров пищевод. Лиля стиснула зубы. Черников посмотрел вниз. Это удивление отпечаталось на его гнусной физиономии? Лиля впилась в нить молярами. И Черников совершил ошибку: он стал отклоняться, натягивая шерстяную пуповину. Нить не выдержала. Лиля проглотила кулон. И немедленно освободилась. Будто огромные лапища стащили Черникова с распластанного тела. Почудилось, что он улетел в космос. Лиля села рывком. Она ощущала себя горящей лампочкой. Незримый свет согревал и насыщал энергией. Вместе с болью прошел зуд. Лиля дотронулась до своего лона. На подушечках пальцев осталась кровь. Две фаланги разбинтовавшегося пальца почернели, но Лиле было начхать. Она поднялась с земли. Черников стоял на коленях посреди капища, в центре колышущегося озера змей. Из его вздыбленного пениса сочились черные змееныши размером с дождевых червей. Капали в гадючий клубок. Черников не шевелился, выпучив глаза, беспомощно открыв рот. Гадюки ползали по часовой стрелке, сливаясь в единое чешуйчатое кольцо, поднимающееся, как сырая глина на гончарном круге. – Убейте его, – сказала Лиля. Та Лиля, которая плакала над раздавленным скорпионом и переносила майских жуков с тротуара в кусты, спасая от подошв пешеходов. Или уже совсем другая Лиля. Черников закричал истошно, горбясь в водовороте гадюк и щитомордников. Он выкопал из-под змей свои руки и поднес к глазам. Кисти испещрили десятки мелких дырочек. Лиля заметила ворох одежды на земле: собственные разрезанные штаны, две пары сапог, лоскутья, бывшие бюстгальтером; здесь же лежали ружье и охотничий нож. Она подобрала двустволку, наслаждаясь тяжестью оружия. Переломила, убедилась, что патроны заправлены. Черников выпрямился и смотрел на нее обезумевшими от боли глазами. Змеи напоминали натеки черного воска вокруг свечи. И словно кто-то гигантский двигался вокруг капища, мелькал за деревьями. Лиле не было страшно. Обнаженная, залитая лунным светом, она приблизилась к Черникову. Змеи отползали от ее босых ступней, пропуская, смыкались позади. Лиля приставила ружье ко лбу бывшего Змееносца. – Нет! – прошептал Черников. – Пожа… Лиля выстрелила из обоих стволов.
В лагерь она пришла рано утром. Небо серело, давно погасли дивные созвездия. Комары роились над головой, но не кусали. Лиля обулась в сапоги, облачилась в брюки Черникова. Надевать рубаху не стала. Надо было следить за тем, как увеличивается живот. К рассвету он округлился, словно у женщины на третьем месяце беременности, и продолжал расти. От грудины до вспучившегося пупка пролегла коричневая полоса. Соски потемнели, из них сочилось прозрачное молозиво. Живот почти не беспокоил Лилю. Как разбитая коленка или первые месячные. План созрел, пока она пробиралась по болотам, штурмовала бурелом. Два часа потребовалось, чтобы выйти из леса, но она совсем не устала. В лагере царила тишина. Бригадир Ванягин оседлал раскладной стульчик и улыбался. – Гриша! – не смущаясь наготы, Лиля бросилась к товарищу. Мираж рассеялся: Ванягин растворился в утренней дымке. Стульчик лежал в траве кверху ножками. Никого не было на пятачке между вагончиками. Лишь Лиля и мертвец в марлевом саване. Она оглянулась, вызывая в памяти день рождения, треньканье гитары и звон алюминиевых чашек, песню Высоцкого про Вещего Олега. Высоцкий тоже умер, укушенный фантомной змеей. Как у Агаты Кристи: «И не осталось никого». Лиля ножом вспорола саван. Показалось белое лицо Лемберга. В волосах фармацевта пряталась маленькая гадюка. Лиля велела ей убираться, и гадюка трусливо юркнула в сорняк. – Отдыхай. – Лиля опустила мертвецу веки. В животе толкнулся ребеночек. Дочь. – Лиля погладила себя, ощущая, как что-то длинное и холодное шевелится под кожей. Время подгоняло. Лиля вошла в служебный вагончик, поздоровалась с Иваном Михайловичем. Он не ответил, конечно, не извинился за то, что предложил студентке участвовать в проклятой экспедиции. Но Лиля его простила и так. В ящиках шуршали и извивались гадюки. Лиля переступила через обезглавленного Дракошу. В застекленном шкафу отразилось Лилино лицо, красивое как никогда, прекрасное – даже несмотря на глаза, желтые, с вертикальными черными зрачками. Верно говорила мама. Беременные женщины светятся изнутри. Ключ Лиля нашла в кармане Скрипникова. Открыла сейф и вытащила флакончик с надписью: «Яд г. 30 грамм». Вот тут ее и обуял ужас. Броня бесстрастности поддалась, задрожали руки. – Это не мой страх, – сказала Лиля змеям и мертвецам. – Это оно боится. Лиля отфутболила опрокинувшуюся чашку Петри и села на пол возле Ивана Михайловича. В животе копошилось нечто темное, принципиально иное, стремительно растущее. Лиля отвинтила крышку и встряхнула флакон. Ее едва не остановила мысль о том, сколько людей может спасти рассыпчатое вещество во флаконе, но она сказала себе, что спасет гораздо больше. Не обращая внимания на усиливающиеся толчки, Лиля высыпала сухой змеиный яд на язык, зажмурилась и проглотила. Реакция была моментальной. Но, изрыгая пену, Лиля услышала робкое чириканье снаружи. Пичуга прилетела в лагерь. А затем запел дрозд. А затем…
Красный «ситроен» вызвал острый интерес деревенских пацанов. Как и его хозяйка. Детвора глазела с противоположной стороны улицы, переговаривалась, но близко не подходила. Рыжий мальчуган, крутивший на пальце спиннер, харкнул в пыль и что-то тихо сказал, дружки скабрезно заулыбались. Алена Кораблева отвернулась к магазину. Толстощекая продавщица встрепенулась и отлипла от зарешеченного окна. Сделала вид, что вытирает подоконник. Варваровка оказалась не такой дырой, как Алена себе рисовала. Асфальтированная дорога, бурлящая – по сельским меркам – жизнь. Вон и школа новая за яблонями, и компактный детский сад. Только обещанный 3G-Интернет не ловил, а в уголке дисплея торчала, раздражая, единственная слабая черточка. – Связь не ловит. Из-за угла вышел парень в джинсах и линялой футболке. Провел пятерней по бритому черепу, улыбнулся широко. «Симпатичный, – отметила Алена. – Была бы я на десять лет моложе…» – За связью – поднимайтесь на холм. Алена пожала протянутую руку. Парень изучал ее насмешливыми карими глазами. – Вы, верно, прямиком из Хабаровска? Геолог? – Все так. Кораблева, Алена. – Денис. – Вы?.. – Водитель. – Где же ваш транспорт, водитель? – Я за вами пешком пришел. Тут недалеко, полчаса ходьбы. Ну, – он хлопнул в ладоши, – поехали, а то малышня в вас дыру зенками протрет. Проселочная дорога петляла между величественными соснами. Августовское солнце пронзало пирамидальные кроны лучами-шпагами. – Хорошо здесь, – прокомментировала Алена, объезжая выбоины. – Да, неплохо. – Денис сидел вполоборота к ней, разглядывал с наглостью, присущей молодым и самоуверенным. Алена эффектно улыбнулась. – Как работа? – спросила Дениса. – Ладится. Со среды углубились на восемь метров. Не без сложностей. Вчера Генка наш нарвался на крепкую породу. Зазевался, уменьшил обороты в последний момент. Вхолостую крутил, плашки чуть не слизались. Алена кивала, изображая любопытство. Старалась реже смотреть на жилистые руки парня. Длинные мужские пальцы – ее фетиш. Даже грубо остриженные ногти не портят впечатление. – А на днях, – докладывал Денис, – недосчитались колонковой трубы. Трехметровая дура – была, и нет. – Как так? – спросила Алена. – А вот так! Мы с Генкой – на ЗИЛ, и в деревню. Где, мол, металл принимают? Показали нам гараж. Заходим – ба! – снаряд наш тут как тут. Мы его экспроприировали, приемщика заставили с нами грузить. Он раскололся: пастухи трубу сперли. Описал их. И представляете, едем мы обратно, а навстречу по полю воришки плетутся. – Сильно били? – засмеялась Алена. – Обижаете. Так, для профилактики. Денис скомандовал свернуть. «Ситроен» поехал по плоской равнине, упирающейся на юге в ельник. Миновал мусорную яму. Издалека Алена заметила технику геологоразведчиков: грузовичок, водовозку, самоходную установку на базе «Урала». В десяти метрах от скважины заякорился дом-вагон. На ящиках с керном отдыхали двое заросших бородами здоровяков. Третий детина чистил храпок – насос, подающий на станок воду с глиняным раствором. В ближайшие дни Алене предстояло изучать и систематизировать образцы породы, составлять карты, ночевать под одной крышей с бурильщиками или, при желании, поискать жилье в Варваровке. Она вновь подумала о руках Дениса, сильных и загорелых. Мужчины называли свои имена, наперебой предлагали сигареты, сгущенку, уху. Она согласилась на чай. Денис вынул из заднего кармана пачку папирос. «Неужели, – хмыкнула Алена, – в две тысячи двадцатом году кто-то еще курит „Беломор“?» Она подставила ветерку лицо, понимая, что водитель наблюдает. И вдруг заметила: – Птицы не поют. Денис сжал пальцами мундштук – дважды, передавил крест-накрест и улыбнулся загадочно: – Бывает.
Самые страшные чтения. Третий том
© Авторы, текст, 2024 © ООО «Издательство АСТ», 2024Жанна Бочманова Боренька
В субботу приехала бабушка с целой сумкой гостинцев. Дима сидел за столом, болтал ногами, ковырял ложкой разваристую картошку, с волокнами студенистой тушенки. Мать жаловалась на врачей, которые так и не смогли понять, почему ребенок в шесть до сих пор не говорит. Бабушка погладила внука по голове, покосилась на плюшевого поросенка, с которым мальчик не расставался. – Помнишь Бореньку-то? Помнишь, как игрался-то с ним? Соседи всё удивлялись, как он у тебя заместо собачонки бегал и через палочку прыгал. Ой хороший оказался порось, вымахал будь здоров. Весь подпол тушенкой уставила, – она ткнула пальцем в стеклянную банку, где в желе плотными рядами лежали куски мяса, укрытые сверху толстым слоем белого жира. Ее прервал странный звук. Дима навис над тарелкой, из его рта выплескивалась мутная вонючая рвота. Лиза, Димина сестра, шестнадцати лет, брезгливо выскочила из-за стола. – Мам, он же немой, а не глухой, – укорила мать и потащила его, рыдающего и блюющего в ванную. Разбудили Диму еле слышные звуки. Что-то чмокало и хрюкало внизу, совсем рядом с кроватью. Дима свесил голову и увидел плюшевого поросенка. Поросенок пританцовывал, вертел скрюченным хвостиком, шевелил носом. Дима притянул его к себе и стиснул изо всех сил. – М-м-м, – мычал он, глотая слезы. – Хрю… – Поросенок обдал его ухо горячим дыханием. – Хрю… Кто мясцо мое ел, того сам съем. Кто мясцо мое… Ухо Димы внезапно загорелось огнем. Он отдернул поросенка и, держа в вытянутых руках, увидел, как в его пасти исчезает что-то белое, сочащееся кровью. – А-а-а! – заорал он, прижимая руку к уху, вернее, к тому месту, где оно должно было быть. Включился свет, вбежала испуганная мать. Дима орал на одной ноте, держался за уши и раскачивался. Мать, уставшая от длинного дня, проверила наличие ушей, тяжко вздохнула и велела спать, игрушку же повертела в руках и отбросила в угол. Поросенок лежал на боку, в приоткрытой пасти виднелись окрашенные красным матерчатые клыки. Дима сжался в комок, зажал уши руками. Ему все еще не верилось, что оба уха на месте. Он помнил липкую кровь на руках, дырку в черепе и ошметки плоти по краям. Острые копытца пробежалось по ногам, нос обожгло болью. Дима вскочил, по лицу в рот бежало соленое и железистое. Тронуть нос он побоялся, знал что руки нащупают там провал и рваные края, лишь глотал кровь, слизывал ее с губ. – Ел мясцо, теперь я съем…. Дима бочком выскользнул из комнаты. Вытащил из подставки кухонный тесак – мать разделывала им мясо, – взял банку с тушенкой. Плюшевый поросенок смотрел на него пустыми черными глазами. Но Дима знал, что это обман, поросенок все видел. И ждал.Дима зажмурился и перевернул поросенка на спину. Нож вспорол шов. Полезло белое и пушистое. Он выбирал наполнитель из брюха, тело поросенка опадало, тоньшело. Но это ненадолго. Он вытряхивал содержимое банки в поросячье тельце, наполняя его. Пахло тошнотворно, Диму мутило. Поросенок, растопырив лапы, смотрел в потолок. – Мало, – хрюкнул поросенок, – мало. Ел мое мясцо – я твое съем. Ноги с копытцами шевельнулись. Дима отшатнулся. – П-п-п… – Он хотел сказать «подожди», но слова не выходили. Копытца застыли. Поросенок понял. Дима взял нож и встал. Мать спала, укрывшись одеялом по самую шею. Фрамуга, откинутая сверху, давала ночной прохладе вольготно гулять по комнате. Не пришлось даже прицеливаться – контуры тела четко прослеживались под одеялом. Лиза вернулась с вечеринки под утро. Солнце уже било в окна россыпью лучей, отражаясь от темных пятен на полу. Будто кто варенье разлил. Темное вишневое варенье. Брат сидел в углу, поглаживая что-то бесформенное, розово-студенистое. Слова застыли у Лизы в горле, когда из студня вылез розовый пятачок, сморщился, принялся нюхать, выискивая добычу. – Ела мое мясцо, я съем твое, – просипел пятачок. Лиза затрясла головой. – Не ела, не ела… – На память некстати пришел пирожок, съеденный вечером. – А-а-а, – закричала она, видя, как что-то метнулось к ней, а затем впилось в нос, в щеки, в лоб. По улице шел мальчик в пижаме, на поводке рядом с ним цокал копытами маленький поросенок. Прохожие оборачивались, прикидывая, стоит ли сообщить, куда надо, и тут же забывали увиденное. До поселка, где жила бабушка, мальчик добрался быстро, даже сам не понял как. Поросенок вел его. Бабушка сидела на кухне и удивленно привстала, когда Дима вошел. Он посмотрел ей в глаза, и губы его шевельнулись. – Боренька, – чисто и ясно произнес он. – Помнишь Бореньку?
Алиса Камчиц Вечеря
На праздничную скатерть капал горячий воск, начищенные медные приборы отбрасывали янтарные блики. За длинным столом не было свободных мест – с каждой стороны теснилось по шестеро, но обычного шума, смеха и грубых шуток не было слышно. Из тени вышел грузный лысый человек, поставил во главе стола табуретку и тяжело плюхнулся. Он положил руки на скатерть – на правой кисти была татуировка отрубленной змеиной головы. Бесцветные глаза внимательным взглядом окинули компанию. Никто не нарушил тишины и не отвел взгляда от своей тарелки. Перед каждым лежало по кусочку хлеба с солониной размером со спичечный коробок. Парнишка слева от лысого человека забеспокоился, завертел головой по сторонам, беззвучно шевеля губами. – Ежели соберутся за трапезой «большой дюжиной», года не выйдет, как один помрет! – выпалил он. – Закрой рот. Здесь иные приметы, пора бы знать, – ответил кто-то с другого края стола, чужеземно растягивая слова. – Кликнем твою маманю, будет четырнадцатой! – весело подмигнул парнишке сосед-бородач. Никто не засмеялся. – Малого не трожь. Сам поди таким был, – хмуро сказал чужеземцу бородач. Без улыбки его лицо сразу постарело. – Раз никто не хочет, сам уйду. Вахту встану, – сказал парнишка и стал подниматься из-за стола. – Стоять. – Лысый положил ручищу на плечо парня. Мертвая змеиная голова скалилась и брызгала чернильным ядом. – Не до вахты. И правда, подумал парнишка, глупость сказал. Мы же в склепе. Время тут не идет – зачем тогда вахтенные? Безмолвный, недвижимый как могильная плита, молочно-серый и матово-зеленый, непрощающий лед покрывает сотни миль кругом. – Поспешили мы – и поплатимся. Мастер-то был ничего, – вздохнул темнокожий старик. – Весьма недурен был. Жаль, хватило ненадолго! – отозвался сиплый голос. Пара паскудных смешков разрослась во взрыв хриплого хохота. Кулак с татуировкой обрушился на стол. В душной тишине не было слышно ни крыс, ни чаек. Пахло сыростью, болезнью, сладковатым горелым жиром. Среди расколотой мебели, паутины и липких пивных пятен казался ненастоящим белоснежный стол, нарядный, как торт на крестинах. Лысый снова всмотрелся в лица собравшихся. Белесые глаза ничего не выражали. В его ладонях вертелось что-то небольшое и хрупкое, казалось, что он разбирает на детали заводную игрушку. Что-то щелкнуло, будто сломали спичку. – Мы и платим теперь, господа, за тщеславие и глупость мастера, – сказал он. Щелк-щелк. Лысый выложил на скатерти в ряд двенадцать белых сухих, чисто вываренных крысиных ребрышек. – Дайте ружье! По льду пойду, кто со мной? Тюленя свалим! Пойдем, а? – закричал парнишка. На его рыжих ресницах блестели слезы. Лысый двумя пальцами переломил косточку пополам и аккуратно положил половинку рядом с дюжиной длинных. Вторую половинку он отправил в рот и с хрустом разгрыз. Он встал из-за стола и неспешно обошел его вокруг. Каждый вытянул одну из косточек, прикрытых татуированной рукой. Кто-то шумно выдохнул и закашлялся. Другой перекрестился. Третий тихо рассмеялся. Остальные – как парнишка, белее скатерти, – не раскрывали ладоней. Лысый открыл рот, чтобы приказать, и на него бросился смеющийся матрос. «ДУША ВЕТРА ПЬЕТ СЛЕЗЫ, ОНА ВЕЧНО ЖАЖДЕТ!» – кричал он, из уха бежала кровавая ниточка. Медный всполох прорезал воздух, вилка вонзилась в шею лысого, вышла с фонтанчиком брызг и сразу ударила снова. Матрос отшвырнул вилку, побежал наверх и бросился за борт. Лысый дергался на полу, а бородатый хирург склонился над ним и внимательно наблюдал, облизывая потрескавшиеся губы. Парнишка кинулся к умирающему и прижался ухом к его груди, будто слушая дыхание. Он незаметно разжал толстые пальцы лысого, выдрал из них длинную косточку и вложил свою – жалкую, обломанную, прÓклятую. Глаза синей змеи были мертвы. – Отойди от господина боцмана, малый, – прорычал хирург и первым достал нож. Парнишка откатился в сторону, в его глазах стыли слезы страха, но он уже корчился от смеха на липком полу. – Говорил же – помрет! – хохотал он.Ира Данилова Черный банан
В одном желтом пакете лежал желтый банан. Этот желтый пакет лежал в холодильнике. Одна девочка взяла банан, положила в рюкзак и пошла в школу. На улице был страшный мороз. Когда девочка пришла, сначала все было хорошо. А потом на большой перемене она достала банан, а он оказался черным! Девочка не стала есть банан. Она угостила им одноклассника. Одноклассник был страшно голодный и откусил от холодного банана. Он чихнул и ударился головой о парту. И умер. Но всем было все равно. Девочка испугалась и не стала доедать банан. Он так и остался лежать на полу кожурой вверх. И началась контрольная. Учительница раздала тесты, открыла форточку и медленно пошла между рядами. Как только учительница дошла до парты девочки, выключили батареи. Она тут же поскользнулась на черной шкурке и упала. И контрольная отменилась. Но никто не сдвинулся с места и не побежал в столовую. Весь класс остолбенел и не мигая смотрел на доску. Изо ртов шел пар. А потом перестал. Девочка вскочила и выбежала из класса. А когда она прибежала домой, то решила поесть, потому что банан раздавила мертвая учительница, весь класс тоже умер, а каша осталась в столовой. Девочка бросилась к желтому пакету. А в нем все бананы оказались черными! Она забралась под кровать и стала ждать родителей и молиться. Так она и молилась до самого вечера. А когда настал вечер, в прихожей зашуршали. Сначала девочка решила, что это пришли родители, и хотела вылезти. Но увидела из-под кровати сапоги. Это были сапоги ее мамы. Девочка сразу поняла, что это не мама, потому что ни одна нормальная мама никогда не ходит по квартире в сапогах. – Мы с мамой забежали на секундочку, – сказал папа загробным голосом. Тогда девочка увидела папины тапочки. Но это был не папа. Потому что ни один нормальный папа не снимает ботинки, когда ненадолго забегает в квартиру. Девочка так испугалась, что у нее стали стучать зубы. Чтобы зомби ее не услышали, она укусила себя за палец. И как закричит! Зомби полезли под кровать. У одного были мамины красные ногти. Он пошарил под кроватью и сказал, что надо пропылесосить, а то все умрут. У второго была папина волосатая рука. Он пошарил ею под кроватью и нашел фантик и пыльный комок. А девочку не нашел, зато бросил руку и ушел на кухню выкидывать мусор. Холодильник запищал. На кухне громыхнуло. И стало очень тихо. Девочка чуть не умерла от ужаса. Она взяла папину руку, чтобы отбиваться, и побежала на кухню. На кухне в лужах черной крови лежали зомби: один без руки, второй с красными ногтями. Рядом валялись две черные банановые шкурки. Девочка схватила серебряный ножик для пиццы и бросила его в зомби. Но промахнулась, и тот воткнулся в ламинат. Девочка бросила руку и выбежала из квартиры. Она вызвала лифт, но он все не ехал и не ехал, а потом застрял. Она побежала по лестнице. А внизу стояли ее папа и мама: каждый с одной рукой. А вторые у них были в гипсе! – Где твой палец? – спросила мама девочку ледяным тоном. – А я говорил не совать его, куда не следует, – сказал папа загробным голосом. – Пойдем в наш дом. Мы сделаем тебе перевязку, как у нас, – сказали оба. И потащили девочку в лифт. Только мертвых зомби в квартире не было. А были только две черные шкурки от бананов. И девочка поняла, что те мертвые зомби – это ЭТИ. – Это конец, – сказала мама, глядя в желтый пакет в холодильнике. – Откуда мне знать, что бананы не кладут в холодильник? – прохрипел папа. – Они черне-е-еют, – проскрипела мама. Вдруг холодильник запищал. И мама с папой убежали на улицу. Через балкон, потому что они тоже были зомби и какая им разница? Зомби никогда не умирают, потому что второй раз еще никто не умирал. А девочка открыла холодильник и заглянула в желтый пакет. Там лежал последний черный банан. «Отдам Кате со второй парты, – решила девочка. – Она украла у меня роль Мальвины на утреннике и одноклассника Упырева. Скажу, что это от мороза». А потом залезла на стул искать бинт и упала на ножик для пиццы. И умерла. От зависти. И хорошо.Ирина Невская Близкие люди
Кажется, мы сумели от них оторваться. Сколько их было – четверо? Шестеро? Неважно. Теперь им уже не до нас – из этих катакомб еще поди выберись. Надеюсь, не выберутся. Надеюсь, останутся тут навсегда, пополнят армию больничных теней, они, не давшие нам ни капельки света. Мерзкие твари, вечно глядевшие через нас, будто не замечая, пусть сами теперь станут призраками. Нас они уже не догонят. Мы с братом сидим прислонившись к сырой стене, комья штукатурки валяются на полу. Здание такое старое, что никто не помнит его настоящих размеров. Узкие коридоры петляют, путаются, уходят глубоко вниз. Сейчас, когда преследователи остались далеко позади, вокруг стало так тихо. Ржавый свет стекает из-под самого потолка, крысы скребутся в завалах разломанной мебели. Крысы – наши друзья. Помню, в детстве, когда лысый Генчик надо мной издевался, брат подложил ему в портфель крысу, и та цапнула лысого за руку. Ну и смеялись же мы! Особенно после того, как в лечебнике ему впаяли сорок уколов в живот. Это был один из лучших дней в моей жизни! Да, брат всегда знал, как обо мне позаботиться. Теперь мой черед его защищать. Надо бы идти дальше, но брат очень устал, этот марафон совсем измотал его. Терпи, братишка, терпи! Скоро мы выберемся отсюда. Шлеп-шлеп. Это с потолка капает или кто-то крадется по коридору? Вот еще раз… Шлеп-шлеп. Неужто все-таки выследили? Эти гады хитрющие, словно демоны. Сахарные улыбочки, нежные пальцы, слова, липкие будто патока… А глаза пустые-пустые. В таких глазах правды нет, не зря я сразу им не поверил. С самого первого дня, когда только мать привезла нас сюда, я ждал от них какой-то беды. Ждал-ждал и дождался… Демоны поймали брата в сеть своих проводов, высосали гибкими шлангами его последние силы. Не жаль их ни капельки. Ни белобрысого с ножницами в глазницах. Ни его щербатого помощника со скальпелем в горле. Жалко только девчонку рыжую, зря она на шум прибежала. Единственная, в чьих глазах еще оставалось тепло. Конечно, ее улыбки тоже были фальшивыми – таким, как она, уголки губ еще при входе приклеивают. Сдерни невидимый пластырь – и улыбка сползет, скукожится в нормальное человеческое лицо. Но я пластыря на ней не нашел, так что, даже умирая, она, бедняжка, лыбиться не переставала. Хваталась руками за провод, сучила ногами, а улыбка эта жуткая становилась только шире и шире… Брат, наивная душа, правда, верил, что она это искренне. Хорошо все-таки, что я у него есть. Я-то знаю, что людям верить нельзя, а тем, кто сладко поет, так тем более. Да вообще никому нельзя верить. Одни мы с братом на свете. Я знал это каждый день из тех, что мы жили в том стерильном питомнике. И когда вечером они засуетились, забегали, я сразу заподозрил неладное. Подсмотрел в карту, которую белобрысый так опрометчиво у нашей кровати оставил. И сразу все стало четко, будто пелена с глаз упала, каждого рассмотрел. Мать, лицемерку проклятую, которая брата на убой притащила. Белобрысого в белом халате, вечно жизнерадостного и бодрого. Даже рыжую сестричку с поста – всех, всех разглядел! И стало ясно, что выбираться пора. Через турникеты наружу было нельзя – там бы нас сразу поймали. Оставался один путь – через подвал и в коллекторы. Вышло все еще лучше – подземные лабиринты спрятали нас от противников. Но отсюда-то мы выход найдем, а оттуда – из светлой палаты – выхода для нас двоих не было. И когда я вытащил ножницы из-под подушки, я думал: только не дрогни рука! У брата не дрогнула бы… Но его, прежде такие сильные, руки плетьми лежали поверх простыни, и пришлось все делать самому. К счастью, ноги всегда были только мои, оставалось лишь прорваться через эту паучью сеть, а убегать и прятаться я с самого детства умел. Они не разделят нас, если не смогут найти. Пусть поберегут свои пилы для кого-то другого, а мы с братом навсегда останемся одним целым. Теперь, когда я вытащил его из проводов, что высасывали его силы, он опять начнет дышать сам. А пока я буду дышать за двоих. Но в одном я точно уверен – мы ни за что не вернемся обрат…Татьяна Верман Берегите себя
– Что же вы, ироды, делаете! – всхлипнула Валентина Семеновна. Мужчины больше не пытались сойти за сотрудников социальной службы. Здоровенный бритоголовый детина выворачивал ящики комода: на пол летело исподнее, носочки, ворох застиранных полотенец. Его спутник – лохматый паренек с бегающими глазками – перетряхивал шкаф. Разбойники вскипали злобой: если не считать пары золотых сережек и вытянутого из сумки кошелька, пока они не нашли ничего ценного. – Старая шкура, – прорычал здоровяк. Он сшиб с комода фотографию Валентины Семеновны и ее почившего мужа и ударом тяжелого ботинка размозжил стекло в мелкую крошку. – Совсем, что ли, ни хрена не накопила?! «Зашибут, – вдруг отчетливо поняла пенсионерка. Она едва могла дышать, в ушах шумело, мысли путались. – Как куренка придушат». – На кухне, в шкафчике у самого входа, – прошептала она. – В жестяной банке в цветочек лежат мои похоронные. Кивком головы здоровяк отправил лохматого на кухню, а сам повалил стоящую в углу комнаты елку и принялся безжалостно топтать стеклянные игрушки. Матрешки, кукурузные початки, разноцветные шишки и льдинки – с любовью собранные украшения под пятой злодея превращались в гору безликих осколков. Валентина Семеновна тоненько закричала, вскинула дрожащие руки… …и тут детина заметил на костлявом пальце тонкий ободок обручального кольца. – Золотишко сымай! Старушка снова всхлипнула, прижала сжатый кулачок к сердцу, помотала головой – от страха отнялся язык. Громила наступал, и в его налитых кровью глазах Валентина Семеновна разглядела свою погибель. Разбойник замахнулся… Хлопнула входная дверь. «Еще бандиты из их шайки?» – обреченно подумала старушка, но по нахмуренному лицу здоровяка поняла – гостей не ждали. В коридоре послышались тяжелые шаги и бряцание. Тут же раздался пронзительный крик, перешедший в жуткое бульканье; что-то с грохотом упало. Следом обрушилась звенящая тишина. – Какого хрена! Малой, че там? – Громила нерешительно шагнул к двери и замер – звяканье и тяжелая поступь были все ближе. – Что за… Договорить не успел: удар цепью сбил его с ног. Со стоном рухнул на пол, и цепь настигла его еще раз, ломая ребра и дробя скуловые кости. Полный боли крик почти сразу обернулся жалобным скулежом. И вот тогда в комнату шагнуло чудовище. Валентина Семеновна сразу узнала Крампуса – рождественского демона Альп. Козлиные рога почти подпирали потолок, из клыкастой пасти вывалился длинный заостренный язык. От са́мой макушки до кончиков раздвоенных копыт монстр был покрыт свалявшейся черной шерстью, щедро присыпанной снегом. В одной руке он сжимал массивную цепь, другой – придерживал за спиной вяло шевелящийся красный мешок. Хотя красный ли? Нет, пропитанный кровью. – Плохой мальчик, – прорычал Крампус. Выстрелил языком, и острый кончик с тошнотворным хлюпаньем пробил здоровяку горло. Тот попытался зажать рану ладонями, но тщетно: кровь толчками покидала тело, просачивалась сквозь пальцы. Валентина Семеновна вскрикнула, отвернулась. Она слышала, как Крампус ломает несчастному кости, чтобы затолкать в свой безразмерный мешок; вздрагивала от предсмертных хрипов. Ей почудилось, что прошла целая вечность, прежде чем возня за спиной стихла. – Наследил. Услышала старушка. Она обернулась. Разбойник исчез; Крампус, словно извиняясь, указал на лужу крови на полу и не без труда взвалил на спину заметно потяжелевший мешок. – Злодеев много развелось, – прохрипел он в ответ на немой вопрос. – С наступающим. Берегите себя. И исчез, оставив за собой лишь кровь и следы талого снега в форме раздвоенного копыта.Анастасия Пушкова У тебя за спиной
В детстве у меня, как и у всех, над кроватью висела пыльная дверь в другой мир – ковер. Растянутая, линялая тряпка, обиталище моли. Ковер смотрел глазами из кругов и ртами из треугольников. За сыпучей мазаной стенкой барачного дома спал школьный приятель Витька. Но у него на стене вместо ковра плакат с машиной, а у меня чудовище за спиной. Чтобы не было так страшно, мы с Витькой каждую ночь перестукивались. Я отыскал гвоздь со свернутой шляпкой, пахнущий машинным маслом и ржавчиной, и потихоньку ковырял перегородку. Я надеялся, что, если в глазе-круге на ковре будет дыра, может, то, что обитает там, не выберется наружу. – Витька, спишь? – Не-а, моих нет дома, я один. У меня кто-то за печкой шуршит. Не мышь, прикинь? Жуть, да? – Голос Витьки был звонким, с задоринкой. Даже если и правда страшно – ни за что не покажет. – Ага, жуть, – прислушался. Тишина. Но лучше бы кто-то шуршал, а не пялился в спину, стоило повернуться на другой бок. – Давай не спать всю ночь, будем болтать. – Ага, – дохнуло из дырки в стене. – Здорово. Только погромче, чтобы не так шуршало. Так мы и делали каждый раз, когда ветер выламывал шифер на крыше или вода капала из ржавого умывальника. За болтовней вроде и не так жутко, когда два мира кошмаров связаны дырой в ковре на стене. Глаз щурился, недовольно дышал сквозняком и звонким голосом Витьки. Но однажды ночью Витька не ответил. Может, вся семья ушла в гости? И, как назло, моих дома тоже не было. А еще гвоздь куда-то закатился. Я отвернулся, положил подушку на голову и, как мог, старался заснуть. Только не думать о том, что за спиной. Но оно там. Смотрит глазами из кругов, ухмыляется ртом, полным гнилых зубов из треугольников, протягивает лапы и топчется по ногам, сминая одеяло. Взрослые говорили, что это просто усталость, но я знал, что это ходит оно, то, что пытается выбраться из ковра на стене. – Костик, не спишь? Поговорим? – внезапно раздалось за стеной. От облегчения я едва не разрыдался. Значит, Витька все это время был дома. Вот только голос будто чужой, глухой как сквозняк. – Вить, простыл? – Нет, все прекрасно, – просипели из дырки за ковром. – А чего голос такой? Молчание. А потом вновь ответил звонко, громко: – Боишься? – Чего пугаешь? Я думал, это то… – Что то? Трусишка, трусишка, маменькин сынишка. – Хватит, сам хорош. Чего молчал тогда? – Готовился. Теперь все, – дохнули в ухо. – Что все? – У меня тоже гвоздь, отойди-ка. – Из дырки посыпалась деревянная труха, будто ее жрал голодный древоточец. А потом брызнул тусклый зеленоватый свет, как от гнилушки. С ночником, что ли, спит? И кто тут трус? Захотелось рассмеяться. – Смотри, видишь меня? – спросил Витька. – Где ты? – Здесь. – Из ворса показался Витькин палец, поманил и исчез. Дыра в круге стала явно больше. Витька постарался. Наверное, гвоздь побольше моего. Я поспешно приник к отверстию, надеясь увидеть комнату приятеля. Но в тот миг, когда я должен был увидеть его, мне в глаз ткнулся палец. Длинный, куда длиннее, чем должен быть у человека. Острый ноготь мгновенно проткнул глазное яблоко, наматывая остатки глаза и нервов, и потянул в дыру. Мир почти исчез от боли. Я завопил. Хотел вырваться, сползти с кровати, но палец из дыры не отпускал уже пустую глазницу, притягивая все ближе и ближе. – Кость, – снова сиплый голос, – иди сюда, это я, я здесь, мне так страшно… Шуршит… Оно тянуло и тянуло, стараясь протащить меня сквозь крошащуюся дыру на ту сторону, целиком, по частям. С той стороны не оказалось ни комнаты Витьки, ни его самого тоже, я так и не попал туда, а остался между. Наверное, ковер все еще висит в моей комнате, с проплешинами в густом ворсе, с кругами-глазами, с зубами-треугольниками, с жутью. Вот только меня онбольше не пугает. Потому, что меня там больше нет.Светлана Волкова Марфинька
В апреле, на Чистый четверг, у Кипряной слободы река принесла утопленницу. Положили ее на доски на берегу, и собрался слободской люд поглядеть. Утопленница была светловолоса, пригожа и как будто и не мертва вовсе – а прилегла тут и задремала ненароком. Даже румянец нежный сквозь прозрачную кожу проступал. Позвали старосту, тот поглядел, почесал бороду, попричитал, мол, девка молодая, жаль, но в церковь вносить не велел. Кто-то из старух сказал: утопленницам под язык мякиш хлебный кладут – вроде как причащают так, раз без церкви. Хоронили в слободе всегда в понедельник – такие традиции. Оставили девку лежать на берегу, только холстиной накрыли. А погода выдалась мокрющая, дождь заговорил, да не остановить. – Что ж киснуть она будет до понедельника? Нехорошо! – судачили люди. – Надо бы в сени к кому положить. Да только к кому? Охотников не нашлось. Попререкались слободские и вспомнили про Назарку, рябого горбуна, дурачка местного. Жил Назарка на отшибе, в самой крайней избе, на хлеб зарабатывал чем придется, в основном попрошайничал. Внесли слободские утопленницу к Назарке в сени, да не удержались: по злобе ехидной сказали ему, мол, невеста тебе, Назарка, только уснула. Назарка благодарил, в ноги кланялся, руки соседям целовал.Наступила пятница. Пришел Назарка на рынок. К одному торговцу подойдет, о здоровье спросит, с другими о делах поговорит, и так складно все. Народ подивился: да что ж, поумнел ты, Назарка? Как же ж такое может быть? А Назарка лукаво улыбается и отвечает: – Марфинька научила. – Да кто ж такая? – вопрошают слободские. – Невестушка моя. Чай сами сосватали. Вчера всю ночь разговоры вели мудреные, я и поумнел. Народ-то подивился, но к вечеру забыл: мало ли просветление у дурачка.
В субботу снова пришел Назарка на рынок. И ахнул народ, сбежались все поглядеть на него: горба-то нет, выпрямился, и славный такой: лицом чист и мил, румянец яблочный, синие глаза с «умнинкой». Бабы аж загляделись. Только волосы седые все, так красоту ж не портят. – Как же ж так? Чудо-то какое! – Так Марфинька, – молвит Назарка. – В баньке вчера попарила, меня хвори и отпустили. Пошептался народ, подивился.
А в воскресенье не пришел Назарка на рынок. Прождали люди до вечера, а как стемнело – решились человек пять из особо любопытствующих вместе со старостой пойти к нему в дом. Вошли в сени. В потемках зажгли свечечку. Видят: Лежит на лавке тело, накрытое холстиной, – в той же позе, в какой в четверг положили. Из-под холстины узкие девичьи ступни выглядывают, белые, ногти зеленоватые, с чернотой. И запах легкий от нее, сладковатый. Перекрестились слободские, вошли в горницу, Назарку зовут: не откликается. Там стол накрыт. Капуста тушеная, репа, жаркое наваристое, из горшка ложки торчат: шесть штук, по числу гостей. Не побрезговали гости, полакомились. Немного, по кусочку. Знатное жаркое, бабы местные так не умеют. Поискали Назарку по дому, и на чердаке, и в подполе. Нет его. Вернулись в горницу. Темно в горнице. Темно. И свечечка колыхается, вот-вот погаснет. Слышат: шорох какой-то. Будто в сенях кто-то ходит, половицы поют тихонечко. Замерли люди. Дыхание затаили. Осторожно выглянули в сени… Глядь: а на лавке никого! Только холстина на пол сброшена. Кинулись слободские вон из дома, а дверь не открыть. Тут свечка и погасла совсем, да не зажечь никак заново. Слышат: поет кто-то. Тихонечко так. Хотели люди перекреститься – руки онемели. Вдруг свечение какое-то появилось за дверью в горницу: голубоватое, холодное. Отворилась дверь, и видят: стоит горбатая девушка, худая, голая, кости торчат, груди острые, рот открыт, хохочет, а звука нет ни единого. Староста шепотом спрашивает: – Кто ты? Помолчала и отвечает низким голосом: – Ма-а-а-рфинька я, Назаркина невеста. – А Назарка сам где? – Так съели вы его, гости мои. Заиндевели люди, ни молвить, ни шелохнуться не могут. А девка на цыпочках подходит к ним, гладит каждого по голове и нараспев тянет: – А меня не покормите? Я ж покормила вас. Злые, злые люди. Мякишка хлебного жалеете Марфиньке.
В шести избах в ту ночь не дождались бабы своих мужей. Наутро собралась вся слобода, пошли люди с вилами на Назаркин дом. Пришли к окраине: глядь, а вместо дома головешки одни. И сидит на пепелище старуха горбатая, воет с горя, на вопросы не отвечает. Слободские смекнули: мать, наверное, Назаркина, вроде ж сирота был, а кто ее разберет: уж больно рябым лицом на Назарку похожа. А старуха глядит на них и корытце с кутьей им протягивает: помяните, мол, Назарушку моего. Оторопели люди, отведали кутью – каждый по щепотке. А старуха гладит их по головам и приговаривает: – Нет больше Кипряной слободы. Не покормили вы Марфиньку.
Ходит теперь Марфинька по городам да весям, просит хлебушка. Вы уж держите мякишек при себе, как увидите Марфиньку, дайте ей. Авось не вас, а мякишек съест.
Александр Подольский Фотограф
Под новогодней елкой прятались коробки с подарками. Ждали детей. Ползущая по веткам змея-гирлянда мигала разноцветными лампочками, и вспышки отражались в стеклах игрушечных шаров. На полу, терзая бумажный бантик, бесновался котенок. Серым комочком он катался по ковру, не выпуская добычу из лапок. Зверек довольно фыркал и ворчал, притворяясь настоящим тигром. Когда мифическая птичка должна была вылететь из объектива, котенок потерял интерес к игре и устремился прочь, привлеченный возбужденными голосами. Фотограф улыбнулся, глядя на неудавшийся кадр. Маленький проказник не оставил там даже кончика хвоста. Зато вошедшая в гостиную женщина на снимке получилась очень красивой. Радостное лицо, стройная фигура в праздничном платье, волна ухоженных волос. Даже на замершем изображении ее глаза светились счастьем. Гость пропустил хозяйку к столу и шагнул дальше. Ему оставалось сделать еще три фотографии. Отец семейства, в спальне воюющий с пультом от телевизора, не услышал щелчка затвора. Как и не заметил никого в комнате. А кусочек чужой жизни нашел пристанище в глубинах фотоаппарата, с которым не расставался гость. Девочка с белокурыми косичками строила рожицы старшему брату. Тот до поры до времени делал вид, что ничего не замечает, но потом не выдержал и изобразил на лице забавную гримасу. Сестренка, вылитая мать-красавица, зашлась хохотом, едва не подавившись шоколадной конфетой. Брат шутливо пригрозил девочке пальцем. Фотограф посмотрел на паренька, и тот на мгновение помрачнел. Огляделся по сторонам, будто искал что-то. Во взгляде мелькнул страх. Однако наваждение быстро ушло. Паренек улыбнулся и бросил в сестру фантиком. Довольный попаданием, показал ей язык. Таким он и застыл в кадре. Часы оповестили о приближении праздника. Мама собирала на стол, папа утопал в новогодней программе передач, а дети перешучивались и незаметно таскали угощения из многочисленных тарелок. Фотограф стоял рядом. Ему нужно было торопиться, ведь до трагедии оставались считаные минуты. От возвращения в свой мир фотографа отделял последний снимок. Прощальный кадр для всех, кто оказывался объектом его задания. Как только объектив поймал голубые озерца на детском личике, улыбка куда-то пропала. Фотограф замер. Затихшая девочка смотрела прямо на него. Ее руки вжались в край скатерти, в уголках глаз зарождались крошечные ручейки. Иногда дети чувствовали его, но чтобы видеть?.. Фотограф вздохнул, помешкал, но нажал на кнопку. Длинные ресницы девчушки хлопнули вместе со вспышкой.Вихрь снежинок летел следом за фотографом, который закончил работу. Шагов по хрустящему насту никто не слышал, как и не видел тень, бредущую прочь от многоэтажек. Навстречу пронеслась пожарная машина, разметывая в стороны грязные комья снега. Фотограф знал, что в эту минуту полыхает одна из квартир, где загорелась гирлянда. Заклинившая дверь похоронит в огне всю семью. Из недр куртки фотографа показалась пушистая голова. Серый котенок принюхался к морозному воздуху и спрятался обратно. Ему было тепло и уютно. Там, откуда пришел его новый хозяин, снег не идет никогда.
Надежда Чубарова Тихая охота
Я никогда не боялась леса. Папа с детства брал меня с собой на охоту. Он уходил с ружьем, а я собирала грибы, ягоды. У меня была своя тихая охота. Помню, как-то я нашла в лесу корзину, полную грибов! А рядом – никого. Мы с папой долго кричали, звали, но так никто и не откликнулся. Тогда мы решили, что разиня грибник просто потерял свою корзину. Бывает же так: поставишь ее и ходишь вокруг, а грибы заманивают все дальше и дальше, так уведут, что и корзину потом не найдешь. Помня об этом, я свою корзину никогда не оставляла. Даже полную и тяжелую таскала за собой. Я давно взрослая и запросто хожу в лес одна. Никогда даже мысли не возникало об опасности. Все эти медведи и прочие звери – для меня были лишь в сказках, вживую я их в лесу не встречала. А кроме хищников, какая может быть опасность? Вот и я так думала. До сегодняшнего дня. Грибов в этом году мало. Все ноги истоптала, а в корзине валяется всего две штуки, из которых один – только половина шляпки, остальное пришлось срезать. Даже на суп не хватит. Целую неделю лил дождь, все говорили, что теперь должны грибы пойти, но нет. Раз уж год не грибной, то хоть дождь, хоть солнце – без разницы. Вдруг показалось, что среди елок что-то краснеет. Никак гриб! Точно: чистенький подосиновик, ни одной червоточинки. А рядом еще один! И еще! Ну, если так пойдет, то на суп-то наберу! Я поставила корзину на землю и принялась срезать грибы. А они – словно со всего леса сбежались в одно место, выстроились дорожкой, будто в хоровод встали. И надо же такому случиться, что именно я на это место наткнулась! Корзина уже полная, а грибы все не заканчиваются. Я присела на корточки в центре этого хоровода и торопливо срезаю плотные ножки. – Это мое… – послышался сердитый шепот. Я тут же выпрямилась и настороженно осмотрелась по сторонам: что за шутник тут прячется? Тишина. Даже птицы смолкли. Не улетели, а просто расселись на ветках ближайшего дерева и молча смотрят на меня. Вроде бы нет никого… Наверное, это ветер шумит листвой, а мне мерещится шепот. И, словно в доказательство, на облезлых еловых лапах шевельнулись длинные пряди лишайника. Немного помедлив, я опять нагнулась за грибом. Но уже не так беззаботно, с опаской поглядывая вокруг. Смех задорный и заливистый, будто детский, раздался так внезапно и так близко, что я вздрогнула. – Кто здесь? – Я напряженно огляделась. Тишина. Тревога нарастала. Сердце стучало где-то в горле, мешая дышать. Это уже не смешно! Остался еще один гриб. Один гриб – и убегу подальше от этого странного места! Я потянулась к нему. И вдруг споткнулась, упала на колени, уткнувшись ладонями в мох. Хотела встать, но мои ноги вдруг стали тяжелыми, они будто увязли в земле, не давая сдвинуться с места. Сапоги мгновенно стали покрываться налетом, быстро-быстро, словно по ним разрасталась тонкая белесая пленка. Я пыталась упереться руками в землю, чтоб встать, но вляпалась во что-то влажное, вязкое, белое, пахнущее сыростью, прелостью… С каждым движением тело все меньше слушалось меня, увязая глубже и глубже. Трава вокруг внезапно посветлела, и я с ужасом увидела, как белые нити тянутся из земли, трепещут, дрожат, словно тонкие щупальца в поисках добычи, и, почувствовав меня, стремятся в мою сторону. – Помогите! – в панике крикнула я. Я была бы рада даже тому шутнику, который напугал меня! Лишь бы вырваться из этой ловушки. Но в ответ послышался только шелест листьев и, мне показалось, тот самый заливистый смех. Птицы с тревожными криками заметались над моей головой. – Кто-нибудь! Помогите! – орала я, пытаясь бороться с белыми нитями, которые касались меня, обвивали, проникали под одежду и, кажется, под кожу. Потом хрипела. Потом уже молча открывала рот, тщетно пытаясь вырваться. А тонкие нити все плотнее обвивали меня и тащили под землю. Сознание путалось, какие-то образы сменялись одни другими, мое тело безвольно обмякло… Вспышки изредка возвращающегося сознания давали мне понять, что я еще жива. Земля еще не полностью забрала меня, из-под слоя мха одним глазом я видела человека. Точнее, я могла разглядеть лишь сапоги. Он остановился возле моей корзины. – Ау! Кто грибы потерял?! Откликнуться не хватало сил, нити грибницы оплели уже всю меня, не давая пошевелиться, во рту я чувствовала их прелый привкус. – Ну, раз ничья, то я забираю! – выждав паузу, громко предупредил человек. Он еще какое-то время постоял, покричал, а потом взял мою корзину с грибами и медленно пошел прочь.На поверхности мы видим лишь малую, крошечную часть гриба. Основное тело находится под землей, и оно огромно. Гриб-убийца? Это же полнейшая ерунда! Разве у него есть разум? Как мог он спланировать все это? Заманить меня, поймать… А теперь я – его пища…
Елена Шумара Когда Олле исполнится сто
У Мариэтты в кармане – всегда крючки. Острые, крепкие – знаки вопроса из стали. Спросит, бывало, прохожего Мариэтта: «Сколько на ваших часах?» – «Полночь, мадам, ноль и ноль». Тут-то и всадит она крючок – в губы, в язык, куда доведется. И тянет за леску тихонько. Бьется прохожий, рот округляет: «Ах, а-аха-хах, х-х-х». Пока совсем не помрет. Тут Мариэтта крючок вынимает и – к дому. Кашу овсяную есть. Сто лет по паспорту Мариэтте. Только не верит она тому: крючки говорят, что пять. Столько же, сто или пять, Бертраму. За окном его – куст рябины. Ягоды сушит Бертрам в батарее, а они свинцовеют, будто пули для взрослых ружей. Да только ружья – зачем? Есть у Бертрама трубка. Из трубки рябиной плеваться легко. Тьфу! И ягода в ухо прохожему – шасть! Из уха – в мозги, а там уж всему конец. Смеется Бертрам, в стенку стучит Мариэтте: помер, ушастый-то, помер. И тут же – в кроватку, ладоши под щечку и спать. Когда Бертрам засыпает, над ним просыпается Том. Комната Тома – под самой крышей. Он видит: за клеверным полем ходят зеленые поезда. Ту-у, уту-ту… Маленький Том слушает их и вторит. Том же столетний, кряхтя, спускается на дорогу. Камнем прохожего – тюк, и чертит на нем: шпалы, шпалы. И куры выходят клевать, и щиплются гуси, и слон ноги-тумбы переставляет. Тихнет прохожий. А Том, снова маленький, резво бежит в мансарду. Ту-у! Сандрина, хочешь со мной играть? Сандрина переворачивает часы. Чаша пустая уходит вниз, и красный песок кровью стекает в нее. Сандрина кровь обожает. Ножик серебряный носит с собой. На лезвии – имя, но чье, Сандрина не помнит. Стара. А славно как ножик прохожему входит под ребра! Хрсть – и намокло, и пятна кругом. Вот только кровь в темноте черна. Сандрина палец макает в разрез – кро-охотный палец – и к свету его скорей. Олле, смотри, красота! Олле – прохожий. Рядом с домом проходит он каждую ночь. И каждую ночь умирает. Губы у Олле белеют, пальцы кривятся, будто хватают ежа. Зрачки растекаются широко. Олле никак не привыкнет, грустно ему умирать. Но тут не взбрыкнешь – кто-то ведь должен за домом смотреть. И за детишками тоже. Однажды Олле поселится в доме. Будет смотреть через поле на поезд, кушать овсянку и в стенку стучать Мариэтте. Но это – не скоро, потом. Когда Олле исполнится сто.Елена Щетинина Бе[з]/[с] звука
– Лиза, мы ушли! – крикнула мама, роясь в сумке. – Закрой дверь! – Она не слышит, – сказал папа. – Она в туалете. Закрой сама. – Ключ в сумке, а я обдеру маникюр, – капризно ответила мама. – Лиза! – Закрою!!! – Лиза все слышала. И слышала, как мама сказала «спасибо, не хулигань», и как приехал лифт, и как хлопнули его двери, и как он снова уехал, увозя маму и папу в ночь, на день рождения тети Иры, лучшей маминой подруги. Она слышала все, даже скрип прикрываемого окна на площадке, где курил сосед сверху дядя Дима, и скрежет когтей Барона, пса из квартиры напротив, который тянул хозяйку бабу Вику вниз по лестнице: он боялся лифтов. Она слышала весь дом из-за так и оставшейся чуть приоткрытой – слишком мало, чтобы соседи обратили внимание на это, и слишком много, чтобы пропускать в дом ненужное, – двери. Лишь когда она вышла из туалета и пошла мыть руки, шум льющейся воды заглушил все вокруг. На полминуты, не больше. Когда Лиза подошла закрыть дверь, та оказалась распахнутой настежь.Сначала ей показалось, что сломались старые часы, которые висели на стене коридора столько, сколько Лиза себя помнила, – их тиканье, глухое и мерное, вдруг прекратилось, словно растворилось в повисшей на его месте тишине. Но стрелки медленно шли, и так же размеренно качался латунный потускневший маятник – и можно было бы представить, что тиканье все-таки было. Но его не было. А еще через десять минут Лиза не услышала скрипа пружин дивана, когда с размаху прыгнула на него: подушка прогнулась и выпрямилась, но звука, тягучего скрежещущего звука не было, словно Лиза упала на шершавое и плотное облако. Еще через пять минут потухла музыка из игры на планшете – и даже кликанья кнопок громкости, которые безуспешно жала Лиза, тоже не было слышно. И только тогда она подняла глаза. Потому что уловила тишину – плотную, жесткую тишину, что словно сквозила из коридора, заглушая все звуки, до которых могла дотянуться. Тишина почти доползла до Лизы, будто коснулась кончиков ее ушей, – и тогда она подняла глаза. В проеме двери, медленно и мерно, в такт уже несуществующему тиканью часов, и в ритм так и не скрипнувшим пружинам дивана, и в темп музыке, которую так и не мог больше выкашлять онемевший планшет, потряхивало длинными пальцами и покачивалось всем своим бледным, изогнутым, полупрозрачным, через которое просвечивали обои и шкаф, телом – оно. Что-то безликое, безо`бразное, беззвучное – оно, что проскользнуло в узкий дверной проем. Лиза поняла это так четко и ясно – словно увидев перед собой: она закрывает дверь и проводит рукой перед глазами, чтобы смахнуть волос? паутинку? что-то, что сделало мир на краю ее зрения чуть размазанным, чуть мутным. То не мир был мутным – поняла она – то существо уже вошло в дом и стояло. И смотрело на нее. Как оно стояло и смотрело сейчас, втягивая в себя звуки, пожирая шорохи, всасывая шум дыхания, поглощая даже стук сердца. Лиза шарахнулась в сторону, отшатнулась к подлокотнику дивана – и край перевесил, и диван встал на дыбы. А потом медленно и беззвучно опустился – так же беззвучно грохнув о ламинат. Со стены немо сорвалась фотография, разлетелась на куски сувенирная тарелка на тумбочке. Безликое и безо`бразное присело на корточки, поведя бесформенной головой – словно всосав так и не случившийся грохот, – и дернулось к стене, слизав так и не состоявшийся стук фотографии, и обернулось к осколкам, впитав в себя «дзынь» и «бряк». И тогда Лиза побежала – метнувшись между прозрачными конечностями, ринувшись в полутемный коридор, схватившись за ручку входной двери, проворачивая ее, тряся – и раззевая рот в крике: – !.. Но не было ни дяди Димы, ни бабы Вики, и даже Барон, Барон, который лаял на пролетающую муху, молчал, словно ничего не слышал. А может, и действительно, не слышал. Тишина опустилась на подъезд и окутала его ватным одеялом, пыльным половиком, забив все звуки, вылетающие изо рта, обратно в горло.
– Лиза, мы пришли! – крикнула мама, роясь в сумке. – Открой дверь! – Она не слышит, – сказал папа. Но дверь открылась.
Виктория Черемухина Под толщей вод
Все говорили, женщина на борту – «плохая примета». Но капитану было все равно. Он подарил ей широкие штаны из выбеленной солнцем парусины, обрезал волосы и назвал своим личным секретарем. Грамоты она не знала, зато скоро научилась посыпать песком страницы корабельного журнала и целоваться так, что у капитана сбивалось дыхание и подгибались колени. Она не помнит, билось ли ее сердце чаще в его объятиях, только горячие прикосновения грубых мужских ладоней да обжигающий уши непристойностями шепот. Парусина сгнила, рассыпалась на нитки. Волосы отросли и поменяли цвет, переливаются синевой, зеленью, перламутром. Там, где прежде было сердце, мягкая морская трава укрывает маленьких рачков. Иногда они бочком поднимаются на холмы ее грудей и подслеповато оглядываются окрест. Она давно позабыла свое имя, не ведает, как умерла, и остатки воспоминаний о прежней жизни разъедает соль… Они растворились бы без остатка, когда бы не ее сердце. Он не носит траур, не проливает слез, не поминает ее в молитвах. Тысячи чертей пляшут на кончике его языка, и никто из команды не посмеет ни напомнить, ни упрекнуть капитана в том, что он, вопреки приметам, взял в море женщину. Только на полке его каюты, между бронзовой астролябией и огромной раковиной чистейшего перламутра, стоит шкатулка, а в ней, на бархатном ложе, покоится банка с ее сердцем. Когда поднимаются волны, оно бьется о стеклянные стенки так же, как билось когда-то о ребра. Только вместо крови в нем нынче уксус и киноварь. Капитану некогда горевать. Записывая в журнал широту и долготу, он понимает, что сейчас они там же, где ее, холодную, неживую, завернутую в саван из окровавленной парусины, спустили за борт. У капитана подгибаются колени и перехватывает дыхание, когда он посыпает песком страницу журнала, чтобы чернила сохли скорее. Песок засыпал ее глаза, и она не видит, но чувствует тень, там, над толщей вод. Тень от судна, которое она отличит от любого другого. Она ходила по доскам его палубы, отражалась в блестящих медных навершиях швартовых кнехтов, укрывалась от непогоды в капитанской каюте, а от капитанского гнева в трюме. Там ее сердце билось то счастливо, то испуганно, и оно по-прежнему на том корабле, а вовсе не здесь, где ему положено быть. Она тянет вверх руки, открывает рот. Она не может петь и смеяться, больше нечем, но она заклинает бурю, и море откликается на зов. Море заливает палубу соленой водой, рвет паруса, поднимает корабль к потемневшему небу. Мачты ломаются как зубочистки. В реве бури капитану слышится женский плач, но он никогда не верил ни мольбам, ни слезам.Ангелина Саратовцева Дочь
Тася шагнула к родной калитке, но споткнулась на ровном месте. Она теперь стояла босиком на размытой вчерашним ливнем деревенской дороге, безвольно уронив руки. Слезы текли по щекам сами собой. Хотелось просто завыть. Но голоса не было. Тася онемела год назад – когда ее отец не вернулся с охоты. Одноэтажный покосившийся деревенский домишко мрачно взирал на Тасю мутными окнами. А гуталиново-черная крыша смотрелась зловеще. Но зайти в дом однажды придется… Грязь, мягкая и прохладная, просачивалась между пальцами голых ног, и это Тасю успокаивало. Она знала, что от матери влетит. Быть избитой пьяной матерью или боровом отчимом за грязь у порога – Тасе будет не впервой. Лишь бы только избитой… Отчим уже давно смотрел на нее нехорошо. И по липкому взгляду отчима Тася понимала – скоро с ней случится кое-что похуже обычных побоев. Отчим подарил матери шкуру медведя, и она согласилась на скорое замужество. Так полгода назад начались для Таси безрадостные дни. А теперь мать пила постоянно и смотрела мутным взглядом мимо нее. – Чего встала? Иди матери помогай… – Отчим рубил дрова во дворе и отвлекся окинуть Тасю тем самым липким взглядом. Крупный, заросший дрожащим жиром мужик, с вечными пятнами пота под мышками. Папа Таси тоже был крупный, но красивый. И без всякого пота под мышками. Удар топора о головешки. Мерзкий, кислый пот отчима, который Тася различала даже с такого расстояния. Тася стиснула зубы и пристально посмотрела в сторону отчима. «Уррррод». Тася, повинуясь порыву, развернулась на пятках в мягкой грязи, разлетевшейся каскадом брызг, и понеслась в сторону леса. – Стой!.. Куда побежала, дрянь?.. Крики отчима сносил в сторону теплый летний ветер. В избушку в чаще, срубленную лесниками, Тася зашла на носочках. Что бы ни говорили деревенские детишки и старухи о «лесном монстре» – хуже Тасе уже не будет. Лучше пусть обглодает ей лицо заживо, чем ждать, чем кончатся липкие взгляды отчима…Тася руками расшвыряла едкую соль, которую кто-то насыпал вокруг двери в погреб ровным кругом. Откинула засов и бросилась прочь. Тася затаилась за кустами неподалеку, ее сердце стучало с дикой скоростью, во рту мучительно сушило, а спина покрылась ледяным потом… Зверь бесшумно вышел из избушки в душную ночь и двинулся в сторону деревни. Его брюхо выкатывалось на ходу пузырем и снова прилипало к ребрам. Он был огромен. Походил немного на медведя, немного на крокодила. Но с содранной кожей. В лунном свете его красные бока влажно блестели. Тася не знала, как давно освежеванный монстр жил в подполе избушки, кто его запер и зачем все время насыпал вокруг соль… Тася шла по следам существа. Оно пахло железом, кровью и лесом. В Тасин дом монстр скользнул так же бесшумно. А Тася прижалась к тусклому оконному стеклу снаружи. Она видела все. Как голова матери повисла в гигантской пасти зверя, точно подстреленная утка в зубах охотничьего пса… С мрачным удовольствием Тася следила, как вспарывают когти дряблое тело отчима. Как из разрезов выступает ноздреватый жир. Как пирог из желтого студня. Смешные зерна. Смешной горловой крик отчима, перешедший в визг, а затем – в сипение. Смешная грязно-розовая колбаса его кишки, вырванная зверем и размотанная по комнате… Тася поморщилась, когда кишка треснула и в воздухе запахло отхожим местом, тухло и едко.
Зверь ждал у калитки. Из дома, скользя на ошметках матери и отчима голыми ногами, Тася шла сияющая. Она несла освежеванному зверю шкуру. Свадебный подарок урода отчима уродке матери. Как только шкура коснулась освежеванной спины, тут же схватилась и со странным булькающим звуком начала прирастать. Зверь поднялся и закрыл собой полную желтую луну. Он похрустывал суставами, вновь осваиваясь внутри собственной шкуры. Тася схватилась за монстра дрожащими руками. У тяжелой лапы были мягкие теплые подушечки, немного шершавые.
Лицо Таси растянулось в непроизвольной улыбке: от зверя знакомо пахло костром, хвоей и медом. А губы прежде немой Таси зашептали: «Папа-папа, я так долго тебя ждала».
Дмитрий Тихонов Чертовы пальцы
© Дмитрий Тихонов, текст, 2018 © Татьяна Веряйская, обложка, 2018 © ООО «Издательство АСТ», 2018Чертовы пальцы
1
В вагоне было пусто и сумрачно: лампы горели в четверть мощности, а за окнами плескалась густая тьма, полная змей. Змеи. Снова снились змеи. Плохая примета. Он встряхнулся, сел ровно, ощупал чемоданчик, провел рукой по редеющим волосам. Скоро все кончится. У него хватит сил. Павел Иванович посмотрел на часы – если доверять расписанию, до прибытия на конечную станцию оставалось минут двенадцать. Интересно, кроме него есть хоть кто-нибудь в этом поезде? Он поднялся и, прихватив чемоданчик, вышел в тамбур. Здесь было прохладнее, не горел свет. Павел Иванович закурил. Крохотный красный огонек отражался в оконном стекле, за которым теперь, в темноте, стало возможно различить проносящиеся мимо деревья и столбы ЛЭП. Через пару минут, когда огонек погас, снаружи появились другие огни – редкие желтые квадратики окон домов, раскиданных среди рощ и полей. Их постепенно становилось все больше, затем мимо поплыли склады, коробки пятиэтажек, облепленные гаражами и детскими площадками. Поезд начал тормозить. Секунды цеплялись друг за друга, словно утопающие после кораблекрушения. Наконец, дернувшись несколько раз, вагон остановился. Двери открылись с шипящим шорохом. Павел Иванович вышел на платформу, осмотрелся. Железная дорога, тянувшаяся из областного центра целых сто двадцать километров, здесь заканчивалась, рельсы обрывались, упершись в скопление ветхих хозяйственных построек. За годы, прошедшие с того дня, когда он уехал, город оброс новыми зданиями, но на самом деле остался прежним. Ветви деревьев все так же царапали небо, не верящее в то, что лето закончилось, и лохматые собаки все так же копошились у мусорных баков. Павел Иванович спустился по растрескавшимся бетонным ступеням, миновал деревянное здание вокзала, прошел мимо нескольких таксистов, которые, увидев его, наперебой взялись предлагать свои услуги. Но он только качал головой и улыбался. – Автобусы не ходят уже! – крикнул один из них ему в спину. – Мне недалеко! – соврал он, не оборачиваясь. На самом деле ему нужно было практически на окраину города, но отказать себе в удовольствии прогуляться он не мог. Старые кривые улочки, ползущие вверх и вниз по склонам холмов, черные контуры крыш над покосившимися заборчиками – все, что снилось ему в те ночи, когда кошмары отступали. Скоро его миссия будет завершена, и наступит покой. Ему хотелось, чтобы это произошло здесь. Пройдя лабиринтом переулков и подворотен, он спустился к центральной площади и пересек ее, не встретив ни одного живого существа, кроме разве что больного бездомного пса, испуганно смотревшего на странного человека. Тут было грязно: ветер таскал по асфальту обрывки газет и упаковочной бумаги, повсюду валялись ошметки картонных коробок и воняло протухшей рыбой – поэтому он вздохнул с облегчением, когда свернул в очередную улицу, круто поднимающуюся в гору, к церкви. Даже в темноте можно было различить, что ее недавно отреставрировали. Белые стены, аляповатые, но аккуратные украшения, новенькая колокольня. Сделано все уже после его отъезда, он помнил храм осыпающейся развалюхой из почерневшего от времени красного кирпича, но, кажется, как-то ему довелось увидеть по телевизору репортаж о восстановлении церквей, где среди прочих была упомянута и эта, так что он не особенно удивился и останавливаться, чтобы рассмотреть все в подробностях, не стал. Ближе и ближе. Ботинки, купленные неделю назад, натирали ноги, да и в левом колене появилась тяжелая, холодная боль, но улыбка не исчезала с лица. Вот уже возвышается слева окруженная голубыми елями громада Дворца культуры, в котором он некогда работал. Фасад по-прежнему украшен безвкусным витражом, зато к крыльцу теперь ведет ровная, широкая дорожка. А вот тот самый перекресток и магазинчик на углу – вывеска другая, но дверь двадцатилетней давности. Судя по всему, здесь в самом деле практически ничего не изменилось и вряд ли изменится в ближайшее время. Уважающий себя маленький городок. Это хорошо. Павел Иванович вышел на нужную улицу и почти бегом преодолел оставшиеся несколько домов. Фонари заливали тротуары липким желтым светом, различить номера на заборах возле калиток не составляло никакого труда, но он без всяких цифр узнал бы свой дом из тысячи, сколько бы лет – или столетий – ни прошло с их последней встречи. Остановившись, он едва сдержал рвущийся из груди радостный смех. Да, новый обитатель обложил фасад белым кирпичом, выстлал железом крышу, заменил деревянное заграждение у палисадника на проволочное, и забор оказался подновлен, покрыт непривычной синей краской, но это был его дом. Тот самый, в котором он родился и вырос, тот самый, в котором учился заново ходить после тяжелого перелома и помогал плачущей матери обмывать мертвое тело отца. Это был его дом. Шло время, минута за минутой протекали мимо, тишина колыхалась вокруг, разбавленная обычными ночными шорохами. Павел Иванович неподвижно стоял на тротуаре перед калиткой, прикрыв глаза, словно в глубокой задумчивости. Губы его беззвучно шевелились, выговаривая слова, которых никогда не слышал никто из ныне живущих под небом. Слова сливались с окружающим мраком, будили в нем движение и далекие, едва различимые голоса, будто отзывающиеся на них. Слова приносили тьму. Наконец он замолчал и, снова широко улыбнувшись, протянул руку к калитке. Та поддалась с легким скрипом, открывая заполненный разнокалиберным хламом двор. Сторожевая собака дернулась было навстречу, но распознала пришедших и, проглотив рык, спряталась в свою конуру, грубо сколоченную из старой фанеры. Павел Иванович подмигнул ей, шагнул внутрь, прижав чемоданчик к груди. Он знал, куда идти. Обогнув угол, поднялся на высокое, но чуть покосившееся крыльцо, громко постучал в обитую облезлым дерматином дверь. Заскрипели за ней половицы, щелкнул замок. Дверь распахнулась, выпустив наружу поток теплого света. На пороге стоял высокий худощавый мужчина в выцветших обвисших спортивных штанах и такой же майке. – Здравствуйте, – сказал ему пришедший. – Вот и я. – Ага, – хозяин покосился в сторону собачьей будки. – А как вы?.. – Позволите войти? Хозяин прищурился: – Зачем? Все вещи, которые после нее остались, я в сарае сложил. Там и ищите. Сейчас фонарь возьму. Он вдруг бросил настороженный взгляд в темноту за спиной гостя: – Вы что, не один? – Нет, – спокойно ответил тот. – Не один. Я бы с удовольствием представил вам моих спутников, но у них нет имен. Сказав это, он отступил на шаг, давая возможность тем, кто стоял позади, добраться до входа. Глаза хозяина расширились от ужаса, он попытался захлопнуть дверь, но не успел. Не было ни криков, ни особого шума – все кончилось через несколько мгновений. Гость вошел, стараясь не наступить в быстро расползающуюся по линолеуму алую лужу. Кровь не растекалась равномерно, а собиралась в левом углу – верный признак того, что пол по-прежнему неровный. Все, как раньше, как в детстве. Павел Иванович счастливо смеялся, обходя небольшие комнаты. Каждый угол, казалось, хранил великое множество воспоминаний. Он вернулся домой. После всех несчастий, трудностей и бед, после выжигающих душу скитаний. Вернулся. Теперь уже навсегда.2
Еще трое прибыли из областного центра на автобусе, но до города не доехали. В предрассветных сумерках выгрузились на остановке по требованию за семь километров до окружной. Кроме них, здесь никто не вышел. Да и назвать это нагромождение бетонных плит возле дороги остановкой простительно было, пожалуй, только слепому. Ничего похожего на станцию тут не наблюдалось. Просто рейсовый автобус замер испуганно на две с половиной минуты посреди леса, а затем отправился дальше, мгновенно забыв о трех мужчинах, оставшихся на сером наросте, уродовавшем почти идеальную прямую междугороднего шоссе. Они долго смотрели друг на друга молча. Камуфляжные штаны, высокие армейские ботинки, объемистые рюкзаки, истертые временем и непогодой ветровки. И глаза такие же – истертые. Глаза без малейшего намека на счастливый исход. – Ну что? – сказал наконец Серп. – Двигаем? – А как же иначе, – сказал Молот и кивнул. Лицедей поднял лицо к небу. В предвкушающей солнечный свет бледной синеве скользила обрывком ночи хищная птица. Ястреб или сокол. Серп повел головой, втянул носом воздух. – Ну что? – повторил он. – Пора. Танюха уже здесь. – О чем думает? – спросил Лицедей. – О том, что ее молодой человек согласился сюда приехать, только чтобы побыть рядом с Катей. Она думает, что ему нравится Катина грудь и ради этой груди он готов мерзнуть в палатке холодной сентябрьской ночью и гулять по лесу. Она пока не решила, хорошо это или плохо. – Все? – Танюха больше не сомневается. Вспомнила, на кого он раньше смотрел так же, как теперь на Катю. – На кого? – На нее. – Девчонка-то не дура, – сказал Лицедей. – Соображает. Хотя ночи пока не такие уж холодные. Спустя четверть часа солнце все-таки поднялось над горизонтом, запустив механизм нового дня. Трое шли через бурелом. Замшелые острия обломанных веток впивались им в кожу, цеплялись за одежду, смола пачкала ладони, паутина, тонкая и невесомая, словно воспоминания о счастье, липла на лица. Ботинки с чавканьем погружались в пушистый мох. – Это болото, – сказал Молот. – Ты завел нас в болото. Лицедей продолжал идти молча, не глядя по сторонам. Серп вполголоса напевал песенку о том, как меркнет солнце и тонет в море земля. Выходит, к кому именно обратился Молот, не совсем понятно – поэтому он произнес ту же фразу еще раз, более отчетливо и сурово: – Дурак, ты завел нас в болото! Лицедей остановился, медленно обернулся: – Дурак? – Что? – Ты сказал «дурак»? – Похоже, да. – Ты выглядишь как взрослый мужчина, не забывай. Как мужик. Мужики не называют друг друга дураками. Это звучит странно. Молот пожал плечами: – Я не хотел обидеть тебя, а потому использовал самое безвредное из известных мне оскорблений. – Я знаю еще более безвредное, – заявил Серп. – Шмара. Нет, то есть глупец. Да, глупец. – Глупец обиднее, чем дурак. В нем есть дух старины, а значит, и смысла больше. – Хорошо, – кивнул Лицедей. – Я понял. Двигаем дальше. Лагерь уже рядом. Действительно, спустя пару минут они вышли к небольшой поляне, где вокруг еще дымящегося кострища стояли три двухместных палатки. Тишина здесь была не настоящей. В ней что-то зрело, готовилось, вот-вот должно было закипеть. Трое остались за деревьями, наблюдать. Вскоре полог одной из палаток отодвинулся и изнутри бесшумно выбрался молодой мужчина, одетый только в майку и шорты. Он осторожно, стараясь не издать ни одного лишнего звука, застегнул полог и, подкравшись к палатке напротив, нырнул внутрь. С такого расстояния нельзя было расслышать каких-либо слов, но трое прекрасно знали, что шепчут друг другу Катя и молодой мужчина в майке и шортах, которого она, сама того не особо желая, отбила у своей лучшей подруги. – Буди Танюху, – устало проговорил Лицедей. – И пошли. До машины еще топать и топать.3
Люди из Конторы никогда не приходят без предупреждения. Они никогда не звонят с угрозами, не поджидают у подъезда, не заглядывают в окна. Не их стиль. Гарракумба. Обратите внимание на надписи, появившиеся одним прекрасным утром на стене продуктового магазина, мимо которого обычно проходите по дороге на работу. Вы же ходите на работу? Вы же крутите колесо? Как мой прадед – он с восьми лет каждый день спускался в подвал мастерской и вращал с помощью специальной рукояти шлифовальное колесо наверху. Потом он вырос и перестал спускаться в подвал, сам сел за колесо, гоняя вместо себя вниз кого-то другого. Карьерный рост. Богатые перспективы. Заккарама. Шавратас.4
В паре километров от города – они только что миновали очередной указатель – Лицедея скрутило. Он съехал на обочину и остановил машину. – Совсем херово? – спросил зачем-то Молот. Лицедей кивнул, пробормотал сдавленно: – Я сейчас… – и, выскочив из автомобиля, скрылся за деревьями. – Укачало? – невесело пошутил Серп, но сам даже не улыбнулся. Молчали. Осматривались. Дорога была неплохого качества, со свежей, яркой разделительной линией. Справа высился сосновый лес, в котором сейчас тошнило их товарища и командира, а слева, за тощей линией посадок, раскинулись, как принято их именовать во всей русской литературе, «бескрайние» поля. Над ними тонуло в багровых облаках солнце. – Хорошая погода, – сказал Молот. – Для осени очень даже неплохо. – И для лета сошло бы, – согласился Серп. – Для августа вполне. – Картошку копать. – Да. Идеальная погода для картошки, ну и вообще… на даче посидеть. Разговор не клеился. Этот треклятый городишко из абстрактной точки на карте превратился во вполне реальную угрозу. Они никогда не подбирались к нему так близко, разве что во снах. Серп вспомнил свои сны, содрогнулся от отвращения. – Как думаешь, девчонка понимает, что происходит? – спросил он, чтобы избавиться от жутких образов. – Вряд ли, – сказал Молот. – Если бы понимала, собрала бы манатки и свалила из города еще пару дней назад. Куда-нибудь на другой конец планеты или, на крайний случай, страны. Лицедей, согнувшись, вышел из леса, добрался до машины, заглянул в окно. – Молот, давай ты поведешь. Мне хреново. – Не вопрос. Молот пересел на водительское место, а Лицедей пристроился на пассажирском. Он заметно побледнел и тяжело дышал. Седеющие волосы на лбу слиплись от пота. – На что это похоже? – спросил Серп, роясь в карманах в поисках пачки сигарет. – На старуху, – ответил Лицедей и, подумав некоторое время, кивнул. – Да, на старуху. Я встал у какой-то сосны, чтобы сблевать, а она вышла из кустов, стала смотреть на меня. И говорить… поехали уже. Не надо терять время. – Ага, – Молот повернул ключ в замке зажигания. Взревел мотор, машина тронулась с места. Лицедей не произносил ни слова. Двое его соратников тоже молчали, прекрасно понимая, что шефу нужно собраться с мыслями. Только когда впереди показались первые дома, он начал рассказывать. – Мы проехали пост, мне стало нехорошо. Я же предупреждал вас, что такое может происходить, если подберемся близко. Каким-то образом вся эта хрень влияет на меня. Я пошел в лес, сунул два пальца в глотку, надеясь просто проблеваться. Иногда помогает. Помогало раньше. Тут все сложнее оказалось… слушай, дай закурить, а? Серп удивленно протянул ему сигарету и зажигалку. За все то время, что они были знакомы, он ни разу не видел, чтобы Лицедей курил. Тот сделал первую затяжку, закашлялся. – Бросил давно. Еще при Советской власти. Так… значит, стою я, давлюсь, а из меня ни черта не выходит. Даже не капает ничего. Ну, думаю, слава богу. И тут вдруг – как прорвало: поперла изнутри черная слизь. Льется на траву, а в ней что-то шевелится, копошится, расползается в разные стороны. Ну я догадался, что это глюк, конечно. Почти сразу догадался, даже испугаться как следует не успел. Рвать перестало, откашлялся, рот вытер, к дереву прислонился. А она стоит напротив. Обычная такая старуха деревенская. Маленькая, сухонькая, в рваной фуфайке, в шерстяном платке. Лицо сморщенное, рот беззубый. Ничего особенного, таких на каждой автобусной остановке здесь по пять штук. Я ей и говорю, значит: «Здравствуйте». А она молчит. Улыбается. Хотя хрен знает, рот сморщенный, подбородок чуть ли не под самым носом. Непонятно в общем. Пялится на меня своими круглыми глазами. Ну, я подумал – может, глухая или, там, на головубольная, хотел снова поздороваться, но тут меня опять начало тошнить. Лицедей замолчал, вытер рукавом пот со лба. Они въехали в город, и теперь по сторонам вместо деревьев мелькали дома, заборы, фонарные столбы. – Нам куда? – спросил Молот. – Улица Садовая, одиннадцатый дом, – ответил Серп. – А это где? – Вроде бы недалеко тут. То ли третий, то ли шестой поворот направо. – Говорил же я, надо было купить джипиэрэсину. Сейчас бы, глядишь, никаких проблем не возникло. – А ты по старинке. – Это как? – Выйди и спроси. – Ну уж хрен, – Молот дал по тормозам, резко остановив машину посреди пустынной улицы. – Давай ты выйди и спроси. Пока Серп объяснялся с проходившей мимо пожилой женщиной, Лицедей и Молот молчали и оглядывались. Городок производил унылое впечатление: обшарпанные пятиэтажки, почерневшие от времени частные дома и сараи, залитые грязью тротуары. Осенью все русские города полны тоски и безнадежности. Серые облака, серые окна, серые лица. – Ага, – Серп вернулся в машину. – Я все выяснил. – Молодец, – буркнул Молот, давя на газ. Лицедей повернулся к Серпу: – Будь другом, дай еще сигаретку. – Пожалуйста. Лицедей закурил, и в салоне вновь воцарилось молчание. Справа и слева пятиэтажки сменились двухэтажными каменными домами еще дореволюционной постройки. Некоторые из них выглядели весьма плачевно, другие щеголяли свежим ремонтом – но среди тех и других было мало жилых. Магазины, офисы, кафе, бары. – Кажется, въехали в старую часть города, – протянул Серп. – Скоро уже… – Угу, – Молот быстро взглянул на Лицедея. – Так что там со старухой в лесу? Лицедей выкинул окурок в окно, ответил ровным голосом, не отрывая взгляда от дороги: – Это неважно. Абсолютно неважно. – Да ладно! – Там нет ничего срочного. Может, потом как-нибудь. Сейчас нет настроения. Молот хмыкнул. Спорить с шефом он, разумеется, не собирался. Но такой подход к делу ему не нравился. С другой стороны, если бы в лесном видении действительно содержалось что-то значимое, способное помочь в борьбе с врагом, Лицедей наверняка не стал бы утаивать это от коллег. Тем более, если увидел бы малейший намек на возможную опасность. Или нет?5
В школе на все можно смотреть с двух противоположных точек зрения. Здесь в одном здании заперты две почти никогда не пересекающиеся вселенные. Если сесть за учительский стол, то перед вами будут лица детей, равнодушные или заинтересованные. Еще будут столешницы парт, открытые учебники, тетради, шкаф у дальней стены и цветы на подоконнике, за которые вы лично отвечаете перед администрацией. Это взрослая вселенная. Она мала, ограничена трудовым договором и произволом начальства. Ее пейзаж состоит из объяснений, лицемерия, проверок домашнего задания и соблюдения дисциплины. Она – основа школы, самая банальная и примитивная ее часть. Если же сесть за одну из задних парт, то вашим глазам предстанет совсем другой мир. Затылки, спины, секреты. Рисунки и надписи на спинках стульев: «Все лохи, шлюхи», «SlipKnoT», «Гопа сасун», шпаргалки, зажатые между коленями, книги, комиксы, мобильные телефоны, игральные карты, записки о том, кто кого любит. Это детская реальность. Она полна неожиданностей и неподдельных эмоций. Учеба – лишь фон, на котором разворачивается настоящая школьная жизнь. Класс гудел, и успокоить его не представлялось возможным. Поэтому Таня оставила попытки вести урок и, для проформы озвучив задание (которое, конечно же, никто даже не начал выполнять), углубилась в заполнение журнала. У нее редко находилась возможность заняться бумажной работой, которой в жизни школьного учителя выше крыши. Работа эта большей частью абсолютно бессмысленна, никому не нужна и выполняется исключительно для галочки. Проверяется она тоже для галочки – Таня не сомневалась, что во время чуть ли не еженедельных проверок журналов, проводимых администрацией, никто так и не потрудился прочесть, что же именно написано на четко расчерченных страницах. Написано, и бог с ним. Она всегда терпеть не могла возиться с казенной писаниной, еще с университетских времен, когда приходилось сдавать кучу всяческих отчетов для допуска к сессиям. От одной только мысли о графе «пройдено на уроке» внутри начинал ворочаться скользкий комок отвращения, и Таня хваталась за любую возможность избежать встречи с ней. Пустые графы копились, складывались в целые страницы, незаметно, исподтишка. В конце четверти они грозились напасть всем скопом, а спасительная лень уже не могла прийти на помощь. Поэтому сейчас, разумно рассудив, что не стоит тратить впустую и так уже потерянное время, Таня решила нанести упреждающий удар. Взяв ручку, она принялась сочинять. К тому же, это помогало отвлечься от мыслей о вчерашнем утре. О сне, разбудившем ее: в нем трое странных людей с глазами, похожими на птичьи, танцевали вокруг поляны, где она с друзьями расположилась на ночлег. О том, как она проснулась и обнаружила, что осталась одна, о том, как спустя пару минут выбралась наружу и сразу услышала тихие, приглушенные стоны из Катиной палатки. О том, как сразу все поняла. Она не разозлилась. Наоборот, испытала неожиданное, а потому особенно приятное облегчение. Это было словно вырвать больной зуб. То, к чему давно шли их отношения, последний год державшиеся только по инерции, случилось и оказалось вовсе не так страшно, как представлялось. Конечно, если хорошенько покопаться в себе, то наверняка можно будет обнаружить и боль, и обиду, и страх перед будущим, и презрение, и жалость – но вот копаться в себе Таня как раз не собиралась. Когда звонок наконец-то прозвенел, незаполненными остались лишь последние две строчки в графе «Пройдено на уроке». Девушка захлопнула журнал, прикрикнула на тех, кто уже сорвался было с места к двери и, тщательно выводя буквы, написала на доске домашнее задание – номера страниц и упражнений. Вдвое больше, чем задавала обычно. – Плюс к этому, – сказала она, с удовольствием разглядывая вытянувшиеся лица учеников, – вы должны доделать то, что начали сегодня. На следующем уроке я обязательно соберу тетради и поставлю каждому по две отдельные оценки. – Ну Татьяна Павловна, ну почему так много?! – раздалось сразу несколько голосов. – Вы знаете, сколько нам на этой неделе всего делать? – Знаю прекрасно. А что вы хотели? Четверть уже три недели как началась, а оценок маловато, вы их зарабатывать не хотите. Вот вас все учителя и эксплуатируют. Вопросов нет? Свободны. Недовольно ворча, дети собирались, выходили из класса. Таня прошлась по опустевшему кабинету, поправила стулья, открыла форточку, подобрала с пола несколько скомканных фантиков и ручку, выбросила все это богатство в мусорное ведро, заперла дверь и быстрым шагом направилась в учительскую. Ей нужно было покурить. Вытянуться на диване с сигаретой, уставиться в потолок, в тысячный раз изучить все его трещины и потертости. Выкурить одну, небрежно вытащить из пачки следующую. Музыку включить, потяжелее, погромче. Чтобы все вокруг собой заполняла, пропитывала сознание, чтобы выдавить напрочь все мысли об истории, дневниках, журналах, звонках, обо всем этом четко регламентированном безумии. Сигарета и музыка – вот что нужно. Книжку почитать какую-нибудь с лихо закрученным сюжетом, над которой надо не думать, а только следить за тем, как герои решают высосанные из пальца проблемы, невозможные в средней общеобразовательной школе. А потом, потом добраться до мольберта. Но вместо сигареты в наличии имелся лишь сырой воздух, льющийся из форточки, вместо книг – невнятная писанина учеников, а вместо музыки – нескончаемый гул школьных коридоров. В учительскую вошел Федор Петрович, учитель труда, классный руководитель шестого «В» и бывший друг Таниного отца. Бывший – потому что теперь у отца не могло быть друзей. Никто не знал даже, жив ли он. С тех пор как Павел Иванович Кирше сбежал из психиатрической лечебницы пятнадцать лет назад, никто, включая его дочь, не получил от него ни одной весточки. Федор Петрович как мог помогал дочери друга, тянул за ниточки, которых за жизнь накопил немало, устроил ее сначала в вуз, потом сюда, в школу. Хотя вряд ли это можно было считать помощью. Взять хотя бы чертов шестой «В». Худший класс в пока еще совсем короткой учительской карьере Тани. Дети не дают учителю второго шанса. Никакой реабилитации. Или ты ломаешь их в первые дни знакомства, или они потом постоянно ломают тебя. Закон джунглей. Она со всеми нашла общий язык, кроме вот этих двенадцатилетних болванов. Никаких улучшений ждать не приходилось. Конечно, в других классах тоже попадались тяжелые экземпляры, но здесь их было подавляющее большинство. И литера «В», последняя в параллели, отражала их сущность как нельзя лучше – ученики третьего сорта, собранные в одну кучу еще после окончания начальной четырехлетки. Их могло быть гораздо больше, если бы многие прошлым летом не отправились в школу коррекционного обучения. Федор Петрович называл это «сдать с отличием экзамены в школу дураков». Хотя наверняка от «дураков» шума и проблем было бы меньше. Увидев Таню, трудовик расплылся в улыбке. – Привет историкам! – Здравствуйте. – Скучно сегодня в школе, да? Никто не подковырнет, не съязвит. Федор Петрович был высок, массивен, похож на медведя и производил впечатление огромной силы, несмотря на солидный возраст и лишний вес. Он тяжело опустился на потертый диван с другой стороны от фикуса, хитро прищурился: – Ну как там мои? Как всегда, ангелы? – Ага, – Таня сморщилась. – Бьют все рекорды. – Никогда такого класса не было, – Федор Петрович покачал головой. – Сорок лет почти уже работаю, были сложные случаи, но подобного ни разу не попадалось. Сплошные отморозки. Честное слово, даже в ПТУ было легче, хотя там настоящий ад творился. Таня приготовилась слушать, много улыбаться и кивать головой. Федор Петрович любил поговорить и никогда не упускал шанса поделиться своим бесценным опытом с молодым специалистом. Рассказывал он в основном одни и те же истории, но иногда они даже казались Тане забавными. Иногда речь заходила об отце. – Я в ПТУ всего год отработал, не выдержал больше. Очень тяжело оказалось, молодой еще был, все всерьез воспринимал. А там ведь как? На первых двух курсах – чистой воды сумасшедший дом, никому ничего не надо, на занятиях постоянно крики, драки. А ты для них – так, пустое место. Отмахиваются от тебя, как от мухи. Только с третьим курсом уже легче немного. Они не то чтобы умнеют, а, так сказать, успокаиваются, детство у них в заднице играть перестает. Вот сидят, в окна смотрят, спят. Тебя, само собой, по-прежнему никто не слушает, но шума уже нет. Но это все равно неприятно – будто перед пустой аудиторией распинаешься. А попробуешь их как-то расшевелить, спросишь что-нибудь, так они к тебе даже головы не повернут. И знаешь, что я через полгода придумал? – Что? – Таня, уже пару раз слышавшая нечто подобное, постаралась придать лицу самое заинтересованное выражение, на которое только была способна. Федор Петрович хитро улыбнулся и заговорщицки потер руки: – Это, конечно, совсем не педагогично было, но зато помогало поддерживать порядок и внимание. Я им рассказывал новости из газет, истории из разных книг, про графа Монте-Кристо, про трех мушкетеров. Они же ведь не читали, не знали ничего совершенно. И представляешь, сработало! Слушали меня, открыв рот, а если кто-нибудь из самых отмороженных все-таки скучал и начинал возникать, так его тут же свои утихомиривали. Я им и вместо радио, и вместо телевидения был. Ну а пытаться по предмету что-то рассказывать все равно бесполезно было – учеба их не интересовала совершенно. Самое забавное, что все другие учителя удивлялись, как мне удается добиваться такой тишины на занятиях. Порядок был только у троих: у меня, у учительницы русского языка и у преподавателя черчения, папы твоего. Так вот, русичка поступала просто, но эффективно: всех, кто не выполнял ее задания на уроках, она оставляла после них – до тех пор, пока все не будет сделано. Любой мужчина на ее месте давно бы уже огреб от своих подопечных в темном переулке, но ее не трогали, даже у самых тяжелых хватало на это ума. Все они, скрипя зубами и мозгами, потели на ее занятиях, выполняя, что требовалось, так как знали, что им придется это делать в любом случае. Кстати, у ее мужа, историка, вечный бардак был, даже страшней, чем у меня поначалу. Никак он не мог дисциплину поддерживать, его за это постоянно на педсоветах распекали, грозились, ругались, а он все отшучивался. Но зато, когда кто-нибудь из выпускников прошлых лет навещал ПТУ, шли только к нему, ни к кому больше. Ладно, это неважно. Я про Павла Иваныча хотел рассказать. Он, кроме черчения, был еще и завучем по воспитательной работе. Воспитывал он характерно. Сама знаешь, росту невысокого, мне едва до плеча доставал, а пэтэушники его боялись до смерти. В первые пару месяцев, когда мне еще совсем не удавалось обуздывать первокурсников, он помогал. Заходил во время урока в аудиторию, сразу наступала полная тишина. Все вставали, вытягивались перед ним, а он между рядов медленно так ходил и на каждого снизу вверх смотрел. Взгляд у него был страшный, безумный совершенно, злой. Такая чистая, неподдельная ненависть. Этого хватало, чтобы подавить волю даже самого отъявленного хулигана. Некоторые выше его на две головы и вдвое шире, а чуть ли не дрожали, когда он рядом стоял. Голоса не повышал никогда, говорил тихо, почти шепотом, но я думаю, каждое слово доходило до всех. Пока он был в классе, никто ни звука не издавал, даже слышно было, как муха летает. Серьезно, я всегда думал, что это так просто, устойчивое выражение, присказка. А оказывается, нет – действительно, так и было: все по струнке, Павел Иваныч на них внимательно смотрит, а я слышу, как муха летит. Представляешь? Таня, для которой отец давно превратился из родного человека в любопытного исторического персонажа, удивленно подняла брови: – Правда? – Чистейшая! Никогда и нигде больше такого не было. Умел батя твой порядок навести. Хотя он вообще-то странный был товарищ: слонялся все время в одном и том же пальто, таком широком, темно-синем, с коллегами общался мало, приходил всегда раньше всех. Да еще эти его отношения с учениками. Короче говоря, уже тогда можно было догадаться, что у него не все дома. – Что же вы не догадались? – Да я как-то… – Федор Петрович опустил глаза. – Не заметил. С самого детства же его знал, вот и проглядел. Мы ведь по соседству жили, на Девятой линии, Павел Иваныч – тогда еще просто Пашка – через два дома от меня. – Разве? Мама рассказывала, будто он из какой-то деревни родом. – Нет, нет, что ты! Он местный. Точно говорю. – Может, я просто путаю. – Наверно. Или мама твоя путала. Она тоже не знала про него всего. Он самым обычным был ребенком, а вскоре после окончания школы исчез и вернулся только через несколько лет. Не знаю, чем он занимался. Говорил, что работал на Севере, да только каждый раз упоминал разные города, поэтому я думаю, он врал. И тогда же вот эти его странности начали проявляться. Пальто, по-моему, тоже в то время появилось. И мать его в дом не пустила, ему пришлось снимать комнату у моей тетки. – То есть его где-то свели с ума? – Похоже на то. Да уж, вот тема для рассказа, а! И не выдумаешь нарочно, прямо бери и пиши. Ты ведь вроде пишешь рассказы? – Нет. Я рисую. Федор Петрович кивнул и замолчал на минуту, потом, зевнув, взглянул на часы. – Звонок сейчас. Сходить, что ли, в столовую, перекусить. Ты не ешь в школе? – Нет, – Таня натянуто улыбнулась. – Меня и дома неплохо кормят. – Все равно, здесь тоже нужно питаться, все-таки до двух часов работаешь. Ладно, пойду. Напомни рассказать как-нибудь еще про то, как я со своими пэтэушниками подрался. Бывало и такое.6
Учителя нет. Блаженное безделье царит в классе, наполняет воздух гулом множества разговоров. Шепчутся, хихикая, девчонки-отличницы на первых партах. Учебники перед ними предусмотрительно открыты на нужных страницах на тот случай, если вдруг войдет кто-то из взрослых. Позади них – ботаники и крепкие середнячки. Каждый занят своим делом: парочка стремительно списывает физику, на соседней парте спорят о преимуществах Огненного Меча Древних Богов над Молотом Подземных Предков, некоторые сосредоточенно таращатся в сотовые телефоны. Один из ботанов, кажется, и вправду читает заданный параграф. Одно слово – чудак. На «камчатке» самое горячее место. Ее обитатели сгрудились вокруг Лешки Симагина и Артема Кривошеева. Эти двое – с самого детства друзья неразлейвода – только вчера вернулись из санатория, в котором отдыхали две с половиной недели по заводским путевкам, и теперь рассказывают о своих любовных похождениях. – …А во вторую половину смены я крутил с Валькой Пономаревой из детдома. В последнюю ночь отдрючил ее. Вздох недоверия, смешанного с восхищенной завистью: – Да хорош! – Отвечаю. Мы с ней под койкой делали тилли-вилли. Гогот. Это словечко парни тоже привезли из санатория, а теперь оно стало достоянием класса. – Она говорит, что ничего не было, но это все правда. Вон Тема докажет. Кривошеев важно кивнул. Симагин толкнул его локтем: – А ты сам-то тогда с кем замутил? С Ленкой, штоль, Семеновой? – Ты че! Я у старшеклассниц ночевал из первого отряда. С Ленкой вроде Ванек отжигал. – Какой Ванек? – Да такой чувак в майке «Корн», помнишь? – Помню. Это он на Ленку запал?! – Ага. И она на него. Всю последнюю дискотеку только вдвоем танцевали. Утром, когда уезжали, ревела как корова. – Жесть, блин. – Дура, что сказать… Один из слушателей тронул Кривошеева за рукав: – Ну что там со старшеклассницами? Ты с ними… того… Тема пожал плечами. – Конечно, а как же! До самого утра только тилли-вилли. Взрыв хохота. Один из середнячков, Вадик Королев, недовольно обернулся. – Вы задолбали ржать уже! Давайте потише. Вадик для своего возраста высок и широк в плечах, а еще занимается в Доме Спорта в секции самбо, поэтому обычно его стараются не задевать. Но сегодня не тот случай. – Потише у тебя на поминках будет, – оскалился Симагин. – Иди в жопу! – Ты там часто бываешь? – парировал Вадик. – Дорогу хорошо знаешь. Симагин поднялся со стула. На лице его появилось предвещающее неприятности выражение – рот приоткрыт, нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, глаза, теперь уже пустые и злые, впились в противника. – Ты остряк, шоль? – интонации выдают гопника с головой. – Умный, шоль, язык заточил? Вадик тоже набычился. Сдаваться не в его обычае. – Мозги себе заточи! – Ну все, – Симагин отодвинул в сторону Кривошеева и выбрался из-за парты. – Щас я тебя выхлестывать буду. – В зубы словишь. – Да я твои атаки писькой отобью! Гогот. Глаза мальчишек загорелись ожиданием. До каждого доходит – драки не миновать. Это вам не самодовольные россказни, в лживости которых на самом деле никто не сомневается, это – настоящее зрелище. Вадик раздраженно повел плечами. Видно, что он не хочет схватки, но не собирается избегать ее. – Отбей, – сказал он хрипло и добавил громко, отчетливо, так, чтоб все слышали. – Мудак. Удивленный вздох пронесся среди зрителей. Дело назрело серьезней некуда, так что теперь даже отличницы с первых парт бросили свои дела и разговоры. – Что ты там вякнул? – тихо, почти шепотом, спросил Симагин. Фраза эта – часть ритуала, способ проверить, как крепко готов противник стоять на своем. Вадик оказался готов. – Мудак, – смачно, с охотой повторил он. Лешка быстро шагнул к нему, замахиваясь правой рукой, Вадик, чуть пригнувшись, будто для броска, сделал шаг навстречу, все вокруг замерли в предчувствии неминуемого столкновения, но тут вдруг скрипнула, открываясь, дверь кабинета. – Та-ак! Это что тут у нас за столпотворение! – раздался строгий голос вернувшейся учительницы. – А ну, все по местам! Дети с треском и грохотом роняемых в спешке стульев рванулись к своим партам. Посреди класса остались стоять только Лешка и Вадик. Не желающие сдаваться, уступать, готовые в любой момент пустить в ход кулаки. – Симагин, Королев! – повысила голос учительница. – Вам нужно особое приглашение, да? Эта фраза – тоже часть ритуала. Она обозначает границу между предупреждением и наказанием, между сердитым и уже озлобленным преподавателем. Если продолжать гнуть свою линию после «особого приглашения», то можно запросто дождаться замечания в дневник, беседы с директором или вызова родителей. Так что Вадик и Лешка еще пару мгновений постояли лицом к лицу, сверля друг друга взглядами, а потом разошлись. – Не знаю, что вы тут не поделили, – строго заметила учительница, – но уверена, что это не стоит пары разбитых носов. Много бы она понимала. Вся ее литература действительно не стоит и одного разбитого носа, тут уж никаких сомнений. Лермонтов, блин. Герой нашего времени. «Я ехал на перекладных из Тифлиса…» Хрень какая-то. В классе наступила относительная тишина, нарушаемая только скрипом мела по доске да шуршанием на «камчатке». Что-то нехорошее готовилось там, Вадик, даже не оборачиваясь, чувствовал исходящую оттуда угрозу. – Итак, – литераторша закончила наконец скрести мелом, повернулась к классу: – Кто же из вас готов прокомментировать только что прочитанный параграф и ответить на вопросы, которые вы видите на доске? – Ну Мария Николаевна! – хором заныли отличницы. – Мы еще не успели! – У вас было достаточно времени! – сурово отрезала преподавательница. – Если только вы работали, а не занимались чем-то посторонним. – Пожалуйста! – не унимались отличницы. – Дайте нам еще две минуты! – Хорошо. А вот Королев, например, сидит себе спокойно и даже в учебник не смотрит. Он, видимо, уже со всем разобрался. Ну-ка, Вадим, давай, попробуй ответить на первый вопрос. Вадик угрюмо поднялся. Взгляды всего класса были обращены к нему, в большинстве из них читалось лишь одно чувство – облегчение. Сзади раздался презрительный смешок, и Вадик с огромным трудом удержался от того, чтобы повернуться и показать этим козлам средний палец. Сосредоточиться на вопросе не получалось. Он даже не попытался дочитать его до конца. Что-то о влиянии Кавказа на творчество Лермонтова. Кому вообще есть до этого дело?! Вместо ответа он только упрямо молчал и рассматривал носки своих кроссовок до тех пор, пока литераторша, тяжело вздохнув, не разрешила ему сесть. Урок продолжился, потек по привычному руслу. Девочки с первых парт тянули руки, в ужасе лопотали слова, смысла которых не понимали, и с благоговением наблюдали, как учительница ставит в журнале вожделенные значки. Задние ряды бесчинствовали: пускали самолетики, играли в карты, прикрываясь учебниками. Одни рисовали в тетрадях, другие старательно украшали портреты классиков усами, рогами, очками и половыми органами. Через несколько минут кто-то кинул ластик в спину Вадику. Тот обернулся. Симагин и Кривошеев скалились, нагло глядя прямо на него. Лешка выразительно провел указательным пальцем поперек горла. Вадик в ответ усмехнулся как можно равнодушней, а затем все-таки показал им палец. – Королев! – почти в тот же миг раздался оглушительный окрик учительницы. – Ты будешь сегодня спокойно сидеть или нет?! Сколько можно с тобой говорить?! В начале урока чуть драку не устроил, а теперь вертишься постоянно! На такие обвинения лучше не отвечать и не пытаться их опровергнуть. Будет только хуже. Впрочем, в этот раз виноватое молчание не помогло. – Знаешь что, Королев! Вот не хотела я тебе двойку ставить за ответ. Точнее, за отсутствие ответа. Но своим поведением ты меня вынуждаешь! Все, давай сюда дневник! Сопротивляться не имело смысла. На перемене Симагин и Кривошеев подошли к нему, ухмыляясь. – Слышь, – сказал Лешка, легонько толкнув Вадика в плечо, – забиваю те стрелу. – Сегодня после уроков за гаражами, – добавил довольно Кривошеев. – Приводи своих, сколько соберешь. Оба заржали в голос, им было прекрасно известно, что у Вадика, нелюдимого и угрюмого, вечно погруженного в свои мысли, нет друзей в школе. Вряд ли кто-то согласился бы поддержать его в такой передряге. Королев только невозмутимо кивнул, отпихнул Симагина в сторону и пошел своей дорогой. Близких друзей у него действительно не было – до недавнего времени. Летом в лагере он сошелся с Денисом Лопатиным на благодатной почве увлечения баскетболом и туризмом, а самое главное – неразделенной любви к Даше Федоровой, их вожатой. С началом занятий дружба не исчезла, а только укрепилась благодаря взаимовыгодному сотрудничеству: выяснилось, что Вадику легко даются точные науки, но беда с языками и литературой, у Дениса же все было с точностью до наоборот. Вот они и организовали тандем, регулярно помогая друг другу с домашним заданием. Кроме того, они просто прекрасно дополняли друг друга: массивный, тяжелый на подъем Вадик, из которого каждое слово надо было тянуть клещами, и щуплый, подвижный Денис, болтливый балагур. Получилась классическая пара приятелей, будто из кино или комиксов. Им обоим это страшно нравилось. Денис, конечно, не был крутым бойцом и сам по себе особой ценности в драке не представлял, но у него имелось одно огромное преимущество – множество друзей по всей школе, в том числе в старших классах. Уж он-то мог «подтянуть» на стрелку кого угодно и в любых количествах. Так что Вадим без всяких колебаний отправился на поиски товарища. Они встретились, почти столкнулись, около столовки. На висках Дениса блестели капли пота, и весь он был красный, выдохшийся. Видимо, с физкультуры. – Здоро́во! – Здоро́во! К тебе дело есть. – Что случилось? Вадик жаловаться не умел и не любил. Но сейчас он не видел другого выхода, а потому, отведя друга в сторону, начал сбивчиво рассказывать о своих злоключениях. Денис выслушал, кивнул, хлопнул его по плечу. – Не ссать, все будет! – Да я не ссу. – Ладно тебе, есть немножко. Не волнуйся, я подтяну народ. Мы этим мудакам вломим на полную. Они на тебя даже смотреть потом будут бояться. Будут кланяться и говорить: «Королев-сан, разрешите поцеловать вашу величественную жопу». Вадик засмеялся. Денис успокоил его. Денис это умел.7
Вадик стоял на крыльце школы и не мог решить, что делать. Последний звонок прозвенел пятнадцать минут назад, сейчас мимо него валом валили довольные ученики, для которых очередной школьный день подошел к концу. Дениса не было, он так и не появился, а позвонить ему Вадик не мог, потому что не находил мобильник. Наверное, оставил дома на книжной полке. День за днем он таскал сотовый с собой, ни разу не воспользовавшись им, – а сейчас, когда эта проклятая штуковина так нужна, ее нет под рукой. Он пытался разыскать кого-нибудь из одноклассников Дениса, хотел попросить их позвонить ему, но, как назло, они тоже все куда-то подевались. Внутри Вадика боролись два человека. Один истерично кричал: «Беги! Беги домой! Тебя все бросили! Беги, пока еще есть возможность, пока не поздно!», а второй сжимал кулаки, наклонял коротко стриженную голову и упрямо повторял: «Не смей. Не смей трусить». Первый почти уже победил, когда в дверях показались Кривошеев, Симагин, а с ними еще двое. – Опа, – оскалился Симагин. – А мы думали, ты сдристнул! Они заржали. Вадик ничего не ответил. Он понял, что попал в очень нехорошую ситуацию и совсем не хотел делать ее еще хуже. – Ну че, – Симагин панибратски хлопнул его по плечу. – Пойдем, что ли. – Пойдем, – Вадик вдруг с ужасом понял, что у него дрожат колени. Возможно, при ходьбе это будет не так заметно. Они двинулись в сторону гаражей; по дороге Симагин просто излучал издевательское добродушие. С какой-то дикой иррациональной уверенностью Вадик надеялся, что Денис с друзьями уже ждут их там, за гаражами. Стоят с каменными лицами, как бандиты из сериалов. Вот сейчас Кривошеев увидит их и поймет, что наехал совсем не на того человека. Это представилось так ярко, так четко, что Вадик почти успокоился, даже улыбнулся. Но вот они обогнули гаражи – за ними было пусто. Холодный ветер трепал высохшие кусты полыни, покрывал рябью поверхность пары луж. В грязи, расчерченной следами шин, тут и там лежали толстые широкие доски для удобства передвижения, и, пройдя по ним на более или менее сухой клочок земли, процессия остановилась. – Ну, – Симагин повернулся к Вадику, в глазах – лед. – Что ты там сказал мне? – Ты не глухой, слышал. – Не понял вопроса, козлина, так? Повторить? – Повтори. Симагин криво усмехнулся и толкнул Королева обеими руками в грудь: – Я тя спрашиваю, чо ты сказал! Вадик толкнул его в ответ. – Ты слышал! Симагин размахнулся, ударил правой. Вадик пригнулся, схватил противника за ногу обеими руками и дернул на себя. Прием был проведен четко и быстро. Тренер в секции самбо гордился бы им. Симагин опрокинулся назад, повалился спиной в грязь. Не давая ему опомниться, Вадик принялся заламывать ногу, намереваясь применить болевой, но тут остальные трое пришли на помощь вожаку.8
Симагин после обеда вернулся к школе, благо жил совсем недалеко, на соседней улице. Отец опять пришел домой «в умат» и принялся крушить все, что подворачивалось под руку, не делая никаких исключений для членов семьи. Мать с бабушкой и младшим братом заперлись в дальней комнате – специально для таких случаев Лешка еще месяц назад поставил на ее дверь большой прочный засов, – а сам он отправился гулять. Погода не радовала, небо выглядело так, словно вот-вот должен был начаться дождь, и на улицах не встретилось ни одного приятеля. Послонявшись по дворам, Симагин вышел к школе, от нечего делать присел на покосившуюся скамейку у клумбы. Если бы у него имелось ружье, хотя бы какая-нибудь старенькая пневматика, он бы нашел, чем себя занять, это уж точно. Он бы забрался на один из гаражей и принялся бы мстить школе за всю ту скуку, которую приходилось в ней выносить, за всю ту злость, с которой в ней к нему относились. Сначала – окна директорского кабинета. Вон они, почти сразу над входом, чуть левее. Сколько раз ему приходилось там бывать? Явно побольше, чем некоторым из учителей. Стоишь, молчишь, опустив голову, изображаешь, будто виноват, будто тебе стыдно, будто готов понести любое наказание, а сам в это время думаешь только о том, что бы ты сделал, если б все получилось наоборот – если б это они стояли перед тобой, несчастные, уже раздавленные осознанием твоей власти над ними, власти сделать все что угодно, хоть ремнем выпороть – ведь за них некому будет заступиться. Симагин даже заулыбался от таких мыслей. У него всегда было много самых разных врагов – начиная от отца и заканчивая новоприобретенным, этим тупым чмошником Королевым, который сегодня оскорбил его, – и он должен со всеми разобраться. Не сомневайтесь, разберется, дайте только время. Королев, гнида, не сумел избежать люлей, но заслуживал большего. Надо будет исправить недоработку, подрихтовать ему морду так, чтобы говорить и есть стало очень трудно, чтобы пришлось вставлять зубы. Пидарас сраный! Никто раньше не осмеливался так разговаривать с Лешкой, его даже старшеклассники побаивались. Теперь придется заставлять их бояться заново. И начинать надо именно с этого недоделанного самбиста. Он не ел с самого утра, но, как назло, в карманах не нашлось ничего, кроме горстки мелочи, которой не хватило бы и на полстакана семечек. Возвращаться домой не имело смысла – там можно было найти только люлей от взбешенного папаши, – а шляться по друзьям Симагин тоже не хотел. Но возможность раздобыть немного на пропитание находилась прямо перед ним, нужно лишь пересечь школьный двор и подняться на крыльцо. У малолеток в продленке обычно имелись небольшие деньги, оставленные родителями на какую-нибудь вкусность или на всякий случай. Отжать у них полтинник-другой никогда не составляло труда. Кроме того, у него было кое-что припрятано в секретном тайнике на втором этаже. Нужно достать. Главное – не попадаться на глаза воспитателям. Симагин вытащил из кармана свой старый, исцарапанный мобильник, глянул на время. 16:44. Большинство воспитателей в столовой, заняты организацией ужина для подопечных, а дети предоставлены сами себе, играют в коридорах. Лучшего момента для действий не найти. Он поднялся со скамейки и пошел к школе, с особым удовольствием наступая на лица человечков, нарисованных разноцветными мелками на асфальте перед крыльцом. В вестибюле не оказалось никого, кроме технички, дремлющей с женским журналом в руках. Симагин одним движением миновал вход в столовую, откуда доносились голоса взрослых и звон расставляемой по столам посуды, змеей взметнулся по лестнице на второй этаж, где сразу наткнулся на стайку смеющихся девчонок со скакалками в руках. Девчонок трогать не следовало – не потому, что это было недостойно мальчишки (Симагину никогда в голову не приходило размышлять о таких странных вещах, как достоинство), а потому что они почти наверняка нажаловались бы, и тогда ко всем уже имеющимся проблемам Леши Симагина добавилась бы еще одна. Нет, искать нужно пацаненка, желательно поменьше и помладше, запугать его как следует, чтоб даже мысли не возникло рассказать о произошедшем родителям или учителям. У Симагина имелось несколько «данников» такого типа, но ни один из них в продленку не ходил. Он осторожно проскользнул мимо плотно закрытой двери комнаты, в которой помещалась группа продленного дня. Изнутри доносились возбужденные голоса малолеток и приглушенная агрессивная возня – судя по всему, внутри происходила нешуточная драка, какие обычно имеют место в отсутствие взрослых. Не поделили карандаш или листок цветной бумаги. – Ты чмо! – раздался за дверью полный слез голос. – Сам чмо! – был ответ. – Чмо и козел! Симагин с трудом подавил желание войти внутрь и убедительно доказать мелким ублюдкам, что каждый из них ничтожество. Наверняка их там полным-полно, кто-нибудь один обязательно потом проговорится. Светиться не следовало ни в коем случае. Повернув за угол, он увидел в дальнем конце коридора невысокую щупленькую фигурку в белом спортивном костюме. Мальчишка стоял под окном и ковырялся шариковой ручкой между ребрами радиатора. То, что нужно. Бесшумно подойдя ближе, Симагин окликнул его: – Эй, парнишк! Тот испуганно обернулся, пытаясь спрятать ручку в карман куртки, который, как назло, оказался застегнут на молнию. – Чего здесь делаешь? – спросил Симагин, строго прищурившись. Он знал, что подобные вопросы действуют на пацанов типа этого безотказно, заставляя их сразу чувствовать себя виноватыми, пусть даже неизвестно в чем. – Ничего, – ответил мальчик, послушно опустив глаза. – Просто. Гуляю. – Ты мне тут школьное имущество не ломай! – едва сдерживая смех, сказал Симагин как можно более «строгим» тоном. – Батареи не для того повесили, чтобы ты их разрисовывал! – Я не разрисовывал… – Да ладно! Хорош гнать. Так, у тебя, случаем, мелочи нет никакой? – Мелочи? – удивленно переспросил мальчик. – Да. Деньги. Есть у тебя деньги? Пацаненок помолчал несколько секунд, потом кивнул и, расстегнув-таки тот самый злополучный карман, извлек смятую бумажку в пятьдесят рублей. – Ага, – Симагин протянул руку. – Давай сюда. И я никому никогда не скажу, что ты испортил школьное имущество. Считай, тебе еще повезло. – Это мне на автобус, – грустно сказал мальчик. – Пешком дойдешь. Или хочешь завтра к директору в кабинет попасть? Жертва испуганно замотала головой и, поколебавшись еще пару мгновений, все-таки отдала деньги. – Молодец, – сказал Симагин. – Если бы воспитатели увидели, что ты натворил, родителей бы точно вызвали, считай. А теперь они не узнают. А про деньги скажешь, что потерял. Договорились? Ну, вот и отлично. Чеши отсюда быстрей, пока никто не пришел! Мальчишка быстро скрылся за поворотом. Теперь десять раз подумает, прежде чем снова прикасаться к батареям. И уж тем более никому и словом не обмолвится о произошедшем. Симагин довольно сплюнул на обшарпанный линолеум. Полтинник – не бог весть какие деньжищи, но явно лучше, чем ничего. Еще бы столько же, и можно считать, что день удался. Он сделал несколько шагов назад, вслед за обобранным малышом, прислушался к происходившему в продленке, без труда различил чей-то обиженный, захлебывающийся рев. Скорее всего, один из драчунов получил-таки как следует по морде. Тем лучше – воспитателям будет чем заняться по возвращении, а у него появится небольшой запас времени, чтобы поискать новую жертву. Он услышал, как дверь распахнулась, выпустив в коридор шум множества детских голосов, среди которых особенно выделялся один, наполненный слезами и чистой, неприкрытой ненавистью: – Я тебе башку разнесу! Вот увидишь! Ты покойник! – Пошел в жопу! – летел в ответ самодовольный крик победителя. – Гондон! – Сам гондон! Сам в жопу! – не сдавался проигравший, стремительно приближаясь к углу, за которым стоял Симагин. Тот быстро отступил на несколько шагов и едва успел скрыться в нише, оставшейся от старого входа в спортзал, когда мимо пронеслась гурьба пацанят вдвое ниже его. У того, что шел впереди, по лицу текли слезы, смешиваясь с кровью из основательно разбитой губы. Следовавшие за ним по пятам друзья пытались утешить раненого товарища, но безуспешно – гнев и обида, многократно усиленные болью, не позволяли слышать ничего, кроме оскорбительных воплей врага. Симагину хорошо было знакомо это чувство, он даже почти пожалел пострадавшего. Победитель тоже показался из-за угла. Это был плотный, коренастый мальчишка с взлохмаченными, слипшимися от пота волосами. Симагин, хищно оскалившись, покинул укрытие и набросился на него, словно тигр на антилопу. Схватив пацана за плечи, он прижал его к стене и зашипел ему прямо в лицо: – Ты какого хрена делаешь, сучонок, а? Ты что это творишь?! – Он первый начал! – огрызнулся тот, но сопротивляться не пытался. – Так это ты ему морду разбил, а не наоборот. Что-то я не вижу крови на твоем таблище. А если я тебе так же, а? Прямо сейчас вот возьму и расхерачу весь хлебальник! Ну-ка! Симагин отступил на шаг, замахнулся. Мальчишка сжался, зажмурился, закрывая руками голову. Но удара не последовало – вместо этого Лешка основательно встряхнул его и зарычал в самое ухо: – Тебе вмажешь, блин, потом от воспитателей получишь. Ты же ведь настучишь, сука, да? Сразу побежишь к ним плакать, как баба? – Нет. – Что?! – Не побегу. – Ладно. Давай так сделаем: деньги есть у тебя? Хоть какие-нибудь? – Есть. Вот, – мальчишка вытащил из заднего кармана джинсов скомканную купюру в сто рублей. Симагин быстро схватил ее и, отвесив ему сочный подзатыльник, отошел в сторону. – Скажешь кому-нибудь, что меня видел, я тебя закопаю, понял?! И за того пацана тоже вломлю заодно. Дошло? – Дошло. – Вали! Малолетка поплелся обратно в кабинет продленки, а Симагин, аккуратно расправив сотню, сунул ее в карман к полтосу. Надо же, блин, так четко обломал этого мелкого мудака – только он обрадовался, что победил в драке, как тут же лишился и бабла, и спокойствия, и самоуважения. Возможно, у второго «боевика», того самого с разбитым носом, тоже имелись при себе деньги, но наезжать на него сейчас не следовало, он по злобе и обиде вполне мог не поддаться на угрозы и действительно нажаловаться старшим. Сто пятьдесят рублей – неплохой улов для одного вечера, тем более такого, который начинался из рук вон плохо. Их хватит на перекусить, на запить, а если добежать к ларьку за парком, то можно и пива купить. Симагин пока не особенно любил спиртное, но эффект ему нравился: все равно что клею нанюхаться, как он иногда делал в детстве, только гораздо мягче и безопаснее. То, что нужно. Самое главное сейчас – улизнуть из школы так же незаметно, не попавшись на глаза ни одной из воспитательниц или техничек. Тогда, даже если кто-то из разведенных на бабки лошков и решится рассказать о том, что с ним случилось, предъявить Симагину не смогут ничего. Он уйдет в отказ, любые попытки обвинить его просто обломаются. Лешка направился к лестнице, но, услышав снизу голоса преподавателей, шмыгнул в туалет для мальчиков, намереваясь отсидеться там до тех пор, пока вся группа продленного дня не окажется в столовке. К тому же, в самом деле не мешало бы забрать заначку. Он прошел в дальний конец туалета, присел у батареи и, отодвинув одну из кафельных плиток, достал из тайника мобильник. Аккуратный прямоугольный корпус, гладкая глянцевая поверхность. Вокруг свернулись тоненькой змейкой наушники. Ни единой царапинки, не то что на его древнем сотовом, доставшемся от отца. Хороший телефон. Он вытащил его из куртки Королева в раздевалке перед тем, как пойти на стрелку. У Симагина не было ни одного шанса когда-либо получить нечто подобное честным путем. Ему никогда не подарят ничего хотя бы наполовину столь же дорогого, да и сам он вряд ли сможет зарабатывать на такие игрушки. Отбирая мелочь у малолеток, состояния не сделаешь. Он нажал кнопку, и экран – большой, цветной, совсем не чета крохотному черно-белому дисплею – зажегся, предлагая обширное меню. Кое-как разобравшись с непривычным сенсорным управлением, Лешка принялся смотреть видео. Обычная хренотень: какие-то мультики про роботов, обзоры компьютерных игр, клипы. Полная лажа, в общем. Ни расчлененки из морга, ни порнухи. Скучно. Лешка открыл раздел «Музыка», но просматривать его не стал – за стеной малолетки с шумом повалили в столовую. Слышно было, как воспитатели успокаивают их, едва перекрикивая. Отлично, пора действовать. Симагин сунул телефон в карман, вышел из туалета, короткими перебежками двинулся вниз по лестнице. На первом этаже он осторожно заглянул в столовую и, убедившись, что все старшие заняты рассаживанием подопечных по местам, рванул к выходу. Технички в вестибюле вообще не оказалось. Выскочив на улицу, Лешка едва не рассмеялся от удовольствия. Вторая половина дня оказалась явно лучше первой – давно ему так не везло. А если честно, то никогда. Он поспешно миновал гаражи, направился к мини-маркету «ИПКузнецов» на автобусной остановке, по дороге крепко сжимая в кармане телефон. Симагин, несмотря на свой возраст, прекрасно понимал: то, о чем знают двое, не может долго оставаться тайной. Если хоть кто-нибудь, пусть даже самый надежный друг (впрочем, таких у него не было), увидит злосчастный мобильник в его руках, весть об этом сразу же облетит всю школу. В мини-маркете Симагин купил бутылку лимонада, шоколадный батончик и большую пачку чипсов. На пиво денег не осталось, но он не особо переживал, голова была занята другим. Конечно, никто не отменял возможность оставить мобильник у себя, но в этом случае придется спрятать его как можно дальше от посторонних глаз и никогда никуда не брать с собой. А какой смысл в дорогом, навороченном телефоне, если тебе нельзя им пользоваться? Был еще вариант – продать его кому-нибудь, но Симагин хоть и много слышал о разных барыгах, скупающих краденое, сам не знал ни одного и не имел ни малейшего представления, как выйти на такого человека. Однако эти проблемы можно было решить после. Сейчас у него имелось все, что нужно для счастья: жрачка и плоская пластмассовая коробочка, полная развлечений. Лешка свернул в парк, добрался до первой засыпанной палыми листьями скамейки, взгромоздился на нее, усевшись, как и полагалось, на верхний край спинки, а ноги поставив на исцарапанное сиденье. Здесь он надел наушники, открыл пакет с чипсами и принялся рыться в папке «Музыка». По большей части – альтернативный метал, сплошные пидоры в юбках, с тоннелями в ушах и крашеными волосами. Сам Симагин не имел особенных музыкальных предпочтений, слушал то же, что и окружающие – чаще всего шансон. Но ему самому все-таки больше нравился рэп, нормальная пацанская музыка, про тачки, разборки и бизнес. Сейчас он пролистывал список в поисках знакомых имен или названий. Иногда пацаны держали на своих мобилах несколько серьезных хип-хоп-треков, но тут, видимо, был не тот случай. В самом конце Лешка увидел папку, от названия которой в животе вдруг похолодело. «Чертовы пальцы». Ничего особенного в этих словах, конечно, не было. Слова как слова. Скорее всего, это просто новая группа. Симагин открыл папку и включил вторую песню из семи безымянных. Уши наполнились жужжанием электрогитар, через несколько мгновений к ним присоединился глухой, тяжелый пульс ударных. Похоже, метал: слишком много шума, слишком много лишней херни «ни о чем», не то что в хип-хопе, где все четко по делу. Но других вариантов не было, да и, честно признаться, музыка сразу ему понравилась. Она удивительным образом сочеталась с окружающей действительностью. Гитары выводили плавную, грустную мелодию, пусть поданную в виде жесткого перегруженного рева, прекрасно подходящую к пустому парку, стремительно проваливающемуся в осенние сумерки, к усыпанным листьями тропинкам, покосившимся облезлым скамейкам, голым ветвям и редким тусклым фонарям. Тьма скапливалась между стволами деревьев, расползалась по черному асфальту, сочилась с мокрого серого неба, а то, что звучало сейчас в наушниках Симагина, являлось прекрасным саундтреком к ее наступлению. Потом вступил еще один инструмент – Лешка не сумел бы сказать какой, но явно нечто вроде дудки, – и музыка поглотила мальчишку целиком. Он ни о чем не мог думать, не мог пошевелиться, застыл на вершине скамейки, наслаждаясь мелодией, чуть покачивая головой в такт неспешному, размеренному ритму. Рисунок слегка изменился, гитары больше не рисовали в воображении осенний вечер, теперь они несли Лешку прочь, далеко от парка, далеко от школы, от вечно бухого отца, от забитой, молчаливой матери. Давным-давно – он был еще совсем маленьким – его возили на лето в деревню к бабушке. Она умерла, когда Лешка учился во втором классе, и с тех пор он почти забыл о ней, но сейчас вдруг вспомнил. Живо, ярко вспыхнул в сознании бабушкин образ, представился ее домик на окраине деревни, бесконечные, залитые туманом поля, тянущиеся во все стороны, насколько хватало глаз. Он будто бы снова брел по ним, чувствуя, как касается коленок влажная трава, как наполняет небо далекий птичий крик. Плеснулась в горле тоска, Лешка скрипнул зубами, пытаясь удержаться, но слезы все равно заструились по щекам. Песня кончилась, почти без перерыва началась следующая. Она оказалась гораздо более агрессивной: сыпались сплошным потоком барабанные дроби, а гитары уже не пели, но рычали, злобно и напористо. Кроме того, вскоре появился вокал, хриплый, яростный, полный ненависти, похожий на собачий лай. Не выдержав, Симагин, не привычный к такой экстремальной экспрессии, снял наушники. Вокруг было темно. Он заслушался и не заметил, как сумерки превратились в ночь. Рядом на скамейке лежал пустой пакет из-под чипсов, а в бутылке напитка осталось всего на пару глотков. Вот, блин, сколько же длилась эта песня?! Лешка посмотрел на экран мобильника. 20:12. Не может быть! Ему казалось, что он провел здесь всего несколько минут, а на самом деле прошло уже больше четырех часов. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. Яростно матерясь, Лешка вытащил из кармана свой собственный сотовый. Те же цифры. Почти четверть девятого. Он снова ругнулся и, спрыгнув с лавки, решительно зашагал по дорожке в сторону ворот. Из всех фонарей, стоявших вдоль тропинки, горели лишь два, но ему это особенно не мешало. Пройдя около половины пути до бетонных фигурных столбов, служащих воротами парка, Симагин понял, что забыл выключить музыку – она так и шумела в болтающихся вокруг шеи наушниках. Он остановился, чуть наклонился, чтобы в свете ближайшего фонаря рассмотреть экран мобильника, но тут краем глаза заметил какое-то смазанное, едва уловимое движение впереди. Он резко поднял голову. На самом краю желтого круга под фонарем стояла высокая черная фигура. Мгновением позже она скользнула во мрак и растворилась в нем совершенно бесшумно, не оставив после себя ни шороха листвы под ногами, ни шелеста одежды. – Эй! – сказал Симагин, чувствуя, как растет ледяной комок в солнечном сплетении. – Эй, ты! Я тебя видел! Ответом ему была тишина, только казалось, будто музыка все еще звучит где-то рядом, едва слышно пульсирует жестким, напряженным ритмом. Парк вокруг замер, затаился, укрывшись темнотой, спрятав под ней свои тайны и секреты. Может, показалось? Качнулась какая-нибудь ветка, вот и получилась странная тень, похожая на человека. Симагин осторожно продолжил свой путь. Глупое сердце тяжело трепыхалось в груди. До ворот оставалось всего ничего, в обычной ситуации он преодолел бы это расстояние меньше чем за минуту, но сейчас каждый шаг давался с трудом и длился, казалось, чертовски долго. Дыхание стало слишком громким, кровь стучала в ушах, заглушая все внешние звуки, глаза напряженно таращились в окружающую темноту, вновь и вновь возвращаясь к конусу тусклого света под фонарем. Он уже почти добрался до его границы, когда внезапно увидел их – словно бы пелена спала с его взгляда, ведь они не двигались, просто стояли во мраке, совсем рядом, поджидая его. Не дышали и не издавали ни звука. Их было четверо или пятеро. Мальчик успел разглядеть лишь бледные вытянутые лица, пустые, без глаз и ртов, но увитые черными, расползающимися трещинами. Ближайшее из существ нагнулось, протянув правую руку к Лешке. Тот с воплем отпрянул от белых пальцев, бросился бежать прочь по тропинке в глубь парка, не раздумывая над направлением. Неважно куда, главное – не споткнуться, не упасть, не дать им настигнуть себя. Мимо мелькали кусты, подошвы скользили в слипшейся листве, в редких лужах сверкали отражения фонарей. Симагин не знал, преследовали его или нет, он не слышал ничего, кроме собственного топота, а обернуться боялся. Мыслей почти не было, все вытеснил страх, густой, как наступающая ночь, черный, как трещины вместо лиц. Даже кричать Лешке не хватало сил, он лишь хватал ртом воздух и надеялся не упасть. Вот тропа под ногами оборвалась – он вылетел на обширную круглую площадку, которой никогда раньше не видел в этом парке. Стояли полукругом фонари, но только один из них едва горел, кое-как освещая грязный ковер из мертвых листьев. Лешка рванул было через площадку напрямик, но тут вдруг палая листва расступилась, выпуская ему навстречу тощие руки, и он отшатнулся, замер, не в силах поверить своим глазам. Из глубины поднималась его бабушка. В том самом зеленом платье, в котором ее похоронили. Седые волосы до земли. Кожа цвета пыли, покрытая темными пятнами. Нижняя челюсть подвязана темной тряпицей. Бабушка тянула к нему руки, а он, сжав зубы, смотрел, как осыпаются с нее гнилые листья, как она приближается, завороженно следил за резкими, дергаными движениями, похожими на содрогания оторванных паучьих лапок. Потом, опомнившись, Симагин обернулся – безликие стояли позади, всего в нескольких метрах, полностью перекрывая ему все возможные пути спасения. Равнодушные, неподвижные. Наблюдали. Затем и загнали его сюда. Лешка заплакал. Неожиданно для самого себя. Зарыдал в голос от всего сразу: от отчаяния, от ужаса, от одиночества. Здесь, в этом уродливом, темном, почти не настоящем месте, можно было не опасаться, что кто-то из корешей увидит и засмеется. Он упал на асфальт, завыл, судорожно всхлипывая и размазывая слезы с грязью по лицу мокрыми ладонями. То, что когда-то умерло его бабушкой, сейчас делало шаг за шагом, остервенело царапая отросшими желтыми ногтями повязку под подбородком. Может, она хотела говорить? – Бабуля! – крикнул Лешка сквозь слезы. – Бабуля, это я! Она уже нависала над ним, перекошенная, нелепая, кривая, словно высохшее дерево, словно сгнившая виселица. С влажным треском поддалась ткань повязки, и нижняя челюсть обвисла, разрывая кожу щек. Из ставшего неимоверно огромным черного беззубого рта посыпалась земля. Бабушка наклонилась, а Леша Симагин, закрыв глаза руками, продолжал повторять: – Бабуль, это же я, это же я, я… – но когда сморщенные ледяные губы коснулись его, сорвался на визг. А те, у кого больше не было ни лиц, ни имен, стояли вокруг и смотрели, как она пожирает его. Ждали своей очереди.9
Лицедей видел сон, уродливый, жуткий сон, сплетенный из нескольких ярких полотен. Он был на каждом из них. Одновременно. Параллельно. Реальности перетекали одна в другую, сливались, расходились, наполнялись болью. В одной из них он стоял на темной улице перед массивным казенным зданием. Удушливым желтым светом горели фонари и некоторые окна, но их сил не хватало, чтобы хоть немного разогнать плотный, тяжелый мрак. Однако надпись на стене ему было прекрасно видно. Теперь она стала больше, значительно больше, чем в последнюю их встречу, и все росла. Корявые, мертвые, словно высохшие ветви, едва читаемые буквы расползались по серой стене волнами беспрерывно шевелящихся линий-щупалец. Все, что попадалось им на пути, они наполняли тьмой – окна, трещины, выбоины. Лицедей с ужасом увидел, как те немногие окна, в которых горел свет, тут же гасли, стоило этой гадости проникнуть внутрь. Что происходило с теми, кто находился внутри, он не знал. И не хотел знать. Но его, разумеется, не спрашивали. В одном из погасших окон на четвертом этаже появилась смутно различимая фигура. Судя по широким плечам и шляпе – мужчина. Лицо на таком расстоянии рассмотреть было невозможно, оно казалось сплошным белым пятном. – Эй – крикнул Лицедей. – Что там у вас?! Фигура резко нагнулась вперед, переваливаясь через подоконник. Шляпа сорвалась с головы и полетела вниз. Но, вместо того чтобы в соответствии со всеми законами физики последовать за ней, ее владелец уперся ладонями в стену, резко вытянул наружу ноги и пополз вниз по стене, словно огромная ящерица. Лицедея чуть не стошнило от этого зрелища – настолько нечеловеческими были движения существа на стене, настолько противоестественно выглядели они, производимые телом обычного мужчины в деловом костюме. Следом из окна выкарабкалась еще одна похожая тварь, массивней первой, в потрепанном домашнем халате. Эта полезла по стене вверх, в сторону крыши.
В то же самое время – не то видение, не то воспоминание. Покосившийся серый забор, наполовину утонувший в зарослях крапивы. Деревянный столб, для устойчивости привязанный к бетонной свае. На нем – криво приклеенная афиша. Явно самодельная – обычный альбомный листок с неровно напечатанным объявлением: «ЧЕРТОВЫ ПАЛЬЦЫ». Дата и время. И адрес. Он коснулся пальцами запыленной бумаги. Как же давно это было. Охваченные огнем коридоры, мечущиеся тени, крики, тошнотворный смрад горящей плоти. Выложенный кафелем пол под ногами, в руках – защитные обереги. Далекий хохот, различимый даже сквозь треск ломающихся перекрытий. Топор, бьющийся у стены в конвульсиях, зажимающий ладонями разорванное горло. Пять обнаженных тел извиваются в дикой, чудовищной пляске среди кровавых луж и перевернутых инвалидных кресел. Вскинутые тощие руки, кривые багровые пятна на белой коже. Сила льется сплошным, непрекращающимся потоком, от ее избытка рябит в глазах, перехватывает дыхание. Еще атака. Корень падает, катается по полу, визжит от боли. Его кости выбираются наружу сквозь мышцы и кожу. Каждая по отдельности. Не смотреть! Вперед! Пламя! Сплошная стена пламени… Но вот он уже был в тамбуре, и вокруг висел в воздухе синий сигаретный дым. Мелькала за окном чернота, а среди окурков в углу лежал, свернувшись калачиком, пьяный старик. Толкнув дверь, Лицедей вошел в вагон – и хотя народа было много, сразу увидел Клима Грачева, старшего из братьев. Единственное свободное место находилось рядом с ним. Удивляясь своему равнодушию, Лицедей сел и спросил, сам не понимая зачем: – Как ты? Грачев пожал плечами: – Ничего особенного. Привыкнуть можно ко всему. – Ты мертв? Он невесело усмехнулся: – А сам как считаешь? Или так не похоже? Показать шов от вскрытия? – Нет, не нужно, я верю. Клим несколько минут молчал, а потом вдруг засмеялся. – Ты чего? – удивился Лицедей. – Говоришь, веришь? Да ни хрена ты не веришь! Так ведь? Грачев широко улыбнулся, на мгновение показалось, что его зубы стали гораздо острее, чем им положено быть. – Все дело в оси координат, – сказал он. – Не понял. – Смерть – это точка ноль. – Ноль? – Ноль – это ноль, иначе не скажешь. Начало и конец отсчета. Ни смысла, ни потенциала, ни красоты, ни зла. Там сходятся все плюсы и минусы, все единицы исчисления. Ничего, совсем ни хрена – там даже пустоты нет. А мы там! – Кто? Вы с братьями? – Мы там! Почему-то мы не миновали ее, как все, почему-то застыли точно посередине графика, – бормотал Грачев, отвернувшись к окну. – Это аномалия, отклонение от нормы, какая-то патология в существовании. Мы ждем, ты же знаешь. Мы стремимся к своей цели, мы готовим кое-что. Мы ничего не забыли. – Пожалуйста… – начал Лицедей. Клим повернулся к нему. Из глаз его текла кровь. Лицедей было отпрянул, но сумел вовремя взять себя в руки. Мертвый враг не собирался причинять ему вреда. Он просто смотрел на него истекающими кровью глазами и улыбался жуткой волчьей улыбкой. – Запомни главное, – прошептал Клим и огляделся, словно опасаясь, что кто-то из пассажиров может их подслушать. – Мы там по своей воле. – Что вас удерживает? – Книга! Гримуар – это шифр, это наш ключ. Слово всегда служило средством связи между мирами. Словом мертвые общаются с живыми. Пока еще не поздно, пока еще есть время. Клим замолчал, вновь отвернулся к окну. – Думаю, тебе нужно уйти, – сказал он через некоторое время, все так же глядя в темноту за стеклом. – Почему? – Ну, билета у тебя нет, а сюда идет контролер. Лучше ему не попадайся. Лицедей выглянул в проход. От дверей тамбура медленно двигался тот самый старик, который раньше лежал там спящим. Только теперь он почти задевал головой потолок вагона. Длинные, спичечно-тонкие руки опирались на края сидений, спутанная седая борода свисала до пола. – Как мне отсюда выбраться? – спросил Лицедей Грачева. Тот развел руками: – Как обычно выбираются из поезда? Через двери. Лицедей поднялся. Старик тут же уставился на него и, забормотав что-то невнятное своим беззубым ртом, ускорил шаг. – Извините, – сказал ему Лицедей и побежал по проходу. Старик рванулся следом. Он не кричал, не ругался, только шамкал что-то. Его тощие морщинистые руки замелькали в воздухе, задевая за стены и потолок, – казалось, они могут изгибаться как угодно. Холодные пальцы впились беглецу в плечо, но он вырвался, выбежал в тамбур. Здесь вился ледяной ночной ветер – обе двери были открыты. Лицедей, не раздумывая, прыгнул в правую – и краем глаза еще успел увидеть, как из вагона в тамбур вваливается лавина тонких извивающихся рук. Но там, снаружи, в темноте, не оказалось ничего, на что можно было бы приземлиться. Ни земли, ни усыпанного гравием склона – никакой опоры. Нечто подобное иногда снилось ему в детстве: ты прыгаешь куда-то, но неожиданно понимаешь, что под тобой разверзается бездна, и падаешь, падаешь, мучимый ужасом, сжимающим острыми когтями твое дыхание. И одновременно с этим падением, уместившимся в вечности мгновения, другое воспоминание, пронзительно-обжигающее. Вино. Кажется, все вокруг танцует, кружится в сумасшедшем водовороте. А он в самом центре этого водоворота пьет вино прямо из бутылки, запрокинув голову, – большими, быстрыми глотками. Оно терпкое и приятное на вкус. Опустевшая бутылка падает на пол, разлетается множеством мелких осколков. Лицедей смеется и поворачивается к барной стойке. Теперь за ней – демон, беспрерывно скалящий в улыбке множество острых зубов. Он кидает ему новую бутылку, рука с легкостью ловит ее. Легкость – вот ключевое слово. Ни памяти, ни надежд, ни вчера, ни завтра. Пустота. Небытие. Одна-единственная ночь, и одна-единственная бутылка из зеленого стекла, наполненная кроваво-красным нектаром безумия. Но все же он по-прежнему был там, на пустой улице, перед домом, весь фасад которого занимала теперь отвратительная надпись, а из окон выползали твари, бывшие некогда людьми, – в костюмах, майках, халатах, некоторые совсем без одежды. Белые тела словно бы светились в темноте, а от того, насколько беззвучно они двигались, к горлу подступала тошнота. Лицедей не мог оторваться от этого уродливого зрелища, хотя прекрасно понимал: рано или поздно кто-нибудь из них заметит его, и тогда придется снова убегать, потому что луна стала слишком уж яркой.
10
Идти в школу не хотелось катастрофически. Но после вчерашней трепки, которую мать задала ему за перепачканные джинсы, порванную куртку и потерянный мобильник, оставаться дома хотелось еще меньше. Вадик брел по сырому тротуару, размышляя о том, что нужно все менять. Кардинально, как говорят в новостях. Именно так. Не терпеть, не подстраиваться, не стараться угодить всем вокруг, нет – кардинально менять. Как именно это сделать, он не представлял. Почему-то вертелась в голове мысль об американских школьниках, устраивающих стрельбу в своих школах, – об этом тоже говорили по телевизору. Но ведь у него не было оружия. И у отца не было, если не считать тяжелого ремня, которым он время от времени грозил своему неправильному сыну. Прийти в школу с ремнем, устроить массовую порку? Вадик улыбнулся. Ему представились репортажи новостей, растерянный корреспондент, торопливо рассказывающий в микрофон о случившемся, и ползущий внизу экрана текст: «САМАЯ УЖАСНАЯ ПОРКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ШКОЛЫ». Получилось бы неплохо. Нужно уезжать, вдруг решил он. Мысль эта, взявшись словно бы ниоткуда, призывно засверкала миллионом ярких огней. Сбежать из дома. Только этим способом можно избавиться от опостылевших школы и семьи одним махом. Уехать в Москву, к двоюродному брату Семену. Само собой, его быстро найдут, но хотя бы какое-то время он будет свободен. Вадик, все еще улыбаясь, представил себе, как мечется по квартире, не находя себе места, мать, как жалеет о всех тех выволочках, которые устраивала ему. Представил отца, тоже беспокойно шагающего из угла в угол. Ремень проклят, выброшен в мусорное ведро. Но поздно, слишком поздно! Учителя в классе рассказывают о том, как ведутся поиски без вести пропавшего ученика, а сами сокрушаются, что довели беднягу своим отношением к нему. Симагина вызывают к директору и, выяснив все подробности драки, ставят – обязательно – на учет в милицию. Симагин рыдает в голос, умоляет простить его, но это бесполезно. Никто даже не смотрит на него, все думают совсем о другом мальчике. От сладостных мечтаний Вадика отвлек окрик: – Э, погоди! Остановись! Сжав кулаки и приготовившись отбиваться, Вадик резко обернулся. Но это оказался всего лишь Денис Лопатин. Мальчики пошли рядом, не говоря ни слова. Наконец Денис, переведя дух, пробормотал: – Почти от самого универмага тебя догоняю, ну ты быстрый. Вадик только хмыкнул в ответ. Денис покачал головой: – Не парься. Просто не надо было с ними связываться. Сам знаешь, эти уроды по-честному не могут. Вадик молчал. Губы его предательски дрожали. – Да ладно тебе! – не унимался попутчик. – С кем не бывает! Ну, что ты? Меня вон в прошлом году весной тоже измудохали, ничего, живой, здоровый. Вадик наконец нашел в себе силы задать тот единственный вопрос, который мучил его уже целые сутки. Он сдержал рвущиеся на свободу слезы, но с дрожью в голосе справиться не сумел: – Почему ты не пришел? Денис тяжело вздохнул: – Меня задержали, не получилось. – Где задержали? – Да класнуха нас всех после уроков оставила. Я тебе пытался дозвониться, а ты трубку не брал! – Я мобильник посеял. – Ну, значит, надо было тогда меня дождаться. Вадик пожал плечами: – Они бы сказали, что я ссыкун. – Да ну хрен бы с ними! Можно подумать, они сами не ссыкуны, втроем на одного! – Если бы я не пришел или стал ждать тебя, не было бы никаких «втроем на одного». Они ведь тоже не собирались долго там торчать. Просто сказали бы, что я трус, и все. Лучше уж по морде пару раз получить. Денис тяжело вздохнул. С этим аргументом спорить он не мог. – Ладно, не грузись. Бывает и хуже, но реже. – Сильно реже. – Что собираешься теперь делать? – Забью еще одну стрелку. – Он откажется. Точно говорю. Отбрешется как-нибудь. – Тогда я про… – Вадик сжал зубы и часто заморгал. Справившись с подступившими слезами, он попробовал снова: – Тогда я просто дам этому козлу в зубы прямо в коридоре. Посмотрим, что будет. Денис вздохнул: – Да ничего особенного не будет. Он тебе тоже даст, вы начнете махаться, а потом какой-нибудь учитель вас растащит. Если попадется добрый, то просто облает, а если злой, то отведет к директору. И все, тогда полный капец. Родителей вызовут. – Хрен с ними, пусть вызывают, – Вадик махнул рукой. – Я ни в чем не виноват. – А это никого не волнует. Взрослым насрать, кто виноват. Их волнует только твой разбитый нос. Вадик ничего не ответил. Он думал о своей матери, которую вчера совсем не интересовали ни его нос, ни распухшая скула, ни разбитая губа. Джинсы, куртка и телефон – вот от чего она пришла в ярость, вот от чего она действительно разволновалась. Пожалуй, стоит все-таки начать еще одну драку. Просто посмотреть на ее реакцию. Просто убедиться, что ей сраный мобильник важнее сына. Они миновали старый парк и, перейдя через перекресток, вышли на финишную прямую: впереди оставались два ряда гаражей, за которыми уже возвышалось серое здание школы, окруженное тополями. Со всех сторон к нему стекались дети, поодиночке и группами, некоторых первоклассников вели за руки мамы, выглядевшие одинаково грустными и усталыми. До первого звонка оставалось чуть больше десяти минут. Вадик, которому боль в разбитой губе не давала даже на несколько секунд отвлечься от мыслей о вчерашних неприятностях, продолжал размышлять о побеге. Эта идея нравилась ему все больше и больше. Здесь ему нечего делать, это точно. Нечего ловить. Дальше станет только хуже. Потому что все время становится хуже. Так уж складывается жизнь. Ты или принимаешь важные решения, а потом следуешь им, или остаешься плыть по течению, а оно разбивает тебя о камни. Мальчишки поднялись по ступеням крыльца, вошли в вестибюль, нырнули в ежедневный водоворот голосов, смеха, плача, топота, тесноты. К тому времени, как им удалось, прокладывая себе путь сквозь столпившихся третьеклассников, добраться до дверей раздевалки, тысячи проблем и новостей обрушились на них. Один пацан попался, когда подглядывал за девчонками в раздевалке через дырку в стене. Математичка нежданно-негаданно дала контрольный тест в параллельном классе. С четырьмя вариантами! Физрук обещал, что до конца этой недели все сдадут норматив по бегу. Леша Симагин сбежал из дома. – Что? – встрепенулся Вадик и повернулся к толстяку из параллельного, который уже начал рассказывать о том, как вчера его брат притащил в школу целую пачку порножурналов. – Целую пачку! – радостно повторил толстяк. – Десять штук. – Нет, про Симагина. – А. Он пропал куда-то. Домой не пришел ночевать. Говорят, сбежал от папаши. Вон, на доске объявление висит рядом с расписанием. Всех, кто что-то знает, просят немедленно подойти в учительскую. А тебе-то какая разница? – Да просто так, забей, – отмахнулся Вадик и, отвернувшись от толстяка, процедил: – Опередил, сука.11
Примерно в это же время Молот добрался до главного входа в парк. Со вчерашнего вечера он дежурил у подъезда Татьяны Кирше, потому что Лицедей решил, что ей может угрожать опасность. Ночью к подъезду подошел тощий, изрядно пьяный парень в джинсовой куртке и с бутылкой пива в руке – тот самый, которого они видели в воскресенье на лесной поляне. Пришел выяснять отношения или что-то забирать. Молот его не пустил. – Ты что за хрен с горы? – спрашивал парень. – Ты чего здесь нарисовался? Молот не знал, как ответить на этот вопрос, а потому хранил молчание. – Ты в наши дела не лезь, слышь, – говорил парень. – Ты отвали давай с дороги. Молот не отвалил. – Ты не местный, штоль? – Не местный. – Откуда приехал? – Издалека. – Зовут тя как, друг? – Молот. – Чо? – Молот. Инструмент такой. – Епт… как зовут тя, спрашиваю? Насрать на инструменты! В наглых голубых глазах было видно многое. Отцовскую «девятку» с тонированными стеклами, крохотную квартирку неподалеку, мечты о футболе, похороненные ленью и никчемным образом жизни. И еще скользкую, холодную ненависть к Тане – за то, что посмела избавиться от него. Молот сказал: – Херак. Бутылка в руке лопнула. Пиво пролилось на асфальт, брызнуло обоим на ботинки. Через секунду парень завизжал. Глядя на свою иссеченную ладонь, он вопил от боли, словно ему отсекли конечность по локоть, а не порезали битым стеклом. Молоту пришлось отвесить слабаку пощечину, чтобы тот заткнулся. – Заживет, – сказал Молот. – Пшел вон. Парень убежал и больше не появлялся. Под утро позвонил Лицедей, сообщил, что опасность миновала, а Серп ждет его возле парка через пару часов. С тех пор Молот слонялся по городу, прислушивался к разговорам, высматривал намеки, разыскивал подсказки. Он узнал, что Мария Семеновна из дома номер двенадцать по улице Лесной полтора года назад зарезала своего пьяного мужа, но благополучно свалила все на соседа, с которым тот выпивал. Узнал, каким именно образом Серега Макаров, студент второго курса техникума, собирается писать шпоры к предстоящему экзамену. Узнал, где и в каких количествах выращивает травку Николай Г., двадцати пяти лет, неработающий. И еще много-много подобного, а вот насчет их дела – ничего. Молот встал под крышу остановки возле парка, принялся разглядывать объявления, покрывающие рифленые стены почти сплошным ковром. «КУПЛЮ-ПРОДАМ-СНИМУ-СДАМ», «УШЕЛ-ИЗ-ДОМА-И-НЕ-ВЕРНУЛСЯ», «ПРОПАЛ-КОТ-НАШЛАСЬ-СОБАКА», «ПОДЕРЖАННЫЙ-В-ОТЛИЧНОМ-СОСТОЯНИИ». Все, как обычно. Ничего нового. В каждом городе (а он повидал их много) объявления всегда одинаковы. Одни и те же названия улиц, одни и те же марки машин, одни и те же породы животных. Даже пропавшие люди похожи друг на друга. Чем-то неуловимым. – Доброе, – пробормотал сзади подошедший Серп – Доброе, – согласился Молот. – Я слышал, ты ночью слегка перегнул палку? – Не удержался. Но ничего страшного. Будет рассказывать, как их было трое на него одного, и все с ножами. – Наверняка. Пошли взглянешь. Серп повел соратника прочь от дороги, мимо универмага и большого продуктового, к входу в парк. По пути рассказывал: – Наткнулся случайно. Просто шел, осматривался, как говорится, примус починял. И вдруг, вот на этом самом месте – учуял. В смысле не носом, а… – Чем? Неужели? – Иди ты. Просто мелькнула картинка перед глазами, а затем – будто воспоминания. Только старые уже, наполовину стертые. Не мои. Было с тобой такое когда-нибудь? – Нет, – вздохнул Молот. – Господь миловал. – Вот и со мной в первый раз. Нахлынуло, отпустило почти сразу. Я завертелся, думаю, в какую сторону идти. Старшой предупреждал ведь о подобном: рядом с тем местом, где недавно они себя проявили, могут появляться видения. Ну, сюда сунулся, туда сунулся, а вот тут, на тропинке, которая к воротам парка ведет, меня приложило. Тревожно стало очень, аж в левом боку закололо. И чем ближе к воротам, тем хуже. Давай за мной. Они вошли в парк, бесцветный, пустой, миновали несколько скамеек и переполненных урн, потом свернули, оказавшись на детской площадке. – Тут, – уверенно заявил Серп. – Тут они убили его. – Кого? – Не чувствуешь? Неужели не чувствуешь? – Нет. – Господи, я ведь даже не знаю, как объяснить. Короче… Здесь, вот прямо где ты сейчас стоишь, Чертовы пальцы сожрали мальчишку. Молот сделал пару шагов в сторону: – Какого мальчишку? – Лешу Симагина. Двенадцати лет. – Откуда такие подробности? – Вон там, – сказал Серп, махнув рукой за спину, – находится школа. Номер три. В вестибюле висит объявление о том, что Леша Симагин ушел из дома и не вернулся. Молот присел на корточки, коснулся пальцами ярко-желтых листьев, покрывавших землю сплошным ковром. Холодная, сырая, мягкая масса. Вокруг скамейки и фонари. Качели. Старая, проржавевшая, но еще работающая карусель. Ничего. Ни единого намека на произошедшее, ни малейшего следа. А ведь ужаса, свидетелями которого стали скамейки и качели, должно с избытком хватить на целый пионерский отряд. С людьми получается, с людьми просто, а с предметами – никак. Видимо, он все-таки не годится для этой работы. Тяжело вздохнув, Молот поднялся, помотал головой. – Ты мне веришь? – спросил Серп. – Да. Почему я не должен тебе верить? – Хорошо. Мальчишку они напугали до смерти, а потом утащили тело. – Они были одни? – В смысле? – Без хозяина? – Судя по всему, без. Его присутствия я не почувствовал. – Он выпускает их гулять самих по себе, – пробормотал Молот. – Как же далеко все зашло! – Чертовски верно, – согласился Серп. – Дело дрянь. Дальше будет только хуже. Они становятся все сильнее. Однажды, уже совсем скоро, им удастся освободиться от власти хозяина. А тогда абзац. – Абзац, – согласился Молот. – Тогда нам с ними не справиться. Даже не выследить. Он ковырнул носком ковер из палой листвы, открыл рот, чтобы выругаться, но… – Погоди-ка. – Что такое? Молот нагнулся, поднял с земли темный предмет, освобожденный из-под листьев его ботинком. – Мобильник? – зачем-то спросил Серп. – Ну, – кивнул Молот. – Наверно, нашего мальчишки. – Чей же еще! – Можешь взглянуть? Серп повертел телефон в пальцах, недобро прищурился: – Вся грязная работа мне, да? – Извини. Я с предметами не особенно в этом смысле контачу. Мог бы попытаться, но, боюсь, толку не будет. – Ладно. Давай попробуем. Серп отошел с тропинки, присел на одну из более-менее чистых скамеек. С минуту подержал сотовый на ладони, внимательно разглядывая его, потом мягко коснулся пальцами корпуса. – Телефончик-то недешевый. – Детям все самое лучшее. – М-да. Серп накрыл мобильник второй ладонью, зажмурился. Почти сразу нахмурился, глаза забегали под веками. – Черт, – пробормотал он. – Жестко. Молот огляделся. В парке было пусто, только вдалеке на одной из дорожек неспешно прогуливалась молодая мамаша с ярко-оранжевой коляской. – Что? – шепотом спросил он. Серп открыл глаза, снова стал пристально рассматривать сотовый. Потом надавил на одну из клавиш, экран с готовностью ожил. Серп принялся рыться в содержимом, открывая папку за папкой, с особой тщательностью изучил раздел «Аудио». – Ничего, – в конце концов сказал он и протянул мобильник Молоту. – Придержи у себя пока. Может, пригодится. – Хоть какая-нибудь информация? – Это не телефон Симагина. Он украл его. Пацан был очень крепким орешком, им пришлось влезать в его голову с помощью музыки. Еще они подключили воспоминания, обратили их против жертвы, обеспечили полную неспособность сопротивляться. Как паук, который муху сначала обездвижит, отравит, а только потом выпивает уже разложившуюся. Охренительно тонкая и сложная работа. Мастерски выполнена. – Мы и так знали, что это крутые ребята. – Ну не настолько же. – Ладно, – Молот положил телефон в карман плаща. – Куда теперь? – Понятия не имею. Надо бы чуть передохнуть, отдышаться. Где-нибудь… не здесь. Не попадались тебе кафешки или пивные тут неподалеку? – Попадались. – Отлично. Веди.12
Таня давно ничего не рисовала. Она возвращалась в свою квартирку измотанной и раздраженной, ужинала, звонила матери, которая, благодарение всем богам, уже семь лет жила в соседнем городке вместе со своей сестрой, а затем просто валилась в кресло, включала компьютер и тонула в трясине Интернета до тех пор, пока глаза не начинали закрываться. Последний раз она подходила к мольберту пару недель назад, постояла рядом с полчаса, глядя на чистую, гладкую поверхность холста, потом вздохнула и спустилась в магазин купить себе кетчупа. Не было ни мыслей, ни идей, ни образов. Когда ты с восьми утра до обеда возишься с кучей детей, пытаясь перекричать их, а после обеда до вечера делаешь то же самое, только в индивидуальном порядке, катаясь по городу от одного репетируемого к другому, твое сознание блекнет. Ты растворяешься в пестром гомоне школьных коридоров, в мельтешении деревьев и фонарных столбов по обеим сторонам дороги, в желтом казенном линолеуме под ногами, в тысячах и тысячах слов, которые не нужны ни тебе, ни собеседникам. Теперь вдруг появился образ. Четкий, яркий, многообещающий. Пропавший Леша Симагин в пустом школьном коридоре. Слева – двери, справа – окна, за которыми наливается густой синевой вечер. Тускло светят лампы, тишина звенит призрачными голосами, смехом, раздававшимися здесь утром. Школа замирает, застывает, погружается в сон, и кто знает, может быть, этот не по годам высокий мальчишка, вжимающий голову в плечи, – ее сновидение? Ее теперь уже бывший молодой человек незадолго до расставания подарил Тане блокнот для рисования, но с тех пор она так ни разу им и не воспользовалась. Берегла для чего-то. А вчера вечером достала блокнот из ящика стола, заточила пару карандашей, сварила себе кофе и принялась за работу. Симагин, как в жизни, оказался своенравным, капризным, придурковатым малым, никак не хотел показываться на листе в своем истинном обличье. Таня рисовала, стирала, рисовала вновь, и шуршание карандаша по бумаге впервые за долгое время успокаивало ее, скрывало за темной драпировкой горечь бессмысленных будней. Наполнялась смятыми листами корзина для бумаг, поскрипывала точилка для карандашей, и отражение Тани в черноте оконного стекла оставалось практически неподвижным до самого утра. Она поднялась из-за стола всего за пару часов до того, как должен был прозвенеть будильник, провозглашающий начало очередного рабочего дня. Блокнот Таня взяла с собой в школу и хваталась за карандаш в любую свободную минуту, на переменах или во время уроков. Она сделала уже одиннадцать набросков, но ни одним из них не осталась довольна. Работа продолжалась. Сейчас ей предстояло провести урок во втором «А», замещая одного из учителей начальных классов. Когда Таня вошла, дети разом замолкли, встали, словно солдаты, вытянувшись по струнке. Ни один не замешкался, ни один не улыбнулся. На каждом лице – серьезное выражение, готовность к любой работе, любому наказанию. Хорошо выдрессированы, подумала Таня. А вслух сказала: – Здравствуйте! Садитесь. Они опустились на стулья практически бесшумно. Не было ни сопения, ни шороха, ни грохота, как в других классах. Таня знала, что по расписанию у них сейчас должно быть чтение. Слушать, как эти зубрилки один за другим бубнят заданный на дом отрывок текста про зайцев или осенний лес, не хотелось. – Так, – спросила она для проформы, – что у вас за урок? – Чтение! – ответили все хором, почти в унисон. – Отлично! Вот сейчас мы с вами и почитаем… Значит, открывайте учебник на странице… та-а-ак… так… э… м… вот, на тридцать второй. Ни один из детей не пошевелился, кроме высокой для своего возраста девочки, сидевшей за первой партой, прямо перед учительским столом. Ее правая рука резко поднялась вверх. – Да? – Светлана Петровна задала нам на сегодня упражнения семь и восемь на странице номер двадцать девять. – Светлана Петровна? – Таня задумалась над тем, куда бы стоило отправить Светлану Петровну, но справилась с собой. – Светлана Петровна задала, вот пусть она, когда вернется, у вас эти упражнения и спросит. А я вам говорю, откройте учебники на странице… – Но… – Никаких «но»! Сегодня я ваш учитель, меня надо слушаться. Еще раз попробуешь со мной спорить, отправишься за дверь! Понятно? Девочка упрямо набычилась, но все-таки кивнула. Дети открыли учебники и углубились в чтение. Таня, вполне довольная собой, достала из сумочки блокнот. Ближайшие тридцать минут можно было без зазрения совести посвятить рисованию. Всплыла вдруг мысль о стремительно приближающемся окончании четверти, а за ней, следующим звеном в подводной цепи, – о незаполненных журналах, и радужное настроение немного посерело. Неспешно ползла длинная стрелка по весело раскрашенному циферблату настенных часов. За окном висел желто-коричневый пейзаж, в котором за последние дни ощутимо прибавилось коричневого. Карандаш шуршал по бумаге, скупыми, короткими штрихами очерчивая фигуру мальчика. Почему-то сразу стало понятно – сейчас получится, это он, тот самый рисунок, к которому все шло, к которому стремилась она сквозь прошлый вечер, сквозь неудачные наброски и мучительный творческий зуд. Завозился вдруг мобильник в кармане. Звонила бывшая одноклассница, подруга детства. Последний раз они виделись около полугода назад на свадьбе общего знакомого. Таня встала, сказала грозно: – Я сейчас, не шуметь! – и, выйдя в коридор, приложила трубку к уху. – Да. – Танюш, здравствуй! – Привет. – Как жизнь? – Да ничего. Работа, все такое. Сама-то как? – Точно так же. Слушай, мне тут пришла в голову мысль, что нам надо собираться чаще. Согласна? – Согласна, конечно. – А для этого совсем необязательно нужен повод, так? – Именно так. – Ну и хорошо. Что ты думаешь насчет сегодняшнего вечера? – Сегодня? – Именно сегодня. Выходные – это банально, отдушина для слабаков. Соберем девчонок всех, посидим где-нибудь, выпьем немного, поболтаем. А то так давно уже вас, оторв, не видела. Таня улыбнулась: – Отличная мысль. На меня можешь рассчитывать, все равно никаких планов на вечер не было. Тут она немного покривила душой. Планы у нее, конечно, были. Весь остаток дня она собиралась потратить на две вещи: сон и рисование. Но встреча со старыми подругами выглядела ничуть не хуже – пусть даже они явно затеяли все это ради того, чтобы поддержать ее в трудную, как им казалось, минуту. Если хочешь отвлечься от школьной суеты, полностью забыть о детях, уроках, оценках – напейся в компании. Продолжая улыбаться, Таня сунула телефон в карман и вернулась в класс. До конца урока оставалось семь минут, дети уже начали нервничать, не успевая справиться с заданием. Не хватало еще собирать у них рабочие тетради и проверять всю ту чушь, которую они там понаписали. Нет, уж лучше сыграть в неожиданно добрую тетю, простить им задолженность. Она опустилась на стул в гораздо лучшем настроении, чем вставала с него полторы минуты назад. Даже пейзаж за окном уже не выглядел так уныло. Но стоило взглянуть на раскрытый блокнот, как все мысли о предстоящих посиделках с подругами рассыпались бесцветным пеплом. Ее рисунок был испорчен. Кто-то успел изобразить вокруг мальчика, стоявшего спиной к зрителю, пять темных, неясных фигур. Размытые силуэты, без лиц или конечностей, нависали над Лешей Симагиным – это ведь был он, сбежавший, – чуть сгибаясь, будто пальцы огромной руки, на ладони которой стоял мальчик. В них скользило предчувствие угрозы, и смотреть на рисунок оказалось отчего-то неприятно. Талантливый, однако, паршивец попался. Сморщившись от отвращения, Таня захлопнула блокнот. – Так, – она повысила голос, и потому поднявшиеся на нее глаза были полны тревоги. – Кто это нарисовал? Молчание. Вот тебе и преступление в закрытой комнате. Могли ли эти мелкие паршивцы отомстить ей за резкость? Могли. Запросто. У детских коллективов волчьи законы – ты их против шерсти погладил, они цапнули за руку. За хозяина ведь не считают еще. Держим себя в руках. Держим. Не хватало сорваться во втором классе. Доказать все равно ничего не получится, надежда только на чей-нибудь болтливый язык. Но до самого звонка никто из детей так и не проговорился. На перемене, вернувшись в учительскую, Таня снова открыла блокнот, несколько мгновений рассматривала последний рисунок, потом вырвала этот лист и отправила его в шредер. Деловитое жужжание, с которым машина сожрала уродливую пятерню, смыкавшуюся вокруг мальчика, немного успокоило. Когда подошел к концу пятый урок, Таня отнесла ключ от кабинета на вахту и отправилась в гардероб, стараясь по возможности избежать встречи с кем-либо из начальства. Этоей удалось. Одевшись, она достала мобильник из кармана джинсов, чтобы переложить его в куртку. «Одно непрочитанное сообщение», – гласила надпись на дисплее телефона. Таня нажала «Просмотреть». Сообщение оказалось совсем коротким: «РИСУНОК БЫЛ НЕПЛОХ». Холодный пот выступил у Тани на лбу. Она судорожно сглотнула. Внезапно предстоящие посиделки, подруги, приятная беседа – все это показалось неимоверно далеким, незначительным. Она посмотрела на номер отправителя. Незнакомый. Таня вышла на улицу, задумчиво покручивая мобильник в пальцах. Судя по сгустившимся тучам, вот-вот должен был начаться дождь. В конце концов любопытство возобладало над боязнью выставить себя на посмешище, и она, вновь открыв зловещее сообщение, нажала на кнопку «Перезвонить». Пара длинных гудков, потом щелчок. Тишина. Таня задержала дыхание. Сердце бешено билось в груди. Еле слышное потрескивание, будто бы тот, кто взял трубку, сидел у костра. – Алло, – сказала Таня. – Алло, вы меня слышите? Еще мгновение тишины, и вдруг раздался спокойный, искаженный, но явно детский голос: – Вывернуть наизнанку? – Что? – Вывернуть тебя наизнанку. Да. Наизнанку. Очень хорошо, садись, пять. – Погоди, – сказала Таня. – Прекрати это! Не смешно! – Наизнанку, рисунки наизнанку, – голос продолжал выговаривать слова ровно, отчетливо, почти механически, только темп постепенно увеличивался. – Вывернуть. Вывернуть. Очень плохо, очень! Дааавай дневник, сука! – Слушай, ты! – Таня сорвалась на крик. – Урод! Завязывай! – А ты выверни наизнанку. Выверни, хорошо? Мать свою выверни наизнанку. Она, шепотом матерясь, разорвала связь. С неба посыпались мелкие холодные капли. Подняв повыше воротник и застегнув куртку до самого горла, Таня пошла к остановке. По лужам и грязи, не глядя под ноги.13
Вадим Королев изо всех сил старался не заснуть. В соседней комнате похрапывал отец, громко тикали старые настенные часы в коридоре. Изредка по улице проезжал, дребезжа, грузовик, и тогда стены заливал белый свет фар, расчерченный четкими черными тенями оконной рамы. Он все спланировал и подготовил. Но никак не мог решиться. Если сейчас все-таки собраться с духом и сделать, что задумано, то жизнь уже никогда не будет прежней. Приближающееся утро не принесет с собой обычного пробуждения, завтрака, занятий, прогулок с собакой. После обеда он не отправится к друзьям, не засядет с ними на весь вечер в компьютерном клубе. И осенние каникулы для него не наступят. Потому что, если все пройдет по плану, то уже к завтрашнему полудню Вадика Королева начнет разыскивать огромное количество людей, а он будет прятаться от них, путать следы, отсиживаться в укромном месте. Сам по себе. Сам за себя. Один против целого мира. Да разве уже сейчас не то же самое? Разве сейчас он не одинок?! Ничего не изменится, кроме того, что завтра он будет свободен. Если бы нашлась возможность как-то избежать побега, обойтись без него, Вадик бы, разумеется, использовал ее, остался дома и поплыл бы по течению в старом, заранее известном русле. Но сегодня на уроке литературы последняя соломинка сломала спину верблюда. Так высказалась учительница, с торжествующим видом сообщая ему, что не собирается аттестовывать его за первую четверть. Принципиально. Глаза ее победно сверкали, будто она в тяжелой схватке одолела свирепого льва, а не втоптала в грязь тринадцатилетнего мальчишку, которому не давалась поэзия Лермонтова. Такая неприятность с Вадиком приключилась впервые, раньше даже по самым нелюбимым и непонятным предметам, вроде английского, ему удавалось сводить концы с концами и вытягивать хотя бы на тройку. Теперь из середнячков он перешел в нижний разряд учеников, всех представителей которого в параллели можно было пересчитать по пальцам. Он стал двоечником. Вадик отреагировал на заявление литераторши на удивление спокойно: не просил, не пытался разжалобить, просто кивнул и уставился в окно. Учительнице этого показалось мало. – Что молчишь, Королев? – ядовито спросила она. – Тебя все устраивает? Он повернулся к ней, чувствуя, как закипает в груди гнев. Ну, не аттестуешь за четверть, ну, смешала с дерьмом, ну, доказала, что ты сильнее, – отвяжись, оставь человека в покое, не надо над ним издеваться. – Да, – ответил Вадик. – Меня все устраивает, шмара. Последнее слово получилось чуть громче, чем нужно. – Что? – заорала она, брызгая слюной. – Что?! Пошел вон отсюда! – Ну и пойду! – Вадик встал из-за парты, схватил сумку, направился к двери. – Срать я хотел на тебя! – Я докладную на тебя напишу! – верещала литераторша. Глаза ее выпучились так, что, казалось, вот-вот должны были выпасть на пол. – Как ты смеешь, мерзавец! Завтра с родителями в школу, или вообще можешь ко мне на уроки не приходить до конца года! Вон! – С удовольствием, – пробормотал мальчик и, оказавшись в коридоре, с грохотом захлопнул за собой дверь. Как после такого можно откладывать побег? Обстоятельства все решили за него. Если он не сделает этого сейчас, то не сделает никогда. Ничего сложного, главное – начать. Раз, два, три… Вадик встал, осторожно вытащил из-под кровати старый отцовский рюкзак, предусмотрительно наполненный всем необходимым. Внутри были: вязаный свитер, резиновые сапоги, книги – «Властелин Колец: Возвращение короля» и «Одиссея капитана Блада», – батон, несколько яблок, шоколадка, пачка печенья, две банки тушенки, двухлитровая бутылка газировки, складной ножик, аккуратно упакованные в целлофановый пакетик деньги (все его небольшие сбережения), несколько пар носков и комплект сменного белья. От возбуждения Вадика трясло. Еще никогда в жизни он не делал ничего столь важного, серьезного и страшного. Дрожащими руками он застегнул пуговицы на рубашке, натянул джинсы и толстовку. Потом, ступая как можно тише, вышел в прихожую. Главное – не наткнуться в темноте на журнальный столик. Грохот упавшей на пол вазы был бы сейчас совсем некстати. Продвигаясь сквозь мрак на ощупь, Вадик добрался до дверей. Глаза его уже начали немного различать предметы, поэтому он без особого труда отыскал свои ботинки и куртку. Почти все, осталось только самое трудное. Вадик прислушался – ничего не изменилось в безмятежном безмолвии спящей квартиры, все так же равномерно тикали часы да храпел отец. Он вдруг представил, как мать встает с кровати и бесшумно крадется по коридору, чтобы застукать его. Жесткие волосы собраны на затылке в неопрятный пучок, на плечи накинут старый халат. На лице – хитрая злобная усмешка. Она подойдет сзади, схватит сына за воротник: – Куда это ты собрался, паршивец?! Вадик вздрогнул, будто бы в действительности услышал этот голос. Обернулся. Позади никого и ничего, кроме по-прежнему погруженной во тьму квартиры. Лишь бы не услышали. Он начал поворачивать ручку замка. Она была круглой, с выступом посередине. Обычная такая ручка. Нужно сделать всего два оборота, открыть дверь и выйти на лестничную площадку. Очень просто. Первый щелчок получился оглушительным, будто взрыв бомбы. Наверняка его было слышно на другом конце города. Вадик замер. Казалось, грохот все еще висит в воздухе, звучит, отражаясь от стен и потолка. Но это просто звенела вокруг тишина, густая, тяжелая, враждебная. Задержав дыхание и стиснув зубы, Вадик повернул ручку снова. На этот раз щелчок показался чуть тише. На другом конце города его, конечно, не слышали, но всю улицу он точно должен был переполошить. Однако храп отца в спальне не прервался ни на секунду. Медленно выдохнув, Вадик потянул ручку двери на себя. Приглушенно скрипнули петли, ударил в глаза ослепительно-желтый свет. В любое другое время эта лампочка под потолком показалась бы ему тусклой, но только не сейчас. Прищурившись, мальчик вышел на лестничную площадку, как можно осторожней закрыл за собой дверь. Замок защелкнулся, и Вадик некоторое время постоял, прижавшись к двери ухом. Ничего. Ни звука. Стерев со лба пот, он зашагал вниз по лестнице. Только через два пролета понял, что забыл о самом главном. Из кармана джинсов он достал сложенную вчетверо записку, развернул, прочитал слова, написанные его неаккуратным, крупным почерком: «МАМА И ПАПА, Я УХОЖУ. НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ, ТАК ВСЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ». Вроде бы все правильно, без ошибок. Интересно, будет ли записка прилагаться к делу о его исчезновении? Будет, наверное. Так странно: сейчас она зажата в его пальцах, которые еще совсем недавно выводили в ней букву за буквой обгрызенной шариковой ручкой. А через пару дней эта бумажка попадет на стол следователя, потом окажется прикрепленной к другим документам в папке с названием вроде «КОРОЛЕВ В. Г. – ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Вещи проживают свои собственные жизни и блуждают по своим собственным судьбам. Возвращаться наверх, в квартиру, было бесполезно – Вадик не взял ключи. Так что оставался только один выход. Мальчик спустился на лестничную площадку первого этажа, где на стенах ровными рядами висели почтовые ящики. Отыскав нужный, опустил туда записку. Вадик вышел из подъезда, оглянулся на свои окна. Черные, пустые, спящие. Если присмотреться, то можно различить белые тюлевые занавески, которые мать уже несколько лет собиралась заменить. За ними не было никаких признаков движения или тревоги. Темнота и тишина. То, что надо. Вадик развернулся, зашагал по направлению к парку. Последние пару дней план побега, безрассудный, необычный, складывался в его голове подобно сложному пазлу – из мелких составных частей. Каждый кусочек тщательно проверялся, обдумывался, рассматривался со всех сторон. Если по каким-либо причинам кусочек не подходил, он безжалостно отбрасывался и начинался поиск альтернативных решений. Одним из самых слабых звеньев в плане Вадик считал использование общественного транспорта, тем более междугороднего. Сколько он ни слышал рассказов о побегах из дома, во всех них беглецов ловили в первую очередь потому, что быстро выяснялось, на чем и куда те отправились. А потому вполне логичным было отказаться от электричек и междугородних автобусов – по крайней мере, на первых порах. Вадик прочитал и посмотрел достаточное количество детективов, чтобы знать: самое надежное убежище всегда находится под носом у врагов, там, где они станут искать в последнюю очередь. Была бы сейчас не последняя неделя сентября, а конец лета, он бы, не задумываясь, выбрался на крышу своей многоэтажки и ночевал бы там под открытым небом. Но холод с дождями исключали такую возможность. Поэтому школа оставалась идеальным вариантом. Среди всей этой путаницы коридоров и кабинетов прятались укромные места, теплые, надежные, в которые никто точно не заглянет в ближайшие пару недель. Например, склад при вожатской. Небольшая комнатушка без окон, доверху наполненная старыми пионерскими барабанами, рулонами древних стенгазет, останками пришедших в негодность маскарадных костюмов и прочим хламом. Последний раз ее открывали в конце прошлого учебного года в поисках чего-нибудь, похожего на корону Нептуна. Разумеется, не нашли, поэтому Нептун в тот раз обошелся без головного убора. Ключ от склада Вадик добыл без труда – просто снял его с гвоздя в закутке техничек на первом этаже, где тот висел в окружении десятков своих собратьев. Вряд ли кто-то обратил внимание на пропажу именно этого ключа, тем более что технички сами никогда ими не пользовались. А теперь беглец собирался забраться на склад, запереться там и просидеть несколько суток тише воды, ниже травы, по крайней мере, до тех пор, пока суматоха поисков немного не уляжется. Вадик хорошо помнил, как год назад убежал один семиклассник. В первый день вся школа стояла на ушах: учителя и завучи расспрашивали учеников, по коридорам сновали милиционеры, все были на нервах, бледнели, краснели, срывались на крик. На следующее утро страсти немного улеглись, нервы успокоились, а когда в конце недели беднягу сняли с поезда где-то под Новосибирском или Омском, никто уже не обратил на это особого внимания. Сняли и сняли, ничего необычного. То же самое произойдет и в его случае. Сперва, конечно, побесятся, а потом и думать забудут: побег Королева из маленькой катастрофы превратится в рутину, всем будет уже не до него. К этому времени милиция опросит всех, кто мог видеть его этой ночью в электричках или автобусах, и, не напав на след, начнет искать в других местах. Вот тут настанет его черед. Придется ночью пешком дойти до следующей железнодорожной станции, сесть там на первый утренний поезд, чтобы точно не вызвать ничьих подозрений, но уж на железной дороге он с пути не собьется. Самыми тяжелыми представлялись именно ближайшие дни. Двое, а лучше – трое суток в тесной коробке, забитой мусором. У нее был лишь один существенный плюс – отсутствие окон. Никто не увидит с улицы свет, а значит, он сможет читать по ночам, не беспокоясь о том, что выдаст себя. Съестного должно хватить, только если не особенно шиковать, да с туалетом тоже придется тяжело. Честно говоря, в этом последнем вопросе Вадик возлагал немалые надежды на двухлитровую бутыль с газировкой – рано или поздно, когда она опустеет, ее можно будет полноценно использовать в других целях. Противоположных. Парк приближался. Вокруг не было ни души, на пустынных асфальтовых дорожках блестели в свете редких фонарей мутные зеркала луж, нависали со всех сторон черные громады домов, расцвеченные кое-где желтыми квадратами еще не спящих окон. У ворот парка, рядом с маленьким круглосуточным ларьком, столпилась компания молодых парней. Они громко смеялись и разговаривали. Нельзя, чтобы его заметили здесь. Ни в коем случае. Вадик нырнул в кусты и благополучно добрался до ворот под их прикрытием. Парк встретил его почти непроглядной тьмой и сырым, затхлым холодом. Пару лет назад, когда они только переехали, Вадика, сильно переживавшего из-за расставания со старыми друзьями, утешало лишь то, что ходить в новую школу придется здесь – он очень любил деревья, с удовольствием предвкушал ежедневные прогулки по заросшим тропинкам, листопад и зимнюю серебряную красоту. Но сейчас парк выглядел совсем иначе. Темнота оставляла слишком много простора для страха. Вадик остервенело вышагивал по асфальтированной тропинке, стараясь не смотреть по сторонам и не оглядываться. Ноги то и дело попадали в лужи, ботинки промокли, а пальцы начали мерзнуть. Оставалось надеяться, что в старой вожатской удастся просушить обувь на батарее. Смешнее всего будет, если после такой прогулки он простудится и заболеет, свалившись в своем убежище с высокой температурой. Бесславный, позорный конец всего предприятия. Впереди, под стоящим на углу фонарем, появился человек в коротком пальто. Он неспешно шел навстречу, сунув руки в карманы и опустив глаза. Первым желанием Вадика было рвануть прочь с тропинки, но он сумел удержаться. Не хватало еще обращать на себя внимание таким нелепым образом. Иди, как ни в чем не бывало. Этот мужик пьяный, скорее всего. Втянув голову в плечи, Вадик разминулся с прохожим. Он вздохнул с облегчением, но тут сзади раздалось: – Эй, мальчик! Вадик обернулся. В этот самый момент мужчина сказал еще что-то: странное, непонятное слово, а может, и не слово вовсе, может, все дело было в голосе, удивительно низком, хриплом, гортанном. Ноги подкосились, тело обмякло, Вадик, не успевший ничего понять, не успевший даже толком испугаться, начал валиться на асфальт. Сильные ладони подхватили его, заломили руки за спину, потащили куда-то. Он пытался сопротивляться, но с трудом мог пошевелить даже языком. Сейчас я умру, подумал Вадик, я уже умираю, я уже умер. Умер.14
Таня поднималась по лестнице в каком-то подъезде, как две капли воды похожем на любой другой подъезд: пыльные лампы, погнутые, ржавые перила, истертые ступени, стены, покрытые унылой казенной краской, повсюду расцвеченные выразительными рисунками и надписями. Она попыталась прочитать одну из них, но буквы не желали складываться в осмысленные слова. Каждая отдельно от других казалась знакомой и понятной, но вместе они образовывали невнятные нелепости. Кое-где в качестве иллюстраций рядом с надписями красовались неумело нарисованные человечки с непропорционально большими головами и ушами. В руках многие из них держали портфели или коробки, из которых лилось (или сыпалось) нечто черное или темно-синее – тусклое освещение не позволяло четко определить цвет. Таня была на лестнице не одна. Кто-то еще поднимался следом за ней, но на два пролета ниже, а потому увидеть этого человека было невозможно. Слышались только шаги – медленные, шаркающие – и легкое, чуть с присвистом дыхание. Поначалу неизвестный преследователь лишь немного беспокоил Таню. Ее гораздо больше интересовали надписи вокруг, которые вроде бы означали что-то, но в то же время оказывались просто бесполезным набором знаков. Это было забавно и интригующе, хотя и напоминало о том, что все происходящее – сон. Однако вскоре шаги внизу зазвучали громче и дыхание куда-то исчезло. Оставались только шаги. Мерная, четкая поступь. Ступенька, ступенька, ступенька. Тане стало не по себе. Она понятия не имела, кто этот преследователь, да и преследователь ли он вообще, но от звука шагов вдруг появился внутри скользкий холодок, за несколько секунд расползшийся по всем мышцам и суставам. В горле пересохло. Она уже не была уверена, действительно ли это сон. В конце концов, каждый может ошибиться. На всякий случай она слегка ускорила шаг, и тут же с ужасом поняла, что тот, внизу, на один пролет ниже, тоже зашагал быстрее. Это ничуть не походило на совпадение. Ее преследовали. Паника захлестнула Таню, она рванулась вверх по лестнице, перемахивая сразу через три ступеньки, отталкиваясь руками от дрожащих, дребезжащих перил. Лестничная площадка – пролет – площадка – три двери – пролет – площадка… Она бежала долго, но в конце концов выбилась из сил, остановилась, чтобы перевести дыхание, оперлась на стену. Рядом черные (или темно-синие) кривые буквы косо провозглашали: «ЧЕРТОВЫ ПАЛЬЦЫ». – Чертовы пальцы, – прочитала вслух Таня, невольно усмехнувшись. И в ту же секунду услышала шаги. Ровные, громкие. На два пролета ниже. Кто бы там ни шел, он даже не думал отставать. Таня перегнулась через перила, посмотрела вниз. Угол обзора был слишком мал, поэтому ей удалось увидеть только рукав черного (или темно-синего) пальто, принадлежавшего, должно быть, весьма крупному мужчине, который неспешно поднимался по ступенькам. – Эй! – крикнула Таня. – Эй, вы! Что вам от меня надо?! Молчание. Рукав пальто не вздрогнул, не остановился ни на секунду. Его обладатель свернул с пролета на лестничную площадку, в это мгновенье в поле зрения попало его лицо. Оно было задрано вверх, и с него на Таню смотрели черные (или темно-синие) дыры широко распахнутых глаз и рта. Секундой позже преследователь свернул на следующий пролет и исчез из вида. – Эй! – еще раз крикнула Таня внезапно севшим голосом. Но в ответ – лишь шаги. Размеренные, равнодушные. Шаги в тишине. – Черт! – Таня вновь побежала вверх, испуганно бормоча: – Черт, черт, черт! Когда же закончится эта проклятая лестница! Сколько здесь этажей? Сколько людей живет в этом подъезде?! Людей! Нужно позвать на помощь! Таня бросилась к первой попавшейся двери, принялась молотить в нее кулаками. Дверь была большая, судя по всему, деревянная, с аккуратным глазком точно посередине. Она успел ударить несколько раз, прежде чем поняла, что бьет по бетону. Дверь была мастерски нарисована на стене. Шаги, шаги внизу. Ближе, ближе. Таня заметалась на лестничной площадке, словно не понимая, в какую сторону бежать. И только когда неизвестный в черном (или темно-синем, темносинем, темно, твою мать, синем) пальто уже вот-вот должен был появиться всего на десять ступенек ниже, она опять помчалась вверх. Она уже мало что понимала. Страх бился внутри нее, гнал пролет за пролетом мимо нарисованных дверей. Чем выше, тем меньше они походили на настоящие – вот уже вместо некоторых просто небрежно начерченные маркером большие прямоугольники с кривым кружком на месте ручки. Шаги внизу. Слышишь, слышишь? Мимо надписей и рисунков на стенах, этой наскальной живописи Нового времени. Слова. На стенах – читаемые слова: «ЧЕРТОВЫ ПАЛЬЦЫ». «ЧЕРТОВЫПАЛЬЦЫ» Еще – много раз повторяется, на каждой стене, на потолке, на полу – «ВЫВЕРНУТЬ НАИЗНАНКУ» «ВЫВЕРНУТЬ» «НАИЗНАНКУ» И вдруг. Открытая. Дверь. Обычная, настоящая открытая дверь. На очередной, неизвестно какой по счету лестничной площадке. Ни секунды не колеблясь, Таня юркнула внутрь, пробежала по узкому коридору, уставленному пыльной мебелью. А потом она поняла, что попалась – глупо, примитивно – в ловушку, и обернулась, но было уже поздно. У нее на глазах дверь захлопнулась, но перед тем, как стало абсолютно темно, она успела заметить стоящего рядом Лешу Симагина. Бледного. Мертвого. С разорванным горлом.15
В Конторе не прощают. В Конторе смотрят на все сквозь пальцы и закрывают глаза. Для людей из Конторы ни вы, ни я не имеем значения. Их интересует только бесплатный контент. Только классическая музыка. Только стиральный порошок. В глубине души каждый знает: он обречен. Однажды наступит час, когда придется встать к стенке и посмотреть в дула направленных на тебя глаз расстрельной команды. И сказать им самую важную в мире вещь. И заплакать, и простить всех вокруг. Так вот – люди из Конторы уже отплакали свое. Уже отпрощали. Квартоза. Шод согай нарр.16
Пиво там варить умели, это да. И музыка была ничего, от разговора не отвлекала – наоборот, создавала вокруг мягкую непроницаемую завесу. А что еще нужно для хорошего настроения? Вечер, подруги, на столе – полные кружки крафтового самых разных вкусов. Все на месте. В автобусе голова разболелась опять. Сунув кондуктору деньги, Таня примостилась на одном из задних сидений и, закрыв глаза, постаралась хоть на время провалиться в забытье. Но не тут-то было: каждый толчок, каждая неровность дороги отдавались в черепе новыми вспышками боли. Конечно, в глубине души она с самого начала знала, что все закончится именно этим. Хорошо еще, не укачивает. Таня вошла в класс за две минуты до звонка, написала на доске число и тему эссе «Влияние Распутина на царскую семью. Мой взгляд». Это было первое, что пришло ей на ум, – объяснять сегодня все равно бы не получилось. Девятиклассники попробовали возмущаться, но когда она в ответ равнодушно попросила у них дневники для выставления оценки, принялись за работу. Потек, потянулся рабочий день. К окончанию второго урока головная боль чуть поутихла, но все происходящее вокруг стало напоминать цветной бессмысленный мультфильм. Во время первой большой перемены Таня сидела в своем любимом кресле, а вокруг шумела учительская, распираемая разговорами о пропавшем Леше Симагине. А потом она пыталась рассказывать в шестом «В» о нашествии варваров на Рим. Но урок шел криво, рассыпался на глазах. Рыжий, покрытый веснушками Кривошеев, лучший друг сбежавшего Симагина, нагло улыбаясь ей в лицо, вовсю доставал окружающих, плюясь жеваной бумагой в спины сидящих впереди. – Татьяна Павловна, ну скажите им! – запищала очередная жертва. – Эй, корова! – крикнул девчонке Кривошеев. – Я тя щас вырублю! Это стало последней каплей. Таня с размаха ударила ладонью по столу, так что подпрыгнули лежавшие на нем книги. – Я тебя сама сейчас вырублю! – зарычала она. – Иди сюда! В наступившей тишине Кривошеев лениво поднялся со стула. – Чо я-то? – пробормотал он. – Быстро! – Таня была в бешенстве. – Сюда, гнида! Ко мне! Кривошеев нехотя подошел, опустив взгляд в пол. Таня, не вставая с места, отвесила ему гулкую затрещину. В последнее мгновенье удалось немного смягчить удар, поэтому Кривошеев, сильно покачнувшись, все же устоял на ногах. Девчонки захихикали. На задних партах кто-то коротко гоготнул. – Иди на место, щенок! – рявкнула Таня. – Только вякни у меня еще раз, башку оторву тебе к чертовой матери! Она почувствовала облегчение. Этот мелкий козел получил по заслугам. Дальше урок пошел гораздо проще, спокойней, даже головная боль почти исчезла. Ей удалось объяснить почти все, что было запланировано, а когда прозвенел звонок, каждый ученик аккуратно записал домашнее задание. Кривошеев тоже. Да, это была сила, которую они понимали. Боль доходит до всех, слова – только до некоторых. Звонок. Звонок. Звонок. Таня раз за разом открывала двери для новых партий орущих, плюющихся, дерущихся уродов. На очередной перемене, не в силах оставаться в пустом кабинете наедине с грязным окном, Таня вышла в коридор, где почти сразу встретила Федора Петровича. – О! Танюш, привет! – Здравствуйте. – Слыхала, что мой Королев учудил? – Королев? – Ну да, Вадик Королев. Крепенький такой мальчишка, светленький. Молчаливый. – Я поняла, кто это. Что с ним случилось? – Сбежал, паршивец. – Как? – Таня была настолько изумлена, что даже тяжесть в висках на несколько мгновений исчезла. – И Вадик сбежал? – Ну да, – широко улыбаясь, кивнул Федор Петрович. – Этой ночью. Родителям записку оставил и утек. Я вот до них только недавно дозвонился. – Ничего себе. – Караул, елы-палы. Сразу двое дали деру. Никогда о таком даже не слышал. Говорю же, уникальный класс. У-ни-каль-ный. – А он-то куда рванул? – Знали бы, давно уже поймали. Родители говорят, может, в Москву, к дяде подался. Ищут. Из милиции вон приехали, сейчас Дениску Лопатина допрашивают. Они вроде как друзья были. – Понятно. А я-то думаю, что это у меня Королева на уроке нет. Странно, он такой спокойный всегда был, рассудительный. С чего ему из дома убегать? Федор Петрович пожал плечами, отвел взгляд: – От счастливого детства не бегут. – Кстати, – Таня почувствовала, что краснеет, и огромным усилием воли удержала свой взгляд от сползания вниз, на носки туфель, – я вот только что напортачила в вашем классе. Не просчитала пару шагов. – Что случилось? – Дала по башке Кривошееву. Федор Петрович невесело засмеялся. – Ну, ничего страшного. Не ты первая, не ты последняя не смогла удержаться. Дело в том, что это для тебя он – единственный ученик, которого ты ударила, а для него ты – одна из множества женщин, от которых он получал по башке. Он уже забыл об этом, не переживай.17
Вадик приходил в себя постепенно. Боли не было, но сознание наполняла память о ней, о жестких ладонях, скрутивших руки за спиной, о пахнущем пластмассой и бензином салоне старой «шестерки». Несколько мгновений все это по-прежнему казалось реальным, близким, и бездонная пасть смерти, сожравшая его, не желала отпускать. Но потом он все-таки понял, что жив. Жив и даже вроде бы цел. Однако особого облегчения это не принесло. Сочился сквозь серые занавески тусклый свет, по ту их сторону невнятно шумели проезжавшие машины. Вадик лежал на продавленном диванчике в крохотной комнатке с выцветшими обоями и покрытым трещинами потолком. Здесь стоял еще небольшой стол с чистой, но тоже посеревшей от старости скатертью, на котором возвышался электрический самовар, а у дальней стены громоздился обшарпанный сервант, заставленный разнокалиберной посудой. Мальчик попробовал подняться и только тогда понял, что связан. Веревка крепко стягивала кисти рук, локти, колени и щиколотки. Все, на что он был способен в таком положении, это неуклюже извиваться, подобно огромному, толстому червяку. При мысли о червяках Вадик снова вспомнил прошлую ночь, то, что лежало под задним сиденьем «шестерки», совсем рядом с ним. Согнувшись, он свесил голову с дивана, и его тяжело, шумно вырвало. – А! – раздался рядом спокойный голос. – С добрым утром! Откашлявшись, Вадик поднял глаза. В дверях стоял невысокий, щуплый мужчина, почти уже старик, одетый в опрятный деловой костюм. Рот его кривился в усмешке, но глаза оставались холодными, а во всей угловатой, нескладной фигуре чувствовалась напряженность, словно он в любую секунду готов был броситься в драку. – Добро пожаловать, – продолжал мужчина. – У меня, честно говоря, не так уж часто бывают гости. Говорил он тихо, размеренно, почти даже ласково. Это же маньяк, понял Вадик. Похититель и убийца детей. Как в кино. Как в новостях. Ни капли не похож. Ни капли. – Отпустите меня, – попросил он, сам не зная зачем. – Нет, – отмахнулся мужчина и, отодвинув от стола небольшую табуретку, уселся на нее. – Ночью пришлось применить силу, сам понимаешь, особого выбора у меня не было. Весьма эффективно получилось, кажется. А? – Развяжите руки, пожалуйста. Очень трет. – Я даже не предполагал, что натолкнусь на тебя, знаешь? Просто мне было видение, из которого следовало, что нужно отправиться ночью в парк. Кто же знал! После такого поневоле начнешь верить в удачу, в высшие силы, а? – Веревка очень жесткая. Больно. Мужчина, прищурившись, взглянул на него, потом повернулся к окну и сказал: – Ты должен стать последним. Надеюсь. Все будет закончено, и мне наконец удастся отдохнуть. Хоть немного, но отдохнуть. Я так долго ждал. Понимаешь? Вадик отрицательно помотал головой, но похитителю, судя по всему, не было до него никакого дела. Он продолжал задумчиво смотреть в окно и еле слышно говорить: – Но нужно подождать еще чуть-чуть. Луна займет правильное положение только через пару дней. Они могут выследить меня. Они уже пришли, уже здесь. Ходят по улицам, вынюхивают, высматривают. Ищейки. Псиной воняет так, что и покойник бы учуял. Надо заняться безопасностью. Он вдруг повернулся к Вадику, спросил, чуть повысив голос: – Как там вас сейчас в школе учат, сколько человек сможет прожить без еды и без воды? – Без воды три дня, – ответил Вадик. – А без… Но похититель уже не слушал его. Бормоча «Три дня, три дня, в самый раз», он поднялся, аккуратно поставил табуретку на прежнее место, направился к двери. Уже почти закрыв ее за собой, он вдруг остановился и, обернувшись, сказал: – Да. Можешь кричать, звать на помощь, сколько душе угодно. Хоть весь изорись. Никто не услышит. Проверено. Он подмигнул и захлопнул дверь. Щелкнула щеколда. Вадик смотрел на дверь до тех пор, пока не заболели глаза. Внутри, в душе, в сердце, в голове, было абсолютно пусто – ни страха, ни отчаяния, ни тоски. Он все это уже пережил, перерос в машине, глядя на обглоданное лицо Симагина. К родителям не хотелось, и о сделанном тоже не жалелось. Все получили то, что заслужили. Только с литераторшей надо было все-таки рассчитаться иначе: подбросить ей змею в сумку или поджечь пальто. Так, чтобы она обосралась от ужаса. Чтобы орала, выпучив глаза, и махала бестолково руками. Вадик прислонился к стене, на которой висел тонкий ковер с вышитым на нем ярко-коричневым оленем. Есть и пить пока не хотелось. Мучиться осталось недолго. Он стал думать о том, чем мог бы закончиться «Властелин Колец», если бы Саурону удалось перехватить Фродо по дороге к Огненной горе. Кричать Вадик даже не пытался. К вечеру он почувствовал себя немного лучше. Уродливая, чудовищная реальность прошедшей ночи скрылась в глубинах памяти, перестала заполнять собой сознание. Боль в перетянутых запястьях и щиколотках тоже притупилась, но на ее место вскоре встала жажда. Голода Вадик почти не чувствовал, а вот пить хотелось сильно. Еще появился тусклый, но все-таки заметный страх. Вполне определенный – страх за жизнь. Через пару дней низенький, с виду такой безобидный человечек, похожий на школьного учителя, перережет ему горло. Или что он там делает со своими жертвами? Сначала насилует? Вадик готов был десять раз умереть, лишь бы не это. Двадцать раз умереть. Даже если потом его все равно убьют, в школе рано или поздно узнают, что перед смертью… Подобные вещи всегда всплывают, как бы их ни прятали. О, Господи, Господи, пожалуйста, только не так, пожалуйста. Надо было бежать. Хотя бы попытаться. Хотя бы начать пытаться. Сраная веревка. – Затек весь небось? – спросил хозяин. Вадик, который давно уже не чувствовал ни рук, ни ног, молча кивнул. – Так и есть, – пробормотал старик. – Надо бы тобой заняться. Он сел на край кровати, принялся распутывать узлы на щиколотках мальчика. – Только это, не вздумай брыкаться. Дернешься – сразу получишь по башке и будешь дальше лежать скрученный, как полено, до самого конца. Освободив ноги, маньяк стал медленно растирать их, от коленей до кончиков пальцев. Делал он это одной рукой, а второй с силой прижимал Королева к стене. Впрочем, тот и не думал сопротивляться: голени не слушались, словно кто-то вынул из них кости, а полости набил пенопластом. Может, так оно и случилось, пока он был без сознания. Потом пришла боль. Начавшись легким покалыванием, она разлилась по ногам, вцепилась в них стальными когтями. Вадик не смог сдержать стона. – Ага, – обрадовался старик. – Сработало. Значит, здесь хватит. Не спуская настороженного взгляда с лица Королева, он несколько раз согнул его ноги в коленях, потом вновь набросил петли, затянул узлы. – Ну, теперь давай руки. Разминая локти и запястья Вадика, хозяин бормотал: – Так-то оно всяко лучше будет. Еще немножко. Онемевшие пальцы, казалось, больше не являлись частью остального тела, не подчинялись приказам сознания. Сжать их в кулак не представлялось возможным. Но постепенно, под жесткими ладонями похитителя, они обрели былую чувствительность. – Ты только не дергайся, – приговаривал старик, – и все будет хорошо. Закончив с руками, он основательно связал их – даже туже, чем раньше – и, молча поднявшись, вышел из комнаты. Стемнело быстрее, чем ожидалось. Шум автомобилей за окном стих. Вадик напряженно вслушивался в каждый шорох, боясь закрыть глаза. Старый дом словно медленно ворочался во сне, убаюкивая его своим монотонным сопением, убеждая в нереальности происходящего. Наконец, когда уже стало казаться, что ночь будет длиться вечно, в коридоре скрипнули половицы, и дверь открылась. Хозяин вошел медленно, медленно отодвинул табуретку, неспешно сел. Он был немного выпивши – Вадик понял это по чрезмерной аккуратности движений и по характерному запаху. С отцом часто бывало подобное. Напрягшись, мальчик уперся спиной в стену, собрался с силами, приготовившись брыкаться, кусаться, плеваться – сражаться до последнего. – Не спишь? – спросил зачем-то хозяин. – Хорошо. Не хотел тебя будить. Успевшие привыкнуть к темноте глаза Вадика резал желтый свет, лившийся из приоткрытой двери. Вместе с ним в комнату проникал и запах: противный, приторный, резкий. – Я ведь зачем пришел, – сказал хозяин. – Потому что ты последний. Никогда раньше я не говорил с вами. Нельзя, знаю. Строжайше нельзя. Стро-жай-ше. Но ты ведь последний. Больше никого не будет. Никогда. И вот я сидел там, размышлял об этом и вдруг понял, что никогда не говорил с вами. Только с ними. А они, хоть и великолепны, не могут заменить собой бытие целиком. В мире столько всего чудесного, а у меня остался последний шанс пообщаться с одним из вас, с последним. Больше я никогда не обагрю руки в крови. Он коснулся пальцами колена Вадика, тот вздрогнул, отпрянув. – Ты боишься, – невесело усмехнулся хозяин. – И правильно. Абсолютно правильно. Есть чего бояться. Нам всем есть. Но тут уж ничего не поделаешь, сила не дается просто так, ее нужно зарабатывать, и гримуары тоже не получаются из воздуха. Ты знаешь, что такое гримуар?
– Нет. – Это такая книга. Очень могущественная книга. Вам в школе, наверно, говорят что-нибудь вроде этого про Библию. Слышал про Библию? Вадик кивнул. – Вот. Библия – просто старая умная книжка, ничего могущественного в ней нет, там просто слова. Слова, понятное дело, бывают разные, могут наполнять людей силой, но все-таки они всего лишь слова. А гримуар сам по себе способен на многое, сам по себе инструмент. Они известны с незапамятных времен. Я понятно объясняю? Тебе вообще, как, интересно? Вадик снова кивнул, хотя рассказ похитителя его, естественно, не занимал – гораздо важнее было то, что тот не пытался его насиловать или убивать. – И вот я почти дописал свой гримуар. Двенадцать лет работы. Детская кровь. Три дня, потом они вернутся. Книга будет закончена, и они смогут вернуться. Они ведь уже почти здесь – это мучает их невероятно. Все равно что ты бы прошел месяц по пустыне, страдая от жары и жажды, а потом добрался до озера в оазисе, и вдруг некая сила остановила бы тебя у самого берега. Вот она, вот она, вода, протяни руку – но не достаешь. Совсем чуть-чуть не достаешь. О, черт, они с ума сходят! После этих слов хозяин хрипло засмеялся, закашлялся и замолчал, уставившись в пол. Вадик шмыгнул носом, попросил: – Можно мне попить? Мужчина поднял голову и несколько мгновений всматривался мальчику в глаза. – Дочь у меня есть, девчонка вроде тебя, – сказал он и задумался. – Хотя нет, сейчас она уже старше должна быть. Я оставлю гримуар ей. Мне не нужны ни слава, ни сила. После того что я натворил, мне ничего не нужно. А ей могло бы пригодиться. Гримуар сделан так, что она сможет повелевать Пальцами. Понимаешь? Вадик кивнул. Хозяин нахмурился: – Врешь, щенок. Ни хрена ты не понимаешь. Ни хрена ты мне не веришь. – Верю, – запротестовал Вадик. – Верю. Можно мне, пожалуйста, попить? – Пойдем, – процедил хозяин сквозь зубы, поднялся и, схватившись за веревку, стягивающую щиколотки мальчика, потянул к себе. – Пойдем, щенок. Сейчас сам все увидишь. Сейчас поймешь, что к чему. Вадик тяжело охнул, упав с кровати на пол. Мужчина потащил его к выходу и выволок в коридор. Здесь запах – тот самый, отвратительно-приторный, – стал заметно сильнее, и, судя по всему, им предстояло добраться до его источника. Вадик прижал подбородок к груди, чтобы не биться головой о доски, но это явно было наименьшей из его проблем. – Сам увидишь, – бормотал похититель, тяжело дыша. – Погоди, паренек, во всем убедишься. Он толкнул какую-то дверь, вонь стала невыносимой. Хозяин отпустил щиколотки Вадика и даже, приподняв за плечи, прислонил его спиной к стене, но мальчик все равно не сразу смог понять, что увидел перед собой. А когда понял, не удержался от крика. В центре комнаты лежал труп. Это был взрослый мужчина, абсолютно голый. Дощатый пол под ним пропитался темной жидкостью, а на лице лежала заскорузлая тряпка, полностью закрывавшая его. Запястья и ступни мертвеца были прибиты к полу толстыми гвоздями. Вадика стошнило – вовсе не от вони, он уже не замечал ее, – от цвета убитого. Скудное содержимое желудка потекло по подбородку, закапало на грудь. Это позволило ему отвести взгляд. Шторы в комнате оказались плотно задернуты, а свет давала небольшая лампа, стоявшая на единственном предмете мебели, высоком квадратном столе. Хозяин ткнул пальцем в сторону трупа: – Этот жил здесь до меня. И после меня тоже. Парадокс, ха! Он подошел к столу, поднял с него что-то. Большую толстую тетрадь в черной, тщательно оклеенной скотчем обложке. – Вот она! – воскликнул он, потрясая тетрадью в воздухе. – Вот моя работа! Вся моя жизнь, все мои силы. Здесь. Альфа и омега, альфа и омега! Книга, написанная кровью тех, кто не успел вкусить греха, детской кровью! Хозяин резко замолчал, словно ему вдруг перестало хватать воздуха. Еще пару раз взмахнув тетрадью, он подошел вплотную к своему пленнику и зашептал, глядя на него полными слез глазами: – Ты думаешь, мне нравится? Думаешь, мне приятно? Ничего подобного. Это все время со мной, в моей голове, в моих ушах: ваши крики, ваша боль. Я проклят, понимаешь? Но кто-то должен взять на себя ответственность. – Я не… – начал Вадик и закашлялся, в горле страшно першило. – Я не невинный. – Что? – удивился хозяин. – Как? – Вам ведь нужны невинные, да? А я… занимался онанизмом. Хозяин несколько секунд молчал, а потом захохотал. Смеялся долго, бил себя ладонями по коленям, вытирал текущие по дряблым щекам слезы. Отдышавшись, он отошел к столу и сел на него. – Нет, парень, насчет этого не волнуйся. Бред и брехня, одна из многих цепей, ведущих к ошейнику на послушной овце по имени Род Людской. Сколько ты там тягаешь себя за пипиську, никому никакого дела. Он перевел дух, открыл тетрадь, полистал ее. – Я написал уникальную книгу. Люди не узнают об этом, не оценят, будут обсуждать лишь чернила. А ведь чернила здесь выбраны не просто так. Мой гримуар – не обычный сборник заклинаний, не учебник колдовства, а книга-эксперимент. Книга-ритуал, одно большое, невероятно сложное и мощное заклинание. Через три дня, когда Луна будет благосклонна, мы с тобой завершим его, поставим финальную точку. Тогда они вернутся. Те, о ком я тебе говорил. Имена для них уже не имеют значений, а сами себя они называют теперь Чертовыми пальцами, ибо их пятеро, и они едины. Словно кулак, понимаешь? Хочешь увидеть? Вадик помотал головой. Хозяин ощерился: – Жаль. Твой одноклассник видел. Его можно пожалеть, потому что он погиб зря. Им просто нужно питаться, нужны ужас и боль. Без них братья быстро приходят в неистовство, а потом слабеют, отдаляются. Вот я и отпустил их на охоту. Мне пришлось. Иначе никак. С тобой другая история. Ты отдашь свою кровь для чернил, ты завершишь собой заклинание, благодаря которому братья вновь обретут плоть и имена. У тебя есть право смотреть. Он встал над трупом и, открыв тетрадь на одной из последних страниц, начал читать вслух. Вадик не понимал ни одного слова, и казалось, что звуки, которые издавал хозяин, исходили не из его рта, а брались откуда-то извне, вездесущие, как трава, и столь же непостоянные. Лампочка под потолком начала раскачиваться, чуть помаргивая, и мертвец на полу зашевелился. В неверном, двигающемся свете лампы это выглядело почти естественно, а потому еще более зловеще. Сначала задергались пальцы, через несколько мгновений двинулась голова. Вадик стиснул зубы, чтобы не закричать. Из-под тряпки, закрывавшей лицо мертвеца, показались тоненькие струйки темной и густой крови. Тряпка зашевелилась, просела там, где должен находиться рот, будто бы для крика, а потом раздался голос – ниже и неприятнее, чем у хозяина, но говоривший на том же языке. Он спросил, а хозяин ответил, и уВадика перехватило дыхание. Что-то происходило вокруг, невидимое, жуткое. Сознание его помутилось, в глазах двоилось, он уже не мог бы сказать, почему находится здесь. Комната выросла в размерах, расширилась невероятно, превратившись в огромный черный зал, а слова, что звучали в ней, вдруг обрели смысл. – Мы слышали! – кричал мертвец, извиваясь на полу. – Мы знаем! – Потерпите еще немного! – умолял хозяин. – Все почти готово. Вам нельзя сейчас выходить. Три дня, всего три дня, и я закончу. Чернила уже готовы. Круг замкнется, вы обретете новую жизнь! Три дня, умоляю… – Нет, старик! Нет! Ты хочешь сделать нас рабами твоей дочери! – Неправда! – Мы слышали! Мы знаем! Предатель! Вадик моргнул, и на долю секунды ему померещилось, будто он видит их. Пять черных тощих согнутых фигур, стоящих полукругом в изголовье корчащегося на полу покойника. Вместо лиц – дыры, в которых клубился дым. Они наклонялись вперед, и оттого действительно становились похожи на скрюченные пальцы огромной руки, поднимавшейся к этому дому откуда-то из глубин земли. Вадик сделал вдох, видение пропало. Он еще мог понимать колдовской язык, но все вокруг вертелось, проваливаясь в темноту. – Я верен вам, – глотая слезы, бормотал хозяин. – Клянусь! – Докажи! – скрежетал мертвец. – Покажи нам свою дочь! – Не трогайте ее, – умолял хозяин. – Она здесь ни при чем! – Открой ее нам, отдай нам ее! И тогда сила, что заключена в книге, останется с тобой навсегда! – Не трогайте Таню… – Мы видим! – был ответ, и Вадик зажмурился от яркой вспышки. Веки нестерпимо болели, в висках стучал огромный железный молот. Отчаянно, обреченно вопил хозяин. Потом все стихло. Вадик осторожно, медленно открыл глаза. Лампа, поскрипывая, покачивалась под потолком, освещая застывший труп, прибитый к полу. Тряпка съехала с зеленого лица, обнажив пустые черные глазницы. Больше в комнате никого не было.
18
В газетах о них не пишут и песен о них не поют. Но они здесь, среди нас. Ходят по улицам, сидят в барах, исподлобья поглядывают на попутчиков в общественном транспорте. Они никогда не улыбаются чужим шуткам – только своим мыслям. Они никогда не будут говорить с вами о политике или футболе. Потому что если заговорить о чем-то, оно непременно станет реальностью, а кто хотел бы жить в мире, где реальны политика или футбол? В остальном ограничений для беседы нет. Если услышите стрельбу, падайте на пол. Если увидите пол – стреляйте. Дой тикс. Хвагдан умол. Зушш.19
Отзвенели последние субботние звонки, и дети хлынули галдящей толпой в залитый по-летнему теплым солнцем город. Вслед за детьми потянулись учителя – поодиночке, по двое, по трое, почти все понурые и усталые. Только физрук, как всегда, вышагивал бодро и быстро, оглядывая все вокруг с неизменной легкой улыбкой. Беспрерывно зевая, поплелась домой молодая учительница истории Таня Кирше, а через несколько минут после нее ушла директриса, которую за углом ждала новая машина. Из своих защищенных ржавыми решетками окон, выходящих прямо на школьное крыльцо, Федор Петрович видел их всех. Он злился. В классе второй раз за день перегорела лампочка. Вроде бы ерунда, но этому кабинету давно уже требовался капитальный ремонт. Не очередная покраска стен дешевой вонючей эмалью неопределенно-зеленого цвета, а основательное, полномасштабное разрушение старого и создание нового. Электропроводка, пол, потолок, столы, станки – все безнадежно обветшало и годилось только на выброс. Станки он не включал уже несколько лет, боясь проблем с электричеством, и эти огромные, покрытые пылью машины угрюмо толпились вдоль окон, словно чучела доисторических чудовищ. А сами окна! Сквозь щели в перекошенных деревянных рамах зимой безжалостно дул ледяной ветер, не обращая внимания ни на вату, ни на липкую ленту, которыми Федор Петрович пытался его остановить. Да в эти щели в некоторых местах можно было палец просунуть без труда! Поставить бы пластиковые окна, как, допустим, в кабинете директора, и наслаждаться жизнью: ни тебе холода, ни шума с улицы. Тяжело вздохнув, Федор Петрович еще раз окинул взглядом свои незавидные владения и вернулся к работе. В школе стояла полная тишина, но он не собирался уходить, пока не закончит с этим проклятым отчетом. На столе перед ним возвышалась целая гора бумаг: здесь были и проверенные тетради, и тщательно заполненная ведомость на питание учащихся, и классный журнал, в котором строчку за строчкой тесно покрывал его мелкий аккуратный почерк. Через пару дней педсовет, разбор полетов, так сказать. Пожалуй, стоит готовиться к серьезному разговору. В самом начале учебного года из одного класса пропадают сразу двое учеников. Где это видано! На Симагина, долботряса, всем давно плевать на самом деле. Покривляются для вида, конечно, пожурят, да хрен с ним. А вот насчет Вадима Королева беседовать станут жестко. С ним и с этой чертовой литераторшей. Какой год она работает в школе? Пятый? Шестой? Пора бы уже научиться общаться с детьми. Вот завтра на педсовете он так и скажет – всему виной непрофессионализм учителя-предметника, преподавателя литературы, которая допустила (а может быть, и спровоцировала) конфликт с учеником. Какого хрена он должен отвечать за ее ошибки?! Какого хрена он должен отвечать за ее оскорбленное самолюбие?! Ну уж нет. Завтра при всех нужно ей прямо заявить: «Вы, милая моя, эту кашу заварили, вы и расхлебывайте – общайтесь с милицией, контролируйте поиски, висите на телефоне…» Да, а самое главное – ждите. Постоянно ждите самого плохого. И думайте о том, как вы будете сообщать об этом родителям. Хотя, черт с ними, с родителями, им насрать на сына, лучше думайте о том, как сами потом сможете с этим жить! Так он, конечно, не скажет. Не скажет, ничего не поделаешь. Приучен делать окружающим приятное. Всегда страшно сказать правду, страшно огорчить, расстроить их. Он даже с женой развелся лет на десять позже, чем следовало, оставшись практически без шансов начать новую жизнь. Пока ждал, тянул, боялся, переживал за нее, драгоценный момент был упущен, а сейчас, когда они оба, постаревшие, бездетные, никому не нужные, влачат свои жалкие одинокие жизни порознь, развод действительно выглядит чудовищной ошибкой, почти преступлением. Все хорошо вовремя. Они уже очень долго не разговаривали. Может, позвонить ей, предложить встретиться? Федор Петрович фыркнул и взглянул на часы. Без четверти пять. Ничего удивительного, что в голову лезет всякая чушь – столько времени сидит над этими проклятыми бумагами. Хватит, пожалуй. Он аккуратно вписал в очередную клеточку значение «уровня обученности» и, почти торжественным жестом отодвинув листок от себя, встал из-за стола. К чертям собачьим эту бухгалтерию! В понедельник. У него будет полным-полно времени в понедельник, с утра до педсовета можно успеть и отчет по успеваемости закончить, и доклад о поисках беглеца подготовить. Как говорится, утро вечера мудренее. А сейчас – на улицу, пешком через стадион, как обычно, как каждый день последние двадцать лет, потом вверх по улице, в магазинчик, взять четвертинку, дома заесть ее яичницей с парой немецких сосисок, сесть перед телевизором и переключать каналы до тех пор, пока не начнет клонить в сон. А завтра стоит, наверное, заняться сараем – физический труд прекрасно отвлекает от мрачных мыслей. Федор Петрович погасил свет, запер кабинет, не спеша пошел к лестнице, ведущей на второй этаж, к учительской. Он попытался пробурчать какую-нибудь мелодию, но настроение все-таки не позволяло – слишком уж много проблем навалилось на него в последнее время. И сдалось ему это классное руководство! – Федор Петрович! – раздался вдруг за спиной знакомый детский голос. Он резко остановился и оглянулся. Никого. Какого черта?! Показалось? Пустой коридор блестел отражениями люминесцентных ламп на вытертом линолеуме. Трудовик недоуменно, тревожно хмыкнул, вернулся к лестнице. Но всего через несколько секунд вновь услышал. – Федор Петрович! – позвали его сзади. Королев? Не может быть! Да почему не может? Кто сказал, что мальчишка непременно должен был убежать куда-то далеко? Почему бы ему в самом деле не спрятаться в школе? Он повернул туда, откуда слышался голос. Там, за поворотом, располагались только склады и старая столовая, которую не использовали уже лет пятнадцать, если не больше. Что если мальчишка нашел способ туда пробраться? Отсиделся там в течение последних двух дней, а теперь у него еда с водой закончились, и ничего хорошего впереди ждать не приходится. У Королева всегда были неплохие отношения с классным руководителем, вот он и решил попросить о помощи. Все эти мысли промелькнули в голове Федора Петровича, прежде чем он завернул за угол. Дверь в старую столовую оказалась распахнута настежь. Доски, которыми она была заколочена, валялись на полу. Точно, мальчишка должен прятаться где-то внутри. Федор Петрович вошел в столовую. Обширный, прохладный зал встретил его темнотой и пылью. И того и другого здесь было навалом. Благодаря падающему из коридора свету ему удалось различить чьи-то следы в пыли на полу. Маленькие, детские. Говорят, если ребенок умирает в школе, то не попадает на тот свет, а остается где-то здесь, потому что не может самостоятельно выйти из здания. Для мертвых тут гораздо больше коридоров и помещений. Вот они и плутают. По спине пробежал холодок. Замерев на месте, Федор Петрович крикнул в темноту: – Эй! Королев, ты тут? Вадик! В ответ – ни звука. – Это я, Федор Петрович! Слышишь меня? Снова тишина. Вдруг – легкий шорох. Но не спереди, а сзади. Он обернулся. В дверном проеме кто-то стоял. Невысокий, щуплый. В первые мгновения Федор Петрович было решил, что это Вадик, но потом ужас узнавания сжал его горло тяжелыми железными пальцами, и он еле слышно заскулил, как смертельно раненная собака. Перед ним стоял Павел Иванович, учитель черчения из ПТУ, где он давным-давно пытался преподавать. Тот самый Павел Иванович, который много лет назад сбежал из психушки и бесследно исчез, тот самый Павел Иванович, которого как огня боялись все без исключения студенты и которого он сам, тогда еще почти пацан, молодой специалист, боялся до рези в животе. Ничуть не изменившийся, не постаревший, даже не поседевший. – Ну, – тихим, еле слышным голосом, полным холодной черной ненавистью, проговорил он. – Зачем так орать? Занятия идут. Федор Петрович хотел возразить, что ничего подобного, мол, занятия давно уже закончены, что ему самому пора уже домой, но язык отказывался слушаться его. А потому изо рта вырвалось только какое-то невнятное мычание. – Нечего сказать, – ядовито бросил Павел Иванович и шагнул внутрь. В этот самый момент до Федора Петровича наконец дошло, что такого просто не может быть. Происходящее никак не походило на реальность. Даже на сон. Это было нечто третье, новое, неизведанное. Павел Иванович подошел вплотную, пристально уставился на него. – Я дождусь ответа? – спросил он и криво усмехнулся. – Или ты язык проглотил? – Нет, – сдавленно прохрипел Федор Петрович. – Нет? А что молчишь? – Не знаю, что сказать. – Это твоя вечная проблема, не так ли? – Да, наверно. За его спиной во мраке что-то очень большое двигалось, будто бы разворачиваясь, заполняя собой всю столовую, весь этаж, всю школу. Что-то катастрофически огромное, издающее беспрерывный плавный шорох и резкое, едва слышное шипение. Оно было рядом, совсем близко, от его движений воздух шевелился и наполнялся терпкой, приторной вонью. В любом случае Федор Петрович не собирался поворачиваться и рассматривать это. Он собирался сделать несколько шагов к выходу из столовой, оказаться в коридоре, под рациональным, привычным люминесцентным светом, собирался со всех ног побежать прочь. Но стоило ему только дернуться в том направлении, как Павел Иванович вцепился ему в плечо и проскрипел прямо в ухо: – Я сказал, не шуметь! На таком расстоянии даже в темноте было видно, что у Павла Ивановича зубы редкие и острые, а в глазах нет зрачков, одни мутные, в темных прожилках, бельма. Слабо вскрикнув, Федор Петрович рванулся к выходу, но тонкие пальцы держали крепко. – Куда? – заверещал фальшивый Павел Иванович. – Я еще не закончил! Трудовик развернулся и с размаху ударил кулаком в это липкое ледяное лицо. Тут свет в коридоре погас, а в следующий миг холодные пальцы коснулись затылка и лба, прошли сквозь кожу, кость, оказались внутри головы – и в те доли секунды, что ему оставались, Федор Петрович увидел многое. Он понял, кем действительно был стоявший перед ним, понял, как тот связан с пропавшими детьми, с обитателями изнанки, познал темные тропы, которыми сообщаются между собой миры, смог даже узреть то, чему еще только предстояло свершиться. А потом черные воды сомкнулись над ним, и все закончилось.20
В комнате горел только ночник. Лицедей сидел на диване, тяжело откинувшись на подушки, и сейчас ему вполне можно было дать все семьдесят: обвисшая кожа, глубокие неровные морщины, жесткая седая щетина. Он внимательно смотрел на вошедших помощников, но не говорил ни слова. Тишина пропитывала воздух. Монотонно жужжал на кухне холодильник, и билась в окно скрюченная черная ветка. – В общем, – откашлявшись, начал Серп, – пропал еще один ребенок. Тоже мальчик. – Правда, он оставил своим родителям записку, – добавил Молот. – Ясно, что убежал сам. Возможно, тут не о чем… – Пацан у него, – сказал Лицедей. – Записка запиской, но слишком уж серьезное совпадение. Фазы луны. Он привязывает убийства к фазам луны, так? Помощники молчали. Этот факт, насчет луны, шеф выяснил еще в те времена, когда они ходили под стол пешком и даже не мечтали ловить сумасшедших колдунов. – Ближайшая подходящая дата – завтра, – сказал Лицедей. – Только завтра ночью он попытается убить мальчишку, не раньше. – Как насчет подкрепления? – спросил Серп. – Не помешало бы. – Уже, – сказал Лицедей. – Я позвонил Полнолунному еще утром. Он сказал, что у них не хватает людей. Отбрехался. Не поверил мне. – Рассчитывать не на кого? – А когда было иначе? – Что будем делать? – Поедем в школу. – В школу? – Да. Навестим Танюху. – Занятий сегодня нет, – сказал Молот. – Воскресенье, последний теплый день в году. Она, наверное, дома или на природе. – Нет. Она там. В школе. – Видение? – спросил Серп. – Предчувствие. – А каковы шансы на успех? – Шансы? Я ж говорю, предчувствие. Речь вообще не идет о шансах. – Понятно. Тогда нет особого смысла ждать. – Верно. Лицедей поднялся с дивана, снял со спинки стула свой плащ, внимательно осмотрел комнату, потер подбородок. – Знаете что, ребятки, – сказал он помощникам через минуту, – забирайте-ка вы все наши вещи. Пожалуй, мы больше сюда не вернемся. Уже спускаясь по лестнице, Молот тронул идущего впереди Лицедея за плечо. – Послушай, шеф… – А? – Все-таки, что там было со старухой в лесу? Ты до сих пор не рассказал. – Разве? – Да, – подхватил Серп. – Что ты видел? – Это имеет какое-то значение? – Наверное. Видения ведь просто так не случаются. – Хрен их знает, честно говоря. Может, и случаются. Может, вообще все просто так случается. Иногда тяжело ухватить логику, а это как раз такой вариант. Она показала на меня, потом на куст репейника между нами, потом на ближайшее дерево и сказала: «Именно здесь». Тут меня снова вывернуло, а когда я поднял голову, ее уже не было. – «Именно здесь»? – Именно «именно здесь». – И все? – А чего тебе не хватает? Разверзшейся земли? Огненной руки, выводящей на стене три слова? Громогласных труб и ангельских хоров? Это вчерашний день. Люди мельчают, а знамения и демоны мельчают вместе с ними. – Хорошо, если ты прав насчет демонов. Но что значит «именно здесь»? – Понятия не имею. Они вышли из подъезда в густеющую сентябрьскую темноту. Прежде чем сесть в машину, Лицедей шепотом выругался. На душе скребли кошки. Именно здесь. Именно. Здесь.21
В автобусе было пусто. Лишь на заднем сиденье дремала бабушка в окружении многочисленных корзинок. Приятное разнообразие после почти ежедневной утренней давки. Таня вольготно расположилась у окна, включила плеер. Под тягучие, мягкие аккорды автобус тронулся, мимо поплыли тротуары, фонарные столбы и голые черные деревья. За ними медленно тянулись пятиэтажки, магазины, проулки. В это воскресенье ей предстояло дежурить в школе с четырех до десяти вечера, когда приходил охранник. За это полагались кое-какие денежные бонусы, а потому Таня, не обремененная семьей, всегда с радостью соглашалась на подобные предложения. Она думала о предстоящем завтра педсовете. Праздник бессмысленных разговоров. Карнавал самозащиты. На педсоветах действовало одно-единственное правило – «пусть сегодня выговор получу не я, а кто-нибудь другой», и каждый присутствующий из кожи вон лез, чтобы это правило соблюдать. Директриса, чьи щеки на педсоветах всегда краснели сильнее обычного, начнет тоскливым голосом перечислять недостатки и промахи, имевшие место за первую половину четверти. Недостатки и промахи всегда касаются только одного – успеваемости учеников. Виноваты в этой неуспеваемости всегда, разумеется, только учителя. Ну а кого еще можно обвинить в том, что какой-нибудь восьмиклассник Петров, за два месяца побывавший всего на трех уроках математики, получил по этому предмету тройку, а не четверку, в результате чего показатели всего класса снизились, что крайне негативно сказалось на всей школьной отчетности. Таня вышла из автобуса, зашагала к школе, агрессивно прыгая через коричневые лужи. Через пару минут, поднявшись на школьное крыльцо, она уже стучала в запертую металлическую дверь. Вскоре заскрежетал ключ в замке, и Альбина Сергеевна, дежурившая с шести утра, впустила ее. – Как тут дела? – осведомилась Таня для проформы, поднимаясь вслед за ней в учительскую. – Да как, – Альбина Сергеевна пожала плечами. – Спокойно все. Около двух звонила завуч, контролировала, на месте ли я. – Ага. Несмотря на то что формально в обязанности дежурного входили регулярные обходы всех помещений, в реальности обязанность была всего одна – сидеть у телефона, дабы иметь возможность отвечать на внезапные звонки начальства. В учительской Альбина Сергеевна накинула пальто, взяла сумочку и, показав на стоящий на столе электрический чайник, сказала: – Только что вскипятила. В шкафу лежит печенье, его вчера Марина Петровна оставила. Вкусное. Минут через десять позвони директору, поставь в известность, что сменила меня. Они спустились обратно, Альбина Сергеевна попрощалась и вышла, а Таня заперла за ней дверь. Теперь она осталась в школе одна. Заступив на пост, Таня в полном соответствии с инструкцией обошла все здание. Двери классов были, как положено, распахнуты настежь, окна плотно закрыты, жалюзи (там, где они имелись) опущены. Нигде не горел свет, не текла вода, серьезных причин для беспокойства не наблюдалось. Таня со спокойной совестью вернулась в учительскую, позвонила директрисе, заверила ее, что все под контролем, переоделась в шорты и майку и, устроившись поудобнее в одном из кресел, углубилась в чтение. Однако роман, купленный пару дней назад специально для этого дежурства, вскоре наскучил: описанное в нем было мертво и банально, как вареная колбаса. Самая обычная космическая опера. Звездные флотилии поливают друг друга огнем из бортовых бластеров, межгалактические тираны взмахом руки отправляют в бой миллионы чудовищных солдат, а храбрые герои спасают прекрасных принцесс на диких планетах, где кишат рогатые монстры с множеством конечностей. Ничего нового. Помучив себя около часа, Таня отложила книгу и, обыскав столы, нашла пару чистых листов бумаги. Некоторое время она смотрел в окно, покусывая ластик на конце карандаша, а потом быстро написала на одном из листов слово «Резюме». Несколько минут изучала его, затем зачеркнула. Нет уж, никаких резюме сегодня. И завтра. По крайней мере до конца этой недели, до конца четверти, она ничего не будет предпринимать. Есть отличная возможность провести несколько дней в относительном покое, не забивая голову мыслями о настоящей или потенциальной работе. А как только начнутся занятия, она обновит свое старое резюме дизайнера-фрилансера и вывесит его на всех сайтах, до которых сможет дотянуться. Таня с усмешкой взглянула на обложку романа, лежащего на соседнем кресле. Вот уж где никакого оригинального художественного решения – небритый мужик в громоздком скафандре левой рукой прижимал к себе полуголую девицу, а в правой держал оружие, похожее на помесь гранатомета с соковыжималкой. Таня накрыла книгу бумагой, встала, взяла первую попавшуюся чашку, бросила в нее чайный пакетик и налила уже давно остывшей воды из чайника. Окна учительской выходили не на гаражи или остановку, а на жилую улицу. Короткий осенний день стремительно клонился к вечеру, а потому мир снаружи казался несерьезным и немного нереальным. Начавшая уже умирать осень была видна во всем, в каждой черной от сырости доске, в каждом штрихе пожухлой травы, в каждом мазке серого неба. Даже грязно-белый кот, кравшийся по заасфальтированной тропинке между домами, крался как-то по-осеннему, словно стараясь не попасться на глаза притаившейся неподалеку зиме. В небе медленно скользил клин из черных точек. Им там, наверху, наверное, совсем холодно. Она не могла заставить себя рисовать, не имела возможности выбраться в Интернет (модем из учительской предусмотрительно унесли), а книга навевала лишь смешанную с тошнотой скуку. Но ведь всего в трех минутах ходьбы находилась библиотека, ключ от которой висел на специальной доске рядом с расписанием. В библиотеке она бывала всего несколько раз, но успела убедиться, что выбор художественной литературы там не так уж и плох. Может, подберет себе чтиво из школьной программы. Стоило выйти из учительской, как что-то зашуршало под ногой. Таня опустила взгляд. На полу лежал сложенный пополам листок бумаги в мелкую клетку. Странно, что раньше не попался на глаза. Она нагнулась и подняла бумажку, осторожно развернула. Большие, тщательно выписанные фломастером печатные буквы. «ВЫВЕРНУТЬ НАИЗНАНКУ ВЫВЕРНУТЬ НАИЗНАНКУ ВЫВЕРНУТЬ» Таня вздрогнула. Интересно, это вообще что-то значит? Она обернулась автоматически, собираясь выбросить листок в урну, и остолбенела. В кресле, в том самом, в котором она размышляла о резюме, сидел Федор Петрович, учитель труда, одетый в свой обычный старый темно-синий костюм, и выглядевший очень усталым, даже больным. – Привет, Танюш. – Добрый вечер, – сказала Таня удивленно. – Вы-то откуда здесь? – Я давно уже здесь, со вчерашнего дня. Не удивляйся, теперь мы оба у них в плену. – У них? В плену? О чем вы? – Мир – чертовски сложная штука, огромная головоломка, – сказал Федор Петрович, задумчиво глядя на Таню. – То, что принято называть смертью, на самом деле – лишь иной способ существования. Представь себе систему координат: две оси, перпендикулярные друг другу, каждая ось делится на две половины – плюс и минус. Между ними кардинальное различие, но тем не менее объект, который из зоны «плюс» попадает в зону «минус», не перестает быть, у него просто меняется знак. То же самое происходит и с жизнью. Мы все двигаемся по оси координат, рано или поздно проходим через точку «ноль» и оказываемся на другой стороне. Мы продолжаем существовать, только иначе: на том свете, в параллельной вселенной или просто в чьем-то сознании, не важно. – Это очень интересно, – раздраженно бросила Таня, садясь за стол. – Но к чему вдруг? Вы все-таки расскажите, как сюда попали. – Как раз к этому подбираюсь, – Федор Петрович почесал нос. – На чем бишь я… ага… так вот, ты, надеюсь, прекрасно понимаешь, что система координат – всего лишь схема, макет. На самом деле все гораздо сложнее и масштабнее. Иногда возникают проблемы, происходят, так сказать, катаклизмы. Одна сторона вторгается на территорию другой, провоцируя то, что и происходит сейчас здесь. Я не знаю, потустороннее прорвалось в нашу школу, или это территория школы провалилась туда, но думаю, что в таких местах, где много детей, граница всегда тоньше. Ребенок – он ведь… – Понятно, – кивнула Таня. – Не возражаете, если я позвоню директору, скажу, что вы здесь? – Попробуй, – Федор Петрович пожал плечами. – Хорошо, если дозвонишься. Значит, мы оба спасены. Таня подняла трубку и набрала номер, написанный на бумажке рядом с телефоном. После нескольких длинных гудков трубку взяли, и женский голос сказал: – Да? – Ирина Николаевна, это Татьяна. – О, здравствуйте! Как у вас там дела? – Да вроде бы нормально. Тут у меня Федор Петрович. – Ах… нашелся, значит? – Да. Я просто… – Передайте ему, пожалуйста, что я сделаю из его старых костей люстру. – Ирина Николаевна? – У тебя, милая девочка, мы съедим пальцы, которыми ты так хорошо рисуешь. А потом вывернем тебя наизнанку. Вывернем тебя наизнанку! Таня ошеломленно бросила трубку. – Ну как? – Федор Петрович смотрел на нее с грустной усмешкой. – Дозвонилась? – На хрен! – Таня вскочила, схватила куртку с вешалки. – Я валю отсюда! – Постой! – Федор Петрович встал и пошел за ней. – Это пустая трата сил. Думаешь, если бы нашел возможность выбраться, я бы торчал здесь столько времени? Не оборачиваясь, Таня спустилась на первый этаж. Выхода не было. То есть закуток техничек остался на месте, столовая тоже, даже раздевалка. А вот вместо входной двери теперь радовала глаз обычная стена. Ровная, покрытая выцветшей зеленой краской, – ни единого следа проема. Таня застыла в растерянности, снова и снова обводя взглядом вестибюль. – Что за херня! – сказала она наконец. – Такого просто не может быть! Она осторожно подошла к стене, принялась ощупывать ее, ударила кулаком. Никаких намеков на пустоту внутри. Внизу, в нескольких сантиметрах от пыльного плинтуса, на краске виднелись полустертые черные полосы, явно оставленные детскими подошвами. – Вот черт, а! – сказала Таня, нахмурилась, быстрым шагом направилась в столовую. За окнами, выходящими на школьный двор, было темно. Слишком уж темно даже для сентябрьского вечера. Ни одного отблеска, ни одного светлого пятна. Она остановилась у окна, попыталась открыть задвижку форточки, но та не подавалась ни на миллиметр, вообще не шевелилась, будто составляла с рамой одно целое. Соседняя тоже. Таня пошла вдоль линии окон, дергая все задвижки подряд. Дойдя до последней, она обернулась к стоящему в дверях Федору Петровичу: – Это ведь все бутафория, правда? – Откуда я знаю. Говорю же, мы сейчас на той стороне. – А если вот так? – Таня схватила ближайший стул и с размаху ударила им по окну. Безрезультатно. На стекле не осталось ни царапины, оно даже не содрогнулось. Таня ударила снова, потом еще раз, потом еще. – Не думаю, что это поможет. – Хорошо, – Таня отбросила стул в сторону и прислонилась к стене, тяжело дыша. – Хорошо. Я признаю, тут творится какая-то запредельная фигня. Что нам теперь делать? Федор Петрович внимательно посмотрел на нее: – Думаю, кроме нас, здесь есть еще кое-кто живой. Мальчик по имени Леша Симагин. Ну, ты помнишь его. – Это который пропал? – Да. Мне кажется, он прячется где-то на верхних этажах. Нужно найти его, а потом втроем попытаться выбраться. – Как именно? – Посмотрим. Должен ведь быть какой-то способ. – Хотелось бы верить. Ладно, пойдемте искать парня. Они вышли на лестницу и начали подниматься. Пролет, еще пролет, еще. Ни следа второго этажа. – Здание изменяется, – пробормотал, отдуваясь, Федор Петрович. – Здесь оно живет по своим законам. – Я уже поняла. Как мы поймем, где искать мальчишку? – Никак. Доверься интуиции, здесь она имеет значение. – Легко сказать. После еще нескольких пролетов все-таки обнаружился выход на этаж. Таня не увидела ни одного знакомого кабинета. На ближайшей двери висела табличка с надписью «ОСНОВЫ РАЗЛОЖЕНИЯ». Они пошли по коридору, тревожно осматриваясь. С потолка свисали нити паутины, краска на стенах облупилась, обнажая серую штукатурку. За окнами висела непроглядная тьма, густая настолько, что при взгляде на нее начинали болеть глаза. Она спросила: – С чего вы вообще решили, что Симагин здесь? – Заметил его несколько раз. – Я тоже заметила кое-что. Может, вам просто показалось? – Ну, я же его классный руководитель. Уверен, это был он. – Понятно. Дальше они шли в молчании. Заглядывали в классы, осматривали попадавшиеся на пути закоулки и туалеты. За каждым новым поворотом, за каждым лестничным пролетом оказывались все новые и новые коридоры, пустые, заброшенные. Шаг за шагом, метр за метром – все тот же залатанный линолеум, все та же чернота за окнами. Время не имело здесь значения, оно просто терялось в тишине, в этом бессмысленном нагромождении лестниц, комнат, переходов. Определенно, потусторонняя школа оказалась в разы больше той, в которой Таня когда-то работала. Может, она вообще была бесконечна. За очередным поворотом они увидели Симагина. Тот стоял на подоконнике, пытаясь открыть окно. Заметив их, он спрыгнул на пол и со всех ног рванул прочь. – Стой! – воскликнул Федор Петрович. – Не бойся! Мальчик даже не притормозил. Таня побежала следом. Она рассчитывала, что ее длинные ноги помогут быстро настичь Симагина, но не тут-то было. Лешка несся во всю прыть, почти не замедляясь на поворотах, в то время как Тане постоянно приходилось сбавлять скорость, чтобы огибать углы. – Погоди! Мы свои! Погоди! – кричала она, но мальчик не обращал на эти возгласы никакого внимания. Собственный голос причинял ушам Тани почти физическую боль – здесь любой громкий звук казался святотатством. В конце концов ей удалось догнать Лешку. Она схватила мальчишку за плечи, они оба потеряли равновесие и покатились по полу. Симагин орал во все горло – не от боли, от ужаса. – Успокойся! – встряхнула его Таня. – Все хорошо! – Нет! – взвизгнул Лешка, пытаясь вырваться. – Нет! Я видел. Он снова вскрикнул, на этот раз глядя куда-то через плечо Тани. Та обернулась. Федор Петрович как раз вышел из-за угла. Он стал выше ростом, широко улыбался, и даже с такого расстояния было видно, что зубы у него чертовски острые. – Я видел, как его убили! – прошептал Симагин. Федор Петрович не спеша приближался. Небрежным жестом он вынул свои фальшивые глазные яблоки, отбросил их в сторону, и из тьмы пустых глазниц начали выползать крошечные белые черви. Кожа его поблекла, пошла морщинами и трещинами, волосы выпадали целыми прядями. Из рукавов костюма сыпалась мелкая светлая пыль, а вслед за ней вытянулись длинные бледные пальцы, каждый из которых в середине раздваивался. – Надо же! – заявил бывший Федор Петрович, не прекращая улыбаться. – Правду говорят, что подобное тянется к подобному. Запусти двух мышей в лабиринт, и они обязательно встретятся. Без тебя, Танюша, мне вряд ли удалось бы найти этого пацаненка. – Это само собой, – процедила Таня, тяжело дыша. Она успела взглянуть назад и знала, что коридора за их спинами больше не существует. Теперь там был тупик, покрытая плесенью гладкая стена, поперек которой тянулись огромные кривые буквы «НИКОГДА». – Я давно жду! – прохрипело приближающееся чудовище. Оно тоже понимало, что бежать его жертвам некуда, а потому не торопилось. – Я – Грех! Меня распинали на кресте, как Боженьку вашего, меня живьем закапывали в землю, меня бросали в огонь. Я – Страдание! Меня скрывали от близких, меня заставляли умолкнуть пулей, выпущенной в висок, меня давили чужой болью. Таня загородила собой Лешку, который вцепился в ее правую ладонь. Страха не было. В нескольких шагах от нее возвышалась уродливая мертвая тварь, собирающаяся сожрать ее внутренности, вывернуть все тело наизнанку, а она не боялась. Почти. Не до этого было. Надпись на стене всколыхнула что-то в памяти, что-то скрытое, глубоко закопанное, что-то, от чего зависели сейчас две жизни. И она знала: если вспомнит, то получит шанс спастись. – Старик оказался вкусным! – сказало существо. Оно все больше теряло человеческий облик, рот разошелся в огромную кривую пасть, из-под темно-синего или черного пиджака выползла вторая пара длинных рук с раздваивающимися пальцами. – Вы должны быть еще лучше. Мальчик, не бойся, я выпью тебя последним! Таня решилась. Резко подхватив Лешку, она бросилась вправо, надеясь проскользнуть между чудовищем и стеной. Ей это удалось, хотя белые пальцы почти сомкнулись на ее плече. – Куда! – заверещало чудовище, заковыляло следом, отвратительно переваливаясь на своих тонких ногах, помогая себе нижней парой рук. Судя по всему, в нынешнем облике оно не было способно угнаться за человеком, и теперь вопило, переполняемое отчаянием и ненавистью: – Не уйдешь, гнида! Лучше даже не пытайся! Оно остановилось, растопырило конечности, уперлось ими в стены, в потолок, в пол, сливаясь с ними, прорастая сквозь краску и штукатурку, сквозь кирпич и дерево, становясь со строением одним целым. Когда коридор начал крениться, Таня почти вспомнила. Что-то черное обхватило сердце – то ли знание, то ли предчувствие – но у нее не было времени осознавать. Она выпрыгнула на первую попавшуюся лестничную площадку и помчалась вниз, изо всех сил стараясь не упасть. Лешку она по-прежнему несла на руках, хотя тот и становился с каждым шагом все тяжелее. Стены по сторонам пульсировали, двигались, осыпаясь, потолок опускался, словно здание проснулось, рассерженное, и теперь стремилось проглотить беглецов, осмелившихся нарушить его покой. Пот лился по лицу Тани, а в правом боку появилась ноющая тяжесть. Лестница вывела ее в совершенно незнакомый коридор, идеально прямой, без окон, но с большим количеством ответвлений и дверей. Из ламп, что тянулись по потолку, горело меньше трети, а в густых тенях, заполнявших углы, медленно, тягуче шевелились почти неразличимые фигуры, беспрерывно изменявшие форму. – Сюда! – закричал Симагин, и Таня свернула в распахнутую дверь, возникшую на пути. Почти забытый, почти стертый образ, остаток старого сновидения или обрывок мечты, сверкнул в ее мозгу, но, прежде чем Таня успела разобрать, что же именно осветила эта вспышка, Лешка вырвался из ее рук, рухнул на пол и покатился в сторону. Одежда и плоть разлетались ошметками от него в разные стороны, из-под них проступало нечто отвратительно-бледное, склизкое, тонкое. Тварь, словно огромная белая ящерица, в мгновение ока взобралась по стене, оставив за собой след из слизи и крови, повисла под потолком, зашлась писклявым, мерзким хохотом. Но Таня уже вспомнила. Вспомнила бесконечную лестницу, и темно-синие провалы вместо глаз, и нарисованные на стенах двери, и захлопывающуюся ловушку, обрубающую свет. Это снова был тот же сон, снова тот же кошмар, только теперь в новых декорациях – вместо темной комнаты она оказалась на сцене школьного актового зала. Зал был полон. Пожалуй, никогда еще ей не доводилось видеть, чтобы здесь не оставалось ни одного свободного сиденья. Ровные ряды детских голов тонули в полумраке, и, возможно, каждый из этих детей имел лицо Леши Симагина. Никуда не сбегавшего Симагина. Погибшего, убитого этими самыми тварями Симагина. Но у пятерых высоких существ в черных, ниспадающих до пола одеяниях, вовсе не было лиц – вместо них струились, извиваясь, трещины и зияли темные провалы с обугленными краями. Эти пятеро стояли в проходах между рядами кресел, неподвижные, застывшие, словно манекены или статуи, словно проросшие сквозь пол каменные столбы. Словно проклятые Чертовы пальцы. Таня обернулась. Дверь, через которую она попала сюда, бесследно исчезла, на стене висели разноцветные воздушные шары и пара листов ватмана с намалеванными красной краской буквами. Все как полагается. Страха она по-прежнему не чувствовала – да и отчего бы, ведь это всего лишь сон. – А зачем такие извраты? – спросила Таня. – Нельзя было сразу сюда меня заманить? Зачем конструировать такую сложную систему с поддельными трудовиком и пацаном? Несколько секунд в зале царила полная тишина, затем один из сидящих на первом ряду детей вскочил и выкрикнул: – Чтобы! Следом за ним поднялся второй: – Вывернуть! Третий: – Тебя! – Наизнанку! – Вывернуть! – Тебя! – Наизнанку! – Вывернуть! – Наизнанку! Они вставали один за другим, кричали слова, снова и снова повторяли их – всего через несколько мгновений весь зал уже скандировал сотней детских голосов: – Вывернуть наизнанку! Вывернуть тебя наизнанку! Таня, едва дыша, отступила на шаг, потом еще на один, уперлась спиной в стену. Гладкая поверхность одного из шаров скрипнула под плечом, пальцы скользнули по шелушащейся краске, скрипнула под ногой старая доска. Это не могло быть сном. Не могло. – Вывернуть наизнанку! Вы-вер-нуть! Фигуры в черном сдвинулись с места, все разом, в одно мгновенье, будто вправду были частями единого организма. Они медленно поднялись на сцену, вновь застыли, словно раздумывая или сомневаясь. Обугленные края трещин на тех местах, где положено было находиться глазам, скрывали нечто пульсирующее и сочащееся сукровицей. – Тебе не нужно лицо, – услышала Таня шепот. – Лицо есть ложь, ведь оно принадлежит миру и служит ему. Мы заберем твое лицо и подарим покой. Вечную тишину. Откуда-то издалека вдруг донесся странный шум. Глухие, тяжелые, частые удары, сопровождаемые треском, как если бы огромным каменным тараном пытались проломить крепостные ворота. Потом что-то рухнуло с протяжным скрипом, и свежий, холодный воздух ласково мазнул по щекам. – А ну прочь! – раздался хриплый крик. Черные силуэты неуловимо сместились в сторону, пропали из поля зрения. Перед Таней лежал темный актовый зал. Между рядами пустых кресел бежал человек в распахнутом кожаном плаще, и лезвия длинных ножей, казавшихся продолжениями его рук, сверкали белым пламенем. Позади, через огромную дыру, зияющую на месте дверей, входил еще один в плаще, с широкими плечами и крупной головой. Безликие потеряли плотность, рассеялись черным дымом, уползли в тень и нанесли удар оттуда – огромной темной пятерней, каждый из пальцев которой венчала круглая зубастая пасть. Лапа попыталась сграбастать парня с ножами, но тот ловко увернулся, взмахнул клинками, располосовав демоническую плоть. Края двух идеально ровных порезов зашипели. Лапа отпрянула, втянулась в тень и растворилась в ней. Стало тихо. Лезвия ножей вспыхнули еще раз и медленно погасли. Где-то вдалеке послышался автомобильный гудок. Парни в плащах осматривались, тяжело дыша. Наконец второй, плечистый, подошел к Тане, которая яростно старалась сказать хоть что-нибудь, но была не в состоянии. Слова не шли ни на ум, ни на язык. – Живая? – спросил здоровяк. – Да. Спасибо. – Тебе спасибо, что так долго продержалась. А то мы уж думали, все, опоздали. – Продержалась? – Ну да, – здоровяк с улыбкой хлопнул ее по плечу, и Таня едва устояла на ногах. – Много им пришлось потратить сил, чтобы тебя заморочить. Молодец. – За… что? – Заморочить. Навести морок. Таня перевела дух. Шок отступал, появилась мягкая приятная слабость в коленях, а способность облекать мысли в слова постепенно возвращалась. – Морок? То есть… Это все не по-настоящему было? – Для тебя – по-настоящему. Реальнее некуда просто. – А для вас? – И для нас тоже. Мы специально обучены такие вещи видеть. Ладно, – здоровяк обменялся быстрыми взглядами с напарником. – Пошли-ка с нами, подруга. – Погодите. Куда? – Вниз. К машине. Мы все по дороге объясним. Тебя ведь Таня зовут? – Да. – Очень приятно. А мы – Серп и Молот. Он – Серп, а я – Молот. Вот и познакомились. Пойдем на улицу, Таня. Здесь темно, душно, а еще много плохих ассоциаций. Серп тщательно протер ножи губкой, затем тряпочкой, закрепил их рядом с другими тремя на портупее, пересекавшей его грудь, и запахнул плащ, скрывая удивительные инструменты от посторонних глаз. – В чем секрет? – указала Таня ему на грудь. – Серебро? – Почти угадала, – ответил Серп. – Двигай за мной. Они вывели ее через выломанные двери. – А как же с этим быть? – удрученно спросила Таня, глядя на вывернутый с корнями косяк. – Ну, нашла, о чем переживать. Только что едва не умерла, и вот, пожалуйста. Таня прислонилась спиной к стене, всплеснула руками: – Никуда с вами не пойду! Я дежурная по школе, не имею права. Тащите меня куда-то. Дверь сломали! С ножами ходите. Серп и Молот переглянулись. – Это нервное, – сказал Серп. – От шока. – Да, ты прав, – сказал Молот. – Само пройдет. – Ничего не пройдет! Мне не… – Послушай, тебе и так хватает проблем, это понятно. Вообще, жизнь – говно, работа – говно: ни целей, ни перспектив, ни смысла. В классах уже начала срываться на детей, по башкам их бить. Плюс твари, которые пытаются укокошить и сожрать. А тут еще два каких-то мудака возникают из небытия, ломают двери и показывают разные другие фокусы. Все так. Но, если ты заметила, мы тебя спасли. Просто появились из небытия и спасли. Взамен хотим одного – чтобы ты спустилась с нами к машине и десять минут пообщалась с шефом. А потом он уладит дело со всеми повреждениями в этом шедевре архитектуры, не волнуйся. У него богатый опыт в подобных махинациях. Таня закрыла глаза. Шумно выдохнула. Открыла. Двое в плащах никуда не делись. – Десять минут? – Не дольше. – А потом он позвонит насчет выломанных дверей? – Гарантирую. Позвонит куда угодно. – Ладно. Ведите. Они спустились по лестнице, вернувшей свою обычную протяженность, на первый этаж и вышли в вестибюль. Входная дверь, толстенная металлическая пластина, лежала у стены, смятая, словно фантик из фольги. Ключ по-прежнему торчал в замочной скважине с внутренней стороны. – Ни хрена себе, – выдохнула Таня. – Да что вы за люди такие? – Люди Икс, – ответил Серп, улыбаясь. – Слыхала? – Не верь ему, – сказал Молот. – Мы люди в черном. – Сам ты в черном, – сказал Серп. – А я Человек Икс. – Это не Икс, мудрила. Это Хэ. – А если серьезно? – простонала Таня. – Если серьезно, кто вы такие? – Аггелы-хранители. – сказал Молот, и, судя по выражению его лица, на этот раз он не шутил. Перед крыльцом стояла машина, невзрачная, пыльная «десятка». Серп открыл заднюю дверь, пропустил Таню, забрался следом. Молот уселся за руль. На переднем пассажирском сиденье горбился пожилой мужчина, тоже в кожаном плаще. – Шеф, разреши представить – Татьяна Павловна, учитель истории и дежурный по школе. Таня, это – наш непосредственный руководитель, старший группы, Лицедей. «Откуда вы знаете мое отчество?» – хотела спросить Таня, но вместо этого задала другой вопрос: – Почему Лицедей? Вместо ответа мужчина отвернулся на секунду, а когда вновь посмотрел на «дежурную по школе», то лицо его было уже чужим. Потребовалось несколько секунд, чтобы Таня смогла узнать себя. Еще один поворот головы, и все стало как прежде. – Ничего себе, – прошептала Таня и почувствовала, как напрягся сидящий рядом Серп. Ловить будет, когда рвану из машины, поняла она и повторила еще раз, просто чтобы услышать звук собственного голоса. – Ничего себе. – Еще вопросы есть? – спросил Лицедей, чуть улыбаясь. – Пока нет. – Отлично. А у нас к тебе имеется парочка. Готова поломать голову? – Ага. – Вопрос первый. Есть хоть какие-нибудь предположения, где в городе мог укрыться твой отец? – Стоп. Что? – Говорю, где в городе мог укрыться твой отец? – Отец? – Таня чувствовала, что ей не хватает воздуха. – Он жив? – К сожалению, да. Павел Иванович Кирше в городе, но мы не знаем где. Никаких сведений о его прошлом у нас нет – он отлично умеет заметать следы. Твоя мать уверена, будто он родом из одной из окрестных деревень, но это не так. В квартире, где они жили с момента свадьбы, теперь салон сотовой связи, и там он не появлялся. – Даже близко не подходил, – добавил Серп. – А зачем он вам? Мужчины переглянулись. Лицедей потер пальцами виски. – Павел Иванович – похититель и убийца детей. Мы знаем, что тебе крайне неприятно такое слышать, но это правда. Он уже уби… стал причиной гибели одного из твоих учеников, мальчика по фамилии Симагин, и вскоре убьет еще одного – Вадима Королева. – Вадик у него? – Да. Никаких сомнений. – Знаете что? Мне все равно. Отец или нет – какая разница, я не видела его с детства. Поэтому за меня не переживайте. И – да, я могу знать, где он находится. – Откуда? – спросил Лицедей, по-змеиному улыбнувшись. – Общалась с его старым другом. Девятая линия. Так улица называется. Там он жил до окончания школы. – Номер дома? – Нет, не знаю. Но там улица-то – всего десяток домов. Лицедей хлопнул Молота по плечу: – Заводи! Тот повернул ключ в замке зажигания, мотор послушно заурчал. – Вы останетесь? – спросил Лицедей Таню. Она торопливо закивала: – Конечно! Я с вами, с вами! Поехали. – Покажете короткий путь? – Само собой. Машина тронулась. Молот сразу дал понять, что ему не до шуток, – педаль газа уперлась в пол и чуть приподнималась только на самых крутых поворотах. Мимо мелькали покатые бока и спины припаркованных у тротуаров автомобилей, окна, ярко освещенные вывески. Движения на дорогах почти не было, мокрый асфальт желтел отсветами огней. Городок, утонувший в темноте, спрятавший в ней все неприглядное, смотрелся отлично. Тихое, безмятежное, безопасное, скучное место. Земля обетованная. – А что с Вадиком? – спросила Таня. – Он с ним… уже что-то сделал? – Надеемся, пока нет, – сказал Лицедей. – Убийца следует определенным правилам, и мальчик, скорее всего, еще жив. – Каким правилам? – Долгая история. – Это связано с той хренотенью, которую я видела в школе? – Не просто связано. Хренотень – причина всего. Таня вытащила мобильник, повертела в пальцах, раздумывая, потом набрала SMS-сообщение: «ПРИЕЗЖАЙТЕ СРОЧНО! Я ЗА КОРОЛЕВЫМ! О ДВЕРЯХ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ)))» – и, отправив его директрисе, телефон выключила. Серп, успевший сообщение прочитать, сказал: – Не стоит волноваться. Никто чужой внутрь не войдет, я позаботился. – А начальство-то? Сможет? – Если школа признает, то без проблем, – усмехнулся Серп. – Будем надеяться, признает, – сказала Таня. – Слушайте, а все-таки – это точно мой отец? – Никаких сомнений, – сказал Лицедей. – И чтобы раз и навсегда закрыть вопрос: за последние десять с лишним лет он успел убить восемнадцать детей, мальчиков и девочек, в возрасте от восьми до тринадцати лет. – Вот сука, – сказала Таня. – Можно вас попросить? – Да? – Не называйте его моим отцом больше, хорошо? Лицедей кивнул. – Эй, куда дальше? – спросил Молот. Таня опомнилась, глянула в окно. До цели оставалось всего ничего. – Сейчас направо, на следующем перекрестке – налево, а потом до упора. Еще пару минут, и мы на месте. – Как скажете, начальник, – Молот вывернул руль вправо. Въехали в частный сектор. С обеих сторон потянулись серые заборы, над которыми на фоне черноты ночного неба угадывались голые ветви яблонь. – Когда приедем, что вы собираетесь делать? – поинтересовалась Таня. – Как обычно, работать будем, – сказал Лицедей. – Только к тебе такая просьба: сиди, пожалуйста, в машине. Прекрасно понимаю, там твой ученик и твой… и все такое, но, поверь, ты принесешь мальчику гораздо больше пользы, если не станешь вмешиваться. – Да-да, конечно, не вопрос. Не дура же я, в самом деле. Вы профессионалы, вы и разбирайтесь. – Правильно. Мы разберемся. – Не сомневаюсь. Вон тот поворот – на Девятую линию.22
Вадика в буквальном смысле выдернули из спасительного, мягкого забытья. Снова те же жесткие, обманчиво тощие руки. Хозяин стащил его на пол и поволок по коридору, только теперь в другую сторону. – Они опередили нас! – шипел он, брызгая слюной. – Опередили! Сволочи! Мрази! Ублюдки! Теперь эти крысы найдут наше убежище, обязательно найдут, может, уже нашли, может, уже мчатся сюда на всех парах! Готовые к драке, точат свои сраные ножики. Господи, господи, помоги нам! Помоги нам, Господи. Смутные, едва различимые тени вились вокруг него, шептали, грозили, жаловались. Невесомые, темные, безликие. Кривые шрамы вместо лиц, длинные бледные пальцы. Хозяин толкнул ногой дверь, ведущую на улицу. Пронизывающий ночной ветер окончательно привел мальчика в чувство. Он увидел двор, самый обычный задний двор: ржавый остов теплицы, высохшие кусты смородины, грядки, проволочную сетку на границе с соседним участком, небольшой сарайчик с распахнутой дверцей и сложенный из белого кирпича гараж. Именно туда колдун понес его, взвалив на плечо, точно индеец украденную белую женщину. Вадик наконец понял – произошло нечто из ряда вон выходящее, все планы похитителя нарушились, и теперь тот собирался бежать. Причем, судя по спешке и тому, что весь его багаж составлял лишь сам пленник с заветной черной тетрадью, бежать предстояло срочно. В гараже стояла красная «шестерка». Хозяин бросил мальчика на заднее сиденье, как ковер или мешок с картошкой, сам распахнул ворота и примостился за рулем. Вадик подумал, что имеет смысл попробовать ударить его по затылку связанными ногами, но через секунду отбросил эту идею. Чертовы пальцы не дадут ему сделать ни одного лишнего движения. Теперь, когда в голове больше не мутилось, он не мог видеть их, но присутствие чувствовал остро. Рядом, неимоверно близко. Пустые, скользкие взгляды, словно упершиеся в тебя из темноты по ту сторону окна, когда стоишь ночью в освещенной комнате и не можешь ничего различить за стеклом. Но они там, за ним. Смотрят. Это было, словно сидишь на краю ямы, повернувшись к ней спиной. Пасть распахнута. Только двинься в сторону седой головы на переднем сиденье, и они разорвут на части. Лучше не рисковать. Пока. – Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, – бормотал хозяин, возясь с зажиганием. – На оленях мы помчимся утром ранним, ночью поздней… В конце концов «шестерка», сдавшись под его натиском, завелась. Гараж остался позади. Вадик, с трудом приподнявшись, смог разглядеть кусочек улицы и дом, в котором провел последние дни. Тот выглядел знакомо. Наверняка когда-то доводилось проходить мимо, возможно, даже не единожды. Но ведь ни разу не возникало мысли, что́ может там прятаться, за этим аккуратным палисадничком и почти квадратными окошками в белых рамах. Это просто маска. Маска обычного дома. «Смотрите, я точно такой же, как вы, остальные, встречаю восход бликами на крыше и водосточных трубах». А внутри – тьма. Внутри гниющие трупы и те, кому они служат. Из-за поворота показалась машина, яркий свет ее фар заполнил салон. – Вот и друзья, – ощерился хозяин. – Но нас так просто не возьмешь! Он нажал на газ.23
– Это же он, сука! – рявкнул Молот, указывая на жигуленок, высунувшийся из одного из гаражей. – Валит! – Ну так не отставай, – спокойно сказал Лицедей. – Ха! Погоня началась. Ночь снаружи превратилась в череду фонарных столбов, а все, кроме багажника старой «шестерки» впереди, перестало иметь значение. Не потерять из виду, не упустить. Не упустить. Таня застыла, вцепившись в спинку переднего сиденья. Ее сознание словно разделилось надвое. Первая половина азартно и деятельно участвовала в происходящем, стремилась догнать, уничтожить ту гниду, что посмела поднимать руку на двенадцатилетних детей, надеялась спасти Вадика, умного, талантливого, но необщительного мальчика, единственного ученика в шестом «В», который действительно интересовался историей. Вторая часть наблюдала за событиями бесстрастно, с холодной отстраненностью, пытаясь анализировать их с точки зрения логики и здравого смысла, продумывала последствия. Выводы были неутешительны, а прогноз неблагоприятен. Но вторая, рациональная, часть пока не пыталась вмешиваться, и это всех устраивало. Город кончился внезапно: огни по сторонам просто исчезли, уступив место кромешной темноте, из которой, нависая над дорогой подобно ребрам гигантского скелета, выступали сосны. «Шестерка» впереди погасила габариты, и теперь Таня не могла видеть ее, хотя Молот, похоже, не чувствовал никакого неудобства в такой погоне вслепую. Никто ничего не говорил, монотонный шум двигателя, прерывистый ритм разделительной линии в свете фар и мрак снаружи действовали усыпляюще. Таня с удивлением поймала себя на том, что клюет носом. Ей казалось, будто ночь давила на окна, стремилась выбить стекла, вломиться внутрь, залить, заполнить собой салон, так, чтобы все внутри захлебнулись темнотой. Через мгновение, мощным усилием воли сбросив оцепенение, она с ужасом поняла, что оконные стекла действительно скрипят от наружного давления. За ними, в непроглядной черноте, шевелились неясные, смутные силуэты. Осознание приходило медленно, неспешно, распускалось в мозгу подобно цветочному бутону. Слева скользнула по стеклу чья-то рука, белая кожа на мгновение тесно прижалась к плоской прозрачной поверхности. За окном, справа, из небытия выплыло бледно-зеленое лицо – даже не лицо, маска: рваные дыры на месте глаз и рта, безжизненные, неестественные черты. «Мы заберем твое лицо и подарим покой» – вспомнила Таня, а вспомнив, поняла наконец, что происходит. Нет, не ночь была там, снаружи. Они ехали по дну черного озера, озера в самом центре системы координат, чьи воды полны навечно застывшими живыми мертвецами. Толща вод грозила расплющить машину, словно жестяную банку. Через секунду лопнут стекла, впуская ледяной ад внутрь, он хлынет в легкие, раздавит глаза и череп, перемелет кости в мелкую труху, а следом за адом появится липкая белая плоть, мягкие, пропитавшиеся черной водой тела. С легким, почти нежным треском проползла по окну ломаная линия. Таня открыла рот, чтобы закричать, но тут на губы ее легла сухая, горячая ладонь Серпа, раздался рядом шепот: – Изыди! Прочь, гнида! – и наваждение спало, исчезло в мгновение ока. Вновь все было по-прежнему – машина мчалась сквозь темноту, Молот сосредоточенно следил за дорогой, Лицедей, обернувшись, смотрел на Таню с легкой улыбкой. – Всего лишь морок, – сказал он. – Они пытаются повлиять на нас, и выбрали тебя в качестве самого слабого звена. – Блин, – пробормотала Таня, глотнув воздуха. – Было так похоже на реальность. – Вообще-то это и есть реальность, только отличная от твоей основной, создаваемая искусственно. Реальность каждого из нас – индивидуальна, обусловлена особенностями восприятия. Понимаешь? – Приблизительно. – Допустим, у слепого одна реальность, у дальтоника – другая. Реальность верующего человека кардинально отличается от реальности материалиста. Постоянное взаимодействие, взаимопроникновение реальностей создает некую общую картину мира. Всегда были люди, способные воздействовать на восприятие других, а значит, менять реальность. Те, у кого это получается слабо, становятся политиками или проповедниками, у кого получше – гипнотизерами и экстрасенсами, а овладевшие мастерством в совершенстве называются магами. – Эти черные… Чертовы пальцы – маги? – Когда-то были. Пятеро братьев, абсолютно уникальных – у всех пятерых развиты колдовские способности. Они научились координировать свои действия, объединять силу и превратились в мощнейшее оружие как массового, так и индивидуального поражения. Но служить стране они не хотели, их вообще мало что интересовало, кроме их самих. Братья превратились в угрозу, поэтому были уничтожены. Однако, как оказалось, они настолько четко впечатали себя в мировосприятие некоторых людей, что после физической смерти начали иное, скажем так, потустороннее существование, став тем, что мы называем Чертовыми пальцами. Теперь они пытаются вернуться. – В смысле, вернуться? – В смысле, вновь обрести физическое воплощение, превратиться из продукта чужого сознания в самостоятельные источники реальностей. – Ладно, расскажи ей про книгу, – попросил Серп. – Она же не дура, не пойдет с этим в газету, а если и пойдет, никто не поверит. – Хорошо, – кивнул Лицедей. – Тот, кого мы сейчас преследуем, Павел Иванович Кирше, пытается воскресить братьев. Он пишет особую книгу. Пишет ее кровью маленьких детей, которых похищает и убивает. Книга, по сути, является одним большим, чудовищно сложным и грязным заклинанием, цель которого – оживить Грачевых. – Но если все это только в его голове, детей-то убивать зачем? – Во-первых, он, видимо, не знаком с теорией взаимодействующих реальностей, а по старинке верит именно в ритуальное колдовство. А во-вторых, в этих убийствах, как и любом другом ритуале, важна эмоциональная составляющая: чем сильнее переживания, тем активнее воздействие на материальный мир. – То есть просто усилием воли он не смог бы их вернуть? – Не смог бы. Усилия воли недостаточно, нужна встряска, вещественное подтверждение серьезности намерений, так сказать… – Тля! – крикнул Молот, когда свет фар выхватил из темноты человеческую фигуру всего в нескольких метрах впереди. За тот недолгий миг, пока человек на дороге был виден, Таня успела рассмотреть только длинные грязные волосы и широко раскинутые руки. Водитель резко крутанул руль в сторону, чтобы избежать столкновения. Протяжно заскрипели тормоза, машину повело по скользкой дороге, разворачивая поперек, а потом еще на сто восемьдесят градусов. Сделав почти полный круг, несчастная «десятка» наконец замерла, уткнувшись передним бампером в ограждение, и все ее пассажиры вновь обрели голоса. – Это Клим Грачев! – крикнул Лицедей. – Поехали, поехали! Они пытаются сбросить нас! – Какого хрена! – возмутился Серп. – Надо было сбивать его, и все! – Слишком неожиданно, – оправдывался Молот, вновь заводя машину. – Я не был готов, не успел ничего понять. Вы тут болтаете, не могу сосредоточиться. – Быстрее, блин, упустим ведь! Поехали! Драгоценное время утекало, с каждой секундой промедления проклятая «шестерка» уходила все дальше, увозя Вадика. Когда погоня возобновилась, Таня знала, что догнать Павла Ивановича они уже не смогут. Слишком темно. Еще она была уверена, что у человека, появившегося из ниоткуда на дороге, не было лица.24
Если и стоило рискнуть, то только сейчас. Вадик понял, что Чертовы пальцы исчезли – он уже некоторое время не чувствовал их присутствия, похожего на прикосновение змеиной кожи. Он не имел ни малейшего представления, куда и почему они ушли, но не сомневался – в эти минуты в машине не было никого, кроме него и колдуна за рулем, полностью сосредоточившегося на дороге, без перерыва бормотавшего себе под нос что-то невнятное. Скорее всего, демоны отправились разбираться с преследователями, а значит, надо уравнять шансы, пока они не вернулись. Вадик глубоко вдохнул, решаясь, а через секунду, оттолкнувшись локтями от спинки сиденья, навалился всем весом на своего мучителя. – Сука! – взвизгнул тот, но руля не выпустил, а потому Вадику удалось ухватиться за его волосы и, опрокинувшись назад, задрать ему голову к потолку. За последние дни он порядочно похудел, но оставшегося веса хватило, чтобы колдун, вопя от боли, выгнулся дугой, лишившись всякой возможности смотреть на дорогу. – Отпусти, сволочь! – завизжал он, пытаясь оторвать ненавистного мальчишку от себя. – Отпусти, бл… Машина вылетела с трассы, ее сильно тряхнуло. Вадика, с зажатыми в кулаках пучками седых волос, впечатало в сиденье. «Проиграл!» – вихрем пронеслось в сознании. В следующий миг они на полном ходу врезались в дерево.25
Каждый раз все заново. Ласкает море груду замшелых камней. Течет вокруг небоскреба небо, мягко тыкаясь в окна верхних этажей. Словно слепой котенок. Словно пьяная смерть. Кто сказал, что сердце не может лгать? Кто сказал, что тьма не рождает свет? Откройте коробочку и взгляните на записки на стене. Их оставили праотцы да праматери. Каждая буква – тропа. Каждое слово – дорога. Нет у пути конца и начала, но он существует лишь до тех пор, пока мы не решим с него сойти. В Уставе Конторы, который никто никогда не писал, об этом ни слова. Усгар лар. Маджи сумвей.26
Павел Иванович на негнущихся ногах брел через лес. Он не видел ни зги, но это не имело значения – все равно двигался наугад, никуда не стремясь. Его словно облепили со всех сторон толстым слоем мягкой ваты, окружающий мир почти исчез, отдалился и уже не мог играть хоть сколько-нибудь важной роли. Он чувствовал кое-что: холод в правой ступне, почему-то лишившейся ботинка; кровь, обильно текущую по лицу; тупую боль в спине; но все это происходило не с ним, а с кем-то другим, непонятным, незнакомым, с маленьким тощим человечком, которому давно уже пора было умереть. Единственное, что имело смысл, он прижимал к груди левой рукой. Правая не слушалась и висела вдоль тела, бесполезная, как сухая картофельная ботва. Книга. Его черный гримуар, труд последних двадцати лет, сокровище, проклятие, альфа и омега. Он должен был закончить ее, должен был написать последнюю главу. Все остальное – прах. Все остальное – бред. Бытие держалось на этой книге, вращалось вокруг нее. Именно она вела его, давала силу изломанному телу. Тьма вокруг была абсолютна, однородна, бесконечна. Он вспомнил, как почти неделю назад возвращался в родной город на поезде, надеясь на скорое завершение трудов, как подумалось ему, что за окнами вагона в ночи плывут змеи. Теперь эти змеи ползли по его кровеносным сосудам, подбираясь к сердцу. Скоро, скоро он отдохнет. Павел Иванович был не один во тьме, и прекрасно знал это. Чертовы пальцы следовали за ним. Как всегда. Они ждали, когда их верный слуга исполнит свой долг, ждали, когда невинная, чистая кровь ляжет изящными, но бессмысленными символами на последние страницы, когда вечность распахнет свои окованные железом ворота и выпустит их на свободу. Над теми воротами красовалась надпись, которую им едва не удалось опровергнуть. Они ждали. Сгорали от нетерпения, словно голодные псы при виде куска свежего мяса. Жизнь, наполненная вездесущей холодной осенью и неизбывной болью, звала их, вела на коротком поводке, как его когда-то вела тоска по родным местам. Они почти преодолели оставшиеся ступени, почти перешагнули порог. Замок, сложнейший, изящнейший из всех замков, отперт, засовы отодвинуты, цепи сброшены. Осталось лишь толкнуть дверь. Павел Иванович споткнулся о торчащий из невидимой земли корень и рухнул вперед, не выставив перед собой ладони. Нос сломался с влажным, хлюпающим хрустом. Острая боль пронзила голову и немного прочистила сознание. Мокрая хвоя колола лоб, в одну из щек врезалась сосновая шишка. Все под ним было теплым. Это кровь, понял Павел Иванович, его собственная кровь. Он попытался подняться, но без помощи рук это оказалось невозможно. Осторожно опершись на левый локоть, он начал переворачиваться на бок, но тут локоть скользнул по сырой хвое, и Павел Иванович упал на спину, разжав пальцы, выпустив книгу. Слепо, беспомощно принялся он шарить здоровой рукой вокруг, но ладонь натыкалась лишь на узловатые корни и жесткие шишки. – Где она, где она, Господи? – бормотал Павел Иванович, хотя от каждого произнесенного слога боль в искореженном лице вспыхивала сонмом солнц. – Где моя тетрадочка, Господи, Боженька-Боженька, где она, моя, моя тетрадочка? Силы покидали его стремительно, утекали вместе с кровью, уходили вместе с воздухом из разорванных легких. Черная книга, поддерживавшая жизнь, исчезла, а старое, немощное, убитое тело отказалось работать без нее. – Помоги мне, Господи-Боженька, – еще шевелились губы, еще рыскали по земле ладони, но сердце уже перестало биться. – Пожалуйстапрошугосподибоженькапомоги… Хлынуло изнутри горячее, Павел Иванович булькающе всхрапнул, захлебываясь, и, перед тем, как все закончилось, успел даже разглядеть, что приготовили для него на другой стороне. Ад оказался на удивление прост: глубокая черная яма, в которой ждали все убитые им дети. Они смотрели на него голодными глазами и улыбались ртами, полными очень острых зубов.27
«Шестерку» первым заметил, как и полагалось, Молот. – А, вот они, – сказал он, указывая куда-то в темноту впереди. – Зря волновались. – Ни хрена хорошего в этом нет, – проворчал Лицедей. – От аварий не стоит ждать приятных сюрпризов. Он обернулся к Тане: – Слушай, придется тебе все-таки нам помочь. Согласна? – Конечно. – Отлично. Держи фонарь. Машина остановилась, и только теперь, когда свет фар упал на измятый автомобиль в кювете, Таня сообразила, что к чему. – Выходим! – скомандовал Лицедей. Снаружи было мерзко, в холодном воздухе висела изморось, такая, которая хуже любого, даже самого сильного, дождя. Лучи фонарей разрезали ночь, заплясали на блестящем асфальте, стволах деревьев по обе стороны трассы. Таня тоже зажгла выданный фонарь, хотя с выключателем и пришлось повозиться. – Э! Мы ж здесь были! – сказал Молот. – Вон там ты блевал, начальник. – Точно, – откликнулся Лицедей, напряженно вглядываясь в мрачную стену леса. – Почти неделю назад. Именно здесь. Так она мне сказала тогда. Ладно, давайте спустимся вниз, проверим, как обстоят дела. Дела обстояли хреново. Это было понятно с первого взгляда. В этом месте на обочине не имелось никаких ограждений, поэтому «шестерка» вылетела с дорожного полотна на большой скорости, не встретив ни одного препятствия. Кроме дерева, разумеется. Оно остановило ее, хотя само получило повреждения, несовместимые с жизнью – ствол от удара переломился. Передняя половина машины представляла собой сплошное месиво, в котором даже днем пришлось бы разбираться несколько часов. Задняя часть салона выглядела значительно лучше. Таня посветила фонарем сквозь растрескавшееся стекло. Внутри на сиденье лежал без движения связанный по рукам и ногам Вадим Королев. – Он здесь. – Твой ученик? – уточнил Серп, подошедший следом. – Да. – А мужик-то утек. Пацаненок живой? – Не знаю. Таня попыталась открыть дверь, обошла багажник, попробовала с другой стороны – все безрезультатно. – Заклинило намертво. Может, ты возьмешься? – Давай, – Серп сунул фонарь в карман плаща и с силой дернул дверь обеими руками. Она не поддалась. – Нет, – сказала Таня. – Я имела в виду, ножами? – Ножами не получится, – покачал головой Серп. – Они только с плотью имеют дело. Тут надо грубую силу. Эй, Молоток? Молот заглянул в окошко, посветил фонарем, потом сказал Тане: – Отойди, – и легко коснулся ладонью заклинившей двери. Та заскрежетала, сминаемая невидимой, но непреодолимой силой. Выдернув и отбросив ее, Молот бережно вытащил безжизненного, обмякшего мальчика. Положил его на траву, присел рядом, пальцами разорвал толстые веревки, стягивающие все тело, приложил ухо к груди. Половину молочно-белого лица Вадика покрывал огромный синяк, на виске блестела широкая ссадина, грязную спортивную толстовку украшали многочисленные пятна крови. В тишине Таня слышала стук собственного сердца, казавшийся оглушительным. Лес позади молчал, черный, насупленный, обиженный на тех, кто разбудил его. Лес хотел лишь спать, забыться до следующей весны. Лес знал: забытье – основа жизни. Молот наконец поднял голову от груди Вадика, ощупал его плечи, ребра, ноги, застыл в мрачной задумчивости. – Что? – спросила Таня. – Ничего хорошего, – пробурчал Молот, поднимаясь с колен. – Но пока еще держится. Давай-ка перенесем его к нам в тачанку, а то здесь моментально окоченеет. – А можно его носить? Я имею в виду повреждения… – Других вариантов нет, – Молот принялся снимать плащ. – Сейчас соорудим носилки. Это оказалось не так уж и сложно. Аккуратно ступая, они вдвоем подняли мальчика к машине, положили на заднем сиденье на правый бок. Когда возвращались, их окликнул Лицедей: – Эй, ребята, быстрее! Наш несравненный чернокнижник набросал нам хлебных крошек. Он указал лучом на черные в синем свете пятна, покрывавшие траву рядом с отвалившейся водительской дверью. Повел фонарем – еще пятна, настоящая цепочка, уползающая в лес. Кровь. Таня с некоторым удивлением взглянула на шефа борцов с нечистью. От прежнего сутулого утомленного старика остался теперь только потертый кожаный плащ. Лицедей выглядел подтянутым, бодрым, веселым даже, во всех его движениях сейчас скользила почти кошачья грация, приятная глазу, но определенно опасная. – Пошли, посмотрим, что там, на другом конце этого маршрута, – сказал он своим бойцам, потом повернулся к Тане. – Машину водишь? – Теоретически. – Ничего. Сейчас трасса пустая, справишься. Сейчас пока посиди внутри и наружу не высовывайся, что бы ни случилось. Ни в коем случае. Если мы не вернемся через десять минут, заводись, вези парня в город, в больницу. Поняла? – Да. – Десять минут. Молот сунул ей в руку ключи, и странная троица молча ушла в лес. Они скрылись во мраке мгновенно, как брошенные в черную воду камни, не оставив после себя ни шорохов, ни отсветов фонарей. Таня пыталась прислушиваться, но уши уловили только монотонный скрип сосен. Ночь вокруг тонула в пустой осенней тишине, и дорога позади тоже была совершенно пустой. Ни одной машины, ни единого намека на то, что где-то в мире есть еще нормальные, разумные люди, которые радуются солнцу и ветру, которые не верят в магию. Для таких людей, для миллионов обычных, самоуверенных людей все эти события отзовутся лишь статьей в уголовной хронике местной газеты или, возможно, если все кончится плохо, парой шокирующих заголовков в Интернете. Один из великого множества немного загадочных, но незначительных, не особенно интересных несчастных случаев. Вот и все. Таня вернулась в машину, села на водительское место, посмотрела на Вадика. Приложить ухо к груди мальчика она не решилась – боялась не услышать то, что, по идее, должна была. Обезображенное синяком лицо, перемазанная в крови толстовка, уродливая ссадина на виске. Всего несколько дней назад этот мальчишка умно и легко рассказывал у доски о Великом переселении народов. Таня отвернулась, опустила подбородок на сцепленные пальцы, глядя прямо перед собой, сосредоточившись на времени, что огромным монотонным потоком текло сквозь нее, низвергаясь в бездну. Где-то на дне вяло шевельнулась мысль, что нужно достать и включить мобильник для отсчета тех самых десяти минут, но Таня проигнорировала ее. Вряд ли это имело значение. Она поняла, что проваливается куда-то – то ли в сон, то ли в смерть. Оттуда поднималось безразличие, опутывало ее скользкими щупальцами, сдавливало череп, прижимало к сиденью. Она слышала чьи-то голоса, растворенные в почти незаметном шуме ветра. Безжизненные, ядовитые голоса, похожие на шелест падающих листьев. Они говорили о неудавшейся жизни, о несбывшихся мечтах, о разрушающихся башнях надежд. Голоса знали многое и были правы. Шумит за окном ветер. Таня в своем классе, сидит за партой, среди других учеников. Дети ей незнакомы, но отчего-то кажутся друзьями. На доске большая, аккуратная надпись мелом: «ТЕМА СОЧИНЕНИЯ – ЧЕРТОВЫ ПАЛЬЦЫ». За учительским столом – худощавый, интеллигентного вида мужчина. Таня не сразу, но узнает его. Изящная бородка, тонкий нос, маленькие очки, свитер с высоким горлом. Клим Грачев в свои лучшие годы, еще никем не гонимый, еще не успевший навлечь вечное проклятие на себя и своих братьев. Сложив пальцы домиком, учитель говорит: – Итак, я прочитал все ваши работы, многие мне понравились. Но, надо признать, кое-кто меня разочаровал, с них и начнем, пожалуй. Танюша, будь добра, выйди к доске. – Я? – спрашивает Таня удивленно. – Да-да. Давай не задерживай класс, иди сюда. Таня встает, медленно идет между рядами парт. Никто не смотрит в ее сторону, дети перешептываются между собой. Ей почему-то кажется, что все закончится просто подзатыльником. Учитель даст по башке, отправит назад на «камчатку», и больше ничего страшного. Нет, постойте… это же… – Итак, Танечка, прочти всем свое сочинение, – говорит учитель, протягивая ей двойной листок в линейку, вырванный из школьной тетради. На первой странице написаны ее имя, фамилия и класс – шестой «В». Все сильнее мучимая неправильностью происходящего, Таня разворачивает листок, пытается прочесть текст, но у нее не получается: мелкие, разборчивые буквы не знакомы, это не буквы даже, а какие-то странные символы, вроде самодельных иероглифов. – Ну? – Я не… не могу, – Таня понимает, что упускает самое важное. Оно прямо тут, под носом, но все ускользает и ускользает от взгляда. – Не могу прочитать. – Попробуй. Ты должна. Она снова вглядывается в закорючки, и те вдруг складываются в текст: «МОЙ ОТЕЦ – УБИЙЦА». Она открывает рот, чтобы начать читать, но голос замирает в горле. – Все-таки не можешь прочесть? – удивляется учитель. – Что ж, придется оставить тебя в классе до тех пор, пока не научишься. Все остальные свободны. Таня поворачивает голову и видит пустой класс. Спинки стульев, по всем правилам придвинутых к партам, чистые столешницы, линолеум без единой черной полоски или прилипшей жвачки. Так правильно, но так мертво. Картинка начинает неспешно складываться у нее в сознании. – Ну, попробуй, – говорит учитель, поднимаясь со своего места. Под свитером проступают багровые буквы. Таня вновь смотрит на свое сочинение – теперь там всего одна фраза, криво написанная поперек обеих страниц: «ВЫВЕРНУТЬ НАИЗНАНКУ». Она вспоминает и понимает. – Читай! – велит учитель, растопыривая руки и слегка приседая, словно собираясь поймать ученицу. – Читай! Читай! – Не буду, – отвечает Таня. – Почему? – Это всего лишь морок. Грачев теряет форму, растекается в окружающем его пространстве черной кляксой, огромным шевелящимся пятном, в котором проступают хищно оскаленные пасти. Он набрасывается на ученицу и проглатывает ее. Она падает во тьму, зная, что ждет внизу. – Ты наша! – шипят пустые голоса со всех сторон. – Наша! Наша! – Вывернем наизнанку! – грозится, смеясь, Лешка Симагин. – Сожрем твои кишки! – Навсегда! – обещает директриса, мерзко хихикая. – На этот раз ты останешься здесь навсегда! – Сдохнешь, сука! – хрипит Кривошеев. – Сссдохнешшшь, сссука! Ледяная вода принимает мягко, без плеска. Таня не успевает задержать дыхание, отчаянно барахтается, пытаясь вырваться к поверхности, но множество цепких пальцев смыкается на ее ногах, и мертвый Федор Петрович шепчет в самое ухо: – Пришла пора вернуться на дно. Таня брыкается, однако хватка чертовых рук не ослабевает, и она погружается все глубже и глубже. Смерть наполняет тело, расползается по венам, пропитывает мышцы, растворяет ее в себе, превращает бытие в безумное, никчемное сновидение. Она лежит на спине, мокрая хвоя колет голую спину. Горячий язык касается ее сосков, ползет влажным слизнем по груди, замирает на подбородке. – Она не проснется, – раздается рядом знакомый шепот. Мягкий. Нежный. И вот уже не один, а несколько языков ласкают ее кожу. Таня опускает взгляд и, задыхаясь от ужаса, отшвыривает от себя липкую, изменяющуюся, хихикающую тварь. Потом была поляна. Облезлые сосны вокруг, пять высоких тощих фигур, согнувшихся над ней, – как на том рисунке, что кто-то исправил во втором классе. Она стояла на ладони, и Чертовы пальцы сжимались в кулак, собираясь раздавить ее. – Сейчас все кончится, – пообещал один из них голосом Кривошеева. – Но сперва насладись зрелищем. Таня вдруг увидела себя со стороны, в машине на пустой трассе в нескольких километрах от города N. Вот она приподнимается, поворачивается назад, перегибается через спинку сиденья, склоняется над неподвижно лежащим Вадиком. – Он нужен нам! – зарычал кто-то за его спиной. – Убей! Отдай его! Таня смотрела, как ее руки ложатся на тонкую мальчишескую шею, как напрягаются пальцы, наполняясь силой, готовясь к решающему, роковому движению. – Ну же, – настаивает кто-то за спиной. – Это у тебя в крови. Это семейное. Еще чуть-чуть – и ты сможешь повелевать нами. Забудь старика, он слаб, он безумен. Подумай, что мы в состоянии подарить тебе. – Во всей школе сейчас идут уроки! – закричала в отчаянии Таня, чувствуя, как струятся по щекам слезы. – А вы здесь так шумите! За то задание, которое я вам дала, каждый из вас получит оценку! Каждый! Из! Вас! Суки! Получит! Оценку! Ее руки замерли на горле мальчика, остановились в последний момент – она больше не могла видеть, но знала, а потому продолжала кричать изо всех сил, не думая, не прерываясь: – Я соберу тетради! Я сейчас соберу тетради! В башках у вас говно, сраные уроды! Встань с пола, сучонок! Еще раз увижу – родителей в школу! Чертовы пальцы отступили, то ли в замешательстве, то ли готовясь нанести карающий удар. Но Таню это уже не волновало, она шагнула к ним, ослепленная яростью, развивая и закрепляя достигнутый успех, хлеща криками, словно тяжелым кнутом. – В каком году родился Аттила в каком году родился Аларих отвечать мне когда тебя спрашивают засранец! Чтоб вы сдохли твари мрази ублюдки! Засуньте свой педсовет себе в жопу! Да я ударила его и снова ударю и еще десять раз ударю потому что это не ребенок а последняя сволочь таких только мордами по полу возить… Далеко впереди полыхнуло. Все вокруг залил хлынувший откуда-то из глубины леса яркий белый свет, мир лишился теней – тут Таня в первый и последний раз смогла отчетливо разглядеть стоявших перед ней братьев Грачевых, увидела Чертовы пальцы во всем их загробном величии и уродливо-безликой красоте. Вместо кожи – глина, покрытая множеством кривых, пересекающихся трещин. Из трещин выползает плотными тонкими струйками темный дым, сочится гной. Тела увиты выцарапанными на глине надписями на неизвестном языке, надписи эти свисают с шей и запястий подобно обрывкам цепей или веревок. В ладонях – сквозные дыры, а на месте лиц – ямы, выбоины, в глубине которых полыхает тусклое пламя. А потом видение сгинуло, сразу же умолкли проклятые голоса. Таня пришла в себя, будто вправду вынырнула из черного омута, завертела головой, судорожно хватая ртом воздух. Ужас прошел, и на его место явилась ярость. Таня выскочила из машины, зажгла фонарь, в три прыжка спустилась вниз, к месту аварии, и принялась шарить лучом по разбитой в хлам передней части «шестерки», по земле вокруг. Пусть у нее нет сверхспособностей, нет особых умений и опыта общения с призраками, но ждать здесь больше она не могла. Эти твари обращались с ней, как с куклой, залезали в мозг, как в пакет с чипсами. Терпеть подобную мерзость, просто так сидеть, трястись, остервенело надеясь, что пронесет, она не имела права. Тем более не имела права позволить себе причинить вред Вадику. И, хотя некая здравомыслящая, трусоватая ее часть намекала, что настало время выполнить указания и мчаться прочь, она отмела все разумные доводы. Злу нужно было взглянуть в лицо, чем бы ни грозила такая дерзость. Отыскав пятна, на которые раньше обратил внимание Лицедей, Таня спешно зашагала по этим следам. Вскоре трава сменилась плотным ковром палой хвои, на котором стало невозможно ничего различить. В отчаянии мотнув фонарь из стороны в сторону, она сумела разглядеть нечто белое в нескольких метрах слева на общем серо-черном фоне. Подбежала. Белое оказалось оторванной босой ступней. Павел Иванович лежал тут же, за деревом, и никакая хвоя не могла впитать ту лужу крови, что натекла из-под него. Он был безвозвратно и беспросветно мертв. В другое время Таню, возможно, начало бы мутить от столь неприятного зрелища, в другое время она, возможно, вспомнила бы, что лежащий перед ней человек был ее отцом, но сейчас ею владела дикая, искрящаяся злоба, а потому, пнув труп под ребра, она перешагнула через него и стала осматриваться, пытаясь определить, в каком направлении двигался отряд Лицедея. Где-то впереди, достаточно далеко, вне досягаемости луча света, ощущалось некое движение, оттуда доносились приглушенные звуки борьбы и неразборчивые выкрики. Погасив фонарь, Таня прислушалась. Тот самый голос, который несколько часов – или лет? – назад в актовом зале грозил отобрать у нее лицо. Тот самый, которым говорил дьявольский учитель в последнем видении. Хриплый, но в то же время монотонно шелестящий, похожий на далекий шум волн: – Тебе не выдержать. Ты постарел, Лицедей. – А ты вообще сдох, – отвечал старик, и слова его наполнял истерический, почти безумный смех. – Ты же сдох, гнида! Таня сделала несколько шагов в сторону голосов, но тут впереди полыхнуло – тем же белым, слепящим светом. Только на этот раз он был абсолютно реален. Прежде чем зажать ладонями глаза, наполнившиеся острой, режущей болью, и рухнуть на землю, Таня успела заметить во вспышке многое, но только месяцами позже, когда события этой ночи станут вновь являться ей во снах, она начнет понимать, что именно сумела тогда разглядеть. А пока лишь на долю секунды предстали меж деревьев гротескные, чудовищные фигуры, переплетенные в ожесточенной схватке, – и вот она повалилась на колени, скрипя зубами. Глаза жгло нестерпимо, горячие слезы лились ручьем. Таня с трудом подавила рвущийся из глотки крик, заставила себя лежать спокойно, хоть и была уверена, что на лице у нее теперь две обугленные дыры. Совсем рядом продолжалась битва. Гремели ругательства и заклинания, свистели, рассекая воздух, заговоренные ножи, хрустела под колдовскими и физическими ударами плоть. Снова вспышка – такая яркая, что Таня заметила ее, даже зажмурившись, даже вжавшись лицом в хвою. Потом раздался чей-то пронзительный крик, оборвавшийся внезапно и резко, будто обрубленный топором. – В очередь, суки! – яростно взревел Молот, а ответом ему было шипение множества оскаленных пастей. Снова грохот, что-то тяжелое с силой врезалось в сосновый ствол, отчего на землю посыпался настоящий дождь из иголок и шишек. Несколько секунд, наполненных ожесточенным пыхтением, затем протяжный вой, больше звериный, чем человеческий, следом влажный, чавкающий хруст – и тишина. Таня постепенно приходила в себя. Боль в глазах утихала, они еще слезились, но, по крайней мере, оказались на привычном месте. Через минуту или полторы после того, как все стихло, она медленно поднялась, включила фонарь, намереваясь добраться-таки до места сражения. Тотчас из тьмы к ней рванулось нечто окровавленное и изуродованное, больше похожее на экспонат анатомического музея, чем на живое существо. Таня в последний момент умудрилась увернуться от длинных рук. Вскрикнув, она отшатнулась, чудом не зацепившись ступней за один из многочисленных узловатых корней, торчащих из земли. Тварь, безусловно, напоминала человека, но слишком уж во многих местах сгибались ее тонкие конечности, слишком узкими были костлявые плечи, а кошмарная морда, казалось, состояла лишь из черной дыры распахнутого рта. Молочно-белую кожу монстра заливала кровь, но без труда можно было различить многочисленные символы, похожие на иероглифы, покрывавшие все тело или то, что от него осталось. У существа не хватало левой ноги, а из распоротого живота свисали сизые ошметки внутренностей. Именно поэтому Тане и удалось избежать его когтей.
Попав в луч света, тварь зашипела, рванулась в сторону, исчезла во мраке. Таня принялась лихорадочно крутить фонарем, надеясь вновь зацепить ее, но белое пятно выхватывало из темноты только стволы деревьев, переплетения корней да росчерки сухих ветвей. Вдох застрял у Тани в горле, видимо, встреченный стремящимся наружу сердцем. Страх родился в животе, заворочался колючим червивым клубком, пустил ледяные метастазы вниз, до самых коленей, обездвижив ноги, превратив их в мягкие, бесполезные подставки. Чудовище было совсем рядом, бесшумно подкрадывалось, готовое растерзать ее, а она не могла понять, с какой стороны приближается смерть. Секунды, каждая из которых могла стать последней, тянулись невероятно долго, весь мир, казалось, съежился, сжался до размеров крохотного круга света. А потом тварь прыгнула откуда-то сзади – без единого шороха, легко, наверняка. Таня не увидела и не услышала, но почувствовала, ощутила всем своим телом, как чудовище нависло над ней.Она начала оборачиваться, зная, что не имеет ни малейшего шанса успеть, зная, что острые когти вот-вот вонзятся в плечи и шею. Раздался рядом гулкий хлюпающий удар, будто с большой высоты упал на асфальт тяжелый арбуз. Брызнуло на щеку горячей и вонючей жижей. Повернувшись, Таня увидела, как тварь откатывается в сторону с размозженной головой, смятой, словно консервная банка. Хрустнула сбоку ветка, Таня отпрянула, подняв фонарь, и увидела стоящего между деревьев Молота. Тот был без плаща, на лице засыхала грязь, водолазка была разорвана, в прорехах виднелись кровавые разводы. – Ты почему еще здесь? – спросил Молот. – Я просто… – Мальчик умер? – Что? Нет! Не знаю. Надеюсь, нет. – Так какого хрена ты не с ним?! Пошли! Быстро! Они направились обратно, к трассе. Таня, несмотря на то что освещала себе дорогу, едва поспевала за Молотом, без особых проблем шагавшим прямо сквозь ночной лес. Возможно, все дело было в трясущихся ватных ногах. – Лицедей и Серп погибли, – сообщил Молот ровным голосом. – Но дело мы почти закончили. Они вышли к шоссе, Молот вытащил из кармана джинсов какой-то предмет, на ходу протянул его Тане. Это оказался нож из белого металла, один из тех, что служили Серпу. Лезвие было сломано посередине, а рукоятку покрывал слой запекшейся крови. – Держи. Это последний. Ключи не потеряла? – Нет. Поедем в город? – Типа того. Ты давай садись за руль, а я к пацану. Сейчас все объясню. – Я? Но… – Не спорь! Умеешь ведь водить? – Да. – Ну вот! Они выкарабкались из кювета, добрались до «десятки». Таня, как было велено, заняла водительское место, а Молот забрался на заднее сиденье, положив голову и плечи Вадика себе на колени. – Заводи, – сказал он, захлопнув дверцу. – Быстро. – Поняла, – кивнула Таня, у которой уже не осталось сил удивляться. – Как скажешь. С третьей попытки ей удалось завести машину, и они двинулись в обратный путь. Таня, год назад сдавшая на права за компанию с одной из подруг – своего автомобиля у нее не было даже в планах, – вцепилась в руль так, будто это был спасательный круг. Только сжав пальцы добела, удавалось остановить их дрожь. – Сильно не гони, но держи не меньше шестидесяти. – Шестидесяти? – Глянь направо. Таня скосила глаза. Там, в темноте, за деревьями, что-то двигалось. Тварь невозможно было разглядеть, но первобытное предчувствие хищника, преследования, родившееся где-то в солнечном сплетении, на корню изничтожило все возможные сомнения. – Это Клим Грачев, – пояснил Молот. – Не волнуйся, он скоро отстанет. Слушай, что я буду говорить, но не оборачивайся. Ни в коем случае не оборачивайся. Поняла? – Поняла. – Думаю, ты должна знать, что произошло, – начал Молот. – Как тебе известно, гребаный книжник попал в аварию и умер. Таким образом, Чертовы пальцы лишились шансов на полноценное возвращение к жизни, по крайней мере, в ближайшем будущем. Мы висели у них на хвосте и, разумеется, нашли бы книгу. Они пошли на крайние меры – воплотились самостоятельно, основываясь на той работе, что уже была проделана Павлом Иванычем. Книга не дописана, ритуал не завершен, а потому воплощение получилось не особенно удачным. Во-первых, младшие Грачевы деградировали практически до уровня животных, превратившись в… ну, ты видела – эдаких человекоподобных боевых зверей. Нормальный уровень интеллекта сохранился только у Клима. Молот откашлялся. Таня, успевшая более-менее освоиться со своими водительскими обязанностями, непроизвольно бросила короткий взгляд в зеркало заднего вида. Тут же тяжелая ладонь хлопнула ее по плечу, а зеркало с жалобным хрустом покрылось плотной сетью трещин. – Следи за дорогой! – рявкнул Молот. – Слушай! Тебе нельзя сейчас смотреть на меня, это очень опасно. Он снова зашелся кашлем, а отдышавшись, продолжил спокойным, ослабевшим голосом: – Долго объяснять, а зря тратить время неохота. От темы отвлекаться не хочу. Слушаешь? – Конечно. – Хорошо. В общем, они подобрали книжку, навязали нам бой, прекрасно зная, что стенка на стенку у нас не очень много шансов. Но ты помогла, немного спутала их планы. Да и мы оказались не так уж и плохи, честно говоря. Всех младших ухлопали, а книжку сожгли. – Сожгли? – Да. Кхха… Правда, не целиком. Лицедей не дотянулся совсем немного, она порядочно обуглилась, но не догорела. Тем не менее. Это достижение. Из которого можно сделать кое-какие выводы. Слушаешь внимательно? – Ага. – Отлично. Сейчас про вас. Клим Грачев не убит, а книга все еще у него. Но на самом деле ему кранты: он развоплощается. Очень быстро развоплощается. И болезненно, надеюсь. А выход теперь у него ровно один – вот этот мальчишка. – Вадик? – Да. – Почему? Там ведь вроде любые дети подходили. – Ну, где он возьмет других посреди леса? Кроме того… Мне кажется, возникла определенная связь. Пацаненок – уже часть ритуала, главный элемент, который им так и не удалось поставить на нужное место. Грачев будет действовать быстро. Получится убить мальчишку, и тогда есть шанс – просто шанс, заметь – что ритуал, задуманный Павлом Иванычем, все-таки сработает полноценно. С другой стороны, учитывая обгоревшую книжку и сегодняшнюю ночь, может и не сработать. Вполне может не сработать, но… – Лучше не рисковать. – Именно. Поэтому вам надо делать ноги. До утра нигде не останавливаться, бежать, бежать, бежать. Я бы дал Грачеву от силы часа три. Даже если он протянет больше, солнечный свет прикончит его. – Понятно. – Умница, – Голос Молота становился все слабее, все тише, полнился болезненным, тяжелым хрипом. Паузы между фразами увеличивались, а дыхание учащалось. Таня была бы рада предложить помощь, но спорить с человеком, способным смять автомобильную дверь взглядом, не хотелось. Снова кашель, долгий, надсадный. – Вот еще что… значит, так. Вы с пацаном вернетесь в город. Тебе придется иметь дело с полицией. Нужно будет наврать им что-нибудь насчет школы и насчет мальчишки. Получится, не переживай, это не так уж сложно: главное, держись близко к правде, но саму ее не трогай – никто все равно не поверит. – Само собой. – Я надеюсь на тебя, Танюха. Больше не на кого, извини. – Ничего. – Ты молодец. Мы… хотели уберечь тебя… от правды. От отца. Но зря. Ты сильная. – Я справлюсь, да. – Дальше. Ты никогда не слышала о людях, известных как Лицедей, Молот или Серп. Ты никогда не слышала об организации, известной как Контора, тем более, что таковой в наши дни на самом деле не существует. Ты никогда не слышала об аггелах-хранителях, о братьях Грачевых, колдовстве или теории взаимодействующих реальностей. Тебе никогда не снились сны, которые потом сбывались, и никогда в жизни не попадалось словосочетание «чертовы пальцы». – Я ж не дура. Понимаю, что к чему. – Теперь… самое главное. Нож останется у тебя. Он последний, единственный в мире. Когда-нибудь, возможно… скорее всего, никогда, но все-таки – возможно… тебе позвонят, и аггел-хранитель с позывным Полнолунный попросит о встрече. Отдашь ножик ему. Только ему, и никому больше. Узнаешь его по условной фразе – «нет чище и надежнее человека, чем хорошо заточенный клинок». Повтори. – Я запомнила. – Повтори! – Нет чище и надежнее человека, чем хорошо заточенный клинок. За поворотом показались огни города N. Словно огромный, на полгоризонта, догорающий костер, поднимался он из ночных глубин. Каждый огонек – чья-то жизнь, фонарь, освещающий чей-то путь, чье-то окно, чья-то обыденная реальность. Тысячи переплетающихся, сливающихся, но все же обособленных миров. И тем не менее – лишь крохотная капля в вечно бушующем океане бытия. Таня поежилась. – А, – сказал Молот, теперь голос его мог принадлежать только смертельно больному. – Вот еще что… возможно, если все пройдет хорошо, тебе предложат работу в несуществующей организации… несуществующую работу, у тебя врожденные способности… разумеется… это вряд ли вероятно, но мало ли… смотри сама… лучше откажись… кхха… для своего же блага, откажись… ладно… тормози. Таня остановила машину. – Выходи, – пробормотал Молот еле слышно. – Забирай мальчишку. Таня открыла дверь, обернулась. Молот сидел, откинувшись на спинку сиденья, открывая и закрывая рот, будто выброшенная на берег рыба. Лицо его стало настолько серым, что это можно было увидеть даже в темноте. Руки, одна из которых еще сжимала запястье ребенка, заметно дрожали. Теперь он казался глубоким стариком, изможденным и высохшим. Но с Вадиком произошла обратная перемена. Синяк полностью рассосался, ссадина на виске подсохла, на щеках появился румянец, с ладоней исчезли уродливые кровоподтеки от веревки. Он медленно приподнял веки, уставился на Таню с легким недоумением, какое бывает у людей сразу после долгого сна. – Господи, – Таня тяжело сглотнула. – Что ты сделал? – Не дал ему умереть, – ответил Молот, слегка приподняв голову. – Идите… а я… останусь… мне в другую сторону. – Давай я тебя в больницу подброшу. На машине, а? Мы успеем. – Она без меня не поедет. Идите. Не теряйте… – В смысле, не поедет? – Таня бросила взгляд на приборную панель. Указатель уровня топлива сообщал, что бензобак пуст. Как и десять минут назад, как и в тот момент, когда она впервые села в эту «десятку» у крыльца школы. Подсветка на панели медленно гасла, свет фар тоже тускнел. Энергия стремительно покидала автомобиль, утекала вместе с жизнью последнего из его хозяев. – Господи, – Таня, лишившаяся всякой способности удивляться, приняла новое чудо, как данность. – Я не знаю, как… Но Молот больше не отвечал. Слабо мигнул спидометр на панели, и машина погрузилась во мрак, превратившись в обычную металлическую конструкцию, холодную и неподвижную. Таня обошла «десятку», помогла выбраться Вадику, вытащила два фонаря. Молот лежал, запрокинув голову, и, не мигая, смотрел сквозь заднее окно в небо, где из-за рваных клочьев туч показалась ущербная луна. Серебряный свет отражался в его зрачках. – Пойдем, Вадим! – торопила Таня мальчика. – Грачев догоняет. Нам нужно спешить. Королев сделал шаг и едва устоял на ногах. Видно было, что силы еще только начали возвращаться к нему. – Холодно, – сказал он. Таня накинула ему на плечи свою куртку, взяла за руку. – До города осталось совсем немного. Ты сможешь идти? – Попробую, Татьяна Павловна, – чуть слышно ответил Вадик. – Только не очень быстро. – Хорошо-хорошо, главное – иди. Вадик переменился в лице. Глаза забегали, а ноздри раздулись, словно у напуганного жеребенка. Он снова стал бледным, как простыня. – В чем дело? – спросила Таня. – Запах, – с трудом выговорил Вадик трясущимися губами. – Разве вы не чувствуете? Мертвецом пахнет. Таня принюхалась. Действительно, в воздухе появился приторный аромат разложения. Он становился сильнее с каждой секундой, накатывал неспешной тошнотворной волной. – Черт побери, – процедила Таня. – Наверно, это Грачев. Скорее! Она повернулась в сторону города, потянула мальчика за собой. Спокойствие и уверенность, появившиеся после победы над Чертовыми пальцами в видении, исчезли бесследно, больше всего ей сейчас хотелось оказаться в своей кровати. Детское, глупое желание, но оно было настолько сильным, что Таня приготовилась тащить Королева даже волоком, лишь бы приближаться, приближаться к дому. – Стоять! – не крик, не вой, не хрип, нечто среднее, совершенно противоестественный звук. За спиной. Все это уже было. Мальчишка рядом, чудовище, приближающееся сзади. Во сне, а потом еще раз, в школе. И вот теперь снова. Нельзя опять бежать, иначе никогда не закончится эта проклятая ночь, иначе сомкнутся на горле Чертовы пальцы, иначе… Вадик всхлипнул. Таня обернулась, и луч фонаря упал на крадущееся в темноте чудовище. Клим Грачев выползал на дорогу. Он шел на ногах, но движения его, странно плавные, водянисто перетекающие одно в другое, напоминали о большой черной змее, подкрадывающейся к двум парализованным страхом жертвам. Таня почувствовала, как подступает к горлу тошнота. Грачев был одет в кожаный плащ, снятый с погибшего Лицедея, однако плащ не мог скрыть того, что тело под ним стремительно разлагалось. Капала на асфальт мутная жидкость, а потемневшая, разбухшая плоть сползала с костей. Колдун вернул себе лицо, но от него вновь осталось не так уж и много. Левая глазница опустела, щека под ней полностью провалилась, обнажив желтую челюсть, кое-где еще прикрытую остатками десны. Говорить ему было трудно, но он пытался. – Отдай мальчишку, – проскрипел Клим Грачев. – Мне нужна кровь. Вместо ответа Таня вытащила из заднего кармана джинсов обломок ножа из неизвестного белого металла, выставила перед собой, хотя и понимала, что ценность обломка как оружия, особенно в ее руках, стремится к нулю. – Мое лицо гниет, – сказал Грачев. – Это очень больно. – Мне насрать, – ответила Таня. – Мои братья снова умерли, – сказал Грачев. – Я остался здесь один. – Хорошо. – Отдай пацана, а я отпущу тебя. Разойдемся миром. – Нет, – Таня отступила на пару шагов, загораживая собой Вадика. – Не разойдемся. Грачев пошатнулся, взмахнул руками, стараясь удержать равновесие. При этом несколько пальцев правой руки его с влажным хрустом отломились от запястья. – Чего ты хочешь? – прохрипел колдун, не обратив ни малейшего внимания на потерю. – Я все выполню. Я буду служить тебе, буду твоим рабом. Достанусь по наследству. Восставшего мертвеца мотало из стороны в сторону, как сильно пьяного, несколько длинных сальных прядей, остатки некогда густой шевелюры, падали на изуродованное лицо. – Все, что хочешь, – твердил он, пока содержимое его живота выползало черной пузырящейся массой из разошедшегося пахового шва. – Как сраная золотая рыбка – любое желание. – Не надо, – сказала Таня. – Отойди. Утробно зарычав, Грачев бросился на нее, вытянув перед собой руки. Таня отскочила, замахиваясь обломком ножа, но ударить не успела – правая нога колдуна, на которой уже не оставалось плоти, сломалась чуть ниже колена, и он мешком рухнул наземь. От удара голова его треснула, брызнул гной, нижняя челюсть вместе с языком отлетела в сторону. Существо, уже совсем не походившее на человека, приподнялось на локтях, единственный глаз, налитый кровью, уставился на Таню. В этом взгляде не было ничего: ни мольбы, ни гнева, ни злобы. Пустота. Вечность. Потом Грачев повалился ничком, содрогнулся раз, замер. Из-под плаща расползалась в обе стороны вонючая лужа, а в лучах света становилось видно, что от нее поднимается пар. Несколько секунд, может, целую минуту, Таня и Вадик просто стояли над ним, не отводя фонарей. – Все, – сказал наконец мальчик. – Умер. Он вдруг – Таня не успела не только среагировать, но даже понять, что происходит – резко подскочил к мертвецу, нагнулся над ним, выхватил из кармана плаща какой-то предмет и отпрыгнул назад. – Вот! – торжествующе прошептал он. – Последнее! В руках Королев держал обгоревшую, изрядно истрепанную и помятую, но пока еще не развалившуюся тетрадь в черном переплете. – Что это? – спросила Таня, хотя знала ответ. – Книга. Татьяна Павловна, у вас есть зажигалка? – Нет. Погоди-ка. Таня вернулась к машине, открыла бардачок и без особого труда отыскала в нем то, что нужно. – Отлично, – кивнул Вадик. – Минутное дело. – Не заглянем внутрь? – Я заглядывал. Гримуар занялся быстро. Огонь жадно заглатывал страницы, наверстывая упущенное. Таня аккуратно, чтобы не сбить пламя, положила горящую тетрадь на заднее сиденье, рядом с рукой Молота. – Может, разведем костер? – спросил мальчик. – Вы замерзли. Таня, которую и вправду начала бить дрожь, покачала головой: – Давай-ка лучше в город поживее. Столько дел. – Пойдемте, – Вадик тронул Таню за локоть. – Татьяна Павловна? Вы мне по дороге все расскажете, хорошо? – Конечно. – С нами ведь должны связаться? – Связаться? – Человек с позывным Полнолунный, да? Я просто слышал кое-что, пока мы ехали. – Не знаю, – Таня остановилась, посмотрела, обернувшись, на «десятку», освещенную изнутри все еще горящей черной книгой. Свет и тьма, огонь и ночь, зло, пожирающее само себя. Бытие, пожалуй, действительно можно расчертить двумя перпендикулярными линиями, но линию своей жизни на этой оси координат каждый рисует сам. Таня повернулась к мальчику, уже зная, что в понедельник утром, независимо от того, как будут развиваться события, войдет в кабинет директора и напишет заявление об уходе. Слишком многое ждало ее. Слишком многое нуждалось в немедленном исправлении. Пустые холсты. Запылившиеся краски. – Не знаю, – повторила она. – Надеюсь, однажды все-таки свяжутся. Но я, наверное, сама попробую их найти. – Круто. – Как только что-нибудь узнаю, сразу тебе сообщу. – Договорились. Некоторое время они шагали молча, замерзшие, уставшие, погруженные в свои мысли, следили за пляшущими впереди лучами фонарей. – Вот, блин, – сказал Вадик через пару минут. – Подстава. – В чем дело? – Вы больше не будете у нас вести? – Нет. – Жалко. Назначат вместо вас завуча, а она очень скучно рассказывает. И вообще, тяжело одному в целой школе знать правду. – Ты привыкнешь. Это станет твоей суперсилой. – Мне ведь никто не поверит. – Это уж точно. Чтобы поверили, придется врать. Молодая женщина с мальчиком шли по пустой трассе в сторону городских огней. Морось прекратилась, стих ветер, устав от трудов праведных. Небо готовилось к первому снегу. Ученик спрашивал, учительница отвечала, и ночь больше не имела над ними власти.
Ряженый
– Христос рождается! Славите! Ледяной ветер обжигает щеки, бросает в лицо колючую снежную крупу, уносит дыхание, вырывающееся изо рта белым паром. Снег звонко хрустит под торопливыми шагами, и от этого хруста кажется, будто следом, совсем рядом, идет еще кто-то, большой и тяжелый. – Христос на земле – встречайте! Серебряный морозный лунный свет залил все вокруг, вычертив на снегу четкие тени – такие же иссиня-черные, как бездонная пропасть неба вверху. Снег и небо, свет и тьма, а между ними только деревня, да смех, доносящийся из-за домов, да звучная, плавная песня. – Христос с небес – возноситеся! Глеб спешил. Просторный и светлый, но уже покосившийся от времени дом, в котором его отец, сельский учитель, жил вместе со всей своей немногочисленной семьей, стоял на самом отшибе, рядом с ветхой школой. Чтобы оттуда добраться до околицы, где сегодня начались святочные гулянья, ему даже летом потребовалось бы немало времени. А уж теперь и подавно: закутанный в тулупчик, доставшийся от старшего брата, в валенках не по ноге, в свалявшемся отцовском треухе неуклюже вышагивал он по главной деревенской улице, потея и тяжело отдуваясь. Голоса становились все громче, отчетливее. Впереди показалась вереница огоньков – это уже шли по деревне колядовщики, от дома к дому, от крыльца к крыльцу. Где-то среди них был и брат, нарушивший вчерашнее обещание взять его с собой. Глеб скрипнул зубами от досады и побежал. Валенки терли ноги, треух то и дело съезжал на глаза, по спине лился пот, но он бежал, потому что хотел быть среди этой веселящейся толпы, хотел смеяться и петь вместе с ними, славить и колядовать. Хотел увидеть ряженых. Процессию, как полагалось, возглавлял мехоноша. Глеб узнал его, это был Никита, сын кузнеца и лучший друг брата. Высокий, плечистый, он закинул за спину огромный холщовый мешок, пока еще наполненный едва ли на четверть. Следом за ним шли парни и девушки с фонарями в виде берестяных домиков со свечами внутри и бумажными звездами на высоких шестах. Когда Глеб наконец подбежал к ним, они как раз поднимались на очередное крыльцо. Чуть позади колядовщиков двигались ряженые. У них не было фонарей, и здесь, между светом и тьмой, они выглядели сумрачно и жутко. Массивные, бесформенные силуэты с бледными уродливыми мордами, в которых было совсем мало человеческого. У Глеба захватило дух. Он вдруг вспомнил, как два года назад бабушка рассказывала им с братом о том, что во времена ее молодости ряженые изображали вернувшихся из-за гроба мертвецов, которые стремились к своим родным в канун Рождества. Глебу тогда было всего семь, и он мало что понял, но сейчас готов был поверить, что перед ним не живые люди, а выходцы с того света. Бабушка умерла еще весной, и, может, она тоже стояла среди них. Но вот кто-то в толпе ряженых, несмотря на мороз, ударил по струнам балалайки, кто-то – в мохнатой медвежьей маске – звонко и гулко ударил в бубен, и наваждение исчезло, пропало без следа. Нет и не было никаких покойников, лишь веселые гуляки в вывернутых мехом наружу тулупах и с закрытыми лицами. Остановившись, тяжело дыша, во все глаза смотрел Глеб на маски: тут и козел, и медведь, и волк, и свинья, и черт. Некоторые мужики, не мудрствуя лукаво, повязали на головы бабьи платки или просто вымазали щеки сажей, некоторые нацепили берестяные личины с нарисованными на них смешными рожами. Никого не узнать. Хотя нет, вон у одного из-под бараньей морды свисает густая сивая борода. Это наверняка дед Семен, первейший деревенский балагур. А вон тот, с большим бумажным клювом на носу, похож на пастуха Ваську. Глеб наконец-то отдышался и успокоился. Все-таки он успел на самую веселую часть праздника. Мехоноша Никита тем временем громко постучал в дверь, закричал низким, раскатистым басом: – Эй, хозяева! Его спутники и спутницы грянули дружным хором: – А мы к вам пришли! Поклон принесли! Дверь открылась, выглянул хозяин – коренастый, лысый, в вязаной телогрейке. Густая борода не могла скрыть широкую довольную улыбку. – Чего расшумелись? – притворно рассердился он. – А ну ступайте прочь! – Коль не дашь пирога, ни кола ни двора! – ответили колядовщики. Начался неспешный, обстоятельный шутовской торг, по заведенному испокон веков обычаю. Гости угрожали, умоляли, льстили, а хозяин отнекивался и бранился, но мало-помалу уступал. Глеб знал, что в конце концов он вынесет и пирога, и других сладостей, а к полночи, когда процессия обойдет всю деревню, мешок будет набит угощениями до самого верха. Тогда уж начнется пир горой. Ряженые тоже не скучали без дела. Двое из них, петух и свинья, сошлись посреди улицы в потешном поединке под размеренное позвякивание бубна, бренчание балалайки и одобрительные выкрики товарищей. Петух вертел головой, хлопал себя руками по бедрам, а свинья уморительно хрюкала. Вот они сшиблись, свинье удалось подмять противника под себя, но тот, изловчившись, тюкнул ее клювом в самое темя. Взвизгнув, свинья отпрянула, и петух тут же налетел на нее, пронзительно крича победное «ку-ка-ре-ку». Все вокруг сгибались пополам от хохота. Неожиданно сзади раздалось: – Эй, Глебка! Глеб обернулся и тут же получил по лицу жестким снежком. Мимо промчался Афонька, его одногодок, главный заводила среди всех деревенских детей. Смеясь, он крикнул: – Рот не разевай! – и скрылся в толпе. Отплевываясь, Глеб бросился вслед, на ходу выдернув из сугроба пригоршню снега. Обидчику предстояло поплатиться. Шло время, неумолимо исчезая в пустоте, и стрелки на часах ползли своей обычной дорогой. Но для тех, кто пел и плясал на улице, эта волшебная ночь растянулась надолго, и казалось, не будет ей ни конца, ни края – только вечный, бесшабашный праздник, полный уютного счастья, слегка захмелевший от свежесваренной браги. Колядовщики стучались в каждую дверь, везде неизменно получая гостинцы. Мешок на плече у Никиты заметно раздулся, и вздыхал мехоноша тяжело, устало. Но улыбка не сползала с его довольного лица. Такая уж это была ночь. Ряженые пели частушки и колядки, ревели звериными голосами, мутузили друг друга и разыгрывали смешные сцены. Носилась вокруг мелюзга, перебрасываясь снежками. Глеб, не обращая внимания на остальных мальчишек, преследовал Афоньку. Тот оказался чересчур ловок и постоянно уворачивался от его снежков, дразнясь и обзываясь. Первоначальная обида на него прошла, остался лишь азарт, горячий азарт настоящего охотника. Вот она, дичь – высовывает розовый язык, поскальзывается на бегу. Сейчас, сейчас! Опять не попал! Снежок пролетел чуть-чуть мимо цели. А Афонька, вконец расшалившись, кинулся к безоружному Глебу и, сорвав с его головы треух, побежал прочь. – Эге! – гневно закричал Глеб. – Отдай! Не тут-то было. Торжествующе потрясая трофейной шапкой, обидчик скрылся за углом ближайшего забора. Вот ведь гадина! Глеб чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Отпуская на гулянье, мама строго-настрого велела ему не снимать треух. Особенно после бега, как бы жарко в нем ни было. И вот. А если он так и не получит его обратно? Предрождественский мороз уже высушивал капельки пота на висках, пока это еще приятно, но ничего хорошего ждать, понятное дело, не приходилось. Ни один из гуляк не обратил внимания на его беду. Колядовщики как раз подошли к дому старосты, и никому вокруг не было дела до девятилетнего мальчика, потерявшего свою шапку. Проглотив слезы, Глеб двинулся по Афонькиным следам. Повернув за угол, оказался он в узком проходе меж двух дворов. Проход этот вел к старому колодцу, за которым начиналось поле. Летом мальчишки любили прятаться около него, очень уж удобное и неприметное было место. Колодец давно пересох, а площадка вокруг заросла малиной и жимолостью. Пока прячешься, можно ягод наесться до отвала. Сейчас же здесь все было покрыто толстым белым покрывалом, и на нем отчетливо отпечатались следы Афонькиных валенок. Они уходили вперед, скрываясь в темноте. – Афо-о-онь! – крикнул Глеб. – Хватит! Верни шапку! Тишина. Мороз больно щипал уши. Подняв повыше воротник тулупа, Глеб побрел по проходу. Над покосившимися заборами с обеих сторон нависали черные ветви, голоса и музыка позади теперь звучали глухо, будто доносились издалека, но он все равно разбирал слова колядки. – Коляда, коляда! Ты подай пирога! Заборы закончились, и впереди показался занесенный снегом сруб колодца. Следы огибали его. В свежем смерзшемся воздухе вдруг почудился какой-то странный запах, сладковатый, но неприятный. Идти дальше совсем расхотелось. – Или хлеба ломтину, или денег полтину! Еще звуки. Странный хруст, возня и будто бы тяжелое, с присвистом дыхание. И еще что-то. Песня мешала, колядовщики слишком старательно уговаривали старосту. – Или куру с петушком! Или браги с калачом! Обогнув колодец, Глеб чуть не наступил на свою шапку. Рядом с ней валялась серая варежка. Подобрав их, он поднял голову, и увидел. – Отворяйте сундучки, доставайте пятачки! Чуть в стороне, между кустов жимолости, на потемневшем снегу лежал, раскинув руки, Афонька, а над ним нависала огромная фигура в тулупе, вывернутом мехом наружу. С длинных когтистых пальцев падали черные в лунном свете капли. Падали и прожигали снег. Задранная кверху рогатая маска козла бессмысленно пялилась в сияющее звездами небо. А от того, что было под маской, уже готовый вырваться крик застрял у Глеба в горле. Судорожно хватая ртом воздух, он развернулся и бросился бежать, краем глаза успев заметить движение позади себя. Ужас подстегивал его, сердце бешено колотилось, и ноги, уже немало потрудившиеся в эту ночь, изо всех сил несли вперед, мимо заборов, на главную улицу, туда, где горели окна и свечи в берестяных фонарях, где звенели веселые песни и под масками скрывались улыбающиеся человеческие лица. Хриплое, утробное дыхание за спиной становилось все ближе. Догоняет! Еще немного! Еще! Слетел с правой ноги валенок, Глеб испуганно всхлипнул и в следующее мгновенье, потеряв равновесие, упал лицом вниз, в белую ледяную мглу.* * *
Он стоял на большой поляне, окруженной со всех сторон густым, сумрачным лесом. На правой ноге не было валенка, но холода он не чувствовал. Только страх. Там, за деревьями, что-то двигалось. Хрустели ветки, шелестели кусты, облетал с крон снег. Везде только черное и белое. Вот раздвинулись на опушке тесные заросли можжевельника, и на поляну один за другим вышли трое ряженых, высокие, сгорбленные, в шубах наизнанку. Маски у них были разные: у первого – медведь, у второго – кабан, у последнего – волк. Вышли и остановились, застыли, словно не решаясь идти дальше, словно охраняя невидимую границу леса, замерли на ней неподвижными истуканами. Чуть не плача от ужаса, Глеб направился к ним. Медленно, осторожно, напряженно. Сам себе удивляясь. Что-то вело его, придавало отчаянной смелости. Встал перед первым, потянулся рукой, бережно приподнял маску. Под ней было лицо его отца. Бледное, худощавое, с аккуратно постриженной бородкой. – Все будет хорошо, сын! – сказал отец ласково. – Ты только вернись. Кивнул ему Глеб, немного отлегло у него от сердца. Шагнул ко второму, сдвинул уродливое кабанье рыло, а за ним – бабушкины лучистые глаза. Живые, добрые, вокруг – сеточка морщинок. Как если бы и не умирала, не оставляла их. – Нельзя тебе, Глебушка, в лес, – бабушка улыбнулась, отчего морщинки заметней стали. – Холодно там. Улыбнулся Глеб в ответ и ей кивнул. Потянулся к третьей маске. Оскалилась волчья морда, ощерила клыкастую пасть, зарычала сердито. Отдернул мальчишка руку, отступил на шаг. Не испугался, удивился только. Тут сзади вдруг донеслось: – Эй, я здесь! Обернулся он, а с другой стороны на поляну как раз выходит Афонька. Целый и невредимый, будто бы и не рвали страшные кривые когти ему грудь и живот, будто бы не плавился вокруг него снег, пропитанный горячей кровью. Стоит себе, ухмыляется, рукой машет.
Обрадовался Глеб, побежал навстречу. Но видит тут – что-то не так с Афонькой. Он вроде как и ростом выше стал, и толще, массивней. И вместо улыбки застыла у него на лице жуткая гримаса. И хочет Глеб остановиться, а не может уже, ноги опять подводят, сами несут его навстречу тому, что совсем недавно было веселым дурашливым мальчонкой, а теперь лишь притворяется им. Бывший Афонька раздувается до невероятной степени, и одежда его трещит по швам и рвется, и сквозь дыры лезет наружу черный свалявшийся мех вывернутого тулупа. Лицо расползается, разлетается клочьями, обнажая выцветшую рогатую маску козла. – Кто ты? – кричит Глеб на бегу. – Кто ты такой?! – Я никто! – насмешливо ревет чудовище в ответ. Оно огромно, закрывает собой уже половину неба, но все продолжает расти. – Я никто! Я могу надеть любую личину! И свет меркнет.
* * *
– Он что-то сказал. Ты слышал, он что-то сказал! – Да, кажется, приходит в себя. Глеб открыл глаза. Тьму рассеивала стоящая рядом свеча. Он лежал в своей кровати, укутанный до самого подбородка одеялом. В доме было жарко натоплено, и он весь взмок. – Видишь, я же говорил, что все будет хорошо. Отец. Родной, знакомый голос. Прохладная влажная рука легла ему на лоб. – Жара нет. – Глебушка мой! Это мама. Она сидела рядом, и даже в таком тусклом, неровном свете было хорошо заметно, какие у нее красные, заплаканные глаза. Теперь в них зажглась радость. Она обняла, поцеловала его. Глеб приподнялся на локтях. За окном продолжалась иссиня-черная ночь, и в небе одиноко висела бледная луна. – Давно я сплю? – спросил он, зевнув. Отец, поправив очки, пожал плечами: – Часа четыре. Тебя принесли незадолго до полуночи. Сразу побежали за Авдотьей… – он тронул маму за плечо. – Пойду, разогрею питье. Она кивнула, не сводя глаз с сына. Потом стала ему объяснять: – Авдотья осмотрела тебя, сказала, чтобы не переживали. Да как тут… мы, конечно, и за доктором послали, только раньше утра он все равно не приедет. Да и то еще непонятно, Рождество ведь. Глеб кивал. Авдотья была деревенской повивальной бабкой, и он уже несколько месяцев назад узнал, что это означает. Она же являлась и костоправом, и травницей, и к ней обращались куда с большей охотой, чем к доктору, жившему в соседнем селе. Вошел отец, неся чашку с ароматной горячей жидкостью. – У тебя голова не кружится? – спросил он. – Нет. – А горло не болит? – Нет. – А нос не заложен? – Не заложен. Он снова положил руку сыну на лоб. – Никакого жара. Слава Богу, все обошлось. Выпей вот это. Глеб осторожно взял чашку. – Тот мальчик… – сказал вдруг отец, и мама как-то странно на него посмотрела. – Скажи… это ведь был волк? Глеб удивился: – Что? Какой волк? Тут неожиданно он понял, о чем идет речь. Губы его задрожали, из глаз сами собой хлынули слезы. Мама едва успела забрать у него из пальцев чашку, иначе он бы выронил ее. Уткнув лицо в ладони, мальчик разрыдался. Мама обняла его судорожно вздрагивающие плечи, отец успокаивающе гладил по волосам, приговаривая: – Ну, ну, будет тебе, будет. Потом слезы кончились. Все еще всхлипывая, Глеб сел на кровати и большими глотками выпил все, что было в чашке. – Вот молодец. А теперь тебе надо поспать. Утро вечера мудренее, встанешь завтра, и все покажется просто плохим сном. Спи. Глеб кивнул, опустился на подушку, закрыв глаза. Мама поцеловала его в щеку, задула свечу, и они с отцом вышли за занавеску, отделявшую его закуток от большой комнаты, и теперь мальчик мог лишь слышать их приглушенный шепот. – Тебе тоже надо лечь. Вымоталась вся. – Нет, Авдотья велела проведать ее, как только Глебушка в сознанье придет. Я сейчас к ней быстренько сбегаю. – Вот не спится старухе. Ну хорошо, пошли. Я обещал Матвею помочь… у колодца. Урядник сказал, нельзя ничего трогать до приезда пристава. А они с доктором только с утра появятся. До тех пор надо охранять. Может, зверя-то выследим. – Царица небесная, от кого охранять? – От волков. Да и от людей тоже, незачем им глазеть. – А Глебушке придется с приставом говорить? – Ничего не поделаешь. Он единственный, кому довелось хоть что-то увидеть. Ума не приложу, что им там понадобилось. – Ох, горе-то какое. А кто этот бедняжка? – Говорят, сынишка Федора Сипатого. Самого Федора добудиться не могут никак, пьян мертвецки еще с полудня. – Боже ты мой! Ведь в Рождество… Закрылась дверь, шаги прошумели в сенях, и наступила тишина. Глеб остался в доме один. Он не спал и вовсе не хотел спать. Кусая губы, лежал в темноте и думал о том, как хотелось ему прервать отца, вскочить с кровати и крикнуть, что это был вовсе не волк, не волк, не волк! Что волк совсем не плохой, он только рычал, потому что не хотел пропускать его в лес, а Афоньку по правде убил ряженый в маске козла, который на самом деле… Кто же он на самом деле? Покойник, жадный до человеческой крови? Пастух Васька, бывало, рассказывал им про таких. Выбрался мертвяк из могилы и закрылся личиной, затерялся среди других ряженых, выжидая удобного момента. Или это лесной житель, болотный дух, оголодавший за лютую зиму, притворившийся человеком? Бабушка, наверное, знала бы ответ. Глеб перевернулся на другой бок, посмотрел в окно. Теперь он все хорошо вспомнил, и перед глазами стояли тяжелые капли, срывающиеся с острых изогнутых когтей. У покойников могут быть такие когти. Кажется, один из друзей говорил ему, что у мертвецов ногти и волосы растут и после смерти. Да может быть, это пустая брехня. Чу! За окном что-то промелькнуло. Показалось, будто на мгновенье черная тень загородила собой луну. Сердце вновь бешено забилось в груди, как тогда, у колодца. Прислушался. Тишина. Мерно тикают старые настенные часы с кукушкой в большой комнате, да вроде бы скребется мышь под полом. И все. Наверное, моргнул просто. Тихий, еле уловимый шорох раздался в сенях. Ветер? И вот опять – слабое шуршание. Там кто-то был. Мальчик не спеша сел на кровати, облизал пересохшие губы. Потянулся рукой к свече, но в этот момент услышал, как открывается дверь в большой комнате. Поток холодного воздуха ворвался в дом, зашелестел занавеской. От ужаса Глеб не мог пошевелить даже пальцем. Мысли лихорадочно забились в голове. Мать вернулась? И крадется по дому, чтобы не разбудить его? Окликнуть? Спросить? Язык словно бы прирос к небу и отказывался повиноваться. Где же брат, почему его нет? Он напряженно вслушивался во тьму, но различал только стук своего сердца. Может, вправду почудилось. Примерещилось с перепуга. А дверь ветром открыло. Конечно, так и есть. Осторожно выдохнув, Глеб спустил на пол босые ноги. И тут скрипнули в комнате половицы. И еще раз. И еще. Скрипели сильно, протяжно, не как под обычным человеком. Кто-то большой и тяжелый медленно шел сейчас по ним, стараясь ступать как можно тише. Чтобы не потревожить, не спугнуть раньше времени. Глеб понял, что дрожит. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не стучали. Ни звука. Черное зловещее безмолвие. И в самом его центре – ряженый. Прямо здесь, за занавеской. Протяни руку и дотронешься. Во мраке он не мог видеть, но ясно представил себе его. Громоздкий заиндевевший тулуп мехом наружу, длинные серые пальцы, когти, изогнутые как серпы, нелепая козлиная маска с витыми рогами, под которой ничего нет. Чудовище стояло за занавеской, а на кровати маленький мальчик, по рукам и ногам скованный страхом, не дыша, смотрел в сгустившуюся темноту и ждал, когда оно войдет. Он боялся не смерти, не боли и не крови. Совсем другого. – Я могу надеть любую личину! – сказало оно ему там, во сне, на заснеженной лесной опушке, на извечной границе света и тени. И сейчас Глеб боялся, что когда его родители вернутся, они не заметят подмены.Костоправы
Тишина жестока. Она не позволяет расслабиться. Она отпускает меня, разжимает объятья, и я падаю обратно в кипящий котел реальности. Тьма расцветает огнями проносящихся мимо фонарей. Мы в «девятке» Деда мчимся сквозь ночной город. – Что ты скулишь? Что ты скулишь, сука?! Дед за рулем. Он впился глазами в дорогу, он напряжен и собран, как обычно, но в голосе его слышны страх и ярость, которых я за ним раньше не замечал. Что-то пошло не так. – Мобила… – Что «мобила»? Говори! – Я, по ходу, ее там уронил… – Вот жопа! – Дед бьет ладонью по ободу руля, затем поворачивается к типу на пассажирском кресле – я плохо знаю этого хилого, неестественно загорелого парня, помню лишь, что откликается он на Гвоздя, – и замахивается кулаком. Но только замахивается. Дед тоже плохо его знает. – Мудила, чтоб тебя! Мудила! Ты понимаешь, что если ее найдут, нам кранты? Понимаешь?! Гвоздь всхлипывает: – Прости. – Прости? Я тебе мать родная, что ли, сука? Ищи! – Что? – Мобилу ищи! Гвоздь принимается ощупывать карманы. Дед замолкает. Даже по его затылку видно, как сильно он напуган. Я поворачиваюсь вправо – рядом со мной на заднем сиденье сидит Гена. Гена – это не имя, это погоняло. Потому что он работал в зоопарке. На самом деле Гену зовут Вячеслав или Владислав. По хрену, не важно. Голова его запрокинута назад, глаза закрыты, футболка и джинсы спереди перепачканы красным. Вот что важно. Важнее просто некуда. Дед бросает быстрый взгляд в зеркало и замечает, что я пришел в себя. – Очухался? – спрашивает он. – Антоха? – Да, – отвечаю я на оба вопроса и пытаюсь усесться удобнее. Острая боль пронзает левую руку. Я поднимаю ее, с удивлением рассматриваю ладонь, кое-как перемотанную задубевшим от крови обрывком рубашки. Что-то точно пошло не так. – Какого черта? – спрашиваю я, и голос эхом отдается в пустоте черепной коробки. – Скальпа ранили? – Угу, – отвечает Дед. – Он пулю рукой поймал. Охренеть, сука… Я улыбаюсь, несмотря на то, что рана болит все сильнее. Скальп – не прозвище, а сокращение. От «Скальпель». Никто не знает его настоящего имени. Кроме меня, конечно. Панченко Вадим Игоревич, восемьдесят первого года рождения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, где мы и познакомились. Любитель холодного оружия, особенно разнообразных ножей. Несостоявшийся медик. Интроверт. Импотент. Смертельно опасный сукин сын. – Как там Гена? – Дед смотрит на меня в зеркало. – Дышит? Я неуклюже наклоняюсь, прижимаю ухо к пропитанной кровью футболке, киваю. – Сердце бьется. Но выглядит он не очень. – Ясное дело, сука. Три раза в него попали. – Встреча сорвалась? – задаю я вопрос, очевидный ответ на который умирает рядом. – Еще как сорвалась! – Дед снова бьет ладонью по рулевому колесу. – Никогда не видел, чтобы так срывалось. Гребаные, бляха-муха, отморозки! Слава богу, ты с нами был… в смысле, Скальп был. Иначе хрена с два бы мы оттуда ушли! Скальпель – это я, и в то же время не я. Мой сосед по телу. Парень с одним-единственным талантом: резать людей. Не самое лучшее соседство, согласен, но деваться-то нам друг от друга некуда. Врачи говорят, до конца это не вылечить. Диссоциативное расстройство идентичности, все дела. Раздвоение личности, если по-простому. Мы привыкли. – Ну что? – Дед снова обращает внимание на Гвоздя. – Нашел? – Нет. – Нет. Гондон, сука! Дед чуть сбрасывает скорость, сует руку в карман, достает древний кнопочный сотовый. – Антох, ты как? Смогешь старшому позвонить? Я бы сам, но не до того… Ему и правда не до того. Минуту назад мы свернули с широкой улицы в залитые непроглядной тьмой дворы и теперь петляем по ним, стараясь быстрее вырваться из этого района, обойдя стороной столько камер наружного наблюдения, сколько возможно. Желательно, каждую. Дед хоть и сидит за рулем, но на самом деле весь там – впереди, на узких переулках, тащит нас мимо беспорядочно припаркованных машин и жутко смотрящихся в свете фар детских площадок. – Не вопрос, – я беру сотовый, открываю список контактов. Там лишь один номер, помеченный буквой «Ш». Шахтер. Это наш дорогой шеф. Человек надежный, пусть и не самый приятный. – Слышь? Только не говори, что этот мудлан мобилу там посеял! – беспокоится Дед. – Не вздумай! – Я долбанутый, но не настолько же. После двух гудков Шахтер берет трубку. – Да? – Алло, это мы! Это Антон. Тут ситуация сложилась не самая кошерная… короче, на встрече случился форс-мажор. – Дальше. Голос у Шахтера ледяной, мертвый. Он недоволен, и это понятно. Я не ожидал ничего другого, но холодок в солнечном сплетении возникает мгновенно – крохотный, липкий сгусток страха, нежно обволакивающий тонкими щупальцами желудок. Почему-то очень хочется обратиться к собеседнику поимени и отчеству, однако сейчас делать этого ни в коем случае нельзя. – Расклада не знаю, – собираюсь с силами я. – Не помню. Но автозаводские оказались кончеными беспредельщиками. Постреляли нас. Мы отбились. – Дальше. – Гену ранили, меня тоже. Дед и Гвоздь целы. Валим к реке дворами. – Ясно. Жди. Шахтер кладет трубку. – Ну как? – спрашивает Дед. – Сказал ждать. – Лады, хрен ли. Нам же не жалко. Времени, сука, – хоть жопой жри! – Может, притормозишь пока? Ответить Дед не успевает. Сотовый у меня на ладони ловит входящий вызов. Быстро начальство проблемы решает, ничего не скажешь. Нажимаю кнопку с зеленой полосой. – Слушаю. – Так, – Шахтер говорит резко, отрывисто, будто рубит мясо. – Уходите не к реке, а за город. По Московскому. Там есть место. Гвоздь знает. Скажи ему, что нужно к костоправам, он покажет. – Понял. Щелчок. Шеф отключается. Мог бы хоть удачи пожелать, в конце концов. Я протягиваю мобильник Деду, но он отрицательно качает головой: – Оставь пока. Что там? – Двигаем на Московское шоссе и по нему уже за город, к каким-то костоправам. Гвоздь должен знать, где это. Гвоздь вздрагивает, торопливо кивает: – Ага, ага, знаю, помню. Я покажу. Дед бросает на него презрительный взгляд. Ему явно не по себе от того, что придется следовать указаниям малознакомого чушкана. Но перечить Шахтеру у нас не принято. – Ладушки, – Дед выворачивает баранку, направляя «девятку» прочь из лабиринта дворов. Он знает этот район лучше любого навигатора. Не зря бомбил здесь в былые времена. Судя по всему, сейчас ему лучше не мешать – и без того настроение ни к черту, а уже если под руку говорить, то бедняга совсем съедет с катушек. Уж я-то разбираюсь в подобных вещах. Откидываюсь на спинку сиденья, закрываю глаза. Боль в ладони пульсирует, растекается горячими волнами по всему телу, будит в голове невеселые мысли. Скальпеля ранили. Впервые. Прежде он всегда выходил невредимым из любой схватки. Прежде он всегда успевал нанести удар раньше. Стареет? В смысле, мы оба – стареем? Или просто не повезло? Надо будет спросить, что он сам думает на этот счет. Иногда мне удается поймать отголоски его мыслей, отзвуки его чувств. У парня проблемы с радостью, вот в чем беда. Удовольствие ему доставляют всего несколько вещей: ножи, текущая по пальцам кровь и чужая боль. Я не доктор, но это наверняка как-то связано с импотенцией. У Скальпеля не стоит. Вместо того, чтобы тыкать в людей хером, он тыкает в них лезвиями – и ловит от этого кайф. У меня-то с девчонками все нормально. Правда, хотелось бы их побольше. Человеку вроде меня трудно соблазнить девушку, даже заинтересовать тяжело. Проблемы с головой не спрячешь в черный пакет для мусора и не закопаешь на пустыре. Хорошо, что в последние пару лет у Шахтера много работы для нас – а за сделанную работу он башляет солидно, по-честному. В наше поганое время деньги любую красавицу могут сделать гораздо сговорчивей. Но с серьезными отношениями беда. Когда я с бабой, Скальпель не уходит далеко. Я постоянно ощущаю его присутствие – будто в соседней комнате прячется здоровенный черный пес, внимательно прислушивающийся к каждому нашему движению. Он смотрит на ее лицо моими глазами, изучает ее тело моими руками, вдыхает ее аромат моим носом, хрипит в ее уши, когда я кончаю. А потом исчезает на день или два. Два дня тишины в голове, два дня полного контроля – да я бы наслаждался каждой минутой, если бы не был уверен, что потом Скальпель обязательно объявится вновь, с засохшей кровью под ногтями. Он хочет убить меня. Я знаю. И он знает, что я знаю. Хочет убить меня, единственного свидетеля его слабости, постоянное напоминание о позоре. Но это невозможно, а потому ему приходится вымещать злобу на других. – Что за костоправы? – спрашивает Дед, и я, утонувший в своих мыслях, сперва думаю, что вопрос обращен ко мне и даже открываю рот для ответа, но успеваю вовремя спохватиться. Гвоздь, видимо, тоже убаюканный дорогой, молчит, и Деду приходится повторить: – Говорю, что, сука, за костоправы? – А? – Гвоздь встряхивается, трет рукой глаза. – Костоправы? – Ну, к кому мы едем. – Да двое каких-то… со странными кликухами. – Настоящие врачи? – Хрен их знает. Вроде все грамотно сделали, когда я к ним с Китайцем ездил. Китаец тоже работал на Шахтера. В прошлом году его чуть не повязали прямо на улице, он отбился и после перестрелки с полицией ушел в бега со всей своей бригадой. Говорили, что свалил куда-то далеко, чуть ли не за границу. Хотелось бы верить, что в нашем случае обойдется без таких серьезных мер. – Вспомнил! – Гвоздь театрально хлопает себя по лбу. – Штопаный и Бухенвальд! Как увидите, сами поймете почему. Но они молодцы, работают четко. – А с тачкой что? – Разберутся, не переживай, – он вдруг напрягается, поворачивается почему-то ко мне. – Но про мобилу им тоже не говорите, лады? – Не ссы, – бурчит Дед. – Не их дело. «Девятка» послушно несется по почти пустой дороге. Мы уже пересекли черту города, по обе стороны тянутся бесконечные склады, перемежаемые шиномонтажами, заправками и кабаками для дальнобоев: «У Ирины», «У Надежды», «Горшки – ручная работа» и прочая тускло подсвеченная хренотень. – Сейчас сады начнутся, не пропусти третий поворот направо, – говорит Гвоздь. – Потом прямо до упора – и мы на месте. – Часто там бываешь? – Вместе с Шахтером пару раз заезжали, а потом с Китайцем. Вместе с Шахтером. То-то и оно. Этот хмырь в каких-то особых отношениях с шефом. Не удивлюсь, если в итоге окажется, что потерянный телефон – наша с Дедом вина. – Ага, уже близко! – Гвоздь указывает на пронесшийся мимо рекламный щит с приглашением заплатить всего полтора миллиона за коттедж из клееного бруса. – Почти добрались. Дальше все происходит точно так, как он сказал. Дорогу охватывает садовый массив, и на третьем повороте мы уходим направо. Здесь нет ни фонарей, ни вывесок, и даже небо уже не отсвечивает розовым. Еще пару минут машина ползет сквозь непроглядную тьму, а затем замирает перед решеткой невысоких покосившихся ворот. – Приехали, – сообщает Гвоздь и кивает куда-то во мрак. – Вон Бухенвальд идет. В потоке света появляется нелепая темная фигура, и любые вопросы насчет погоняла действительно отпадают сами собой. Никогда раньше не приходилось мне видеть настолько тощего человека. Он худ не болезненно – смертельно. И даже одежда, висящая мешком на этом словно бы собранном из веток теле, не может скрыть столь вопиющей худобы. Костлявые пальцы упираются в ржавое железо ворот, тянут створку в сторону, освобождая проезд. На участке нет ничего необычного. Чернеют кривые силуэты старых яблонь, стоит длинный деревянный сарай с тяжелым навесным замком на двери, окруженный кустами черной смородины, а за ним виден обычный приусадебный дом: первый этаж кирпичный, второй – деревянный, крытая рубероидом крыша. В крохотном окне горит свет. – Миленько тут, сука, – говорит Дед и глушит двигатель. – Пирогов они, случаем, не напекли? Мы выходим из «девятки». Бухенвальд, уже закрывший ворота, стоит в стороне, за линией вкопанных в землю покрышек, которыми огорожено место для парковки. Смотреть на него неприятно. Что-то нехорошее просыпается внутри при взгляде на этот обтянутый кожей бритый череп, невесть как держащийся на по-птичьему тонкой шее. Он и правда похож на покойника из концлагеря – в детстве я видел немало таких фотографий – и из-за чрезмерной худобы кажется выше, чем есть на самом деле. – Добрый вечер, – говорит Гвоздь. Бухенвальд несколько секунд изучает его лицо, затем спрашивает тихим, бесцветным голосом: – Раненый? – Вот один, – указывает на меня Гвоздь. – Второй в тачке. – Доставайте, – говорит Бухенвальд и, мазнув по мне взглядом, направляется к дому. Мы с Дедом вытаскиваем Гену из машины. Бедняга дышит тяжело, с хриплым, звериным присвистом, стонет, но не приходит в себя. – Давай помогу, – подскакивает Гвоздь, указывая на перевязанную тряпьем ладонь. – Тебе неудобно. – Справлюсь, – бурчу я, еле сдерживая желание оттолкнуть его. Нам со Скальпелем все меньше нравится этот тип, да и место, в которое он нас притащил, тоже. Здесь все почему-то не так, как должно быть. Здесь пахнет подставой. Мы волочем Гену к дому, к распахнутой Бухенвальдом двери. Я держу раненого за запястья, и боль в руке становится нестерпимой. Слышно, как скрипят мои стиснутые зубы. Где-то рядом хихикает Скальпель, шумно вдыхает прозрачный, пропитанный медью воздух. Сразу за дверью – небольшое помещение вроде предбанника, с лавками у обшитых фанерой стен и парой черно-белых фотографий в дешевых рамках. Мы проходим его насквозь, попадаем в следующую комнату, и на мгновение я забываю о боли. Перед нами операционная. Наверное, не такая чистая, как в больнице, но от того не менее настоящая. Выложенные кафелем стены и пол, несколько внушительных передвижных светильников, шкафчики и полки, заставленные рядами склянок, лабораторный холодильник с препаратами крови, упаковки бинтов, большой операционный стол, а рядом с ним – столик с инструментами, от одного вида которых Скальпелю хочется петь. Посреди всего этого великолепия стоит невысокий плотный человек в белом фартуке и хирургических перчатках. Штопаный. Лицо его изуродовано множеством грубых шрамов, розовых и мерзких, словно толстые черви. На щеках и подбородке между шрамами растут пучки черных волос. – Отлично, братва! Давайте сюда пациента, – голос его свеж и беззаботен. – Кладите. Только осторожнее. Мы опускаем Гену на операционный стол. Штопаный тут же хватает меня за ладонь, подносит ее к лицу. – Так, а ты у нас второй, значит, – бормочет он с улыбкой, оглядывая бордовую повязку, и шрамы на его лице извиваются в жутком танце. – Ну ничего, братишка. Потерпишь немного, да? Сначала с ним закончим, а потом и за тебя примемся. – Лады. – Вот и славно. Идите, братва, отдохните там пока. Мы возвращаемся в предбанник, дверь за нами захлопывается. Тяжелая железная дверь. За такой вполне можно пересидеть обстрел, и даже не один. Кстати, входная – ничуть не хуже. Если кто-то захочет взять дом штурмом, ему придется искать иные способы проникнуть внутрь. Качественно уроды окопались, слов нет. Опускаемся на лавки. Нестерпимо хочется спать. Ломит спину, плечи, локти. Ступни в армейских ботинках зудят и чешутся, но возиться со шнурками сейчас меня не вынудит и приставленный к голове пистолет. – Видали, что у него с лицом? – шепчет Дед. – Это ж охренеть просто! Гвоздь пожимает плечами: – Привыкнешь. – А откуда они вообще взялись, эти двое? – Без понятия. То ли Шахтер на них вышел как-то, пару лет назад, то ли они на него. Да не по хрену ли? Лучше в такие дела не лезть. – По хрену, – соглашается Дед. – Просто не верю я тем, кого не знаю. – А Шахтеру? – Гвоздь по-мальчишески шмыгает носом. – Шахтеру веришь? – Допустим. – Ну, тогда и этим верь. Они без него никуда. Наступает тишина, но длиться ей суждено не больше минуты. С сухим щелчком поворачивается ключ в замке. Из-за усталости я не сразу понимаю, что произошло, и спохватываюсь, только когда Скальпель начинает неразборчиво шептать проклятия у меня за плечом. – Какого хера? – бормочет, нахмурившись, Дед. – Они нас заперли, что ли, сука? Он бросается к входной двери, толкает ее. Безрезультатно. – Эй, епт! – Дед стучит по двери кулаком. – Эй! Вы там совсем берега потеряли?! Он разворачивается, в два шага преодолевает расстояние до двери операционной, принимается колотить в нее. – Пидоры! Чего заперлись?! В ответ из-за двери раздаются звуки других ударов – приглушенные, но все же различимые. И Скальпель узнает их мгновенно, узнает куда раньше меня. Там рубят человеческое тело, рубят топором или тяжелым тесаком, отделяя конечности, кромсая суставы. Там Гену пускают в расход. Дед, тоже, видимо, поняв, что к чему, решает оставить дверь в покое и садится рядом с Гвоздем, который до сих пор обескураженно крутит башкой, словно разбуженный шумом ребенок. – Что за нахер? – В смысле? Дед бьет его в плечо – так резко, что я едва успеваю заметить движение, – и повторяет вопрос. – Да без понятия, – хнычет Гвоздь. – Откуда я-то знаю? У них спроси! Прячет глаза, гнида. Врет, но от растерянности и страха даже не старается это скрыть. Дед поднимается и, схватив мерзавца за волосы, наносит ему удар коленом в лицо. С тонким, почти приятным для слуха хрустом ломается нос. Гвоздь пронзительно взвизгивает, откидывается назад, тяжело сползает на пол. Дед поворачивается ко мне: – Антоха, нас пытаются уйти. – Уложить на дно, как Китайца. – Точняк. Есть нож? Риторический вопрос. У Скальпеля всегда при себе нож. Я вытаскиваю из-за голенища левого ботинка сложенную «бабочку». – Ага, – он освобождает клинок, секунду любуется его простой, безжалостной красотой. – Попробую сейчас поковыряться, а ты на стреме. – Понял. Дед садится у входной двери, вставляет острие «бабочки» в горизонтальную щель замка. Опыта в таких делах ему не занимать, и от меня здесь вряд ли будет какая-то польза. Я бросаю взгляд на фотографии на стенах – виды нашего города, снятые в начале прошлого века – и склоняюсь над скулящим Гвоздем. Кровь заливает его лицо и ладони, пачкает пол. Гаденыш похож на раздавленную крысу. – Что-то не срослось? – Пошел нахер! – гнусавит раздавленная крыса. – Не планировал, что тебя запрут с нами? – Это ошибка… – А то! Сейчас парни все разрулят, да? – Ты не знаешь, кто они. Не знаешь! – Не знаю. Расскажи. – Иди нахер. Я думаю о том, чтобы раскроить ему череп – с моими тяжелыми ботинками хватит пары ударов, но в этот момент, к огромному разочарованию Скальпеля, позади раздается долгожданный щелчок, а следом – скрип петель. – Готово! – сообщает Дед. – Валим! Мы выбегаем в ночь и мгновенно слепнем. После ярко освещенного предбанника темнота кажется абсолютной. Должно быть, так выглядит смерть изнутри. – Бляха-муха! – цедит сквозь зубы Дед. Я слышу рядом его тяжелое, хриплое дыхание. – Не промахнуться бы мимо тачки. Скальпель радуется мраку. Он вырвался из капкана и теперь жаждет разобраться с охотниками. Я оглядываюсь в поисках окна. Вон оно, единственное на всю стену, небольшое, забранное решеткой. Пригнувшись, крадусь к нему, ступая как можно осторожнее и тише. – Э! Ты куда? – спрашивает Дед. – Нам в ту сторону. Скальпель смеется над его страхом, я пытаюсь придумать ответ, но нужда в нем отпадает сама собой, когда тишину разрывает пронзительный вопль Гвоздя: – Сбежали! Быстрее сюда! Они сбежали! Все-таки стоило раздавить его крысиную черепушку, пока была возможность. – Сука! – Дед машет рукой и направляется к машине. Я не иду за ним. Окно слишком близко. Такой шанс точно нельзя упускать. Подобравшись вплотную, заглядываю внутрь, из всех сил надеясь, что меня не заметят с той стороны. Операционный стол залит кровью. На нем лежит отсеченная голова Гены – с восково-желтым, измятым лицом и слишком темными волосами. Остального нет. Судя по всему, оно упаковано в несколько плотных свертков, сложенных в углу. На кафеле под ними растекается розовая лужа. Штопаный стягивает с себя майку, бросает ее под ноги, на перемазанный алым фартук. Спина и плечи костоправа тоже покрыты шрамами. Их невероятно много. Они расползаются в разные стороны, соединяются, пересекаются. Некоторые выглядят совсем свежими, а на одном, под правой лопаткой, различимы нити, стягивающие еще не заживший шов. Бухенвальд стоит у двери, прислушивается. Потом отодвигает засов и выходит. Из предбанника доносятся звуки борьбы, а спустя несколько секунд костлявый возвращается, волоча упирающегося Гвоздя. – Это ошибка! – верещит тот. – Я от Шахтера! Вы же помните меня! С силой, невозможной для столь изможденного тела, Бухенвальд швыряет парня на операционный стол. Задетая локтем голова Гены падает на пол, но на нее никто не обращает внимания. – Вам не меня нужно зачищать! – Гвоздь бледен, зубы его стучат, кровь все еще струится из сломанного носа. – А тех двоих! Но они сбежали, только что сбежали! – Не боись, – говорит Штопаный. – Далеко не уйдут. Он не спеша роется в груде стали, достает нож, похожий на кухонный, с длинным узким лезвием, и одним движением вонзает его Гвоздю под ребра. Тот утробно всхрапывает, сгибается пополам. – Никакой ошибки насчет тебя, – все тем же ровным тоном сообщает костоправ. – Ты же нынче облажался, браток. Он резко проводит ножом вниз, рассекая рубашку и живот жертвы, затем откладывает инструмент в сторону, накрывает жуткую рану ладонью. – Кто свой телефон потерял на месте преступления? А? Кто шефа подставил? Гвоздь слабо стонет в ответ. Штопаный нагибается к нему, касается губами покрытого испариной лба: – Вот то-то и оно… не удивляйся, братишка. Сам виноват. Он поворачивается к застывшему рядом Бухенвальду: – Ну-ка, распусти мне нитки. Только смотри, осторожнее! Живой скелет мычит себе под нос что-то нечленораздельное, берет со столика пинцет, обходит подельника и, склонившись над его спиной, принимается ковыряться с тем самым швом под правой лопаткой. Мне плохо видно, но, похоже, он вытаскивает хирургические нити, открывая рану. – Ай, гнида! – дергается вдруг Штопаный. – Сказал же, осторожнее! Бухенвальд никак не реагирует на претензии, заканчивает свое дело и отступает в сторону, открывая мне обзор. Шва больше нет, на его месте – бесформенное темное отверстие, сочащееся сукровицей. Раздвигая края раны, из нее выползает нечто, похожее одновременно на тропический цветок и на вывернутый наизнанку член. Грязно-розовый хобот, увитый множеством синеватых прожилок и увенчанный пучком шевелящихся щупалец, среди которых чернеет крохотный рот. Давным-давно, в детстве, я видел что-то вроде этого в передаче о кораллах и прочей морской чепухе. Животные, которые выглядят как растения. Полипы, или актинии, или как их там еще. Сокращаясь и распрямляясь, словно гигантская гусеница, отросток движется по спине Штопаного, пачкая кожу хозяина слизью и сукровицей. Бескостное тело продолжает выталкивать себя из раны – или норы – сантиметр за сантиметром, становясь все длиннее. Вот он добирается до плеча костоправа, заползает на руку. Щупальца едва заметно извиваются, будто пробуя воздух на вкус. Гвоздь смотрит на приближающуюся хрень широко распахнутыми глазами. Он шепчет что-то, но я не могу разобрать слов. Может, молится. Может, просит пощады. А потом, когда тварь добирается до дыры в его животе, он кричит. Этот вопль, полный отчаяния и бездонного черного ужаса, заставляет меня поежиться. Секундой позже кого-то рядом шумно рвет. Я вскидываюсь, готовый драться за свою жизнь, но оказывается, что позади, возле куста смородины, скорчился Дед. Он сплевывает, бросает на меня виноватый взгляд. – Ты ж к тачке ушел! – шепчу я. – Хрен там… Они провода от свечей выдрали. С мясом, сука. – Не уедем? Мотает головой. Вытирает рот тыльной стороной ладони. – Полная жопа, Антох. Видал? Надо валить. – Ага.
– Надо валить. Быстро. Он скрывается в темноте. Я собираюсь последовать за ним. Честное слово. Я собираюсь рвануть за Дедом, прочь от этого проклятого дома и его проклятых обитателей. Выбраться на трассу, вернуться в город или укрыться где-нибудь на окраинах. Сейчас лето, можно и в лесу переночевать. Как решать вопрос с Шахтером, придумаем потом. Будем живы – обязательно придумаем. Однако чутье моей звериной половины заставляет остаться и еще раз взглянуть в окно. Я пытаюсь сопротивляться и уступаю. Всего на долю секунды, но этого вполне достаточно. Мы со Скальпелем видим затихшего Гвоздя, его отвисшую челюсть и закатившиеся глаза. Видим потемневшее, разбухшее тело червя, продолжающего жрать. Видим Штопаного, повернувшего голову и с кривой усмешкой глядящего прямо на нас. Видим, что в операционной нет Бухенвальда. Я отпрыгиваю от окна. Паника захлестывает меня, подхватывает могучей волной, уносит прочь от берега, прямо в бездну безумия. Там ждет Скальпель, Панченко Вадим Игоревич, никогда не существовавший, но оттого не менее реальный. Стресс – его ворота в наш мир, а мы сейчас не испытываем недостатка в стрессе, верно? – Второй раз за сутки? – шепчу я ему. Шепчу вслух, потому что мысли бессильны. Они всегда проигрывают словам. – Это не опасно? Он хохочет. Я тоже смеюсь. Идиотский вопрос. Идиотский страх. Скажите, доктор, это не опасно? – Ладно, ладно, но не отключай меня. Не вырубай, хорошо? Я хочу… Грохот выстрела прерывает мои просьбы, и Скальпель, не дослушав, перехватывает управление на себя. Где-то возле «девятки» охает Дед. Второй выстрел – и на сей раз мы успеваем заметить вспышку, осветившую Бухенвальда, стоящего недалеко от входной двери с охотничьей двустволкой в руках. Всего мгновение, за которым вновь опускается тьма, еще более густая, чем прежде, но которого Скальпелю хватает, чтобы оценить обстановку. Я кидаюсь к машине. Черт с ним, с Дедом, но у него осталась «бабочка», и есть шанс забрать ее, пока Бухенвальд, потративший оба патрона, перезаряжает оружие. В три гигантских прыжка достигнув цели, я опускаюсь на колени у тела Деда. Он мертв. Дробь снесла половину лица и добрую часть черепа. Без шансов. Ощупываю карманы армейских штанов и куртки, непрерывно оглядываясь по сторонам, переворачиваю еще теплый труп, проверяю пояс. Ничего. Достаю старый Дедов мобильник, с которого звонил шефу, но мысль посветить им Скальпель вовремя отметает. Бухенвальда нигде не видно, однако это вовсе не означает, что ему не видно меня. В конце концов нож обнаруживается в траве в метре от мертвеца. Наверное, выпал, когда Дед свалился. Схватив «бабочку», я откатываюсь в сторону, прячусь за «девяткой». Скальпель рвется в бой. В ладони зажат острый клинок, который не может дождаться, когда его пустят в ход, и мне приходится напрягать все силы, чтобы сдерживать гасящий сознание гнев. Тьма вокруг неподвижна. Мертвецки худой ублюдок с ружьем может быть где угодно. Он знает этот участок как свои пять пальцев, он уже наверняка не впервые охотится на нем за чересчур ретивыми клиентами. Прямо сейчас он может подходить с тыла, целясь мне в затылок. Однако реальность оказывается куда прозаичнее и логичней. Спустя минуту раздается знакомый скрип петель – открывается дверь дома. Свет в предбаннике больше не горит, и я не столько различаю, сколько угадываю тощую фигуру, появившуюся на пороге. А вот Бухенвальд, несмотря на мрак, видит меня сразу. Он вскидывает двустволку, и, пока я пытаюсь поверить, что такое возможно, Скальпель успевает кувыркнуться в сторону, спасая нас от заряда дроби, хлестнувшего по капоту машины. Вскочив на ноги, рвусь в атаку. Счет идет не на секунды – на доли секунд. Как только дымящиеся стволы ружья, чуть приподнявшиеся при выстреле, возвращаются в прежнее положение и находят меня, Скальпель бросает в их владельца мобильник, а сам прыгает следом. Бухенвальд инстинктивно отмахивается от телефона и тратит на это ровно столько времени, сколько нужно мне, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние. Я врезаюсь в него всей своей тяжестью, опрокидываю на спину. Выстрел гремит над ухом, ослепив и оглушив меня, но не Скальпеля. Прижав Бухенвальда коленями к земле, он принимается наносить ему удары ножом. Резко, быстро, сильно – в грудь, в шею, в лицо, в плечи. Еще, еще и еще. Лезвие «бабочки» с легкостью пронзает сухую плоть, но из порезов не вытекает ни капли крови. Отбросив нож, Скальпель выхватывает ружье из ослабевших пальцев противника и, размахнувшись так, что боль вспыхивает в суставах, бьет его прикладом в лоб. Череп проминается, раскалывается, словно глиняный горшок, рвется ветхая кожа. Бухенвальд вздрагивает и застывает. В разбитой голове нет ничего, кроме серой пыли. – На, гнида! – торжествующе ревет Скальпель. – Сдох?! Сдох ты, сучий потрох?! Он поднимается. В ушах звенит, голова кружится, и сердце, похоже, всерьез вознамерилось проломить грудную клетку, но победа того стоит. Первая победа из двух. Скальпель подбирает «бабочку», решительным шагом направляется к дому. – Погоди, – шепчу я, ведь теперь моя очередь быть внутренним голосом. – В предбаннике слишком темно. Скорее всего, там ловушка. Скорее всего, дверь в операционную снова заперта. Нам нужен другой вход. – Другой? – Да. Помнишь, Бухенвальд запер нас снаружи, а затем как-то попал внутрь? Должен быть еще один вход. Думаю, с противоположной стороны. Скальпель кивает и пускается в обход дома. Он торопится, но старается двигаться бесшумно. Огибает угол. Между сплошной кирпичной стеной и проволочным забором свалены шины, трухлявые бревна, ящики и другой мусор. Каждый шаг дается с трудом – плевать на скрытность, не подвернуть бы ногу. Кое-как Скальпель достигает следующего угла, заглядывает за него. Я оказался прав: тут стоит тяжелая железная лестница, ведущая к двери в дощатой стене второго этажа. Восточный край неба начинает бледнеть. Солнце вот-вот покажется над горизонтом. Возможно, есть смысл чуть подождать. Кто знает, вдруг это существо не переносит солнечных лучей? Должно же оно бояться подобных вещей? Что там еще? Святая вода, серебро, чеснок… Скальпелю мои размышления до фонаря. Он быстро карабкается по лестнице, вваливается внутрь, выставив перед собой нож. Здесь темно, хоть глаз выколи. Пахнет мертвечиной и плесенью. Рука не находит на стене ничего похожего на выключатель, но взгляд цепляется за тонкую полоску света, пробивающуюся впереди сквозь пол. Скальпель подкрадывается ближе, доски предательски скрипят под ногами. Это люк. Нащупав веревочную рукоять, Скальпель поднимает крышку. Хлынувший из-под нее поток света разгоняет мрак, обнажает человеческие черепа, расставленные ровными рядами на самодельных полках, и одежду, сложенную в углах: ботинки, кроссовки, куртки, джинсы, свитера. Похоже, господа костоправы сотрудничают не с одним только Шахтером. Ничуть не удивлюсь, если окажется, что большая часть бойцов, исчезнувших в городе за последние два года, осталась именно в этом крохотном домике. Внизу – операционная: мертвый Гвоздь все так же лежит, скорчившись, на столе, окровавленный фартук все так же валяется на полу рядом с отрезанной головой Гены, все так же призывно блестят хирургические инструменты, только Штопаного там уже нет. – Сдристнул, – цедит Скальпель сквозь зубы, и я понимаю, что он говорит это мне. Обвиняет в лишней осторожности, позволившей врагу ускользнуть. Врагу, которого нельзя упускать. Скальпель спрыгивает. Ничего сложного: уцепившись за край люка и повиснув на нем, он почти достает ступнями до пола. Замирает над аккуратно разложенными ножами и пилами, благоговейно, почти ласково проводит пальцами по ледяным лезвиям, осторожно касается рукоятей. Выбирает. Один в один – онанист перед стендом с искусственными вагинами в секс-шопе. В итоге он хватает большой ампутационный нож в локоть длиной, вроде того, которым вскрыли брюхо Гвоздю. Тяжелый. Острый. Сталь приятно холодит ладонь. Пора на охоту. Хищно ощерившись, Скальпель бросается к выходу, но в предбаннике останавливается на мгновение, услышав голос Штопаного, доносящийся снаружи: – Ну где ты? Покажись, красавица… Значит, погони не будет. Значит, все уже почти закончилось. В предрассветных сумерках отчетливо видна тварь, сидящая у тела Деда. Из разошедшихся швов на груди и животе тянутся пульсирующие розовые канаты, уткнувшиеся маленькими пастями в раны моего мертвого друга. Они отрываются от трапезы с липким чавканьем, повисают в воздухе, недовольно изгибаясь и роняя бордовые капли, когда Штопаный выпрямляется во весь рост. – Почему не взял топор? – спрашивает он. – Не нашел? Под столом же лежит. Скальпель не отвечает. Не знаю, заметил ли он топор. Я заметил. Но это не имеет значения, потому что Штопаный держит в руке пистолет. Вроде бы, «глок» – еще недостаточно светло, чтобы определить точно. – Слушай, братан, давай сразу проясним, а? – костоправ поднимает оружие, и окровавленные отростки начинают угрожающе извиваться, словно щупальца осьминога, прячущегося в его туловище. – Против тебя я ничего не имею. Вы напортачили и попали под раздачу – сам знаешь, братан, Шахтер в следующем году планирует избираться. Ему такая кутерьма никуда не уперлась. Но… погоди, дослушай! Скальпель, неспешно приближавшийся к Штопаному, послушно замирает на месте. – Но вы убили моего напарника. А эту работу одному не потянуть, здесь нужны двое. Вижу, что ты… не обычный человек. Я тоже. Поэтому предлагаю, предлагаю только раз: станешь моим помощником здесь, и о Шахтере можешь не беспокоиться. Он тебя не тронет. Авторитеты меняются, уходят в политику или в могилу, а мы остаемся. Что касается домашних животных, – он указывает кивком головы на жутких червей, растущих из его внутренностей, – не волнуйся, ты привыкнешь. В природе это обычное дело, братишка. Симбиоз – знаешь такое слово? Просто нужно будет отдавать половину зачищенных мне, чтобы я мог кормить своих девчонок. Со второй половиной делай что хочешь. Бухенвальд, например, предпо… Скальпель атакует. Его рывок резок и быстр, как всегда, но до врага слишком далеко, и Штопаный успевает нажать на спусковой крючок. Трижды. Первая пуля попадает в локоть левой руки, закрывающей шею и лицо. Вторая пробивает грудь под правой ключицей, а третья бьет чуть ниже, проламывает ребра, уродует легкое. Весь воздух внутри в одно мгновение оборачивается кипящим маслом, боль переполняет меня, выплескивается наружу обжигающей влагой. Я задыхаюсь, я падаю, я умираю. Но Скальпель не останавливается. Он обрушивается на Штопаного, словно селевой поток из стали и ярости. Он рубит и колет, не позволяя противнику сделать еще один выстрел, не позволяя отступить, не позволяя уцелеть. Удар – отлетает в сторону отсеченное щупальце. Удар – вместе с двумя пальцами падает в траву пистолет. Удар – горло костоправа раскрывается, выпуская алую струю. Удар – вонзившись ему под скулу, клинок выходит из затылка. Гаснет сознание в налитых кровью глазах, и Штопаный тяжело валится навзничь. – Значит, эта работа только для двоих, да? Ну так нас тут уже двое, – упершись ботинком в голову убитого, Скальпель с усилием выдергивает из нее нож. – Ты лишний, мудила. Он выпрямляется, сплевывает. Штопаный застыл у его ног бесформенной грудой. Уцелевшие отростки слабо шевелятся, елозят по траве, тыкаясь из стороны в сторону, будто слепые котята. – Симбиоз у него, епта, – бормочет Скальпель и давит подошвой ближайшую тварь. Первый утренний свет наконец пробивается сквозь кроны деревьев. Ночь кончилась. Можно подождать, понаблюдать, как солнце высушит или сожжет эту мерзость. А если оно не справится, то совсем рядом стоит «девятка», в баке которой наверняка еще остался бензин. На приусадебных участках сам бог велел жечь костры, верно? Мы со Скальпелем отходим от издыхающего чудовища, опускаемся на траву. Надо срочно заняться ранами, извлечь пули, остановить кровотечение, сделать перевязки, благо что в доме нет недостатка ни в инструментах, ни в бинтах. Но утро наливается силой вокруг, и здесь, посреди сада трупов, нами овладевает незнакомое, непобедимое спокойствие. Рядом звонит телефон. Это мобильник Деда, упавший в траву во время драки с Бухенвальдом. Мы подбираем его, смотрим некоторое время на букву «Ш» на экране, затем, нажав кнопку с зеленой полосой, подносим телефон к уху. – Костоправы слушают, – говорим мы.
Господь всех в лесу зарытых
Ресторан ее приятно удивил. Для загибающегося провинциального городка с не самой хорошей славой это было явно выдающееся заведение. Два этажа, просторные залы, мягкое освещение, отдельные кабинки, ненавязчивая музыка, интерьер, оформленный в купеческо-охотничьем стиле, слегка аляповатом, но не скатывающемся в безвкусицу – даже просто находиться внутри было в кайф. Но главным сюрпризом оказалась здешняя кухня. Карина заказала салат с лосятиной и брусникой, уху из судака и чизкейк с лимоном, рассчитывая на сытный, но не особенно изысканный ужин. Последний раз она ела почти сутки назад, перед выездом из Москвы, и была чудовищно голодна. Однако накинуться на еду и разом умять все не получилось: после первой же вилки стало понятно, что есть нужно неспешно, тщательно смакуя каждый кусок. Давненько ей не доводилось пробовать что-либо настолько вкусное. И претенциозные названия блюд, тоже отсылающие к дореволюционному купечеству, с непременным «Ъ» после твердых согласных в окончаниях слов, больше не выглядели нелепицей – именно так и должны были питаться зажиточные заводчики и промышленники села Железного, некогда торговавшие по всей стране замками с секретом, складными ножами со множеством лезвий, музыкальными шкатулками и прочими хитроумными диковинами. Настроение, порядочно подпорченное путешествием, начало возвращаться в норму. Появилась даже мысль пригласить внутрь Мишу с Тимом, но Карина быстро ее отогнала. Нет, парням следует оставаться на положенных местах. Ничего с ними не случится, потерпят еще немного. Если встреча пройдет гладко и не появится никаких подозрений насчет клиента, то так и быть, помотаются на машине по окружной, чтобы убедиться в отсутствии хвоста, а к вечеру вернутся сюда отметить удачную сделку. Хотя, по-хорошему, чем быстрее они покинут Железносельск, тем лучше. Поганый городишко, неприглядный и промозглый, действовал ей на нервы. Его насквозь пропитал дым заводов, больше половины которых склеили ласты еще в девяностых, но и оставшихся вполне хватало для того, чтобы город регулярно попадал в списки населенных пунктов с тяжелой экологической ситуацией. В дороге от нечего делать она читала про Железносельск в Интернете, и подавляющая часть публикаций или форумных обсуждений касалась именно экологии. Какой-то американский институт даже выпустил исследование, где назвал Железносельск самым грязным городом планеты. Утверждалось, что средняя продолжительность жизни тут на двадцать процентов ниже, чем в среднем по стране, а количество детей с врожденными дефектами, наоборот, на двадцать процентов выше. То и дело попадались статьи о скандалах с участием местных чиновников, постоянно обещавших разобраться со свалками опасных отходов, тяжелыми металлами и прочими прелестями индустриального рая, но вместо этого только набивавших собственные карманы. Одной из главных достопримечательностей Железносельска была Черная Яма – карстовый провал, который начали использовать как хранилище химических отходов еще в пятидесятых годах прошлого века и, несмотря на все запреты, использовали до сих пор. Говорили, что он бездонный. Говорили, что это дыра, ведущая прямо в ад – и кто-то обязательно безыскусно шутил об отравленных, кашляющих чертях. Говорили, что десять минут, проведенные на краю Черной Ямы без противогаза или маски, сокращают жизнь минимум – Карине особенно нравилось это «минимум» – на пять лет. К Черной Яме водили экскурсии, на ее фоне фотографировались бесчисленные иностранцы и москвичи, о ней писали в Интернете, против нее протестовали разного рода экологические активисты и политиканы, не упускающие повода пропиариться. Все это происходило словно бы волнами: очередная организация с названием вроде «Зеленый край» или «Скворцы» поднимала шум, о Яме снимали пару сюжетов для областного и федерального телевидения, привычно выступали представители администрации, обещая к какому-нибудь неблизкому году полностью искоренить, оправдать, достичь определенных подвижек и не оставлять без внимания, затем приезжал столичный блогер, делал кучу снимков, сообщал о том, как испарения из провала заставляют слезиться глаза, провоцировал срачи на форумах и в социальных сетях, а потом все постепенно затихало и благополучно дремало до тех пор, пока следующая экологическая контора не принималась заново баламутить воду, то ли надеясь отхватить немного грантов, то ли действительно переживая за окружающую среду. Однако не только Черной Ямой прославился Железносельск. Имелась в его истории и другая занимательная глава, куда более мрачная и темная. Название этой главы состояло всего из одного слова, которым здешние старшеклассники до сих пор пугали надоедливых младших сестер. Гравер. Или, по паспорту, Куницын Максим Савельевич, тысяча девятьсот пятьдесят девятого года рождения. Согласно находящимся в открытом доступе материалам следствия, в период с февраля тысяча девятьсот восемьдесят второго по сентябрь тысяча девятьсот девяностого года Максим Савельевич изнасиловал и убил двадцать три женщины. Гравером его прозвали местные газетчики. Дело в том, что все двенадцать обнаруженных до поимки маньяка жертв – те, чьи тела Куницын не прятал или спрятал недостаточно хорошо, – оказались им помечены: с помощью гравировального ножа (который потом фигурировал на процессе в качестве едва ли не главной улики) он вырезал на их лицах узоры. Волнистые линии, треугольники, полумесяцы, кресты – все старательно, аккуратно, с обязательной симметрией в рисунке. Творческий, понимаете ли, человек. Еще одиннадцать трупов, найденных в окрестных лесах уже после того, как убийца был схвачен, успели сильно разложиться, но на некоторых из них тоже были обнаружены следы того самого лезвия. По слухам, реальное количество жертв могло быть куда больше. Одни доморощенные (но не обязательно негодные) исследователи говорили о тридцати пяти, другие – о пятидесяти. Сам Куницын сперва взял на себя почти четыре десятка нераскрытых убийств и исчезновений, потом открестился от половины, заявив, что показания давал под давлением, затем снова принялся признаваться во всем подряд. Впрочем, затянуть следствие это не помогло – страна как раз переживала процесс над Чикатило, и с железносельским маньяком церемониться не стали. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, суд рассматривал только двадцать три доказанных эпизода и без лишних проволочек вынес смертный приговор. Верховный суд оставил решение в силе, прошение о помиловании быстро получило отказ, и уже в ноябре девяносто второго Куницын был казнен. Точная дата и место приведения приговора в исполнение оставались неизвестными и по сей день. Исполнители, разумеется, тоже были засекречены. Однако в том, что земное бытие Гравера прервали выстрелом в затылок, у Карины сомнений не было. За последний месяц она не раз и не два держала в руках его череп, не раз и не два разглядывала небольшую дырочку почти квадратной формы как раз на черном шве между затылочной и левой височной костями. Эта дырочка, пулевое отверстие, в которое едва пролезал Каринин указательный палец, была подробно описана в заключении экспертизы, неоднократно сфотографирована и указывалась в качестве наиболее вероятной причины смерти. Что до оружия, из которого был произведен выстрел, то немецкие специалисты сошлись на пистолете Макарова. Все это было в бумагах. Бумаги лежали в черной кожаной папке на молнии. Папку Карина убрала под стол. Сам череп, разумеется, в ресторан она с собой не принесла. Тот, бережно упакованный, лежал в машине Тима, припаркованной на соседней улице. Если все пройдет гладко, если клиенты, убедившись в полноте и достоверности документации, переведут деньги, она скажет им, где именно. Скорее всего, кто-то из покупателей останется с ней, пока остальные отправятся забирать у Тима товар – нужно будет заказать шампанского, чтобы скоротать время. Именно такой она и должна остаться в памяти этих людей: легкомысленной, слегка испуганной, но позитивной молодой женщиной, которая не парится насчет возможных последствий, любит выпить и вряд ли до конца представляет себе, чем занимается. Пусть Карину принимают за недалекую исполнительницу чужих указаний и не тратят силы на то, чтобы ее запомнить. Конечно, опасения эти привычны, даже стандартны, да и, скорее всего, беспочвенны – за время, что она зарабатывала противозаконной продажей редких артефактов, клиенты повторно выходили на связь всего дважды, но от людей, готовых выложить баснословную сумму за череп малоизвестного серийного убийцы, следует ожидать чего угодно. Это не обычные люди. И намерения у них тоже могут быть не обычные. Поэтому в сумочке лежал перцовый баллончик. Поэтому она прекрасно знала, как им пользоваться. Карина отправила в рот последний кусочек чизкейка, допила кофе. Взглянула в окно – судя по цифрам на табло электронных часов, висевших над входом в небольшой торговый центр через дорогу, до условленного времени встречи оставалось меньше пяти минут. В небе над изломанной под странными углами крышей торгового центра кружили птицы. Видно было, как мечутся под напором вечернего ветра верхушки деревьев. Где-то в этих провинциальных, степенно сереющих сумерках спешили к ресторану загадочные клиенты. Где-то там ждал в машине Тимур, читал газету, время от времени поглядывая на наручные часы. Иногда ее бесила, иногда заводила его подчеркнутая, безыскусная старомодность: газеты вместо планшета с Интернетом, часы вместо телефона, брюки вместо джинсов, неизменная стальная синева на подбородке и щеках. Где-то там, на скамейке недалеко от входа в ресторан, невидимый отсюда, сидел Миша, собранный, напряженный, готовый в любой момент броситься на помощь. Бывший боксер, разочаровавшийся нацист, упорно отказывающийся сводить с каменных бицепсов неровно набитые кельтские кресты, любитель порассуждать об оружии и рукопашном бое, всегда готовый к любым экспериментам в постели. Ее мужчины. Ее сообщники. Ее верные солдаты. Если дело выгорит – почему опять «если»? должно, должно выгореть! – их доли хватит на то, чтобы полгода ни о чем не беспокоиться где-нибудь гораздо ближе к экватору, хватит на то, чтобы выкинуть из головы эту траурную погоду, эти вечно скрюченные, вечно голые ветви на фоне мраморных облаков. Только они трое, сами по себе, в другом, абсолютно сказочном мире, состоящем из солнца, пляжей и дорогого вина. – Еще что-нибудь желаете? – Официантка подошла неслышно, и Карина вздрогнула от неожиданности. – Нет, спасибо… Хотя, знаете, давайте еще чаю, – раскрыв меню, она наугад ткнула в незнакомое китайское название. – Большой чайник. Девушка кивнула, забрала пустыетарелки и ретировалась. Карина выругалась шепотом. Надо же так замечтаться! Да к ней кто угодно мог подобраться, включая самого Куницына-Гравера. Нужно выкинуть лишние мысли из головы и сосредоточиться на стоящей перед ней задаче. Дождаться клиентов, отдать им документы, ответить на все вопросы и после перечисления нужной суммы отправить к Тиму. Проще некуда. Красные цифры за окном лениво мигали. До условленного времени оставалось две минуты. Не о чем волноваться. Глубоко вдохни и медленно выдохни. Несколько раз. Вот так. Все пройдет по плану, и уже в выходные они втроем усядутся в самолет, летящий на юг. Тимур найдет билеты. Он никогда еще ее не подводил. Одна минута. А если клиенты не появятся? Может подобное случиться? Карина вдруг поняла, что испытает огромное облегчение, если никто не придет. Похожие мысли посещали ее когда-то в универе, перед экзаменами, к которым не успела подготовиться. Конечно, задаток уже получен, и немалый – для провинции вообще огромная сумма, – так что история на этом точно не закончится, но хрен с ней, с историей, пускай развивается как-нибудь дальше, а вот прямо сейчас убраться из ресторана и из города, провонявшего химикатами, она бы не отказалась. Гребаный череп! Пиликнул мобильник в сумочке. Сообщение от Тима в мессенджере: «Все в порядке?» «Да, – ответила Карина и, подумав, добавила: – Пока, жду». «Ок». Моргнув еще раз, красные цифры за окном изменились – наступило назначенное время. Официантка снова возникла словно бы из ниоткуда, поставила перед ней чайник и чашку. Карина кивнула, не спуская с девушки глаз. А вдруг эта угловатая простушка в форменном фартуке и есть та самая? Потому и договорились о встрече здесь, а вовсе не из-за того, что это лучший ресторан в городе? Но официантка, дежурно улыбнувшись, исчезла – прекрасно выдрессированная работница с ничего не выражающим лицом, под которым не спрячешь и менее серьезные секреты. Мимо. Привстав, Карина оглядела зал. На втором этаже, кроме нее, никого не было. Когда она только пришла, за одним из столиков располагалась семья с двумя детьми, но уже полчаса назад они расплатились, сели на парковке перед рестораном в темный внедорожник и уехали – Карина наблюдала за ними через окно. Если здесь постоянно такая посещаемость, то как заведение сводит концы с концами? За счет чего обновляются и содержатся в подобающем виде два этажа, кабаньи головы и лосиные рога на стенах, медвежьи шкуры на полу? Не похоже, чтобы все это особенно привлекало местных, но ведь и туристов в Железносельске не так много. Разве что те, кто едет на Черную Яму посмотреть – да только половина из них экологи, которые охотничью эстетику на дух не должны переносить, верно? Лишние, неважные вопросы. Лишние, неважные мысли. Где заказчики? Где тот человек, который еще прошлым утром в приватном чатике заверял ее, что лучшего места для встречи не придумать? Или волноваться пока не о чем, опоздания здесь – в порядке вещей? «Никого, – написала она Тиму. – У тебя тихо?» «Ага, – ответил он почти сразу. – Даже слишком, такое чувство, что в городе никого». «Позвони Мише». «Ок». Часы за окном мигали, безжалостно складывая зря потраченные секунды в зря потраченные минуты. Карина тяжело вздохнула, налила себе чаю. Теперь, когда перспектива срыва сделки из умозрительной стала вдруг вполне реальной, она больше не приносила успокоения. «Миха не отвечает», – написал Тим. «Почему?» «Откуда я знаю. Не берет». «Звони еще». «Ок». Снова молчание. Тишина. Миша не отвечал, а значит, что-то пошло не по плану. Уговор был – постоянно оставаться на связи. Миша с Тимом по телефону, Тим с Кариной – через мессенджер. Схема была отработана и никогда прежде не давала сбоев. Правда, никогда прежде и не случалось поводов для того, чтобы она могла сбоить. «Ну как?» – написала Карина спустя пару минут, не в силах больше ждать. Но ответа не получила ни через минуту, ни через две, ни через три. «Не молчи», – написала она. Потом: «Тим!!!! Пожалуйста, ответь!» Потом: «Что СЛУЧИЛОСЬ?????» Собеседник не реагировал, хотя был помечен как присутствующий в сети. Когда официантка подошла в следующий раз, Карина попросила счет. Спустя еще пять минут тишины, оставив в картонном конвертике деньги за ужин плюс ровно столько чаевых, сколько нужно, чтобы не остаться в памяти у персонала, она убрала папку в сумочку, поднялась из-за стола и поспешила на улицу. Скамейка у парковки была пуста. Карина выругалась сквозь зубы, набрала номер Миши. Черт с ней, с конспирацией, черт с ней, со сделкой, черт с ними, с деньгами, с поездкой в теплые края, с шестью месяцами блаженства – просто возьми трубку и ответь, скажи, что у тебя все в порядке, что ты всего лишь отошел отлить и бегал вокруг центральной площади этого сраного городка, пытаясь найти подходящее место, а потом заблудился в сумерках, как идиот, как последний гребаный олигофрен, а мобильник перевел в беззвучный режим. Возьми трубку и скажи. Не будет никто никого ни в чем винить, не будет никто никого отлучать от тела, только возьми трубку и ответь. Но, прозвучав положенное количество раз, гудки оборвались, и вновь наступила беспощадная тишина. Бросив последний взгляд на ресторан – в полумраке это старинное здание из побагровевшего от времени кирпича, украшенное по углам нелепо-тонкими башенками, казалось пустым и безжизненным, несмотря на горящий в окнах свет, – Карина направилась туда, где ждал в машине Тим. Нужно было пройти еще два дома, свернуть на узкую улочку, круто поднимающуюся в гору, по ней добраться до хозяйственного магазина с потрескавшейся вывеской. За магазином, в тесном тупике возле насквозь проржавевших, неведомо куда ведущих ворот, и припаркован их внедорожник. Место укромное, путь к нему тоже не отличается многолюдностью. Днем они специально подбирали маршрут таким образом, чтобы клиентам пришлось миновать как можно меньше окон и прохожих. Теперь, один на один с изголодавшейся темнотой, уже сожравшей Мишу, это больше не казалось Карине правильным решением. Она шла быстро, стараясь не оглядываться назад и не озираться по сторонам. Главное – держать страх под контролем, не позволить ему взять верх над здравым смыслом. Что бы ни случилось, мужчины прикроют ее, примут удар на себя, в этом сомневаться не приходится. Представят ее невольной соучастницей, которую просто попросили передать документы нужным людям. А потому: не суетиться, не совершать резких движений, вести себя так, словно ей нечего опасаться и не о чем переживать. Если за ней наблюдают – а Карине казалось, что это так, с того самого момента, как она покинула ресторан, – то образ наивной дурочки следует сохранять до последнего. Карина остановилась у купеческого дома с коваными решетками на крохотных балкончиках второго этажа. Подняла смартфон, словно собиралась сфотографировать решетки, но переключилась на фронтальную камеру. На дороге позади нее кто-то был. За одно короткое мгновение, прежде чем смутная темная фигура рывком скрылась за углом, Карина не успела толком ничего разглядеть. Высокий и худой человек. Даже слишком, чрезмерно, худой, но, возможно, это камера так исказила изображение. Карина замерла на секунду, потом справилась с собой и, сделав все-таки фотографию дома, зашагала дальше. Итак, за ней следят. Главное – не паниковать. Дышать спокойно и ровно, не дать адреналиновой волне захлестнуть мозг. Стоит ли вести «хвост» к машине и Тиму? Если она этого не сделает, то с образом наивной дурочки придется распрощаться. Да и куда ей идти? Преследователь наверняка знает город гораздо лучше ее. И скорее всего, Тима уже повязали, иначе с чего бы он вдруг не отвечал на ее сообщения? Так что вдохнуть, выдохнуть, принять расслабленный вид и спокойно прошествовать к машине, где максимально достоверно разыграть невинное удивление при виде ментов. А если это не менты? Тот, кого она видела в смартфоне, не походил на мента. Впрочем, если он занимается слежкой, то и не должен, наверное, да? Она обругала себя за то, что недостаточно внимательно слушала Мишу, когда тот рассказывал о работе полиции. Вот и хозяйственный магазин, уже закрытый, с нечитаемым из-за разбитой вывески названием. Еще немного. Самое важное – первое впечатление. Распахнуть глаза пошире, округлить рот. В чем дело? Я не понимаю, я просто… Просто надо было передать какие-то бумаги. Я думала, это связано с бизнесом, честное слово! Череп? Ну, что вы, что за бред? О господи-господи-господи, уберите от меня эту дрянь, я никогда бы, никогда не… Их ведь вряд ли задержат, верно? За подобное задерживают? Почему, ну почему она этого не знает?! Карина обогнула магазин и сразу увидела машину. Массивный внедорожник сгорбился в углу между глухой кирпичной стеной и ржавыми воротами, словно пытаясь вжаться в них, спрятаться, слиться с окружением. В серой вечерней мгле это ему почти удавалось. Рядом никого не было. Карина замерла, прищурилась, пытаясь различить силуэт Тимура в салоне, но безуспешно. Неужели он тоже исчез? Ни хрена, не может быть. Тим ни за что не оставил бы ее. Миша – черт знает, никогда нельзя было понять, что творится в его нацистской бритой башке. Но Тим? Он подал бы знак, предупредил, обязательно нашел бы способ. Карина огляделась. Пустая улица проваливалась в сон. На углу возле магазина горел, чуть помаргивая, фонарь. Его свет ложился на крышу внедорожника и, не в состоянии удержаться на гладкой поверхности, стекал по окну и борту во мрак под колесами. От этого света вокруг становилось только темнее. От этого света по спине бежали мурашки. Собрав всю храбрость в кулак, Карина подошла к машине. Она знала, что если постучит по стеклу или попробует как-то иначе привлечь внимание, то не получит ответа, а потому просто открыла водительскую дверь. И не закричала. Стиснула зубы, зажмурилась. Заставила себя неспешно, размеренно досчитать до семи и только потом открыла глаза вновь. Тимур лежал, завалившись на бок, уткнувшись лицом в сиденье пассажирского кресла. Он был настолько неподвижен, настолько неодушевлен, что казался естественной частью салона, ничем не отличался от руля или приборной панели. Чернота на кожаной обивке под его головой тускло поблескивала в свете фонаря, едва просачивающемся сквозь лобовое стекло. Пахло медью и мочой. Собственное самообладание удивило Карину. Да, за последние годы она повидала и подержала в руках немало человеческих останков: черепа и челюсти серийных убийц и комендантов концлагерей, кожа с татуировками, снятая с погибших байкеров и воров в законе, святые мощи, кости августейших особ. Но то были вещи, утратившие всякий намек на жизнь, не имеющие никакого отношения к тем, кто носил их некогда в своих телах. Настоящего мертвеца, который уже не человек, но пока еще не предмет, и этой переходностью, неопределенностью своей ужасен, она прежде видела в реальности всего однажды – пятнадцать лет назад, когда хоронили бабушку. А сейчас перед ней остывал Тимур, верный друг и любовник, единственный, кого она могла представить отцом своего ребенка. Он был убит, и кровь еще не высохла и пахла омерзительно-приятно, и лица его не было видно, а только затылок и шею, вывернутую неудобно, как никогда не вывернет живой. А Карине оказалось все равно. Она чувствовала страх, да – теперь выяснилось, что опасаться следует вовсе не ментов, и страх стал острее и прозрачнее, будто осколок бесцветного стекла, вонзившийся под ребра, – но не сожаление, не горе, не скорбь. Ничего из того, что до́лжно чувствовать, если погибает близкий человек. Мертвый Тимур не имел значения, и это ее озадачило. Но тратить время на самокопание Карина себе запретила. Нужно было действовать, и действовать немедленно. Водила она крайне неуверенно, водительских прав не имела, хотя уже третий год собиралась записаться в автошколу, да и вряд ли попытка уехать из города в окровавленном автомобиле с трупом в салоне добавит ей шансов на снисхождение в суде. А суда точно не удастся избежать. Потому что Миша исчез. Потому что кто-то убил Тимура. Потому что кто-то преследовал ее на темных улицах и наверняка затаился неподалеку. Потому что теперь ей не оставалось ничего иного, кроме как обратиться в ближайшее отделение полиции. Всего за несколько минут менты из потенциальной угрозы превратились в защитников и спасителей. Придется рассказать им все как есть, сведя свою роль к минимуму. Ничего не знала, слышала краем уха, гражданский муж попросил встретиться в ресторане с клиентами и передать им бумаги. Доказать ее реальную вовлеченность в незаконную торговлю черными артефактами невозможно. Если повезет, Карина Евгеньевна Тимофеева вообще будет проходить по делу свидетелем. Отступив от машины, она захлопнула дверь. Потом вспомнила о смартфоне Тимура, подумала, что стоило бы его забрать, но тут краем глаза уловила движение сзади. Опустила руку в сумочку, нащупала перцовый баллончик и только после этого неспешно обернулась. На углу у магазина под фонарем стоял человек. Тот самый, что шел за ней несколько минут назад. Невероятно, уродливо костлявый, а потому кажущийся выше своего роста и лишенный возраста. Узкие плечи, худая шея, облепленный желтой кожей череп – все это делало его похожим на мумифицированного покойника или узника концлагеря. Но, в отличие от них, он улыбался. Едва заметной, кривой улыбкой, не размыкая бесцветных губ. – Лучше не подходи, – сказала Карина. – Хуже будет. Человек пожал плечами. Мол, как угодно, дамочка. Однако он не опасался ее. Нисколько. Наблюдал, изучал, словно редкую бабочку, словно никогда прежде не встречал женщины, готовой угрожать ему. – Не подходи, – повторила Карина и принялась отступать, не отводя от незнакомца взгляда. Она вышла из тупика, держась у самой стены дома, двинулась прочь по улице, уползающей от магазина еще выше в гору. Этот чертов город, казалось, целиком состоял из сплошных подъемов и спусков. Человек под фонарем не двигался. Когда расстояние между ними увеличилось метров до восьмидесяти, Карина повернулась и зашагала со всей быстротой, на какую была способна. Однако совсем скоро страх заставил ее обернуться. Тощий по-прежнему стоял под фонарем, глядя ей вслед. Когда она обернулась снова, еще несколько секунд спустя, его там уже не оказалось. Не замедляя шага, Карина достала из сумочки смартфон и перцовый баллончик. Первый – в левую руку, второй – в правую. Все должно быть наготове. Забила в поисковик: «Железносельск отделения полиции», получила список с адресами и карту. Звонить она не решалась: еще не до конца понимала, что будет говорить и в каком свете лучше представлять случившееся. Пока нет прямой угрозы, следует собраться с мыслями и продумать историю. Как можно больше правды – потому что Миша может быть еще жив, но как можно меньше фактов, позволяющих предъявить ей серьезные обвинения. Регулярно оглядываясь, Карина добралась до пустынного перекрестка, остановилась под светофором и принялась изучать карту с раскиданными по ней синими кружочками, обозначающими отделения полиции. Судя по всему, ближайший участковый пункт располагался всего в нескольких минутах ходьбы, на улице Кольцова, в доме номер двенадцать. Прикинув маршрут, Карина еще раз осмотрелась: город вокруг выглядел мертвым. Давно мертвым. Как череп маньяка Куницына. Светились окна и где-то вдалеке шумели машины, из-за высокого металлического забора по правую руку доносились голоса, но они ничуть не оживляли общей картины, не исправляли впечатления, что Железносельск изо всех сил старался казаться обитаемым, однако старания эти никак не могли увенчаться успехом. Если убрать забор, то увидит ли она за ним обладателей голосов? Если зайти в квартиру, чьи окна так призывно горят, встретят ли ее хозяева? Или комнаты окажутся пусты и холодны? Перейдя через дорогу, она попала в район двухэтажных многоквартирных домов, построенных в середине прошлого века. Нужно было миновать четыре таких дома, а затем свернуть налево – и участковый пункт окажется прямо перед носом. Навстречу кто-то шел. Карина сбавила шаг, пригляделась. Женщина. Высокая, грузная, в годах. Она несла в каждой руке по увесистой холщовой сумке и смотрела себе под ноги. Остановившись на краю тротуара, Карина крепче сжала перцовый баллончик, готовая пустить его в ход при малейшем признаке опасности, но женщина проплыла мимо, не подняв головы, – тяжелая, покорная своей ноше и сосредоточенная на ней, похожая на тягловую лошадь. Отлично. Значит, в городе все-таки остались обычные люди. Настоящие люди. Они разговаривают за заборами и жгут свет в квартирах, они понятия не имеют о том, что где-то снаружи их уютных домашних мирков бродит по плохо освещенным улицам смерть, почти в исконном своем виде, костлявая и безмолвная, орудующая не косой, а… чем? Чем убили Тимура? Ножом? Она не видела ран, но не сомневалась, что его зарезали. Тощий, вроде бы, ничего не держал в руках. Это, кстати, важный вопрос. Почему она вдруг решила, будто он представляет для нее опасность? Успокойтесь, девушка, успокойтесь. Опишите подробнее внешность того мужчины. Совершал ли он какие-либо действия, которые вы расценили как посягательство на вашу жизнь, или, может быть, сказал нечто, похожее на угрозу? Здесь нужно соблюдать осторожность – допустим, она наговорит про тощего с три короба, а потом выяснится, что это всем известный городской сумасшедший, немой и совершенно безобидный. Карина свернула в нужном месте, и действительно сразу увидела полицейский участок. Отдельный, не так давно сделанный вход в жилом доме, массивная стальная дверь, рядом – табличка с гербом. В окне, расчерченном белой решеткой, горел свет. Она остановилась у порога, шумно выдохнула, приводя мысли и чувства в порядок. Нужно выглядеть перепуганной, отчаявшейся, разбитой, заставить мужиков беспокоиться за нее. Ничего сложного. Дверь отказалась открываться. Безуспешно поискав взглядом звонок, Карина принялась стучать, но в ответ изнутри не донеслось ни звука. Привстав на цыпочки, она заглянула в окно и увидела комнату с железными шкафами вдоль стен, в которой не было ни одного человека. – Они все футбол смотрят, сестренка, – раздался рядом глубокий, бархатистый голос. – Или в пивную ушли. И там футбол смотрят. Карина не вздрогнула и не закричала, хотя для этого пришлось сделать над собой грандиозное усилие. Повернула голову. Человек, стоявший на расстоянии пары шагов от нее, ничуть не походил на тощего преследователя. Наоборот, он выглядел его полной противоположностью: массивный и коренастый, лет сорока, с солидным брюхом, распирающим мешковатый свитер, с мясистым загривком шире изрядно облысевшей головы. На гладко выбритом лице – целая россыпь шрамов, плохо заживших, струящихся по щекам, подбородку и шее неровными, бугристыми потеками. Живой, чуть насмешливый взгляд. – У тебя случилось чего, сестренка? – Да, – она с трудом заставила себя отвести глаза от его лица. – Мне в полицию нужно обратиться. – Говорю же, нет никого. Футбол сегодня. Сам только что стучал, с бывшими сослуживцами матч посмотреть, не открыли. Срочное чего-то? Карина кивнула. – Ну, так давай позвоним. Сергеичу прямо и позвоним, он главный на участке. – Давайте. – Только я без мобилки, – сказал здоровяк и добавил виновато: – Не думал, что пригодится, не прихватил. Она протянула ему смартфон. Знала, что не следует этого делать, понимала, что совершает страшную, возможно, роковую ошибку, но слишком уж сильно было желание прекратить наконец этот затянувшийся кошмарный сон, добиться хоть какого-то результата. В тот момент, когда его короткие толстые пальцы сомкнулись на «мобилке», Карина увидела нечто, заставившее ее забыть об осторожности и закричать, нечто, позволившее осознать весь ужас уже случившегося и в полной мере прочувствовать участь Миши и Тимура. И она вскрикнула, выронив перцовый баллончик, и тут же зажала ладонями рот и замерла на месте, словно мышь перед змеей. – Чего визжишь, сука? – сказал здоровяк, стискивая в кулаке ее смартфон, ломая пластик, кроша стекло. У него на шее с левой стороны, между ухом и воротником свитера, под кожей двигался плотный комок размером с грецкий орех, двигался судорожными рывками, будто пытаясь прорваться наружу – и шрам, проходящий в этом месте, начал раздвигаться, раскрываться, выпуская изнутри плавно изгибающееся багровое щупальце, усеянное шевелящимися отростками. Карина побежала. Со всех ног, не разбирая дороги, не оглядываясь. Мелькали по сторонам деревья, дома, подъезды, машины, сливались в пестрый калейдоскоп, политый желтым казенным светом уличных фонарей. Толстяк не пытался преследовать ее, но остановиться Карина не могла. Она мчалась по молчаливым улицам, под огромными старыми липами, мимо закрытых киосков и разрисованных бесхитростными граффити гаражей. Потом, когда силы кончились, рот наполнился едким привкусом желчи, а дыхание стало причинять боль, она упала в заросли лопуха возле облезлого забора и лежала там, вдыхая влажные запахи осенней земли. Потом брела сквозь частный сектор, слушая дежурный лай собак, пропитываясь дымом топящихся бань. Иногда ей хотелось позвать на помощь, постучать в окно, рассказать, что с ней случилась беда. Но каждый раз перед глазами возникала склизкая хрень, выползавшая из шеи того жирного урода, и Карина не решалась произнести ни звука. Больше никаких ошибок, никаких разговоров с незнакомцами. Теперь ей можно надеяться только на себя. Затем была дорога, крадущаяся среди панельных пятиэтажек. И детские площадки, чью казенную пестроту сожрала ночь. И заброшенные сараи. И автостанция, где нашлись расписание автобусов до областного центра и круглосуточная закусочная под названием «Старт». Карина вошла внутрь, добралась до прилавка и долго стояла, молча читая нехитрое меню, пока откуда-то из недр заведения не вынырнула дородная женщина в запачканной горчицей бейсболке. Карина взяла кофе и пирожок с повидлом. Она опустилась за ближайший к прилавку столик. Судя по прочитанному на станции расписанию, первый автобус отсюда должен был отправиться в половине шестого утра. У нее оставалось достаточно времени, чтобы окончательно сойти с ума. Съев пирожок и не почувствовав вкуса, девушка прислонилась к стене и закрыла глаза, надеясь хотя бы на несколько секунд избавить разум от жутких образов прошедшего дня. Когда Карина очнулась, они сидели по другую сторону стола. Чудовище в шрамах – напротив, костлявый – у прохода. В первые несколько секунд она думала, что это сон. Как иногда думают персонажи глупых фильмов, постоянно восклицающие «ущипните меня». Но потом здоровяк растянул в ухмылке мясистые губы, неоспоримо доказывая реальность происходящего, и Карина заскулила от ужаса. – Далеко ушла, – сказал здоровяк. Шрам у него на шее покрывала блестящая розовая корочка. – Да только зря старалась, сестренка. Мой немногословный кореш может унюхать нужную бабу хоть за десять километров. Тощий кивнул, медленно, словно глубокий старик. – Кстати, – продолжал здоровяк. – Можешь звать его Бухенвальдом. А меня – Штопаным. Теперь, когда познакомились, тебе придется поехать с нами. Отказа не примем, понятное дело. Не положено. Допивай кофе и пошли. Пластиковый стаканчик перед ней действительно был наполовину пуст. Карина не помнила, чтобы пила из него. Интересно, успело ли содержимое остыть? – Послушайте, – сказала она дрожащим голосом. Каждое слово давалось с огромным трудом. – Я ничего вам не сделала. И не сделаю ничего, клянусь. Ни слова не скажу никому. Это мне самой просто не выгодно, да? – Не старайся, – сказал Штопаный. – Мы тебя знаем. Будь твоя воля, сидела бы сейчас в ментовке, валила все на хахалей. Но дело даже не в этом. Просто кое-кто хочет встретиться, сестренка. – Кто? – Увидишь. – Зачем со мной встречаться? – Потому что ты – невеста Господа Нашего. Хватит языком трепать, допивай быстрее. Они сумасшедшие, поняла Карина. Чокнутые последователи Куницына, фанаты давно мертвого маньяка. Нужно попытаться вырваться из ловушки, нельзя позволить им увести ее в машину. Шансов мало, но сдаваться на милость врага – верная смерть. Что если резко подняться, опрокинув на ублюдков стол, и, пока они мешкают, сбежать? – Даже не думай, – сказал Штопаный, тут же прочитав ее мысли. – Рыпнешься, и я сделаю вот так еще раз! – перегнувшись через столешницу, он ударил Карину кулаком в левую скулу. Голова мотнулась в сторону, на мгновение полностью опустев, а затем наполнилась жаркой, гулкой болью. Крик вырвался против воли, истошный и отчаянный. Карина заставила себя замолчать и закрыла ладонями лицо, добрая половина которого, казалось, превратилась в раскаленные угли. – …Орать вовсе не обязательно было, – донесся до нее сквозь звон в ушах ровный голос Штопаного. – Ничего хорошего не выйдет. Только еще кто-нибудь поранится. В подсобке послышался шум, затем шаркающие шаги. Хлопнула дверь за прилавком. Почти одновременно рядом скрипнул стул – похоже, Бухенвальд поднялся со своего места. Карина не могла отнять рук от лица. Она была в темноте, и мечтала остаться в этой темноте навсегда. – Чего шумите? – раздался голос продавщицы. – Чай не дома. – Уходите, – прошептала Карина, едва шевеля губами. – Пожалуйста. – Эй, ты! – продавщица явно не испугалась ночных гостей. – Ну-ка, назад. Я охрану позо… Она захрипела и замолчала. Что-то ударилось о прилавок. Что-то хрустнуло. Снова. Потом звуки кончились, осталось только Каринино тяжелое дыхание, привкус крови во рту и осенняя земля, которой все еще пахли пальцы. Спустя несколько секунд Карина осмелилась убрать их от лица. Продавщица, по-прежнему в запачканной горчицей бейсболке, не мигая, смотрела прямо на нее. Смотрела уже с той стороны, из смерти, потому что голова ее была свернута набок под невероятным, жутким углом, а стремительно багровеющую сломанную шею прижимала к прилавку костлявая ладонь Бухенвальда. Из широко раскрытого рта женщины вытекала на сальную пластиковую поверхность розовая слюна. – Я же говорил, – вздохнул Штопаный. – Вишь как. Бухенвальд поднял руку, и продавщица, не закрывая глаз, сползла вниз, словно кукла в человеческий рост, набитая тряпьем и камнями, – и стала одним целым с щербатым кафелем пола, с холодным бетоном стен, с остановившимися стрелками часов на стене. С Тимуром. С Мишей. Карина поняла, что хочет того же: больше не быть, больше не знать. Она вновь закрыла лицо ладонями, прижала их крепко-крепко, надеясь отгородиться от мира. Там, снаружи, творилось зло. Снаружи чудовища убивали людей. Снаружи девушка, чье имя она позабыла, дрожала от слез, от боли, от участи, что ждала ее впереди. А здесь пахло дымом и осенней землей. Одно чудовище выпило холодный кофе. Поднялось из-за стола. Второе схватило девушку за плечи, потом за талию, подняло в воздух, как подушку, хотя девушка весила, наверное, вдвое больше его самого, взгромоздило на плечи и понесло к выходу. Они погрузили ее в знакомую машину, на заднее сиденье, привязав руки к поручню потолка колючей бечевкой. Это была машина Тимура. Сам Тимур тоже был внутри – по крайней мере то, что от него осталось. Штопаный, сидевший на переднем пассажирском кресле, держал его отрезанную голову перед собой. Он задрал свитер, и из открывшихся на животе каверн протянулись к этой голове червеподобные твари, каждая в палец толщиной, сочащиеся сукровицей и серой слизью, жадно двигающие крохотными своими щупальцами. Они впились в глаза, щеки и язык Тимура, в огромную рану на шее, принялись пожирать его плоть. Их тела сокращались, пульсировали, проталкивая проглоченное вглубь. Штопаный хихикал, тонко и непрерывно. Девушка, чье имя растворилось в наступающей ночи, не обращала на этот смех внимания. Она смотрела, как исчезает любимое лицо, превращаясь в кровавое месиво, как обнажаются желтые кости и смерть проступает сквозь маску жизни. Она не чувствовала ничего, потому что запретила себе чувствовать. Рядом с ней на сиденье покоилась коробка с другим черепом, куда более могущественным, и ей казалось, что он изучает ее, ощупывает взглядом, готовит нападение. Неважно. Это было неважно, потому что страх потерял свой смысл. Бухенвальд, устроившийся за рулем, вел машину уверенно и легко, явно направляя ее вон из города – если в первые несколько минут девушка, чье имя растворилось в ночи, замечала за окном светящиеся вывески магазинов, то вскоре они сменились частными домами, а затем по обе стороны потянулись плохо различимые в темноте громоздкие силуэты заброшенных заводов: трубы, коробки цехов, бетонные заборы с колючей проволокой поверху. – Мы сможем включить Господа? – спросил Штопаный. Карина, притаившаяся где-то в волосах девушки, потерявшей имя, прислушалась. Фраза показалась ей любопытной. Бухенвальд покачал головой. – Не получится? – настаивал Штопаный. – Уверен? Не дождавшись ответа, он ткнул окровавленным пальцем в магнитолу раз, другой, третий. Включил ее. Салон наполнили звуки модного хита – одного из тех, что ползают вверх-вниз по всяческим чартам месяцами, но не задерживаются в памяти ни на минуту. – Ишь ты, – оскалился Штопаный. – Ну-ка нахер отсюда! Ткнув в магнитолу еще пару раз, он сумел переключиться на следующую радиостанцию, сменив тем самым музыку на рекламу. – Ни хрена себе! Она сразу другую волну нашла. Сама. Бухенвальд кивнул. – Безбожная тачка, – сказал Штопаный и захихикал, довольный собственной шуткой. – Безбожная, зуб даю! Карина поняла, что продолжения не будет, и вновь замерла, наблюдая за девушкой в машине. Ее руки затекли, левая скула набухала пульсирующей болью, а в горле угнездилась тошнота. Девушка смотрела наружу, не пытаясь понять, куда они едут. Заводы сменились лесом, сплошным сосняком, и вскоре машина свернула с трассы на проселочную дорогу, где Бухенвальду пришлось сбавить скорость. Реклама по радио давно закончилась, и теперь эксперты спорили о международной ситуации. Никто в салоне не слушал их. Никому не было дела до успехов страны на внешнеполитическом фронте. В свете фар из тьмы вырос покосившийся знак с названием населенного пункта, показавшимся странно знакомым, и несколько секунд спустя на обочинах появились дома. Заборы, калитки, двускатные крыши. Нигде ни огонька, ни намека на жизнь. – Пустая деревня, – сказал Штопаный, повернувшись к девушке. – Их убила Яма. Карина сразу поняла, о какой Яме идет речь, но никак этого не показала. Она должна молчать, должна прятаться. Если они увидят, что она еще здесь, то непременно снова захотят причинить ей боль. Пусть страдает девушка без имени. Если повезет, удастся дождаться подходящего момента, можно попробовать сбежать. Хотя – куда здесь бежать? В лес? На заброшенный завод? На дорогу, где за все время пути им не попалось ни одного встречного автомобиля? Отсюда не сбежишь. Девушке без имени не повезло. Ей скоро конец. Карине было жаль несчастную, но она ничем не могла помочь. Бухенвальд остановил машину у единственного дома, в окне которого горел слабый свет. – Аллилуйя, братья и сестры! – торжественно провозгласил Штопаный. Он опустил свитер, закрыв истекающие сукровицей раны, чьи обитатели скрылись внутри мгновением ранее, и вышел из автомобиля, оставив на сиденье изувеченную голову Тима. Безымянная девушка отвернулась, чтобы не видеть того, во что превратилось лицо, которое она целовала еще позапрошлой ночью. Наверное, ей стоило бы позавидовать Тимуру, подумала Карина. Он не знал, какая судьба ожидала его тело, и никогда не узнает. Для него все закончилось быстро. Вот здесь, за рулем любимой машины – раз, и вечный покой. Ни погонь через пустой город, ни страха, ни убитых друзей, ни пожирающих их монстров. Итог все равно один, и везет не тому, кто дольше продержался, а тому, кто ушел быстрее. Без мучений. Не изведав ужаса, грызущего внутренности. Пожалуй, если бы она могла, ей стоило удавиться с помощью бечевки, что связывала руки. Бухенвальд сунул ключи в карман, вышел из машины и вытащил девушку. Бечевку он разорвал одним движением – как нитку, хотя та была толщиной с Каринин мизинец. Сила, наполнявшая это хилое тело, не поддавалась осмыслению. Он снова взвалил пленницу на плечи и пошел следом за Штопаным к дому. Карина подумала, что неплохо было бы осмотреться, но безымянная не сводила глаз с неба, безуспешно пытаясь отыскать там хотя бы одну звезду. Протяжно заскрипела калитка. Двор встретил их запахами гнили и плесени. Повернув голову, девушка увидела большую бочку под жестяным водостоком на углу и пустую собачью будку рядом. Сам дом был сложен из потрескавшихся бревен, на которых кое-где оставались ошметки краски. Окно, выходящее во двор, закрывали доски. Поднявшись по выстланному рубероидом крыльцу, Штопаный снял с двери тяжелый навесной замок. Изнутри хлынула застарелая приторная вонь неухоженного жилья: давно немытых полов, нестираной одежды, прокисшего супа. Эти запахи опутывали девушку, пока Бухенвальд нес ее сквозь оклеенные старыми календарями сени. Потом он бросил безымянную на диван в большой, заваленной хламом комнате. Под самым потолком горела мутным светом единственная крохотная лампочка, и благодаря ей было видно, что у противоположной стены, рядом со столиком, застеленным чистой скатертью, сидит в инвалидном кресле старик. Он склонил седую голову набок и, казалось, совершенно не обращал внимания на вошедших, вместо этого прислушиваясь к стоящему на столике радиоприемнику. Радиоприемник был еще советский, с деревянным корпусом, раздвижной антенной и круглым тумблером переключения частот. Только последним старик, похоже, не пользовался, потому что из динамика лился белый шум, монотонная песня вселенной. Штопаный некоторое время стоял молча, то ли разглядывая старика, то ли вслушиваясь в помехи, потом повернулся к Бухенвальду: – Чего застыл? Давай тащи коробку. Костлявый кивнул и скрылся в сенях. Штопаный опустился на диван рядом с девушкой. Та отпрянула от него, вжалась в искореженную, твердую как камень спинку, но толстяк и бровью не повел. – Это отец, – сказал он, указав на старика в инвалидном кресле. – Знакомься: Савелий Григорьевич, родитель Господа Нашего. Несчастный старик. Натерпелся выше крыши. В девяностые годы здесь много беспредела всякого творилось, сестренка. Даже говорить страшно. После суда какой-то из местных братков, у которого Господь забрал то ли дочь, то ли племянницу, узнал, кто он, и приехал мстить. Связал Савелия Григорьевича, вывез в лес, заставил могилу копать, все дела, короче. Старика уже, прикинь! Типа, батя за сына ответит. Потом выстрелил ему в голову, землей присыпал и уехал. Все! Но Савелий Григорьевич не помер. Нет, сестренка, не так-то просто! Господь сохранил ему жизнь под землей, помог выбраться и доползти до дороги. Господь никогда не бросает своих. Штопаный прочистил горло, сплюнул сквозь зубы на пол. У него на плече под плотной тканью свитера что-то шевелилось. Безымянная девушка не хотела знать, что именно, но Карина знала и ежилась от отвращения. – У Савелия Григорьевича с тех пор с головой не очень, – продолжал рассказывать ее тюремщик. – Сама понимаешь, огнестрел, все дела. Ноги отнялись, говорит с трудом. Путает слова. Но он слышит Господа. В тот самый день, когда вернулся из больнички домой, он включил радио, и в шуме между станциями услышал голос своего сына. Знаю, – он пожал плечами и хмыкнул, будто действительно спорил с кем-то. – Все это звучит как какая-нибудь лажа, сектантство и все такое, но подумай сама, сестричка: голос предсказал, что ты приедешь и привезешь мощи Господа Нашего. Прикинь! Объяснил, как найти вас в Интернете, какие слова писать, откуда взять денег для задатка. Отвечаю. Мы должны были вернуть его отцу. Проскрипев половицами в сенях, вошел Бухенвальд с коробкой. Поставил ее на край дивана, бросил вопросительный взгляд на напарника. Тот кивнул – мол, давай приступай. Бухенвальд разодрал коробку, рассыпав по полу упаковочный наполнитель, повертел в пальцах обнаруженный внутри пластиковый контейнер, но, не сообразив, как его открыть, просто продавил пальцами крышку и оторвал ее. Очистив от ваты череп, похожий на странный керамический сосуд, он шагнул к старику. Штопаный вскочил с дивана, бросился наперерез, изящным движением повернул регулятор звука на приемнике, опрокинув комнату в тишину. Старик встрепенулся, вздернул голову, будто только что пробудившись ото сна, уставился Штопаному в лицо. – Что случилось? – спросил он сипло. – Ты чего? – Савелий Григорьевич, это… нашли мы, как сказано было. Вот твой сын. – А? – Вот твой сын, говорю! Бухенвальд склонился перед стариком, протягивая ему череп на вытянутых руках. Девушка, забывшая свое имя, наблюдала за происходящим без интереса, довольная тем, что никто не пытается навредить ей. Савелий Григорьевич дотронулся до черепа пальцами, осторожно, словно опасаясь обжечься. Затем, пожевав губами, все-таки взял его, взвесил в ладонях, посмотрел в пустые глазницы, прошептал: – Максим, я узнал тебя. Столько лет прошло, а узнал. Карина с трудом сдержала смех. Не стоило привлекать внимание к девушке, пусть ее судьба и решена. Она даже подумала, что той следовало бы попытаться улизнуть, пока похитители заняты изучением поганой своей святыни – более подходящего момента могло просто не представиться. Но девушка не желала шевелиться. Каждое движение казалось ей обреченным на неудачу, непременным условием новой боли. А потому она осталась на диване, пахнущем псиной, и Карина смирилась, хотя вскоре пожалела об этом. Старик поднес череп к лицу, поцеловал в гладкий грязно-желтый лоб. При этом его палец коснулся пулевого отверстия на шве между левой височной и затылочной костями. Старик замер, потом повернул череп. Долго не сводил взгляда с крохотной дырочки, а когда наконец поднял глаза, в них стояли слезы. – Это она сделала? – прошептал он, указывая кивком на безымянную девушку. – Нет, что ты! – отмахнулся Штопаный. – В те годы ее еще… – Это она сделала! – завопил старик. – Она! Шмара подзаборная! Кровопийца! Дрожащими руками он положил череп на столик и, крутанув колеса коляски, направил ту к дивану. Лицо его тряслось, жиденькая седая бороденка ходила ходуном. – Что молчишь?! Что молчишь, а?! – заорал он, совладав с дергающимся ртом. – Скажи хоть слово, шмара вонючая, пока я тебя не придушил! Девушка отпрянула, но позади была только спинка дивана и стена. Старик махнул рукой – заскорузлые узловатые пальцы с острыми желтыми ногтями сомкнулись в нескольких сантиметрах от ее лица. Вот и все, подумала Карина, вот и финал. Для этого тебя сюда и привезли, подруга, чтобы Куницыну-старшему, вырастившему насильника и убийцу, было на ком отвести душу. Но тут Бухенвальд схватил старика за плечи и откатил назад, а Штопаный стащил пленницу с дивана. – Пойдем-ка, сестричка, – прошипел он. – Уберем тебя с глаз долой. Хозяин дома орал, плевался и матерился, пока Штопаный волок девушку к высокой, аккуратно покрашенной двери, ведущей в соседнюю комнату. Но стоило этой двери захлопнуться за ней, как крики прекратились. – Дружище, по-моему, пора сделать кое-кому укол, – раздался приглушенный голос Штопаного. Потом все стихло. Карина зашевелилась. Вокруг был абсолютный мрак, однако, когда ее швыряли сюда, она успела разглядеть лица. Множество лиц, глядящих со всех сторон. И кое-что другое. Кое-что, заставившее ее вернуться в тело, двигаться, дышать. Надеяться. Девушка на четвереньках доползла до стены, поднялась и принялась ощупывать ту в поисках выключателя. В соседней комнате что-то зашуршало, звякнула посуда. Карина застыла на месте, боясь выдать себя, свою надежду, и продолжила поиски только спустя несколько тошнотворно долгих секунд. Выключатель обнаружился именно там, где ему полагалось быть – на высоте ее плеча, у самого косяка. Она зажгла свет. Здесь была люстра. Массивная, с пятью витыми плафонами, хотя и покрытыми толстым слоем пыли. Еще здесь были фотографии. Большие и маленькие, черно-белые и цветные, выцветшие и отлично сохранившиеся. На стенах, на полу, за стеклом серванта, на круглом журнальном столике с изогнутыми ножками, на древнем телевизоре с выпуклым экраном. Фотографии одного и того же человека, Максима Савельевича Куницына: смеющийся малыш, озорной пацан, задумчивый юноша, долговязый угловатый мужчина с копной непослушных волос. Некоторые из этих фотографий Карина встречала раньше, когда изучала историю Гравера, но большинство видела впервые – скорее всего, они никогда не покидали пределов дома и предназначались только для глаз его хозяина. Комната была храмом, часовней, а снимки – иконостасом Господа. Скоро череп займет здесь положенное место. Впрочем, черт с ним, с черепом! Нужно спешить. Карина, ступая так тихо, как только могла, подошла к двери, на которой имелась металлическая щеколда. Солидная задвижка на толстой стальной пластине, держащейся на шести шурупах. Такую одним движением не выломаешь… хотя тощий, наверное, в состоянии, но лучше об этом не думать. Бог знает, на что способны двое уродов, словно вышедших из дешевых ужастиков. Сейчас у нее есть шанс, есть возможность спастись, и упускать ее нельзя. Дело в том, что в комнате было окно. Без стекла и без рамы, заколоченное трухлявыми досками, которые она могла бы выломать. Или хотя бы попробовать выломать. Судя по всему, за ними – задний двор, а там и до леса рукой подать. Она скроется в лесу и станет молиться о дожде или ручье на пути, о чем угодно, что поможет сбить со следа Бухенвальда, если он и вправду обладает собачьим нюхом. Доживет до утра, а там выберется как-нибудь на дорогу, поймает попутку. Не здесь, так дальше, где живут нормальные люди. Главное – не останавливаться. Ни на минуту. Карина склонилась над щеколдой и начала медленно сдвигать задвижку. Ни скрипа, ни шороха – по другую сторону двери не должны ничего заподозрить. Там снова звенела посуда, шипел приемник, бормотал неразборчивые проклятья старик, а Штопаный отвечал ему спокойным, нарочито мягким тоном, как врач разговаривает с пациентом. В слова она не вслушивалась. Когда щеколда была заперта, Карина прокралась через комнату к окну. Максим Куницын, убийца нескольких десятков женщин, наблюдал за ней со всех сторон. Улыбался, щурился, махал рукой. Она показала ему средний палец. Сучий потрох даже не представляет, с кем связался. Карина зажмурилась на мгновенье, шумно выдохнула и ударила ногой в доски, вложив в это движение всю оставшуюся в нейсилу. Доски скрипнули, но выдержали, хотя две в середине подались наружу, вытягивая из стены гвозди. Карина ударила еще раз. Центральная доска проломилась, соседняя вылетела целиком. Сзади, в большой комнате, наступила тишина. Кто-то дернул на себя дверь. – Опа! – раздался изумленный возглас Штопаного. – Ну-ка, братишка, подсоби. Карина разбежалась и прыгнула в окно, выбив собой оставшиеся доски, рухнула на сырую траву в потоке щепок и обломков как раз в тот момент, когда дверь распахнулась настежь, едва не сорванная с петель Бухенвальдом. Она вскочила на ноги. Света, доползавшего сюда сквозь оконный проем из большой комнаты, едва хватало, чтобы хоть что-то различить, да и не было времени на то, чтобы осматриваться. В нескольких шагах перед ней у слегка покосившегося забора лежала на боку ванна, до сих пор белая, а потому заметная в темноте. Карина бросилась к ней и, используя ванну как подставку, перебралась через ограду. За спиной не раздавалось ни звука, никто не кричал, не догонял, не топал по двору с ружьем или топором наперевес. Размышлять о том, хорошо это или плохо, было некогда. Она спрыгнула по другую сторону забора. Совершенная, непроницаемая темнота облепила ее. Карина двинулась наугад, выставив перед собой руки, и почти сразу ладонь уперлась в ствол дерева. Она сделала еще пару шагов и, споткнувшись о вылезший из земли корень, едва не упала. Волна адреналина, вынесшая ее сюда, схлынула, оставив после себя голый остов сгнивших надежд, увязших в холодном иле отчаяния. Ей ни за что не уйти далеко в такой тьме. Ей ни за что не уйти. И теперь боли будет только больше. Вспыхнул свет, белый, слепящий. Она зажмурилась, съежилась, закрывшись руками, однако вместо удара из-за света пришел голос: – Погоди, сестренка. Прежде чем рванешь дальше, послушай меня. Карина не пошевелилась. Она пыталась вновь скрыться в глубине, оставить наедине с чудовищем незнакомую ей девушку без имени и прошлого. Но не получалось. Ее била крупная дрожь, а тело и сознание отказывались повиноваться. Это из-за тебя мы здесь, говорили они, это ты нас сюда завела. Так теперь наслаждайся на всю катушку. – Послушай меня, – сказал Штопаный. – Пожалуйста. Карина подняла голову. Он стоял перед ней всего в паре метров, массивный, изуродованный шрамами, полный плотоядных тварей из ночных кошмаров. Рука с электрическим фонариком отведена в сторону, в другой – радиоприемник. – Хорошо, – увидев, что девушка слушает, Штопаный кивнул. – Ты держишься шикарно. Не каждый мужик бы так держался на твоем месте. Мужики вообще быстро сдуваются. Но тебе нужно знать несколько важных вещей, сестренка, прежде чем принимать решение. Вон там, – он поднял фонарь, направив его луч на лес, – там лежат те, кто обрел веру. Те, кому Господь Наш явил свое величие. Некоторых из них он закопал сам, еще при жизни, но большая часть – это мы с Бухенвальдом постарались в последние годы. Это его народ, богоизбранный народ, ждущий возвращения Господа в глухом лесу на краю гнилого города. И если они услышат его голос, то отзовутся. Смотри. Он включил радиоприемник, выкрутил звук на максимум и поднял над головой. Хриплое статическое шипение потекло меж деревьями, наполняя собой заросли. Хрустнула где-то – то ли в реальности, то ли в белом шуме – ветка, зашелестела палая хвоя. Карина увидела, как в свете фонаря поднимается из земли темный искаженный силуэт. Песок осыпался с него, обнажая обрывки одежды и желтые-желтые кости. Чуть в стороне распрямлялся еще кто-то, состоящий из истлевших лохмотьев, сухой травы, корней и черепа без нижней челюсти. Во мраке по обе стороны от освещенного участка двигались смутные, едва различимые фигуры. Их было много. Лес шумел, словно под шквалистым ветром. Лес был полон мертвецов. – Они слышат! – торжественно, с почти детской радостью в голосе воскликнул Штопаный. – Видишь? Ты пойдешь туда, к ним? Или останешься с нами? Выбирай сама. Карина не шевелилась, все пытаясь отстраниться от происходящего, укрыться в укромном уголке разума, поверить, что все это не имеет к ней отношения. Но безуспешно. Она была здесь, в глухом лесу на краю гнилого города. Она смотрела, как встают из своих неглубоких могил убитые бандой безумцев люди. Она… – Я не слышу, – сказала она тихо и тут же повторила громче, указывая на приемник: – Я не слышу ни черта. Только помехи. – А это твоя проблема, сестренка, – ощерился Штопаный. – В белом шуме каждый слышит себя. Так и работает Господь. Взяв фонарь и приемник в левую руку, правую он протянул ей: – Не дури. Пойдем. Нас уже ждут. Карина хотела плюнуть ему в ладонь. Хотела впиться в нее ногтями. Он ударил бы ее по лицу. Он наверняка ударил бы ее еще раз, например в солнечное сплетение, а потом, когда она согнулась бы пополам, из последних сил пытаясь вновь начать дышать, он намотал бы ее волосы на кулак и потащил за собой. Потому что он уже победил, а она уже умерла. Из смерти не сбежать, как ни старайся. Карина взяла Штопаного за руку, и он повел ее обратно, вдоль забора, мимо крохотных елочек, посаженных совсем недавно, мимо заросшего репейником загона для коз или овец. Повернув за угол, они увидели Бухенвальда, вывозящего коляску со стариком из калитки. – Как раз вовремя! – крикнул Савелий Григорьевич и захлопал в ладоши. У него на коленях на расшитом белом полотенце покоился череп Куницына-младшего. Из нагрудного кармана рубашки торчал уголок платка. Редкие волосы были зачесаны назад, а ноги закрывал дырявый клетчатый плед, свисавший почти до самой земли. Старик, похоже, вырядился по-праздничному, и настроение соответствовало: он беспрерывно улыбался. Тонкая полоска слюны сползала из уголка рта в бороду. – Да, уже пора, – сказал Штопаный, бросив взгляд на небо. – Дальше тянуть никак нельзя. И они двинулись по главной улице пустой деревни: Бухенвальд с дедом впереди, Штопаный с Кариной, фонарем и по-прежнему работающим на полную мощь приемником – следом, в трех метрах. Странное и мрачное шествие. Сквозь непрерывный гул статических волн позади слышались шаги множества тонких, истлевших ног, шорох множества сгнивших одежд. Карина поклялась себе не оглядываться. Идти оказалось неожиданно легко. Вскоре ровная и сухая дорога сбросила ветхие оковы человеческого жилья, свернула в лес, поползла, извиваясь, среди деревьев. Бухенвальд, как обычно, не произносил ни звука, Штопаный тоже молчал, хотя молчание его явно было вымученным, призванным обозначить торжественность момента. Только Савелий Григорьевич напевал себе под нос нечто вроде колыбельной, покачивая в такт головой, поглаживая по темени череп сына. Слов Карина разобрать не могла, мешал вездесущий белый шум, но мотив был знаком с детства. Наверное, это слушал Куницын-младший перед сном в те времена, когда ненависть еще не разъела его душу. Убийцам и их жертвам родители поют одни и те же песни. Они шли через лес, и тех, кто брел позади, куда Карина зареклась смотреть, становилось все больше. Новые и новые силуэты возникали из тьмы по сторонам дороги, присоединялись к процессии, влекомые звуками приемника, как те дети, которых в старой сказке увела из города музыка зловещего Крысолова. Их было уже не меньше сотни, и их липкий смрад сперва заставлял Карину морщиться и закрывать лицо рукавом, борясь с тошнотой, но постепенно она привыкла и даже начала различать сквозь зловоние множества разлагающихся трупов иной, полностью противоположный запах. Чем дальше они уходили от деревни, тем сильнее он становился – кислый, едкий, химический. Запах Ямы. Вот свет фонаря скользнул по ржавым остаткам ограды, по лежащей на обочине табличке с черепом и надписью «СТОЙ! Опасная зона. Проход запрещен». Рядом валялся резиновый сапог, испачканный в засохшей темной субстанции. Воздух стал влажным, щипал ноздри и горло. Процессия замедлилась, выбралась к озеру с непроницаемо-черной водой. Карина видела множество фотографий в Интернете и знала, что оно почти идеально круглой формы. Луч фонаря едва доставал до противоположного берега, усеянного ржавыми бочками. Почва под подошвами стала мягче, хлюпала при каждом шаге. Опустив глаза, девушка заметила птичий скелет, наполовину ушедший в вязкую грязь. Впереди появились металлические мостки, которые когда-то использовались для забора проб. Прежде чем ступить на них, Штопаный выключил приемник. Белый шум исчез, и в тишине стало понятно, что они одни тут, что нет ни позади, ни вокруг никаких мертвецов, а может, и не было никогда. Лес многозначительно молчал. Потом загромыхали под ногами стальные пластины. Савелий Григорьевич тоненько захихикал, тряся головой. Штопаный нагнулся к Карине и прошептал: – Он давно сюда не приходил. Со смерти сына, когда просил у Ямы его вернуть. Черная Яма была сейчас вокруг них, под ними. От запаха у Карины кружилась голова, она шаталась и, если бы не жуткий сопровождающий, наверняка свалилась бы с мостков – которые, кстати, оказались гораздо длиннее, чем на фотографиях экологических активистов и блогеров. – Почти все, – Штопаный больно сжал ее запястье. – Не вздумай испортить нам праздник, сестренка. Бухенвальд впереди замер как вкопанный, остановив коляску на самом краю мостков. Штопаный отпустил девушку, подошел, встал рядом. Карина опустилась на колени – так меньше кружилась голова. На несколько мгновений все застыло: лес, мир, жизнь. На несколько мгновений все перестало иметь значение. А потом Штопаный стащил с себя свитер и бросил в озеро. Шрамы, покрывавшие его спину и плечи, открывались один за другим, выпуская наружу кошмар, извивающийся в беззвучной черной ненависти. – Господь Наш! – заголосил Штопаный, воздев руки над головой. – Владыка всех в лесу зарытых! Пришел предсказанный Тобой час, и Ты вернулся домой. Ты снова здесь, среди нас, Твоих детей и слуг! Ты снова здесь, среди милых Твоему сердцу лесов! Ты готов возвратиться из мира слов и снов в мир клыков и когтей! Мы ждем, Господи! Карина зажмурилась. Ее мутило. Голос Штопаного, пронзительный, искрящийся, кружил вокруг, смешиваясь с разъедающими внутренности испарениями озера. Взрывоопасная смесь пугала ее. Быстрее бы все закончилось. Потом сильные костлявые руки подняли девушку в воздух. Она не пыталась сопротивляться и не боялась, чувствуя лишь тошноту. – Просим! Просим! – верещал где-то Савелий Григорьевич. – Вот она! Та, что вернула нам тебя, Господи! – гремел Штопаный. – Я люблю тебя, – шептал на ухо Тимур. – Прими же ее в объятья Свои! Даруй ей благословение Свое! – Я рядом, я всегда буду рядом, – лгал, искренне веря в сказанное, Миша. – Пусть станет она плотью от плоти Твоей! – Мы уедем туда, где тепло. Только мы и никого больше. – Объявляю вас мужем и женой! Карину поставили на самом краю. От вони что-то загорелось в груди, легкие полнились жирным черным дымом. Сильные руки по-прежнему держали ее за плечи. Мир состоял из бабьего хихиканья сошедшего с ума старика. – Поцелуйте друг друга, – сказал Штопаный, и Карина подняла веки. Он держал череп Куницына перед ее лицом. Пустые выемки глазниц смотрели прямо ей в глаза. Ровные ряды зубов скалились в игривой улыбке. Кость казалась бесцветной в темноте. Но это была и голова Тимура – та самая, отрезанная, забытая в машине, обглоданная порождениями Ямы. Это была и голова Миши, потерянного, исчезнувшего без следа. Это была голова ее первого парня, который до сих пор иногда снился ей по ночам. Это была голова отца, умершего от рака три года назад. И Карина поцеловала череп. Не потому что так хотели мучители, убийцы, чудовища, а потому что того требовала любовь. А потом любовь сделала ее невесомой, как только она одна способна. Разжались костлявые пальцы, отпуская тело, над которым потеряли власть земные законы, и Карина взлетела. Не было ни верха, ни низа, ни неба, ни Черной Ямы – Карина падала сквозь вечность, сжимая в руках голову любимого человека, сливаясь с ним в поцелуе, падала в белый шум, навстречу величайшему оргазму, которым завершается всякая жизнь.* * *
Старик отдыхал во дворе, когда она вернулась. Раннее утро пахло осенней землей, накрапывал мелкий дождь, но ей не было холодно. Ухмыльнувшись, Савелий Григорьевич отъехал с дороги, пропуская в дом обнаженную женщину с длинными седыми волосами и неестественно бледной, словно выбеленной, кожей. Сам за ней не последовал, остался на улице дожидаться почтальона, который раз в месяц приезжал сюда специально, чтобы привезти ему пенсию. Она прошла сквозь сени, оставляя грязные следы, опустилась в большой комнате на пол у столика и включила радиоприемник. Заскворчали, словно масло на сковородке, статические помехи. В ветхом доме посреди пустой деревни на краю гнилого города она прижала колени к груди и стала вслушиваться в пустоту между радиостанциями. В хриплый, чуть дребезжащий голос своего мужа и сына.Убийцы и дураки
I
День выдался солнечный с начала и до конца, чему, безусловно, следовало радоваться. Но не получалось. За полтора часа до заката поэт и детский писатель Александр Иванович Введенский явился на Надеждинскую, к своему старому другу, поэту и детскому писателю Даниилу Ивановичу Хармсу. Четыре месяца назад улицу переименовали в честь Маяковского, но Введенского это волновало мало. Нервничал он, переминался с ноги на ногу возле парадного, тревожно озираясь по сторонам, и курил одну папиросу за другой совсем по иной причине. – За мной идет охота! – с порога заявил Введенский, стоило Хармсу открыть дверь. – Меня пытаются убить. Хармс сделал страшное лицо, прижал палец к губам и, схватив товарища за лацкан пиджака, втащил его в квартиру. – Тссс! – прошипел он. – Марина спит. Введенский заморгал и замолк. Будить жену друга в его планы не входило. Признаться, он совсем позабыл о ее существовании и теперь лихорадочно пытался сообразить, что сказать в свое оправдание. В конце концов решил вообще ничего не говорить – и правильно сделал, потому что хозяин никаких оправданий не ждал, а только смотрел пристально недобрыми голубыми глазами. В тишине, пахнущей затхлой старостью, было слышно, как где-то за стенкой мерно тикают часы. В конце концов Хармс снова прижал палец к губам и ушел в свою с супругой комнату, оставив гостя наедине с коридором. Что-то происходит, подумал Введенский, здесь тоже происходит что-то неправильное и неестественное. Что-то косолапое и голодное, хрустящее ветками в темноте. Додумать он не успел, потому что Хармс вернулся одетый для выхода в свет: в твидовом пиджаке, бриджах, жокейской кепке, с тростью, трубкой и спичками в руках. – Несомненно, – сказал он. – Проветримся. Через десять минут приятели уже сидели в валютном баре на Литейном. Хармс дымил трубкой, глядя в потолок, и его грубое лицо с тяжелыми чертами казалось исполненным возвышенных мыслей, недосягаемых для простых смертных. На самом деле он размышлял о том, стоит ли налегать на водку, графинчик которой стоял перед ним на столе, или лучше ограничиться пивом. Введенский мрачно молчал. В конце концов Хармс налил себе стакан водки, вынул из-за пазухи крупный сине-розовый аметист на цепочке и, погрузив его в жидкость, пробормотал несколько еле слышных слов. Этот ритуал помогал избегать чрезмерного опьянения. Хармс протянул камень Введенскому, но тот покачал головой: – Не хочу оставаться трезвым. Хармс пожал плечами, спрятал аметист во внутренний карман пиджака и одним махом выпил весь стакан. Введенский последовал его примеру. Водка была теплой и противной, пахла прелым хлебом. От нее в голову сразу полезли нелепые образы. Закусив хрустящим соленым огурцом, Хармс сказал: – Теперь можно и о твоих бедах послушать. Введенский хмурился, разглядывая зажатую в пальцах папиросу. Он был красив и высок, хорошо сложен, небогато, но со вкусом одет и напоминал средневекового менестреля неизменно трагическим выражением лица. Его любили женщины, уважали мужчины, подозревала в неблагонадежности власть – идеальное сочетание для непризнанного гения. А в том, что Введенский – гений, Хармс не сомневался с их самой первой встречи. Молчание затягивалось. Даниил Иванович вытряхнул содержимое трубки прямо на стол и, вынув из кармана кисет, принялся набивать ее заново. Снаружи шумел шагами, голосами и женским смехом многолюдный майский вечер, ревели автомобили. Снаружи жизнь казалась почти выносимой. – Ладно, к делу, – сказал Введенский, наливая себе еще один стакан. – А дело плохо, Даня. Дело плохо. Меня хотят убить. – Кто? – Странные люди. Слепые убийцы из Отдела Безвременных Смертей. – Давай сразу определимся, – Хармс понизил голос. – Этот Отдел имеет отношение к ГПУ? Пауза. Потом: – Не думаю. По-моему, там их тоже побаиваются. – А откуда знаешь название? Введенский взглянул на собеседника разочарованно: – Ну как-то же их надо именовать, верно? – Допустим. – Они приходят по ночам. Выбираются из шкафа, встают в изголовье кровати, состригают мне волосы на висках, обрезают ногти, сбривают щетину, пудрят лицо. Готовят к похоронам. Если просыпаюсь, рассыпаются по углам, замирают в тенях, а когда я пытаюсь, но не могу встать, принимаются бродить вокруг, обсуждая, как поступить дальше. Им нужно план выполнять, а я лежу да пялюсь. Слушаю пристально, но сколько ни прислушивался, так и не смог разобрать ни одного слова. – Говорят не по-нашему? – А черт их пойми! Может, на иностранном, а может, специальный секретный язык – не знаю. Нужен как минимум полиглот вроде тебя, Даня, чтобы ответить на этот вопрос. Как минимум! – с этими словами Введенский опрокинул в себя стакан и замолчал. Хармс тоже сидел, не произнося ни звука, обдумывая сказанное другом. Табачный дым поднимался над столом, вился вокруг мутного, засиженного мухами плафона. – А Анна Семеновна? – спросил Хармс, когда танец дыма стал невыносимо вульгарным. – Аня смеется, – сказал Введенский, зачем-то разглядывая огурец на просвет, как рассматривают бокал с хорошим вином. – Аня считает, что я придаю этому слишком много значения. – Она видела их? – Откуда мне знать? Каждый раз, когда я пытаюсь завести с ней разговор, она принимается хохотать. Как умалишенная. Сперва, знаешь, хихикает, будто ее щекочут, потом заливается все громче и громче – и вот ее уже не остановить. Просто покатывается со смеху, животик надрывает. – Он откусил половину огурца. – Полторы недели назад я уехал от нее и вернулся к отцу. Хармс кивал с задумчивым видом. Аметист почему-то сработал плохо, и выпитая водка уже принялась ломать прозрачную стену благопристойности, с таким трудом выстроенную вокруг мятущегося, беснующегося сознания. Перстень на безымянном пальце левой руки жег кожу, пылал белым огнем. Перстни на среднем пальце и мизинце правой пока только нагревались. Пожалуй, еще один стакан будет не лишним. – У отца стало только хуже. Я просиживал ночи напролет в ресторанах, играя в карты, – продолжал Введенский. – Лишь бы не ночевать дома. Но теперь я замечаю их и днем. На улице, в лавках, в Летнем саду. Краем глаза, боковым зрением. Как мыши: едва ты обернешься – тут же исчезнут. Они пытаются довести меня до самоубийства. Это их основная задача. – Именно самоубийства? – Непременно самоубийства. Им нужно, чтобы я наложил на себя руки. Чтобы застрелился, как Владимир Владимирович, или утопился, как Леонид Иванович, или повесился, как Сергей Александрович, или… неважно. Они подбрасывают мне предметы, напоминающие о тщетности бытия: свежие газеты, пустые бутылки из-под молока или хереса, галоши, якобы забытые кем-то на трамвайной остановке. Они пускают мне навстречу хорошеньких женщин, не допускающих и мысли о связи с женатым мужчиной, и расклеивают по пути моего следования афиши с зашифрованными посланиями. – Ты разгадал шифр? – Конечно, нет. Но раз он есть, нетрудно догадаться, о чем идет речь: меня хотят видеть в гробу. Ждут, что я сломаюсь и поддамся, и пущу себе пулю в лоб. – Из чего? – Да из чего угодно! Какая разница. Пусть не пулю, пусть из окна выброшусь или мышьяком отравлюсь. Впрочем, нет, мышьяк для них – худший из вариантов. Им непременно нужно, просто-таки необходимо, чтобы с лицом моим в момент гибели что-то случилось, чтобы его перекосило, изуродовало до неузнаваемости, чтобы они могли потом с ним работать, восстанавливать по кусочкам, соединять, подкрашивать, подмазывать. – Ты нужен им в качестве холста? – Да, можно и так сказать. Или в качестве листа, на котором напишут они жуткую свою поэму о смерти, времени и Боге, которую хотел сочинить я, но до сих пор не сумел. Хармс выпил. Пламя внутри кипело, выжигало слова на изнанке черепа, слова складывались в созвездия, сияющие посреди небосвода забытья. В парке подыхали собаки. В подвалах крысы строили утопические города. В Фонтанке Николай Игнатьевич Марьинский издавал информационный листок о жизни Максима Горького «На дне». – Однажды они добьются своего! – озвучил Введенский угрюмое пророчество, и Хармсу стоило немалых усилий понять, что речь по-прежнему идет о слепых убийцах из Отдела Безвременных Смертей. – Однажды добьются, потому что я не железный. Я ведь не железный, Даня. Ты и сам это прекрасно знаешь, ты не раз проверял. Однажды я просто-напросто забудусь и сделаю какую-нибудь глупость, попадусь в сети, приму их махинации за чистую монету. – Думаю, вот что нам следует предпринять… – вкрадчиво проговорил Хармс, не отрывая взгляда от пустого графина. – Выкладывай. – Нам следует прямо сейчас, не теряя ни секунды, отправиться к тебе и устроить засаду. – Зачем? – Подстеречь этих мерзавцев, застать их на месте преступления и вывести на чистую воду. – А мы справимся? Хармс потряс у него под носом набалдашником трости: – Не смей сомневаться. Тем более, что другого выхода просто нет. Обратиться не к кому, на неблагонадежных всем начхать, ни одному человеку в городе мы не можем доверять. Разве что Самуилу Яковлевичу, но у него сейчас и без наших проблем забот по горло. Введенский потушил сигарету в пепельнице и сказал: – Умно ли идти на лобовое столкновение? Их много, Даня. Они повсюду, а нас только двое. Что мы сможем им противопоставить? Вместо ответа Хармс снял кепку и вынул из нее потрепанную колоду карт Таро. Повертел ее в пальцах, достал из середины три, положил перед собой рубашками вверх. Щелкнул ногтем по горлышку графинчика, зажмурился, шумно выдохнул и одним движением перевернул все три карты разом. Выпали Смерть, Дурак и Дьявол. – Пожалуйста, – сказал Хармс, внимательно вглядываясь в символы и рисунки на потертом картоне. – Понимай это, как душе угодно, ты человек вольный. Но я, если хочешь знать, вижу здесь неминуемую победу. – Где именно? – Дурак может трактоваться разнообразно, – сказал Хармс. – Особенно учитывая нынешнее положение Венеры и Урана, а также Дьявола и Смерть. Просто вдумайся: Смерть! – Раз так, в путь, – кивнул Введенский. – Не будем терять времени. Они поднялись, переглянулись и вышли. Город встретил их цоканьем копыт по мостовой, далекими пьяными выкриками и шумом влажного ветра. Небо громоздилось над ними аметистовой вечностью, и только слева, на западе, его освещало багровое пламя Преисподней, пробивающееся из-за горизонта. Приятели не спеша двинулись по Литейному строго на север, свернули на улицу Пестеля, которую Хармс настойчиво называл Пантелеймоновской, перешли реку по одноименному мосту и очутились в Летнем саду. – Вот здесь, – уверенно сказал Введенский, не сбавляя шага и указывая куда-то в темноту между тропинками. – Вот здесь я видел их последний раз. Сегодня в три пополудни. Один стоял с зонтиком в руках и постоянно смотрел то на меня, то на часы. А другой сидел у его ног, подобно собаке, и скалил клыки. – Как они были одеты? – спросил Хармс, вглядываясь во мрак. – Серые шинели. Галифе. Сапоги. Без шляп. Головы и лица бриты наголо. Стоило мне подняться со скамьи, оба мгновенно ретировались. – Куда? – Не имею ни малейшего понятия. Возможно, ко мне в шкаф. Возможно, прямиком в Отдел, чтобы доложить о провале наружного наблюдения или как это там у них называется. – Ничего, Александр Иванович, не падай духом, – сказал Хармс. – В квартире им точно некуда деться будет. У тебя, надо признать, солидная жилплощадь, но уж с Летним садом ее не сравнить. А кстати, слышал ли ты, что приключилось на днях с Пентопасовым? – С Абрамом Демьяновичем? – С ним самым. Ну так слышал или нет? – Нет. Да и зачем? Неинтересно. – Откуда тебе знать, что неинтересно! Сперва послушай… Непринужденно беседуя, друзья прошли насквозь Летний сад, пересекли по Кировскому мосту дышащую зимним холодом Неву. На проспекте Максима Горького, возле Петропавловки, они зашли в пивную, пропустили по кружечке, и только затем направились в сторону Съезжинской улицы, на пересечении с которой и стоял дом, где жил с отцом Введенский. О, что это был за дом! Пятиэтажная гора, бугрящаяся массивными мускулами эркеров, увенчанная, словно короной, трехглавым аттиком, откуда с вечным ужасом наблюдали за мельтешащими внизу людскими жизнями бессмертные каменные женщины. Только в таком доме, похожем на переросший свою сказку замок людоеда, и должен обитать настоящий поэт. Каждый раз, приходя в гости, Хармс чувствовал, как в сердце мерзко ухмыляется зависть, и ничего не мог с ней поделать – ни угрозы, ни увещевания, ни обещания не действовали на нее. В первом этаже располагался магазинчик – покосившаяся скрипучая дверь под нечитаемой вывеской. Несмотря на поздний час, он еще работал, и Хармс купил пол-литра водки. – У тебя же найдется закуска? – спросил он Введенского. – Не знаю, – ответил тот, с подозрением разглядывая свои окна в третьем этаже. – Будем надеяться. Они поднялись в квартиру. Отец уже спал. Стараясь не скрипеть половицами, прошли в комнату Александра Ивановича, уселись на продавленном диване перед окном, не зажигая света. Хармс тут же принялся раскуривать трубку. – Я оставлю тебе свой архив, – сказал Введенский. – Все, что написано. Видит Бог, даже роман оставлю, хотя он и отвратительный. Хармс не отвечал, сосредоточившись на трубке. – Когда соберусь уезжать, – сказал Введенский. – Когда не останется другого выхода. Ни черного, ни пожарного, ни запасного. – Куда поедешь? – В теплые края. Туда, где под ласковым солнцем бродят босиком красавицы со смоляными волосами и кувшинами домашнего вина на головах. – Неплохо. – Недурно. Введенский сходил на кухню за кастрюлей, полной холодных макарон, и двумя рюмками. Стали пить водку, разговаривая вполголоса о разложении времени, о Гамсуне и Майринке, об идеальных женских фигурах. Закусывали не торопясь, курили, наблюдая как в крохотном мире за окном тьма безжалостно давит последние воспоминания о минувшем дне. Все казалось правильным и возможным. Но вот бутылка опустела, а следом за ней – и кастрюля. Введенский зевал, глаза его слипались. – Пора мне на боковую, Даня, – сказал он. – Дальше тянуть бессмысленно. У нас есть план? – Ложись, как ни в чем не бывало. Я спрячусь, – Хармс обвел комнату осоловелым взглядом. – Ну хоть бы и вон там, за комодом. Обещаю сохранять бдительность. Не волнуйся, я встал сегодня только после обеда, так что меня еще долго не начнет клонить в сон. Сказано – сделано. Введенский принялся раздеваться, а Хармс бродил по комнате, внимательно разглядывая все ее немногочисленное убранство: часы, письменный стол, комод, покрытый кружевной скатертью. К шкафу он подошел в последнюю очередь. – Отсюда, значит, выбираются твои убийцы? – Скоро сам в этом убедишься. Хармс распахнул дверцы. В шкафу висел пиджак, стояла пара тщательно начищенных ботинок, на полке были сложены выглаженные сорочки. Он пару раз стукнул тростью в заднюю стенку, пожал плечами: – Не похоже, чтобы тут был потайной ход. – Его там нет, – устраиваясь на диване, сказал Введенский. – Я точно знаю, потому что всю неделю двигаю шкаф туда-сюда вдоль стены едва ли не каждое утро. Ход до сих пор не появился. Он укрылся шерстяным пледом и закрыл глаза. Хармс опустился на пол возле комода, в дальнем от окна углу, в густых тенях. Отсюда ему прекрасно были видны и диван, и Введенский, и шкаф, растекшийся у стены чернильным пятном зловеще-правильной формы. Пустую трубку Хармс положил в карман. Наступила мягкая ночная тишина, состоящая из тиканья часов, запаха сирени и отзвуков шагов припозднившихся прохожих. Он, разумеется, не кривил душой, когда говорил, что встал за полдень, но выпитое и съеденное действовало умиротворяюще, наполняло желудок ласковым теплом, расползающимся по всему телу, смежающим веки. Спустя всего несколько минут Хармс задремал, уронив голову на грудь, и ему приснился Карл Иванович Шустерлинг, вооруженный винтовкой и топором на длинной рукояти. Карл Иванович Шустерлинг стоял посреди соснового леса, напряженно оглядываясь по сторонам. – За деревьями их не сразу различишь, – сказал Карл Иванович Шустерлинг, доставая из кармана складной перочинный ножик. – За не сразу различишь их деревьями. – Пррры, – сказал Даниил Иванович Ювачев, пританцовывая вокруг. – Мюн! Твигга! – Вьями чишь их сра, – сказал Карл Иванович Шустерлинг. – Зу не за, разли дере. – Солдухей! – Дерезачишь разливьями, – неодобрительно покачал головой Карл Иванович Шустерлинг, убирая перочинный ножик в карман. – Ихнезусра. Хармс проснулся. Пальцы под перстнями жгло невыносимо. Комната была полна людей.II
Или не людей.III
Спустя некоторое время на проспекте 25 Октября, который большинство горожан упорно продолжали именовать Невским, появились двое странного вида мужчин. В столь поздний – или ранний – час проспект был практически пуст, однако эта пара привлекла к себе внимание всех немногочисленных прохожих и собак, а кто-то особенно сознательный даже вызвал наряд милиции. Впрочем, служители порядка не успели причинить вреда, потому что стоило им показаться из-за угла, как двое странного вида мужчин свернули к Дому книги, некогда известному как Дом Зингера, и скрылись за его дверями. Вахтер – крохотная сухая женщина в устрашающих очках – встретила их неприветливо. – Вход разрешен с началом рабочего дня, – сообщила она, поджав губы. Хармс усадил теряющего сознание Введенского на один из стульев в вестибюле, повернулся к ней, сжал тощие кулаки: – Самуил Яковлевич у себя? – Конечно, у себя, – усмехнулась вахтерша. – Где ж ему еще быть? – Пропустите к нему? – Ни за что. Вход разрешен с началом рабочего дня. – Я здесь сотрудник. В Детгизе, в пятом этаже, под самым глобусом, – в отчаянии принялся объяснять Хармс. – Неужели вы меня не узнаете? Она бросила на него оценивающий взгляд: – Только не до начала рабочего дня. – Нам срочно нужно наверх, – Хармс указал на Введенского, лицо которого было белее снега. – Дело не терпит отлагательств. – Все так говорят, – сказала вахтерша. – Но ведь терпит на самом-то деле, а? Терпит? – Поверьте, на этот раз ситуация действительно ни к черту. – Не может быть. – Слушайте, вы! – выпятив тощую грудь, Хармс принялся засучивать рукава. – Клянусь Майринком, я сейчас сниму кольца, и вы пожалеете, что родились на свет! – Угрожаете? – вахтерша поправила очки и ткнула пальцем в сторону двери. – Будьте добры очистить помещение. – Что? – Хармс не поверил своим ушам. – Вы явно не в себе. Подобное поведение здесь недопустимо. Вон тот молодой человек – вполне смирный, пусть он остается, а вам я рекомендую прогуляться и вернуться к началу рабочего дня. – Боч? Какой еще боч? – А? – впервые за время их разговора вахтерша выглядела сбитой с толку. – Что вы имеете в виду? – Етеввид? – спросил Хармс с озабоченным видом. – Я не понимаю. – Хватит передразнивать меня, – женщина звучала неуверенно, будто не знала, реально ли происходящее. – Я вас выставлю отсюда. – Титпере ниватьме, – сказал Хармс сурово. – Асвыс влюотс! Вахтерша открыла рот, чтобы ответить, но вместо этого поднялась из-за стола и, глядя прямо перед собой, вышла на улицу. Хармс подхватил Введенского и потащил его к лестнице, поскольку лифты еще не работали. Подъем предстоял трудный, однако помощи ждать было неоткуда. К счастью, Александр Иванович, похоже, начал понемногу приходить в себя, кое-как переставлял ноги и даже пытался держаться за перила. – Мы дожили до утра, – констатировал он, выглянув в окно. – Неужели? – Не знаю, – тяжело дыша, ответил Хармс и сплюнул прямо на ступени лестницы, чего никогда прежде и никогда после себе не позволял. – Проверим. Они добирались до пятого этажа почти десять минут. Сорочка Хармса насквозь пропиталась потом. Его жокейская кепка слетела с головы между вторым и третьим, а твидовый пиджак пришлось скинуть на четвертом. К дверям Детгиза он подошел совсем запыхавшимся, сгибаясь чуть ли не пополам, но друга не оставил ни на минуту. Едва отдышавшись, Хармс ввалился в редакцию, по-прежнему таща еле живого Введенского за собой. Они миновали большую комнату, плотно заставленную письменными столами художников, и направились в крошечную угловую каморку, которую Самуил Маршак сделал своим кабинетом. Он ждал их там, стоя у окна, с папиросой в зубах и усталой скорбью во взгляде. – Доброе утро, – поприветствовал главный редактор двух детских поэтов. – Что стряслось? Хармс опустил Введенского на стул, сам опустился на ковер рядом, сложив по-турецки ноги. – Беда, – сказал он, утирая пот со лба. – Отдел Безвременных Смертей. – И до вас добрались, – Маршак стукнул кулаком по столу, несильно, словно боясь кого-то разбудить. Лицо его, казалось, просто не могло выражать досаду или злость, и только крепко сжатые узкие губы выдавали напряженность и, конечно, хорошо контролируемый страх. – Добрались, – подтвердил Хармс. – Взялись за Александра Ивановича. И он подробно пересказал все события предыдущего вечера. Маршак слушал внимательно, иногда кивая, иногда бросая из-под очков пытливый взгляд на Введенского, потом спросил: – Как же вы выбрались? – Благодаря трусости, – мрачно пояснил Хармс. – Трусости и ничему иному. Я струсил. Завизжал, как женщина, едва увидев их, и бросился бежать. Хорошо еще, хватило соображения и сил захватить Александра Ивановича с собой. – Они не пытались вас остановить? Как-либо помешать? – Нет, – Хармс нахмурился, припоминая. – Нет, ни один даже не пошевелился. – И вы не воспользовались кольцами? – Не решился. Сами знаете, какие могут быть последствия. – Знаю прекрасно. И восхищен вашей выдержкой. Маршак замолчал, потом хмыкнул, вытащил из-за пазухи стальной портсигар: – Папиросу? Хармс ощупал карманы, горестно вздохнул: – Похоже, трубку оставил на Съезжинской или где-то по дороге потерял. Так что да, спасибо. – Александр Иванович? Введенский рассеянно взглянул на портсигар, отрицательно помотал головой и вновь уронил ее на грудь. Маршак пожал плечами, подал Хармсу спички, потом закурил сам. – В последнее время это творится везде, – сказал он, выдыхая едкий синеватый дым. – По всему городу. И в Москве тоже. Отдел Безвременных Смертей, Отдел Сломанных Судеб, Отдел Серой И Бессмысленной Жизни – все они, похоже, получили сверху приказ активизировать свою деятельность. Люди сходят с ума, кончают с собой, уходят в запои. Людей становится все меньше. Я думал, что удастся противостоять этому нашими книжками, нашими стихами, но то ли переоценил нас, то ли недооценил их – мы проигрываем. Сорок четыре веселых чижа не в силах побороть трагические случайности, дать ответы на вечные вопросы или подарить человеку новые возможности взамен утраченных. – Что же делать? – Если бы знал, я бы уже делал. Одно несомненно: сидеть сложа руки нельзя – рано или поздно они доберутся и сюда. И тогда нам всем конец, – Маршак сунул окурок в пепельницу, хлопнул в ладоши. – Хотите водки? Хармс кивнул. Введенский снова покачал головой. – Похоже, Александру Ивановичу совсем плохо, – сказал Маршак, отпирая крохотным ключиком нижний ящик стола. – Вы уверены, что ему не нужно в больницу? – Нет, – сказал Хармс. – Не уверен. Но уверен, что ему нужно быть здесь. – Разумно, – Маршак достал початую бутылку водки и две ребристых рюмки. – К сожалению, закуски не осталось. – Это ничего, – сказал Хармс. – Я не голоден. Они выпили. Маршак тут же налил еще по одной, откинулся на спинку стула и, задумчиво посмотрев на собеседников, проговорил: – У меня есть вещица, способная помочь в борьбе. Конечно, не чета вашим кольцам, но довольно эффективная. По крайней мере я на это надеюсь, потому что ни разу не осмелился пустить ее в ход. Стоит сделать первый шаг по направлению к войне, и назад пути уже не будет. – Покажите, – попросил Хармс. – Пожалуйста. Маршак вынул из стола продолговатый деревянный ящик, украшенный затейливой резьбой, положил его на сукно, осторожно отпер замочек и откинул крышку. И Даниил Иванович, и Александр Иванович с любопытством заглянули внутрь. Там лежала пара дуэльных пистолетов девятнадцатого века. Совершенно идентичные, с гранеными стволами и одинаковой гравировкой, они отличались друг от друга лишь цифрами на рукоятях. Также в коробке помещались шомпол, молоток и несколько других приспособлений, о назначении которых большая часть присутствующих могла только догадываться. – Больше ста лет назад, – начал рассказывать Маршак, достав один из пистолетов, – два великих поэта решили стреляться на дуэли. Из-за женщины, естественно. Оба приехали в условленное место с твердым намерением драться до смерти. Они зарядили пистолеты, встали лицом к лицу, прицелились, но так и не смогли выстрелить. Каждый из них понимал размах таланта другого, цену этого таланта, и не осмелился поднять на него руку. Однако и в воздух палить не стали, от намерений не отказались. Дуэль была отложена на потом, заряженные пистолеты убраны в коробку, в которой и пролежали по сей день, нетронутые, полностью готовые к стрельбе. Капсюли на месте, курки взведены… – А что с женщиной? – спросил Хармс. – Не знаю, – досадливо поморщился Маршак. – Суть в том, что эти пистолеты готовы убивать уже дольше века. Сколько ненависти они накопили за сто лет, сколько разрушительной мощи! Представьте, с какой силой вылетит пуля, ждавшая своего часа столько времени! Я уверен, этой силы вполне хватит, не только чтобы убить человека, но и чтобы отправить на тот свет сотрудника любого из Отделов. Не так ли, Александр Иванович? Введенский промычал что-то и, опершись руками о стол, попытался подняться. Маршак схватил свою рюмку и выплеснул ее содержимое ему в лицо. – Господи! – воскликнул от неожиданности Хармс. – Что вы?.. Он замер в изумлении, не в силах закончить фразу. Кожа Введенского там, где на нее попала водка, съежилась, вспухла небольшими буграми. Цвет ее поблек, и сквозь него проступили куски черных строчек на серой бумаге. Маршак поднял пистолет и выстрелил Введенскому в сердце. Брызнули искры. От грохота, заполнившего тесную комнатушку, Хармс зажмурился, а когда открыл глаза, его друг по-прежнему сидел на стуле, только в груди у него была круглая дыра, из которой тянулась к потолку струйка дыма – тянулась и смешивалась вверху с серыми клубами, вырвавшимися из пистолета. Пахло горелой бумагой. Лже-Введенский повернул исказившееся лицо к Хармсу, открыл рот, выпустив в воздух черные клочья пепла, и упал со стула на пол. Упал легко, куда с меньшим шумом, чем положено человеческому телу. Плоть его стремительно теряла плотность и цвет, расслаивалась, превращалась в склеенные газетные листы. Поэт и детский писатель, явившийся ранним утром или поздней ночью в Дом книги на Невском, был сделан из папье-маше. – Что ж, – флегматично заметил Маршак. – Думаю, это значит, что моя теория оказалась верна. – Самуил Яковлевич, – ошеломленно поднял на него глаза Хармс, – а где же тогда настоящий Александр Иванович? – Там, где вы его оставили. Вам просто подсунули прекрасно сделанную копию, – Маршак отложил дымящийся пистолет и взял с подоконника лейку. – Не волнуйтесь, не корите себя понапрасну. Любой мог бы перепутать. Он обошел стол и вылил содержимое лейки на тело лже-Введенского, из которого уже начали выбиваться язычки пламени. Хармс вскочил и заходил из угла в угол, прижав кулаки к вискам. – Только подумайте, что они успели сделать с ним с тех пор! – простонал он. – Это ужасно! – Да, – согласился Маршак. – Ужасно. Катастрофа. И сейчас, безусловно, поздно что-либо предпринимать. Но вы можете вернуться назад, в тот самый момент, когда разминулись с Александром Ивановичем. Только с пистолетом, разумеется. Жаль, но остался всего один. – Как? Как это возможно?! – У меня есть друзья в Отделе Неумолимого Времени, – сказал Маршак и налил в рюмку водки. – Большего сказать не имею права. Выпейте и выходите через окно. – А вы? – А я подожду, когда за мной придут. Не думаю, что долго осталось. – Спасибо, – сказал Хармс и, сунув за пояс второй пистолет, взял рюмку. – Вот что, Даниил Иванович, – сказал, грустно улыбаясь, на прощание Маршак. – Все-таки не стесняйтесь снять кольца. Грех не воспользоваться такой силой. Хармс кивнул, выдохнул через левое плечо и опрокинул водку в горло.IV
Ему не доводилось пить ничего более отвратительного.V
Он по-прежнему слышал лишь свое дыхание и дыхание Введенского. Фигуры в серых шинелях, не производя ни единого звука, ни единого намека на звук, казались частью окружающей тишины. Они сгрудились вокруг дивана, производя какие-то манипуляции с лежащим на нем человеком. Звездного света, проникающего через окно, хватало, чтобы увидеть: их головы действительно были одинаково круглы и безволосы, сделаны из папье-маше, из газет и клея. Хармс не мог рассмотреть, что именно происходит с его другом. В ужасе и растерянности, не до конца еще понимая случившееся, он медленно поднялся, не отрывая спины от стены, выпрямился во весь рост, перехватил поудобнее трость.Сейчас та лежала в руках тоненькой веточкой, неизвестно куда растерявшей большую часть своей внушительности и веса. – А ну брысь! – рявкнул Хармс и удивился собственному сорвавшемуся голосу, тонкому, жалобному, почти женскому. Он бы наверняка возненавидел себя за такой голос, за невольное признание в испуге, если бы на это достало времени. Сотрудники Отдела Безвременных Смертей замерли, а затем повернулись к нему – галерея слепых газетных лиц. Обрывки критических статей, объявлений и новостных заметок, заголовки и фрагменты фотографий, абзацы, строчки, буквы – вот что служило им глазами, улыбкой, морщинами. Тот, что стоял ближе, медленно поднял руку с пинцетом. В этом движении не было угрозы, в нем вообще не было какой-либо эмоции, только пустая, равнодушная констатация намерения пустить инструмент в ход, чтобы избавиться от неожиданной помехи.
– Пошли вон! – зарычал Хармс, стараясь наполнить голос злобой, и яростью, и готовностью к битве. Но впечатления рык не произвел не только на незваных гостей, но и на него самого. Тогда он ударил тростью наотмашь, не целясь. Слепой убийца поймал трость пинцетом так, будто это была не солидная деревянная палка с тяжелым набалдашником, а свернутый в трубку лист бумаги. Одним движением запястья он вывернул оружие из руки Хармса, отбросил в угол. Даниил Иванович отпрянул, пытаясь вырваться из паутины серого мрака, опутавшей его, но паутина эта держала крепко, и пауки не спешили, зная, что жертве никуда не деться. Хармс поднял перед собой ладони, растопырил пальцы. Перстни светились тяжелым, недобрым светом. – Я сниму их, – сказал он. – Видит Бог, сниму! Безликие безмолвствовали. И не двигались, но каким-то образом становились все ближе, будто бы сама комната уменьшалась, сокращая расстояние между ними и добычей. – Назад! – Хармс потянул перстень со среднего пальца правой руки. – Прочь от меня! Они никак не реагировали. Их не пугал нескладный человек в нелепой одежде, не пугали его кольца, его слова. Они вряд ли помнили, что такое страх, и, даже если понимали, чем именно угрожает им невесть откуда взявшийся противник, не придавали этому значения. Их фигуры колыхнулись, словно искаженное волной изображение на поверхности воды, на мгновение слившись в единую сущность, а затем вновь разделились – только теперь их было больше. И теперь они стояли так, что Хармсу стала видна голова Введенского, покоящаяся на краю дивана. Белое, покрытое толстым слоем пудры лицо казалось гипсовой маской. В углу рта из верхней и нижней губы торчали нитки. Влажные волосы зачесаны назад, на лбу углем начертаны символы, разбирать которые не было времени. Под опущенными веками глаза поэта лихорадочно двигались – он пытался выбраться из кошмара, но кошмар не отпускал его. И тогда Даниил Иванович решился. И сделал то, что наполняло душу куда большим ужасом, чем фигуры в серых шинелях. Он снял первый перстень, с миниатюрным изображением карты Таро «Смерть», – тот самый, со среднего пальца правой руки, и свобода, ошеломительная, истинная, несовместимая с жизнью, свобода наполнила тело, растягивая кости, распирая вены и артерии, раздувая мышцы и мысли. Он перестал помещаться в себе, перестал помещаться в комнате, в мире, во времени, и в тот же миг увидел тех, кто стоял перед ним, в их истинном облике. А затем, торжествующе смеясь, сорвал перстень «Дурак» с безымянного пальца левой руки. Гнев, больше не сдерживаемый привычными ограничениями разума, хлынул изо рта обжигающим потоком черных рифм, сметающих все на своем пути. Эти рифмы были картечью, пулями, пушечными ядрами. Они посекли врага, спутали его ряды, опрокинули некоторых, хотя большая часть удержалась на ногах. Однако это даже обрадовало Даниила Ивановича Хармса, от английского «harm», что значит «вред». Он сорвал с мизинца правой руки последний перстень – «Дьявол», – а затем подался вперед, схватил существо, грозившее ему пинцетом, за шиворот и сломал об колено. Остальные попятились. Впервые – отступили, сдали позиции, оставив Введенского, покоящегося во гробе дивана со скрещенными на груди руками, обряженного в лучший свой костюм и до блеска начищенные ботинки. Рядом почему-то лежал зонт, а вместо платка из нагрудного кармана пиджака торчала женская перчатка. Из пронзенной иглой губы сползала по щеке тоненькая багровая струйка. Но Хармса уже мало волновало состояние друга. Друга ли? Откуда друзья у того, чья кожа испускает бледное, прозрачное сияние? Откуда они у того, чьи глаза дымятся от ярости, чье дыхание пахнет серой и копотью? Откуда они у того, у кого вместо внутренних органов гудят под ребрами осиные гнезда убийственных стихов, а вместо души – колодец, не отвечающий на брошенный камень ни всхлипом, ни всплеском? Хармс схватил за грудки еще одного незваного гостя, поднял его к потолку, тряхнул так, что газетная голова едва удержалась на плечах, ударил об стену. Что-то выпало из-за пазухи у сразу обмякшего убийцы, скользнуло на пол ярким красным пятном. Но Хармс не обратил внимания, он крушил врагов и наслаждался разрушением, а серые даже не пытались сопротивляться. Он ломал их как картонные куклы, раздирал на части, наполняя воздух клочками газетной бумаги. Вот двое последних бросились к шкафу, но ускользнуть удалось лишь одному, второго Хармс успел зацепить за полу шинели, подтянул к себе, раздавил грудную клетку, оторвал набитые ватой конечности, смял в ладонях хрупкую голову из папье-маше. В шкафу никого не оказалось. Пиджак, ботинки, сорочка. Задняя стенка была столь же непоколебима, как и прежде. В ярости Хармс взревел и проломил ее ударом кулака, оставив на штукатурке внушительных размеров вмятину. Враг ушел! Враг сбежал! В коридоре раздался чей-то встревоженный голос. Хармс больше не понимал слов. Они растеряли значения, рассыпались на слоги. Слова отвлекали от сути. Ответ прятался где-то здесь, рядом, прямо под носом. Даниил Иванович Смерть Даниил Иванович Дурак Даниил Иванович Дьявол принялся осматривать комнату, рыча и роняя пену из оскаленного рта. В дверь постучали – тяжелый, требовательный стук, – и в этот самый момент он заметил багровый прямоугольник на полу. Это было удостоверение личности в корочках цвета крови. Может, просто в кровавой корке – она крошилась и рассыпалась в руках. Снаружи тиснение, три черных креста. И герб – то ли скорчившийся эмбрион, то ли карта неведомого континента. Внутри вместо фотографии серое размытое пятно, будто высохшая капля грязи, ряды аккуратных черных крестов вместо надписей, печать с тем же гербом, еще хуже различимым, а потому похожим на голову крысы. С удостоверением в руках Хармс вернулся к шкафу, открыл его и увидел короткий темный коридор, упирающийся в раздвижную решетчатую перегородку. Тусклые лампы под потолком. Он бросился внутрь в тот самый момент, когда дверь в комнату Введенского начала трещать под ударами взбешенных соседей. По ту сторону пахло мокрой пылью и было холодно. Не озираясь по сторонам, Хармс быстро добрался до перегородки, отодвинул ее и увидел кабину лифта, обшитую деревянными панелями с зеркалом в полный рост на одной из стен. Ни кнопок, ни рычагов, ни звонка. Он вошел внутрь, закрыл за собой перегородку, и лифт тотчас поехал вниз, осветившись приятным бледным светом. Хармс с удовольствием разглядывал себя в зеркале, корчил рожи, смеялся. Потом заметил под пиджаком – он снова был в пиджаке – рукоять торчащего из-за пояса пистолета и задумался. Пистолет что-то значил. Не просто жажду победы. Не просто хаос, несущийся сквозь вселенную. Пистолет означал цель. Пришлось зажмуриться, зажать ладонями уши и отвернуться от собственного отражения, чтобы вспомнить. Введенский. Он здесь, чтобы спасти Введенского. Там, на диване, его поджидала искусно изготовленная кукла, такой же газетоголовый, только тщательно раскрашенный и одетый. Однажды он уже купился на этот трюк. Это было? Или не было? Прошлое, которое ты отменил с помощью связей в Отделе Неумолимого Времени, – оно считается прошлым или становится чем-то другим? От мыслей делалось неуютно, словно он пытался проглотить камень. Без колец, сдерживающих его суть, Даниил Иванович Хармс не мог размышлять дольше двух-трех минут – тело стремилось к действию, к движению, к свершению или разрушению. Он заскрипел зубами, выпрямился, поднял веки. Отражение смотрело пристально, не мигая. Широко распахнутые глаза лихорадочно блестели, нижнюю часть лица покрывала свежая, блестящая кровь, в которой сверкали серебряными коронками стиснутые зубы. Это не его отражение, понял Хармс и разбил зеркало ударом кулака. Трещина распорола отражение пополам, мелкие кусочки стекла впились в кожу между костяшками пальцев. Боли не было. Крови тоже. Ему вдруг стало страшно: а что если все наоборот, что если крови нет, потому что зеркало разбилось, и ей не в чем отражаться? Что если это он сейчас рассыпается сотней осколков? Захотелось взреветь и вырваться наружу черным вихрем, полным ворон, предрекающих конец света. Надеть кольца. Нужно надеть кольца, пока не поздно, пока вдохновение не унесло рассудок слишком далеко от берега. Что бы там ни советовал Самуил Яковлевич. Задача не из простых. Все его существо сопротивлялось самой идее ограничений. Он мог быть временем, богом и смертью, над загадками которых бился один знакомый писатель – но разве человек не должен в первую очередь быть человеком и только потом уже – богом? Он мог быть непобедим, неустрашим и непогрешим, но разве непогрешимый станет спасать друга, чье имя раз за разом выскальзывает из памяти? Разве неустрашимый станет заботится о ближних своих и действовать так, чтобы не причинить им вреда? Разве непобедимый остановится, сокрушив врага? Отделов столько, что хватит на целый век непрерывной войны… Хармс застонал, ударился головой о стену и, вынув из кармана три кольца, принялся надевать первое. Медленно, мучительно. Это было как отказаться от поэзии. Второе далось легче. Как отказаться от еды. Третье не доставило почти никаких проблем. Как прыгнуть с моста с камнем на шее. Он снова стал человеком. Испуганным, слабым, с истекающей кровью рукой, каждое движение которой причиняло почти невыносимую боль. Но теперь он помнил, зачем пришел сюда, и надеялся на счастливый исход. Лифт остановился. Перегородка отъехала в сторону, открывая вид на обширное, плохо освещенное помещение, заполненное полчищами типографских механизмов. Здесь в тенях стрекотали линотипы, у которых, согнувшись, застыли безликие фигуры в рабочих робах цвета старой брусчатки, и шумели тигельные печатные машины, выдавая лист за листом газетные развороты, полные статей об успехах и достижениях, об устремлениях и обязательствах. Здесь Отдел Безвременных Смертей печатал своих сотрудников. Наблюдая за процессом, во всю стену чернел огромный непроглядный квадрат. Хармс осторожно шел по узкому проходу между громоздких конструкций, держа пистолет в здоровой руке. Никто не обращал на него внимания. Как и наверху, слепых убийц не волновал смертный, еще не внесенный в их списки. Гул механизмов успокаивал. Пахло свежей краской и клейстером, но эти запахи разбавлял непрерывный поток свежего воздуха из вентиляции. Хармс подумал, что с удовольствием спускался бы сюда в особенно жаркие летние деньки, прихватив пару бутылок холодного пива. При мысли о пиве рот наполнился слюной. Впереди показалась дверь с изображенным в середине черным кругом. Стоило толкнуть ее, перед ним тотчас выросла огромная фигура – уж на что Даниил Иванович был высок, а этому существу он не доставал и до середины груди. Голова из папье-маше медленно опустилась, повернулась из стороны в сторону, словно прислушиваясь или принюхиваясь. Она нависла над лицом Хармса, и он мог прочесть текст на обрывках газет, составлявших ее. Это были некрологи. «Безвременно ушедший певец революции», «тяжелая утрата постигла советский народ и все передовое человечество», «верный продолжатель великого дела Ленина, пламенный патриот и борец за мир» перемешивались на неглубоких вмятинах глазниц и рта, облепляли острые скулы и впалые щеки. Существо не делало попыток схватить Хармса, но и с дороги не уходило, и он понял, что оно старается выяснить, кто перед ним. Морщась от боли, Хармс достал раненой рукой из кармана корочки, раскрыл, ткнул в бумажное лицо. За некрологами зашуршало, защелкало, слепец нагнулся еще ниже, почти уткнувшись отсутствующим носом в удостоверение, затем все-таки нехотя отодвинулся в сторону. Хармс взглянул на документ и увидел, что перепачкал окровавленными пальцами обе странички, оставив багровые отпечатки на месте для фотографии и на печати. Стоило ему спрятать корочки и сделать несколько шагов, как гигантский сотрудник Отдела зашевелился в тенях, двинулся за ним. Хармс замер, обернулся. Безликий стоял в трех метрах позади. Похоже, он учуял кровь и теперь собирался проследить за чужаком. Нужно было поторапливаться. Оглядевшись, Даниил Иванович понял, что очутился в некоем подобии картотеки. Здесь вдоль стен возвышались шкафы с выдвижными ящиками, над ними висели большие листы картона с графиками и схемами распространенных несчастных случаев. На столах аккуратными стопками были сложены папки, которые он узнал с первого взгляда, – личные дела. С них, пожалуй, и стоит начать. Подойдя к ближайшему столу, Хармс принялся перебирать папки в поисках знакомой фамилии. Слепой гигант с лицом из некрологов встал рядом, навис над плечом, внимательно наблюдая за его действиями. Хармс старался обращать на него как можно меньше внимания, чтобы полностью сосредоточиться на задаче, но выходило не очень. Просмотрев все дела и не найдя нужного, он направился к следующему столу. Папка с фамилией «Введенский» лежала на самом верху. Он открыл ее, пролистал. На глаза попался «Протокол галлюцинаторных видений, вызванных намеренным употреблением эфира в ванной комнате», несколько уже начавших выцветать фотографий спящего Александра Ивановича и Александра Ивановича с женщинами, пространный документ, рассказывающий о поэтических и философских опытах Введенского. Последним лежал лист, озаглавленный «Приказ об устранении». Под заголовком – несколько рядов черных супрематических крестов, ниже – печать и размашистая подпись, похожая на пучок сухой травы. Хармс повернулся, сказал безликому: – Благодарю вас, – и поспешил к выходу. Гигантский газетоголовый слепец у него за спиной издал странный звук, похожий на скрежет лезвия ножа по стеклу, торопливо заковылял следом. Похоже, забирать отсюда дела без соответствующего разрешения было запрещено. Выскочив в типографский зал, Хармс перешел на бег. Великан тоже ускорился, но широкие полы шинели, цепляясь за края механизмов, мешали ему разогнаться в полную силу. Он заверещал, и на его крик отозвались безликие наборщики. Сразу двое, выскочив из своих закутков, кинулись наперерез чужаку, однако Хармсу удалось уклониться от их неуклюжих рук и, чудом не врезавшись ни в одну из машин, достичь лифта. Он запрыгнул в кабину и успел закрыть перегородку прямо перед гигантским безликим. Несмотря на яростный вой последнего, лифт, дернувшись, поехал вверх. Хармс прислонился к стене, тяжело дыша, прижимая дело Введенского к груди. Он не знал, поможет ли эта папка, понятия не имел, как ее стоит использовать, но надеялся, что теперь сотрудники Отдела Безвременных Смертей дадут Александру Ивановичу передышку. Если, конечно, еще есть, кому ее давать. – Жил-был волшебник, – раздался рядом знакомый голос. – И волшебник этот мог сделать все, что угодно. Но не сделал ничего. Хармс повернул голову. В зеркале, вновь целом, отражался Самуил Яковлевич Маршак. Он смотрел на него с укором и качал головой. – Кольца, – прохрипел Хармс, у которого вдруг пересохло в горле. – Вы хотели, чтобы я их снял. – Верно, – сказал Маршак. – Мы хотели, чтобы ты развернулся во всю мощь своего таланта. Чтобы Ад последовал за тобой. – Вы не настоящий Самуил Яковлевич. – Разумеется, не настоящий. С какой стати вдруг настоящий Самуил Яковлевич оказался бы в этом зеркале? – Что с ним случилось? – Он спит. Спит сном младенца, устав после дневных трудов. Бедняге так редко удается полноценно отдохнуть. – Вы… – Хармс задохнулся. В глазах щипало. Он потряс в воздухе пистолетом. – Вы подсунули мне… – Хорошая, между прочим, вещь, – сказал Маршак. – Крайне редкая. Мы надеялись, что ты сразу используешь пулю, а потом последуешь нашему совету и избавишься от колец. Здесь, внизу, остатки человеческого окончательно покинули бы тебя, и ты стал бы чистым вдохновением. Хаосом во плоти. Разнес бы в щепки всю их типографию, в клочки – весь их личный состав. – Ха! Не вышло! – Как знать, – пожал плечами Маршак. – Еще ничего не кончилось. И ничего не кончится никогда. Карты выпадают разные, а расклад остается прежним. – Отдел Неумолимого Времени? – Так точно. Слепые убийцы не раз и не два переходили нам дорогу. Противостояние грозило перейти в открытую войну, вот мы и решили нанести удар первыми, прежде чем люди с головами из газет примутся сочинять нам некрологи. Однако такие вещи требуют изящества, особого подхода. Скажем прямо, лучше всего совершать их чужими руками. – Вы использовали меня! – зарычал Хармс, направив пистолет на Маршака. – Как всегда, – ухмыльнулся тот в ответ. – В хорошей системе даже для негодных болтов найдется применение. – Это мы еще посмотрим, – Хармс взвел курок. – Редкая, значит, вещица? – До новых встреч, – сказал Маршак. – Передавайте привет Але… Палец надавил на спусковой крючок. Грянул выстрел, и зеркало, превратившись ровно в сто двадцать семь мелких осколков, перестало существовать. А вместе с ним перестал существовать и Даниил Иванович, слишком поздно понявший, что на этот раз именно ему выпало быть отражением.
VI
За полтора часа до заката поэт и детский писатель Александр Иванович Введенский явился на Надеждинскую, к своему старому другу, поэту и детскому писателю Даниилу Ивановичу Хармсу. Четыре месяца назад улицу переименовали в честь Маяковского, но Введенского это волновало мало. Нервничал он, переминался с ноги на ногу возле парадного, тревожно озираясь по сторонам, и курил одну папиросу за другой совсем по иной причине. – За мной идет охота! – с порога заявил Введенский, стоило Хармсу открыть дверь. – Меня пытаются убить.Калики перехожие
Рассвет застает их в пути. Так будет до самого конца, так было с самого начала – когда первые лучи весеннего солнца робко касаются остывшей за ночь дорожной грязи, волховники уже шагают по ней. Их немного, трое или четверо: слепой сказитель Вадим, безумная Хохотунья, молчаливый горбун Ингвар и – иногда – тот, кого прячет он в своем мешке. Тени послушно плетутся позади, сперва прозрачные, невесомые, но постепенно наливающиеся силой и тьмой. Лес, окружающий странников, поводит плечами, сбрасывает с себя оцепенение, бурлит свежестью, птичьими голосами, что смешиваются с запутавшимся в молодой листве светом. Вадим, захмелевший от тепла и влажного утреннего воздуха, бормочет себе под нос слова здравиц, торопится, почти не опираясь на сучковатую палку, служащую ему посохом. Вороньи черепа и лапы, висящие тут и там на его холщовом, усеянном пестрыми заплатами одеянии, постукивают друг о друга при каждом шаге. Рядом пританцовывает Хохотунья, облаченная в двухцветное льняное платье, расшитое похабными изображениями, украшенное множеством янтарных бусин и бронзовых бубенцов. Тонкая талия перехвачена витым ремешком, распущенные волосы струятся по плечам, спине и высокой груди медно-золотым потоком. Прилипнув к ней взглядом, ковыляет следом Ингвар. Его уродливое тело спрятано под медвежьей шкурой, на лоб сдвинута маска из сыромятной кожи, и ничто не скрывает перекошенного лица с вечно насупленными тяжелыми бровями. На левом плече, которое гораздо выше правого, несет он средних размеров мешок из серого полотна. Мешок не тяжел, заполнен едва ли на треть, тщательно перевязан у горловины прочной пеньковой веревкой. Лес редеет, просветы в кронах становятся все шире. Впереди перекресток, а на нем четырехгранный деревянный столб, давно посеревший, с божьими ликами, вырезанными на каждой из граней. На плоской вершине столба стоит небольшой глиняный сосуд. Перевитые трещинами лица, охраняющие его, глядят равнодушно и мрачно, словно не от времени и дождей стали они серыми, а от усталости, неизбывной, нечеловеческой, от которой не спасут ни смерть, ни ночь, ни брага, ни женские объятия. Вымотанные бесконечным высматриванием угроз на горизонте, они пропускают опасность, подкравшуюся снизу. Троица останавливается, Ингвар бросается к столбу и в мгновение ока взбирается по нему на самый верх, словно огромная, закутанная в шкуру ящерица. Его пальцы и пятки упираются в скулы, губы и глаза богов без всякого пиетета. Схватив глиняный сосуд, он спрыгивает наземь, встряхивает его и, услышав бренчание внутри, расплывается в довольной ухмылке. Одним движением Ингвар разламывает сосуд и, распустив завязки на своем мешке, ссыпает туда черные от копоти человеческие кости. Князь, или волхв, или просто достойный человек, поставленный после смерти беречь дорогу от зла, смешивается в мешке с останками других людей, чьих имен и прозваний не назовет даже мудрейший из мудрых. Оставив у подножия столба несколько глиняных черепков, волховники уходят дальше. Один из богов провожает их полным ненависти взором. Впереди, чуть в стороне от дороги, на берегу извилистой, заросшей камышом речки, лежит поселение людей, воздвигнувших здесь этот столб. Туда и направляется диковинная троица. Их замечают издалека. Над частоколом, опоясывающим всю деревню, поднимаются несколько любопытных вихрастых голов, следом вздымается раскатистый, многоголосый крик: – Скоморохи! Скоморохи идут! Ворота, покрытые резными изображениями обитателей небес и холмов, открываются. Недовольные внезапной суетой стражи хмуро рассматривают пришельцев. Старший, плечистый детина с клочковатой черной бородой и свежим синяком во всю левую скулу, достает из ременной петли боевой топор, остальные напряженно сжимают древки копий. Похоже, недобрые времена пришли в эти края, раз даже скоморохов встречают с подозрением и готовностью пустить в ход оружие. Ингвар опускает голову, принимается внимательно изучать грязь, налипшую на носы его лаптей, Вадим опирается на посох, устремив бельма к небу, и лишь Хохотунья выдерживает взгляд украшенного синяком стражника. Наконец, пробормотав себе под нос нечто неразборчивое, тот кивает и опускает топор. Его глаза скользят по платью Хохотуньи, то ли изучая запечатленные на нем сцены, то ли пытаясь различить изгибы ее тела, скрытые складками ткани. Бороду прорезает щербатый оскал. – Скоморохи идут! – вопят мальчишки, вьющиеся вокруг, сбегающиеся со всех сторон. Они довольны и счастливы, ведь сегодня прямо у них на глазах произойдет чудо. Вадим, Хохотунья и Ингвар идут мимо крытых дерном жилищ, поднимающихся над землей едва ли на высоту человеческого роста, мимо загонов с косматыми козами, мимо ям с кострами на дне, над которыми коптится рыба, и пастушьих собак, спящих под навесами из еловых лап. Это богатое селение. В последние годы его миновали и голод, и мор, и грабительские набеги. В смехе детей, что увязались за скоморохами, в улыбках встречных мужчин и женщин нет страха, и лишь один седой старик, подслеповатый и наверняка глухой, испуганно отшатывается в сторону. Возможно, память нашептывает ему что-то, и шепот ее полон злых подробностей, от которых замирает сердце, а возможно, он просто понимает, что за все на свете нужно платить. За богатство, благополучие, покой – тем более. Трое выходят к пустому пространству в середине деревни, где на невысоком холме без единой травинки возвышаются идолы. Новые, недавно вырубленные, выструганные из массивных березовых бревен, они сияют гладкими светлыми боками. Но лица – те же, что на столбе у перекрестка, и взгляды те же, и та же в них бесцветная тоска. Изображенным здесь богам давно уже нет дела до людей с их скорбями и страхами, они встречают пришедших безразлично, не вспоминая их, не узнавая. Но волхв, ждущий у холодных кострищ перед идолами, узнает мгновенно. Он высок, и худ, и черен от солнца, и в длинные волосы его вплетены багровые ленты. Когда Вадим, идущий первым, останавливается в десятке шагов от него, волхв склоняет голову, а затем и сам склоняется в молчаливом, безрадостном поклоне. Значит, быть празднику. Значит, быть пиру! Вадим, вскинув руки над головой, произносит здравицу. Привычные, всем хорошо знакомые слова – пожелания сил и долголетия, обильных пастбищ для скота и ясного неба для садов, удачной охоты и доброго урожая – разносятся над притихшим селением, и, кажется, даже птицы, сидящие на коньках крыш, прислушиваются к ним. Идолы тоже. Целый мир слушает, запоминает, мотает на ус. Он обязан подчиниться, весь без исключения: и облака, и деревья, и ветер, и дождь, и солнце, и люди. Слово Вадима для них – закон. Когда все сказано, слепец вынимает из складок одеяния жалейку, простецкую, из тростника, с берестяным раструбом, прикладывает ее к губам и, зажмурившись, принимается наигрывать мелодию. Пронзительные, резкие звуки распугивают птиц на крышах. Ингвар опускает на лицо медвежью маску, а Хохотунья тут же обхватывает ему шею кожаной петлей, закрепленной на длинной бечевке, конец которой привязан к ее поясу. Горбун мычит и нелепо размахивает руками, затем опускается на четвереньки, изображая неуклюжего зверя. Детвора вокруг заливается смехом, звонко и радостно. Им невдомек, чем должно завершиться представление. Хохотунья, широко улыбаясь зрителям, ведет Ингвара на поводке мимо них, тот потешно косолапит, заставляя даже взрослых смеяться. Только волхв суров и страшен. В глазах его стоят слезы. Вадим продолжает играть, притоптывая в такт ногой, – и вороньи черепа на одежде стучат друг о друга, наполняя мелодию, бесхитростную и понятную каждому, четким костяным ритмом. Звон бубенцов, порожденный движениями Хохотуньи, едва различим сквозь шум толпы, но и звон этот, и шум становятся неотъемлемыми составляющими музыки, простой, словно прописная истина, и столь же безжалостной. Женщина, тянущая на поводке мужчину, наряженного медведем, обходит идолов посолонь. Раз, другой, третий. Ингвар косолапит все сильнее, голова в ушастой маске опускается все ниже – и вот в какой-то неуловимый миг, когда взгляды наблюдающих за ним соскальзывают на сверкающие тела или мрачные лица богов, когда никто не видит, хотя все смотрят, он действительно становится медведем. Огромный косматый зверь тяжело ступает когтистыми лапами, бурая шерсть лоснится под солнечными лучами. Смех оборачивается единым общим вздохом, что тяжелым камнем падает в болото тишины. И в этой тишине девчонка, не старше семи зим от роду, стоящая в первых рядах, вдруг испуганно взвизгивает. Медведь поворачивает к ней большую морду, обнажает клыки. Слюна капает на песок с отвисшей серой губы. Мужчина, стоящий рядом с девчонкой, – слишком молод для отца, наверное, старший брат – подхватывает малышку на руки, прижимает к себе. Она прячет лицо у него на груди, обнимает за шею. Слышно, как бьется, постепенно успокаиваясь, крошечное, не успевшее познать настоящей радости сердце. Ей не страшно в объятиях брата, он для нее непобедим и бессмертен, сильнее деревянных истуканов, чьи лица слишком высоко, чтобы разглядеть. Он для нее – настоящий бог, для которого нет ничего невозможного. Но глазки медведя, нелепые на массивной морде, не ищут другую жертву. Они пусты и блестящи, похожи на два маленьких гладких камешка, они не примут отказа. До юноши начинает доходить, что за участь ждет его сестру. Он поворачивается и пытается уйти, но мужчины, стоящие позади, не пускают, выталкивают обратно. Их память, убаюканная долгими годами благоденствия, наконец-то просыпается. То, что должно произойти, произойдет, иначе произнесенная здравица обернется проклятьем. Иначе мир пошатнется. – Хозяин выбрал приношение, – произносит черным голосом волхв. – Хозяин его получит. В подтверждение этих слов одним могучим, резким движением поднимается медведь на задние лапы – громадный темный силуэт, полный жизни и смерти, на фоне безупречно-белых идолов. Распахнув пасть – чудовищно широкую даже для такого тела, – издает он утробный, протяжный рев. Этот рев заглушает и визг девчонки, чей защитник сдался, не в силах бороться с вековым порядком вещей, и рыдания, раздающиеся в толпе, и музыку, в которой больше нет нужды. Опустив жалейку, Вадим застывает на месте, подобно вырубленному из дерева истукану. Он слышит, как несчастная пытается сопротивляться, как она плачет взахлеб, как кричит, как умоляет, как колотит кулачками по плечам и лицу брата, несущего ее на съедение зверю, слышит бормотание волхва, на ходу сочиняющего утешительную ложь, слышит тяжелое, влажное дыхание голодного Ингвара. И благодарит судьбу за то, что слеп.Близится полдень, и они снова в дороге. Солнце, взобравшееся на середину небосвода, жарит так, что мир вокруг дрожит зыбким маревом, и даже под опущенными веками красным-красно от божьего света. Любое движение обжигает. Воздух сух, теней нет, и только пыль под ногами мягка как вода. Нивы по обе стороны от тракта издевательски пылают желтым, словно пытаясь яркостью светило превзойти. Калики бредут по раскаленной земле, накрытой раскаленным небом. Первым по-прежнему шагает Вадим, шепча молитвы и постукивая перед собой клюкой. Его рубище, задубевшее от соли, перепачкано копотью и засохшим птичьим пометом, тяжелый медный крест на груди едва заметно покачивается на ржавой цепи. Кожаные сандалии с ремешками давно истоптаны, изношены до дыр, и кровавые мозоли оставляют в пыли следы. За ним идет женщина, чье имя забыто – пожалуй, даже ею самой. Она сутулится, словно под изматывающей ношей, хотя нет у нее ничего, кроме такой же клюки и власяницы из грубой козьей шерсти, надетой на голое тело для умерщвления плоти. Голова покрыта платком из мешковины, но седеющие пряди спадают на лицо. Последним хромает Игореша, горбатый кривоглазый дурачок. Рыжеватая бородка топорщится ежиком, из-под слипшихся волос по лбу ползут капли пота. Потрепанная рваная шкура, висящая на его плечах, свалялась настолько, что уже и не определить, какому животному она принадлежала. Игореша кособоко подпрыгивает на ходу, словно под ему одному слышную музыку, – и кости, которыми набита котомка у него на боку, отзываются на эти прыжки звонким пустым перестуком. Навстречу – ни души. Только в поле время от времени поднимаются над волнами колосьев головы, провожают странников взглядами. Вот впереди, по левой стороне, появляется деревянный поклонный крест высотой в два человеческих роста, грязно-серый, изрядно покосившийся, с выцветшей иконой в середине. Троица замирает перед ним. Вадим и женщина кладут земные поклоны, крестятся, беззвучно шевеля губами. Дурачок Игореша ухмыляется, выставляя наружу желтые зубы, затем огибает крест и скрывается в высокой траве за ним. Здесь, среди полыни, видны остатки нескольких надгробий и проломившаяся лавочка. Это заброшенная скудельня, кладбище для безымянных: странников и нищих, найденных мертвыми в окрестностях, но не знакомых никому из местных. Последнее пристанище тех, кто прекратил существовать еще при жизни. Оторвав от лавки кусок трухлявой доски в локоть длиной, Игореша с его помощью принимается раскапывать один из едва заметных холмиков. Выходит непросто: земля уже позабыла о том, что была могилой, успела слежаться, наполниться корнями и камнями. Горбун пыхтит, придавленный жарой, беспрерывно утирает льющийся пот. Вокруг вьются мухи. Когда импровизированная лопатка с хрустом раскалывается пополам, он продолжает копать руками – и спустя несколько минут его пальцы уже скребут по дереву. В скудельнях редко делают могилы положенной глубины. Это простой сосновый гроб, без обивки, со сгнившей, источенной червями крышкой, которая пробивается одним ударом кулака. Игореша запускает руку в пролом, роется там, высунув от усердия язык, и достает несколько грязно-желтых костей: три ребра, обломок ключицы, пару позвонков. Отряхивает добычу от песка и ошметков истлевшей ткани, ссыпает в котомку, затем снова сует руку в черную дыру на дне ямы, вынимает пригоршню костей. Снова. И снова. Ребра, челюсть, лучевая и две бедренные кости, фаланги пальцев – все отправляется в суму. Когда в той не остается больше места, Игореша удовлетворенно крякает, поднимается и, даже не попытавшись засыпать яму, возвращается к своим спутникам. Поклонившись кресту в последний раз, калики продолжают путь. Откуда-то с запада налетает вдруг порыв ветра, горячего, пахнущего жженой травой. Он подхватывает пыль, кружит ее в воздухе, бросает в лица путникам, будто играя с ними в жестокую детскую игру. Игореша отворачивается, женщина закрывается рукой, но Вадим не делает ни того ни другого и не зажмуривается даже, не моргает, а потому пыль набивается ему в глаза, облепляет бельма, наполняет их серым, и слезы ползут по его высохшим щекам, оставляя за собой чистые дорожки. Хутор возникает перед ними неожиданно, словно сдернув шапку-невидимку, выступает из небытия: несколько изб в три окна, угрюмо нахохлившихся под бугрящимися прошлогодней соломой крышами, над кривыми заборами дозревают вишни, облепленный мухами теленок у околицы лениво жует траву. Идиллическая картина, но долго она не длится. Черная как смоль собачонка выкатывается навстречу из ближайшей калитки, заливаясь оглушительным лаем. Следом выбегает босой мальчишка с игрушечным кнутом, сделанным из палки с бечевкой. Увидев путников, он на мгновение испуганно замирает, а затем бросается обратно во двор. Собака же лает и лает, срываясь то в рык, то в скулеж, скачет вокруг Игореши, не обращая внимания на котомку, которой тот неуклюже от нее отмахивается. Она лает до тех пор, пока из калитки не показывается крупная женщина на пятом десятке, вытирающая испачканные в муке руки о матерчатый фартук. За ней вереницей появляется остальное семейство: тот самый мальчишка с кнутом, две девочки постарше и высокий, плечистый старик с окладистой седой бородой. Все, кто был в доме. Все, кроме мужчин, которые сейчас работают в поле, которым мальчишка вот-вот должен будет отнести обед. Смотрят настороженно, с опаской, с недоверием. – Цыган, ша! – окликает хозяйка пса, и тот, мгновенно смолкнув, отбегает к ее ногам. – Здравствуйте, люди добрые! – говорит старик зычным голосом. – Издалека к нам? Вадим отвечает. Его голос слаб и бледен – так звучит хворь, так звучит сама смерть, но старик слышит каждое слово. – Храни вас Господь! – смеется он. – Нечасто в наши края захаживают паломники. Разве и сам Ерусалим видали? Их не зовут в дом, не приглашают к столу, не предлагают квасу. Им не рады. Хорошо, очень хорошо. Неужели смилостивится судия, неужели пронесет чашу мимо на сей раз? – А споете, странники? – говорит старик. – Прошу, спойте нам что-нибудь. Кивает Вадим, кланяется и начинает нараспев читать духовные стихи об Алексии, человеке Божьем. Он знает, что рядом крестится, непрерывно и мелко, женщина без имени, что дурачок Игореша, опустившись на колени, тычется лбом в землю у ног хозяйки, приводя в бешенство пса по кличке Цыган. Слова выходят легко и свободно, гладко ложатся в историю о том, как вернулся Алексий в Рим, в родной город, в родной дом, но ни невеста, ни отец с матерью не признали его, как семнадцать лет прожил он бок о бок с ними, смиряя дух свой, не откликаясь на их страдания, до тех пор пока Господь не призвал, не указал на него, не вознаградил за святость. Слушают молча. Впитывают каждый слог, каждый звук. Дети, завороженные непонятной, но величественной повестью, не сводят с калики глаз. Даже Игореша притих, скорчился у его ног, уронил лицо в пахнущие землей ладони. Вадим не торопится, не подгоняет рассказ, потому что, пока говорит он, голод остается в узде. Слова очищают разум, наполняют его светом – не испепеляющим светом солнца, но чистым горним сиянием, озаряющим самые укромные уголки души, разгоняющим самые густые тени. Слова дают надежду, что на сей раз все может закончиться иначе. Несмотря на грызущую внутренности первобытную необходимость насытиться, несмотря на то, что подобная надежда погибала уже тысячи и тысячи раз. Слова способны воскресить ее. Слова способны на что угодно. Господь всесилен. Но стих завершается, прежде чем солнце успевает сдвинуться на циферблате небосвода даже на одно деление. Хозяйка почти сразу берет Вадима за руку и вкладывает ему в ладонь узелок с нехитрой платой: головка сыра, луковица, половина краюхи хлеба, три яйца. И когда только успела она все это подготовить? Дочурки помогли? – Спаси Христос, странники, – говорит дед, изо всех сил сдерживая подступающие к горлу слезы. – Порадовали старика, вот уж порадовали! Доброго вам пути! Девчонки тоже лепечут что-то восторженное. Хозяйка целует Вадиму руку. Он кланяется им, разворачивается и стремительно, со всей быстротой, на которую способен, идет прочь. Какая-то птица – похоже, курица – возмущенно вспархивает из-под ног, чуть его не уронив. Но Вадим не замедляет шага, только сильнее опирается на клюку. Игореша и Безымянная едва поспевают за ним. Пальцы слепца комкают узелок с едой, сминают содержимое в бесформенную кашу. Гнев бурлит внутри, обжигает больнее летнего зноя, заставляет спешить. Вадим стремится уйти как можно дальше от хутора к тому моменту, как спадет наваждение с его обитателей и те поймут, что младшего сына, загорелого мальчонки с игрушечным кнутиком, больше нет среди них. Мать, и дед, и сестры бросятся искать кровиночку: в огороде, на улице, за околицей, на берегу пруда, в поле у отца и старшего брата. Дождутся вечера, надеясь напрасно, что сорванец вернется, и только тогда вдруг вспомнят, все сразу, как увели его трое калик перехожих, как он растворился вместе с ними в полуденном мареве, цепляясь за локоть горбатого дурачка, как странно и страшно смотрела на него женщина без имени. Вспомнят и сами себе не поверят. И никогда себя не простят.
* * *
Солнце клонится к горизонту, но его не видно, потому что небо укутано тяжелыми, бетонно-серыми тучами. Мелкий дождь сыплет уже не первый час, и над дорогой сгущается холодный туман, с которым не совладать ни фонарям, ни фарам проезжающих машин. Трое движутся по обочине, между рекой мокрого асфальта и стеной леса, по желтым, оранжевым, бордовым листьям. Первым осторожно ступает Вадим. Он в истертой куртке из кожзаменителя, но та не спасает от всепроникающей мороси. Резиновые сапоги хлюпают в лужах, конец тактильной трости то и дело застревает в грязи. Давно вышедшие из моды очки в роговой оправе прячут глаза под зелеными стеклами. В совершенно седой бороде, опускающейся до середины груди, застрял березовый листок. За Вадимом плетется тощая старуха, одетая в демисезонное пальто и все равно дрожащая от холода. Она кое-как переставляет ноги, обутые в валенки с галошами, и кажется, кое-как дышит. Старуха давно бы уже упала, если бы не Гоша, косоглазый идиот, идущий позади и подхватывающий ее всякий раз, когда она оступается. Гоша, неприятно располневший, но гладко выбритый, с черным спортивным рюкзаком за плечами, постоянно крутит головой по сторонам и разговаривает сам с собой, время от времени мяукая по-кошачьи. На нем – насквозь промокшая джинсовая куртка с выцветшим логотипом байкерского клуба на спине и тренировочные штаны, заправленные в высокие армейские ботинки. Ни сырость, ни холод, ни мрак, похоже, не причиняют ему неудобств. Но всякий раз, когда мимо проезжает автомобиль, он вздрагивает и втягивает голову в плечи. Машины проносятся на расстоянии вытянутой руки, обдавая путников ветром и выхлопными газами. Шум, издаваемый этими металлическими зверюгами, настолько силен, что иногда полностью дезориентирует Вадима, и тот замирает на месте, не зная, в какую сторону сделать следующий шаг. Бывает, из-под колес брызжут грязь и вода, пачкают и без того потерявшую приличный вид одежду. Но вот очередная машина, обогнав странников, останавливается. Это старенький уазик-«буханка», ржавое корыто цвета хаки с тупой, слегка испуганной мордой. Водительская дверь открывается, из нее показывается парень лет тридцати, в камуфляже и черной бандане. – Эй, пешеходы! – кричит он, стараясь перекрыть рев мчащегося мимо грузовика. – Вас подбросить, может быть? Вадим отрицательно мотает головой. Но парень, заметив у него в руках тактильную трость, переходит в наступление: – Отец, ты слепой, что ли? Серьезно? Слепой – и вдоль дороги гуляешь? Не, так нельзя. Милости прошу в мой драндулет. Все равно пустой еду, подброшу без проблем. Вадим пытается было снова отказаться, но старуха огибает его и направляется к машине, пошатываясь, будто пьяная. Выхода нет. Парень открывает боковую дверцу, помогает женщине забраться внутрь, затем подсаживает Вадима: – Осторожно, головой не стукнись, отец, – потолки, понятное дело, не слишком высокие. Гоша залезает сам. У него это получается не с первого раза и дается с немалым трудом, но водитель терпеливо ждет, пока идиот разместится на узком сиденье, и только потом захлопывает дверь. Внутри тепло, тесно и уютно, как в избе за печкой. Сразу клонит в сон. И запах бензина не мешает, и даже грохот двигателя, поначалу режущий уши, вскоре становится привычным, превращается в урчание довольного кота. Огромного кота, свернувшегося клубком на полу посреди освещенной лучиной комнаты. Кот рассказывает сказку, вкрадчиво и мягко, сказку о рогатом старике, что жил на вершине холодной горы на самом краю мира, и о его детях – двух сыновьях и дочери, которым досталось в наследство то, что словами не объяснить, руками не потрогать, глазами не увидеть. Проклятие досталось им в наследство. Благословение. Нет, не так. Все наоборот: это он, Вадим, рассказывает сказку, сидя на лавке и болтая ногами, а кот подбирается все ближе к ничего не подозревающей добыче, убаюканной собственным голосом, готовится к прыжку и… Вадим вскидывается, выпрямляется. Уазик едет сквозь дождь и сумерки, и там, снаружи, в этих сумерках клубятся тени. Вадим не видит их, но слышит прекрасно, даже сквозь угрожающеегромыхание мотора – ведь слух у слепых гораздо лучше, чем у зрячих. Он слышит, как тени воют от ужаса, как скребут по бортам бесплотными когтями, как пытаются прорваться внутрь, чтобы защитить тех, кто отбрасывал их с самого начала времен. Водитель не спросил, куда ехать, верно? В отчаянии Вадим шарит руками вокруг себя, нащупывает Гошу, хватает за запястье. Тот дрожит, стучит зубами. Не понимает ничего, но чует опасность. А вот и старуха, чьи костлявые пальцы впиваются ему в ладонь так, что приходится закусить губу, чтобы не вскрикнуть от боли. Она тоже догадалась, куда их везут. На мгновение он преисполняется решимости бороться: податься вперед, напасть на водителя, схватить его за горло, сломать шею. Или, открыв дверь, выпрыгнуть из автомобиля на полном ходу. Но дряхлое тело не справится, не выдержит, а солнце еще не село, и умирать до заката нельзя. Вадим пытается подняться, но тут машина подпрыгивает на ухабе, и он бьется теменем о потолок, падает на сиденье. В кромешной тьме, заменяющей ему зримый мир, вспыхивают разноцветные огни. Голова кружится. – Мы знаем, кто вы, – говорит водитель. – Знаем, чем промышляете. Вас нужно остановить. Старуха рядом смеется лающим, беззубым смехом, и Вадим вспоминает, как ее звали утром, весной, тысячу лет назад. Он тоже не может удержаться от улыбки. Знают они! Ха! Да если бы действительно знали, то обезумели бы, онемели бы, выцарапали глаза себе и своим детям, извивались бы на этом знании, подобно червю на крючке, умоляя о прекращении мучений, о забвении и тишине. Самоуверенное, самодовольное дурачье. Впрочем, как всегда. Других нет. – Почти приехали, – говорит водитель. – Осталось немного. Вадим облизывает высохшие губы, прислушивается. Ночь уже близко. Очень близко. Слышно, как ее крылья шуршат над небосводом, как скалятся в предвкушении ее бесчисленные пасти, как скрипят цепи, готовые разорваться в любой момент. Неужели не дотянут? Неужели не успеют? Он нащупывает у Гоши на груди лямку рюкзака, дергает ее на себя, давая понять, что делать. Идиот соображает сразу же, и послушно, хотя и не без труда, снимает рюкзак, отдает Вадиму. Уазик останавливается посреди поля. Самого обычного поля, в котором дует пронизывающий ледяной ветер, и неоткуда ждать помощи. Водитель глушит мотор, выпрыгивает, выкрикнув напоследок нечто воинственное, а спустя несколько секунд дверь в салон распахивается и люди в камуфляже и масках, вооруженные топорами и дробовиками, начинают вытаскивать пассажиров наружу. Гоша кидается на них с яростным воплем. Он стар и глуп, но весит достаточно, чтобы опрокинуть сразу двоих, не ожидавших столь внезапной атаки и не готовых пустить в ход оружие в такой тесноте. Старуха, визжа, набрасывается на третьего, метит желтыми грязными ногтями в глаза в прорезях маски. Возникшая неразбериха дает Вадиму возможность выбраться из машины и направиться прочь, в поле. Неважно, в каком направлении – ночь подступает со всех сторон. Ясно, что Ингвар и Хохотунья не выиграют для него сколько-нибудь значимого времени: когда-то они были богами, потом чудовищами, а теперь – всего лишь смертные, слабые и ветхие, которых едва хватило на последний отчаянный бросок. Но каждый шаг дорог, каждый лишний вдох – бесценен. Слякоть разъезжается под сапогами, тени исступленно вьются вокруг, подталкивают в спину, ведут навстречу владычице. Он чувствует, как она надвигается на него – великая и бескрайняя, словно само время. Девица Ночь. Мать Зима. Старуха Смерть. Позади рявкает дробовик, роняя в грязь Ингвара, хозяина чащ и болот, покровителя охотников, пожиравшего плоть их детей. Еще один выстрел – и валится Хохотунья, на заре времен породившая похоть и кормившаяся невинностью. Пришел его черед. Все в мире движется по кругу, расцветает и увядает, набирает силы и утрачивает их. Тот, кто хочет родиться заново, должен сперва умереть. Опять, и опять, и опять. Извечный закон, известный каждому проклятому. Вадим расстегивает рюкзак и с размаху бросает его вперед, в подступающий мрак. Там, в рюкзаке, – и он, и Хохотунья, и Ингвар, перемешанные так, что не узнать, где кто, раз и навсегда сплетенные в неделимое божество, единое в трех лицах. Кости рассыпаются по грязи, по пожухлой рыжей траве. Костям не страшна вечность, в отличие от идолов или крестов. Если Мать Зима успеет явиться и принять подношение, то на рассвете боги восстанут из мертвых. Вадим не слышит выстрела. Боль пронзает спину, выбивает землю из-под ног. Упав на бок, он кашляет кровью. Тьма кружится, потом замирает. Шаги рядом, тяжелое хриплое дыхание. Дымящееся дуло дробовика направлено прямо в лицо, но Вадим смотрит невидящими глазами мимо него, в черную яму неба. И небо, склонившись, кладет снежинку ему на лоб.Человек с железными глазами
Деревья и заборы знают, окна и балконы помнят, грязные стены и уличные фонари хранят истории о Человеке с Железными Глазами. Их немного, и все они начинаются одинаково – в самое мгновение полночи, в тот единственный, неуловимый миг между двумя движениями секундной стрелки, когда одни сутки уже закончились, а следующие еще не успели начаться. Ночь распахивается, и из пустого места, где он ждет своего наказания, Человек с Железными Глазами выходит в нашу жизнь.Это оказалась чертовски длинная ночь. Столько всего. Не вспомнить, не признаться. Даже себе, даже шепотом, даже в полной темноте. Горели кое-где вывески, и редкие машины с ревом проносились мимо. Стас, несмотря на дикую боль в челюсти, улыбался каждому, кто попадался навстречу. Он искренне надеялся, что кровь на лице сделает его улыбку по-настоящему жуткой. Город вокруг спал или притворялся спящим, тонул в черноте, прикрывал тишиной кухонные свои секреты. В редких освещенных окнах иногда виднелись люди. По большей части женщины, колдовавшие над плитами. Иногда попадались и мужчины, курящие и задумчиво смотрящие на улицу, в темноту. Что они надеялись разглядеть, что пытались понять, какие мысли бродили в их головах в эти моменты, когда они оставались один на один с холодным мраком по ту сторону отражения в оконном стекле? Стас дорого бы дал, чтоб узнать. И чтоб покурить. Его собственная пачка, смятая и залитая кровью, осталась далеко позади, а на пути, как назло, не встретилось ни одного круглосуточного ларька. Он перешел по мосту в заречную часть города, миновал ярко расцвеченный, но безлюдный ярмарочный комплекс и наткнулся на еще один круглосуточный магазинчик. На двери висел обрывок картона с надписью «СКОРО БУДУ», рядом находилась пустая автобусная остановка. Стас сел на лавочку. Вправо и влево уходила черная лента дороги, лоснящаяся под светом фонарей, словно кожа огромной змеи. Стас прислонился к утыканной объявлениями задней стенке остановки, прикрыл глаза. Чертовски длинная ночь. Жаль, блин, что так все обернулось… окна, в которые смотрел Олег, когда умирал… смотрел изнутри… Олег никогда не увлекался панк-роком, он слушал совсем другую музыку. Надя должна помнить какую. Ты входишь в квартиру, заглядываешь в комнату, а он там висит вместо люстры. Черное лицо, липкая лужа на полу, вокруг тяжелый густой запах… ты кричишь, в ужасе закрываешь дверь, но в нее с той стороны – тук-тук… тук-тук… смерть уже видела тебя. Откуда он знает? Откуда он знает про тварь, что разорвала Матвея в клочья, перепачкав обои кровью до самого потолка? Про тварь, выгрызшую язык изо рта еще живого, еще вопящего Матвея? – Парень! Эй! Ты спишь, что ли? Стас с трудом открыл глаза, вернулся из липкой темноты в реальность. Прямо перед ним стояла патрульная машина. Из водительского окна выглядывал полицейский. Молодой совсем, наверное, всего на год-два старше самого Стаса. – Случилось чего? – спросил полицейский, увидев, что тот пришел в себя. – Нет, нормально все, – говорить было очень больно, и звуки получались какие-то неполноценные, скособоченные. – Новмавно всо. – Ты не пьяный? – Нет, говорю вам, все в порядке. – Стас медленно поднялся, чувствуя, как взвыли измученные ноги. – Я тут недалеко живу. Просто присел отдохнуть. – Отдохнуть, значит. Дойдешь? – Дойду. – Ну, хорошо. – Представитель власти скрылся в салоне, но машина не сдвинулась с места. Видимо, они ждали, когда подозрительный парень с покрытым засохшей кровью лицом сделает несколько шагов. Стоит ему чуть пошатнуться, и все – увезут в отделение, как пить дать. Для отчетности. Стас много знал об отчетностях. В конце концов, он когда-то работал в редакции. Он пошел, не торопясь, не делая резких телодвижений. Шаг за шагом, ничего особенного. Ровно, красиво, как и подобает гражданину в полном душевном здравии и адекватном состоянии. Через минуту патрульная машина обогнала его и скрылась за углом. Нельзя сказать, что вокруг было совсем темно. До восхода солнца оставалось еще несколько часов, но все небо затянули облака, отражавшие городские огни и потому источавшие слабое розоватое сияние. Кроме того, центр не испытывал недостатка в фонарях, и их свет превращал все вокруг в двухцветную декорацию, не слишком аккуратно склеенную из желтых и черных частей. Вспомнить. Просто нужно вспомнить, с чего все началось.
Его высокая тонкая фигура движется по замершим улицам, сквозь застывший ветер, избегая света фонарей. Даже мерцание звезд и нежное сияние луны причиняют боль его бледной коже, привыкшей к вечному мраку небытия. Город вокруг наполнен мечтами и страхами, стонами любовников, ароматами вина и шорохом крыс. Город впитывает пролившуюся за сутки кровь, смешивает свершившиеся обманы и дым выкуренных сигарет, цедит по капле трупный яд задушенной совести. Город поет нехитрые песни, подыгрывая себе на струнах обнаженных снов, и услышать их может лишь тот, для кого следующее мгновение уже не наступит. Человек с Железными Глазами слышит.
Нехорошее предчувствие появилось у Стаса еще утром, когда он приехал на работу. На третьем этаже, где располагалась редакция, шел ремонт, и весь коридор был загроможден мешками шпатлевки, рулонами линолеума и пыльными рабочими. Ступая как можно осторожнее, Стас скользнул из лифта к дверям редакции, и в тот момент, когда он взялся за ручку, неясное неприятное ощущение оформилось во вполне четкую, хотя и невероятно простую мысль. Кто-то умер. Он вошел, пробрался к своему месту, монотонно отвечая на унылые приветствия. В октябре по утрам никто не бодр и не полон сил, в октябре по утрам во всем мире царствуют слипающиеся веки и плохое настроение. Стас включил компьютер и, пока тот загружался, осмотрелся. Коллеги вяло потягивали кофе, кое-кто уже начал стучать по клавишам, хотя большинство до сих пор пребывало в прострации. Главный редактор отсутствовала, и это не предвещало ничего хорошего. Стас уставился на экран монитора, раздумывая, найдется ли возможность улизнуть пораньше под каким-нибудь благовидным предлогом. В его обязанности входило заполнение новостными материалами сайта газеты. Каждую новость следовало снабжать кричащим заголовком, в идеале намекающим на масштабные человеческие жертвы. Например, коротенькую заметку про обрыв проводов над мостом следовало назвать «ИСКРЯЩАЯСЯ СМЕРТЬ: СОТНИ ВОДИТЕЛЕЙ МОГЛИ ПОСТРАДАТЬ», а статью об увеличении количества бездомных собак – «ЖИВОТНЫЕ-УБИЙЦЫ ВОКРУГ НАС». Стас часто со смехом рассказывал друзьям о подобных вещах, но ни разу не осмелился при-знаться в том, насколько все это ему осточертело. Желтая газетенка, распираемая от собственной важности, специализирующаяся на несчастных случаях, преступлениях и скандалах («УЖЕ ТРЕТЬЯ ЖРИЦА ЛЮБВИ НАЙДЕНА УБИТОЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ», «МУЖЧИНА ЗАРЕЗАЛ СОЖИТЕЛЬНИЦУ ЗА ТО, ЧТО ЕЕ СТОШНИЛО ЕМУ НА БОТИНКИ»), одержимость рейтингами, борьба за читателя, за несчастное, безликое существо, не способное найти лучшего способа потратить свое время, чем чтение подобного мусора. Но больше всего ему осточертела… Дверь позади хлопнула, и Стас, даже не поворачивая головы, смог опознать ее – по уверенным, неторопливым, почти издевательским шагам. Белобрысая тварь. – Так, Стасик, ты сегодня вовремя! – раздался позади голос. Он обернулся и посмотрел ей в глаза. Все в ней было каким-то белесым, бесцветным: волосы, кожа, губы и едва заметные усики, одежда, даже взгляд. Она улыбалась обычной своей ядовито-бесцветной улыбкой, намекающей на приближающиеся неприятности. – Раз уж ты сегодня не опоздал, то вот задание: нужно выяснить, какие повреждения в городе и области вызвал вчерашний ураган. – Ураган? – Стас готов был спорить на что угодно, что не заметил никаких проблем с погодой в прошедшие сутки. Обычная осенняя слякоть и тоска, ничего кроме. – Именно. Ураган. Нам обязательно нужны повреждения. Любые: упавшая ветка помяла крышу служебного автомобиля, там, выбитые стекла… в таком духе. Чем быстрее, тем лучше. Если на других сайтах такая инфа появится раньше, я тебе этого не прощу. Стас кивнул. Разумеется, не простит. Ему она ничего и никогда не прощала. Семь месяцев назад, когда он устраивался на работу (в те времена ему еще казалось, что быть редактором новостного сайта, пусть и не особенно интеллектуального, легко и престижно), она оказалась единственным человеком в коллективе, выступившим против парня с техническим образованием, хотя больше половины из работающих здесь никогда не учились журналистике. Главред тогда победила, но белобрысая не собиралась сдаваться и при любой удобной возможности тыкала Стаса носом в его «профнепригодность». – Как я должен это выяснять? – Звони в отделения МЧС по городу и области и спрашивай, не поступали ли к ним сообщения об инцидентах, не было ли вызовов. – Серьезно? А если ни о чем таком не расскажут? – Нужно, чтобы рассказали. Спорить не имело смысла. В отсутствие главреда белобрысая исполняла обязанности координатора, и каким бы идиотским ни казалось задание, его следовало выполнять. Стас кивнул и пошел разыскивать телефонную книгу. Рабочий день двигался по накатанной, началась обычная редакционная суета. Кто-то узнавал подробности грядущего приезда звезд очередного реалити-шоу, кто-то собирался брать интервью у директора супермаркета, в котором вчера шестилетнего ребенка придавило упавшим стеллажом. Стас равнодушно набирал номер за номером, дожидался, когда после нескольких длинных гудков сонный мужской голос скажет: «Да», задавал свои вопросы, выслушивал удивленные отрицательные ответы, благодарил и, зачеркнув номер, повторял всю процедуру со следующим. Когда список закончился, он вытащил из кармана куртки пачку сигарет и покинул комнату, не обращая внимания на недовольное выражение лица белобрысой. В мужском туалете, единственном помещении на этаже, где ремонт уже сделали, он в три затяжки выкурил одну сигарету и достал следующую. Большое пластиковое окно выходило во внутренний двор, в котором не было ничего, кроме переполненных мусорных баков и мокрой облезлой скамейки. По грязному асфальту важно расхаживали голуби. Здесь никто не наживался на сплетнях, никто не досадовал, что ребенок, придавленный стеллажом, остался жив. Никотин и вид из окна успокоили Стаса, смягчили его раздражение, но мысли веселей не стали. Сотовый в кармане ожил, зажужжал протяжно. Стас поспешно вытащил его – звонил Матвей, старый друг и соавтор, – нажал кнопку, прижал к уху. – Алло? – Привет. Ты знаешь… Олега Громова? Глухой, будто искаженный голос и странный, очень странный вопрос. Стас был настолько удивлен, что в первые несколько секунд даже не мог сообразить, что ответить. Конечно, он знал Олега Громова. Более того, Матвей знал, что он знает. В конце концов, они все вместе учились в педагогическом, и как раз в университетские времена именно Олег притащил их обоих в литературное кафе «Нижний Мир», где с тех пор все трое регулярно выступали на поэтических вечерах. – Само собой, – ответил он, и, только закончив фразу, вдруг понял, что из-за неполадок со связью, возможно, не совсем точно расслышал вопрос. Тот, допустим, мог звучать, как… – Хорошо. Ты едешь? – Куда? …мог звучать, как «ты знаешь ПРО Олега Громова?» – На Суворова, к родителям его. Он же там прописан был. Встречаемся возле автостанции в одиннадцать. Вынос в двенадцать, должны успеть, вроде бы. – Господи. – Стас почувствовал, что мышцы в ногах потеряли свою силу, превратились в мягкие, бессмысленные волокна. – Что случилось? – Так ты не в курсе еще? – Прости… мне показалось… в общем, неважно… я не понял твой первый вопрос. Нет, не в курсе. – Олег погиб. – Матвей замолчал, словно не зная, что еще можно к этому добавить. – Когда именно, пока непонятно. Его два дня назад нашли на квартире, которую он снимал в последнее время… ну, помнишь ту однокомнатную, в старом доме? – Помню, – Стас ответил на автомате, не имея ни малейшего понятия, о чем идет речь: сознание заполнила сплошная бледная пустота. – Вот… больше я и сам пока не знаю точно. Ладно… сам ты как? – Нормально. – В одиннадцать. – Договорились. – Пока. Тишина в трубке. Засунув мобильник в карман, Стас опустился на подоконник и закрыл глаза. Небо цвета остывшего пепла опустилось и заполнило мир. Бросив недокуренную сигарету в старую кофейную банку, он вышел из туалета и еще пару минут стоял в коридоре, прислонившись к стене, наблюдая, как рабочие, лениво переругиваясь, таскают по лестнице офисные столы. Потом, не спеша, вернулся в редакцию, выключил компьютер и взял куртку. – Ты где был? – Белобрысая задрала брови в притворном удивлении. – Курил. – Долго же ты куришь. Глянь-ка сюда, вот тут появилось сообщение о вчерашнем урагане. Ребята работают, а не курят. – Пошла на хер, сука, – бросил Стас и хлопнул дверью. Спускаясь по лестнице к выходу из здания, он вдруг представил, как на страницах газеты, а потом на сайте появляются статьи с названиями вроде «ВНЕЗАПНАЯ ГИБЕЛЬ МОЛОДОГО ПОЭТА» или «ЗАГАДКА СМЕРТИ ОЛЕГА ГРОМОВА» и понял, что больше никогда сюда не вернется.
Он идет через пестрый, ритмично бьющийся клубок жизней и от каждой берет по частице, по крохотному кусочку самого сокровенного. Его длинные белые пальцы, унизанные стальными перстнями, проникают в сердца и бережно вынимают смысл. Некоторые сердца, особенно крохотные сердечки младенцев и уставшие сердца стариков, утратив смысл, просто перестают биться. Человек с Железными Глазами ласково греет человеческое сокровенное в своих узких ладонях, вдыхает его запах, каждый раз разный. Запах любви или порока, запах жажды власти, веры и знания, запах воспоминаний. А потом он жадно, остервенело жует сокровенное заточенными зубами, проглатывает его и идет на поиски следующего, на запах и звук, ведомый бесконечным голодом.
По дороге на похороны Стас немного отклонился от маршрута: обошел ипподром, миновал католический костел и, оказавшись на узкой кривой улочке, свернул под первую кирпичную арку. Прыгая через лужи, он с немалым трудом добрался до покосившегося деревянного крыльца, в который раз уже поразившись тому, какой развалиной выглядит обиталище его друга. Древний кирпичный двухэтажный дом, в котором Гром почти два года снимал квартиру, находился практически в самом центре города, в небольшом закутке между выстроенными в последнее десятилетие высотками, набитыми офисами и жильем улучшенной планировки. Здесь оставалось несколько таких домов, еле живых, покосившихся, окруженных старыми яблонями и вишнями. Между ними вились уютные тропинки, колыхалось на ветру вывешенное для просушки белье и ветшали дощатые сарайчики. Основное население этого анклава составляли пенсионерки и студенты, которым пенсионерки сдавали углы. Время от времени здесь появлялись представители городской администрации и пугали жильцов обещаниями расселить их в новостройки, а старые дома снести и возвести вместо них станцию метро, гипермаркет или офисный центр. Однако ни одна из этих угроз так до сих пор и не сбылась. Гром однажды сказал, что дома, видимо, будут стоять, пока не рухнут сами или их кто-нибудь не сожжет. При этом он странно подмигнул и зловеще засмеялся. У него это отлично получалось. Стас часто бывал здесь. Вон два окна на втором этаже, такие же темные, как и остальные вокруг. Но чуть темнее. Все-таки чуть темнее. На новой, неизвестно зачем нужной здесь металлической двери красовался домофон, и его красный глаз воинственно горел. – Не помогла, хрень ты бездушная! – шепотом сказал домофону Стас. Несколько минут он потоптался перед крыльцом, словно надеясь на чудо, а потом развернулся и зашагал прочь. Он не смог бы объяснить, что именно понадобилось ему в квартире Олега, но, спасибо судьбе, никто и не пытался его об этом спросить.
О, он никогда бы не исчезал, не возвращался в свою пустоту, но остановить время не по силам никому, и секундная стрелка все-таки приближается к следующему делению, и новый виток реальности начинает раскручиваться, набирая силу. И потому ночь, великий страж и палач, разверзается и забирает Человека с Железными Глазами. И в глубине бездны он мечется в бессильном гневе, и беззвучно кричит страшные проклятья в недосягаемую высоту, и рвет в неистовстве когтями свою бледную плоть. На целые сутки заперт он, целые сутки обречен терзаться голодом, переваривая смыслы людских жизней, проживая их, наслаждаясь болью и травясь счастьем.
После выноса они – небольшая, но крепко сбитая компания друзей и бывших одногруппников – не поехали на кладбище, а завалились в «Нижний Мир». Над широкими столами, сколоченными грубо, «под старину», плавал в спертом воздухе табачный дым. Тусклые лампы за зелеными стеклами, пивные кружки в потеках пены, груды окурков в пепельницах, на стенах – застекленные черно-белые фотографии и гравюры в тонких коричневых рамках. Между фотографиями и столами – множество лиц. Трезвые, пьяные, одухотворенные. Некоторые – болезненно-тощие, другие – карикатурно-обрюзгшие. Витиевато зачесанные сальные волосы. Шарфы, небрежно наброшенные на плечи. Мешковатые свитера и мятые водолазки. И глаза – прищуренные или увеличенные толстыми стеклами очков – обращенные к импровизированной сцене, на которой, стоя возле чуть кривоватой микрофонной стойки, молодой парень с забрызганным веснушками лицом читает нечто отрывистое и громкое, не отводя взгляда от своего планшета. Правая рука его двигается в такт стиху, то вырываясь вперед, сжатая в кулак, то поднимаясь над головой, подобно пионерскому салюту. Взяли пиво, уместились за один, самый длинный стол, зарезервированный заранее. Пили молча. Слова казались страшными и ничтожными – этот день не подходил для слов. Был он дымным и тяжелым, и хотелось поскорее залить его, запить чем-нибудь, словно неожиданно большой глоток паленой водки. На похороны явилось на удивление много народа. Помимо родственников и соседей, съехались бывшие однокурсники и одноклассники, друзья детства, знакомые начинающие литераторы. Стас никогда не мог бы даже предположить, что нелюдимый и малообщительный Олег дорог такому огромному количеству людей. – Как живой, – шептались рядом какие-то тетки, то ли соседки, то ли дальние родственницы. – Как будто спит Олежек наш… – Хрена с два! – хотелось Стасу рявкнуть на них, заорать так, чтобы их глупые рыбьи глаза выпучились от страха. – Хрена с два он как живой! Хрена с два он спит! Но Стас молчал и только скрипел зубами в отчаянии. В том, что лежало в деревянном ящике, укутанное в белые погребальные покрывала с надписями на церковнославянском, от Олега оставалось не больше, чем в торчащем за окном фонарном столбе. Вся эта суета не имела к нему никакого отношения и оттого казалась противоестественной и мерзкой. Трупы надо сжигать, подумал Стас, сжигать быстро, без всяких собраний и проводов. Человека, по которому все вокруг так убиваются, здесь нет. Что за ужасный обычай наряжать останки, разговаривать с ними, прощаться? Эта херня в гробу ничуть не напоминает Олега Громова, талантливого поэта, мечтавшего выпустить сборник стихов и съездить в Китай, но успевшего лишь дожить до двадцати четырех лет. Он вынырнул из мрачных воспоминаний в не менее мрачную реальность, окинул взглядом товарищей, молчащих вокруг. Господи, да ведь никому из них нет еще двадцати пяти: Стасу должно исполниться в ноябре, Матвею и Артему – зимой, Илье аж в марте. День рождения Грома был первого декабря, за месяц до Нового года. Какого черта? Они еще слишком молоды, чтобы терять друзей, чтобы их ряды начинали редеть. Они не на войне, не в горячей точке, не альпинисты-экстремалы, не наркоманы и даже не рок-музыканты. Обычные парни, начинающие – жить, работать, писать. Начинающие. Почему же вдруг так неожиданно и страшно одного из них не стало? До Стаса только в этот момент дошла вся кошмарная суть произошедшего. Он зажмурился, пытаясь справиться со слезами, и в темноте вновь отчетливо увидел лежащее в гробу существо, что называлось на похоронах Олегом. Зачесанные назад длинные светлые волосы, желтая маска вместо лица, невероятно костлявые пальцы. Над воротником белой рубашки виднелся край опоясывающего всю шею пятна, темно-синего, переходящего в светло-зеленый. Стас спешно открыл глаза, стиснул зубы так, что они скрипнули, и уставился в грязное окно, за которым громоздился унылый пейзаж: разбитый асфальт тротуаров, неуклюже припаркованные автомобили, фонарные столбы и голые черные деревья. Мир живых. Взяли еще по пиву, заказали закусить, Матвей начал произносить тост, но тут к ним присоединилось еще несколько человек, среди которых была и Надя, девушка Олега. Она казалась странно спокойной и – единственная за столом – улыбалась, приветствуя остальных. Наверное, таблетки. Надя не пришла на вынос, и Стас завидовал ей. На столе появились тарелки с аккуратно разложенной закуской, бутылки виски и белого вина. При взгляде на них вспомнились студенческие посиделки: в небольшой общаговской комнате, давным-давно ждущей ремонта и уборки, на застеленных газетами табуретках – водка и консервы. Под кроватями – полуторалитровые бутылки самого дешевого пива. Олег режет буханку ржаного хлеба, сидя на подоконнике, за его спиной холодная зимняя тьма упирается в заиндевевшее стекло. – А помните, как мы в общаге бухали? – спросил Стас. – Пару раз в неделю скидывались кто по сколько сможет, закупались водкой и тушенкой? – Да уж, – сказал Матвей. – Справляли окончание среды и субботы. – А почему именно среды? – спросила Надя. – Потому что в четверг в педухе были самые скучные пары, и мы с чистой совестью на них забивали, отлеживаясь с похмельем до самого обеда. – Все время по четвергам? – Да. Наверно, расписание специально так составляли, чтобы все нудные и никому не нужные занятия проходили в середине недели. – Ну, это даже логично, – сказал Стас. – Поставишь какую-нибудь педагогическую антропологию… – Фу! – замахал руками Матвей. – Не напоминай! – Ага. Так вот, поставишь ее в субботу – каждый студент на нее положит, поставишь в понедельник – тем более. Чем ближе к концу или началу недели, тем хуже. Поэтому четверг и оказался Великим Днем Тоски. – А сдавали как? – Как обычно. С комиссией. Надя улыбнулась: – Я серьезно! Стас кивнул на Матвея: – По-моему, вот он у нас занимался антропологией. Каждый в нашей компании готовился по одному предмету, а потом сдавал его за других или, если такой возможности не было, всячески помогал остальным – делал шпоры, писал смски с подсказками. Матвей криво усмехнулся: – Да. Только педагогическую антропологию готовил не я, а Олег. Повисла тяжелая тишина, словно весь «Нижний Мир» глубоко вдохнул и задержал дыхание, затаился, выжидая, пока уйдет облако, закрывшее солнце. – Черт, – сказал наконец Стас. – Извини, ты прав. Это был Олег. Он еле удержался от того, чтобы прибавить «царствие ему небесное». Олег не верил в христианский рай, как, впрочем, и все они. Или им пока только казалось, что не верили. Возможно, им слишком многое пока только казалось. – Давайте выпьем за него, – предложил Матвей и, когда Артем с Ильей разлили спиртное, встал. – Давайте помянем нашего друга сейчас. Без всяких сроков, без дат, без соблюдения обычаев. Какая разница, сколько именно суток его с нами нет, правда? Главное, что нет. Олежка, если ты нас сейчас слышишь, – за тебя! Они выпили. Виски обжег Стасу горло, пролился горячей струей в пищевод, на глазах выступили слезы. Он никогда не разбирался в крепких напитках и не мог понять, чем, допустим, виски лучше коньяка или наоборот. Тем не менее это не мешало ему уже много лет регулярно заливать в себя сорокаградусный алкоголь в компаниях и в одиночестве, и у него были все основания полагать, что любые разговоры, размышления и беседы о вкусах, послевкусиях, мягкости и букетах есть всего лишь осознанное или неосознанное притворство. Еще один ритуал из тех, с помощью которых самцы демонстрируют превосходство друг над другом, вроде марки машины или длины ног спутницы. Вот и сейчас Матвей шумно выдохнул, поставил свой стакан на стол и сказал: – Неплохой вискарь, а? Односолодовый, потому и идет так хорошо. Илья кивнул со знанием дела, Артем поднял бровь в знак солидарности. Один из новоприбывших, высокий тощий парень по прозвищу Барабан, студент лингвистического вуза, принялся рассказывать о том, как прошлым летом ездил в Шотландию работать сборщиком клубники и как все свое свободное время там проводил на вискокурнях. Остальные внимательно слушали. Вот вам и весь Олег, подумал Стас, вот и вся любовь, вот и вся память. Отметились, поставили галочку в графе «Упомянуть» и успокоились, выкинули из головы, теперь можно о по-настоящему важных вещах побеседовать. Он вновь вспомнил пустое, абсурдно чужое лицо друга, лежащего в гробу, вспомнил зеленые разводы под восковой кожей шеи, и понял, что выпитая стопка вот-вот выплеснется обратно. Он вышел в туалет. Здесь была открыта форточка, холодный влажный воздух немного успокоил его. Стас хлебнул холодной воды из-под крана, посмотрел на себя в зеркало и невесело подмигнул отражению. Оно, как и следовало ожидать, подмигнуло в ответ. Менялись бутылки, тосты, темы бесед, минуты лепились друг к другу нескончаемой цепью, порция за порцией лилось внутрь спиртное, смягчая острые углы душ. Сцена «Нижнего Мира» давно опустела, большая часть молодых литераторов разбрелась по домам – таращиться в телевизор или компьютер, трахаться, спать. Некоторые, знавшие Громова, присоединились к импровизированным поминкам. Читали его стихи – у Нади был с собой тот самый, единственный изданный сборник, тоненькая брошюрка в дешевом переплете, выпущенная полгода назад тиражом в несколько сотен экземпляров. Сама Надя почему-то оказалась рядом со Стасом, и тепло ее плеча заставляло его размышлять о том, как она будет выглядеть без одежды. Он пытался затушить эти мысли алкоголем, но тот помогал слабо. Стихи Олега – яростные, отчаянные, всегда прежде выбивавшие из колеи – сейчас казались просто набором удачно срифмованных слов по сравнению с красотой ее профиля. Она улыбнулась ему, и Стас понял, что нужно немедленно заставить Надю уйти. – Послушай, – сказал он ей, понизив голос. – Хотел тебя спросить… – Спрашивай. – Олег покончил жизнь самоубийством, верно? Она посмотрела на него спокойно и мягко, только в глубине ее карих глаз скрывалась тайна. В глубине ее карих глаз плескалась кровь. – Да. На автомате он выдал заготовленную реплику: – Извини, я не хотел сейчас об этом. – Все нормально. Олег, он… Ты не интересуешься психиатрией? – Нет. Почему вдруг? – Ну, не знаю. Это так странно. Я хочу сказать, знать, что у людей в душе, в сознании творится. Самое необычное и непознанное во вселенной. Согласен? – Наверно. На самом деле Стас интересовался психиатрией и боялся ее. В раннем детстве, находясь в гостях у дедушки, он стал невольным свидетелем того, как «поехала крыша» у соседки, жившей напротив. Звали ее тетя Вера, она была дородной, добродушной женщиной, никогда не жалевшей для всех окрестных мальчишек сладостей и мелочи. Ее муж, дядя Витя, тощий и загорелый, как головешка, тоже проводил с пацанвой немало времени, помогая строить шалаши и землянки, ремонтируя велосипеды. Как-то поздним вечером Стас с дедом возвращались домой из леса и увидели, что дядя Витя сидит, сгорбившись, у своей калитки. Подойдя ближе, они поняли, что мужчина плачет. Он закрыл лицо ладонями и рыдал, как обиженный мальчишка, беззвучно и глухо. Стасу стало страшно – он никогда в жизни не видел, чтобы взрослые так плакали, и причиной для подобного вряд ли могла служить какая-то обыденная неприятность. Дедушка присел рядом с дядей Витей, спросил ласково: – Что стряслось? Тот в ответ мотнул головой в сторону закрытой калитки и начал говорить, всхлипывая: – Верка сошла с ума… меня не пускает в дом… не узнает. – Сейчас разберемся, – дед успокаивающе похлопал его по плечу, встал и, велев внуку идти домой, открыл соседскую калитку. Стас, разумеется, домой не пошел. Он стоял посреди темной деревенской улицы, в ушах сплошной стеной стоял стрекот кузнечиков, сквозь который долетал издалека собачий лай. Дед постучал в окно, оно почти сразу открылось. Тетя Вера выглядела вполне нормально, только казалась более растрепанной и встревоженной, чем обычно. – Привет, Михалваныч, – поприветствовала она деда. – Не знаешь, куда мой муженек пропал? – Так вот он сидит, – ответил дед. – Вить, поди сюда. Дядя Витя встал, на лице его явно читалось облегчение, но стоило ему пройти в калитку, как тетя Вера закричала, пронзительно, противно, так, что Стас пожалел, что не послушался деда и не отправился домой. – Прочь! Вон! Сгинь, тварь! Иваныч, это же не Витька! Не Витька! Он Витьку моего закопал где-нибудь, а сам вместо него теперь ко мне влезть хочет. Пошел вон, гадина, твою мать! Иваныч, звони в милицию! – Сейчас, сейчас… Ты успокойся, посмотри на него хорошенько. – Да что смотреть, разглядела уж всего с ног до головы! Этот мужик, поди, несколько часов тут ошивается, говорит, что он мой муж! Ее увезли на скорой, и больше Стас никогда тетю Веру не видел. Приехав в деревню на следующее лето, он узнал, что дядя Витя все-таки воссоединился с супругой – вскоре после того страшного инцидента он ушел в непрекращающийся запой и благодаря белой горячке стал постоянным клиентом той же больницы. Наверное, именно тогда страх сойти с ума стал для маленького Стаса навязчивой идеей. Он боялся, что однажды кто-нибудь из близких вдруг перестанет узнавать его, скажет «Это не Стас!», или сам он не сможет узнать свою мать. С течением времени страх бледнел, стирался, тонул в трясине жизненных впечатлений. Он совсем забыл о нем. До тех самых пор, пока…
А здесь, под изменчивым небом, кричат от ужаса проснувшиеся в темноте и одиночестве дети, и запоздалые прохожие, попавшиеся на пути Человеку с Железными Глазами, вдруг сжимают в бессильной ярости кулаки или, опустившись на мокрый тротуар, рыдают взахлеб, уронив лицо в ладони. И кто-то из них впервые в своей жизни всерьез подумает о том, что проще и лучше всего будет шагнуть из окна вниз, в сияющую безбрежность. Кто-то, достав из холодильника бутылку водки, начнет заполнять ею невесть откуда взявшуюся черную пустоту в сердце, да так и не сможет остановиться. А кто-то на следующее утро обнаружит себя на полу ванной в луже чужой крови и зайдется в хриплом хохоте, не в силах встать и встретить то, что таится за дверью.
Они шли по улице втроем: Стас, Надя и совсем пьяный Матвей. Как они покинули «Нижний Мир», что случилось с остальными – вместо воспоминаний в голове зияла черная пропасть, полная смутных образов и тошнотворных фантазий. Просто очередной порыв холодного ветра привел его в чувство, вытолкнул из беспамятства в действительность. – Это же ипподром, – вяло пробормотал Стас, осмотревшись. – Куда мы идем? – Туда, где можно отдохнуть, – ответила Надя. – До утра еще долго. – Погоди… – начал было Стас, но замолк. С каждым вдохом он мыслил все яснее. Вот проплыла слева громада костела, потянулись косые заборы, сверху донизу оклеенные афишами и объявлениями. Пустая дорога, редкие фонари, грязь. Здесь он проходил утром. Вот и та самая арка. – Мы чего… мы это чего? – бормотал Матвей, тоже узнавая местность. – Мы к Олегу? – У тебя есть ключи? – спросил Стас Надю. – Конечно. Прогудел домофон, тяжелая металлическая дверь пропустила внутрь. Поднялись по узкой и скрипучей деревянной лестнице к нужной квартире. Их встретил запах хлорки и болезни. Запах Олеговой смерти. Стас щелкнул выключателем, но свет не загорелся. – Пробки вывернуты, – спокойно объяснила Надя. – Ничего. – Зря мы здесь, – сказал Матвей, покачиваясь. – Где он… где случилось? – В комнате, – сказала Надя. – Пойдем, уложим тебя на кухне. – Дружище, мне бы тазик не помешал, – хрипло прошептал Матвей Стасу, следуя за девушкой по коридору. – У тебя, случайно, активированного угля нет? – Откуда, блин? – Жаль. На кухне Матвей, едва не опрокинув стол, рухнул на продавленную кушетку рядом с ним, укрылся пледом, промямлил нечто неразборчивое и уснул. – Может, и в самом деле тазик нужен, – сказал Стас, неуверенно улыбаясь, но Надя не ответила. Молча она взяла его за руку и повела за собой в комнату. В темноте нельзя было толком ничего разглядеть, кроме силуэтов книжных стеллажей и старомодного шкафа в углу. Стас хорошо знал, что дальше, с другой стороны от прямоугольника окна, пропускавшего скудный свет далекого фонаря, находится стол с компьютером и большое офисное кресло, которым Олег почему-то всегда очень гордился. У противоположной стены располагался диван, широкий, вечно разложенный, заваленный подушками, занимавший чуть ли не треть всего помещения. По-прежнему не говоря ни слова, девушка усадила Стаса на край дивана, а затем плавным, едва уловимым движением опустилась ему на колени, обвила руками его шею. Их губы соединились. Он не спеша снял с Нади свитер, затем бюстгальтер, мягко сжал в ладонях ее грудь, покрыл поцелуями темные, напряженные соски. Слушая ее прерывистое горячее дыхание, он не сомневался, что все делает правильно, ведь пламя, горящее в нем сейчас, было похоже на совершенство музыки Олеговых стихов, на то дикое вдохновение, что наполняло их строки: каждое его движение, каждый удар сердца, каждый вдох – все служило общей цели. Они с Надей не могли ошибаться. Только не в эту ночь. Стас стянул с девушки джинсы, лег на спину, позволив ей и дальше играть ведущую роль. Чувство вины, мучившее его весь вечер, наконец исчезло – наверное, то, что происходило сейчас между ними, было гораздо нужнее Наде, чем ему. Он помнил серую пустоту осеннего неба, пожравшую вселенную в тот момент, когда Матвей рассказал о смерти Олега, и боялся даже представить, как тяжело приходится ей, утонувшей в этом бездонном безмолвии. Надя хотела получить доказательства того, что мир не рухнул, что краски, чувства, смысл однажды вернутся, что, кроме боли, под небом все еще может существовать счастье. И он должен был ей в этом помочь. В бледном свете фонаря, проникавшем сквозь окно, ее тело казалось идеально белым, а волосы, губы и глаза – чересчур темными. Она двигалась размеренно, никуда не спеша, смакуя каждое мгновение. Острые ногти ритмично впивались ему в грудь. Стас откинул голову, и взгляд его скользнул по потолку. Люстра, старая и слегка покосившаяся, хорошо знакомая по всем предыдущим визитам сюда, отсутствовала. На ее месте торчал внушительных размеров стальной крюк. – Я была здесь… – сказала Надя, не прекращая своих движений, но, наоборот, постепенно усиливая темп. – Когда Олег… повесился… Дыхание ее стало прерывистым, и слова высказывались отдельно друг от друга едва слышными шорохами: – Он хотел спасти… защитить… а я не смогла сдержать обещание… открыла дверь, и смерть увидела меня… смерть увидела меня… Стас понял, что должен остановить ее, должен заставить ее замолчать. Немедленно. Но было уже поздно, они оба уже падали с обрыва, на который так долго взбирались. Содрогаясь от наслаждения, раздирая ногтями кожу на плечах, Надя наклонилась, выдохнула ему в ухо имя. Ни стоны, ни бешеный стук крови в висках не смогли заглушить его. В следующее мгновение – невыразимо-короткое, а потому бесконечное – Стас увидел и понял. Тьма расступилась перед ним, раскрывая секреты. Вспыхнули ярким светом тропы воспоминаний, ведущие из пустоты прошлого в пустоту будущего, разом грянули все жизни и слова – когда-либо сказанные и те, которым еще только предстоит прозвучать. Вселенная, сестра-близнец поэзии, чудовищная в своей бескрайности, застыла. Замерла специально для него. А потом время вновь обрело смысл, и Стас больше не был хозяином своего тела. Что-то другое, названное по имени и призванное из бездны, в которую ему удалось на долю секунды заглянуть, теперь распоряжалось его плотью. Оно швырнуло девушку через всю комнату, тут же бросилось следом, огромное и неудержимое. Надя ударилась головой о книжную полку, упала лицом вниз, но не успела даже вскрикнуть – тварь обрушилась на нее сверху, прижала к полу и одним быстрым взмахом острых, по-звериному крепких когтей разорвала ей горло. Раскаленный аромат горячей крови ударил в ноздри, и Стас, метавшийся где-то глубоко внутри взбесившейся души, закричал от ужаса. И восторга. Тварь взгромоздилась на вздрагивающее тело девушки, припала пастью к ране и, сделав несколько шумных, жадных глотков, вгрызлась в лицо. Неестественно длинные клыки с легкостью пронзали кожу и мышцы, дробили кости. Медный, тяжелый вкус наполнял рот, но не утолял голод. Это был мертвый голод, ждавший своего часа с начала времен. Голод, поднявшийся из небытия и завладевший его разумом, сознанием, душой. Голод, неистово хохочущий в его черепной коробке и жаждущий пожирать жизнь вокруг. Наваждение схлынуло так же внезапно, как и появилось. Стас, не в силах вдохнуть, пополз прочь от изломанного трупа, оставляя за собой широкий кровавый след. Забился в угол, уткнулся головой в стену. Хватая ртом воздух, он шарил пальцами по своему лицу, пытаясь найти те жуткие звериные черты, однако все было привычным, прежним: нос, скулы, подбородок. Челюсть болела, но не было ни клыков, ни раздвоенного языка, ни гигантской пасти. Спустя несколько мгновений вдохнуть все-таки удалось, из глаз тут же хлынули слезы. Тяжело опираясь о стену и стараясь не смотреть в сторонуНади, Стас поднялся на ноги. Механически подтянул джинсы, застегнул ремень. Голова кружилась, но ни страха, ни тошноты больше не осталось в нем. Обжигающее спокойствие придавало сил. Жизнь кончилась. Без вариантов. За одну минуту тварь убила сразу обоих. Утро никогда не наступит. А значит, эта длинная октябрьская ночь принадлежит лишь ему. Вся, без остатка, до первых проблесков рассвета. – Ядрена мать, что вы тут громыхаете? Он обернулся и увидел Матвея, кособоко застывшего в дверном проеме. Тот таращился во мрак комнаты, то ли не видя Нади, то ли не в состоянии осознать увиденное. Стас сделал шаг к нему, почувствовал, как внутри, там, где совсем недавно была душа, распахивается тьма, выпуская на свободу зло, чье имя он успел уже позабыть, но помнил прекрасно, что оно означает. Смерть смотрела сквозь него. – Убегай! – хотел крикнуть Стас. – Убегай быстрее! Но не успел.
Всегда были и будут те, кто способен дать отпор Человеку с Железными Глазами. Они не хранят секретов и не знают специальных средств. Все дело лишь в том, что их сердца раскалены и полны огня. Первобытного, дикого пламени, которое с незапамятных времен спасает людей от темноты и отделяет жизнь от смерти. Они скитаются среди нас, часто забытые и покинутые, не знающие, кто они и зачем. Жизнь жестока к ним, потому что огонь в их груди не делает различий между своим и чужим, между добром и злом, и обжигает одинаково и врагов, и друзей. И одиночество становится для них неизбежным испытанием, а сердце жжет изнутри грудную клетку. Только ночами, сами не зная почему, они чувствуют себя лучше. Их тянет наружу, под звезды, встретить сумрачный взгляд неба. На самом деле, не ведая того, они исполняют свое предназначение – ограждают улицы от Человека с Железными Глазами, отпугивают его, загоняют назад во тьму. Таково истинное положение вещей.
Эрлэг-хан
Том же лєтє, по грєхомъ нашимъ, придоша языци незнаеми, ихъ же добрє никто же не вєсть, кто суть и отколе изидоша, и что за языкъ ихъ, и котораго племени суть, и что вєра ихъ… Новгородская первая летописьНочь унимает ярость. Ночь смягчает боль. Рассыпались по степи уцелевшие князья и дружины, остатки городовых полков – бегут прочь от поганой реки. Прочь от поганой сечи. Но ветер следует за ними. Ветер несет из степи сны. Хрипит на ложе в своем шатре молодой Даниил, ворочается, скрипит зубами от жара и гнева. Повязка на груди опять пропиталась кровью. Под крепко сжатыми веками звенят клинки, гремят копыта – вновь и вновь пытается он настичь ненавистных супостатов, но те не позволяют приблизиться, уходят, увлекая князя за собой. А он не может отступиться, остановить гибельную погоню, хоть и понимает уже, что это уловка, что сейчас охватят страшные, неведомые всадники его войско с двух сторон – словно кузнецкими клещами стиснут, сомнут. В отчаянии кричит Даниил. В ужасе плачет Даниил, молит о пробуждении… И отступает лихоманка, гаснет кошмар, милостью Господа нашего, Исуса Христа. Открывает глаза. Тишина. Он один. Нет наложницы, стройной Тагизай, племянницы хана Котяна Сутоевича, принесенной в дар давно невзлюбившему половцев молодому витязю. Волосы ее, черные и блестящие, словно корчажный деготь, пахли травами, и запах этот приносил ему успокоение. Но ты ошибся, княже, – не пуст шатер. Три темных фигуры застыли у полога. Недвижные, едва различимые. Встрепенулся Даниил, потянулся к кинжалу – и тут же замер. Узнал. Лиц не видя, узнал. Мертвых ни с кем не спутаешь. Великий князь киевский здесь, Мстислав Романович, прозванный Старым. Седая борода свалялась, засохла багровым комом, по груди и животу расползлись грязные пятна. Обнажен Старый, раздет донага, как и оба спутника его – Александр, князь Дубровицкий, и Андрей, князь Пинский. Стянуты задубевшими веревками запястья их изломанных рук, ребра и плечи измяты, перепачканы травой и землей. Все трое избегли сечи, остались с дружинами в лагере на каменистом холме на закатном берегу поганой реки. Все трое оттуда наблюдали за бегством половецких отрядов, за разгромом черниговских, смоленских и волынских войск. Но от смерти не укрыться за крепким тыном, верно? Не переждать ее за широкими спинами ратников. Никому еще не удавалось – даже владыке стольного града. – Нам нет прощенья, – говорит Мстислав Романович, не шевелясь, не раскрывая рта. – Спасайся, Даниил. – Под дощатым настилом лежим мы, – говорит Александр Глебович. – А они пируют на нас. – Почетная смерть, – говорит Андрей Иванович. – Без пролития крови. – Потому мы и здесь, – говорит Мстислав Романович. – Беги, Даниил. – Они обещали не проливать нашу кровь, – говорит Александр Глебович. – И слово свое сдержали. – Под досками мы обрели свободу, – говорит Андрей Иванович. – Спасайся, Даниил. – Вам иная уготована участь, – говорит Мстислав Романович. – На черном пне. – В черном котле, – говорит Александр Глебович. – Иди прочь, Даниил. – Слова сказаны, – говорит Андрей Иванович. – Слова услышаны. Прячься, Даниил. – Они пляшут на нас, – говорит Мстислав Романович. – Они поют на нас проклятые песни. – Они зовут его, – говорит Александр Глебович. – Беги прочь, Даниил. – Спасай свою душу, Даниил, – говорит Андрей Иванович. – Спасай свою кровь. – Умри, Даниил, – говорит Мстислав Романович. – Задохнись, Даниил. – Удавись, Даниил, – говорит Александр Глебович. – Утопись, Даниил. – Береги кровь, храни кровь, люби кровь. Слова, сказанные и услышанные, взвиваются вокруг черным водоворотом, стаей встревоженного воронья. Вздымается следом молодой князь, стремясь то ли поймать, то ли разогнать дьявольских птиц. Тишина. Нет никого – только тяжелое, влажное дыхание рвется из пылающей огнем груди. Даниил наконец просыпается по-настоящему, стонет, приподнимается на локтях. Снова ошибся он – не пуст шатер. Тагизай сидит у входа, повернувшись лицом к пологу. Тонкие руки ее вытянуты вперед, двигаются беспрерывно, словно вычерчивая в воздухе письмена. Шепот ее достигает его ушей – чужая речь, диковинный языческий узор, вытканный из незнакомых слов. Он хочет окликнуть ее, позвать к себе, но не может издать ни звука. Рана горит, сжигая последние силы. Три дня назад ты бился как зверь, не замечая ее, но сейчас не сможешь сам и меч из ножен вытянуть. Откидывается Даниил на тюфяк, набитый свежим ароматным сеном. Серая ткань шатра кружится у него перед глазами. Сердце колотится неровно, отчаянно, словно только что пойманная рыба, брошенная на траву и пытающаяся сбежать от гибели. Дыхание прерывается – но голос Тагизай успокаивает его, убаюкивает истерзанную гневом и страхом душу. Опускаются веки. Спи, княже. Тот, кто идет из степи, не тронет тебя, пока она здесь. Пока она хранит твою кровь, сплетая слова в непроницаемую для тьмы завесу. Спи, княже. Спи.
* * *
Отсветы костров и минувшей битвы оседают на лицах людей багровой росой. Темноту наполняет тягучее, нестройное пение. Истекая соком, жарится над огнем мясо – теперь нет недостатка в конине. Плещется в братинах брага – здесь, в семи верстах к северо-востоку от стоянки Даниила, в лагере Мстислава Ярославича Луцкого, воины празднуют то, что остались в живых. Невеселый праздник, но если замолчать, отказаться от хмельного, как отличить себя от тех, кто до сих пор лежит там, в трех днях позади, среди вытоптанного ковыля? Лишь племянники князя, Изяслав и Святослав, улыбаются и смеются. Ни позор, ни разгром нипочем этим плечистым молодцам. Их ждет в шатре связанная по рукам и ногам девка, одна на двоих, последняя из пленных, захваченных во вражеском кочевье незадолго до битвы. С ее соплеменницами вдоволь натешились братья минувшей ночью, отыгрались на них, отомстили за поруганную честь. На рассвете изувеченных, но еще дышащих татарок бросили в балке, стервятникам на забаву. – Наберем новую рать и раздавим нехристей! – захмелевший Изяслав громко спорит с воеводой, на свою беду случившимся рядом. – Посношаем их войско хваленое, как блудную девку! Он хохочет. Святослав тоже. Воевода, не зная что отвечать, смотрит на сидящих вокруг кметов, но те отводят глаза. – Если бы половцы не дрогнули, наша бы взяла! – не унимается Изяслав. – Поганые косые псы, степная гниль! Они нас сюда притащили и сами же бросились бежать. Так и есть. Воины Котяна Сутоевича, призвавшего русских князей на подмогу против явившейся с восхода беды, дали слабину, первыми не выдержали натиска татарских всадников. Их бегство породило панику, оказавшуюся губительной для всего союзного войска. Да только опытные бойцы – тот же воевода или сам Мстислав Ярославич, побывавший в десятках браней, – не сомневались: даже окажись половцы в десять раз храбрее, исход сечи оказался бы тем же. Никогда прежде не доводилось им видеть ничего, подобного татарским полчищам. Их полки вели себя так, словно являлись частями одного огромного тела, их воины были бесстрашны, прекрасно вооружены и обучены, их кони, казалось, не знали усталости, а стрелы разили без промаха. Но хуже всего: половцы утверждали, будто это лишь разведка, передовой отряд, посланный окаян-ханом Темуучжином, уже покорившим все восходные земли и царства. Что будет, если следом придут основные силы? Кто остановит их? Спаси нас, грешных, Господи, и помилуй! – И нечего с ними играть! Нечего с ними возиться! – кричит меж тем вконец разошедшийся Изяслав. – Послов принимать, разговоры разговаривать! Голову долой – вот и весь разговор! – Вот и весь разговор! – подхватывает Святослав. – Правильно первых посланников казнили! И со вторыми так же стоило! А нет ведь – выслушали, отпустили с миром. Тьфу, паскуды! Смерть им! Тоже верно. Не поспоришь. Казнили первых послов. Еще там, у Днепра, когда никто не сомневался, что впереди обычный малый поход против очередного племени степняков. Пришли послы татарские и просили русских князей повернуть назад, оставить половцев с ними один на один. Хитрили, конечно. Хотели рассорить противников между собой, разбить и без того не слишком прочный союз. За то и голов лишились. За коварство. Но теперь, спустя всего несколько суток, то решение уже не кажется правильным. Поспешили. Сгубили доверившихся. – Мы перед ними гнуться не станем! И страшиться их не собираемся! – Порубим нехристей! Братья разошлись не на шутку. Мстислав Ярославич наблюдает за ними, поджав губы. Будь жив их отец, его старший брат Ингварь, сиди он здесь, разве дошло бы до такого? Разве позволялось бы им подобное непотребство? Но попробуй скажи, попробуй утихомирь – нарвешься на брань или на отточенную сталь. Они сами нынче князья, пусть вотчины их и невелики. Они сами нынче себе хозяева и перед людом своим, перед родом своим отвечают сами. Куда больше приходился по душе Мстиславу другой племянник, Даниил Волынский, отданный ему на воспитание после смерти брата Романа. Тоже молод, тоже горяч, но и разумен и скромен в меру. А как сражался он третьего дня, как хватко рубился с татарами! Да, увлекся, увяз в битве – не приди Мстислав с ратниками на помощь, наверняка бы погиб – однако, когда положение стало отчаянным, не раздумывая повернул коня. В суматохе всеобщего бегства Мстислав потерял его из виду, их пути разошлись, и теперь остается лишь уповать, что племянник скрылся от погони целым и невредимым. Даст Бог, свидятся еще. – Клянусь, я насажу голову Сабудая на копье! – Святослав грозит кулаком кметам, будто это они помешали ему расправиться с татарским ханом, пока была возможность. – Я потопчусь на его жирном брюхе! Изяслав хлопает брата по плечу. Смеются. Отводит взгляд Мстислав Ярославич. На своем веку немало видывал он пьяного бахвальства, но всякий раз становится тошно. Небо с расплесканными по нему звездами – куда более приятное зрелище. Звезды не принимают ничьих сторон, одинаково светят и победителям, и побежденным, и гордым, и слабым. Звездам нет никакого дела до поражения, которое принесут домой на своих плечах русичи, и это чуть облегчает ношу. Князь зевает, торопливо крестит рот. Годы не обманешь – все сложнее и сложнее обходиться без сна. Пожалуй, пора на боковую, хоть немного вздремнуть до рассвета. Хоть немного отдохнуть от жгучего стыда за родичей. Он поднимается, тяжело опираясь на меч. На мгновение смолкают разговоры, и в наступившей тишине слышен лай собак, которых немало возле лагеря, – с их помощью гонят русичи скот, захваченный в разграбленном перед битвой татарском кочевье. Лают ожесточенно, захлебываясь яростью – так встречают лесного зверя, забравшегося во двор. Так встречают врага. – Чу! – встревоженно вертит головой воевода. – Что за бесовщина? – Может, нехристи подобрались? – спрашивает кто-то. Изяслав снова хохочет. – Нехристи подобрались, мамочки! – кричит он. Язык плохо слушается, но это с лихвой восполняется напором и лихостью. – Да нужны ли вы нехристям, трусы паршивые! Чуть что – готовы бросить все и бежать прочь. Песий лай пугает вас пуще срама, пуще гнева Божьего! От степняков драпали так, что и стреле не угнаться… А ты, старшой, драпал быстрее всех! С этими словами хватает Изяслав воеводу за бороду, подтягивает его к себе. Слитный гул множества недовольных голосов проносится по рядам кметов. Воевода, сперва растерявшийся от такой наглости, с размаху бьет молодого князя по лицу. Бьет тяжело, умело. Выпустив бороду, падает на спину Изяслав. Его брат выхватывает из ножен меч. – А ну! – рявкает Мстислав Ярославич. – Хватит! Святослав, с трудом удерживаясь на ногах, поворачивается к нему, поднимает оружие, направляет острие на дядю: – Ты зачем вылез, старик? Ты не отец нам, не хозяин… – Окстись, дурень, – скрипя зубами, говорит Мстислав Ярославич. – Христа ради, опусти клинок. Не гневи ни Господа, ни соратников своих. – Соратников? Вот этих бессовестных трусов, любителей половецких баб? – Замолчи, язык свой пьяный прикуси! Иди проспись. Тебе же лучше будет. Комок дерна, брошенный кем-то из темноты, попадает Святославу в плечо. Он пошатывается, недоумевающе смотрит на грязь, оставшуюся на рукаве парчовой рубахи. Лают, лают, лают собаки. – Ишь, надрываются, – бормочет сивобородый дружинник рядом с Мстиславом Ярославичем. – И вправду что-то неладно. Святослав поднимает взгляд на кметов, оскаливается. – Кто? А, сучьи дети! – глаза его белы от ненависти. – Порублю!.. Христом-богом клянусь, порублю! Кто?! Воевода, подкравшись со спины, хватает его за запястье держащей меч руки. На протяжении нескольких вдохов борются они под одобрительные выкрики дружинников, затем воевода отбирает меч и, толкнув князя в грудь, валит его наземь. – Так-то, – говорит он, тяжело дыша, глядя на пытающихся подняться Ингваревичей. – Так-то. Неповадно будет честных людей за бороды таскать. Идите спать, отцы. Отдохните от трудов праведных. Несмотря на все свое раздражение, Мстислав Ярославич не может сдержать улыбку. Знает воевода, как обращаться с разбуянившимся князем, как обратить все в шутку, унять гнев зря оскорбленных кметов. Даст Бог, завтра поутру никто и не вспомнит о произошедшем. То есть вспомнить-то вспомнят, конечно, такое не забывается, но есть надежда, что достанет ума не поминать. Собаки вокруг лагеря лают, не переставая, – кажется, будто сама ночь огрызается, рычит, рвется в бешенстве с цепей, роняя в траву пену с десятков ощеренных пастей. Воевода подходит к Мстиславу Ярославичу, протягивает Святославов меч: – Пусть побудет пока у тебя, княже. – Не держи зла на них. Дело молодое, проспятся, прибегут завтра прощения просить. – Мне прощения-то не жалко. Да разве ж они передо мной виноваты? Они перед отцом своим виноваты, перед дедами своими. Эх! – воевода машет рукой, замирает, прислушиваясь к непрекращающемуся лаю. – Вон чего творится-то. Надо все-таки осмотреть окрестности, вдруг и в самом деле поганые пожаловали. – Два дня назад они отстали, – возражает князь. – Тут как стол земля ровная, во все стороны на много верст видать. Не получилось бы у них столько времени незамеченными за нами следовать. Скорее уж, волки в гости наведались. – Тоже так думаю. Но проверить не мешает. – Верно. Воевода отходит в сторону, подзывает дружинников, раздает указания. Мстислав Ярославич вновь переводит взгляд на племянников. Они поднялись и бредут к шатру, опираясь друг на друга. Молчат. То ли хмель выветриваться начал, то ли живительные кулаки воеводы помогли. Не глядят молодые князья по сторонам, опустили головы. Верно, наука – она легкой не бывает. Изяслав и Святослав вваливаются в шатер. Здесь темно и влажно, пахнет мокрой шерстью. Мутными отблесками ложатся на полотнища стен сполохи костра, извиваются, словно танцуя или сгорая, в них серые тени. Непроглядным пятном у дальней стены застыла связанная татарка. Она что-то бормочет, шепотом, еле слышно. – Будь они прокляты! – вполголоса говорит Изяслав. Он то и дело ощупывает стремительно опухающую скулу, куда пришелся удар воеводы. – Как посмели? Святослав не произносит ни звука. Пальцы его дрожат. Он подходит к девушке, резким рывком переворачивает ее на спину. Глаза пленницы широко открыты, в них стоят слезы. Губы беспрерывно шевелятся, выговаривая снова и снова одно и то же слово. Мрак полнится многоголосым лаем, возгласами дружинников, ржанием коней, бряцаньем оружия – лагерь встревожен, разбужен, – и Святославу приходится наклониться, чтобы расслышать. – Эрлэг-каан, – горячее дыхание касается его лица. – Эрлэг-каан. Эрлэг-каан… Он бьет ее в живот. Девушка стонет, сгибается, насколько позволяют путы, но не замолкает. – Эрлэг-каан, Эрлэг-каан, Эрлэг-каан… Святослав бьет повторно, сильнее, и на сей раз неведомое татарское заклинание прерывается. Пленница давится болью, принимается судорожно хватать ртом воздух. – Вот так, – ухмыляется Святослав. – В присутствии знатного мужа бабе должно помалкивать. Он опускает ладонь на ее бедро, гладит влажную, загорелую кожу, тискает упругую задницу. Девка хороша, хоть и некрасива, плоска лицом. Что ему до лица! На него и смотреть вовсе не обязательно: навалишься сзади, схватишься за тугую черную косу – и крой татарку, как кобель сучку. С нехристями так можно. От срамных мыслей уд напрягается, застывает раскаленным колом. Святослав тянется к завязкам штанов, намереваясь немедленно пустить его в ход. Но тут девушка поворачивается к нему и начинает смеяться. Хрипло, безумно, взахлеб – точь-в-точь собачий лай, что никак не желает стихать снаружи. Святослав ошеломленно отшатывается, но через мгновение берет себя в руки, замахивается тяжелым кулаком: – Умолкни, погань! Татарка умолкает. Тотчас глаза ее закатываются, на губах выступает пена, она опрокидывается на спину и бьется в судорогах, выгибается дугой, словно умирающий от столбняка. А в ответ на ее мучения вздрагивает земля под ногами князей. Будто что-то ворочается глубоко внизу, под истоптанным дерном, почвой и камнями. Будто что-то поднимается из недр. – Чертово семя! – вскакивает Изяслав, хватается за рукоять меча. – Наколдовала, дрянь… Его брат поднимается, шарит ладонью на поясе, но оружия там нет – оно осталось у Мстислава Ярославича. Второй меч и нож должны лежать где-то в головах постели, однако отыскать их Святослав уже не успевает. Земляной пол шатра вздыбливается и разверзается черной ямой, огромной уродливой пастью, извергающей удушливый дым. А спустя время, достаточное, чтобы набрать в грудь воздух для крика, из ямы вырастает дьявол. О, они узнают его сразу же: голова размером с походный котел, черная борода, свисающая на безразмерное брюхо, растянутый в кошмарном клыкастом оскале рот, толстые витые рога, растущие из исчерченного пересекающимися шрамами лба. И глаза, полные смерти.
– Господи! – шепчет Святослав, не в силах отвести взгляда от этих глаз. Чудовищная ладонь опускается ему на темя, испачканные засохшей кровью пальцы смыкаются вокруг головы, грязно-желтые когти впиваются в шею и плечи. Во тьме визжит, отчаянно визжит Святослав. Одно движение гигантской руки – и голова его отрывается, отлетает прочь, оставляя за собой в воздухе дугу из рубиновых капель. Дьявол подхватывает падающее тело, припадает пастью к обрубку шеи, жадно глотает кровь, хлещущую ему прямо в глотку. Изяслав, позабыв весь хмель, выбегает наружу. Взгляды целого лагеря прикованы к шатру за его спиной. К шатру, из которого валит вонючий подземный дым. К шатру, в котором чавкает, пожирая душу его брата, рогатый подземный ужас. – Бегите! – вопит Изяслав. Он роняет меч, он несется прочь, не глядя перед собой, натыкается на замешкавшегося кмета, валит того наземь, тут же спотыкается и падает сам. Мир вокруг, кажется, состоит только из криков, лошадиного ржания и запаха свежей крови. – Что там? Что там, княже? – спрашивает кто-то, помогая ему подняться. – Эрлэг-хан, – отвечает Изяслав. – Эрлэг-хан. Эрлэг-хан. Эрлэг-ха… Гаснут костры. По всему лагерю, один за другим – огонь не в силах сопротивляться воле своего хозяина, – и в наступившей темноте владыка царства мертвых выходит из шатра Ингваревичей. В исполинскую фигуру летят копья и стрелы, но не могут причинить вреда. В суете и толчее люди ранят друг друга, в гвалте и страхе тонут редкие приказы, в навсегда недостижимом небе хохочут довольные звезды. Тощие заскорузлые пальцы впиваются в рукав Изяслава. Это Мстислав Ярославич, брат его отца. Борода трясется, словно вот-вот разрыдается луцкий князь. – Что вы сделали? – кричит старик в ухо Изяславу. – Ничего! Клянусь, ничего! Это все девка… татарская ведьма! – Господи Исусе! – Клянусь, мы ничего не делали! Клянусь! Эрлэг черной громадой движется сквозь лагерь. Его борода развевается на ветру, как проклятое боевое знамя. Самые отважные и самые хмельные из кметов встают у него на пути, вооруженные топорами и мечами, но ни топор, ни меч не в состоянии пронзить закаленную пламенем преисподней плоть. Вот плечистый парень с длинными золотыми волосами, успевший надеть кольчугу, подбегает сбоку, рубит сплеча, целя великану в колено. Клинок отскакивает, подобно тому, как отскочил бы от каменной глыбы. Чудовище отмахивается лапой – золотоволосый валится навзничь. Грудь и живот его разорваны, изо рта хлещет кровь, меж лоскутов оказавшейся бесполезной кольчуги скользят, влажно поблескивая, внутренности. Вот подбирается с другой стороны жилистый ветеран, умелым, привычным движением наносит удар секирой в спину, и лезвие ломается, не оставив ни следа на серой коже. Воин пытается отступить, но Эрлэг, стремительно развернувшись, хватает его за ногу, взмахивает им, как дубиной, бьет об землю, затем поднимает над головой и, раскрыв рот, ловит раздвоенным языком кровь, струящуюся из расколотого черепа несчастного. – Господи, укрепи! – разносятся во мраке голоса. – С нами крестная сила! Но это ложь. Здесь никто не услышит молитв. Здесь небо слишком высоко. Здесь между ним и человеком – Эрлэг-хан, явившийся завершить то, что начали его дети. И люди, измученные долгим переходом, раздавленные тяжелым поражением, теряют веру – в победу, в правду, в Бога. Потому что бог в степи один – и он перед ними, и кровь струится по его смоляной бороде. Люди бегут. Сначала поодиночке, затем группами. Воины, обозники, псари, кашевары. Ломая шатры и навесы, бросая оружие и скарб, роняя и топча друг друга. Они бегут во все стороны, прочь из лагеря, к лошадям. – Спасайся, братцы! – Нешто зазря помирать?! – Свят-свят-свят! Мимо пробегает один из десятников Изяслава Ингваревича, наголо бритый детина, три дня назад лишившийся кисти. Завидев знакомое лицо, молодой князь пытается было увязаться следом, но Мстислав Ярославич не пускает, держит его за рукав. Держит крепко, мертвой хваткой. – Пусти, дядька! – визжит Изяслав, брызгая слюной. – Пусти! – Куда? Прочь бежать? Так ведь диавол за тобой увяжется. – Пусти, сказал! Пусти, а то зашибу… Старый князь бьет племянника навершием Святославова меча в зубы. Изяслав стонет, прижимает руку к разбитым губам. На ладони остаются темные пятна. – Не зашибешь, сучонок, – шипит Мстислав Ярославич. – Рожей не вышел меня зашибить. Он замахивается мечом. Изяслав зажмуривается. Кровь течет по его подбородку тонкой дорожкой. Нет больше лихого удальца, не знающего ни стыда, ни страха, вместо него – невесть откуда взявшийся сутулый, дрожащий недомерок, дерзнувший напялить на себя княжескую парчу. – Нешто я не видел? Нешто я не понимаю? – продолжает Мстислав. – Диавол за твоими грехами явился. Пока душу твою, гнилую, смрадную, не заберет, не уйдет. Сколько еще невинных ты готов загубить, чтобы ее спасти? – Дядь, пожалей меня… Мстислав снова замахивается мечом. Между тем воевода пытается восстановить хоть какое-то подобие порядка, удержать хоть сколько-то бойцов. Зычный рев его разносится над тонущим в хаосе лагерем: – Стоять, песья сыть! В строй! Вы воины или бабы?! Коли воины – ко мне! В строй! К бою! Немногие отзываются на этот призыв. Но отзываются – и вот растет возле воеводы строй, ощетинившийся копьями, укрепленный щитами. Две дюжины бритых, чубатых голов, две дюжины храбров, готовых биться даже с тем, кого человеку ни за что не одолеть. – Не разбегаться! – ревет воевода. – В глаза ему меть! В глаза! Они метят. Копье, брошенное чьей-то сильной рукой, вонзается Эрлэгу под правую бровь, но демон, даже не дрогнув, вырывает его и отбрасывает прочь. Он нависает над горсткой смельчаков непроглядной рогатой тенью, закрывает звезды. В его бороде извиваются змеи. Раздвигается строй, выступает вперед воевода, подняв над головой походную икону Божией Матери в простом медном окладе. Он держит ее обеими руками, и больше нет у него никакого оружия – ни меча, ни булавы, ни кинжала. – Изыди! – рычит воевода на повелителя Преисподней. – Именем Пресвятой Богородицы! Изыди! Но не остановить Эрлэг-хана. Не запугать Эрлэг-хана. У Богородицы нет власти над ним, и чистый лик ее, исполненный печали, не заставит его отступить. Безжалостным ураганом обрушивается он на отважных дружинников, ломает копья и ребра, крушит щиты и головы, отрывает руки, вырывает еще бьющиеся сердца – и пьет, пьет, пьет горячую кровь. Воевода, до последнего вздоха не поменявший икону на клинок, падает наземь, опрокинутый мощным ударом, – и тут же тяжелая ступня опускается ему на грудь, дробя кости, сминая крепкое, жилистое тело, прежде ни разу не подводившее своего хозяина. Ни крика, ни стона не издает воевода перед смертью, сурово наблюдая остекленевшими глазами за тем, как умирают пошедшие за ним кметы. Вот последний из них, отбросив щит и топор, бросается на врага с голыми руками и, увернувшись от когтистой пятерни, ловко прыгает ему на брюхо. Уцепившись за бороду чудовища, воин карабкается по массивному туловищу, словно по крепостной стене. Миг – и он уже на груди, выхватывает из-за пояса кривой нож, бьет им резко, без замаха, всаживает по самую рукоять в левую глазницу Эрлэга. В следующее мгновение демон срывает бойца с себя, вздымает его над собой, пронзает рогами. Стонет дружинник, скрипит зубами, пытаясь дотянуться пальцами до жуткой морды своего убийцы, но силы утекают стремительно вместе с кровью, широким потоком льющейся по лбу и щекам Эрлэга прямо в бездонную пасть. Сны, грехи, мечты и клятвы – все смыто. Все кончено. Тишина. Отбросив тело кмета, хан подземного мира поворачивается к двум последним русичам, оставшимся в опустошенном, разрушенном лагере. Двум князьям, старому и молодому. Мстислав Ярославич прижимает лезвие меча к горлу племянника. Изяслав скулит по-звериному, кусает губы. Глаза его крепко зажмурены. – Кайся, сучонок, – шипит Мстислав Ярославич ему в ухо. – Пора ответ держать. Эрлэг приближается, черный силуэт на фоне черного неба. Запах крови бьет в ноздри, кружит голову, заставляет сердце трепетать от ужаса и жажды. Он настолько густой, что кажется осязаемым. Проведи рукой в воздухе – всколыхнешь медно-соленую волну. – Ты пришел за ним! – кричит Мстислав Ярославич в надвигающийся мрак. – Забирай же и оставь нас в покое! Его голос, дребезжащий и полный страха, звучит нелепо, по-старушечьи, в этом пропитанном смертью безмолвии. Эрлэг ничего не отвечает. Он все ближе. В левой его глазнице до сих пор торчит кинжал. – Я отдаю то, что принадлежит тебе! – говорит Мстислав Ярославич и добавляет слово, которого не собирался произносить, но которое станет последним, когда-либо сказанным им. – Владыка… Одним движением он перерезает горло племяннику и толкает того вперед, навстречу своему хану, а сам опускается на колени и прижимается лицом к земле. Это очень просто. Это проще всего на свете. Это как разжать пальцы, вися над пропастью. Как отвернуться от нищей старухи, тянущей грязную, трясущуюся руку за подаянием. Как прикинуться спящим. Он слышит чавканье, слышит хруст разрываемой плоти и треск ломающихся костей. Слышит влажный шелест огромного раздвоенного языка, собирающего остатки соленой влаги. А затем, спустя несколько мгновений оглушительной тишины, он слышит смех. Раскатистый, низкий, утробный хохот, похожий на грохот катящихся под гору валунов. Эрлэг-хан смеется над ним. Когда Мстислав Ярославич Луцкий осмелится поднять голову, лагерь окажется пуст. Огонь будет вновь плясать в кострищах, освещая груды изувеченных мертвецов, разбросанное повсюду оружие, поломанные шалаши и шатры, растоптанные стяги. Князь попробует прочесть молитву, возблагодарить Господа за свое чудесное спасение, но не сможет. Вместо слов изо рта будет выходить лишь невнятное мычание. Он подползет к тому, что осталось от Изяслава, сына его брата, станет целовать перемазанные багровым сафьяновые сапоги, попытается попросить прощенья, однако язык вновь откажется служить ему. И он поймет, что это навсегда, и оставит попытки заговорить, и, съежившись у трупа племянника, станет ждать смерти. Но не дождется. Смилуйся над ним, Господи, на Страшном суде Твоем.
* * *
Летняя ночь коротка. Близится утро, и вот-вот на восходной стороне горизонта появятся первые проблески света. Но тьма еще не насытилась, еще не собрала причитающийся ей оброк. Пятью верстами севернее разгромленного луцкого лагеря – стоянка Михаила Всеволодовича, владельца крохотного княжества близ Чернигова. Здесь нет ни костров, ни браги, ни застольных бесед. Дружинники спят вповалку, измотанные тяжелым дневным переходом, лишь немногочисленные часовые всматриваются в темень да время от времени окликают друг друга. Михаил тоже бодрствует в княжеском шатре. Сидя у тела Василька Мстиславича, своего двоюродного брата, наследника черниговского престола, молится он за упокой его души. Василько умер на закате, не совладав со злыми ранами. Отмучился, отметался, впал в забытье и вскоре перестал дышать. Глядя на кажущееся в сумраке белым лицо покойника, снова и снова просит Михаил простить ему прегрешения, вольные и невольные, открыть врата ему в Царствие Небесное. Он не любил Василька – был тот чванлив и высокомерен, скор на грубое слово да, говорят, затаскивал иногда мальчиков в свою постель. Но нынче, перед наступающими Последними Временами, все равны, все грешны. Из безбожных восточных земель явились Гог и Магог, проклятые народы, коим предначертано прервать тысячелетнее торжество Христовой Веры. Отгремевшая трое суток назад битва, величайшая битва из всех виденных им – лишь начало. Начало Конца Света. Молится Михаил. Молится, потому что освобожден Сатана из темницы своей и свободно ходит по земле. Потому что ночная тишина степи сводит с ума, наполняет уши смрадным шепотом, призывает радоваться смерти Василька – ведь теперь черниговский престол отойдет ему, старшему живому родственнику, теперь сумеет он выбраться наконец из опостылевшей деревни, получит в свои руки настоящую власть. Сорок лет ждал – и вот оно, свершилось. Ликуй, княже! Но Михаил только хмурит сильнее брови да крепче стискивает пальцы сложенных перед грудью рук, ни на мгновение не прерывая молитвы. Ибо стоит замолчать, и зло немедленно воспользуется возникшей брешью. Снаружи какой-то переполох. Лязгает железо, шуршат шаги, встревоженно перекрикиваются часовые: – Слыхал? Конский топ! – Где? С восхода? – С юга, братцы. Да ты ухо, ухо-то к земле приложи! – Ну! Точно… скачут… – Князю бы сказать! – Да коней-то всего один или два. Наши это. Нечего попусту тревожить. – Бог его знает, наши или не наши… Михаил поднимает взгляд. Суетятся сторожа, страшатся врага пропустить, а не ведают, что главный враг уже здесь, уже в лагере. Вон он, ходит вокруг шатра, невидим и неслышим для всех, кроме князя. Ступает тяжело, неспешно, не пытается проникнуть внутрь. Скользит по ткани огромная рогатая тень, хоть нет ни луны, ни огня, способных породить ее. Ждет. Снаружи – лошадиное ржание, чей-то приглушенный смех: – Ишь ты! Без всадников! – Отбились, поди, от луцкого табуна. – А вы, вояки, тревогу поднимать ужо собрались. – Так поди пойми в темноте-то! Не видят дружинники тех, кто прискакал на двух конях. Не слышат, не чувствуют – разве что повеет вдруг холодом или заноет сердце. Но тут, посреди степи, вдали от дома, и без того часто болит в груди. Берут они взмыленных скакунов под уздцы, треплют их по шеям, успокаивают. Кто-то находит в суме недозрелое яблоко, неизвестно почему не съеденное в походе, угощает утомленную зверюгу. А послы Эрлэг-хана тем временем входят в шатер, не колыхнув полога. Входят, как к себе домой, хозяйски озираются, садятся напротив, сложив ноги по-степному. Михаил помнит их. Братья Ингваревичи, племянники Мстислава Луцкого. Молодые, отчаянные, наглые. У обоих в лицах – ни кровинки, бледны как мел, бледнее Василька, лежащего рядом. Оба улыбаются, хотя в мертвых глазах только мука. – Здравствуй, княже, – говорит Святослав. – Исполать тебе! – вторит ему Изяслав. Не отвечает Михаил. Молится. – Владыка Девяти Нижних Миров, хозяин Красных Озер и Железных Кочевий, Великий Хан Эрлэг направил нас сюда. Сам он стоит позади, за спинами своих послов, отделенный от них тончайшей льняной стеной. Михаил видит его очертания: длинные, плавно изгибающиеся рога, большую бритую голову, массивные плечи. Не верится, что вот-вот взойдет солнце, чьи первые же лучи развеют эту жуткую тень, отправят ее владельца в отведенные ему чертоги. Приторный, липкий аромат бойни наполняет шатер, заставляет волосы на загривке шевелиться, пробуждает тошноту. Держись, Михаил. – Великий Хан Эрлэг был призван своими детьми, дабы вернуть в мир справедливость. – Мы убили доверившихся нам посланников, и теперь он берет с нас плату. Кровавую плату. – Многих из нас он нашел в эту ночь. Не всех, но многих. Ты – последний, княже. Молится Михаил. Шевелятся беззвучно губы, складывая слова молитвы в неприступный тын, за который не проникнуть ни степной нечисти, ни ее повелителю. – Василько ускользнул, но тебе не уйти, – скалится Святослав. – Отдай свою кровь. – Признай вину и понеси наказание, – тявкает Изяслав. – Умолкни. – Твой бог не защитит тебя здесь! Ему не дотянуться так далеко. Молится Михаил. Неслышные слова вылетают изо рта облачками белесого пара. Его Бог – в нем, бьется изможденным сердцем в груди, растекается тягучей тяжестью в костях, наполняет силой уставшую душу. Тьма дышит ему в лицо, но он не отводит взгляда. – Великий Хан Эрлэг получит тебя. Пусть не сегодня. – Великий Хан Эрлэг получит тебя через двадцать три года, три месяца и двадцать дней. Все так же ухмыляясь, они придвигаются ближе, садятся по обе стороны от Михаила, склоняются к его ушам и шепчут в них правду о будущем. О грядущем нашествии, о падении городов русских, о пламени и плаче, что охватят землю от края до края. О громадной, богато украшенной ханской юрте и двух кострах по обе стороны от ее входа. О черном идоле, поганом рогатом идолище, возвышающемся над кострами и требующем поклонения. Об острой стали и не менее острой боли. Скоро рассвет. Молится Михаил. Молится Михаил. Молится.Свиноголовый
(Раз)
Когда мир снаружи сужается до размеров крохотного освещенного пятачка под фонарем, а все остальное пространство занимает бездонное черное небо, кажется, что если открыть окно, то небо хлынет в комнату, затопит ее. Тебя вынесет наружу, в бескрайний океан пустоты, и ты сам станешь пустотой, и стенки твои треснут и рассыплются, и рыбки и водоросли выплывут из тебя наружу. Тогда, в самый последний момент, гаснущим рассудком поймешь, что ты – лишь средство, кисть, которой художник все это время писал нечто значительное и абсолютно бессмысленное.(Два)
Я ненавижу пригородные электрички. Особенно зимой. В них тесно, холодно, воняет куртками и грязными носками. Меня мутит от окружающих, их унылых, ничего не выражающих лиц, разговоров, ухмылок, от их телефонов и планшетов, полных несусветной чуши. Сорок минут, проведенные в вагоне или тамбуре, становятся настоящей пыткой. Но я все равно езжу в электричках. Каждый день. Это часть искупления. Давным-давно, когда кошмар только начинался, я после каждого убийства обещал себе, что оно станет последним. Богу тоже обещал. Клялся остановиться, умолял пощадить, избавить, простить, дать сил. Ночи напролет давился на кухне слезами, боясь разбудить жену. Молитвы не помогали. Бог молчал, улыбаясь в бороду. И после пары месяцев изматывающего страха вновь наступал такой вечер, когда, выходя с работы, я всматривался в темноту наступающей ночи и понимал: вот оно, время. Пришло. Мрак принимал меня, наполнял спокойствием, дарил уверенность. Пальцы смыкались на рукояти ножа, твердые и сухие, как кремень. Я держал в руках власть, нес ее через засыпающий город, и она раскаленным металлом пылала в моих венах – непреодолимая, невыносимая, страшнее гнева, настойчивей похоти. Перед ней оставалось лишь преклониться. Я никогда не нападал на семьи, на детей или женщин. Только мужчины. Одинокие. Бесполезные. Бессмысленные. У них был шанс остановить меня, пусть и совсем крохотный. Каждый раз я надеялся, что очередная жертва вовремя заметит угрозу, начнет сопротивляться, окажется сильнее и проворнее меня. Каждый раз я надеялся, что кому-то из них повезет. Но финал всегда одинаков. Лезвие пронзает плоть, забирает жизнь, распахивает врата в небытие. Кровь капает на пол, и тело тяжело валится следом, словно пластмассовый манекен. Жизнь, всего пару минут назад уверенная в своей вечности, теперь растворяется, тает, судорожно подергивая конечностями. И в эти мгновения стальная колючая проволока, тянущаяся по моим венам, исчезает. Я снова становлюсь прежним собой, жалким, насмерть перепуганным человечком. Дрожа от ужаса перед содеянным, я убегаю подворотнями, путаю следы, выбрасываю нож в мусорный бак, спускаюсь в метро и еду на вокзал, а оттуда на электричке – домой. Меня бьет озноб, пальцы, растерявшие всю твердость, трясутся, и остальные пассажиры смотрят с пренебрежением и опаской. Возможно, некоторые из них чувствуют смерть, видят ее в моем лице. Некоторые узнают: я не уверен, но кажется, будто иногда убитые едут вместе со мной. Стоят в другом конце вагона и смотрят оттуда черными, немигающими глазами. Следят. Ждут. Пока Свиноголовый рядом, они не тронут – попросту не посмеют. Бог так и не ответил на мольбы. Вновь и вновь просыпалась во мне жажда убийства, вела по темным улицам, скрывала в тенях, заставляла сердце бешено колотиться в зверином предвкушении чужой смерти, вынуждала высматривать одиноких прохожих. Вновь и вновь, растерянный, сжигаемый заживо отвращением, я забивался в последнюю электричку, оглушенный, опустошенный, с трудом держащийся на ногах. Чуда не происходило. Душа моя не исцелялась от чудовищного недуга, небожители не спешили прекращать мучения ничтожного раба, чьими руками отныне водил дьявол. Я стал злом, и, если верить древней мудрости, должен был пожирать самое себя. Наверное, поэтому он и пришел. Заканчивался ноябрь, по улицам уже вовсю развозило снежную кашу. От холодного ветра мерзли ладони, и паренек, которого я приглядел в круглосуточном магазине, постоянно ежился. Куртка у него была явно не по погоде. «Паренек» – это я так их всех называю, на самом деле ему было уже основательно за сорок, а в волосах хватало серебра. Он определенно собирался провести вечер в одиночестве: закупался дешевым пивом, пельменями, упаковками сушеных кальмаров. Куртка и мятые джинсы очевидно указывали на отсутствие спутницы жизни. То, что нужно. Я вышел следом за ним, остановился, чтобы зажечь сигарету и увеличить дистанцию между нами – так он не заподозрит, будто я его преследую. Кровь моя уже превратилась в сталь, и все действия были четкими, выверенными, не разбавленными ни единой каплей волнения или боязни. Подошвы скользили на обледенелом тротуаре, вязли в рыхлом снегу. Улицы были пусты, только собаки крутились вокруг перевернутых мусорных баков. Снегопад усиливался, мир наполнялся ослепительным белым цветом, на фоне которого любое темное пятно, будь то стена дома или ствол дерева, казалось кощунством. Я почти не помню погони. Не помню, мимо чего мы проходили, куда сворачивали, попадался ли нам кто-нибудь по дороге. Когда лев преследует антилопу, он не озирается. Но помню, как спустя десять минут несчастный лежал в нескольких шагах от своего подъезда, ноги его истошно копошились в месиве из снега и грязи. Зря купленные продукты разлетелись в разные стороны, а из перерезанного горла силился выползти не то вопрос, не то крик о помощи. Трясти меня начало только у вокзала. На негнущихся ногах я доковылял до электрички, зашел в последний вагон – пустой, если не считать пары молодых и сильно пьяных девушек в дальнем конце – опустился на сиденье, прислонился лбом к холодному стеклу. Сталь плавилась. Спустя вечность поезд тронулся. И вот тогда рядом раздались мягкие, тяжелые шаги, а потом кто-то большой опустился на сиденье рядом. Я обернулся и встретился взглядом со Свиноголовым.(Три)
Я был изначально пуст и неисправим. Я был целеустремленно тверд и неисповедим, как путь сошедшей с ума пули. Если вам доводилось теряться в темноте, то вы знаете, как тяжеловернуться обратно. Меня отговаривали и предостерегали, пытались помочь. Но я все равно шел – шел, чтобы снова увидеть и вспомнить, потому что начал уже забывать, как плакал мир. Да, однажды мне пришлось наблюдать это своими собственными глазами, но память недолговечна, память шутлива и легкомысленна, и доверять ей может лишь глупец. Поэтому и нужно было вновь… Через мост вело две дороги: одна туда, а другая обратно, и в середине моста они пересекались – именно там я впервые заметил ее фигуру. Точно, вот оно, то самое место, такое узнаваемое, прежнее, единственное прежнее здесь. Все вокруг без перерыва меняется, стремится к чему-то, а оно – нет. Зачем? Его звездный час остался в прошлом, он случился несколько месяцев назад. Была такая же холодная ночь, и фонарь плакал кислыми слезами, и ветер ласково гладил крыши домов, и бездонная небесная яма свирепо и беззвучно хохотала над нами. Я шел, опустив голову, спрятав руки в карманы, дрожа от холода и темных предчувствий, бормоча что-то несвязное и грозное, пытаясь понять, почему именно так, а не иначе. Я перепрыгивал через лужи, в которых кривились изуродованные отражения мира, и не смотрел по сторонам. Это бесполезное и опасное занятие – смотреть по сторонам. Ничего нового все равно не найдешь, только испортишь себе настроение или на неприятности нарвешься. Наши улицы полны банальностей и облезлых стен, и мне всегда нравилось ходить по ним только ночью. Не знаю, что заставило меня поднять голову, когда я подходил к мосту. Возможно, какой-то голос, глухой и искренно-истеричный, крикнул внутри меня: «Смотри!», а может, я просто споткнулся, не помню, да это и не важно. Я все-таки поднял голову – и увидел на середине моста ее фигуру. И было в ней что-то от уже улетевших на юг птичьих стай, и от подкрадывающихся морозов, и от палой листвы, и от небесного смеха – она была слезой плачущего мира. Слезой, на мгновение застывшей на самом краю глаза, дрожащей перед тем, как покатиться вниз по щеке. Наверное, мне нужно было крикнуть что-то предостерегающее, нужно было попытаться остановить ее, удержать, схватить за локоть в последний момент – я не успел даже подумать об этом. Я стоял как вкопанный и не мог оторвать взгляда от ее красоты, противоестественной, ошеломляющей, но мимолетной. Такая красота не существует дольше двух мгновений: первое мгновение дается ей, чтобы родиться, а второе – чтобы умереть. И вот в промежутке между ними мы замерли напротив друг друга, зная, чем все закончится, но не в силах ничего исправить. Я не знаю, видела ли она меня, видела ли она хоть что-нибудь, кроме ждущей ее темноты, – временами кажется, будто ей хотелось что-то сказать мне, но иногда я совсем в этом не уверен. А потом произошло закономерное, и потому непоправимое. Она шагнула с моста в пространство и полетела вниз – как и всякой слезе, ей предстояло сорваться, скатиться по щеке, оставляя за собой мокрую дорожку. Река приняла ее беззвучно и с радостью, темная вода жадно проглотила тело, сделала вид, будто ничего не случилось. Я перешел через мост, не вынимая из карманов рук. На другой стороне было то же самое – тротуары, фонари и афиши. Блестела мокрым асфальтом пустая дорога, где-то тяжело урчал грузовик, а в некоторых окнах уже горел свет. Ничто здесь не напоминало о плачущем мире. Ничто, кроме меня. А я уходил прочь и думал, как тяжело, наверное, быть миром, и как часто ему приходится плакать. Больше мне никогда не удавалось увидеть ее фигуру на середине моста.(Четыре)
По его бело-розовой морде ползали мухи. Он нагнулся ко мне и, с трудом открывая клыкастую пасть, прошептал: – Азхаатот распял Иихсуса…(Пять)
Скрипя зубами и нервами, ты преодолеваешь последние ступени винтовой лестницы и оказываешься на площадке, венчающей маяк. Здесь совершенно пусто. Нет ни фонаря, ни фонарщика – только огромное, во все мироздание, звездное небо. Здесь нет музыки, только мягкая, изначальная тишина. И ты вдруг понимаешь, что так и должно быть, – музыка сталью звучала в тебе, призывая сюда, на самый верх мироздания, в точку отсчета. Тебе спокойно и немного смешно. Ты видишь цепочку своих следов, ведущую к краю. Ступая след в след, проходишь и внимательно смотришь вдаль. Гладкая как зеркало равнина, простирающаяся во все стороны до самого горизонта. Этот маяк – не для кораблей, он для живых душ. Вон они – темные силуэты, медленно бредущие по равнине к маяку. Каждый из них слышит предчувствие музыки в самом себе и идет сюда, чтобы воплотить это предчувствие в реальность. Кто-то так и не достигнет цели, кто-то справится с обитателями винтовой лестницы и, подобно тебе, поднимется на вершину, чтобы встретить самое главное испытание. Ты киваешь им и делаешь шаг вперед, наружу. Здесь, наверху, возможно все.(Я)
Теперь почти не страдаю. Больше не пожираю самое себя. Все уже сожрано. Он научил меня многим вещам, в том числе – бросать совести подачки. Символические наказания, символические благодеяния, символические искупления – ими так легко прикрыть обнаженный костяк души, с которого давно обглодано все мясо. Я подаю нищим. Я помогаю старушкам перейти через дорогу. Я не пью водку. На работе меня ставят в пример остальным, а жена не может понять, почему вдруг ее благоверный стал так обходителен и внимателен. Ответ прост. Я убиваю людей. Жду их в подъездах, стоя с отсутствующим видом у лифта и разговаривая по телефону. – Да, зай, все понял, так и сделаю. – …. – Конечно, купил, не переживай. – …. – Нет, зайцев не было, взял медвежонка. Но ведь ей все равно понравится, правда? Они не способны настороженно относиться к человеку, болтающему по мобильнику об игрушечных зверушках. Они расслабляются. Они поворачиваются спиной. Они улыбаются, когда я в последнюю секунду запрыгиваю в лифт вслед за ними. Некоторые продолжают улыбаться, даже увидев нож. Правду говорят, первое впечатление всегда самое сильное. Иногда, если все идет особенно хорошо, если удары ложатся легко и верно, если жертва, лишенная возможности кричать, еще может понимать происходящее, я наклоняюсь и прикладываю сотовый к ее уху, давая в последние секунды жизни услышать того, с кем я на самом деле говорил. Того, кто ждет их на другой стороне. Свиноголового. Месяц назад я выбрался за город, в один из тех уютных, состоящих из не первой свежести деревянных домов, небольших поселков, что вырастают на окраинах крупных городов, как опята на пнях. Я пришел сюда пешком, отдохнул в небольшой березовой рощице, выбрался на главную улицу поселка. Здесь были не только симпатичные деревянные домики с палисадниками и неизменными алоэ на подоконниках. Кое-где, словно инопланетные монстры среди безобидных гномов, вздымались громадины современных красно-кирпичных двух- и трехэтажных коттеджей, отличающихся странной извращенной архитектурой и злобными черными собаками у дверей. Дома тянулись с двух сторон вдоль вполне прилично заасфальтированной дороги. Меня почему-то беспокоили фонари. Их было много, но не хватало, чтобы осветить всю улицу, и на середине дороги я чувствовал себя вполне уверенно. Разбивать фонари не хотелось, это могло привлечь внимание, но, похоже, ничего другого не оставалось. Потом раздались крики. Гневно вопил неопрятного вида мужчина, стоящий перед дверью небольшого, крашенного синей краской дома. Над дверью висел потухший фонарь. Кричавший был сильно пьян. Его ощутимо покачивало, и он был вынужден опереться рукой на стену, чтобы сохранить хотя бы остатки равновесия. Другой рукой он долбил в дверь, сопровождая каждый удар громкой бранью: – Твою мать, открывай, стерва поганая! Открывай, мразь! Я, улыбаясь, направился к нему. В это время рядом с дверью, в которую безуспешно стучал мужичонка, вдруг осветилось окно. – Пошел отсюда, подонок! – раздался женский голос, наполненный безвыходным отчаянием и злобой. – Не пущу! Мужик свирепо захрипел: – Открывай, сказал, корова! Быстро! Убью падлу!! В ответ раздалось: – Иди отсюда! Не открою! Сам открывай, если сможешь, козел! Мужик попытался было допрыгнуть до окна, но ему не удалось, более того, пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться на ногах после своей попытки. Некоторое время он очумело пошатывался, а потом снова заорал: – Людка! Ты у меня это брось, а то ведь зашибу! Сама знаешь! За окном ничего не менялось. Мужик подождал немного и снова принялся колотить в дверь, выкрикивая ругательства и угрозы. Я подошел к нему сзади, легонько хлопнул по плечу: – Здравствуйте. Он перестал стучать, повернул голову, окинул меня тупым взглядом совершенно осоловевших глаз, пробормотал: «Здорово». – Что-нибудь стряслось? – как можно мягче спросил я. – Да, едрить твою. Стряслось. Жена, сволочь, домой не пускает. Я кивнул: – Понимаю. – Да ни хрена ты не понимаешь, – перебил мужик и ткнул меня рукой в грудь. – А ты кто такой? Тебе-то чего здесь надо? А? – Просто… Он чуть качнулся и снова ткнул меня в грудь, на этот раз агрессивнее: – Просто? Ни хрена не просто! Не надо учить! Это, твою мать, мой дом и моя жена, правильно? – Правильно. – Вот-вот, сука! Моя жена! Что хочу, то с ней и делаю, хоть убью! Хозяин! В подтверждение своих слов он стукнул себя кулаком в грудь, чуть не опрокинувшись на спину, и, убежденный в полной победе над неизвестным прохожим, продолжил донимать бедную дверь. Тут я шагнул к нему, выхватывая тесак. Почуяв неладное, он обернулся, но широкое лезвие, описав в воздухе дугу, уже опускалось ему в основание шеи. Удар вышел удачным. Голова, глухо ударившись о деревянную стену, упала в траву, покрывавшую площадку перед дверью. Кровь широкой струей хлынула из страшной раны, заливая все вокруг. Я постучал во все еще светящееся окошко. Из-за него донеслось грубое: – Чего надо? – Извините. Людмила, кажется? Вашему мужу плохо. В окне возник темный силуэт. В голосе хозяйки теперь ясно сквозила тревога, смешанная с сомнением: – Что такое? Что случилось? Я макнул пальцы в расплывшуюся у ног темную лужу, выпрямился и сказал: – Не знаю точно. У него кровь горлом пошла. В подтверждение своих слов мазнул пальцами по стеклу, оставляя на нем кровавые полоски, и, не удержавшись, хихикнул. Женщина за окном испуганно вскрикнула: – О господи! Толя! Толенька! Силуэт исчез. Быстрые шаги, скрип ступеней. Я поднял за волосы голову убитого, и в следующую секунду дверь открылась. На пороге стояла хозяйка – еще не старая полнеющая женщина в домашнем засаленном халате и бигудях. Расширенные от страха глаза ее в первый момент не различили ничего в темноте. Я улыбался ей, протягивая вперед левой рукой голову мужа, а правой – занося для удара окровавленный тесак. Несколько мгновений мы стояли в полной тишине друг напротив друга. А когда она закричала, я ударил.(Иду)
Время бессмертно. И поэтому так спешит, мчится вперед, кусает себя за край хвоста, сворачиваясь в идеальное кольцо, вращение которого доставляет нам столько хлопот. В который уже раз снег сошел, на город опустилась весна, заполнив улицы долгожданным теплом сбывающихся надежд. В такую пору пытаться усидеть дома – все равно что разводить огонь трением. Глупо и бесполезно. Весна находилась с противоположной стороны оконного стекла, и пристальный взгляд ее выдержать было невозможно. – Прогуляюсь, – сказал я себе вслух, голос мой болезненно отозвался в пустой квартире. – Недолго. Просто пройдусь. Прихожая, ботинки, куртка, ключи. Серые ступени лестницы. Выйдя из подъезда, я с наслаждением вдохнул темноту – влажный запах земли и молодой листвы освежил мою голову, разбавил застоявшееся за день озеро мыслей. Майские ночи не бывают одинаковыми, каждая из них неповторима, но в городах все они состоят из победившей зелени, мягкой пустоты неба и отражений огней на асфальте. Только майская ночь не может уместиться в окне моей кухни. Я задрал голову. Вон оно. Такое же, как десятки вокруг. Может, это и не мое окно вовсе. Может, за ним сидит кто-то бесформенный и безликий, единственный обитатель собственного аквариума. Он смотрит оттуда, сверху, на меня и не понимает, зачем я нужен. И криво ухмыляясь свиным рылом, прихлебывает остывший чай из кружки с почти стертым именем на боку.(Искать)
В первую нашу встречу он объяснил мне, как все закончится. Сказал, что я пойму, когда наступит время выбирать финал. Так и случилось. Весь день я промотался по городу, голодный, ни в чем не уверенный, скучный, как кусок мыла. Заходил в картинные галереи и смотрел на отражения чужих душ, развешанные по стенам. Забрел в исторический музей и внимательно изучал древние остатки чужих жизней. Гулял по магазинам, вглядывался в ряды консервных банок и лица хмурых продавцов. Зайцем ездил в общественном транспорте, равнодушно встречая истерически злобные взгляды кондукторов. И нигде не мог найти ответа. Я растворился в своем вопросе, сам вновь стал дрожащим и неуверенным, как невозможность найти единственно правильное решение, сам разделился на два пути, врос в землю указательным столбом на развилке меж двух дорог, ведущих в бесконечность. Одна из них была широкой и выложена ровным плотным камнем. Вторая – узенькая тропка, утонувшая в вонючей грязи, заросшая колючим кустарником. И я не мог даже понять, по какой из них придется идти, чтобы прекратиться. Я был лишь столбом, к которому прибиты два замшелых деревянных указателя со стершимися короткими надписями. На меня садились вороны, на меня мочились собаки, я зарастал паутиной, а мальчишки вырезали на мне ругательства. Я покрывался трещинами, гнил под дождем, и муравьи прорыли во мне ходы, и птицы вили на мне гнезда – я был лишь столбом, лишь старым дорожным указателем. Но не в моих силах было остаться на этом перекрестке – надо было выбрать. Я шел по тротуару, а вокруг неспешно кружились в воздухе красно-желтые листья, равнодушные, как тупые автомобили на дороге, как нависающие над улицей громады домов. Они не могли ничего посоветовать, они просто падали, сорванные, уже умирающие. А убийца-ветер смущенно шептал что-то в остатках крон, и блеклые рваные тучи обнимали тусклое солнце, беспечно поднявшееся над тлеющим кострищем города. Побывав в каждом подвале, заглянув во все окна, глаза и лужи, я вернулся на вокзал и сел в электричку. Азхаатот распял Иихсуса. В этом все дело. Есть вещи, которые не исправить. Есть механизмы, которые не починить. Человек – как раз такой механизм. Когда что-то ломается, сколько ни склеивай, сколько ни сшивай, сколько ни заматывай изолентой, прежнего не вернуть. Надо выбрасывать. Я проснулся в опустевшем вагоне. За окном нельзя было ничего различить, но электричка определенно не двигалась. Поднявшись, я медленно вышел в тамбур. Двери оказались распахнуты, а за ними находился самый обычный перрон, каких в любых пригородах многие десятки. Ни единого человека, ни единого огонька. Пустота и тишина. Захлопнув с шипением двери за моей спиной, электричка умчалась в ночь. Я даже не обернулся. Она больше не имела значения. С этой станции мне уже не уехать. Конечная. Темнота злорадно сжималась вокруг, от ее привычного дружелюбия не осталось и следа. Фонарь слабо помаргивал, бросая отсветы на часы, стрелки которых не двигались. Ветер легко сорвал объявление со стены, пронес его мимо, и удалось увидеть, что напечатанное на клочке бумаги не имело смысла – просто набор букв и цифр. Оглядевшись, я понял, что за пределами станции нет ничего, кроме ночи. Бутафория. Чтоб было, где сойти с поезда. – Привет участникам соревнований! – рявкнул голос, и я вздрогнул. – Физкульт-ура! Он доносился из здания станции, откуда-то из-за стройного ряда турникетов. В нем хватало живой эмоциональности, но ее перекрывала явная машинная хрипотца. Это была запись. – В здоровом теле – здоровый дух! – заявил голос и засмеялся. Я пошел к его источнику. Страх легко покалывал сердце, словно перед экзаменом или свиданием. Происходящее само по себе не могло испугать меня, но вот то, к чему оно приведет, вызывало желание забиться в угол и заскулить. Впрочем, я давно к этому готовился. – Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! – надрывался невидимый оратор. – Главное не победа, а участие! Я добрался до турникетов. Ни один из них не рискнул остановить меня. Перед окошками касс стояло ржавое инвалидное кресло, к спинке которого длинными гвоздями был прибит полуразложившийся труп. Голова его запрокинулась назад, заплесневевшая кожа на щеках оказалась разрезана таким образом, чтобы не мешать нижней челюсти отвиснуть до самой груди. В расширенный таким образом провал рта был вставлен массивный диктофон, динамик которого и воспроизводил торжественную речь. – Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! – поделился мудростью мертвец. Я согласно кивнул. И в следующее мгновение увидел в стекле кассы отражение того, кто бесшумно подходил ко мне сзади. Массивный силуэт, рваное старое пальто, отвисшие уши на макушке, маленькие, близко посаженные глазки. Клыки. Клыки. Клыки. Он пришел выбросить пришедшее в негодность устройство. И можно было бежать, прятаться, скрываться, надеясь на чудо, умоляя о пощаде. А можно – развернуться и встретить судьбу лицом к лицу, не заботясь о том, что будет потом. Ведь результат неизвестен нам обоим: кто-то обретет инвалидное кресло и несколько толстых гвоздей, а кто-то – рваное пальто и рыло. Азхаатот распял Иихсуса. – Пусть победит сильнейший! – крикнул за спиной мертвец.Гарь
Opens I mouth, for make noise in I’s hurt, and say of fire is come through I, and rise, with grits of bright, in neath of old black sky. Alan Moore, «Voice of the Fire»Старуха сидела в красном углу, прямо под образами. Впрочем, это только в первые несколько мгновений показалась она Игнату старухой. Когда глаза его привыкли к полумраку, стало ясно, что до старости ей еще далеко – обычная средних лет баба, неприятно полная и рано поседевшая, облаченная в грязную исподнюю рубаху и не менее грязную душегрейку. Она взгромоздилась на лавку с ногами, опустила голову меж коленей и смотрела на вошедших мутными глазами, по-совиному круглыми и пустыми. Дед тоже не сводил взгляда с кликуши. Он стоял посреди горницы, ссутулившись, как обычно, чуть наклонив голову набок. Не было в его позе ни малейшего напряжения – так человек изучает пусть и важную, но привычную, рутинную работу, которую предстоит сделать: дыру, например, в крыше залатать или сено в стог собрать. Неспешно оценивает, обдумывает, примеривается, с какого края сподручнее подступиться. Сам Игнат, конечно, боялся. Хоть и думалось прежде, будто после того, что довелось увидеть в старой церквушке на берегу возле Работок, страху куда сложнее станет находить дорогу в его сердце, а все одно – подрагивают колени, и под ребрами похолодело, и пальцы вцепились в штанину так, что клещами не оторвать. Он переводил взгляд со старухи на деда и обратно, в любой момент готовый броситься к выходу. – Ну! – первым молчание нарушило существо на лавке. – Спрашивай, коли пришел! Голос был не женский, но и не мужской. Сиплый, неестественно низкий, он выходил изо рта, полного длинных желтых зубов, но рождался, похоже, вовсе не в горле, а гораздо глубже. Словно что-то внутри этого обрюзгшего тела лепило слова из голода и безумия, а затем выталкивало их наружу одно за другим. – Не волнуйся, спрошу, – сказал дед, прищурившись. – Только как мне тебя называть? – Кузьмой зови, – прохрипело в ответ. – Кузьма Удавленник я. – А по чину кто? – Чин мой невысок, но уж не ниже поручика. – Хорошо, Кузьма. А откуда ты взялся? Кто тебя посадил? – Не скажу, – лицо одержимой исказилось ухмылкой. – Не скажу! Батюшка-благодетель без имени ехал на повозке, утопленниками да удавленниками запряженной, и меня сюда закинул. А кто его попросил об этом да что взамен отдал – не скажу. – Давно это случилось? – Давнехонько, – вздох звучал совсем по-женски, устало и отрешенно. – Много лет минуло. Отдыхал я сперва, отсыпался да отъедался, а теперь скучно мне стало. – А раньше сидел в ком? – Сиживал. Все по девкам обычно, но, бывало, и мужичков мне поручали. Однажды даже инок достался. Эх, и воевали мы с ним! Тут спокойнее. – Один ты там? – Почему один? Нет, у меня тут цельное хозяйство. И собака есть, и кошка, и кукушка. Змея есть. Прежде чем дед успел что-либо сказать, кликуша запрокинула голову, широко распахнув рот. Из этой черной ямы послышалось шипение. Негромкое, но отчетливое посреди сплошной тишины. Игнат моргнул от неожиданности, и в этот момент почудилось ему, будто там, между зубов, и вправду мелькнула треугольная голова гадюки с крохотным раздвоенным языком. Мелькнула – и скрылась, словно устрашившись тусклого света. Кликуша захлопнула пасть, снова заулыбалась: – Нельзя мне уходить, дурак. Нельзя скотину бросать. – Оно и видно, – пробормотал дед. – Тебя, поди, ни крестом, ни ладаном не вывести? – А попробуй! – хихикнула тварь под образами. – Попробуй, Ефимушка-мастер! Как знать, может, и получится. Ежели что, так я уйду, но прежде сгубишь ты это тело и душу эту невинную. Она ведь непорочная совсем, жизнь прожила, мужика не отведав. Ей-ей, анафема мне, ежели лгу! И старуха снова загоготала. – Откуда ты меня знаешь? – Тебя все знают, Ефимушка-мастер, Ефимушка-расстрига, Иудово семя. Ты у нас – там, внизу – в большом почете. На железных воротах крюк особый для тебя заготовлен, по сотне железных зубов каждый день на тебя точат. Многих знатных бригадиров и полковников отправил ты обратно в пекло, много нашего брата повычитал. Да только меня тебе не отчитать, ясно?! Я прижился здесь, корни пустил. Я тут хозяин, и любые заклинания твои бесполезны! – Посмотрим, – сказал дед. Голос его звучал ровно и спокойно, но появилась в нем странная, непривычная нотка. – Игнат, доставай требник. Требник Петра Могилы являл собой главное сокровище и главное оружие деда. Ухаживать за этой книгой и таскать ее было основной обязанностью Игната. Толстенный том весил немало, и за полгода, что мальчишка провел у старого экзорсиста в услужении, он успел свыкнуться с угрюмой тяжестью в заплечном мешке. Время от времени он должен был вытаскивать плотный сверток на свет Божий, разворачивать его, заново завязывать ослабившиеся тесемки, что стягивали расползающиеся веленевые листы, чистить кожу переплета и медь застежек. Читать он не умел и, хотя дед успел дать ему несколько уроков, научиться не стремился. Разводить костер, ставить силки, варить похлебку и штопать одежду, носить провиант и книги – такая жизнь вполне его устраивала. А мудрость, молитвы и темные тайны пусть осваивают те, кому есть до них охота. Требник перекочевал в руки деда. Тот с невозмутимым видом послюнявил палец и принялся переворачивать страницы в поисках нужной молитвы. Массивный фолиант он держал на весу без всякого усилия, чем снова поразил Игната. При нем книга Могилы пускалась в ход всего дважды, и оба раза бесы цеплялись за своих жертв до последнего, бились и сопротивлялись по часу, а то и более. Но от начала до конца отчитки дед не выпускал требник из рук, бледных и тощих, невесть откуда черпающих силу. Когда он работал, усталость не брала его. Кликуша вытянула вперед голову, впилась птичьим взглядом в лицо старика. – Эвон! Книжицу прихватил! – гортанно выкрикнула она. – У Исуса не было книжек-то! – У меня и ученик всего один, – хмыкнул дед, не прекращая листать. – Не прикидывайся, не лебези перед Ним, не надо. Я ж тебя насквозь вижу, душу твою мертвую, прокопченную, прекрасно разглядел. Ведь не веришь в Исуса, расстрига?! Лишил он тебя своей благодати? Ты ж не признаешь его, когда встретишь! Игнат прикусил губу. Откуда эта… это создание знает о том, что случилось в Работках? Знает ли? Видело ли оно процессию из белеющих в полумраке фигур, тянущуюся к полуразрушенной церкви на берегу, и обитателя этой церкви, с головой, охваченной пламенем, в котором метались страшные крылатые силуэты? Слышало ли речи того, кто провозгласил себя вернувшимся Спасителем? И почему так упорно именует оно старика расстригой? Дед даже бровью не повел. Отыскал нужную страницу, кашлянул, спросил буднично: – Ну что, Кузьма Удавленник, последний раз спрашиваю: пойдешь добром прочь или упорствовать станешь? Кликуша ничего не ответила, только оскалила мерзкие свои зубы – то ли в ухмылке, то ли в гримасе. Дед пожал плечами, еще раз откашлялся и принялся громко, нараспев, читать молитву Василия Великого к страждущим от демонов. Слова звучали отчетливо и гулко, наполняли приземистую курную избу торжественностью храма, разгоняя сгустившиеся тени. У Игната дух захватило от красоты этих слов, хоть и не впервой довелось ему их слышать. Голос деда рос, избавился от старческой хрипотцы, развернулся во всю свою мощь. Казалось, еще чуть-чуть – и отзовутся на него святые с почерневших образов. Но сидевшая под ними кликуша сперва молчала, а спустя несколько минут принялась посмеиваться – громче и громче: – Щекотно мне! Ой, щекотно! На потуги твои смотреть мочи нет… Исуса не признал, а мной командовать удумал! Она зашлась в беззвучном хохоте, по дряблым щекам побежали слезы. – Ох, Ефим, не смеши меня… я ж других разбужу! Так вся деревня из-за тебя закричит. Скоро-скоро-скоро… будет свадьба, будут девки гулять да пиво пить, с пивом и получат. Луна не сменится, а они уж все заголосят. Дождешься! Дед не обращал внимания на угрозы кликуши. Он перешел к запрещению святого Григория Чудотворца, затем – к молитве от колдовства и действий лукавого. Успокоившись, Игнат прислонился к бревенчатой стене, положил мешок на пол. Никаких сомнений в успехе у него не было, но случай явно выдался сложный. Одержимая не впадала в ярость или в панику, не лаяла и не рычала по-собачьи, она лишь смеялась в ответ на отчитку, да время от времени принималась рассказывать о своем нелегком бытье. Их с дедом голоса перемешивались, сливались в общий гвалт, в котором тонуло все величие записанных некогда митрополитом Петром Могилой молитв, следовавших одна за другой. – Она, несчастная эта, срам свой презирала пуще червей земляных. Трогать себя боялась, но справиться не могла, не умела. Изошла ненавистью к себе, душу наизнанку вывернула, спать ложиться страшилась – сны ее смущали, видения похотливые мучали. Ворота были распахнуты, мне даже стучаться не пришлось… а ты, расстрига, хорошо спишь по ночам? Грехи не подступают, не берут за горло? Не преследует ли тебя, Ефим, запах гари? А? Запах гари?! Старуха снова захохотала – с особым удовольствием, взвизгивая и прихрюкивая. А дед вздрогнул и замолчал. Зажмурил глаза, стиснул зубы. Игнат, очнувшийся от дремы, с изумлением увидел, как дрожат костлявые пальцы наставника, как течет по его лицу крупными каплями пот. Мотнув несколько раз бородой, Ефим вновь открыл требник и принялся читать молитву святого Иоанна Златоуста, но в тот же миг кликуша прервала его: – Ой, опять щекотно! Ты, ненаглядный мой, как помирать соберешься, книжицу эту с собой прихвати! Будешь на железных воротах висеть да нам, добрым господам, почитывать из нее. Это зрелище смешнее, чем свинья, торгующая бисером! Смешнее, чем полоз, рассуждающий об ошибках Евы… Не закончив молитвы, дед захлопнул книгу и, резко повернувшись, шагнул к выходу. Распахнул дверь, сказал Игнату хриплым шепотом: – Пойдем! Кликуша замолкла, опустила лохматую голову. Сквозь свисающие на лицо грязные пряди виднелась змеиная ухмылка. Потрясенный, Игнат вышел следом за наставником и только тут понял, что солнце уже висит над горизонтом. В избу они зашли вскоре после полудня. Несколько часов. Отчитка длилась несколько часов и не принесла результата. Дед, ссутулившись сильнее обычного, объяснял что-то столпившимся у крыльца бабам. Руки его все еще дрожали.
* * *
Пироги с капустой оказались вкуснее остальных, а потому Игнат налегал на них с особым рвением, чем привел хозяйку в восторг. – Кушай, – ласково глядя на него, приговаривала она. – Изголодался, поди, по лесам мотаясь? Игнат кивал, старательно улыбался. Дед сидел напротив и монотонно жевал, погруженный в мрачные раздумья. Хозяйка, дородная и краснощекая женщина, то и дело пыталась разговорить его, но получалось не очень. Хуже, чем пироги. По большей части она болтала сама: – Кликота на Авдотью напала позапрошлой зимой. Никто не знает, откуда это взялось. Да и почем нам узнать-то… начала, бедняжка, в припадках биться. Потом, как весна наступила, принялась по-волчьи выть, по-звериному, по-птичьи кричать. Бывало, уйдет за околицу, на березку возле старого колодца взберется и сидит, кукует во всю глотку. Поначалу посмеивались над ней, вроде как за блаженную почитали. А летом она пророчествовать стала. По мелочи: дядьке моему, нынче покойному уже, рассказала, где у него корова завязла в болоте, еще одному мужику объявила, что дочь у него гуляет, значит, до свадьбы. Одно, другое… погоду предсказывает, говорит, у кого роды тяжелые будут, у кого скотина сдохнет. То есть, выходит, польза от нее есть. Уж какая-никакая… – От бесов пользы не бывает. – Конечно. Ну мы же понимаем, грешно это. На всех порча, когда в деревне нечистый в избе живет, а люди к нему на поклон ходят, еду дарят и погадать просят. А какой-такой Кузьма Удавленник? Бог его знает! Вроде, и не было здесь такого никогда. Ждали, что колдуна она на чистую воду выведет – того, который ей беса-то посадил, но без толку. Тебе, батюшка, не сказала? – Нет. Отбрехалась. – Вот-вот. Может, чужой кто. Мне тятька, помню, однажды сказывал, как у них в селе кликуша была. Ту калика проклял… она его ночевать не пустила, он и проклял. Может, у нас похоже получилось? Не знаю, только мы в конце-то концов поняли, что надобно беса изгнать. Крестом пробовали его выпроваживать, водой святой – страх что делается. Мучается жутко, причем видать, что это сама Авдотья мучается, бес ее изводит. Приглашали попов – так они отказываются, не берутся. Был монах один проездом, пытался отчитать, но ничего не вышло. С сердцем у него плохо стало, еле выходили. Совсем уж отчаялись, и тут вдруг вы с внучком. Мы хоть и живем, почитай, в глухомани, а про тебя, батюшка Ефим, слыхали. – И что же обо мне говорят? – Да всякое болтают. Мол, супротив нечистой силы борешься. Ты, мол, ни разу не отступился, ни разу не сдался, всех, кому брался помогать, от врага избавил. Ересь, мол, на дух не переносишь, раскольники тебя боятся как огня. Дед побледнел. – Это кто же такое сказал? – вкрадчиво, недобро спросил он. – Ну, кто… – замялась хозяйка, опустила глаза. – Кто… люди. – Что за люди? – Сама Авдотья и сказала, – подал голос хозяин, отдыхавший после ужина на печи. – Сама. – Да, – подхватила его жена, залившись краской. – Авдотья. Мы спрашивали ее, мол, как тебе помочь? Кого позвать? Она и говорит: есть один человек, позовите старика Ефима Архипова, он сейчас на Макарьевской ярмарке. Ну и… – Прямо так и сказала: раскольники боятся как огня? – Да, чисто ее слова. Дед кивнул, давая понять, что все понял. – Ладно, – сквозь зубы процедил он после пары минут неловкого молчания. – Вот еще одно дело: намечается ли в деревне свадьба в ближайшие дни? – Намечается. Послезавтра, кажись. У Фрола Бороды старший сын женится. – Плохо, – вздохнул дед. – Отменить бы. Или, на крайний случай, все пиво вылить. Хозяйка только глазами захлопала, а хозяин коротко хохотнул. – Чтобы Борода пиво вылил?! Да ни в жизнь! – Поплатится, значит. – Его не запугать. – Ясно, – сказал дед, поднимаясь. – Ну, добро. Утро вечера мудренее, придумаем что-нибудь. Спасибо за угощение, матушка, нам пора на покой. Умаялись. – И то верно, день у вас тяжелый выдался. Ступайте, отдыхайте, – она с нежностью посмотрела на Игната. – А ты вылитый дедушка. Такой же молчун. Если хочешь, возьми с собой пирожок. Игнат помотал головой, растянул губы в улыбке. Пирогов с капустой больше не осталось, да и он, похоже, наелся досыта. Надо же. Впервые за пару месяцев. Хозяйка, как и многие другие люди, встречавшиеся им за время странствий, приняла его за настоящего дедова внука. На самом деле они вовсе не приходились друг другу родственниками. Седобородый монах подобрал замерзающего мальчишку возле Сенной площади Нижнего Новгорода ровно полгода назад, в конце зимы, в самые лютые холода. Выходил, справил кое-какую одежду по погоде, оставил при себе. Ни отца, ни матери, ни других родных у Игната не осталось, он с радостью увязался за странным стариком, безропотно перенося все тяготы кочевой жизни. Поначалу планировал продержаться рядом до тепла, а затем пойти своей дорогой, но вот уже и лето завершается, а он по-прежнему в учениках. Мотается по непролазным керженским чащам да по глухим селам, выручает ветхого мудреца, которому не под силу самому волочить повсюду свой нехитрый скарб. Ловит рыбу и зайца, время от времени столуется в крестьянских домах. Все лучше, чем воровством промышлять или попрошайничать. О том, чтобы покинуть деда, он давно забыл и думать. Да и резона никакого в этом нет – новая зима не за горами. Если бы не старая церковь в Работках, если бы не жуткая фигура с пылающей головой, вновь и вновь являющаяся по ночам… На сеновале, где им отвели место для отдыха, Игнат набрался храбрости и спросил деда: – А почему она… почему бес называл тебя расстригой? Ефим молчал. В темноте не было видно его лица, и Игнат уже решил, что зря только потревожил старика, когда тот наконец заговорил: – Потому что так и есть. Грех на мне большой. Великий. Пытаюсь искупить. – Бес знает о нем? – Знает. Затем и позвал сюда, чтобы с пути искупления сбить. Чтобы посрамить. Но я не сдамся, одолею его. – А как? Молитвы сегодня не помогли. Дед закряхтел, поворачиваясь на бок, потом вздохнул. Ему не хотелось говорить. – Будет сложно. Я всегда думал, что бес, посаженный в человека, не получает полной власти над ним, над его душой, что он только сливается с этой душой, поражает ее, как плесень поражает доброе дерево. И когда ты читаешь молитву, то обращаешься не к демону, а к человеку. Молитва дает ему силу, помогает вычистить плесень, изгнать нечистого из себя. Понимаешь? Не ты прогоняешь беса, а сам одержимый. Но здесь, с Авдотьей, иначе. В том, что говорило с нами сегодня, от нее ничего не осталось. Молитвы уходят в пустоту. Нужно придумать другой способ. – Ты встречал похожее раньше? – Не доводилось. Но хорошо, что встретил. – Почему? – Потому что, когда одержу верх над этим бесом, стану мудрее. Спи. Игнат закрыл глаза. Терпкий запах свежего сена наполнял сознание тишиной и покоем. Замирали родившиеся за день мысли, остывали тревоги. Его спутник оказался вовсе не монахом, а попом-расстригой с темным секретом в прошлом. Наверное, нужно все-таки держаться от него подальше. Вернуться в Нижний, отыскать друзей, сколотить ватагу. За лето он здорово вытянулся и окреп. Завтра. Все завтра. Сон навалился тяжелой, мягкой глыбой, окутал плотным туманом без верха и низа. Игнат проваливался ниже и ниже, на самое дно мрака – туда, где на высоком берегу Волги возвышалась старая, почерневшая от времени церквушка, окруженная бурьяном. Сквозь заросли крапивы и репейника, по единственной узкой тропе шли они с дедом за процессией облаченных в белые саваны баб и мужиков. А навстречу им, приветственно раскинув руки, двигалось нечто с пылающими бесами, вьющимися вокруг головы. Невероятным усилием воли Игнат вынырнул из кошмара. Несколько мгновений лежал, хватая ртом воздух, слушая стрекот сверчков и ровное дыхание рядом. Жаловаться на видение было бесполезно. Старик уже не раз растолковывал, что обитатель той церкви на берегу сам себя стал именовать Христом, то ли из безумия, то ли из умысла мошеннического. Что на макушке его был обруч, к которому на тонкой проволоке крепились фигуры ангелов, из писчей бумаги вырезанные да раскрашенные. В сумерках и казалось, будто возле головы еретика, когда он шагает, движутся огненные фигурки. Но только вовсе не это пугало Игната. Взгляд самозваного Спасителя, устремленный на Ефима, – вот от чего кровь стыла в жилах. – Кликуша говорила про запах гари, – сказал он, сам не понимая зачем. – Что она имела в виду? Дед не ответил.* * *
Мальчишка проснулся из-за тревожного предчувствия. Снаружи было еще темно и тихо. Старика рядом не оказалось. Игнат перевернулся на спину, укрылся сеном. Нужно спать, понежиться на мягком, пока есть возможность. В этот самый миг зашуршало, зашелестело сено у входа, заскрипела лестница, ведущая на навес. – Игнат? – шепотом позвал дед. – А? – Вставай, пойдем. Поторапливайся. Собираться недолго: обмотки, лапти, шнурки, схватил мешок – и готов. Узкоплечий силуэт старика едва можно было различить на фоне проникающего сквозь дверь лунного сияния. – Куда в такую рань? – спросил Игнат. – Надо до петухов управиться, – ответил дед снова шепотом. – Вот куда. Тише ступай, смотри, скотину какую не спугни. Не шуми! Крадучись, они пересекли двор, вышли на улицу. Ясная августовская ночь висела над спящей деревней, укутывала ее мягкой, уютной тишиной. Только где-то на дальнем конце редко тявкала собака. Дед, не оглядываясь, направился к избе Авдотьи. Игнат едва поспевал за ним. Наверно, старик хочет убить одержимую, вдруг подумал он. Нелепая мысль казалась до ужаса правдоподобной, но вызвала лишь улыбку. Наверняка дело в другом… Поразмыслить над иными вариантами он не успел. У Авдотьиного крыльца дед обернулся, нагнулся к нему, заглянул в глаза: – Будешь сам читать. – Что? – Тише! Сам ее отчитаешь. Мои грехи не позволяют взять власть над этим бесом. У тебя же грехов, почитай, и нет. Чистая душа стоит больше правильно расставленных слов в молитве! – Но я ж грамоте не обучен. – Не важно. Помнишь же хоть что-то? – Помню, кажись. – Ну и замечательно. А я рядом буду, подскажу всегда. – Не знаю. – Некогда сомневаться. Готов? – Готов, – холодея, ответил Игнат. – Молодец, – подбодрил дед. – Пойдем. Пока она… пока проклятый Кузьма дремлет. Они поднялись на крыльцо, Ефим открыл дверь, пропуская Игната внутрь. Мальчишка переступил порог и в полосе неверного света увидел старуху, все так же сидящую на лавке в красном углу, опустив голову между коленей. Совиный взгляд уперся ему в лицо. Похоже, она вовсе и не думала дремать. Игнат открыл рот, чтобы сказать об этом, но тут его толкнули в спину – да так, что, выронив мешок с книгой, он рухнул лицом вниз, растянулся на дощатом полу. Захлопнулась позади дверь, погрузив избу в полную темноту. – Он твой, – произнес дед чужим голосом. Громыхнула где-то во мраке скамья, и на Игната, успевшего только поднять голову, обрушилось нечто огромное и тяжелое. Воздух вылетел из груди, пальцы погрузились в отвратительно-податливую холодную плоть старухи. Не издав ни звука, она перевернула его на спину, взгромоздилась сверху, прижалась бесформенным туловищем, вцепилась острыми ногтями в волосы. Сальные пряди лезли в глаза. Вдохнув наконец достаточно воздуха, Игнат попытался закричать, но тут одержимая впилась в его губы своей уродливой пастью, и липкий язык ее, протиснувшись меж зубов, проник ему в рот, затем в горло, добрался до желудка. Он полз и полз, скользкий и ледяной, словно бесконечная змея, перетекал из одного тела в другое. Игнат уже не сопротивлялся, его била крупная дрожь, глаза наполнились слезами, в голове помутилось. Тьма вокруг полнилась отсветами пламени, искрами и отзвуками позабытых голосов. Когда, спустя вечность, старуха обмякла и сползла с него, дыша тяжело, с тонким присвистом, Игнат, несмотря на тошноту, попытался подняться. Но тут же кто-то высокий и тощий оказался рядом, ударил по затылку – и он, проломив пол, рухнул в пропасть, туда, где среди репья и крапивы шли по узкой тропе простоволосые люди в саванах, кажущихся ослепительно-белыми на фоне подступающей ночи. Они с дедом брели в десяти шагах позади. В вязком влажном воздухе лениво гудели комары. Темнела по левую руку река, непроглядной стеной вздымался лес на противоположном пологом берегу. Шумные Работки остались где-то далеко, а здесь повсюду царило величественное безмолвие. Тропа обогнула большой развесистый дуб, и их взглядам открылась старая деревянная церковь возле самого обрыва. Черный, отчетливый силуэт врезался в серое небо, разрывал его пополам. Сквозь щели между рассохшихся бревен проступало багровое сияние, будто бы внутри горел костер. Скорее всего, так оно и было. Навстречу процессии из дверей выступил человек в молочно-белом саване. Был он высок ростом, плечист и, наверное, красив. Вокруг головы его висели в пустоте маленькие существа с распростертыми крыльями. Ангелы, выкрашенные алым. Последние закатные лучи, скользя по ним, обращали краску в пламя. Пришедшие раскольники кланялись хозяину, которого считали возвратившимся Спасителем, и проходили внутрь. Проводив взглядом последнего из них, он повернулся к приближающемуся деду.
– Ефим! Уходи прочь. Ты здесь не нужен. Тот слегка наклонил голову, развел руки в стороны, словно готовясь к схватке: – Это еще почему? – Не признал меня? – Нет, – прищурился дед. – С чего бы? – Мы встречались с тобой дважды. Сначала в селе Павлов Перевоз на Оке, случайно, а потом далеко на севере, в скиту на Керженце. От скита не осталось ни названия, ни жителей. Ничего, кроме пожарища, давно уже заросшего молодым лесом. Дед отпрянул, глаза его забегали. Игнат впервые видел наставника потерявшим спокойствие, даже испуганным. Старик силился что-то вымолвить, но язык, похоже, не слушался его. – Ты помнишь, но не узнаешь, – говорил человек с ангелами. – Потому что не видишь глубже лица. Ты бессилен против нас. Мы вернемся, один за другим, вернемся в разных обличиях, а ты ничего не сможешь сделать, ведь гарь изуродовала тебя. Там, в глубине. Под одеждой, кожей, мясом и костями. Там пепелище, Ефим. Дед стиснул бороду в кулаке, отступил еще на два шага, потащил за собой Игната, все так же не сводя глаз с лже-Христа. – Но гарь изменила и нас, – продолжалтот. – Мы обратились в прах, затем поднялись из него. В этом кроется наше с тобой главное различие. Ты обуглился изнутри и потух. А я еще горю. Ангелы вокруг его головы вспыхнули огнем. Ярким, обжигающим, беспощадным. Языки пламени взвились до небес, и, даже зажмурившись, Игнат видел их кроваво-красное сияние. Он поднял веки и часто заморгал. Полуденное солнце жгло безжалостно, резало глаза. Игнат лежал на спине посреди лесной поляны, копья сосен в недосягаемой вышине вонзались в бездонно-синее небо. Он попытался перевернуться на бок, и тут обнаружил, что связан. Прочная пеньковая веревка стягивала запястья и локти, колени и лодыжки. Более того – он находился в неглубокой яме, со всех сторон обложенный сухим валежником и пучками соломы. – Эй! – позвал Игнат. Крик отозвался густой болью в затылке, а вместе с болью пришли и воспоминания. Нахлынула тошнота, от омерзения свело скулы. Проклятая старуха, проклятый… – Ох, ты очнулся, – дед Ефим появился в поле зрения, держа в руках плотную охапку хвороста. – Ну, может, и хорошо. – Отпусти меня! – взвыл Игнат. Он понял, что произошло с ним, понял, что собирался сделать старик. – Отпусти! Во мне нет никого! – Оно так только кажется, – сказал дед, пристально глядя на него. – Бесы хитрые, а Кузьма этот – особенно. Затаился, затихарился, как лягушка в траве. Но меня не проведешь. Хватит! – Нет во мне никого, клянусь! – Да тебе-то откуда знать? Уж поверь, порченый обычно долго ни о чем не догадывается. А я видал, как он в тебя перебрался. Сам видал тело его поганое. Узнал мерзавца сразу же. Дед кинул хворост Игнату в ноги, утер рукавом выступивший на лбу пот, вздохнул: – Мы с ним давно знакомы. Он один из тех, что в грех меня ввели тогда. Ефим погрозил Игнату костлявым пальцем: – Больше не выйдет! Не поверю ни единому слову вашему, погань! Вы мне про скорый конец света твердили! Вы меня смутили своими россказнями, обещали вечное спасение через огонь! А затем страхом наполнили и заставили бежать, бросив всех… Голос его сорвался на визг, дед замолк на мгновение, всхлипнул, прижал ладонь к глазам. – Те души несчастные, в скиту, верили мне. Они шли в гарь за мной, как дети за отцом. А вы лишили меня храбрости принять очищение и смерть вместе с ними – и теперь еще смеете винить?! Он вновь закричал, обращаясь к лесу и небу, скрежеща зубами, остервенело тряся кулаками над головой: – Не сдамся! Слышите?! Не скроетесь! Всех вас найду, из-под земли достану! Всех до единого спалю! Клянусь! Эхо захохотало в ответ. Закашлявшись, дед опустился на колени возле ямы, подполз к Игнату, погладил его по волосам, прошептал, глядя прямо в полные слез глаза: – Слышишь, Игнатушка? Прости, но нет другого способа одолеть эту мерзость. Я стар, а они не устают мучить меня. Только обманом. Ложью против лжи. Иначе не выйдет. Не серчай, твое место среди ангелов. Буду молиться за тебя до скончания дней. И ты там замолви за меня словечко, когда придет срок, хорошо? Дрожащими губами он поцеловал Игната в лоб и поднялся. Деловито осмотрел валежник, кивнул и направился к костру, тлевшему чуть в стороне. Выбрал головню побольше, взвесил ее в руке. – Деда, – взмолился Игнат. – Давай не так, а? Давай по-другому… вон хоть ножом. Только не жги. Ефим встал над ним, покачал головой: – Нельзя по-другому, внучок. Помнишь, что я тебе говорил про плесень? Ударом ножа или петлей ее не вывести. Лишь огнем. Он опустил головню, сухой хворост занялся мгновенно. Пламя стало болью и пылало до тех пор, пока не погасло солнце.
Бледен лунный лик
Приобрести жилплощадь Смирновы собирались давно. Редкие выходные обходились без того, чтобы чета не отправлялась на осмотр очередного варианта. Обычно это ни к чему не приводило. Но однажды, возвращаясь с работы, Алексей купил в киоске газету. В ней и нашлось то самое объявление. Оказалось, что трехкомнатную квартиру продавали за сумму, которую они без особых проблем могли себе позволить. Понятно: первый этаж, дому пятьдесят лет, окраина города, но даже с учетом всех обстоятельств сумма была слишком мала. Алексей не сомневался, что тут не обошлось без подвоха, и, прямо сказав об этом супруге, получил невозмутимый ответ, что за просмотр денег с них никто не возьмет и ничего страшного не случится, если в ближайшую субботу они съездят по указанному адресу и увидят все своими глазами. Возражать Алексей не стал, жена сама договорилась обо всем по телефону. В субботу, когда они прибыли на место, оказалось, что квартира пустует уже почти восемь лет. Бывший жилец умер, а его последняя родственница, внучатая племянница, выходит замуж и уезжает за границу, а потому спешит продать то, что считает нужным, – пусть и по столь низкой цене. Квартира представляла собой три разных размеров комнаты и кухню, соединенные длинным коридором, на одном конце которого находилась входная дверь, а на другом – совмещенный санузел. Внутри не было ничего, кроме пыли, ветхого шкафа, ванны с пожелтевшей эмалью и черного расстроенного пианино, занимавшего почти четверть самой маленькой комнаты. Стены покрывали выцветшие обои, на которых с трудом угадывался рисунок – цветы и витые орнаменты от пола до потолка. Обычная советская безвкусица. Алексея удивило то, как хорошо они держатся. Ему не удалось заметить ни одного отклеившегося уголка, ни одного пузыря, ни одного разошедшегося шва. Впрочем, тогда он только мельком обратил на это внимание. Агент без умолку болтала, расхваливая соседей и систему отопления, с которой, по ее словам, не было проблем уже несколько десятков лет, и вполне профессионально отвлекала клиентов от вдумчивого и тщательного осмотра объекта. Смирнову квартира не нравилась – она показалась ему тусклой и невыразительной, комнаты слишком маленькими, а потолки слишком высокими. Кроме того, он прекрасно понимал, что старый дом, хоть и способен был, по словам агента, простоять еще сто лет, таил в себе целый моток проблем. Трубы, кажущиеся незыблемыми, но способные потечь в любой момент, сгнившая проводка, неизвестно на какую глубину запрятанная в толстые стены, кривой пол, выстеленный трухлявыми скрипучими досками, и еще много такого, о чем ты не будешь иметь понятия до тех пор, пока оно себя не проявит. Но больше всего ему не понравилось то, что его жена, закончив осмотр, сказала с веселой улыбкой: – В самой маленькой можно сделать кабинет, а в средней будет детская. Ну, со временем. Ни разу еще она не строила таких планов. По крайней мере не произносила их вслух. В ответ Смирнов только хмыкнул и пожал плечами. На обратном пути они обсуждали достоинства и недостатки квартиры, и жена, как ни странно, не видела ни одной ложки дегтя, а только трехкомнатную бочку меда площадью в пятьдесят восемь квадратных метров. – Ничего страшного, что не в центре, – щебетала она, поглаживая ладонью его плечо. – На самом деле мне оттуда даже ближе до работы, а тебе почти никакой разницы. – Может быть, – неохотно соглашался Алексей. – Но ведь дом очень старый, хоть об этом подумай. Ему ж пятьдесят лет почти. Я уверен, раз в год эту квартиру соседи сверху заливают. Над ней целых три этажа, на каком-то из них нет-нет да и прорвет трубу, а в перекрытиях и стенах полным-полно уже всяких трещин и щелей. Насчет проводки я тоже переживаю. – Ну, Леш, ну, что ты, в самом деле! Неужели не видел, какие там обои? На них же ни пятнышка, ни пузырька нигде нет. Думаю, с тех пор, как их поклеили – а это уже лет пятнадцать, если не больше, – по ним ничего не текло. И потолок чистый. А проводка – агент же сказала тебе, что она медная и хорошего качества. Хватит уже дуться, отличное место: и остановка недалеко, и супермаркет большой на соседней улице, и в то же время до парка всего десять минут ходу. Самое главное, окна не выходят на дорогу, я невероятно устала жить над бесконечным потоком машин и дышать их выхлопными газами. Вообще район очень чистый, зеленый и спокойный. Что тебе не нравится? – Да все с районом в порядке, – пробормотал Смирнов. – Район действительно отличный. Но вот квартира мне как-то не особенно приглянулась. Не доверяю я ей. Да и возни с ней будет! – Не надо никакой возни! – супруга привстала на цыпочки и легонько поцеловала его в щеку. – Квартира-то практически жилая. Хоть сейчас въезжай. Само собой, «хоть сейчас въезжай» оказалось, мягко говоря, художественным преувеличением. Супруга не собиралась въезжать, пока в новоприобретенном обиталище не будут выровнены полы и потолки, настелен «приличный» линолеум, заменены плинтусы, обои и сантехника, установлены пластиковые окна и решены все возможные проблемы с водопроводом и электричеством. Как ожидалось, Смирнову предстояло разбираться со всем этим самостоятельно. Нельзя сказать, чтобы он не любил работать руками, однако от подобных ответственных дел всегда старался держаться в стороне. Была пятница, начало вечера. Алексей захватил с собой кое-какие инструменты и отпросился с работы чуть раньше, намереваясь плотно заняться квартирой. В выходные стоило наведаться в торговый центр, запастись нужными материалами. Ремонт похож на прыжок с парашютом: чем дольше его откладываешь, тем страшнее становится. Новое жилье действительно находилось недалеко от остановки, но путь пролегал по старой, заросшей аллее, и за все время, пока Смирнов шел по ней, ему не попалось ни одного человека. Вокруг было сумрачно и прохладно. Вечерние тени разрастались, сливались в сплошные стены черноты, прятали в себе деревья, кусты, скамейки, урны и черт знает что еще. Работающий фонарь оказался только один, да и тот стоял над кучей перегруженных баков, не принося особой пользы. С грехом пополам, несколько раз болезненно споткнувшись, Смирнов все же добрался до нужного подъезда. Пару минут искал ключи, и когда, совсем отчаявшись, уже намеревался повернуть обратно, обнаружил их во внутреннем кармане куртки, куда давным-давно ничего не клал. Домофон противно заверещал, но согласился пустить его внутрь. Исцарапанная черная дверь с поблекшими цифрами номера над глазком тоже открылась без проблем. Алексей аккуратно запер ее изнутри, щелкнул выключателем. Он был один на один с пустой квартирой. Человек против четырех комнат и коридора, необитаемых уже целых восемь лет, с тех самых пор, как их предыдущий хозяин умер. Интересно, равнодушно подумал Смирнов, где это произошло. Ему почему-то ясно представилось, что в коридоре. Всего в паре метров от того места, где он сейчас стоял. Хозяин полз. Да, полз к телефону в прихожей, отчаянно цепляясь за остатки сознания, сраженный не то инсультом, не то сердечным приступом. Но какая в самом деле разница! За прошедшие годы отсюда выветрились и запах смерти, и запах жизни. Медленно, осторожно ступая, Алексей прошел по коридору. Скрипели и прогибались под ногами старые рассохшиеся доски, от этих звуков на душе становилось неспокойно. Пожалуй, проще и лучше всего будет постелить поверх досок толстую фанеру, а уже на нее укладывать ламинат или линолеум. Он вошел в самую маленькую из комнат, ту, где было пианино. Сквозь покрытое толстым слоем пыли оконное стекло виднелись аккуратные клумбы, между которыми росли кусты крыжовника. Рядом с одним из них примостилась почерневшая от времени скамеечка. Не иначе, соседки с верхних этажей выходят вечерами посидеть, почесать языки. Новоприбывшей семейной паре тоже будут перемывать косточки, как же без этого. Раздраженно вздохнув, Алексей отвернулся от окна и решил заняться обоями. В конце концов, любое новое нужно начинать с уничтожения остатков старого. Он поискал глазами отслоившийся краешек или вздутие, за которое можно было бы зацепиться, но безрезультатно. Обои сидели плотно и ровно, словно их поклеили всего несколько месяцев назад. – На века делали, да, – пробормотал Смирнов и, с трудом отыскав шов между двумя полотнищами, попытался поддеть край одного из них ногтями. Это тоже оказалось непросто, но все-таки удалось. Обои отставали плохо, рвались, оставляя в пальцах маленькие клочки. Стена под ними была светло-зеленой, банального казенно-казарменного цвета. Обнажив несколько квадратных сантиметров, Алексей увидел черную линию, начерченную, судя по всему, фломастером или химическим карандашом. Какая-то строительная разметка, решил он, но следующим движением оторвал достаточно большой кусок, и стало понятно, что перед ним вовсе не разметка. Это были буквы. Всего две полных, Х и Р, и еще половина третьей, судя по всему, А. Смирнов принялся отдирать бумагу вправо и влево от букв и через несколько минут смог открыть целое слово – ОХРАНИТЬ. К этому времени пальцы у него болели, а под ногти забились сухие остатки клея. Он вытащил из пакета только вчера купленный стальной шпатель, после недолгих поисков обнаружил под ванной ржавый тазик с обломанными краями. Он наполнил тазик водой и, вернувшись в маленькую комнату, с помощью носового платка начал смачивать обои. Вода стекала по ним быстрыми струйками, собиралась в грязные лужицы на пыльном полу, заполняла неровные щели между досками. Когда тазик опустел, Смирнов отложил его в сторону и взялся за шпатель. На этот раз дело пошло быстрее: намокшие обои легко поддавались лезвию и постепенно счищались, открывая слово за словом. «…ВВЕРЯЮ ТРЕМ ЗАМКАМ ОХРАНИТЬ МЕНЯ ОТ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОТ ТОГО КТО ЗА НИМИ ВСКОРМЛЕННЫЙ ВОРОНОМ ВЕДОМЫЙ КРИКОМ ЛУНЫ СТУЧИТСЯ В НИХ ЧЕРНЫМ ГОРЕМ КРАСНЫМ НЕСЧАСТЬЕМ БУДЬ НАДПИСЬ СЛОВОМ БУДЬ СЛОВО СИЛОЙ БУДЬ СИЛА ДЕЛОМ АМИНЬ…» Ни точек, ни запятых. Алексей понял, что перед ним нечто вроде молитвы, или даже заговора, заклинания, призванного защитить своего автора от какой-то демонической силы. Хотя, может, вовсе и не демонической. Он еще раз внимательно перечитал надпись. Не исключено, что тот, кто это писал, имел в виду воров или других злоумышленников. Ничего удивительного, квартира на первом этаже, на окнах нет решеток, район глухой и по ночам совершенно безлюдный, а здесь внутри – одинокий пожилой человек, полностью беззащитный перед любой внешней угрозой и, как большинство стариков, склонный к чрезмерной религиозности. Вполне реально, тронувшись умом, начать писать повсюду всякую мистическую чушь. Смирнов набрал в тазик еще воды и стал обрабатывать противоположную стену. Там тоже были слова. Он освобождал их из многолетнего плена, чувствуя себя археологом, бережно, фрагмент за фрагментом, очищающим покоящуюся в глубине земли древность, с замиранием сердца наблюдая, как разрозненные значки складываются в мрачный узор, как выстраивается из обрывков чужая, давно уже закончившаяся жизнь. Надписи, выполненные черным и красным фломастером, покрывали стены почти полностью. В основном они состояли из отдельных, не связанных друг с другом слов и словосочетаний, вроде «РАЗЛОЖЕНИЕ» или «ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАДОБНОСТЬ», но встречались и более пространные высказывания. Над дверью красовалось «ЧРЕВА ЗАПОЛНЕНЫ ГРЯЗЬЮ И ВО ВЗГЛЯДАХ ТОЛЬКО ГРЕХ Я НЕНАВИЖУ ЭТУ МРАЗЬ». То заклятье, которое Алексей обнаружил первым, повторялось несколько раз, с некоторыми вариациями, и начиналось всегда так «Я НИЧТОЖНЫЙ РАБ БОЖИЙ ИВН…». Последние три буквы могли означать как «Иван», так и инициалы полного имени, но разбираться в этом Смирнову абсолютно не хотелось. Между надписями располагались рисунки – кресты, круги, а также несколько странных конструкций, напоминающих не то снежинку, не то индейский талисман «ловец снов». На одной из стен было в детской примитивной манере нарисовано большое человеческое лицо с широко распахнутым и тщательно закрашенным черным ртом. Алексей прислонился к дверному косяку, ошеломленно осматривая результаты своего труда. Ему удалось освободить от обоев почти всю комнату, кроме полосы вдоль потолка, куда нельзя было дотянуться, и участка стены за и над пианино. Масштаб сумасшествия прежнего владельца квартиры потрясал воображение. Строчки, набранные из разнокалиберных букв, вкривь и вкось тянулись по стенам, опоясывая комнату подобно черным и красным лентам. В разрывах между словами, словно скрепляя собой эти ленты, покоились угловатые изображения крестов или «снежинок», уродливое лицо с разинутым ртом равнодушно пялилось в пустоту. Казалось, в беспрерывном переплетении красного и черного, в мешанине из молитв, рисунков, заклинаний и бессмысленных слов была какая-то своя неуловимая система, своя парадоксальная логика, недоступная здоровому рассудку. Смирнов мог видеть лишь ее упаковку, внешнюю, ничего не значащую сторону, и ему не нравилось это ощущение. Наверное, именно так чувствуют себя шифровальщики, когда им попадается особенно сложный шифр. Перед тобой – лишь бессвязный набор символов, но ты знаешь, за ними что-то скрывается. Что-то невероятно важное. Завозился мобильник в кармане, и Смирнов вздрогнул от неожиданности. Звонила жена, в голосе ее ощутимо сквозило беспокойство. – Леш, ну куда ты пропал? – В квартире я пока. – В квартире! Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени уже?! – Извини. Занялся тут обоями и увлекся немного. – Увлекся он… голодный, наверно, очень. Давай быстрее домой. – Все, зай, выхожу уже. Жди. – Целый вечер жду. Хоть бы позвонил. – Ну прости меня. Сейчас собираюсь и выхожу. Смирнов еще раз окинул взглядом комнату. Пожалуй, стоило покрасить стены заново. На следующей неделе, как следует вооружившись всем необходимым, он разберется с этим бредом. Когда Алексей поворачивал ключ в замке, ему вдруг показалось, что в квартире кто-то ходит. Легкие, шуршащие шаги. Пару минут он прислушивался, но за дверью была тишина.* * *
В понедельник он вернулся с полным комплектом нужных и ненужных инструментов. Выходные прошли не зря – Смирновы провели их в разъездах по хозяйственным магазинам и в Интернете, путешествуя по бесчисленным сайтам, посвященным ремонту во всех его проявлениях. От огромного количества советов, рекомендаций, наставлений и мнений у Алексея к вечеру воскресенья начала болеть голова, и он с радостью и облегчением предвкушал грядущий рабочий день. Теперь этот день закончился, а вечер ремонта наступил. При одной только мысли, что впереди еще десятки подобных вечеров, головная боль возвращалась. Первым делом предстояло закончить с обоями. Или на худой конец начать заканчивать. Смирнов извлек из своего спортивного ранца пульверизатор и несколько шпателей разной ширины и остроты. На этот раз он не собирался тратить время впустую. Только зайдя в маленькую комнату, Алексей понял, что так и не обзавелся стремянкой или хотя бы табуреткой, чтобы иметь возможность обрабатывать стены по всей высоте. – Вот ведь хрень, а! – обиженно выругался он. – Даже не вспомнил ни разу. Лезть на пианино представлялось не лучшим вариантом. Беспомощно оглядевшись, Смирнов с удивлением заметил, что надписи немного изменились. Казалось, в прошлый раз они располагались чуть иначе, да и некоторых слов на месте не обнаружилось. Например, отсутствовала «ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАДОБНОСТЬ». Он точно помнил эту странную нелепицу, помнил, как силился понять, что именно она может означать, а теперь искал ее, но не мог найти. Зато натыкался на то, чего в пятницу вроде бы не было: «СХИЗМАТИК И КОРОЛЬ В МИНУСЕ», «ГОРОДОВОЙ ИДЕТ», «БЛЕДЕН ЛУННЫЙ ЛИК». Последнее повторялось особенно часто, как минимум четыре раза. Мог он пропустить все это? Тишина, заполнявшая все вокруг, внезапно стала живой, враждебной. И сгущающийся сентябрьский вечер за окном больше не выглядел обычным, в нем появилась угроза, ощущение стремительно надвигающейся беды. – Ни хрена подобного, – пробормотал Смирнов себе под нос. – Все в порядке. Просто в прошлый раз я невнимательно осмотрел стены, а за выходные картинка в памяти вообще смазалась. Не мог же кто-то тут исправлять эти надписи в самом деле. Он открыл окно, и холодный осенний воздух немного освежил голову, выветрил остатки паники из сознания. Ничего из ряда вон выходящего не произошло. В пятницу он невнимательно изучил эти наскальные рисунки, а потому запомнил их неточно. Смирнов взял инструменты и отправился в зал. Здесь обои были немного другой расцветки, но приклеены прочно. Он ничуть не удивился, когда под первым же оторванным фрагментом оказались начерченные черным буквы. Судя по всему, в свое время вся квартира подверглась подобной «защитной обработке». Алексей усмехнулся. Наверняка в ванной под настенной плиткой тоже обнаружатся послания из прошлого. Например, «ЗАКЛИНАЮ СИЛОЙ НЕБА ЗАЩИТИТЬ МОЮ ЗАДНИЦУ ОТ ВТОРЖЕНИЯ ЗЛА ИЗ УНИТАЗА». Запросто. Ему нужна была табуретка. Любая, старая, кривая – лишь бы позволяла дотянуться до обоев под потолком. Сойдет и крепко сколоченный ящик. Чем не повод познакомиться с соседями? В крайнем случае они смогут посоветовать, где поблизости можно купить стремянку. Тащиться с ней в общественном транспорте Алексей не собирался. Смирнов вышел на лестничную площадку. На ней было еще две двери. Он позвонил в обе, но не дождался появления каких-либо признаков жизни. Видимо, его будущие соседи приходили с работы поздно. Тогда он запер свою квартиру, поднялся на этаж выше и позвонил в левую дверь. За ней раздались шаркающие шаги, а потом низкий хриплый голос: – Кто там? – Здравствуйте, – Смирнов вдруг почувствовал себя неуютно. – Я с первого этажа и… – У меня ничего не течет, – прервал его невидимый собеседник. – И вообще, я с утра воду не открывал. – Нет, я не под вами живу, а с другой стороны, в двенадцатой квартире. Просто хочу спросить, у вас нет случайно старого ящика или табуретки? Тишина. Он не слышал удаляющихся шагов, а потому был уверен, что мужчина так и стоит за дверью. Но не отвечает. – Извините, – пробормотал Смирнов. – Всего лишь поинтересовался. Ни звука. Ни шороха, ни даже дыхания. Алексей пожал плечами и позвонил в соседнюю квартиру. Ему открыла улыбающаяся темноволосая девушка в запачканных зеленым джинсах и мешковатом свитере. Где-то за ее спиной орал ребенок. На вопрос о табуретке она покачала головой: – Ничего такого нет. У нас еще половина вещей не распакована, мы тоже недавно переехали. Вы обратитесь к Галине Семеновне, – она показала на третью дверь. – У нее всякого барахла навалом, найдет что-нибудь. – Спасибо большое. Галина Семеновна пригласила его внутрь. Это была не старая еще женщина внушительных размеров, с короткой стрижкой и выпученными глазами. Она пообещала дать табуретку, но сначала провела Алексея на кухню, усадила за стол и налила чашку чая. – Вы ж после работы, надо немного подкрепиться, – сказала она не терпящим возражений тоном и поставила перед ним две вазочки с печеньем и конфетами. Алексей, который и в самом деле успел проголодаться, начал подкрепляться с охотой. – Ну наконец-то купили эту квартиру, – сказала Галина Семеновна. – А то мне так неуютно, пока она пустая там внизу. Почему вы ее выбрали? – Жене понравилась. – осторожно ответил Смирнов. – А что? – Странно. Сколько лет они пытались ее продать, все покупатели больше одного раза внутрь не заходили. Отказывались. – Это из-за бывшего хозяина? Старика, который там умер? – Не знаю я из-за чего. Кстати, почему вы решили, что он был стариком? Ему, наверное, и пятидесяти не успело исполниться. – Хм… расскажите, пожалуйста, про него. – Да бог с ним. – Расскажите, любопытно все-таки. – Много и не знаю. Он ведь тоже въехал сюда, как вы, совсем молодым еще, с женой. Не могу сказать, чем занимался… вроде археология или что-то такое. Странная, короче говоря, профессия. А после перестройки с женой развелся и стал колдовством на жизнь зарабатывать. – Колдовством? – Ну да. Всякое там «приворожу неверного, отважу от спиртного» и прочее. Будущее предсказывал. В газеты давал объявления, к нему клиенты прямо домой приходили. Иногда в подъезде встречала их. Ни одной нормальной рожи. Вы чай-то пейте, а то остынет. – Ага. А потом что случилось? – Бог его знает. С ума он сошел. Начал кричать, сначала по ночам, потом и днем тоже. Мне тут особенно хорошо слышно было, потому что в стенах, там, где стояки проходят, там ведь полости. Это только сверху оно все облицовано и замазано, а внутри пустота, так что слышимость неплохая. И вот он кричал как резаный. Мы тут все бегали к нему, в дверь стучали – никому не открывал. Клиентов не было больше, и сам он почти уже не выходил из квартиры. Раз в неделю вылезал в магазин, не чаще. Ну, а потом… – она некоторое время помолчала, словно собираясь с мыслями. – Потом, как-то утром, я почувствовала запах. Вонь эту. К вечеру вызвали милицию, они дверь выломали, а он там лежит в коридоре. Смирнов едва не выронил чашку. – В коридоре? – Да. В паре метров от двери. – Жуть какая. А что с ним случилось? – Сказали, инфаркт вроде. Или инсульт, не помню точно. Грешно говорить, конечно, но без него нам тут всем спокойней стало. – Понятное дело, – Смирнов поставил чашку с недопитым чаем на блюдечко и криво усмехнулся. – Только я вас попрошу, вы потом это моей жене не рассказывайте. – Ой, конечно! – Галина Семеновна махнула рукой. – Я и вам-то не хотела, но вы сами виноваты. Разговор больше не клеился. Хозяйку явно расстроили неприятные воспоминания, а Смирнов, несколько ошарашенный услышанной историей, не мог найти подходящей темы для беседы. Наскоро откланявшись, прихватив табуретку, он вернулся к себе, закатал рукава и приступил к работе, на этот раз не забывая поглядывать на сотовый, чтобы не потерять счет времени. Трудовой цикл состоял из следующих стадий: наполнить пульверизатор водой из-под крана – распылить ее по обоям, стараясь, чтобы они полностью промокли; снова наполнить пульверизатор водой – распылить ее по соседнему участку обоев; начать счищать уже достаточно пропитавшиеся обои на первом участке, счистив их, перейти ко второму, повторить все сначала. Монотонность процесса успокаивала, отодвигала неприятные истории и нехорошие предчувствия на задний план. Смирнов без перерывов проработал почти три часа, полностью очистив две стены в зале. Здесь не было краски, и надписи шли прямо по штукатурке, а в остальном мало чем отличались от надписей в маленькой комнате: чаще других встречалась молитва «раба божьего ивн» о защите от того, кто стучится в двери, попадались короткие опусы о боли, ненависти к греху и крови, перемежаемые крестами и кругами. Но находились и новые выражения, вроде глубокомысленных «НЕБО ПЛЮЕТ НА ЧИСТОТУ» или «В ОКОВАХ РАЗУМА РАСТУТ СЕМЕНА ПОРЧИ». Около восьми Алексей позвонил жене, сказал ей, что в ближайшее время отправится домой. Когда он прятал телефон в карман, в соседней комнате кто-то громко прошептал: – Лунный серп уже точат. Алексей замер. Не было никаких сомнений в том, что он в квартире один. Но четыре слова, больше всего похожие на строчку из какого-то стихотворения, прозвучали слишком отчетливо. Взяв в руку шпатель, Алексей заставил себя выйти в коридор и, стараясь ступать как можно осторожнее, подошел к двери, за которой должен был находиться тот, кто эти слова сказал. Дверь оказалась приоткрыта. Он толкнул ее и, спешно ударив по выключателю, увидел совершенно пустую комнату. Одна из створок окна была распахнута, но, возможно, он сам открыл ее. Возможно, еще в прошлый раз. Смирнов погасил свет, подошел к окну. Оказалось, на улице моросит мелкий дождь – в лицо дохнуло влажной прохладой, и опять стало немного легче, лед в животе начал таять. В самом деле, что за бабские страхи! Кто-то прошел мимо окна, и до него долетел обрывок разговора, вот и весь секрет. Это же первый этаж, а не седьмой, нужно привыкать. Хотя, конечно, странные у них тут разговоры. Закрыв окно, Смирнов вернулся в коридор. Разложив аккуратно инструменты, он надел куртку и погасил свет везде, кроме прихожей. Этот последний выключатель Алексей нажал, только выйдя на лестничную площадку, благо что можно было без труда дотянуться. Поворачиваться к темной квартире спиной не хотелось. Направляясь к остановке, он мысленно насмехался над собой. Во всем виноваты чертовы надписи, тяжелый рабочий день и неприятная тишина пустой квартиры. Ну и рассказ соседки, конечно. Порадовала, называется, новосела. К следующему разу он решил скинуть на телефон музыку повеселее и прихватить наушники. Это должно помочь.* * *
Ночью, когда они лежали в кровати, жена прошептала на ухо: – Как думаешь, может, мне ездить туда вместе с тобой? Вдвоем мы будем справляться быстрее, ведь так? А ужинать станем ходить куда-нибудь. Алексей, который, разумеется, не собирался рассказывать своей немного суеверной супруге о мрачном сюрпризе от прежнего жильца, поцеловал ее в плечо. – Чуть попозже, малыш. Сейчас там много грязной работы. Как я с ней закончу, тогда мне и понадобится твоя помощь. Будем вместе красить потолки, оклеивать стены, укладывать ламинат. Впереди еще много всяких дел, успеешь потрудиться. – А тебе там не скучно одному? – Да некогда особенно скучать. Вот пока стены очищаю, потом начну фанеру на пол стелить. Жена прижалась носом к его щеке, и он решил, что от надписей нужно избавиться во что бы то ни стало. Не просто закрасить или заклеить их, а смыть или соскоблить. Чем тщательней, тем лучше.* * *
Во вторник автобус, на котором Смирнов ехал из офиса, попал в пробку, а потому до квартиры удалось добраться только к шести вечера. На что-то глобальное просто не оставалось времени, и Алексей, предварительно включив везде свет, занялся надписями. Взяв самый широкий стальной шпатель, он принялся соскабливать буквы в маленькой комнате. Поначалу получалось не особенно хорошо, но постепенно ему удалось найти нужную стратегию: сперва расковырять краску одним из углов стальной пластины, а затем счищать ее всем лезвием. Снова казалось, будто надписи немного изменились: молитв о защите было три, а не четыре, как он думал раньше, зато признаний в ненависти к греху заметно прибавилось. Алексею с трудом удалось удержаться от того, чтобы тщательно пересчитать их и записать результат – это будет блажью, потаканием иллюзиям и слабости. Надписи не могли меняться, они представляли собой всего лишь набор неаккуратных букв и нелепых рисунков. Проблема в том, что их было слишком много, и память не справлялась, путалась во всех этих кривых красно-черных строчках. Какая, в самом деле, разница, сколько именно раз на стенах встречается слово «АМИНЬ» и видел ли он здесь в прошлые разы словосочетания «СЕДЬМОЙ ФОНАРЬ», «В ПУСТОТЕ ТИШИНА» или «НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ИХ ВЗГЛЯД». Скоро от этой чертовщины не останется и следа. Смирнов, как планировал, до отказа набил мобильник разной музыкой, и теперь, надев наушники, наслаждался. Его музыкальные пристрастия не отличались оригинальностью: в основном, русский рок девяностых, немного рэгги, чуть побольше современного панка. Слегка пританцовывая (ведь никого не было рядом) и вполголоса подпевая (по той же причине), Алексей соскребал со стен свидетельства безумия их прежнего хозяина. Несмотря на хорошее настроение, работа утомляла. Через сорок минут у него уже болели пальцы от постоянного надавливания на шпатель. Надо признать, он успел немало: полностью уничтожил две молитвы и жуткое лицо с разинутым ртом, а также множество отдельных слов. Пол вдоль стен был покрыт толстым слоем зеленой стружки. В зале должно пойти проще. Смирнов сунул шпатель в карман и, разминая ноющие пальцы, вышел в коридор. Именно здесь, в промежутке между песнями, когда в наушниках наступила тишина, он услышал голос: – Мы идем за луной! Снова этот громкий, отчетливый, чуть хриплый шепот. Алексей вытащил наушники и заглянул во все комнаты. Никого. Пусто. Тихо. Он и квартира. Поежившись, Алексей вернул наушники на место и под «Exodus» Боба Марли вошел в зал. Гипсовая штукатурка, покрывавшая здесь стены, не имела ни малейшего шанса против шпателя, и работа не требовала каких-либо усилий, наоборот, расслабляла и успокаивала. Единственным минусом оказалась белая пыль, обильно сыпавшаяся из-под лезвия. Но Смирнову было на это уже наплевать – с неожиданным остервенелым удовольствием уничтожал он ненавистные надписи, слово за словом, букву за буквой. Барабаны в его ушах выбивали монотонный боевой ритм, и рука, следуя ему, водила шпателем по исписанной стене, оставляя за собой чистое пространство. Смирнов понимал, что уже поздно, что жена, которой он до сих пор не позвонил, волнуется, что нужно оставить все до завтра и ехать домой, но у него не хватало сил остановиться. Проклятые буквы слишком долго действовали ему на нервы, а теперь настало его время для мести. Как только он закончит одну стену, сразу пойдет на остановку. Ничего страшного, если задержится немного. Легкий нажим, и лезвие шпателя скользит прямо по страшным, безумным словам, превращая их в пыль, никчемную, бессмысленную пыль. Пару раз мигнув, погас свет. В первые несколько мгновений Смирнов не почувствовал ничего, кроме раздражения. – А это, извините, как понимать?! – возмутился он вслух, снял наушники. Квартира была полна голосов. Они шептали со всех сторон, тьма кишела ими, как болото змеями. Черные, злые, ледяные голоса, не то поющие, не то молящиеся, не то насмехающиеся над ним. – Услышь-услышь-услышь-нас-нас-нас-безликая-безликая-хозяйка… Смирнов отбросил шпатель и выбежал в коридор. То, что он там увидел, превратило рвущийся из горла крик в жалкий, тонкий визг. В маленькой комнате лампа еще продолжала мигать в безумном, почти стробоскопическом ритме, отчего на полу коридора появлялась и исчезала полоса желтого света, падающего сквозь дверной проем. В этой полосе росла уродливая, изломанная тень. Кто-то очень высокий и тощий должен был вот-вот выйти из комнаты. Из-за косяка показалась серая костлявая рука, сжимавшая длинный, чуть подернутый ржавчиной серп. Алексей развернулся и бросился к входной двери. Теперь-то он знал, зачем прежний хозяин расписывал стены заклинаниями. Знал, отчего тот кричал по ночам, отчего потом его нашли мертвым на пороге собственной квартиры. – Бледная-бледная-госпожа-госпожа-госпожа-обрати-к-нам-нам-нам… Голоса становились все громче. Казалось, от них вибрируют стены и пол. Слова вспыхивали под обоями багровым огнем, отчаянно сопротивляясь натиску бледного воя. На короткое мгновение потерявшему ориентацию в пространстве Смирнову показалось, что он падает в бездну, цепляясь за пылающие нити слов, бьется в них, словно птица в сетях. Но спасительные нити рвались одна за другой, и бесконечная темнота внизу готовилась поглотить его. Отталкиваясь руками от стен, Алексей добежал до двери, стал ощупывать ее в поисках ключа. Он точно помнил, что, заперев ее изнутри, оставил ключи в замке. Сзади скрипел деревянный пол под тяжелыми шагами обладателя серпа. Ключ нашелся. Повернув его, Смирнов толкнул дверь и выбежал на лестничную площадку. Здесь тоже не было света. Нащупав перила, он прыгнул наугад, надеясь преодолеть весь пролет, но приземлился на край ступени и рухнул на бетонный пол, подвернув левую ногу. Скуля от боли, поднялся, нажал на кнопку домофона и уже через мгновение оказался на улице. Прямо от подъезда уходил во мрак широкий, выложенный брусчаткой мост, по краям которого на расстоянии десятка метров друг от друга возвышались старинные фонари. Не было ни клумб, ни кустов, ни скамейки. Только брусчатка, фонари, черная пропасть по сторонам. Вязкая тишина вокруг мешалась с далекими, но ясно различимыми голосами. – Мы-мы-слуги-слуги-твои-твои-твои… В отчаянии Смирнов бросился бежать по мосту. Он закричал, закричал из всех сил, хотя понимал уже, что обречен, что в этой вечной ночи нет никого, кто мог бы услышать и прийти на помощь. Из глаз полились слезы. Он ковылял по брусчатке, чувствуя, как силы покидают непривычное к бегу городское тело, как жжет легкие холодный влажный воздух, как при каждом шаге вспыхивает в левой ступне острая боль. На какую-то долю секунды, случайно, сам того не желая, Алексей краем глаза успел заглянуть за край моста, успел увидеть то, что текло там, в небытии. Лица. Тысячи, сотни тысяч лиц. Искаженных в беззвучном крике, изломанных непрекращающейся болью, изувеченных мощью потока. И все они смотрели на него. Прямо в глаза. Голоса громыхали совсем близко, рвали на части пустоту и тишину, звенели над ним огромным колоколом. – Прими-прими-нашу-жертву-жертву-жертву-владычица-чица-ночи-ночи-ночи… Около седьмого фонаря Алексей споткнулся и, тяжело повалившись на мокрую брусчатку, больше не смог встать. Боль и ужас мешались в его крови, пульсировали в висках, бились в одном ритме с дьявольскими голосами с той стороны. Заткнув уши руками, он принялся быстро бормотать слова, едва тлеющие в гаснущем сознании:
– Я вверяю трем замкам охранить меня от открытых дверей, от того, кто за ними, вскормленный вороном, ведомый криком луны… Черным горем, красным несчастьем шел по мосту палач, и полы его двухцветного одеяния стелились по камням. Молитвы и заклинания больше не имели силы, ведь двери открылись, впустив тьму, а во тьме слова теряют свой смысл. Алексей понял это и замолчал, глядя на приближающуюся невероятно высокую фигуру. – Прими-прими-кровь-кровь-кровь-жизнь-страх… А потом истлевшая рука с размаху опустила серп, сверкнувший в последнее мгновение прекрасным белым светом луны – и наступила тишина.
Трапеза
Они настигли его почти у самой деревни. В просветы меж деревьями уже крыши видать. И пока заскорузлые пальцы пристраивали ему на шею жесткую, колючую петлю, Егор успел рассмотреть даже забор возле крайней избы. Совсем рядом. Рукой подать. – Чего пялишься? – прошипел один из палачей, тощий и до черноты загорелый, с длинными, перехваченными сальной тесемкой сивыми волосами. – Туда тебе не докричаться. Половины зубов у него не хватало, звуки выходили уродливые, смятые, словно не человеком сказанные, а болотной змеей. Да и сам он походил на змею – такой же длинный, извивающийся, будто бескостный. Егор не имел привычки разговаривать с болотными гадами, поэтому молчал. – Пора тебе, колдун, – не унимался беззубый. – Заждались на том свете. Их было трое. Все в грязи, злые и суетливые. Пальцы у них дрожали, глаза бегали, а веревка не желала по-хорошему затягиваться. Даже со связанными за спиной руками он наводил на этих запуганных мужиков ужас. Знают, что ворожбу чистым днем творить несподручно, да все равно не могут унять в себе колючий озноб. – Тебе ни последнего слова не полагается, ни попа, – проворчал еле слышно самый старший из всех, обладатель косматой и совершенно седой бороды. – По-собачьи сдохнешь. Егор подумал, что помнит имя этого человека. Видел в полку и даже краем уха слышал его прозвание. Никанор, кажись. Дядька Никанор. Такой добродушный и мягкий, словно старый медведь из сказки. Куда же девался его постоянный лукавый прищур? Нет и в помине. Медведь превратился в старую, облезлую псину, тявкающую только на уже поваленного волка. Обычное дело. – Не дергается даже, – сказал Никанор беззубому. – Спокойный слишком. – А чего ему бояться! – усмехнулся тот. – У него же в пекле все друзья. Дожидаются его уже, на стол собирают. Да, колдун? Получили они твои заговорные письма? Дошли до них твои бумажки поганые? Готовят ли там тебе встречу, собачий ты сын?! С этими словами беззубый с размаху ударил Егора по лицу. Не особенно больно – не хватало в тощих кулаках силы; но именно тогда, на короткий миг, когда в глазах слегка помутилось, Егор впервые увидел еще двоих присутствующих при казни. Они стояли чуть поодаль, в просвете меж двух осин, закрывая собой вид на деревню. Оба высокие, безбородые, одеты в длинные выцветшие камзолы. Один внимательно разглядывал происходящее и слегка улыбался тонкими губами, второй смотрел в другую сторону – на избы, темнеющие среди зелени. А потом Егор моргнул, и двое исчезли, будто и не было их. – Чего ему бояться! – вещал беззубый, потирая ушибленные костяшки пальцев. – Для него это самая лучшая смерть. Ни покаяния, ни отпевания. Он же там сразу своим станет. На костер бы его, чтоб душонку поганую как следует пропечь да очистить. А? Мерзота? Хочешь на костер? Егор облизал окровавленные губы. Горячий, соленый привкус немного прояснил сознание, и где-то глубоко под ребрами впервые шевельнулся страх. – А сам-то ты откуда так хорошо про преисподнюю толкуешь? – спросил он, стараясь улыбаться. – Своими глазами видал небось? – Что? – палач аж отступил на шаг. – Что ты мелешь? – Не видал еще, значит, – кивнул Егор. – Ничего, придет время, увидишь… И в этот момент показалось ему, что краем уха услышал он чей-то смех. Совсем рядом, почти за плечом. Тот же смех, что временами вспоминался по утрам, когда поднявшееся над горизонтом солнце еще могло приносить радость. – Видит Бог, я бы сжег тебя, погань, – прошептал беззубый. – И того, кто тебя удумал отпустить, тоже. Но Господь укрепляет нас, посылает тяжелые испытания на долю, и потому, видать, придется нам смириться с тем, что старикан ушел сам, а тебя мы можем только вздернуть, как последнего нехристя. Хотя ты ведь и есть нехристь, так? Выходит, помер генерал-профос. Егор вздохнул. Последний раз он ел двое суток назад, и сейчас в голове, усиленный ударом, сгустился непроглядный серый туман. В нем тонули мысли и воспоминания. Где-то в самой глубине бесформенным клубком свернулось отвратительное, мерзкое предчувствие. Еще не ясно было, начинает оно просыпаться, выпрастывая наружу уродливые свои лапы, или пока просто ворочается во сне, потревоженное грядущей казнью. Оно не имело отношения к смерти, и было много хуже ее, много страшнее и опаснее. Егор не имел права позволить этой твари поднять голову. – Давайте заканчивайте уже, – проговорил он медленно. – Скучно. – Торопишься, значит? – На беззубого стало страшно смотреть. Он весь трясся от возбуждения, конечности беспорядочно дергались, словно при виттовой пляске. – Спешишь, да? К ненаглядным своим, рогатым, в пекло? Отмучиться хочешь побыстрее… – И то дело, давай кончать, – протянул дядька Никанор. – Нечего тянуть, право слово. – Хорошо же, колдун, мы сжалимся над тобой. Митька, а ну… Митька, третий, самый молодой и молчаливый из палачей, коренастый крепыш с мушкетом за спиной, все это время безучастно стоявший рядом, придерживая трухлявую колоду, служащую опорой для ступней Егора, спокойно кивнул и резким ударом ногиопрокинул эту самую колоду на бок. Вот и все заботы. Проще, чем забить свинью. Тело устремилось навстречу земле, но веревка, закрепленная на нижней ветке дуба, остановила падение, рванула за шею, раздирая кожу. Судорожный, испуганный выдох застыл под подбородком, уперся в кость нижней челюсти и сдавленным звериным хрипом вырвался из растянувшегося рта. Закружились над головой кроны деревьев, заслонили собой лоскут свежего неба. Тишина наступила внезапно. Ни скрипа веревки, ни оглушительного стука крови в висках, ни подбадривающих криков беззубого. Это было как нагретая солнцем озерная вода после целого дня тяжелой работы в поле. Давно позабытое ощущение истинного счастья. – А он неплох, – прозвучал безжалостный, пропитанный ядом голос. – Держится. – Да, – согласился второй, тяжелый и черный, как грозовая туча. – Хотя деваться-то ему некуда, вот и держится. – Эй! – позвал первый. – Егорка? Егор оторвал взгляд от распахнувшегося перед ним небытия. Вокруг снова стояло пятеро. Трое палачей застыли нелепыми изваяниями посреди разговора: на искаженной ненавистью морде беззубого очевидно читалось разочарование происходящим, дядька Никанор виновато отвел глаза в сторону, а Митяй смотрел повешенному прямо в лицо – смотрел с легким, невинным, детским почти, любопытством, будто надеялся заметить нечто потаенное, в самом конце жизни способное обозначиться в глазах, нечто заповедное, неземное. А вот двое других – ничуть не застыли. Те самые, что примерещились ему пару минут назад меж деревьями. В старых, но чистых камзолах странного покроя, высоких охотничьих сапогах. Тщательно расчесанные волосы лежат на плечах аккуратными прядями. На пальцах с ровно постриженными ногтями – кольца да печатки со странными символами. Серебро, золото. В любой другой ситуации он точно принял бы их за барьев или заморских купцов каких. Но сейчас, из петли, ему было хорошо видно, что невыразительные, гладко выбритые лица напялены для отвода глаз, что под ними копошится что-то нечеловеческое, запредельное – то самое, что разворачивало свое черное тело посреди остатков его души. И когда они говорили или улыбались, это становилось особенно хорошо заметно. – Слушай, Егорка, – начал один, – у нас к тебе дело. Давай по-хорошему, услуга за услугу? Мы, видишь ли, собрались вот в эту деревеньку, на праздник к одному мужичку. Ничего необычного, посидеть, закусить, языками почесать. Но нам страсть как нужен кто-то вроде тебя. Ждали вроде паренька, да сорвался он. Мы уж отчаялись было, думали, не состоится трапеза, а тут ты. Ну! Давай начистоту. Мы сейчас тебя оттуда вытащим, этих ребятушек к рукам приберем, а ты с нами пойдешь? Годится? Егор не спешил с ответом. Боль в шее поутихла, словно растворившись в окружающей тишине. Слова о трапезе колыхнули внутри обрывки человеческого. Но ведь он знал, кто эти двое. Уж ему ли не знать. По именам, конечно, не сумел бы назвать, но ведь они и сами не всегда смогли бы – даже от Христа отделались всего одним словом. – Долго думает, – сказал тот, что стоял справа. – А куда ему спешить, – усмехнулся второй. – К нам не опоздаешь. На себя Егору давно уже было наплевать, да и понимал он, что такое согласие лишит его последних шансов на спасение. Если они еще оставались, эти последние шансы. Пропадать, так пропадать, без всплесков, без метаний. Ступил когда-то на тропу – так изволь пройти по ней до конца и честно посмотреть в глаза тому, кто ждет у обрыва. Однако обещание «прибрать к рукам» сломило его. – Согласен, – прохрипел Егор так тихо, что и сам едва услышал. Но тем, что ждали его ответа, этого хватило. – Молодец! – воскликнул первый и звонко ударил в ладоши. Тотчас петля разжала хватку. Висельник повалился в мятую траву, истошно хватая ртом воздух. Прохлада обожгла окровавленные легкие, и Егор, начавший было подниматься, вновь рухнул наземь, скорчился от мук. Вокруг творилось что-то, шуршала трава и раздавались испуганные крики, но боль мешала уловить суть происходящего. Торопливые шаги, вопль: – Митька, едрить твою!.. Выстрел. Чье-то тело тяжело упало рядом, а через мгновение в ноздри ударил едкий запах порохового дыма. Визг, удар, угрюмая, безжалостная возня. Придушенный рев: – Митька, отпустиии… Влажный удар – и тишина. Потом еще один. Еще. Капли по траве. Кто-то темный переступил через Егора и встал рядом. Тот разлепил веки и попытался рассмотреть стоящего, но получилось не сразу. Слишком много дыма, слишком сильно слезятся глаза. Закашлявшись, Егор откатился в сторону и, когда все наконец смолкло, медленно, опираясь руками о ствол дерева, поднялся на ноги. Колени дрожали, сердце ходило ходуном, боль в шее угасала, но неспешно, рывками. Дядька Никанор лежал навзничь с простреленным, еще дымящимся лбом. Ружье, из которого его убили, валялось у него на животе. Мертвые глаза равнодушно рассматривали Митьку, что качался в не ему предназначавшейся петле, слабо подергивая ногами. На лице молодого палача растягивалась гримаса боли. По синему сукну шаровар стремительно расползалось темное пятно. Внизу, в аршине от рваных сапожных подошв, еще кровоточила отрезанная голова беззубого.* * *
На подходе к деревне Егор вдруг испугался, что ее жители сразу раскусят его. Отчетливо представилось, как первый же встречный, кто бы он ни был, укажет на него пальцем и скажет мрачно: – А я знаю тебя. Ты – Егорка, Иванов сын, бывший бригадирский писарь Никитского полка. В середине весны уличили тебя в ведьмовском деле, в наложении чар на солдатские ружья и сабли, в изготовлении заговорных писем. Просидел месяц в остроге, ожидая костра, как полагается по Воинскому уставу. Да только генерал-профос, который когда-то сам к тебе за помощью обращался, оказался добр и позволил отделаться битьем батогами, после чего выгнал из полка взашей. С тех пор шел ты через всю страну, где побираясь, где батрача по мелочи, где воровством промышляя. Надеялся в родное село вернуться, застать брательника своего, да только Господь иначе рассудил: нагнали палачи, специально за тобой посланные после смерти старого генерал-профоса, и повесили на окраине нашей деревни. Чертова сила вступилась за тебя, и потому идешь ты сейчас по нашей улице, не живой и не мертвый, снедаемый изнутри адской проказой. Не человек ты больше, Егорка, и не Иванов сын. Ничей ты теперь, никто, и звать никак. А потому нет тебе места здесь, нелюдь. Не оскверняй наши дома, шагай обратно к дереву, на котором до сих пор болтается твоя петля. Исправь ошибку. Он настолько отчетливо представил себе эти слова – каждое из них, – что даже удивился, когда первая живая душа, попавшаяся на улице, попросту не заметила его. Сухая, худощавая старуха с траурно поджатыми губами медленно брела к колодцу, держа в корявых, словно сосновые корни, руках большую деревянную бадью. Опухшие ступни в стоптанных лаптях несли ее прямо навстречу Егору. Подняв голову, она скользнула по нему взглядом, недоуменно повела носом, а потом снова опустила глаза. Чужак, похоже, совсем не интересовал ее. Они едва не столкнулись: Егор в самый последний момент отшатнулся в сторону, и старуха равнодушно проплелась мимо, слегка задев его бадьей. Никто, и звать никак. Да. Видно, неспроста выпал из петли. Чужой он здесь, среди этих приземистых курных изб и ухоженных огородов. Потому так и щипало глаза, и гудело в голове, когда проходил возле чуть покосившегося деревянного креста, вкопанного на околице. Потому никто из живых и не мог увидеть его. Мужиков в деревне было мало, как и должно быть посредь августовского дня. Двое стояли у ворот большого, недавно подновленного дома с резными наличниками, толковали о чем-то гулкими голосами и даже не повернули голов посмотреть на пришельца. А так – бабы да детишки. Мелочь носилась вокруг, заливисто смеясь и перекрикиваясь. Егор не знал, куда ему идти, но был уверен, что сам найдет место. Чертятники не живут среди людей. Им тошно в окружении чистых душ. Один из мальчишек, игравших на улице в догонялки, вдруг подбежал к нему, схватил за рукав, спросил, заглядывая в глаза: – А ты куда, дядька? К Хромычу? – К Хромычу? – Да. Он однажды сидел на завалинке, да заметил двух братьев, да сказал им, мол, бодайтесь, как козлы. Ну, они на четвереньки встали – и давай друг друга бодать. А он ржет. Я сам видал. А теперича помирает лежит. – К нему, значит, – Егор попытался улыбнуться мальцу, но не вышло. – А что, не туда иду? – Туда, – кивнул мальчишка. – Он на окраине живет. Там увидишь. Скажи ему, что это я, Андрюшка Васильев, прошлым летом хотел его избу пожечь. Потом-то понял, что так не можно делать, да только… – Но я-то тут при чем? Сам скажи. – Боюсь, – серьезно ответил мальчишка. – А тебе, дядя, бояться нечего. Андрюшка отпустил рукав и побежал прочь, к игре, которая сейчас была важнее всего остального. Егор кивнул ему вслед и заковылял дальше. Его не провожали взглядами, его не окрикивали, не пытались остановить. Будь он живым, разве сунулся бы к нему, лохматому, грязному чужаку, ребенок? Да и сунься – разве местные позволили бы им поговорить? Налетели бы, мальчишку отвели подальше, а непрошеному гостю намяли бока да вытолкали прочь из деревни – моргнуть не успел бы. Но на то и живой, чтобы с тебя спрос был. С нечистой силой иначе. Он продолжал идти, шаг за шагом приближаясь к цели. Уже и изба чертятника виднелась впереди – скрюченная, угрюмая, отделенная от остальных домов пустым, заросшим бурьяном участком. На самом краю селения, почти в овраге. Можно было не ковылять через всю деревню, а обойти лесом, избежав ненужных встреч. Не подумал сперва, а сейчас уж поздно скрываться. Откуда-то сбоку вывернула ему навстречу деваха. Простоволосая, растрепанная, на красивом молодом лице блестят слезы. Егор поначалу решил, что она сейчас мимо промчится, не обратив на него внимания, но не тут-то было. – Мамка моя просила передать, – пробормотала молодуха, пряча заплаканные глаза. – Говорит, до меня у нее была еще дочка. Так в голодный год Хромыч привел откуда-то двоих черных стариков, и они девочку купили. Егор усмехнулся. На этот раз удалось без проблем, хотя в шее шевельнулась острая, горячая боль. – Это не они купили, – сказал он, не прекращая улыбаться. – Это мать продала. Ее грех. Не вешай на старика лишнего. Девка закрыла лицо ладонями и отвернулась. Егор поднял руку, чтобы коснуться ее плеча – сам не знал зачем, но потом повернулся и зашагал к избе чертятника. Быстрее, быстрее, чтобы никто больше не успел возникнуть на пути. Широкая улыбка так и кривилась на его лице, а жгучая боль в шее становилась с каждым движением все сильнее. Калитка была распахнута, дверь висела на одной насквозь проржавевшей петле. На завалинке сидел дед, плечистый и могучий, как медведь. Недобро оглядев приблизившегося Егора из-под косматых бровей, он буркнул: – В бане! – Что? – В бане помирает дружок твой. В избе нельзя ему. – Лады, – пожал плечами Егор. – А ты, дедушка, зачем тут? – Бабу свою жду, – невозмутимо ответил тот. – У нее есть что сказать гаду на прощанье. Егор кивнул и шагнул в калитку. Дед скрипуче крикнул ему в спину: – Не вздумай ее коснуться! Слышь! Путь к бане был выстлан трухлявыми черными досками. Они огибали дом и, пропетляв среди бурьяна, приводили к маленькому замшелому срубу. Крохотное окошко оказалось забито изнутри. Пришлось согнуться почти вдвое, чтобы протиснуться в дверь. Мрак внутри царил особенный, вдвое гуще обычного отсутствия света. Несмотря на то что помещение было не больше пяти шагов в длину и ширину, открытой двери не хватало, чтобы вытащить из темноты противоположную стену. А именно около нее и находилась широкая лавка, на которой стоял грубо сколоченный деревянный гроб. В нем лежал, до середины груди укрытый льняной простыней, сухонький мужичок с острым кривым носом и перекошенным ртом. Он был еще жив: взгляд налитых кровью выкаченных глаз метнулся к вошедшему, замер на секунду, потом вернулся назад, заскользил по закопченному потолку. Руки его, кажущиеся совершенно черными в этой тьме, беспрерывно шарили по простыне, кадык ходил вверх-вниз, но из чудовищно изогнутого рта не вылетало ни звука. Над умирающим стояла старуха, опиравшаяся на сучковатую палку. Она неотрывно смотрела в его страшное лицо – так же, как Митька вглядывался в лицо Егора несколькими часами ранее. Она впитывала, запоминала, забирала с собой страдания еще дышащего мертвеца, чтобы потом, когда его тело станет просто мясом и погрузится в землю, иметь возможность снова и снова переживать их, разглядывать, как драгоценные бусы или детские рисунки. Хромыч внезапно вздрогнул всем телом, слабо застонал, протянул руку к старухе. Та отшатнулась, как от огня, испуганно зашипела. Колдунов нельзя касаться, пока они помирают, это каждый знает. Дотронешься, и все его грехи мгновенно на тебя переползут, а он мирно отойдет, погубив напоследок еще одну душу. Рука бессильно опустилась на покрывало, впилась пальцами в чистую ткань. – Погань, – процедила старуха. – Чтоб ты так тыщу лет подыхал! На том свете для тебя уже костры разожжены. Чуешь вонь? Это котел с серой, в которой тебя варить будут, сучье отродье. Котел с серой! Она плюнула Хромычу на лоб и, резко повернувшись, вышла из бани, не коснувшись и не заметив Егора. А тот кое-кого заметил. Двое бесов были уже здесь, застыли возле умирающего: один в изголовье гроба, второй – в ногах. На головах громоздкие маски невиданных зверей: рогатый волк и корова с кабаньими клыками. Такова сущность всякой нечисти: личина под личиной, без собственного «я», без истины. Что напялят на себя, то за лицо и сойдет. Даже та пакость, копошившаяся раньше под их человеческими чертами, тоже подделка. По-другому не бывает. Когда шаги старухи стихли за калиткой, бесы зашевелились и стащили маски. – Фу, стерва! – проворчал один. – Ноги затекли. – Утомила, – согласился второй, потом наклонился над Хромычем. – Глянь, раб Божий-то, кажись, того… преставился. И оба дружно расхохотались. Егор прошел в угол, опустился на пахнущие капустой доски. Отсмеявшись, бесы повернулись к нему: – Слушай, мы сейчас по делам, а ты тут оставайся. – Хорошо. – Сторожи нашего ненаглядного. Если что, с тебя спросим. Такое угощенье… Егор кивнул.* * *
Время шло, а он так и сидел в углу, глядя на гроб. Чертятник умер, и тьма, клубившаяся над его телом, рассеялась. Теперь все вокруг выглядело обычным: бревна стен, копоть на потолке, жиденький березовый веник и прокисшие, разъехавшиеся доски, устилающие пол, – заурядная бобыльская банька. Даже гроб на лавке казался предметом привычным и подходящим, а тот, кто лежал в нем – просто несчастным покойником, предоставленным самому себе. Ночь он должен простоять здесь, а с утра придут мужики, похмельные и злые, заколотят крышку да быстро снесут до кладбища. Похоронят за оградой, как нечистого или нехристя, креста не поставят, холмик утопчут. Следующей весной ни один из них уже не сможет показать, где находится могила. Так и память о колдуне-чернокнижнике Хромыче исчезнет, смоется дождями да порастет травой. А ведь был человек. Бегал когда-то, давным-давно, босиком по избе, заливисто смеялся сам и заставлял смеяться мамку. Солнечный Божий свет сверкал в его смехе, разбивался о волосы и отражался в глазах. Пил он взахлеб парное козье молоко, оставляя над верхней губой белую полоску, ходил помогать бате в поле… а потом, спустя всего несколько коротких лет, что-то вдруг поменялось в нем. Развернулось в душе то самое, беспросветно-черное, протянуло в разные стороны свои тонкие лапы, заползло ими в каждый уголок, каждую извилинку сердца. И отыскал он других таких же, выспросил у них секрет. Пошел в глухую полночь на поляну, зарубил там черного кота, выпил горячей крови и сказал слова нужные, последние свои слова человеческие, обратясь лицом к чаще. И его услышали. Сила чертятника – ему же проклятье. Повелевает он бесами, может заставить их что угодно вытворить. Да только бесы не сидят без дела, им подавай работу. А ежели заскучают, начинают хозяина мучить. Мучают ужасно, так что ни сна, ни отдыха, ни забвения колдуну до тех пор, пока он им снова задачу не подкинет. Вот чертятники и маются, вершат злодеяние за злодеянием. Некоторым из них поначалу мешают ошметки совести, но это не длится долго. В конце концов бесы всегда побеждают: человек, сам пустивший их к себе, в себя, не может долго сопротивляться. Интересно, насколько хватило Хромыча? Как много лет прошло, прежде чем он превратился в зловещего нелюдя, ради забавы заставляющего своих соседей бодаться по-козлиному? Пытался ли остановить это? Испытал ли в самый последний миг, когда плоть выпустила душу, наслаждение от того, что больше никому из живущих не причинит вреда? Вряд ли. Он наверняка не испытывал ничего, кроме страха, страха за свое будущее, в которое все еще верил, на которое все еще надеялся. Человек слаб. День клонился к вечеру. Свет, льющийся через дверной проем, сначала пожелтел, потом окрасился багровым. По улице пастух, сопровождаемый мальчишками, прогнал стадо: насытившиеся за день коровы шли молча, тяжело, неспешно. Егор, неподвижно сидевший в углу, прекрасно представлял себе их: размеренно вздымающиеся бока, покачивающиеся хвосты, задние ноги, покрытые засохшей грязно-зеленой коркой. Он ведь и сам когда-то бегал помогать пастухам. В те времена отчаянно хотелось попасть в солдаты. В те времена березовый сок был лучшим напитком на свете, а роща неподалеку от дома прятала в себе секретов больше, чем все заморские страны. В те времена на закате бабушка открывала калитку и звала его домой – пить молоко и ложиться спать. Он до сих пор прекрасно помнил ее грузный силуэт на фоне чистого алого неба. Вздрогнув от стука захлопнувшейся двери, Егор понял, что наступила ночь. Свет больше не сочился через щели, а звуки снаружи угасли. Двое бесов вновь стояли над гробом, пристально разглядывая усопшего. Несмотря на кромешный мрак, их было отлично видно: и камзолы небывалого покроя, и худые бритые лица. Они сдернули с покойника покрывало, отбросили в угол, длинные узловатые пальцы принялись ощупывать тело. – Эй, – не оборачиваясь, окликнул один из них Егора. – Чего сидишь? Иди наружу, гостей встречай. Да поучтивее с ними! Дверь открывай, каждого привечай добрым словом… Егор вышел из бани. В теле появилась странная легкость, словно оно вот-вот готово было оторваться от земли и взмыть к высыпавшим на небе звездам. Наверное, оттого что так и не поел до сих пор. Голод уже не докучал, отступил. Здесь, на свежем воздухе, он видел немногое: чернела рядом громада дома, за ней можно было различить все еще открытую калитку. Деревня терялась во мраке. Доносились отзвуки чьих-то голосов и блеянье коз. Шепотом пел в кронах деревьев ветер, да в тон ему стрекотали кузнечики. Собака в чьем-то дворе рявкнула внезапно и близко. Егор аж вздрогнул от неожиданности – и тотчас увидел в калитке массивную темную фигуру. – Милости просим, – сказал он, делая несколько шагов навстречу. – Пожалуйте к столу… Фигура безмолвно проплыла мимо. Она оказалась огромной, почти вдвое выше Егора, с ветвистыми оленьими рогами на круглой голове. Собака продолжала лаять. Спустя пару мгновений к ней присоединилась другая, потом третья – и вот уже по всей деревне надрывались псы, беснуясь на цепях. Егору хотелось зажать уши, но он не мог себе этого позволить. В калитке показался новый гость. – Добро жаловать, – как можно громче проговорил Егор, но не услышал сам себя за какофонией собачьего хора, а потому продолжать приветствие не стал, просто указал в сторону бани. Они прибывали и прибывали, мрачные высокие господа в камзолах и кафтанах необычного покроя, поодиночке и в компании таких же молчаливых девиц. Егор кланялся, делал руками приглашающие жесты, направлял их по выложенной досками тропке. Собаки не унимались, от их нескончаемого лая рвалось на части сознание, в голове все смешивалось. Казалось уже, что среди гостей тоже идут, поднявшись на задние лапы, огромные черные псы, скалящие острые клыки. Или то были люди с собачьими головами? Круглые желтые глаза, острые уши, когтистые лапы, кривые усмешки, черные как смоль бороды, длинные раздвоенные языки, липкая и холодная жабья кожа – он уже не мог сказать, что из этого действительно проскользнуло мимо него, а что причудилось, приморочилось с голодухи и усталости. Вереница все тянулась из калитки, послушно следуя поясняющим жестам, сопровождаемая пронзительным грохотом собачьего лая. Целую жизнь, целую смерть, целую вечность. А потом кто-то схватил его за шиворот, потянул за собой к бане – и только оказавшись внутри, Егор понял, что больше гостей нынче не будет. Собрались все. Их было огромное количество. Внутренность деревянного сруба расширилась, превратившись в просторную залу, способную вместить бесчисленное множество существ, притворяющихся людьми. Гроб с чертятником теперь стоял не у стены, а точно в середине комнаты, а прямо над ним возвышались двое знакомых Егору бесов. Его хозяева. – Итак! – выкрикнул один из них, призывая собравшихся к молчанию. – Раб божий Архип преставился. И мы собрались здесь сегодня, дабы пожрать его бессмертную душу! Кто-то взвизгнул, по залу пронесся легкий смешок. – Законы нашего собрания таковы, – продолжал бес, с легкостью перекрикивая все еще шумящих снаружи псов, – что каждый, кто вкусит бессмертной души раба божьего, должен будет участвовать в жребии! Одному из нас ныне выпадет занять место усопшего! Кто имеет слово против, пусть скажет сейчас или оставит его при себе до Страшного суда! Наступила тишина. Только тявкала где-то далеко за стеной не в меру ретивая собачонка. Мгновения текли одно за другим, и Егор, стоявший у самой стены, вдруг в этой тишине поймал себя на мысли, какую именно часть раба божьего Архипа хотел бы съесть первой. Он сглотнул слюну и, подавив рвотный позыв, зажмурился. – Что ж, братья и сестры! – вскричал бес. – Начнем трапезу! Тотчас зазвенело железо, волной нахлынул слитный гомон возбужденных голосов. Егор открыл глаза. Мертвеца резали на части широким, слегка тронутым ржавчиной ножом. Скрипели под тяжелым лезвием кости, влажно, мягко поддавалось мясо. Длинные когтистые пальцы тянулись со всех сторон, спешно хватали отрезанные кусочки плоти, тянули их к жадным пастям. – Тише, тише! – прикрикивал демон, орудующий ножом. – На всех хватит! И толпа вокруг заливалась радостным смехом. И хватала брошенные им куски мяса. И пожирала мертвое тело человека, а вместе с ним его бессмертную душу. Зубы впивались в нее, раздирали на части, перемалывали. Языки облизывали перепачканные кровью губы, ладони размазывали красное по сюртукам и тянулись за новой порцией. Громкое чавканье заглушило все остальные звуки: разговоры, пение и хмельные выкрики. Бесы трапезничали. Кто-то протянул бесформенный кровавый кусок Егору: – Угощайся! Он мотнул головой, но мясо уже ткнулось ему в подбородок, ударило в ноздри сладковатым ароматом тления. Тошнота поднялась из горла, а вслед за ней появился голод. Звериный, беспощадный, непобедимый. Он не ел уже так давно. Егор вцепился в кусок, вырвал его из чертовых рук, затолкал в рот, принялся быстро жевать. Слезы текли по щекам, но он не мог остановиться и глотал чужую бессмертную душу. Жевал. Глотал. Ведь в этой плоти, в этом начавшем уже пованивать мясе еще сохранились отголоски божественного света. В нем еще можно было ощутить запах свежескошенной травы и нагретых солнцем досок, по которым, весело смеясь, бегал лохматый мальчишка, едва научившийся говорить. В нем еще чувствовался чистый, праведный страх перед содеянным, перед выморочной чащей, из которой пришел ответ на его зов. В нем еще оставался человек, каким он когда-то был, мог быть и не сумел стать. Последний глоток застрял поперек горла, Егор дернулся и, опершись о стену, согнулся пополам. Его шумно и обильно вырвало. Вокруг захохотали. Егора трясло. Он сполз на пол, опустившись лицом прямо в вонючую лужу коричнево-розовой блевотины. Самой обыкновенной, уже не имеющей ничего общего с божественным светом или бессмертной душой. Бесы вокруг плясали и пели что-то бессвязное. Личины и маски сменяли одна другую с безумной скоростью. Сверкали клыки и вытаращенные глаза, взметались к потолку косматые руки. Огромный рогатый демон бил в невесть откуда взявшийся барабан, другие оглушительно визжали, посреди зала один завалил тощую и бледную, словно труп, девку на перевернутый гроб и возил окровавленной елдой по ее впалому животу. Мяса больше не осталось, и те, кто еще не насытился, принялись за скелет – с урчанием и визгом разгрызали они кости, высасывали сочную внутренность, закатывали в блаженстве глаза. Егор поднялся на четвереньки и пополз к двери. Никто ему не препятствовал, только один бес выругался, споткнувшись о него. В общем гвалте слов было не разобрать. Он добрался до порога, толкнул ладонью дверь, но та не поддалась. И тут же стало тихо. – Жребий! – прошептал кто-то позади. Егор обернулся. Все собравшиеся смотрели на него. Звериными, птичьими, человечьими глазами. Они подались в стороны, оставив пустое пространство между ним и тем, кто сидел в центре комнаты, на столе, рядом с пустым гробом, вновь поставленным, как подобает. Митька тоже смотрел на Егора. Пристально, внимательно. В одной руке он держал отрезанную голову беззубого, а во второй, в крепко стиснутом кулаке, находилось несколько соломинок. – Жребий! – повторила голова. Она была отсечена походным, не очень острым ножом, и потому остатки шеи свисали уродливыми лохмотьями. – Ты тянешь первым. Если короткая, значит, не повезло. Егор поднялся. Вот и конец. Он шагнул к существу, которое теперь выглядело, как дядька Никанор – здоровенная дыра в его лбу все еще дымилась, а глаза были абсолютно черными от запекшейся в них крови. Егор знал, что там, в кулаке, все соломинки – короткие. У нечистой силы иначе не бывает. Он знал, что пришедшие утром мужики обнаружат в гробу совсем другое тело. Хромыч навсегда исчезнет, а похоронят они за оградой кладбища неизвестного чужака со сломанной шеей. Он уже давно догадался. Дышал лишь по привычке. Просто не умел по-другому. Но это уже не могло напугать его. Потому что есть вещи страшнее. – Благодарю за угощение! – сказал Егор, протянул руку и вытащил соломинку.Ночь в кругу семьи
Никодим уже начал всерьез подозревать, что пару минут назад выбрал не тот поворот, когда впереди наконец показались наполненные желтым теплом прямоугольники окон. Свет фар мазнул по зарослям крапивы, выхватил из мрака покосившийся забор, уперся в припаркованные у самого крыльца машины братьев. Никодим, как и следовало ожидать, приехал последним. Он заглушил двигатель и вышел из машины, поднялся по скрипучим ступенькам, опираясь рукой о стену. Застыл перед дверью, такой же древней и изношенной, как и весь дом, не в силах заставить себя постучать. Они наверняка слышали, как он подъезжал, знали, что он уже здесь, и не было никакого смысла торчать на крыльце, чувствуя длинные, холодные пальцы ночи за воротником. Но решиться на этот последний шаг оказалось трудно – внутри, в уютных комнатах, кисло пахнущих старыми коврами, его не ждало ничего хорошего. Позади раздался шорох. Никодим вздрогнул и обернулся, хотя прекрасно понимал, что для серьезных опасений время еще не пришло. Несколько мгновений вглядывался он в сплошную черноту за стволами яблонь, полукругом стоявших вокруг крыльца, потом вздохнул и, вновь повернувшись к двери, несколько раз ударил костяшками пальцев в посеревшую от времени доску. Ему открыла сестра. За пять с половиной лет, прошедшие со дня их последней встречи, она сильно постарела: на худом загорелом лице заметно прибавилось острых углов и неровных, подрагивающих линий, в коротко остриженных волосах серебрилась проседь. Но широкая коричневая юбка и выцветшая кофта, казалось, были те же самые, что и пять лет назад. – Приехал, – прошептала она, встретившись с ним взглядом. – Здравствуй, Никодим. – Здравствуй, Вера, – он заставил себя улыбнуться, хоть и чувствовал, что получается неискренне. – Как вы тут? – Тебя ждем. В этом сомневаться не приходилось. Слишком многое зависело от его приезда. Весь следующий день зависел от его приезда. А это должен быть очень важный день. – Ну, вот он я, – сказал Никодим и, мимолетно обняв сестру за плечи, прошел мимо нее в глубь дома. В сенях вдоль стены все так же громоздилось старье: давным-давно вышедший из строя телевизор, огромный радиоприемник, куча тряпья, лыжные палки, самовар, какие-то пыльные коробки и ящики. Кажется, со времен его детства ни один предмет не сдвинулся с места, даже пыли не прибавилось. Миновав короткий коридор, он попал в жилую часть дома. Небольшая комната, что-то вроде гостиной или столовой: посередине стол с электрическим самоваром, который не включали уже лет десять, у одной стены диван, у другой – комод и зеркало. Над столом висит старое радио, над комодом – несколько больших черно-белых фотографий в рамках. Молодые, улыбающиеся лица, давно вышедшие из моды прически. За столом сидели братья, Федор и Еремей, между ними стояла початая бутылка водки, настолько дешевой, что от одного взгляда на этикетку у Никодима свело живот. Однако это была наименьшая из его проблем. Пожав братьям руки, он опустился на свободный стул. Вместо скатерти на столе лежала клеенка, покрытая полустертыми изображениями парусных кораблей. В детстве, сидя за этим столом, он придумывал каждому кораблю название и капитана, сочинял истории об их плаваньях, о бесчисленных приключениях в далеких морях – и двое заросших щетиной мужиков, что сейчас недоверчиво смотрели на него, в те времена слушали эти истории, раскрыв рты. В конце концов, он был старшим, и в его обязанности входило развлекать братьев. У старших всегда больше обязанностей. – Ну, – сказал он наконец, – что случилось-то? Федор пожал плечами, взглянул тоскливо на бутылку, начал рассказывать: – Да ничего особенного не случилось. Отошел батя тихо, просто, без мучений. Верка вон на закате как обычно спустилась вниз белье ему поменять, а он и не дышит уже. Сердце, наверно. Хотя он на него никогда не жаловался… – Тут без разницы, – сказал Еремей. – Мог и не жаловаться, а проблемы были. Сам знаешь, возраст ведь. Не угадаешь отчего. – Где он сейчас? – Внизу, где же еще. Мы не вызывали ни врачей, ни кого-то другого. Когда утро наступит, тогда и вызовем. Надо сначала, чтоб все уже готово было. – Ясно. – Сам-то как? – спросил Еремей. Никодим поежился. Вопрос не имел отношения к его жизни, к оставшемуся в городе рекламному бизнесу, к новой трехкомнатной квартире, к женщине, с которой он эту квартиру делил, – только к его планам на будущее. На самое ближайшее будущее. – Нормально, – ответил он. – В полном порядке. – Сделал все нужные распоряжения? – Эх, пока нет. – Почему? – Не успел, – соврал Никодим. – Как только вы мне позвонили, я тут же прыгнул в машину и поехал сюда… чтобы успеть к рассвету. – Долго ехал, – сказал Федор и ткнул пальцем в непроглядную тьму за окном. – Рассвет должен был наступить десять минут назад. – Семь, – поправил его Еремей. – Точнее, пока шесть с половиной. Но это в нашем часовом поясе. Кое-где задержка уже гораздо серьезнее. – Скоро те, кто поумнее, начнут догадываться, что вся их гелиоцентрическая хрень не стоит даже бумаги, на которой напечатана, – пошутил Никодим, но улыбок на лицах братьев не увидел. Они ждали, когда он перейдет к делу. – Бледные уже появились? – спросил он, чтобы еще хоть на несколько мгновений оттянуть те ужасные слова, которые предстояло ему произнести. – Вроде бы еще нет. Мы, по крайней мере, ничего не почувствовали. В любом случае сначала они придут сюда и сделают так, чтобы ночь больше не закончилась. – Да, отец говорил, у них хватит ума найти это место в первую очередь. – Вот именно, – Федор пристально посмотрел на Никодима. – Зачем тянуть резину? – Поставь себя на мое место, и поймешь зачем. На это просто невозможно решиться. – Ты на своем месте, а я – на своем, – ответил Федор. – И переставлять нас не надо. А решимости у тебя всегда было побольше, чем у меня с Еремой вместе. Пошли… – Погоди. Давай хоть по рюмке опрокинем. За отца. – Хорошо, – Федор повернулся к окну, всмотрелся в стиснутый белой рамой мрак. – Звезды начали гаснуть. Но выпить мы успеем. Из этой фразы получился бы прекрасный рекламный слоган, успел подумать Никодим, пока брат разливал спиртное. «Утро больше не наступит, но у нас еще есть время, чтобы насладиться водкой Такой-то». Отличное завершение для карьеры. Он поднял свою рюмку, наполненную до краев. – За отца, ребят. Он был хорошим человеком и сделал для людей так много, что они никогда не смогут понять и оценить этого. – Точно, – согласился Ерема, а Федор просто кивнул. Они выпили. Никодим сморщился от ацетоновой горечи, но проглотил. – Ну и палятина, – пробормотал он, протягивая руку к пакетику с сушками, лежащему под самоваром. – Не могли что-нибудь подороже найти? – Времени не было, – отрезал Федор. – И разницы все равно никакой. Пойдем. – Стоп. Дай мне еще минуту – бабу свою предупредить хоть. – Черт, лады, только минуту. – Ага. Доставая сотовый из кармана джинсов, Никодим поднялся со стула. – Ты куда? – прищурился Федор. – В сени. Позвонить. – Отсюда звони. Родня все-таки, нам нечего друг от друга скрывать. – Боишься, что сбегу? – с кривой улыбкой спросил Никодим. – Да? – Времени нет, – невозмутимо ответил Федор. – Звони быстрее. Никодим сел на диван, думая, что, пожалуй, был бы вполне в состоянии сбежать, если б вышел в сени: просто выйти на улицу, сесть в машину и уехать прочь отсюда. Без труда. Без угрызений совести. Он набрал нужный номер и поднес телефон к уху. Длинные гудки следовали один за другим, а человек, сочинивший за свою жизнь великое множество привлекательной лжи, никак не мог придумать, что ей сказать. «Дорогая, прощай, я получил наследство»? «Извини, любимая, я должен уехать навсегда по семейным обстоятельствам»? Обманывать на прощание не хотелось, но правду она не сумела бы ни осознать, ни принять. После очередного гудка Никодим прервал вызов и выключил мобильник, мысленно поблагодарив судьбу за то, что уберегла его от совершения очередной и наверняка последней ошибки. – Спит, значит, – объяснил он братьям. – Не буду будить. – Может, так оно и лучше, – Федор поднялся, тяжело опершись руками о стол, и Никодим понял, что бутылка была далеко не первой за эту ночь. – Давайте уже к делу, а… Они прошли в следующую комнату, отделенную от первой лишь застиранной желтой занавеской. Вера и Еремей отодвинули в сторону стоявший в углу массивный сундук, Федор поднял крышку находившегося под ним люка. Сестра спустилась первой, привычным жестом включила в потайном подвале свет. Ну, теперь все, сказал себе Никодим, вот и он, тот самый конец пути, о котором столько всего сказано и написано, что любые слова покажутся банальностью. Сейчас он исчезнет под скрипучим полом дома, в котором когда-то вырос, и жизнь прекратится. Во всяком случае, то, что он привык считать жизнью. Внизу царил сумрак – одинокая лампочка под потолком не могла разогнать забившиеся в углы тени. Вдоль стен тянулись полки, уставленные разнокалиберными пузырьками, коробками и пачками пожелтевших газет, потолок пересекал толстый кабель, под ногами лежал давным-давно вылинявший ковер. Вот оно, его наследство, его имение, перешедшее по всеобщему закону от отца к старшему сыну. Предыдущий владелец этого великолепия покоился тут же, лежал в дальнем углу на одеяле. Никодим не сразу узнал усохшего, крохотного человечка с ввалившимися щеками и длинными седыми волосами. Какими тонкими стали его пальцы и шея, как заострились нос и подбородок – вот оно, его будущее. Посреди подвала стояла узкая кровать с металлической спинкой, застеленная свежим бельем. – Не волнуйся, – пробормотал Еремей. – Мы все новое положили, даже матрас. – И сама конструкция удобная, – добавил Федор. – Еще с полгода назад старую сетку выкинули, поставили вместо нее каркас специальный… опроте… орпоте… тьфу, как его… – Ортопедический, – сказала Вера. – Для спины полезно. – Во-во, орпотедический. Я сам пробовал на нем – сплошное удовольствие. – Вентиляция тут тоже новая, – Еремей указал куда-то в темный угол за телом отца. – В начале весны поменяли. Теперь тут всегда чистый свежий воздух. Они готовились, понял Никодим, давно готовились к тому, что произошло сегодня. Король умер, да здравствует король! И теперь тут все для его удобства, все для того, чтобы он смог пронести бремя на себе как можно дольше, избавив их самих и их детей от подобной участи. – Давай это… приступай, – сказал Федор, положив ему руку на плечо. – И так уже опаздываем. А мы пока батю наверх отнесем, вызовем, кого надо. Хлопотный предстоит денек. Никодим попятился. – Нет, постойте, – сказал он, чувствуя, что язык едва слушается. – Я не могу. Нет. Не сейчас. Слишком все быстро, слишком неожиданно. – Неожиданно? – Федор удивленно вытаращился на него. – Можно подумать, ты не знал, чем все закончится! Это обязанность нашей семьи, и ничего нельзя изменить! Ты должен, потому что должен. – Семьи? Да, наверно. Но это вы – семья. Жили рядом с отцом, помогали ему, ухаживали за ним. А я вылетел из гнезда уже очень давно. Потерял связь, научился быть сам по себе. Я больше не в семье. – Хватить ныть! Видишь, что снаружи творится? – Ничего не изменится, если вместо меня за это возьмется кто-то из вас. Никакой разницы! А я… я не хочу бросать свою жизнь. – Никакой разницы? Ты же старший, у тебя голова специальным образом варит. Так ведь в каждом поколении было – первенец получает дар, а все остальные должны его обслуживать. Жизнь, которую ты так не хочешь бросать, она же не сама по себе выстроилась, это чистая наследственность, ничего больше. Но ты, кстати говоря, не очень разумно ею распорядился. – Как бы ни распорядился, она моя! – Ошибаешься! Твоя жизнь принадлежит всем! Еремей шагнул к нему, но Никодим оттолкнул брата и, повернувшись, в три шага взлетел вверх по лестнице. Захлопнул ногой люк, с удовлетворением услышав, как выругался внизу Федор, получив доской по макушке, рванул к выходу. Свободен! К черту этих людей, к черту этот сраный убогий домишко, к черту происходящее снаружи. Один из братьев займет его место, а он будет далеко. Вообще не стоило приезжать. Никодим схватил мобильник и успел краем глаза увидеть, как позади из вновь открывшегося люка поднимается Еремей с двустволкой в руках. Совсем поехала крыша, не иначе. Страх плеснулся мягкой волной на самом краю сознания, разбился о твердые камни уверенности в том, что брату не хватит духа выстрелить в него. Он выбежал в сени, отодвинул засов на двери, распахнул ее и успел сделать два шага по крыльцу, прежде чем в отблесках света из окон увидел тех, кто ждал снаружи. И тогда волна уже не страха, но чистого, ледяного ужаса взбурлила, поднялась и хлынула в его разум, сметая все на своем пути. Иссиня-белые, губчатые, искаженные тьмой тела, тонкие трехпалые лапы, черные провалы глаз и беззубых ртов. Они были огромны, круглые головы их поднимались над крытой шифером крышей, и когти размером с Никодимову ладонь бесшумно скребли по замшелым бревенчатым стенам.
Он застыл на месте, не в силах заставить себя ни кричать, ни двигаться. Мгновение и вечность поменялись местами, и время исчезло, оставив вместо себя лишь высокие фигуры, белеющие в окружающем мраке. – Назад! – рявкнул за спиной Еремей, и Никодим послушался, отшатнулся от тянущейся к нему гигантской ладони цвета первого снега. В тот же миг крепкие руки схватили его за плечо и воротник, втащили в сени, а брат, оказавшийся рядом, выстрелил из обоих стволов в приближающееся существо. Грохот, вспышка и то, что она на долю секунды выхватила из темноты, привели Никодима в чувство. Он поднялся на ноги, бросил запиравшим дверь братьям: – Я в подвал! – и со всех ног кинулся внутрь дома. Он почти миновал первую комнату, когда окно с треском провалилось внутрь, рассыпавшись дождем осколков стекла и обломков рамы, впустив трехпалую лапу, увернуться от которой Никодим не сумел. Скользкие, пористые, заплесневелые пальцы прижали его к полу, один из когтей разорвал кожу на плече, жуткий холод обжег тело. Воздух жалким всхлипом вырвался из груди, и он знал, что вот-вот умрет, но подоспевшие братья выручили его – Федор полоснул по одному из пальцев тяжелым кухонным ножом, а Еремей, успевший зарядить лишь один патрон, выстрелил в дыру, оставшуюся от окна. Жидко вздрогнув, приподнялась лапа, и, выскользнув из-под нее, Никодим на четвереньках все-таки добрался до люка, скатился вниз по ступенькам. Кто-то из братьев захлопнул крышку сразу за ним. Вера стояла у кровати, в ужасе глядя на него широко распахнутыми глазами. Никодим заковылял к ней, чувствуя, как острая боль в плече миллионами острых гвоздей расползается по телу. – Давай доставай самое мощное что-нибудь, – сказал он сестре. – Чтоб сразу вырубило. – А как же? – она указала на струящуюся по его рукаву кровь. – Ничего. Заживет. Говорят, сон лечит… Он отбросил в сторону одеяло и улегся на кровать, пачкая чистые простыни красным. Наверху шумело и трещало – ломались стены, рушилась сминаемая безжалостными руками крыша, громыхали выстрелы Еремеева ружья, и раздавалась отборная матерщина Федора. Братья справятся, братья выдюжат. Ему бы не подкачать. Вера склонилась над ним со шприцом. Укола он не почувствовал, только боль в плече сразу смягчилась, ослабила хватку. – Я не знаю, смогу ли, – облизав губы, сказал Никодим. – У меня всегда было плохо с такими вещами. Сестра погладила его по щеке и исчезла из поля зрения. Он хотел позвать ее, но тут потолок перед ним качнулся, поплыл, растворился в свете лампы, и тогда он поднялся над собой, высоко-высоко в небытие, охватывая все и вся вокруг… Наверху все стихло. Вера, сделав несколько шагов к лестнице, оперлась спиной о стену и сползла на пол, не в силах заставить себя подняться. По щекам ее текли слезы. А Никодим улыбался. Он спал, и емуснилось, как далеко на востоке окрашивается алым край неба.
Под хладною мглой
Кто-то кричал. Этот крик качался на волнах высоко вверху, и Артем поднимался к нему из глубин беспамятства. Слишком медленно. Слишком тяжело. Когда он наконец вынырнул из небытия, его встретила тишина. Артем открыл глаза. За бугрящимся трещинами лобовым стеклом не было солнца. Неужели успел наступить вечер? Как долго он пролежал вот так, уткнувшись головой в обод руля? Артем осторожно коснулся ладонями лица, потом лба. На пальцах осталась скользкая багровая грязь. Черт. Он вспомнил последние мгновения перед столкновением. Жалобный визг тормозов, руки, отчаянно выворачивающие руль. Вспомнил собственную беспомощность – теперь, после того, как смерть прошла мимо, казалось, будто в тот момент именно эта беспомощность пугала сильнее всего. Ну, всем известно, что нужно делать, когда кажется, верно? Давай выбирайся отсюда, вылезай из своей жестянки на свежий воздух. Давай-давай-давай. Очень похоже на похмелье, да? Тяжелое, мутное, обездвиживающее похмелье. Он так избегал их, так боялся, но вот, пожалуйста: уже почти два года не прикасался к спиртному, а самочувствие все равно ни к черту. Главное – заставить себя. Ему не привыкать. Не в первый раз. Давай на выход! Артем осторожно пошевелил ногами, покрутил головой – на каждое движение затекшие мышцы отзывались тягучей болью, но, похоже, всем костям удалось уцелеть. Он открыл дверь и медленно выкарабкался наружу. Встал, придерживаясь рукой за борт. Голова кружилась, из желудка теплыми волнами накатывала тошнота. Подавив желание согнуться пополам, он выпрямился, расправил плечи и сделал несколько глубоких вдохов. Холодный воздух исправил положение. Стало чуть легче. Реальность прекратила вращаться вокруг, замерла, застыла в положенном ей порядке. Туман в голове поредел. Нет, ночь еще не наступила, хотя день уже явно стремился к завершению. Просто небо затянули плотные, налитые тяжестью тучи, да и лес вокруг был слишком густым, чтобы сквозь него могли пробиться лучи закатного солнца. Вот ведь угораздило, а… Артем опустил взгляд на вторую машину. Похоже, «альмера». Серая или темно-зеленая – не разглядишь при таком освещении. От удара ее развернуло и отбросило на обочину, в канаву, где она и замерла, завалившись на бок, повернувшись левой стороной к мрачным соснам. Со своего места Артем не мог заметить у нее никаких повреждений, но, судя по тому, что капот его «логана» справа разбился всмятку, вряд ли «альмера» была способна покинуть место аварии своим ходом. Идиоты, подумал Артем. Тупые, самодовольные мрази, которые ничему и никогда не учатся. Но мысль показалась ему недостаточно выразительной, и он решил произнести ее вслух. – Идиоты, еп вашу мать! – сказал Артем. – Тупые, еп вашу мать, мрази! Куда, ну куда вы так неслись?! Неужели вам непонятно, что у меня здесь преимущество, да и, даже если бы я захотел вас пропустить, я бы вас ни за что не увидел из-за этих кустов сраных! Пидоры… Слова, хриплые, жалкие, бессильные, растаяли в тишине, а вместе с ними растаяла и злость. Артем оглядел дорогу, выползающую серой, чуть влажной лентой из-за поворота позади и уползающую за точно такой же поворот впереди. Грунтовка, по которой ему наперерез и выскочила «альмера», уже почти полностью утонула в сумраке. Неужели за все это время здесь больше никто не проехал? Может такое быть? Он почесал затылок. Мыслей стало слишком много, они клубились внутри черепа опасным облаком, словно рой встревоженных ос, и ни одну из них не получалось додумать до конца. Куда он вообще ехал? На день рождения дочери, правильно? На день рождения, на котором его никто не ждал. Решил срезать. Как всегда, выбрал простейший из вариантов – и, как всегда, перехитрил сам себя. Эта дорога, судя по карте навигатора, проходила сквозь несколько дачных массивов и должна была всего за двадцать минут вновь вывести его на основную трассу, которая делала огромную петлю, чтобы зацепить какой-то забытый Богом райцентр в сорока километрах восточнее. Деревни и дачные массивы. Ничего удивительного, что в будний октябрьский день здесь никто не ездит. – Ни хрена себе «никто»! – сказал Артем, вздрогнув от звука собственного голоса. – Кому надо, проехал! Точно в нужное время, секунда в секунду, ни раньше, ни позже. Просто грандиозная удача! Он засмеялся, и перед глазами вновь все поплыло. Тошнота заворочалась под ребрами с удвоенной силой и на сей раз без проблем сломила его сопротивление. Артема вырвало. Не успел он утереть рот, как приступ повторился. Похоже, без сотрясения мозга все-таки не обошлось. Потратив пару минут на то, чтобы привести себя в порядок, он выпрямился и, оттолкнувшись от «логана», двинулся к «альмере». При каждом шаге что-то щелкало в правом колене. – Нужно вызывать помощь, – сказал он сам себе. – Нам здесь крайне необходима помощь. Почему-то эти слова вызывали в сознании вовсе не образы врачей или спасателей МЧС, не белые автомобили с красными полосами, а бутылки с прозрачной жидкостью. Пестрые этикетки, прошибающий насквозь запах. Уже давно ему так не хотелось выпить. Бог с ней, с водкой, сойдет и бутылочка пива. Или две. Или три. Если в «альмере» найдутся три бутылки пива, он примирится с мирозданием раз и навсегда. Просто выставит, как положено, знак аварийной остановки, сядет с пивом прямо здесь, у дороги, на пожухлой сырой траве, и будет смотреть на стену леса на противоположной стороне полотна. Черт возьми, он уже два года не бывал в лесу! Ни охоты, ни рыбалки с тех пор, как бросил пить. У него, пожалуй, совсем не осталось увлечений, кроме одного, запретного, и потому такого желанного теперь. Артем подошел к «альмере», тяжело вздохнул. Левый борт автомобиля был жутко изуродован, лобовое стекло вылетело, превратилось в мешанину трещин, на водительской двери виднелись пятна засохшей крови. Судя по всему, машина была пуста. Он заглянул внутрь, чтобы убедиться, что там никого нет. Бляха-муха, ну как так-то?! На заднем сиденье покоилось детское кресло. Тщательно пристегнутое, оно казалось единственным островком порядка в том океане хаоса, в который превратился смятый салон. Среди рассыпавшегося хлама он увидел несколько детских книжек с паровозами и самолетами на обложках, синюю вязаную шапочку и большого пластмассового робота с подвижными конечностями. Тьма вдруг стала плотной, почти осязаемой. Артем отпрянул, хватая ртом воздух. Сунул дрожащие пальцы в карман джинсов, вытащил смартфон. Света от экрана хватило, чтобы разогнать сгустившиеся в салоне тени. Ребенка не было. Ни на кресле, ни вокруг него не виднелось ни капли крови – в отличие от водительского места, где бордовые, отдающие фиолетовым пятна украшали и перекошенный руль, и приборную доску, и обивку сиденья. – Капец, – пробормотал Артем. – Просто… полный капец. Он набрал «112», отступил от машины на несколько шагов, на середину дороги, непрерывно озираясь, приложил телефон к уху. Мальчишка мог деться куда угодно: вылететь из автомобиля во время аварии, выползти из нее после, уйти вместе с водителем. Но если они ушли, почему не попытались привести Артема в чувство? Если водитель серьезно ранен, то разве он мог уйти далеко? Гудки в трубке оборвались сухим щелчком, затем раздался приятный женский голос, но Артем еще несколько мгновений не мог сообразить, что от него хочет его обладательница. Затем он принялся объяснять ей, в чем дело, сбивчиво, невнятно рассказывать о произошедшем. ДТП, говорил он. Где-то в области, между Белогорском и Ярцевом. Нет, не на московской трассе. В стороне, на пути в дачные массивы. Нет, не проселочная. То есть проселочная рядом, но авария не на ней. Или на ней. Не важно, просто нужно ехать из Белогорска в сторону Ярцева, но не доезжая свернуть. Сколько ехать? Без понятия. Ни малейшего понятия. Голова кругом идет, ноги дрожат, где ж тут помнить, сколько ехал… не ранен. Нет, не пил. Ни в коем случае. Да, ГИБДД – то, что нужно, девушка. И скорая. Кто угодно. Просто уже стемнело и холодно, а здесь ребенок. Нет, не рядом. Где-то здесь. Где-то здесь ребенок. Ночь вокруг набирала силу. Солнце, и без того бесполезное в этой узкой расщелине меж отвесных сосновых стен, похоже, все-таки село, и мрак начал наступление по всем фронтам. Оператор продолжала говорить, но Артем больше не слушал ее. Не мог слушать. Она заявила, что само по себе детское кресло в машине еще ничего не означает, что вовсе не обязательно в нем был пассажир. Ну да, конечно! Она не видела робота, лежащего рядом на сиденье. Ни один пацан не оставит такого без присмотра, только если… только если… если… Оборвав вызов, он включил на смартфоне фонарь, поднял его над головой, повернулся в одну сторону, потом в другую. – Эй! – крик дался нелегко, разбудил сухую, колючую боль в груди. – Эй! Слышите меня?! Я здесь! Прямо у машины! Эй! Никто не ответил. Лишь колыхалась тьма меж сосновых стволов, на которые падал призрачный свет фонаря. Артем вновь заковылял к «альмере», надеясь найти хоть что-то, способное подсказать, где искать мальчика или его родителей. Водительскую дверь явно заклинило, поэтому он влез через пассажирскую, пошарил под сиденьями в поисках выпавших телефонов, открыл бардачок. Внутри оказалась кипа бумаг – пара детских рисунков, квитанции на оплату электричества в садовом товариществе, счета из супермаркетов, разваливающийся на отдельные листы учебник итальянского языка. Ни водительских прав, ни доверенностей, ничего, похожего на документы. Ему захотелось в туалет. По крайней мере эту проблему он в состоянии решить. Артем направился к лесу. Верхушки сосен уже скрылись в черноте опускающейся ночи. Дыхание вырывалось изо рта белыми облачками, удивительно хрупкими и бессмысленными на фоне погрузившегося во мрак мира. Становилось все холоднее. Скоро ему придется основательно задуматься над тем, как пережить эту ночь. Он остановился в двух шагах от первого ряда деревьев, расстегнул ширинку, с наслаждением помочился на выступавшие из земли узловатые корни. От образовавшейся лужи поднимался пар. Застегнувшись, Артем поднял смартфон повыше, чтобы осветить кроны сосен. Он думал о том, что батарея девайса скоро начнет садиться, что стоит попробовать позвонить бывшей жене, объяснить, в чем дело. Есть шанс, что это ускорит прибытие помощи. Помощь ведь придет, верно? Одному ему не найти мальчишку, который не успел – или не смог – забрать с собой шикарного игрушечного робота, когда покидал разбитую в аварии машину. Плач он услышал неожиданно, и сперва не поверил, списал на «почудилось». В конце концов, его голове сегодня пришлось вынести немало – он, например, до сих пор был не уверен, куда направлялся. Артем замер, прислушался. Тишины не получилось: высоко вверху скрипели сосны, шумел разыгравшийся после наступления темноты ветер, где-то гулко, угрожающе ухал филин, но ничего похожего на человеческий голос. Точно почудилось, решил он. Ты, дружище, слишком долго пробыл на пустой дороге в компании двух разбитых машин и черепно-мозговой травмы. Он уже собирался вернуться к «логану», когда услышал их снова. Едва различимые рыдания, тонкие, жалобные всхлипы. Женские или… Детские. – Охренеть! – прошептал Артем. – Какого черта вы туда полезли? Он бросил быстрый взгляд на экран смартфона. Половина батареи. До рассвета не дотянет, но пока достаточно. Глубоко вдохнув и задержав дыхание, словно перед прыжком в воду, Артем шагнул под деревья. Здесь ночь уже наступила. Стволы сосен вздымались столбами непроглядного мрака, подобно величественным колоннам древнего храма. И в этом храме были не рады человеку. Его место – там, на узкой заасфальтированной полосе, разрезавшей лес пополам, на шраме, искалечившем некогда прекрасное тело. Артем не торопился, ступал нерешительно, выставив смартфон перед собой и прислушиваясь. Рыдания то ли смолкли, то ли потонули в бесчисленных шорохах чащи. – Эй! Отзовитесь! Я иду! Иду! – заорал он, подняв лицо к невидимому небу. – Ау! Отклик – опять невесомый всхлип или вскрик, затерявшийся среди отзвуков эха и шепота крон. Но на этот раз Артем понял, с какой стороны он доносится, и, не мешкая, бросился в том направлении. Всего несколько мгновений спустя он споткнулся о поваленный ствол и чуть не распорол себе живот об один из торчащих из него сучьев. Осторожнее. Спешить нельзя. – Я вас слышал! Я скоро вас найду! Ау! И снова – обрывки слов, перемежаемые рыданиями, разрываемые на части ветром. Рядом. Совсем близко. Он поднял смартфон и почти сразу увидел ее. Шагах в десяти, у подножия широкой, странно искривленной сосны. Женщина с окровавленным лицом, в синей ветровке и серых джинсах. Сапог только на одной ноге, на ступне второй намотан шерстяной шарф. Артем подбежал к ней, опустился на колени. – Я здесь! Здесь! Я нашел вас. Он едва сумел подавить крик. Тошнота, забытая за время поисков, вновь дала о себе знать. Левая половина лица у женщины была располосована сверху донизу, вязаный свитер под ветровкой насквозь пропитался кровью. Там, где порезы пересекали щеку, сквозь них влажно поблескивали зубы. Неужели это последствия аварии? Страшные раны выглядели так, словно были нанесены несколькими ударами тяжелого ножа или длинными когтями. Ничего удивительного, что несчастная не могла нормально ответить – она чудом оставалась в сознании. – Что случилось? – спросил он, стараясь не смотреть на ее увечья. – Вы одна? Она отрицательно мотнула головой. Черт побери. – Пойдемте, я помогу вам вернуться к машине. Там теплее. – Нет. Он… – женщина говорила очень тихо, еле шевеля губами, и Артему пришлось наклониться к ее исковерканному лицу. – Он забрал… моего сына. Сашу. Надо найти Сашу. – Кто? Кто забрал? – Он гнался за нами. Догонял нас. Звал его. Звал Сашеньку к себе. Женщина бормотала, не открывая глаз. Отвечала ли она на вопросы? Или просто бредила, разговаривала сама с собой? – Как ваше имя? – спросил Артем. – Ксения… – Очень приятно, Ксюш. Я – Артем. Это я в вас врезался там, на дороге. Все в порядке, все будет хорошо. Не волнуйтесь, Ксюша, просто объясните мне, что произошло. Сможете? Медленный, сонный кивок. – Вы ехали с ребенком? – Да. – И мы с вами столкнулись, так? – Наверно. Не помню. Мы спешили, спешили изо всех сил, потому что… потому что он догонял нас, и Сашенька боялся. Я тоже боялась. Не видела машину, простите. А потом он унес моего сыночка в лес. – Кто «он»? – Я не знаю. – Тот самый человек, который причинил вам увечья? – Нет… – Вы пострадали в аварии? Она простонала что-то совсем неразборчиво. – Что? – Это сделали его дочери. Они следили за мной и спустились с деревьев… чтобы я не вернула своего мальчика. Пожалуйста, найдите Сашу. У меня больше нет сил. – Вот именно. Поэтому давайте я сперва отведу вас к машине. Мы возьмем аптечку и… – Нет времени. Найдите Сашу. Прошу вас, найдите мне сына! Она вцепилась в его рукав и открыла глаза. Вернее, только один – левый затек так, что веко не поднималось. Артем понял, что она никуда не пойдет, пока он не исполнит просьбу. – Хорошо, Ксюша. Хорошо. Я отыщу его, а потом вернусь за вами. Обещаю. – Спасибо, – голова женщины откинулась назад, уцелевший глаз закрылся. – Спасибо огромное. – Куда они пошли? – В лес. Отлично. Лучшая подсказка из возможных. Вслух Артем ничего не сказал. Ксения дышала тяжело, прерывисто. Что если он заблудится и не сможет вернуться обратно? Она же замерзнет насмерть, как пить дать. После секундного размышления он снял с себя куртку и укутал ею женщину. Куртка не бог весть какая теплая, но, может, в ней продержится чуть дольше. Нужно идти. Теперь – тем более. Двигаться, двигаться, двигаться, не позволяя мокрому осеннему холоду вонзить в тебя свои когти. Ага, когти. Они самые. Артем устремился в глубь леса, по-прежнему держа перед собой смартфон, жалкое подобие старого доброго факела, и мысли о когтях никак не шли у него из головы. Несмотря на то что в этих краях уже много лет не встречались ни волки, ни медведи, порезы на лице Ксении куда больше походили на результат удара чьей-то когтистой лапы, чем на травму, полученную в автомобильной аварии. Он прекрасно знал, как выглядят раны, нанесенные стеклом и металлом. Слишком хорошо знал. А что если бедняга не бредила и кто-то действительно похитил ребенка? Почему бы и нет? Бывший муж, окончательно съехавший с катушек, какой-нибудь маньяк или беглый уголовник, которого она по доброте душевной решила подвезти. Пожалуй, это был самый страшный из возможных вариантов, потому что человек, способный сотворить с женщиной подобное – четыре глубоких, четких пореза от виска до нижней челюсти, – вряд ли станет раздумывать перед тем, как снова пустить в ход нож. И нож-то наверняка не простой. Артем стиснул зубы. Ввязался, понимаешь, не в свое дело. Последний раз он дрался в студенческие времена – впрочем, без особых успехов, – и прошедшие с тех пор десять лет пьянства и два года горя не улучшили его физическую форму. Что он станет делать, оказавшись один на один с опасным безумцем, умеющим и любящим причинять людям боль? Артем остановился, осмотрелся, отыскал на ковре из палой хвои толстую ветку, поднял ее, взвесил в руке. Не самое надежное оружие, но на один-два удара хватит, а больше он вряд ли успеет нанести. Снова вперед, через залитый ночью лес. Но ведь не все, сказанное Ксенией, следовало принимать всерьез. Дочери, спускающиеся с деревьев, – что бы это могло значить? Мысли вились яростным вихрем, сплетались в причудливые комбинации. А вдруг он столкнулся с чем-то вроде секты? Предположим, тайная религиозная община окопалась в местной глуши, в заброшенной деревне: духовный лидер и несколько его почитательниц, а по совместительству жен. Но вот одна из них вскоре после рождения ребенка начинает задумываться о происходящем – и чем больше она задумывается, тем меньше оно ей нравится. В конце концов набравшись храбрости, женщина решает покинуть общину вместе с сыном, а патриарх с остальным гаремом пускается в погоню, окончившуюся нелепой аварией на пустой дороге. Такая теория может объяснить и загадочного похитителя детей, и «дочерей» на деревьях, и даже порезы на лице – чем не ритуальное наказание? Он усмехнулся. История в самый раз для остросюжетного триллера. Вот выберется отсюда, напьется, а как придет в себя и снова завяжет, сядет писать сценарий. Всегда мечтал, всю жизнь собирался – самое время начать. Только бы спасти пацана. Сашу. Да, только бы спасти Сашу. И дожить вместе с ним до утра. Спаситель выискался, твою-то мать, посмотрите на него, произнес знакомый голос внутри. Ледяной голос, страшный голос, его собственный, не знающий жалости голос. – Саша! Саша, ты где? – закричал Артем, надеясь заглушить ядовитую речь твари, в которую его совесть превратилась за последние пару лет. – Саша! Отзовись! В ответ раздался скрип. Протяжный и громкий, явно металлический, он разнесся по лесу, распугивая тишину. Артем замер, выронив дубину, прислонился спиной к дереву, вытянул вперед руку со смартфоном. Луч фонаря заскользил по жухлым зарослям папоротника. На секунду показалось, что стволы ближайших сосен пришли в движение, принялись извиваться, словно гигантские щупальца неведомого подземного чудовища – но стоило моргнуть, и все пришло в норму. Скрип повторился. Артем узнал этот звук, узнал почти без труда, пусть с тех пор, как он слышал его в последний раз, и прошло много лет. Качели. Старые железные качели. Где-то неподалеку, в чаще, кто-то качался на них, и потому сердце, безумно колотясь, проваливалось в пятки, а волосы на макушке шевелились от ужаса. Хотелось бежать. Как можно быстрее и как можно дальше. – Спокойно, – прошептал Артем, стараясь привести себя в чувство. – Спокойно, ничего страшного. Тут вокруг деревни и сады. Тут должны быть качели. Вот пацан на них и набрел. Логично? Почему нет? Теперь катается… Очередной скрип, за ним еще один. Требовательнее. Настойчивее. Лес устал наблюдать за блужданиями жалкого человечка и теперь заманивал его в ловушку, чтобы прекратить мучения. Артем сделал три глубоких вдоха и направился туда, откуда доносился звук. Вскоре заросли вокруг начали редеть, светлеть, и спустя всего несколько минут он вышел к границе садового массива. На краю ближайшего участка высилась огромная ольха, сейчас абсолютно, непроглядно черная. Раскидистые ветви расползались по небу жадными трещинами. У ее подножия стояли качели – уродливая, давно проржавевшая конструкция, сваренная из железных штанг. На единственном сиденье качелей покоилась непромокаемая желтая курточка с капюшоном. Чистая, новая, аккуратно сложенная. В мягкой грязи под сиденьем четко отпечатались следы детских ботинок. – Саша? – позвал Артем почти шепотом. Он должен был чувствовать облегчение: вот же, вот, пацан почти нашелся, он рядом, он где-то здесь, совсем близко, но вместо этого чувствовал, что его обманули. Не понимал как, не понимал зачем, но не сомневался, что и курточка, и следы ботинок оказались здесь не просто так. Они были частью замысла, частью большой игры вроде «двенадцати записок», в которую играла Алена на своем дне рождения два года назад. Сперва его вели скрипом качелей, теперь подбросили одежду, чтобы подхлестнуть, добавить азарта. Только вот выбора все равно не было. Тщательно осмотрев при свете фонарика куртку и следы, но ничего не трогая, Артем направился туда, куда, по его мнению, мог уйти мальчишка. Пройдя через приграничный участок, он выбрался на заросшую дорогу, которая уходила в гору, служа центральной магистралью всего садового массива. Ее перегораживало упавшее дерево, старый тополь, видимо недавно сломанный ветром. На правой стороне располагался дом сторожа. По крайней мере это мог быть дом сторожа, так как рядом стояли пустые собачьи будки и доска объявлений, на которой еще висели какие-то выцветшие бумажки. Судя по выбитым окнам и торчащим наружу грязным рваным занавескам, в сторожке тоже уже долгое время не жили. – Эй, есть кто?! – крикнул Артем на всякий случай, но никто не появился и не откликнулся. Не оставалось ничего другого, кроме как двинуться вверх по дороге пешком, ежась под пронизывающим ветром. Вокруг не было ни людей, ни следов их присутствия в последние несколько месяцев – только разруха и гнетущая, тяжелая тишина. Большинство крыш проржавели и покрылись мхом, а от теплиц остались лишь ветхие каркасы. Сады давно привыкли к запустению: летом яблони на участках, брошенных уже несколько лет, сгибаются под тяжестью никому не нужных плодов, зимой в этих местах безраздельно властвует белое, застывшее безмолвие, нарушаемое лишь цепочками птичьих и собачьих следов. Из-под пестрого великолепия природы здесь всегда будут проступать жалкие и страшные останки человеческих жизней, чьих-то надежд, трудов и разочарований. Однако в темноте не резали глаз сгнившие заборы, провалившиеся крыши и пустые окна – Артем словно шел по пустынному, старому, но еще обитаемому городу. Казалось, что вот-вот почувствует спиной чей-то взгляд или услышит в стороне, за домами и деревьями, осторожные шаги. От холода стучали зубы. Артем попробовал перейти на бег, но дыхалка, ослабленная годами пьянства и неподвижности, не была готова к такому испытанию – уже минуту спустя он стоял, привалившись спиной к серому забору, глотая воздух, успокаивая разбушевавшееся сердце. Детская фигурка мелькнула впереди, скрылась за углом дома. – Эй, Саша! – закричал Артем, оттолкнулся от стены, заковылял туда, где заметил движение. – Саша, не бойся! Я тебя к маме отведу! Он зашел за угол, поднял смартфон, огляделся. На серой кирпичной стене висело объявление, ориентировка на пропавшего ребенка. Алена Семенова, девять лет. Пухлое, миловидное лицо с большими глазами, напечатанное на плохой, дешевой бумаге. Исчезла два года назад. Телефон. Вознаграждение. Отчаяние. Откуда здесь это объявление? Откуда здесь объявление о пропаже его дочери? Она ведь не пропадала. Нет, ни в коем случае. Он бы знал. Он бы искал ее, разумеется. Он бы искал ее все эти два года, каждый день, каждый час. Обошел бы все заброшенные дороги, все побежденные лесом садовые товарищества, все старые дома. Звал бы ее по имени, если бы имелся хоть малейший шанс, что Алена его услышит. – Она не услышит, – сказал мальчик из непроглядной тьмы. – Теперь она моя дочь. Артем замотал головой. Мальчик нес несусветную чушь. Мальчик не понимал, что говорит. Да и откуда бы ему понимать? У него одни игры на уме. Прятки. Салочки. – Ты увидишь ее, если пойдешь со мной, – сказал мальчик. – Я обещаю. И Артем пошел, пошел сразу же, все так же мотая головой, не соглашаясь с происходящим, не глядя по сторонам. Смартфон он то ли положил в карман, то ли выронил, то ли разбил, бросив в стену с фотографией дочери. Мальчик двигался впереди, то исчезая во мраке, то на короткое мгновение появляясь из него. Иногда казалось, будто на голове у него корона из листьев и веток, а тело покрыто мхом. Иногда казалось, будто он не один, и рядом скользят другие, хищные, едва различимые силуэты. Но Артем моргал, и силуэты исчезали, и мох превращался в грязные, промокшие джинсы и свитер, а листья с ветками оборачивались взлохмаченными волосами. – Смертные редко проникают в глубь моих владений, – сказал мальчик. – Лишь те, кто, подобно тебе, забывает, что живет. Тогда я впускаю их. Но обратного пути нет. Артем кивал. Обратного пути никогда нет. Не вернуться, как бы ни хотелось, в «день до», «час до», «минуту до», не исправить ничего. Только в компьютерных играх можно загрузить сохранение, но ведь игры – они для детей, верно? – Верно, – соглашался мальчик. – Твоя игра кончается здесь. Артем остановился. Оказывается, они с пацаном сделали круг, спустились с горы и вернулись к качелям у подножия гигантской ольхи, которая наверняка была старше сосняка, вздымавшегося слева от нее, и садового товарищества, уродливо расползающегося по склону справа. Пацан степенным движением накинул куртку и опустился на сиденье качелей – торжественно, будто на трон. Качели приветствовали его оглушительным скрипом. На мгновение пришло отрезвление. Холодный воздух и скрип прочистили рассудок, и Артем вдруг понял, что мальчик на качелях мертв. Тем не менее Артем сделал несколько шагов вперед, пока не наткнулся на взгляд широко распахнутых остекленевших глаз. Саша смотрел прямо на него и улыбался застывшими, посиневшими губами. Кожа его была настолько белой, что отражала звездный свет. Что-то ворочалось в тенях позади маленького тела. Что-то двигалось среди ветвей, неуловимое и неразличимое на фоне неба. Рот Артема открылся против его воли и начал говорить. Голос принадлежал ему, но таил в себе чуждые, незнакомые нотки. – Зачем ты хотел спасти чужое дитя? – спросил владыка леса ртом, и голосом, и разумом Артема. – Неужели ты надеялся так искупить собственный грех? Артем в ужасе отпрянул, задергался, словно стараясь вытрясти из головы то, что завладело ею. Затем попытался ответить, но язык и губы не слушались его. Новый хозяин тела еще не закончил: – Ты хотел загладить свою вину и облегчить страдания? Или ты здесь по зову души? О… Ты не помнишь… ты забыл, что случилось два года назад. Артем застонал. Память, милосердно раскроенная ударом при аварии, отброшенная в пустоту на задворках сознания, возвращалась во всем своем кровоточащем величии. Нет, хотел попросить он, пожалуйста, хотел умолять он, не надо, хотел рыдать он, но владыка леса не нуждался в его мольбах и слезах. Владыка леса и без них все о нем знал. День рожденья дочери, да? Только это уже второй, на котором ее не будет. Только это уже семьсот тридцатый день нескончаемой, выжигающей внутренности тоски. Семьсот тридцать раз Артем просыпался со слезами на лице. Алена, Аленка, Аленушка осталась бы жива, справься он в тот вечер с собой. Всего и надо было – оказаться сильнее тяги к выпивке или хотя бы выполнить данное жене по телефону обещание и вызвать такси в кафе, где дочь справляла день рождения с подругами. С тех пор он не знал покоя. Утро за утром Артем пристально смотрел в зеркало, пытаясь в отражении разглядеть настоящего себя, счастливого себя, живого себя. Однако там была только кожа, натянутая на кости. Время вокруг шло по-прежнему. Но внутри Артема оно замерло, и он понятия не имел, как запустить эту долбаную хрень заново. Но вот – достаточно одного удара по башке, чтобы мир вновь заработал, обрел краски. И теперь столь долгожданный, так внезапно обретенный покой забирали у него всего пару часов спустя. – Ты позабыл свой грех, – сказал владыка леса, и в Артемовом голосе, которым он это произнес, слышались нотки уважения. – Пришел с чистым сердцем, стремясь охранить чужое дитя. Откуда тебе было знать, что я уже провел его в свои золотые чертоги? Ты поступил не как зверь, а потому я сжалюсь над тобой, и мои прекрасные дочери наградят тебя тем, о чем просишь. Прощай, человек. Речь оборвалась, растаяв прозрачным эхом. Артем стоял между лесом и заброшенным садовым участком. В нескольких метрах от него на старых качелях коченело тело мальчика. Тишина была абсолютной: ветер стих, и сосны больше не скрипели, опасаясь гнева хозяина. Чаща застыла, и только в тенях среди ветвей старой ольхи беззвучно шевелились темные, едва различимые силуэты. Обжигающе-холодные взгляды скользили по лицу и телу Артема, но он не отводил глаз. Он ждал, когда дочери лесного царя спустятся к нему, ждал их тонких, словно сучья, рук и пальцев с острыми звериными когтями. Ждал, надеясь в последний момент перед дарованным ему покоем увидеть среди покрытых корой лиц одно-единственное, имевшее значение. То самое, бесконечно дорогое.В. А. ЖуковскийКто скачет, кто мчится под хладною мглой?Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
Слуги атамановы
Солнце, еще в полдень жарившее по-летнему, у горизонта совсем растеряло пыл. Через все небо за ним, словно стая голодных волков, тянулись косматые вылинявшие тучи. С реки веяло влажной стынью, и всадник, мчавшийся по обрывистому берегу, ежился от холода, несмотря на овчинные шаровары и армяк из плотного сукна. Увести коня от реки он не решался – боялся заплутать в приближающихся сумерках, потерять драгоценное время среди рощиц, балок и стариц, меж которых петлял Старший Ягак подобно бьющейся в агонии змее. Слишком уж много лет минуло с тех пор, как ему довелось ехать этим путем в последний раз. Всадник был худ, коротко острижен. Жиденькая бороденка свисала на грудь, утяжеленная парой железных бусин. Обветренное, казавшееся медным под закатными лучами лицо покрывали страшные, уродливо зажившие отметины бунтовщика и каторжника: вырванные ноздри да три клейма в виде особых букв на лбу и обеих щеках. С таким лицом он мог открыто путешествовать лишь здесь, в предгорьях Клятого хребта, под боком у огромной, сонной, уставшей расползаться империи, когда-то и оставившей ему на память эти знаки. Всего полтора дня пути на запад – и первый же попавшийся навстречу батрак побежит докладывать старосте или уряднику о висельнике с искромсанной рожей, свободно разгуливающем по округе. А уж если наткнуться на казачий разъезд, считай, пропал – без разговоров поднимут на пики да бросят в канаву подыхать, как безродную псину. Здесь же, на берегах Старшего Ягака и его дочерей, между восточными крепостицами империи и жуткими Клятыми горами, никому не было дела до чужих лиц. Здесь стоило опасаться совсем иного. Бродили по увалам лихие безбожные люди, готовые зарезать не то что за лошадь и добротную одежу, а за один лишь косой взгляд, да в темных влажных оврагах и распадках поджидали путников твари, которым не сыскать имен в человечьем языке. Потому и висела за спиной фузея, и тянулась через грудь берендейка с готовыми к использованию зарядцами, и сабля болталась на поясе с левого боку. Потому и спешил всадник, что с наступлением темноты шансов добраться до укрытия целым и невредимым почти не оставалось. Эти края не любили одиночек. Несколько лет назад – он пытался счесть, когда все началось, но получалось плохо, – на Старшем Ягаке объявился человек, бросивший империи вызов, и отроги Клятых гор вскипели от народа, желавшего воли. Недовольные начальством казаки, беглые каторжане и солдаты, обиженные непомерными поборами крестьяне, воры, разорившиеся дворяне и еретики – все они явились на зов, обреченные на поражение, но безрассудно верящие в победу, и назвали эти земли Безбожным царством, потому что здесь молния не поражала человека, нарушившего клятву, данную Господним Именем, анафема, произнесенная попом, не повергала наземь в корчах, лишая рассудка, и молитвы тоже оставались всего лишь словами. Но империя не могла, разумеется, оставить без внимания гнездо вольнодумцев, возникшее вдруг под самым ее носом, и бросилась затаптывать восстание – остервенело и яростно, как затаптывают вспыхнувшую сухую траву, чтобы пламя не распространилось вокруг. Более полугода, с середины осени и до поздней весны, пока владыки восточных губерний пытались справиться с бунтовщиками собственными силами, Безбожное царство лишь крепло да расширялось: казачьи отряды, посланные усмирять восставших, переходили на их сторону, сражения и стычки с непривычными к настоящей войне поместными дружинами неизменно заканчивались поражениями последних, а успех привлекал в ряды мятежников все новых и новых людей, лихих и не очень, уставших от постоянных податей и неусыпного ока, следившего с небес за каждым прегрешением. Но по завершении распутицы с запада пришли регулярные рекрутские части, закаленные в бесчисленных противостояниях с соседями, умевшие воевать в чужих землях против чужих богов. Командовали ими военачальники, сокрушавшие лучших полководцев мира. Однако безбожников одолеть оказалось непросто – им, куда лучше знавшим местность, удалось даже одержать несколько небольших побед, прежде чем в середине лета удача окончательно переметнулась на сторону правительственных войск. Под лязг стали, под грохот пищалей и пушек, под ржание коней и вопли умирающих Безбожное царство захлебнулось в крови. Новой осенью, всего год спустя, его раздавили о стену Клятого хребта. Некоторые из бунтовщиков, не желавшие покоряться, в отчаянии решившиеся уйти козьими тропами, сгинули навеки – из Клятых гор не возвращаются. Тех, кто сдался или был захвачен в плен, ждала другая участь. Император, ставленник Бога на земле, в бесконечной доброте своей помиловал простых участников восстания. Их секли кнутом, а после отправляли с вырванными ноздрями в северные каменоломни сроком на полтора десятка лет. Баб и детишек ссылали в дальние селения. Уцелевших же вожаков допрашивали и судили в столице, возили по ее улицам в клетках, будто диковинных заморских зверей, унижали и истязали на потеху толпе. Спустя месяц на крыльце императорского дворца на Старой площади состоялась грандиозная казнь. Дюжину человек, включая того, кто назвался первым Безбожным Царем и чье имя теперь было запрещено и позабыто по всей стране благодаря неустанным молитвам имперских монахов, четвертовали. Одного за другим их выволакивали на помост посреди огромного каменного крыльца, отрубали руки и ноги, и только затем, дав хорошенько помучиться, отсекали голову. Еще троих, чье участие в командовании восстанием осталось недоказанным, помиловали, в последний момент заменив смерть пожизненной каторгой. Всадника, гнавшего коня по берегу Старшего Ягака, звали Наумом Жилой, и он был одним из тех троих. Солнце скрылось за желтыми кронами орешника на дальнем берегу реки. Пахнуло дымом, впереди мелькнул огонек, а вскоре из сгустившихся теней выступили очертания умета: частокол на просевшем валу, двускатная крыша над ним, крытая свежей соломой, высокие ворота, на которых и мерцал фонарь, зажженный специально для припозднившихся путников. Забрехала, учуяв чужака, собака. Минуту спустя Наум уже въезжал в просторный, заставленный остовами телег двор. Рыжий мальчишка лет двенадцати, впустивший его, не говоря ни слова, взял лошадь под уздцы и, едва всадник спрыгнул, повел измученного скакуна в стойло, где под навесом из еловых ветвей уже ждало ароматное сено и блестела в ведре вода. – Надо же. Никак сам Жила пожаловал, – раздался сбоку резкий, скрипучий голос. – Давненько не видались. Наум повернулся, криво усмехаясь. Владелец умета, грузный, плечистый здоровяк с бородой столь же рыжей, как волосы его сына, и наголо бритой головой, стоял на крыльце большого, сложенного из вековых бревен дома, держа в руке горящую лучину. – Давненько, – согласился Наум. – Некогда было. – Дело ясное, – сказал уметчик, которого много лет назад звали Фомой Ондреевым, а теперь наверняка как-то иначе. – У каждого свои заботы. Ну, заходи, обогрейся. О коняге не думай, Фролка займется. Гость последовал за хозяином внутрь, стягивая через голову берендейку. Едва дверь за ними захлопнулась, спросил шепотом: – Все собрались? – Нет пока, – сказал уметчик. – Кое-кого недосчитываемся. – Вот ведь сучьи дети! Может, встретить? Вон темень какая. – Ничего, доберутся. Самые важные уже здесь. Они вошли в горницу, грязную и темную, но полную душного тепла. В печке потрескивали березовые поленья, отсветы пламени прыгали по комнате, играя в салочки с чернотой теней. За столом сидел человек с длинной седой бородой, которого Наум узнал мгновенно, несмотря на полумрак и усталость. – Горь! – не смог он сдержать радости. – Чортов лис! И здесь раньше меня успел! Старый казак, ощерив кривые зубы, поднялся ему навстречу. Они обнялись. – В тебе ни на соломину не сомневался, – сказал Горь, чье лицо носило те же отметины, что и у Наума. – Как на духу, вот только-только говорил Фоме, мол, Жилу ждем обязательно, Жила не подведет. И нате вам – приехал! Надо было биться об заклад. – Небось на чарку вина? – проскрипел с довольной усмешкой уметчик. – Да ежели б ты ошибся, как отдавать стал? – Отработал бы, – проворчал Горь. – Не закипай. – Ее бы отдал в услужение? – спросил хозяин вполголоса, и только тут до Наума дошло, что в горнице кроме них есть еще кое-кто. Девушка сидела у окна, забравшись с ногами на лавку, и смотрела, не отрываясь, сквозь прозрачную слюду на ночь, набухающую снаружи. Ей было не больше пятнадцати лет, но волосы, не стриженные, видимо, с рождения, спадали густыми прядями до самого пола. В полутьме они казались смоляными. Кроме волос, ничто не прикрывало стройного молодого тела и у Наума пересохло во рту от одного взгляда на бледную кожу ее бедер. – Кого ты видишь? – прошептал Фома на ухо. – Девку, – ответил так же шепотом Наум, не успев подивиться вопросу. – Нагую совсем. – А мне старуха чудится. Толстая, обвисшая вся, почти лысая. Тут Наум наконец понял, кто перед ним. Горная ведьма. Воскресительница мертвых. Ключевой элемент их плана – тот самый, о котором Горь поведал ему, еще когда они впервые задумали это сборище, встретившись в еретическом скиту в верховьях Младшего Ягака. По словам старика, он спас ей жизнь, а ведьма в награду пообещала вернуть с того света любого, кто был ему дорог. Горь не вдавался в подробности, а Наум не любопытничал – старику он верил как себе. Но сейчас удержаться от вопроса не смог, с трудом оторвал взгляд от девушки, повернулся к товарищу: – А ты, Горюшка, кого в ней видишь? – Мать, – вымолвил коротко старик, не поднимая глаз от столешницы. Наум опешил от такого ответа, не нашелся, что сказать. Несмотря на жару, побежали по спине и плечам мурашки. Хозяин тоже потупился – его, пустившего горную жуть к своему очагу, наверняка одолевали дурные мысли и предчувствия, – но тут же встрепенулся и, хлопнув по лавке широченной ладонью, крикнул делано веселым голосом: – Авдотья! Сколько можно?! Уважь гостей, неси харчи! В соседней комнатке, отделенной от горницы цветастой занавеской, что-то зашуршало, завозилось, вздохнуло, и спустя минуту оттуда появилась дородная женщина в выцветшем сарафане, с красным одутловатым лицом. Опасливо, почти по-лошадиному, косясь на ведьму, она бочком прошла к столу и поставила перед казаками поднос со снедью. Ничего особенного: сыр, пара луковиц, краюха хлеба, миска с кашей да крынка браги. – Перепелок надобно еще потомить, – сказала Авдотья мужу. Тот, хмуро кивнув, отправил ее прочь взмахом руки. – Перепелок наловил, – объяснил он гостям. – Но их тогда позжей, когда все соберутся. Там и вина бочонок откопаем. Эх, у меня и доброе винцо припасено! Горь и Наум молча согласились, принялись за еду. Ведьма продолжала сидеть в прежней позе, не шевелясь, не отводя взгляда от окна. Наум украдкой посматривал на нее, все пытаясь заметить хоть что-то, способное выдать истинную природу этого создания, но лишь сильнее убеждался в том, что перед ним обыкновенная девка, хотя и необыкновенной красоты. Женщины у него не было давно – с тех самых пор, как Безбожное царство приказало долго жить под огнем имперских пушек и копытами имперской конницы – и сейчас желание, от которого он успел отвыкнуть за годы работы в каменоломнях и скитаний по безлюдным пустошам предгорий, проснулось, подкрепленное выпитой брагой, сдавило грудь, наполнило ее раскаленными углями, вспыхивающими при каждом вдохе. – А она в самом деле сумеет нам помочь? – спросил он Горя, чтобы отвлечься от круживших голову мыслей. – Сумеет воскресить атамана? – Сумеет. – Старик отпил из крынки, отер рукавом усы. – Я сам видал, как у нее это получается. Даже не сомневайся. Главное, чтобы вы привезли нужные для колдовства вещи. – Я свою привез. – Наум коснулся пальцами левой стороны груди. – Все тут, в лучшем виде. – Ну, значит, и не переживай. Спустя минуту снаружи тявкнула собака. – Ага, – довольно протянул уметчик. – Вот и следующий пожаловал. Тяжело поднявшись, он вынул из щели между бревнами горящую лучину, вышел в сени. Вскоре со двора донеслись приглушенные голоса и лошадиное ржание. Тяжко вздохнула за занавеской толстая Авдотья. Похоже, мужнина затея не пришлась ей по душе. Или просто было жаль перепелок. – Да, – сказал вдруг Горь. – Согласен. Повернувшись к товарищу, Наум увидел, что тот смотрит на ведьму, по-прежнему не отводящую глаз от окна. Судя по всему, слова его были обращены к ней. – Что? – спросил Наум. – Она сказала, нам стоит бытьнастороже, – пояснил Горь. – Дело нечисто. – Как сказала? Я не слышал. – Ну, так она же мне говорила. Дверь распахнулась, пропуская осенний холод и танцующие тени, а следом – новоприбывших. Их оказалось двое: до черноты загорелый казак по имени Беляй, хорошо знакомый Горю с Наумом, и молодой кучерявый парень ростом под самый потолок, которого они видели впервые. – Эге! Вот они, злодеи! – проревел Беляй и громогласно засмеялся. – Уж не думал, что когда-нибудь увижу вас вновь! – Не ты один удивлен, – ответил Наум, вставая из-за стола. Все трое обнялись. Беляй не попал в лапы имперских палачей, а потому лицо его не было обезображено так, как у Горя или Жилы, но битвы, в которых ему довелось участвовать, оставили по себе верную память: от левой скулы до подбородка тянулась кривая вмятина сабельного шрама, а на правой руке не хватало трех пальцев. Благодаря этим пальцам он и избежал смерти или плена в последнем сражении – за две недели до того, как государевы полки вышли к столице Безбожного царства, его, лишившегося возможности владеть саблей, атаман отправил на юг, к устью Старшего Ягака, посланником к болотным дикарям. Предприятие это было ничуть не менее опасным, чем любой военный поход, – жители топей славились своей непредсказуемостью и людоедством. Предложение присоединиться к войскам Безбожного Царя они отвергли, но посольство его жрать не стали – и на том спасибо. А вернувшись, Беляй застал успевшие уже остынуть пожарища, овраги, полные догнивающих трупов, и жалкие ошметки некогда единого войска, вновь превратившиеся в разрозненные, полубезумные от голода и страха ватаги разбойников. – А это кто? – спросил Наум, указывая на высокого парня, стоявшего у двери, потупив взор, словно нашкодивший малец. – Почему он здесь? – Это Елезар Полынник, – сказал Беляй с гордостью, будто тот приходился ему сыном. – У него сорок сабель в подчинении, стоят в двух днях пути отсюда, в излучине Меньшой Ягаковны. Две пушки да несколько горных дел мастеров. А еще он привез слово атаманово. – Откудова оно у тебя? – прищурясь, спросил Горь. – От старшего брата осталось, – пробасил Елезар, шмыгнув носом, отчего стал еще больше похож на мальчишку, несмотря даже на торчащую из-за кушака рукоять пистоля. – Он велел хранить, а сам сгинул вместе с Безбожной вольницей. – Добро, – сказал Наум. – Подойди-ка, давай взглянем, что у тебя на сердце. Парень, ожидавший этого требования, с готовностью сделал шаг вперед, поднимая руки к вороту черного кафтана, явно доставшегося ему с чужого плеча, но тут взгляд его, скользнув вдоль казаков, уперся в лавку у окна, и он, испуганно отскочив назад, схватился за рукоять сабли. Наум и Горь мгновенно обнажили свои клинки, и, если бы не хозяин, вовремя сообразивший, что происходит, дело могло закончиться плохо. – Это ведьма! – гаркнул Фома, встав между ними. – Всего лишь дикая горная ведьма, чорт ее дери! Она всем кажется разной. Кого ты там увидел, Елезар? – Мою суженую. Она года два как померла от поветрия. – Дрянь играет с твоим рассудком. Может, ты ей приглянулся, не знаю, хочет соблазнить тебя, вот и притворяется дорогим человеком. Не смотри на нее, и все. Понял? Просто не смотри. – Понял. – А вы двое уберите сабли. Не хватало еще оружием размахивать! Они послушались. Сталь исчезла из виду, сразу стало легче дышать. Елезар распахнул кафтан, развязал тесемки на горловине рубахи, обнажил левую половину груди. Фома поднес только что запаленную лучину, и в неровном багровом свете все увидели розовый шрам на том месте, где должно было находиться церковное клеймо. Каждому при рождении ставили такое – знак империи, знак Всевышнего и Всемогущего. Как человек клеймит стада свои, так и слуги Божьи помечают Его паству. – Сам срезал, – пояснил Елезар. – Ножом. Когда брат сгинул. Наум кивнул: – Наш. – Раз так, то забудем все страхи. Не грех и пропустить по чарке, – натужно улыбнулся Фома. – Я схожу за бочонком. Смотрите, не поубивайте тут друг друга без меня. Он скрылся за занавеской. Наум ободряюще хлопнул по плечу Елезара: – Не переживай. Любой бы перепугался вусмерть от такого. Забудь. Сегодня сделаем дело, и пусть эта ведьма катится на все четыре стороны. Меня звать Жилой. А вот этот седой, по чьей вине мы здесь собрались, – Горь. – Я знаю, кто вы, – сказал Елезар. – И сделаю все, чтобы вам помочь. Хотя, по мне, это опасный, очень опасный путь. – Казаку ли пристало бояться опасности? – пожал плечами Наум. – Я свое отбоялся на Старой площади. Теперь меня никакой ведьмой не запугать. – Да и чорт бы с ней, с ведьмой, – понизив голос, сказал Елезар. – Просто… вот даже если все это правда, воскресит она атамана, вернет его в мир живых. И что дальше? Что скажут те, кто сражался с ним рядом? Или те, кто мечтает возродить его дело? Атаман послал подальше Бога империи, но принял помощь от горных богов! Все равно что крестьянин, ушедший от одного барина к другому, который сечет меньше. Оброк так и так платить. Разве это не глупость? Разве не предательство всех, кто погиб за безбожье? – Красиво говоришь, – проворчал Наум. – Не удивлен, что за тобой люди идут. – Отец отдал меня в монастырское училище, – смутился Елезар. – Там натаскали. – И грамоте небось разумеешь? – Да. – Удивительное дело! Говорит как по-писаному, буквицы корябать умеет, а не понимает ни хрена! Кто знает, что мы воскресили атамана? – Никто. – Именно, – зашипел Наум. – Ты, я, да вот эти инвалиды, каждый из которых даже на дыбе будет держать язык в положенном месте – то бишь за зубами. Ведьма уйдет обратно в горы, а мы встретим атамана. Мало ли как он спасся, мало ли где слонялся все эти годы, мало ли кого казнили вместо него! Я поклянусь чем угодно, что в тот день на Старой площади четвертовали другого мужика – и мне, чорт подери, поверят. Потому что я был там, прямо там, и все видел. Потому что у меня не хватает доброй половины носа и одного уха, а рожа отмечена тавром! – Ясно, – закивал кучерявый. – Народ можно обмануть и повести за собой. Но ведьму вы не проведете. – А с чего ты вдруг взял, будто ей есть до всего этого какое-то дело? Клятые колдуны отродясь не вмешивались в то, что творится на равнине. Они так далеко, поди, и не забредали никогда. – Вот именно! Чего это ей тут понадобилось? Не следует доверять тому, чего не понимаешь. – А кому тогда? Тебе, например, следует доверять? Я тебя первый раз в жизни вижу. – За меня поручился Беляй. – А за нее – Горь. А Горя не проведешь, он хитер как лисица весной. Вишь, вон – ведьме умудрился жизнь спасти. – Она в расселину провалилась, – сказал Горь, взглянув на них угрюмо из-под седых бровей. – А я рядом случился. Ну и вытянул, чего ж бабе не помочь. Улов уж только наверху рассмотрел. – В настоящем-то, значит, виде ни разу ее и не видал? – спросил Беляй. Горь помотал головой. – А как мертвых воскрешает? – Это видал. Она все спрашивала, чем отблагодарить меня за спасение. Ну, я возьми да и скажи, мол, так и так, верни с того света атамана моего, Безбожного Царя, – а она возьми да согласись. Я, само собой, сперва-то не поверил. Тогда она говорит-де, убей кого-нибудь, увидишь. Так и вышло. – Горь поднес ко рту крынку, но та оказалась пуста, и он разочарованно вернул сосуд на место. – Встретился нам блаженный: в веригах, в рубище, нестриженый – как полагается. Шел в Клятые горы проповедовать, Божье слово нести. Ну я и подумал, мол, все равно ж погибать бедняге. Зарубил его. А она воскресила. Горь замолчал, снова потянулся к крынке. Видно было, что рассказ дался ему нелегко. – И что блаженный? – спросил Беляй. – Ничего. Дальше в Клятые горы пошел. – А он точно помер? – это уже Елезар. Горь поднял на него мрачный взгляд: – Я знаю, как убить человека, сынок. Мертвее не бывает. Битый час ее к нему не подпускал, чтобы уж наверняка убедиться. – А когда подпустил? Что она делала? Горь поморщился: – Какая разница? Сейчас все равно иначе будет. – Почему? – Да потому что у нас ни тела, ни крови, ни даже костей атамана нет! – раздраженно стукнул кулаком по столу Горь. – Тут другое колдовство нужно. Ввалился Фома с несколькими латунными чарками в руках и небольшим бочонком под мышкой, перемазанным свежей землей. Раскрасневшееся лицо его дышало предвкушением попойки. – Вот об этом сейчас и погутарим! – объявил он, услышав последнюю реплику Горя. – Но сперва – самое время для того, чтобы отметить встречу. Выбив пробку, уметчик принялся разливать вино по чаркам: – Аккурат из этой посуды атаман пил, когда в последний раз у меня останавливался. Он тогда, помнится, не в духе был. Грызли его, поди, сомнения… Глядя на жидкость, льющуюся из бочонка и кажущуюся в темноте черной, Наум вспоминал атаманову кровь, стекающую с досок помоста на молочно-белый мрамор дворцового крыльца. Разбуженные разговором с Елезаром, жуткие образы поднялись из густого ила на дне его памяти, всплыли на поверхность, и теперь он не знал, как от них избавиться. Рев толпы, заполнившей площадь, строгие каменные лики серафимов, смотрящие с фасадов надвратных башен, черные росчерки ворон над ними. Топор палача, занесенный в серое бескрайнее небо, словно призывающий самого Господа в свидетели творимого правосудия – и короткий стук, с которым лезвие врезалось в плаху, разрубив плоть. И крики. Нескончаемые, до костей пробирающие крики – сквозь слезы, сквозь молитвы, сквозь стиснутые зубы. Пошатнувшись, он тяжело оперся на стол, мотнул головой. – Все хорошо, Жила? – встревожился Фома. – Терпимо, – ответил Наум, облизал пересохшие губы. – Давайте уже начнем. Сказано – сделано. Фома раздал чарки, поднял свою: – За Безбожного Царя! – За Безбожного Царя! – стройным хором отозвались остальные. Вино и вправду оказалось хорошим, крепким и терпким, со стойким травяным привкусом. Наум не спеша выпил чарку до дна, оглядел товарищей. – Итак, все ли справились с поручением? – голос его чуть подрагивал, да и пальцы пришлось сжать в кулак, чтоб не тряслись. – Я свое выполнил. Вот атаманово знамя. Он вынул из-за пазухи сверток, бережно перевязанный шелковой тесьмой. С третьей попытки справился с узлом, развернул полотнище на столе. Кое-где прожженное, в паре мест пробитое пулей, пахнущее землей и плесенью, это было то самое знамя, под которым бойцы Безбожного царства сражались за свою волю против хранимой Богом империи – красная фигура человека посреди черного поля небытия. – За три дня до того, как нас повязали, – сказал Наум, – я по приказу атамана спрятал его в укромном месте. Закопал. Где именно, знали только мы двое. Сбежав с каторги, первым делом отправился туда и забрал. С тех пор вожу с собой. Больше ничего священного у меня нет. Беляй осторожно коснулся ткани пальцами. – Надо же, – проговорил он. – Думал, никогда его больше не увижу. Горь вытер рукавом глаза, пожал Науму руку: – Спасибо, Жила. – Спасибо! – пробормотали остальные, склонив головы. Вид знамени, запрещенного и поруганного, подействовал на них странно – вместо воодушевления пришла тоска. – У меня сталь атаманова, – сказал Фома, нарушив тягостное молчание. – Ножик его, которым он расплатился за пребывание в тот раз, в самый последний. Клянусь, я им не пользовался. Как тогда на полочку убрал, так и не доставал. Ну разве что иногда – полюбоваться да сыну похвастать. Он бросил на середину расстеленного знамени короткий походный нож в кожаных ножнах. Науму хватило одного взгляда, чтобы узнать оружие. Он кивнул. Следом кивнули Горь и Беляй – все они не раз видели у вождя этот нож с замысловатым узором на костяной рукоятке. – У меня, как было уже говорено, слово, – сказал Елезар, положив на стол свиток. Фома осторожно развернул его. Слова, начертанные неспешным, основательным почерком, складывались в аккуратные строчки. Внизу, рядом с восковой печатью, изображавшей все того же одинокого человека, стояла размашистая, похожая на детские каракули, подпись – Безбожный Царь, несмотря на все старания, не смог овладеть грамотой. – Кажись, его значок, да? – пробормотал Беляй. – Чорт знает, – хмыкнул Фома. – Вроде похож. А ну-ка, друг, раз ты ученый, прочти, что тут написано. – Да я наизусть уж выучил, – сказал Елезар. – За столько-то лет! Это обращение к крестьянам с призывом переходить на сторону безбожников. «Сим именным указом жалуем всех, находившихся прежде в подданстве помещиков и имперской короны, волей и свободой от оброку, подушных и иных податей, а также рекрутских наборов. Владейте землями, лесными, сенокосными угодьями и плодами охоты вашей и рыбной ловли в полной мере. Ни помещика, ни Бога, ни…» – Да откудова ж мы знаем, что там именно это написано? – перебил парня Горь. – Никто ж из нас подтвердить не сумеет. Может статься, брехня! Елезар уставился на старика, скрипя зубами. Потом процедил: – Ежели брехня, так я сейчас заберу бумагу и уйду. А ежели не уходить, то ты, дядька Горь, помолчи, а не то не посмотрю на седину твою, разобью к дьяволу рожу. На твой зов я откликнулся, по твоей просьбе самое дорогое, что у меня есть, принес, хоть и не доверяю горному колдовству. А потому и ты меня уважь. Горь скривился, но смолчал. Беляй, убедившись, что перепалка не продолжится, бросил на стол крошечную ладанку на оборванном ремешке: – Я привез волосы атамановы. Ефросинью Краснову, чай, помните? Фома и Наум кивнули. – Вот у нее забрал. Состригла на память у атамана локон и на груди все это время носила. Нынче на Севере живет, в горнозаводской деревушке – еле нашел. Отдавать не хотела, пришлось силой брать. – Не пришиб? – спросил Наум. – Что ты, Жила! И пальцем не докоснулся. Припугнул токмо. – Эх и хороша была девка, – протянул Фома, разглядывая ладанку. – Но потому атаману и досталась, что хороша. Других-то мы себе разбирали. Его толстые пальцы оборвали ниточку, стягивавшую горловину мешочка, и извлекли завиток волос, иссиня-черных, будто вороново крыло. – Все верно, – с видом знатока сказал Беляй. – Носа не подточишь. Атаман чернявый был. Волосы легли на середину знамени, рядом с ножом и свитком, а взгляды собравшихся обратились к Горю. Старик полез за пазуху: – Я свою долю выполнил, как условлено. Вот земля атаманова. Из его родной станицы. – Достав кожаный кошель, он высыпал на сложенные в середине стола сокровища обыкновенный грунт, сухой, коричнево-серый. – Избу, в которой атаман родился, снесли по императорскому повеленью. На ее месте теперь пустырь. Ничего сложного не было в том, чтобы землицы накопать. – А откуда ж нам знать? – оскалился Елезар Полынник, сложив руки на груди. – Может, ты тут неподалеку нарыл, а нам теперь брешешь? Как проверить? – Ежели б я не хотел, чтоб дело успехом увенчалось, стал бы я его затевать? – сказал Горь. – Это я придумал атамана к жизни вернуть, я вас созвал. Что ж мне, самому себе на горло наступать? – И то верно. – Наум повернулся к Елезару: – Глупость ты сморозил, казак. По-хорошему, дядьке Горю с тебя спросить бы надо за неуважение, но некогда нам сейчас этим заниматься. – Некогда, – подтвердил старик. – Самое важное впереди. Он склонился над столом, осторожно взял знамя за углы, поднял их и связал, получив узелок вроде походного, со всем потребным для колдовства внутри. Земля просыпалась сквозь дыры в полотнище, и ему пришлось придержать узелок снизу ладонью. Затем Горь обратился к ведьме, сказал: – Пора. – И шагнул за занавеску. Остальные торопливо последовали за ним, стараясь не оглядываться. Они прошли через тесную кухоньку, где на сундуке в оцепенении замерла толстая Авдотья, и, миновав обширную клеть, выбрались на задний двор. Здесь, в окружении яблонь и пустых бочек, размахивал деревянной саблей сын хозяина. – Брысь! – рявкнул на него Фома. – Чтоб духу твоего тут не было! Мальчишка послушался. Ему хватило ума броситься в обход дома и не столкнуться с ведьмой, как раз выходившей из клети. Казаки избегали смотреть на нее, но Науму нелегко было справиться с искушением. Девушка двигалась плавно и бесшумно, плыла сквозь сумрак ослепительно-белым силуэтом. Волосы совсем не мешали ей, стелились позади, словно шлейф высокородной дамы. Упругие, налитые груди с маленькими розовыми сосками чуть покачивались при каждом шаге, и Наум зажмурился, боясь, что вот-вот потеряет контроль над собой. Горь приблизился к небольшой, но достаточно глубокой свежей яме возле ближайшей яблони – похоже, здесь был вырыт бочонок с вином – и, бережно опустив в нее узелок, принялся засыпать яму землей. Закопав, отошел к товарищам, стал шепотом объяснять, отряхивая руки: – Это как бы могила атамана получается. Императорские палачи скормили его плоть псам да стервятникам, но суть его, сам он – здесь. Потому и можно… Елезар, не дослушав, круто повернулся и направился было к дому, но Наум схватил парня за руку, остановил: – Погоди! Ты чего? – Видеть не желаю эту колдовскую белиберду! – громким шепотом ответил Полынник. Лицо его потемнело от гнева. – Я лучше внутри подожду. – Ты это брось, – угрожающе прищурился Горь. – Мы все вместе здесь, ради общего дела. – Пусть так! Дело важное, не спорю. Но смотреть на всяческую мерзость я обязательства не брал! Вырвав руку из хватки Наума, Елезар скрылся в избе. Горь выругался, сжал кулаки. – Не серчай, – сказал Наум. – Сам понимаешь, ему тяжело. – А мне не тяжело? Нежный какой. Нет у меня к нему доверия. Щегол! Щенок! – Тише. Мы не для того сюда съехались, чтобы друг на друга зубами скрипеть. Потерпи, научится и он уму-разуму. Горь махнул рукой, опустился на одну из бочек. Сгорбленный и разозленный, старик походил на оголодавшего степного стервятника. Долгая жизнь, состоящая из одних только невзгод и лишений, научила его, вцепившись в добычу, не упускать ее. Наум подумал, что Горь просто отвык видеть в окружающих людях кого-то, кроме врагов. Тем временем ведьма опустилась на колени у крохотной могилы и, положив ладони на влажные комья земли, принялась бормотать что-то неразборчивое, ритмичное, похожее сразу и на колыбельную, и на молитву. Наум прислушался, но не смог различить ни единого знакомого слова. Наверное, это был язык Клятых гор. Казаки замерли, пораженные обыденным величием происходящего. Они пытались творить историю посреди истерзанной холодными ветрами пустоши, лишенной Божьей благодати и людских законов. Они пытались возродить дело, погубленное сильными мира сего, вернуть надежду, которую когда-то, чорт знает сколько лет назад, дал им чернобородый человек, чьего имени сейчас никто уже не смог бы вспомнить. Горстка искалеченных стариков да горная ведьма, существо из страшных сказок, в крохотном безымянном умете на берегу Старшего Ягака, пограничной реки между землями людей и нечисти. Неужели этого достаточно? Наум, подняв глаза к беззвездному небу, решил про себя, что, даже если колдовство закончится впустую, даже если утром им придется разъехаться ни с чем и вернуться к остаткам своих жалких жизней, он не станет жалеть. Главное в свободе – борьба за нее. Ночь накрыла умет промозглой мглой. Пальцы ведьмы были окутаны бледным зеленоватым сиянием. Мерно раскачиваясь, она продолжала читать заклинания, иногда срываясь на пронзительный, почти птичий крик, иногда возвращаясь к едва различимому шепоту. Пахло серой и застарелой болезнью. А потом, внезапно, девушка замолчала. Рывком поднявшись на ноги, она отскочила от могилы и застыла на месте. Казаки, перепуганные и встревоженные, сгрудились вокруг. Земля двигалась. Даже в темноте было видно, как шевелится грунт в яме. Словно под ним извивался клубок змей. Или человек пытался вырваться из пут. – Братцы, нужно ему помочь! – воскликнул Фома, но Горь приложил палец к губам. В полной тишине, затаив дыхание, они наблюдали, как в могилке бьется нечто не мертвое и не живое, то ли в агонии, то ли в родовых муках. Через несколько мгновений из ямы поднялся жалобный, полный горькой муки стон, и земля замерла. – Это что? – спросил Фома, обращаясь то ли к Горю, то ли к колдунье, то ли к пустоте вокруг. – Получилось или нет? Ведьма повернулась к казакам. Лицо ее – для Наума прекрасное и молодое, с родинкой над правой бровью – ничего не выражало. – Ложь, – сказала она. И, замолчав, вновь уставилась на яму. – Как это понимать? – дернул Горя за рукав Беляй. – Так и понимай, – прохрипел Горь, которого душила ненависть. – Так и понимай! Одна из атамановых вещиц, знать, подложная! И я догадываюсь, чья! Чортов сосунок… Круто повернувшись на каблуках, он бросился к дому. Фома поспешил за ним, сдавленно бурча, что стоило бы одуматься и держать себя в руках. Прежде чем последовать за товарищами, Беляй и Наум задержались на минуту, глядя на ведьму. – Кого ты видишь? – спросил Наум. – Дочку, – помолчав, признался Беляй. – Старшую. – Она умерла? – Почем мне-то знать? В избе царила неразбериха. Громыхали оскорбления и ругательства, трещал под ударами кулаков стол, метались по стенам перепуганные тени. Когда, промчавшись мимо хнычущей в кухне Авдотьи, Наум и Беляй ввалились в горницу, Елезар, загнанный Горем в дальний от двери угол, уже положил пальцы на рукоять пистоля. – Не отнекивайся, гаденыш! – рычал старик, тряся кулаком у самого носа молодого казака. – Отвечай, кто тебя подослал! Отвечай, стервец! – Я за него ручаюсь! – взревел Беляй. – Слышишь?! Он встал рядом с Елезаром, оттолкнул Горев кулак: – Не размахивай руками. Я его привел, мне и ответ держать. – Нет уж, дядя Беляй, – сказал спокойным, ровным голосом Елезар. – Я сам за себя постоять сумею. – Вот-вот! – яростно закивал Горь. – Чай, не маленький. Сколько у него там сабель, говоришь? Только вот чорт знает, что это за сабли и на чьей они стороне! Нет, братцы, это крыса… что угодно поставлю, это крыса, которой поручено было наш замысел сгубить. Кто ему разбрехал? Ты? – Я, – с вызовом произнес Беляй. – Потому что я в ем не сомневаюсь, сызмальства его знаю. – Знаток, ети твою мать! – скривился Горь. – Значит, вы заодно с ним? Не зря я думал, что никому с чистой рожей нельзя верить. Кто на каторгу за безбожное дело не пошел, того купить можно, запугать можно, обдурить можно. Паскуды гнилые! – Ты бы язык придержал, – сказал Елезар, и в словах его не слышалось ни капли былого уважения. – А то оборву. – Я тебе сейчас хрен оборву! – орал Горь. – Грамотей поганый! Намалевал на бумажке буковок, за слово атаманово выдал, а мы и поверили, как дети малые, послушали его. Щенок! Сволочье! Ублюдок безродный! Кто тебя надоумил? – Слово атаманово не трожь! – завопил Елезар. – Я его с детства хранил! Это тебе не земли с грядки набрать, старый хрыч! Это тебе не с чортовым отродьем путаться, не продавать себя подороже от одного божка к другому! Атаман бы за такое в харю твою рваную плюнул! Наум не заметил, как в руке Горя появился нож. Да и никто, наверное, не заметил. Короткий кривой клинок сверкнул багровым в отсветах печного огня – а следом, мгновение спустя, полыхнул выстрел. От грохота заложило уши. Из облака порохового дыма выпал навзничь Горь с простреленным горлом. Пока он падал, прямой как палка, все еще сжимая в кулаке нож, Наум вспомнил предупреждение ведьмы, прозвучавшее перед самым появлением Беляя с Елезаром. Дело нечисто, сказала она, стоит быть настороже. Нужно было ее послушать, подумал Наум. Нужно было допросить этих двоих с пристрастием. А потом Горь упал, опрокинув лавку, уставившись в потолок пустыми глазами, и Наум больше ничего не думал. В руке у него оказалась сабля. Рядом встал Фома с палашом и боевым топориком, огромный, словно медведь. – У меня в доме такое не позволительно, – медленно, тщательно выговаривая каждое слово, проскрипел рыжебородый. – Мой гость – мой брат. – Клянусь, мы не помышляли такого исхода, – сказал Беляй, выхватывая оружие. – Вам помочь хотели. Никто не ответил. Они замерли на вдохе, двое против двоих в большой, но темной горнице, полной едкого дыма, примериваясь, присматриваясь друг к другу. На выдохе сшиблись: Наум с Елезаром, Фома с Беляем. Засвистела, зазвенела, заскрежетала сталь. Рубились умело и страшно, не жалея ни себя, ни супостата, вкладываясь в каждый взмах. Беляй был обречен. Сабля в левой руке не могла тягаться с топориком и палашом куда более дюжего Фомы. Он сопротивлялся отчаянно, но быстро выбился из сил. Рыжебородый, только этого и ждавший, в два счета вышиб у него оружие, однако, вместо того чтобы сдаться на милость победителя, Беляй рванулся вслед за отлетевшей к печке саблей. Фома, пропустив бывшего товарища мимо себя, ударил вслед, вонзил лезвие топора в затылок. Сделав по инерции еще пару шагов, казак рухнул лицом вниз. Пальцы на изувеченной ладони дернулись несколько раз и замерли. Топор застрял в черепе, и Фоме пришлось упереться ногой в спину убитого, чтобы вытащить острие. Елезар Полынник и Наум были в равных условиях. Сабля против сабли, на стороне первого – молодость и сила, на стороне второго – опыт и гнев. Клинки плясали вокруг них, сталкиваясь и отскакивая, сыпали искрами. Когда Беляй лишился оружия, Елезар, поняв, что вот-вот окажется в меньшинстве, усилил натиск, заставив противника попятиться. На его счастье, Жила, отступив, приблизился к стене, и на очередном взмахе острие сабли зацепилось за полку, на короткий миг оставив его беззащитным. Этого Полыннику хватило. Он сделал резкий выпад, пронзив Науму грудь, затем пнул в живот, опрокинув на спину, а сам развернулся к Фоме. Уметчик как раз выпрямлялся, выдернув топор из головы Беляя. Елезар рубанул его сбоку, чудовищным по силе косым ударом с потягом. Рыжебородый, рассеченный почти надвое, издал протяжный булькающий хрип и повалился на свою жертву, щедро заливая пол кровью. Елезар, перешагнув через быстро растекающуюся лужу, кинулся к двери. Молодой казак не оглядывался и не видел, как поднимается, скалясь от боли, Наум. Зажимая левой рукой рану в груди, правой он поднял саблю, сунул ее в ножны. Затем подобрал топорик Фомы и, оставляя за собой багровые следы, побрел за Полынником. В сенях Наум едва не упал. Силы стремительно убывали, ноги дрожали и подгибались, голова шла кругом. Лишь навалившись всем телом, сумел он открыть наружную дверь, выбрался на крыльцо и увидел, как Елезар выводит из стойла под уздцы двух лошадей. Из мрака возник невысокий силуэт, перегородил дорогу. Мальчишка направил на казака деревянную саблю: – А ну, стой! Это не твоя кобыла… Голос был звонкий, чистый, ничуть не похожий на отцовский. Но деревянная сабля – не ровня настоящей. Полынник, не сказав ни слова, ударил наискось, снеся рыжую голову. Лошади, боевые, видавшие виды, привыкшие к запаху смерти, лишь недовольно всхрапнули. Опершись на столб, что поддерживал навес над крыльцом, Наум взвесил топорик в руке, примерился и метнул в Елезара. В прошлой жизни, давным-давно, у него это хорошо получалось. Тело отозвалось на движение дикой болью – и он закричал. Как тогда, на другом крыльце, под кнутом палача. В этом крике было больше ярости, чем жалости к себе. Елезар, вздрогнув, обернулся на звук, и топорик, метивший между лопаток, угодил ему в правое плечо с мокрым, отчетливо слышным хрустом. – Ах, гнида! – взвыл он, схватившись за рану. Между пальцев тонкими ручейками побежала кровь. – Ничего, сейчас пройдет, – сказал Наум, спускаясь с крыльца. Каждый шаг давался ему с трудом. – Сейчас, потерпи чутка… Правая рука Елезара повисла плетью, пальцы разжались, и сабля упала в грязь. Наум медленно вытащил свою. – Ты мне кость сломал, – простонал Полынник. – Пес поганый! – Я тебе сейчас и хребет сломаю, – заявил Наум, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. – Подожди немножко. Елезар нагнулся, протянув левую руку за оружием, и в этот момент Жила бросился на него. Он не успел совсем чуть-чуть. Молодой казак оказался проворнее – острие поднятой сабли метнулось навстречу, скользнуло по лицу, распахав кожу от скулы до отсутствующего уха. Наум отшатнулся, но, потеряв равновесие, рухнул наземь. Попробовал откатиться в сторону, однако тело не желало подчиняться, и он замер на месте, чувствуя, как рот наполняется горячей соленой влагой. – Ты так даже на человека похож, – сказал Елезар, стоя над ним. – Когда вся харя в кровище перемазана. Он взмахнул саблей. Топор палача на дворцовом крыльце. Небо, принимающее жертву. Наум зажмурился, не ощущая ни страха, ни досады, и вдруг вспомнил имя своего атамана. Но лезвию не суждено было опуститься. Громыхнул выстрел. Пуля, угодив молодому казаку в глаз, вышибла из него всю дурь. Елезар прошептал что-то перекошенным ртом, поднес к лицу руки, пошатнулся, сделал неуверенный, пьяный шаг в сторону, упал ничком и больше не шевелился. Наум открыл глаза. На крыльце стояла Авдотья с его фузеей в руках. Дуло дымилось. Вот чорт, подумал он, настоящая казачка. Сумеет и перепелок правильно потомить, и ружье зарядить. Не смотри, что зашуганная – стреляет метко. Повезло рыжему. Авдотья уронила фузею и, едва переставляя ноги, побрела через двор к телу сына. Даже сквозь усиливающийся шум в ушах Наум слышал ее причитания. Повезло рыжему, снова подумал он. У него была настоящая жизнь. У него было кого любить. У него было все. И он умер раньше, чем успел это потерять. Повезло. Наум попытался привстать или перевернуться на бок, но ни одна мышца не отозвалась на зов. Плоть больше не принадлежала ему. Лежи, жди конца. Сейчас, сейчас пройдет. Еще немного. Небо над ним было все так же затянуто тучами, все так же беззвездно. Или это он слепнет? Проклятая ведьма! Где она, принесшая беду? Где ты, отродье горных демонов? Сдержи слово, данное Горю, оживи сына этой толстой, несчастной бабы. Разве не слышишь, как она убивается? Авдотья действительно рыдала взахлеб, в полный голос, опустившись на колени рядом с Фролкой, выла и скулила, подобно умирающей собаке, без слов и интонаций. Поднявшийся ветер подпевал ей. Я представлю, что она оплакивает меня, подумал Наум. Никому от этого не будет вреда, верно? Верно? Но окончательно убедить себя он не успел, потому что Авдотья вдруг заверещала. Пронзительно и тонко, будто насмерть перепуганная свинья, а потом, столь же внезапно, замолчала. Каким-то чудом, отозвавшимся новой волной боли, Науму удалось приподнять и повернуть голову. Мальчишка вставал. Неспешно, неуверенно, совершая по одному деревянному движению за раз. Мать, всхлипывая, отползала от него, выпучив в ужасе глаза. Кажущееся нелепо коротким тело слепо шарило в воздухе – по очереди, осторожно, словно вновь учась пользоваться руками. Со скрипом открылась дверь дома, на крыльцо вышел Беляй. Голова его была запрокинута назад, рот широко распахнут из-за отвисшей нижней челюсти. Он шевелился так же, как мертвый мальчишка – шаг одной ногой, шаг другой, взмах рукой – точь-в-точь поломанная кукла на ниточках из ярмарочного балаганчика. Следом выбрался Фома, и Авдотья завизжала вновь, потому что из разрубленного живота ее мужа свисали дьявольской бахромой перекрученные канаты внутренностей, а верхняя часть туловища съехала набок и с каждым отрывистым движением постепенно сползала все ниже и ниже. Третьим шел Горь. Борода его почернела от крови, а в пальцах до сих пор был зажат злополучный нож. Рядом с Наумом задергался Елезар. Лошади, испуганно прядая ушами, попятились в стойло. Но мертвому казаку не было до них никакого дела. Неуклюже передвигая свое непослушное тело, он присоединился к темной процессии, направлявшейся к воротам. Когда сняли засов, из дома, наконец, показалась ведьма. Со свертком в руках – из грязного тряпья выглядывали крохотные ладошки и доносился тонкий младенческий плач, похожий на кошачье мяуканье. Если плачет, значит, живой. Значит, не задохся, пока созревал в земле на заднем дворе. Вот дрянь, подумал Наум, ведь даже не обманула. Ни в слове не соврала. Она действительно умеет воскрешать покойников. Просто казаки возомнили, будто ведьма – гвоздь их замысла, а оказалось наоборот. Видать, для чего-то понадобился Клятым горам вождь разгромленного восстания и, поклявшиеся идти с ним до конца, верные слуги атамановы. Может, там, за хребтом, куда не дотянуться ни империи, ни её ошалевшему от безраздельной власти небесному покровителю, поднявшиеся из мертвых казаки начнут все заново? Может, на этот раз им удастся завершить начатое? Расставаясь с жизнью посреди залитого кровью безымянного умета на восточном берегу Старшего Ягака, безбожник Наум Жила смотрел на ведьму и улыбался. Он видел ее в истинном обличье и, если б мог, возблагодарил бы Господа за то, что умирает, потому что живым никогда не познать подобной красоты. Наум не спешил. Знал, что она дождется.Анатолий Анатольевич Уманский Догоняй!
© Анатолий Уманский, текст, 2024 © Константин Лоскутов, ил., 2024 © Оксана Ветловская, ил. на обл., 2024 © ООО «Издательство АСТ», 2024Рассказы

Догоняй!
Воздушный змей появляется у разрушенной хибары в томный июльский день – один из тех нестерпимо жарких часов, когда все живое ищет укрытия в прохладной тени. Все живое, кроме детей – этих не страшат ни зной, ни стужа, ни смерть. И мальчишка, решивший исследовать развалины, не боится ни того, ни другого, ни третьего, разве что темноты – немножечко. Но темноте в этот день нет места, солнечные лучи пронизывают даже сумрачное нутро заброшенной халупы сквозь дыры в прогнившей кровле, в серебристых столбах света танцуют искрящиеся пылинки. От затхлости противно щекочет в носу, а среди гниющего тряпья и битых бутылок нет-нет да и попадется подсохшая желто-коричневая кучка, в которую так гадко вляпаться ногой в сандалике. Сокровищ и привидений не завезли, одна ан-ти-са-ни-та-рия. Но когда мальчик, разочарованный, выходит из развалюхи, сокровище уже ждет его. Приставив ладошку козырьком ко лбу, мальчик разглядывает свою находку. Змей лениво колышется над землей, почти метя длинным веревочным хвостом выгоревшую на солнце траву, словно приглашая схватить его. На первый взгляд нет в нем ничего примечательного – просто сужающийся книзу ромб с длинным хвостом-бечевкой. Кроме глаз. Они живые, эти огромные глаза, будто и не нарисованы на плотной цветной бумаге, они смотрят в самую душу, бередя в ней что-то потаенное, запретное… Вчера мальчик справил свой седьмой – последний – день рождения, и ему кажется, что это запоздалый подарок, которого он всегда ждал. Мальчик протягивает к бечевке дрожащую руку, но налетевший невесть откуда ветер подхватывает змея и несет прочь. Со смехом мальчик бросается вдогонку. Он бежит через поле, не видя ничего, кроме чудесного летуна, который никак не хочет даваться в руки, словно живой. Стоит протянуть к нему руку, как он отлетает в сторону, дразня, насмехаясь: попробуй догони! Еще немного, и мальчик схватит добычу за хвост, совсем чуть-чуть… Но раньше его нога наступит на крышку заброшенного колодца, затянутую мхом и поросшую муравой. В колодце давно не осталось ни воды, ни лягушек; их сожрали новые хозяева – серые крысы, источившие стены дырами. Прогнившее дерево с треском лопается, острые щепки, разодрав ткань шорт, впиваются мальчику в бедра и пах, словно пытаясь удержать его от падения в черный провал – тщетно. Он летит вниз, взметнув руки в последней попытке ухватиться хоть за что-нибудь, и будто в насмешку змей позволяет ему поймать бечеву. А потом череп мальчика разбивается о каменное дно, и гулкая полость эхом разносит предсмертный крик. Прежде чем разжаться, пальцы умирающего ребенка в последней конвульсии стискивают бечеву… И нарисованные глаза змея расширяются – да-да, распахиваются, словно в безумном восторге. Словно и не нарисованные вовсе. Змей взмывает в пронизанную светом небесную высь, а из темноты к неподвижному телу уже стекаются со всех сторон полчища крыс. Никто не слышал крика, ничто не прервет пиршества грызунов, и, когда спустя пару недель мальчика все же найдут, отец не сумеет его опознать. А змей парит над полями, над лесами, над городами и городишками, пронизывая глазищами небесную синь. И вот она, рыжая, веснушчатая девчонка-сорванец, сидит на развилке шершавого старого вяза, болтая ногами, в пальцах дымится стащенная у матери сигарета. Завидев змея, мерит его прищуренным взглядом, соскальзывает на землю и направляется к нему вразвалочку, пряча руки в карманах обрезанных шорт и всем своим видом давая понять: не больно-то ты мне сдался. Только неправда, она уже очарована. И когда ветер выдергивает бечеву у нее из рук, девочка издает стон досады и устремляется в погоню. Снова повторяется веселая погоня, снова пляшет в небе чудесный змей, дразня, ускользая, уводя девчонку в близлежащую рощу и дальше – туда, где рельсы прорезают зеленые дебри и уже грохочет из-за поворота тяжелогруженый состав. Но девчонка не видит и не слышит, она боец и не привыкла отступать, тем более добыча совсем близко, только протяни руку… Напрасно жмет на тормоза пораженный ужасом машинист – локомотив сносит маленькую растрепанную фигурку, выплевывая из-под колес шипящие искры вперемешку с густыми алыми брызгами и ошметками плоти. Следующие годы лучшие доктора будут пытаться вернуть машинисту рассудок, ну а змей летит дальше. Горе и безумие взрослых не заботят его. Его дело – дети. Он мастер своего дела, и немало детей умрут сегодня, прежде чем змей попадется на глаза старику, сидящему на крылечке с бутылкой пива в натруженной руке. Старик вскидывает голову и не сразу верит своим глазам. Как будто время отмоталось на полвека назад, в тот ясный день, когда они с сестренкой увидели яркое пятно, колышущееся в безоблачном синем небе. Пробежав за ним несколько кварталов, они очутились на глухом пустыре, где их уже поджидала стая оголодавших бродячих собак. Старик снова слышит остервенелое рычание псов, отчаянный крик сестренки, когда слюнявые пасти рвали ее лицо и руки, собственные вопли ярости и горя… Шрамы остались у него на всю жизнь, а самый глубокий пролег в сердце, когда он узнал, что в тот день погибли еще четверо детей, и каждого видели бегущим за воздушным змеем. Годами старик собирал новости о таинственной гибели детей, пытаясь понять, что являет собою змей и откуда он взялся. Быть может, дряхлый колдун из страшной сказки смастерил его, вложив в сооружение из бумаги и реек всю свою злобу, или очередной маньяк, завлекавший детишек милыми их сердцу пустяковинами? Какая, к черту, разница. Чем бы это ни было, его не должно быть. Старик исчезает в доме, возвращается с дробовиком. Вскидывает, пытаясь поймать змея на мушку. Зрение уже не то, артрит изглодал суставы, но он уверен, что не промажет. Не имеет права промазать. А потом его глаза встречаются с нарисованными глазами. Всего на секунду, но этого достаточно, чтобы совсем другие мысли наполнили голову старика. На негнущихся ногах, словно автомат, он выходит со двора и шагает через дорогу. Там – детская площадка, там юная жизнь извещает о себе визгом, и смехом, и счастливыми криками, которые вскоре сменятся отчаянными воплями ужаса. Он будет бить не целясь, но не промахнется ни разу, последним же зарядом снесет себе череп и останется среди развороченных дробью тел, маленьких и больших. Некоторые живые в этот день позавидуют мертвым, некоторые сведут счеты с жизнью. Змей же беззаботно полетит дальше. Уже много лет длится его полет – и будет длиться до тех пор, пока детей не страшат ни зной, ни стужа, ни смерть.Америка
Колоши напали зимним утром, когда над стенами форта забрезжил серый рассвет, а часовые, грезившие о теплых постелях, сделались невнимательны. Бесшумно ступая по мягкому снегу, возникли из леса звероголовые тени и, крадучись, припустили к бревенчатой стене крепости. Сонную тишину нарушил свист, и в глазу одного из часовых внезапно выросло дрожащее древко стрелы. Он рухнул со стены, однако, падая, успел нажать на спусковой крючок винтовки, и треск выстрела немедленно привел в чувство остальных. Звонко грянул набатный колокол, разразились лаем собаки, и, когда индейцы выскочили из-за деревьев и бросились к стенам форта, их встретил мощный ружейный залп со стен и блокгаузов. Колоши, в отличие от всех прочих туземцев, обращались с ружьями ничуть не хуже русских стрелков и превосходно владели луками; воины, укрывшиеся за деревьями, обрушили на защитников форта град стрел и немало проредили их ряды. В ответ рявкнули хором пушки, и ядра с воем полетели в лес. На миг наступила оглушающая тишина, а потом раздался рев, и к небу взметнулись четыре столба земли вперемешку с тающим снегом. Сосны с треском рушились наземь, некоторые занялись пламенем, но гул огня заглушили дикие вопли индейцев. Тем временем ударный отряд уже забрасывал на частокол веревки с длинными крючьями. Индейцы с кошачьей ловкостью полезли наверх. Русские, не успевая перезаряжать винтовки, били нападающих прикладами в скрытые звериными масками лица, кололи штыками, пытаясь пробить их легкие деревянные доспехи, сбрасывали со стен и тут же валились сами, сраженные стрелами и пулями. К тому моменту, как из казарм подоспели оставшиеся офицеры, индейцы уже расправились с последним часовым. Они влезали на стены и сыпались во двор, размахивая винтовками, копьями и топорами. Из домов, кто в чем был, уже бежали с ружьями промысловики и алеуты. По пришельцам открыли огонь, и тут пришлось несладко краснокожим: пули с легкостью пробивали их деревянные панцири. Индейцы падали и корчились, пятная кровью утоптанный снег, но часть их все равно остервенело ползли вперед. Избежавшие пуль воины врезались в защитников форта, некоторые тут же с воем повисли на штыках, боевые топоры и тяжелые палицы разили направо и налево, рассекая шеи, раскраивая черепа. А потом немногие уцелевшие индейцы обратились в бегство. С невероятным проворством добегали они до стен и, взобравшись на них, исчезали за частоколом. Однако за время, что потребовалось им на это, они успели услышать от победителей немало слов, значения которых, на свое счастье, все равно не поняли. Это было уже второе нападение дикарей, и оно оказалось гораздо успешнее первого, когда колошам не позволили даже подойти к стенам крепости. Нынешним же утром жизнь всех ее обитателей висела на волоске. Угрюмое серое небо постепенно светлело,наливаясь нежным, стыдливым румянцем, но людям, что бродили среди раненых и умирающих, пытаясь определить, кому еще можно помочь, было не до красот. Глухо и страшно выли потерявшие мужей бабы. Осип Уваров, помощник коменданта крепости Белкина и один из лучших охотников в поселении, вместе со всеми бродил среди распростертых тел, когда почувствовал, как его схватили за ногу. Обернувшись, увидел раненого индейца; удерживая охотника, дикарь уставился на него пустыми черными глазами, а потом вдруг раскрыл рот и вцепился зубами ему в сапог. Уваров на мгновение помертвел лицом, а потом перехватил ружье за ствол и со всей силы обрушил приклад на черноволосую, украшенную перьями голову. Послышался гулкий стук, и индеец захрипел. Охотник поднял ружье и ударил снова, потом еще раз и еще… Окружающие смотрели на эту расправу мрачно, но без осуждения. Все знали, что у Уварова полгода назад умерла жена, оставив на его попечении грудного сына; знали также, что колоши, захвати они крепость, расправились бы с детьми не менее жестоко, чем со взрослыми. Все понимали ярость Уварова. Уваров бил прикладом снова и снова. Глухой стук сменился хрустом, хруст – чавканьем. Наконец охотник отбросил ружье и сел на землю, спрятав лицо в мозолистых ладонях. Появился сам комендант, рослый и подтянутый, с русой бородой и мрачными голубыми глазами. Окинул взглядом побоище и распорядился коротко: – Мертвых снести на ледник. Раненых – в лазарет. Дикарей сжечь. – После чего подошел к Уварову, положил руку ему на плечо и тихо промолвил: – Ванятка-то твой, верно, ревет: как там батька, жив ли? – Ревет, непременно ревет, – отозвался Уваров, поднимая голову и глядя на коменданта слезящимися глазами. – Он последнее время вообще частенько ревет: зуб у него, вишь-ты, режется! – Тут охотник даже нашел в себе силы улыбнуться, но потом взглянул на распростертое у своих ног тело дикаря с обезображенной головой и вновь помрачнел. – Сниматься нам надо, Лександр Сергеевич. Нехристи эти не уймутся, пока всех нас не перережут, как курей. Вон, михайловские… Белкин сжал пальцы в кулаки: – За михайловских еще ответят! Говорят, Баранов карательную экспедицию снаряжает. Отгулялись колоши. Уваров продолжал: – Оружие, шкуры, провизию – сегодня же надобно снести на лодки… – Как прикажешь это сделать? – спросил Белкин. – Море замерзло. Застряли мы тут, братец Осип. Мимо прошли двое дюжих алеутов с носилками, на которых лежал неподвижно офицер с разбитым черепом. Белкин поскорее отвернулся, чтобы не видеть стеклянных глаз на свинцовом, в алых потеках, лице. Уваров перекрестился. – Упокой Господи душу раба Твоего… – сказал он. – Нет, Лександр Сергеевич, иного выхода я не вижу. Сколько у нас здоровых мужиков-то осталось? Человек пятнадцать наших да две дюжины алеутов. А этих раза в два поболе будет. Как лед тронется, так надо отчаливать.* * *
Тела колошей свалили на кучу дров в центре двора, и угрюмый алеутский охотник подпалил их длинным факелом. Трупы вспыхнули сразу, но горели медленно, распространяя вокруг удушливый запах паленого мяса с примесью жженой охры, коей индейцы имели обыкновение натираться с головы до ног. На краю селения могильщики-добровольцы заранее рыли могилы для павших товарищей, морщась от вони и кляня мерзлую землю. Сизый дым косым столбом уходил в безоблачное голубое небо, и Белкин, наблюдавший за всем в окно своего кабинета, задавался вопросом: видят ли этот дым индейцы и доносит ли до них ветер запах горящей плоти их погибших собратьев. Если так, то ярость их, наверное, безгранична. Новое нападение неизбежно, и как знать, чем оно закончится? Но, если и в следующий раз отразят, индейцы нападут снова… О, проклятым дикарям не занимать терпения, ненавидеть они умеют. Он помнил разорение Михайловской крепости, помнил и страшную участь замечательного охотника Василия Кочесова, которого в свое время хорошо знал, – от него, живого, индейцы отрезали куски и заставляли есть их под радостный смех своих обезображенных детей и женщин. А ведь Михайловская крепость была куда больше их маленького форта! Одно утешение – семьей за тридцать пять лет жизни комендант так и не обзавелся. За родных бояться не надо, да и вдову с сиротами, ежели что, не оставит. Большинство же промышленников были люди простые, не обремененные излишней моралью; они вовсю сожительствовали с алеутками, иные (к великому отчаянию проводившего в крепости службы иеромонаха Анисия) располагали целым гаремом. Однако некоторые успели уже обзавестись детьми, а были и такие, кто сочетался с туземками законным браком. Не красавицы, зато верные да работящие – большего мужику и не надобно. Кто же мог знать, что индейцы на русских войной пойдут? И нет теперь мужикам ни сна ни покоя: добро бы лишь за себя боялись… Нет, думал комендант, промысел для нас и впрямь окончен, придется это признать. Но как продержаться до того, как расколется лед? Не исключено, что к этому времени живых в крепости не останется… Белкин заходил по кабинету, ероша обеими руками волосы. В дверь постучали. – Войдите! – раздраженно бросил он. Вошел штаб-лекарь Михель – высокий худощавый мужчина средних лет, с соломенными волосами до плеч и длинным гладко выбритым лицом. Одет он был в довольно старомодный черный камзол с белоснежными манжетами, каковые в суровой обстановке форта казались совершенно неуместными. Он сцепил длинные тонкие пальцы на животе и коротко поклонился. – Ах, это вы, Отто Францевич! – сказал Белкин. – Вы разве не должны быть сейчас в лазарете? Михеля он не любил. Дело свое тот разумел превосходно, но отличался скверным характером; поговаривали вдобавок, что еще со студенческих лет обзавелся он привычкой глушить хандру стопкой медицинского спирта, иногда и не одной. Белкин подозревал, что именно поэтому доктор проглядел в свое время жену Уварова, однако с самим Уваровым своими догадками не делился: чего доброго, пристрелит немца, норов у него… – В лазарете мне делать нечего, – мрачно ответил врач, расцепив пальцы и тут же заложив руки за спину. – Эти бестии знатные рубаки. Тут не я, тут отец Анисий нужен. Однако ж я к вам по делу. Полагаю, вы, как и я, раздумывали сейчас над положением, в котором мы оказались? – Именно так, – подтвердил Белкин. – И что же вы решили? – Когда расколется лед, возьмем лодки, погрузим на них все необходимое и постараемся доплыть до крупного поселения. В случае, если дикари снова нападут, оставим форт и отступим в леса, где попытаемся выживать, как сумеем. Ничего лучше придумать я не могу. – А вы не думали с ними договориться? – Отто Францевич, – проговорил Белкин, устало закрыв рукой лицо, – если вы думаете, что с этими… – «Эти», – сказал Отто Францевич, – такие же люди. А с людьми при желании договориться можно всегда, надобно только знать их слабости. Должен отметить, что они сейчас находятся в столь же безвыходном положении, что и мы. Даже в худшем: не исключаю, что в племени начались смерти от голода. Зима выдалась суровой, а мы извели у этих берегов практически все живое, кроме разве что насекомых, да и тех зимой не сыскать. Я всегда говорил, что жадность не доведет Российско-Американскую компанию до добра. У них теперь возможен и каннибализм… Вы слышали когда-нибудь про Вендиго? – Нет. Что это? – Очень интересное туземное верование. Индейцы утверждают, что в лесах обитает злой дух, охочий до человеческой плоти. Когда-то Вендиго были людьми, но однажды отведали человечины и превратились в ненасытных чудовищ. Они умеют вселяться в людей и заставлять их совершать неслыханные злодеяния… – Ближе к делу, – оборвал Белкин. – Признаться, у меня нет охоты слушать индейские сказки. – Не торопитесь, Александр Сергеевич, – ничуть не обиделся Михель. – Сказки эти имеют самое непосредственное отношение к делу. Так вот, Вендиго может заставить человека пожирать всех и вся, включая ближнего своего. Любой, кто, не выдержав голода, стал каннибалом, считается в племени за Вендиго, и его немедленно убивают. Самое любопытное, что преступник также уверяется, что отныне он – Вендиго, нередко сам уходит в лес, где непрестанно охотится, нисходя до животного состояния. Любой индеец больше всего на свете боится зимнего голода… Впрочем, слово «Вендиго» распространено только у алгонкинских племен. На языке тлинкитов он зовется по-иному, а как – никто из белых не знает: индейцы боятся произносить его имя. – Откуда вам все это известно? – спросил Белкин. – Лет десять назад мы с товарищем заблудились в лесах, – сказал Михель. – Товарищ мой вскоре погиб, а меня, полуживого от голода, подобрало одно тлинкитское племя. Хотели сделать меня рабом, но я выменял свободу на рецепт приготовления древесного спирта… Не поверите, спирт творит с ними чудеса – они, когда пьяненькие, сразу ангелами становятся, а уж болтливы! Но даже зеленый змий не заставил их раскрыть мне имени своего духа-людоеда. Между собой они называют его Бегущим Ветром. Это как у русских для обозначения бесов – нечистые, рогатые, ненаши… Хотя Вендиго, скорее, родня лешему. – Интересно, – снова прервал разговорчивого медика Белкин. Помассировал виски и подумал: он, подлец, видно, уже с утра под мухой. – Из всей вашей истории я понял одно: индейцы боятся голода. И?.. – И, если мы предложим индейцам половину наших запасов, они, возможно, согласятся заключить хотя бы временное перемирие. – А самим жить впроголодь. – А самим жить впроголодь, – спокойно повторил лекарь. – Не опасаясь нападения. – Ну! А они потом да исподтишка?.. – А мы отравим отданную им снедь. На мгновение в кабинете повисла тишина. Потом Белкин сказал: – Но это же дикость. – Дикость только и обеспечивает выживание человека в диких местах, – философски заметил Михель. – Ведь они отнесут эту пищу в свое племя! Женщины, дети… – Наши женщины, – произнес лекарь. – Наши дети. Никаких других женщин и детей я не знаю. Врешь, подумал Белкин. Врешь, мерзавец. Не за женщин и детей наших – за свою шкуру боишься. А вслух сказал: – Но ваша клятва Гиппократа… – Гиппократ, – торжественно поднял палец лекарь, – понятия не имел, что на свете живут индейцы, а уж тем более – тлинкиты-колоши. И, уверяю вас, если бы узнал, то помянул бы их в своей клятве как допустимое исключение. Был я в их, с позволения сказать, домах: грязь, вонь, вши… Обезьяны и то чистоплотнее. – Что же вы, Отто Францевич, и Бога не боитесь? Доктор скривился и махнул рукой. – Допустим… Однако они, возможно, нас и слушать не станут. Или даже согласятся для виду, а потом нападут во время передачи пищи. – Есть другой вариант, – не растерялся Михель. – Мы сложим пищу прямо перед фортом, и при появлении индейцев часовые просто крикнут им, чтобы забирали пищу и не трогали нас. В этом случае они не оставят своих кровожадных намерений, но это уже не будет иметь для нас никакого значения. – Что я вас, право, слушаю! – воскликнул Белкин. – Индейцы не дураки: они снимут пробу. – Видите, вы уже практически согласились, – усмехнулся Отто Францевич. – На этот счет не волнуйтесь: я сумею смешать такой состав, который подействует не раньше чем через сутки. Так что пускай снимают. Соглашайтесь, Александр Сергеевич. Помните: от вашего решения зависит жизнь всех нас. – А хватит вам яду-то? Губы лекаря изогнулись в усмешке: – На всех и каждого, не извольте беспокоиться. Должен заметить, что в изготовлении ядов любой умелый врач куда успешнее, нежели в спасении жизней. – Я должен подумать, – тихо сказал Белкин, стараясь не глядеть на Михеля. Лекарь внушал ему теперь такой ужас, что комендант поклялся про себя, что, даже будучи при смерти, не вверит себя его заботам. Он сам успел проникнуться к дикарям лютой ненавистью, мечтал о карательной экспедиции, но одно дело насильственное усмирение племени, и совсем другое – полное уничтожение. И тем не менее… Что бы ни двигало лекарем, забота о товарищах или страх за себя, его план действительно давал надежду. – Подумайте, – кивнул Михель. – Однако времени на раздумья у вас в обрез.* * *
Ночь комендант провел беспокойно. Он то задремывал, то просыпался и долго лежал в темноте, обдумывая страшное и дерзкое предложение Михеля. Однако решения принять так и не смог. За ночь небо сплошной пеленой затянули тучи, к утру они прорвались снегом. Когда Белкин вышел на двор размяться, утоптанный грязный наст скрылся под мягким белым покрывалом, а все постройки были увенчаны белыми шапками. Александра Сергеевича посетил мальчишеский порыв: нагнуться, скатать крепкий снежок, а потом залепить им в спину огромной бабище в пуховом платке, которая как раз шла от колодца, сгибаясь под тяжестью коромысла с двумя полными ведрами. С крепостной стены спустилась закутанная в меховую шубу фигура и, тяжело ступая, направилась к Белкину. Комендант узнал Уварова. Лицо охотника было угрюмо. – Лександр Сергеич, – начал он, – тут к нам немец наш подходил… Михель, стало быть… рассказывал про свою задумку… – Уже разнес, плут, – с тоской сказал Белкин. – Чертов Михель! Это он нарочно. Чтобы ходу мне назад не было. Ты-то, конечно, за? – Был бы против, да за сынка боязно очень, – ответил Уваров. – Да товарищи тоже за малых да жен трясутся. Потолковали мы тут с ними… По всему видать – нету иного выхода, кроме как грех на душу взять. – Уже и потолковали, значит. А как я «нет» скажу, тогда что? – Комендант с вызовом посмотрел Уварову в лицо. Тот явно стушевался: – Мы что… Мы ничего, мы как скажете… А только Христом Богом прошу, Лександр Сергеевич: пожалейте людей. – Ты знаешь, что слово «тлинкиты» на индейском наречии означает «люди»? – спросил вдруг Белкин. – Оно так, но… – Всяк себя человеком считает, вон и колоши… Не знаю, смогу ли после такого спать. Ну да воля ваша. Созови мужиков, вечером совет держать будем.* * *
Александр Сергеевич обвел взглядом переполненный зал собраний и поморщился. Он просил собрать мужиков, но мужики привели с собой баб, а кое-где Белкин, к великой своей досаде, заметил и ребятишек. Даже Уваров, уж на что светлая голова, явился с младенцем, который сейчас мирно посапывал на руках у своей кормилицы Катерины, крещеной алеутки, не обращая внимания на стоявший в зале нестройный гул. Видно, наревелся за утро. В углу сидели уцелевшие после вчерашнего боя офицеры – они тихо переговаривались между собой, украдкой бросая взгляды на коменданта. Мужчины-алеуты на собрание не явились – Белкин оставил их стеречь крепостные стены. «Кой смысл их приглашать? Эти-то точно будут за, – рассудил Александр Сергеевич. – Натерпелся их брат от колошей – не приведи Господь. Да и зорче они нашего офицерья, дикарей еще в чаще заметят». Комендант поднял руку и вдруг обнаружил, что ему попросту нечего сказать. – Господа… – выдавил он и замолчал. Последовала пауза, а за ней – недовольный ропот. – Господа, вот Отто Францевичу есть, стало быть, что нам сказать. Прошу вас, Отто Францевич! Михель вышел на середину зала. Лицо его было серьезно, но глаза блестели едва ли не озорством. Белкину вспомнилось, как в детстве он с другими мальчишками иногда поджигал муравейники: такой же блеск он видел тогда в глазах товарищей. Все взгляды обратились к лекарю. Откашлявшись, Михель потер костлявые руки и неторопливо, обстоятельно изложил свой жестокий план. Когда он закончил, в зале на минуту воцарилась тишина. Потом снова поднялся гул, и он, как и ожидал Белкин, был по большому счету одобрительным. Однако не все голоса присоединились к общему хору. Со своего места поднялась вдруг фигура в черной рясе. Отец Анисий сжал рукою тяжелый нагрудный крест. – Что же вы, христиане? – спросил он тихо, но его голос разнесся по всему залу. – Где ж это видано, чтобы не в бою, а ядом – ядом! – да целый народ со старыми и малыми изводить? И опять притих зал. Слышно было, как плачет за бревенчатыми стенами разгулявшийся ветер. Наконец подала голос какая-то баба: – Да вы бы, батюшка, о детишках хоть подумали! Нешто их жизни не стоят жизней этих зверей лютых? – Стыдно, Марфа, – промолвил отец Анисий. – Жестокость женщину не красит. Я одно только скажу: ежели согласитесь на сию мерзость – всех предам бессрочной анафеме. Слово мое крепко. – У вас, почтеннейший иеромонах, и полномочия есть? – осведомился Михель. – Не сан дает полномочия, а заповеди Божии, – твердо отвечал священник. – Но позвольте, – вмешался Белкин, сам не ожидавший, что поддержит немца, – ведь это обычная практика у многих колонистов… – В Содоме с Гоморрой тоже имелась своя «обычная практика», – сказал отец Анисий. – Надобно ли напоминать, чем дело кончилось? Тут поднялся такой гвалт, который больше пристал бы двум помянутым городам. Большинство встало на сторону лекаря, иные даже порывались накинуться на отца Анисия с кулаками, однако немало людей выступили в его защиту. Вспыхнула драка. Напрасно кричал Белкин, пытаясь утихомирить собравшихся, – его голос заглушала гнусная брань и грохот опрокидываемых скамеек. Офицеры пытались разнимать, но не особо усердствовали. Дети плакали. Михель, скрестив руки на груди, наблюдал за побоищем и в открытую ухмылялся. Комендант вытащил пистолет; ему очень хотелось пальнуть в самодовольную физиономию лекаря, но вместо этого он выстрелил в потолок. Крики и грохот стихли – все замерли, кто где стоял. А потом зал огласился басовитым ревом – это проснулся, наконец, сынишка Уварова. Самого Уварова Белкин заметил среди горстки людей, защищавших священника, и проникся еще большим уважением к охотнику, который, несмотря на то что поддерживал идею Михеля, все же не давал батюшку в обиду. За что и пострадал: бровь его была рассечена, и тонкая струйка крови пятнала ворот рубахи. – Слушайте все, – проговорил комендант. – Если драка немедленно не прекратится, виновные отправятся под арест. Разгром немедленно убрать. Обсуждение закрыто до времени… – Вы глупец! – бросил Отто Францевич. Белкин скрипнул зубами и повернулся к нему: – А вам, дорогой эскулап, я вот что скажу: ежели вы еще раз позволите себе сеять смуту и бросаться оскорблениями в адрес начальства – клянусь, я и вас засажу под арест. Лекарь захохотал, показав длинные зубы: – А что, валяйте! Болезни да раны исцелят молитвы почтенного батюшки – он у нас вон истинный праведник! – Замолчите, Михель! – рявкнул Белкин, чувствуя, что теряет над собою власть. Теперь к ним обратились все взоры. – Подите прочь, вы пьяны… – А хотите дыхну? – вновь рассмеялся доктор. И, не дожидаясь ответа, широко раскрыл рот и выдохнул струю зловонного воздуха прямо Белкину в лицо. Спиртом не пахло. Пахло гниющим мясом и свернувшейся кровью. Белкин отпрянул, чувствуя, как злость внезапно сменилась необъяснимым страхом. – Взять его! – закричал он и со стыдом услышал в собственном голосе визгливые нотки. Двое офицеров тут же встали и поспешили к распоясавшемуся немцу. И тогда началось. Один из офицеров протянул руку, чтобы схватить лекаря за плечо. И в этот миг Михель переменился. Он будто стал выше ростом и раздался в плечах, при этом сгорбившись, словно зверь. Камзол его затрещал, несколько пуговиц отлетело. Тонкие длинные пальцы поймали в воздухе кисть офицера, стиснули и раздавили с отвратительным влажным хрустом, раздавили с такой же легкостью, как человек давит в кулаке муху. Офицер на мгновение замер, а потом завыл. Михель тут же схватил его другой рукой за густо поросшую бородой нижнюю челюсть и одним махом выдрал ее с мясом. Офицер издал визгливое мычание, будто теленок на бойне; язык его дергался под кровавыми сосульками бороды и усов. Он грузно осел на пол и затих. Второй офицер отпрянул, зацепился ногой за ногу, упал. Дрожащими пальцами зашарил по поясу, ища пистолет. Михель захохотал, и смех его походил на уханье филина. Взмахнув рукой, он швырнул кровоточащую челюсть в пораженную ужасом толпу. Зал огласился воплями и визгом. Потерявшие от страха голову люди гурьбой ринулись к дверям. Белкин трясущимися руками пытался перезарядить пистолет. Пуля выскользнула у него из пальцев и запрыгала по дощатому полу. Откуда-то сбоку грянул выстрел – это пальнул второй офицер. Но пуля зависла перед лицом немца, не причинив тому ни малейшего вреда, а потом, вращаясь, со свистом полетела назад и угодила обратно в дуло. Пистолет разлетелся вдребезги, разворотив и державшую его руку. Офицер завизжал, перекатился на живот и на локтях пополз прочь. Михель раскинул руки, словно хотел заключить испуганных людей в объятия. И, будто повинуясь его жесту, окна вдруг взорвались, и в зал с ревом ворвался снежный вихрь. Ливень осколков ударил по толпе, стекло втыкалось в лица, в руки, рассекало глаза. Многие попадали на пол. Уцелевшие, топча их и сбивая друг друга с ног, ломились к двери. Они раздавали удары направо и налево, продираясь к выходу, не щадили даже детей, заглушая их плач криками и бранью. Обезумевшая толпа хлынула на двор. Лекарь, не обращая внимания на бегущих, подошел к пытающемуся уползти офицеру. Ударом ноги в плечо он опрокинул злосчастного стрелка на спину, ухватил за грудки, рывком поднял на ноги… Офицер тихо всхлипнул. Михель впился зубами ему в лицо. Офицер по-заячьи заверещал. Белкин оцепенело наблюдал за происходящим, чувствуя, что вот-вот сойдет с ума. Или уже сошел? Ведь не может такого быть, не мог желчный пьяница Михель превратиться вдруг в чудище неуязвимое… Обмякшее тело офицера повалилось на пол. С набитым ртом Михель повернулся к коменданту. Сглотнул. Белкин готов был поклясться, что шея доктора раздулась, как у змеи, когда ком изжеванной плоти проходил через его глотку. – Я предлагал вам потравить этих тварей, – произнес Михель неузнаваемым рокочущим голосом. – Вы же послушали попа. Пусть теперь он попробует вас защитить! Чья-то рука схватила коменданта за плечо и потащила в сторону. – Бежим! – гаркнул прямо в ухо знакомый голос. Повернув голову, Белкин увидел Уварова, чье лицо исказил ужас. Он потащил коменданта к маленькой боковой двери. – Бегите! – проревел Михель. – Бегите! Они вырвались за дверь и сразу угодили в воющую бледно-серую мглу. Метель секла лицо, выхлестывала глаза. Ветер пронизывал до костей, казалось, он выдувает из тела жизненное тепло. Уваров что-то прокричал, но Белкин не расслышал за ревом ветра. – Что?! – крикнул он в ответ. Но ответить Уваров не успел: со всех сторон грянули отчаянные, полные муки вопли, заглушившие даже свист и завывания ветра. И жалобно визжали собаки. Потом послышался глухой стук, словно что-то тяжелое упало на землю с большой высоты, и один из кричавших умолк. Еще один стук – еще один крик затих. Взвизгнула, прежде чем навсегда умолкнуть, собака… Один за другим крики обрывались глухими ударами, и вскоре уже ничего было не слыхать, кроме завываний разбушевавшейся стихии. Как будто все обитатели форта – промысловики, алеуты, офицеры, дети и женщины – растворились в снежной круговерти. – ЭЭЭЭЭЭЭЙ!!! – завопил Белкин, но ледяной ветер тут же заткнул ему рот. – Ээээээй! – слабо отозвались из темноты. – Ка-те-ри-на! – прокричал Уваров. И тут же откуда-то издалека донесся детский плач. – Сбереги Ванятку, Катеринушка, – зашептал Уваров и потащил растерянного коменданта туда, откуда доносился плач. – Не дай упырю до него добраться! И, словно в ответ, послышался звонкий отчаянный крик. Он тут же оборвался. Уваров на мгновение замер, а потом рванулся вперед. – Осип, стой! – кричал Белкин. Позади раздался оглушительный треск, потом грохот. Земля вздрогнула под ногами. – Здание обрушилось… – прошептал комендант. Из глаз текли слезы – от отчаяния или секущего ветра, того он и сам не знал. – Что же это, Осип?.. Уваров, не обращая на него внимания, пробивался дальше, сгибаясь под порывами ветра. – Эээээй! – закричал он и вдруг, споткнувшись обо что-то в снегу, рухнул навзничь, увлекая за собой Белкина. Тот слепо вытянул руку и коснулся пальцами чего-то мягкого, теплого, мокрого. Пригляделся – и почувствовал, как сердце ухнуло куда-то в живот. На снегу, разметав руки, лежала Катерина. Парка ее была распахнута, нательная рубаха разодрана; разодрана была и сама Катерина – от горла до паха. Из вспоротого живота вывалилась розовато-сизая требуха, от нее еще тянулся пар. На месте полных грудей зияли огромные раны, тускло поблескивали в них белые дуги ребер. Снежинки таяли в широко раскрытых глазах. Ребенка при ней не было. Уваров заревел зверем. Он оттолкнул Белкина и вскочил. Снова послышался жалобный детский плач… а потом свист. Не свист ветра, нет, этот был гораздо пронзительнее, гораздо страшнее: в нем звучала какая-то игривость, какое-то жестокое лукавство. Он вонзался в уши, леденил кровь, лишал рассудка. Свист сменился гулким смехом. – Охотник! – прокричал Михель из-за кружащейся снежной завесы. – Это я сгубил когда-то твою бабу! Прости великодушно: напился пьяный, да закусить было нечем, ну и проморгал! Ништо, теперь у меня и закуска есть! Слышишь, как надрывается? Уваров кинулся на голос. Напрасно пытался удержать его Белкин: страх за сына лишил охотника всякого благоразумия. – Стой, Осип! – кричал комендант. – Стой, он в ловушку тебя заманит! Но Уваров рвался из его рук. – Что же ты за папаша, нейдешь сынка выручать! – глумился невидимый Михель. – Аль трусишь? Аль подстегнуть тебя? Плач ребенка перешел в душераздирающий крик. Уваров ответил криком еще более диким и, размахнувшись, треснул Белкина кулаком по скуле. Яркая белая вспышка полыхнула перед глазами коменданта. Разжав пальцы, он без чувств свалился на снег и уже не видел, как Уваров несся во тьму, выкрикивая имя своего сына.* * *
Коменданту чудилось, будто бежит он по лесу. Мимо с невероятной скоростью проносились стволы деревьев, и в какой-то момент возникло чувство, что не он мчится через лес, а сам лес проносится мимо него. Внезапно он остановился: впереди открылась поляна, и на ней комендант увидел двух человек. Они лежали под высокой сосной, закутавшись в шубы, и, казалось, крепко спали. Один, бородатый и крепко сбитый, был Белкину незнаком, в другом же он не без труда признал Михеля: тот выглядел лет на десять моложе, но страшная худоба, желтое изможденное лицо, усеянное мокнущими красными язвами, и иссеченные трещинами до мяса губы делали его похожим на ожившего мертвеца. Внезапно его запавшие глаза приоткрылись, и комендант увидел в них голодный блеск. Очень медленно, стараясь не шуметь, доктор приподнялся на локте и свободной рукой извлек из-за пазухи длинный охотничий нож. Сел, сбросив тяжелую шубу, и на животе пополз ко второму мужчине, точно четырехлапый паук. Белкин хотел закричать, предостеречь спящего, но не мог издать ни звука. А Михель тем временем склонился над мужчиной, помедлил, а потом обеими руками поднял нож и вогнал ему в шею. Где-то за стеною деревьев послышался уже знакомый Белкину свист. Глаза несчастного раскрылись, он вскинул руку, схватил Михеля за длинные волосы и притянул к себе, будто хотел шепнуть что-то на ухо своему убийце. Разинул рот, но вместо слов вырвались только брызги кровавой слюны, застряли крошечными каплями в густой бороде и оросили Михелю лицо. – Прости, Федор… – шептал Отто Францевич, раскачивая рукоять ножа из стороны в сторону. Снова послышался свист, на сей раз он долетел с другой стороны, но Михель его словно и не услышал. – Голод не тетка… Да и цинга не сестрица… Я еще пожить хочу… – С этими словами он выдернул нож и припал ртом к кровоточащей ране. Снова раздался резкий свист. Воздух за спиной доктора сгустился. Ровно из ниоткуда возник высокий туманный силуэт, сверкнули огромные желтые глаза без зрачков… Он протянул к плечу лекаря огромную когтистую лапу, а Белкин, охваченный страхом, помчался дальше. У себя за спиной он услышал страшный крик Михеля: – Ноги… Боже мой! Ноги горят! Горят! Комендант бежал, а лес вокруг таял, растекался в туманное марево. И в этом мареве с визгом и гиканьем проносились странные, невиданные существа: хвостатые, со звериными головами, с длинными извивающимися руками и ногами, иные походили на птиц, иные – на тюленей, а некоторые – на ожившие древесные пни. Все они разлетались с пути коменданта, словно боялись его – или того, что следовало за ним по пятам. – Вот так все и произошло, – зазвучал в ушах голос Михеля. – И то же самое будет с тобой. Ты будешь бежать наперегонки с ветром на горящих ногах… – Нет! – выдохнул Белкин. – Нет. Я не такой, как ты… И открыл глаза. Он лежал в тепле, но связанный по рукам и ногам. Тело его укрывала тяжелая медвежья шкура. А сверху нависло угрюмое широкоскулое лицо с раскосыми черными глазами. Александр Сергеевич понял: он в руках колоша.* * *
Страха не было. Одна усталость. Белкин осознавал, что это конец и смерть будет лютой. Но жестокость индейцев больше не пугала его. Лучше умереть от рук варваров, чем снова услышать шепот твари, выдававшей себя за Михеля. Он попытался приподняться, но по телу разливалась мертвенная слабость, а шкура, казалось, весила не меньше живого медведя. Под ней было нестерпимо жарко, Белкин чувствовал, что весь взмок, едкий пот жег глаза. Он заморгал, лицо расплылось неясным пятном. Пятно закружилось, и комендант снова лишился сознания. На сей раз видения не преследовали его. Он смутно помнил, как чья-то рука время от времени трясла его за плечо, как сильные пальцы приподнимали голову и придерживали за затылок, пока другая рука вливала в рот мясной бульон из глиняной плошки. Очнувшись, Белкин снова увидел над собою лицо колоша. Веревки, как ни странно, с него сняли – вероятно, индеец счел, что в таком состоянии пленник не опасен. Комендант приподнялся на локтях – на сей раз сил хватило – и стал лихорадочно озираться. Он находился в просторном шалаше из сучьев. Стены его были обтянуты шкурами тюленей, и с них смотрели на коменданта намалеванные лица духов и звероподобных существ; он мог поклясться, что видел некоторых из них в своих грезах. Посреди шалаша в небольшом углублении потрескивал костерок. – Не бойся, белый человек, – произнес индеец на превосходном русском языке. – Есть вещи, перед которыми забывается любая вражда. Я – Аракан, шаман рода Ворона, и ты находишься в моем шалаше. Ты можешь считать себя не пленником и рабом, но моим гостем и союзником, если только сам вероломством не дашь повода относиться к себе иначе. Назови свое имя. – Комендант N…ского форта, Александр Сергеевич Белкин. – Он пошевелил руками. – Как… как я здесь оказался? Давно я здесь? – Четыре ночи назад мы услышали крики из форта, – ответил Аракан. – Мы сразу поняли, что с нашими врагами приключилась беда, и поначалу возрадовались, думая, что это пожар. Но радость сменилась ужасом, когда мы увидели над фортом огромный снежный вихрь, в котором кружились люди и собаки. Даже самые отважные воины обратились в позорное бегство. – Так вот оно что… – прошептал Белкин. – Племя было напугано. И тогда люди обратились ко мне. «О Аракан! – говорили они. – Тебе ведомы силы природы, ты легко общаешься с духами. Иди же к стану наших врагов, узнай, что с ними случилось и не грозит ли то же и нам…» Я согласился и отправился в форт один. Там я увидел ворота, лежащие на земле, развалины домов, занесенные снегом, и тела людей и собак повсюду. Выглядели они так, словно что-то подняло их высоко в небеса, а потом со страшной силой швырнуло оземь, раздробив все кости. Лишь одно существо убивает так. Некоторые были наполовину растерзаны. – Вендиго, – произнес Белкин. – Мы называем его Бегущим Ветром, – сказал индеец. – Хотя слышал я и другое имя: Итхаква. Слушай же. Из всех домов уцелела лишь ваша молельня. На ее башне я увидел то, что вы называете распятием: фигуру в длинном черном одеянии, прибитую к кресту за руки и за ноги. Ветер шевелил ее бороду. – Бедный отец Анисий… – прошептал комендант. – Ты лежал на снегу среди мертвых, – продолжал Аракан, – и поначалу я хотел отвезти тебя в свое племя. Но я знал, что наши люди убьют тебя. Ты нужен мне живым. Ты видел лицо нашего врага. Ты расскажешь мне, как выглядит его человеческая личина, дабы никогда не смог он застать нас врасплох. – Как же я не замерз? – Бегущий Ветер решил сохранить тебе жизнь. Он хочет сменить свое тело и для этого избрал тебя. Но до сих пор он над тобою не властен. – Почему? – Бегущий Ветер, – сказал индеец, – может вселяться в тела людей, только если те дадут ему такую возможность. Для этого человеку необходимо преступить людские заветы и добровольно вкусить человеческой плоти и крови. В некоторых же случаях достаточно отречься от заветов собственных, совершив то, что считаешь самым ужасным… Белкин начал понимать. Так вот зачем Михель настаивал на идее отравить индейское племя! Прими комендант этот план, и страшный дух обрел бы над ним полную власть. – Когда-то он вселялся только в наших людей, в индейцев; тогда его сущность проявлялась быстро, – сказал шаман. – Но с приходом белых он научился от них притворству. Теперь он может годами дремать в человеке, не показывая своей сути. Впрочем, тебе нужно восстановить свои силы. Я дам тебе отдохнуть, но сперва скажи: как выглядел тот, кто стал вместилищем духа? – Если я скажу, – тихо возразил Белкин, – ты убьешь меня: я больше не буду нужен. – Нет, белый человек, я не нарушу нашего уговора. Внезапно комендант почувствовал, как его охватила ярость. – Уговора! – закричал он; крик отнял у него почти все силы. Он понимал, что поступает безрассудно, но ничего не мог с собой поделать. – Уговора… Вы вероломно нарушили все уговоры, вы напали на нас, резали нас, как скот! И ты говоришь о притворстве белых… – А ты говоришь безрассудно, – отвечал Аракан. – Должно быть, ты забыл, что находишься в моей власти. Но я не дам волю гневу: дух белого человека слаб, как и его тело. Я знаю: пролилось слишком много крови, чтобы мы могли стать друзьями. Но враг у нас один, и до победы над ним мы должны стоять плечом к плечу. Скажи же, как мне его узнать? – Это немец, штаб-лекарь Михель, – ответил Александр Сергеевич, чувствуя, как навалилось на него безразличие. – Тощий, высокий, длинные волосы, рожа лошадиная… Не договорив, провалился в сон. На следующее утро он проснулся от острого желания справить естественные нужды. Аракан накинул ему на плечи свой плащ из меха куницы и помог выбраться из шалаша. Они оказались на небольшой поляне. Вокруг, куда ни глянь, тянулись в небо заснеженные сосны-великаны. Некстати Белкину вспомнились леса родной Сибири, и по лицу потекли непрошеные слезы. Индеец не сдержал презрительной усмешки. Тем не менее он любезно отвернулся, когда комендант удовлетворял свои потребности за одной из сосен. Затем проводил его обратно в шалаш. Белкин тяжело опустился на подстилку и снова заснул. На следующее утро он уже смог сесть. У них с Араканом состоялся длинный разговор. Александр Сергеевич рассказал индейцу о плане Михеля. Тот неожиданно пришел в восторг. – Теперь я все понимаю! – с улыбкой воскликнул он. – Напрасно ты винишь наше племя, белый человек. В том, что мы напали на вас, виновен исключительно дух, владеющий телом вашего лекаря. – Ну! – язвительно молвил Белкин. – Ты не веришь, – произнес Аракан, – потому, что недооцениваешь хитрость этого существа. Все было им подстроено – все! Дух-людоед решил обрести новое тело: для этой цели он выбрал тебя, комендант, уж не знаю, чем ты ему так приглянулся. Он не мог заставить тебя есть человеческое мясо – ему это запрещено… – Кем? – Духам даны свои законы, белый человек, которые им не позволено нарушать, иначе они давно покорили бы все своей воле. Человек должен сам захотеть мяса своего собрата, чтобы Бегущий Ветер мог забрать его тело. Притом можно отведать человечины нечаянно, не зная, чье это мясо, но Бегущий Ветер не вправе сам его подложить. Он решил толкнуть тебя на преступление. Для этой цели он стравил мой народ с твоими людьми… Он изгнал всю добычу из наших лесов. До сего момента наш род не желал войны с русскими, теперь же речь шла о жизни и смерти: они или мы. Мы считали, что именно вы истребили все живое в округе и обрекли нас на голод. Мы начали с вами войну. Он надеялся, что после этого ты согласишься погубить мой народ и этим чудовищным злодеянием позволишь ему захватить тебя; и когда ты не пошел на это – о, белый человек, теперь я искренне рад, что спас твою жизнь! – он пришел в бешенство и отомстил вам всем… – Где ты научился так складно мыслить? – изумленно пробормотал Белкин. Шаман горько усмехнулся: – То, что мы не похожи на русских, еще не значит, что мы глупцы. Мы сызмальства учимся понимать связь между причиной и следствием. – Ты и говоришь не как другие индейцы… – Моя семья была с русскими в тесной дружбе; но те времена давно прошли, – ответил Аракан. – Мой отец учился грамоте у одного ученого монаха. Он даже был окрещен – правда, продолжал верить в духов. Он умел говорить по-русски не хуже меня. – Вот оно что… – тихо промолвил комендант. Он рассказал Аракану и о виденном им сне, в котором лекарь убивал своего спутника. У индейца и тут нашелся ответ: – Дух не оставил надежды завладеть тобой, – сказал Аракан, когда комендант закончил. – Поэтому между ним и тобой существует некая связь. Думаю, ты действительно видел прошлое вашего врачевателя. Я пойду принесу еды. Поспи еще.* * *
В следующий раз Белкин проснулся уже ближе к вечеру, впервые чувствуя себя посвежевшим и отдохнувшим. На костре булькал котелок, источая восхитительный аромат сваренного с приправами мяса. Аракан с мрачным видом сидел у костра. В руке он держал длинный изогнутый нож. Белкину на мгновение подумалось, что индеец все же решил его зарезать. Увидев его испуганный взгляд, тот встал и убрал нож за пояс. – Теперь я пойду и взгляну ему в лицо, – сказал он. – Ты убьешь его? – Убить его не дано никому. Но я владею даром заговаривать духов; я смогу успокоить это чудовище на долгое время. – Я должен идти с тобой? – Нет. – Но зачем тогда ты возился со мной… – Потому что слово мое крепко, – ответил колош. – Ты описал мне его, а я в благодарность помог тебе. Я, наверное, уже не вернусь. Наши с тобою дела окончены. – Что ж, прощай, – сказал Белкин. – Похлебка твоя, – продолжал индеец. – Она должна повариться еще около часа. Когда почувствуешь себя голодным, съешь ее. Еще я оставлю тебе топор, чтобы ты мог нарубить себе хвороста. Больше я ничем помочь тебе не могу: отныне мы враги. – И все равно спасибо. – Прощай, – сказал Аракан, одним движением поднялся, откинул полог и бесшумно исчез в темноте.* * *
Белкин долго сидел в шалаше, прислушиваясь к звукам ночного леса. За стенами шалаша тихонько подвывал ветер, иногда слышался шелест снега, осыпающегося с сосновых лап. Время будто застыло на месте. От голода у коменданта начало подводить живот, но он не спешил снимать котелок с огня. Он думал о том, что случилось за последнее время. Всего за какие-то несколько дней его обычная, хоть и полная невзгод и опасностей жизнь наполнилась страшными, противоестественными событиями. Все, во что он верил и во что не верил, оказывается, ничего не стоило. Америка, думал он, земля бесконечного изобилия и бесконечных возможностей. Но – не наша. Америка ни за что нам не покорится. Ее можно взять только силой, только коварством, только жестокостью. Она не для прекраснодушных мечтателей. На одном лишь Баранове, человеке крутого нрава и изощренного ума, держится Русская Америка. Не станет Баранова – и не станет Русской Америки. Нашим-то государям и без нее хлопотно. Как пить дать бросят эту затею. Внезапно возникла малодушная мысль: пусть! Век бы не видеть ее, эту Америку… Здесь, вдали от отчизны, Белкин вплотную соприкоснулся с такими силами, о которых не мог даже и помыслить. Теперь не будет ему покоя, даже если он вернется на родину. В вое зимнего ветра, в хрусте снега под ногами, в шелесте еловых ветвей на ветру станет ему чудиться голос Бегущего Ветра, владыки голодных. Голод как раз напомнил о себе. Белкин решил, что похлебка уж наверняка готова. Подтянув рукава, он снял котелок с огня. В куче вещей, оставленных Араканом, отыскал крепкую деревянную ложку. Погрузил в густое варево и помешал, разгоняя ароматный пар. Ложка подцепила кусок мяса. Пригляделся: что-то бело-розовое – заячья ножка? Он выудил ее из бульона, дал остыть, после чего взял за голень и впился зубами в сочное бедро. Мясо оказалось на удивление нежным. Белкин жадно обгладывал ножку, да так увлекся, что не услышал, как за стенами шалаша захрустели по снегу тяжелые шаги. Внезапно полог резко отлетел, и в дверном проеме возник, шатаясь, ободранный силуэт. Белкин едва не подавился. На мгновение он решил, что перед ним сам дух-людоед. Это был не дух, а Осип Уваров, однако в ту минуту он казался куда страшнее любого духа. На обмороженном почти до черноты, ободранном хвоей лице со всклокоченной бородой жутко белели вытаращенные глаза. Одежду покрывал иней, а волосы примерзли к голове коркой. – Осип! – воскликнул Белкин, совсем не радуясь встрече: уж больно диким взглядом смотрел на него помощник. Уваров обвел глазами шалаш и остановился на полусъеденной ножке, которую Белкин держал в руках. Рот растянулся в оскале. – Так!.. – выдохнул он. – А я-то думал, брешет немец! Думал, душу мою погубить хочет! А он, вишь ты, все как есть сказал! – Осип, о чем ты говоришь? – воскликнул Белкин, уронив, наконец, ножку на землю. – Ты с ним заодно! Ты Ванятку съел! – заорал Уваров и вскинул руку. Комендант увидел нацеленное в лицо дуло пистолета. Какой-то древний инстинкт быстрее мысли подсказал, что нужно делать. Белкин схватил котелок и, не обращая внимания на жгучую боль в обожженных руках, с размаху влепил раскаленной похлебкой Осипу в лицо. Тот заорал еще громче. Грохнул выстрел, пуля раздробила коменданту плечо, котелок выпал из рук, а Уваров откинулся назад, схватившись за глаза. Белкин зажал рукой рану. Взглядего упал на котелок. Оттуда выкатился какой-то белый, с двумя черными дырами, предмет. Череп. И отнюдь не заячий. Уваров отнял руки от глаз. На лице его вздувались огромные пузыри. Веки вспухли, глаза превратились в белесые щелочки. Он слепо зашарил рукой по поясу и вытащил огромный охотничий нож. – Врешь, не уйдешь, людоед проклятый! – просипел он и, рассекая воздух ножом, пошел на Белкина. И снова комендант не думал. Когда Уваров бросился на него, он увернулся, здоровой рукой схватил прислоненный к стене топор и с размаху треснул лезвием Осипа по затылку. Ноги охотника подкосились. Он рухнул прямо в костер, загасив его своим телом. По шалашу, изгоняя аромат вареного мяса, расползлась вонь мяса горелого. Белкин повалился на бок. Зажал пульсирующее болью плечо. Его мучительно выворачивало наизнанку, рвота хлестала из носа и рта, но горечь желчи была менее отвратительна, чем сладкий привкус детского мяса. Потом он долго лежал в темноте. А в голове звучали слова Аракана: «…человеку необходимо вкусить человеческой плоти и крови. В некоторых же случаях достаточно совершить то, что считаешь самым ужасным…» Он сделал и то и другое. Он съел сына Уварова. И убил его самого. Аракан обманул его. Вендиго не мог захватить тело Александра Сергеевича: он мало того что не ел человечины, так еще и отказался совершить то, что в сердце считал преступлением. Шаман притворялся спасителем, союзником – а сам служил лесному чудовищу. Дух-людоед передал Аракану сына Уварова, чтобы тот накормил Белкина детским мясом; он каким-то образом сохранил жизнь самому Уварову, чтобы Белкин его убил. Теперь оба условия выполнены. А значит, дух-людоед может в любую минуту пожаловать за своим новым телом. Где-то снаружи послышался залихватский пронзительный свист. Бежать, скорее бежать! Белкин с трудом поднялся на ноги, подковылял к выходу, сжимая рукой пульсирующее плечо, рванул полог и вывалился на поляну. Посреди поляны стоял Михель.* * *
Он заложил руки за спину и с мечтательной улыбкой смотрел в прозрачную темно-синюю высь. Ветерок шевелил неопрятные длинные волосы и кружил поземку вокруг длинных ног. А наверху, в бездонной пустоте, мерцали холодным светом мириады звезд да поблескивал ятаганом серебристый серп месяца. Все так же мечтательно улыбаясь, лекарь повернулся к Белкину. Тот оцепенел, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Врач вынул из-за спины руку – в пальцах сверкнуло стальное жало скальпеля. – Чудесная придумка человеческого разума, вы не находите? – произнес он. С этими словами он вонзил скальпель себе под скулу и одним махом выкроил правую щеку. Сочащийся кровью шмат плоти шлепнулся на снег, и врач небрежно отбросил его ногой. Белкин будто прирос ногами к земле, не в силах пошевелить ни единым мускулом. Лекарь повернул к нему изувеченную сторону лица и усмехнулся. В свете месяца сверкнули обнажившиеся зубы. – Не помешала бы симметрия, вы не находите? – спросил он и двумя взмахами отхватил себе и левую щеку. Вслед за этим он принялся яростно кромсать нижнюю челюсть и подбородок. Полетели темные брызги. Комендант пытался закричать, но горло не слушалось, будто стянутое железной струной; хотел убежать, но ноги приросли к месту, словно в ночном кошмаре. Месяц и звезды пульсировали в небе холодным светом в такт судорожным рывкам скальпеля. Наконец Михель опустил руку. Длинные волосы трепетали на ветру, мерцали глаза… а под ними скалились голые десны. В стылом воздухе от развороченного рта поднимался пар. Немец шагнул к Белкину и нацелил на него лезвие скальпеля. – Слышите, ветер воет? – спросил он. Комендант смотрел, как клацают, поблескивая в кровавом месиве, белоснежные зубы, как движется за ними розовый язык. – Скоро конец. Но не ваш, любезный Александр Сергеевич. Конец доброго доктора. До чего надоел мне пьяница Михель с его подагрой и больной печенью! Отто Францевич вонзил себе скальпель в нижнее веко и одним движением очертил круг. Глазное яблоко вывалилось ему на щеку вместе с налипшими веками. Лекарь небрежно взял его другой рукой, оборвал нерв, растер глаз между пальцами и махнул рукой, стряхивая слизь. – Ты меня не получишь! – с огромным трудом сумел выдавить Белкин. – Получу, – грустно сказало чудовище. Оно воткнуло лезвие в другой глаз, после чего принялось перепиливать носовые хрящи. – Ты вкусил человеческой плоти, ты убил своего друга. Теперь ты мой. – Нет… Неожиданно чудовище пришло в ярость. – Ты мне не веришь! – закричало оно. – Так убедись! Смотри, теперь маски сброшены! Оно вцепилось себе в волосы и принялось лихорадочно сдирать с головы скальп, помогая себе лезвием. Белкин обезумел от ужаса. Уйти, убежать, уползти – подальше от существа, кромсающего собственную голову! Но даже отвернуться от кошмарного зрелища он не мог. Существо сдернуло с себя скальп и швырнуло его на снег, точно мокрую тряпку. Затем погрузило пальцы в глазницы и с неожиданной легкостью содрало верхушку черепа, обнажив пульсирующую розово-серую массу мозга. Только тогда комендант понял, что происходит. Оно разоблачалось. Лезвие скальпеля кроило одежду, полосовало плоть. А потом лекарь начал раздуваться. Обрывки рубахи, камзола, штанов и сапог сорвались с него, а вслед за тем разлетелось на куски иссеченное тело, разметав во все стороны обломки костей, и пролилось на землю багровым дождем. Брызги оросили лицо Белкина, заляпали глаза, поэтому он плохо видел создание, возникшее на месте Михеля. Все, что он различил, – это высокий мглистый силуэт, горящие желтым огнем глаза и протянутую к нему руку-лапу с длинными корявыми когтями. Он пах кровью и хвоей. Дух голодного ветра. Вендиго. Тут оцепенение, сковывавшее Белкина, прошло. Он повернулся и со звериным воем ринулся в лес. Еще никогда в жизни комендант так не бегал. Промерзшая земля гудела под сапогами, сосновые лапы хватали за одежду и хлестали по лицу, впереди вырастали шершавые стволы, и он врезался в них и падал, сплевывая кровь и осколки зубов, но сразу же поднимался и бежал дальше. Ноги несли его все быстрее и быстрее. Ноги горели… Михель говорил правду… Но не было никакого Михеля… Бежать, бежать, надо бежать, никакого Михеля не было, Михель встретил ЭТО в лесу, тогда, много лет назад, и ОНО завладело им, и вместо Михеля стало ЭТО, почему ЭТО – у него много имен, надо бежать, оно только прикидывалось человеком, а может и не прикидывалось, может, оно и есть человек, может, оно таится в каждом из нас, дожидаясь своего часа, и вот пробудилось, и надо бежать, бежать, бежать – это замечательно, бежать – быстрее оленя, быстрее ветра, бегущего ветра, бежать, бежать… Теперь он мчался со скоростью ветра, и лес больше не ставил ему преград – напротив, чаща словно бы сама расступалась на его пути. Страх постепенно исчезал, сменяясь диким, первобытным восторгом. Проходила пульсирующая боль в плече. Белкин летел как на крыльях, практически не касаясь пылающими ногами земли, и вскоре его крики переросли в ликующий смех. Он слышал шепот звезд в небесах; он внимал вою ветров; он несся над этой суровой, холодной землей и знал, что отныне он – единственный ее владыка, эти дремучие леса – его исконные охотничьи угодья и нет такой силы, что могла бы их у него отнять. Он завыл от восторга, и ветер вторил ему. Бегущий ветер. Очень скоро он навестит родное племя своего старого друга Аракана. Да, Аракан заключил с ним в лесу договор: обязался подготовить ему новое тело в обмен на безопасность своего народа. И будь дух на тот момент в истинном своем обличье, договор бы пришлось исполнять. Но он тогда был штаб-лекарем Михелем. Сейчас же он – комендант Белкин. А Белкин ничего глупцу Аракану не обещал.Господин Элефант
Владу Маслову, подавшему мне эту идею
1
План пришел в голову Павлу в одну из бесконечных бессонных ночей, когда он лежал на жесткой постели, накрывшись армяком, вслушиваясь в настырный комариный звон и скрип ветхих половиц. План отчаянный, нелепый, даже комичный… но после череды блистательно задуманных и с треском проваленных покушений, стоивших жизни многим его товарищам по борьбе, наверное, такой только и мог сработать. На эту идею его натолкнули объявления, расклеенные по всему городу недавно прибывшим разъездным цирком: ищут человека для работы со слоном. Поначалу Павел думал наняться туда без всяких задних мыслей. Скудные сбережения неумолимо подходили к концу, кишки исполняли по ночам голодные марши, не давая уснуть, а квартирная хозяйка все настойчивее интересовалась, когда он намерен съехать. Лишь потом он осознал, что в цирке окажется как никогда близок к почти недосягаемой цели. К губернатору. Разумеется, после не столь давнего убийства Столыпина подобраться к цели со стороны зала сделалось решительно невозможно – охранители умеют учиться на своих ошибках. Однако выстрела со сцены никто ожидать не будет. А между тем само устроение цирка-шапито, с его приземистыми трибунами, отделенными от арены лишь низеньким барьером, подходит для этого как нельзя лучше. Губернатор всегда любил цирк, любил какой-то восторженной детской любовью – да и не только детской: по молодости, говорят, изрядно крутил с разбитными акробатками. Даже сейчас он не мог пропустить ни одного представления самой захудалой бродячей труппы. Об этой его страсти было известно всем. Ходила злая шутка, что градоначальнику больше пристало бы управлять цирком – с этим Павел был совершенно согласен. Еще шутили, что старик не отказался бы и умереть в цирке. А хотя бы и нет! Павел все равно не собирался его спрашивать.2
С самого первого взгляда директор цирка господин Шульц вызывал неприязнь. Он был молод, немногим старше Павла, и, пожалуй, хорош собой – волосы цвета воронова крыла, мрачный блеск в глазах и язвительная манера речи вызывали в памяти образ байронического героя, что в реальной жизни зачастую вызывает отторжение. – Отчего же вы, молодой образованный человек, решили поступить в услужение к нашему Господину Элефанту? – осведомился он, сцепив перед собой бледные, словно из слоновой кости выточенные пальцы. – Видите ли, – проговорил Павел, – я остался без средств к существованию и… – Весьма сочувствую, – перебил Шульц, – однако не рассчитывайте поправить здесь свое положение. Две трети нашей выручки уходят на перевозку и поддержание цирка, оставшегося едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Если вам нужны только пища и кров – этим мы можем вас обеспечить, при условии, что вы будете работать на совесть. – Я постараюсь, – сказал Павел. – Конечно, у меня нет опыта в работе с животными… – Моя бы воля, – мрачно произнес Шульц, – я на пушечный выстрел не подпустил бы вас к Господину Элефанту, но выбирать не приходится. Настоятельно рекомендую соблюдать осторожность, если, конечно, вам дорога жизнь. Жизнь давно не была дорога Павлу, однако он не испытывал ни малейшего желания пасть жертвой разъяренного слона. – Три сажени в длину, четыре в высоту и почти полтысячи пудов весу, – продолжал Шульц. – Господин Элефант, вероятно, самый крупный слон из ныне живущих, включая даже его африканских собратьев… – Он усмехнулся. – Гневить эдакую махину я бы не посоветовал. – Я не из склочников, – улыбнулся Павел. – Думаю, мы с махиной поладим. – Что ж… – Шульц поднялся из-за стола, достал из кармана жилета золотой брегет на цепочке, откинул крышку. – Сейчас у нас начинается репетиция. Пойдемте, я покажу вам вашего подопечного. Они вышли из директорского фургона, украшенного сбоку изрядно потрепанной афишей, на которой едва можно было различить силуэт слона, нескольких ревущих львов и фигуру с хлыстом. Цирк раскинулся посреди угрюмого голого поля за железнодорожным полотном – кричащее многоцветье шатров, палаток, будочек и пестро размалеванных фургонов. Среди этой радостной пестроты лениво, вразвалочку, бродили немногочисленные служители. Над огромным желтым куполом шапито, словно язык гигантской змеи, трепетал на ветру раздвоенный красный флажок. – Матвей! – крикнул директор. Тотчас невесть откуда нарисовался серый, будто золою присыпанный, усатый мужичок в мятой косоворотке и фуражке с треснутым козырьком. – Чегось изволите, господин Шульц? – спросил он сипло, постреливая из стороны в сторону хитрыми глазками. – Слетай, голубчик, к Кларе да передай, чтобы через десять минут была на арене с Господином Элефантом. – Сей секунд! – сказал серый человечек, бросил на Павла какой-то странный взгляд и тут же растворился среди повозок. Конюшня и платформы с клетками размещались позади главного шатра, дабы зверей можно было в любой момент вывести на арену. По завету Ноя каждой твари содержалось по паре. Цирковые собачонки встретили Павла и Шульца визгливым лаем, обезьянки, медведи и лошади провожали их печальными глазами. В воздухе витали пряный аромат опилок и кислый запах навоза, извечно сопровождающие разъездные цирки. – Львов давеча пришлось пристрелить, – вздохнул директор. – Они, видите ли, отобедали вашим предшественником. Еще в Петербурге. Невелика потеря! За каким чертом этот пьяница полез в клетку? Однако с этих-то пор все и пошло наперекосяк. Они вошли в бархатистый сумрак шатра. Посреди усыпанной опилками арены стояла огромная разноцветная тумба. Рядом двое одетых в мешковатые балахоны молодцев с одутловатыми физиономиями вовсю лупили надувными дубинками по голове третьего, а тот в ответ лихо сшибал их лбами. – Братья Бобенчиковы! – объявил Шульц. – Три величайших комических дарования, успешно загубленных пьянством и блудом. Клоуны перестали тузить друг дружку и посмотрели на него с таким угрюмым выражением, какого никак нельзя было ожидать от представителей их профессии. Павел огляделся: ряды скамей терялись в темноте. А вон там, по правую руку, отдельная ложа на три персоны с мягкими креслами, где вместе с охраной будет сидеть губернатор… – Внимание, – тихо проговорил Шульц, тронув Павла за плечо, а затем повернулся к воображаемой публике и громко провозгласил: – Дамы и господа, представляю вам Господина Элефанта – величайшего слона в мире! Господин Элефант торжественно вступил на арену. Он и впрямь был огромен. Бугристая, точно из утеса высеченная голова, украшенная золоченым бархатным налобником, венчала массивные плечи, под задубелой кожей которых незримо перекатывались литые мышцы; гибкий хобот извивался между бивней, длинных, острых, точно костяные сабли, – от одного их вида делалось не по себе. Большинство слонов, виденных Павлом в цирке, были лишены клыков, вид имели самый благодушный и более всего походили на огромные, изрядно обвисшие кожаные бурдюки. Господин Элефант же будто сошел беззвучной, призрачной поступью с одной из гравюр великого Доре. Восседавшая на нем наездница – очевидно, та самая Клара – была настоящей красавицей. Белокурая и цветущая, она вызывала желание немедля схватить ее в объятия и расцеловать. Ее коротенькое белое платьице в блестках и с вырезом на спине не скрывало почти ничего. Рядом с этой сияющей белизной Павел вдруг остро почувствовал, что одежда его больше напоминает тряпье, а лицо покрыто трехдневной щетиной. Обняв Клару за талию могучим хоботом, слон, как пушинку, снял ее со спины и бережно поставил на манеж. Перекрестясь на западный манер – слева направо, – она опустилась на колени и положила голову на тумбу, словно на плаху, а Господин Элефант шагнул вперед, занося свою огромную ногу… И опустил ее на голову Клары. Трио клоунов в притворном ужасе заламывали руки; лицо директора было непроницаемо. Клара лучезарно улыбалась из-под чудовищной стопы, способной в мгновение расплющить ей череп. Павел боялся дышать. Струйка пота сбежала по его лбу, обожгла глаз. Вонзив ногти в ладони, он молился, сам не зная кому, чтобы все быстрее закончилось. Наконец Шульц вскинул руку, Господин Элефант медленно, будто нехотя, снял ногу с головы Клары и подался назад. Павел шумно выдохнул. – Я смотрю, вы впечатлены! – Шульц улыбнулся. – Итак, первая ваша обязанность… Взгляните на мою дорогую сестру. Чего нет на ее волосах? Павел, изумленный тем, что кто-то может позволить родной сестре класть голову под ногу слона, невпопад брякнул: – Головного убора? Клара фыркнула. – Навоза, любезнейший, навоза, – произнес директор. – Слон – существо величавое, навоза производит в избытке и иногда в него наступает. Ежели сия мерзость окажется на белокурой головке Клары, получится номер в духе вот этих, – он мотнул головой в сторону Бобенчиковых, – к чему мы отнюдь не стремимся. – Я полагал, что буду работником арены… – неуверенно начал Павел. – Как я уже сказал, давая согласие, вы поступаете в полное распоряжение к Господину Элефанту. Кроме вас, этим заниматься некому. Из-за вот этих прекрасных клыков, – Шульц с гордостью провел пальцами по грозному бивню, – никто не хочет с ним работать, а спиливать их я не намерен. Слон без клыков – не слон. Полагаю, вы не станете настаивать. – А по-моему, мы бы и сами прекрасно справились! – вмешалась Клара. – Право, Генрих, какой из него слоновщик? Посмотри, какой он заморенный. Павел почувствовал раздражение. Да что она позволяет себе, эта актриска? – Ну, это-то легко поправимо! – сказал Шульц. – Вот что, любезнейший: сейчас вы отобедаете с нами чем бог послал, потом пойдете домой – ведь у вас покамест имеется какое-никакое жилье? – и хорошенько выспитесь. А завтра жду вас с утра. Клара разъяснит вам, что нужно делать. Они пожали друг другу руки. Покидая манеж вслед за директором, Павел ощущал спиной недовольный взгляд Клары.3
Завтрак проходил под открытым небом. Столами и стульями служили поставленные на попа фанерные ящики, а скатертями – пожелтевшие газеты. Рядом с уже знакомыми Павлу Бобенчиковыми и Матвеем здесь были четверо лилипутов, громадный негр (очевидно, штатный силач), несколько девиц, одетых даже откровеннее Клары, двое хрупких юношей, которые держались за руки, глядя друг на друга влюбленными глазами, и с десяток служителей, косившихся на эту парочку с нескрываемым отвращением. Никто не выказал к новому работнику ни малейшего интереса. От запаха горячей похлебки у Павла закружилась голова. Взгляд Шульца остановился на пустующем столе: – Где Великий Сандини? Тишина была ему ответом. – Матвей, голубчик, слетай-ка за ним! – Так ить… – промямлил Матвей. – Что «так ить»? – угрожающе спросил Шульц. – Убег, подлец! – развел руками Матвей. – Все с фургона забрал и убег. Шульц скрипнул зубами: – Еще один. Корабль тонет, крысы бегут. Другие желающие есть? Артисты что-то невнятно забормотали, качая головами. – Есть, есть, знаю я вас, – махнул рукой директор и посмотрел на Павла. – Вы, любезнейший, часом, не умеете глотать шпаги и распиливать даму пополам? – И безрадостно засмеялся собственной шутке.4
На следующее утро Павел расплатился с хозяйкой и пришел в цирк, неся весь свой нехитрый скарб: накинутый на плечи армяк с револьвером Нагана в кармане да потертый саквояж с четырьмя жестяными бонбоньерками внутри. У директорского фургона в него врезался Матвей, очевидно, «летевший» исполнять очередное поручение, и едва не выбил саквояж из рук. – Разуй глаза, дурень! – рявкнул Павел, срываясь от испуга на позорный фальцет. – На сердитых воду возят! – парировал Матвей и поспешил дальше, не подозревая, что только что был вместе с Павлом на волосок от смерти. Смерть была заключена в круглые бонбоньерки и кокетливо перевязана красными ленточками. Выделенный Павлу фургон беглого иллюзиониста располагался на самом краю поля. Обстановка внутри оказалась самая спартанская – узкая койка с голым матрасом да грубо отесанный стол с табуретом. С великой осторожностью Павел поместил саквояж под кровать. Сев за стол, достал из кармана промасленную тряпицу, развернул. Наган тускло блеснул в луче света, сочившемся из запыленного оконца. Рядом маслянисто поблескивали патроны. Последний раз на губернатора покушались в Ярославле. Некая девица Ляхович смогла добиться приема под видом просительницы и, оставшись с градоначальником наедине, всадила ему два заряда из двуствольного «дерринджера» в раззолоченную медалями грудь. Обливаясь кровью, старик все же сумел повалить нападавшую на пол и удерживал до прихода подмоги. Ляхович повесилась в камере на собственном поясе, не выдержав допросов, а губернатора от греха подальше перевели в самую глухую провинцию. Могли бы и не стараться: неудача Ляхович, хоть и вполне предсказуемая (Павел советовал ЦК вооружить барышню калибром побольше; ему ответили, что в покушении на Линкольна «дерринджер» зарекомендовал себя наилучшим образом), стала последней каплей. Комитет постановил: рисковать всей группой ради убийства одного мерзавца не стоит, а ежели кто имеет к старику личный счет, ему лучше вовсе покинуть организацию и действовать на собственное усмотрение. Расстались без сожалений – товарищи давно поняли, что не верит он во всеобщие свободу-равенство-братство и справедливость. Ближайший приятель, студент-химик Самуил Френкель, тайком передал ему начиненные гремучим студнем снаряды Кибальчича с уже встроенными взрывателями, сказав на прощание: – Гляди не подорвись сам – там небольшой встряски достаточно. И еще прошу: не применяй их в толпе. Не пятнай наши руки в невинной крови. А губернатор нарочно – Павел в том нисколько не сомневался! – ездил исключительно людными улицами. Тем не менее избавиться от снарядов молодой человек не решался. Так они и кочевали с ним вместе с одного жилья на другое, повиснув мертвым грузом. Павел поднял револьвер, откинул барабан. Зияющие гнезда наполнились светом. Возможно, у него не будет и двух выстрелов… Громкий стук в дверь застал его врасплох. Чертыхнувшись, он выронил тряпку, патроны раскатились по столу. Павел лихорадочно сгреб их, завернул вместе с пистолетом обратно в тряпку, убрал под матрас и только после этого открыл дверь. На пороге стоял улыбающийся Шульц с хлыстом в руке. – Доброе утро! – сказал он. – Готовы поближе познакомиться с Господином Элефантом? Знакомство, однако, не задалось. Господин Элефант ждал их посреди просторного шатра, служившего слоновником. Вьющаяся среди опилок толстая стальная цепь приковывала его ногу к глубоко врытой в землю железной балке. Рядом с ним стояла Клара, уже одетая в свой цирковой наряд. При виде Павла она нахмурилась. – Доброго утречка, Господин Элефант! – провозгласил директор. – Как вы спали? Мышки не докучали? Слон благодушно зарокотал, помахивая ушами. – Клара, оставляю молодого человека на тебя, – сказал Шульц. – А мне пора бежать… – Ничего объяснять я не стану, – отчеканила актриса. – И вообще не подпущу посторонних к нашему слону. На взгляд Павла, ее поведение становилось довольно странным. – Послушай, милая, все уже решено, – с безграничным терпением в голосе произнес директор. – Этот человек будет работать со слоном, нравится тебе это или нет. – Если я скажу ему правду, – парировала она, с вызовом глядя брату в глаза, – он вылетит отсюда к чертовой матери. И вот тут-то все и произошло. Что-то неуловимо изменилось в лице Шульца. Только что оно было спокойным, а уже в следующий миг губы директора задрожали, глаза наполнились слезами, словно у обиженного мальчишки. Внезапно он ударом по лицу сбил девушку с ног и тут же перетянул хлыстом по оголенной спине. Клара отчаянно закричала. Между ее лопаток вздулась багровая полоса. Павел был настолько поражен случившимся, что не успел ничего предпринять. Его опередил Господин Элефант. Загремев цепью, он сделал несколько шагов вперед, взмахнул хоботом – и Шульц врезался в стену шатра, отчего все сооружение заходило ходуном. Павел вскрикнул. Шульц распрямился, медленно, точно змея, поднимающаяся из корзины факира. Голова его тряслась, по щекам струились слезы, но на губах блуждала усмешка, больше похожая на оскал. Хлыст со свистом рассек воздух. Господин Элефант взревел, закрутив спиралью ожженный хобот, попятился, а Шульц бросился на него, в молчаливом исступлении нанося удар за ударом. – Прекратите! – Павел схватил директора за плечо. – Вы с ума сошли?! Шульц оттолкнул его с поразительной силой. Потеряв равновесие, Павел свалился прямо на Клару. Та сдавленно охнула. От ощущения ее извивающегося тела под собой у него совершенно некстати перехватило дыхание. Он поспешил откатиться в сторону. Слон жалобно заревел. – Вилли! – закричала Клара. – Вилли, на помощь! Послышался громовой топот, в шатер влетел черный гигант и обхватил Шульца сзади, прижав его руки к телу. – Пусти! – прохрипел директор. – Убери от меня лапы, черная обезьяна-а-а… – Его пальцы разжались, выпуская хлыст, глаза закатились под лоб, зубы заскрежетали, и весь он мелко-мелко затрясся, выбивая каблуками дробь. С трудом поднявшись на ноги, Павел подошел к перепуганному негру, по-прежнему сжимавшему Шульца в медвежьих объятиях, и подобрал кнут. – Не бейте его! – жалобно крикнула Клара. – Не говорите ерунды, – устало проговорил Павел. – Ему нужна помощь. Он с усилием разжал намертво сомкнутые челюсти директора и втиснул ему между зубов рукоять хлыста.5
– Поверьте, мне очень жаль, – умирающим голосом проговорил Шульц. – И ты, Клара, прости меня… – Это не твоя вина, Генрих, – мягко ответила она, поправляя под его головой подушку. – Я сама виновата. Мне не следовало устраивать этот… этот цирк! – Она засмеялась сквозь слезы. – Давно у вас такие припадки? – осведомился Павел. Промокнув марлю водкой, он осторожно протирал ею рубец на спине Клары, а девушка тихонько шипела от боли. – С детских лет, – уныло ответил Шульц. – Папашино наследство. Тоже, бывало: сперва осатанеет, а потом – бряк! Однажды неудачно – об колесо фургона. – Соболезную… – Не стоит. Он был сущий зверь. Вон, видали? Это во мне его кровь взыграла. Во всех смыслах! – Шульц мрачно хохотнул. – А ваша сестра… – Бог миловал! – сказала Клара. – И часто с вами такое? – Последнее время все чаще. – После случая со львами, я полагаю? Если, конечно, это были львы… – Вы чертовски догадливы, – проворчал Шульц. – Пожалуй, дальше скрывать не имеет смысла. Разумеется, вашего предшественника убил слон. Мы боялись, что власти потребуют его пристрелить, и все свалили на львов. – Тот человек был сам виноват, – добавила Клара. – Зачем мучил его? Теперь вы понимаете, почему я боялась вас к нему подпускать. Ай! – Ничего-ничего, я уже закончил, – сказал Павел, силясь побороть дрожь в голосе. Последний раз он прикасался к женщине два года назад. – Я больше не справляюсь, – плаксиво заговорил Шульц. – Кручусь как белка в колесе, а все сыпется в тартарары… – Все хорошо, – мягко оборвал его Павел. – Теперь вам нужно поспать. И если это вас успокоит: работу я не брошу. – Я позабочусь, чтобы все было хорошо, – пообещала девушка. – Спи, Генрих. Шульц едва заметно кивнул и закрыл глаза. Павел тронул Клару за плечо, и они на цыпочках вышли из фургона. У подножия лесенки, тихо переговариваясь, собрались мрачные циркачи. – Расходитесь! – велел Павел, чувствуя невольную радость от неожиданно свалившейся на него власти. – Больному нужен покой. Труппа смолкла и расступилась, пропуская их. Когда они отошли достаточно далеко, Клара повернулась к нему и нежно взяла за руку. – Я должна просить у вас прощения, – сказала она, потупившись. – Вы проявили такое участие к моему брату… – Пустое. Было приятно снова вспомнить клятву старика Гиппократа. – Вовсе не пустое! Ведь я очень люблю брата. Мы неразлучны с самого детства. Не поверите, он даже принимал у меня роды. – У вас есть ребенок? – удивился Павел. – Был, – вздохнула Клара. – Я была матерью всего несколько минут. Генрих сделал все, что мог, но… Как жаль, что вас тогда с нами не было! – Не уверен, что от меня оказалось бы больше толку. Я не закончил и первого курса. Будь я врачом, разве прислуживал бы слону? – Он невесело рассмеялся. – Что же такого вы натворили? Слова вырвались у него помимо воли: – У меня тоже был старший брат, вот что я натворил. Алексей… он постоянно участвовал в студенческих демонстрациях. С детства был возмутителем спокойствия. Одна из акций приняла стихийный характер, и губернатор распорядился «с бунтовщиками не церемониться». В случае Алексея это означало «бить сапогами по голове до смерти». – Боже мой, какой ужас! – Я искал правды, – продолжал Павел. – Обивал пороги, бросил учебу. Отчислили с волчьим билетом как неблагонадежного. Такая вот, понимаете, оказия. Он смолчал, разумеется, обо всем остальном. Он вообще уже досадовал о своей откровенности. Только жалости ему не хватало! И верно, Клара привстала на цыпочки и робко коснулась губами его щеки, заставив его вздрогнуть. Покраснев, она отступила на шаг и вдруг воскликнула: – Бедный Господин Элефант! Мы совсем забыли о нем!6
А забытый Господин Элефант стоял тем временем в полумраке слоновника. Лишь его хриплое дыхание нарушало тишину да цепь бренчала изредка тяжелыми звеньями. Ссадины, оставленные бичом, горели, но куда сильнее жгла старого слона горечь обиды. Никто не мог бы постичь всю глубину терзавшей его тоски. Как и большинство его сородичей, имевших сомнительное счастье стать цирковыми артистами, за полвека жизни он успел хлебнуть лиха. Как и большинство его сородичей, он не забывал ничего. Он помнил себя неуклюжим щетинистым слоненком, цеплявшимся за хвост матери. Мир тогда казался гораздо больше и таил в себе множество чудес и опасностей, но и мать была огромной, и он верил, что она всегда будет рядом, а значит, бояться нечего. Но вот однажды, когда они мирно паслись на поляне, из зеленой чащи прогремел гром, и мать, протрубив один раз, повалилась в кусты, чтобы больше уже не встать. Жалобно повизгивая, он дергал ее за уши тоненьким хоботком, но она лежала неподвижной серой глыбой, а со всех сторон возникали страшные двуногие силуэты со сверкающими палками в руках… Он часто пробуждался, увидев эту сцену во сне, и долго стоял, уставясь в темноту, охваченный благоговейным ужасом. Власть маленьких громовержцев абсолютна и неоспорима – вот урок, который он запомнил лучше всего. Он помнил следующие два года, проведенные на плантации офицера-англичанина, заядлого охотника, в качестве живой забавы для его изны- вающей от скуки леди и безобразно избалованных отпрысков. Однако забава так быстро росла и так много ела, что практичный сын Альбиона вскоре решил пустить ее на мясо гончим, и юного слона спасло лишь то, что проезжий путешественник выиграл его у хозяина в карты. Он помнил долгую череду хозяев и кличек, которые сменил, прежде чем попасть к Шульцу-старшему и стать Господином Элефантом. Помнил каждый удар, каждый окрик, помнил свою бессильную ярость и всепоглощающий страх. Но он помнил не только зло. Худенький бледный мальчик и белокурая цветущая девочка всегда были добры к нему, тайком угощали разными лакомствами, омывали раны, оставленные страшным слоновьим багром папаши Шульца. Слон проникся к юным хозяевам той самоотверженной любовью, на какую способен только обласканный зверь, и не раз они в слезах прибегали к нему за утешением после отцовских побоев. Он помнил, как дети росли, а папаша Шульц дряхлел и как однажды его не стало. Господин Элефант первым ощутил на себе воцарившиеся в цирке новые порядки. Никто больше не обижал его, а молодой хозяин, вступивший во владение цирком, трогательно заботился о слоне на пару с сестрой. Но, как часто бывает после краха тирании, на ее место пришла вседозволенность, и мало-помалу труппа погрузилась в чад беспробудного кутежа. Пытаясь восстановить порядок самыми суровыми мерами, Генрих все более озлоблялся и вскоре превзошел жестокостью покойного отца. Лишь Господин Элефант, добрый друг его безрадостного детства, до поры избегал его гнева. Трагедия произошла, когда слоновщик Егор, на редкость прожженный малый, устав от гнета директора и бесконечных задержек жалованья, задумал удрать из цирка, поохотившись напоследок за слоновой костью. Глухой ночью он явился в слоновник с пилой-ножовкой и большим ведром, куда предварительно слил все цирковые запасы спиртного, для верности сдобрив побегами хмеля. Старый слон благосклонно принял подношение. Спустя какое-то время голова его закружилась. Он грузно опустился на колени, а хитрец выждал несколько минут и принялся за дело. Только то, что произошло потом, Господин Элефант помнил плохо. Он очнулся от дикой боли, когда пила в нетвердой руке соскользнула, взрезав чувствительную плоть его десны. «А ну лежать, скотина!» – гаркнул слоновщик, и то были последние его слова. Одурманенный болью и алкоголем, слон дернул головой, и человек вдруг забился в крови на полу у его ног, скуля и пытаясь удержать в животе лезущие наружу внутренности. В ту ночь молодой хозяин впервые поднял руку на Господина Элефанта. Но жестокое избиение уже не могло вытравить крамолы из головы огромного зверя. С каждым днем, ощущая растущие среди двуногих напряжение и страх, он все сильнее укреплялся в своих подозрениях. Может, они вовсе не всесильны? Может, их власть не вечна? И сейчас эти мысли не давали ему покоя. Обида сменялась злостью. Он несколько раз впечатал ногу в опилки, представляя, что топчет тело молодого хозяина, превращая его в бесформенную кровавую массу… – Бедный мой! Тебе больно? – услышал он ласковый голос хозяйки. – Сейчас, милый, сейчас мы тебя полечим… И гнев, словно по волшебству, сразу утих, съежился, ушел куда-то в самую темную глубину сознания. Но не растворился совсем. Ведь он не забывал ничего.7
Шульц отлеживался несколько дней. Павел был уверен, что директор решил воспользоваться случаем и хоть на время переложить заботы о цирке на плечи сестры. Впрочем, отдохнуть ему действительно не мешало. Клара же подошла к делу со всей ответственностью. Она не давала актерам спуску, безжалостно выгоняя на репетиции, а в свободное время обучала Павла работе с Господином Элефантом. Через два дня он уже не хуже нее умел поливать слона из шланга, очищать его чувствительную кожу специальным скребком и драить круглые мягкие подошвы ног. Кормили они его вместе – Клара приносила различные лакомства, а Павел, обрывая руки, таскал ведрами сено и овощи. Хуже всего предсказуемо оказалась уборка навоза. – Ой, мамочки! – расхохоталась Клара в первый раз, когда Павел, взмокший и злой как черт, вывалился из слоновника, распространяя вокруг себя зловоние. Он с размаху вогнал лопату в землю и заявил: – Теперь я как никогда понимаю вашего брата! Закончив, они поочередно споласкивались над железным рукомойником, пристроенным в закут- ке между фургонами, переодевались, и Клара отправлялась на репетицию. Иногда она приглашала Павла. С замиранием сердца он смотрел, как она мчится на спине галопирующей лошади, точно сказочная амазонка, выполняя самые невообразимые прыжки, пируэты и сальто. Как-то раз она предложила ему держать для нее обруч, но Павел наотрез отказался, опасаясь, что в момент ее прыжка у него дрогнет рука. Она подобрала ему униформу по размеру – красную ливрею с золочеными шнурами, больше похожую на гусарский мундир, чем на костюм служителя, и строгие черные брюки. – Вы похитили мое сердце! – сказала она, пытливо оглядев его с ног до головы. – Настоящий кавалерист! Хотите, я научу вас верховой езде? Павел всерьез подумал, что было бы довольно эффектно всадить пулю в губернатора на полном скаку. Впрочем, тогда будет трудновато прицелиться… Он улыбнулся и сказал: – Боюсь, наездник из меня неважный. Одним словом, они сделались неразлучны. Он даже столовался теперь вместе с ней и ее братом в директорском фургоне. Остальные циркачи прозвали его Любимчиком, но Павлу было все равно. Он больше ни с кем из них не свел знакомства – да не больно и хотелось. Лишь чернокожий силач Вилли внушал приязнь своим кротким нравом, но он всегда держался особняком, почему-то пуще всех избегая Клары, хотя она, в отличие от брата, всегда была к нему ласкова. По ее словам, Вилли был родом из какого-то южноамериканского штата и привык опасаться белых. Павел, впрочем, подозревал, что бедный негр тайно влюблен в нее. Но, когда он завел об этом речь, Клара поспешила сменить тему. Он прекрасно понимал Вилли. Не раз и не два он ловил себя на том, что забывает о своей истинной цели. Цирковая жизнь во всем ее противоречивом неприглядном очаровании захватила его с головой. А мысли о губернаторе все настойчивей вытесняла собой Клара. Он не мог нарадоваться, что Шульц пока что не репетирует ужасный номер со слоном. – Как вы можете подвергать свою сестру такому риску? – однажды спросил он директора за ужином. Шульц лишь усмехнулся, а Клара сказала: – Вы не знаете нашего Господина Элефанта. Он скорее сам умрет, чем причинит мне вред. – Поразительно, насколько он кроток при его силе! – добавил Шульц. – И все же при известных обстоятельствах он вас отшвырнул, – не без ехидства заметил Павел. Директор, похоже, ничуть не обиделся: – Именно отшвырнул, хотя один удар его хобота мог бы раздробить грудь мужчине куда более крепкого сложения. Причем я, как вы сами могли видеть, усердно напрашивался. Чего уж говорить о нашем папеньке! – Он скорчил гримасу. – Видели бы вы, как он терзал бедное животное! Хотел обучить его стоять на голове, это немолодого слона-то. А когда ничего не вышло, решил угостить булкой с цианистым калием… Чтобы спасти нашего друга, мы и придумали этот номер. – Генрих придумал! – с гордостью уточнила Клара. – Вычитал в одной из своих книжек. Он много читает, не то что я. – Слыхали о такой затее, как казнь слонами? Восточные правители знали немало способов вселять ужас в сердца своих подданных, но казнь слонами по праву считалась одним из самых зловещих. – Шульц выдержал эффектную паузу и продолжал: – Хорошо натасканный слон-палач мог пытать приговоренного днями и даже неделями, дробя ему кости и хоботом выворачивая суставы. Некоторых несчастных четвертовали, прижимая ногой к земле и отрывая конечности, – собственно, в природе слоны именно так расправляются с не в меру дерзкими хищниками. Чаще же слон либо протыкал человека бивнями, либо делал то же самое, что вы видели на арене. – Только насмерть? – В том-то и штука, что нет! Точно так же осторожно придавив ногой голову осужденного, он ждал знака от своего повелителя: казнить или помиловать? При любом исходе именно этот момент тягостного ожидания производил на зрителей наибольшее впечатление; на том сыграли и мы сейчас. В сущности, номер простейший, а между тем всегда обеспечивает нам успех. – И все же… – Я с радостью рисковал бы собственной головой, – перебил Шульц. – И на стадии постановки номера так и делал. Однако зрители, как вы знаете, предпочитают видеть в смертельной опасности прекрасную даму. – Профессия циркача – всегда риск, – подхватила Клара. – Если на то пошло, я рискую гораздо меньше, чем любая воздушная гимнастка или канатоходец. Павел рассеянно кивнул и подумал, что губернатора надо застрелить непременно до начала номера, чтобы не видеть, как Клара снова кладет свою бедную голову под пяту слона.8
Артисты роптали. Отряженный переговорщиком Матвей стоял перед директорским фургоном и докладывал: – Застряли, дескать, в этой дыре, директор носу не кажет, представлений не даем, жалованья три месяца не видали… Расходиться, говорят, надо… Приставив руку козырьком ко лбу, Шульц задумчиво посмотрел на небо, словно примерялся сбить солнце ударом хлыста. Наконец он сказал: – Ты, голубчик, слетай к ним и скажи, что завтра устраиваем парад, а на следующий день даем представление. И вот еще, – добавил он вполголоса, – гляди в оба! Ежели кто опять надумает сделать ноги – зови Бобенчиковых. Они враз окоротят. У присутствовавшего при разговоре Павла екнуло сердце. Так значит, уже послезавтра! Ему вдруг ужасно захотелось сделать ноги самому. Несмотря на Бобенчиковых. – Воля ваша, – буркнул Матвей. – А только скажу как есть: на одних колотушках долго не продержитесь. Всё одно разбегутся. – Ну пес с вами… После парада можете погулять за мой счет. Только без меня, и чтобы к представлению были как стеклышко. Павел осторожно попробовал возразить: – Если они напьются накануне представления, то не смогут толком выступать. – Зато и сбежать не смогут! – огрызнулся директор. – Бог даст, к полудню оклемаются. А если какая дура-гимнастка свернет себе шею, то моей вины в том не будет. Вилли! Где тебя носит, черная макака! – Был бы вам бесконечно признателен, если бы вы перестали постоянно оскорблять этого человека, – холодно произнес Павел. – Насколько я знаю, он не причинил вам никакого зла. – Вот как? – недобро усмехнулся директор. – Боюсь, вы знаете слишком мало, а наши представления о добре и зле сильно разнятся. – Он повернулся навстречу подошедшему Вилли. – Вот что, приятель: подготовь мой костюм да начисти как следует сапоги. Силач покорно склонил огромную курчавую голову и побежал исполнять приказание. Шульц, заложив руки за спину, обводил воспаленным взором свои цирковые владения, и Павел решил поискать более приятного общества. Клару он нашел на арене. Она гарцевала на грациозной белой лошади, время от времени высоко поднимая ногу и делая поворот на носочке. – Гоп-ля! – воскликнула она, ловко соскочив на манеж, и шлепком по крупу направила лошадь к выходу, где ее подхватил под уздцы и увел с арены один из служителей. – По улицам слона водили… – продекламировал Павел. – Не может быть! – искренне удивилась Клара. – Только что Матвей сказал, что парад назначен на завтра. Павел хмыкнул, не в первый раз пораженный ее невежеством. Кларе действительно не мешало быпобольше читать; зачастую бедная девушка выказывала незнание самых элементарных вещей. Он подозревал даже, что она верит, будто Земля плоская. – Клара, – засмеялся он, – ведь это же Крылов! Она зарделась и стала дивно хороша. – Простите… Я, наверное, кажусь вам очень глупой? – Вы очаровательны, Клара, – искренне сказал он. – Прошу, оставайтесь такой, как есть. – Вы совсем не умеете врать. Но, знаете, никто никогда не разговаривал со мной так хорошо… Только Господин Элефант по-своему, по-слоновьи. Да-да, не смейтесь, не вздумайте смеяться! – Она погрозила ему пальчиком. – Генрих всегда заботился обо мне, но он считает меня дурочкой. А вы… вы совсем другое дело. Иногда мне кажется, что я знала вас всю жизнь. И снова это произошло – привстав на цыпочки, она поцеловала его. Снова в щеку, но на этот раз ее губы коснулись уголка рта, и Павел, охваченный каким-то сверхъестественным ликованием, вдруг точно понял, что не убьет губернатора ни послезавтра, ни когда-либо вообще.9
– Цирк! Цирк идет! Первыми, как всегда, сбежались неугомонные мальчишки, отбросив свои бесконечно важные детские дела. За ними поспевали и девочки – многие из них уже вели с собой взрослых. Наконец, заслышав звуки фанфар, оторвались от трудов и самые занятые горожане. Все больше и больше народу от мала до велика вливалось в толпу, сопровождавшую цирковую процессию, которая пестрой змеей вилась по узеньким пыльным улочкам. Впереди, облаченный в расписной алый кафтан, вышагивал сам директор. Его голову венчал белоснежный тюрбан, украшенный кроваво мерцающим рубиновым оком. В этом живописном одеянии Шульц выглядел еще мрачнее, похожий на жестокого индийского правителя, практикующего казнь слонами. Благо и слон величественно шествовал рядом, вздымая огромные клубы пыли. Сияющая Клара в своем легкомысленном наряде восседала на шее Господина Элефанта, посылая в толпу воздушные поцелуи, и восхищенные мужчины отвечали ей тем же, презрев недовольные взгляды своих спутниц. Разодетый Матвей заглушал музыкантов, звонким петрушечьим голосом выкрикивая: – Спешите видеть! Только одно представление! Знаменитые клоуны братья Бобенчиковы! Чудеса гимнастики! Акробатки под куполом цирка! Ужасный силач из дебрей Конго! И, наконец, гвоздь программы – жестокая казнь прекрасной девы под пятой гигантского слона! И тут же Вилли всячески демонстрировал, что он именно ужасный, именно силач и именно из Конго, причем из самых что ни на есть глухих дебрей: угрожающе вращал глазами, потрясал над головой двухпудовой палицей и рычал гориллой. Никто не узнал бы сейчас в этом кровожадном людоеде кроткую жертву нападок Шульца. Павел шел рядом с Господином Элефантом. Все казалось ему прекрасным – и теплый ветерок, ерошивший волосы, и благоухание палисадников, и эти тесные улочки, и эти радостные обыватели, на время вырвавшиеся из паутины сонного провинциального существования, но более всего… Он старался не глазеть на налитые гладкие бедра Клары, крепко обхватывающие массивный загривок слона, – от этого возникали мысли, бросающие в жар. Путь лежал мимо губернаторского дома. Там, на балконе, положа руки на мраморные перила, собственной персоной стоял губернатор и любовался Кларой. Постаревший сатир прятал грустную улыбку в окладистой серебряной бороде. Быть может, он вспоминал сейчас безвозвратно ушедшую юность в окружении таких же красавиц, когда он не стал еще символом тирании и угнетения, узником собственного дома, живущим в постоянном ожидании приговора. По привычке Павел старался почувствовать ненависть – и не мог. Доживай свой век, несчастный старик; видит бог, тебе недолго осталось! А он – он будет жить дальше. Пока в мире есть Клара, умирать просто глупо. Нынче же ночью он заберет бомбы и взорвет далеко-далеко в степи. А наган зашвырнет подальше, к чертовой матери, как говорит Клара. И вернется в цирк. К ней. Он ликовал – и вместе с ним ликовал весь город.10
Сразу по возвращении циркачи потребовали, чтобы Клара непременно присоединилась к застолью, устроенному в одном из шатров. – Не ходите, – успела она шепнуть Павлу. Но он пошел. Пошел, только чтобы быть с ней. Ему пришлось стать свидетелем и участником самой безобразной попойки, какая пристала бы скорее разбойникам, нежели артистам, пусть даже и разъездного цирка. Выпивка лилась рекой, циркачи отпускали грязные шуточки и горланили похабные песни, состязаясь в громкоголосии и сквернословии. Двое юношей-гимнастов бесстыдно целовались у всех на виду – экая мерзость! Визжащие акробатки барахтались в жилистых руках служителей, каким-то образом все время переходя с коленей одного на колени другого. Клара не отставала от остальных – глушила водку вместе со всеми, вместе со всеми выкрикивала непристойности… Казалось, она нарочно стремится выставить себя в самом дурном свете. Павел выпил немного водки, чтобы не привлекать внимания, а остальное украдкой подливал сидевшему рядом Матвею, на что тот благодарно кивал. И все равно в голове вскоре зашумело, а голоса циркачей временами сливались в неразличимый гул. В самый разгар веселья Клара вдруг вскочила на стол, одним глотком осушила стопку и, швырнув ее через плечо, принялась отбивать лихую чечетку под звон подпрыгивающих бутылок и ритмичное хлопанье в ладоши захмелевших товарищей. Ее гибкое тело извивалось в мерцании свечей, глаза сверкали шальным блеском, руки белыми птицами порхали над головой… Павел сидел с раскрытым ртом, не в силах отвести от нее глаз. Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не видеть этого волнующего бесстыдства, – и в то же время он мог бы любоваться им вечно. – Гляньте, как Любимчик глазищи вытаращил! – крикнула одна из девиц. – Да ведь он влюблен по уши! – Гляди, гляди, покраснел, как его ливрея! – Оставьте его в покое, – бросила Клара, не прекращая танца. – Точно, оставьте, – подхватил Матвей, обнимая Павла рукой за плечи и обдавая запахом перегара. – Паренек-то хороший… щедрый… – И то, может, повенчать их! – предложила неугомонная акробатка. – А Господин Элефант сватом будет! – Ве-е-енчать меня с ним не нужно… – оскорбленно протянул Матвей и поскорей убрал руку. – Я ж по-дружески… я ж не из этих… – Он показал на милующихся гимнастов. – Да с Кларой же, дурень, – отозвался один из них, вызвав всеобщий смех. – С Кларой я завсегда готов! – глупо хихикнул Матвей. – Да Любимчика же! Закатай губу, Матвейка! – Ты свидетелем будешь! – Я чего… я губу не раскатывал… я ж не Господин Элефант… – Опять сказки рассказываешь! Никакая это не губа, а нос! – подал голос один из Бобенчиковых. – Огромный жидовский носяра! – И вовсе не носяра, – уперся Матвей. – Мне директор рассказывал. Хобот – энто ихняя раскатанная губища. – Ну уж ему-то мы Клару не отдадим! – загоготал другой брат. – Он ее, бедняжку, в первую ночь порвет! – подхватил третий. – Раздавит! – У-у, душегуб проклятый! Клара пьяно расхохоталась, а Павлу захотелось подойти к Бобенчиковым и обтесать кулаком наглые размалеванные физиономии. И он уже начал было вставать, как вдруг Матвей задиристо выкрикнул: – Да душегуб-то тут не слон! Зловещая, тяжелая тишина повисла в шатре. Все взгляды были устремлены теперь на Матвея, но страшнее всех смотрели налитые кровью глаза клоунов. – Ну-кась, повтори? – Да-с, да-с! Слон что? Животина бессловесная, а вот вы с директором – как есть душегубы! Ну-ка, что там с Егоркой-то приключилось, расскажете? Все трое братьев угрожающе поднялись на ноги. Но в тот же момент Клара соскочила со стола, бросилась Павлу на шею и прильнула губами к его губам. Все закружилось перед глазами; словно издалека слышались смех и улюлюканье циркачей, но это казалось совершенно не важным – сейчас имели значение лишь хмельной вкус ее губ, жар ее тела, упругая мягкость груди… Дальше было как в тумане. Он слабо помнил, как она тащила его за руку из шатра, потом они оказались в ее фургончике, лихорадочно срывая друг с друга одежду, а к окошку приплюснулись ухмыляющиеся рожи. Павел глупо улыбался. Клара, хихикая, показала в окошко кукиш и задернула занавеску. Они повалились на койку, Павел оказался сверху. Ощущая дурманящий запах и жар разгоряченного молодого тела, он как безумный принялся целовать ее волосы, лоб, глаза, губы, шею. – Раздави меня… – выдохнула Клара, направляя его рукой.11
Они долго лежали в темноте, не говоря ни слова. Клара прильнула к его груди, обдавая жарким дыханием его шею. Он скользил пальцами по крутому изгибу ее бедра. Вот все и случилось, думал он. Как просто. Как внезапно… Отчаянный крик разбил тишину. Павел подскочил, будто подброшенный. Крик повторился, пронзительный, полный ужаса. А потом раздались грязная брань и глухие звуки ударов. Павел скатился с кровати, нашарил в темноте брюки. – Не надо, не ходи! – крикнула Клара. Но он уже выскочил из фургона. Силуэты шатров и повозок смутно вырисовывались в темноте, и где-то среди них верещал Матвей: – Спасите, родненькие! Убивают! Очертя голову Павел бросился на крик. Матвей, жалкий, дрожащий, скорчился у повозки, прикрывая голову руками, а вокруг него приплясывали три пестрые фигуры, нанося ему безжалостные удары ногами в слишком больших башмаках. Вся троица обернулась на окрик Павла. Призрачно-белые рожи с багровыми носами расплылись в кроваво-красных ухмылках. В руках блеснули ножи. Тут только Павел осознал, что стоит один против троих головорезов, полуголый и безоружный. – Ба, Любимчик нарисовался! – гоготнул один из них, поигрывая ножом. – Герой-любовничек! А не кажется ли вам, что для нашей Клары он недостаточно хорош? Не изукрасить ли ему перышками фронтон? Остальные визгливо захихикали. – Лучше пощекотать с торца! – Загнать с черного хода! – Эт ты еще про нож? Взрыв хохота. Пользуясь случаем, Матвей извернулся ужом и исчез под повозкой, но троим белым призракам, похоже, и дела не было – они всецело увлеклись новой жертвой. Павел лихорадочно огляделся, ища хоть какого-нибудь оружия. И тут подоспела Клара, задыхаясь и на ходу затягивая поясок халата: – Не троньте его, зверье! – Клара, если сделают к нам еще хоть шаг, беги в полицию, – проговорил Павел, подавляя дрожь в голосе. Это вызвало взрыв издевательского хохота: – Да, Клара, беги в полицию! – Беги-беги, да там говори уж все, без утайки! – Не то мы расскажем: одним, что ль, пропадать? Клара замерла на месте, бледная как смерть. В ее распахнутых глазах плескался ужас. – Что здесь происходит? – Шульц выступил из темноты, спокойный и обманчиво хладнокровный, но при виде хлыста в его руке страшные белые призраки тотчас съежились, превратившись в пьяных и жалких клоунов. – Мы ничего… – Матвейке язык хотели укоротить слегонца… – А тут этот… Шульц перевел взгляд с Павла на Клару и сказал: – Ты опять взялась за старое, дорогая сестра. А вы, – он повернулся к притихшим Бобенчиковым, – марш к себе, и чтоб до завтра я вас не видел! Клоуны бросились наутек. – Генрих, я… – начала Клара. – Ничего страшного, лишь бы не опять черномазый, – бросил Шульц и пошел прочь. Клара вздрогнула, словно он снова ударил ее. Когда Павел отвел ее обратно в фургон, она опустилась на банкетку перед зеркалом и закрыла лицо руками. – Значит, твой ребенок был от… – Павел чуть не сказал «черномазого» и с ужасом подумал, что становится подобием Шульца. – От Вилли? – Я даже не знала, от кого, пока он не родился, – угрюмо ответила Клара. – Наверное, потому и умер. Кровь немцев плохо сочетается с кровью чернокожих. – Кто сказал тебе такую чушь? – Генрих. – Генрих либо негодяй, либо невежа. Впрочем, я больше склоняюсь к первому. Негры ничем не отличаются от белых, это известно всякому приличному человеку. – Может, он иногда бывает несправедлив, но не смей его оскорблять, – холодно произнесла Клара. – Ты не знаешь его. И потом, он шкуру твою спас. – О, я узнал вас обоих достаточно! – Голос Павла дрожал от негодования. – Ты отвлекла меня, чтобы эти бандиты смогли заткнуть рот Матвею, я прав? Голос Клары сделался совсем ледяным: – Собирай вещички и вон из моего фургона. – А все-таки кто убил слоновщика? Львы? Слон? Клоуны? Твой братец? Может быть, ты, Клара? Или весь ваш проклятый цирк поучаствовал? – Он уже не двигался! – В ее голосе звучали слезы. – Генрих сказал, что тело нужно бросить в клетку ко львам, иначе прозектор определит истинную причину смерти. Вызвались Бобенчиковы… Мы не знали, что он еще жив. А когда львы стали его рвать… он вдруг очнулся и закричал! Я до сих пор слышу этот крик… – Издав дрожащий вздох, она продолжала: – Мы не могли поступить иначе… Год назад в Одессе расстреляли слона Ямбо. Его изрешетили разрывными пулями… Полчаса он умирал в муках на глазах у зевак… Разве мы могли обречь на такое нашего единственного друга? Теперь Павел понимал, почему бегут люди. Они боялись не слона, а его хозяина. Желая спасти Господина Элефанта, Шульц впал в безумие и обрек на гибель весь цирк. – Но отвлекла ты меня нарочно? – настаи- вал он. – Да, – призналась она. – Поверь, я не знала, что они задумали! Я лишь боялась, что Матвей расскажет тебе про Генриха… А из-за них ты и сам обо всем догадался. Если она и лгала, он слишком хорошо понимал ее, чтобы осуждать. Разве он сам не готов был ради давно умершего брата лишить человека жизни? Повинуясь порыву, он опустился перед ней на колени, взял ее за руку и заговорил с жаром: – Теперь я все понимаю Клара… Нам надо бежать! Подальше от этого страшного цирка! Мы могли бы жить вместе… Я устроился бы на службу… Клара высвободила руку и отстранилась: – Если и я отвернусь от Генриха, он сойдет с ума, неужто не понимаешь? – Пойми, Клара, ведь он уже безумен! Он погубит тебя… – Будь что будет. Нам не по пути, дорогой сударь. Пусть лучше Господин Элефант раздавит меня. – Если понадобится, я уведу тебя силой. Она рассмеялась: – В следующий раз тебе придется и брать меня силой. Я уже жалею, что отдалась тебе в первый. Он вскочил, непроизвольно сжав кулаки. Клара дерзко усмехнулась сквозь слезы: – Давай! Ударь меня, если тебе станет от этого легче. Ведь я гадкая, распутная, дерзкая, я плоть от плоти этого цирка! Бей! Генриху помогает. Мы могли бы одолжить у него хлыст… Плечи Павла поникли. Он понял, что все кончено. Неужели он едва не отрекся от цели ради этой наглой, бесстыжей, невежественной циркачки! Она считает себя обязанной своему брату-убийце? Что ж, у Павла тоже был брат, и долг перед ним не выполнен. Молча собрал он свои вещи, наспех оделся и покинул ее фургон. Цирк был тих, будто вымерший. В предрассветных сумерках Павел столкнулся с Матвеем. Лицо бедолаги превратилось в сплошной лиловый кровоподтек, один глаз заплыл, губы вздулись лепешками. Он затравленно глянул на Павла здоровым глазом и поспешил прочь, прижимая к груди узелок с вещами.12
Послеполуденная жара укутала город изнуряющим покрывалом, но оказалась бессильна остановить стекающиеся в цирк толпы, привлеченные вчерашним парадом. Словно воплощая мечту о всеобщем равенстве, перед куполом шапито вскоре собрался самый разнообразный люд. Впрочем, иллюзию быстро развеяли взвод солдат, проводивших досмотр посетителей на входе, и появление губернаторского экипажа, окруженного отрядом конной стражи. Губернатор вышел из кареты в сопровождении двух дюжих румяных молодцев. Он поднял руку, приветствуя народ, офицеры опустили руки на тяжелые кобуры, предостерегая его. Неприязненный ропот прошел по толпе. Павел, уже облачившийся в униформу, остановился у входа в слоновник. Массивная фигура губернатора с поднятой ладонью колебалась в знойной зыби, будто само солнце защищало его, искажая прицел для возможного стрелка. Рука Павла непроизвольно коснулась ливреи, за полой которой был припрятан наган. Он вошел в слоновник. Клара лежала на спине Господина Элефанта, поглаживая рукой его массивную голову, а слон, причудливо изогнув хобот, вытирал ей слезы. При виде этой трогательной картины у Павла защемило сердце. Он хотел сказать что-то, но не находил слов. Слишком многое было высказано прошлой ночью. Они молча ждали, стараясь не смотреть друг на друга. Клара то и дело поглядывала на брегет, оставленный ей братом, – без Матвея некому было «слетать» к ним, чтобы вызвать на сцену. Из главного шатра доносились отголоски представления. Так прошло около часа. Брегет заиграл веселый мотивчик. Не говоря ни слова, Павел дрожащей рукой ухватил Господина Элефанта за узду и повел из слоновника. Легкий ветерок гулял среди палаток, освежая взмокшие лица солдат, оцепивших входы в главный шатер. Солнечные зайчики играли на стволах винтовок. – Э, брат! – крикнул вдруг юный солдатик, переложив винтовку из руки в руку. – Не торопись! Попался, подумал Павел почти с надеждой. Но солдатик разулыбался по-детски: – Эх, как представление-то посмотреть охота! Хоть на слона вашего погляжу… – Сашка зеленый у нас еще! – хмыкнул командир, крутнув ус. – Такая мамзель тут, а он, вишь ты, слоном любуется! Солдаты расхохотались, засмеялась и Клара, хоть и вымученно. Щеки паренька, едва тронутые пушком, залил румянец. Он махнул Павлу рукой: проходи, мол. Совсем ведь мальчишка, с горькой завистью подумал Павел. У него-то целая жизнь впереди… Еще подумал, что на губернаторе, должно быть, поставили крест даже свои, раз дают в охрану таких вот молокососов. Наверное, волнение передалось и слону, который вдруг грузно переступил с ноги на ногу. Но на самом деле Господин Элефант переживал сейчас свой собственный кошмар. Ведь он не забывал ничего. И уж точно никогда не забыл бы эти страшные палки в руках двуногих. – Спокойно, дружок, спокойно, – шептала Клара, похлопывая его по шее, но слон не мог быть спокоен. Это был даже не страх, а то неистовое отчаяние, которое заставляет загнанного зверя бездумно кинуться на врага. Одно лишь присутствие Клары усмиряло его. Он шел навстречу двуногим, ожидая, что в любой момент страшные палки в их руках сразят его громом, как когда-то сразили мать. Но двуногие расступились, пропуская его.13
За краткий момент до выхода на сцену Павел испытал все то, что чувствует приговоренный, восходя на эшафот… или на арену, где уже поджидает слон-палач, готовый раздробить ему голову. – Дамы и господа, представляю вам Господина Элефанта, величайшего слона в мире! – донесся до него голос Шульца. Павлу казалось, что ноги набиты мякиной; что брезентовые стенки судорожно сжимаются, норовя вытолкнуть их троих туда, где сверкают огни и ревут фанфары, где ему предстоит убить и быть убитым. Вот арена, вот зрители – звонко плещущие руки, восторженное мерцание глаз, вот директор в своем наряде индийского раджи, а вот и клоуны – кривляются, перекидываясь глупыми шуточками. Все словно сон, причудливый, яркий, страшный; сейчас он проснется, и окажется, что не было ни цирка, ни Клары, ни Шульца, ни Господина Элефанта, ни губернатора, будь он проклят; что лежит Павел в своей постели, а за окном под пение птиц пробуждается умытый росою мир. И Алексей скажет: «Здоров спать, братец!» А потом они вместе будут долго смеяться над бредовым его сновидением. Он повел слона вокруг арены, чувствуя, как дрожат ноги, а в горле разрастается тугой ком. Нет, он не проснется, и Алексея не будет больше, а виновник сидит в кресле, расстегивая ворот кителя, точно ему вдруг стало душно, и его молодые спутники пожирают глазами Клару… Грохот аплодисментов оглушал. …Клару, которая, когда он поднимался к свету, предательски столкнула его обратно в пропасть. Павел всю ночь со злобной радостью представлял, какое лицо у нее будет, когда он исполнит задуманное. Сияние прожекторов резало глаза. Рука отказывалась подчиняться. И тут Господин Элефант подмигнул ему. Быть может, слона ослепил луч света или в глаз ему попала соринка, но Павлу в его лихорадочном состоянии почудилось: это знак. Давай, говорил Господин Элефант, покажи им всем. Поравнявшись с губернаторской ложей, Павел сунул руку за пазуху и выхватил револьвер.14
Мгновения растянулись в бесконечности. Он видел, как офицеры разинули рты, одновременно потянувшись к кобурам, как губернатор с изумлением на лице начал подниматься… Первая пуля пробила старику горло, следующие две вошли в живот. Музыка, взвизгнув, захлебнулась, а губернатор рухнул обратно в кресло, уронив голову на грудь, точно сломанная марионетка. Испуганные крики огласили цирк. Офицеры вскочили, выхватывая пистолеты, но в тот же миг кто-то прыгнул на Павла сверху, обхватил руками шею и сбил его с ног. Клара! Он упал, треснувшись подбородком и прикусив язык, рот наполнился металлическим привкусом крови. Пули, предназначенные ему, просвистели над головой Клары и наповал сразили опешивших братьев Бобенчиковых. Еще несколько пуль поразили Господина Элефанта. Огромный зверь на мгновение замер, точно каменное изваяние. Глаза его вращались от боли и ужаса. А потом он взметнул хобот и затрубил, и такая неистовая ярость была в его голосе, что публика умолкла, охваченная первобытным, животным страхом. Снова и снова ревел Господин Элефант, разевая треугольную розовую пасть. Он осознал, что подчинение бессмысленно, что даже Клара не защитит его, что, пока он жив, двуногие будут причинять ему боль и что он больше не намерен этого терпеть. Он сделал несколько шагов вперед, туда, откуда в него стреляли, где застыли два потрясенных человека, так и не опустившие пистолетов. Павел откатился подальше от раненого зверя, увлекая за собой Клару. Она на четвереньках отползла в сторону. Господин Элефант вскинулся на дыбы, воздев ноги-колонны над головами офицеров, и один из них допустил роковую ошибку: разрядил пистолет в огромное серое брюхо. Бешеный вопль вырвался у слона. Тяжелая нога обрушилась на голову стрелка, словно молот, разметав во все стороны осколки черепа и ошметки мозга. Второй офицер с удивительным проворством начал карабкаться по рядам, но хобот Господина Элефанта настиг его. Офицер взмыл под самый купол, описал в воздухе сальто-мортале на зависть любому акробату и мешком грянулся на арену, где и остался лежать, неестественно вывернув шею. Из его уха тоненькой струйкой побежала кровь. Снова заревев, Господин Элефант развернулся и сделал несколько шагов к своему хозяину, но путь ему решительно преградила Клара. Слон остановился, протягивая к ней хобот. Ноздри на конце его шумно раздувались, поднимая ветер, растрепавший волосы девушки. Клара доверчиво протянула руку навстречу грозному хоботу. – Господин Элефант, что же ты? – ласково приговаривала она. – Успокойся, милый… Это я, Клара… Не выпуская из руки нагана, Павел как завороженный смотрел на гигантского зверя и маленькую женщину, застывших друг против друга. Краем глаза он видел и Шульца – тот тоже не сводил глаз с сестры. Господин Элефант долго смотрел на девушку, будто решая, казнить или миловать. Неизвестно, к чему бы он в итоге пришел, если бы на манеже откуда ни возьмись не возник Вилли, занося над головой, словно копье, слоновий багор. – Клара! – выкрикнул он и со всей своей недюжинной силой вогнал стальное острие в бок слона. – Спасайся! С воплем визгливой ярости Господин Элефант круто развернулся и сшиб Вилли ногой. Глаза бедного негра вылезли из орбит, из раздавленного тела хлынули во все стороны склизкие змеи кишок. В последней судороге он вскинул руку, но могучий хобот тотчас перехватил ее и одним рывком выдрал из плеча, окропив кровавым фонтаном арену… Перепуганные зрители рванули к выходу, опрокидывая скамьи и сшибая друг друга с ног. Несколько трибун с грохотом обрушились, упавшие смешались в кучу, а по их телам и головам уже безжалостно перли следующие. Ворвавшиеся в шатер солдаты с винтовками наперевес тут же застряли в людской лавине, и она вынесла их обратно. Схватив кричащую сестру за плечи, Шульц потащил ее с залитой кровью арены, мимо неподвижных тел Бобенчиковых, подальше от взбесившегося зверя и ополоумевшей толпы. Павел был поражен самопожертвованием силача, но печалиться не было времени: Господин Элефант уже шагал к нему, все еще держа в хоботе мускулистую черную руку с болтающимися обрывками мышц, и под ногами его влажно чавкало. Вскочив, Павел два раза выстрелил слону в голову. Пули расплющились о толстый череп животного, но боль на мгновение ослепила его, и слон завертелся на месте. Этого Павлу хватило, чтобы добежать до выхода и выскочить из шатра вместе с последними зрителями. Перед шапито, сжимая в дрожащих руках винтовки, нестройной шеренгой сгрудились перепуганные солдаты. – Бегите! – крикнул Павел и прыгнул в сторону. Он успел нырнуть под ближайшую повозку в тот самый момент, когда из шатра тяжелым галопом вырвался разъяренный Господин Элефант. Оправившись от первого шока, солдаты открыли огонь по обезумевшему животному. Несколько пуль продырявили чувствительные уши гиганта, окончательно лишая его рассудка. Снова затрещали выстрелы. Пули с визгом впивались в бока слона, но не могли остановить его. Солдаты рассыпались в стороны и, когда ослепленный яростью зверь пронесся мимо, дали вслед ему еще один залп. Гигант с разбегу врезался в фургон, разнеся его в щепки. Солдаты снова сомкнулись в шеренгу, перезаряжая винтовки. Но то, что случилось потом, стало для них полнейшей неожиданностью. Изогнув хобот, Господин Элефант выдернул из своего бока слоновий багор и снова пошел в атаку, раздавая удары направо и налево. Стальной наконечник вспарывал животы, разбивал черепа. Люди разлетались точно кегли. Уцелевшие в панике бросились врассыпную. Отшвырнув окровавленное орудие, слон пустился в погоню. Он настиг одного из солдат, поймал хоботом за ногу, с размаху ударил затылком об угол повозки, вдребезги размозжив череп, а потом швырнул еще бьющееся в конвульсиях тело вдогонку убегающим. Теперь он видел, что их громовые палки лишились силы. Двуногие перестали быть грозными и всемогущими. Точно перепуганные крысы, метались они, отталкивая друг друга, топча своих же, истошно вопя… Запах страха витал над полем. И эти жалкие твари столько лет держали его в подчинении?! Отныне он сам себе хозяин. Он волен идти куда захочет и делать что пожелает. А желает он, чтобы двуногие заплатили за все. Ведь он не забывал ничего. Он двинулся в город вслед за убегающими людьми.15
– Зачем? Зачем он это сделал, Генрих? – всхлипнула Клара. Шульц зажал ей рот рукой. И вовремя: фанерные стены киоска, где они прятались, затряслись мелкой испуганной дрожью. Свет в окошке померк, заслоненный – буквально! – громадной тушей Господина Элефанта. Шульц стискивал сестру в объятиях, стараясь даже не дышать. У слонов ведь тончайший слух… А ему пока рано умирать. Пусть его жизнь разрушена, осталось еще одно незавершенное дельце. Ярость, которую он испытывал сейчас, не имела ничего общего с изводившими его буйными приступами. Эта ярость была холодной и острой, как отточенный клинок. Благородной. Очищающей. Солнечные лучи снова хлынули в окошко. Земля снова задрожала – Господин Элефант удалялся. Сестрица, стоило ее отпустить, опять запричитала, на сей раз оплакивая «бедного, бедного Вилли». Он почувствовал, как все закипает внутри. Держись. Держись. Только очередного приступа сейчас не хватало. Почему Клара так падка на всякую сволочь? Он до сих пор помнил, как «бедный Вилли» надолго лишил ее возможности выступать. Шульц тогда с ужасом думал, что после рождения ребенка станет только хуже: кормление грудью, пеленки-распашонки, детские хвори – какая уж тут работа? Кормящие матери частенько еще и толстеют… Как ему хотелось узнать, что за подлец обрюхатил его сестру, осквернил ее своим гнусным семенем! Тайна раскрылась несколько месяцев спустя, когда Клара, взмокшая и охрипшая от крика, разрешилась от бремени у него на руках и тут же потеряла сознание. Скоты Бобенчиковы померли бы со смеху! Маленький орущий комочек весь был в крови и слизи, но даже это обстоятельство не могло скрыть черной кожи, курчавых волос и вывороченных губ. К счастью, поставить простака Вилли на место не составило труда. Шульц знал, что в России к неграм относятся, скорее, с благодушным любопытством (по его мнению, русские сами недалеко ушли от них), но для Вилли за пределами цирка всегда был штат Миссисипи, так что слова «расовое преступление» и «суд Линча» оказали должное воздействие. Пришедшей в себя сестре Генрих сказал, что ребенок был все равно не жилец – забавно, учитывая, сколько времени ему пришлось держать маленькое тельце в бадье с водой, прежде чем оно перестало дергаться. Он вспомнил, как сестра билась в истерике – глупое создание! – и губы его растянулись в злорадном оскале. Черномазый отправился вслед за своим выблядком. Господин Элефант отменно расправляется с предателями – уж не затесались ли в его роду слоны-палачи, служившие жестоким восточным владыкам? Впрочем, Шульц не хотел, чтобы человек, разрушивший его цирк, стал жертвой слона. – Оставь его мне, – хрипло прошептал он, до боли в руке стискивая хлыст. – Оставь его мне.16
– Бешеный слон! Бешеный слон! Семилетняя Лизанька Ртищева от удивления приоткрыла рот, прекратив ненадолго истерику. Единственная и поздняя дочка коллежского советника не терпела запретов, а сегодня родители отказались взять ее с собой в цирк, оставив на попечение гувернантки Елены Платоновны, незамужней девицы тридцати семи лет, которая, несмотря на от природы незлобивый нрав, в тот вечер с трудом преодолевала желание удавить свою воспитанницу. Елена Платоновна чеканным шагом подошла к окну и выглянула на улицу. По дороге, шатаясь, бежал Тришка – известный в городе забулдыга. Грязный и оборванный, с окровавленным лицом, он размахивал руками над головой, точно свихнувшийся пророк, и орал дурным голосом: – Бешеный слон! Спасайся кто может! Досадливо фыркнув, Елена Платоновна задернула штору – чего не помстится дураку с пьяных глаз! – и противостояние возобновилось. – Лизавета Сергеевна, душечка, успокойтесь Христа ради! Будто вас убивают! – увещевала она, таща визжащую и брыкающуюся барышню к столу. – Пусти, пусти, гадкая! – верещала девочка. – Не хочу за стол! В цирк хочу-у-у! Между тем цирк сам уже шел к Лизаньке. Господин Элефант, проходя по улице, услыхал детский визг, доносившийся из окна дома Ртищевых. Ярость снова овладела гигантом. Ведь он не забывал ничего. Он помнил, как маленьким слоненком спасался от сыновей офицера-плантатора, которые, вот так же визжа, гоняли его по саду, норовя выткнуть глаз самодельными копьями. Он помнил, как сам офицер, отринувший при виде потоптанных цветников хваленое британское хладнокровие, остервенело колотил его палкой. Жажда мести вспыхнула в нем с новой силой. Между тем барышня с гувернанткой заключили мирное соглашение. Лизанька согласилась сесть за стол, но только в компании всех своих кукол. Теперь она накладывала себе в чай варенья из блюдечка, жалобясь фарфоровым подружкам на глупых взрослых. Елена Платоновна облегченно вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. Именно поэтому она не увидела, как в окне возник огромный темный силуэт. Стекло брызнуло градом осколков. Порыв ветра взметнул к потолку тюлевые занавески. На глазах пораженной ужасом гувернантки что-то огромное, серое, страшное, похожее на изборожденную трещинами исполинскую змею, ворвалось в окно, обвило Лизаньку за талию и унесло с собой, прежде чем последние осколки осыпались на подоконник. Туфелька, слетевшая с детской ноги, брякнулась на стол, опрокинув чашку и расколов блюдечко. Варенье расплылось на скатерти багровой лужицей. На мгновение воцарилась тишина, а потом ее расколол мучительный детский крик, тут же прерванный глухим ударом. И раздался рев – трубный, визгливый, исполненный неистовой ярости… Елена Платоновна почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног, а сама она летит куда-то вниз, вниз… Очнулась она на полу и сразу уставилась в зияющий проем окна, пытаясь сообразить, что же произошло. Наконец, дрожа точно в лихорадке, она сумела подняться на ноги, шатаясь, подлетела к окну, ухватилась за раму с обеих сторон, не обращая внимания, что осколки стекла режут пальцы, и выглянула наружу. Там, в палисаднике, выглядевшем так, словно по нему прошелся ураган, среди растоптанных в пеструю кашу цветов лежала бесформенная куча тряпья и измочаленной плоти, из которой торчали обломки костей… Долго смотрела Елена Платоновна, не в силах осознать, принять, смириться. Куклы таращили на нее осуждающие стеклянные глаза. Она раскрыла рот и завыла зверем. Господин Элефант тем временем нашел себе новых жертв. Ими стали двое влюбленных, на свою беду решивших в тот вечер прокатиться по бульвару в бричке. Огромный зверь, чья жгучая злоба к тому времени сменилась мстительным хладнокровием, подобрался к ним сзади так тихо и незаметно, что даже норовистая кляча не почуяла его приближения. Страшный удар разнес бричку в щепки. Одно из колес отлетело, вдребезги расколотив витрину ювелирного магазина. Молодому человеку несказанно повезло: его отшвырнуло в сторону. Свалившись в канаву, он потерял сознание и уже не видел, как его пораженная ужасом спутница, не издав ни звука, исчезла под ногами чудовища. Извозчик рухнул на мостовую; перепуганная лошадь шарахнулась, натягивая поводья, обмотанные вокруг его запястий. Отчаянный вопль мужика оборвался, когда в лицо ему с размаху влепилось копыто, раздробив глазницу; выбитый глаз склизким сгустком повис на щеке. Лошадь поволокла несчастного прочь, ударяя головой о брусчатку и оставляя широкую кровавую полосу. Господин Элефант ликующе протрубил им вслед. Но торжествовать было рано. Уже со всех сторон бежали городовые, на ходу передергивая затворы винтовок. Снова засвистели пули, впиваясь в его плоть. Слон распростер парусами кровоточащие уши и кинулся в узкий проулок. В пылу погони городовые устремились за ним. Они осознали свою ошибку, лишь когда в самом конце проулка Господин Элефант неожиданно развернулся им навстречу и оказалось, что бежать можно только назад, причем противник бегает гораздо быстрее… Бешеный рев зверя заглушил грохот, звуки ударов и душераздирающие крики гибнущих людей.17
Павел вылез из своего укрытия и огляделся. Огромный желтый купол как ни в чем не бывало высился посреди поля. Как и прежде, змеиным языком трепетал над ним красный флажок. Но теперь часть фургонов была перевернута и разбита в щепки. Кругом рваными тряпками пестрели втоптанные в землю шатры и палатки. Громко кричали вороны, и где-то позади шатра жалобными голосами вторили им брошенные в клетках животные. А посреди всего этого разрушения, вывернув изломанные конечности, валялись мертвецы. Одни распластались лицом в грязи, другие слепо уставились в темнеющее небо, третьи были так изувечены, что и лиц не разберешь… Бросился в глаза давешний мальчишка-солдатик, который хотел поглядеть на слона и которому Павел так опрометчиво предсказывал в мыслях «многия лета»; лежал с развороченной грудью, цепляясь за воздух скрюченными пальцами, словно еще пытался ухватить ускользающую жизнь, кровь запеклась вокруг рта, застывшего в мучительном беззвучном крике. Павел зачем-то наклонился смежить убитому веки, но пальцы соскользнули, задев мертвые глаза, и от их студенистой стылости его пробила дрожь. – Боже… – прошептал Павел. – Боже, что я наделал? Боженька, разумеется, не отвечал. Наверное, его все-таки не было. За все случившееся придется отвечать только перед своей совестью, а Павел не знал ответов. Черт возьми, лучше бы он воспользовался бомбами! Впрочем, теперь-то, пожалуй, самое время. Громовой студень остановит смертельное веселье Господина Элефанта. Бомбы раздробят слону колени, оторвут хобот, разворотят брюхо, выпустив наружу кишки… Он больше никому не сможет причинить зла. Стараясь не наступать на мертвецов, Павел добрался до своего жилища. Старый саквояж ждал его на привычном месте под койкой. Павел осторожно извлек его, взвесил в руке. Какая все же ирония: снаряды, от которых он отказался в пользу револьвера, чтобы не губить горожан, теперь для них же станут спасением. Френкель бы оценил. С саквояжем в руке он шагнул из фургона. Удар бича едва не ослепил его, наискось расчертив лицо безобразным алым рубцом. В глазах сверкнуло, и Павел разжал пальцы. Саквояж ухнул между ступенек, угрожающе брякнув содержимым, но взрыва так и не последовало. Павел скатился с лесенки и рухнул навзничь. Он успел отползти достаточно далеко и даже подняться на колени, зажимая рукой окровавленное лицо, но тут бич звонко ударил по пальцам, разодрав их до костей, и все поглотила боль – нестерпимая, жгучая. – Генрих, прошу, не надо! – донесся до него отчаянный вопль Клары. Павел опрокинулся на спину, заходясь криком. Шульц навис над ним, его глаза под тюрбаном сверкали безудержным злым весельем. Он снова размахнулся хлыстом, но тут Клара набросилась на брата сзади и обхватила за плечи. Шульц вогнал локоть ей в живот, а когда она, охнув, разжала пальцы и скорчилась в три погибели, ударил кулаком в лицо. Захлебываясь кровью, Клара отлетела к фургону. – H-hure[5]! – выплюнул Шульц. Павла трясло. От боли, от страха, от ненависти, какой он никогда не испытывал даже к губернатору. Шульца, вот кого следовало пристрелить как бешеного зверя! Искалеченной рукой он сумел-таки выхватить из кармана наган с единственным уцелевшим патроном и направить его на безумца. – Нет, брат, шалишь! – Удар бича разорвал Павлу щеку. Ослепленный болью, он выпалил наугад. Звонкий мучительный крик вонзился в уши. Оцепенев от ужаса, Павел смотрел, как Клара, бедная маленькая Клара, которая до последнего пыталась его защитить, съезжает спиной по стене фургона, прижимая руку к животу. Под ее пальцами расползалось алое пятно. В широко раскрытых глазах застыло обиженное удивление. – Клара… – хрипло выдавил Шульц. – Клара, ты что? – Он бросил хлыст и сделал несколько шагов к сестре, протягивая дрожащие руки. И тут неожиданно сработали бомбы. Словно бесплотная горячая ладонь оттолкнула Павла назад, а потом сверху обрушился град из комьев земли и обломков. Ни фургона, ни Шульца, ни Клары не было больше. Никто не опознал бы в ошметках плоти, дымившихся среди горящих досок, грозного директора цирка и его прекрасную сестру. Много часов пролежал Павел скорчившись, устремив невидящий взор в никуда. Он не слышал ни карканья воронья, ни плача животных. Он вообще ничего не слышал, кроме низкого гудения в голове, ничего не видел, кроме какого-то багрового марева. Медленно поднялся он на ноги и, шатаясь, побрел с поля. Сам не зная как, добрался до города. Слезы прочертили дорожки в кровянисто-земляной корке, покрывавшей его лицо, кровь ручейками бежала из ушей, исчезая за воротом разодранной грязной ливреи. Он бормотал себе под нос какую-то невнятицу – лишь бы приглушить хоть немного нестерпимый гул в голове. Земля задрожала. Господин Элефант бесшумно выплывал из переулка – темная гора в сгущающихся сумерках. При виде человека он издал угрожающий рокот. Подняв голову, Павел шагнул навстречу надвигающейся громаде. Он видел злобу, горящую в маленьких глазках чудовища, видел кровь, струившуюся по вздымающимся бокам из десятков пулевых дыр. Мертвенно белели во мраке страшные бивни с запекшимися темными брызгами. Павел понимал, что сейчас эта взбесившаяся махина казнит его. И знал, что так и должно быть. – А я, брат, хотел убить губернатора, – ска- зал он. Он почувствовал, как могучий хобот обвивается вокруг талии и отрывает его от земли. Бивень насквозь пробил грудь; боль огнем разлилась по телу и наполнила рот вкусом расплавленной меди. Господин Элефант дернул головой, высвобождая бивень, Павел рухнул ничком и успел еще увидеть, как кровь, хлынувшая изо рта, змеится между булыжниками мостовой. Огромная, мягкая, неумолимая тяжесть опустилась на затылок, надавила – и череп лопнул. Мир исчез в ослепительно-белой вспышке, которая тут же угасла, сменившись дрожащей чернотой. А потом не было ничего. Господин Элефант двинулся дальше, оставив человека лежать позади, точно ненужный ворох тряпья. Точно отброшенное воспоминанье. Никто больше не пытался остановить его. Никто не осмелился бросить ему вызов. К тому времени, как поднятый в ружье гарнизон вошел на опустошенные страхом улицы города, Господин Элефант был уже далеко. Он держал путь через степь. Теплый ветерок ласкал его израненное тело, и шелестел ковыль, усмиряя нежным шепотом его гнев. Впервые за бесконечно долгие годы Господин Элефант был счастлив. Время от времени он поднимал хобот и ликующим ревом оглашал темноту. Опьяненный волей, он не чувствовал, как жизнь покидала его вместе с кровью, бегущей из множества ран. Шаг слона сделался нетвердым, его шатало, а он все шел и шел. Лишь когда над стеною леса далеко впереди забрезжил рассвет, слон-убийца наконец остановился. Заря разливалась над горизонтом. В последний раз Господин Элефант воздел хобот и заревел, исторгнув в рдеющее небо кровавый фонтан. Черные птицы снялись с деревьев и с криком заметались в вышине. Эхо подхватило вопль, и уже сам гигант рухнул замертво, а его трубный глас еще долго гулял над дрожащей землей, словно предвестье чего-то великого, страшного, непостижимого…Гран-Гиньоль
Теперь это уже не так забавно, как перед войной; дело, по-видимому, в том, что ужасное заняло в этом мире место обыденного, и тем самым его демонстрация на сцене утратила всю свою экстраординарность.Бой длился уже часы – казалось, не будет ему конца. Мы лежали в окопах под палящим солнцем, раскалившим в руках винтовки, и бестолково разряжали их всторону леса. Оттуда резкими, короткими, свистящими плевками приходила ответка, выбивая над нашими головами фонтанчики почвы. Земля попадала за шиворот, липла к истекающей потом зудящей коже, и пытка эта была хуже страха смерти, каковой большинство из нас давно утратили: осознание бесполезности этой нескончаемой, словно дурной сон, войны лишало всякого желания жить, и мы сражались, как автоматы. Но и автоматы ломаются: у меня на глазах один из товарищей поднялся вдруг из укрытия и с пистолетом в руке зашагал вперед, под пули. Радостно заухал пулемет, и тело бойца разорвалось пополам, забрызгав кровью края окопа. Я отвернулся, чтобы брызги не попали в лицо, – всего на мгновение, но тут все и случилось. Откуда-то издалека раздался пронзительный свист снаряда, быстро переросший в истошный вопль. Земля подо мною содрогнулась, будто в агонии. Дальше было как в тумане: я видел разбросанные вокруг вперемешку с землей куски в кровавом тряпье – все, что осталось от кого-то из моих товарищей, – и силуэты всадников, с дробным топотом вылетевших из-за стены леса; видел, как еще двое уцелевших выскочили из окопа и как сверкнула сабля, снеся одному из них половину черепа. ГИНЬОЛЬ. Где-то рядом трещали выстрелы и кричали люди, а я, сделав пару шагов вперед, упал лицом вниз и словно в бреду шептал развороченной взрывом земле: – Гиньоль… Гиньоль…Эрнст Юнгер1919
1909
Мне снова четырнадцать лет, и в опаляющем зное аромат листвы смешан с сухим запахом раскаленной дорожной пыли. Так пахнет свобода – бесконечные дни лета, когда ты предоставлен самому себе и можешь делать все, что вздумается. Рядом что-то лепечет Митинька, но я не слышу его: все мои мысли заняты афишей, что висит передо мной на невысокой афишной тумбе.НАСТОЯЩИЙ ГРАН-ГИНЬОЛЬ! ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР УЖАСА! МАДМУАЗЕЛЬ БЕЗЫМЯННАЯ В ОШЕЛОМЛЯЮЩЕМ ЦИКЛЕ «ВСЕ ЗЛО МИРА»!На рисунке – залитая кровью постель, поперек которой распростерлась прекрасная женщина, а над нею склонился горбун с горящими красными глазками и сверкающим клинком в руке. Я не верю своим глазам. Это отвратительно, страшно… и притягательно. В нашем сонном городишке, летом утопающем в зелени, а зимою – в снегу, где вся жизнь протекает в ленивой скуке, подобное кажется громом среди ясного неба. Под изображением – прозаическая приписка: дети и беременные особы на спектакль не допускаются, а кавалерам рекомендуется прихватить для своих дам нюхательную соль. В тот момент я не знал, что моей безмятежной жизни книжного червя и мечтателя вскоре придет конец. Театр очаровывал меня с раннего детства – благо волею судьбы мне довелось в нем работать. Мать моя умерла вскоре после того, как я появился на свет; отец, морской офицер, пять лет спустя погиб, обороняя Порт-Артур, и меня взял на попечение один из служивших под его началом солдат – Григорий Миронов, давно вышедший в отставку по ранению. Огромный дядька с густыми усами, он как родной брат походил на Поддубного и, случись ему выступать на арене, наверняка заткнул бы за пояс прославленного силача. Недюжинная сила и добродушный нрав сделали его любимцем городской детворы; я любил его, пожалуй, даже больше покойного отца. Сам дядя Гриша души не чаял в своей супруге Марье, в свое время буквально вытащившей его со дна, когда после ухода в отставку он предался горькому пьянству. В ту пору он, говорили, был сущий зверь, а буйствуя, становился настолько опасен, что даже полиция не смела пресечь его пьяные выходки. Тетя Марья не сложила рук и неимоверными усилиями сумела спасти супруга. Ради нее он раз навсегда порвал с зеленым змием, и теперь они благополучно растили троих детей – красавицу Мурочку, сорванца Павлю и малыша Митиньку. Театр, куда дядя Гриша устроился световиком – хотя помимо этого на нем лежали еще обязанности смотрителя, – видывал и лучшие дни. Его посещали скорее по традиции, нежели из интереса. Но я с того самого момента, как был введен в мир ветхих декораций и пыльных кулис, не променял бы его ни на один из роскошных театров Москвы и Петербурга. – Весь в матушку, – сказал тогда дядя Гриша, глядя, как я с раскрытым ртом обозреваю сцену. – Она, стало быть, тоже по театру да по книжкам все… Наш-то брат к такому не особо приучен. А ну ко мне в помощники? Работенка непыльная. И я стал приобщаться к ремеслу. С техникой, прямо скажем, я ладил не шибко, и не раз дядя Гриша грозился открутить мне голову. Я нисколько не обижался: осветительные приборы изготавливались за границей и стоили едва ли не больше, чем все здание театра. Как ни странно, по-настоящему театр оживал только в «мертвый сезон», когда пожилой директор Арчибальд Николаевич сдавал его в безраздельное пользование гастролирующим труппам, а сам уезжал в Ялту поправлять здоровье. Гости нередко привозили с собой нечто необычное, подчас даже довольно скандальное, вызывавшее бурный гнев публики. О давних выступлениях Товарищества Новой Драмы у нас по сей день ходили легенды. Теперь, глядя на афишу, я не сомневался, что нас ждет нечто похлеще причуд господина Мейерхольда. – Страшно… – выдохнул Митинька, кривя розовый ротик. Ему недавно сравнялось пять лет. Охочий до разных историй, он еще толком не умел читать и всецело полагался на меня, так что немало времени мы с ним проводили в компании героев Марка Твена, Жюля Верна и Джека Лондона. – Это «Гран-Гиньоль», – сказал я. – Такой театр во Франции. – Он не во Франции, он здесь! – пискнул Митинька. По натуре он был пуглив. Иногда я, поддаваясь детской тяге к мучительству, разыгрывал перед ним в лицах особенно страшные моменты из книг, а он пучил голубые глазенки и тихо икал от ужаса. Недавно я довел его до слез, отчего до сих пор чувствовал себя злодеем, – и теперь хотел загладить свою вину. – Да он даже не настоящий, – сказал я, отводя его подальше от злополучной афиши. – Настоящий в Париже. И вообще там все понарошку.
* * *
Пусть этот Гран-Гиньоль и не был настоящим, в город он вторгся стремительно и безжалостно, как наполеоновские войска. На следующий день афиши были расклеены уже повсюду. Они висели на каждом столбе, на каждом заборе, они переходили из рук в руки, и две недели приезжую труппу обсуждали на всех углах. Группа борцов за нравственность устроила даже стихийное собрание, на котором заклеймила позором как сам Гиньоль, так и любого, кто его посетит. От этого интерес горожан вспыхнул, пожалуй, с утроенной силой. Театр ужасов – в нашей глуши! Много читал я о парижском Гиньоле и, хотя понимал, что наверняка здесь лишь жалкое подражание отечественных умельцев, все равно отчаянно желал увидеть хотя бы один спектакль. Оставалось только надеяться, что дядя Гриша не станет выгонять меня из зала, по крайней мере на первом представлении. Надежды мои были тщетны. Как-то вечером, незадолго до премьеры, дядя Гриша вдруг завел разговор о своем новом начальстве. – Мерзость какая, прости господи! – с сердцем сказал он. – Отродясь не встречал эдакого сборища дьяволов. Такие рожи не дай бог во сне увидеть. Разговариваешь с ними, а сам начеку: не сунули б ножа в спину. Сен-Флоран, импресарио их, туда-сюда еще, да и он, в сущности, змей очкастый, из тех, кто покойнику карманы обчистит! Мы пили чай – дядя Гриша, я, тетя Марья и Мурочка; Павля был с позором изгнан из-за стола за то, что плевался в Митиньку вишневыми косточками, а самого Митиньку тетя Марья переодела и уложила спать. – Григорий! – строго сказала тетя Марья. – При детях… Как такую гадость вообще позволили? – Известно как, – наморщила носик Мурочка, которая к своим шестнадцати годам успела набраться свойственного юности цинизма. – Городскому голове подмаслили, ну и полиции сколько-то. Обычное дело. – А репертуарчик, скажу я вам! – разорялся дядя Гриша. – Мне, старому вояке, нехорошо стало. Ежели у французов нынче такое в моде, значит, мало мы их в свое время учили манерам… – (Он очень любил помянуть, кого наши армия и флот учили манерам, страшно досадуя при упоминании тех, кому повезло учить манерам нас.) – Они правда французы? – удивился я. – Как будто французы, – проворчал он, – но по-русски шпарят не хуже нашего. Оно ясно: когда по свету мотаешься, без языков никуда. – А что мадмуазель Безымянная? У нее тоже рожа? – со смехом спросила Мурочка. – У нее-то? Она не выходит из гримерки, я ее и не видел толком. Но по афише судя, на мордашку она… – Дядя Гриша по-гусарски подкрутил усы, а тетя Марья шутливо погрозила ему пальцем. – И всегда жертву у них играет. И все сюжеты про то, как ее умучивают разные душегубы. У Мурочки заблестели глаза: – Я должна это видеть! – Еще чего! – рыкнул дядя Гриша и так хватил кулаком по столу, что тарелки и блюдца со звоном подскочили, а самовар затрясся, будто в испуге. – Тебе тоже нельзя, – повернулся он ко мне. – Помог отладить прожектора – и марш домой. – Ах, папенька, вы ужасно наивны, – протянула Мурочка противным голоском кисейной барышни. – Но ведь… – начал я. – Довольно! – отрезал он, и я в расстроенных чувствах удалился из-за стола. Однако Мурочка не покривила против истины: дядя Гриша действительно был простодушен. Он совершенно не учел, что сам доверил мне запасной комплект служебных ключей. Также я знал, что в театре держат специальную ложу на случай приезда важных гостей. Проникнув туда тайком, я смогу посмотреть представление с полным комфортом. Повеселев, я вышел на крыльцо и сразу услышал сдавленный кашель. Метнувшись за угол, я обнаружил Павлю, который сидел на поленнице и смолил самокрутку, набитую похищенным у отца табаком. С Павлей вечно не было сладу: точно маленький вихрастый ураган, носился он по округе, оставляя на своем пути полосу разрушений. Он таскал из курятников яйца, из огородов – репу, из садов – яблоки, он бил окна и вместе с детьми местной босоты купался голышом в городском фонтане, приводя в ужас почтенных дам. Однажды он попытался снять висевшую на стене в передней отцовскую саблю и уронил ее – на его лодыжке до сих пор красовался живописный шрам. За все эти безобразия дядя Гриша, огромный добродушный медведь – как трудно было поверить, что когда-то он мог быть другим! – лишь ворчал на него да трепал за уши, хотя по-хорошему следовало бы порядочно взгреть. – Послушай… – сказал Павля, поскорей затушив самокрутку о бревно. – Возьми меня с собой. – Куда? – спросил я, хотя сам уже догадался. – На это, как его, гнильё… – Гиньоль. – Знаю, ты туда собрался! Мне совершенно не улыбалось брать с собой несносного Павлю. Но если ему что-то втемяшилось в голову – пиши пропало! Он уже добился права весь день бегать в рванине, как Том Сойер, поскольку любая одежка, надетая на него, быстро превращалась в рубище. Если я откажусь его провести, он, пожалуй, постарается проникнуть сам и ненароком сдаст нас обоих. – Дядя Гриша нас убьет, – сказал я. Павля фыркнул: – Скажешь тоже! Папа добрый. Я задумался: – Давай так? На премьеру я пойду сам. Заодно проверю, не поймают ли. А если нет, то в другой раз, так уж и быть, проведу и тебя. – По рукам! – просиял Павля. – Только смотри, чтоб ни гугу там! Не то нам обоим крышка. – А я как мышка! – в рифму ответил Павля, соскакивая на траву. Так я тебе и поверил, мрачно подумал я.1919
Все по-прежнему плыло как в тумане. Изнуряющий зной сменился проливным дождем. Я брел по петляющей среди деревьев бесконечной дороге – если эту липкую хлябь можно было назвать дорогой – в сопровождении конных конвоиров с винтовками. Время от времени я спотыкался, падал в чавкающую холодную грязь и тут же слышал щелчки взводимых курков, которые были красноречивее окриков. Раз, поднимаясь, я случайно бросил взгляд на ближайшее дерево и увидел повешенного: одетый во все черное, он покачивал ногами. Веревка перехватывала кадык, темные волосы и борода слиплись от воды, почерневшее лицо запрокинулось, дразня угрюмые тучи распухшим синим языком. Два ворона, мокрые и злые, пристроились на голове мертвеца и долбили клювами развороченные глазницы, выхватывая лохмотья мяса. На груди висела табличка с криво накорябанным словом «жид». Тут дуло винтовки ткнуло меня в шею, и я, спотыкаясь, зашагал дальше. Лес кончился; впереди расстилалось голое поле. На другом краю его маячило в дождевых сумерках двухэтажное здание, безликое, серое – для чего оно в этой глуши? У дверей нас дожидалась толпа – заросший, оборванный сброд, вооруженный винтовками, револьверами, саблями и топорами. Не белые, не красные – просто разбойники, воюющие не пойми за что и против всех; много развелось их в последнее время! Я поплелся через поле, с трудом выдирая ноги из жижи, норовившей поглотить их. Тут один из всадников толкнул меня винтовкой в спину и сказал: – Гли-ко сюды, офицерик: твоя доля! Я медленно повернул голову. По правую мою руку зияла яма, заполненная до половины смесью дождевой воды, грязи и изрубленных в куски человеческих тел. – Гиньоль… – прошептал я. – Кто?! Конвоир вдруг рванул коня за узду, подняв его на дыбы, и измазанные грязью копыта взвились над моей головой. Замахав руками, я рухнул прямо в смердящие останки. Грянул, заглушая шум дождя, издевательский хохот. Снова и снова карабкался я из ямы, и всякий раз меня сталкивали сапогами и прикладами вниз, на слизистую кучу изувеченной плоти. Я падал в зловонное месиво, поднимался и снова лез, а сверху скалились лица, лишь отдаленно похожие на человеческие. Наконец сильные руки подхватили меня за плечи и выволокли на землю. Рукоять нагана врезалась мне в затылок… ВСПЫШКА! В этой ослепительной вспышке я увидел ЕЕ.1909
Наверное, я никогда не смогу как следует описать ее. Можно передать словами эту странную, пугающую красоту – темный шелк волос; бледное, словно из мрамора выточенное лицо с изящным носом и чувственными губами; и оживляющие эту мертвенную белизну глаза, огромные, бездонные, полные какого-то детского удивления и недетского страдания; сверхъестественная грация в каждом движении… Но никакими словами не выразить чувств, которые вызывала она одним своим видом. В том, премьерном спектакле, Безымянная носила имя Адель, пьеса же, открывавшая «Все зло мира», называлась «Потерянный рай». Беспутный муж не вынес гнета долгов и пустил себе пулю в лоб, оставив красавицу жену на растерзание кредиторам. Подобно воронью, налетели они на бедняжку Адель, не скупясь на угрозы и оскорбления, которые она сносила с кротким достоинством. Финал был ужасен: Адель безжалостно вышвырнули на улицу, где она, блуждая в поисках ночлега и пропитания, вскоре наткнулась на банду оборванцев. Напрасно молила несчастная о пощаде – озлобленные обитатели городского дна набросились на нее всем скопом. Они избивали ее, таскали за волосы, били ногами в живот, пока она не начала захлебываться кровью. Они разорвали на ней одежду, разложили жертву на мостовой, и в то время как один, навалившись сверху, содрогался от скотского наслаждения, остальные с гоготом растягивали ее руки и ноги. На смену первому насильнику пришел второй, за ним третий, четвертый… Потом в ход пошли дубинки, ножи и камни, и, когда бродяги закончили, в страшном кровавом месиве уже нельзя было признать человеческое существо. Публика сидела в потрясенном молчании. Занавес опустился, и глухой ропот прокатился по залу, нарастая, превращаясь в гул, пока кто-то не крикнул визгливо: – Да ведь ее впрямь убили! Какая-то дама отчаянно завизжала. Поднялся страшный гвалт. Одни кричали, что нужно звать полицию, другие призывали учинить над труппой расправу своими силами. Молчали лишь те, кто от ужаса и отвращения лишился чувств. Как вдруг занавес вновь поднялся, и Безымянная – слава богу! – живая и здоровая, хоть и в изодранном платье, стояла на сцене, держа за руку щуплого усатого человечка в круглых очках и с тростью под мышкой. Я решил, что это, должно быть, Сен-Флоран. Отвесив короткий поклон, они шагнули назад, и занавес опустился. Загремели аплодисменты. В возгласах зрителей слышались восторг и облегчение. Так все же трюк, подделка! Казалось, все происходит на самом деле… На долгое время нас погрузили в один из кошмаров, таящихся на темной стороне бытия. Не было ни актеров, ни сцены – лишь живые люди и нелюди, лишь реальность, пронизанная жестокостью и страданием. Не было музыки – только слова, только крики, только стоны боли и плач. То были сама жизнь и сама смерть, и никакой парижский Гиньоль не смог бы соперничать с ними. Прежде чем зрители потянулись на выход, я выскользнул из ложи и тщательно запер дверь. Сердце лихорадочно колотилось, по телу пробегал волнами озноб. Я спустился на первый этаж и уже собирался выскользнуть с черного хода, как вдруг на плечо мне легла рука. – Добрый вечер, mon fils[6]! Я в испуге обернулся. Передо мной стоял Сен-Флоран; в тусклом свете его очки зловеще поблескивали. – Насколько я помню, – произнес маленький француз, – на наших афишах совершенно ясно указано, что малолетние не допускаются. Голос у него был вкрадчивый, с присвистом, к тому же он слегка покачивался, опираясь на трость, что усиливало сходство с очковой змеей. – Извините… – пробормотал я, понурив голову. – Pupille[7] господина Миронова, если не ошибаюсь? Я кивнул и попросил: – Пожалуйста, не говорите ему. – Что ж, – улыбнулся он. – Сказать по правде, мы были бы рады детям. Наше искусство зиждется на чувствах, на тяге к запретному, а есть ли на свете существа пытливее и чувствительнее детей? Увы, mon ami[8], самая суть нашего театра не допускает их присутствия. Однако правила созданы для того, чтобы их нарушать, n’est-ce pas[9]? – Он протянул мне маленький ключ. – Отныне эта ложа всегда будет ждать тебя. Не веря своим ушам, я взял ключ. Сен-Флоран снова улыбнулся и выпроводил меня за дверь. Удивленный и растерянный, я какое-то время просто стоял в теплых летних сумерках, наблюдая за выходившими из театра людьми. Все говорили наперебой, с жаром обсуждая спектакль. Я перевел взгляд на ключ в руке. У меня возникло желание зашвырнуть его подальше в кусты и постараться забыть обо всем, что я сегодня увидел. Но забыть Безымянную?.. Я убрал ключ в карман и пошел домой.* * *
Дядю Гришу было не узнать. За завтраком он не шутил, не смеялся, не травил по сотому разу старые армейские байки… Казалось, он поглощен какой-то тягостною думой. Дабы не вызвать подозрений, я с деланым интересом спросил, как прошла премьера, на что он отрезал: – К черту! Его настроение передалось и остальным, так что завтрак мы заканчивали в молчании. В полдень мы с Павлей взяли удочки и пошли на реку. Павля, обычно распугивавший всю рыбу своей болтовней, сегодня был непривычно тих, но рыба, увы, не оценила такой перемены и клевать отказывалась. Вода с ласковым журчанием струилась вокруг наших босых ног, искрясь в лучах полуденного солнца, и вчерашние ужасы казались дурным сном. Лишь когда мы стали сворачивать удочки, Павля вдруг спросил: – Скажи… папа такой из-за спектакля? – Да, – сказал я. – Даже он не выдержал. – Я больше не хочу это смотреть. – Я тоже, – сказал я. И следующие три представления я действительно пропустил.* * *
Сен-Флоран сдержал свое слово. Мало того, на одном из кресел в ложе меня дожидался бинокль. Все места, исключая «мою» ложу, были заняты, люди сидели даже в проходах. У меня возникло чувство, будто со времени моего предыдущего посещения что-то неуловимо изменилось в публике: слушая возбужденный гул голосов, я не мог отделаться от мыслей об алчущих крови посетителях древнеримского Колизея. Когда свет в зале погас, я почувствовал, что меня колотит мелкая дрожь. Хотя сегодняшняя пьеса называлась «Бесенок», речь в ней шла вовсе не о чертях; то было прозвище юной Мари, единственной и обожаемой дочки пожилого вдовца, и оно подходило ей как нельзя лучше. Куда девалась прежняя печальная красавица? Глядя на эту девчонку-сорванца в мужском платье, идеально сидевшем на ладной ее фигурке, трудно было поверить, что перед нами та же самая особа. Живость, озорство и забавные шалости Мари вкупе с трогательной любовью к старенькому отцу не могли не вызвать улыбки; зрители от души смеялись над ее проделками, словно позабыв, какого рода историю они смотрят. В бинокль я откровенно любовался милой проказницей. Бесенок казалась не персонажем пьесы, но живым существом; в нее нельзя было не влюбиться. Всей душой я сопереживал ей, когда она, как и я, лишилась отца и была отправлена жить к дальнему родственнику – преподобному Шаберу. Опекун ее, впрочем, совершенно не походил на нашего доброго дядю Гришу – этот суровый аскет, в чьих темных глазах тлел мрачный огонек фанатизма. Отныне Мари, воплощению жизнелюбия, предстояло сносить бесконечные запреты, нарушение которых строжайше каралось. Но даже несколько жестоких порок (о, в какой постыдный жар бросали меня сцены ее унижения! Как клял я себя за это!) не смогли озлобить душу Бесенка. Испытывая к своему угрюмому родственнику лишь жалость, она твердо решила пробудить его к жизни заботой и любовью. Увы, невинные ее ласки лишь разожгли страсти, которые он годами тщился подавить. Набросившись на Мари, он изнасиловал ее. Утолив страсть, преподобный ударился в раскаянье – не перед растерзанной девушкой, горестно всхлипывавшей у его ног, но перед самим Господом. Вместо того чтобы винить себя, он возомнил, будто Бесенок действительно одержима бесами и намеренно соблазнила его. И нет лучшего способа изгнать дьявола, чем огонь… Когда обезумевший священник, невзирая на слезы и мольбы, затолкал ее в пылающий камин, помогая себе кочергой, Бесенок зашлась душераздирающим криком. Острие кочерги вонзалось ей в лицо, плечи, руки… Обожженная до мяса, она все же сумела вырваться из пламени и, вся в дыму, поползла прочь – поползла вслепую, потому что ее глаза вытекли от огня… И тогда чудовище в сутане страшным ударом кочерги размозжило ей голову. Удар этот, казалось, вышиб дух из меня самого. Свалившись с кресла, я зарыдал – от горя, от нестерпимого ужаса, от невозможности что-либо изменить. В ушах стоял грохот, и сперва я подумал, что это кровь шумит в голове, но потом с ужасом понял, что слышу восторженные аплодисменты.* * *
Ночью я видел сон, и в этом сне был Колизей. С мечом в руках я стоял посреди пропитанной кровью арены, к моим ногам припала дрожащая Безымянная, а вокруг, свирепо рыкая, кружили львы. Я видел зрителей, заполонивших трибуны, – тени без лиц, чьи глаза мерцали нечеловеческим светом, словно звезды, сияющие в холодной космической пустоте. Вдруг все они как один устремились вниз, хлынули сплошным потоком, протягивая к нам жадные руки…* * *
Теперь большинство спектаклей я пропускал: помогу настроить освещение – и скорее домой. Но рано или поздно какая-то неодолимая сила вновь влекла меня в запретную ложу, заставляя жадно взирать на муки очередного воплощения Безымянной. По ночам ее ипостаси посещали меня во снах… иногда страшных, иногда – стыдных, грязных, мучительно-сладостных. Безымянная очаровала не меня одного. Театр напоминал осажденную крепость, с той лишь разницей, что вместо оружия осаждавшие держали в руках роскошные букеты цветов. Однако увидеть таинственную актрису никому не дозволялось, отчего пополз слух, будто ее держат пленницей. Цветы принимал некто Гаро – горбун, чьи изможденное лицо и безумный взгляд, вероятно, должны были охлаждать пыл самых настойчивых поклонников. Впрочем, почти все актеры в жизни были не менее отвратительны, чем образы, так мастерски воплощаемые ими на сцене; дядя Гриша недаром назвал их сборищем дьяволов. Среди них выделялись несколько, исполнявших редкие положительные роли, но даже их лица были тронуты печатью порочности. Словно стая волков, они везде появлялись вместе, а свободное время проводили в питейных заведениях, в огромных количествах поглощая водку. Ночевали прямо в театре, что также порождало разнообразные кривотолки. Смельчаки, из любопытства отваживавшиеся приблизиться к зданию театра после наступления темноты, утверждали, что из окон доносились дикие крики и смех, будто внутри проходила какая-то жуткая оргия. Все это лишь подогревало интерес, и представления проходили при полном аншлаге. Первые мои впечатления оказались верными: поведение зрителей все разительнее менялось. Некоторые шумно высказывали одобрение происходящему на сцене, другие, распалив себя спиртным, подбадривали мучителей выкриками из зала, причем больше всех неистовствовали незадачливые поклонники Безымянной. Медленно, словно змеиную кожу, они стягивали с себя маски приличия, и то, что открывалось за ними, пугало меня даже больше, чем мерзости, творившиеся на сцене. Дядя Гриша сделался мрачным и злым. Он старался избегать любых разговоров и огрызался, стоило к нему обратиться. Его поведение удивляло меня: разве не насмотрелся он куда больших ужасов на войне? В один злосчастный вечер он впервые за долгие годы возвратился домой пьяным и грязно обругал жену, когда та попыталась усовестить его. Тетя Марья проплакала всю ночь, тщетно пыталась Мурочка утешить ее. А Павля перед сном прошептал мне на ухо: – Я им отомщу. Зачем я не придал этому значения! Утром, незадолго до завтрака, нас переполошили истошные крики с улицы. Подбежав к окну, мы увидели раскрасневшегося Сен-Флорана, который тащил за руку упирающегося и визжащего Павлю. – Ваш сын бил окна в театре, господин Миронов, – мрачно сообщил Сен-Флоран, втолкнув своего пленника в переднюю. Павля посмотрел на него волчонком, и француз отпустил его руку. На дядю Гришу жутко было смотреть. Он так взглянул на сына, что бесстрашный Павля втянул голову в плечи. – Сожалею, – продолжал Сен-Флоран, – но представление нынче не состоится, и, боюсь, я намерен удержать убытки из вашего жалованья. С этими словами он повернулся и ушел, даже не попрощавшись. Могучая рука дяди Гриши взметнулась, подобно атакующей анаконде, и Павля с криком отлетел. Я был поражен: никогда ни на кого из нас дядя Гриша не поднимал руки. Страшно вскрикнула тетя Марья, ахнула Мурочка, а Митинька заверещал, как испуганный зверек: – Папочка, не бей Павлю! Но дядя Гриша второй рукой сгреб того за грудки и вздернул на ноги. Белобрысая Павлина голова моталась, будто у куклы. На левой стороне лица пламенел отпечаток пятерни, из носа струйкой бежала кровь. Он не мог даже заплакать, лишь со всхлипами всасывал воздух. – Будешь знать?! – зычно заревел дядя Гриша, тряся его из стороны в сторону. – Будешь знать?! Будешь?! Он отшвырнул Павлю, тот стукнулся затылком о стену и сполз на пол. Тетя Марья, опомнившись, кинулась к сыну, схватила в охапку и прижала к себе. Дядя Гриша весь вдруг как-то поник, глаза его забегали. Совсем другим голосом он пробормотал: – Павлик, сынок… Прости, я не хотел… И шагнул к нам, беспомощно разводя руками, но тетя Марья подхватилась, закрыв собой Павлю, и закричала: – Пошел вон, зверь проклятый! На мгновение мне стало страшно: блуждающий взгляд дяди Гриши обежал стены и остановился на сабле… Потом он резко повернулся и вышел из дома. Я слышал, как стонали ступени крыльца под его тяжелой поступью. Потом я перевел взгляд на Павлю и с ужасом увидел, что кровь у него бежит не только из носа, но и из уха. Вечером нам пришлось забирать пьяного дядю Гришу из околотка.1919
Вытянувшись на скамье в тесной, душной каморе без окон, страдая от ломоты во всем теле, я сознавал, что скоро умру. На рассвете – или позже, если этот сброд не сразу проспится, – меня ждут пытки и, несомненно, расстрел. Я знал, как это будет, сам участвовал в допросах пленных красных и вместе с товарищами казнил их. Многие делали это с охотой, давая выход потаенной жестокости. Красные разрушили прежнюю нашу жизнь, и офицерам казалось вполне справедливым лишать жизни их. Во враге отказывались видеть человека с чувствами и чаяниями; бешеные псы, тифозные вши, чумные крысы – вот кем были они для нас, а мы – для них, с той лишь разницей, что крыс, вшей и псов не положено подвергать мучениям, прежде чем уничтожить. И всякий раз, как я принимал в этом участие, в голове стучало одно и то же проклятое слово. Треск ломающихся пальцев – Гиньоль! Выбитые зубы, раздробленные кости, содранная штыками кожа – Гиньоль! Очередной наспех вырытый ров, очередная шеренга оборванных пленников на краю, очередной патрон, который я досылал в казенник, прежде чем вскинуть винтовку и всадить пулю в живое тело, – снова Гиньоль! А я – лишь исполнитель отведенной мне роли.1909
С того рокового вечера дядя Гриша опять взялся за старое – беспробудное пьянство. Его благодушие окончательно сменилось тупым озлоблением, и мы все больше начинали его бояться. Однако с другими горожанами происходили события куда более страшные. Дебоширы, склочники, домашние тираны – все они гораздо сильнее ощутили на себе влияние Гран-Гиньоля. Жестокость выплескивалась со сцены и волной катилась по городу, захлестывая все больше и больше душ. Били жен, смертным боем, до крови и переломов, так же зверски избивали детей. Вечером Безымянная в муках умирала на сцене, днем зрители вершили расправу над ближними – пусть и куда менее изощренную. Вот Безымянная – юная проститутка, своей красотой и острым язычком навлекшая на себя злобу изрядно поблекших товарок: она кричит, бьется в руках у двух вульгарно размалеванных шлюх, пока третья, смеясь, вырезает ей бритвой глаз и уродует лицо. Сутенер-апаш, увидев, что «товар» испорчен, перерезает ей горло выкидным ножом… Несколько дней спустя некий мещанин, взревновав, проделал все то же самое со своей невестой. Вот Безымянная – богатая наследница, упрятанная алчной родней в сумасшедший дом; врач по имени Роден привязывает ее к койке и жестоко насилует. Затем, дабы заставить жертву молчать, он делает ей укол цианида. Вид ее судорог вновь пробуждает в Родене похоть, и он овладевает уже агонизирующим телом… На следующее утро желчный учитель словесности поймал в своем садике воровавшего вишни мальчишку и размозжил ему пальцы молотком. Безымянная корчится, привязанная к столу, а безобразный Гаро, скаля клыкастый рот, свежует ее разделочным ножом… Нервозный студент, истративший на походы в театр все свои сбережения, набросился на квартирную хозяйку, когда та пришла требовать оплаты. Разбив ее головой окно, он вытолкнул истекающую кровью женщину со второго этажа, после чего выбрал самый большой осколок стекла и перерезал себе глотку. Всё они виноваты, шептались в городе, чертова заезжая труппа. Точно, чертова, не иначе черти и есть. Но ни у кого не возникло и мысли что-либо предпринять. К этому времени мы все уже нуждались в ежевечерних кровавых спектаклях, как опиоман нуждается в привычной порции зелья; обыденное существование, без крови и мук, само сделалось для нас страшной мукой, и мысль о том, чтобы вернуться к нему, казалась нестерпимой. И я – уже не таясь от дяди Гриши, которому на все стало плевать, – каждый вечер прятался в пыльной темноте ложи и смотрел, смотрел на бесконечную вереницу смертей и гротескных образов, ужасающе реальных именно в своей гротескности. И тут вмешался Цвейг. Цвейгу было около тридцати, и в нашей глуши он оказался после скандала: спутался с женой редактора какой-то крупной столичной газеты. Щеголеватый вид, идеально уложенные волосы цвета меди в сочетании с ясным лицом, безупречные манеры – все это делало его неотразимым в глазах томящихся в девичестве барышень. Их маменьки, полагаю, считали Цвейга божьей карой за собственные грехи юности. Несправедливо, однако, полагать, что амуры составляли единственное его занятие; журналист он был отменный. Чуть не круглые сутки носился он по городу, выискивая самые свежие и самые скандальные новости для нашего унылого ежедневного листка. Расследование свое он, вероятно, начал уже давно, но нашумевших спектаклей избегал до последнего. В тот вечер давали одно из самых омерзительных представлений – еще недавно все к нему причастные, без сомнения, угодили бы за решетку. Красавицу Софи оболгали перед мужем завистники; супруга играл, причем с поистине дьявольским блеском, сам Сен-Флоран. Его герой, человек, казалось бы, мягкий и благородный, от ревности лишился рассудка и подверг жену истязаниям, стремясь выведать имя несуществующего любовника. Ударом трости он раздробил ей локоть. Рыдая в голос, она забилась в угол и баюкала изувеченную руку, но в лицах зрителей не было сострадания – лишь животное возбуждение. Безумец принялся жестоко избивать бедную Софи; когда она уже не могла сопротивляться, он задрал ей подол, сорвал белье и с силой вогнал набалдашник трости в срамное место. Софи хрипела и колотилась затылком об пол, изо рта ее шла пена, а муж проталкивал трость все глубже и глубже. Затем он взял со стола нож и принялся перепиливать тонкую белую шею… Не досмотрев, я со всех ног бросился в уборную, зажимая руками рот. Выворачивало меня долго. Наконец, поплескав в лицо холодной водой, я вышел и поплелся к выходу. На другой стороне улицы дядя Гриша стоял рядом с Цвейгом. Тот пытался закурить, но рука его дрожала, и огонек спички никак не мог коснуться кончика сигареты. – Поразительно, – произнес он, тем не менее, совершенно спокойно. – На заре двадцатого века… Непостижимо. – Мерзость знатная, – угрюмо согласился дядя Гриша. – Но от меня-то что вам нужно? – Я бы хотел пробраться в гримерную и потолковать с их примой, – небрежно ответил Цвейг. – Об этом кровавом вертепе стоит узнать побольше, а чутье подсказывает мне, что говорить с мсье Сен-Флораном бессмысленно… Отойдемте. Завидев меня, дядя Гриша даже не удивился. Он махнул мне рукой, и мы втроем отошли за кусты. Цвейг бросил сигарету и носком ботинка втер ее в землю. – Итак, вы одолжите мне ключи от пожарного хода. Даю два червонца. Я проберусь к гримерной, а там уж сделаю все, чтобы красавица раскрыла мне тайны своего… гм… ремесла. – Ежели пытать надумали, – хмыкнул дядя Гриша, – вам будет трудновато ее удивить! – Вы что же, думаете, ее пытают по-настоящему? – засмеялся Цвейг. – Право же! Спектакли, конечно, омерзительные, на умы действуют, но ведь очевидная бутафория… – Слушай, щелкопер! – взъярился вдруг мой опекун. – Ты на войне бывал? – Как журналист бывал, – невозмутимо отозвался Цвейг. – Но участвовать не доводилось. – Ясно, тыловая крыса, – буркнул дядя Гриша. – А я кунался в самое пекло. И уж настоящую кровь отличу! Тут Цвейг все же обиделся: – Да будет вам известно, что ваша война – это пережиток. Неужели вы не понимаете, что начинается новая эра? Еще немного, и «тыловые крысы», как вы изволили выразиться, построят новый мир, где не будет места ни войнам, ни суевериям! – А мне кажется, война будет всегда, – тихо сказал я, вспомнив отца. – Вздор, мой дорогой мальчик! Конфликты, что сейчас еще вспыхивают, – это лишь последние судороги варварства. Театр военных действий так же нелеп, как и театр ужасов. А что до крови, то я навел справки: она действительно настоящая. Берут на скотобойне купца Полухина, по рублю за ведро. Что до моих методов допроса… Он жестом фокусника извлек из кармана визитки переливающееся искорками бриллиантовое колье. – Честно говоря, подделка, – вздохнул он. – Но сердце красавицы, надеюсь, растопит. – Ну, к делу! – буркнул дядя Гриша. – Деньги вперед. И вот что: сам я туда ни ногой. Знаете, где гримерные? – Признаться, нет. – Тогда пойдет мальчишка. – Дядя Гриша посмотрел на меня налитыми кровью глазами, и слова протеста застряли у меня в горле. Это был не тот человек, которого я знал почти всю жизнь. В его глазах я видел Гиньоль. – Уж не боитесь ли вы? – спросил Цвейг с улыбкой. У меня замерло сердце: я подумал, что дядя Гриша сейчас убьет его. – Слушай, ты!.. – Он шагнул к журналисту, поднимая кулак, но под его презрительным взглядом вдруг стушевался, обмяк, сгорбив плечи. – Ничего я не боюсь. Я русский солдат, мне сам черт не брат. А только это похуже черта. Это… Вы что же, думаете, я за мальчишкой прячусь? Дело у меня, поняли? Дело. Кабак твое дело, подумал я. Цвейг подал дяде Грише два червонца, тот схватил их жадно, как попрошайка, и исчез в темноте. Журналист положил руку мне на плечо: – Бояться нечего, мой юный друг. – Раз нечего, что вас заинтересовало? – Хочу знать, как они это делают, мой мальчик. Стоит только разоблачить эти трюки, и всё их влияние сойдет на нет. Мы выжидали в тени кустов, пока в окнах театра не погасли огни. Стрекотали сверчки, ласковый ветерок шептался с листвой, ночь дышала покоем, и трудно было поверить, что впереди нас ждет опасное предприятие. – Пора, – сказал Цвейг. Мы прокрались к двери пожарного хода. Цвейг протянул мне связку ключей, и я, быстро найдя нужный, отпер замок. Внутри царила темнота. Цвейг достал из кармана книжку спичек, оторвал одну и зажег. При ее свете мы быстро нашли коридор, по обе стороны которого тянулись двери гримерных. При мысли, что сейчас я вблизи увижу Безымянную, у меня все затрепетало внутри. Найдя нужную дверь, Цвейг задул подбирающийся к пальцам огонек и отдал спички мне. Осторожно постучался. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, с тем же успехом. – Плохи наши дела, – молвил он. – Или барышня спит, или… Его прервал оглушительный хохот откуда-то сверху. Я вскрикнул. Вслед за хохотом раздались ликующий клич и возбужденный гул голосов. – Похоже, барышня веселится с друзьями, – с досадой пробормотал Цвейг. Будто в ответ снова послышался истеричный смех. – Осмотреть бы хоть ее комнату: не хотелось бы уходить несолоно хлебавши… В этом он был одинок: мне хотелось уйти как можно скорее. Смех стих, но голоса стали громче, а темнота подкрадывалась со всех сторон. Тем не менее я выбрал ключ, отпиравший двери гримерных, и протянул Цвейгу. Пока он возился с замком, спичка потухла. Я зажег еще одну. Огонек осветил лесенку, ведущую на сцену… и горбатый силуэт с тяжелым ведром в руке. Цвейг охнул. Гаро взревел, уронил ведро, расплескав содержимое, и, наклонившись, выхватил из-за голенища сапога разделочный нож – тот самый нож, которым на сцене терзал Безымянную. Цвейг вскрикнул, когда нож достал его в плечо, и кулаком, в котором сжимал ключи, ударил горбуна в висок наотмашь. В этот момент спичка погасла, снова погрузив нас во мрак. Время, потребовавшееся, чтобы зажечь очередную спичку, показалось мне вечностью. В дрожащем неверном свете я разглядел бледное лицо журналиста, а потом увидел Гаро, лежащего с разбитой головой в огромной багряной луже. – Я не хотел… – растерянно пробормотал Цвейг. Спичка потухла. – Это не его кровь, – сказал я. – Она была в ведре. Вы говорили, они берут свиную… – Точно! – воскликнул он. – Но… зачем нести ее сюда ночью? Ответить я не успел. Со всех сторон послышались крики и топот множества ног. Сомнений не было: нас окружили. Вдруг яркий свет резанул мне глаза: Цвейг широко распахнул дверь гримерной. Мы ворвались в комнату. Цвейг захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Гримерная оказалась довольно просторной. Я увидел туалетный столик с зеркалом… мягкую софу… кедровый гардероб… окно, обрамленное тяжелыми портьерами и, увы, забранное толстой решеткой… гниющую кучу цветов в углу… нагое тело, распростертое посреди комнаты… отсеченную голову, окруженную нимбом темных волос… Я разинул рот, пытаясь закричать, но не смог издать ни звука. Цвейг тут же зажал мне рот ладонью. Кто-то что-то прокричал по-французски, и дверь затряслась под градом ударов. – Засекли! – простонал Цвейг. – Засекли, черти. Прячься в гардероб! – А вы? – Обо мне не беспокойся. Тебя они не видели, прячься! – Зачем вы не взяли с собой пистолет! – Какой еще пистолет?! – прошипел Цвейг. – Я не герой синематографа. В гардероб, живо! – А… – начал я; панический страх боролся в моей душе с совестью. – Живо! Я как-нибудь справлюсь. Я метнулся к шкафу. Повернул ключ, распахнул тяжелые двери, ворвался в пахнущий нафталином мрак и, осторожно прикрыв за собой двери, приник глазом к замочной скважине. Цвейг подбежал к туалетному столику и принялся отчаянно толкать его к двери, но было ясно, что забаррикадироваться он не успеет. Звонко треснуло дерево, вылетел, брызнув щепой, замок, и дверь распахнулась, пропуская в гримерную дьявольскую труппу. Цвейг встретил ее предводителя, дюжего детину с топором палача, превосходным ударом в мясистую багровую рожу. Громила отлетел назад, но топора из рук не выпустил. И сразу же вся эта свора – с ножами, тесаками, бритвами – накинулась на Цвейга и погребла его под собой. Я слышал звуки ударов и яростные вопли нападавших, и вдруг закричал Цвейг, звонко и жалобно, словно заяц в капкане. Крик этот, дикий, отчаянный, потряс меня. Цвейг, отважный журналист, не мог так кричать. Мне хотелось забиться в темную глубину шкафа, обхватить руками голову и убедить себя, что все это кошмарный сон, но глаз мой будто прирос к скважине. Крик Цвейга перешел в стоны, перемежающиеся хрипами. Стая расступилась, оставив его лежать на полу, избитого и окровавленного. Вошел Сен-Флоран. Он приблизился к Цвейгу и ткнул его концом трости. – Soulevez[10]! – велел он. Дюжина рук ухватила журналиста за плечи и вздернула на ноги. Голова его упала на грудь, разлохмаченные волосы свесились на лицо. Уперев набалдашник трости ему под подбородок, Сен-Флоран медленно поднял его голову и посмотрел в залитые кровью глаза. – Как говорят у вас в России, – холодно произнес он, – любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Цвейг зашевелил разбитыми губами, закашлялся. Брызги осели на лице маленького француза, запятнали стекла очков. Мне хотелось бы сказать, что Цвейг гордо плюнул Сен-Флорану в лицо, но я совершенно уверен, что это вышло случайно. Сен-Флоран, однако, понял все иначе: не моргнув глазом, он достал из кармана платок и вытер со щеки кровавый сгусток. – В вас играет горячая кровь, – произнесон спокойно. – Предыдущее кровопускание не смогло исцелить вас от безрассудства. Быть может, сработает это! Он махнул рукой. Цвейга развернули лицом к обезглавленному телу. Одна из непотребных девок с усмешкой помахала отнятым колье и спрятала его в вырез платья. Сказала: – Merci pour le cadeau[11]! – и взмахнула бритвой. Кровавый веер вырос из рассеченного горла Цвейга, щедро оросив убитую и ее голову. Как мне описать то, что произошло потом? Временами я сам себе не верю… Отсеченная голова вдруг выпустила из обрубка шеи блестящие кровавые жилы. Точно чудовищные щупальца дотянулись они до измочаленного пенька в плечах и стремительно забурились внутрь, подтягивая голову к телу. Шея срасталась! Одновременно с тем я видел, как алебастровая кожа мертвого тела, подобно губке, втягивала в себя кровяные брызги. Открылись глаза, черные, страшные, состоящие будто из одних зрачков. Актеры отпустили Цвейга, его содрогающееся тело упало на колени и медленно завалилось лицом вперед. И тотчас же ожившая, перекатившись на живот, выпростала руки, схватила Цвейга за плечи, притянула к себе и впилась зубами в разрез на горле. Я услышал ужасный хлюпающий звук. Безымянная преображалась. Сквозь кожу возле лопаток с треском пробурились еще две длинные, тощие как палки конечности, увенчанные крюками, и развернулись парой огромных кожистых крыльев. Волосы втянулись в череп, сменившись гребнем из длинных острых шипов. Плечи сгорбились, ребра расперли грудную клетку, на спине вздулись цепочкой бугры позвонков… Толпа разразилась воплями и улюлюканьем. Багроволицый бросил топор, приспустил штаны и навалился на тварь сзади, ухватываясь за крылья. Она издала сдавленный крик протеста. Девицы захихикали. Сен-Флоран ударил тростью, и громила со стоном опрокинулся назад, зажимая рукою разбитый лоб. Остальные в страхе отпрянули. – Tu as oublié, – тихо произнес Сен-Флоран, – qui est le chef ici. Si ça se répète, tu seras à sa disposition[12]. – Non, pas ça! – пробормотал здоровяк. – Monsieur Saint-Florent, Je croyais qu’on va s’amuser aujourd’hui[13]… – Ce n’est pas le moment, – оборвал его Сен-Флоран. – Cet le buveur a fait passer un baveux. J’en ai marre! Il est temps de lui supprimer[14]. Притихшая банда повалила из гримерной. Последним, постояв с минуту на пороге, вышел Сен-Флоран и захлопнул за собой дверь. Я слышал, как они возились в коридоре с Гаро, и беззвучно молился, чтобы горбун, видевший, что нас было двое, как можно позже пришел в себя. Наконец его, видимо, унесли, и мы остались в тишине – я и чудовище, отделенное от меня лишь хлипкими дверцами. Грудь разрывалась: я понял, что почти не дышу. Не отрываясь от скважины, я зажал рот ладонью и выдохнул в нее, надеясь, что не буду услышан. Безымянная тем временем завершила свою жуткую трапезу, оторвалась от тела Цвейга и поднялась на ноги. Утерла ладонью рот. Замерла на мгновение – горгулья из алебастра – и вдруг сказала: – Вот так я умираю и воскресаю каждую ночь. Разве снилось такое чудо вашему распятому Богу? Они истязают меня. «Какая мерзость!» – говорите вы и снова идете смотреть. Они убивают меня. Они насилуют меня. У вас на глазах – и потом, ночью. Мое сердце оборвалось. Я еще тешил себя надеждой, что она разговаривает сама с собой, когда она добавила: – Да, мальчик, я говорю с тобой, я давно тебя учуяла. Можешь выйти, я сыта и не трону тебя. – Подождала. – Довольно ломать комедию, мальчик. Если бы я хотела тебе вреда, попросила бы тебя вытащить. Впрочем, я и сама справлюсь… Дверца шкафа сорвалась с петель, и я мешком свалился к ногам Безымянной. Она склонилась надо мной, и я увидел ее во всей красе. Ее нагота была отвратительна… но было в ней и что-то неодолимо влекущее. Хотелось касаться этой скользкой белесой плоти, ласкать ее, целовать… Меня бросило в жар. – Сколько в тебе крови! – сказала она. Я попытался отползти к двери. – Не убегай. Они поймают тебя. – Вы… вы кровь пьете, – ляпнул я. – Пью, – сказала она. – Пью, чтобы жить. Я живая. Я чувствую боль. Как бы я хотела заставить вас всех почувствовать мою боль! Внезапно она схватила меня за плечи и кинула на софу, а сама взгромоздилась сверху. Я лежал на спине, совершено беспомощный, не в силах оторвать взгляда от бликов, играющих в черных глазах чудовища. Ее крылья покачивались над нами, полупрозрачные белесые мембраны в кровяных прожилках причудливым образом преломляли свет. Она провела длинным языком по моей шее и рассмеялась, когда я издал сдавленный писк. Огромные когти нежно играли с моими волосами. Я крепко зажмурился, а когда снова открыл глаза, крылатого порождения ада больше не было: надо мной, щекоча мне лицо шелковистыми волосами, склонялась Софи. – А сами они пьют мою кровь, – шептала она. – Поэтому я обязана делать все, что они велят. Такова моя природа. Иначе я бы их всех разодрала на куски! Кем ты хочешь, чтобы я стала? – вдруг спросила она. Испуганный, непонимающий, я лишь бестолково разевал рот. На мгновение ее окутал белый туман, а когда он рассеялся, вместо Софи передо мной была другая женщина – Адель. Я вскрикнул. – Ах, право, какая я глупая! – засмеялась она. – Конечно же, ты хочешь Бесенка! Она ведь твоя ровесница! Миг – и вот уже Мари-Бесенок улыбается мне, сверкая озорными глазами. Ее ловкие пальчики начали расстегивать мою рубашку. – Пошалим? – Пожалуйста, отпустите меня! – взмолился я. Хлопнув в ладоши, Бесенок соскочила с меня и одним прыжком оказалась на подоконнике. Ее молочно-белая кожа серебрилась в лунном свете. – Умный мальчик! – сказала она со смехом. – Согласись ты, и я бы кое-что тебе оторвала. А теперь… беги! – Распахнув окно, она ухватилась за два толстых прута и с легкостью раздвинула их так, чтобы я мог пролезть. Я лежал, парализованный страхом. – Ну что же ты? – насмешливо спросила Бесенок, болтая голыми ногами. Я все же нашел в себе силы подняться и проковылять к окну. Внезапно ее холодные пальцы обхватили мою голову, и она, наклонившись, коснулась губами моих губ. Я почувствовал железистый привкус крови Цвейга. – А вы? – порывисто спросил я. – Я не могу уйти, – печально сказала она. – Беги. Ты хороший.* * *
Долго блуждал я в темноте, не соображая, куда иду. То, что я узнал и увидел, потрясло меня до глубины души. За каждым деревом мерещился мне кто-нибудь из актеров Сен-Флорана. Но наибольший ужас мне внушала не дьявольская труппа, а участь ее рабыни… несчастного существа, годами подвергающегося жесточайшему поруганию. Каждый вечер. Каждую ночь. Когда небосвод посерел, предвещая утреннюю зарю, я наконец добрался до дома. Запах бойни встретил меня с порога. Посреди передней скорчилась на полу тетя Марья, из-под ее головы расползалась лужа крови, а остекленевшие глаза слепо пялились в никуда. Я перевел взгляд на стену. Дяди-Гришиной сабли не было. Бежать! Бежать! Но ноги предали меня и сами понесли в глубь дома. В гостиной я увидел лежащую на спине Мурочку. Удар сабли развалил ее лицо пополам, и меня почему-то больше всего поразило, насколько уродливы сделались его черты из-за одной только раны. Немного поодаль, вывернув голову, лежало маленькое тельце бедного Митиньки, почти рассеченное надвое. Какое-то благоговейное удивление застыло на мертвом личике: широко раскрытые глаза, приоткрытый рот – с таким видом внимал он моим жутким историям. Павлю я не узнал вовсе – понял только, что вот эта куча изрубленного мяса он и есть. Где же дядя Гриша? Неужели его тоже убили? С трудом оторвавшись от зрелища бойни, я посмотрел в окно… Там, в нежном свете зари, скалил украшенную кровоподтеком рожу Гаро и скребся в стекло костлявыми пальцами. Тихие шаги послышались за спиной, и, как только я обернулся, на голову мне обрушилась трость.* * *
Безымянную распяли на деревянном столбе посреди сцены. Ее лодыжки были прикручены грубой веревкой к подножию, тонкие запястья пригвождены двумя кинжалами к перекладине; обнаженное тело прогнулось, повиснув на растянутых руках, и струйки крови прокладывали дорогу по его пленительным изгибам, оттеняя ослепительную белизну кожи; набедренная повязка из прозрачного алого шелка едва скрывала самое сокровенное. Безымянная кричала и извивалась, когда палач в алом капюшоне полосовал ее ударами бича; крик сменился задушенным воем, когда он взял усеянные шипами клещи и вогнал ей в рот, ломая зубы в мелкое крошево. Зажимы раскрылись, распяливая челюсти, нашарили в кровавом месиве рта дрожащий язык, сомкнулись, и палач одним движением вырвал его, забрызгав ручищи кровью, такой яркой в безжалостном сиянии моих прожекторов… Да, в этот вечер – вечер закрытия сезона – свет на сцену направлял именно я.– Почему вы не убили меня? – спросил я Сен-Флорана, когда еще лежал, связанный и беспомощный, в его кабинете. Сам импресарио сидел на стуле и протирал платком набалдашник трости. – Потому что ты нам нужен, – ответил он. – Сегодня мы закрываем сезон, световик, по понятным причинам, на работу не выйдет, а ты все же имеешь навыки… – А если я откажусь? – Тогда мы сыграем спектакль здесь и сейчас, главную роль исполнишь ты, а представление будет не менее чем в семи актах. Боюсь, ты не оживешь потом, сколько бы и чем бы тебя ни кропили. В роли заплечных дел мастера наш мсье Жером неподражаем. – Ну а соглашусь?.. – Я давно подумывал пригласить тебя в нашу труппу. Нам не помешает вливание свежей крови… о, не в том смысле, конечно. Тебя теперь ничто здесь не держит. С нами ты объедешь мир, станешь частью истинного «Гран-Гиньоля», познаешь ласки Безымянной, как и все мы… Она станет любой женщиной на твой выбор. Между прочим, – тут он понизил голос почти до шепота, – она всегда восстанавливается ПОЛНОСТЬЮ. Воскресает девственной, как Мадонна. – Я не хочу ее мучить. – О, попробовав раз, ты передумаешь! – с жаром воскликнул Сен-Флоран. – То, что мы, французы, называем la petite mort[15], – ничто в сравнении с этим наслаждением. Страдая от боли, она излучает нечто такое… Терзая ее – или хотя бы созерцая ее муки! – познаешь неописуемое блаженство, и зверь, сидящий в душе, освобождается от оков… Это трудно постичь разумом, хотя мой великий соотечественник Лемаршан, говорят, довольно близко подобрался к эстетике упоения болью… – Вы чудовища. Сен-Флоран фыркнул: – Разве кто-то из нас изнасиловал и сжег заживо малолетнюю в глухом местечке в Бретани? Нет, это сделал ее опекун-святоша. Разве кто-то из нас обрек на позорную гибель вдову? Разве кто-то из нас совершил все эти страшные злодеяния? Да, мы заимствуем их из жизни, таков мой принцип. Если хочешь, я покажу газетные подшивки. Мы просто воссоздаем их на сцене. С тварью, для которой люди – всего лишь пища. Конечно, иной раз и нам приходится марать руки. Que diable[16]! Когда этот мерзавец Мори[17] – уж не знаю, с умыслом или без – стянул нашу идею, мы не могли даже воззвать к закону! – А тетя Марья! А Мура! А Павля! А Митинька! – закричал я в исступлении. Разбитая голова отозвалась вспышкой боли, перед глазами заплясали огненные точки. – Твой опекун сделал это. Я обомлел, пораженный чудовищностью этой лжи. А Сен-Флоран продолжал: – Возможно, ты заметил, что некоторые люди в вашем городе сходят с ума? Боюсь, как раз тут есть доля нашей вины. Внутренний зверь… Как я уже сказал, наши представления высвобождают его, но не у всех потом хватает сил его обуздать. В каждом городе, где мы побывали, происходило нечто подобное. Он лгал. Я знал это. Дядя Гриша ни за что не учинил бы такого. Но сил возражать у меня не осталось. – Так что ты решил? – спросил Сен-Флоран. – Я хочу жить, – прошептал я. И тут же добавил: – Но откуда мне знать, что вы не убьете меня, когда работа будет выполнена? – Хочешь, я поведаю тебе, с чего все началось? – предложил он. – Тогда между нами установится какое-никакое доверие. Я понимал, что никаких гарантий его рассказ мне не даст, тем паче что Сен-Флоран мог сочинить его от и до. Он уже солгал мне про дядю Гришу. Однако я кивнул. – Давным-давно, когда я был немногим старше тебя, – начал он, – холера выкосила всю мою семью. Похоже на завязку одной из наших историй, правда? Все они похожи: однажды тебя оставляют наедине с беспощадным миром, и ты либо выживаешь, либо гибнешь. Я полагал, что мне суждено погибнуть, но на побережье близ Шербура меня, грязного, оборванного, умирающего от голода, подобрала труппа бродячих актеров. Там я впервые увидел ее… Его голос задрожал. – Тогда я не знал, кто она. Вообрази мое изумление, когда я увидел девушку, юную, прелестную девушку, запертую в клетке, словно животное! Той же ночью я попытался освободить ее, но глава труппы, старик Бертран, поймал нас и доходчиво разъяснил мне, с кем я имею дело. Актеры держали меня, пока он закалывал ее стилетом, а потом кропил тело собачьей кровью. И тогда… Вообрази мои ужас и потрясение! Бертран называл ее своей «женой-феей». Он поймал это существо в горах много лет назад, следуя указаниям своего отца, деревенского колдуна. Говорил, что мужчины в его роду не раз покоряли женщин, если можно так их назвать, ее породы. Но ему первому пришла в голову идея извлечь из своей пленницы выгоду. Тут глупое благородство покинуло меня. У этих невеж в руках было настоящее чудо, а все, на что хватало их убогой фантазии, – это возить его по деревням, убивать и оживлять снова на потеху толпе. Бертран к тому же сдавал ее для забав развратникам. Иногда даже мертвую. Таким прямая дорога в сутенеры, а не в артисты! Вдобавок он наложил лапу на доходы, заставляя актеров жить впроголодь. Что ж, мне не составило труда воззвать к их чувству справедливости, и где-то через месяц мы устроили небольшую la révolution[18]. Старый лис дорого продал свою жизнь – успел-таки проткнуть мне бедро стилетом, подлец. Мы скрутили его и выпытали, каким образом держать нашу пленницу в узде… – Пить ее кровь? – Voici comment? Ah, jolie oeufs brouillés[19]! Придется наказать. Что ж, ее кровь дает много больше, чем просто власть над нею. Например, обостряет все способности. От актерских до владения языками – полагаю, ты это уже заметил. Так вот, Бертран божился, что отныне станет делить выручку честно. «Делить буду я», – сказал я, и старик отправился кормить рыб Ла-Манша. – Сен-Флоран мрачно усмехнулся. – После этого я переписал репертуар и превратил вульгарную потеху в то, что все вы видите на сцене…
И теперь я сидел в осветительной ложе, и зрелище, которое я освещал, было не вульгарной потехой, но подлинным изуверством. А вместо дяди Гриши компанию мне составлял страшный Гаро. В руке он держал разделочный нож, готовый пустить его в ход, если я попытаюсь сбежать или поднять крик. На сцене во всеоружии собрались злодеи из прошлых спектаклей. Сюжет был благополучно послан ко всем чертям. Группа ряженых терзала жертву, а публика наслаждалась. Из всех декораций на сцене имелся лишь диванчик с подушками, на котором, закинув ногу за ногу, расположился Сен-Флоран с сигаретой в руке. Он наблюдал за истязанием; зрители наблюдали; и я наблюдал тоже, не в силах пошевелиться, как стонущее в муках создание режут на части, и его стонам вторили стоны из зала, стоны отвращения и – боже правый! – наслаждения! Я цепенел, я задыхался от ужаса, сострадания и глухой ненависти к двуногим животным в зале. Гаро издал дрожащий вздох; я обернулся и, увидев, что он запустил свободную руку себе в штаны, с омерзением перевел взгляд обратно на сцену. В этот момент Безымянная подняла голову, и наши взгляды на мгновение встретились. Словно тонкая струна натянулась в моем мозгу и лопнула с яростным звоном. Я поднялся на ноги, повернулся и шагнул к Гаро, сжимая и разжимая кулаки. – Бунт на корабле? – осклабился горбун, покрутив ножом. – Отлично! Я уж думал, мне ничего сегодня не перепадет… Темный силуэт вырос позади него, обхватил Гаро за острый подбородок громадной лапищей и крутанул, хрустнув позвонками. Горбун замер на миг, словно разглядывая в изумлении собственный горб, и свалился на пол. Передо мной стоял дядя Гриша. Он был страшен. Широко раскрытые глаза налились кровью, лицо покрывала щетина, губы дрожали, однако голос его был поразительно спокоен, когда он спросил: – Помнишь, как я учил тебя не допускать пожара? Я кивнул. – Тогда ты знаешь, как его устроить. Я знал. Прежде чем вместе с ним покинуть осветительную ложу, я взялся за световую пушку и развернул так, чтобы кожух соприкоснулся с черной тканью отбойника. – Ты ступай за кулисы, – велел дядя Гриша. – А я запалю здесь все! Как во сне спустился я на первый этаж, отворил боковую дверь, нырнул в темноту кулис и замер, услышав протяжный, исполненный муки стон. Клещи впивались в упругую грудь Безымянной, выворачивая кровоточащие куски. Ее тело судорожно выгибалось на столбе, пятная пол темными кляксами. Я взялся за раскаленный портальный фонарь и медленно передвинул его к кулисе… Девицы раздирали бока Безымянной длинными ногтями, покрытыми красным лаком, кусали за бедра, словно даже то, что осталось от ее красоты, вызывало в них животную ненависть. Их жадные язычки скользили по ее белоснежной коже, точно дрожащие багряно-розовые слизни, собирая капельки крови. Кулиса закурилась слабым дымком… Жером-палач взялся за топор и в два удара перерубил изящные запястья, уронив то, что осталось от женщины, на залитые кровью доски. Следующий удар разрубил ей голени, окончательно отделив от столба искалеченное тело. Занялись первые робкие язычки пламени… Топор поднимался и опускался, превращая Безымянную в Бесформенную. Остальные актеры собирали отсеченные части и складывали в огромную плетеную корзину. Так увлеклись они своей гнусной работой, а зрители – созерцанием, что долго не чувствовали запаха гари. Когда последний кусок еще недавно прекрасного тела исчез в корзине, убийцы вышли на поклон, и публика взорвалась восторженными криками и аплодисментами. – Я счастлив вам сообщить, – провозгласил Сен-Флоран, поднимаясь с дивана, – что на сем цикл наших представлений завершен; возвращайтесь к своей скучной жизни, дамы и господа, – он хохотнул, – если, конечно, сможете! Аплодисменты начали стихать, и тогда я, заглушая их, отчаянно завопил: – Пожар! Слово это произвело магическое впечатление. Толпа обезумела. Люди в зале, все как один, повскакивали с мест и с воплями бросились к дверям, сшибая друг друга с ног, топча, отталкивая визжащих дам… Те, впрочем, не оставались в долгу: драли ноготками лица мужчин, норовя выцарапать глаза, и с обезьяньей ловкостью карабкались по плечам и головам упавших. Наверху некоторые падали из лож и балконов, обрушиваясь на головы беснующихся в партере. Зловещее слово «пожар» лишило зрителей последних остатков человеческого; и одновременно из хищников они превратились в стадо скотов, мычащее, ревущее, хрипящее, визжащее. Запертые двери затрещали и рухнули, но отовсюду навстречу спасавшимся хлынули клубы черного дыма и мгновенно заволокли зал. Дядя Гриша не терял времени даром: огонь, верно, охватил весь театр и уже подбирался к сцене. – Malédiction[20]! – взвыл Сен-Флоран. Артисты бросились к двери, через которую вошел я, однако вся кулиса уже была охвачена пламенем. Задыхаясь, я шагнул им навстречу, готовый погибнуть, но в тот же миг, оттолкнув меня, на сцену вылетел дядя Гриша – огромный, перемазанный сажей, со сверкающей саблей в руке. Толпа ряженых ошалело воззрилась на него. Разумнее всех поступил Сен-Флоран: словно вспугнутый заяц, он метнулся куда-то в глубь сцены и исчез в темноте. – Кто не хочет сгореть, – произнес дядя Гриша, – пожалте к выходу. Первым не выдержал Роден. Со скальпелем в руке кинулся он на дядю Гришу. Сабля врубилась ему между плечом и шеей, алые брызги расцветили белый халат. Но остальные, заметив, что клинок крепко засел в теле их собрата, ринулись вперед, размахивая ножами, топорами и бритвами. Однако они недооценили противника. Дядя Гриша в долю секунды высвободил саблю и, раскрутив над головой, обрушил на налетающую стену врагов, а затем еще раз и еще. Вопли актеров смешались с воплями публики. Напрасно метались они по сцене, пытаясь увернуться от сабли. Удар следовал за ударом, клинок перерубал руки, отсекал пальцы, раскраивал черепа, разметывая по сцене клочья костюмов, брызги крови и ошметки плоти. Актеры пытались бежать, но поскальзывались в крови и падали. А сабля разила снова и снова… Вот Жером-палач выпустил из рук топор и рухнул на колени, пытаясь удержать лезущие из рассеченного брюха склизкие петли кишок; вот преподобный Шабер в развевающейся сутане занес кочергу – а в следующий миг его голова слетела с плеч и угодила в оркестровую яму; шлюхи попадали на колени, с мольбой протягивая к дяде Грише дрожащие окровавленные руки, но никакие мольбы не могли бы тронуть сейчас дядю Гришу. Он безжалостно забил их остервенелыми ударами сабли, одну за другой. В считаные минуты все было кончено, и кругом лежали судорожно вздрагивающие тела и обрубки тел. На дрожащих ногах я двинулся мимо дяди Гриши, застывшего окровавленным истуканом, к корзине, упал на колени и долго смотрел на искалеченные останки. Я понимал, что Безымянную не спасти: пламя подбиралось со всех сторон, скорее всего, нам самим не суждено было выбраться. Слезы жгли мне глаза, а может, то был едкий черный дым, который клубился уже повсюду и окутывал сцену. Крики стихли: вероятно, большинство зрителей все же сумели покинуть театр. Теперь я слышал лишь треск огня. Дядя Гриша тяжелым шагом подошел и тоже посмотрел на корзину. – Нашел по ком плакать! – бросил он. – Как есть нежить. Сжечь – и вся недолга. Он ткнул в корзину острием сабли. – Не надо! – воскликнул я. И тут из темноты подал дрожащий голос Сен-Флоран: – Прошу вас, послушайте мальчика. Не делайте этого. Вы не представляете, какое это необыкновенное создание. Уверяю, она… ни в чем не повинна. Если мы что-то сделали вам… убейте меня, но ее не троньте. Я был изумлен услышать в змеином голосе этого человека искренний страх – страх не за себя, но за ту, кого он ради наживы и собственного удовольствия подвергал бесконечным страданиям. – Вы мне много чего сделали! – засмеялся дядя Гриша. – Давай, лягушатник, ползи-ко сюды на карачечках да кланяйся: авось смилуюсь! – Мы не трогали твою семью, ivre de bête[21]! – в истерике прокричал невидимый Сен-Флоран. – Не прикасайся к ней! – Не трогайте ее! – крикнул и я, обхватив корзину, и вдруг в плечо мне будто угодил молот. Распластавшись на спине и корчась от боли, я не сразу сообразил, что дядя Гриша ударил меня ногой. Он смотрел на меня дикими глазами, и на лице его читалась жажда убийства. Внезапно грянул выстрел. Дядя Гриша откачнулся, и пуля пробила диванную подушку, взметнув фонтанчик пуха. Я вскочил в тот самый момент, когда из клубов дыма, кашляя и задыхаясь, выбежал Сен-Флоран с револьвером в руке. Он пальнул еще раз, но отчаяние и слепящий дым не дали ему верно прицелиться, и пуля ушла в молоко. – Осторожно! – крикнул я дяде Грише. Сен-Флоран тут же развернулся, по-собачьи ощерясь, и вскинул револьвер. Это была ошибка. Я увидел черное дуло, нацеленное мне в лоб, но тут сабля рассекла вьющиеся струи дыма и наискось вонзилась в череп маленького француза. Глаза Сен-Флорана за стеклами очков вылезли из орбит, ноги подкосились. Он выронил пистолет и упал навзничь. Только тогда я с ужасом понял, что он говорил чистую правду. Дядя Гриша поймал мой взгляд и тоже все понял. Он шагнул ко мне, поднимая забрызганную кровью саблю. – Я пьян был… – заговорил он торопливо, сбивчиво. – В дымину! Оба Цвейговых червонца прогулял. А Марья, как я домой воротился, как на меня кинется! Да все в глаза, в глаза норовит, сука! Саблю схватил, рукоятью в висок, она повалилась… Малые крик подняли… Тут будто бес в меня вселился… Он размахнулся саблей, метя мне в голову. Опомнившись, я отпрянул в самый последний миг, но острие успело рассечь мне кожу на лбу, и брызги крови окропили корзину вместе с жутким содержимым. Наполовину ослепший, я упал на четвереньки, повалился на бок и по-младенчески подтянул колени к груди в ожидании второго удара. Дядя Гриша враскачку шагал ко мне через дым и огонь с саблей в руке. Как никогда он походил на медведя, вот только уже не добродушного – на шатуна, раненного неумелым охотником. – Я еще не стар, – бормотал он, – я не хочу на каторгу, не хочу на виселицу, я жить хочу, понимаешь? Жить! Надо было еще в ложе шею тебе свернуть… Я знал, что не жить ему хочется – убивать. Он сам отрезал себе все пути к отступлению, и моя смерть не спасла бы его от огня. И тогда Безымянная взвилась из корзины, подобно разбуженной кобре, распахнула могучие крылья, и дядя Гриша, только что бывший огромным и страшным, выронил саблю и забился в ее руках с жалобным криком, словно пойманный воробушек. Без малейшего усилия она сдавила руками его массивную грудь, послышался треск, и я увидел, как белые ребра прорвали плоть на его груди вместе с несвежей рубахой. Крик сменился сдавленным бульканьем. Голова дяди Гриши запрокинулась, устремив стекленеющий взгляд в задымленный потолок, с губ полетели алые брызги, а Безымянная припала ртом к открывшемуся горлу, разорвала его зубами и стала жадно глотать ударивший кровавый фонтан. Отшвырнув дядю Гришу, она набросилась на меня. Я хотел закричать, но ее руки обвились вокруг меня, задушив крик. Она изогнулась, накрыв меня своим телом, взмахнула крыльями и взмыла вверх. Оглушительный грохот ударил меня по ушам, когда она, еще недавно такая хрупкая и уязвимая, будто пушечное ядро прошибла толстые балки, разнесла крышу и вместе со мной вылетела в атласно-синее вечернее небо, оставляя пожираемый огнем театр далеко-далеко внизу… Следующее, что я помню, – мы находились в лесу. В вышине серебрилась луна, окруженная россыпями мерцающих звезд, я лежал на устланной хвоей сырой земле, а Безымянная льнула ко мне всем своим холодным, словно из мрамора выточенным телом. Я не помню всего, что было между нами в ту ночь. Помню, как она ласкала меня длинными когтистыми пальцами, облизывала кровоточащую рану на моем лбу и смеялась звонким, заливистым смехом, показывая острые белые зубки. Думаю, ее пьянила не столько кровь, сколько нежданная свобода и избавление от мук. И хоть я понимал, что она – чудовище, хоть и видел, как умеет она убивать, но все равно радовался, что помог ей освободиться. Ее крылья окутали нас, будто кокон; я с детской неловкостью обнял ее костистое тело и прижал к себе. Чувствуя ее легкое дыхание у себя на шее, я прикрыл глаза и заплетающимся языком попросил ее никогда, никогда, никогда не покидать меня. Она засмеялась и сказала: – Я всегда буду с тобой, глупый мальчик! Но она лгала, и когда на рассвете я разлепил глаза, то увидел лишь тающий над землею белый туман. Помню, как, превозмогая слабость, поднялся и пошел на поиски. Я блуждал среди деревьев и кричал: «Вернись! Вернись!», но только лесное эхо отвечало мне. В полдень я набрел на кучку деревенской ребятни; при виде меня они с визгом кинулись врассыпную. Должно быть, из-за бледного лица, забрызганной кровью одежды и шаткой походки они приняли меня за привидение. Когда же в лес пришли мужики и отыскали меня лежащим на залитой солнцем поляне, больше всего их поразило, что на моем лице, несмотря на рассеченный лоб, не было ни капли крови.
1919
Слова Сен-Флорана прочно засели мне в душу. Окружающие вызывали у меня страх и неприязнь: в каждом и даже в себе самом мне виделся дремлющий до поры зверь. Сердце мое ожесточилось. Из военной академии, куда определили меня друзья отца, я несколько раз чудом не вылетал за драки. И ни на миг не отпускала гложущая тоска. Временами я мечтал снова увидеть Безымянную, хоть и понимал, что надежды тщетны; временами я ее ненавидел – за то, что она бросила меня. Незадолго до окончания учебы я, будучи в легком подпитии, рассказал всю историю одному из немногих своих приятелей; от души посмеявшись, он вручил мне потрепанный томик «Жюстины», возмутительного сочинения маркиза де Сада. На страницах этого кустарного издания я нашел знакомые имена и тогда только смог по-настоящему оценить остроумие Сен-Флорана… Вернее, человека, который этим именем назывался. Потом разразилась война, и две революции, и разрушение, и террор, и в этой бесконечной, бессмысленной бойне я познал ужасы, далеко позади оставившие «Все зло мира». …Внезапно я уткнулся лицом в ладони и зарыдал, впервые за многие годы. Плакал я о Цвейге, бедном, смешном журналисте, который искренне верил в человечество; о семье дяди Гриши, ставшей моей семьей, и даже о нем самом, несмотря ни на что; о павших товарищах; о казненных врагах; о мертвецах, что лежали повсюду, разлагаясь без погребения, и становились пищей воронам, одичавшим псам и отчаявшимся ближним своим; о повешенном, которого видел по дороге сюда; о Безымянной – таком же, как я, осколке старого мира, и о растерзанной, гибнущей родине… Так плакал я, пока не уснул. Но и во сне были крики, звон бьющегося стекла, грохот падающих тел, сухой треск винтовочных выстрелов… На мгновение мне представилась Безымянная. Лицо, руки с длинными когтями и белоснежные крылья были в кровавых брызгах. Она улыбнулась одними губами и снова исчезла. Открыв глаза, я удивился, что за мной еще не пришли. Не слышно было ни шагов в коридоре, ни тихого говора охраны. Тут мой взгляд упал на запертую дверь – которая больше не была заперта. Нет. Не может быть. Но резкий запах меди щекотал ноздри. И тишина стояла – мертвая. Толкнув дверь, я вышел в коридор. И там, вповалку, лежали мои тюремщики – мертвые, разорванные на части. В тусклом сером свете из окон я видел кости, белеющие в ранах; тут замерла пауком оторванная кисть руки; там лежит голова, разинув рот в бесконечном, беззвучном последнем крике. Жуткая бойня – но крови всего ничего. Пара отпечатков пятерней на стенах, да в углу засыхают густые брызги. Я понял, что произошло чудо, безобразное, страшное чудо. И в то же время прекрасное. Равнодушие, усталость, желание поскорее со всем покончить – все было смыто волной невероятного, неописуемого ликования, когда я понял, что буду жить! И где-то поблизости ждала меня Безымянная. Осторожно обходя мертвые тела, я пробрался по коридору, отодвинул засов, распахнул облупленные двери и шагнул на волю, полной грудью вдохнув сырой предрассветный воздух. Ветерок ерошил волосы. В лесу за полем выводила трели беззаботная птица. Над землей, мерцая, стелился белый туман.Пенелопа
«Это было давно, это было давно, в королевстве приморской земли…» Но ее звали не Аннабель-Ли, ее звали Пенелопой, в честь верной жены Одиссея, а королевством был крохотный островок посреди Эгейского моря, где мой дядя Никос Апостолиди держал отель. Дела у Апостолиди шли в гору. Пасторальная жизнь острова как магнитом влекла европейскую богему, утомленную сумбуром двадцатого века. Америку душила Депрессия; Россия, откуда бежала когда-то моя мать, закусив удила рвалась в светлое будущее; Германия в едином порыве ревела «Зиг хайль!», а другие страны опасливо ежились. Остров же застыл вне времени, словно комар в янтаре, и лишь мягкий ропот моря да крики чаек нарушали его покой. Всякий раз, когда перед носом парохода возникали куполообразные очертания острова, мне казалось, что я воспрял от тяжелой болезни. Собственно, так и было, поскольку в Париже я из болячек не вылезал. На пристани нас встречал старик Яни, ветеран бесчисленных греко-турецких войн, сменивший служение отечеству на службу Апостолиди. Загрузив наши пожитки в свой дряхлый драндулет, он с ветерком мчал через деревню, разгоняя с дороги ошалевших овец воинственным воем клаксона. И не успевали мы подкатить к высокому белому зданию, как его двери распахивались и жизнерадостный чертенок с шапкой вьющихся каштановых волос и россыпью веснушек выбегал нам навстречу. Никто не докучал нам излишней опекой. Мама, приняв ванну и умастившись маслами, сразу «выходила на охоту» – деликатно выражаясь, ее тяготило одиночество. Что до дяди Никоса, то он, угрюмый и нелюдимый, и вовсе меня избегал. Должно быть, я слишком напоминал ему отца, от которого он натерпелся еще в детстве. Рядом с Пенелопой я, чахлое городское дитя, мигом расцветал. Она втягивала меня в тысячи проказ; я часами пересказывал ей самые захватывающие мифы, а потом мы разыгрывали их в лицах. …Прекрасную Андромеду, дочь царицы Кассиопеи, привели на берег и оставили у подножия утеса в жертву морскому чудовищу – посланнику Посейдона. Кассиопея сама виновата: слишком много хвасталась. Резко очерченный, утес этот взреза́л острым клином морскую лазурь, и, будто разгневанное тем, море здесь всегда бушевало, расшибаясь о скалы в бессильной кипящей ярости. У подножия утеса, отделенная от воды частоколом скал, зияла пещера – черный бездонный зев, откуда веяло холодом. У этой-то жуткой пещеры несчастную царевну и приковали. Бедняжка Андромеда! Как кричала она и билась в оковах, выгибаясь всем своим гибким пленительным станом! Как не хотелось ей умирать! Но уже с ревом подымалось из пучины чудовище, разевая огромную пасть, и зубы в ней были – что мечи. По счастью, мимо на своих крылатых сандалиях пролетал Персей, сын Зевса, на дух не выносивший всяких там чудищ. У него в котомке как раз болталась башка одного из них – ужасной Горгоны Медузы, чей взгляд обращал любого в камень. В принципе, ничто не мешало показать чудищу эту образину, и вопрос был бы исчерпан, но герой почел за лучшее показать ему вместо этого где раки зимуют. Еще такую пакость в камне увековечивать! Выхватив меч, подаренный быстрокрылым Гермесом, Персей вонзил его в поганую тушу. Ух и взвыло чудовище! Ух и кинулось на героя! Но он был неуловим и наносил удар за ударом. Окутанные тучей брызг, бились враги не на жизнь, а на смерть, а прекрасная Андромеда не дыша следила за схваткой, пока из клыкастой пасти чудища не хлынула черная кровь и оно с воем не испустило дух. Персей приблизился к спасенной царевне. Она стояла со сведенными над головой руками, вытянувшись в струнку, отчего начавшая наливаться грудь обрисовывалась под тканью купальника, и Персей безотчетно накрыл ладонью левое всхолмье. И тут же охнул от удара кулаком в ухо. – Ты дурак? – спросила Андромеда и снова стала Пенелопой. Оковы ее испарились, чудовище обернулось измочаленным в щепу куском топляка, мои сандалии лишились крыльев, а верный меч превратился в перочинный ножик, который мне подарил отнюдь не быстрокрылый Гермес, а очередной материн ухажер, искавший моего расположения. Не помогло, хотя ножик правда был что надо – со штопором и отверткой. – Для девы в беде у тебя слишком тяжелая рука, – заметил я, потирая горящее ухо. – Для героя у тебя слишком бесстыжие ручонки, – парировала она. – Герои бывают разные. Агамемнон вот изнасиловал Кассандру прямо в храме Афины. – Это был Аякс. И никакой он не герой после этого, а скотина. Никогда больше так не делай, ясно? – А то что? – Опять получишь в ухо. – Вот и Кассандра так говорила Аяксу, но ее пророчество, как всегда, никто не принял всерьез… Ау! Больше всего нас покоряло то, что, в отличие от нынешних героев, мифические были отнюдь не белыми и пушистыми. Даже благородный Геракл в свободное от подвигов время отрезал докучливым послам носы и руки, пришиб излишне строгого учителя (что вызывало у Пенелопы полное сочувствие), в припадке безумия растерзал собственных детей и убил человека, который справедливо обвинял его в конокрадстве; а от иных деяний Аяксов, Агамемнона, Ясона, Одиссея, Ореста, Алкмеона и даже скромного гения Дедала, не говоря уж о таких злодеях, как братцы Атрей и Фиест, Тантал, Тирей, Медея и Клитемнестра, наши маленькие сердца то заходились от гнева, то замирали в сладостном ужасе. Не раз мы рассуждали, как было бы здорово самим жить в ту славную эпоху; увы, от нее на острове осталось лишь несколько дорических колонн, некогда подпиравших своды какого-то древнего храма. Скучающие дядины постояльцы любили накорябать на них что-нибудь эдакое (я как-то застукал за этим постыдным занятием одного широко известного в Европе философа), но никакая низость не могла попрать скорбного величия этих руин. – Тс-с-с! Ты это слышал? – встрепенулась вдруг Пенелопа. – Как я мог что-то слышать, дважды получив в ухо? – прошипел я. – Там, в пещере… как будто шорох. Чувствуя, как по спине ползут мурашки, мы заглянули в черную глубину. Сложив ладони рупором, Пенелопа прокричала: – Эй, Полифем! Полифе-е-ем! Выходи, старый глупый циклоп! Я схватил ее за плечо: – Перестань! Она выгнула бровь: – Боишься Полифема? – Палемона. Вдруг он тут живет? Никто не знал, кто он и откуда, – этот великан, ростом и могучим сложением и правда напоминавший Полифема. Он просто был здесь всегда – как древние развалины, как скалы, как деревья, море и небо. Старик Яни рассказывал шепотом, что не оторвался еще от материнской груди, а Палемон уже жил угрюмым отшельником у самого моря; и будто с той поры он не постарел ни на день. Ясное дело, он страшный колдун, и никто в здравом уме лишний раз не поглядит в его сторону. – Подумаешь! – Пенелопа вздернула веснушчатый нос. – Палемон мухи не обидит, спорим? Мы еще постояли у пещеры, пытаясь разглядеть что-нибудь внутри. Чернильная темнота клубилась внутри, готовая выплеснуться наружу и поглотить нас. С каждой секундой во мне крепло ощущение, что из тьмы за нами следят десятки голодных глаз. Я облегченно вздохнул, когда Пенелопа наконец отвернулась и, не говоря ни слова, стала взбираться по откосу. Поднимались мы медленно, прощупывая каждый уступ. Порывистый ветер налетал на нас, норовя столкнуть. Не раз у меня екало сердце, но я предпочел бы скорее сорваться на скалы, чем показать себя трусом. Тем не менее, едва мы выбрались на утес, кузина снова принялась меня дразнить. Тут уж мне пришлось пойти в контратаку: – С каким русским словом рифмуется имя Пенелопа? Родному языку во всех его проявлениях меня обучала мама. Она верила, что когда-нибудь большевики либо построят свое светлое будущее, либо махнут рукой и уйдут, позволив нам вернуться на родину. «Гусара из тебя справлю, – смеялась она, взлохмачивая мне волосы, – говорил чтоб как барин, а ругался – как извозчик!» Я же считал своим долгом делиться жемчужинами извозчичьей словесности с Пенелопой, коль скоро непременно женюсь на ней, когда вырасту. Пенелопа недобро прищурилась: – Европа? Прекрасная Европа, возлюбленная Зевса? – Жаль тебя огорчать, но… Я тут же дал деру, но быстроногая Пенелопа враз настигла меня. Хохоча, мы покатились по траве. И вот уже я ужом извиваюсь и ору, а Пенелопа, ухватив меня за ногу, безжалостно щекочет пятку, приговаривая: – Ахиллесова пята! Тра-та-та! Тра-та-та! Внезапно крик застрял у меня в горле. По тропинке, ведя, а вернее волоча на привязи рыжую корову, поднимался Палемон. Несчастная животина с жалобным мымыканьем упиралась, едва не высекая копытами искры, но он тащил ее за собой без малейшего усилия, словно упрямую собачонку. Выкаченные глаза коровы дико вращались. Достигнув края утеса, Палемон рванул за веревку, и корова кубарем полетела с обрыва. Сквозь шум волн до нас донесся глухой трескучий удар. На мгновение мы остолбенели. А потом Пенелопа завизжала и дикой кошкой кинулась на Палемона. Признаться, я порядком струхнул. Палемон мог раздавить голову Пенелопы в кулаке, как апельсин. Но он лишь молча стоял, пока она лупила его кулачками по животу, устремив почему-то пристальный взгляд на меня. Потом сказал: – Слушай меня, Пенелопа Апостолиди. Слушай меня! Твой отец думает, что укрылся за спиной распятого бога; скажи ему, что он ошибается. Пенелопа от изумления даже бить его перестала. Палемон развернулся и зашагал прочь. Только что его гигантский силуэт застил собой солнце – а миг спустя он уже исчез за гребнем холма. – Мухи, говоришь, не обидит? – выдавил я, вновь обретя дар речи. – О к-коровах я не говорила… – пролепетала Пенелопа. – Спорим, это была жертва Посейдону? От этой мысли у меня захватило дух. – Так догони его и спроси, – посоветовала кузина. – Или слабо? – Слабо, – кивнул я. – Иди взгляни, что с коровой сталось. – Что-то неохота. – И мне. После чего мы, не сговариваясь, подошли к обрыву и поглядели вниз. Ничего страшного там не оказалось. Вероятно, туша угодила на скалы и скатилась в море. Только пятно крови темнело на камнях, да и его уже смывала кипящая белая пена.* * *
Что и говорить, Палемону удалось произвести на нас впечатление. По дороге к деревне мы вздрагивали от каждого шороха – ну как он выскочит из-за деревьев и кинется на нас? Услышав душераздирающий вой, я, признаться, чуть не намочил шорты, а Пенелопа взвизгнула. Но тут из-за поворота вылетело, чихая зловонным дымом, доисторическое страшилище, и мы облегченно вздохнули. Вывесившись из-за руля, старик Яни обратился к моей кузине: – Дитя, неужели ты в таком виде разгуливаешь по острову? Пенелопа огладила свой синий купальник и почесала пяткой лодыжку: – А что? Вообще-то ей простили бы, рассекай она по острову даже голой. Не из-за того, что отель ее отца обеспечивал доходом деревню, – просто она была всеобщей любимицей. В каждом доме нас встречали тарелкой фруктов, кружкой козьего молока и парой горячих сплетен. Пенелопа, щеголяя молочными усами, болтала с хозяевами, я угрюмо цедил из кружки, слушал истории, как у Агазона сдохла коза, а дочь Элении принесла в подоле, и скорбел по утраченной эпохе богов и чудовищ. – Я их повсюду ищу, а они вон где. На Палемона нарваться хотите? – Старик распахнул дверцу машины. Мы запрыгнули на заднее сиденье, и Яни нажал на газ. В ответ мотор надменно фыркнул и заглох. – А, шлюхин сын! – Яни выбрался из машины и полез под капот. – Это он про меня, – мрачно сказал я. Пенелопа двинула меня локтем: – Так о маме неговорят. – Каждый год другой мужчина. – И что? Все равно она хорошая. Заткнись. Тебе легко говорить, подумал я. Не ты проснулась среди ночи от плеска воды в биде и пьяного пения. Всякий раз, слыша, как мама приводит себя в порядок после очередного «рандеву», я сгорал от стыда, который старался гасить бравадой. Тем не менее я заткнулся. Солнце палило нещадно, кипарисы вдоль дороги вонзались в раскаленное небо остроконечными кронами. Пенелопа смешно отдувалась, обмахиваясь ладошкой, я ужасно взмок. За капотом мелькали плечо и рука Яни, перебирающего что-то в моторе, и конца-краю этому не было видно. Чтобы развеять скуку, я сообщил: – Мы нарвались. – На кого? – отозвался Яни из-за капота. – На Палемона. Капот захлопнулся, точно гробовая крышка. – Вы говорили с ним? – спросил Яни. – Я его отлупила! – похвасталась Пенелопа. – Он корову убил, представляешь? Задубевшее лицо Яни прорезали новые морщины. Он уселся за руль и повернулся к нам: – Это не шутки, дети. Что он вам говорил? – Что-то про распятого бога, – протянула Пенелопа. – Что мой папа прячется у него за спиной. И все. – Вот я хозяину расскажу, как вы с Палемоном якшаетесь, – сказал Яни, – будет вам на орехи! – Яни, миленький, не говори! – взмолилась Пенелопа. – Он меня побьет! Как ни баловал ее дядя Никос, в гневе он был страшен. Однажды он у меня на глазах оттаскал дочь за волосы и наверняка поколотил бы, если бы не мамино заступничество. Любви к нему это мне отнюдь не прибавило. Яни пожевал сухими губами. – Крестики при вас? – спросил он наконец. Мы удивились, но дружно предъявили нательные крестики. – Храните как зеницу ока. Палемон не тронет никого под знаком креста или – тьфу! – полумесяца. – Как граф Дракула? – спросил я. – Какой еще Дракула? – опешил Яни. – Турок, что ли? Мы покатились со смеху. – Это вампир из книжки, – объяснил я. – Вроде вриколаса. Он, наоборот, с турками воевал. – Кто бил турок, вриколасом не станет, – заявил Яни, – это дело святое. А от Палемона крест защитит точно. И полумесяц турецкий, чего уж там. Если только… Повисло зловещее молчание. – Что? – не выдержал я. – А, пустое! Есть ослы, что жертвуют ему скот, чтоб, значит, в хозяйстве везло или на рыбалке, но греха на душу никто не положит. А без того Палемон – пшик. Не вздумайте только его слушать да обходите десятой дорогой. – Очень мне надо слушать всяких коровоубийц! – фыркнула Пенелопа. Кивнув, Яни наконец завел мотор, а я шепнул кузине: – Видишь? Это было жертвоприношение.* * *
Встреча с Палемоном взбудоражила наше воображение, и остаток лета мы изводили вопросами местных жителей. Многие наотрез отказывались говорить на эту тему, но от некоторых нам повезло услышать самые невероятные истории. Больше всех порадовал Нифонт Яннакопулос, крестьянин, живший близ дубовой рощи, – с его сыном Тео мы иногда играли. Нифонт без обиняков заявил, что Палемон – не кто иной, как сын Зевса, могучий Геракл. Когда вера в богов угасла, говорил Нифонт, а Олимп перестал существовать, остался лишь он – бездомный скиталец, некогда величайший герой Эллады. Нестерпимая боль терзала его, ибо без защиты своего божественного отца он снова ощутил в жилах огненный яд Лернейской гидры. Завывая бешеным зверем, избегая людей, метался он по дорогам, пока в один из редких моментов просветления безумная надежда не озарила его. И он отправился к той скале, под которой захоронил бессмертную голову гидры, и, обнаружив ее еще живой, воззвал с мольбою: он позволит гидре вновь разрастись и обеспечит ее пищей, взамен прося избавления от мук… – Вот она, значит, сидит в пещере, а он ей сверху жертвы кидает, – закончил Нифонт. – Вроде как единое целое они теперь. Я поежился, вспомнив дыру в скале, куда мы так опрометчиво совали нос. Впрочем, история Нифонта звучала бы куда правдоподобнее, не прерывайся он поминутно, чтобы хлебнуть из пузатой фляжки. – А сам-то ты видел гидру, Нифонт? – спросила Пенелопа, героически сдерживая хихи- канье. – Упаси боже! – вытаращил глаза крестьянин. – Кто ее видел, уж никому ничего не расскажет.
– Перестань пугать ребятишек своими россказнями! – проворчала Агата, добродушная пышнотелая жена Нифонта, ставя перед нами блюдо с золотистыми лепешками. – Сына уж застращал, – она кивнула на Тео, который сидел в уголке и внимал нашему разговору, – гляди, как смотрит! А Тео смотреть по-иному и не умел – глазищи у него всегда были как блюдца. Худенький бледный мальчик, совсем не похожий на пышущую здоровьем крестьянскую ребятню, он проводил все время за книжками, чураясь шумных игр, и только моя кузина умела вытащить его из скорлупы. Случалось, мы дразнили его, подчас довольно жестоко, но обижаться он не умел. Тео мне, в общем-то, нравился, благо рядом с ним я смотрелся настоящим бойцом; не нравилось мне то, как он глазеет на Пенелопу, – с таким восторгом охотник Актеон взирал на купающуюся Артемиду. Напомню, что для Актеона это плохо закончилось. – А зачем Гераклу бояться креста и полумесяца? – спросил я. – Он стал богом, так? – затараторил вдруг Тео. – А богу нужна вера. А без веры он слаб. В Христа верят, а в Геракла не верят. И он не может тронуть никого с крестиком. Потому что с крестиком ты принадлежишь Христу, а не Палемону. Разинув рты, смотрели мы на его просветленное лицо. Тео и сам сейчас казался божком, маленьким, но мудрым. – Э! – сказал Нифонт. – Создатель сотворил небо и землю, еще когда и верить было некому. Но сила какая-никакая у Палемона осталась, это да, и если ему серьезную жертву принести… – Он сделал страшные глаза. – Человека, – уточнил я. – Человека, – эхом отозвался Тео. Снова, как и во время беседы с Яни, воцарилась зловещая тишина – лишь стрекотали за окном цикады. Молчание нарушила Агата: – Господь с вами! Обойди весь остров – не найдешь нехристя, который бы свою душу рискнул сгубить ради Палемона. – Коров ему, однако, дают, – заметила Пенелопа. Тут наш хозяин заметно смутился и пробубнил, что пожертвовал Палемону корову, «чтоб, значит, остальные лучше доились». Но это, добавил он, сущие пустяки. – Вот что бывает, когда не разбавляешь вино! – заключила Пенелопа после того, как мы покинули гостеприимный дом Нифонта. – А Тео правда умный, да? Надо будет отлупить его, чтоб не воображал.
* * *
Отлупить Тео мы не успели – пришла пора расставаться. Совсем еще малышом я не раз спрашивал маму, почему бы нам не жить на острове круглый год, раз отец владел отелем вместе с дядей. Вопрос приводил ее в раздражение – как и любые вопросы, связанные с отцом. – Видишь ли, – объяснила она наконец, – твой отец, пропав в море, не озаботился составить завещание в твою пользу, а затянувшийся курортный роман – это далеко не законный брак. Мы бедные родственники, ma chérie. Скажи спасибо дяде Никосу, что вообще позволяет нам приезжать. – А почему ты не вышла тогда за папу? Ответом мне был такой взгляд, будто я спросил, почему она не вышла из окна нашей парижской квартирки по улице Дарю. Он был тот еще фрукт, мой папаша, – я вскоре это понял, как и причину напряженного отношения ко мне дяди Никоса. И хотя за все годы, что мы приезжали, он едва перемолвился со мной парой слов, я действительно был ему благодарен – за сказку, что он дарил мне каждое лето, и еще больше – за Пенелопу. Но совсем другое чувство посетило меня в утро отъезда. Дядя Никос стоял на крыльце, попыхивая дорогой сигарой, смотрел, как Яни грузит наши пожитки в машину; луч солнца играл в золотой крышке брегета, на который он нетерпеливо поглядывал. У меня глаза были на мокром месте, Пенелопа тоже готова была разреветься, а лицо ее папаши лучилось таким довольством, что у меня мелькнула вдруг мысль: случись с ним что, мы с Пенелопой станем королем и королевой в нашем королевстве. Мелькнула и угасла, сменившись жгучим чувством вины. Пенелопа поехала с нами до пристани и всю дорогу старалась меня подбодрить, а я не мог смотреть ей в глаза. Не зря, наверное, дядя Никос видел во мне моего отца. Наш пароход отчалил, а маленькая фигурка на пристани еще долго махала рукой нам вслед, становясь все меньше и меньше, пока не растаяла вместе с берегом в туманной дымке. Au revoir, мое сказочное королевство приморской земли! Salut, тесная квартирка, утомительная зубрежка и постоянные хвори. Мама обняла меня. Я уткнулся лицом в ее мягкую грудь, чувствуя терпкий, дерзкий аромат духов, и дал наконец волю слезам.* * *
Греческое лето помогло мне продержаться до января. Потом лихорадка взяла свое, смолотив меня ознобом и превратив сновидения в царство кошмаров. В одном из снов я видел многотысячные армии, бьющиеся на побережье под багровеющим небом. Гремели щиты, копья пробивали панцири и вонзались в тела; звенели мечи, отсекая руки, снося головы, разбивая черепа; мускулистые ноги воинов в кожаной оплетке сандалий безжалостно месили упавших, втаптывая корчащиеся тела в пропитанный кровью песок; глаза в прорезях шлемов, увенчанных плюмажами, дико вращались. Ворота рухнули, впуская смертоносный людской поток, и пламя взвилось над городскими стенами, заволакивая небо от края до края удушливым черным дымом. Торжествующий рев победителей смешался с воплями избиваемых. Мужчины, женщины и дети метались в поисках спасения, но валились как снопы под ударами мечей, обагряя кровью землю. Я обмирал от страха, молясь, чтобы меня не заметили. Внезапно один из захватчиков повернулся ко мне и снял шлем, открывая ухмыляющееся лицо Палемона. В другом сне я спускался к той самой пещере, где мы играли в Персея и Андромеду, и в ее жерле видел свою мать. Я бросался к ней, но вдруг ее волосы вздыбливались клубком шипящих змей, руки покрывались чешуей, а на пальцах отрастали огромные когти. В ее глазах вспыхивал зеленый огонь, разливая по моему телу каменный холод. С криком я открывал глаза и оказывался в уютном полумраке комнаты. Напротив таинственно серебрился прямоугольник окна, разбитый переплетом на ровные квадраты. Прохладная мамина ладонь поглаживала мой раскаленный лоб, отгоняя горячечные видения. Я трясся в ознобе под стеганым одеялом, а ветер стонал в дымоходе, словно умирающий воин, и в шелесте дождя за окном мне слышались отголоски злобного шипения.* * *
Со временем терзавшая меня лихорадка всегда сходила на нет. Окружающий мир лихорадило куда сильнее. Мамины гости, в основном такие же эмигранты, горячо обсуждали последние новости; все чаще звучало имя Адольфа Гитлера. Гитлер-Гитлер-Гитлер – произнесенное с насмешкой, восторгом, ненавистью или благоговением, это имя наполняло пронизанный сигаретным дымом воздух ощущением грядущей беды. – Я почти готова симпатизировать большевикам, – сказала однажды мама нашей соседке, вдове сахарозаводчика, – уже хотя бы за то, что их ненавидит этот человек. Его речи чудовищны. – Тут вы неправы, милочка, – возразила вдова. – Этот человек говорит немало дельного; если он обуздает эту нечисть, эту заразу, я согласна целовать его сапоги. Мама подозвала меня: – Дорогой, подай Лизавете Генриховне пальто. Мне кажется, ей пора. От обиды вдова на короткое время утратила дар речи, а обретя его вновь, назвала маму кокоткой. Не оставшись в долгу, мама обрушила на нее всю мощь извозчичьего жаргона, подкрепив парочкой цветистых французских выражений. Они орали друг на друга, точно дерущиеся кошки, а я стоял как дурак, теребя за ворот позабытое пальто. Наконец Лизавета Генриховна выхватила его у меня из рук и с позором ретировалась. Но мама еще долго мерила шагами комнату, сверкая глазами и сжимая кулаки. – Merde! – рычала она. – Старая, вонючая… ш-шаболда! Как она не понимает, что этот человек втянет нас в новую войну?! Война, лишившая маму родины, стала для нее навязчивой идеей, и поневоле ее страх сделался и моим страхом. Война незримо подступала со всех сторон, витала в воздухе, подобно чумной бацилле; взрослые заражали детей, которые, сбившись в стайки, кулаками отстаивали взгляды своих отцов; ее зловещий смех звучал в газетных заголовках, в поэзии и музыке, в сухом шелесте радиопомех. Но каждый год я спасался в своем королевстве приморской земли, где белели руины древнего храма, где ждала меня моя верная Пенелопа, вдвоем с которой мы могли стать вместе Орфеем и Эвридикой, Акидом и Галатеей, Тесеем и Ариадной… Но она расцветала – и увядала невинность. Время неумолимо гнало нас к черте, за которой дружба сменяется чем-то бо́льшим… Если только вы не состоите в родстве. Рухнула первая моя иллюзия – я понял, что никогда не смогу жениться на Пенелопе. Понял разумом, но не принял душой и телом. И когда я, подобно многим другим школярам, отправился в квартал Пигаль, дабы распрощаться с девственностью, очаровательная мадмуазель, оказавшая мне услугу, поинтересовалась со смехом: – Почему ты все время называл меня Пенелопой? Тогда я не мог понять, почему ее невинный вопрос привел меня в такую дикую ярость. И почему я едва не откусил ей левую грудь, в чем потом ничуть не раскаивался. И почему, когда меня, жестоко избитого, нагишом вышвыривали на улицу, я выкрикивал древний клич Диониса: «Эвое! Эвое!» Я понял это год спустя, в лето 1938-е от рождения распятого бога.* * *
Она, как всегда, сбегала по ступенькам, чтобы обнять меня, – сияющая, невыразимо прекрасная; и, забыв обо всем, я зарылся лицом в ее темные кудри, вдыхая их запах, чувствуя налитую упругость гибкого тела. Она уперлась руками мне в грудь и прошептала испуганно: – Что ты делаешь? Отпусти меня! Тут только я увидел юношу за ее спиной. Тео Яннакопулоса. У Пенелопы пылали щеки, я и сам готов был провалиться сквозь землю. Тео робко улыбался. За время, что мы не виделись, бывший заморыш стал похож на статую Адониса. Слегка затравленное выражение сохранилось в его глазах, но лишь подчеркивало хрупкую красоту лица, придавая сходство с пугливым оленем. Эта уязвимость, должно быть, и покорила воинственное сердце моей кузины. Дальше лето проходило будто в тумане. Мать закрутила роман с журналистом французской газетенки L’Humanité, юношей всего на семь лет старше меня. Нимало не смущенный этим пикантным обстоятельством, он упорно искал моей дружбы, донимая пылкими речами о неизбежной победе мирового пролетариата. Я выслушал его, потом сказал: – Мама не рассказывала, как бежала от ваших друзей из Крыма? Надо было видеть его лицо! Похоже, бедняга влюбился по уши. К концу лета он значительно обогатит свой опыт по части женского коварства, а мамина коллекция разбитых сердец пополнится очередным трофеем. Дядя Никос сделался мрачнее обычного. Совсем забросил дела, перевалив их на плечи старика Яни, который хоть и не тянул на Атланта, все же справлялся с этой ношей вполне достойно. Однажды дядя вызвал меня к себе. – Видит бог, я слишком много давал ей воли, – сказал он, глядя в окно, словно и теперь избегал на меня смотреть. Тонкий дымок дорогой сигары тянулся к потолку и закручивался, подхваченный лопастями вентилятора. – Наверное, при желании я мог бы сломить ее… Но она перестала бы быть собой, верно? Я люблю свою дочь такой, какая она есть. Я молча кивнул. – Она ведет себя не так, как подобает порядочной греческой девушке, вот в чем беда, – продолжал он. – Гуляет с мальчишкой Яннакопулоса и позволяет ему лишнее. Боюсь, как бы это слишком далеко не зашло. – Вы могли бы сами ей сказать… – заикнул- ся я. Он обернулся – верхняя губа вздернулась в оскале, обнажая кривые зубы, пожелтевшие от никотина: – Что сказать? Что его папаша водит слишком тесную дружбу с бутылкой и этим полоумным язычником, Палемоном? Что ее бабка и мать умерли родами? Что девушке ее возраста следует блюсти приличия? Она рассмеется мне в лицо. – Он нацелил в меня тлеющий огонек сигары. – Я не могу ее пасти, да и Яни староват для таких дел. Ты дружишь с ней всю жизнь и уж, по крайней мере, мог бы проследить, чтобы она не наделала глупостей. Пора сделать что-то и для семьи, дорогой племянник. Это поручение легло мне на душу камнем. Мне было плевать на семью, я не оставлял Тео с Пенелопой ни на минуту лишь ради собственного злобного удовлетворения, но по дядиной милости я почувствовал себя наемником, ищейкой. Не то чтобы это хоть сколь-нибудь поубавило мое рвение, лишь усилило неприязнь к дяде, хоть наши интересы и совпадали. Пенелопа, в свою очередь, охотно приняла вызов и старалась улизнуть от меня при всяком случае. Почти всегда я находил парочку за поцелуями в каком-нибудь укромном уголке. С каждым днем злоба моя росла. Я видел, что Тео жалеет меня, и ладно бы снисходительной жалостью победителя, это я еще мог бы понять; нет, сострадание было искренним и тем более унизительным. От Пенелопы, однако, я и того не дождался. – Послушай, – напрямик сказала она, когда мы с ней ненадолго остались наедине, – я не виновата, что мы повзрослели. И Тео не виноват тоже. – Не понимаю, о чем ты, – спокойно ответил я, хотя сердце норовило провалиться в желудок. – Прекрасно понимаешь. Не надо таскаться за нами хвостиком. Не надо смотреть щенячьими глазами. Это недостойно тебя. Дай нам передышку. – А если не дам? – Ну, тогда держись! Она ткнула меня кулаком в плечо и со смехом умчалась на поиски Тео.* * *
В то утро, когда я снова встретил Палемона, мы втроем отправились на безлюдный участок пляжа – подальше от гомона и потных телес отдыхающих. По пути нам повстречалась пожилая гречанка. С непосредственностью, свойственной ее народу, она обняла Пенелопу, расцеловала покрасневшего Тео и проворковала, что охотно понянчит их деток, «если они будут похожи на папашку!». А мне погрозила пальцем, ехидно захихикав. Всю дорогу я задавался вопросом, где старуха живет и будет ли ей смешно, если я подожгу ее дом. Гори-гори ясно, чтобы не погасло… Накупавшись, Пенелопа растянулась на полотенце, вручила Тео флакончик масла для загара и попросила натереть ее хорошенько. Ее глаза прятались за солнечными очками, но лукавая усмешка на губах лучше слов говорила: «Оставь надежду, всяк сюда глядящий». Его руки на ее теле. Я мог бы отрубить их и повесить ему на шею. Как только Пенелопа задремала, разморенная солнцем и лаской, я предложил Тео поискать для нее какую-нибудь красивую ракушку – устроить сюрприз, когда проснется. Он принял предложение, не ожидая подвоха, и мы побрели вдоль берега. Волны с шелестом накатывали на песок, лаская наши босые ноги. Когда мы отошли достаточно далеко, я самым будничным тоном осведомился: – Ну как, строгаете уже деток? У него сделались такие глаза, будто я огрел его по заднице кочергой. – Что за вопросы?! – Я ее кузен. Имею я право спросить? – Имею я право не отвечать? – Все-таки присунул ей, да? – Иди к черту! – вскинулся Тео. – Ай-яй-яй! – сказал я. – Забыл, как я устраивал тебе взбучку? – Я не хочу с тобой драться, – пробормотал он. – Почему? Разве мужчина будет избегать хорошей драки? Ты мужчина, Тео? – Заткнись! – Посмотри на себя, – ухмыльнулся я. – Краснеешь как девчонка. И выглядишь как девчонка. Может, оставишь мою кузину в покое и станешь чьей-нибудь подружкой? Он кинулся на меня, и мы сцепились, поднимая тучи брызг. В пылу борьбы я попытался ухватить его за шею, но вместо этого нечаянно сдернул цепочку с крестиком. – Что ты наделал! – Тео попытался перехватить цепочку, но крестик уже булькнулся во взбаламученную воду и был таков. – Какого черта?! – Пенелопа уже неслась к нам. – Мой крестик! – Губы Тео дрожали. – Это семейная реликвия! – Ты в своем уме? – напустилась на меня кузина. – Ищи его, быстро! – На пути в Албанию уже твой крестик, – буркнул я. – Ах так?! – Если бы не очки, взгляд Пенелопы испепелил бы меня на месте. – Сам тогда катись в свою Албанию! И я ушел, оставив эту парочку обшаривать мелководье. Но отправился не в Албанию, а к утесу, где мы с Пенелопой играли давным-давно. Стоя на краю обрыва и глядя на бушующее море внизу, я рассеянно прикидывал, каково это – загреметь с такой высоты. О самоубийстве я, конечно, не помышлял. А вот Тео бы скинул за милую душу – как Палемон ту корову… – Женщины, – произнес у меня за спиной хриплый голос. Помяни дьявола! Я обернулся. Палемон высился передо мной, словно скала, скрестив на могучей груди руки, перевитые толстыми жилами.* * *
– Что вам угодно? – выдавил я, не в силах скрыть страх. Своею гривой волос и горящими глазами Палемон напоминал льва-людоеда, который наловчился маскироваться под человеческое существо, дабы успешней подбираться к добыче. – Они могут отравить твое тело самым страшным ядом, какой только есть на Земле и в Небесах, – промолвил отшельник. – Могут извести душу, выманить сердце, а свое со смехом отдать другому. Наконец, они могут просто отсечь тебе голову. Я смиренно кивал, слушая его речь. Какой бы бред он ни нес, едва ли тот, кто хочет поговорить о делах сердечных, станет скидывать вас с утеса или пожирать заживо. – Я как сейчас помню ту женщину, – продолжал Палемон. – Полунищая вдова с разваливающимся хозяйством и орущим ребенком на шее, сомнительной красоты, но мне выбирать не приходилось, верно? Она была единственной на этом острове, которая хоть тайно согласилась лечь со мной, и, должен сказать, я щедро наградил ее, пусть это и не пошло ей впрок. Она умерла родами, а моего сына огородили от меня знаком распятого бога. Я не заявлял своих прав: узнай эти мерзкие святоши, кто отец мальчика, его удавили бы в колыбели. Но благодаря моей награде он и его брат никогда не знали нужды. Я следил издалека, как он рос и становился мужчиной, как они с братом принесли благодать и процветание в этот край. И все равно здешний сброд, эти бараны, ненавидел моего мальчика, ибо он был несдержан в чувствах и страшен в гневе – как и я когда-то… Случалось, он брал женщин силой, но разве их родня не соглашалась на щедрый откуп? Разве вправе бараны судить льва? Его убили, подло, исподтишка – шлюха, с которой он спал, и завистливый братец, и это сошло им с рук! Они сказали, что мой сын пропал в море, умолчав, что перед тем он был разрублен на куски! С каждым новым его словом в моих ногах разливалась противная слабость. Я больше не хотел слушать, но что была моя воля против этих горящих глаз, против громового голоса? Его слова вытесняли мои мысли, его гнев становился моим гневом. – О, кабы не символ распятого бога! – запричитал Палемон. – Я растерзал бы не только их тела, но и души! Я сулил любую награду за жертву, одну достойную жертву, что позволила бы мне воздать за сына. Я пресмыкался перед этими скотами из деревни! Жалкие подачки и проклятья – вот что я получил. Огромная рука его легла на мое плечо. Одного пальца недоставало – судя по неровному обрубку, он был откушен огромными зубами, быть может теми, что сейчас скалились мне из косматой бороды. Я вспомнил, что откусыванием пальца древние греки откупались от эриний – кровожадных богинь мщения… А Палемон, без сомнения, был греком чертовски древним. – Помоги мне, мой мальчик, и я помогу тебе, – произнес он, возвращая меня к реальности. – Нет, – пробормотал я. – Я не могу. – Я вижу твою судьбу, – сказал он. – Нелюбимая жена, докучливые дети, унылая жизнь и тоска об упущенном – вот удел тех, кто живет по законам распятого бога и берет то, что дают, а не то, что хочется. Возлюби ближнего, как самого себя! А кто ударит тебя в правую щеку, то и левую подставь! А вожделея – смиренно изливайся в кулак! Разве тебе не тесно в оковах этой лживой, противной естеству морали? Ты не можешь взять свое и вынужден смотреть, как этот Ганимед торжествует, но что он сделал для этого? Где его мужество, что есть у него, кроме милой улыбки? И все равно покоряйся, ведь так заповедал распятый бог… Ты согласен со мной, мой мальчик? Так скорей же сними его ярмо со своей шеи, пока она не переломилась! С каждым словом я был согласен! Одного воспоминания о том, как пальцы Тео касались моей Пенелопы, хватило, чтобы я без колебаний сдернул крестик, и он прощально блеснул на солнце, прежде чем исчезнуть в кустах. – Ты чувствуешь облегчение? Чувствуешь, как расправились твои плечи, как полнится воздухом грудь? О да, я чувствовал – пьянящее ощущение, будто с головы сдернули пыльный мешок, позволив вдохнуть полной грудью соленый запах моря и окинуть взглядом бескрайний голубой простор. Взгляд Палемона под косматыми бровями замерцал ярче. – Так и должно быть. Ведь у тебя его глаза… Ты готов вознести жертву? Готов взять то, что твое по праву?* * *
Мама нежилась в шезлонге, подставляя лицо вечернему бризу. Рядом с бокалом узо в руке стоял ее кавалер. – Нам надо поговорить! – выпалил я, не обращая на него внимания. Мама томно потянулась. – Этьен, mon chou, оставишь нас ненадолго? Француз бросил на меня загнанный взгляд – не иначе решил, что я собираюсь поднять вопрос о его политических пристрастиях. – Бокал оставь, – беспощадно добавила мама. – Что случилось с отцом? – спросил я, когда мы остались наедине. – Разве я не говорила тебе? – Ты говорила правду? – Что за вопросы? – вскинулась мама, и будь я проклят, если в ее голосе не звучал с трудом скрываемый страх. – Видит бог, здесь хватает сплетников, но… – Почему ты так нервничаешь? Мама залпом осушила бокал. Помолчала, дробно перекатывая во рту кубики льда. – Почему я нервничаю? – Она улеглась на живот. – Смажь-ка мне спину, там прочтешь ответ на свой вопрос. Я покраснел, вспомнив Тео и Пенелопу, но безропотно взял флакон и стал втирать масло в мамину кожу – туда, где белел шрам в виде греческих букв «сигма» и «альфа». – Стефан Апостолиди, на случай, если ты забыл, – сказала мама. – Он сделал это ножом. Чтобы любой мужчина, который меня коснется, сразу понял, кому я принадлежу. Барышню без родины, влюбившуюся на отдыхе в греческого Геркулеса, жизнь к такому не подготовила… (Он был несдержан в чувствах.) – …понимаешь, почему я не хочу говорить о нем? – А я хочу. – «Я хочу»! – передразнила она. – Как ты похож на него! «Я хочу» – и пусть весь мир летит в тартарары. Плевать на чьи-то там чувства – ведь «я хочу»! Даже на Пенелопу ты смотришь его глазами… (Ведь у тебя его глаза.) – Что ты… – начал я. – Ты, я вижу, очень хочешь проставить на ней свои инициалы. Так запомни: она твоя двоюродная сестра и ты должен любить ее только в таком качестве. – Ты еще будешь учить меня?! – вскинулся я. – После всех своих дружков? Я ожидал пощечины, но мама лишь ядовито улыбнулась: – Вот как ты заговорил? К твоему сведению, ma chérie, я мотаюсь на этот поганый курорт не ради, как ты изволил выразиться, дружков, а ради тебя. И я снова и снова приезжаю туда, где пережила самые гнусные унижения, и да, завожу дружков, чтобы стереть инициалы Стефана Апостолиди хотя бы со своей души, если не со своего тела! – Она уже кричала. – Я выстрадала право учить тебя! И если я увижу, что ты угрожаешь этому мальчику или Пенелопе, Никос узнает об этом, будь уверен. А теперь убирайся. Снова меня прогоняли, как нашкодившего щенка, и снова – та, кого я любил. И я ушел в свой номер, плюхнулся на кровать и вцепился зубами в кулак, чтобы не закричать. Я простил бы маму, скажи она: да, я убила. Но того, что она оттолкнула меня, когда мир мой рушился, простить не мог.* * *
В лаконикуме, вот где это произошло – в жарко натопленной греческой парной. Отец блаженно развалился на каменной скамье, укрыв полотенцем мускулистые бедра. Мама сидела рядом, позволяя его рукам бесцеремонно гулять по ее телу, поигрывать тяжелыми, поблескивающими от влаги грудями, и лишь затравленный взгляд, какого я никогда у нее не видел, выдавал ее истинные чувства. – Стефан, пожалуйста, я должна кормить малыша… – Жалкий мамин голос тонул в духоте парной. Вместо ответа он откинул полотенце и по-хозяйски взял маму за волосы. Я даже отвернуться не мог; словно некая сила удерживала мою голову, понуждая смотреть, как она давится его плотью, как глаза ее вылезают из орбит, а по щекам катятся бессильные слезы. Зрелище это, как ни парадоксально, не вызвало в моей душе ни гнева, ни ужаса, ни отвращения; он мужчина, она женщина, он ее господин, она раба его, и все происходит так, как должно быть. На этом – на праве сильного – стоит мир. Наконец он отпихнул маму. Она упала на бок, заходясь кашлем. Отец встал и перешагнул через ее дрожащую ногу, прогнувшись всем своим крепким волосатым телом, с довольным кряканьем, до жути похожий на Палемона. Он не ждал, что на выходе из парилки мама набросит ему на голову полотенце, а на помощь ей придет его брат с кинжалом в руке. Дядя Никос наносил удар за ударом, все вокруг было забрызгано кровью, но отцу удалось повалить его, и два тела, обнаженное и одетое, забились на полу. И тогда мама – моя ласковая, заботливая мама! – выхватила из-за колонны припасенный заранее обоюдоострый топор, и лезвие вонзилось в могучую шею отца, и засело в кости, и кровь взметнулась фонтаном. Со второго удара голова покатилась с плеч и осталась лежать в складках размотавшегося полотенца. Задыхаясь, Апостолиди столкнул коленом обезглавленное тело брата. Оно опрокинулось на спину, выставив напоказ торчащую в груди рукоять кинжала. С топором в руке мать вывалилась в предбанник. Струйки крови сбегали по ее грудям, животу, исчезая в куще волос внизу, с лезвия топора срывались тяжелые капли и густыми кляксами шлепались на беломраморный пол. Свободной рукой она ухватилась за колонну, и ее мучительно вырвало… Очнулся я обмотанный, будто саваном, пропотевшей простыней. За окном разгоралась заря, золотисто-огненные блики играли в оконном стекле. Стоявшая в номере духота напоминала жар парной, и я понял, что больше ни минуты не выдержу здесь. Громада отеля призрачно белела в сумерках. Море набегало на берег с заговорщицким шепотом, будто хотело раскрыть погребенную в нем жуткую тайну. Словно сомнамбула, брел я через спящую деревню, держа путь к утесу. Там, на самом краю обрыва, уже ждал меня Тео. Утренний бриз трепал его светлые волосы. На лице застыло странное, зачарованное выражение, будто он, как и я, не вполне сознавал, что делает здесь. Дикая ярость обуяла меня. Я вдруг понял, что не смогу называться мужчиной, пока он жив. Он обернулся, на губах – которыми он целовал мою Пенелопу! – расцветала растерянная улыбка. И я ударил кулаком в эти ненавистные губы, чтобы только ее стереть. Подавившись криком, он взмахнул руками и полетел с обрыва.* * *
Я склонился над кручей, тяжело дыша и посасывая разбитые костяшки. Тео раскинулся на берегу у пещеры, нелепо вывернув руки и ноги. Его затылок и плечи облизывал прибой. Ни ужаса, ни раскаяния. Напротив, мысль, что я нарушил важнейший из человеческих законов, пьянила, будоражила кровь. Внизу живота разливалось сладостное томление. Я видел, что Тео еще жив – его грудь вздымалась, – и горел желанием поскорее спуститься и довершить начатое. Но «поскорее» не вышло: за минувшие годы я вырос, а проклятые уступы – нет. Не хватало только разбиться самому, чтобы повечеру на берегу обнаружили двух соперников, примирившихся в смерти, – экая пошлость! Словом, к тому времени, как я добрался до Тео и похлопал его по холодным щекам, желание разодрать ему глотку зубами слегка поутихло. Он открыл глаза и еле слышно прошептал: – Ноги. Я не чувствую ног. – Что же ты больше не улыбаешься? – спросил я. – У тебя ведь чудесная улыбка. Улыбнись! Покори мое сердце, чтобы я привел помощь. – Палемон, – сказал Тео. – Меня позвал сюда Палемон. – Палемон так Палемон, – кивнул я и зажал рукой его нос и рот. Тео вздрогнул, напрягся всем телом. Я усилил хватку, но тут он закашлялся, и горячая кровь брызнула у меня между пальцами. С проклятьем я отдернул руку, чуть не вытерев сдуру о штаны. Что-то блеснуло у моих ног. Набежавшая волна захлестнула руку длинным пенистым языком, словно не желая отдавать находку. Это был ксифос – короткий меч, каким сражались древние греки. Я поднял его и долго разглядывал, зачарованный игрой света на влажном клинке. (Ты готов вознести жертву?) «Да!» – вот что я тогда ответил. В распахнутых глазах Тео сияло опрокинутое голубое небо. Волны разлетались о скалы, оседая на его лице пенными хлопьями. Разбитые губы Тео шевелились. Звал ли он мамочку или повторял имя Пенелопы – какая разница? Кого волнует, что мычит жертвенный телец? Лезвие рассекло ему гортань, выпустив струю пузырящейся крови, и что-то в глубине пещеры устремилось на ее запах. Сперва мне показалось, что тьма, сгустившись, исторгла огромный затупленный дубовый таран, подернутый слизистой плесенью. Но конец его вдруг разветвился множеством гибких извивающихся шей, и каждая шея оканчивалась острозубой пастью, и каждая пасть шипела, разбрызгивая яд и постреливая вилочкой языка, и над каждой мерцали огоньки глаз. Было в этой твари что-то настолько чужеродное, что один взгляд на нее, казалось, способен лишить рассудка. Я оцепенел, выставив перед собой меч. А потом заорал не своим голосом, и, будто в ответ, разразились визгом страшные пасти! Они вцепились в умирающего всем скопом, выдирая шматы кровоточащей плоти и тут же заглатывая. Треск мяса, сдираемого с костей, слился с многоголосым шипением. Волны с грохотом расшибались о скалы – расшибались в кровь, но нет, это кровь Тео распускалась в воде алыми прядями… Во мгновение ока все было кончено – от моего соперника не осталось и следа. И тогда эти чудовищные головы с горящими злобой глазами повернулись ко мне и зашипели хором… ЭВОЕ! Не было больше ни моря, ни скал, ни твари из пещеры. Я стоял перед дверью маминого номера с табличкой «Не беспокоить», а мою руку приятной тяжестью оттягивал меч. (Ты должен убить Горгону.) Дверная ручка повернулась почти беззвучно. Внутри висел запах разгоряченных тел. Я приблизился к кровати, переступив через скомканные брюки Этьена и кружевное белье матери. Она безмятежно посапывала на груди своего мужчины. Отец – я знал это наверняка! – никогда не видел от нее такой нежности. Меч пронзил любовников насквозь, пригвоздив друг к другу. Я провернул его и зачарованно смотрел, как французик сучит руками, тараща глаза и разевая рот, как мать, откашливаясь кровью, выворачивает голову, чтобы сквозь путаницу волос разглядеть своего убийцу. – Это я, мама. – Упершись ладонью ей между лопаток, где белели инициалы моего отца, я рывком высвободил меч. – Папа передает привет. Когда они оба перестали дышать, я подошел к окну. За ним безмятежно раскинулась деревня. Белые домики россыпью сахарных кубиков усеивали зеленый склон. Я смотрел на них, внимая голосу Палемона в голове. Потом поднес окровавленный палец к стеклу и вывел поверх этой идиллической картины слово: ЭВОЕ! Дионисиево безумие поглотило остров. Толстые виноградные лозы, вьющиеся словно змеи, разворотив брусчатку, оплетали стены домов; сочные лиловые гроздья сладострастно пульсировали. Кругом распускались диковинные цветы, источая дурманящий аромат. Обезумевшие люди кидались друг на друга, терзая ногтями и зубами со звериной яростью, колошматя ножами и палками. У многих единственное одеяние составляли венки, наспех сплетенные из все тех же цветов. Я видел мужчин и женщин, совокупляющихся, будто животные; видел изувеченные трупы – волосы слиплись от крови, лица размозжены. Церковь стояла нараспашку, зияя выбитыми окнами, скамьи переломаны и опрокинуты, пол усыпан утварью, а на амвоне грудой истерзанной плоти лежало растерзанное тело настоятеля, украшенное цветами. – Эвое! Эвое! – неслось над толпой. Откуда ни возьмись вывернулся обнаженный бородач, кривоногий, поросший густым сивым волосом, словно сатир, и попытался обнять меня сзади. Я хватил его рукоятью меча в висок, и он с воем покатился по земле. (В дубовой роще твои желания исполнятся.) У стены аптеки расхристанная женщина раздирала зубами истошно орущего младенца. Завидев меня, она отбросила полуобглоданное тельце и, глядя мне прямо в глаза, стиснула окровавленными пальцами набрякшие груди так, что молоко брызнуло белыми струйками. Я ухмыльнулся и отсалютовал ей мечом. Никто больше не проявлял ко мне интереса – все были слишком поглощены насилием над ближними и даже самими собой. На глаза мне попался старик – сидя на земле, он сосредоточенно отрубал себе ногу кухонным секачом. Лезвие застревало, не повинуясь немощной руке, он выдирал его с досадливым кряканьем и всаживал снова… Впереди показалась дубовая роща, и я в упоении бросился к деревьям. На опушке две женщины, девушка и старуха, нагие, с цветами в распущенных волосах, прикрутили к молодому дубку нагого мужчину и разделочными ножами сдирали с него кожу. От шеи до колен все тело несчастного блестело сырыми мышцами, не считая вздыбленного члена, который каждая из мучительниц попеременно ласкала свободной рукой, со звериным рычанием катая груди по освежеванной плоти. Шматки содранной кожи лежали в огромной кровавой луже, и беснующиеся женщины втаптывали их в землю, пока их жертва выгибалась всем своим скользким освежеванным туловищем, завывая в экстазе: «ЭВОЕ! ЭВОЕ!». Мне захотелось кинуться на него, всадить меч в живот, пригвоздив к дереву, провернуть, выпуская кишки, запустить в них руку, перебирая, словно склизкие сокровища, отхватить член и ему же затолкать в глотку, отсечь руки одну за другой, и, как только он рухнет в лужу собственной крови, занять его место, чтобы раствориться в огненной смеси боли и наслаждения… Лишь мысль, что тогда я не доберусь до Пенелопы, удержала меня. Я углубился в рощу, оставив троицу позади, но сладострастные выкрики еще долго неслись мне вслед. Время и пространство утратили всякое значение: мир был юн, пьян и безжалостен по-звериному. В гуще листвы, пронизанной косыми солнечными стрелами, проступали лица, ухмыляющиеся, хохочущие; я хохотал вместе с ними. Страшные рогатые сатиры резвились в кустах с отчаянными нимфами. Проскакало со свистом и гиканьем стадо кентавров – охаживая хвостами взмыленные бока, они скалили зубы в буйном веселье. – Поспеши! – насмешливо крикнул один из них голосом Палемона. – Пенелопа не дождется своего Одиссея! Я побежал быстрее – и вскоре увидел, что меня действительно не ждали. На поляне, задрав сорочку выше груди, лежала стонущая Агата; моя Пенелопа в чем мать родила припала меж раскинутых дебелых ляжек женщины, ублажая ее языком. Сзади к Пенелопе пристроился Нифонт – обхватив за бока, он яростно дергал дряблым волосатым задом, издавая вопли, похожие на рев осла. Меч рассек воздух, голова Нифонта запрокинулась на перерубленной шее, выпустив фонтан крови, и там, где она пролилась, тотчас поползли виноградные побеги. Нифонт рухнул навзничь, успев оросить бедро Пенелопы струей жемчужно-белой слизи. Оттолкнув ошеломленную Пенелопу, Агата с криком вскочила и кинулась на меня, скрючив пальцы, как когти. Удар меча раскроил ей правую грудь, но она снесла меня с ног, выбила оружие и взгромоздилась всей тушей, окутав запахом пота и похоти. Распоротая грудь криво болталась, поливая меня красным, точно прохудившийся мех с вином. Острые ногти пропахали мне щеку, чудом не выпустив глаз. Зажмурившись, я попытался ударить обезумевшую фурию кулаком в челюсть, но ее крепкие зубы тотчас впились мне в запястье. Я вслепую пытался нашарить меч другой рукой… Агата вдруг сдавленно охнула. Приоткрыв один глаз, я увидел ее запрокинутый подбородок, а рядом – перекошенное в оскале лицо Пенелопы. Ее рука прижимала лезвие меча к натянутому горлу женщины. – Не надо, – просипела Агата. – Не надо, дочка. Мышцы под гладкой кожей напряглись, и горячая кровь брызнула мне в лицо. Клокоча рассеченной глоткой, Агата повалилась на бок, увлекая за собой Пенелопу. Пенелопа томно раскинулась на траве рядом с содрогающимся телом – сверкающая глазами амазонка, залитая кровью и потом, до боли желанная. Непослушными руками я сорвал с себя одежду. Она безропотно позволила мне лечь на нее и сама направила меня скользкими от крови пальцами в горячую топкую глубину. Страсть, если верить расхожим штампам, поглощает подобно пучине или огню; нашу уместнее было бы сравнить с молотилкой. Пенелопа исполосовала мне ногтями загривок и спину, судя по ощущениям – в лоскуты; намотав ее волосы на кулак, я выкрикивал ей в лицо оскорбления: дрянь, тварь, потаскушка… А тем временем из земли лезли все новые виноградные лозы, оплетая тела убитых нами людей. – Твоя мать – шлюха! – крикнула Пенелопа. – Мертвая шлюха, – прохрипел я, вколачиваясь в нее, – мертвая… шлюха… Пенелопа злобно захохотала. Золотой крестик бестолково дергался меж взмокших подпрыгивающих грудей с каждым моим толчком. Как ты смешон, распятый бог, думал я, остервенело впиваясь зубами в левую грудь. Смешон и бессилен. Пенелопа закричала, выгибаясь подо мной – от боли, наслаждения или того и другого сразу? Бешеные удары ее сердца наполнили мой рот через упругую плоть, а от низа живота уже катилась по телу жаркая волна, чтобы взорваться в голове ослепительной вспышкой, выжигая все мысли к черту. ЭВОЕ! ЭВОЕ! ЭВОЕ!* * *
Налетевший холодный ветер покрыл мою кожу мурашками. Вкрадчивый треск цикад проник в уши, возвращая к жестокой реальности. Я с трудом разодрал веки, схваченные кровяной коркой, ощущая мучительную боль во всем теле. Остекленевшие глаза Нифонта укоризненно глядели на меня из переплетения виноградных лоз. Гибкие побеги до сих пор буравили мертвую плоть, погребая под собой тела супругов. Даже теперь я не чувствовал ни горя, ни ужаса, ни раскаяния. Странное, пугающее ощущение: я будто не принадлежал ни этому миру, ни человеческой расе. Отрешенно разглядывая руки, на которых запеклась кровь матери, я думал, что Палемон не лгал мне: я его плоть и кровь. Мои пугающие сны и видения – то, что он мне хотел поведать, беспричинные вспышки ярости – отголоски его собственного нрава, тоска по безвозвратно минувшему – его тоска. Я рос, чтобы осуществить его ужасную месть – моей матери, дяде, деревне,откупавшейся от него домашним скотом… Да было ли у меня что-то свое? У меня была Пенелопа. Но Пенелопы не было. Я вскочил, будто подброшенный. Боль ударила в голову чугунным колоколом, деревья закружились в зеленом хороводе. Где она? Трясущимися руками я натянул штаны – прямо на голое тело. Рубашку отыскать не удалось. Если Пенелопа взяла ее, чтобы прикрыть наготу, значит, сознание к ней вернулось. Она в ужасе и отчаянии бежала от меня, от того, что мы вдвоем совершили, но куда? К отцу, в деревню или… Нет. Нет. Только не туда. И там я ее и нашел, на том самом месте, где утром стоял Тео, дожидаясь, когда я принесу его в жертву. Она замерла над обрывом, маленькая и тоненькая на фоне наползающих с моря тяжелых туч. Ветер трепал ее волосы, играл подолом рубашки, открывая бедра в темных кровоподтеках, оставшихся после моего безумного натиска, и это зрелище сжало мое сердце щемящей тоской. Я хотел прижать ее к груди, окружить заботой, укрыть от ужаса, в который вовлек. Но она стояла почти на самом краю. – Пенелопа, – окликнул я. Повернулась ко мне, медленно, как автомат. На белой ткани рубашки распускались кровавые пятна. Истрескавшиеся, опухшие губы свела мучительная гримаса, превратив лицо в античную маску трагедии. – Нет больше Пенелопы, – вымолвила она. И глядя на нее, я понял, что она права, как права была мама. Вот они, мои несводимые инициалы, – эти погасшие глаза, этот сорванный криком, мертвый голос. – Это Палемон устроил, – сказал я. – Это все он. Давай найдем твоего отца и… – У него больше нет дочери. Я зарезала Агату. И помочилась ей на лицо, когда ты уснул. Смеясь. И Тео я потеряла. Тео мертв, чуть не сказал я, но вовремя опомнился. И снова твердил, что нашей вины здесь нет, мы не ведали, что творим, – пусть в моем случае это лишь отчасти было правдой. Но Пенелопа не слушала, и тогда я в отчаянии закричал: – Они насиловали тебя! Чуть меня не прикончили! – Ты тоже меня насиловал, и мне это нравилось. А ведь я не твоя. Я ничья больше. – Я убил маму, – выдавил я. Последний, самый страшный козырь, способный побить то, что совершила она. Только бы она отошла от обрыва!.. Пенелопа долго смотрела на меня, потом отступила на шаг. – Стой! – Я протянул к ней руку. – Это все я! Он заставил меня! С меня все началось! Стой, Пенелопа! Она сделала еще шаг – волосы взметнулись над головой темным нимбом. Я рванулся к ней, но схватить не успел. Зато успел увидеть, как тварь из пещеры пожирала внизу ее разбитое тело, и мой отчаянный вопль слился с ликующим шипением.* * *
Отель превратился в залитую кровью скотобойню, однако Яни и дяде Никосу удалось уцелеть. В тот миг, когда я рассказал дяде, что случилось с его дочерью, он наверняка проклял за это судьбу. Сломя голову бросился он под дождь; догнать его нам с Яни удалось только в деревне. Трупы до сих пор валялись на улицах, окна и двери большинства домов были высажены, и дождь хлестал внутрь, подгоняемый ветром. В уцелевших окнах теплился свет – там выжившие оплакивали своих убитых и свой позор. Море грохотало, сливаясь с мглою на горизонте. Чудовищные пенистые валы в щепки размолотили пристань, кувыркая суденышки, словно игрушечные. Молнии полосовали небо, заходившееся в ответ раскатистым грохотом; пока мы тащили назад дядю Никоса, могучий разряд прочертил темноту и с треском вонзился в купол оскверненной церкви, рассыпая шипящие искры. Крест откололся и рухнул наземь. В раскатах грома отчетливо прозвучал издевательский хохот. Промокшие до нитки, мы заперлись на кухне, подальше от растерзанных тел, разожгли печь. Дядя Никос сидел за столом, уронив голову на руки. – Я купал ее здесь, – бормотал он. – На этой вот кухне, в лоханке. Она, маленькая паршивка, все на усы мне норовила плеснуть. За ней всегда… глаз да глаз… Я перевел взгляд на Яни. Тот заряжал «смит-вессон» русской модели, сбереженный, надо думать, со времен боевой юности. Узловатые пальцы старика безошибочно загоняли в гнезда патрон за патроном. Я умолчал о своей роли в случившемся. Не хотел, чтобы меня прикончили раньше, чем я увижу смерть Палемона и его твари. Но теперь у меня возникло желание сказать правду, словить пулю и со всем покончить. Вместо этого я спросил: – Ты уверен, Яни, что пули его возьмут? – Пули эти освящены в церкви, – сказал он. – Наши духовники благословили их для войны с турецкими выродками. Если святые символы больше не сдерживают его, это не значит, что они не могут его убить. – А тварь?.. – Если не сладят пули, будем рубить и жечь, как Геракл делал. Я вспомнил историю бедного Нифонта. Нет, Палемон не мог быть Гераклом. Это бредовый сон; сейчас я закрою глаза, а когда открою утром, Пенелопа будет жива… Но наступило утро, и Пенелопа по-прежнему была мертва, и мы с дядей Никосом тряслись на заднем сиденье автомобиля Яни, оцепенело глядя на проносившиеся мимо кипарисы и тополя. Черный дым тянулся в умытое дождем голубое небо, а со стороны развалин древнего храма доносились жалобное овечье блеянье и нестройный хор. – Старым богам жертвы возносят, – пробормотал Яни. – Совсем спятили! Сидевший рядом со мной дядя Никос ничего не ответил. Судя по его блуждающему взгляду, он и сам недалеко ушел от этих безумцев. Яни дал по газам. Он гнал прямиком к обрыву, и я закричал: – Тормози, Яни, тормози! Автомобиль остановился, взвизгнув рессорами. Старик выбрался первым, прихватив сумку, откуда торчало несколько обернутых паклей самодельных факелов. Он передал мне тяжелый топор, револьвер вручил дяде Никосу, а напоследок нежно погладил капот своего железного коня: – Жди, доходяга. Бог даст, вернусь! Дядя Никос спускался за нами, оскальзываясь на исхлестанных дождем уступах. Волны обрушивались на скалы, жаля нас шипящими брызгами. Черная дыра в скальной породе зияла, точно голодный рот. – Держите вход под прицелом, хозяин, – попросил Яни. – А я пока факелы запалю. Дядя Никос взвесил револьвер в руке. Сказал тихо: – Прости меня, Яни. – За что, хозяин? – откликнулся старый слуга, чиркая бронзовой зажигалкой. – А, чтоб тебя… Апостолиди выстрелил ему в голову. Грохот прокатился над скалами. Седой затылок Яни разлетелся вдребезги, зажигалка с плеском исчезла в водовороте белой пены – а из дыры уже вырастало многоголовое шипящее нечто, переливаясь на солнце маслянистыми кольцами, чтобы вцепиться в еще бьющееся тело. В считаные секунды чудовище растерзало жертву и снова исчезло во мраке. – Идем! – крикнул Никос. – Теперь она нас не тронет! – И, схватив меня за шиворот, увлек в пещеру. Я не сопротивлялся, пораженный случившимся. Дядя решительно прокладывал путь сквозь тьму. Если я спотыкался и падал, он рывком поднимал меня и тащил дальше. Каждую секунду я ожидал услышать шипение и ощутить впивающиеся в тело со всех сторон острые зубы; но ничто не нарушало тишины, кроме шарканья ног и нашего сбивчивого дыхания. Чудовище словно растворилось во мраке. – Ты не уберег ее, – бормотал дядя Никос. – Ты не уберег мою Пенелопу. Это будет только справедливо. Как твоего отца… Впереди забрезжил свет, вскоре он стал ярче, и наконец мы очутились в огромном подземном зале. Покатые стены испускали мертвенно-зеленое свечение, куполообразные своды щерились клыками сталактитов. И повсюду белели черепа и кости животных, а среди них осколками дробленого солнца сверкало золото. Гора костей зашевелилась, вспучилась и раскатилась с сухим треском. На ее месте выросла громадная фигура Палемона. Плечи его были укутаны львиною шкурой, в руках он держал ясеневую палицу, пригодную с одного удара размозжить череп слону. В сумраке подземелья его глаза мерцали, будто тлеющие уголья. Дядя Никос поставил меня на колени. – Палемон, я пришел молить тебя! – Револьвер дрожал в его руке, щекоча мне мушкой затылок. – Я готов служить! Я принесу его в жертву, своего родного племянника! Я тебе тысячи жертв принесу! Только верни мне дочь, Палемон! Острозубая усмешка прорезала косматую бороду Палемона. – Что же ты не просишь своего распятого бога, Никос? – хохотнул он. – Разве он не воскрешал мертвых задаром? Апостолиди застонал. Но, когда он сдернул с шеи крест и отбросил прочь, голос его звучал твердо: – Не верую в него больше! В Зевса-Громовержца верую и владычицу Геру! В Аида и Персефону! В Посейдона, владыку морей, и солнечного Гелиоса! В Аполлона и Артемиду! В Гермеса, Гестию и Афину мудрую! В Деметру, Афродиту и Гефеста! В Ареса и Гекату ужасную! Славьтесь, радостный Вакх и великий бог Пан! Огромная палица просвистела в воздухе и снесла ему череп. Обезглавленное тело закружилось волчком. Падая, дядя Никос конвульсивно нажал на спуск, и пуля, взвизгнув у моего виска, вонзилась в ворох костей. А имена давно ушедших богов по-прежнему гремели в каменных сводах, тысячекратно усиленные эхом, и от фигуры Палемона поползли пряди мерцающего тумана. Точно алчные щупальца, устремлялись они к Апостолиди, всасывая пролитую кровь и мозг, и вскоре призрачная пелена совершенно скрыла мертвеца. Она стремительно густела, расползаясь, пока не заволокла подземелье сплошной бурлящей мглой. Дым завихрялся клубами, в которых все отчетливее обрисовывались силуэты существ, казавшихся мне поразительно знакомыми, словно он вытягивал их из моей головы, из фантазий моего детства, наделяя зримыми формами. Бесчисленное множество этих форм ежесекундно менялось, проистекая из одной в другую, превращаясь то в исполинов со змеиными хвостами вместо ног, то в невиданных зверей, то в причудливых гибридов. Я различал и лица – прекрасные и ужасные настолько, что долгий взгляд на них мог бы свести с ума… Выхватив из мертвой дядиной руки револьвер, я поднял его и выпустил в темнеющий за туманной завесой силуэт три пули – три послания распятого бога. Грохот выстрелов разлетелся по пещере. Палемон заревел от боли и ярости, а я бросился прочь, сквозь кружащуюся мглу, которая стремительно рассеивалась. Он гнался за мной по туннелю, и, хотя я бежал, а он тащился, волоча ноги, расстояние между нами неумолимо сокращалось. Огромное чешуйчатое тело ворвалось в проход. Оно билось в агонии, головы с визгом метались, колотясь о стены и потолок, чешуя лопалась, выпуская струйки смрадного дыма. Тварь умирала вместе со своим хозяином – или рабом? Я отпрянул от нее, упал, и надо мной вознесся косматый силуэт с горящими глазами. Палица вломилась в пол рядом с моей головой, запорошив глаза и рот каменным крошевом. Кашляя и отплевываясь, я откатился и еще раз выстрелил наугад. Вопль боли вырвался из простреленной груди Палемона. Снова взметнулась палица, но тут извивающийся хвост чудовища огрел гиганта по ногам, и он, отлетев, врезался головой в стену. Он сполз на пол, не выпуская из рук дубины, а содрогания многоглавой змеи становились все слабее, пока не стихли совсем. Я лежал в темноте, тяжело дыша; мне вторило тяжелое дыхание Палемона. Потом он заговорил: – О, мой мальчик… Мой глупый мальчик… Разве я хотел тебе зла? – Ты еще жив, проклятый дьявол? – Дьявол! Я лишь защищал последние крохи своего мира. Но пусть дьявол; куда хуже, что я стал философом! – Палемон мрачно засмеялся, но смех его перешел в хрип. Вопреки всему, я понимал его. Бесконечное множество лет жили они вместе – герой и чудовище, некогда враги, ныне – последние свидетели безвозвратно минувшего. С их смертью навеки уйдет живая память о эпохе, где ужасное и прекрасное сливалось в безупречной и неразрывной гармонии. Палемон издал последний клокочущий хрип и затих. А я долго еще лежал во тьме, мечтая лишь об одном: раствориться в ней и больше не существовать. Только к вечеру я нашел в себе силы выбраться из пещеры. Шум волн стих, будто по волшебству. Теперь, когда мой страшный дед умер – как Тео, как дядя Никос, как старик Яни, как мой изверг-отец, как моя бедная мать, как Пенелопа, которая никогда не была моей, – море набегало на скалы мягко, умиротворенно. Улегся и ветер. И алмазными россыпями сияли созвездия, среди которых, приглядевшись, можно было различить Гидру и Геркулеса. В следующем году началась война.Алая печать
1. Человек с алым знаком
Каин плеснул остаток шнапса в бокал и протянул мне: – Выпейте, господин Соколов. Вы похожи на прибитую крысу. Он не мог бы выразиться точнее. Одежда висела на мне мокрыми тряпками, кровь, натекшая из разбитой головы, пятнала лицо боевой раскраской. На Паркштрассе, где редкие фонари с трудом разгоняли сырой сумрак, а уцелевшие после бомбежек дома-муравейники лепились друг к другу, удерживаемые от обрушения, надо думать, единственно молитвами своих обитателей, какой-то оборванец едва не раскроил мне череп обрезком трубы. С ним были еще двое, вооруженные ножами, и, хотя перед глазами у меня все плыло, а черты их лиц скрадывал полумрак, я все же разглядел на каждом из них грубо намалеванное подобие Каиновой печати – той самой, над феноменом которой ломали голову не только уголовники всех мастей и недобитые гитлеровские палачи, но, что пугало гораздо больше, и лучшие умы мира. Той самой, что сейчас я видел на лице своего собеседника. Она горела под линией серебристых волос – хитросплетение незаживающих разрезов, столь изощренное, что при долгом взгляде начинала кружиться голова. – Это не слишком больно, если хотите знать, – заметил Каин, перехватив мой взгляд. – Саднит немного, но это невеликая плата за мои… возможности. За стенами дома Шультеров гулял ветер, дребезжал оконными стеклами, свистел в дымоход, как в гигантскую флейту. Огонь потрескивал в камине, бросая на белые стены изломанные тени, содержимое бокала в протянутой руке играло янтарными отблесками. Старинные часы в углу сухо отбивали мгновения. С фотографии на стене улыбались Шультеры: высокий сухопарый Эрнст в квадратных очках, его кругленькая супруга Марта и хорошенькая белокурая Габи, их дочка. – Я буду пить только с разрешения хозяев, – заявил я, почти уверенный, что их давно нет в живых. Может быть, кроме Габи, однако она наверняка предпочла бы умереть. – На что вам разрешение? – снисходительно улыбнулся Каин. – Разве вы не победители? Глядя в холодные голубые глаза человека с алой печатью, я сказал: – Но не мародеры. Содержимое бокала выплеснулось мне в лицо. – Выбирайте выражения, господин офицер – как вас там по званию? – промолвил Каин, зажигая сигару. – Иначе я не дам за вашу жизнь и ломаного пфеннига. Глаза щипало. Смаргивая жгучую жидкость, я утерся кулаком. Обтесать им лицо с алой печатью во лбу было все равно невозможно. Не считая печати и преждевременной седины, выглядел Каин вполне обыкновенно. Среднего роста, неплохо сложен, хоть и не атлет, черты лица капризно-надменные, льдисто-голубые глаза – не самое приятное лицо, но ничего демонического. Однако армии, сломавшие хребет нацизму, не могли остановить смертоносное веселье этого человека, и целые города трепетали перед ним. Американцы допускали откровенно сверхъестественные толкования, вплоть до того, что Каин послан свыше покарать немецкую нацию за ее преступления; иные даже заявляли, что не стоит ему мешать. Сами немцы вспоминали легенду о Бальдре, благом скандинавском божестве, которому ничто на свете не могло причинить вреда, кроме ветви омелы; но, если то и был Бальдр, на землю он вернулся в прескверном настроении. У нас говорили, будто алый знак – психологическое оружие, разработанное фашистскими учеными, что не объясняло, однако, невосприимчивость его носителя к огню, взрывчатке и прочим неодушевленным угрозам. В одном сходились все: кто бы ни поставил печать на лоб этого человека, к Господу Всеблагому он иметь отношения не мог. – Как вы меня нашли? – спросил Каин. – Я не искал вас. На меня напали, тут, неподалеку. Я немного знаком с хозяевами и рассчитывал получить у них помощь. Вас я встретить никак не ожидал. …Весной, когда наш взвод остановился у Шультеров, хозяева спрятали Габи от «русских варваров» в винном погребе, но мы обнаружили их сокровище и вытащили на свет божий. Она бешено лягалась, сверкая подвязками, и визжала: «Nein, nein!», а ее мамаша металась вокруг, норовя выцарапать нам глаза. – Ай-яй-яй, – покачал головою Каин, – a terrible age and terrible hearts[22]! Да, я знаком с вашей литературой, хотя на русском она, должно быть, звучит лучше, чем на английском, – добавил он, заметив мое удивление. – Я образованный человек, господин Соколов. Если на то пошло, мои познания простираются намного дальше, чем вы можете себе представить. – У вас ведь есть имя? – Вернер, – ответил он, – Алан Вернер, никакой, к черту, не Каин. Как видите, я с вами честен, чего не скажешь о вас. – Прошу прощения? Он подошел к окну и отдернул штору. У ограды под проливным дождем стоял человек в форме без опознавательных знаков. Русые волосы облепили непокрытую голову молчаливой фигуры, с вислых усов струилась вода. – Так, значит, вы решили зайти к знакомым. А приятель ваш, очевидно, решил постоять на стреме? – Я один. Понятия не имею, кто это. Каин-Вернер милостиво кивнул и опустился в кресло напротив, водрузив ноги на кофейный столик. А ведь за этим столиком мы со старшиной Жаровым в карты резались, снова некстати вспомнилось мне. Старшина, даром что грудь в орденах, бессовестно мухлевал. – Бр-р, ну и выдержка. – Вернер зябко передернул плечами, косясь в окно. – Надо будет выйти и пристрелить этого стойкого оловянного солдатика, когда лить перестанет. – Где девушка? – Дейчес паненка, руссиш камрад? – осклабился он. – Все-таки вы оказались здесь не случайно. – Вас это не касается, Вернер. Что вы с ней сделали? – Что сделал? – Он выдохнул струю дыма в потолок. – Да ничего такого, что не хотели бы сделать вы. Тогда, весной, я действительно многое хотел бы сделать с Габи… при условии, что она сама хотела бы того же. Я вспомнил, как она разревелась, поняв наконец, что ее не обидят, как мать прижимала ее к груди, сама голося белугой, как Эрнст, жалкий, взъерошенный, потерявший где-то очки, смотрел на нас, подслеповато моргая. Старшина Жаров бросил снисходительно: «Эх вы! А еще высшая раса». А к вечеру я уже учил Габи петь «Катюшу», играя на аккордеоне, и она смешно коверкала слова, и казалось в тот момент, что не было ни войны, ни Гитлера, ни слез, ни голода, не было дотла сожженных деревень, разрушенных городов и концлагерей, и лишь километры да языки разделяют людей под этим весенним солнцем. И когда мы уходили, она подбежала, краснея, и чмокнула меня в уголок рта, и губы у нее были такие теплые, такие беззащитно-мягкие, что я устыдился своей колючей щетины… – Что вы так на меня смотрите? – вторгся в мои мысли насмешливый голос Вернера. – В былые времена вельможа мог овладеть любой женщиной просто потому, что мог. Вот и я это делаю потому, что могу. И мой народ делал с вашим все, что хотел, по этой же самой причине… – Времена изменились. Он расхохотался мне в лицо – звонко, по-мальчишески. – Она жива, если для вас это главное, – произнес он, отсмеявшись. – Я хотел бы убедиться, – сказал я. – Отчего бы и нет? – Вернер лукаво подмигнул. – Но сперва, – он задумчиво взглянул на пустую бутылку, – надо пополнить запасы. У нас с вами впереди долгий вечер.* * *
Впервые о нем услышали на Западном фронте, в последние дни войны. Трое ирландцев, сержант О’Лири, капрал Уолш и рядовой Дуглас, увидели, как некто, одетый в штатское, бредет мимо их окопа – среди рвущихся снарядов, сквозь дым и огонь. Сержант крикнул: «Стой, кто идет!», и незнакомец обратил в их сторону усталое лицо с алой печатью, горевшей во лбу, словно третий глаз. О’Лири, не боявшийся ни бога ни черта, вскинул свой окопный «ремингтон», собираясь разнести вдребезги голову с алым знаком, передернул цевье. В отсветах пожарищ алая печать засияла ярче, отличная мишень, стреляй – не хочу… да только О’Лири вдруг понял, что действительно не хочет, хуже того – не может физически. «Немыслимо! – говорил он потом на суде. – Это было… как в самого Спасителя выстрелить! Как… выколоть глаза собственной матери… как бросить в огонь ребенка…» Незнакомец приблизился, легко, будто пугач у мальчишки, вырвал дробовик из ослабевших рук сержанта и ударом приклада раздробил ему челюсть. О’Лири сполз на дно окопа, захлебываясь кровью. Уолш, решивший, что в «ремингтоне» перекосило патрон, поднял карабин, но тотчас опустил, охваченный тем же необъяснимым бессилием. В следующее мгновение заряд картечи разворотил капралу живот – с дробовиком все точно было в порядке. Дуглас в панике выскочил из окопа и угодил под шальной снаряд, разметавший куски его тела по горящей земле. Сержанта обнаружили лежащим без чувств в обнимку с дробовиком. Военно-полевой суд пришел к выводу, что О’Лири сам напал на товарищей в припадке безумия, вызванного тяготами сражений. С головой у него и впрямь сделалось совсем плохо, что только и спасло беднягу от законов военного времени. – И сказал Господь, – бормотал на суде О’Лири, возводя лихорадочные очи горе, – за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его… Появление человека с алой печатью стало лишь началом в череде необъяснимых, поистине апокалиптических явлений, обрушившихся на разоренные войной земли Германии. На переправе через Эльбу волны вдруг вспенились, выбросив огромные, будто из дубовых корней свитые щупальца, усеянные кратерами мясистых присосок. Они в щепки разнесли один из мостов и снова скрылись в глубине, унося с собою кричащих людей. На позиции англичан обрушился кровавый ливень; когда солнце выглянуло из-за туч, кровь задымилась, источая зловоние. Несколько французских солдат без вести пропали в горах, и командиры божились, что незадолго до этого какие-то крылатые существа весь вечер летали над лесом, издавая невыносимые для ушей жужжание и стрекот. Там же, в горах, в скором времени объявился и человек с алой печатью. Приходя в деревушки, он жонглировал осиными гнездами, крутил за хвосты гадюк, которые шипели и корчились, не смея пустить в ход клыки, разводил костер и погружал руки в огонь. Немцам, однако, той весной было не до забав, да и еды не хватало. Старики (а из мужчин дома оставались по большому счету только они) призывали гнать его камнями да палками; но, как доходило до дела, камни и палки выпадали из ослабевших рук. Вскоре он начал сам брать все, что пожелает. Союзные войска, к которым отчаявшиеся немцы обращались за защитой, беспомощно разводили руками: никто не мог задержать его, даже плюнуть в его сторону было невозможно. Спускали собак, но и самые свирепые псы стелились перед ним на брюхе, жалобно скуля и поджимая хвосты. Хулиган с алым знаком обносил склады с продовольствием, заходил в кабачок и угощался за счет заведения, бил стекла и мочился где попало, смеясь над бессильными попытками его остановить. Саботаж, постановило командование, и никакие чудища речные тут ни при чем. Кровавые дожди льют из-за примесей красной глины в воде. Французский отряд печально славен тем, что при взятии населенных пунктов уделяет больше внимания кабакам и Fräulein, нежели дисциплине. А что до странного фигляра, который, конечно, никаким боком не причастен к бойне, учиненной сержантом О’Лири, то всякий крутится как умеет, особенно во время войны. Другими словами, союзники применили против загадочных явлений многократно обкатанную военную тактику, особо популярную среди африканских страусов: зарыться головой в песок, сделав вид, будто ничего особенного не происходит.2. Наблюдатели под дождем
– Вам знакомо имя Евы Дитрих? – осведомился Вернер у двери погреба. Я посмотрел на него с удивлением: – Ведьма Аушвица? Вы знали ее? – Очень близко, – произнес он так, словно знакомство с одной из самых ужасных женщин в истории делало ему честь, и препохабно поиграл бровями. – Чертовски близко. – Это она вам оставила?.. – И да и нет, – молвил он. – И да и нет. – И вы знаете, где ее найти? – Закатайте губу, господин Соколов! – с неожиданной злостью ответил он. – Или лучше называть вас товарищем? – Я не товарищ вам, Вернер. – А вы мне не господин. Это я сейчас господин вашей жизни. Что до Евы, то вы никогда ее не найдете. Яростно рванув засов, Вернер отворил дверь – и я отпрянул, сраженный вырвавшейся наружу тяжелой волной смрада. Вспышка молнии залила окошко под потолком. В дрожащем свете я увидел шевелящееся серое море – стая огромных крыс терзала два тела в кровавом тряпье. Хозяйку я узнал лишь по длинным с проседью волосам, облепившим разбитый череп. Во вспоротом животе Эрнста Шультера что-то беспрестанно вспучивалось и перекатывалось; на мгновение мне пришла в голову безумная мысль, что внутренности рвутся прочь из его мертвого тела, и лишь потом я понял, что мерзкие твари свили в нем гнездо. Из могучего деревянного бруса, подпиравшего своды потолка, торчал садовый секач, заляпанный до самой рукояти бурыми пятнами. Снаружи гулко ударил гром – аж стены затряслись. Вернер вошел в погреб. Крысы вились у его ног, верещали, когда он наступал на хвосты, взвизгивали, когда его каблуки ломали их серые спины… но кусать, разумеется, не смели. Насвистывая Ah, du lieber Augustin, Вернер перешагнул через голые ноги Марты, местами обглоданные до костей, и достал из ниши в стене очередную бутылку. – Вы должны простить их за deshabille, – сказал он. – У них совсем не было времени приодеться. Я схватился за рукоять секача и дернул что было силы. Древесина затрещала, выпуская окровавленную сталь. – Вы действительно такой болван или решили наняться ко мне в оруженосцы? – поинтересовался Вернер, не оборачиваясь. – А впрочем, и правда захватите его с собой. А если захлопнуть дверь перед носом Вернера, запереть его здесь, в смрадной темноте с крысами? Эта мысль обдала меня волной сверхъестественного, кощунственного ужаса. Он благополучно вышел из погреба и захлопнул дверь. – Вы все еще хотите увидеть спящую красавицу? В девичьей спаленке витали другие запахи: разгоряченной плоти, мочи и пота. Серый свет, струившийся сквозь оконный переплет, расчерчивал нагое тело Габи на квадраты. Ее высокую грудь пятнали кровоподтеки и полукружия укусов, щиколотки и запястья, прихваченные веревками к спинкам кровати, были растерты до мяса, разбитые губы спеклись. Меж разведенных бедер был пристроен плюшевый мишка с одним ухом. – У, бесстыдник! – Взяв медвежонка за шею, Вернер кинул его на пол и осторожно накрыл ладонью пушистый холмик между ног девушки. Габи жалобно застонала во сне. Воображение нарисовало мне, как она содрогается под толчками насильника, как лежит потом в темноте, глотая бессильные слезы… Пальцы сильнее стиснули рукоять бесполезного секача. Я не смог бы ничего сделать, даже если бы перед Вернером лежала моя сестра или мать. Но говорить я мог и высказал все, что думал о нем, в самых крепких русских и немецких выражениях. – Sticks and stones may break my bones, – ответил Вернер, орудуя пальцами, – but words will never hurt me… and sticks and stones, too[23]. – Отпустите ее. Или, клянусь, я все-таки найду способ вас убить. Он вогнал пальцы глубже. Глаза Габи распахнулись – огромные, полные боли и ужаса. Она закричала, забилась на постели, выгибаясь всем телом и мотая головой по подушке. – Перестаньте, Вернер! И он, представьте себе, действительно перестал. Его пальцы выскользнули из истерзанного лона девушки – и сжались в кулак, и кулак этот влепился с размаху мне в лицо. Что-то звонко лопнуло в голове, перед глазами полыхнула вспышка, алая, как знак во лбу у Вернера. Я даже не почувствовал, как он вырвал у меня из руки оружие, но услышал его слова: – …А вот так бывает, когда меня пытаются обдурить… Изогнутый обух секача врезался мне под дых. Я согнулся пополам, хватая ртом воздух. В следующее мгновение обух угодил мне в челюсть, запрокинув голову назад. В глазах опять сверкнуло, рот наполнился кровью, и я рухнул навзничь. Даже сквозь звон в ушах до меня доносились крики Габи. Повернув голову, я встретился взглядом с плюшевым мишкой, таращившим глаза-пуговки, будто испуганный ребенок. Я поднялся на ноги, чтобы увидеть, как Вернер с размаху ударил Габи секачом. Лезвие вонзилось ей в гортань, отсекая крик. Глаза девушки закатились, кровь хлынула изо рта потоком, обагряя светлые волосы. Нагое тело содрогнулось в последний раз, натянув веревки. Со вторым ударом секач перерубил позвонки и застрял в пружинах матраса. (…Кровь льет из груди, промочила, зараза, всю гимнастерку. Достали-таки фрицы поганые, угораздило же высунуться! Старшина Жаров железной рукой зажимает мне рану – все равно хлещет. «Ты у меня, Соколов, только попробуй кони двинуть, слышишь? Не закрывай глаза, твою в бога душу мать да с переподвывертом!» Берлин в огне, над крышами зарево. Огонь у меня в груди, выжигает воздух – не продохнуть. Кругом гремит, свистит и трещит, в голове трещит, свистит и гремит, голос командира едва пробивается: «Глаза не закрывай, кому го…» Тьма… Кромешная тьма… И что-то во тьме, что-то чернее тьмы, у него черные крылья, белые клыки и острые когти… Я – это оно, а оно – это я… огненные глаза…) …Глаза Вернера, ледяное пламя безумия. Свободной рукой он сгреб меня за грудки и отшвырнул к окну. Стекло разлетелось вдребезги, промозглый ветер с ликующим свистом ворвался в комнату, окутав меня занавесками. Чтобы не упасть, я вцепился в оконную раму, располосовав пальцы торчащими осколками. Внизу к одинокой фигуре под дождем присоединились еще четыре. Они стояли, устремив на дом бледные, будто из воска вылепленные лица. Вернер выдернул секач, взметнув веер кровавых брызг. Другой рукой он за волосы сдернул отрубленную голову с подушки и швырнул в окно. Она покатилась по грязи, путаясь в мокрых прядях, и остановилась у ног безмолвных соглядатаев. Ни один не дрогнул, не вскрикнул, не тронулся с места. Тот, что стоял впереди, спокойно наклонился, подобрал голову и долго изучал неподвижное, заляпанное кровью и грязью лицо. Секач взлетел над моей головой… и замер в верхней точке замаха. – Черт побери… – севшим голосом пробормотал Вернер. С трудом отведя глаза от окровавленной стали, я проследил за его взглядом и увидел, как незнакомец во дворе зубами вырывает из мертвого рта Габи язык.* * *
…Всерьез заговорили о нем после происшествия в Альтендорфе, деревушке, где заправляли янки. Они и пальцем не пошевелили, когда человек с алым знаком занял дом булочника Люца, выставил хозяев на улицу и завалился спать. Американский полковник заявил, что, коль скоро немцы посягали на чужие земли, им не помешает отведать собственного лекарства. Тогда отчаявшиеся жители решили взять дело в свои руки. Несмотря на протесты Люцев, во дворе собралась разъяренная толпа. Несколько бутылок с зажигательной смесью влетели в окна и разорвались на полу. К тому времени как подоспел отряд военной полиции, дом превратился в огненный шар. Но из пламени с револьвером в руке вышел человек с алым знаком, и даже одежда на нем не дымилась. Американцы уверяли, что пламя расступалось перед ним, будто в страхе. – Это сам дьявол! – закричала какая-то женщина. Сшибая друг друга с ног, люди бросились врассыпную, многих затоптали насмерть. Утренний рассвет озарил тела, распластанные у пепелища: никто не смел подойти и забрать их. Перепуганные жители набились в кирху, молясь об избавлении от «антихриста». В самый разгар службы дверь распахнулась, и в храм влетел запыхавшийся мальчишка Люцев, Вилли: – Тот человек, ну, который с печатью! Он гуляет по минному полю! – Подорвись он к дьяволу! – вскричал преподобный Шухт. – Прости меня, Господи, – тут же добавил он, услышав шокированные возгласы прихожан, и молитвенно сложил руки. – Да в том-то все и дело! – замотал головой Вилли. – Он наступает на мину, а она не рвется, покуда он не сойдет! А земля с осколками облетают его по этой, как ее… – Мальчик умолк, вспоминая умное словечко из школьной программы. – По па-ра-бо-ле, вот! Поднялся испуганный гвалт. Одни кричали, что надо бежать из деревни, другие молились, преподобный пытался всех успокоить, и никто не заметил, как человек с алым знаком возник на пороге, бережно, как младенца, прижимая к груди ребристый цилиндр. – Боженька ваш на небе, – объявил он перепуганным людям, – а я здесь, рядом, и в руках у меня отличная противопехотная мина американского производства с выдернутой чекой. Это значит, что у вас нет сейчас иного бога, кроме меня. Он заставил прихожан целовать ему ноги. Он велел всем – детям, женщинам и старикам, включая Шухта, – раздеться донага и отплясывать веселую польку. Он велел Шухту, который задыхался, тряся объемистым животом, выкрикивать богохульства. – Убирайся к дьяволу! – просипел преподобный, хватаясь за кафедру. – Кто не хочет положить жизнь за веру, – провозгласил человек с алым знаком, – тот возьми распятие да всади святому отцу туда, куда не заглядывает солнце! Тотчас большинство прихожан кинулись исполнять эту веселую задумку. Немногие встали у них на пути. Нагие, взмокшие, обезумевшие от ужаса, люди били и рвали друг друга ногтями и зубами, точно зверье. Их мучитель засмеялся и грохнул мину об пол. В замкнутом пространстве нефа взрыв прогремел с утроенной силой, вдребезги разнеся витражи и перемешав человеческую плоть с камнем и деревом. Многих опознать так и не удалось. Человек с алой печатью в клубах дыма вышел на улицу и отсалютовал рукой пораженным американцам, которые с оружием ждали его у церкви. В тот день они немедленно расступились, пропуская его, но с этого момента на человека с алым знаком велась охота, сколь упорная, столь и безнадежная. Уходя от докучливых преследователей, он всегда отмечался кровью. В Мюльхайме он жестоко изнасиловал уличную проститутку, отказавшуюся обслужить его задарма, и облил ей лицо кислотой. В Дюссельдорфе застрелил двух полицейских. В одном из старинных кварталов Мюнхена устроил пожар, унесший полдюжины жизней. А потом он пересек восточную границу.* * *
– Я был к вам несправедлив, – молвил Вернер. Он стоял у окна гостиной, судорожно вцепившись в рукоять секача. – Это снова та дрянь, что следует за мной по пятам. Знаете, кровавые дожди, таинственные существа… Видно, знак их мой притягивает. – Он развернулся и хватил секачом по столику. – Bloody hell![24] Я был совершенно уверен, что вы привели слежку. – Не нужно мне ваших извинений, – сказал я, держась за разбитую челюсть. Во рту до сих пор стоял железный привкус. – Будьте вы прокляты. – Я уже проклят, как видите, – спокойно отозвался он.Огонь трещал в очаге, дождь барабанил в окно, размывая застывшие за ним безмолвные силуэты. К тому времени как Вернер помог мне спуститься в гостиную и усадил в кресло, число их удвоилось. – Во всяком случае, мне они не грозят, – проговорил он, но впервые в его голосе прозвучало сомнение. – А вот вам я не посоветовал бы сейчас выходить во двор. Как бы ни был я вам неприятен, придется потерпеть мое общество до утра. – Неприятен? – сказал я. – Вы самая паскудная тварь из всех, что я видел, а я видел немало, и обещаю: вы за все ответите. А теперь можете докончить начатое. – На чем мы остановились? – проговорил он, будто не слышал. – На докторе Дитрих, точно. Хотя началось все задолго до нее…
3. Рассказ Вернера
– Вот что я помню лучше всего: я, трехлетний карапуз, стою, ковыряю пальцем в носу и гляжу, как мой папаша на веревке ногами сучит, а меж них на штанах пятно расползается, а мамаша воет и волосы на себе рвет. Он скотина был, мой папаша, но, что еще хуже, он жил в штате Массачусетс, том самом богоспасенном штате Массачусетс, где в семнадцатом веке процветала охота на ведьм, а в Первую мировую начали охотиться на этнических немцев. Разве только ведьм, во всяком случае, худо-бедно судили. И что самое поучительное: с этими, которые вздернули отца на буковой ветке, хорошенько перед тем отметелив ногами и дубинками, он месяцем раньше сидел в обнимку у нас на крыльце, хлеща «Будвайзер» и горланя The Star-Spangled Banner[25]. Пальцы Вернера сжались, переламывая сигару. – Что потом? Учеба, учеба, учеба. Матушка, мир ее праху, считала, что я обязан поставить мир на колени. Интересно, была бы она сейчас довольна? Никаких друзей (не больно-то и хотелось), никаких девчонок (а вот это уже скверно). Стипендия университета Мискатоник в Аркхеме. Вам, русским, конечно, ни о чем не говорят эти названия! Тут он пустился в пространные рассуждения о зловещей славе Аркхема как оплота зла и чернокнижия, о запретных фолиантах в библиотеке Мискатоникского университета, куда он имел доступ, – De Vermis Mysteriis, «Книге Эйбона», уцелевшей в виде разрозненных отрывков, и печально известном «Некрономиконе», сочинении чокнутого араба по имени Альхазред. Я не слушал. Под сводами черепа клубился мрак, в котором растворялись мысли, чувства, воспоминания Соколова. В этом мраке таилось нечто черное, древнее. Оно знало гораздо больше, чем способен был поведать Вернер, чем вообще способен знать человек, и посмеивалось, ожидая возможности выйти на свет… – …Отучился несколько лет, если называть пьянство и блуд учебой, пока не выперли… У меня вдруг прорезался голос: – За попытку выкрасть «Некрономикон»? – Нет, – ответил Вернер, – за пьянство и блуд. На что веселому студенту «Некрономикон»? Я похитил лишь честь Ребекки Энсли, единственной дочки декана Энсли, столпа морали, поборника сухого закона, главы местного Общества трезвости… Представляете масштаб катастрофы? Удивительно, как эдакий сухарь вырастил такую душечку: не красавицу, но бойкую и любознательную, чем я и воспользовался. Когда растущий животик выдал бедную Бекку с головой, я честно предложил себя Энсли в зятья, углядев шанс войти в высшее общество. «Раз вы так благородны, – изрек старый ханжа, – содержите ее сами». Я не был так благороден. Эта пиявочка цеплялась за мои ноги, умоляла не бросать, но я был непоколебим. Жалкое существо! Бледная, зареванная, под носом сопля… – Что же с ней стало? – спросил я. – Сиганула с моста в реку Мискатоник. Куда ей было податься? – Что вы тогда почувствовали? – Ответ на этот вопрос занимал меня больше, чем печать на челе Вернера. – Что пора попытать удачу на исторической родине, – буркнул тот. – У Энсли наверняка имелись обширные связи, а насколько янки обидчивы, я усвоил на отцовском примере. – И вам совсем не было ее жаль? – С чего мне ее жалеть? – окрысился Вернер. – Для людей ее круга нищий немчик вроде меня был букашкой. И уж точно не моя вина, что доктору Энсли сословная спесь оказалась дороже дочки. А букашкой я быть не хотел, – добавил он уже спокойнее. – Как и миллионы моих соплеменников. Во что это вылилось, вам ли не знать? Впрочем, тут мне виниться не за что. Отчизна приняла меня неласково. Он задрал рукав, и я увидел номер, набитый на его волосатом запястье. – Увлечение Гитлера оккультизмом было хорошо известно, и я рассчитывал сделать карьеру на репутации своей alma mater. Только оказалось, что птенцам Мискатоника в Рейхе скручивают шею – уж больно кощунственных идей мы могли нахвататься. В «Некрономиконе», к примеру, на более чем девятистах страницах убедительно доказывается, что высшая раса – отнюдь не немцы. Мне еще повезло, всевозможных культистов уничтожали на месте. В аду, однако, вполне можно сносно устроиться. Я стал капо, надсмотрщиком. У меня было курево, у меня были женщины, питался я едва ли не лучше, чем в студенчестве, а уж с совестью всегда легче договориться, чем с людьми. В глазах других узников я был крысой, но это их на куски рвали овчарки, это они черным дымом валили из труб крематория, а плетка была в моих руках. Что постыдного в работе пастуха? Так я жил несколько лет, а потом мне стала являться во снах Ребекка Энсли, вышедшая из реки, ужасная в своей бледной наготе; смотрела мутными глазами сквозь облепленные тиной волосы, тянула обвиняющую руку, а изо рта вместо слов хлестала вода. Я бросался прочь, в любой момент ожидая, что холодные мокрые пальцы схватят меня за шею, и вдруг оказывался в огромном усыпанном костями подземелье, посреди которого высился бесформенный, заляпанный кровью алтарь. И за этим алтарем стояла угольно-черная фигура, сотворяющая перстом в воздухе некий огненный символ, тот, что вы видите сейчас на моем лице. Что странно, наяву никаких угрызений совести из-за Бекки я по-прежнему не испытывал. Но соседей своими воплями донял изрядно, и лагерное начальство отправило меня к доктору Еве Дитрих, дабы она немножко вправила мне мозги.* * *
В Аушвице хватало извергов в белых халатах, но в мозгах шарила только Ева, причем буквально. Ее исследования человеческого разума привлекли внимание самого Гиммлера, предоставившего Дитрих полную свободу действий, а это дорогого стоит, учитывая, что женщины в лагерях по большому счету ассистировали врачам-мужчинам. Я – один из немногих узников, попавших к Аушвицкой ведьме не как «человеческий материал», а как пациент, и единственный, в чьей черепушке она не покопалась своими умелыми пальчиками. Хотя она умела делать ими еще очень многое… В свои тридцать шесть Ева была недурна собой, но эсэсовцы боялись ее, даром что сами вытворяли и не такое, причем отнюдь не из научного интереса. Умная женщина со скальпелем всегда кажется опаснее просто умной женщины. Доктор Дитрих расспрашивала меня о детстве, о годах учебы, проявляя особый интерес к запретным книгам, из-за которых я и очутился в этом аду. Попросила нарисовать знак из снов, хоть приблизительно. При виде моих каракулей лицо у нее стало как у девочки, которой отец подарил лошадку. Затем она велела мне раздеться и приступила к осмотру. Пока она меня щупала да простукивала, задерживая руку в местах, какие к мозгам имеют слабое отношение, я поинтересовался, не боится ли она спрашивать про запретные книги, раз я загремел сюдалишь за то, что у меня была возможность читать их. Она сказала мне то же, что и вы: «Времена изменились». Я сразу смекнул, что она томится одиночеством, – по блеску в глазах, по тому, как участилось ее дыхание, как она раскраснелась, касаясь меня. Благо я был арийцем, в отличие от своего стада, хорошо питался и был недурно сложен. Сильную женщину берут нахрапом, и я сказал: – К черту, все останется между нами. Сгреб в охапку и рот заткнул поцелуем. Она замычала, цапнула рукой скальпель и, кабы я сдал назад, точно всадила бы его мне в глаз и позвала охрану. Но я не сдал, и скальпель зазвенел по полу… Той ночью я не видел снов, а наутро меня снова отвели к доктору Дитрих. Конвоир был на удивление обходителен, хоть и посмеивался гаденько: смекнул, скотина, что к чему. У Евы под глазами темнели круги, волосы висели спутанными прядями. Увидев заваленный книгами стол, я понял, что она корпела над ними всю ночь. – Черный Человек, – сказала она, – это воплощенное чувство вины, терзающее натуры с богатым воображением. Видел его отягченный долгами Моцарт; Чайковский, стыдившийся своих склонностей, на смертном одре утверждал, что к нему в окна заглядывает какой-то «черный офицер»; русский поэт Есенин, дебошир и пьяница, посвятил ему поэму. Я возразил, что натура у меня ни разу не поэтическая и что по жизни я иду не оглядываясь. Она ответила, что все, соприкоснувшиеся с запретными книгами в Мискатонике, неизбежно привлекали внимание связанных с ними сил. В этих книгах Черный Человек описан как Ньярлатхотеп, тысячеликий посланец Иных Богов, воплощение Хаоса, который явится в мир, охваченный чувством неизбывной вины, чтобы стереть его в пыль. Алый символ – это печать его повелителя, Султана демонов Азатота, что дремлет в ядре Вселенной, убаюканный звуками демонических флейт. В «Некрономиконе» Альхазред уверял, что печать эта дарует своему носителю защиту от всякой угрозы, живой или неживой, но ни один земной правитель не осмелится прибегнуть к этой защите, ибо тайна ее сокрыта где-то в песках Аравийской пустыни, охраняемая сонмами адских созданий. – Но зачем Черному Человеку показывать ее мне? – удивился я. – Я думаю, он хочет, чтобы ты подарил ее немцам, – ответила Ева. – То, что мы делаем, – она обвела рукой ряды хирургических столов с разложенными на них жуткими инструментами, – угодно ему. Разве это не Хаос? Возможно, тебе суждено стать спасителем своего народа, Алан Вернер. НАМ суждено, – добавила она с уже знакомым мне бесстыдным блеском в глазах и привлекла меня к себе. Оказывается, пока я тут куковал, дела стали совсем плохи. Только дураки да фанатики не понимали, что без чуда Тысячелетний Рейх кончится как-то уж слишком быстро. Чуда искали везде, не чураясь уже и запретных книг, потому как ни Святой Грааль, ни Ковчег Завета, ни Шамбала ничем не могли помочь. Я решил, что лучше буду патриотом, чем идиотом, и помогу родине выгрести из дерьма, куда ее загнал бесноватый фюрер. В сравнении с ним безумный араб казался воплощением здравомыслия. Из надсмотрщика меня повысили до помощника (и любовника) лагерного врача. На мне лежала обязанность вскрывать черепа, причем пациенты, увы, были не только живы, но и в сознании, и лишь деревяшка у них в зубах защищала наши уши от их страдальческих криков. Отложив пилу, я снимал крышку черепа, и Ева бралась за скальпель. Лезвие сверкало в ее руках, иссекая дрожащую губчатую оболочку чужих мечтаний, надежд, снов. Не важно, кто перед ней лежал – мужчина, женщина или ребенок, – лицо Евы неизменно оставалось бесстрастным, а взгляд проникал в сокровенные глубины, подмечая каждое содрогание. Когда жизнь окончательно покидала подопытных, наступало наше время. Иногда я брал Еву на свободном столе, среди остывающих тел наших жертв, которые равнодушно таращили глаза в потолок: занимайтесь, мол, чем хотите, нам на вас и смотреть тошно! Чаще она ублажала меня ртом или ласкала рукой в скользкой от крови и слизи перчатке, пока я не изливался на пол, и без того чем только не заляпанный… Вы простите мне мою откровенность? Я был бы вполне счастлив, кабы не проклятая Азатотова печать. Ева талдычила о ней даже во время страсти, кроме как когда я был у нее во рту. Существ, описанных в запретных книгах, говорила она, нельзя подчинить: они неизменно будут преследовать свой интерес, и победа, одержанная с их помощью, обернется кошмаром. Но Азатотова печать – лишь оберег, который защитит любого, отмеченного им. Вообрази, говорила она, что будет, если самый никчемный солдат избавится от страха смерти! Вообрази хотя бы сотню таких солдат! Меня смущали «адские полчища», упомянутые Альхазредом; Ева уверяла, что за прошедшее тысячелетие эти создания, кем бы они ни были, наверняка вымерли. Я заметил, что враги тоже не дураки и рано или поздно воссоздадут печать; пусть, улыбнулась Ева, что плохого в том, что люди прекратят убивать друг друга? – Кого же ты тогда будешь резать? – спросил я, представив этот дивный новый мир, и она ответила со смехом: – Вернусь к обезьянам! Она в душе была почище вас коммунистка, моя Ева, верите или нет. Гиммлер затею воспринял без особого воодушевления. Египет мы потеряли, снарядить полноценную экспедицию было невозможно. Он благословил Еву действовать на свое усмотрение, чем она и занялась.* * *
…В апреле 1944-го Ева Дитрих, словно ангел, вывела меня из ада. Собственная одежда сидела на мне криво, будто с чужого плеча; я готов был вбирать щебет птиц, звон ручьев, аромат сырой земли, упасть на эту землю, полную зарождающейся жизни, и целовать ее только за то, что она за колючей проволокой… – Ребекка Энсли тоже была полна зарождающейся жизни, – заметил я, – но с ней вы не были так сентиментальны. – Что вам Ребекка, что вы Ребекке? – сказал Вернер. – Я душу изливаю, а вы зубоскалите. Хам. …Свобода продлилась недолго: вскоре мы добровольно замуровались в пыльном спецхране Национальной библиотеки Парижа вместе с чудом уцелевшим латинским переводом «Некрономикона». Знатоков, что могли бы направлять нас, в Европе не осталось; кто не сбежал – сгинули, так что на сбор сведений об Азатотовой печати ушло все лето и, надо полагать, галлоны кофе, а на близость не осталось и минутки. Старина Альхазред не стремился облегчить задачу своему читателю: чем больший трепет вызывало в нем явление (а печать им почиталась за едва ли не самую кощунственную вещь в мире), тем туманнее он изъяснялся, перемежая текст возгласами «Йа! Йа!», будто взбесившийся ишак, так что лишь нечеловеческая усидчивость Евы помогала нам продираться сквозь бесконечные восславления древних богов и чисто арабское словоблудие. Засыпали мы в обнимку не друг с дружкой, а с этим мерзостным томом, прикорнув головой на очередном описании запредельных ужасов, пока город уплывал из рук Гитлера. Последние выписки мы делали под грохот канонады и франко-немецкую брань.* * *
…Не стану рассказывать, как мы добрались до Африканского континента и прибыли в Хургаду под именем Джейн и Эдгара Уоллес, археологов из Массачусетса. Ева, всю жизнь прожившая в Германии, английским владела лучше меня, так что я больше помалкивал, а все же нам недурно удалось отыграть ученую супружескую пару. Моя ведьма славно смотрелась в мужской рубахе и штанах, облегавших ее ладный задок, – но это так, к слову. На восточном базаре, где пустыня вплотную подступала к городским окраинам, мы приобрели пару верблюдов. Проводников брать не стали: не то дело, да и не согласился бы никто. Среди феллахов посейчас ходят жуткие байки об этих песках. Холодными вечерами в пустыне мы занимались любовью у потрескивающего костра, а после беседовали о всяком-разном, и, скажу вам, то были лучшие мгновения в моей паршивой жизни. Как и я, Ева потеряла отца – лягушатники уложили его под Альбером. Она говорила об этом с такой горечью, что я понял: ее слова о мире, в котором люди не убивают друг друга, – отнюдь не лукавство. Как многие чудовища в человеческом обличье (я не стану отрицать, что ее иначе не назовешь), Ева была сентиментальна. На руках у нее остались две сестрички, о которых приходилось заботиться, и послушали б вы, как она рассказывала о их проказах! Эти девчонки заочно стали мне как родные. А ведь их старшая сестрица пластала детей другой расы скальпелем, будто лягушек. Когда Ева засыпала, я любовался ее мирным лицом, слушал, как она мило сопит во сне, и думал, отчего же мы все так чудно́ устроены. А потом закрывал глаза, и виделся мне Черный Человек: он стоял посреди пустыни, устремив горящий взор к звездам, и два огромных льва ластились к нему. Солнце огненным шаром поднималось из-за дюн, и мы, наскоро подкрепившись, трогались в путь, таща на поводу навьюченных верблюдов. Проклятые зверюги, словно что-то предчувствуя, постоянно артачились – один чуть было не откусил мне пару пальцев. Все дальше углублялись мы в выжженное сердце этой безликой земли, утопая ногами в песке, и со временем мне начало казаться, что наше путешествие никогда не закончится.Вскоре пустыня стала радовать нас миражами. Из желтого марева всплывали силуэты древних городов, устремляя в небо башенки, увитые цветами и зеленью; заснеженные хребты вырастали вдруг из песков, и что-то черное, бесформенное, многоглазое бурлило на их отрогах; раскидывались каменистые пустоши, усеянные костями, под которыми перекатывались тулова чудовищных червей… Не те ли же картины открывались воспаленному взору безумца араба, в одиночку скитавшегося по этим пескам? Или наша фантазия сама рисовала их, разгоряченная его откровениями и зноем? Стоило нам, преодолев трепет, двинуться дальше, как образы таяли в дрожащей дымке, но сколь никчемной, сколь сиюминутной казалась наша цель после этих соприкосновений с вечностью! Пустыня дремала под саваном песков, нашептывавших нам дивные тайны, а в далекой Германии вьюга заметала пылающие руины, и в глухом своем бункере дрожал смешной человечек, уже не надеявшийся на нас. Потом… стало хуже. Куда как хуже. Припасы подходили к концу, приходилось обходиться несколькими глотками воды в день. Солнце дубило кожу, белый зной опалял глаза, выжигая разум, а когда сменялся ночной стынью, у нас уже не оставалось сил, и мы ложились вместе только чтобы согреться. – К черту все, – сказала Ева в последнюю нашу ночь. – Только ты да я. Под защитой печати в этом жестоком мире. Я предложил печать отправить туда же и вернуться назад, но она ответила: – С моим прошлым нас не оставят в покое. Не добудем защиты – убью тебя, а потом себя. Я сказал, что ей, видать, голову напекло. За это Ева расписала мне физиономию коготками. А потом, вот было чудо почище всех миражей, разрыдалась: – Два месяца! Два месяца у меня не было этих дней! Понимаешь, что это значит, ты, недоучка?! Нам нужна печать! Нам троим! Тут-то я и смекнул… Она уснула в моих объятиях, а я долго лежал в темноте, улыбаясь, как идиот. Все думал: если мальчишка родится, назову Фридрихом, в честь папаши, а девочка будет пускай Ребекка. Как-никак, если б не скандал с дочуркой старика Энсли, не уехал бы я в Германию и с Евой бы мы не встретились.
* * *
…Разбудил нас жалобный рев верблюдов, быстро, впрочем, оборвавшийся. Затем раздались визгливый хохот и вой, словно рядом пировала стая гиен. Стенка палатки затрещала и разошлась лоскутьями, в прорезях мелькнуло что-то белое, повеяло колодезной затхлостью. Ева схватила револьвер. Грохот выстрелов едва не оглушил меня. Пули рвали брезент в клочья, отчаянный визг вонзился в уши. Перезарядив револьвер, Ева кинулась наружу, я – за ней, прихватив свой. Знаю, глупость: ну как их было бы там с десяток? Но оказалось всего двое – один лежал пластом, второй рысью улепетывал на двух ногах, а потом припустил на всех четырех. Пуля Евы угодила ему в бок, и он упал на четвереньки. Я поймал на мушку бугристый затылок твари, но Ева ударила меня по руке, и пуля лишь взметнула фонтанчик песка. Существо заковыляло прочь, оставляя кровавый след, и скрылось за гребнем дюны. – Теперь мы без труда выследим его, – сказала Ева, опустив дымящийся ствол. Я окинул взглядом бойню и подумал: нет, спасибо. Верблюды лежали двумя горами искромсанного мяса и шерсти, песок вокруг сбился кровавыми комьями, и посреди всего этого простерлось подстреленное чудовище, разметав огромные руки. Видели б вы эту погань! Вообразите гориллу-альбиноса: сплошь клыки да когти, с безволосой чешуйчатой шкурой, покрытой слизью, и мордой, смахивающей больше на череп. У меня от одного вида ужин попросился на выход, зато Ева плясала от счастья, натурально плясала, выкрикивая: – Страж печати! Нашли, нашли! – Ты говорила, что они вымерли! Ты говорила! – Я чуть не плакал. – Не мертво то, что в вечности пребудет… – прошептала она с придыханием. Холодный ночной ветер развевал ее волосы, в глазах горел фанатичный огонь. Сейчас она действительно походила на ведьму. – Так писал Альхазред. – Плевать мне на Альхазреда, мы сдохнем здесь! – В истерике я схватил ее за плечи и затряс, как куклу. – Как нам выбраться без верблюдов, без еды и воды?! Твари не убьют – так доконает солнце! Будь ты проклята, одержимая сука, со своими арабскими сказками! Мушка револьвера вонзилась мне в подбородок. – Ты назвал меня сукой, – тихо сказала Ева. Я бросил свой револьвер и поднял руки над головой: – Ева, прости, я… – Трус! – выплюнула она. – Я отыщу их логово, найду печать, и ни жара, ни холод, ни жажда, ни бог и ни дьявол, ничто на земле и в небесах не будет мне страшно. А ты… ты забирай все, что осталось, и вали на все четыре стороны, ясно? Кивнуть я не мог, но что-то промычал. – Я возьму револьвер. – Она невесело улыбнулась. – Не хочу поймать спиной пулю. – Они разорвут тебя, – произнес я, и в тот момент мне этого хотелось. – У тебя еще нет печати. – Зато патронов хватит! – отрезала она. – Уж на тебя-то точно. Твой патронташ, пожалуйста. – А если они вернутся? Ее палец на спусковом крючке напрягся, и я как миленький расстегнул ремень. Она велела мне отойти на сто шагов, подобрала мой револьвер и перепоясалась моим патронташем. Мне пришлось еще принести из палатки фонарь. – Увяжешься за мной – получишь пулю, – предупредила Ева. Вот так она бросила меня, безоружного, посреди пустыни и ушла по кровавому следу. Я провожал ее взглядом, пока эта ненормальная не пропала за песчаной грядой. В любой момент я ожидал услышать ее крик и гиений смех тварей, но лишь сухой посвист ветра нарушал тишину. Я вернулся в палатку, но уснуть не мог. Не от страха, нет. Странное дело, об отчаянном своем положении я не думал – только о Еве, уходящей вслед за раненым зверем. А в башке вертелось: Фридрих или Ребекка? Ребекка или Фридрих? Она была сукой, действительно жестокой сукой, напрочь безумной, но, кроме бешеной этой суки, что было у меня в мире?* * *
Светало. Тучи звенящих мух роились над останками верблюдов, избегая, однако, омерзительного трупа, хотя он источал тяжелый смрад. Как только солнечные лучи коснулись студенистой плоти, она вся запузырилась, точно убегающее с плиты молоко, и в считаные мгновения стекла с костей, расползшись зловонной лужей; но и кости плавились на солнце, как свечки. Черная кровь другого чудовища закурилась, тонкие струйки дыма тянулись до самого горизонта. Я взял второй фонарь и пошел по ним, пошел за Евой, впервые позабыв о собственной шкуре. Шел, выворачивая ноги из песка, песок скрипел на зубах и лип к залитой потом коже. Проклятая тварь, даром что истекала кровью, добралась-таки до своего логова, и, к тому времени как его нашел я, воздух раскалился настолько, что каждый вдох обжигал легкие. Это была просто груда валунов – с поправкой на то, что таким каменюкам неоткуда взяться средь песчаного моря, разве только их туда натаскали. Но какой силой должны были обладать сложившие их существа – и сколько могло их там оказаться? У подножия каменной груды зияла расщелина достаточных размеров, чтобы можно было войти пригнувшись. Налетевший ветер взметнул тучу песка. Отступив под укрытие валунов, я заглянул в черную глубину и увидел каменные ступени, витками спускавшиеся во мрак. Там, куда еще проникал солнечный свет, темнела и другая кровь, немного, но мне хватило. Рядом с разбитым фонарем сиротливо лежали сорванные патронташи вместе с обоими револьверами.* * *
Я хотел кинуться вниз, выкрикивая ее имя. Хотел броситься назад, в пустыню, под спасительное солнце – в сравнении с тем, что ждало в благостно-прохладной тьме, смерть в опаляющем свете стала бы спасением. Но я не мог разорваться и потому просто стоял на месте, глядя на проклятые эти ступени. Они будто дразнили меня: осмелишься или нет? Фридрих или Ребекка? Я очертил фонарем проход, проверяя, не поджидают ли меня на лестнице. Потом схватил патронташ с обоими револьверами и накинул на себя. Барабаны были полны – она не успела сделать ни единого выстрела. Спуск напоминал ночной кошмар – да он и был ночным кошмаром, воплотившимся в реальность, только без утопленницы за спиной. Лестница вилась и вилась, луч фонаря выхватывал фрагменты стен, испещренных самыми гротескными рисунками. Грубые, но выразительные изображения божеств, знакомых мне по «Некрономикону», чередовались с живописаниями мерзостных оргий и ритуалов. Существа, оставившие их, без сомнения, были разумны. Ужас навалился на меня всей тяжестью земной толщи над головой. Черт бы побрал Еву с ее печатью! Наверх, на свет! Но я продолжал спускаться, отмечая изменения в рисунках. Чем ниже, тем они становились древнее и в то же время искуснее: история подземного племени отматывалась назад, безобразные белые фигуры обретали все более явственные человеческие черты. Последние картины, которые я увидел, прежде чем под ногами захрустели кости, поражали мастерством и величественной красотой. Таким образом пик былого величия этой загадочной расы мирно соседствовал с бездной деградации, в которую она погрузилась ныне. Здесь, внизу, костей хватало – обглоданные кости людей и животных вперемешку с останками самих страшилищ, убитых и съеденных, надо думать, более сильными и жестокими соплеменниками. То был тот самый зал, что я видел в кошмарах, смрадная полость в теле земли, окружающая бесформенный кровавый алтарь. А у подножия алтаря, подпирая его спиной, сидела Ева, жалкая, дрожащая, судорожно всхлипывала, обнимая себя руками. С револьвером наголо я одним прыжком вымахнул на середину зала, высоко подняв фонарь; треск костей под ногами прозвучал громче пистолетного выстрела. Свет озарил стены с множеством проходов, уводивших во тьму, между которыми висели дюжины мертвых тел. От большинства остались одни скелеты, мумифицированная плоть других сохраняла следы неописуемых изуверств. Рты у всех были распялены в бесконечном, беззвучном крике страдания. – Ты пришел, – пробормотала Ева. – А ведь я тебе запретила идти за мной… – Пойдем, – сказал я, присев рядом с нею на корточки. – Можешь встать? – Нет, – безразлично отозвалась она. – Да если бы и могла. Я не нашла печать. А все равно они нас не выпустят. Мы мертвецы, Алан. – Пусть только попробуют! – Я сунул ей в руку один из револьверов. – Вставай. – Не могу. Мои ноги. Схватив фонарь, я направил луч на ее ноги, и у меня оборвалось сердце. Чьи-то зубы – я знал чьи! – разорвали ее изящные щиколотки до костей. – Я это заслужила, Алан, – бормотала Ева, – оба мы заслужили… – Перестань молоть вздор! – Я лихорадочно огляделся, но тьма в зияющих проемах оставалась незыблемой. – Обними меня за шею, я понесу тебя. Именно в этот момент фонарь замигал и погас. Безрадостный смех Евы в кромешной темноте слился с другим – визгливым, ликующим – у меня за спиной.* * *
Я развернулся, взметнув револьвер. Вспышка выстрела явила мне клыкастую образину с черными провалами глазниц, мерцающих жуткими огоньками. От дикого воя заложило уши, острые когти располосовали на груди рубаху. Второй пулей я снес твари полморды, но из всех туннелей уже спешили на помощь другие, и зал наполнился визгом, воем и хохотом. Пока я отчаянно палил по оскаленным белым мордам, Ева дрожащей рукой уперла ствол себе в нижнюю челюсть и нажала на спуск. Но одно из чудовищ рвануло ее за руку – даже сквозь визг монстров и грохот пальбы я услышал треск кости, будто переломили пополам ветку, – и Ева лишь раздробила себе выстрелом подбородок. Отчаянный, захлебывающийся вопль ее был до того страшен, что я уронил револьвер и зажал уши ладонями… Они возложили ее на запятнанный бурым алтарь, сорвав всю одежду, как она сама укладывала своих жертв на хирургический стол. Как они глумились! Мне нелегко говорить об этом, а я, вы знаете, сантиментами не обременен. У них были факелы, у этих поганых тварей, и они зажгли их единственно для того, чтобы я мог видеть все, что они с ней вытворяют, – ведь сами они прекрасно видели в темноте. Всякий раз, как она переставала выть, в ее изувеченный рот вливали содержимое костяной чаши, приводившее ее в чувство. Я видел, как они терзали ей руки и ноги зубами, срывая мясо и мышцы с костей… как содрали лицо и самый крупный из монстров, очевидно вожак, примерил его вместо маски… Затем он когтями вспорол ей чрево, вырвал дрожащий сгусток, так и не ставший Фридрихом или Ребеккой, и пожрал на наших глазах, а она выла, выла… Я молился, чтобы она наконец испустила дух, молился Богу, которого нет: он не допустил бы существования подобной мерзости! Наконец ее крики стихли, и я возрадовался, хоть и понимал, что теперь мой черед. Но потом услышал лязг цепей и в пляшущем свете факелов увидел, как колотятся на стенах человечьи останки, разевая провалы ртов в беззвучной мольбе о смерти. Внизу, под ногами чудовищ, клацали изгрызенные кости, а среди моря оскаленных морд мой взгляд уловил ту самую, развороченную моей пулей, но живую и скалящуюся – и озарение едва не лишило меня остатков рассудка. Здесь, в этом адском подземелье, существовавшем будто вне времени и пространства, царила вечность, и что бы ни пребывало в ней, оно не могло умереть. Ева присоединилась к немому хору мертвецов, когда ее почти лишенный плоти остов распяли на стене. Настал мой черед лечь на кровавый алтарь. Я орал, брыкался, кусал осклизлые лапы. В тот момент, думаю, я и поседел… Надо мной нависло искаженное, измятое лицо Евы: сквозь пустые глазницы горели глаза подземного вожака, клыки скалились за кровавой дырою рта, который я так часто целовал, в который погружал свою плоть. Бритвенно-острый коготь вспорол мне лоб до самого черепа, огненные сполохи замелькали перед глазами, но, прежде чем отрубиться, я углядел высокую фигуру за спинами беснующейся орды. Черный Человек улыбался мне. Я канул в пустоту, в бескрайнюю космическую тьму. Черный крылатый демон с горящими глазами сжимал меня в объятиях. Со свистом проносились кометы, волоча за собой огненные хвосты, галактики закручивались в спирали, звезды рождались и гибли в ослепительных вспышках, а пространство и время то сжимались, то растягивались в бесконечности.
* * *
Очнулся я, как бывает в восточных сказках, в совсем другом месте, на берегу звенящего ручья, посреди голого дубняка, тянувшегося к небу черными корявыми лапами. Откуда-то издалека доносился рокот канонады. Неужели я снова в Германии? Лежа в талом снегу, я смотрел на солнце и, будто сквозь защитное стекло, видел на нем дрожащие черные пятна и огненную корону. Оно не жгло мне глаза, понимаете? Журчание воды затуманивало рассудок, истомленный жаждой и пережитым ужасом. Я по-пластунски подполз к ручью и в зеркальной глади увидел свое отражение: поседевшего до времени незнакомца с воспаленным взором и кровавым знаком во лбу…4. Тень за окном
– Вот и вся история, от начала и до конца, – сказал человек с алым знаком. – Хотите верьте, хотите нет, а это было на самом деле. Он взял бутылку и плеснул в бокал очередную порцию шнапса. Огонь в камине уже догорал, рдеющие угли изредка постреливали трескучими искрами. В умирающем свете глаза Вернера влажно блестели, мерцал огонек сигары. Я мрачно подумал, что человек, которого не берут снаряды, может не беспокоиться о вреде курения. Наверху, где стояла кровать с прикрученным к ней нагим обезглавленным телом, кровь проникла сквозь перекрытия – багряное пятно расцвело на потолке и продолжало расти, поглощая его девственную белизну. Дождь хлестал с прежней силой, но уже не погромыхивало – гроза уходила на запад. – История, м-м, довольно интересная… – протянул я наконец. – Предположим, я даже поверю вам. – Мне плевать, поверите или нет! – отрезал Вернер. – Я оставил вас в живых ровно по одной причине: чтобы вы передали своему командованию – пусть меня оставят в покое. – А вы продолжите в том же духе? – спросил я, ткнув пальцем в кровавое пятно на потолке. – Что еще мне остается? – Вернер швырнул бокал в камин, угли зашипели, на мгновение вспыхнув ярче. – Столько попыток меня арестовать, столько напрасных жертв, а вы всё не можете взять в толк, что я вам не по зубам. Я устал, ужасно устал от постоянной слежки, от попыток свести меня с ума, а ведь я и так уже на грани. Стоит мне устроиться где-нибудь на ночлег, начинается звуковая атака: вы кричите, палите из орудий, врубаете громкую музыку, а когда я выхожу – разбегаетесь, как зайцы. Обещаю: за эти ваши штучки будут и дальше расплачиваться невинные граждане. Я хочу спокойно жить, разве это так много? – Лишая жизни других? Грабя и насилуя? Человечество никогда не смирится с вашим существованием, Вернер. Он помолчал, а потом заговорил лихорадочно: – Власть над законами мироздания пьянит. Хочется ежеминутно испытывать ее, щегольнуть перед остальными, брать то, что было недоступно раньше, делать то, что не дозволялось. Когда всю жизнь о тебя вытирали ноги, как не ответить той же монетой? А потом… потом наваливается тоска: ты уже понял, что ты царь и бог, а они всё не признают этого, всё пытаются тебе докучать, всё ищут слабое место в броне, чтобы уязвить, заставить быть такими же, как они, уязвимыми, как они, покоряться их правилам и жить в страхе перед законами, которые им самим ненавистны. К пресыщению добавляется ярость, и хочется гвоздить, гвоздить, гвоздить их чем-нибудь по овечьим башкам, и брать с них все больше и больше, раз они не хотят оставить тебя в покое! Но чем больше берешь, чем выше возносишься над их стадом, тем сильнее их жажда уложить тебя связанным на столе и покопаться в твоих мозгах. Они душат тебя своим неусыпным надзором, своей бесконечной слежкой, они боятся и ненавидят тебя не столько за то, что ты с ними делаешь, сколько за то, что сами хотели бы делать то же с другими, о, как они хотели бы! Ударить – и не получить в ответ! Брать – ничего не отдавая взамен! К чему добиваться женщины, которая даже не посмотрела бы на тебя, если можно безнаказанно взять ее силой? Чего стоят ее желания, если на твои желания ей плевать? Зачем жалеть ее, если она, дай ей волю, испластает тебя ножиком, как лягушку, оставаясь притом милой и сострадательной? Это не фантазии мизантропа – это мой отец, вздернутый на буковом дереве своими дружками, это я, Алан Вернер, это вся новейшая история. Давайте свалим все дерьмо на этих заносчивых немцев – кстати, смотрите, у нас есть бомба, япошки были в восторге! Только наш брат Каин не брат нам, что вы: он убийца, насильник и мародер, отребье, которому мы почему-то не можем указать его место, но мы не оставим его в покое, дорогой сэр, пока не найдем способ, не извольте беспокоиться! – Никак вы оправдываетесь? – заметил я. Он нахмурился: – С чего вы взяли? – Каждое ваше слово пронизано чувством вины. Что вы пытаетесь доказать: что «эти» не лучше вас или что вы не хуже их? – Вы слишком высокого мнения о себе, Соколов. – Язык у Вернера уже порядком заплетался. – Кто вы такой, чтобы я перед вами оправдывался? – А кроме того, вам страшно, – добавил я. – Вы неглупы, видали всякое и понимаете, что ничего в жизни не дается задаром. Те существа в подземелье разумны – вы догадались об этом по настенной живописи. Спрашивается: с какой милости они даровали вам оберег, которым сами не пользуются? Почему они не защитили себя от солнечного света и ваших пуль? Чего они боятся? Вы тоже боитесь, ответ-то напрашивается. Лицо Вернера побледнело, отчего знак на лбу сделался еще ярче. Ладонь его легла на рукоять секача. – Предположим, только предположим, что Азатотова печать – не оберег, а клеймо собственника, – продолжал я как ни в чем не бывало. – Предположим, она знаменует, что никто и ничто во Вселенной не посягнет на ее носителя, ибо тот безраздельно принадлежит владельцу печати, а Он рано или поздно заявит свои права. Предположим, что все ваши бесчинства, Вернер, – это пир во время чумы, попытка побольше урвать от жизни перед неотвратимым концом, и, что всего хуже, вам неведомо, каков он будет и когда настанет… Сколько раз вы думали о самоубийстве, Вернер? Сколько раз ступали на минное поле, сколько раз приставляли к виску пистолетный ствол и с ужасом убеждались, что для себя столь же неприкосновенны, как и для других? – Вы не тот, за кого себя выдаете! – взревел Вернер. – Уж точно не советский офицер! – Ну почему же? – усмехнулся я. – Я всегда прихватываю с очередной своей оболочкой ее разум, чувства и воспоминания. Можно сказать, Соколов живет во мне так же, как я живу в нем. Это часть игры, Вернер, а я очень люблю играть… Но теперь игра окончена. Он шагнул ко мне, занеся секач над головой, но мне настоящему Алан Вернер со своим сверкающим секачом был не страшнее, чем трое незадачливых его подражателей, что остались лежать на Паркштрассе – разорванные, выпотрошенные, освежеванные. – Да кто ты такой, мать твою?! – выкрикнул Вернер. – У меня никогда не было матери, – ответил я, глядя в окно, за которым выросла размытая тень. Вернер обернулся на звон выбитого стекла. Бледная рука скользнула в дыру и зашарила по раме, нащупывая склизкими пальцами щеколду. Замерев с раскрытым ртом, Вернер смотрел, как окно распахнулось. Уцепившись за раму, существо перекинуло длинную ногу через подоконник и одним движением очутилось в комнате. Вместе с ним в дом проникли шум дождя и запах разрытой сырой земли. Неподвижное матово-бледное лицо пришельца влажно блестело, в слипшихся усах застряли ошметки изжеванной плоти. Он протянул бледную руку, словно приглашая Вернера на тур вальса; с растопыренных пальцев свисали нити белесой слизи. – Кажется, это за вами, – сказал я, поднимаясь из кресла. Вернер отпрянул, опрокинув ногой кофейный столик. Существо зашлось булькающим хохотом и двинулось вперед, оставляя на ковре грязные следы. Лицо его мелко дрожало и оплывало, как свечной воск.* * *
Вернер нанес удар секачом, раскроив тающую голову. Из раны с шипением брызнул луч ослепительно-белого света. Одежда пришельца плюхнулась на ковер, извергая из рукавов и штанин потоки булькающей зловонной жижи, но смех не умолкал, становясь громче, раскатистей. За ним мы не услышали, как рухнула выбитая дверь, впуская в дом остальных наблюдателей. Они быстро заполонили комнату – ухмыляющиеся безмолвные призраки, чьи лица оплывали белесыми сгустками. Вернер пятился, отгоняя их взмахами секача, но они неумолимо приближались, протягивая руки, и алая печать их не останавливала. С криком он запустил в них бесполезным оружием, подлетел к окну и вскочил на подоконник. Но там, за окном, теперь бурлил чернильный хаос, в котором под бой барабанов плясали сотни причудливых форм. В барабанную дробь вклинился всхлип флейты, ей ответила стоном другая, третья взвизгнула, точно от боли, четвертая подхватила… Словно этого было мало, на адскую какофонию накладывались другие звуки: глухой утробный рокот вперемежку с жадным причмокиванием. – Что… что это?.. – Голос Вернера дрожал, как у испуганного ребенка. – Ради бога… – Ради какого бога? – спросил я, положив руку ему на плечо. – Их множество, Вернер. Кому из них вы бы вверили свою участь? С этими словами я сбросил личину Юрия Соколова, русского солдата, убитого под Берлином, и явил себя Вернеру в своем истинном величии; и он, еще недавно уверенный в своем надо мной превосходстве, проскулил: – Черный Человек! – Ты был трогательно откровенен со мной, – промолвил я, – и я отплачу тебе тем же. Я заманил тебя в ловушку, Алан Вернер, как и тысячи глупцов до тебя. Владыка мой ненасытен – слышишь чавканье? – и ты Ему на один зубок, но меня ты, во всяком случае, позабавил. Он безмолвно разевал рот. – Хочешь спросить, почему я избрал Ему в жертву именно тебя? Девушка, Вернер. Нет, не та, которую ты зарубил. Другая. Он уставился на меня взглядом быка на бойне, и я прошептал имя ему на ухо. – Ребекка Энсли?.. – выдохнул он. Это были последние его слова, прежде чем я вытолкнул его в окно. Клубящаяся, переливчатая тьма приняла Вернера в объятия, полыхнув калейдоскопом огней; из слизистого бурления вылепился сияющий лик божества, чьи глазницы зияли космической пустотой. Оно разверзло бездонный рот, захлестнув обреченного щупальцем языка. Вернер дико закричал; глаза его взорвались в глазницах, зубы белой шрапнелью брызнули изо рта, кожа разлезлась клочьями, обнажая дрожащую плоть и пульсирующие сплетения мышц. Алан Вернер распался на мириады частиц, которые засосала ненасытная прорва, – и тотчас чудовищное лицо, задрожав, расплылось, снова слившись с окружающей чернотой. Я устремился прочь, и безликие демоны с флейтами в руках спешили почтительно отпрянуть с моего пути. Сквозь мрак безвременья, сквозь звездные пространства я спешил в туманный Аркхем – на встречу с тем, кто некогда призвал меня, обуреваемый горем и жаждой мести.5. Встреча в Аркхеме
Он храпел в своем облезлом кресле, сжимая в руке ополовиненную бутылку виски, когда я черной тенью возник перед ним в лунном свете. С момента нашей последней встречи породистое лицо декана порядком обрюзгло, щеки оплела пунцовая сетка лопнувших сосудов, холеные руки скрючил артрит. Мягкий ветерок покачивал открытую дверь на террасу, ерошил седые патлы старика, шелестел лежащей на его коленях газетой, лениво перебирал раскиданные по столу выписки из «Некрономикона». Бросив на них взгляд, я скривился: старый болван искал способ разрушить наш уговор. Посмеиваясь про себя, я возложил руку на седой затылок ученого и проник в его сны и воспоминания, тяжелые, расплывчатые, как малярийный туман. Из этого марева я вызвал самую яркую картину: залитый солнцем зоологический сад. Кисловатый аромат соломы и звериного помета щекотал нос, изумрудной зеленью щетинились клумбы, глухо рыкали тигры, и голенастая иссиня-черная птица со щегольским гребнем на макушке мерила сердитыми шагами вольер, а девчушка лет семи тянула отца за рукав: «Папа, ну смотри, папа, страус!» – Это казуар, Бекки, – пробормотал старик, улыбаясь во сне. – Они живут в Австралии… Тут-то я и выдернул его из грез в постылую реальность: – Доктор Энсли! Он всхрапнул, уронив бутылку на ковер, вылупил глаза: – А?! – Вернер говорил, что когда-то вы возглавляли Общество трезвости, – сказал я с притворным укором. – Вернер! – Набрякшее веко старика дернулось. – Ты наконец до него добрался? – Не «наконец», – уточнил я, – а когда посчитал нужным. Разве не таков был уговор? – Я помню наш уговор, демон! – рявкнул старик. – Ты обещал, что он будет страдать как никто! Но вот здесь, – он потряс передо мной газетой, – здесь пишут, что из-за него страдают другие! – Разве? Взгляните еще раз. Он развернул газету, лихорадочно перелистал и уронил с возгласом изумления: – Но как?.. – Он стерт из бытия. Сейчас вы единственный, кто знает о существовании человека по имени Алан Вернер. Даже его жертв припишут другим людям. Мало ли нынче в Германии убийц и мародеров? – Он раскаивался? – Энсли сверлил меня горящими глазами. – А вы как думаете? – Он страдал? – Как вы не можете и представить. Взгляд ученого потух. Обмякнув в кресле, он пробормотал: – Почему же я не испытываю облегчения? Он будто к самому себе обращался, но я все же ответил: – Потому, что это ничего не изменило? Или потому, что вашей вины ничуть не убыло? – За этим ты устроил весь этот спектакль с меткой? Чтобы умножить мою вину? – Я обязан множить ее. Я не наемный убийца, вы знаете, и, заключив с вами сделку, преследовал только свои интересы. На что вы рассчитывали, призывая Ползучий Хаос? – Я не хотел, чтобы… – Вы и своей дочери не хотели смерти. Энсли вздрогнул, как от удара. – За что ты хочешь нас истребить? – пробормотал он. – Чем мы так насолили Иным Богам? – Так предначертано, ничего личного. Чего уж там, из всех нас я единственный, кому вы сколь-нибудь интересны. Это забавно – дарить вам опасные игрушки и смотреть, как вы с ними резвитесь. Кстати, об игрушках… Я вынул из складок ризы револьвер, взвел курки и протянул декану рукоятью вперед. Тот отпрянул. – Вы ведь этого хотели, доктор, – напомнил я. – Впрочем, я охотно вырву вам сердце или оторву голову, только попросите. – Премного благодарен, – пробурчал старик и нехотя взял оружие, стараясь не коснуться моей руки. – В этот раз я уж лучше управлюсь сам. – Воля ваша, сэр. – Скажи мне, Ньярлатхотеп… – В голосе Энсли дрожала надежда. – Там, куда я отправляюсь… моя девочка будет ждать меня? – Отчего бы вам самому не проверить? Я вышел на террасу, окунувшись в бархатный сумрак ночи. Внизу в туманной дымке спал Аркхем, и луна проливалась серебром на его колючие шпили и двускатные крыши. У перил меня настиг приглушенный треск выстрела. Я улыбнулся звездам. Они сияли в точности как миллионы и миллиарды лет назад, когда Иные Боги явились в этот мир, еще не изведавший чувства неизбывной вины.Яко тает дым
1
В том году огромная страна отмечала семидесятилетний юбилей, не ведая, что конец близок, а маленькая Катя Рощина, которой недавно только сравнялось пять, впервые столкнулась с нечистой силой. Случилось это, когда они с мамой навещали бабушку. Мама не очень любила ездить к бабушке. Наверное, потому, что это была папина мать, а не ее. Своей у нее не было. А вот Катя всегда радовалась этим поездкам. Жизнь у бабушки напоминала сказку, жутковатую и в то же время безумно интересную; даже ее деревянный домик в старой части города у реки, обнесенный высоким забором с калиткой и утопающий в зелени, казался привыкшей к четырехэтажкам Кате избушкой Бабы-яги, разве что курьих ножек не хватало. Бабушка и сама была немного Бабой-ягой – так, во всяком случае, поговаривали жители окрестных домов, не расплескавшие еще деревенской закваски. Папа вообще говорил, что есть в бабушке частица черта. Мама ни в частицу черта, ни в целых чертей не верила. Как и положено владениям Бабы-яги (ведь где-то же надо парить заезжих Иван-царевичей!), посреди просторного бабушкиного двора стояла банька – маленький дровяной сруб с торчащей на крыше короткой трубой. Мама смотрела на это богатство с нескрываемой завистью: наверное, единственным приятным воспоминанием из ее приютского детства были походы в городскую баню. А тут – настоящая, деревенская. Но бабушка отчего-то вредничала. – Обойдешься, Галочка! У тебя дома ванная есть! – насмешливо сказала она, когда мама завела разговор о баньке. И отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Да только мама – детдомовская девчонка, а стало быть – упрямая. И вот однажды, когда бабушка отлучилась, мама взяла мыло, мочалку, пару полотенец и решительно объявила: – Вот сейчас, Катёна, мы с тобой и попаримся! Кате уже и самой интересно было: чем это мыться в баньке настолько лучше, чем в ванне? А если бабушка узнает и рассердится – не беда: не съест же она их! И там действительно оказалось здорово. Понравились Кате и густой полумрак, едва рассеиваемый светом из прорубленного под крышей оконца, и жаркий воздух, напоенный ароматом ошпаренной листвы, и как с шипением валили от печки пушистые белые клубы пара, когда мама плескала мятной настойкой на раскаленные камни. И поливать друг дружку из ковшика тоже было весело, а еще веселей – наотмашь хлестать маму березовым веником. Мама, впрочем, тоже не оставалась в долгу! Вскоре Катя совсем расшалилась: с веселым визгом она носилась по тесной парной, а мама, раскрасневшаяся, мокрая, звонко хохочущая, норовила огреть ее веником по попе. Рыжие мамины волосы рассыпались влажными прядями по веснушчатым плечам, отчего она стала походить на русалку. И вот тут-то все и произошло. Из печки вдруг со страшным шипением повалил пар и в считаные мгновения заволок тесное пространство густыми клубами. Катя услышала, как мама со сдавленным криком скатилась с лавки. Стало почти невозможно дышать, а шипение нарастало, разбиваясь на отдельные шепотки, смешки, взвизгиванья, возбужденные, злые, ликующие. Катя с плачем забилась в угол и сквозь слезы, сквозь удушливую белесую пелену разглядела маму, которая отчаянно пыталась прорваться к ней. Потому что ее не пускали. Страшные, едва различимые силуэты метались в туманном мареве. Они дергали маму за волосы, хватали за грудь, за ноги, между ног. Взвыв волчицей, мама рванулась к Кате, но угодила ногой в таз с кипятком и с размаху грохнулась на дощатый пол. Со всех сторон грянул глумливый хохот и тени проступили отчетливее, протягивая жадные когтистые руки… А потом дверь в парную со скрипом распахнулась, луч яркого солнечного света взрезал клубящуюся мглу, и тени с визгом и злобным шипением прянули по углам. Катя увидела в дверях высокий прямой силуэт бабушки, услышала ее гневный окрик… Следующее, что она помнила, – как лежала на печке, закутанная в банный халат, и смотрела на маму, которая ежилась на стуле, стыдливо прикрывая бедра полотенцем, пока бабушка протирала тряпицей, смоченной в спирту, длинные кровоточащие порезы на ее оголенной груди. – Повезло же заполучить дуру в невестки! – причитала она. – Кому было сказано не соваться! Опять же, кто ходит вбаню, не напросившись? Семьдесят лет из людей это выколачивали, да не выколотили, а эта взяла и поперлась! Еще и дочку потащила, ой, дура! – Софья Николаевна, вы опять за свое… – вздохнула мама. – Печку вообще-то проверять надо. Хотя бы раз в год. Извините, конечно, что пошли без спросу, но остальное уже ваша вина, и суеверия ваши тут ни при чем. – Суеверия, говоришь? – недобро прищурилась бабушка и так надавила тряпицей, что мама ойкнула. – У суеверий длинные когти. И не только когти. Скажи спасибо, что я подоспела вовремя. – Ба, а что было бы? – робко подала голос Катя. – А вот это, милая, тебе знать рановато, – как-то странно ухмыльнулась бабушка. – Только потом нашли бы вас с мамашей головою в каменке, с ободранной кожей… Катя испуганно пискнула, а мама оттолкнула бабушкину руку и встала, обернув полотенце вокруг бедер. – Ну все, хватит, – сказала она. – С меня довольно. Мы уезжаем из этого дурдома. – Езжай, Галочка, езжай, – ничуть не огорчилась бабушка. – Всяко целее будете… И они уехали. Дома мама усадила Катю себе на колени и серьезно поговорила с ней. Оказывается, никто в каменку бы их не засунул и кожу бы не содрал. Потому что кроме них в бане никого не было. Катя попробовала возразить, что сама видела, честно-пречестно… На это мама ответила, что, когда человек задыхается, ему и не такая жуть может привидеться. – А когти? – спросила Катя. – А когти мне уже давно пора бы подстричь! – засмеялась мама, помахав пальцами с неровно обгрызенными ногтями (первая из двух вредных привычек, приобретенных ею в детдоме; второй было курение). – Понимаешь, Катёна… Когда человек задыхается, он иногда невольно начинает раздирать себе ногтями грудь… Катя вытаращила глаза. Мама погладила ее по голове: – Да, это страшно, Катёна. Но все лучше, чем черти, верно? Катя охотно согласилась, что хуже чертей ничего быть не может. А вечером пришел с работы папа. Катя радостно выбежала ему навстречу, он подхватил ее сильными руками и закружил под самым потолком, а потом посадил на плечо и торжественно понес на кухню, где мама накрывала на стол. – Ну и как мои Галчонок и Котенок отдохнули у бабушки? – спросил папа, спуская Катю на пол. При этих словах улыбка сползла с маминого лица. А Катя радостно сообщила: – Мы парились в баньке и чуть не угорели! И не успела мама рта раскрыть, как она уже отбарабанила папе всю историю их приключения. Папа слушал, и лицо его становилось все мрачнее. Когда Катя закончила, он положил руку ей на плечо и сказал: – Котенок, иди к себе в комнату. Нам с мамой нужно серьезно поговорить. – Но я хочу кушать! – возмутилась Катя. – Покушаешь, когда позовут, – спокойно ответил папа. Его рука на плече показалась вдруг Кате тяжелой, как у бронзового памятника Ленину. Она покорно просеменила в детскую, села на кровать и взяла на руки плюшевую собачку Тёпу. Судя по доносившимся из кухни голосам, разговор у папы с мамой не клеился. И вообще это был не разговор, а один сплошной крик. – Ты хоть понимаешь, что натворила? – кричал папа. – Идиотка! «Ненаши» теперь от нее не отвяжутся! Никогда не отвяжутся! – Марк, ты же взрослый человек! – возражала мама. – Какие еще «ненаши», что за детские сказочки? Твоей матери просто надо почаще прочищать печку… – Мозги тебе надо прочистить! – бушевал папа. – Русским ведь языком было сказано! Не знаю, может тебе на идише объяснять? Или на латыни? А может, ты хорошо понимаешь только на своем родном, овечьем? Ме-е-е-е-е! – проблеял он донельзя противным голосом. – Перестань вести себя, как идиот, – сказала мама. – Ты пугаешь Катёну. – Пугаю? – тихо переспросил папа. – Ты сегодня чуть не угробила мою дочь, а теперь говоришь, что я ее пугаю? – Если ты забыл, она и моя дочь тоже, – парировала мама. – И я не позволю ни тебе, ни твоей матери морочить ей голову дурацкими страшилками. Сами верьте во что угодно, но, если она опять начнет писаться в постель… я за себя не ручаюсь. – Страшилками! – невесело рассмеялся папа. – Чтобы ты понимала… Короче, завтра же ведем ее в церковь. Если вовремя окрестить… Кате стало не по себе. Она уже не слишком верила маме. Что за страшилки такие, если даже папа, прошедший Афганистан и награжденный медалью «За отвагу», их боится? – Марк, ну хватит! – взмолилась мама. – Зачем крестить, что за вздор? Двадцатый век на дворе… Не надо никого крестить. Я ка-те-го-рически против. – А тебя никто и не спрашивает, Галчонок. Они продолжали говорить, кричать… Кате все это порядком надоело. Она хотела уже положить Тёпу и зажать уши ладошками, как частенько делала во время семейных ссор, но тут мама вдруг глухо вскрикнула, и что-то грохнуло, зазвенело… Прижимая Тёпу к груди, Катя пулей влетела на кухню. Папа с виноватым видом повернулся к ней. А за его спиной Катя увидела маму: привалившись спиной к духовке, она зажимала рукой кровоточащий рот. – Мамочка! – взвизгнула Катя и кинулась к ней. Она поняла: случилось что-то страшное, непоправимое. Может, даже хуже чертей. – Котенок, – виновато сказал папа, – не пугайся, все хорошо. Мама упала, понимаешь? Споткнулась и упала. Скажи, Галчонок? – Все хорошо, Катёна, – сказала мама, прижимая ее к себе. – Я упала. Правда упала. Ничего страшного. Немножко рассадила губу. Это ничего. Честное слово. Катя всхлипнула и обняла маму, чувствуя, как ту сотрясает мелкая дрожь. – Завтра утром, Котенок, мы с тобой пойдем в церковь, – нарочито бодрым голосом сказал папа. – Я тебя с батюшкой познакомлю. Очень добрый батюшка. Будешь золотой крестик на шее носить. Красивый! Тебе очень пойдет. Скажи, Галчонок? Мама не отвечала. Только исподлобья смотрела на папу. И глаза у нее были страшные. Как будто она хотела, чтобы он умер. Прямо здесь и сейчас. Но папа умер только семь лет спустя.2
Его хоронили в разгар черемуховых холодов, серым промозглым утром. Стылый ветер, напоенный ледяной влагой, прощупывал слабые места в одежде, норовя запустить в тело холодные пальцы и перебрать каждую косточку. Прозрачные капли слезами срывались с дрожащих ветвей, и Катя подумала, что больше проливать слезы по папе все равно некому. Этого не собирались делать даже три человека, пришедшие посмотреть, как его опускают в землю. Хоронили в закрытом гробу, потому что гримеры в морге так и не сумели привести в порядок некогда красивое лицо, да не особо-то и старались. Целый или обезображенный – какая разница? В стародавние времена его непременно зарыли бы за кладбищенской оградой, а то и на перепутье, вбив перед тем в сердце осиновый кол. Пожалуй, одна лишь Катя не держала на него зла, пусть последние годы они с мамой жили в постоянном страхе, пусть он совершил ужасное, пусть… но об этом Кате и вспоминать не хотелось. Просто в папе жило что-то злое, как тот жуткий длинноволосый дядька из их с мамой любимого сериала «Твин Пикс»: выжирало все хорошее, а взамен подпитывало лишь злобу и горечь, пока не сгубило его совсем. Так старалась думать Катя. Вот мама так не умела. Возможно, потому, что была взрослой и того, последнего «пусть» простить не могла. Стоя на краю могилы с тлеющей в пальцах сигаретой, она смотрела на гроб таким взглядом, что, кабы не сырость, он бы наверняка вспыхнул. Даже бабушка, казалось, не жалела папу. Не было на ее бледном лице, обрамленном траурным платком, ни горя, ни злости – только усталость. Впрочем, бабушка и не стала бы выставлять чувства напоказ. Обнимая Катю за плечи, она тихо покачивала ее, словно прямо так, стоя, хотела убаюкать. Они перебрались к бабушке незадолго до смерти папы: соседи исписали стены в подъезде угрозами и несколько раз поджигали им входную дверь. Бабушку, хоть она и родила папу и в одиночку воспитывала, оскорблять и запугивать никто не смел. То, что папа сделал, прогремело в глухой провинции куда громче привычных уже бандитских разборок, громче прошлогодних событий в Москве. Несколько раз отрядам милиции приходилось разгонять толпу, желавшую устроить папе суд Линча (Катя даже немного разочаровалась, узнав, что не того Линча, который снял «Твин Пикс»). Законный же суд так и не состоялся. Вскоре им сообщили, что папа повесился в камере «после конфликта с другими заключенными». («Надеюсь, отбили почки сильней, чем он мне», – с ужасным смехом сказала мама одной своей подружке по детдому.) Яма поглотила гроб. Мама подошла и от души швырнула в могилу пригоршню липкой грязи. Катя с бабушкой бросать не стали. Мама отошла, отряхивая руки, встала рядом с ними и смотрела, как угрюмые небритые мужики закидывают яму землей. Работали они споро, подгоняемые холодом, и минут через двадцать на месте дыры в земле осталась лишь бурая клякса с воткнутой табличкой: «Марк Рощин. 1962–1994». Рабочие закинули лопаты на плечи и побрели прочь, костеря плохую погоду. – Пойдем, Галя, – промолвила бабушка, тронув маму за плечо. Та вздрогнула и сказала: – Вы с Катей идите, Софья Николаевна. Я сейчас. – Хорошо, – согласилась бабушка. – Мы у ворот подождем. Взяв Катю за руку, она медленно повела ее вниз по аллее, вившейся среди крестов, могильных камней и столиков, на которых лежали, отсыревая, скудные подношения покойным. Шла, устремив взор вперед, словно боялась оглядываться. Катя же, повинуясь порыву, оглянулась – и обмерла: она увидела, как мама плюнула на могилу. Кате представилось, что папа сейчас вырвется из земли, набросится на маму, схватит за взъерошенные рыжие волосы и начнет таскать из стороны в сторону, выкручивая голову, а когда мама, крича, упадет, ударит ногой в живот, и еще раз, и еще, как делал при жизни, только в этот раз изо рта его вместе с выкриками «Сука! Сука!» будут брызгать грязь и дождевые черви. Но папа не вылез. Не бить ему больше маму. Бабушка потянула Катю за руку, и та покорно засеменила за ней.
Галя долго еще стояла возле могилы, глядя на вьющийся в холодном воздухе дымок сигареты. Вспомнились слова: «Яко тает дым, да исчезнут…» Отрывок из молитвы. Где она ее слышала? Должно быть, в кино. Яко тает дым, да исчезнет Марк Рощин, отец и муж, с лица земли. Засунув руки в карманы, она прошлась вдоль могилы, поддевая ногами комья грязи. – Вот ты и подох, – сказала она. Ей хотелось, чтобы он мог ее слышать, чтобы каждое слово разило его, будто раскаленный клинок. – Мне все равно, что ты сделал. Плевать, что ты жизнь мою искалечил. Но Катеньку я тебе не прощу. Она же твоя дочь, скотина. Взорвать бы твою могилу ко всем чертям! Щелчком пальцев она отправила окурок прямо в центр земляной кляксы. – Э, гражданочка! – гаркнул невесть откуда взявшийся мужичок. – Христа ради, не сорите! Разгребай тут потом за вами… Взмахнув крыльями, с дерева снялась спугнутая ворона и, каркая точно в насмешку, закружилась в белесом мареве неба.3
В комнате у бабушки обстановка была ей под стать – изящная и в то же время сурово очерченная: и кровать у левой стены, и книжный шкаф с застекленными полками у правой, и часы с маятником в углу, отрывисто чеканившие мгновения: так… так… так… – а высокое кресло у окна и вовсе походило на королевский трон. Да и сама бабушка, восседавшая в нем, положа руки на подлокотники, напоминала Кате вдовствующую королеву – или, может, старую графиню из оперы «Пиковая дама», которую они с мамой однажды смотрели по телевизору. Под мерный стук часов бабушка рассказывала истории. Страшные, злые истории. «Женщина тут неподалеку жила, и был у нее мальчонка, Степушка, – такой сорванец, сладу с ним не было. Вот раз месит она тесто, а он под ногами крутится. Осерчала она, да как крикнет: „Иди ты к черту!“ Он вдруг как-то сразу притих, повернулся и молча вышел. Ну, мать дальше занялась тестом. Под вечер хватилась – нету Степушки! Уж она звала-звала… Стала бегать по соседям, и один мальчишка сказал ей, что видел, как Степушка брел к полю, а там его ждал уже какой-то господин в черном костюме и с кривыми ногами; и будто взял он Степушку за руку и повел в сторону леса. С тех пор никто Степушку больше не видел, а мать его с горя через две недели в сарае удавилась…» И еще много чего рассказывала она; о том, что земля, на которой стоит город, проклята, что в школе всё врут и деревню Никитино, на месте которой он был построен, опустошили в восемнадцатом веке вовсе не казаки, посланные подавить крестьянское восстание, а самые настоящие вурдалаки; о том, что надо избегать пылевых столбов на дороге, ибо в них кружат бесы; о том, что многие женщины в их роду знались с нечистой силой… От ее историй Кате часто снились кошмары, но она все равно тянулась к бабушке, как тянутся к сильным слабые. Когда наскучивало сидеть у бабушки, шла в папину комнату. Здесь все оставалось нетронутым, словно он никогда и не покидал родного дома. Аккуратно застеленная кровать, книжный шкаф с потрепанными томиками Жюля Верна, Марка Твена, Ефремова и Стругацких, письменный стол. В сундуке в углу пылилась груда старых игрушек, из которой выглядывала облезлая шахматная доска. На стене возле выцветшего плаката с Высоцким висела пара боксерских перчаток, а на тумбочке стояли допотопный патефон и стопка пластинок. Такая комната могла принадлежать только хорошему человеку. Катя долго считала папу хорошим человеком. Даже когда он впервые ударил маму. Катя не понимала, почему мама так разозлилась тогда и несколько дней с ним не разговаривала. Будто она сама не может влепить дочке плюху за непослушание! А у хорошего человека всегда хватает друзей, и в доме часто собирались веселые и шумные компании. Тихоню маму это совсем не радовало, особенно когда приходил папин друг детства Алексей Дубовик. Его почти никто не называл по имени: наверное, уж очень внушительно звучала фамилия. Папа, однако, предпочитал называть его детским прозвищем Табаки – сам он в детстве, конечно же, был Шерханом. Катя считала, что папа ни капельки не похож на злобного хромого тигра (ну, только когда сердитый), да и Дубовик совсем не походит на шакала. Скорее на привидение – высокий, худощавый, слегка сутулящийся, с белесыми волосами и прозрачными глазами, да к тому же всегда возникающий неожиданно и некстати. Быть может, именно эта его пронырливость помогла ему устроиться следователем в прокуратуру. Когда папа называл его Табаки, Дубовик кривил толстые губы в усмешке, но в глазах его вспыхивал недобрый огонек. А иногда он бросал странные взгляды на маму – всегда украдкой, будто опасаясь, что друг заметит, и тогда мама ежилась, словно ей зябко. И все-таки Дубовик с папой были не разлей вода – и в школе, и в армии, и в Афганистане. За столом они частенько травили афганские байки и скандировали свой армейский девиз: «Чтоб свалить Дубовика, придется вырубить Рощина!» Дружно ругали какого-то минерального секретаря, по милости которого стало невозможно достать нормальную выпивку. Горячо обсуждали перестройку. Перестройкой дышало все. Каким-то странным волнением были охвачены все вокруг, предчувствием новой жизни, заманчивой и пугающей одновременно, а в телевизоре молодой человек с грустными раскосыми глазами пел, требуя перемен, и тысячи тысяч вторили ему. И перемены настали, но едва ли о таких мечтал наивный молодой человек в телевизоре. Полки магазинов пустели, повсюду начали закрываться заводы. Папа, как и очень многие, лишился работы. Зато мама смогла устроиться нянечкой в детском отделении больницы. Платили не ахти, иногда приходилось дежурить в ночную смену, но папа не зарабатывал вовсе, и ощущение собственной никчемности доводило его до белого каления. И он запил горькую, благо грозный минеральный секретарь как раз ушел в отставку. Папа редко теперь называл маму Галчонком. Слова «сука» и «овца» звучали гораздо чаще. Хороший человек становился плохим человеком, и постепенно от него отвернулись все друзья… кроме Дубовика. Он навещал их постоянно. Непременно с че- кушкой. За такое подношение папа готов был вытерпеть очень многое. А Дубовик теперь не просто глазел на маму – он заигрывал с ней в открытую, отпуская шуточки до того скользкие, что даже смысл их ускользал, оставляя только ощущение чего-то гнусного. Катя пересказала одну своей лучшей подруге Ленке Карповой, которая слыла докой во взрослых вещах. Ленка долго смеялась, а потом сказала: – Если твой папа настоящий мужчина, он просто обязан спустить этого Дубовика с лестницы. Очевидно, папа был ненастоящий мужчина. Поднять руку на своего заступника он не осмеливался. С лестницы Дубовик благополучно спускался сам, и, как только он уходил, папа набрасывался с кулаками на маму. Его забирала милиция, но следователь Дубовик всегда готов был выручить старого друга. При условии, что тот и дальше будет ненастоящим мужчиной. Катя догадывалась, что следователь поступает так неспроста. В его действиях определенно прослеживалась некая цель. А вот папа этого не понимал или не хотел понимать. Теперь он сам стал Табаки-шакалом, дрожащим под боком у грозного покровителя, и, должно быть, только поднимая руку на маму мог ненадолго снова почувствовать себя Шерханом. Однажды, когда мама была на ночном дежурстве, он ни с того ни с сего набросился на Катю. Выдернув из постели, он начал гонять ее солдатским ремнем. В одних лишь маечке и трусиках, обезумев от боли, стыда и страха, она металась по комнате, но длинная змея из сыромятной кожи неумолимо настигала и жалила пряжкой голые ноги, плечи… Наконец Катя забилась в угол, дрожа и всхлипывая. Папа вытащил ее, усадил на колени, стал гладить по голове и заплетающимся языком просить прощения, но глаза у него при этом были совершенно пустые, мертвые. Наутро мама вернулась, увидела, что Катя вся исполосована, вызвала милицию. Папе нехотя вкатили очередные пятнадцать суток. Еще через три дня, возвращаясь из школы, Катя столкнулась в подъезде с Дубовиком. Лицо следователя было как у кота, выжравшего банку чужой сметаны, и Кате вдруг захотелось подпрыгнуть и врезать по этому лицу кулаком. Вместо этого она посмотрела следователю прямо в глаза и сказала, поражаясь собственной храбрости: – Не приходите больше. И тут же, не дожидаясь ответа, поспешила наверх. Звонок не работал – папа сломал его месяц назад. Ее руки дрожали, когда она пыталась попасть ключом в замок. Мама заперлась в ванной. Катя робко постучалась к ней, но сквозь шум льющейся воды услышала лишь глухое: – Уйди! Она ушла в детскую, легла на кровать и прижала к себе Тёпу, стараясь унять непонятную, сосущую тоску, поселившуюся в животе. А в ванной все лилась и лилась вода, словно мама хотела смыть с себя что-то очень гадкое и никак не могла. То, что произошло две недели спустя, до сих пор преследовало Катю в кошмарах. Она проснулась на рассвете от того, что с нее сдернули одеяло. Сжалась в комочек, подтянув ноги к животу, думая, что папа опять будет бить ремнем… И подавилась вскриком. Вместо ремня папа принес кухонный нож. Тусклый свет из окна играл на широком клинке в багровых разводах. Темные брызги засыхали на папиных щеках, на лбу, и медный запах висел в воздухе, перебивая спиртовой дух. – Ты у меня уже большая, – проговорил папа каким-то странным голосом. Как будто ему не хватало воздуха. И вдруг, отбросив нож, навалился всей тяжестью, одновременно пытаясь расстегнуть брюки. Тут только она поняла, чего он хочет. Это осознание наполнило ее животным ужасом. Она дико забилась под ним, как пойманный зверек, пытаясь вырваться из его жадных, шарящих рук… Внезапно папа закричал. Схватившись за плечо, он скатился с кровати, и Катя увидела маму с папиным ножом руке. – Скотина! – визжала она. – Как ты мог?! – А вот так, – с жутким спокойствием ответил папа, поднимаясь на ноги, и с размаху вогнал кулак ей в нос. Хлынула кровь, мама отлетела назад, но ножа не выпустила. Небритое папино лицо пересекла кривая усмешка. Он занес руку для нового удара, но мама метко чиркнула его лезвием по запястью. – С-с-сука! – прошипел он. – Пошел вон, – прогнусавила мама, сплюнув кровью. – Или, клянусь, я убью тебя. Папа надвигался. Мама отступала, рассекая воздух перед собой взмахами ножа. Маленькая и худенькая, как мальчишка-подросток, взъерошенная, полы пальто словно крылья, Галчонок перед котом. Перед тигром. Перед Шерханом. Нижнюю половину ее лица залило кровью, отчего казалось, что мама обросла красной бородой. – Убирайся! – кричала она. – Ты совсем с ума сошел? Не трогай нас! Он бросился вперед. Она лягнула его, метя в пах, но попала по ляжке. Папа поймал ее руку с ножом и выкрутил, одновременно сделав подсечку. Вскрикнув, мама повалилась на пол, увлекая его за собой, а нож со звоном отлетел под кровать. Папа схватил маму за уши и несколько раз стукнул головой об пол, а потом его пальцы сомкнулись у нее на горле… Катя, опомнившись, прямо с кровати прыгнула папе на спину, обвила руками и ногами и изо всех силенок пыталась оттащить. Он зарычал, глухо, по-звериному, и продолжал душить, душить… Надо взять нож, промелькнула у нее в голове жуткая мысль. Но ведь это папа. Хороший человек, который катал ее на плечах. Мама дергалась, суча каблуками по паркету. Хороший человек, который гораздо лучше мамы умел повязывать бантики. («Понимаешь, Котенок, ей просто никогда не приходилось завязывать галстук!») Глаза мамы закатились, оставив одни белки, она хрипела. Хороший человек, который подарил ей жизнь… а сейчас отнимал жизнь у мамы. Бить надо в спину, только не лезвием, как мама, потому что он просто отберет нож и неизвестно что тогда сделает, а острием. И налечь всем весом, чтобы наверняка… И тут раздались треск выбитой входной двери и топот бегущих ног. И с пистолетом наголо, словно крутой герой американского боевика, ворвался в комнату Дубовик в сопровождении троих дюжих оперативников. Он с ходу заехал папе рукоятью пистолета в висок, и папа, разжав пальцы, опрокинулся навзничь, едва не раздавив Катю. Двое милиционеров тут же перекатили его на живот, заламывая руки за спину. Бренчали наручники. В коридоре надрывалась плаксивым басом овчарка. Дубовик опустился возле мамы на колени и принялся хлопать ее по синюшным щекам, приговаривая: – Галя, Галочка, очнись… Впервые в жизни Катя была рада ему. Мама поперхнулась. С хрипом втянув в себя воздух, оттолкнула Дубовика и зашлась в надсадном кашле. Изо рта свесились нити кровяной слюны. Люди все прибывали, среди них Катя видела и соседей. Она готова была сгореть со стыда: от того, что сидит перед ними раздетая, что мама вся в крови, что ворочающееся на полу, бессвязно бормочущее существо – ее родной отец. Дубовик, бледный и злой, кричал, требуя выдворить посторонних. – Ничего… – просипела мама, обнимая дрожащую Катю, будто хотела укрыть от чужих, враждебных глаз. – Ничего, Катёна… все хорошо… – Все хорошо? – прошипел Дубовик. – Твой благоверный только что на улице девчонку зарезал – все хорошо. И тогда случилось самое страшное: мама засмеялась. …Заходя в папину комнату, Катя могла часами перебирать его вещи. Листала книги, гоняла на старом патефоне пластинки, хотя они жутко хрипели (почти как мама тогда), рылась в игрушках. Ей казалось, что где-то здесь таится ответ на вопрос, почему хороший человек однажды взял на кухне самый большой нож, вышел на улицу и попытался снасильничать девушку, возвращавшуюся домой с позднего свидания. Катя видела фотографию той девушки в газете – симпатичная, курносая, с волосами как лен, она радостно улыбалась фотографу, не подозревая, что вскоре закончит жизнь на мокром холодном асфальте. Но ответов не находилось. В книжках авторы (что классики, что современники) проповедовали исключительно разумное-доброе-вечное; певцы на пластинках пели, что нет ничего прекраснее дружбы, а если и есть – так только любовь; не было здесь ничего из «современной западной культуры» – тяжелой музыки, боевиков, ужастиков и пошлых фильмов, на которых, если верить русичке Надежде Филипповне, могут вырасти только бандиты и маньяки; и ничто не объясняло, почему хороший человек так искромсал ножом тонкую девичью шею, что при попытке поднять тело голова отвалилась.4
Катя приплелась из школы, с трудом волоча ноги. Грязная и жалкая, замерла на пороге бабушкиной комнаты, беззвучно шевеля разбитыми губами, потом бросила портфель с русалочкой, украшенный живописными отпечатками подошв, и кинулась к бабушке на грудь. Конечно, этого следовало ожидать. В последней четверти среди младшеклассников гуляла веселая кричалка: «Рощина-сяка – дочка маньяка!» Со всех сторон Катю сверлили враждебные взгляды; куда бы она ни пошла, ее преследовали шепотки. Учителя не вызывали ее к доске и вообще старательно делали вид, что никакой Катерины Рощиной на свете не существует. Даже Ленка пересела как можно дальше. Одно утешало: про то самое, стыдное и страшное, что чуть не произошло между ней и папой, никто не узнал. Но в тот день Катю ждал новый удар. Войдя в класс, она увидела, что Ленка восседает на парте с потрепанной газетой в руках, окруженная стайкой мальчишек, и вслух читает статью о папе. Ленка читала ясным, звонким голосом: недаром у нее была пятерка за скорочтение. Пацаны слушали затаив дыхание. Катя тоже на мгновение перестала дышать. Затем она подлетела к Ленке и вырвала газету. – Ты! – крикнула она, не находя слов. – Жопой нюхаешь цветы, – тут же срифмовал один из юных слушателей, Стас Ширшов, первый задира в классе. И загоготал. – Кто я? – спросила Ленка, смерив Катю надменным взглядом. – Предательница, – сказала Катя. – Ой, чья бы корова мычала, – протянула Ленка. – У меня хоть папа не убийца и не алкаш. А что? – невинно добавила она, и тут Катин кулак звонко влепился ей в рот. Ленка ахнула. Мальчишки остолбенели. За всю свою жизнь Катя никогда никого не ударила, и краткий миг триумфа быстро сменился раскаянием. – Лен, прости… – начала было она. Но Ленка только зыркнула на нее исподлобья, ладонью утерла кровь, выхватила газету и уселась на свое место. Прозвенел звонок. После уроков она дожидалась Катю на углу школы. Катя поспешила навстречу, думая, что Ленка хочет помириться. Она и сама чувствовала себя виноватой… Но тут из-за угла вышли четверо пацанов. Катю оттащили за школу. Сперва ее толкали от одного к другому, дергая за волосы, потом начали бить всерьез, порвали одежду. Когда Катя с плачем упала, стали пинать. Наконец ее поставили на колени перед Ленкой и заставили просить прощения. – Лен, прости, – проскулила Катя. – Вот теперь прощаю, – кивнула Ленка и с размаху ударила ее ногой по зубам. Катя повалилась на бок, ощущая во рту металлический привкус крови и грязи, и заревела. Сквозь слезы она видела размытый Ленкин силуэт, нацелившийся ногой ей в лицо… – Эй, вы чё, охренели?! – послышался неожиданно окрик Стаса. Он вынырнул из кустов и оттащил Ленку за локоть. – Так убить можно! Ленка забалансировала на одной ноге, держа вторую на отлете, словно выполняла балетное па. Похоже, она решала гамлетовский вопрос: бить или не бить. В ожидании ее решения Катя на всякий случай закрыла лицо скрещенными руками. – На, почитай на досуге, – услышала она Ленкин голос, на грудь, шелестя страницами, шмякнулась газета. Катя опустила руки. – А это тебе на память! – В лицо шлепнулся горячий, приторно пахнущий клубничной жвачкой плевок. Послышался топот убегающих ног. Катя опустила руки и увидела, что Стас стоит и смотрит на нее каким-то странным взглядом, будто видит впервые. Вот он уже протянул ей руку… а потом вдруг отдернул и тоже бросился наутек. Как добралась домой, Катя сама не помнила. – Ну что ж, – молвила бабушка, выслушав ее рассказ. – Она за это ответит. – Не надо, ба! – всхлипнула Катя. Она прекрасно понимала, что, если бабушка пойдет разбираться к Ленкиным родителям, станет только хуже. – К родителям не пойду, – сказала бабушка, словно прочтя ее мысли. – Она тебе в лицо плюнула? – Ба, не надо… – прошептала Катя, осознав, что бабушка имеет в виду. Слюна. Волосы. Личные вещи. Об этом она тоже рассказывала. – Поверни голову! – велела бабушка. Катя не могла не подчиниться ее властному голосу. Она повернула голову, подставляя щеку. Острые ногти прошлись по коже, собирая частички засохшей слюны. Бабушка подняла руку, растопырив пальцы, плюнула на них и сжала в кулак, смешав свою слюну с Ленкиной. Глухо пронесся по всем углам комнаты таинственный шепот и сразу же стих. И все. Одно движение пальцев перетерло Ленкину жизнь. Катя в этом не сомневалась. На мгновение она даже испытала прилив злобного ликования. Ленке теперь придется худо, очень худо, гораздо хуже, чем ей самой. Нет. Так нельзя. – Ба, ну не надо! – взмолилась она. – Молчи, – сказала бабушка. – Не помрет, обещаю. – Но… – Ничего больше не хочу слышать. Я добреньких не люблю. Люди не заслуживают снисхождения. – Последние слова она произнесла так, будто сама к человеческому роду не относилась. Кате хотелось спорить, кричать… Но холодные бабушкины глаза чудесным образом лишали ее всякой воли. – Ты злая, – сказала она, не обвиняя, просто констатируя факт. – Верно, – кивнула бабушка. – Я живу только потому, что была злой. – Папа стал злым, и его убили. – Папа твой прежде всего был дурак, – сказала бабушка. – Сколько я сил извела, чтобы человеком вырос, и поди ж ты. Ну и допрыгался. – Он не всегда был такой, – упрямо возразила Катя. – Он потом стал. – Н-да? – сказала бабушка. – Не измывайся он вот хоть над Лешкой Дубовиком, Лешка бы такой скотиной не вырос. Думаешь, хороших друзей прозовут Шерханом и Табаки? Матери твоей голову вскружил… Ну, она тоже дура, уж прости за прямоту. Помню, как привел ее: худенькая, взъерошенная, я сразу смекнула: детдомовская, этих ни с кем не спутаешь. Жалко мне ее стало! Сколько раз я предупреждала ее, с кем связывается. И все как об стенку горох. Думала, отвадить хочу, потому что она курит! – Бабушка фыркнула. – Они, детдомовские, хоть и жизнью битые, а доверчивые. Опять же, о семье с малых лет мечтают. И мой-то Марк парень видный… был. Она замолчала. Катя набралась храбрости и спросила с отчаянной надеждой: – Ба, а может, эти твои «ненаши» на него повлияли? – Эти мои «ненаши», – улыбнулась бабушка, – ни на кого не влияют. Не дано им власти над человеком, пока он им сам не продастся. Кстати, о нечисти, умой уже мордуленцию! Смотреть противно.5
От мамы ничего скрыть не удалось. Катя умылась и переоделась, но что сделаешь с распухшей губой? Сказала, что подралась, про Ленку смолчав. Раньше та часто бывала в гостях, маме она нравилась. Ленкино предательство ранит ее не меньше, чем саму Катю. Мама ничего не сказала. Но незадолго до рассвета Катю разбудил плач. Открыв глаза, она уселась на кровати. Окно призрачно серебрилось, дребезжа на холодном ветру. Страшновато. А еще она впервые обратила внимание на то, что крестовина оконной рамы перевернутая. Те, кто живет в этом доме вместе с людьми, не выносят нормальных крестов. Поеживаясь, Катя вылезла из постели и босиком прошлепала к маминой кровати. Мама лежала на животе и тихонечко подвывала в тон ветру, уткнувшись лицом в подушку. Катя прилегла рядышком. – Ш-ш-ш, ш-ш-ш… – шептала она, поглаживая ее волосы. – Все хорошо. – Прости, – сказала мама, шмыгая носом. – Я не хотела тебя будить. Я думала… когда его больше нет… все станет хорошо… За что они обвиняют нас?.. Почему не оставят в покое?.. – Все образуется, мам, вот увидишь, – прошептала Катя ей на ухо. – А знаешь, – добавила мама, утирая нос ладонью, – я твоему папе все-таки благодарна. Без него не было бы у меня такой чудесной девочки… Разве нам плохо с тобой вдвоем? – Втроем, – поправила Катя. – Втроем, – вяло согласилась мама. Бабушку она по-прежнему не любила. Уважала, благодарность испытывала – но не любила. То ли все же винила за папу, то ли считала ненормальной. А может, и то и другое сразу. Кате вдруг захотелось сказать маме о Ленке. Мучило ее это, несмотря ни на что. Но рассказывать не стала. Ну ее к черту, Ленку. Она положила голову маме на грудь, чувствуя мягкое биение ее сердца. Мама обняла ее, и Катя почувствовала, что проваливается в бархатисто-черные глубины сна. Она не знала, что через несколько часов где-то в центре города бежевая «Волга» индивидуального предпринимателя Олега Львовича Карпова неожиданно потеряет управление и врежется в электрический столб. Столб рухнет, сминая капот и вдребезги разнося лобовое стекло, лопнувшие провода будут извиваться на крыше длинными черными щупальцами, брезгливо отплевываясь снопами искр. Карпов, не убийца и не алкаш, а примерный муж и заботливый отец, забьется, запрокидывая посеченное стеклами лицо с вытекающими глазами, и тут рванет бензобак, превращая машину в огненный шар, а ее водителя – в зловонную груду горелой плоти. И в тот же самый момент Катина бабушка откроет глаза в темноте, вслушиваясь в шелестящий по углам шепот, кивнет торжественно и растянет губы в мрачной усмешке.6
Когда Катя босиком пришлепала на кухню, солнце палило вовсю. За окном перечирикивались воробьи, и теплый ветерок проникал в форточку, неся с собой аромат расцветшей сирени. На столе высился старинный бабушкин самовар, рядом стояла розетка с брусничным вареньем. – Красота, – сказала мама. – Давай сегодня дома посидим? – А школа? – Ну ее! Все равно ты из-за меня проспала. Тем более в нашем логове давно пора навести марафет. – А бабушка где? – Ушла куда-то. Причем с гостинцами. В буфете хоть шаром покати, один хлеб остался. – Странно, – заметила Катя. – Я думала, у бабушки нет друзей. Кроме чертей. – Может, они всё и слупили? – засмеялась мама. Следующие несколько часов они, повязав головы косынками, вместе наводили порядок. Мыли полы, обметали по углам годами копившуюся паутину, протирали оконные стекла и подоконники. Только в бабушкиной комнате прибираться не стали – Катя сказала, что бабушка не велела… Но на самом деле она боялась, что против будут те, кто шептался по углам. Папину комнату тоже трогать не стали – мама вообще старалась забыть о ее существовании. Вскоре после того, как они закончили, бабушка вернулась с пустой корзиной в руках. Окинув недовольным взглядом свои преобразившиеся владения, она молча кивнула маме и скрылась у себя в комнате. – Что это с ней? – удивилась Катя. – Почем я знаю, – пожала плечами мама. – Зато я, кажется, догадалась, куда она ходила. На кладбище. – Она кинула на дверь бабушкиной комнаты неприязненный взгляд, словно, навещая папину могилу, бабушка предавала их. – А зачем с едой? Мама снова пожала плечами: – На могиле иногда оставляют. Ну, знаешь, как угощение для покойника. – Это-то понятно, зачем так много? Мама вздохнула: – Давай в такой хороший день не будем о кладбищах. Айда на речку?
Под раскинувшейся шатром старой плакучей ивой стояла резная скамеечка. В погожие дни на ней хорошо было сидеть, глядя на скользящих вдоль берега уток. А если сощуриться, играющие на воде блики брызнут острыми лучиками. – Вода холоднющая, жалко, – вздохнула Катя. – А то искупались бы. – Вытащив из кармана горбушку хлеба, припасенную с завтрака, она кинула ее в воду. – Лучше бы мне оставила! – засмеялась мама. Детдомовская жизнь приучила ее съедать все до крошки, за что папа, когда был добрый, дразнил ее Хватайкой. Они смотрели, как утки, толкаясь, расхватывают угощение на кусочки. – Бабушка мне рассказывала… – начала Катя. – Что? – Как ее тетка учила. Привела сюда, кинула уткам творог. И такая говорит: «Смотри же! Так и тебя на том свете „ненаши“ терзать будут!» А бабушка не испугалась, и тогда тетка научила ее колдовству. – Бр-р-р! – поежилась мама. – Слушай, я все-таки поговорю, чтобы она тебе такие страсти больше не рассказывала. – Ну мам, интересно же… – Послушай, Катёна, – сказала мама, доставая сигарету. – Бабушка, она немного, ну… – Немного того? – Что? А, нет, что ты. Просто ей, как и нам, досталось в жизни. Отца убили в Великую Отечественную, муж погиб на китайской границе, сына приходилось поднимать самой, с его-то характером… Да еще про их семью все судачили. Вот она с горя сама и поверила. Выдумала себе друзей-помощников. Никаких чертей не бывает, помнишь? – Наверное… – неуверенно протянула Катя, положив голову ей на плечо. Спорить с мамой не хотелось. Наступило молчание. – Джунгли! – вдруг воскликнула мама. – Весь мир – джунгли, кругом Шерханы да Табаки, и каждая такая сволочь норовит сожрать. Поневоле и не такое придумаешь. – Мам, не дыми на меня, – жалобно попросила Катя. – Прости, – сказала мама и потерла рукой лоб. Катя вспомнила, как Ленка метила ногой ей в лицо, и решила, что мама, пожалуй, права.
Ночью эти самые джунгли Кате приснились. Они с мамой пробирались сквозь непролазные заросли, сквозь густой влажный туман, в кровь раздирая руки и ноги об усеянные шипами вьющиеся побеги, обливаясь потом от нестерпимой духоты. Жарко было, как тогда, в бане. Мама то и дело со стоном падала, Катя поднимала ее и тянула дальше. Она знала, что останавливаться ни в коем случае нельзя. Подлесок хрустел под нетвердой тяжелой поступью преследователя. Тигр вышел на охоту – опаленный огнем, опьяненный человеческой кровью. – Брось меня… – стонала мама. – Брось… Ему я нужна… Катя в сердцах обругала ее нехорошим словом и потащила дальше. Тигр вылетел из бархатного сумрака, огромный, страшный, весь словно сотканный из трепещущих языков пламени. Оскалив мерцающие белым светом клыки, он набросился на маму, отшвырнув Катю в сторону и опалив ей жаром лицо и руки. Мама закричала, а где-то в темноте зашелся визгливым насмешливым лаем шакал Табаки… Катя резко села и заморгала. Мамины крики не смолкали. И смеялся Табаки. Смеялся Дубовик. Накинув халатик, Катя выбежала в коридор. Мама, тоже в халате, кричала на следователя: – …а я вам говорю, что плевать мне на этого подонка с его могилой вместе! – Вот плевать-то и не стоило, Галочка, – хохотнул Дубовик. – И вообще сорить. Особенно словами. Особенно при свидетелях. Здравствуй, Катюша. Мама испуганно обернулась. – Чего вам надо? – резко спросила Катя. – Понимаешь, Катюша, – вздохнул следователь, – твоей маме срочно нужно навестить могилку твоего папы. А она артачится. – И правильно делает. – Из своей комнаты, затягивая пояс халата, вышла бабушка. Седые волосы рассыпались у нее по плечам. – От тебя, Алеша, нам одни беды. – Зря вы так, тетя Софья, – сказал Дубовик. – Я, между прочим, Марка всегда поддерживал… – Скажите лучше, покрывали! – снова взвилась мама. – Я люблю своих друзей, – парировал следователь. – А тебя, Галочка, просто обожаю. Потому и хочу отвезти тебя самолично, конопатое мое чудо. – Приберегите свои любезности для жены, – огрызнулась мама. – Люся их не заслужила. Она толстая. – Так я подозреваемая или нет? – спросила мама. – Пока нет. Но раз такое дело… – Тогда, – сказала мама, – приезжайте как положено, с оперативной группой и повесткой. Не понимаю, чего вы от меня хотите. – Все ты понимаешь, – подмигнул Дубовик. – Вот Катя по малолетству, наверное, не понимает. Просветим ее? Мама устремила на него взгляд исподлобья – тот самый взгляд, которым когда-то смотрела на папу: упади-и-сдохни. – Идите к черту. Я одеваюсь. И скрылась в комнате. – Ты и раздетая хороша! – крикнул он ей вслед. – Дубовик! – мрачно сказала бабушка. – Да, тетя Софья? – Совести у тебя нет, Дубовик. Но смотри же: я перед «ними», – она выразительно потыкала пальцем вниз, – давно уж о тебе словечко замолвила. В ответ следователь столь же выразительно покрутил пальцем у виска. Мама вышла через несколько минут. Дубовик попытался взять ее под локоток, но она спокойно предупредила: – Если вы до меня дотронетесь, я закричу. Они вышли из дома. Катя последовала за ними на крыльцо и смотрела, как мама понуро бредет за следователем к калитке. Одолеваемая дурными предчувствиями, она вернулась в дом и подошла к бабушке: – Ба, что же это? Бабушка положила руку ей на плечо: – Собирайся в школу, Катенька. Они там разберутся. И странное дело: впервые суровый бабушкин голос дрожал.7
На месте могилы зияла огромная воронка. Что-то со страшной силой разорвало ее изнутри, разметав во все стороны комья земли, щепки от гроба и клочья дешевой обивки. Дубовику при первом же взгляде вспомнились недоброй памяти М19, которые щедро поставляли моджахедам заокеанские благодетели. Вот только даже грозные американские мины не способны оставить такую воронку. К тому же никаких следов взрывного устройства обнаружить не удалось. Как и старины Шерхана. Ни костей, ни кусков тела, ни обрывков костюма. То есть тело-то как раз было. Но не его. Бывалые оперативники боязливо перешептывались, словно деревенские бабки на лавочке, вспоминая похожие дела, оставшиеся в «глухарях», – дикие, бессмысленные и совершенно необъяснимые. И поглядывали на Дубовика. Следователь поморщился. Не верил он ни в бога, ни в черта, ни в оживших покойников, ни в то, что у Марка мать ведьма. Не верил даже в детстве. И старина Шерхан, конечно же, не мог вырваться из могилы, горя жаждой мести. Опергруппа уже закончила собирать вещдоки. За оцеплением пролазы-журналисты донимали вопросами полковника. Раздраженный полковник отвечал по большей части нецензурно. Среди прочих Дубовик узнал штатного корреспондента таблоида «Зеркало». Час от часу не легче. Теперь жди кричащей передовицы: «Восставший из Ада!» И морду эту налепят, гвоздями утыканную. И тираж полмиллиона экземпляров. В вышине лениво зарокотало. Налетевший ветер с шуршанием погнал по аллее палую листву наперегонки с парой пластиковых стаканчиков. – Василь Кузьмич, показывайте, – велел следователь. Ильин, круглолицый и добродушный эксперт-криминалист, виновато взглянул на Галю и откинул черный полиэтилен. Галя ахнула, зажав ладонью рот, ее ноги подкосились. Дубовик подхватил ее сзади, будто невзначай коснувшись груди. В лежащей на земле куче размозженной плоти и обломков костейтрудно было признать человеческое тело. От головы осталась лишь слипшаяся масса из клочьев волос вперемешку со слизистыми комками мозга, в которой белели осколки черепа. – Красавец? – усмехнулся Дубовик. – Знакомься: Соколов Андрей Владиленович. Студент. Его пассию прирезал твой благоверный. Ирония судьбы. – Прикройте… – только и смогла выдавить Галя. Ильин снова набросил на останки полиэтилен. – Ваши соображения, Василь Кузьмич? – спросил Дубовик, отпустив вдову. Ильин обычно восстанавливал картину происшествия, как иные влюбляются, – с первого взгляда. – Юноша бледный со взором, по причине наркотического опьянения, горящим решил, видимо, запоздало воздать за гибель возлюбленной самым неромантичным способом, проще говоря, поссать на могилу злодея, – торжественно начал он, оглаживая усы. – В самый момент воздаяния произошел взрыв, за которым последовало нападение… – Все-таки нападение? – перебил Дубовик. – А не взрывом его? – Голубчик! – страдальчески воскликнул эксперт. – Каким взрывом? Парня били, ты не поверишь, копытами! Пока не лопнул череп! Тут повсюду следы копыт. Или по кладбищу гарцевала бешеная корова, в чем лично я сомневаюсь, или убийца – черт, в чем я тоже сомневаюсь, или поработал какой-то псих в крайне необычных сапожищах, в чем я нисколько не сомневаюсь. Дубовик поморщился: скверное шутовство Василия Кузьмича давно стало притчей во языцех. – Ну-ну. – Он со значением взглянул на Галю. – Леша, ну что ты в нее-то вцепился? – возмутился Ильин. – У тебя что, с раскрываемостью проблемы? Имей совесть. Как, по-твоему, она бы это сделала? – Мало ли чему их в детдомах обучают? – хохотнул Дубовик. – Леша, побойся бога… Рядом возник мужичок в серой спецовке и затараторил, радуясь вниманию: – Точно, точно! Говорю ж, она вкруг могилки ходила-ходила, плевала, сорила окурками, ну и хрень всякую городила, мол, взорвать бы ее, могилку-то. Я тогда-то подумал, херня, а оно вона как оказалось… – Да слышали уже про окурки, – досадливо отмахнулся следователь. – Если вспомните еще что-нибудь, дайте знать. Мужичок тяжко вздохнул и поплелся восвояси, засунув руки в карманы. – В общем, это очень странный теракт, – продолжал Ильин. – Я бы на сатанистов ставил, хотя раньше таких талантов за этой публикой не водилось. Так что не бойтесь, я вас в обиду не дам! – Он шутливо подмигнул Гале, а Дубовику показал кулак. – Главное, заметь, Леша: копытца только на этом участке отметились. Ни сюда не ведут, ни отсюда. Копытный наш как бы выскочил прямиком из могилы, затоптал парня и улетел. Или растворился в воздухе. Или провалился в ад, прихватив с собой Рощина, которому там, кстати, самое место. Именно что «как бы», – добавил он при виде помрачневшего лица следователя. – Убийца, конечно, на такой эффект и рассчитывал. Остроумный парень. – Или девчонка, – добавил Дубовик, снова посмотрев на Галю. – Еще раз повторяю, – тихо отчеканила она, – я ни в чем не виновата. Виновата, думал Дубовик. Еще как виновата. Оба мы хороши. – Ну что, поехали домой? – сказал он, не в силах скрыть дрожь в голосе, и буквально поволок ее к своей «девятке». Ильин проводил их встревоженным взглядом.8
Когда Катя не обнаружила Ленки в классе, ей еще больше стало не по себе. Она прошла к задней парте, села и постаралась стать для всех невидимкой. Ей хотелось узнать, что с Ленкой, но обращаться к одноклассникам она боялась. Ленка не появилась и на втором уроке, и на третьем. На переменах Катя ходила по коридорам с опаской, но никто не трогал ее. Мало того, на нее избегали даже смотреть, и это пугало больше, чем прежнее враждебное внимание. А после уроков в раздевалке ее поджидал Стас. Под его глазами, словно пятна у енота, темнели два отменных фингала, губы распухли. Катя попятилась, взвешивая портфель в руке и прикидывая, сможет ли врезать им Ширшову. – Слышь, Рощина… ты, это… извини, ладно? – сказал вдруг Стас, понурив коротко стриженную голову. Его уши налились румянцем. Катя от изумления даже рот разинула. – Бить тебя больше не будут, отвечаю, с пацанами я поговорил, – продолжал он. – Ты прости меня, ладно? – Ладно, – буркнула Катя. В конце концов, Стас в тот раз за нее заступился… – Кто это тебя так? – Пацаны по-хорошему понимать не хотели, – усмехнулся Стас. – Они тебя собрались в грязи с перьями вывалять. Как раньше с неграми в Америке делали. Санек Пеструхин из пятого «А» даже специально старую подушку из дома припер. Катю вдруг осенила догадка: – А ты что, и Ленку побил? А то ее в школе не было. – Не, ты чё, я девчонок не бью! – возмутился Ширшов. – Мне еще батя всегда говорил: девчонок только последняя падла бьет. А Ленка не пришла, потому что у нее отец погиб. Катя почувствовала, что ей не хватает воздуха. – Как погиб?.. – выдохнула она. – Как-как… Пришибло его. – Как… пришибло? – Как-как… Столбом электрическим. Еле опознали. У Кати потемнело в глазах. – Дурак! – крикнула она и выбежала в коридор. – Это тебе не шутки! – Какие шутки, по натуре! – не унимался Стас, еле поспевая за ней. – Так вот, батя мне всегда говорил… Кате сейчас было совершенно наплевать, что там говорил старший Ширшов. – Отцепись! – закричала она и, развернувшись, так треснула Стаса по лбу портфелем, что тот раскрылся и все содержимое разлетелось по полу. Ширшов охнул. Катя решила, что теперь ей точно не жить. Но Ширшов опять ее удивил. – Вот это врезала! – восхитился он, покрутив головой. – Блин, ты реально крутая. – Слушай, ты прости, я… – Да я понимаю, – серьезно сказал Ширшов. – Тебе сейчас фигово. Мне тоже так было, когда батя помер. На людей бросался. Да и Ленке, поди… С этими словами он опустился на колени и стал собирать ее рассыпанные учебники и тетрадки. И тогда Катя, не выдержав, разревелась.9
Машина неслась через лес по разбитой дороге, подпрыгивая на ухабах. За окнами рябили березы, впереди наливалось тьмой грозовое небо. Дубовик смотрел на дорогу и не видел ее. Не из-за происшествия на кладбище – этот ребус он, разумеется, разгадает… как только разрешит все дела со своей молчаливой пассажиркой. Его всегда влекло к ней. Было в этой тихой рыжей мышке, удивительным образом сочетавшей ослиное упрямство с овечьей покорностью, что-то, сводившее хладнокровного следователя с ума. Благо собственная супруга, раздобревшая после неудачных родов, порядком опротивела. А может, все дело в том, что эта женщина принадлежала Марку. Марку, которому еще не столь давно принадлежало все, чего Алексей был лишен. Однажды, когда Марка не было рядом, он потерял голову. Схватив Галю в охапку, поцеловал. Она залепила ему пощечину. Хорошую, звонкую, так что искры из глаз посыпались, а щека покраснела и зудела остаток дня – чудо, что Шерхан ничего не заметил. Он умел бить гораздо больнее. Но об этом мышке пришлось пожалеть. Наблюдая, как Марк все быстрее катится по наклонной, следователь понял, что его время пришло. Теперь Марк был ему не страшен. Он вел свою игру не спеша, наслаждаясь процессом, и забавнее всего было то, что Марк сам помогал ему своей ревностью. Алексей не сомневался, что рано или поздно Галя не выдержит и согласится на все, чтобы только он перестал провоцировать ее мужа. И она не выдержала. Сама позвонила как миленькая. Он избивал ее чужими руками, а раздевал своими – и это было не менее восхитительно, чем стискивать ее сливочно-белые груди с медвяной россыпью веснушек, видеть, как она морщит конопатый носик от боли и отвращения, слышать ее сдавленное покряхтыванье с каждым толчком. Она мотала головой по подушке, уклоняясь от его поцелуев, пришлось дать ей пару ощутимых пощечин: долг платежом красен, милая! Тогда она успокоилась и просто лежала под ним, уставившись в потолок. Под конец только взмолилась, чтобы он быстрее заканчивал, пока дочь не вернулась из школы… Ее голос прервал его воспоминания: – Закурить не найдется? Я свои забыла. Вместо ответа Дубовик резко свернул к обочине и заглушил мотор. Повернулся к Гале, положил руку ей на плечо. Она отпрянула. Ее страх еще больше заводил его. – Знаешь, Галя, – сказал он, – мне надоело, что ты все время от меня шарахаешься. Я ведь тебе все-таки жизнь спас. И тебе, и твоей дочурке. Не появись я вовремя… – Вы хотите опять меня трахнуть, я правильно поняла? – Фу, какие вы, детдомовцы, грубые, – скривился Дубовик. – Тогда чего вам надо? – устало спросила Галя. – Больше вы ничего от меня не добьетесь. Найдите себе другую любовницу и оставьте нас с Катей в покое. Он достал из кармана сигарету и протянул ей. Галя долго смотрела на нее, потом, не выдержав, взяла. Он дал ей прикурить. – Для начала я хочу знать, что ты наговорила Шерхану. Он ведь сперва передо мной на задних лапках ходил, и вдруг… – Ах вон оно что! – Она выпустила дым в окно. – Ну хорошо. Выбиваю я с ним свидание. Охота, понимаете, узнать, как отец мог полезть на свою родную дочь. Он сидит такой побитой собакой. Отпираться не стал: хотел мне отомстить. Ревность, понимаете, замучила. Ну и пьяная похоть. С той бедной девочкой у него ведь так и не получилось… И тогда мне захотелось сделать ему плохо. – Та-а-ак?.. – с интересом протянул следователь. – Я сказала ему, что это конец. Что теперь ему не избежать вышки. И что, когда приговор приведут в исполнение, мы с Катей закатим праздник. Он помолчал, а потом так гаденько ухмыляется: «Размечталась, милая. Лешка раньше меня вытаскивал и сейчас вытащит». Тогда мне захотелось сделать плохо вам обоим. «Нет, милый, говорю, не вытащит тебя Лешка. С Лешкой, говорю, у меня давно все на мази. И кстати, как мужик он в сто раз лучше тебя». Видели бы вы его морду! В кои-то веки я тоже смогла причинить ему боль. Вот сука! Дубовик содрогнулся, вспомнив, как во время очередного допроса Марк вдруг взвился из-за стола, вцепился железными ручищами ему в глотку. Если бы не подоспели ребята… – Недурной ход! – признал он. – Очень даже. Но следующий за мной. Итак, у меня две новости: плохая и очень плохая. С какой начать? – С какой хотите. – Курение вредит твоему здоровью. Галя вымученно усмехнулась: – Надо понимать, это «очень плохая»? – Хуже некуда, – серьезно сказал Дубовик. – Просто плохая новость заключается в том, что одну нашу общую знакомую скоро посадят. – Ну попробуйте! – усмехнулась она. – У меня для вас тоже две новости: нет состава преступления, а сейчас не тридцать седьмой. Выбирайте, какая для вас хуже. – Галочка, Галочка… – притворно вздохнул Дубовик. – Вспомни, что говорил наш великий вождь и учитель в том приснопамятном тридцать седьмом: был бы человек, а статья найдется. Например, убийство и разорение могил. Сигарета в ее губах задрожала. – Вы не имеете права. – Я здесь право, – произнес следователь. – А ты никто и звать никак. Безродная девчонка, жена убийцы и алкоголика. Никому до тебя дела нет, не было и не будет. Как не будет и до твоей дочурки, когда ты отправишься мотать срок. Кроме бабки, которая давно с чертями знается. В чертей, положим, верит только местная деревенщина, а органы опеки скажут «маразм», но ведь ты понимаешь, куда это приведет? – Жаль, что Марк не смог вас тогда убить, – прошипела Галя. – Вижу, что понимаешь. В детдом. При кровавом совке там, конечно, царили мрак и ужас, тебе ли не знать, но сейчас у нас демократия, понимаешь. Свобода нравов! Раньше вас, сироток, в баню водили, а теперь в сауну возят. К богатым дядям. Девочка у тебя симпатичная, так что… Он не договорил. Галя с воплем кинулась на него, метя ногтями в глаза. – Нападение на представителя власти! – радостно гаркнул Дубовик и вогнал ей кулак в низ живота. Она разинула рот. Сигарета упала на резиновый коврик, подмигнула огоньком и потухла, выпустив на прощание тоненький виток белесого дыма. Галя скрючилась на сиденье, со всхлипами втягивая в себя воздух. – П… рошу… – всхлипнула она, когда снова смогла дышать. – Я смотрю, мы уже не такие дерзкие? – Ка… тенька ничего в… ам не сде… ла… ла… – Понимаешь, Галочка, мне вдруг почему-то очень захотелось сделать плохо вам обеим. Око за око, знаешь ли. Но если ты не против сделать мне хорошо… – Я… я… что хотите… – Я знал, – мягко произнес он. – Я знал, что ты умная девочка. Она подняла голову. В глазах ее дрожали слезы, и Дубовику вдруг стало не по себе. Настолько, что он уже готов был завести мотор и просто отвезти ее домой. Но потом он снова подумал: эта сучка принадлежала Шерхану. – Давай… – выдохнул он. Непослушными руками он расстегнул брюки, положил ладонь ей на затылок и толкнул ее голову вниз. Ритмично двигаясь у нее во рту, слыша, как она хрипит и давится его закаменевшей плотью, он вспоминал, как Марк корчился на полу комнаты для допросов, захлебываясь собственной кровью, – в точности как когда-то маленький Лешка Дубовик с плачем извивался в пыли, пока звонко хохочущий Марк бил его ногами за какую-то ерунду. Тебя я тоже забил ногами, думал он. Да, долг платежом красен, дружище Шерхан. А утречком я снова тебя навестил, преспокойно повесил в камере, как собаку, и ни у кого не возникло вопросов, потому как все считали, что туда тебе и дорога, а теперь я трахаю в рот твою вдовушку – и как тебе это нравится, гребаный садюга? А потом все мысли растворились в ослепляющей вспышке наслаждения, и он, судорожно вцепившись Гале в уши ногтями, разрядился в жаркую глубину ее горла с такой силой, что зазвенело в ушах. Он вовремя распахнул дверь и любезно придерживал Галю за плечи, пока ее мучительно рвало в заросли подорожника.10
Катя рассталась со Стасом только у самой калитки. Забрав у него свой портфель, она подождала, когда он скроется из виду, а потом бросилась через двор, ворвалась в дом, швырнула портфель и рявкнула: – Ба! Ответа не последовало. Тишина стояла пугающая. Сбросив туфли, Катя вихрем пронеслась по комнатам, зажигая повсюду свет. Не стоило делать это перед грозой, но темноты, в которой, наверное, таились бабушкины друзья, убивающие людей, она вынести не могла. Что-то случилось на кладбище… Вдруг и в этом замешана бабушка? В бабушкиной комнате свет не зажегся. Тьма гнездилась по углам, и часы отбивали свое бесконечное «так… так…». Катя стиснула кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Не за нее отомстила бабушка Ленке, нет. За нехорошие слова про папу. – Лгунья… – прошептала Катя. – Ведьма проклятая. И сразу, ужаснувшись себе самой, зажала ладошкой рот. Гнев сменился стыдом. Будто в ответ на ее святотатство, за окном грянуло, как из пушки, стекло отозвалось жалобным комариным звоном. Кате стало не по себе. Когда так внезапно налетает буря, говорила бабушка, это наверняка колобродит нечистая сила в поисках новых жертв… Она выбросила эти мысли из головы. И стала думать о Стасе. Хороший он все-таки. И папа у него был хороший, даром что квасил похлеще ее папы, пока печень не отказала. И тем не менее он никогда – ни разу! – не поднял руку ни на Стаса, ни на его маму. Но что тогда двигало папой? Что сделало хорошего человека плохим? Может быть… может быть, этого хорошего человека никогда и не существовало? Новый удар грома вырвал ее из оцепенения. Катя сжала кулаки, чувствуя, как накатывает злость. Непривычная злость, веселая, успокаивающая. – Да пошел ты! – вслух сказала она. – Мне плевать на тебя, слышишь? Внезапно она встрепенулась. Белье! Маме только не хватало, чтобы вчерашняя стирка пошла насмарку. Сбегав за тазом, она выскочила на двор, второпях забыв обуться. Нежная молодая травка приятно щекотала босые пятки. Ветер тут же освежил пылающее лицо, раздул юбку колоколом. Деревья размахивали ветвями, словно пытались поймать уносимые ветром листья, белыми крыльями хлопали простыни на веревках. И над всем клубилась громада грозовой тучи, подсвечиваемая снизу росчерками зарниц. Вдали сверкнула молния, рассекая белым зигзагом густеющую черноту, и небо отозвалось оглушительным треском, от которого у Кати на мгновение заложило уши. Простыни всколыхнулись навстречу, трепеща, будто им самим не терпелось поскорее укрыться от ненастья. За ними промелькнул темный силуэт. Катя вскрикнула. Ветер снова взметнул простыни. Никого. Она снова тряхнула головой. Подойдя к веревкам, поставила таз и, привстав на цыпочки, сдернула с прищепок первую простыню. Свернув, кинула в таз. За первой отправилась и вторая. А за третьей, в измазанном могильной грязью похоронном костюме, стоял папа. На мгновение Катя разучилась дышать. Она застыла с простыней в руках, неподвижная, словно гипсовая статуэтка. Выглядел он ужасно. Лицо – сплошной кровоподтек, налитые кровью глаза лезли из орбит, голова подергивалась на растянутой, искривленной шее. Рот его расползся в насмешливом оскале, обнажая сизые десны с обломками зубов. Он протянул руку и дернул Катю за косичку. Простыня выскользнула у Кати из рук и бесшумно свалилась к ее ногам. – Здравствуй, Котенок, – сказал папа.11
На ближайшей заправке Дубовик купил бутылку кока-колы. Пока Валерий Леонтьев разливался по радио о радостях полета на дельтаплане, Галя тщательно полоскала рот. – Теперь к вам? – угрюмо спросила она, бросив бутылку под сиденье. – Люся будет в восторге, – усмехнулся Дубовик. – Тогда давайте прямо в машине… – Нет. – Он обнял ее за плечи. Галя закусила губу. – Я понимаю, ты хочешь поскорей от меня отделаться, но у меня другие планы, уж извини. А машина для длительных рандеву не подходит. Так что едем к тебе. – Там Софья. И Катя из школы скоро придет. – К Марку, глупая. Все равно квартира пустует. Вечером вернешься домой, свободная как птица. Как галочка! – Он засмеялся. – Еще успеешь почитать дочке сказку на ночь. Он повернул ключ зажигания. Мотор завелся с болезненным скрежетом. Галя всю дорогу молчала. Дубовик то и дело снимал руку с руля и поглаживал ей бедро. Всякий раз ее передергивало. Секс с Марком никогда не вызывал у нее отвращения. Даже потом, когда она возненавидела мужа всей душой, тело все равно покорно отзывалось на его ласки. Дубовик – совсем другое дело. Безродная девчонка, стучало у нее в голове. Никто и звать никак. Даже собственное тело мне не принадлежит. Даже мою девочку у меня могут отнять. В подъезде пахло затхлостью. Больше всего Галя опасалась встретить соседей. Дубовик тоже заметно нервничал. На двери квартиры черные подпалины и оскорбительные надписи сливались в причудливом узоре. Как только они очутились в темной прихожей и Галя заперла дверь, Дубовик развернул ее, припечатал спиной к обивке и принялся целовать, проталкивая язык в рот. Все это до того напоминало сцену из «Основного инстинкта», что Галя почувствовала, как ее одолевает нервный, истерический хохот. – Смешно тебе? – Дубовик запустил руки ей под кофточку, сорвал лифчик, впился в грудь жесткими пальцами. – А теперь? Галя зашипела сквозь стиснутые зубы. Ничего. Она многое вытерпела и вытерпит еще. Рано или поздно этот подонок найдет истинного виновника либо дело просто закроют. Пусть тогда попробует ее шантажировать. Он может получить свое и все равно назначить виновницей тебя, ехидно прошептал внутренний голос. – Ноги раздвинь, – хрипло скомандовал следователь, стягивая ее колготки вместе с трусиками. Она неуклюже развела колени, молясь, чтобы все быстрее закончилось. Но что толку? Когда Боженька внимал мольбам безродной девчонки? Дубовик чувствовал, что теряет самообладание. Ее вынужденная покорность пьянила. Опустившись на колени, он стал ласкать ее языком. Она тихо постанывала, то ли от отвращения, то ли подыгрывала, чтобы его задобрить, – тут он не питал иллюзий. Вдруг она судорожно вздохнула, сжав бедра, и он было решил, что ее все же разобрало, но тут она выкрикнула: – Сзади! Он вскочил. Развернулся навстречу возникающей из темноты фигуре. Успел даже выхватить из-под полы пиджака пистолет… И разинул рот. Потому что несся на него Шерхан – заросший щетиной, осунувшийся, но живой и здоровый. И в руке его снова был кухонный нож. Лезвие, отточенное до бритвенной остроты, расчертило темноту серебряным всполохом и вонзилось в рот следователя, рассекая десны, язык и гортань. А потом пришла раздирающая холодная боль. Дубовик издал булькающий вой, «макаров» трескуче плюнул огнем во мрак и вывалился из ослабевших пальцев, стукнув об пол. Раскачав нож за рукоять, Марк рывком высвободил его. Полетели брызги. Нижняя губа следователя разошлась надвое, из располосованного рта хлынула кровавая рвота. Квакнув, Дубовик рухнул на колени, повалился на бок и засучил ногами по паркету, словно проткнутое булавкой насекомое. Он уже не чувствовал, как Марк с размаху ударил его ногой, прежде чем шагнуть к жене. Та вжалась спиной в дверь, не в силах поверить своим глазам. Это сон. Сейчас она проснется. – Картина Репина, – промурлыкал Марк. – «Не ждали». Последним, что видела Галя, был ставший за годы брака до боли – буквально! – знакомым образ: огромный перемазанный в крови кулак, несущийся прямо в лицо.12
Папа завел Катю в дом. Его ботинки грохотали по половицам, точно вместо ног были чугунные гири. Он приподнял бровь, и дверь захлопнулась сама собой, отсекая шум хлынувшего дождя. – Неужели ты мне не рада? – просипел он, с трудом выталкивая каждое слово из передавленной глотки. Катя только разевала рот, будто рыба на песке. – Обними папу, Котенок! – сказал он и, развернув ее к себе, сдавил в объятиях. Он не был холоден, как положено мертвецу, напротив – от него разило жаром, словно от каменки. Его подбородок, упиравшийся ей в макушку, обжигал кожу сквозь волосы. И тлением не пахло. Пахло сырой землей и чем-то еще… смолой? Раскаленные пальцы легли ей на спину. С клокочущим вздохом он повел руку ниже. Катя пискнула, когда горячая ладонь нырнула под юбку, больно стиснула ягодицу. Вторая рука давила ей ребра, как огромный удав. – Ты у меня уже большая… – просипел папа, и раскаленное тело его затряслось в сдавленном смехе. Он разжал руки, Катя шарахнулась назад и упала на спину. Он надвигался, грохоча ботинками – ка-бум! ка-бум! – и протягивая руки с хищно скрюченными пальцами. Под ногтями траурной каймой темнела могильная земля. Отчаянно завизжав, Катя подтянула коленки к животу, а потом с силой распрямила ноги. Босая пятка угодила папе в нос с отвратительным хрустом. Он мотнул головой. Из ноздрей поползла двумя змейками черная кровь. Катя ожидала, что папа взревет от боли и ярости, но он расхохотался – гулким, лающим смехом. Она вскочила, повернулась и бросилась бежать. Он гнался за ней, она слышала за спиной смех и громовой топот – ка-бум! ка-бум! – словно кто-то с остервенением колотил по полу двумя молотками сразу. Он поймал ее за локоть и рывком втащил в свою комнату. Катя закричала от боли в выламываемом предплечье. Он отшвырнул ее, она ударилась бедром о тумбочку. Грянулся об пол патефон, разлетелись в стороны пластинки – и тут окно залилось вспышкой белого света, на мгновение ослепив ее. Не дав опомниться, папа ухватил Катю за шиворот, кинул на постель и навис сверху. Обезображенное лицо расплылось в ухмылке. Изо рта, обдираясь о торчащие осколки зубов, выскользнул нечеловечески длинный лиловый язык и защекотал остренькую Катину ключицу. Смеясь, папа ухватил ее за ворот блузки и рванул. Ткань затрещала, брызнули пуговицы. Дикий вопль заставил Катю разомкнуть веки. Папа отпрянул, тряся дымящейся рукой. Катя скатилась с кровати. Разорванная блузка свалилась и повисла на локтях. Папа скакал по комнате, нелепо вскидывая ноги. Грохот – ка-бум! ка-бум! – сделался нестерпимым. Кате казалось, что она сходит с ума. Она скрестила руки, прикрыв оголенную грудь, и папа тотчас же выбросил в ее сторону здоровую руку. Рука удлинялась, сжимая и разжимая пальцы, обраставшие на глазах жесткими черными волосами. Взвизгнув, Катя вскинула руки для защиты, открыв грудь, и папа снова с воем отпрянул. Он смотрел ей на грудь: не на две едва наметившиеся припухлости, а на тускло поблескивающий металлический крестик между ними. И тогда она поняла, кто перед ней. – Ты не мой папа… – проговорила она, цепенея от страха. – Я старый приятель твоей бабушки, – сказало существо. – Она попросила меня его подменить.13
Ей снова десять, и Пакля, чокнутая воспиталка, опять поймала ее за воровством хлеба на кухне, привязала к кровати… Лежишь лицом вниз, мышцы ноют, мочевой пузырь вот-вот лопнет, но изволь терпеть, потому как за мокрый матрас Пакля больно отстегает скакалкой… Вот только Пакля никогда не привязывала девочек голыми. Никогда не затыкала рот кляпом, не залепляла скотчем. Нет, Пакля тут ни при чем. Галя открыла глаза. С трудом повернула голову. За окном полыхнула молния, залив комнату дрожащим призрачным светом, и Галя увидела Дубовика. Совершенно голый, он развалился в кресле, запрокинув голову с рассеченным ртом и бесстыже раскинув волосатые ляжки в темных потеках. Впрочем, стыдиться ему было все равно нечего: на месте гениталий зияла кровавая рана. Затем комната снова погрузилась в полумрак. Гулко пророкотал громовой раскат. А за ним пришли голоса. Разговор, нет, скорее, перебранка: один голос, несомненно, принадлежал Марку, а другой… Другой, твердый, суровый, очень походил на голос Софьи. Голос Марка сорвался на крик. Софья – если это была она – невесело хмыкнула. Хлопнула дверь. – Очнулась, Галчонок? – раздался за спиной голос Марка. – Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Его широкая ладонь, заскорузлая от крови, звонко шлепнула ее по заду, скользнула между ног и начала мять там, царапая отросшими ногтями нежную плоть. Галя надсадно замычала, словно теленок на бойне. Тяжелое тело навалилось сверху. Взвизгнули пружины. Горячее дыхание обожгло затылок. – Я скучал по тебе, Галчонок. Что бы он со мной ни делал, я не закричу, думала она. Он грубо вошел в нее. Что бы он со мной ни делал, я не закричу. Она тихо кряхтела, когда он ожесточенно долбил ее, вколачивая в матрас. Что бы он со мной ни делал, я не закричу. Он запустил пальцы ей в волосы, любовно прикусил ушко. Эта ласка показалась ей омерзительнее всего. Что бы он со мной ни делал, я не… Зубы Марка сомкнулись, точно волчий капкан, и Галя дико завыла в кляп. Кровь забрызгала матрас. В голове лопнул огненный шар и выплеснулся из глаз жгучими слезами, тело пробила судорога, и Галя обмочилась, но Марк этого будто и не заметил. Она извивалась ужом, сдирая кожу на лодыжках и запястьях, зубы Марка рвали хрящи, а рука все сильнее вжимала ее лицом в матрас. Легкие горели, перед глазами пульсировало багряное зарево. Влажные шлепки их тел звучали все громче, эхом отдаваясь у нее в голове. Дождь настойчиво барабанил в окно, словно стремясь ворваться, недовольно рокотал гром, протестующе визжали пружины. Казалось, этому ужасу не будет конца. Наконец Марк яростно задергал бедрами и кончил, зарычав в кровоточащие ошметки ее уха. Потом он отвалился и долго лежал рядом, переводя дух. Галя оставила попытки вырваться и только хныкала, не помня себя от ужаса и стыда, чувствуя, как вместе с кровью вытекает из нее его семя. Если раньше ей казалось, что высшим силам просто нет дела до безродной девчонки, то теперь она поняла: кто-то там наверху сильно не любит ее. – Не знаю, как тебе, Галчонок, а мне так хорошо не было даже в наш первый раз, – нарушил молчание Марк. – Ну, не смотри букой. Знаешь, я больше не пью. Честное комсомольское!
Он встал с кровати, нашарил на полу брюки и не спеша натянул. Затем содрал скотч с ее рта. Вытолкнув языком кляп, она судорожно, со всхлипами, задышала. Марк поднял его двумя пальцами, мокрую от слюны, изжеванную тряпицу, в которой Галя узнала собственные трусики. Они шлепнулись на пол, когда Марк разжал пальцы. – Ну, – сказал он, – умоляй меня, что ли… Жизнь не приучила ее к гордости. Раньше она много раз умоляла Марка, пока не поняла, что это лишь распаляет его. Он ухмыльнулся измазанным в крови ртом: – А то поори? Тоже без толку. Соседи никогда не слышали ее криков. Слишком толстые стены… Порой Галю посещала пугающая мысль, что Марк нарочно подбирал жилье с таким расчетом. – Или поговорим о том, что ты нашла в старине Табаки? – Он кивнул на мертвеца в кресле. Сумрак скрадывал черты Марка, но глаза мерцали лихорадочным блеском. – Это сделка, да? Ты раздвигала перед ним ноги, чтобы он меня упрятал? Ничего. Я тоже заключил сделку, похлеще твоей. Маленький пакт между двумя рогоносцами. Боже, что он несет?.. – Но сейчас-то зачем? Ты же думала, что я мертв! – Он дико взъерошил руками волосы и заговорил плаксиво: – Как будто мало, что я все потерял. Все! Говорили, у меня золотые руки, а потом вышвырнули, как собаку! Меня нужно было поддержать, просто поддержать в трудную минуту, я что, много хотел? А ты… с Лешкой… с Табаки… Знаю! Ты хотела поглумиться над моей памятью! Она не выдержала: – Неправда, он меня наси… – Я слышал, как ты смеялась. Он сгреб ее волосы в кулак и снова взялся за нож. Галя орала так, словно хотела выкричать сердце. Лезвие скользило взад и вперед, отсекая изгрызенные хрящи. Марк схватил обрезок ее уха и запихнул ей в рот. – Ешь! – крикнул он и расхохотался высоким, мальчишеским смехом. – Ешь, Галчонок, ешь! Только теперь, давясь собственной плотью, она поняла, что он совершенно безумен, что издавна тлевшая в нем жестокость разгорелась и выжгла его рассудок. Он проталкивал ухо ей в рот окровавленными пальцами. Она что было сил впилась в эти ненавистные пальцы зубами. Он с воплем врезал ей рукоятью ножа. Треснула скула, боль электрическим разрядом пронзила череп, отдалась в позвоночнике, из глаз брызнули искры. Галя разжала зубы, и ее вырвало желчью. Марк отдернул руку, окропив Галю теплыми брызгами, занес нож… Она заметалась по кровати, насколько позволяли веревки. Униженная, раздавленная, истерзанная, она все равно цеплялась за жизнь. Нож несколько раз полоснул ее по спине, а потом с хрустом пробил матрас рядом с ее лицом. Галя взвизгнула. – Размечталась, – прошипел Марк. – Нет уж, Галчонок, так легко ты не отделаешься. – И добавил с почти детской обидой: – С-сука, как же больно! Он выдернул нож и вышел из комнаты, оставив ее сотрясаться в беззвучном плаче.
14
Чудовище вскинуло руку, прикрывая глаза, и попятилось – ка-бум! ка-бум! Тело его задергалось, плечи сгорбились, ноги искривились. С каждой секундой оно все меньше и меньше походило на папу. Когда оно опустило руку, лицо его было черным, как уголь, а глаза горели серебристым огнем. – А мы с тобой уже встречались! – радостно сообщило оно. – Помнишь баньку? Ты мне еще тогда приглянулась… Катя дрожала. Бабушкины «друзья» всегда пугали ее, но, будучи невидимы, казались все же не вполне настоящими. Теперь один из «ненаших» стоял перед ней во плоти – существо, место которому только в сказках. В воздухе повисло нестерпимое напряжение, словно сама реальность отчаянно пыталась вытолкнуть из себя страшного пришельца. – Отче наш, – залепетала Катя единственную известную ей молитву, – иже еси на небеси… – И осеклась. – А дальше? – спросил «ненаш». – Забыла? Катя только замотала головой, отчаянно пытаясь вспомнить остальное. – В таких случаях советую «Да воскреснет Бог…» – усмехнулся «ненаш». – Без толку, девонька. Скажи спасибо папаше и бабушке. – Папа умер… – прошептала Катя, отползая на локтях. – Ошибаешься! – засмеялся лжепапа. – Он жив-здоров, потому-то я здесь. – Нет… – беспомощно повторяла Катя. – Нет… – Твоя бабушка послала меня к нему, – продолжал «ненаш», – когда он подыхал в темнице, харкая кровью. Я исцелил его… Я перенес его на волю… Я занял его место в остроге… в петле… в могиле! Такое недешево стоит, девонька. И теперь я пришел получить свою плату. – Нет! – всхлипнула Катя и зажала уши руками. Лжепапа шагнул к Кате. Кожа на его висках вдруг вспухла буграми и лопнула, выпуская толстые кривые рога. – К чему, бишь, я клоню? Ах да… Семейка у вас, прямо скажем, сущий гадюшник. Народ кругом – почище нашего брата. Одна ты чистенькая, Катерина, света луч в темном царстве. Зачем тебе эти страданья? Вот тебе тоже сделка: сними эту жгучую погань со своей нежной шейки, и я все сделаю быстро. Тело черту, а душу боженьке. Не бойся, я тебя не съем! – Он оскалил острые зубы. – Это детские сказочки. Нашему брату тоже иной раз охота развлечься, и, ежели будешь со мною ласкова, я не стану сдирать с тебя кожу… Катя закрыла глаза, и в голове замелькали образы: мальчишки толкают ее от одного к другому, смеются, таскают за волосы… Ленкина туфля, нацеленная в лицо, ее звонкий голос, пахнущая клубничной жвачкой слюна… Бабушкины безжалостные глаза… Дубовик с самодовольной ухмылкой на толстых губах… Папа с окровавленным ножом в руке, глаза мерцают лихорадочным блеском. «Ты у меня уже большая… уже большая… уже большая…» А потом ей представилась мама. Стас, неуклюже собирающий ее рассыпанные вещи. И с новой силой захотелось жить. – Убирайся! – закричала она, дрожащими пальцами срывая с шеи цепочку и выставляя крестик перед собой. – Сгинь! Изыди! Пошел прочь! Бес с шипением отпрянул, заслоняясь рукой. – Дрянь! – выплюнул он. – А ведь я хотел по-хорошему. Внезапно он хватил Катю когтями по запястью. Она отчаянно закричала. Крестик, отлетев, уже в воздухе налился оранжевым светом и шлепнулся на пол кляксой расплавленного металла. Раскинув руки, тварь ринулась на девочку, но та, увернувшись в последний момент, рыбкой нырнула под кровать. «Ненаш» заревел от смеха. Его ноги загрохотали прямо у Кати перед лицом. Ка-бум! Ка-бум!15
Галя не чувствовала больше ни рук, ни ног. Даже боль в ранах, в распухшем лице, в кровоточащем лоне казалась чужой, далекой. В ванной хлестала вода – Марк промывал укус, напевая что-то приятным своим баритоном. Время от времени она проваливалась в полузабытье, перед глазами проносились какие-то образы, неясные, обрывочные… Свинцовое, глухое отчаяние. Она не знала, сколько пролежала так. Полчаса? Час? Нет, конечно, всего несколько минут, а казалось, что целую вечность. Ее привели в себя шаркающие шаги. Из последних сил Галя вывернула шею. – Вы! – выдохнула она. Лицо свекрови было суровым, непроницаемым, лишь губы слегка подрагивали. Во взгляде застыла бесконечная тоска. – Прости, – сказала она, погладив Галю по голове. На секунду в измученной душе женщины вспыхнула надежда. Но сразу угасла. Как она раньше не догадалась?.. – Будьте вы прокляты… – прошептала она. – Это все вы… – Прости, – повторила Софья. – Ты мне была почти как дочь. И Катеньку я любила. Но он мой сын, понимаешь? – В ее руке тускло блеснул пистолет Дубовика. – Это все, что я могу для тебя сделать. – Катя… – прошептала Галя. – Катеньку… не отдавайте ему… Софью затрясло. Рука ходила ходуном, не давая прицелиться. Если бы эта дуреха знала, кому они на самом деле отдали Катеньку! А впрочем… Разве адская тварь хуже ее сына? Теперь, при виде жалкого, истерзанного существа на пропитанном мочой и кровью матрасе, Софья в этом сильно сомневалась. Она совершила ошибку, жестокую, чудовищную ошибку. Быть может, еще не поздно убить его и сорвать сделку. Потому что, если Марк и хуже любого из «ненаших», его, в отличие от них, все-таки могут взять пули. «Ненаш» не сможет забрать ее внучку, если сделка будет сорвана. Но «ненаши» этого не простят. Если убить Марка, они выместят злобу на ней. К чертям любовь. К чертям жалость. Что угодно, лишь бы не самой к чертям. И потом, наверняка уже поздно. Она уперла ствол во взъерошенный затылок невестки. – Мама? – сказал за спиной Марк, и ледяным лучом вонзилась под ребра острая боль. Софья охнула. Рука с пистолетом взметнулась вверх, пуля высекла из стены брызги цементной крошки. Не издав больше ни звука, старуха осела на пол. – Знаешь, – тихо произнес Марк, – она этого заслуживала. Она продала «им» нашу девочку. А я согласился! Не хотел, но согласился, потому что умирал, потому что мне было больно и страшно, потому что «они» уже ждали меня! Это ты довела меня до этого своим блядством! Это ты привлекла «их» к ней! Котеночек… – Вцепившись зубами в кулак с такой силой, что из прокушенных пальцев снова побежала кровь, он глухо завыл. Софья тихо стонала на полу. Марк медленно опустил руку. Теперь лицо его стало совершенно спокойным. – Ты за это ответишь, Галчонок, – сказал он и улыбнулся той самой улыбкой, которая когда-то заставила наивную детдомовскую девчонку позабыть обо всем на свете. – За все ответишь. Для начала я вырежу тебе манду. Галя забилась на кровати, натягивая путы. – Помогите! – закричала она в исступлении. – Кто-нибудь, помогите! – Не надо, Галчонок. Побереги горлышко. Никто тебе не помо… Четыре пули попали ему в спину. Пятая пробила затылок. Выронив нож, Марк рухнул на кровать поперек обнаженного тела жены и забился в судорогах, снова вминая ее в матрас. Она хрипела под его весом. Неожиданно тяжесть исчезла. Вывернув голову, Галя увидела, как Софья, обхватив Марка за плечи, стягивает его с кровати. Мать и сын повалились на пол. – Вот и все… – прохрипела Софья и с трудом поднялась, сжимая в руке нож. Правая сторона ее платья потемнела от крови. Галя слабо захныкала. Но Софья лишь в несколько движений перерезала веревки на ее руках, после чего принялась освобождать ноги. – Вставай! – закричала она, покончив с этим. – Чего разлеглась, дура! Вставай! Беги! Но Галя не могла ни встать, ни бежать – ноги и руки, будто набитые стеклянным крошевом, отказывались подчиняться. Тогда Софья безжалостно схватила ее за волосы и с неожиданной силой стащила на пол. Галя вскрикнула. Взгляд ее упал на распростертое тело Марка. Что-то страшное происходило с ним: на мертвом лице одно за другим распускались лиловые кляксы кровоподтеков, шея безобразно растянулась… Он выглядел, как труп висельника, пролежавший в могиле несколько дней. От разлагающегося тела поднималось волнами удушливое зловоние. – На что вылупилась? – кричала Софья. – Вставай… – Она снова рванула Галю за волосы и застонала, схватившись за раненый бок. По всем углам всколыхнулся вдруг шелестящий шепот.16
С громким треском длинные пальцы насквозь пробили постель и панцирную сетку. Острые когти располосовали кожу между лопаток. Катя отчаянно закричала – и в тот же миг кровать отлетела в сторону. Катя перекатилась на спину, тут же отозвавшуюся саднящей болью, и увидела нависшее сверху чудовище в клочьях похоронного костюма. От сходства с папой, да и вообще с человеком, не осталось и следа. Выпученные глаза с черными точками зрачков дико вращались на бугристой, изрытой оспинами морде. Брызжущая слюной пасть ощерилась двумя рядами клыков. Длинный хвост извивался, будто плеть, захлестывая кривые косматые ноги с раздвоенными копытами-бритвами. – Моя! – проревел бес, протягивая к жертве корявые лапы. Она зажмурилась и ждала боли. Ничего не происходило. Она открыла глаза. В комнате никого не было. Лишь змеились в воздухе пряди темного дыма.17
Словно из ниоткуда, возникали со всех сторон неясные тени. Шепот нарастал, переходил в гул, гул – в рев. Стекла завибрировали и вдруг все одновременно разлетелись вдребезги. Рев рассыпался жуткой многоголосицей. Тени становились плотнее, обретали формы. Безобразные, причудливые формы, человеческие и звериные одновременно. Со всех сторон тянулись косматые руки с острыми когтями и вырисовывались, рассыпая шипящие искры, лица, искаженные черные рыла, звериные и человеческие одновременно. – Убей меня! – прохрипела Софья, протягивая Гале пистолет рукоятью вперед. – Я не могу сама! Убей, и все закончится! – Не… могу… – выдавила Галя. Разум отказывался принимать происходящее. Обхватив руками голову, она крепко зажмурилась, в надежде, что морок исчезнет. Но вокруг все так же визжали, свистели и выли, все так же гремели копыта. Софья зашлась криком. Галя открыла глаза – и увиденный ужас привел ее в чувство. Толпа безобразных рогатых существ с гиканьем разрывала Софью на части. Одни выламывали ей руки, другие терзали когтями грудь и живот, третьи выдирали пучками седые волосы вместе с кровоточащими кусками скальпа. Чуть поодаль две твари, визжа в дикарском восторге, вращали голову Дубовика; кожа на перекрученной шее лопнула и свисала лохмотьями, трещали позвонки. Еще не менее дюжины чудищ остервенело, словно вымещая бессильную злобу, дробили копытами тело Марка. Его глаза вытекли, череп лопнул, расплескав по паркету разлагающиеся мозги. Почему-то на Галю никто не обращал внимания. Пистолет лежал на полу. Галя подползла к нему, схватила за скользкую рукоять, лихорадочно подсчитывая в уме оставшиеся патроны. Дубовик выстрелил один раз, Софья… кажется, шесть. Сколько зарядов в «макарове»? Дубовик как-то рассказывал в застольной беседе… В лучшем случае, осталось еще шесть, а она совсем не умеет стрелять, никогда не держала в руках оружия… Она привстала на колени, дрожащими руками подняла пистолет, направила туда, откуда доносились крики, и нажала на спусковой крючок. «Макаров» хлопнул не меньше шести раз, прежде чем захлебнуться щелчками. Пули прошили бесовскую ораву, не причинив тварям никакого вреда. Но как минимум одна, очевидно, достигла цели, потому что крики Софьи резко оборвались и поднялся вой, полный злобы и разочарования. Галя опять зажмурилась и повалилась на бок. Вой постепенно стих, и когда она снова открыла глаза, то обнаружила, что осталась одна в окружении троих мертвецов. Дубовик и Марк выглядели так, словно их пропустили через молотилку. Софья вытянулась на боку посреди комнаты, уставившись в никуда единственным уцелевшим глазом. Гроза заканчивалась. Шум дождя за окном становился все тише, капли дробно барабанили по усыпанномубитым стеклом подоконнику. Рассеивая смрад крови, пота, разложения и горящей смолы, в комнату проник свежий запах озона. Темный дым таял под потолком.18
– …в смерти Марка Софья винила меня и из мести сговорилась с Дубовиком. Они заложили в гроб самодельную взрывчатку. Через несколько дней Софья пришла на кладбище и взорвала могилу, убив при этом нечаянного свидетеля. Изуродованный труп Марка она в безумии притащила на нашу квартиру. Угрожая повесить взрыв на меня, Дубовик заманил меня туда же, где привязал к кровати, после чего стал насиловать и пытать. Когда он отвязал меня, появилась Софья, зарезала его и хотела застрелить меня. Я смогла отнять пистолет, начала отстреливаться, несколько раз случайно попав в труп Марка и ранив Софью. Выбралась во двор. Меня отвезли в больницу. Из последних сил Софья активировала второе взрывное устройство, поэтому все трупы так обезображены. Боже, какая чушь! – Я эту чушь всю ночь сочинял, – обиделся Ильин. – И в ваших же, Галина Батьковна, интересах выучить ее назубок и повторить перед следствием без запинки, потому что если вы будете твердить про чертей… Вам-то что, вы в дурдоме будете прохлаждаться, а мне отчет сдавать. Знаете, как не любит начальство такие истории? – А таких здесь много бывает? – ужаснулась Галя, ерзая на больничной койке. Рубцы под повязками ужасно чесались. – Больше, чем хотелось бы, – буркнул Ильин. – Место у нас… нехорошее. И частенько я вынужден придумывать очередную чушь. И ничего. Несколько раз премию даже выписывали. – То есть вы во все это верите? – Не важно, во что я верю, – сказал Ильин, – важно, во что верит начальство. Как вам тут, персонал не обижает? Галя покачала забинтованной головой: – Я же здесь своя. Обхаживают, будто дочку Ельцина. И Кате ночевать разрешили. – Ну понятно, – усмехнулся Ильин, – раньше вы были женой убийцы, а теперь стали жертвой ментовского беспредела. Кстати, у вашей Кати в школе кавалер появился. Некто Стас. Она вам не говорила? – Говорила. Портфель за ней носит. – Если б только! – вздохнул Ильин. – Этот бандюга колотит ее обидчиков так, что уже пару раз попадал к нам в детскую комнату. Хотя вообще-то он молодец. Я папашку его знал. Мировой был мужик, даром что алконавт… Ладно, давайте-ка снова повторим мою дурацкую историю. На всякий случай.19
– Да уж… – протянула мама. – Полюбуйся. Я Ван Гог. Катя засмеялась: – Такая же рыжая! Мама поправляла отросшие пряди, пряча рубец на месте уха. Волосы горели медью, и Катя невольно залюбовалась ею. Когда врачи впервые разрешили посетить маму, она испугалась – и вовсе не из-за капельниц и бинтов. Мама была весела, отчего Катя сперва решила, что она не выдержала и повредилась в уме. Она не рассказывала всего, но несложно догадаться, что с ней делал папа. Галя и сама удивлялась, что после всего смогла сохранить рассудок. На память о пережитом остались только страшные сны. Детдомовская закалка, решила она. Наверное, в этом все дело. Мы гнемся, но не ломаемся. Иногда быть безродной девчонкой не так уж и плохо. В последний раз они сидели на скамеечке у реки под кроной плакучей ивы. У их ног стояли собранные чемоданы. Вечерний ветерок шевелил листву, и прорезавшие ее лучи заходящего солнца, колеблясь, ложились на оливково-зеленую водную гладь, по которой маленькими суденышками скользили утки. Катя вздрогнула. – Что? – спросила Галя. – Бабушку жалко. Ах да! Та самая история про ведьмовские уроки. – Думаю, бабушка не страдает, – ответила Галя. – Она все-таки совершила хороший поступок… в конце концов. Жизнь мне спасла. Думаю, ей зачтется. Она надеялась, что это так. Не хотелось об этом думать. Не хотелось думать о Марке, его матери, Дубовике… Они сгинули, а вместе с ними – и все дурное. Яко тает дым. Было здорово просто жить. Катя положила голову ей на плечо и счастливо вздохнула. Галя обняла дочь рукой за плечи и крепко прижала к себе, глядя на струящиеся мимо воды реки. – А знаешь что? – сказала она. – Курить я все-таки брошу.Кровавые мальчики
2004
Иногда мне снится кровавый дождь. Во сне мне снова шестнадцать, и мы с моими друзьями, Цыганом, Валькой и Мартыном, в чем мать родила стоим посреди бескрайнего зеленого луга под лиловеющим грозовым небом. И младшая сестра Мартына, Таня, тоже здесь, и тоже совершенно нагая. Она кружится в танце под I Will Survive Глории Гейнор. Торчащие уши, загадочная улыбка и щетинистый ежик волос, за который мы прозвали ее Стрижкой. Тетя Зина, их мать, стригла ее почти налысо, иначе Таня начинала выдирать себе волосы. Она была, как сейчас бы сказали, «особенная», проще говоря – не дружила с головой. Из клубящейся грозовой тучи выхлестывает огненная плеть, вспарывая небеса, которые отвечают раскатистым треском. Гром гуляет над лугом, заглушая голос Глории, небо прорывается дождем, а Стрижка начинает кричать. Тяжелые капли разлетаются вязкими брызгами, собираясь в ручейки и насыщая воздух запахом меди. Потому что дождь идет кровавый. И некуда укрыться от него в чистом поле, да мы и не пытаемся. Мы протягиваем руки, ловя ртом небесную кровь, смакуя ее медный привкус и позволяя алым струям стекать по нашим обнаженным телам, мы собираем ее в горсти и брызгаемся друг в друга, хохоча в диком восторге. Кровавые мальчики танцуют под кровавым дождем. А Стрижка кричит, кричит, кричит… Этот кошмар преследует меня уже тринадцать лет. С тех пор я успел выучиться, похоронить отца, жениться – а он по-прежнему со мной. Лелю всегда пугали мои кошмары, особенно когда она забеременела. В постели она ложится ко мне спиной – боится, что я, мечась во сне, нечаянно садану ее в живот. В то утро крик неожиданно перерос в пронзительную телефонную трель. Я с трудом разлепил глаза. Шум дождя никуда не делся. За окном брезжил сырой рассвет. Нормальный осенний дождь – дрожащие на стекле капли были чистые, прозрачные. Недовольно засопев, Леля выпростала руку из-под одеяла и нашарила телефон. – Да? – сипло сказала она и тут же сунула трубку мне, толкнув в спину упругим круглым животом. – Саш, это тебя. Моя рука тряслась, когда я подносил трубку к уху. Каким-то образом я уже знал, кто звонит. – Салют, мерзавец, – сказал Цыган.Родной город встречал меня темнотой и моросью. Размытые огни фонарей ложились на мокрый асфальт дрожащими отсветами. Но меня трясло не от сырости. Сунув руку в карман, я нащупал шокер, заранее приобретенный на случай, если дело примет совсем уж скверный оборот. Пистолет был бы надежнее, да где ж его достанешь в нашу эпоху стабильности? Кафе «Коко» возле станции, где назначил встречу Цыган, представляло собой невесть как уцелевший уголок девяностых с липкими белыми столиками и допотопной холодильной витриной. Увы, ее надсадное гудение не могло заглушить голос Кати Лель, завывавшей, как кошка в течку. Оставалось только надеяться, что здешняя стряпня получше музыки. Кроме меня и полусонной тетки-официантки, в кафе не было ни души. У официантки были мелированные волосы, мешки под глазами и мешковатая же фигура; ее хмурое оплывшее лицо показалось мне смутно знакомым, а может, она просто походила на всех замотанных тружениц общепита разом. Судя по подозрительным взглядам, которые она украдкой бросала на меня, я ей тоже не приглянулся. Сидя у окна, я ковырял вилкой в тарелке, когда за мой столик тяжело опустился Цыган. В нем мало осталось от Марата Михайчака, разбитного паренька с шапкой смоляных волос и шебутным блеском в глазах, с которым мы росли в одном дворе. Один глаз сохранил блеск, теперь, скорее, лихорадочный, другой был подернут бельмом и пересечен наискось багровым шрамом, а волосы липли к землистому черепу жидкими мышастыми прядями. Он сидел молча, изучая меня и барабаня по столу узловатыми пальцами. Я накрыл ладонью вилку и отодвинул подальше. Цыган в принципе имел моральное право всадить ее мне в глаз. И подобное желание уже высказывал. Его губы скривила усмешка. – Смотри, не зассал. – Он перевел хищный взгляд на содержимое моей тарелки. – А это что? – Курица. – Не возражаешь? Я не возражал. Благо уже съеденное просилось наружу. Схватив окорочок, Цыган впился в него зубами. Я отметил, что многих недостает, а остальные – потемневшие и сколотые. Раньше зубы у него были на зависть, крепкие, белые. Цыганские. Любовные стенания Кати Лель невпопад сменились хриплым голосом Шевчука. «Осень», конечно же, затаскана до неприличия, но я обрадовался дяде Юре как старому другу… настоящему, а не тому страшному призраку, что сидел напротив меня. Призрак в два счета обглодал кости и зычно, совершенно непризрачно рыгнул. Обтер руки о полы зашмыганного темного пальто и снова вперился в меня немигающим оком. Я бросил тоскливый взгляд в окно, за которым сеяла стылая морось. – Как ты меня нашел? – выдавил я наконец. – И кто тебе дал мой телефон? Он подмигнул здоровым глазом. Выглядело это жутко. – Много будешь знать – скоро состаришься. – Чего ты хочешь? – А соскучился. Своей чего наплел? – Что еду навестить приятеля. – Тамбовский волк тебе приятель! – сухо рассмеялся Цыган. – Тебя когда-нибудь долбили в задницу? Знаешь, это больно. Душа исходит криком. А потом становится наплевать. Пусть трахают, лишь бы не били. – Послушай, я все понимаю, но… – Ша! – бросил он, поковыряв в зубах желтым отросшим ногтем. – Я еще не закончил. Не возражаешь? Возражений у меня опять не нашлось. Мелькнула даже надежда, что, излив душу, он отвяжется. – Помнишь… – Его голос дрогнул. – Помнишь ту песню, что Мартын тогда поставил? – I Will Survive. Я не забыл бы даже после лоботомии. – Верно, – кивнул Цыган. – Что означает «выживу». Вот это я себе твердил в камере каждую ночь. У нас сразу началась активная половая жизнь, настолько активная, что Валька не вынес такого счастья. Ему сперва разбили очки. Он плакал и сжимал их в кулаке, пока его трахали. Потом нас заставили кукарекать… Ночью он взял осколок побольше, и я не стал его останавливать. – Мне очень жаль… – пробормотал я. Жуткий оскал исказил лицо Цыгана, его рука внезапно метнулась под стол. Что-то холодное, острое пощекотало мне ногу через ткань брюк и ужалило бедро. – Не бойся, милый… – протянул он с отвратительным жеманством. – Если ты еще раз не вякнешь, как тебе, сука, жаль, я не выпущу тебе яйца в ботинки. – Все хорошо? – спросила официантка, протирая стакан. Наверное, заметила мой дикий взгляд и капли пота на лбу. Мне показалось, что у нее дрожат руки. Острие чувствительно надавило на бедро. – Да, – выдавил я. – Это мой старый друг. Она покосилась на Цыгана. Тот состроил самую невинную мину – насколько возможно со шрамом в пол-лица и бельмом на глазу. Официантка пожала плечами, решив, очевидно, что ее хата с краю, и отвернулась. Свободной рукой Цыган взял мою чашку. – Помянем покойного Валентина Смирнова! – Отхлебнув, скривился. – Тю, ты туда нассал, что ли? На вкус чисто моча. – Ты обещал меня не трогать. – Мой голос дрожал. – Вас бы все равно посадили, пойми. И это я пытался вас остановить, забыл? – Век не забуду. И как ты с Мартыном спелся – тоже. У меня руки чешутся всадить тебе заточку в глаз. Но даже у трусов есть право на искупление. Сегодня мы с тобой будем восстанавливать попранную справедливость. С этими словами он вынул руку из-под стола и убрал заточку в карман. – «Мне отмщение, и Аз воздам», – сказал я, несколько осмелев. – Так в Библии сказано. – Мне больше нравится «Провидение предоставляет карать и наказывать злодеев нам, смертным». Помнишь то кино про негритят? – Его лицо тронула мечтательная улыбка, сделавшая его еще безобразнее. – Вот было времечко! Конечно, я помнил.
Далеким летом 1988 года четверо пацанов, еще не ставших Кровавыми мальчиками, тайком пробрались в кинозал на фильм «Десять негритят». Сидя в темноте, они не дыша смотрели, как зловещий мистер Оуэн истребляет одного за другим десятерых убийц, избегнувших правосудия. Кто он такой, этот загадочный мистер, нам узнать не довелось: на восьмом «негритенке» я позорно взвизгнул и привлек внимание билетерши. Валька матерился и качал права, но нас все равно вытурили. На улице Цыган от души дал мне по шее. Более чем заслуженно. Подходя к своему двору, мы увидели дым, а во дворе обнаружили пожарных, скорую и толпу очень злых соседей. Оказывается, Стрижка, за которой Мартыну надлежало приглядывать, пока мать на работе, развела костерчик, чуть не спалив весь дом. Тетя Зина коршуном налетела на нерадивого отпрыска и при всем дворе оттаскала его за вихры. Легко отделался, любой из нас за такой косяк получил бы ремня. – Ненавижу свою сестрицу, – заявил Мартын, когда на следующий день мы с ним резались в шахматы у него дома. Цыган, развалясь в кресле, изучал старый номер «Огонька», точнее гимнасточку в красном купальнике на обложке, Валька устроился на диване со сборником «Латышский детектив». Стрижка, надышавшаяся угарным газом, лежала в больнице под присмотром матери, так что тесная квартирка Мартыновых оказалась в полном нашем распоряжении. В самом начале игры Мартын пожертвовал ферзя, я, дурак, заглотил наживку, а теперь уныло созерцал доску, где в окружении грозных черных фигур ожидали приговора мои пешечка, ладья и король. Вдобавок с подоконника меня сверлила стеклянными буркалами коллекция Стрижкиных кукол, которых она в трогательной заботе обкорнала себе под стать. Эти лысые страшилки и вообще нервировали, а Мартын вдобавок нарочно сел так, чтобы я постоянно натыкался на них взглядом. Котелок у него всегда варил будь здоров. – Один попался на приманку, их осталось трое… – пробурчал он, подперев голову руками. – А все-таки жаль, что эта дурища не сгорела. Меня не поразили его слова: чего не брякнешь в запале? Стрижка была самым добрым существом на свете, но ее выходки довели бы кого угодно. Огонь влек ее, как мотылька, поджог она устраивала не впервые. Чуть что не по ней – начинала выть и биться головой об стену. А эти ее танцы под музыку, во время которых она запросто могла стащить с себя платье и трусики – чтоб ничто не стесняло! Когда мы гоняли пластинки на «Ригонде», доставшейся Мартыну от беглого папаши, у него дома, это было еще ничего; но если Стрижка слышала музыку во время прогулки, то устраивала стриптиз прямо посреди двора. Пацаны гоготали, Стрижка, видя их радость, тоже смеялась, а бедняга Мартын скрипел зубами, не зная, куда провалиться. А еще она обожала обниматься, даже с незнакомыми людьми, отчего прослыла у взрослых эдакой святой, блаженненькой. Говорили, будто достаточно ей обнять страждущего, чтобы отступила любая хворь. (Это лишний раз доказывает, что медики порядком недооценивают эффект плацебо.) К Мартыновым зачастили на поклон древние бабки с дедками и мамаши с чахлыми отпрысками. Даже деньги иногда предлагали, но тетя Зина, женщина рабоче-крестьянского склада, не брала из принципа: помощь, мол, должна быть бескорыстной. Словом, жизнь у Мартына была не сахар. Неудивительно, что, кроме нас, он ни с кем не водился. – Между прочим, у президента Кеннеди была слабоумная сестра, – просветил нас Валька, оторвавшись от своих латышей. – А отец от него тоже ушел? – В голосе Мартына звенела сталь. – Его тоже сделали нянькой? Всю жизнь мне испоганила. Если б я мог убить ее так, чтобы никто не догадался, точно бы убил. – Он снес мою ладью конем. – Шах и мат! – Я мать свою зарезал, отца я зарубил… – проникновенно затянул Цыган. – Сестренку-идиотку в сортире утопил… – подхватил я. – Сижу я за решеткой и думаю о том, как дядю-часового ударить кирпичом! – закончили мы хором и дружно расхохотались. Да, времечко было и впрямь веселое. А злополучных «Негритят» мы все равно потом посмотрели – ровно десять раз.
2004
– Идеальное убийство, – прервал мои воспоминания голос Цыгана. – Вот откуда идейка-то… – С меня хватит убийств, – отрезал я. – У меня жене скоро рожать, и я не хочу, чтобы она носила мне передачи. – Это хорошо, что ты заботишься о жене, – каким-то странным голосом сказал Цыган. – Молодую мамочку нужно беречь. Кто-то может ненароком столкнуть ее с крыльца, двинуть в живот… Собачий мир. Я достал сотовый. – Все, поговорили. Я звоню в милицию. Он нехорошо ухмыльнулся: – Знаешь, какое чтиво охотней всего выдают в тюремной библиотеке? Уголовный кодекс Российской Федерации. В моих словах нет состава преступления. Я просто говорю, что дерьмо случается. Сейчас я на него кинусь. И плевать на заточку. – С твоим багажом тебя и слушать не станут. Телефон я, однако, убрал. От бессильной злости к горлу подкатывала тошнота. – Тринадцать лет прошло. Давно все забыли Кровавых мальчиков, и Стрижку тоже забыли. Кроме нас с тобой и Мартына, конечно. До сих пор дрочит, небось, вспоминая об этом. Под Глорию. – Слушай, граф Монте-Кристо, если с Лелей что-то случится, я тебе знаешь что сделаю? – Страшнее участи тюремной шлюхи? Ну, рассказывай. Я весь внимание. – Он достал из-за пазухи помятую фотографию и шлепнул на стол. – Вот он. Снято во время второй чеченской. Рисуется, как всегда. На фото ухмыляющийся Мартын в компании еще двух бойцов позировал с автоматом на плече, всем своим видом олицетворяя пословицу «Кому война, а кому мать родна». – Воевал он по контракту. Нашел, типа, применение своим талантам. Один из его товарищей, – костлявый палец Цыгана уперся в снимок, – стуканул командованию: дескать, рядовой Мартынов позволяет себе лишнее в отношении мирного населения, в особенности девушек. Принципиальный солдатик попался, не то что… некоторые. И почему-то именно этого принципиального солдатика вскоре нашли на окраине аула с отрезанной головой и кишками наружу. Официальная версия – чехи, но осадочек остался, и многие бойцы после этого от Мартына шарахались. Тут как раз тетю Зину хватил кондрашка, и командование не упустило случая сплавить его домой. На выручку он приобрел себе и матери халупу неподалеку отсюда. Туда-то мы сегодня с тобой и наведаемся… А двухэтажку их снесли. Деловой центр собираются строить. Я подумал, что если призраки действительно прикованы к месту своей смерти, то бедная Стрижка будет бесплотным духом блуждать по бесконечным офисным лабиринтам, не понимая, что стало с ее домом. Придет же в голову… Я предпринял еще одну попытку: – У него военная подготовка. А ты просто зэк-доходяга. Он раздавит тебя, как клопа. Цыган похлопал по карману, где лежала заточка: – А нам не страшен серый волк! Своя подготовка имеется. У нас там натурально «петушиные бои» проводились… – Смотрю, ты прямо рвешься обратно. – Туда-сюда-обратно, пацанам приятно. – Он поднялся из-за стола. – Ну что, погнали? Октябрьская хмарь приятно освежила мое разгоряченное лицо. За спиной у нас щелкнул замок – Цыган явно произвел на официантку должное впечатление. Я откровенно завидовал ей. Она хотя бы могла запереться. Зябко вздернув плечи, Цыган выудил из кармана побитую молью шапчонку и натянул на плешивую голову. Было в этом что-то настолько жалкое, что у меня защемило сердце и страх несколько поутих. – Где ты живешь? – спросил я. – Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз… – Тринадцать лет как нету. – Очень ты наблюдательный. – Бомжуешь, значит? – Иду за цыганской звездой кочевой. А что, приютить хочешь? – Чтобы тебе легче было добраться до моей жены? Дальше шли в молчании. Дома закончились. Теперь наш путь лежал вдоль трассы, пролегавшей через лесополосу. Деревья дрожали на пронизывающем ветру, отпуская в последний полет пожухлые листья, которые желтыми лодочками планировали к нашим ногам. Дождь припустил сильнее. Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета?.. Я шел как во сне, уже ничего не видя перед собой, и представлял себе Лелю. Ее вздернутый носик, забавную челку, озорную улыбку. Как впервые увидел ее на сцене маленького театра – она играла Поллианну, а я тогда работал в молодежной газете, и меня отправили взять у юной звездочки интервью; как дожидался у гримерки с цветами; как она, привыкшая, что никто не воспринимает ее всерьез, краснела, принимая мои знаки внимания; наш первый раз на побитом молью диванчике в той самой гримерке – сущее безумие, потому что до второго действия оставалось десять минут, и, чтобы не закричать, Леля зажала в зубах расческу, а потом, не успев отдышаться, вывернулась из-под меня и побежала на сцену, забыв на полу трусики, и до конца спектакля у нее горели щеки, потому что в зале было полно детей; но она все равно отыграла с блеском, а я сидел с ее трусиками в кармане джинсов, давясь смехом, и любовался ею, и уже знал тогда, что хочу прожить с этой смешной девчонкой всю жизнь. Я вспоминал, как она встречала меня на пороге, с визгом повисая на шее, пока беременность не сделала это невозможным, как заботливо придерживала рукой живот, когда мы занимались любовью, и рука моя все сильнее сжимала в кармане шокер… – Стрижка каждую ночь снится, – нарушил молчание Цыган. – Сначала тюрьма, рожи эти, мерзкий их гогот… Но она приходит и обнимает меня. И все заканчивается. Понимаешь? Она правда была святой. Единственным лучиком света в нашей поганой жизни. А мы… что же мы наделали, господи! Он вдруг порывисто обнял меня, уткнувшись мокрым лицом в щеку, и завыл – глухо, безнадежно. Растерянный, я положил руку ему на спину, чувствуя, как вздрагивают худые лопатки. В тот момент я почти готов был простить ему то, что он сделал… Но не то, что он грозился сделать с моей женой. Этот обломок человека хотел искупить свои грехи, причинив боль моей Леле, такой же невинной и беззащитной, какой была Стрижка, и еще меня смел называть трусом. Я уже ни о чем не думал. Просто достал шокер, ткнул ему в шею и дал разряд. Цыган с криком отпрянул, будто ошпаренный кот, глядя на меня с изумлением, словно не мог поверить, что я снова предал его. Потом на его губах проступила горькая усмешка. – Ах ты, гнида, – бросил он почти ласково, и в его руке внезапно оказалась заточка. Я отпрянул, но недостаточно быстро. Узкое лезвие вспороло рукав куртки, бицепс ожгла резкая боль. Шокер упал на землю. Цыган отшвырнул его ногой и шагнул ко мне, перебрасывая заточку из руки в руку. Взгляд мой был прикован к мелькающему лезвию, и удар кулаком застиг меня врасплох. Из глаз брызнули искры, я пошатнулся, и тут меня настигла заточка, угодив в ребро. Острая боль пронзила бок, отдавшись в подмышку. Я упал на колени, чувствуя, как струйка крови бежит под толстовкой. Цыган небрежно сплюнул. И, будто это послужило сигналом, за поворотом взревел мотор, и два яростных огня прожгли свинцовую тьму. У Цыгана не было ни единого шанса. Он успел только развернуться навстречу машине – и тут же взлетел, вращаясь, подброшенный страшным ударом. Заточка вылетела из его руки и зазвенела по асфальту, а следом грянулся и Цыган, покатился по дороге, точно куль с тряпьем, и застыл у обочины, разметав руки и ноги. Автомобиль, подмигнув габаритными огоньками, унесся в дождь. В ушах у меня еще долго звучали глухой звук удара и треск костей. Зажимая рукою кровоточащий бок, я на четвереньках подполз к Цыгану. Он мелко дрожал, запрокинув к небу лицо – кровавую маску, размываемую дождем. Холодные капли шлепались в невидящие глаза, в широко раскрытый рот. Из пробитого затылка расползалась темная лужа. – Цыган… – выдохнул я. – Цыган? В горле у него заклокотало. Он выгнулся всем своим изувеченным телом, взметнув руку с растопыренными пальцами. Не знаю, хотел он уцепиться за меня в свой последний миг или схватить за глотку. Потом его тело обмякло. Осеннюю свежесть омрачила вонь опорожнившегося кишечника. Налетевший ветер хлестнул по глазам мерзкой изморосью. Темнота подступала со всех сторон, скрадывая очертания деревьев, и в ней неожиданно снова вспыхнули огни. Я обмер, словно кролик, ослепленный светом фар, а машина уже вырастала из мглы. Я не мог разглядеть водителя – лишь темный силуэт, склонившийся над рулем, – но прекрасно знал, кто это. Он собирался сбить меня, снести с доски, как сносил мои шахматные фигурки. В последний момент я шарахнулся в сторону. Автомобиль пролетел мимо, окатив меня фонтаном брызг, и развернулся, прошипев покрышками. Над заляпанными грязью номерами железным оскалом сверкала окровавленная решетка радиатора. Распахнулась дверца. Водитель шагнул под дождь, рука в черной перчатке легла на капот. Ветер шевелил его густые темные волосы. «Рисуется, как всегда», – прозвучал в голове голос мертвого Цыгана. Я с трудом поднялся и сделал два шага назад. Он не двигался с места – просто стоял и сверлил меня взглядом. Потом медленно, словно охотник, боящийся спугнуть дичь, поднял вторую руку, направив на меня сдвоенное дуло обреза. Звонко щелкнули взводимые курки. С мгновение зияющие дыры глядели мне прямо в глаза, а потом неожиданно развернулись в сторону неподвижного Цыгана. Поймав влажный отблеск фар, вороненые стволы с грохотом изрыгнули огонь, и голова мертвеца от бровей и выше разлетелась по асфальту склизкими брызгами вперемешку с осколками черепа. Все так же не спеша, Мартын переломил курящиеся стволы пополам, вытряхнув гильзы, загнал в гнезда новую пару патронов и вновь защелкнул. Звук щелчка разорвал сковывавшее меня оцепенение. Я кинулся к деревьям. Первый выстрел едва не угодил мне в голову, обдав горячим ветерком ухо. Поскальзываясь в грязи, я нырнул за ближайший ствол осины, а в следующий миг в него вонзился второй заряд, брызнув фонтаном щепок. Потеряв равновесие, я взмахнул руками и кубарем покатился по склону. Земля и небо раз десять поменялись местами, прежде чем я растянулся на дне оврага среди битых бутылок и прочего мусора. Слякоть просачивалась сквозь одежду. Деревья тянули ко мне костлявые лапы из темноты, а где-то среди них пробирался человек, которого я некогда считал своим другом, с которым мы ходили в кино, слушали музыку и резались в шахматишки. Сейчас я не видел в нем ни друга, ни человека. Незримая угроза, безликий ужас вроде мистера Оуэна, бестелесная пара рук в черных перчатках, как изображают убийцу в кино, чтобы до последнего не показывать его лица, – вот чем он был. Тихий переливчатый свист долетел из темноты, складываясь в знакомый мотивчик. Та самая проклятая песня, название которой казалось сейчас издевательством. Я-то уж точно не выживу. Останусь лежать в грязи с размозженной головой или дырой в груди, и нескончаемый дождь будет заливать мои широко раскрытые мертвые глаза. Тошнотворная слабость разливалась по телу. Она засасывала меня, уносила куда-то. Темный силуэт возник надо мной, заслонив ветви деревьев. Бездонные дула снова уставились мне в лицо. Я зажмурился, ожидая в последний миг своей жизни услышать оглушительный грохот и увидеть ослепительную вспышку. Но вместо грохота обрез выплюнул издевательское «чик-чик», а вместо света пришла тьма.1989
После прокуренной духоты видеосалона нам нестерпимо хотелось освежиться, так что мы отправились на речку. Накупавшись вволю, разлеглись на солнцепеке. Мошкара танцевала над искрящейся водной гладью, но к нам не совалась, отпугиваемая вонючим дымом сигареты, которую смолил Цыган. – Говно, а не фильм! – нарушил молчание Валька. С ним было трудно не согласиться. Слай, как положено, крушил гадов, вот только гадами этими оказались советские солдаты в Афганистане. У нас было такое чувство, будто герой наплевал нам в душу. Причем за наши же денежки. Валькин двоюродный брат Тоха не так давно вернулся из Афгана в цинковом макинтоше, наглухо запаянном, чтобы никто не видел, что от него осталось; поговаривали, что представители «героического народа», которому был посвящен третий «Рэмбо», устроили Тохе «красный тюльпан» – содрали кожу живьем. – В жопу Рэмбо! – заявил Цыган. – Отныне мой герой Шварц. – А «Хищник»? – спросил я. – Он там тоже наших не мочит. – Там это не главное, – сказал Цыган. – И вообще, там военные советники, а не простые солдаты. Мартын сдавленно фыркнул. – Что смешного? – поинтересовался Валька. – Ну и засранцы вы, ребята. – Он обнял Цыгана и Вальку за плечи. – Советники что, не люди? – Ясненько, все засранцы, а ты д’Артаньян, – хмыкнул Цыган. – Что ж ты с засранцами якшаешься? – А мне по душе засранцы. Что до Рэмбо, то вообще пофиг, кого он крошит. Фильм-то крутой. – А на Тоху тоже пофиг?! – вскинулся Валька. – А на советников? Они тоже чьи-то родственники. За что люблю вас, пацаны, так это за редкое ваше паскудство. Мы давно привыкли к его подначкам, но сегодня Мартын явно переборщил. Валька стряхнул его руку и вскочил, сжимая кулаки: – Иди ты знаешь куда?! Мартын взглянул на него с ленивым вызовом. Валька, щуплый, с цыплячьей шеей и узкими плечами, всегда дрался как девчонка. – Харе, парни, отбой, – сказал я. Не говоря ни слова, Валька сгреб футболку и джинсы и как был, в одних плавках, потащился прочь. – Есть такая штука, – Мартын сорвал былинку, сунул в рот и блаженно вытянулся на спине, заложив руки за голову, – «естественный отбор» называется. Всякое убийство справедливо, ибо выживает сильнейший. И никаких наших-ваших. Цыган щелчком отправил в реку дымящийся бычок и спросил ласково: – Тебе кукушечку не напекло? А то херню несешь какую-то. Дядя Фишер, значит, тоже справедливо пацанов режет? Слухи про страшного маньяка «дядю Фишера» уже давно кочевали по необъятным просторам нашей родины. – Конечно. – Былинка в зубах у Мартына выписывала причудливые фигуры. – А потому что не фиг ходить со всякими. Он очищает мир от идиотов. Вроде моей сестренки. – Ты рассуждаешь как фашист, – произнес я. – Я рассуждаю как реалист. Словечком «фашист» слабаки бросаются, их пугает естественный отбор. – Сюда лучше посмотри, реалист, – сказал Цыган. – Вот это реальность! Вдоль берега скользила четырехвесельная плоскодонка. На носу сидел хлыщ в белых майке и шортах, на корме – русоволосая девушка в полосатом бикини. Выплюнув травинку, Мартын звонко свистнул, а когда красавица, приставив ладонь козырьком ко лбу, посмотрела на него, послал ей воздушный поцелуй. Она с улыбкой помахала рукой в ответ и налегла на весла. Грудь под чашечками купальника так ходуном и ходила. – Пацаны, держите меня! – простонал Цыган. – Везет же некоторым… – вздохнул я. Мы к «некоторым» не относились. Разве что у Мартына имелись неплохие шансы. Послушать мою маму, так он был юный Ален Делон и отбоя бы не имел от девчонок, но в его жизни была только одна – его полоумная сестра. Настроение наше вконец испортилось. – Погнали ко мне? – предложил Мартын. – У меня пара новых пластинок есть. Только подошли к дому, как со двора вылетела взъерошенная тетя Зина в домашнем халате и тапочках: – Таня опять пропала! Я все кругом обегала, нигде нет! Тут покинул нас и Цыган, бросив на прощание: «Опять двадцать пять!» Ему вовсе не улыбалось принимать участие в поисках. Я спросил: – А как так вышло, тетя Зина? – Я на полчасика всего задремала, с ночного дежурства… – Она обращалась к сыну, словно меня тут и не было. Не больно она нас привечала, подозревая (увы, не без оснований), что мы посмеиваемся над ее дочкой, когда она не видит. – Просыпаюсь, дверь нараспашку, а Танечки нет… У самой глаза воспаленные, волосы – серая пакля. Жалко ее стало – ужас. А Мартына еще больше. – Мам, ты только не волнуйся, – сказал он. – Найдется, куда денется. Ты иди домой, приляг, мы ее враз отыщем. – А как только мы отошли достаточно далеко, сказал мне: – Хоть бы ее дядя Фишер взял. Следующий час мы вдвоем прочесывали улицы, заглядывали во дворы, рискуя получить люлей от куривших там пацанов, осматривали детские площадки, обходили гулкие затхлые подъезды… Отыскалась наша беглянка на пустыре у заброшенного барака. К дощатой стене его прилепилась здоровущая муравьиная куча. Стрижка совала туда пальцы, смотрела, как муравьи снуют по рукам, потом осторожненько сдувала обратно. Когда мы подбежали к ней, она с улыбкой сообщила: – Смотрите, муравьишки! Я у них королева! Мартын ударил ее. Со всей дури, в живот. – Вот тебе муравьишки, королева драная! Она часто-часто заморгала, разевая рот, точно выброшенная на берег рыбка. Второй удар расквасил ей нос. Стрижка отлетела и грохнулась прямо в муравейник – веточки и прочий сор так и брызнули во все стороны. Она даже зареветь не могла, только сипела с натугой. А я стоял и смотрел, не смея вмешаться. Потому что Мартын был страшен. Когда он подошел ко мне и руку на плечо положил, я чуть не обделался. Он сказал: – Ее побили придурки какие-то. Ломали муравейник, а она мешала. Мы их шуганули. Усек? И я усек, будьте покойны. В глазах у него что-то сквозило такое, чему и названия не найти. Я боялся его. Я всегда был трусом. Стрижка уже выла в голос. И пыталась собрать раздавленный муравейник, дуреха. Уцелевшие муравьишки ее стараний не оценили, кусали за пальцы. Мартын обнял ее и принялся утешать. – Стрижонок, ну прости меня, дурака, – увещевал он, поглаживая ее щетинистый затылок. – Я тебе Глорию поставлю, твою любимую, только маме не говорим, ну? – Глория хорошая! – сказала Стрижка, шмыгнув кровоточащим носом. И тоже обняла брата. Он прижал ее к себе, и все, что случилось минуту назад, показалось мне ерундой.2004
…Снова дождь, уже не кровавый – ледяной, и лес чернеет под истекающим сыростью небом, и никогда нам не выбраться из этого леса. Валька с Цыганом тащатся рядом, оба в истлевших черных пальто. Ветки ловят нас за одежду, норовя выхлестать глаза, корни змеями выворачиваются из раскисшей земли, вьются под ногами… Они живые, эти деревья, кривят черные дупла-рты, а мои друзья – мертвецы: лица сгнили до черепов, глаза студнем застыли в глазницах, и я знаю, что, если коснусь собственного лица, пальцы нащупают голую кость и провал на месте носа… А потом сквозь шепот мертвого дождя пробивается голос Лели: – …Я играю Поллианну. С тринадцати лет Поллианна, представляете? Это такой персонаж… Все в театре держат меня за ребенка. Ух, как это бесит! Я татушку набила во все плечо, пусть знают! Директор на меня орал, кошмар… Теперь приходится гримом замазывать. Я лежу раздетый под стеганым одеялом, чувствуя, как раны пульсируют под бинтами. Страшно открыть глаза, страшно, что Леля окажется видением, а кошмар – явью. – …И одна дура у нас в театре стала меня дразнить, типа, Сашка твой латентный педофил, наверное, раз за тобой таскается. Я ее так отлупила! Ничего, что я маленькая, врезать умею… Смех. Мужской смех. Знакомый, хотя, когда я в последний раз слышал его, он звучал на октаву выше. Нет, это все еще кошмар. Леля мило болтает с Мартыном?.. Открыл глаза. Леля сидела на краешке моей постели, и Мартын тоже был тут как тут, и его рука лежала у нее на плече. Он по-прежнему походил на Алена Делона, только уже не слишком юного. Под глазами темнели круги, словно он не спал ночами, а в волосах пробивалась ранняя седина. Да и брюшко наметилось… Ален Делон для бедных. – Очнулся! – воскликнула Леля. – Горе ты мое! – И расплакалась. – А с чего бы ему не очнуться? – сказал Мартын. – Я даже скорую вызывать не стал. Царапина. – Не обращайте внимания, – всхлипнула Леля. – Я из-за беременности жутко плаксивая. И кушаю всякую гадость. Как только Сашка меня терпит? – Вы прелесть, Леля. Саша, можно я ее у тебя отобью? – Ты… убил… – прошептал я. – Ну ладно, уж сразу «убил». Так, проучил слегка. Его рука слегка сжала хрупкое плечико Лели. Нежно, но с явным намеком: следи за словами. Мой взгляд обежал комнату. Желтые пузырящиеся обои, плешивый ковер на стене, ветхая этажерка, облезлое кресло. Среди этого убожества неуместно смотрелся изящный кофейный столик, на котором стояли чашки, блюдца и пузатый заварник. А с подоконника таращила на меня осуждающие глазищи армия лысых кукол. Вспомнилась песенка из жутковатого советского мультика, который пугал меня в детстве: «Девочка уходит, кукла остается…» Леля помогла мне сесть, сунула в руки чашку. Чай обжег рот, я закашлялся, пролив немного на майку, и сдавленно прошептал: – Что ты здесь делаешь? – Он нашел наш телефон в твоем мобильнике и позвонил мне. Я примчалась на первой электричке. Боялась, там прямо и рожу. Разве так можно? – Извини, не знал, что она, гм, в интересном положении, – сказал Мартын. Не знай я, с кем имею дело, мог бы подумать, что он действительно сожалеет. – А что мне, с ума дома сходить?! Как это вообще получилось? Кто это сделал? – Человек, убивший мою сестру. Наш бывший товарищ. Сашка свидетельствовал против него, и он решил отомстить. Кстати, эти куклы, – кивнул он в сторону окна, – память о ней. – Ой, какие чудны́е! Подойдя к окну, Леля взяла одну из кукол и засмеялась, когда та пропищала: «Ма-ма!» – И хозяйка была такая же, – усмехнулся Мартын. – Сказать по правде, она сводила меня с ума. Но я все равно любил ее. Лжешь, подумал я, оглядывая тоскливую обстановку. Ты никогда никого не любил. Но притворялся здорово. А сейчас гниешь в этой дыре, один как перст, и скажи-ка, сволочь: оно того стоило? Словно услышав мои мысли, Мартын со вздохом упал в кресло. Жалобно взвизгнули пружины. Когда он снова заговорил, в его голосе звучала горечь: – Нам было по шестнадцать. Мы тогда здорово набрались. Сами понимаете, ветер в голове, гормоны играют… Я закрыл глаза. Не хотелось слушать, как он будет лгать о том, что произошло тем страшным летом 1991 года…1991
Наверное, все случилось из-за того, что мы привыкли видеть в Стрижке ходячее недоразумение, мишень для шуток, но не человека, живого и чувствующего. А может, из-за коньяка. Обыкновенного коньяка, целый ящик которого подарил Валькиному папаше-хирургу кто-то из благодарных пациентов, а Мартын без труда уломал Вальку пару бутылок скоммуниздить. Или из-за нашего затянувшегося романа с Дуней Кулаковой. Или из-за электричества в воздухе. Или из-за всего сразу. …Весь день стоит лютый, выжигающий мозги зной, а ближе к вечеру город накрывает лиловая пелена. И ни ветерка, хотя вдалеке мрачно погромыхивает. Едкий пот сочится у нас изо всех пор, белье липнет к разгоряченному телу. Коньяк не только не освежает, он разжигает жар иного толка. Все наши мысли вертятся вокруг секса и тут же бесстыдно озвучиваются. Увы, все, что нам остается, – это похабные разговорчики. Цыган, правда, гуляет с нашей одноклассницей Ингой, но она жестоко его динамит. Нас не смущает присутствие Стрижки, которая угрюмо сидит на диване, выдирая волосы у новой куклы. После каждой пряди кукла жалобно пищит «мама», но Стрижка неумолима. Она тоже становится взрослой. Неспособная понять, что с ней происходит, она сделалась плаксивой и раздражительной. – Короче, пацаны, мысль такая, – говорит Валька, обильно потея. – Предлагаю скинуться и… это… снять девку… И тогда-то Мартын подает голос: – Предлагаю бюджетный вариант: моя сестренка. У нее давно уже зудит. – Э, да ты, вашбродь, нарезался! – говорю я, хотя «вашбродь» только пару раз пригубил и в сравнении с нами – как стеклышко. – Нет, правда, – улыбается Мартын. – Она аж трется. – В смысле, трется? – спрашивает Валька. – В том самом. Задерет платье и трется о подлокотники. Как собачка об ногу. Святая Стрижка! Мама уже и обниматься ей не дает. От греха подальше. Мы покатываемся со смеху. За окном подмигивает зарница, свет в комнате тоже мигает. Воздух насыщен электричеством и вожделением. – Не, чувак, – подает голос Цыган. Он сидит без рубашки, поджарое тело лоснится от пота. – Это ваши дела, семейные. Помоги сестренке сам. – Мамке своей помоги, – парирует Мартын. – А то я могу. – Ну попробуй. Мой батя тебе живо помогалку отстрелит. Теперь мы уже просто корчимся от хохота. Потом Валька предлагает: – Давайте лучше подыщем Стрижке молодого интересного дебила. Вроде Цыгана. – Зачем «вроде», когда есть настоящий? – вставляю я. Цыган прикол оценивает. От крепкого леща я чуть не влетаю лбом в черно-белый телик Мартыновых. – Лови момент, Цыганище, – говорит Валька. – Стрижка добрая, не то что твоя динамо-машина. Разговор этот нравится мне все меньше. Скорей бы хлынул дождь и остудил нашу горячку… – Фу, – кривится Цыган, глотнув из бутылки. – Не, пацаны, вам лечиться надо. – Я те дам «фу»! – театрально обижается Мартын. – Она пусть дура, но красивая. Ты красивая, Стрижка? – Я красивая, – отзывается она, продолжая терзать злосчастную куклу. – Она не красивая, – говорю я. – Она Стрижка. Стрижка вдруг бросает куклу и поворачивается к нам: – Я красивая! Ее губы дрожат, в глазах слезы. А правда ведь красивая, думаю я. Вылитая Ния из фильма «Через тернии к звездам». Тонкие черты лица, чистая кожа и эти большие печальные глазищи… – Сними платье, сестренка, – ласково просит Мартын. – Покажи этим мудакам, какая ты. – Охренел совсем?! – шипит Цыган. Но она, заведя руки за спину, уже расстегивает пуговки линялого платьица и стаскивает его через голову. Трусов на ней нет. Затаив дыхание, мы созерцаем острые грудки с торчащими сосками, чашечку пупка и кустик волос внизу, а под ним… Нам не раз случалось видеть ее голой, но тогда она еще не начала превращаться из девочки в женщину. И слова Мартына о том, что она «трется», тоже свою роль играют. Цыган судорожно сглатывает и облизывает губы. Глаза у них с Валькой блестят, да и у меня, наверное. Один Мартын сохраняет хладнокровие. – А теперь… – Он нажимает кнопку «Ригонды». – Три-два-один! Звучит фортепианный аккорд, и сильный голос Глории Гейнор заполняет комнату, кипя обжигающей дерзостью. И хотя поет Глория отнюдь не о сексе, наши распаленные алкоголем умы и тела отзываются на ее страстный вызов. А Стрижка поднимает тонкие, гибкие руки над головой и начинает танцевать. Ее бедра выписывают восьмерки, в глазах бесенята, а на губах играет загадочная улыбка – и этот контраст между наивностью и бесстыдством распаляет еще сильней. Наши взгляды прикованы к ее дергающемуся лобку. Мы не видимв ней сестру нашего друга, нам плевать, что она не в себе, перед нами девчонка – голая девчонка! Лишь это сейчас имеет значение. Не помню, кто из нас первым начал ее лапать, да и какая разница? Вскоре мы набросились на нее втроем. Если бы она сразу закричала, может, это отрезвило бы нас; но она только хихикает и лезет обниматься, прижимаясь гладким горячим телом… Только когда Цыган валит Стрижку на пол, мусоля губами ее лицо, я понимаю, что происходит. Она уже не смеется, а испуганно хнычет, пытаясь его оттолкнуть. Одной рукой он приспускает штаны вместе с плавками. От сознания того, что сейчас произойдет, на меня накатывает такая волна дурноты, что я почти теряю сознание, но тонкий мучительный крик возвращает меня к реальности. Ужасной, невообразимой реальности. Стрижка орет в голос, пытаясь перекричать Глорию. Я бросаюсь к ним, потому что так неправильно, потому что мои друзья не могут так поступать, потому что не должна дурочка, никому на свете не причинившая зла, кричать, словно зверек в капкане. Смуглая задница Цыгана ритмично дергается между ее раскинутых ног. Я хватаю его за скользкую от пота шею, но тут дохляк Валька так заряжает мне кулаком в скулу, что из глаз вместе с искрами выплескиваются жгучие слезы. Отлетев, я опрокидываю «Ригонду», Глория, взвыв ошпаренной кошкой, затыкается на полуслове, но Стрижка продолжает кричать. – С-сука, руки ей держи! Слышится звонкая оплеуха, крики Стрижки переходят в жалобный скулеж. Я падаю на колени, упершись ладонью в прохладный ворс ковра. Краем глаза вижу, как Мартын спокойно обходит извивающиеся тела, направляясь к двери. Выпростав руку, Стрижка пытается поймать его за штанину в надежде, что старший брат, как всегда, придет ей на выручку. Но Мартын уклоняется и исчезает в коридоре. Это сон, просто кошмарный сон. Я хочу помочь Стрижке, должен помочь, обязательно помогу, как только комната перестанет вращаться, как только пройдет одуряющая тошнота. А тем временем Цыган запрокидывает перекошенное лицо и с ревом изливается в Стрижку, стискивая побелевшими пальцами ее маленькие грудки. Отваливается, тяжело дыша… уступая место Вальке. Тот переворачивает ее на живот, чтобы не видеть искаженного мукой лица. И снова крики, больше не заглушаемые музыкой, сопение, стоны и эти ритмичные, сырые шлепки… Когда все закончено, Валька с Цыганом, не потрудившись даже натянуть штаны, раскидываются на ковре. У Цыгана расцарапана щека. Стрижка свернулась калачиком, подтянув коленки к груди, бедра измазаны кровью и спермой. Она тянет на одной тонкой надрывной ноте: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» Страдальческий ее голос вонзается мне в сердце тупой иглой. Стыдно сказать, но мне не столько жаль ее, сколько хочется, чтобы она наконец заткну- лась…2004
– Это неправда… – еле слышно проговорила Леля. – Саша не мог просто стоять и смотреть. Он не такой. – Он не совсем стоял. – Кривая усмешка пересекла лицо Мартына, расколов маску радушного хозяина. – Скорей уж, ползал. Он не помешал им насиловать мою сестру, как не мешал мне ее колотить. Видишь ли, милая Поллианна, – он поднялся во весь рост и шагнул к ней, сжимая и разжимая пальцы, – я с самого начала подмечал все слабости моих так называемых друзей. Годами исчислял их, взвешивал и нашел очень легкими. – Не понимаю… – Леля прижимала куклу к груди, словно ища в ней защиты. – Что здесь происходит? Мартын засмеялся – жутким, лающим смехом. – Газеты называли нас Кровавыми мальчиками, – сказал он. – Но никто не знал правды. Никто не знал, кто был самым кровавым мальчиком из всех. – Цыган! Это был Цыган! А Валька ему помогал! Выпутавшись из одеяла, я спустил ноги на пол. Комната тут же закружилась перед глазами, бок дернуло тупой болью. Я тоже ничего не понимал. Не понимал, зачем Мартын оставил меня в живых, зачем вызвал сюда Лелю, зачем вдруг решил рассказать ей правду. Знал только, что этого ни в коем случае допустить нельзя. Потому что после такой правды не оставляют в живых.1991
Когда Мартын возвращается, пряча руку за спиной, я поначалу думаю, что он принес Стрижке что-нибудь в утешение. Ее надо успокоить, прежде чем мы подмоем ее, оденем и постараемся забыть обо всем, что произошло. Она и впрямь забудет через час, самое большее – два, когда поутихнет боль. Она никогда не поймет всю гнусность того, что мы… что мои друзья… с ней сделали. А вот нам придется как-то жить с этим. Всхлипывая, она ползет к Мартыну на четвереньках, с трудом поднимается на ноги, кривя рот в рыданиях. По бедру сползает кровавая струйка. Стрижка вытирает ее рукой и показывает брату испачканную ладонь: – Мне больно… Только теперь Цыган с Валькой, осознав, что натворили, пытаются натянуть штаны. И только когда молоток рассекает воздух и врезается в круглую Стрижкину голову, я понимаю: то, о чем я думал, было далеко не худшим вариантом. Ее глаза распахиваются в изумлении, руки взвиваются над головой. Стрижка издает сдавленный возглас. Кровь ручьем хлещет из пробитой головы. Следующий удар разбивает нижнюю челюсть. Стрижка давится собственным криком и осколками зубов. Теперь орем мы трое, а встревоженные криками соседи уже барабанят в дверь. Самое страшное в тот момент – лицо Мартына. На нем ни малейшей злобы: никогда в жизни я не видел столь прекрасного, столь одухотворенного лица. Это лицо человека, выполняющего свое призвание, лицо художника, создающего свой шедевр, лицо настоящего Мартына, которого мы никогда не знали. Острый конец молотка вонзается Стрижке между ключицей и шеей, сдирая кожу и обнажив поблескивающее месиво мышц. Кровь выплескивается из раны толчками. Стрижка, хрипя, оседает на пол. Мартын добивает ее остервенелыми ударами по лицу, по груди, по плечам, на глазах ее лысых нелепых кукол, на наших глазах. Темные брызги летят во все стороны, а глухой стук сменяется влажным чавканьем. Тело Стрижки содрогается с каждым ударом, лицо разбито вдребезги, нос раздроблен, один глаз вытек, рот зияет кровавой дырой. Теперь никто не назвал бы ее красивой. Цыган с Валькой налетают на Мартына с кулаками, пытаясь выдрать из его рук молоток. Их пальцы скользят по липкой рукояти, Мартын с рычанием рвется из рук, а дверь в прихожей содрогается под кулаками соседей. Едва Цыгану удается завладеть молотком, как Мартын разражается жутким звериным воем. – Заткнись! – орет Цыган, потрясая окровавленным молотком. – Заткнись, тварь, псих ненормальный, заткнись! Напоенный влагой ветер врывается в окно, взметнув к потолку тюлевые занавески, разгоняя сырой запах бойни. Гром довольно рокочет, словно некое божество получило свою кровавую жертву и теперь готово наградить дождем измученный зноем мир. Высадив хлипкую дверь, соседи наконец врываются в квартиру, чтобы увидеть меня, забившегося в угол, Цыгана с орудием убийства в руке, залитый кровью ковер и обезображенное нечто, еще несколько минут назад бывшее нашей Таней. И дядя Володя, здоровенный «афганец» из квартиры напротив, хуком справа сносит Цыгана с ног. Взвизгнув, Валька кидается к окну, но дядя Володя ловит его за волосы. – Вы… сукины дети! – ревет он. – Что вы натворили?.. Тоненько подвывая, Мартын сжимает в объятиях обезображенное тело сестры. Ален Делон мог бы поучиться у него актерскому мастерству. А за окном свинцовое небо прорывается благодатным дождем.2004
– Хватит, – сказал я. – Это было давно, Мартын. – А я все помню как сейчас! – Он шутливо погрозил мне пальцем. – И что потом было. Как ты вдруг возомнил себя благородным мстителем… – Прости! – крикнул я и, вцепившись в спинку кровати, начал подниматься на ноги. – Прости за все. Позволь нам уйти. – Куда ж вы пойдете? На улице дождь, ты на ногах не стоишь, а Поллианна того гляди родит. Можно, конечно, вызвать такси, но телефона у меня нет, а с твоим случилась беда, – он виновато развел руками, – я его утопил в сортире. Ей-богу, совершенно нечаянно! Леля смотрела на нас, теребя куклу, как никогда похожая на маленькую девочку. Кукла вдруг снова сказала «мама», и Леля, вздрогнув, выронила ее. Покачиваясь на ватных ногах, я лихорадочно озирался, ища хоть какое-то оружие. Задачу отнюдь не облегчало то, что перед глазами у меня по-прежнему все плыло. – Ну вот что, – промолвил Мартын. – Помоги мне решить одну проблему в подвале, и я сам подброшу вас до станции. Обещаю. – В подвале? – со страхом переспросил я. – Что в подвале? – Сказал же: проблема. А Поллианна пусть пока подождет здесь. – Пожалуйста, перестаньте называть меня Поллианной, – попросила Леля. – И вообще, я пойду с вами. – То, что ты там увидишь, может очень плохо сказаться на твоем здоровье, Поллианна, – спокойно ответил Мартын. – Твоем и твоего ребенка. Это между нами, мальчиками. Кровавыми мальчиками. Он протянул мне руку.1991
Ни у кого не возникло ни малейших сомнений, что Мартын не мог жестоко убить сестру, о которой всю жизнь заботился. Такое могли совершить только те, чья сперма была найдена на ее изуродованном теле. Следователь хлестал меня по щекам, требуя, чтобы я прекратил «валить с больной головы на здоровую». Небось, Цыгана с Валькой обрабатывал кулаками. Я не осуждаю его. Сыщик старой советской закалки, прямой и честный, он не мог принять нашу версию событий. Это значило бы крах всего, во что он привык верить. – Ты же неплохой парень! – кричал он, подкрепляя свои слова очередной затрещиной. – Ты ничего не делал, Мартынов это подтверждает. Говорит, ты просто боишься этих скотов. Так будь, наконец, мужиком. Иначе это знаешь как называется? Со-у-час-ти-е! В конце концов он прихлопнул меня газеткой. Той самой, с «кровавыми мальчиками». В ней очередная «совесть нации» доказывала, что наше преступление – «закономерный результат годами насаждавшихся безбожия и пренебрежения к человеческой жизни во имя химеры светлого коммунистического будущего», перемежая все цитатами из Достоевского. Заканчивалась статья словами: «Видимо, эти кровавые мальчики и есть обещанное нам светлое будущее». Такое уж время было – добивать издыхающий строй не брезговали ничем. – Бред, конечно, – промолвил следователь. – Но погоняло звучит. – Положив руку мне на плечо, доверительно заглянул в глаза. – Как считаешь, подходит оно тебе? Я решил, что не подходит. Я не хотел, чтобы моего отца уволили с работы, как Валькиного, чтобы нам били окна, как семье Цыгана, чтобы соседки шипели моей матери вслед. Рассказывая на суде, как Мартын защищал сестру от насилия, я пытался углядеть на его лице хотя бы промельк раскаяния. Но видел лишь показной гнев и лживую скорбь. Когда я закончил давать показания, уголок его рта дрогнул в едва заметной усмешке. Валька зарыдал в голос, а Цыган вскочил, крича, что убьет меня. Мать Мартына смотрела на них тяжелым, потухшим взглядом. Рядом с ней сидели несколько женщин – подруги с работы, а может, кто-то из Стрижкиных «пациенток»; глаза у них были такие, будто лишь суровые менты-конвоиры мешают им разорвать Цыгана с Валькой на части, и меня вместе с ними. И когда суд вынес решение – по десять лет лишения свободы, максимальный срок для нашего возраста, – у меня было чувство, что это и мне приговор. Моя семья перебралась на другой конец города. Доучиваться мне позволили на дому. Родители не могли выносить косых взглядов, а я не мог видеть Мартына. И ад следовал за ним. Охрана обнаружила Вальку на рассвете – тщедушное тело, почерневшее от побоев, скорчилось под нарами в луже свернувшейся крови. Несколькими днями позже отец Цыгана сел на диван, вставил в рот двустволку и снес себе затылок, прибавив к узору на ковре собственные мозги. Должно быть, Валькина участь напомнила ему, что прямо сейчас происходит с его собственным сыном. Следующим чуть было не стал я. Однажды лег в горячую ванну, прихватив старую отцовскую бритву. Но пустить в ход не смог. Трус – он и в Африке трус. Наутро я наведался на пустырь, где Стрижка играла с муравейником. Сам не знаю зачем. Она была бы рада увидеть, что ее муравьишки отгрохали хоромы больше прежних. Глядя на этот неказистый дворец из веточек и трухи, я понял, что даже Мартыну не под силу разрушить все. – Я буду жить, – прошептал я, склонившись над муравейником. Его обитатели не обращали на меня внимания, поглощенные своими заботами. Я выследил Мартына, когда он провожал из школы Ингу, девушку Цыгана. С ним она не была динамо-машиной. Наблюдая из-за кустов, как они обжимаются на крылечке, я до боли в руке стискивал обрезок трубы. Она скрылась в подъезде, и я напал на Мартына. Я его славно отделал. Он не кричал, только шипел от боли, корчась в пыли. Но, когда я в очередной раз замахнулся, он сплюнул кровью и сказал спокойно: – Ну давай. Цыгану одиноко без Вальки возле параши. В тот момент я мог проломить ему башку. Но слова о Вальке попали в самую точку. – Живи, – ответил я. – Можешь теперь убить меня. Покажи всем, кто ты есть на самом деле, мразь. Мне уже все равно. Его разбитые губы растянулись в улыбке: – А ведь это пат! В кои-то веки ты поставил мне пат! Только учти, Сашка: я всегда беру реванш.2004
Деревянные ступеньки стонали под нашими ногами, когда мы спускались в подвал. В босые пятки мне впивались занозы, но я не обращал внимания. Меня охватила тупая апатия, как бывает у животных, угодивших в когти к хищнику. Внизу царил полумрак. Огонь, пляшущий в окошке огромной печи в углу, разгонял тьму дрожащими отсветами. Но и этого хватало, чтобы разглядеть дубовую колоду, всю в темных потеках, на которой лежало кровавым комом то, что осталось от головы Цыгана, скаля щербатый рот; нож, воткнутый рядом, – длинный тяжелый боевой нож, способный одним хорошим ударом перебить кость; голый торс, покрытый синюшным узором безобразных наколок, и откромсанные конечности; и, наконец, женщину в инвалидном кресле, чье лицо больше всего напоминало мумию из подвала Нормана Бейтса. Глаза ее тускло блестели, как бутылочное стекло в прогоревшем костре, седая голова, обтянутая пергаментной кожей, мелко тряслась на тощей шее. На вялых губах пузырилась слюна. Костлявые руки, похожие на птичьи лапы, покоились на коленях. – Тетя Зина… – прошептал я. Было трудно узнать ее в этом жалком полутрупе. – Аыыы! – промычала она. Иссохшее тело задергалось в кресле, водянистые глаза вращались. – Уыйа! Уыйа! – Да, мама. – Отсветы огня дрожали на лице Мартына. – Убийца. – Он подошел к матери и погладил ее по макушке. Она втягивала голову в плечи, пытаясь избежать его прикосновений. – А ведь я кончил, когда лупил Танюху молотком. Чудо, что никто не заметил пятна на брюках. – Замолчи, – сказал я. – Ты просто больной. Он вытащил из кармана перчатки, не спеша натянул. Потом взялся за рукоять ножа. Сталь выскочила из дерева со звуком «пиньг!». – Я зверь. Отведал крови и не могу насытиться. Когда я убивал сестренку… – Слово «сестренка» он произнес с искренней теплотой. – …Это был пик всей моей жизни. Я скучаю по ней. Мне хотелось бы повторить. Старуха взвыла раненым зверем. Разум, увы, не покинул ее, застряв в беспомощном теле. Я представил, как она целыми днями сидит в темноте, вынужденная слушать эти откровения, и меня охватила ярость. – Хватит! – рявкнул я. – Прекрати над ней изгаляться! – Так избавь ее от страданий. – Он протянул мне нож. – Покажи, на что ты готов ради своей Поллианны. Наверное, я внутренне ожидал чего-то подобного. Он не заманил бы Лелю, если б не хотел заставить меня сделать что-то ужасное, на что я никогда не пошел бы даже ради спасения собственной шкуры. И все же от его слов, от спокойствия, с каким они были произнесены, меня бросило в дрожь. – Отрежь ей голову, и поезжайте домой, – продолжал он. – Ты не сможешь заявить на меня, а я на тебя. Пат, но уже на моих условиях. Трусливый голосок у меня в голове уверял, что старуха примет смерть как милость. И потом, шептал этот подленький голосишко, разве не она во всем виновата? Разве стал бы ее сын зверем, если бы она не лишила его детства, повесив обузу ему на шею? Она уже не человек, а обломок человека; а Леля – живая, с моим ребенком под сердцем. Есть ведь такая штука, естественный отбор называется… – Хорошо, избавлю, – сказал я, взяв нож. И направил его в грудь Мартына. Лезвие вонзилось в воздух, а его кулак – мне под дых. Скорчившись, я рухнул на колени. Оброненный нож жалобно звякнул о бетонный пол. – К этому душа лежать должна, – наставительно произнес Мартын. – Иначе ни черта не выйдет. У меня еще как лежала. Я рванулся к ножу, тускло поблескивавшему на полу, но тут же получил удар ногой в раненый бок, и мир превратился в море боли. Подобрав нож, Мартын отступил к коляске и развернул тетю Зину ко мне лицом. Она смотрела на меня слезящимися глазами, полными ужаса. – Смотри и учись, – сказал он и всадил нож в шею матери. Глаза старухи вылезли из орбит, кровь хлестнула тугой струей. Дрожащий пузырь вздулся на губах и лопнул, оросив щеки рубиновыми капельками. Мартын полоснул ножом, рассекая гортань и трахею. Кровь хлынула из ее носа и рта, заливая платье. Тетя Зина несколько раз содрогнулась и замерла, уронив голову на грудь. Я кричал. Орал, визжал, корчась на полу, как раздавленное насекомое, срывая голос, будто криком мог разогнать тьму, готовую поглотить мой рассудок. Мартын резкими отработанными движениями рассек мышцы и позвонки и поднял голову за седые волосы, словно кровоточащий трофей. – Этому я научился в Чечне, – пояснил он. – Хочешь знать, сколько у меня на счету? Скольких ты убил, когда поддержал меня на суде? Меня захлестнуло слепое бешенство. Одна мысль билась в голове: растерзать, уничтожить эту тварь любой ценой! Превозмогая боль, я начал вставать, но Мартын толкнул мне навстречу коляску с обезглавленным телом. Она ударила меня по коленям и сбила с ног. Труп рухнул сверху, обняв меня вялыми руками, заливая кровью, толчками бьющей из обрубка шеи. Задыхаясь, я пытался скинуть его… Мартын открыл заслонку печи. Из ее раскаленной пасти гулко рвануло жаром, кирпичные стены проступили из темноты. Он швырнул голову в печь. Пламя встрепенулось, принимая подношение, заполняя подвал смрадом горящей плоти. Огромная тень Мартына металась по стене. Сквозь слезы, застившие взгляд, я видел, как огонь охватил спутанную паутину волос, как лопнули глаза, выплеснувшись на щеки шипящими сгустками. Заслонка захлопнулась с громовым лязгом, навсегда отсекая тетю Зину от мира живых. А Мартын уже приближался ко мне, весь в крови – ухмыляющийся дьявол с окровавленным ножом в руке. Круглый белый заварник ядром просвистел в воздухе и разлетелся о его голову, разметав во все стороны брызги кипятка. Взвыв, Мартын упал на одно колено. Из-под его волос потекла кровь. – Саша, беги! – кричала Леля. Она стояла на лестнице, цепляясь за перила, – смешная маленькая фигурка, неуместная в этом кровавом кошмаре. Я столкнул с себя тело. Оно повалилось Мартыну под ноги, и тот растянулся на полу, по-волчьи лязгнув зубами. Клинок чиркнул по бетону, высекая фонтанчик искр, а я, вскочив, кинулся к лестнице, к Леле… Три ступеньки оставалось, когда сильные пальцы вцепились мне в лодыжку и потащили назад. Пересчитывая лбом ступени, я услышал визг Лели. В голове сверкнуло, а потом меня снова поглотила темнота. В этой темноте ждала меня Стрижка, совершенно нагая, как в день своей смерти, испускающая серебристое свечение. Вокруг нее сновала армия муравьишек. Она с улыбкой раскрыла мне объятия и сказала весело: – Ничего не бойся, мальчик!1992
Ранней весной, незадолго до переезда, я пришел на кладбище. Сгребавший снег лохматый студент в косухе охотно объяснил, как найти могилу Тани Мартыновой. – Эх, чудо была девчонка, – вздохнул он. – Гадов бы этих своими руками… – Ты ее знал? – удивился я. – Ну как знал… – Опершись на лопату, парень сунул в рот сигаретку, щелкнул зажигалкой. – Меня пару лет назад кошмары замордовали, бр-р… В штаны дул конкретно. Перезубрил. Ты ж поступаешь, да? Считай, предупрежден. Думал я академку взять и прилечь в больничку. А хозяйка, у которой я квартиру снимал, говорит: сходи к Мартыновым. Пошел. Таня мне сразу понравилась, хотя куклы эти ее, конечно… Глаза у нее такие были, знаешь, не пустые, как у дебилки, а наоборот, будто она шарит в том, в чем мы ни бум-бум. Она сказала: «Ничего не бойся, мальчик». Мальчик! И вот как-то сразу я понял, что ничего не должен бояться на свете. А она меня обняла, крепко-крепко. И знаешь, как отрезало. Дрянь всякая больше не снится. Я молчал, пряча руки в карманы джинсов, чтобы он не заметил, как они дрожат. – Брательник у нее странный какой-то, – добавил студент. Сизый дымок его сигареты вился в холодном воздухе. – Я за посетителями приглядываю, так, знаешь, от не фиг делать. Он сюда постоянно ходит. А только улыбочка у него, когда на могилку смотрит, ой нехорошая. Не иначе, те гады ему здорово удружили. – А ты не думал, что это его рук дело? – выпалил я. – Что те насиловали, а он убивал? Студент посмотрел на меня круглыми глазами: – Так его бы по отпечаткам!.. – А они были. Он же гвозди этим молотком заколачивал. – А тот, третий пацан, который его слова подтвердил? – Третий пацан струсил, – сказал я. – Побоялся за себя и свою семью. Многие хотели… своими руками. – Твою же… Ты тот третий, да? – Он самый. Он смотрел на меня, как на говно. – Как же ты можешь с этим жить? – А кто сказал, что я живу? – ответил я и зашагал вдоль могил. Серые лица усопших равнодушно провожали меня взглядами с гранитных надгробий. Я вдруг с пронзительной ясностью вспомнил день, когда впервые узнал, что однажды умру. Было мне четыре года. Со мной случилась настоящая истерика, мама еле смогла меня успокоить. Впрочем, детям смерть все равно кажется чем-то пугающим, но сказочным. Детство кончается, когда принимаешь ее как факт. Могила не была огорожена: просто земляной холмик с грубо отесанным крестом в окружении увядших цветов. В ветвях надрывалась ворона, но некому было откликнуться на ее тоскливый зов. Мне хотелось завыть. Упасть на стылую землю, где тлели Стрижкины косточки. Запустить в нее пальцы. Врасти в нее. Не будет больше муравьишек. Не будет досадных приключений, объятий и дурацких танцев под музыку. Остался только этот клочок земли да трухлявый крест. И под убогим этим крестом вместе с юродивой девчонкой погребено было наше прошлое, наши радости и чаяния, наша детская вера в окружающий мир. – Прости меня, Таня, – прошептал я. – Обещаю, что никогда больше не буду трусом.2004
Но я был и остался трусом, а теперь очутился в аду. Смотрел на останки, сваленные у стены, словно дрова, на веревку с петлей, поджидавшую меня, как героиню «Десяти негритят», на печь, в которой утробно гудело пламя, превращая в золу человеческую плоть. Печь тоже ждала. И ждал дьявол с обожженным, окровавленным лицом и ножом в руке, зажимая рот моей жене. Леля ежилась в инвалидном кресле, дрожа всем телом. Она была в одних маечке и трусиках, оголенный живот выпирал бильярдным шаром. Только не такой твердый. Нож взрежет его, как арбуз. – Если будешь тянуть, я вспорю ей живот, – предупредил Мартын, будто угадав мои мысли. – Как боженька завещал: богу – богово, а Поллианне – кесарево. Она еще успеет увидеть, как ваш ребенок превращается в золу. Леля жалобно замычала. В ее карих глазах над затянутой в перчатку рукой плескался ужас. – Ты все равно убьешь нас, – сказал я. – Ясен пень. – Он поднес нож к ее глазу. Она зажмурилась. – Залезай. Он не оставит свидетельницу, это я понимал. Но и видеть, как он вонзит в нее нож, не мог. А потому влез на колоду и дрожащими руками взялся за петлю. Острие ножа коснулось Лелиного века. Я накинул петлю на голову. Ноги подкашивались, колода угрожающе зашаталась. – Затяни вот так. – Мартын покрутил головой. Я последовал указанию. Петля мягко обжала шею. Пока еще мягко. – Мы же были друзьями! Не знаю, зачем я это сказал. Слепая надежда, порожденная отчаянием. – Не надо ля-ля, – улыбнулся Мартын. – Вы бы первые меня сдали, и тогда не Цыгана с Валькой, а меня жарили бы в пердак. Он отпустил Лелю. Она со всхлипом втянула в себя воздух. – Хочешь, чтобы твой муж жил? – Леля горячо закивала. – Вставай. Она попыталась, но ноги не слушались ее. Мартын рывком вздернул ее на ноги и толкнул ко мне. – Ты действительно его любишь? – Да… – прошептала она одними губами. – Не слышу? – Люблю! Люблю! – закричала Леля. – Умоляю, не надо! – Любовь, как говорится, зла. – Он пощекотал ей ножом пупок. Леля жалобно пискнула. – Кто там, мальчик или девочка? – Девочка! – Внезапно Леля схватила его за руку, положила себе на живот и улыбнулась сквозь слезы. – Чувствуете? Ножками толкается. Мы очень хотим жить. Мартын вытаращился на нее. И расхохотался. Леля захохотала тоже, срываясь на рыдания. Хорошая попытка, подумал я. Только таких не разжалобишь. Такие давят людей, как муравьишек. – Твоей девочке нужен отец, верно? – Глаза Мартына сияли. – Я рос без отца, и посмотри, что получилось. Не хочешь, чтобы твой ребенок стал такой же дрянью? – Нет… Ой, простите! – Леля испуганно зажала рот ладошкой. – Ты хочешь быть поддержкой и опорой для своего мужа? – Да! Да! – Как хочешь, – улыбнулся он. И ногой вытолкнул из-под меня колоду. Веревка врезалась в горло, отсекая кислород, язык перекрыл гортань. Я услышал собственный хрип, перед глазами поплыли огненные круги, в голове загрохотали невидимые барабаны. Потом петля ослабла. Сладкий, чудесный воздух ворвался в горящие легкие. Кто-то со стоном толкал меня вверх. Я пытался ухватиться за петлю, но руки будто налились свинцом. Постепенно проступили очертания комнаты, и я снова увидел Мартына. Он наблюдал за Лелей, которая, обхватив меня за пояс, ценой неимоверных усилий не давала мне повиснуть в петле. – Пожалуйста! – простонала она. – Помогите… Мне нельзя… Я потеряю ребенка… – Ты не смотрела фильм «Однажды на Диком Западе»? – небрежно осведомился он. – Нет? Вот такое кино! Если выживешь – обязательно посмотри. Отчаяние неожиданно придало мне сил. Обеими руками я сумел вцепиться в петлю и начал вытаскивать голову. – А вот этого не надо, – покачал головой Мартын. – Леля!.. – просипел я, дергая головой. – Тяни меня вниз! Повисни на мне! – Нет! Он рванулся к нам, но было уже поздно. Леля, моя умница, обхватила меня покрепче и оттолкнулась ногами от пола. Веревка сдавила мне череп. Если бы я не держался за нее руками, мне бы наверняка оторвало голову. Но в итоге случилось то, что и должно было случиться. Не выдержав веса сразу двух тел – трех, считая ребенка! – крюк со звоном выскочил из потолка. Мы обрушились на пол в облаке известковой пыли. Я пытался содрать с головы петлю, но одеревенелые руки не слушались. Верхняя губа Мартына вздернулась в волчьем оскале. Он налетел на Лелю и стал остервенело пинать в грудь, в бок, в живот… Она кричала, подтягивая колени к животу в тщетной попытке защитить ребенка. Судорожно хрипя, я полз к ним, понимая, что уже опоздал, что не смогу спасти ее, как не смог спасти Стрижку. Удар ногой угодил мне в челюсть. В голове будто бомба взорвалась. Я опрокинулся на спину, а Мартын оседлал меня и, схватив за волосы, поднес нож к горлу. – Ну что, – выдохнул он, – теперь тебе не все равно? Позади него скулила на полу Леля. Я рванулся, но его пальцы были словно из железа отлиты. Холодное лезвие взрезало мою кожу. – Раз, – сказал он. Леля с трудом вставала. Ее лицо было искажено болью, но она поднималась, поднималась! – Два… На счет «три» я плюнул ему в лицо собственными зубами. Разбитый рот отозвался ледяной болью, но ничто в жизни не доставляло мне большего удовольствия. Вскрикнув, Мартын отпрянул. И тогда Леля врезала ему по физиономии кулаком, из которого выглядывал винт потолочного крюка. Витой болт пробил левый глаз Мартына. От его вопля, казалось, содрогнулись стены подвала. Его кулак достал Лелю в живот, и она отлетела, выдернув болт с отвратительным чмоканьем. Но главное – Мартын выронил нож. Это была первая его ошибка, и она же стала последней. Когда он снова повернулся ко мне, зажимая рукой истекающую кровавой слизью глазницу, я встретил его ножом. За Лелю! За Стрижку! За тетю Зину! За Цыгана с Валькой! За всех и за каждого! Я бил в правую часть живота, стараясь попасть в печень, чувствуя, как бежит по руке горячая кровь. Мартын перехватил мое запястье, но от крови оно стало скользким, и я высвободился, раскроив ему пальцы до кости вместе с перчаткой. Тогда он вцепился мне в глотку другой рукой, и перед моими глазами опять заплясали огненные мухи… – Мразь! – прорычала Леля зверенышем и, обхватив Мартына за плечи, несколько раз воткнула винт ему в горло. С хрипом он рухнул вперед, насадившись грудью на нож. Кровь выплеснулась у него изо рта, окропив мне лицо. Леля повалилась на колени, судорожно всхлипывая. Мартын придавил меня мертвым грузом. Его голова лежала у меня на груди, пропитывая кровью майку. В уцелевшем глазу застыло почти детское удивление. Должно быть, он в какой-то момент уверовал в свою неуязвимость. Возомнил, будто страдать и истекать кровью могут все, кроме него. – Шах и мат, – просипел я.2019
Николай Юрьевич Мартынов (14 апреля 1975 – 19 октября 2004) – советский и российский серийный убийца. Первое преступление совершил в возрасте шестнадцати лет, жертвой стала его четырнадцатилетняя сестра Татьяна, страдавшая отставанием в развитии. Перед этим он подбил своих приятелей изнасиловать беспомощную девочку, что позволило ему обвинить их и в убийстве…» Так начинается статья о Мартыне в «Википедии» – и так заканчивается история Кровавых мальчиков. Я остался последним. Мальчик, который выжил. Я тоже упомянут в статье, как и Леля – спустя годы нам с большим трудом удалось отучить нашу дочку хвастаться друзьям, что ее мама и папа «настоящего маньяка́ грохнули!». Там нашлось место даже официантке Ирине Лещук из кафе «Коко», подруге тети Зины, которая заботилась о ней до того, как Мартын вернулся из армии. В ту страшную ночь именно Лещук позвонила Мартыну, как только мы ушли, и предупредила, что его старые друзья снова в городе. «Надеюсь, ты их убьешь», – так она сказала ему. Она плакала, рассказывая об этом в зале суда, и, глядя на нее, я вспомнил, где видел ее раньше – в том самом зале, рядом с тетей Зиной. Судебное заседание наделало шуму. Прокурор требовал вкатить мне пять лет. Самооборона самообороной, но я нанес бедному-несчастному Мартынову с десяток ножевых, когда тот был ранен, безоружен и «заведомо неспособен сопротивляться», что, безусловно, делало меня крайне опасным для общества. Он спросил, раскаиваюсь ли я в содеянном. Я многое хотел сказать, но, поймав испуганный Лелин взгляд, просто ответил, что нет, не раскаиваюсь, и получил пятерку условно. Я солгал. Я раскаиваюсь в том, что забил ножом своего друга детства. Я должен был сделать это трубой много лет назад. Не потому, что мы едва не стали последними жертвами Мартына (кстати, точное их число не установлено до сих пор), не потому, что наша дочь выжила лишь чудом, а Леля больше не сможет иметь детей. Просто таких, как он, не должно быть на свете. Кошмары до сих пор мучают меня, хотя с той октябрьской ночи прошло уже пятнадцать лет. В следующем году наша Таня заканчивает школу. Та, в честь кого мы ее назвали, до сих пор является мне по ночам, когда я задыхаюсь во сне от ужаса. Муравьишки, великие труженики, всюду сопровождают свою королеву, неистребимые в своем извечном, упорном стремлении к жизни. Стрижка обнимает меня крепко-крепко и шепчет: «Ничего не бойся, мальчик». И кошмары отступают.Змей
Полуденное солнце расплавилось высоко в небе, вытравив утреннюю голубизну до малярийно-желтого. Полковник обвел глазами, залитыми едким потом, притихшую толпу и вдруг понял, что все это было уже много-много раз. Были эти жалкие хижины, которые ни один белый не назвал бы жильем и которые, тем не менее, им служили; были пальмы, растопырившие листья в знойном мареве; были безымянные черные, женщины, дети и немощные старики, выстроившиеся беспорядочной шеренгой, и были белые – молодые мужчины, чьи имена он знал наперечет, стоявшие перед черными ровным строем с оружием в руках. Первые ждали своей участи, вторые – приказа, и он знал, что приказ отдаст. Первые были, конечно, уже мертвы; вторые – еще живы, более того – жизнь кипела, бурлила в них, порой переливаясь через край потоком обжигающей жестокости. Все повторялось раз за разом, и не было этому конца и края. – Где они? – в который раз спросил он, все еще надеясь, что сейчас будет по-другому, что кто-то – хотя бы один! – возьмет и ответит, и тогда все начнется и закончится гораздо раньше. Но ответила лишь какая-то птица в лесу – заорала надсадным, раздирающим уши криком, и Полковник подумал, что скоро так же будут орать и молчаливые люди, стоявшие перед ним. Они все орали, когда ребята, стоявшие за ним, принимались за дело. Почему они никогда даже не просят пощады? Солнце сочилось с неба расплавленным свинцом – не спасал и черный берет. Он единственный во взводе носил берет – ребята предпочитали кепки. В молодости Полковник считал, что берет – это элегантно; кроме того, берет ассоциировался у него отнюдь не с военщиной, а с художниками. Сейчас же ему было противно все: и берет, и жара, и выстроившиеся за спиной головорезы, смердящие потом и бессмысленной злобой, и безмолвные аборигены в драных грязно-белых одеждах, глядевшие на него овечьим взглядом, и прошлое, и настоящее с будущим. Хотя нет. Прошлое было ничего. Отдаленное прошлое. Мысли путались, перескакивая с одного на другое. Берет не спасает от проклятой жары… А ведь хороший берет, да, он еще такие видел в фильмах. Тут же, совершенно некстати, вспомнились ему семейные походы в кино: прохлада кинозала, вкус сливочного мороженого (его родители не признавали попкорна и всегда покупали детям перед сеансом по огромной порции пломбира), блаженное ощущение, что он в мире со всем миром. Сейчас бы сбежать туда, в прошлое, чтобы не было пота, въевшегося в каждую складку кожи, чтобы не было этого беспощадного, разящего солнца… Внезапно он и впрямь оказался там, в темном кинозале, а рядом старшая сестра перешептывалась о чем-то девичьем с матерью, и отец раздраженно качал головой, хотя никто этого не видел. Но тут в ухо угодил невесть откуда прилетевший камень, и кинозал исчез, и снова был нестерпимый тропический зной. Тонкая струйка крови побежала за пропитанный потом воротник, обжигая и так опаленную солнцем шею. Полковник развернулся, обведя стволом полуавтоматического «кольта» толпу чернокожих. Что-то явно было не так: ему показалось, что пистолет сам тащит его за руку, черным оком дула высматривая бросившего камень. – Кто?! – каркнул он и тут же увидел сам: какой-то старикашка, сморщенный, как печеный чернослив. Старый пердун не успел даже опустить руку, как загрохотали выстрелы. Эти олухи не дали ему самолично застрелить виновника! Пули отбрасывали черные тела назад; на грязно-белой одежде распускались бордовые цветы. Зазвенели вопли, заглушая пальбу. Толпа рассыпалась. Большинство остались лежать на земле, остальные разбежались – кто бросался к лесу, кто пытался укрыться в хижинах. С теми, кто искал спасения в лесу, разобрались раньше всего: пули валили их на бегу, последний рухнул у самой опушки, задрав напоследок грязные пятки. Потом загудел огнемет, одну за другой превращая хижины в огромные костры. Крики перешли в истошный визг. Пылающие фигуры выскакивали из охваченных огнем хижин и метались по деревне, поджигая все на своем пути. Черный дым заволок небо. Полковник подумал, что отличить горящую женщину от горящего старика очень сложно и только горящих детей ни с кем не спутаешь: они маленькие. Еще он подумал, что парни сами лишили себя возможности позабавиться с местными девчонками (а девчонками после долгого воздержания у них иногда считались даже беззубые старухи). Обгоревшими наверняка побрезгуют. Но и пусть. Какая-то высшая сила, устав раз за разом наблюдать одно и то же, сломала идеально отлаженный механизм. Предполагалось, что он будет долго и нудно выспрашивать, где прячутся повстанцы; его парни начнут демонстративно отстреливать жителей деревни по одному; потом им надоест, и в ход пойдут мачете, потом дойдет до женщин, и всем станет насрать на повстанцев (сам он в этом этапе никогда участия не принимал, чем наивно гордился). А дальше – то, что останется от селения и его жителей, предадут огню и всей кодлой отправятся искать партизан сами. Рано или поздно их всегда находили, кто-то из его бойцов получал-таки по заслугам, остальные завершали зачистку. Раз за разом – одно и то же. А сейчас все пошло лучше некуда. Да, кричали, да, обожженные и простреленные тела корчились на земле, и парни остервенело добивали людей мачете. Но эта вспышка безудержного насилия казалась гораздо лучше хладнокровного, методичного истребления. Он не был частью этого. Он не отдавал приказа. Он ни при чем. Он вообще идет в кино… – Полковник! – подбежал к нему парень с измазанным сажей лицом и забрызганным кровью мачете в руке. – Полковник, с вами все в порядке? – Лучше некуда, – ответил он. – Я как раз собирался пойти в кино. Солдат ошалело разинул рот, и Полковник тут же решил послать в этот рот пулю, но попал почему-то в ногу, и коленная чашечка бедолаги разлетелась кровавыми брызгами. Парень загарцевал на одной ноге, завывая, как подбитая камнем шавка. Еще никогда Полковник так позорно не мазал и нашел это до того смешным, что заплакал. Он подобрал оброненное солдатом мачете и пошел к берегу. Позади что-то кричали его ребята, а жители деревни перестали кричать. И ревел огонь. Он шел и шел, в одной руке болтался пистолет, в другой – мачете, по щекам текли слезы, в сердце звенело ликование: все! Баста! Не будет больше палящего зноя и вони запекшейся крови, не будет жужжания мух и гудения пламени, стихнут обезьяньи вопли и улюлюканье его остолопов за спиной – господи, как там их всех звали? Он переплывет озеро (пусть оно и размером с океан), пройдет через лесок и доберется до дома. Мать всплеснет руками и прочтет длинную лекцию о том, что нельзя плавать в одежде. Отец скажет, что мало его драл, и все трое станут смеяться, а сестра оторвется от журнала и вставит, что его не драли вообще, а зря. Почему-то сестру ему хотелось увидеть больше всего, хотя она и поставила ему однажды отменный фингал… Впрочем, за дело. Вот оно, озеро, огромное, как целый океан. Или это и есть океан? Их вертолет стоял на берегу – лопасти отбрасывали на песок тень, похожую на морскую звезду. Завидев Полковника, из кабины вылез первый пилот. Его заместитель сейчас «веселился» в деревне. – Что там у вас стряслось? Полковник поднял пистолет и выстрелил снова. На сей раз куда удачнее: пилот, вскрикнув, отлетел назад, ударился головой о дверцу вертолета и сполз на землю, оставляя кровавый след. Полковник опустил пистолет и двинулся дальше – в море. Вода заплескалась у бедер, дошла до груди. Волны накатывали на Полковника, толкали обратно. Где-то в вышине перекликались чайки. Полковник зажмурился и поднырнул под набегавшую волну. Он открыл глаза в мерцающей лазурной полумгле. Дно здесь резко уходило вниз, и чем глубже, тем становилось темнее. Внизу царил и вовсе непроглядный мрак, и Полковник понял, что погружается в него. Что-то маленькое и черное в правой руке неумолимо тянуло вниз. Полковник решил избавиться от этой дряни и разжал пальцы. Черное и маленькое стремительно пошло ко дну… Если тут, конечно, было дно. Он тем не менее продолжал погружаться. Что у него в левой руке? Огромный нож… Он уже начал разжимать пальцы, как вдруг на него нахлынул какой-то совершенно необъяснимый ужас. Что-то большое, оливково-зеленое поднималось из мрака ему навстречу. Он вцепился в рукоять мачете с такой силой, что заболели пальцы. Он увидел острые зубы. Он увидел огромный, немигающий, будто из стекла отлитый глаз. Он увидел изгибы гигантского, зеленоватого, покрытого слизью тела. Он увидел… ничто.
Полковник не знал, как оказался на этом острове, не знал даже, как он называется. Он лишь понимал, что остров не тот, который они с ребятами зачищали. Тут не было сгоревшей деревни и мертвых людей. А живые, которые его окружили, вместо бесформенных грязно-белых роб носили одни лишь набедренные повязки, а в руках держали грубо сделанные остроги. Он помнил, как открыл глаза на песчаном пляже, как его долго и мучительно рвало соленой морской водой, как, услышав скорбную перекличку чаек, он удивился, что все еще жив. Но совершенно не помнил, как плавал по океану и каким образом умудрился не утонуть. Он помнил чудовище, поднявшееся из пучины, хоть и смутно. Но никак не мог вспомнить своего имени и откуда он родом. Он знал лишь то, что он – Полковник и что он убивал таких людей, как эти вокруг, пока все не утратило смысл. Вероятно, течение унесло его в открытый океан, а там его подобрали рыбаки из какого-то туземного племени. Черные лоснящиеся рожи склонились над ним, сверкая белыми зубами. Черные руки схватили его. Кто-то вырвал из пальцев мачете. Полковник понял, что сейчас его убьют и съедят, и забился в руках туземцев. Его притащили в деревню, и Полковник решил, что сырым его есть не будут, а сперва изжарят. Но и жарить не стали, а вместо того, чтобы съесть, – хорошенько накормили и напоили. Полковник решил, что его откармливают на потом, и совершенно успокоился: не стыдно принять смерть от рук людей, умеющих откармливать скот. Значит, не такие уж дикари. Голые ребятишки бегали вокруг Полковника, тыча в него грязными пальцами и заливисто хохоча – над его обожженной солнцем кожей, над покрывавшей лицо щетиной, в которой засохла морская соль, над мокрой, обтрепанной одеждой. Дети есть дети, подумал Полковник, они всегда глухи к чужому несчастью. Что черные, что белые. – Дети – злобные твари, – сказал он. Ребятишки все разом остановились, будто у них кончился завод, и уставились на него любопытными черными глазенками. – Дети, –продолжал он, – это наше будущее, и по ним видно, что всем на будущее насрать. Они смотрели на него с таким неподдельным интересом, что Полковник решил продолжать. Но тут набежали мамаши (такие же наседки, как те, что водились в его родном городке, только черные и с голыми сиськами) и утащили детей прочь, повторяя какое-то слово на незнакомом Полковнику языке. Впрочем, он и сам догадался, что слово это означает «сумасшедший». – А почему бы и нет? – сказал он вслух. – Весь мир такой.
Если Полковника и считали безумцем, то проявили потрясающую беспечность, даже не попытавшись его связать. Он мог бродить где вздумается и брать, что пожелает. Пару раз он, сам не зная зачем, брал свое мачете, которое туземцы повесили на стену одной из пустующих хижин, так и не найдя ему применения. Белые при виде психа с огромным ножом подняли бы крик и попытались бы его обезвредить самым безопасным для себя способом: застрелив или огрев чем-нибудь по башке. Черные просто забирали мачете и невозмутимо вешали обратно на стену. Полковник никогда не делал различий между белыми и черными: приходилось ему убивать и тех и других. Он решил, что бегающей за ним по пятам ребятне не помешало бы все это знать, и однажды снова завел речь. – Дети, – сказал он, раскинув руки, словно пастор на кафедре. – Знаете ли вы, чем я занимался? Белые мудаки находили у черных мудаков нефть. Или алмазы. Или медную руду. Или еще что-то находили – какая разница? Они обращались к черным царькам и просили дозволения разработать эти места, потому как черных сегодня принято спрашивать, правда, для этого черный должен высоко сидеть, на вас, голозадых папуасов, всем по-прежнему срать. Черные царьки соглашались – за большие деньги, ясное дело: любят царьки вкусную жрачку и тугую дырку. Но местным рытье на их исконной земле было как чирей на жопе. Поднимались бунты. Негрилы добывали откуда-то огнестрел. Белые мудаки обсирались и бежали жаловаться черным царькам на их некультурный народ. Черные царьки посылали черных вояк, и те давали местным пару уроков. Но иногда выход был один – добрый старый геноцид, и тогда нанимали нас. Мы решали вопрос окончательно и бесповоротно. Спрашивается: хрена ли вы за мною таскаетесь? Малыши стояли вокруг него, кто ковырял пальцем в носу, кто колупал ногою песок. Полковника это привело в ярость. Он заорал на детей и принялся швыряться в них горстями песка. Ребятишки с визгом разбежались, а потом остановились и уставились на чудно́го белого, пытаясь понять, с чего он вдруг так разозлился. Но они не могли понять – настолько все, чем Полковник жил, было для них чуждо. Впоследствии он обнаружил, что в племени нет даже обязательного черного царька: дети подчинялись женщинам, женщины – мужчинам, старики не подчинялись никому – и племя все равно жило припеваючи, чем ужасно раздражало Полковника.
Шли дни, бесконечная череда совершенно одинаковых дней и ночей. Утром огромный красный шар солнца поднимался из океана в голубеющее небо, где выцветал до бледно-желтого и поливал, поливал, поливал остров нестерпимым зноем. Обитатели деревни вылезали из своих хижин и принимались за работу. Женщины собирали плоды с деревьев, таскали воду из ручья, мастерили браслеты, плели цветастые юбки из каких-то ярко окрашенных волокон и лепили из глины горшки. Непонятно было, зачем им столько горшков. Мужчины на челноках, столь утлых, что любой нормальный человек отказался бы переплыть в таком даже небольшой пруд, смело выходили в открытое море. Лихо орудуя деревянными веслами, они отплывали на многие километры от берега, ловили рыбу и больших черепах. Дети откровенно бездельничали – плескались в море и с визгом гонялись друг за дружкой весь день напролет. Старики тоже бездельничали – но по-тихому: валялись на солнышке или собирались кучкой под чьей-нибудь хижиной, вполголоса переговариваясь. Возможно, поминали былые деньки, скорее всего, ничем не отличавшиеся от нынешних. К вечеру племя собиралось в центре деревни, разжигало костры и закатывало пир. Солнце садилось в океан; костры гасли вместе с последними его лучами, и народ разбредался по хижинам. Наступала удушливая бархатисто-черная тропическая ночь, полная загадочных шорохов и стрекота насекомых. Утром огромный красный шар солнца поднимался из океана в голубеющее небо… Полковник бродил по острову неприкаянным духом, которого никто не боялся. Спал на берегу, наотрез отказавшись занять предложенную ему хижину. Питался вместе со всеми, благо туземцы, очевидно, не знали таких понятий, как «свой – чужой». Одежда его обветшала. Лицо зарастало густой бородой. Он брал мачете и сбривал ее, нанося себе ужасные порезы. Туземки жалостливо качали головами, отнимали у него нож, а раны залепляли какой-то липкой вонючей дрянью, от которой те, как ни странно, полностью заживали. В благодарность он называл их черномазыми дырками. Женщины лишь беззлобно смеялись и снова качали головами – все равно не понимали. Иногда он испытывал желание напроситься с мужчинами в море – какое-никакое, а занятие; но слишком хорошо помнилось увиденное в глубине – оливковые кольца гигантского тела и немигающий глаз. Нет уж, пускай сами плавают в водах, где встречаются подобные твари. Впрочем, его никто и не звал – много ли толку от безумца? Очень скоро его вспышки гнева перестали пугать детвору и, напротив, начали забавлять: однажды дети сами решили его разозлить – они прыгали вокруг, крича что-то явно обидное, и кидались в него ракушками. Но из хижин немедленно вылетели мамаши, и проказники, получив хорошую трепку, тотчас угомонились. Языка племени Полковник не выучил и учить не собирался, что не мешало ему читать детям проповеди, которых они не поняли бы, даже зная его язык. Он вещал, что мир – суть большая задница; что люди в нем – дерьмо; что старшина Как-Его-Там-Звали-Мудилу был редкостной сволочью и тренироваться под его началом было истинной мукой. Невпопад вставляя уцелевшие в памяти обрывки собственной биографии, он незаметно переходил на воспоминания о детстве. Он рассказывал детям об отце, который работал учителем истории, а в свободное время собирал различные сказки; о матери-домохозяйке, увлекавшейся фотографией; о сестре, которая выписывала научно-технические журналы и ходила в школу в рабочих брюках и мужской рубашке, но все равно не имела отбоя от поклонников. Его семейка вся состояла из противоречий. Ему казалось, что они понимают… пусть даже не слова, но выражение его лица, интонацию… Когда речь заходила о семье, он говорил мягче, спокойнее, и черные рожицы расплывались в довольных улыбках. – Папаша сейчас не захотел бы меня видеть. И не увидит: я не помню, как зовут этого мудака и где он живет. Если он вообще еще жив. Да и черт с ним. А вот с сестрицей я бы повидался. Хотя не стоит, наверное. Случилась, значит, та заваруха, как ее… Словом, та заваруха. Я там малость перегнул. Но эти партизаны! Они вытворяли с нашими такое, что я решил: почему бы не угостить этот народишко его же лекарством? И попал во все газеты – есть чем гордиться! Чудом избежал трибунала. Из армии пнули. После такого домой носу не покажешь. Не из-за папаши… Плевать я хотел на этого идиота. Из-за сестры. Не поверите, но я не смог бы посмотреть ей в глаза. Тут по всей стране начали открываться частные военные компании – просекли, что много нашего брата слоняется без дела и рвется обратно в строй. Я записался в первую попавшуюся. Набирали туда молодняк, тупой и злобный, зачастую прямехонько из-за решетки, а я делал из этих придурков годных бойцов. Нормальные солдаты удачи меня и моих парней за последнюю мразь держат. Но знаете что? Срать я на них хотел. Мы высаживались, зачищали и сматывались, а нанявший нас царек потом публично лил крокодиловы слезы по нескольким десяткам погибших подданных. Никакая ООН не могла взять его за жопу, а это дорогого стоит, верно? Обычно в конце своих речей он сбивался и городил полную околесицу; он знал, что хочет донести до не понимающих его слушателей, но выразить не мог. И тогда он начинал выкрикивать проклятья вперемешку с отборной бранью, и детишки разбегались со смехом. А Полковник, успокоившись, шел на берег, где смотрел, как покрасневшее, будто от стыда за его поведение, солнце садится в океан, а ленивые волны облизывают песок. Так незаметно проходили дни. Полковник потерял счет времени и решил, что время остановилось вовсе. Его это совершенно устраивало.
Незнакомец явился на исходе ночи, когда краешек солнца прорезался из-за горизонта и окрасил небо в нежно-розовый цвет. Он вышел из-за деревьев и остановился метрах в десяти от Полковника. Полковнику той ночью плохо спалось: во сне он ел мороженое, отдающее рыбой. Шороха песка под ногами пришельца оказалось достаточно, чтобы его разбудить, и, проснувшись, он сразу учуял рыбный дух. – Гадость, – пробормотал Полковник, с трудом разлепляя запекшиеся веки. Его мутный взгляд тут же упал на незваного гостя. – А ты еще кто такой? Несмотря на то что незнакомец стоял на открытом месте, его скрывала глубокая тень. Полковник смог лишь разглядеть, что одет мужчина в военную форму, руки держит на бедрах, на голове красуется черный берет. Гость был крепко сбит и широк в плечах – во всей его фигуре сквозило непонятное и неприятное сходство с фигурой самого Полковника. Тот содрогнулся. – Еще раз спрашиваю: кто таков? – С добрым утречком, сэр Джон! – весело прокричал незнакомец и вскинул руку в приветствии. – Чертовски рад видеть тебя после стольких лет! Полковник сел, отряхнул от песка ладони и произнес: – Не знаю, кто ты такой, но ты чего-то попутал. Меня зовут не Джон. Я не помню, как меня зовут, но точно не Джон, и тебя я вижу впервые. – О, но ведь мы знакомы уже давно! – воскликнул незнакомец. – Давным-давно, когда свиньи пили вино, а мартышки жевали табак, а куры его клевали. – И от этого жесткими стали… – прошептал Полковник. Он вспомнил сказки, которые в совсем уж сопливом детстве читал ему вслух отец. Так начиналась история про трех поросят. – Так точно! – воскликнул незнакомец. – Хотя я, разумеется, из другой сказки. Вижу, мозги у тебя не совсем превратились в кашу. А то мне даже было немного совестно, хотя свихиваться ты начал задолго до той встречи со мной. – Что?! – Кстати, спасибо за берет. Славный берет! Я использую его в своей… человеческой ипостаси. Он мне идет, да? Ты потерял, я подобрал. Он достал из кармана сигарету, сверкнула вспышка; Полковник готов был поклясться, что незнакомец высек огонь из пальца. Он поднес сигарету к скрытым в тени губам, и огонек выхватил из темноты краешек его лица, отразился в огромном, немигающем, будто из стекла отлитом глазу. Полковник охнул и вскочил. – Ты! – выдохнул он. – Нет, кажется, я уже совсем… – Почему? – спокойно спросил незнакомец. – Все верно: это меня ты встретил тогда в океане. Но на самом деле, друг мой, мы встречались с тобой много раньше. А имя твое – сэр Джон Лэмбтон, и я имел удовольствие сразиться с тобой на реке Уир, давным-давно, в туманном Альбионе. В тот раз мы с тобой не поладили, и все закончилось плохо. Похоже, нам обоим выпал еще один шанс. Полковник засмеялся: – Вот оно что! Да ты еще больший псих, чем я. Я родился в семье учителя, а «сэром» меня называли только солдаты. – Ты, мой друг, – сказал незнакомец, – Джон Лэмбтон – и точка. Потому что я так сказал. – А ты… – Аз же есмь червь, – произнес незнакомец. – Змей, дракон, зови как хочешь. Разве не слышал, что мы умеем принимать человеческий облик? – Червь, значит? – сказал Полковник. – И чего же ты хочешь? У тебя ко мне какой-то счет? – Счет? – искренне удивился гость. – Разве мы с тобой не одно целое? Я появился на свет, когда ты подглядывал за сестрой в душе и теребил свой причиндал… Полковник побагровел. – …и был тогда размером с него, хотя мне и неприятно такое сравнение. Кстати, помнишь, как она тогда двинула тебе в глаз? Но я рос! С каждым новым твоим подвигом. К твоим шестнадцати я был длиной с неплохого гремучника. Думал, таким и останусь. Но ты решил, что мирное бытие не для крутых парней, и началась настоящая жизнь! Сейчас я могу повелевать ураганами и штормами, насылать цунами и устраивать землетрясения. У меня нет причин ненавидеть тебя: ты сделал меня таким. Смотри! Он поднял руку, щелкнул пальцами, и Полковник, цепенея от ужаса, увидел, как вокруг него прямо из воздуха возникают размытые фигуры. Постепенно они становились все четче, обретали плоть… изувеченную, истерзанную, обугленную плоть. Полковника окружали мертвецы. Он видел женщин с распоротыми животами, из которых свисали сизые петли кишок, женщин с раздробленными черепами и вытекшими глазами, с ужасными ранами, зияющими по всему телу, задушенных, с вывалившимся изо рта синим, распухшим языком; у многих на бедрах засохли семя и кровь. Особенно ужаснула его одна – когда-то она была беременна. Сейчас ее шея оканчивалась тупым обрубком. Из разреза в выпяченном животе выглядывала ее собственная голова, обнажившая зубы в предсмертном оскале. Разлагающийся эмбрион женщина держала в руках. «Неужели мои парни вытворяли и такое?» – подумал Полковник. Он видел мужчин, которые выглядели так, словно их тела разорвали на куски, а потом сшили. У многих недоставало половины черепа, и в головах кишели насекомые, пожирали развороченные мозги. Он видел детей – и дети выглядели хуже остальных. – Ты отлично поработал, – прошептал гость и снова щелкнул пальцами. В тот же миг мертвецы двинулись к Полковнику, протягивая изуродованные руки. Он попятился к воде. Накатила волна, замочив босые ноги и отвороты обтрепанных брюк. В третий раз щелкнул пальцами гость – и мертвецы исчезли, оставив после себя струйки белесого дыма, смердевшего горелой плотью. – Чего я хочу? – усмехнулся гость. – А хочу я, чтобы ты продолжал в том же духе. В последнее время ты ничего для меня не делаешь – только слоняешься по острову и несешь всякую белиберду, интересную лишь тебе одному. Ради этого я не дал тебе утонуть? Я хочу, чтобы ты продолжил меня… подкармливать. Я хочу, чтобы ты занялся тем, что ты лучше всего умеешь делать. Рекомендую начать с детей. – Пошел ты, – с тоской сказал Полковник. – Нет, сэр Джон, я никуда не пойду. Тебе придется подчиниться, хочешь ты этого или нет. Право же, я разочарован. Неужели ты превратился в кающегося грешника? Какая пошлость! – Тебя нет, – ответил на это Полковник, повернувшись к гостю спиной. – Повернись, сэр Джон, и посмотри на меня! – Тебя нет! – повторил он. – Я, наверное, очень болен. Я разговариваю сам с собой. На минуту, показавшуюся Полковнику вечностью, повисло молчание. А потом в плечо вцепились холодные сильные пальцы. – Хорошо же, – прошептало стоящее у него за спиной существо. На Полковника пахнуло вонью гниющих водорослей и дохлой рыбы. – Хорошо. Я ухожу. Жди привета, сэр Джон, а потом мы поговорим снова. Когда Полковник нашел в себе храбрость обернуться, на пляже, кроме него, никого не было.
В полдень Полковник притащился в деревню. Завидев своего любимца, дети, галдя, высыпали навстречу. Полковник зашел в ближайшую хижину, вернулся с полным воды горшком и долго пил, проливая воду на лохмотья, оставшиеся от рубашки. Потом с размаху грохнул горшок оземь. Брызги и черепки разлетелись в разные стороны. Дети восторженно засмеялись. – Ничего! – буркнул Полковник. – У вас этого добра навалом. Из хижины, тряся голыми заостренными грудями, выскочила тощая туземка, отвесила ближайшему хохотунчику доброго подзатыльника, бросила на Полковника укоризненный взгляд и принялась собирать черепки. – Бараны, – сказал Полковник. – Безмозглые, безответные бараны. Убью – не заметите. И поплелся через деревню к лесу. Орава юных туземцев поскакала следом. По дороге Полковник сдернул со стены хижины мачете, покрутил в руке, огляделся; никто из взрослых ничего не заметил. Мужчины, как обычно, ушли в море, женщины рукодельничали. Вместе со своей «свитой» он дошел до леса и углубился в чащу. Под ногами хлюпала влажная почва, гибкие побеги цеплялись за лодыжки, путь между деревьями то и дело преграждали лианы. Полковник сек их мачете, бранясь на чем свет стоит, а его спутникам все было хоть бы хны. Казалось, ничто не способно поколебать их природной веселости: даже тот, который всего несколько минут назад получил по голове, улыбался во весь рот, демонстрируя такие крепкие белые зубы, что при одном взгляде на них Полковник чувствовал, как ноет дупло в одном из его собственных. Наконец он остановился у подножия огромного, шириной в два обхвата дерева. Сел, привалившись спиной к шершавому стволу, покрытому зелеными кляксами мха, воткнул мачете в землю и сложил свои большие жилистые ладони на оплетенной кожаными ремешками рукояти. Дети расселись вокруг. Полковник тяжело вздохнул и заговорил: – Расскажу вам одну сказку, которую слышал от отца. Вы, конечно, ни хрена не поймете, но в жизни вообще ни хрена не понятно, так что какая разница? Отец обожал сказки и легенды. Когда я был совсем мелкий, еще ничего, рассказывал обычную хрень про трех поросят и прочую матушку Гусыню. А как подрос, дошло до черных псов, мертвяков, что на лошадях скачут по небу и охотятся на путников, и этого, как его… по дорогам ходит, со скелетом лошади и повозкой, ну… тьфу! Так вот, давным-давно, когда люди жрали говно, малолетний лорд Джон Лэмбтон, которого мало драли, а вернее не драли совсем, забил болт на воскресную обедню – захотелось, понимаешь, порыбачить. Пришел на пруд, закинул удочку. Сидит. Уже задницу отсидел, но тут леску как дернет! – Полковник вскинул руку, и дети от неожиданности подскочили. – Джон, конечно, в восторге, хороший, значит, улов. Потихоньку-помаленьку вытащил леску из воды и видит на крючке какую-то неведому погань. Вроде червяк, только зубов у червяков отродясь не водилось, а у этой твари их было до хера и больше. Вся в слизи, по бокам присоски – в общем, пакость. Запихал он тварь в корзинку и бегом домой, чтоб, значит, отцу показать. Но по дороге встретил какого-то деда и показал червя ему. Дед и говорит: добра, мол, от эдакого страшилы ждать точно не следует, и вообще это привет пацану от милосердного боженьки за то, что не пошел в церковь… и бла-бла-бла. Малец тут изрядно перетрухал и решил избавиться от находки. А так как был он засранец, то бросил червя в ближайший колодец – пофиг, что людям потом из него пить. Ну и забыл обо всем назавтра же. Время шло, парень рос и чем становился старше, тем дурнее. Тут как раз начались Крестовые походы, и наш Джон решил, что Христу без его помощи ну никак не обойтись. Хотя на самом деле он просто хотел приключений на свою жопу. Мудак! Ну вот, пока лорд Джон резал во имя боженьки мусульман, червь-змей жил себе в колодце. И рос. И рос. И вскоре стало ему там тесно. Выполз он из колодца и поселился в реке. И вскоре вымахал, гад, до того, что мог дважды обвить скалу посреди этой самой реки. Так он и спал. Жрать ему вскоре стало нечего, и он начал наводить ужас на округу. Попытки пресечь ни к чему хорошему не приводили – даже разрубленный на куски, он моментально срастался и жрал миротворцев-рыцарей. И любая рана на нем заживала в считаные секунды. Папаша Лэмбтон был, однако, не промах и каждый день наливал зверюге полный ров молока от всех коров в округе. Благодаря чему на его бесценный замок змей так и не полез. Но вот вернулся с войны молодой сэр Джон и обнаружил в родимом краю бардак и разорение. Он, ясное дело, решил разобраться. Но как, если эта тварюга всякий раз срастается? Котелок у сэра Джона работал не очень, и он спросил совета у какой-то ведьмы. Та посоветовала ему сразиться со змеем посреди реки, закрепив перед тем на латах наконечники копий. И вот сэр Джон в утыканных шипами доспехах приходит на речку, прямо по воде шлепает к змеевой скале и отрубает этой срани хвост! – Полковник выдернул из земли мачете и с размаху рубанул им по стволу. Дети ахнули. – Скале, конечно, не змею. То есть, тьфу, наоборот. Хвост, ясное дело, тут же прирастает, но змей, озверев, оплетает нахала телом, напарывается на шипы и получает столько ран, что не успевает их заращивать. Он истекает кровью, слабеет, а сэр Джон знай помогает ему мечом… – Полковник вскочил и принялся бить мачете по воздуху, словно рубя невидимого противника. Ребятня наблюдала за ним, затаив дыхание. – Короче, кончилось все тем, что развалился гад на куски прямо в реке, и разнесло их течением в разные стороны, прежде чем они успели срастись. Джону же потом тоже пришлось хреново, но это уже другая история. Полковник снова сел и положил мачете на колени. – Я видел этого змея. Он говорил со мной. Он утверждает, что я – Джон Лэмбтон и что мы с ним одно целое. Он хочет, чтобы я порубал кого-нибудь из вас на куски. СТРАШНО?! – взревел вдруг он, подавшись вперед. Дети взвизгнули, но не сдвинулись с места. А потом опять засмеялись. – Как по мне, – сказал Полковник, – вы заслужили смерть хотя бы за этот свой идиотский гогот. Но знаете что? После той заварушки я редко кого убивал со злости. Только за деньги. На деньги я могу купить курево, выпивку, снять, наконец, шлюху, а злость ни хрена хорошего мне не дала. Живите. Жрите. Срите. Трахайте черномазых девок, когда подрастете. А этот глист-переросток пускай идет в задницу, где и место глистам. Он встал. Ребятишки тоже вскочили, точно у них в ногах были пружинки. Они улыбались. Ни черта, конечно, не поняли – ну и хрен с ними. Полковник, помахивая мачете, зашагал обратно в сторону деревни, а верная «свита» поспешила за ним.
С этого дня Полковник ночевал в деревне. Он убеждал себя, что ничего не боится, что ему самому просто надоело спать под открытым небом. На деле же один лишь вид океана вселял в него страх. Глядя на спокойную бирюзовую гладь (в последние дни стоял мертвый штиль – из тех, что в эпоху парусных судов доводили моряков до безумия), он не мог отделаться от мысли, что под ней, в холодной глубине, извивается громадное оливковое тулово и блестящий, немигающий глаз пронизывает толщу воды в поисках жертвы. Полковник помнил слова чудовища и ждал «привета»; ничего не происходило, и это нервировало еще больше. Днем он сидел в тени под стеной своей хижины и потухшим взором наблюдал за туземцами. Он все больше завидовал этим людям, знать не знавшим, что такое хандра. После их деревни жизнь в любом заштатном городишке показалась бы остросюжетным романом, но туземцы, кажется, искренне наслаждались каждым моментом своего существования. Полковник, помнивший, что именно рутина повседневности заставила его в свое время пойти в армию, скрежетал зубами от бессильной злости: ему хотелось вскочить, кинуться на них с ножом и рубить, рубить, рубить, чтобы они кричали от ужаса, чтобы увидели, как выглядят настоящая жизнь и настоящая смерть. А женщины лепили горшки, а дети бегали вокруг, а мужчины уходили в море и возвращались – и никто не знал, что в тощем, заросшем бородой безумце в грязных обносках, тихо сидящем у стены, тлеет жгучая злоба, недоступная их пониманию. Чем дальше, тем больше мучила его тоска; однажды, надеясь хоть чем-то себя занять, он взял мачете и решил обойти остров. Остров оказался крошечным – едва ли больше центрального парка в его родном городишке. С вертолета он, наверное, показался бы зеленой точкой на голубом полотне океана. Полковник босиком прошел через джунгли, надеясь наступить на ядовитую змею (но то ли на острове их не водилось, то ли Господь окончательно от него отвернулся), и оказался на другом берегу – точно таком же, как тот, на котором он раньше спал. Здесь точно с тем же тихим шепотом накатывали на песчаный берег волны, росли точно такие же раскидистые пальмы, и солнце жарило так же люто. Но при виде обманчиво мирного океана Полковник почувствовал, как его охватывает суеверный ужас. Он повернулся и бросился обратно в чащу, спотыкаясь, падая, врезаясь в стволы деревьев, путаясь в гибких лианах и рубя ножом направо и налево. Лес, еще недавно казавшийся ему таким маленьким, стал вдруг бесконечным. Ревя, будто подстреленный вепрь, Полковник мчался вперед, пока не угодил головой в толстенный ствол, едва не размозжив себе череп. Он выронил мачете, рухнул наземь, обливаясь кровью, и принялся с воем кататься по земле. Земля задрожала. Шестым чувством он уловил приближение опасности, и истерику как рукой сняло. Полковник перекатился на живот, приподнялся на локтях, и вдруг почва прямо под ним вспухла уродливым горбом. Взвизгнув, Полковник скатился с него и рухнул на спину. Рядом в грязи что-то блеснуло. Он вцепился в предмет и тут же до кости располосовал пальцы, но все же вытащил из грязи оброненное мачете и перехватил за рукоять здоровой левой рукой. Земляной горб лопнул, разбрызгивая почву, и из него с пронзительным шипением взметнулось, бешено извиваясь, нечто оливково-зеленое, длинное, толстое и осклизлое. Распахнулась огромная пасть, усаженная двумя рядами острых как бритвы зубов, и устремилась к Полковнику. Тот, не глядя, ткнул мачете вперед и почувствовал, как острие вошло во что-то мягкое. Шипение сменилось пронзительным визгом. – Так! – крикнул Полковник, вскочил и ринулся очертя голову, нанося удары направо и налево. Внезапно мощное скользкое тело обвило его и стиснуло так, что из легких вышел весь воздух. Он принялся рубить тугие кольца твари, а перед глазами плясали оранжевые мухи, и грудь готова была вот-вот взорваться. Верхушки деревьев закружились в безумном хороводе. Вдруг раздался отвратительный хруст, руку пронзила жгучая боль, что-то горячее и теплое брызнуло в лицо, а в следующий миг мертвая хватка чудовища разжалась. Полковник повалился на колени; его взгляд упал на лежащую в грязи кисть. Рассеченные пальцы конвульсивно вздрагивали. Он поднял правую руку – и увидел лишь тупой обрубок. Кровь била из него толчками. – Твою же мать… – побелевшими губами прошептал Полковник и тут же немного поодаль увидел своего врага. Гигантское тело змея, все в кровоточащих зарубках, корчилось среди деревьев, вытянутые челюсти щелкали, разбрызгивая розовую пену. Поблескивал единственный глаз – на месте второго зияла черная дыра. Глаза тварь, очевидно, лишилась не сейчас, а давным-давно (когда животные страдали от всевозможных вредных привычек), и Полковник удивился, почему она не отрастила новый. Благо с заживлением у нее все было в порядке, как и говорилось в той старой сказке. На глазах у Полковника раны чудовища почти одновременно срастались. Разошедшаяся плоть смыкалась, оставляя лишь белые, будто нарисованные на коже мелом рубцы, но и те стремительно исчезали, словно стертые невидимой мокрой тряпкой. На какой-то миг змей неподвижно замер, и у Полковника мелькнула безумная надежда, что заживление не помогло и он все же издох. Но в следующий миг голова монстра рванулась вверх. Полковник пытался поднять мачете, однако силы вытекали из него вместе с кровью. Может, они с этой тварью и были по сути одним целым, но так лихо заращивать раны он не умел. Ставшая скользкой рукоять мачете выскользнула из руки. Змей снова разинул пасть и кинулся на Полковника. Тот успел еще осознать, что сейчас умрет, а потом нахлынула тьма…
Последние свои дни на острове Полковник провалялся в бреду, лишь изредка приходя в себя. Иногда он чувствовал, как кто-то разжимает ему челюсти и вливает в рот воду, отдающую на вкус глиной; как чья-то заботливая рука вытирает покрытое испариной лицо куском влажной ткани. Но все это казалось нереальным, призрачным; сейчас Полковник находился в другом мире. Он был дома, на кухне. Мать, отец и сестра, не постаревшие ни на день, сидели за столом – завтракали, перешучивались, обсуждали планы. Лучи утреннего солнца лились в окно. Пахло сиренью. Полковник замер у окна, грязный, оборванный, провонявший потом и кровью. Он пытался окликнуть сестру, но забыл ее имя. Имен отца и матери он тоже не помнил, но это огорчало гораздо меньше. Он коснулся плеча сестры, но его рука прошла насквозь, будто это был воздух. Он открыл глаза и оказался во мраке туземной хижины. Нестерпимо болел обрубок руки, одежда (то, что от нее осталось) липла к коже – заботливые туземки так и не догадались ее снять. Сперва он поразился, что змей не убил его, а потом пришло осознание: никакого змея на свете нет. Он сам отсек себе руку в припадке безумия, вот же осел! Полковник хотел засмеяться, но из пересохшего горла вырвался лишь прерывистый хрип. Ему подали грубо вылепленную из глины чашу с водой, он пытался схватить ее отсутствующей рукой, задел перетянутым тканью обрубком и завыл. Черные, почти невидимые в темноте руки гладили его по голове, черные губы шептали на непонятном языке слова утешения. Полковник заплакал; туземка терпеливо дождалась, когда он успокоится, и напоила его с ладоней. Утолив жажду, он снова провалился в лихорадочный сон. Если змея и не было на свете, то в сновидениях он властвовал безраздельно. Полковник шел по знакомым улицам родного города, ища свой дом. Нашел, поднялся на крыльцо, открыл дверь (в их дыре никто никогда не запирал дверей) и с ужасом обнаружил, что стены, пол, потолок, мебель и посуда – все измарано липкой зловонной слизью. Пахло гниющим мясом, и запекшейся кровью, и порохом, и напалмом, и потом, и джунглями… и дохлой рыбой. Он заметался по комнатам, ища своих родных – и не мог их найти. Хотел позвать по именам – но даже собственного имени он не помнил. С улицы в окна лился мертвенно-белый свет, превращая их в слепые бельма. А потом пол раскололся – и огромная оливковая пружина вырвалась из пролома, разинув зубастую пасть. Потом была темнота, и в этой темноте отчаянно кричала сестра, а чей-то гогот заглушал ее крики. Внезапно Полковник увидел ее. На ней была только фланелевая мужская рубашка, ее любимая, половина пуговиц отсутствовала. Сорванные штаны повисли на щиколотках. Двое в хаки растянули его сестру за руки, третий пристроился сзади, остальные терпеливо ждали своей очереди. Сестра подняла голову и посмотрела на Полковника сквозь спутанные пряди волос. В глазах застыли ужас, стыд, боль и отчаяние. Рот – раздавленная вишня на бледном, залитом слезами лице. Полковник хотел броситься на помощь, но ноги будто приросли к месту. Сестра содрогнулась всем телом от последнего мощного толчка и безвольно обвисла в руках мучителей. Насильник вышел из-за ее спины, застегивая брюки. Поднял голову – и Полковник увидел собственное лицо… Только на месте одного глаза красовалась круглая черная повязка, а другой казался огромным и стеклянным. – Подай мачете, – велело существо, и один из дожидавшихся своей очереди солдат немедленно подчинился. Сестру поставили на колени, спутанные пряди волос коснулись земли. Она явно покорилась своей участи. Двойник посмотрел на Полковника. – Без головы, – сказал он, – парни наверняка побрезгуют. И взмахнул мачете. Отчаянный визг вонзился в уши Полковника. Он распахнул глаза и сел. Визг оборвался, но на смену ему пришли другие звуки – знакомые звуки: отрывистые хлопки, испуганные крики и треск огня. Чей-то голос проревел: – В шеренгу, твари! В шеренгу, мать вашу! Это должен быть сон! Сноп света ударил в лицо. Он вскинул руку, защищая глаза, зажмурился и услышал удивленное: – Боже милостивый! Полковник! Увы, это явь. Крохотная хижина наполнилась топотом тяжелых бутс и гулом голосов. Сильные руки подхватили Полковника, вынесли наружу и положили на траву. Он осторожно приоткрыл один глаз, потом другой. Приподнялся на локтях. Если Бог и был милостив, на туземцев его милости явно не распространялись. Первым, кого увидел Полковник, был тот самый мальчуган, который получил подзатыльник за то, что не вовремя засмеялся. Последний подзатыльник в своей жизни – затылка у него больше не было. Туземка с острыми грудями склонилась над телом ребенка и по-звериному выла. – В шеренгу, я сказал! – проревел чей-то голос. Туземка не обратила ни малейшего внимания – продолжала завывать, раскачиваясь из стороны в сторону. Хлопнул выстрел, и женщина резко вскинула голову, широко раскрыв глаза; в выемке между ключицами зияла дырка. Из спины выплеснулся кровавый фонтанчик. Туземка начала было подниматься, потом, словно раздумав, опрокинулась на спину и осталась лежать неподвижно. Остальное племя сбилось в кучу – мужчины, женщины, дети и старики жались друг к другу, затравленно глядя на группу мужчин, одетых в хаки и вооруженных автоматами и винтовками. У одного был огнемет, и неподалеку уже догорала чья-то хижина. Сомнений не оставалось: на остров высадились его парни. Двое из тех, что вынесли Полковника из хижины, присоединились к остальным, но третий остался. Полковник жестом поманил его к себе. – Что тут… происходит? – прохрипел он. – Зачистка, сэр! – бодро отрапортовал солдат. – Какого хрена зачистка?! Вы что, задаром теперь работаете? Ничего ценного в этой заднице нет! – Так точно, сэр, ничего ценного! Одни каннибалы. – Какие еще каннибалы?! – На этом острове проживает одно из последних племен, сэр. Они вас похитили… – Что за хрень! – взорвался полковник. – Никто меня не похищал! Какие, к чертям, каннибалы! Я живу с ними уже фиг знает сколько, и… – Ваша рука, сэр, – перебил солдат. – Это разве не они?.. – Меня укусила змея, – ответил Полковник. А что? Не совсем ведь ложь. – Пришлось отсечь. Эти люди не дали мне истечь кровью. Какой мудак насвистел вам эту херню? – Наш наниматель, сэр. – Тот черножопый, что ли? Как его… – Нет, сэр, – сказал солдат. – Ваш старый друг. Он нанял нас пару дней назад, чтобы забрать вас отсюда. Говорит, что обязан вам жизнью… Полковник похолодел. – Отставить зачистку! – заревел он. – Ну! Помоги мне встать. – Но… – Это приказ. Полковник закинул изувеченную руку солдату на шею и почувствовал, как парня передернуло. Тем не менее тот обхватил командира за пояс, помогая подняться, и вдвоем они заковыляли к осталь- ным. – Дай пушку, – скомандовал Полковник. – Зачем вам… – Чтоб быстрее дошло. Давай, ну! Солдат достал из кобуры пистолет, передернул затвор и отдал Полковнику. Тот перехватил рукоять здоровой рукой, трижды выпалил в воздух и чуть не упал на колени, но солдат его поддержал. Парни, которые угрожали автоматами обезумевшим от ужаса дикарям, дружно обернулись. – Отставить, – тихо, но веско сказал Полковник. – Эти люди спасли мне жизнь. Я перед ними в долгу, и не вам, ребята, влезать в наши с ними расчеты, ясно? – Так точно, сэр! – проревела дюжина глоток. Солдаты попятились, по-прежнему держа туземцев на прицеле. Полковник понимал, что бойцам охота повеселиться, но если его влияние на них и ослабло, то не слишком. Он застрелил пилота, ранил одного из своих, и по идее ему полагалось вогнать пулю в голову, предварительно связав – для надежности. Вместо этого его заботливо уложили на носилки и понесли к вертолету… даже не отняли пистолет! Правда, вежливо попытались забрать, но Полковник вцепился в рукоять мертвой хваткой и прижал пистолет к груди. Никто не заподозрил неладного: раненому иногда нужно за что-то цепляться. Очевидно, «старый друг» убедительно наврал о причинах исчезновения командира… Полковник успел еще обернуться и бросить прощальный взгляд на деревню. Расставание было безрадостным: лежали трупы, одна из хижин превратилась в груду тлеющих углей, над которыми вился сизый дым, и царила мертвая тишина. Туземцы стояли и смотрели вслед белым людям, столь жестоко ворвавшимся в их безмятежную жизнь. Как знать? Возможно, они действительно каннибалы, хотя «наниматель», вернее всего, солгал. Возможно, как только белые покинут остров, они разделают и съедят тела своих погибших сородичей, дабы души тех всегда оставались с ними. (А что, разве лучше отдать червям?) Возможно, они не съели гостя лишь потому, что боялись заразиться его безумием; впрочем, Полковник понимал, что это не так: желай они пустить его на мясо – прикончили бы еще на берегу, не разбираясь, спятил он или нет. Но его не убили и, даже сочтя абсолютно бесполезным, все равно делились с ним пищей и кровом, выхаживали, когда он был на волосок от смерти. Он не испытывал к ним особого сострадания, но внезапно ощутил какое-то почти детское чувство стыда. Впрочем, он сделал для них все, что мог. Впервые он покидал селение чернокожих, оставляя в живых большинство его обитателей. Носилки подняли в вертолет, аккуратно положили на пол. Заревел мотор, и лопасти начали рассекать воздух – сперва медленно, затем все быстрее и быстрее. Вертолет оторвался от земли, развернулся и неспешно полетел над океаном. Боец, помогавший Полковнику, что-то кричал, и если бы тот прислушался, то узнал бы немало интересного. Перекрикивая рев мотора, солдат рассказывал, как в самый разгар резни из леса вылетели повстанцы, как, без особого труда отбив их нападение, отряд обнаружил отсутствие Полковника. Смерть одного из пилотов тоже списали на партизан, а солдат с простреленной ногой погиб при попытке к бегству, так и не успев рассказать, кто на самом деле в него стрелял. Несколько дней наемники обыскивали остров, но уцелевшие повстанцы успели сесть в лодки, спрятанные на противоположной его оконечности, и отчалить в неизвестном направлении. Отдохнув и набравшись сил, бойцы добрались до большой земли и пустились в загул, поминая без вести пропавшего командира… Полковник не слушал. Он смотрел на сидевшего среди солдат человека в берете, а тот смотрел на него в ответ, насмешливо щуря единственный глаз. – А вот и ваш друг, сэр! – кричал солдат. – Он собрал нас всех неделю назад и рассказал, где вас можно найти! Мы сперва решили, что тут какая-то подстава, но он платил золотом, сэр, представляете, настоящим золотом! Человек в берете отсалютовал двумя пальцами. Нет, не человек – чудовище. Настоящее, а не порождение больного рассудка. – Вы поправитесь, сэр! – заключил солдат и шумно глотнул из фляги. – Он лжет, – тихо сказал человек в берете, и Полковник единственный услышал его, несмотря на оглушительный треск лопастей. – Ты умираешь, сэр Джон. Сепсис – скверная штука. – А у меня пистолет, – слабым голосом сообщил Полковник, но человек в берете только засмеялся. – Валяй, стреляй! – издевательски бросил он. – Стреляй сюда. – Он показал пальцем на глаз. – Или сюда. – Палец коснулся шеврона на левом нагрудном кармане. Ладно же, думал Полковник, поднимая пистолет. Когда холодное дуло уперлось в пылающий жаром висок, стало даже приятно. – Что вы делаете, сэр! – в испуге закричал разговорчивый солдат. Парни повскакали на ноги. Пилот резко обернулся, забыв о своих обязанностях. Полковник знал, что делает. Тогда, на острове, рубанув по собственной руке, он заставил «старого друга» биться на земле в корчах. А следовательно… – Ну-ка, всем стоять! – гаркнул он. Солдаты замерли. Из-за перегородки выглянула испуганная физиономия пилота. Существо осклабилось: – Боюсь, сэр Джон, тесной связи нашей пришел конец. Ты, верно, не заметил, что я не подыхаю вместе с тобой? Я теперь не только твой, я сроднился с этими ребятами… твоими наследниками. Ты умрешь, а они будут жить, и вместе с ними буду жить я. И расти. – Зачем же ты вытащил меня с острова?! – отчаянно закричал Полковник, не обращая внимания ни на кого, кроме своего страшного собеседника. – Не мог же я позволить тебе подыхать как собаке среди черномазых. И потом, хотелось еще разок проверить ребят в деле… Да отнимите у него кто-нибудь пушку, дебилы! Разговорчивый солдат первым бросился к командиру. Полковник вскинул пистолет и влепил пулю пилоту – точнехонько промеж любопытных глаз. Тот повалился на штурвал, крутанув его, и вертолет бросило в сторону. Кабина наполнилась испуганными воплями. Шатаясь, парни вскинули автоматы, но Полковник успел выстрелить снова. Чья-то бутса угодила ему в лицо, раздробив скулу, в голове полыхнула вспышка. Пуля пробила приборную панель, повалил дым, рев мотора сменился отрывистым чиханием, и вертолет устремился вниз. Парни попадали друг на друга, предназначавшаяся Полковнику автоматная очередь изрешетила пол, несколько пуль отлетело рикошетом, ранив двоих или троих, а сам Полковник съехал вперед ногами по накренившемуся полу и уперся пятками в перегородку. Он успел еще услышать раздирающий уши вопль твари, полный боли и ужаса, и подумал злорадно: что за идиот! Вертолет вонзился носом в океан, звонко лопнуло стекло кабины, вода ворвалась внутрь, захлебнулись отчаянные крики, а Полковник совершенно некстати (или как раз вовремя?) вдруг вспомнил, как звали сестру. Он произнес ее имя, вернее, попытался произнести. В порозовевшей от крови воде оно вырвалось изо рта вереницей серебристых пузырьков. Прогремел взрыв, взметнулся водяной столб. А потом снова воцарились мир и покой, лишь в сгущающихся сумерках визгливо кричали чайки, созывая на пир товарищей. Вскоре явились их извечные соперницы – акулы и, стремительно пожрав человеческие останки, еще долго растаскивали колышущиеся на волнах останки какого-то исполинского существа.Отблеск тысячи солнц

Хиросима, 21-й год Сёва 1. Отчаяние
Как только в небе над рекой Ота зажглись первые звезды, госпожа Серизава осторожно, чтобы не разбудить, уложила крошку Акико в люльку, которую сама выдолбила из чурбачка, надела самое чистое кимоно и ушла, оставив Джуна за старшего. Сказала на прощание: – Я добуду вам поесть. Умру, но добуду. Джун стоял в дверях лачуги, держа за руку Юми, и глядел маме вслед – щуплый, тонконогий мальчишка тринадцати лет от роду в драных школьных шортах и майке, лямки которой норовили сползти с узеньких плеч. Лачуга, тесная коробка без окон, наспех сколоченная из досок и кровельной жести, стояла в отдалении от бараков соседей, у самого берега, и ветер с реки трепал отросшие волосы мальчика. За хрупкое сложение и нежные черты лица с тонким носом и печальным изломом бровей одноклассники часто дразнили Джуна «девчонкой», но почти все признавали его талант рисовальщика: за пару минут он набросал бы вам что угодно, причем с мастерством, которое сделало бы честь и опытному художнику. Учитель Такамура (сгоревший вместе со школой) говорил, что у Джуна врожденное чувство красоты и что из него выйдет если и не новый Куниёси, токак минимум толковый мангака. Сейчас ему хотелось запечатлеть маму на рисунке, чтобы хоть так удержать рядом. Он частенько спасался рисунками. На картинах оживали школьные друзья, давно ставшие прахом, возникали родные улочки, избеганные вдоль и поперек. Под карандашным грифелем на бумаге возрождалась из пепла Хиросима – зеленая, цветущая Хиросима, где голод не выворачивал кишки наизнанку, а по улицам ходил трамвай, которым управлял отец. Каждый день в без четверти два он – ТРИНЬ! ТРИНЬ! – проезжал мимо их дома, и Джун, если не был в школе, вместе с Юми и мамой выбегал к калитке, чтобы помахать папе рукой… Джун и его бы нарисовал, да побоялся, что маме будет больно каждый день смотреть на папино радостное лицо и вспоминать, что его самого нет на свете. Они жили впроголодь уже два месяца, с тех пор как родилась Акико, а последние два дня вообще ничего не ели. Юми, когда-то кругленькая, как шмель, а теперь истаявшая почти до костей, хныкала и украдкой сосала речную гальку. В конце концов она подавилась, и Джуну пришлось колотить сестренку по спине, пока камушек не выскочил. К тому времени Юми стала вся синяя и едва дышала. Крошка Акико орала от голода, потому что у мамы пропало молоко. В апреле не росли каштаны, овощные грядки пустовали, в ледяной воде не ловились моллюски, а рыба передохла еще в день «пикадона»[26]. По всей стране стало туго с работой и продовольствием, но нигде это не ощущалось так остро, как в разрушенной Хиросиме. Склады были разграблены, цены на черном рынке взлетели до небес. Раз в день прямо с грузовиков по карточкам выдавали горькую «муку» из сушеной травы пополам с картофельной ботвой, но к каждой машине гигантской змеей тянулась очередь. Змея шипела, переполненная, как ядом, голодной злобой, корчилась, раздувая бока, когда в толпе вспыхивали драки. Слабых безжалостно теснили к хвосту, и пайков им как правило не доставалось. Зато трупов было вдосталь: иные до сих пор гнили под развалинами, и до сих пор из реки вместо рыбы вылавливали кости людей и животных. Разрушительная сила, высвобожденная шестого августа двадцатого года Сёва, бродила по Хиросиме, собирая дань. Люди умирали, отравленные невидимой скверной, что принесла бомба, умирали страшно, выблевывая внутренности, выкашливая легкие, клоками теряя волосы, покрываясь гнойными пузырями, как жаба бородавками. Гнили заживо в зловонных, кишащих мухами и личинками госпиталях. Как собаки подыхали с голоду, всем было наплевать. Убивали себя. Убивали других, чтобы выжить и просто так, давая волю звериным инстинктам. Чего стоят законы, мораль и честь, если все лишения и жертвы были зря и даже Император – никакое не божество? До недавнего времени маме Джуна помогала девочка по имени Рин Аоки. Старше Джуна на два года, она жила со своим ослепшим стариком-отцом в поселке на берегу, в такой же жалкой лачуге, как и у всех соседей. Однако деньжата у Рин водились, и она часто давала в долг госпоже Серизава. Рин была не красавица, но большой улыбчивый рот и глаза с хитринкой придавали ей обаяния, которым она и пользовалась. Все знали, что она «пан-пан», то есть гуляет с американцами. Джуну было наплевать. Без Рин они не пережили бы зиму, так что при встрече он всегда ей кланялся. На другом берегу, недалеко от моста, росло вишневое дерево – обугленное, корявое, страшное. Каким-то чудом уцелело оно зимой, не отправившись на дрова, и теперь тянуло к синему небу голые мертвые ветви, словно в благодарственной молитве. Каждое утро, едва наступили теплые деньки, Джун с Юми ходили к дереву: сестренка верила, что со дня на день сакура зацветет, и Джун делал вид, что тоже верит. Там, под деревом, они и нашли Рин. Она лежала, раскинув ноги, будто отдохнуть прилегла, тени ветвей ложились на ее лицо, левый глаз задумчиво уставился в высь, а правый вытек из разрубленной глазницы. Косая рана пересекала лицо от правой брови до левой щеки, зубы рисовыми зернами белели в кровавом месиве рта, кровь бурыми разводами засохла на щеках. Правая рука, отсеченная в локте, валялась в грязи. Между бледных бедер зияла рана, из которой змеились склизкие петли кишок, облепленные гудящими мухами. Земля под худеньким телом Рин промокла от крови. Джун смотрел на нее лишь мгновение, прежде чем закинуть Юми на спину и с криком броситься наутек, но его еще долго потом преследовали во сне разрубленное лицо Рин, остекленевший глаз и кишки, сизо-розовыми щупальцами расползшиеся в грязи, словно Рин пыталась родить спрута. Даже в Хиросиме, изведавшей слишком много смертей и боли, подобное зверство не могло остаться незамеченным. Несколько недель военная полиция патрулировала берег и допрашивала жителей. Соседи говорили, что убийцу Рин стоило бы поискать среди ее ухажеров-американцев, а этого никто, конечно, делать не станет. Журналист «Тюгоку Симбун», писавший под именем Синдзабуро[27], выдвинул иную версию.
«Люди, втравившие нас в ад этой дикой войны, – писал Синдзабуро, – люди, беспощадно истреблявшие всех, кто осмеливался выступить против их самоубийственной политики, люди, которые неисчислимыми страданиями „облагодетельствовали“ народы Азии и запятнали Японию несмываемым позором, еще находятся среди нас, еще вливают в умы и сердца японцев яд ненависти и реваншизма. Для националистов девочка, ради выживания продающая свое тело „врагу“, – не просто проститутка, но изменница, заслужившая смерть, ибо они никогда не делали различия между солдатами противника, женщинами и детьми. И пока эти кровавые псы остаются среди нас, ни один мирный житель не может чувствовать себя в безопасности…» Кровавые псы оценили статью по достоинству. Всего через пару дней после публикации в окно редакции «Тюгоку», временно перенесенной в деревеньку Нукусима, влетела бутылка с зажигательной смесью, и несколько сотрудников, пытавшихся затушить огонь, угодили в больницу с ожогами. В следующем номере Синдзабуро-сан язвительно поблагодарил поджигателей за блистательное подтверждение его слов. Джун газет не читал и ничего не знал о поджоге, но с Синдзабуро познакомился: этот улыбчивый коротышка средних лет, круглой физиономией и тонкими усами немного смахивающий на сома, разыскал его через пару дней после гибели Рин и дал целых десять йен за то, чтобы мальчик показал, где нашел тело. Синдзабуро затем побывал у них дома, расспросил маму о ее отношениях с убитой («Она была святая, и плевать, что говорят!»), полюбовался рисунками Джуна, висящими на стене, а после отозвал его в сторонку и прошептал: – Я дам тебе еще двадцатку, если нарисуешь мне Рин, какой ты видел ее в последний раз. Джун был поражен щедростью этого забавного человечка. Он уселся на крыльце и нарисовал Рин такой, какой запомнил с последней встречи: хитрая улыбка, блестящие глаза, чистое розовое кимоно. Увидев рисунок, Синдзабуро помрачнел. – Это не совсем то, что я просил, – сухо произнес он. – Вернее, совсем не то. С тем и откланялся, оставив двадцать йен себе. Джун понял, чего хотел от него журналист, и его чуть не вывернуло от гнева и омерзения. А портрет Рин он повесил на стену, рядом с портретами своих друзей. Тогда ему казалось, что он поступил верно. Но с тех пор, как не стало Рин, никто не давал им в долг, и все чаще Джун жалел о грязных деньгах Синдзабуро. Акико связала маму по рукам и ногам. Джун все ноги сбил в поисках пропитания, за любую работу брался, да кому нужен такой заморыш? Он пытался продавать свои рисунки, но в новом, изуродованном мире красота вызывала лишь злобу, и даже подлинник Хокусая[28] стоил бы меньше горсти риса. Некоторые люди в слезах рвали рисунки в клочья и осыпали Джуна проклятиями. Юные чистильщики обуви давно поделили районы и безжалостно гнали новичков, за тухлятину в мусорных баках на вокзале велись ожесточенные бои, так что там ловить было нечего. Он дошел до воровства на рынке, но его чудесные руки не годились для этого ремесла. Несколько раз его ловили и дубасили до полусмерти, а один торгаш-китаец ударом палки чуть не раскроил ему череп, потому что Джун, когда начинали бить, зажимал ладони между бедер, вместо того чтобы прикрывать голову: лишь бы не по пальцам. – Не плачь, не плачь, Аки-тян! – умолял он, укачивая орущую сестренку, пока мама ходила по соседям, пытаясь выклянчить хоть горстку риса. Иногда, отчаявшись, он совал в рот Акико палец. Она радостно принималась сосать, понимала, что ее обманули, и заходилась обиженным криком, извиваясь в пеленках, точно гусеничка. Ее сморщенное личико становилось лиловым. Этим утром мама терзала пальцами сперва правую грудь, потом левую, пытаясь хоть каплю выцедить в ротик Акико, а потом закричала в отчаянии: – Я отрежу вас, будьте вы прокляты! И действительно, схватив нож, поднесла его к левой груди. Юми завизжала, Джун повис на руке с ножом. В пылу борьбы они чуть не затоптали бедняжку Акико, которая с визгом барахталась на циновке. Наконец мама уронила нож и обессиленно повалилась на пол. Джун с Юми обнимали ее, пока она не перестала дрожать. После этого она больше не хваталась за нож, стала тиха и задумчива. Лишь повторяла как заклинание: – Я добуду вам поесть. Умру, но добуду. Наконец мама привязала ревущую Акико к спине, взяла Юми и Джуна за руки и отправилась к соседям. – Плачьте! – шипела она, прежде чем постучать в очередную дверь. – Войте, как черти, маленькие негодники! Вы обязаны их разжалобить! И чтобы у них получалось лучше, больно щипала Юми, а Джуну отвешивала подзатыльник. Акико в помощи не нуждалась – она и так голосила до небес. Но все, к кому они стучались, лишь печально качали головами. Мне безмерно жаль, госпожа Серизава. Вы разве не видите, что наши дети тоже голодают? Боюсь, ничем не могу помочь. Простите великодушно. Подите к черту. Так и вернулись они ни с чем. И теперь, глядя, как мама уходит, Джун клял себя за бесполезность. – Мамочка, возвращайся скорее! – звонко крикнула Юми. – Тише, глупая! Аки-тян разбудишь. Мама была уже далеко и не слышала. Ее кимоно ярким пятнышком мелькало в сумерках, становясь все меньше и меньше, пока не растворилось совсем, как капля краски в стакане воды. – Сам дурак! – не осталась в долгу Юми. – Мамочка не то что ты. Она вернется и принесет нам во-от столько всякой вкуснятины! – раскинула руки сестренка. Джун выдавил улыбку, глядя в ту сторону, где скрылась мама. А вдруг она вообще не вернется? Вдруг ее найдут завтра на берегу – голую, с разрубленным лицом и кишками между ног? Синдзабуро-сан подкатится к лачуге с блокнотом в руке: «Понимаю, Джун, как тебе больно, но сейчас-то вам деньги еще нужнее, верно? Нарисуй мне ее. Только правильно, с потрохами наружу». – …рисовых колобков, а еще во-от столько лапши, и картофельных клецок, и темпуры, и… Живот мальчика злобно, с подвыванием заурчал. – …и рисовый пирог, и творога немножко, и… и арбузик! Сла-а-адкий! Джуну захотелось сестренку стукнуть. Но разве Юми виновата, что хочет кушать? Самому в живот будто зашили жестяную грелку, полную бурлящего кипятка. – Смотри, Юми! – указал он на реку. – Там кит! – Где? Где? – Сестренка запрыгала, как мячик, пытаясь что-нибудь разглядеть, но не увидела ничего, кроме серебряной ряби по темной воде. – Да вон же, фонтан пустил! Неужто не видишь? – Здоров врать! – надулась она. – Кто врет? Своими глазами видел! Только он уже нырнул… – Так нечестно! – Юми уперлась кулачками в бока. – Почему ты его видел, а я – нет? – Потому что у меня врожденное чувство красоты. А ты только и думаешь, как набить брюхо. Я тебе нарисую, хочешь? – Ага! – Тащи бумагу и карандаш. Только смотри, Акико не разбуди. Кивнув, Юми исчезла внутри. Джун слышал, как она тихонько возится в темноте. Способ верный: если для сестренки что-нибудь нарисовать, она забудет о своих капризах. Кругом царила тишина. Ночи стали безмолвны, даже лягушки больше не устраивали весенних концертов по берегам Оты: должно быть, все сварились заживо, бедные, вместе с икрой. Лишь река еле слышно бормотала во сне, ворочаясь на своем каменном ложе. На другом берегу в лунном свете маячил купол Гэмбаку – здание Выставочного центра, где Джун был с папой давным-давно, когда еще Юми не появилась на свет. Он не хотел смотреть, но голые балки притягивали взор, точно ребра в развороченной груди мертвеца – вечное напоминание о том, что случилось шестого августа двадцатого года Сёва…
2. Ка-гомэ, каго-мэ
…Отец на Джуна не походил ни капельки – коренастый, смешливый, любитель выпить и покутить; лицо его, широкое, скуластое, всегда лучилось добродушным самодовольством. В детстве он смастерил огромного воздушного змея, дождался ветреной погоды и вместе с ним сиганул с крыши родительского дома, собираясь долететь до горы Мисэн. Полет закончился гораздо раньше – на булыжниках мостовой, и с тех пор папа прихрамывал на левую ногу. Так что, когда его вызвали на военные сборы, он, к великой маминой радости, уже через час прихромал обратно. – Как хорошо, дети, что у вас такой непутевый отец! – восклицала тогда мама, со слезами обнимая его. Соседи над папой подтрунивали: дескать, не мужское это дело, когда война, трамвай водить, однако без злобы. Сам папа своей работой ужасно гордился. «Сколько инженеров без моего трамвая не попадет вовремя на завод, э? – говорил он, благодушно щуря хитрые глазки. – А докторов сколько не успеет к своим пациентам? Сколько чиновников опоздает в свои департаменты? На нас, трамвайщиках, страна держится!» В префектуре, как видно, считали так же. Жалованья папе вполне хватало, чтобы содержать семью в нелегкое время, да к тому же баловать себя после работы парой бутылочек доброго сакэ. Впрочем, драк он во хмелю не устраивал и близких не колотил, как, например, господин Кавасаки, живший тремя домами ниже по улице и ставший для соседей притчей во языцех. До дома папе помогала добраться девушка-кондуктор Эйко; в вечерней тишине их приближение было слыхать за милю – звонкое цок-цок ее сандалий-гэта, резкое шарк-шарк его. Мешком повиснув на хрупких девичьих плечах, отец дребезжащим тенорком выводил:Сакура, сакура!
Солнце светит в синеве!
То ли дымка на горе,
То ль клубятся облака…
Ка-гомэ, каго-мэ,
Птичка томится в неволе!
Кто же выпустит ее
Из кромешной темноты?
Черепашка с аистом отпрянут:
Кто там за твоей спиной?
Ка-гомэ, каго-мэ,
Птичка томится в неволе…

Джун открыл глаза в аду. В тот момент он не сомневался, что солнце на самом деле взорвалось и тьма никогда уже не рассеется. В клубах дыма, окутавшего небо до самого горизонта, наползали друг на друга крыши, крыши, крыши; дома под ними обратились в щепки. Что не обрушилось сразу, сейчас пылало, и огонь набирал силу. Среди горящих обломков с воем и стонами бродили, ковыляли и ползали полуголые оборванные привидения, ощупывая протянутыми руками кровавую мглу. У многих вытекли глаза, черепа, облепленные клочьями волос, слепо вращались на тонких шеях. Лица и руки других ощетинились щепками и битым стеклом. Из-под кусков черепицы выползали все новые и новые фигуры, а вдогонку им неслись отчаянные вопли и мольбы о спасении тех, кто застрял в завалах. Залитые кровью люди с безумными глазами метались вокруг, умоляя помочь их родным, но израненным, обожженным существам не было дела ни до чего, кроме собственных мук. Многих рвало прямо на ходу. Женщины, похожие на живые трупы, прижимали к груди дымящиеся комки, в которых едва можно было узнать детей.
Один из призраков, увешанный лентами собственной кожи, упал рядом с Джуном, треснувшись лбом о кусок бетона, и остался лежать неподвижно. Череп лопнул, как арбуз, брошенный с высоты, толчками поползли склизкие комья мозгов. С криком Джун стал отползать, по-прежнему сжимая в руке пенал, и тут другой призрак, вылезший из обломков, поймал его за лодыжку до мяса сожженной рукой. Лицо его было комом пузыристой плоти с дырами вместо глаз и черным провалом рта. – Пи-ить… – надсадно сипел провал. – Пи-ить… Обезумев от ужаса, Джун лягнул чудовищную образину другой ногой. Рука человека-призрака соскользнула, окольцевав лодыжку мальчика клочьями налипшей кожи. Он с трудом поднялся и заковылял прочь, размахивая пеналом, чтобы отогнать бродячие полутрупы. Голова трещала, в ушах звенело, глаза слезились, горло будто полировали наждаком, и зверски хотелось пить. Несколько раз он спотыкался и падал, но снова вставал и шел, шел дальше. Он должен добраться до убежища, должен узнать, что с мамой и Юми. Они не могут быть среди этих чудищ! В вихре искр, захлебываясь ржанием, проскакал конь с огненной гривой: глаза-бельма дико вращаются, оскаленные зубы кусают дымную мглу, копыта звонко дробят бетонное крошево, месят корчащиеся тела… Он скрылся в волнах дыма, а налетевший ветер растрепал Джуну волосы. Тут и там из-под развалин с треском, похожим на щелчки кастаньет, выстреливали язычки пламени; ветер лохматил их, разметывая искры, и там, куда они падали, занимались новые пожары. Деревья стояли в огне, пламя жидким золотом растекалось по почерневшим ветвям. – Слава нашему Императору! – орал тощий мужчина в рваном кителе, разгоняя руками дым. Глаза на черном от копоти лице сверкали диким, злобным восторгом. – Слава! – И заходился лающим хохотом. – Ханако! Ханако! – Полуголая женщина с оплывшей, будто у призрака Оивы[29], половиной лица металась среди огней, размахивая руками-крыльями в перьях сгоревших рукавов. Узор кимоно отпечатался на ее спине и маленьких грудях словно татуировка, в клочьях волос шипели искры. – Ханако, отзовись! Прямо перед Джуном возник поваленный телеграфный столб. Оборванные провода корчились в осколках гранита, как щупальца, плюясь фонтанчиками искр. Мальчик отшатнулся и чуть не рухнул в раскаленную чугунную ванну, торчащую из обломков. Два нагих обожженных тела скорчились в булькающей воде, сжимая друг друга в объятиях. Внезапно его окружила толпа изувеченных. Безобразные лица, безгубые, безглазые, с ото- рванными челюстями завертелись вокруг в ужасающем хороводе; обгоревшие руки хватали за волосы, за одежду, но удержать не могли – не было силы в обожженных мышцах. Потом другая рука, чистая, белая, изящная, как водяная лилия, поймала его за локоть и вытащила из этого кошмара; в иной момент Джуну бы захотелось нарисовать ее. Обернувшись, он увидел девушку, белокожую, в белом кимоно, расшитом серебряным узором. Будто сама Юки-онна, повелительница зимней стужи, явилась охладить адское пекло. Увлекая мальчика за собой, она кричала: – Дедушка, мой бедный дедушка! О, помоги мне, прошу! Он покорно засеменил следом, спотыкаясь и прижимая пенал к груди, не понимая, чего на самом деле хочет от него это дивное видение. Разве может у Юки-онны быть дедушка? – Пить… Пи-ить… – гудели со всех сторон хриплые голоса, им вторили стоны и завывания. Впереди из облака дыма выплыл колодец: обгоревшие фигуры, отталкивая друг друга, карабкались на разрушенные стенки и вниз головой соскальзывали в прохладную мглистую глубину, чтобы напиться в последний раз. Если бы Юки-онна не держала его, Джун, возможно, последовал бы их примеру. – Дедушка совсем у меня старенький, а ты молодой, крепкий! – истерично смеялась она, прокладывая путь через завалы и держа свободную руку на отлете. – Ты сдвинешь эту проклятую балку! Мидори мертва, такой ужас, и Дайкичи тоже, и папа с мамой, только я осталась, а одной мне не справиться, как здорово, что я тебя нашла, мы вдвоем ее сдвинем, надо только поднажать… Едва увидев дедушку, Джун понял, что тут не справятся и несколько дюжих мужчин. Толстенный деревянный брус придавил старику ребра, из проломленной груди вырывалось тоненькое сипение, как из чайника на плите. Седые волосы на виске слиплись от крови, кровь пузырилась на дрожащих губах. Пламя подбиралось к несчастному по обломкам, искры кружились в дыму, и старик, подвывая, отгонял их, точно мух, вялыми взмахами сухонькой ладони. Над ним угрожающе нависла уцелевшая кровля, по скосу которой катились огненные язычки. – Чего стоишь! – зашипела Юки-онна, ухватившись за балку обеими руками. Нежное личико исказилось от натуги, жилы вздулись на шее канатами. Она тянула и толкала с надрывным стоном, но балка, естественно, не сдвинулась ни на дюйм – лишь зашаталась и начала со скрипом крениться кровля. Не обращая на это внимания, Джун тоже тянул свободной рукой: надо было что-то делать, чтобы его скорей отпустили к маме, к Юми, к отцу… Старик начал поскуливать: пламя уже лизало ему пятки. – Что ты творишь, бездельник! – всполошилась Юки-онна и попыталась отнять у Джуна пенал. – Тебе нужны обе руки! Джун не мог объяснить ей, что, будь у него даже десять свободных рук, он не сумел бы поднять брус, что ей нужно поискать кого-то другого, что пенал – последний осколок прежнего, нормального мира и потому дороже жизни. Он просто вцепился в него обеими руками и завизжал в прекрасное лицо Юки-онны. Она отвесила ему оплеуху, но он визжал, визжал, и тогда девушка в бешенстве оттолкнула его. Это спасло мальчику жизнь: в ту же секунду кровля обрушилась, взметнув рой искр, и погребла под собою деда и внучку. Бедная Юки-онна успела лишь звонко вскрикнуть. Джун зарыдал, громко, как маленький, скривив рот и размазывая слезы по чумазому лицу. Потрясенный, почти ослепший, он полез через кучу обломков. Торчащие доски впивались в тело, резали голые коленки, но он продолжал карабкаться. Молния двухвостой плеткой полоснула кровавый сумрак, оглушительный треск рванул по ушам. Джун понимал только, что должен добраться до убежища, но где оно, в какой стороне? Смрад горелой плоти душил его. Трупы скорчились повсюду, почернелые до неузнаваемости, приходилось лезть по ним. Под ногами трещали кости, сандалии проваливались во вздутые животы, мягкие, как перезрелые тыквы, полные склизкой упругой мякоти; мертвецы отвечали досадливым шипением, изрыгая, словно проклятия, зловонный воздух из разинутых ртов. Тяжелая капля шлепнулась на лоб. За ней еще одна и еще… Джун стер их рукой и с ужасом обнаружил, что пальцы почернели. Подушечки и кожу на лбу жгло, будто их смочили уксусом. Он заполз под большой, еще горячий кровельный лист, и тут кровавая тьма над городом прорвалась черным ливнем. Маслянистые струи хлестали макушки и плечи обезумевших от боли и жажды людей, и те, задрав головы, жадно ловили ртами жирную зловонную жижу, пока она не начинала пузырями выдуваться из носа. Эти несчастные были обречены: сама смерть сошла на землю в черном дожде. Черные ручьи бежали среди развалин, мешаясь с пеплом, и вскоре черная слякоть затопила руины. Нестерпимый жар сменился жестокой стынью. Огонь шипел и корчился, прибитый к земле, и там, где он угасал, к черному дыму примешивались белесые струйки пара. Джун осмелился вылезть, только когда барабанный стук капель над головой окончательно стих. Подняв голову, он не поверил своим глазам. Над руинами разноцветным дымчатым шлейфом висела радуга. Неумолимо, кощунственно прекрасная, она струилась сквозь тьму, и те, у кого остались глаза, ошалевшие, ободранные, опаленные, с кровавыми дорожками на щеках, со слюной, повисшей на подбородках, смотрели на нее. Некоторые даже растянули в улыбках разбитые рты, словно дети, заблудившиеся в пещере и узревшие впереди слабый лучик дневного света. Но снова ударил горячий насмешливый ветер и закружил клубы дыма в дьявольском танце, и повалил жалкие фигурки с ног. Он раздул тлеющие искры, и затухшие было пожары вспыхнули с новой силой. Черные тучи над Отой проросли ревущими хоботами смерчей; река вспенилась водоворотами, увлекая в пучину несчастных, которые искали спасения в ее водах. Уцелевшие деревья выворачивали из земли корни и со скрипом валились наземь, столбы падали, обрывая провода… Джуна кружило и швыряло из стороны в сторону. Размахивая руками, он рвался сквозь воющий мрак и хрипел, хрипел, потому что кричать уже не мог: – Ма-ама-а… Юми-и… Ма-ама-а … – Джун! – криком отозвалась темнота. Горбатая всклокоченная фигура возникла перед ним и сгребла в объятия. Он заверещал, забился в руках этого нового призрака и не сразу узнал надтреснутый родной голос: – Джун, это же я! Пойдем, пойдем скорее в убежище! А горб за плечами радостно запищал: – Бра-а-атик!

Джун навсегда запомнил ватную тишину во второй половине того страшного дня, когда стоны и плач наконец стихли и живые, собравшиеся в бамбуковой роще в парке Сюккэйэн, лежали рядом с мертвыми, оцепенело уставясь в небо, принесшее такой ужас, сами едва отличимые от мертвецов. Он не мог забыть, как утренняя заря, пробившаяся сквозь дым пожарищ, расплывалась в реке багрянцем и раздутые трупы плыли будто в потоках собственной крови; как разгоралось небо и догорали черные перекрученные остовы деревьев. Развалины тянулись до самого горизонта; тут и там торчали покосившиеся телеграфные столбы; трупы забили бассейны, колодцы и водостоки, валялись вдоль дорог скрюченными головешками, источая удушливое зловоние. И мухи, миллионы жирных, звенящих мух и комаров тучами роились над телами живых и мертвых. Джун видел людей, у которых в зияющих язвах, в глазницах, сочащихся липкой слизью, уже копошились белые опарыши, похожие на рисовые зерна; несчастные слишком ослабели, чтобы отогнать мух. То была картина, достойная кисти великого Ёсихидэ. Дом Серизава превратился в груду золы, но они втроем остались живы… Вчетвером, считая Акико, которая тогда только зрела у мамы в животе, как пшеничное зернышко. Многие беременные женщины в первые дни после бомбежки потеряли детей, но аист и черепашка были милостивы к Акико. Может, потому, что в момент удара мама с Юми сидели в убежище? Они пережили и страшное наводнение в сентябре, погрузившее под воду растерзанный город и повергшее уцелевших в новую бездну отчаяния. Джуна к тому времени жестоко знобило, рвало и поносило, десны кровоточили и волосы лезли целыми прядями, но и эта хворь, унесшая тысячи жизней, его пощадила. И силы вернулись, и волосы отросли. Город пришел в себя на удивление быстро. Еще не успели догореть руины, а наспех сколоченные спасательные бригады уже карабкались по завалам, извлекая тех, кому еще можно было помочь. Врачи в битком набитых больницах метались, как про́клятые, в море обожженной, кровоточащей, гноящейся плоти, бинтуя, смазывая, зашивая. Тем временем на мосту Айой солдаты привязали к покосившимся перилам американского летчика, совсем мальчишку, чей самолет был сбит за несколько дней до взрыва, повесили на шею табличку «Бей его!», и все, кто проходил по мосту, били стонущего юношу кулаками, ногами, камнями, палками и чем под руку подвернется. Семья Серизава в тот день как раз переходила мост, направляясь в больницу, и Джун снял с ноги деревянный сандалик, чтобы тоже угостить пленника, но не смог разглядеть врага в распухшем, окровавленном лице над табличкой, в глазах, полных боли, ужаса и отчаяния. Жалкое, дрожащее существо, прикрученное к перилам, ничего не понимающее и беспомощное, показалось ему слишком похожим на него самого. Он бросил сандалик в реку, словно тот был испачкан, и до самой больницы хромал в одном. А еще через пару дней ток побежал по вновь натянутым проводам, и по расчищенным рельсам как ни в чем не бывало загрохотал папин трамвай,почерневший и оплавленный, не хватало только самого папы. Солдаты, вооруженные баграми, вытащили из салона его обугленное тело вместе с телами Эйко и пассажиров, отволокли на железную решетку, установленную над глубокой ямой, и там, прочитав молитву, сожгли уже окончательно, а прах зарыли в братской могиле, ни горсточки не отдав родным. Джун думал, что папа, так любивший спиртное, горел, наверное, ярче всех и звонче всех потрескивал, подбадривая товарищей по костру. И, в клубах дыма возносясь на небо под руку с Эйко (сбылась его детская мечта о полете!), наверняка пел свою любимую песню:Сакура, сакура!
Солнце светит в синеве!
То ли дымка на горе,
То ль клубятся облака…
3. Киты улетают к звездам
– Бра-атик! – Юми выбежала на крыльцо, прижимая к груди пенал с набором для рисования и листок бумаги. – Я нашла! Джун мотнул головой, отгоняя воспоминания. Сказал строго: – Спасибо, Юми-тян. А теперь ни звука, ладно? Сестренка энергично тряхнула челкой и присела на крыльцо, поджав под себя ноги. Джун забрал у нее пенал и бумагу. Черная копоть въелась в железную крышку и не сходила, сколько бы он ни скоблил ее речным песком. Он открыл пенал, выбрал карандаш. Замер, покусывая ластик. Взгляд его стал отсутствующим. Он сидел неподвижно, вбирая в себя блеск звезд, еле слышный шепот реки, лунную дорожку, что серебряной рябью дрожала на водной глади… Затем его пальцы пришли в движение. Линия, другая – и вот на белом листе проступили очертания кита, плывущего по реке мимо рядов лачуг. Несколько штрихов – и разбежались волны, поднятые огромной тушей. Карандаш мелькал все быстрее, замирал на мгновение и вновь принимался сновать по бумаге. Линии то разбегались в стороны, то соединялись. Карандаши сменяли друг друга, с клацаньем ложились на дно пенала и появлялись вновь. Синий, серый, желтый, черный, серый, черный, синий, желтый. Юми смотрела, приоткрыв рот. В такие моменты брат казался ей настоящим волшебником. Или даже богом, способным творить миры. Джун внес последние штрихи и предъявил рисунок сестренке. Кит вышел на загляденье: длинная морда, огромные плавники, большой улыбчивый рот с пышным усом, волнистые борозды вдоль нижней челюсти и могучий хвост, которым он вспенивал воду. Сверкающий фонтан бил в небо, разлетаясь брызгами среди звезд, потоки воды скатывались с маслянисто-черных крутых боков. В маленьких глазках читалось недоумение: как это меня сюда занесло? – Я б его съела, – хищно облизнулась Юми. – Как тебе не стыдно, Юми! Ведь это не простой кит. Он… он… – Джун задумался. – Он приплыл, чтобы забрать душу Рин и отнести к звездам. – Как это? – Видишь, какие у него плавники? Как только Рин сядет ему на спину, он взмахнет ими, будто крыльями, и поднимется высоко-высоко, выше облаков. – Врешь ты все! Киты не летают! – заявила Юми. Но на всякий случай запрокинула голову и уставилась в усеянное звездами небо. – Еще как летают, но только когда люди не смотрят. Иначе они примут их за вражеские самолеты и станут сбивать из пушек, – объяснил Джун. – А киты не хотят никому зла. Они просто выполняют свое предназначение. – А папу они тоже забрали к звездам? – И папу, и Эйко, и всех остальных. – А живых они могут взять? – Нет. Только мертвых. – Тогда я хочу умереть, чтобы полетать на ките. С папой! – Не говори глупостей, Юми-тян. – Джун покрепче прижал сестренку к себе. – Ты нужна нам здесь. Они немного посидели на крылечке, любуясь мерцанием звезд и вдыхая полной грудью сладковатый запах речной воды. Джун то и дело поглядывал в ту сторону, куда ушла мама, прислушивался к каждому шороху, надеясь услышать ее шаги, боясь услышать ее крик. Тот, кто зарубил Рин, мог бродить в темноте, выискивая новую жертву. А вдруг он прямо сейчас подкрадывается к ним? – Братик, – сонно пробормотала Юми, – почему ты дрожишь? – Х-холодно, – проговорил он, стуча зубами. Его действительно знобило, но отнюдь не из-за ночной прохлады. – Пойдем спать? – Я хочу к мамочке. – Мамочка вернется утром. Откроешь глаза, а она уже тут. С арбузиком. – Не хочу арбузик… – запротестовала сестренка, сжимая в кулачке рисунок. – Хочу мамочку. Джун поднялся на ноги, потянулся, раскинув руки, зевнул. Вдруг закружилась голова, в глазах зарябило, и ему пришлось схватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Тело-то как ломит, будто мешки разгружал! С того страшного дня он часто ощущал себя фарфоровой статуэткой, которую уронили с полки и склеили кое-как. Приступы слабости и ломоты в костях, которые он про себя назвал пикадонскими, накатывали внезапно и столь же быстро проходили. Возможно, причиной их был голод, но Джун все больше укреплялся в пугающей мысли: что-то в его теле необратимо сломалось. – Понеси меня! – Юми протянула ручонки. Джун грустно отметил, какие они стали тоненькие. Он со вздохом опустился на одно колено, позволяя сестренке забраться к себе на спину. Она уцепилась за его шею, легонькая, как тряпичная кукла, и все равно слишком тяжелая для него. Прежде чем унести ее в дом, Джун бросил последний взгляд в неподвижную тьму. – Папа, – прошептал он чуть слышно, как только и следует говорить с мертвыми, – пригляди за мамой, хорошо? Темнота молчала. Он вошел в лачугу, тихонько затворив за собой дверь, опустил Юми на набитый листьями мешок, служивший им постелью. Постоял немного, дожидаясь, когда стихнет гул в ушах и перестанут мелькать перед глазами черные мухи. Потом заглянул в люльку Акико: не проснулась ли? Нет, лежит себе смирно, приоткрыв ротик и тихо посапывая, – похоже, плач отнял у нее все силы. Даже в полумраке видны были пятна сыпи, усеявшие ее щечки и лобик. Внезапно Джун испытал прилив ядовитой злобы. Это из-за нее мама сейчас рискует жизнью! Лучше бы ей вообще не родиться! Но почти сразу это чувство сменилось острой бессильной жалостью, от которой защипало глаза и сердце сжалось, будто уколотое булавкой. Захотелось взять сестренку, теплый беззащитный комочек, на руки, прижать к себе крепко-крепко… Он уже потянулся к ней, но вовремя опомнился. Если она проснется, голод снова будет мучить ее. А она будет мучить их с Юми. Юми уже спала, свернувшись клубочком и засунув палец в рот. В другой руке она сжимала рисунок. Джун осторожно вытащил его из сестренкиных пальцев и пришпилил к стене. Задув свечу, улегся к Юми и вместе с ней закутался в одеяло. Она вздохнула во сне, дернула пяткой. Так они и лежали в темноте, прижавшись друг к дружке. Несмотря на изматывающую усталость, Джун не мог заснуть. В животе бурлило пуще прежнего, сосало под ложечкой. Что, если утром он откроет глаза, а мамы не окажется рядом? Но наконец в темноте под сомкнутыми веками колюче замигали звезды. Он увидел китов, сотни, тысячи китов: грациозно изгибая исполинские туловища, они рассекали тьму взмахами плавников, огромных, как крылья, и каждый нес на спине наездника. Джун увидел отца, Эйко, Накамуру-сэнсэя, Юки-онну и ее бедного дедушку, ребят из школы и многих, многих других. Ему даже показалось, что он узнал того американского летчика, забитого на мосту. Лица у всех были чистые, умиротворенные. Низкий трубный напев, словно погребальная песнь, дрожащими волнами расплывался в космической пустоте. Вместе со взрослыми китами резвились детеныши. Кит, которого он нарисовал для Юми, замыкал стадо, и на его спине сидела Рин, такая, какой он помнил ее при жизни, в розовом кимоно. Она махала рукой и звонко кричала: – Прощай, Серизава-кун, прощай!4. О котах и шлюхах
В нескольких ри[30] от лачуги, где Юми и Джун спали и видели сны, журналист Синдзи Бусида, более известный под псевдонимом Синдзабуро, вышел из трамвая в обнимку с девицей. Остановился, подставляя ветру разгоряченное лицо, поправил на голове старомодный котелок. – Там я живу, – сказал он, покрепче прижав спутницу к себе и наслаждаясь теплом ее упругого тела. Девица одарила его улыбкой. Дорога, залитая лунным светом, тянулась через громадный пустырь, оставшийся от нескольких жилых кварталов, – из таких теперь состояла почти вся Хиросима. Разбитый город лежал у ног Синдзабуро, стук шагов эхом разносился в ночной тиши. Девица, не то Мидори, не то Мэгуми, маленькая и чумазая, как обезьянка, заливалась колокольчиком в ответ на любую шутку, тыча его кулачком в бок – премилая манера! Сколько ей лет, журналист боялся даже спросить. Небось, и школу-то не окончила… Он подцепил ее в развеселом квартале Синтати, уведя из-под носа у вдрызг пьяного молодого негра в форме морской пехоты США. Прости, куромбо[31]. Справедливости ради стоит сказать, что Синдзабуро сам был уже хорош. Не выпей он так много по случаю дня рождения одного из приятелей, ему бы в голову не пришло возвращаться домой в темноте, несмотря на боевой револьвер двадцать шестой модели, который он с большим трудом раздобыл на черном рынке после нападения на редакцию и всюду носил в кармане. Сейчас же ему сам черт был не брат! Если к ним кто сунется, неважно, грабитель или задетый статьей «патриот», Синдзабуро нашпигует его свинцом! Девчонка под надежной защитой. Возможно (эта мысль наполнила его сердце гордостью), он спас ее уже тем, что увел от черномазого. Синдзабуро вполне допускал, что ту, другую девочку для утех, Рин Аоки, могли укокошить американцы. Или австралийцы, каторжное семя: знакомый врач не так давно рассказывал о девушке, которую два десятка австралийских солдат попользовали самым варварским образом и бросили на пустыре. Или англичане: как знать, не затесался ли в Оккупационные силы Британского Содружества родной внучок Джека потрошителя? Разумеется, свои догадки Синдзабуро держал при себе. Победителей не судят. От него хотят, чтобы он бичевал националистов, – что ж, будем бичевать, заслужили. В конце концов, успокаивал он себя, без националистов не было бы войны и гайдзины не топтали бы японскую землю… Он прибавил шагу. Девчонка еле поспевала за ним. Синдзабуро ненавидел националистов не потому, что жалел их жертв; нищее детство и голодная юность приучили его жалеть только близких. Ему не было дела до истребляемых китайцев, корейцев и русских, равно как и до жителей Окинавы, которых японская военщина не считала за сограждан и обходилась с ними соответствующе. Синдзабуро любил своих немногочисленных друзей, вкусную еду, крепкое сакэ, женскую красоту и домашний уют – все то, чего он был долгое время лишен и чего добился упорным трудом. И еще своего черно-белого кота Кацу. Война, развязанная из-за пустых национальных амбиций, все это могла отнять. А попробуй слово скажи против! Повезет, если останешься с голой задницей, но живым. Если гвоздь высовывается, его заколачивают – мудрость, которую порядочный японец обязан усвоить с детства. Да, раньше он прославлял доблесть Императорской армии, а сегодня призывает к любви и миру, порицая милитаризм, ну и что? Разве у него был когда-нибудь выбор? Разве он убил кого, изнасиловал, покалечил? Разве он виноват, что хочет жить – жить, а не существовать? Тот мальчишка-художник, Серизава Джун, смотрел на Синдзабуро как на стервятника, когда понял, чего он хочет (рисунок истерзанного тела, сделанный ребенком, усилил бы обличительный пафос статьи). Но в итоге мальчишка остался без двадцати йен, которые были так нужны его матери, а не ее ли Синдзабуро всего полчаса назад видел на бульваре любезничающей с тремя американцами? Вот до чего доводят принципы. Все-таки зря он вспомнил ту зарезанную девчонку… Там и без рисунка, с одних только слов мальчишки, оторопь берет. Свежесть весенней ночи обернулась могильной стынью, и все мерещились позади чьи-то крадущиеся шаги. Синдзабуро вдруг пришло в голову, что весь город, в сущности, огромный могильник и под развалинами, мимо которых они идут, могли остаться мертвецы. Даже револьвер из символа мужественности превратился в то, чем был на самом деле: непривычную игрушку, с которой журналист не особо умел обращаться. Страх тоненькой ледяной струйкой просочился в душу. В сиянии луны чудились белые мерцающие силуэты – они мелькали на периферии зрения, исчезая прежде, чем Синдзабуро успевал толком приглядеться. Несколько раз он резко оборачивался, пугая свою спутницу, но не видел ничего, кроме выбеленных луной развалин. Раз ему показалось, что за разрушенную стену отпрянула темная тень, но когда он, вскрикнув, указал в ту сторону, Мэгуми (или Мидори?) учительским голоском заявила: – Ах, Синдзабуро-сан, вы слишком много выпили! Хотя сама она выпила ничуть не меньше. «Да, пожалуй, верно, – подумал журналист, – и еще выпью, как дома будем. Но сперва, голубушка, мы с тобой примем горячую ванну. Нет, сперва Кацу налить молока. А потом… потом ты узнаешь, что Синдзабуро-сан мастер не только слова, но и дела, хе!» После этого Синдзабуро больше не мерещилось ничего подозрительного, тем более что развалины остались позади и уже маячили впереди редкие дома, уцелевшие после бомбардировки. Однако на душе опять скребли кошки. Теперь он думал о госпоже Серизава. Бедняжка, видно, совсем отчаялась, а ведь он мог увести ее с бульвара и дать денег, вместо того чтобы тратиться на девицу, которую завтра выставит за дверь. Те трое были пьяны как черти: кто поручится, что они не причинят худого несчастной женщине? И уж если он непременно хотел потратить деньги на продажную любовь, то госпожа Серизава охотнее оказала бы любезность ему, чем пьяным и злым оккупантам. А ведь она недурна собой, несмотря на все тяготы и лишения… Но те трое выглядели куда опаснее пьяного негра, и Синдзабуро не рискнул перейти им дорогу. «А то бы выхватил револьвер и уложил всех троих», – горько усмехнулся он про себя. И в хмельном запале он понимал, что не посмеет даже косо взглянуть на белого американца. Девчонка вскрикнула, угодив каблучком в выбоину, и грязно выругалась. Синдзабуро поморщился и угостил ее подзатыльником: мала еще такие слова говорить! – Знаешь моего коллегу Хе… Хиёси Харуо? – проговорил он заплетающимся языком. Мидори-Мэгуми с готовностью кивнула, за что тут же получила еще один подзатыльник. – Да откуда тебе знать Хиёси Харуо… Он с продажными девками не путается. Он такти-ичный. Тактичность когда-нибудь погубит эту страну! – Он ладонью рубанул воздух. – В день взрыва этот болван обошел весь город с фотокамерой в руках и не сделал ни одного толкового снимка! Только раз… раз… развалины. Стыдился, видишь ли, фотографировать раненых и умирающих. – Дурак! – хихикнула девица, хотя вряд ли поняла, о чем речь. – Вот и я ему говорю: дурак ты, Харуо-кун. Кому лучше стало от твоей тактичности? Кого ты щадишь? Американцы не успели бы наложить руки на твои снимки! Если б мир увидел, как погибали жители Хиросимы, может, кто-то что-то бы и понял. Может, ты бы спас наших потомков, Харуо-кун! Ну и сам заодно бы прославился. Эх, мне бы такой шанс… Я издавна был сторонником западного подхода в журналистике, без этих вот сантиментов. Дай мне волю, я бы уж… уже возглавлял «Тюгоку»! А все думают, что я дерьмо, – добавил Синдзабуро плаксиво. – Даже редактор считает меня лучшим сотрудником именно потому, что я дерьмо. И знаешь что? Я ДЕРЬМО! – гаркнул он, и ночь поддакнула эхом: «Дерьмо… дерьмо…» – Вовсе вы не дерьмо, Синдзабуро-сан, – заявила Мидори-Мэгуми. – Я с дерьмом бы не пошла. – Поговори мне! – Он отвесил ей очередной подзатыльник. – Ты за деньги с чертом пойдешь. – Всем есть хочется… – протянула с обидой девушка, потирая затылок. – Вот! – Синдзабуро наставительно поднял указательный палец. – Всем есть хочется, поэтому я тебя не осуждаю. Нет ничего плохого в ремесле шлюхи, иногда по-другому не выжить. Все мы продаемся и покупаемся, а кто непродажный, тот либо не знает себе цены, либо никому не сдался. К-коты вот тоже трутся о ноги тех, кто их кормит. В следующей жизни я, пожалуй, не отказался бы стать котом. Таким, как мой Кацу. Повязали бы на шею красный красивый бант, налили бы молока… За этими рассуждениями Синдзабуро сам не заметил, как добрался до бетонного забора, окружавшего его дом. С четвертой попытки отперев калитку, он пропустил девчонку вперед и вошел следом. Дом утопал в зелени. Здесь росли туя, бадан, сосны и можжевельник, символизирующие стремление владельца к стабильности и покою. Все это великолепие пережило «пикадон» благодаря тому, что дом находился на порядочном удалении от городского центра, пораженного бомбой, а бетонный забор защитил его от взрывной волны, разве только с крыши смело черепицу да на втором этаже полопались стекла. Синдзабуро пришлось на карачках излазить весь садик, собирая осколки, чтобы Кацу, выйдя погулять, не изранил своих нежных лапок, – это была самая большая неприятность, причиненная ему «Малышом». При виде чудесного сада девчонка пришла в буйный восторг. Должно быть, она привыкла к тесному скоплению грязных лачуг на выжженной земле, где все деревья вырубили на дрова, и царство зелени опьянило ее сильнее, чем бутылка рисовой водки, которую они распили в трамвае. – Ах, что за прелесть! Как красиво! – запищала она, прижав кулачки к груди. Синдзабуро мысленно скинул ей еще пару лет и утер ладонью вспотевший лоб. Ладно, какая разница? Ее детство давно закончилось. Пока он тщился попасть ключом в замочную скважину («Ах, Синдзабуро, Синдзабуро… Надеюсь, в постели ты будешь более метким!»), девушка порхала по саду, раскинув руки и что-то напевая. Но вдруг она, ахнув, остановилась. Синдзабуро, совладавший наконец с дверью, от неожиданности вздрогнул и уронил ключи на веранду. Он обернулся, собираясь высказать этой Мидори-Мэгуми все, что о ней думает, – но слова застряли у него в глотке. На заборе стоял человек. Синдзабуро показалось, что его кольнули сосулькой в мошонку. Желудок сжался, подкосились ноги, а сердце ухнуло куда-то вниз живота. Он моргнул несколько раз: вдруг видение растворится в воздухе? Но незваный гость по-прежнему стоял на заборе, широко расставив ноги, прямой и стройный, будто вырезанный из самой темноты. Он что-то держал в левой руке, что-то такое длинное, слегка изогнутое… – Кто вы такой?.. – выдавил Синдзабуро, обретя наконец голос. Хмель мгновенно выветрился из его головы. Ладонь, взмокшая от пота, нырнула в карман и обхватила рукоять револьвера. Журналист хотел вытащить его и направить на незнакомца, но проклятая мушка зацепилась за подкладку. Тень не отозвалась, не сдвинулась с места, лишь взялась правой рукой за конец длинного предмета в левой и медленно, плавно потянула. В свете луны блеснула полоска стали… – Синдзабуро-сан, у него меч! – заверещала девушка. В ту же секунду, словно ее крик послужил сигналом, тень прыгнула. Серебряная молния сверкнула в занесенной руке – Ш-ШИХ-Ч-ЧВАК! – и не успели ноги незнакомца коснуться травы, как голова Мидори-Мэгуми, завертевшись, слетела с плеч, брызжа кровью. Обезглавленное тело крутанулось на месте, нелепо всплеснув руками, и рухнуло навзничь. Кровь хлестала из обрубка шеи, ноги дергались, платье сползло, открыв застиранные панталончики, на которых расплывалось мокрое пятно… Синдзабуро с воем рванул рукоять револьвера. Подкладка затрещала и лопнула, выпуская ствол. Шесть громовых вспышек разорвали ночь, однако тень даже не покачнулась. Лучший сотруд- ник «Тюгоку» ожидаемо оказался никудышным стрелком.
Тень тряхнула рукой, которой сжимала меч. Тяжелые капли сорвались с клинка и улетели в темноту. Завизжав подстреленным зайцем, Синдзабуро запустил во врага револьвером и влетел в дом. Он вцепился в дверь, чтобы задвинуть ее перед носом убийцы, но тот с разбегу протаранил створку плечом и выбил из рук журналиста. Синдзабуро кинулся в глубь дома, чуть не запнувшись о порожек, отделявший переднюю. Твердые, до блеска надраенные деревянные полы, по которым никогда не ходили в обуви, отозвались гневным грохотом. Синдзабуро метался, не слыша за собой топота погони – все заглушали уханье сердца в груди, стук крови в ушах и собственные крики: – На помощь! На помощь! Но услышать его было некому, кроме Кацу, который, испуганный топотом и воплями, забился под чайный столик и оттуда подбадривал хозяина воинственным шипением. Убийца настиг Синдзабуро у очага посреди гостиной. Ш-ШИХ-Ч-ЧВАК! Удар лег поперек туловища, от левой лопатки до пояса спину обдало холодом, а за ним раскаленной лавой разлилась боль. Пиджак, рубашка и плоть под ними разошлись, кровь хлынула потоком. Шляпа слетела с головы журналиста и покатилась по полу. Синдзабуро выгнулся дугой, простерев руки, распахнул рот в задыхающемся крике и стал разворачиваться… Следующий удар рассек ему брюшину. Синдзабуро рухнул на колени. Он пытался зажать рану, но кровь хлестала сквозь пальцы, барабанила по половицам, а кишки уже ползли из разреза упругими скользкими кольцами. Ему даже показалось, что сквозь них прощупываются комки пищи, съеденной за ужином. Синдзабуро поднял глаза, полные слез, держа в руках собственные внутренности, словно хотел предложить их своему палачу в обмен на жизнь. Он бы что угодно сейчас обменял на жизнь. Даже на существование. Темный силуэт шагнул к нему. Размытый слезами, он призрачно струился во мраке, но Синдзабуро отчетливо видел безжалостный блеск его глаз, такой же холодный, как сталь в руке. И когда лицо убийцы проступило из темноты, суровое, будто из бронзы высеченное лицо, совсем юное и даже весьма привлекательное, журналист узнал его. – Это ты! – прошептал он окровавленными губами и протянул дрожащую руку. – Пощади, прошу… В ответ снова взметнулось лезвие, полыхнув ледяным светом, – Ш-ШИХ-Ч-ЧВАК! Все закружилось перед глазами Синдзабуро и растаяло в пустоте. Отрубленная голова покатилась в очаг и осталась там лежать, облепленная золой. В неподвижном зрачке застыл лунный блик. Тело мешком повалилось рядом. Убийца постоял немного, словно любуясь содеянным. Потом наклонился, поднял голову за волосы и запихнул в дорожную сумку, висевшую на спине. Завтра главный редактор «Тюгоку» господин Ямамото, явившись на работу спозаранку, обнаружит на клумбе у входа в редакцию кол с насаженной головой, тщательно отмытой в реке по древнему обычаю сюкю-но агэру; выкаченные глаза и рот, разинутый в немом крике, будут до конца жизни преследовать его в кошмарах. В своем укрытии Кацу слышал, как дверь в сад с шорохом отъехала. Лунная дорожка легла на пол и тут же исчезла, когда дверь снова встала на место. Воцарилась тишина. Примерно через полчаса Кацу осмелел довольно, чтобы вылезть из-под столика. Он подошел к хозяину, стараясь не запачкать лапок в расползшейся по полу липкой луже, потыкался розовым носиком в неподвижную руку и горестно мяукнул. Камень бы прослезился, услышав его! Однако бестолковый хозяин, видать, до того набегался, что продолжал валяться пластом, вместо того чтобы погладить Кацу и наполнить его миску. Что поделаешь! Кацу подошел к противной луже и принялся неохотно лакать. По всем народным приметам он после этого должен был стать кайбё, грозным котооборотнем, способным принимать человеческое обличье, повелевать стихиями и наводить на людей морок. Однако он оказался, в отличие от хозяина, начисто лишен честолюбия и предпочел остаться обычным котом; во всяком случае, господин Ямамото, в память о лучшем своем сотруднике приютивший Кацу, до конца его жизни не замечал за ним никаких странностей.
5. Секретное оружие Гитлера
БАБАХ! Джун, моргая, сел на постели и тут же вскрикнул, ослепленный лучом белого света. Ночной ветер, ворвавшийся в лачугу, принес с собой запах спиртного и грубый, животный хохот. Так могли бы смеяться черти-о́ни из сказки про Момотаро. Акико проснулась и заревела. Чертей было трое, все в американской военной форме. Старший из них, рослый, подтянутый, с волосами цвета выжженной солнцем соломы и голубыми глазами-льдинками на бронзовом от загара лице, обшаривал комнату лучом фонаря, сжимая в другой руке бутылку «Сунтори». На его одежде Джун разглядел офицерские нашивки. Оба его спутника, кажется, были из рядовых. У рыжего веснушчатого парня с рыбьими глазами на груди висел фотоаппарат. Рядом с ним, уперев кулачищи в бедра и попыхивая сигаретой, стоял человек-гора – груда мышц, чудом втиснутая в военную форму. Он покрутил стриженой башкой на бычьей шее и выплюнул с клубом дыма: – Holy shit! What a hole[32]! Юми закашлялась, замахала ладошкой, разгоняя дым. Соломенные Волосы подмигнул ей, отсалютовав бутылкой, а громиле сказал: – Were you waiting for a room at the Plaza Hotel? This is a poor Japanese whore, what do you want from her[33]! – Very much, sir, very, ve-e-er-r-ry much[34]! Рыжеволосый фотограф заржал, зафыркал, словно норовистый жеребчик, и хлопнул великана по широкой спине. Тот загоготал в ответ и боднул товарища лбом в плечо. Мэдзу и Годзу [35], мелькнуло в голове мальчика. Он заметил, что Юми тоже проснулась и, сунув пальчик в рот, глазеет на незваных гостей. – Кто вы такие?! – крикнул Джун звенящим от страха голосом. – Что вам нужно? В ответ белая вспышка полоснула его по глазам. «Пикадон»! Вскрикнув, он прижал к себе Юми, почти чувствуя, как ослепительный свет сплавляет их с сестренкой в единый комок обожженной плоти. Снова раздался смех. Сквозь дрожащие огненные круги Джун увидел, как Мэдзу, ухмыляясь, опускает фотоаппарат. А за широченной спиною Годзу неожиданно появилась мама, бледная и дрожащая. – Пожалуйста, не пугайте моих детей! – Просеменив на середину комнаты, она опустилась на циновку. – Джун, Юми, это наши гости. Они нам ничего плохого не сделают. Юми она явно не убедила. Когда Годзу протянул лапищу, похожую на ковш экскаватора, чтобы погладить девочку по голове, она бросилась к маме и уцепилась за ее кимоно. Громила гоготнул, огонек сигареты в его зубах заплясал светлячком. Соломенные Волосы шагнул вперед и направил луч фонаря на маму. Она отвернулась, заслоняясь рукавом. – Убери руку, бэби-сан! – с нажимом произнес офицер на чистейшем японском. Луч света метнулся от мамы и Юми к Джуну, мазнул по личику Акико, которая заголосила от этого пуще прежнего, и снова уперся маме в лицо. Она заморгала, выдавила дрожащую улыбку и сложила руки на коленях, зажмурившись. Здоровяк Годзу воскликнул: – Damn it! She’s pretty one. I thought Hiroshima was a city of freaks[36]. – Wait, – отозвался Мэдзу-фотограф, – we haven’t seen what she’s hiding under that kimono yet… Maybe she has terrible burns all over her body there[37]. – Well, then you, Murphy, can take a couple more spectacular pictures! Besides, she has a mouth anyway[38]… – No way! I want to give her one more baby[39]! Взрыв хохота. Годзу так треснул приятеля по спине, что тот чуть не уронил камеру. Сердце Джуна трепыхалось пойманной птичкой (ка-гомэ, каго-мэ). О чем они толкуют? Из всего английского языка он выучил только слова hello и hungry: если долго бежать за армейским грузовиком, выкрикивая их как можно звонче и жалобнее, какой-нибудь улыбчивый янки обязательно кинет брусок жутко невкусного шоколада или пару монет. Ну или достанет изо рта комок липкой противной жвачки и с криком Pearl Harbour! запулит тебе в лицо, и поди еще успей увернуться. Варвары, что с них взять? Большинство американцев, которых ему доводилось видеть, не походили на чудовищ, какими их описывали, и, скорее, напоминали школьных задир, забывших повзрослеть. Их даже трудно было увязать со страшным днем «пикадона». Но эти трое выглядели так, будто в них вселился дьявол, и, хотя мама улыбалась им и кивала (она тоже вряд ли понимала их речь), Джун видел, что ее всю трясет. – Мамочка, – проговорил он дрожащим голосом, – чего им от нас надо? – Джун, – прошептала она, боязливо покосившись на офицера, который в этот момент прикладывался к бутылке, – уведи Юми на улицу, слышишь? Они скоро уйдут, обещаю, они скоро уйдут! Мальчик яростно замотал головой. Ни за что на свете он не оставит ее с этими чертями! Зачем она вообще пригласила их? Они, наверное, навязались в гости: все знают, что американцам лучше не перечить, особенно когда они пьяны. Но что им понадобилось в жалкой лачуге? У мамы даже сакэ нет, иначе она бы нашла кому его продать… Черти продолжали перекидываться фразами на своем отвратительном языке, с ухмылками поглядывая на маму. «Пан-пан… – прошептал в голове вкрадчивый голосок. Желудок скрутило в узел. – Пан-пан. Я добуду вам поесть, так она сказала? Умру, но добуду…» Нет, на такое мама бы не пошла. Она не такая, как Рин. Не такая! Как же отец?.. Он смотрел на американцев, ища опровержения страшной догадке, и в хищном блеске глаз, в липких ухмылках читал ответ. Офицер Соломенные Волосы снова глотнул из бутылки (бездонная она, что ли?) и сказал: – Улыбнись, бэби-сан. Что ты такая грустная? Мама выдавила очередную жалкую улыбку. Джун больше не мог этого выносить. Он бросился к ней, обнял, пытаясь заслонить своим тщедушным телом от этих грязных, бесстыдных взглядов, и почувствовал, что от нее тоже тянет спиртным. Не сильно, но ощутимо. – Мамочка, прошу, не выгоняй! Не надо! Она с неожиданной злостью оттолкнула его, одновременно пытаясь отцепить пальчики Юми от кимоно. Джун растянулся на полу, вскрикнул, больно ушибив локоть. Юми захныкала и стала бить маму кулачком по руке. – Брось, бэби-сан, пусть посидят пока, – дружелюбно сказал Соломенные Волосы. – Мы никуда не торопимся. На лице у мамы отразилось отчаяние. Джун уселся рядом с ней, обняв Юми за плечи и сверля глазами американцев. Пока он смотрит, они ничего не посмеют сделать. Верно же? Годзу затушил окурок о стену и кинул на пол. Мэдзу дыхнул на линзу камеры и стал полировать ее рукавом. Стало тихо, но воздух гудел от напряжения, как перед грозой. Соломенные Волосы первым нарушил невыносимую тишину. Расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, он произнес: – Спой нам, бэби-сан. – Но… – начала мама, беспомощно глянув на Джуна. – Ты умеешь петь? У тебя трое детей, ты должна была петь им колыбельные. – Господин, я правда… – Ты обещала сделать все, что мы хотим. Мы хотим, чтобы ты нам спела. – Ах, господин, у меня совсем нет голоса… Соломенные Волосы полез в карман куртки и достал брусок шоколада в золотистой обертке. – Шоколад, сахар, овсяная мука, какао-масло, сухое молоко обезжиренное, ванилин. – Он поднял брусок на ладони, словно золотой слиток. – Четыре унции, шестьсот калорий, хорошенько сдобренных витамином Б. Одной такой плитки взрослому мужчине может хватить на пару дней. Мама звучно сглотнула слюну, не сводя с шоколада глаз. У Джуна заурчало в животе. Юми протянула ручонку: – ДАЙ! Американцы засмеялись. Соломенные Волосы убрал плитку обратно в карман. Губки Юми обиженно задрожали. – Мы его называем «секретное оружие Гитлера», потому что жрать такое дерьмо можно только на пределе отчаяния, – продолжал офицер. – А вы, бэби-сан, как я погляжу, – он обвел рукой лачугу, – оставили этот предел далеко позади. Но ты подумай: шестьсот калорий! По двести на каждого! Для твоих детей это несколько лишних дней жизни! Паршивая песенка – вполне приемлемая цена за паршивую шоколадку, не так ли? – Сами давитесь своим шоколадом! – закричал Джун. – Оставьте нас в покое! Она не будет петь, ясно? Мама ахнула. Годзу насмешливо протянул: «У-у-у!», а Мэдзу снова ослепил мальчика фотовспышкой, запечатлев на память его разгневанное лицо. – Замолчи! – Мама отвесила Джуну подзатыльник и поклонилась офицеру. – Не слушайте его, господин, мой сын ужасно глупый! Сейчас я выгоню их с сестрой… – Нет, бэби-сан, сперва ты нам споешь! – Соломенные Волосы игриво погрозил ей пальцем. – Им интересно будет послушать, что ты пела своему узкоглазому муженьку, когда их не было поблизости… Ты будешь петь, тупая узкоглазая сука, потому что мы так сказали, а мы здесь теперь закон. Не ваш занюханный император, не чертов Будда и не вся кодла ваших смешных божков, а мы! – Он взмахнул бутылкой. Вскрикнув, мама закрыла лицо руками, а Годзу и Мэдзу снова захохотали. Когда мама наконец подняла глаза, в них была решимость. – Дайте выпить, – хрипло сказала она. Соломенные Волосы протянул ей бутылку. Мама схватила ее, присосалась к горлышку. Американцы завыли, заулюлюкали. Офицер зааплодировал. – Пей, бэби-сан, пей до дна! – кричал он, и Годзу с Мэдзу вторили ему по-английски: – Drink, babe, drink! Мама закашлялась, пахучая жидкость ручьем бежала у нее с подбородка, пропитывая ткань кимоно. Она поставила бутылку, обвела комнату осовелым взглядом. А потом ударила в ладоши и заголосила с пьяным надрывом:Ты да я, да мы с тобой,
Два конца от пояса!
Завяжи их у меня
На груди узлом тугим!
Ах, любовь, любовь моя,
Сладострастная истома!
Стал моим ты, я твоя,
Нас не разлучить вовек!
Ты да я, да мы с тобой,
Два конца от пояса!
Завяжи их у меня
На груди узлом тугим!
Лет с семи или восьми
Азбуку учила я!
Одурела от любви,
Позабыла все слова!

Соломенные Волосы потянул из кобуры полуавтоматический «кольт» и со звонким щелчком передернул затвор. Джун понял: это для них с Юми. Он все же нашел в себе силы, чтобы схватить сестренку в объятия и накрыть ее своим телом, как будто мог им остановить пули… – That’s right, sir! – выкрикнул Мэдзу, брызжа слюной. – Let’s crush them! Crush them like worms[48]! Юми кряхтела, вырываясь. Джун крепче прижал ее к себе и зажмурился, в любой момент ожидая услышать треск расколотого черепа Акико и грохот выстрелов, что свинцовым градом прошьют их тела насквозь. Они останутся лежать вчетвером на полу, истоптанном ногами чужеземных чертей, мертвые, изуродованные, как Рин, а те, утолив свою похоть и жажду крови, растворятся в ночи… Выстрелов все не было. Наконец Джун решился открыть глаза. Мэдзу замер с Акико на руках. Щеки его горели, кадык на тощей шее судорожно подрагивал, глаза выпучились, как у карпа, – наверное, потому, что пистолетный ствол в руке офицера теперь упирался ему в висок, рядом с торчащим пунцовым ухом. Никто не двигался с места. Казалось, само время замерло. Потом Годзу слегка ослабил хватку на мамином горле, а рыжий американец, сглотнув, выдавил: – Sir, for God’s sake… What are you doing[49]? – That’s what I want to ask you, – ответил Соломенные Волосы тихо, с ласковым таким придыханием. – What the fuck are you doing[50]? – Come on, sir, – проговорил Мэдзу, – it’s just a little Jap[51]… – It’s a baby, Murphy, for fuck’s sake! We don’t kill children[52]! – Didn’t the Japs kill them? – робко подал голос Годзу. – In China, in Korea[53]… – We’re not Japs! – отрезал лейтенант. – We’re Americans, damn it[54]! В душе Джуна всколыхнулась волной надежда. Он не понимал ни слова, но Соломенные Волосы заступился за них, никаких сомнений! Мальчик на четвереньках подполз к ногам офицера и зачастил, припадая лицом к полу: – Господин, умоляю, пожалейте мою сестренку! Мы не сделали вам ничего плохого! Сжальтесь, господин! В лачуге повисла тишина. Даже Акико притихла в руках Мэдзу, будто поняла, что сейчас решается ее судьба. – Отвали, щенок, – сказал Соломенные Волосы, опустив пистолет, и отпихнул мальчика ногой. Мэдзу, очевидно, воспринявший это как отмашку, снова стал поднимать Акико, но ствол «кольта» тут же снова нашел его висок. – I’ll blow your brains fuck out! – выплюнул Соломенные Волосы. – Put the baby down, Murphy. And you, Trout, let the woman go. The party is over[55]. – But, sir… – Великан нехотя разжал пальцы, позволив маме с хрипом втянуть в себя воздух. – I’m not finished with her yet[56]! – Finish with your hand. Now be a good boy, put on your pants and get out. That is an order[57]. Годзу медленно поднялся с распростертого маминого тела, застегнул брюки. Мэдзу опустил Акико в люльку (малышка тут же опять завопила), повернулся к командиру, собираясь что-то сказать, – и тут же получил по лицу стволом пистолета. Он отпрянул, вскрикнув, из рассеченной губы брызнула кровь. – Consider it a health spanking, – произнес Соломенные Волосы. – Your Catholic mother will be grateful to me for that. Now get out, both of you[58]! Мэдзу схватил с пола камеру и вывалился из лачуги, зажимая рукой кровоточащий рот. Годзу поспешил за ним, опасливо поглядывая на разгневанного командира. Соломенные Волосы захлопнул за ними дверь, со скрипом вогнал пистолет в кобуру и повернулся к маме: – Прошу прощения. Боюсь, мои люди слегка потеряли голову. – Пожалуйста… – Мама с трудом шевелила распухшими губами. – Мои дети хотят есть. Вы обещали… Кривая усмешка прорезала лицо лейтенанта: – Не спеши, бэби-сан. У нас вся ночь впереди. Становись на четвереньки. Джун обнял Юми и закрыл ей глаза рукой.

Американец ушел на рассвете, оставив на полу скомканную банкноту в пятьдесят йен и брусок шоколада. Только когда за ним закрылась дверь, мама наконец дала волю слезам. Юми вырвалась из рук брата и зареванной мордашкой уткнулась ей между искусанных грудей. Джун не сдвинулся с места. Юми не понимала, что с мамой сделали, а он понимал. Американцы осквернили ее, как осквернили землю Хиросимы. Он не мог к ней прикоснуться и ненавидел себя за это. Взгляд его против воли упал между разведенных маминых бедер, на лепестки воспаленной плоти в слипшихся волосах, из которых клейко сочилась белая слякоть. Мама, перехватив его взгляд, поспешно сдвинула ноги, но увиденное уже запечатлелось в мозгу. Значит, так оно происходит. Таким образом появились на свет и он, и Юми, и крошка Акико, и все-все люди на земле… Значит, нет в мире никакой красоты – лишь нутряная, животная мерзость. Что-то дрогнуло в лице у мамы. Она поняла. – Сходишь на рынок за молоком для Акико. – Голос ее звучал глухо, словно в рот набилась земля. Так мог бы говорить призрак-юрэй. – И купи что-нибудь вкусное. А пока… пока у нас есть ш… шок-колад… – Она снова заплакала и крепче прижала к себе Юми. Джун сидел у стены, глядя, как она подползает к очагу и разводит огонь. Американский шоколад тверд как камень, если не размягчить – останешься без зубов. Подержав брусок у огня, мама разделила его на три части тем же ножом, которым чуть не отрезала себе грудь утром. Юми сразу накинулась на свою долю и стала грызть, как зверек. Джун сидел, оцепенело глядя на шоколад. Как он может есть этот коричневый, на дерьмо похожий комок, доставшийся такой ценой? – Ешь, – сказала мама. – Тебе нужны силы. Джун помотал головой. – Ешь, я кому сказала! Он бросил шоколад на пол и вытер руки о шорты. От оплеухи зазвенело в ушах. Юми скривила измазанный шоколадом ротик и захныкала. – Ненавижу! – выкрикнул Джун, давясь слезами. – Это ты их привела, ты! Как ты могла! Папа умер, а ты! – Папа умер, – эхом отозвалась мама. – А мы живы. Живы! – Ненавижу тебя! – Он сжал кулаки. – Ненавижу! Глаза мамы сверкнули: – Можешь ненавидеть, презирать, можешь не считать матерью, но умереть я тебе не дам! Ты будешь есть этот шоколад, даже если мне придется палкой затолкать его тебе в глотку! – Она залепила ему еще одну пощечину, схватила с пола оплывший комок и попыталась запихнуть ему в рот. Джун ударил ее по руке: – Ненавижу! Лучше б ты… Он зажал рот ладонью, пораженный словами, которые чуть не сорвались с его языка. А потом разревелся. Он рыдал, и рыдала Юми, и верещала Акико в своей колыбельке, и мама, онемев на мгновение от этих невысказанных слов, уронила шоколад и тоже завыла, заскулила, тоненько, как обиженный ребенок, как побитый щенок, запрокинув голову к потолку и зажав руки между коленей. Джун схватил ее в объятия и, забыв про отвращение, стал целовать соленое от слез, оскверненное поцелуями американцев лицо, шепча: – Мамочка, прости, прости! Я съем, все до крошечки съем и на рынок пойду, прости меня, мамочка! Схватил бесформенный комок с пола и запихнул в рот. «Секретное оружие Гитлера» отдавало на вкус прелой картошкой.Пятьдесят йен – это жить две недели. Это молоко для Акико, лапша и рисовые колобки, которые так любит Юми. Это приятная наполненность в животе и тошнотворная, сосущая пустота в груди. Он сидел над рекой с карандашом и бумагой в руках, скрестив ноги и положив рядом пенал. Он хотел нарисовать… да что угодно. Погрузиться в фантазию, чтобы не стояла перед глазами мама, голая, распятая, раскрытая, стонущая под тяжестью мужских тел, мокрая от пота, исходящая между ног белой слякотью. Чтобы не звучали в голове страшные слова, чуть не сорвавшиеся с его языка. Не нарисовать ли ад, как Ёсихидэ? И чтоб там настоящие о́ни-черти своими шипастыми палицами-канабо дробили кости американцам? Но он не мог. Даже в отблесках адского пламени, даже в мускулистых фигурах чертей должна быть какая-то красота; а красоты в мире не существует, теперь он это знал точно. Он долго еще сидел, слушая тишину и глядя, как солнце рябит в воде. Глаза у него были совершенно пустые. Потом он порвал листок в клочья и спокойно смотрел, как они снежными хлопьями осыпаются в воду и Ота несет их прочь. Раз нет в мире красоты, то и в рисунках нет никакого смысла. Все обман, такой же, как великая непобедимая Япония, как то, что Император ведет свой род от богини Аматэрасу, как все, что в школе рассказывали. Иллюзия, чтобы дурить голову простакам, набор бестолковых мазков и линий, напрасная трата времени и бумаги, которой можно было бы, например, вытереть задницу или взять жирный пирожок. Он аккуратно вернул карандаш к остальным и захлопнул крышку пенала, того самого пенала, за который так отчаянно цеплялся в огненном аду меньше года назад. Взвесил в руке, зло усмехнулся и с размаху запулил его в реку. ПЛЮХ! Только круги по воде пошли.
6. Атомный Демон
Тело отца Рин, старика Аоки, обнаружил Тэцуо Ясима, сын военного летчика, бывший кадет, круглый отличник и чемпион префектуры по йайдо и кэндо, а ныне – уличный бандит, печально известный всей Хиросиме. Вместе со своими дружками, братьями Кентой и Горо Харада, он наводил ужас на уличных лоточников, спекулянтов и своих соперников в преступном ремесле. Отца Тэцуо сбили над заливом. От его дома осталась только опорная стена. От матери и сестры – черные тени на ней. Меньше чем за год мальчик из хорошей семьи превратился в отъявленного разбойника. Поговаривали, что даже якудза, под которыми бегают все малолетние преступники, бродяжки и попрошайки, не рискуют взять Тэцуо в оборот. Ясима брал что хотел и ни с кем не делился. И уже мало кто помнил, что год назад юный головорез опубликовал в литературном разделе «Тюгоку» рассказ «Патриот», прогремевший на всю страну, а было тогда Тэцуо всего-то пятнадцать лет. А вот Джун помнил об этом, потому что учитель Такамура однажды пригласил Тэцуо в школу – прочесть свой рассказ младшеклассникам. Тэцуо явился – высокий, стройный, воплощенный идеал кодекса Бусидо в каждом движении, каждом жесте. Девчонки, глядя на него, от восторга пищали, а мальчишки смотрели как на божество. Он декламировал рассказ по памяти, и Джун, вместе с папой зачитавший «Патриота» до дыр, мог поклясться, что Тэцуо не ошибся ни в одной строчке. И как он декламировал! Голос его то струился ручьем, то гремел горным водопадом; слушая, как капитан Фудзивара и его возлюбленная Сатоми совершают сэппуку во славу Императора, самые отпетые хулиганы плакали не таясь. Даже у старого учителя на глазах блестели слезы. Джун не плакал – его эмоции нашли другой выход. Он внимал чарующему голосу Ясимы, а рука тем временем будто сама собой набросала в тетрадке красавца-капитана, сочиняющего свое предсмертное стихотворение, и невесту, с нежной улыбкой приникшую к его плечу. После того как Тэцуо закончил, ученики засыпали его вопросами. Фудзивара и Сатоми существовали на самом деле? Трудно сочинять рассказы? Откуда ты берешь свои идеи? И самое главное: КАК МОЖНО ТАК БОЖЕСТВЕННО ПИСАТЬ? Джун, набравшись духу, молча протолкался сквозь толпу одноклассников и протянул ему свою работу. Тэцуо долго смотрел на рисунок, ничего не говоря. Сердце Джуна упало. Если человек, написавший такой рассказ, останется недоволен, он сам вспорет себе живот! Наконец Ясима дружелюбно спросил: – Как тебя звать? Джун не мог ответить: слова застревали в горле, лицо пылало. Вместо него загалдели наперебой одноклассники: – Это Джун, Серизава Джун! – Он художник! – (А то Ясима не догадался бы.) – Он чокнутый! – Сам ты чокнутый, да к тому же дурак! – Ай да Серизава! Тэцуо снова посмотрел на рисунок и лукаво спросил: – Ты залез ко мне в голову, Серизава Джун? Джун залился краской и отвесил такой поклон, что чуть не ткнулся носом Ясиме в ботинки. Лучшей похвалы своему таланту он в жизни не слышал! Дома он поделился радостью с отцом, и тот тоже пришел в восторг. – Как война закончится, быть этому парню большим писателем, – сказал он дрожащим голосом, – и, когда он выпустит свою первую книгу, художником в ней будет Серизава Джун, сын Киёси! А я тогда соберу за бутылочкой доброго сакэ трамвайщиков со всего города, покажу им эту книгу и скажу: это нарисовал мой сын! – Он смахнул мизинцем слезу и так сдавил Джуна в объятиях, что у того затрещали кости. Но к тому времени, как Джун снова встретился с Тэцуо, папы уже не было на свете. В тот январский вечер бушевала метель, и Джун, возвращаясь из города, задержался на мосту, чтобы погреться у костра, который братья Харада развели в железной бочке. У огня собрались еще несколько ребят. Пламя трепетало и потрескивало на ветру, поземка с воем вилась у ног продрогших детей. Кента, младший из братьев, скаля в ухмылке кривые зубы, заигрывал с Рин, которая, должно быть, только что вернулась с одного из своих «свиданий»; она глупо хихикала, а спиртным от нее разило так, что глаза слезились, того гляди полыхнет от случайной искры. Горо, известный под кличкой Одноглазый, отвернулся к реке, пряча правую половину лица, похожую на вскипевшую яичницу; дыру на месте вытекшего глаза скрывала черная повязка. Никто не смел потешаться над его уродством, потому что на поясе Горо носил разделочный нож в ореховом чехле, и все же, слушая хихиканье Рин, он стискивал зубы, словно принимал его на свой счет. И там же, напротив Рин, протянув к огню руки с длинными изящными пальцами, стоял Тэцуо Ясима, как будто ничуть не изменившийся. Джун вылупился на него, не веря своим глазам, а Тэцуо не видел его: насмешливо выгнув бровь, он глядел на хохочущую пьяную Рин, но насмешка в его взгляде была исполнена нежности. Когда ребята стали расходиться, он подошел к Рин, оттерев Кенту, протянул ей руку и что-то сказал. Рин в ответ звучно икнула, Тэцуо засмеялся, и оба растворились в метели. При всей благодарности к Рин Джун не мог не отметить, что она мало похожа на идеал японской девушки, достойной Тэцуо. А еще его больно кольнуло, что Ясима не обратил на него никакого внимания, точно не узнал вовсе. Даже потом, узнав, чем промышляет Тэцуо, Джун ничуть не разочаровался в своем герое. О, если бы самому стать таким же сильным, дерзким, отчаянным! Тогда маме и Юми никогда не пришлось бы голодать! Тэцуо так больше и не перекинулся с ним ни единым словом, но однажды, проходя мимо его лачуги, остановился поболтать с Юми, игравшей у крыльца, и подарил ей бумажного журавлика. Юми потом страшно задирала нос, а Джун решил, что в железной груди Ясимы, несмотря на жуткие слухи, которые о нем ходят, по-прежнему бьется живое сердце. Когда убили Рин, именно Тэцуо взял на себя заботу о ее слепом отце. Раз в несколько дней он навещал старика, приносил продукты (добытые, увы, не вполне законным путем), слушал горькие жалобы и как мог старался утешить. Какой-то доброхот просветил господина Аоки, что его дочь зарабатывала на хлеб отнюдь не руками; Тэцуо вытащил доброхота из дома и жестоко избил на глазах его жены и детей, пообещав в следующий раз отрезать язык. Но, несмотря на заботу Ясимы, господин Аоки угасал на глазах, и мало кто сомневался, что к концу года отец с дочкой снова будут вместе. Тем не менее он решил, видно, поторопить события, и Тэцуо, в очередной раз зашедший проведать старика, обнаружил его в луже свернувшейся крови. В иссохшей руке господин Аоки сжимал кухонный нож, которым, без сомнения, и перерезал себе горло от уха до уха. Откуда только силы взялись! Тэцуо выскочил из лачуги как ошпаренный и принялся колотить во все двери, крича: – Эй, все сюда! Старик Аоки покончил с собой! Соседи высыпали на улицу, испуганно галдя, кто-то побежал звать полицейских. Старика увезли в один из битком набитых городских моргов, где не так давно он сам под присмотром инспектора и нескольких чиновников дрожащими пальцами ощупывал изуродованное лицо своей дочери. Никто не знал, кто взял на себя расходы на кремацию и взял ли вообще; родных у Аоки, скорее всего, не осталось. Старик и его дочь растворились в вечности, как бесчисленное множество других жителей Хиросимы, как большинство жертв любой войны.
Страшная смерть господина Аоки и близко не наделала столько шума, как известие о том, что госпожа Серизава… да-да, вы ее знаете, сколотила конуру на отшибе, чтоб за землю не платить, хитрая какая… пошла по стопам покойной Рин. Госпожа Мацумото в окно видела, как госпожа Серизава вела янки к себе домой, их было трое, подумать только! Вон, кстати, сынок ее, Джун, видите, у водокачки, умывает Юми-тян? Такой хороший, заботливый мальчик, говорят, рисует неплохо, а мамаша… Шу-шу-шу. Змеиное шипение. Шорох перебираемых костей. – Госпожа Серизава, слышали? Совсем опустилась, бедная: отдавалась американцам за горстку риса! – Я слышала, что за деньги, госпожа Мацумото… – Ах, милая, какая разница! Ведь янки ее мужа убили. Я уж не говорю о том, какой они подняли тарарам! Мой Сетаро всю ночь проплакал. – Нынче многие идут на такое… – То девчонки. Но взрослая женщина, мать! – Говорят, она якшалась с бедняжкой Рин? – Вот уж верно сказано: с кем поведешься! О сомнительной славе, постигшей его семью, Джун узнал после того, как Юми спросила: – Братик, а кто такая шлюха? У Джуна потемнело в глазах, подкосились ноги, однако «пикадонские приступы» были в этот раз ни при чем. – Это ужасное слово! – воскликнул он. – Где ты его услышала? – Мияко и Тигуса сказали, что им нельзя со мной играть, потому что наша мама – шлюха. Джун сжал кулаки. – Ну так и не играй с ними! У нас лучшая мама на свете, ясно? А твои Мияко и Тигуса просто дуры. – А с кем же я тогда буду играть? – надулась Юми. – Можешь играть со мной. – Ну нет, ты не уме-ешь! Потом стало еще хуже. То, что взрослые говорили шепотом или вполголоса, дети кричали во всеуслышанье: – Серизава! Эй, Серизава, сын шлюхи! – Серизава, нарисуй мне американца! – Сколько стоит ночь с вашей мамочкой, Серизава? – Эй, Юми-тян! Я слыхал, ты мечтаешь продолжить семейное дело, когда вырастешь? Вслед за насмешками летели камни и комья грязи. – Братик, почему нас больше никто не любит? – спросила однажды Юми. «За то, что мама превыше всего ставит жизнь, – подумал он. – За то, что мы с Акико и Юми ей дороже чести». А вслух сказал: – Они просто дураки. Не обращай внимания. Он почти перестал выходить из дома, но за молоком для Акико все равно приходилось бегать – у мамы оно так и не появилось. – Это все из-за проклятого «пикадона», – говорила она. – Эти дьяволы чем-то нас отравили. Эти дьяволы часто встречались Джуну. На рынках, вокзалах, в лихих районах и возле уцелевших кинотеатров – словом, всюду, где в Хиросиме еще теплилась жизнь, они разгуливали хозяевами, крепкие, сытые, самодовольные. Болтали между собой, свистели вслед хорошеньким девушкам, смеялись, как будто без всякого повода. Но Джуну казалось: это над ним они потешаются. Быть может, вспоминают, как в офицерском клубе, что в бывшем кинотеатре «Суйсэн», за бутылкой виски передавали из рук в руки захватанную фотокарточку, на которой с бесстыдно раскинутыми ногами навеки застыла его, Джуна, мама, и вот так же смеялись, попыхивая сигарами, пока сизый вонючий дым вился над их стрижеными макушками. Джун заливался липким противным потом, ноги наливались слабостью, а сердце подскакивало к самому горлу. Он высматривал среди них одного из той троицы, хоть и не представлял, что будет делать, если действительно встретит их.Начало мая выдалось по-летнему жарким. Раскаленное небо сочилось зноем, и Хиросиме, лишившейся домов и деревьев, нечем было укрыться. Ветерок, гуляющий над развалинами, приносил вместо облегчения удушливый запах; город теней смердел гниющей плотью. В больницах, банках и департаментах, уцелевших после взрыва, старались лишний раз не открывать окон, а прохожие повязывали лица мокрыми плат- ками. Черный рынок раздирала война якудзы: западной частью заправлял клан Ямамори, восточную подмяла семья Дои. Для торговцев не было никакой разницы – те и другие драли с каждого по семь шкур. Но не из-за них торговые ряды уже несколько дней гудели, как потревоженный улей: преодолев девять кругов бюрократического ада, «Тюгоку Симбун» наконец разродилась статьей о жестоком убийстве своего сотрудника Синдзабуро. По слухам, публикацию задерживал лично генерал Макартур, желавший убедиться, что в ней нет никаких намеков на причастность к злодеянию американских солдат. Теперь запоздалую новость обсуждал весь город. Убийцу окрестили Атомным Демоном (слово «атомный» было теперь в большой моде) и говорили о нем с суеверным придыханием. Пробиваясь в гудящей жаркой толчее, давясь вонью протухшей рыбы и скисшего молока, Джун ловил обрывки разговоров, догадок, слухов и домыслов. Женщины поминали злодея вполголоса, прикрывая ладонью рот, будто боялись, что Атомный Демон услышит. Мужчины, сгрудившись вокруг огромных котлов, где шкворчали в масле свиные головы, наполнявшие воздух едким чадом, гомонили, как стая чаек. Все три жертвы забиты мечом! Безумный ветеран? Американцы? Да ведь Синдзабуро им прислуживал, как собака! Невозмутимые крепыши в темных очках и дорогих костюмах рассекали людское море подобно стае акул, и там, где они проходили, болтовня сразу обрывалась, чтобы с новой силой вспыхнуть, как только они растворялись в толпе. Говорю вам, это они, якудза! Да какие якудза, болван? Охота им янки против себя настраивать! Сам болван! А может, ты всех и убил? Ха-ха-ха! – Атомный Демон… Атомный Демон… – неслось по рядам. Обессиленный, Джун возвращался домой, отдавал маме покупки и валился на тюфяк. Рисунки смотрели на него со стены – издевательское напоминание о навсегда утраченном даре. Ночами являлся отец. Возникал в темноте у изножья постели, окутанный серебряной дымкой, и смотрел на Джуна печально мерцающими глазами. – Я плохой сын, – говорил ему Джун. – Не могу ни обеспечить семью, ни защитить маму, ни даже картинку нарисовать. Знаю, где бы ты ни был, ты стыдишься меня! Зачем только я появился на свет? Отец со слезами на глазах качал головой, протягивал руки, но Джун был непреклонен: – Я никчемный человек и никогда не стану художником. Почему я не сгорел с тобой в тот день вместо того, чтобы позорить тебя? И с тихим вздохом отец растворялся в прядях серебряного дыма. Все чаще посещали Джуна мысли о самоубийстве. Не таком грязном, какое совершил папа Рин, а как у Тэцуо в «Патриоте»: усевшись на коленях, приспустить штаны, вонзить нож в левое подреберье и рвануть слева направо, выпуская на волю дымящиеся кишки. Если верить рассказу Ясимы, такая смерть столь же прекрасна, сколь и мучительна. Только нужен толковый кайсяку, человек, который отрубит тебе голову до того, как боль станет невыносимой. Об этой услуге Джун, пожалуй, попросил бы самого Тэцуо. Тот наверняка снова зауважал бы его… Жаль, что у Тэцуо нет меча. Да и кто будет бегать за молоком для Акико, если Джуну отрубят голову? Акико последнее время хандрила, словно заразившись тоской от брата. Вроде и молока у нее было теперь хоть залейся, но сосала она неохотно и почти все время спала. Лиловых пятен на ее щечках прибавилось, а когда мама купала сестренку, Джун видел, что таинственная сыпь расползлась по всему ее тщедушному тельцу. Впрочем, сыпь – это ерунда. От сыпи же не умирают, верно? Куда сильнее пугало то, что деньги американца подходили к концу. Что будет делать мама, когда они иссякнут?
Однажды, проходя мимо банка «Сумитомо», он увидел двух солдат; на гранитных ступенях крыльца отпечаталась тень человека, застигнутого «пикадоном», и американцы, скаля великолепные белые зубы, по очереди фотографировались с черным печальным призраком: «Cheese!». На мальчика накатила такая волна дурноты, что он опустился на колени, упершись ладонью в оплавленный асфальт. Один из янки склонился над ним и добродушно спросил: – Hey, kid, are you okay[59]? Джун плюнул в него, попав на лацкан мундира. Американец отпрянул, и дружелюбие его разлетелось вдребезги. – You little bastard[60]! – рявкнул он и занес ногу, собираясь дать наглецу пинка. Другой солдат, тот, что фотографировал, поймал его за локоть: – Come on, Vinnie! It’s just a poor sick kid. Maybe his mother or father is there on the steps… Leave him alone[61]. Солдаты ушли, не тронув Джуна, но добраться домой целым и невредимым ему было не суждено. На берегу его подстерегли братья Харада, затащили под мост и набросились с кулаками. Они били безжалостно, до слез, до истошного крика; били кулаками, ногами и палками, били в живот, в пах, по голове и по ребрам, таскали за волосы, валяли в грязи и горстями запихивали в рот землю, смеясь от восторга. Они были крепкие парни, сыновья рыбака, привыкшие тянуть из реки тяжелые неводы, их руки бугрились мышцами, а кулаки лупили как молоты, но Джун не просил пощады. Выл, корчился, но не просил. И пока оставались силы, размахивал кулаками, царапался и кусался. Он уже не боялся повредить руки. В какой-то момент он увидел Тэцуо: тот стоял, положив руку на бетонную балку, и с каким-то странным, болезненным интересом смотрел, как мальчик, который однажды залез к нему в голову, корчится на земле, обливаясь слезами и кровью. Все поплыло у Джуна перед глазами. А когда он очнулся, Тэцуо и его банды уже и след простыл. Мама, увидев его, пришла в ярость. – Кто?! – вопрошала она, прикладывая к его распухшему, окровавленному лицу мокрое полотенце. – Кто это сделал, я тебя спрашиваю?! Отвечай! Он стиснул зубы и молчал. Проклиная все на свете, она содрала с него грязное изорванное тряпье и ушла стирать в реке. Джун голышом свернулся на тюфяке, пытаясь представить, что вернулся в мамин живот. Там, в теплой и мягкой мгле, нет ни горя, ни боли, ни унижений, лишь стук собственного сердца, бьющегося с маминым в унисон. – Братик! Бра-а-атик! Ты обещал, что будешь со мной игра-ать! – Юми дергала его за волосы, шлепала ладошками по щекам и толкала ножкой в зад. Джун лежал, как мертвый. – Братик! Нарисуй мне принцессу Кагуя! – Я больше не рисую. Оставь меня в покое. Сестренка захныкала, но ее слезы не трогали сердце Джуна. Чего ей от него надо? Он даже еще не родился. Его не существует.

На рынке сегодня было особенно шумно. Торговец, у которого Джун хотел купить молока, как видно, считал своим долгом обсудить Атомного Демона с каждым, кто сунется к его лотку. Уже собралась толпа слушателей, и Джуну пришлось буквально ввинчиваться в нее, задыхаясь от запаха потных немытых тел. – …Прямо в доме Атомный Демон его и настиг! – Лоточник рассек воздух взмахом ладони, не обратив внимания на деньги, что протягивал ему Джун. В толпе прокатился испуганный вздох. – Распластал, как свинью, и башку с плеч! И девке пан-пан, что с ним была, тоже! Джун содрогнулся, хотя и слышал эти подробности уже не раз. Как ни гадок был ему Синдзабуро, такой участи он не заслуживал. И никто не заслуживал, разве только американцы. – Та, другая девица, тоже вроде была пан-пан, – заметила старуха, прижимающая к боку сумку, набитую бататами, такими розовыми и крупными, что от одного взгляда на них в животе урчало и рот истекал слюной. Джун подумал, не стянуть ли пару клубней, но решил, что риск слишком велик. В такой толкучке не улизнешь. – На гулящих девок этот Демон охотится! – загомонили в толпе. – Значит, порядочным людям он не страшен. – Хорошо бы еще за бураку[62] взялся! Они последнее время забыли совсем свое место. – Ну да, не страшен! А журналист? – Угодил просто под горячую руку… – Это Синдзабуро-то порядочный? – хохотнул лоточник, достав из-под прилавка полотенце и вытирая вспотевший лоб. – А почитайте, что он писал про нашу армию! Резня в Нанкине! Какие-то заморенные корейские шлюхи! Извиняться мы должны перед этими… – Он оттянул пальцами уголки глаз, превратив их в щелочки. – Надо думать, за то, что понастроили им железных дорог, больниц и школ! Каково нашим бойцам, вернувшись домой, читать о себе такое да смотреть, как наши жены, сестры и дочери врага ублажают? Вот кто-то за меч и взялся… – Да мечи-то все давно изъяли! – заметил кто-то. – Не все, как видно! Вот ей-же-ей, – торговец хватил кулаком по прилавку, на что батарея бутылок отозвалась испуганным звоном, – будь у меня меч, так бы сам и порубал скотину в куски! Толпа одобрительно загудела. Джун засопел от злости. Ладно бы Синдзабуро, но этот человек говорил о Рин, о его маме, а остальные горячо поддерживали его! Он хотел выкрикнуть лоточнику все, что о нем думает, но его опередил изможденный мужчина со впалыми слезящимися глазами и лицом, похожим на обтянутый кожей череп. – Проклятье! Когда ж вы уйметесь, сволочи? Война давно проиграна! – Он схватил лоточника за грудки и принялся бешено трясти. В толпе ахнули. Лоточник испуганно заголосил, замахал руками. Бутылки посыпались на землю и разлетелись вдребезги, забрызгав ноги покупателей молоком вперемешку с осколками. Поднялся возмущенный рев. Толпа на мгновение отпрянула и снова ломанулась вперед. Деревянные подошвы хрустко мешали с грязью молочно-стеклянное крошево. Несколько рук вцепились в обезумевшего мужчину, а он все вопил: – Из-за вас наш город превратился в свалку! Из-за вас моя жена гниет сейчас заживо! Будьте навеки прокляты! Джун воспользовался суматохой, чтобы цапнуть из-под ног уцелевшую бутылку и смыться, не заплатив. Плевать, если в следующей жизни он станет за это крысой. В нынешней каждая йена на счету.Он решил срезать через разрушенный квартал. Приходилось спешить: свинцовые тучи поглотили солнце и в любой момент грозились прорваться дождем. Не хватало только вымокнуть и простудиться – любая болячка, даже самая легкая, теперь надолго выводила его из строя. Пробираясь через груды битого кирпича среди уцелевших стен, Джун мрачно подумал, что уже не помнит, каково это – ощущать себя здоровым и сильным. Он превратился в тень самого себя. Яд бомбы проник в него, ничего не попишешь. Пришлось остановиться, чтобы перевести дух. В изжелта-сером свете, сочившемся сквозь пелену туч, сиротливо торчали покосившиеся обугленные столбы. Набирающий силу ветер свистел в руинах, катая от стены к стене рваный зонтик. Все сколь-нибудь ценное, вплоть до чугунных ванн, давно откопали охотники за сокровищами, лишь никому не нужное барахло напоминало, что когда-то здесь жили люди. – Серизава! Эй, Серизава! Ноги Джуна налились слабостью, сердце екнуло. Обернувшись, он увидел Тэцуо, небрежно прислонившегося к кирпичной стене. На его жилистом худом теле висел порядком потрепанный черный гакуран[63], на ногах красовались тяжелые армейские ботинки, в пальцах дымилась сигарета. Щелчком отправив ее в полет, он крикнул: – Серизава! Иди сюда! Джун непроизвольно шагнул к нему, но остановился. И вовремя: в проломе стены показалась физиономия Горо – безобразная морда рептилии с черным глазом-нашлепкой. Он вылез из дыры, потянулся, сцепив руки над головой, словно хотел размять пальцы для работы. Известно какой. Джун попятился, развернулся и бросился наутек. Из-за стены выскочил Кента и рванул наперерез. Все происходило как в страшном сне. Джун петлял, как заяц, спотыкаясь на обломках, сердце бешено колотилось, воздуха не хватало, а топот за спиной неумолимо приближался. Пальцы Горо мазнули его по скользкой от пота шее, царапнув длинными ногтями кожу. По-девчачьи взвизгнув, Джун метнулся вправо, споткнулся о помятое жестяное ведро и грохнулся на живот, ободрав коленки и локти и больно прикусив щеку. Бутылка лопнула под его телом, и осколки впились в грудь. Молоко пропитало майку. Это потому, что я его стырил, успел подумать Джун. Потом Кента навалился на него, еще глубже вгоняя осколки в ребра, и все мысли растворились во вспышке боли. Заорав, Джун ткнул через плечо зазубренным горлышком бутылки, надеясь попасть врагу в лицо, но Кента перехватил его руку и заломил за спину. Горлышко упало на землю. – Говори, – пропыхтел Кента, рывком подняв мальчика на ноги, – моя мама – шлюха! – Твоя мама – шлюха! – выкрикнул Джун. Кулак Горо впечатался ему в зубы. В голове сверкнуло, слезы брызнули из глаз. Следующий удар расквасил нос. Джун забился в лапах Кенты, захлебываясь кровью. – Сволочи! Трусы! – вопил он. – Двое на одного! Чтоб вы сдохли, ублюдки! – Он выбросил свободную руку, пытаясь вцепиться в изуродованное лицо Горо. Пальцы зацепили резиновую тесемку, и повязка отлетела, открыв пустую глазницу – розово-лиловую дыру, обметанную по краям зеленоватой коростой засохшей слизи. Рубцы на лице Одноглазого побагровели. Подхватив с земли ведро, он нахлобучил его Джуну на голову и тут же зарядил ему кулаком в пах. Жестяные стенки ведра превратили крик мальчика в оглушительный рев. Он выгнулся в руках Кенты, но второй удар заставил его сложиться пополам. Кента отпустил его, и Джун рухнул наземь, ударившись ведром об обломок кирпича. Голова наполнилась колокольным гулом. Кента ухватил его за локти и снова поднял на ноги. Ведро свалилось, и Джун принялся жадно глотать воздух. Нос пульсировал болью, в голове шумело, болела прикушенная щека. Боль ворочалась внизу живота, посылая волны тошноты в желудок. Сквозь слезы он увидел, как Тэцуо отлепился от стены и вразвалочку, руки в карманах, направился к нему. Под его ногами хрустела кирпичная крошка. Остановившись перед Джуном, он сунул руку за полу гакурана и вытащил нож-айкути. Лезвие сверкнуло в грозовых сумерках. Этим ножом Тэцуо, по слухам, вырезал свое имя (哲夫) на лбу юного карманника, отказавшегося отстегнуть ему часть улова. – Хочешь умереть, Серизава? – спросил он ласково. Острие ножа кольнуло мальчика в ложбинку между ключицами. Втянув кровь из носа, тот из последних сил плюнул в Тэцуо. Кровяной сгусток повис на его щеке, и Джун решил, что Ясиме он очень к лицу. – Ах ты тварь! – взревел Кента, а Горо молча вогнал кулак Джуну в живот. Но Тэцуо, железный человек, даже не дрогнул, лишь глаза его на мгновение широко раскрылись. Джун ждал, задыхаясь, что нож в руке Ясимы вскроет ему глотку одним неуловимым движением. Однако Тэцуо спокойно достал из кармана платок, вытер щеку и промолвил: – А ты правда хорош, Серизава. Отчаянный. Отпустите его! Кента с явной неохотой разжал руки. Джун повалился на четвереньки. Горо, зажимая рукой глазницу, занес ногу, чтобы наподдать ему напоследок по ребрам, но Тэцуо сказал: – Опусти ногу, болван, не то лишишься второго глаза. – Но… – начал Горо. Тэцуо задумчиво погладил подушечкой большого пальца лезвие ножа. Горо зарычал по-собачьи, скаля кривые зубы. Рука его метнулась к чехлу на поясе. – Ну, – обронил Тэцуо, глядя ему в лицо. Стальное жало качнулось в его руке, словно выбирая, куда вонзиться. Плечи Горо поникли. Опустив руку, он пробормотал: – Извини, босс. Как скажешь. – Принято, – милостиво кивнул Ясима. – А теперь уматывайте. Кента взял Горо за плечо и потянул назад. Тот в последний раз с ненавистью глянул на Джуна единственным глазом и поплелся за братом. Как только они скрылись из виду, Тэцуо присел на корточки перед Джуном. Нож по-прежнему поблескивал у него в руке. Он протянул Джуну платок, но мальчик мотнул головой и оттолкнул его руку. – Бери, не стесняйся. Там только твои слюни. Джун взял платок, промокнул кровоточащий рот. Тэцуо распрямился и протянул ему руку. Джун выхаркнул сгусток крови и со стоном поднялся сам. Тэцуо одобрительно хмыкнул: – Ты мне действительно нравишься, Серизава. Может, ты и похож на девчонку, но стержень у тебя есть. Ничего, что твоя мать спит с американцами. Джун не чувствовал в себе никакого стержня. Разбитая статуэтка, которая от следующего удара разлетится вдребезги, – вот он кто. Плевать! Посмотрев Тэцуо в лицо, он отчеканил: – Не смей говорить про мою мать, Ясима! Иначе… – Иначе что? – усмехнулся Тэцуо. – Опять плюнешь? Карикатуру на меня нарисуешь? Брось, Серизава. Я не враг тебе. – Ты… ты позволял им избивать меня! Оскорблять мою маму! – Джун задыхался от обиды. – Ты такой же, как они! – Да, – кивнул Тэцуо. – Я такой же, как они. И ты такой же. Тебе нечего терять, как и нам. Американцы отняли у нас все. Мы все четверо можем стать братьями, Серизава. Меньше всего на свете Джун хотел стать братом Кенте и Горо… Но Тэцуо по-прежнему внушал ему восхищение, несмотря ни на что. Когда он протянул руку, мальчик робко пожал ее, хоть и опасался, что Тэцуо дернет его на себя и всадит нож в печень. Лицо Тэцуо озарилось улыбкой – будто луч солнца блеснул в холодном оконном стекле: – Хочешь, покажу тебе кое-что? Если ты не трус. Джун оглядел себя. Майка, изорванная осколками бутылки, висела на груди лоскутьями, кровь, смешавшаяся с молоком, расплылась на ней розовыми разводами. Несколько осколков воткнулось в тело, он по одному выдернул их, шипя от боли. Из разрезов побежали горячие струйки. – Я должен вернуться на рынок… – пробормотал он, прижимая к ранам платок Ясимы. – Акико осталась без молока. Тэцуо приобнял его за плечи рукой с ножом. По-прежнему улыбаясь. – Акико подождет, Серизава. Ты ведь не хочешь, чтоб я разозлился?
Пустошь, где когда-то стоял роскошный особняк Ясима, раскинулась под грозовым небом у подножия холма. Тучи сгустились, погрузив мир в серые сумерки. Кругом царила тишина, лишь свист ветра да хруст битого стекла под ногами нарушали ее. Среди битого камня, лопнувших балок и обгоревших досок обильно проросли репьи, колосья мятлика качались на ветру. Одинокую стену опутали побеги вьюнка. Тэцуо остановился перед стеной, осторожно раздвинул зеленые плети. Под ними застыли, склонясь друг к другу, две черные тени, большая и маленькая. Должно быть, взрыв застиг мать и дочь в цветнике: у маленькой тени в руке угадывалась тень садовой леечки. Большая тень тянула к ней руку, тени-пальцы навечно замерли в нескольких дюймах от головы маленькой, чтобы так никогда и не коснуться ее.

Склонившись в поклоне, Тэцуо молитвенно сложил руки: – Здравствуй, мама! Здравствуй, Каори-тян! Это со мной Серизава Джун. Вы были бы рады познакомиться с ним. По спине Джуна словно провели ледяным пальцем, не пропустив ни одного позвонка. Стало трудно дышать. Если бы мама и Юми превратились в подобные черные отпечатки, он кричал бы, пока кровь горлом не хлынет. Тэцуо же смотрел на то, что осталось от его родных, без единой слезинки; скорбь его была безмолвной, возвышенной. Протянув руку, он коснулся пальцами сперва большой, потом маленькой тени. – Я боялся, что их смоет дождь, – сказал он. – Что они исчезнут и оставят меня совсем одного. Но они всегда здесь. Они поддерживают меня в моей борьбе. – В какой борьбе? Вместо ответа Тэцуо развернулся и зашагал к холму, жестом велев Джуну следовать за собой. Ветер крепчал, качая бурьян, гром гудел над горизонтом. Джун зябко растирал оголенные плечи, чувствуя, как кожу стягивают мурашки, – не столько от порывов холодного ветра, сколько от страха. Они остановились у подножия холма, густо заросшего мхом. Тэцуо провел рукой по склону и нашел едва заметную латунную скобу, торчащую прямо из земли. Ухватившись за нее, потянул со стоном. Тяжелая дверь, замаскированная во мху, бесшумно поднялась, открыв квадратный черный проем, откуда сразу повеяло затхлостью. Низенькие бетонные ступеньки спускались во тьму. – Давеча бродил тут один чудак, доктор Нагаока вроде его зовут. – Тэцуо повернулся к Джуну, отряхивая ладони. – Роется в обломках по всему городу, собирает барахло всякое, изучает тени. Я послал его к черту. Чего доброго, он бы стал колупать скребком маму с Каори-тян… А если б нашел папино убежище, мне пришлось бы воспользоваться ножом. – Ты бы его убил? Тэцуо пожал плечами: – А нечего всюду совать свой нос. – Из-за старого убежища? – Отец не зря его сделал тайным. Он велел мне прятаться там, если янки придут, и продолжить войну. Он был настоящим самураем, мой папа. Джун начал понимать, зачем Тэцуо показал ему убежище и почему называл братом. – Мой папа был водителем трамвая, – сказал он. Сам не зная зачем. Это прозвучало как вызов. – Но американцы все равно убили его. Пришли и сожгли, вот так! – Тэцуо звонко щелкнул пальцами. – А знаешь, как Горо заработал свои ожоги? Он с братом и отцом был в лодке, когда грянул «пикадон». Отец успел столкнуть их в воду, а когда они вынырнули, лодка превратилась в огромный костер, и Горо, спасая отца, полез прямо в огонь… Мы все обожжены этим пламенем, Серизава, и оно не погаснет, пока мы не победим или не умрем. – Война закончилась, – сказал Джун. – Мы проиграли. – Это те слюнтяи решили, что она закончилась! – Глаза Ясимы горели фанатичным огнем. – Пока мы живы, пока у нас есть руки, ноги и зубы, чтобы вцепиться в горло врага, война продолжается! – Ради чего? Тэцуо невесело усмехнулся: – Так они и доберутся до тебя, Серизава. Уничтожив не тело, но дух. Убедят, что борьба лишена смысла, что они непобедимы, что жить можно только по их представлениям, что хорошо, а что плохо! Они внушат нам чувство вины перед всем миром, незаметно подменят нашу культуру своей, научат стыдиться собственной истории и презирать традиции, набьют детям головы гуманистическими и пацифистскими бреднями, над которыми сами смеются! Они даже отстроят нам города, но гулять по их улицам будут ручные обезьянки-кривляки, рабски подражающие каждому жесту своих заокеанских хозяев. А помогут им в этом предатели вроде Синдзабуро. Я слышал, ты беседовал с ним? – Он просил рассказать про Рин… – Больше не болтай с газетчиками, Серизава. Патриоты все по тюрьмам,остались только продажные борзописцы да прирожденные изменники, – уже спокойнее сказал Ясима. Подмигнув, он достал из кармана латунную зажигалку. – Хочешь посмотреть, что там внизу? Тебе понра- вится. Джуну совершенно не хотелось спускаться под землю, но над головой угрожающе рокотало и тяжелые капли дождя уже шелестели в траве. Он покорно последовал за Ясимой в темноту. На лестнице запах тления сделался так силен, что им можно было подавиться. – Закрой дверь, – велел Тэцуо, не оборачи-ваясь. Джун потянул за скобу на обратной стороне двери. Прежде чем та захлопнулась, обрубив сумеречный свет, на землю с шипением обрушились струи дождя. Тэцуо вручил Джуну зажигалку и спустился по лестнице. Мальчик высек язычок пламени и двинулся следом. Ему в жизни не приходилось видеть такого основательного убежища. Не дыра в земле, обшитая досками и худо-бедно подпертая деревянными брусьями, а настоящий бункер, отделанный бетоном и стоивший, надо думать, немалых денег. Дрожащий свет озарил стеллажи с консервами, постель, разложенную у стены, на которой, судя по вмятине, спал Тэцуо, керосиновую лампу на столике… Сам Тэцуо уже сидел на корточках над каким-то длинным предметом, накрытым простыней. Очертания этого предмета подозрительно напоминали человеческое тело. – Я привел тебя сюда, – сказал Тэцуо, – чтобы показать пример настоящего мужества. Он взялся за край простыни и сдернул ее. Джун ахнул и отшатнулся к лестнице. Под простыней на кафельном полу ничком распростерся скелет. Он лежал, вывернув шею и уставясь зияющими глазницами в стену. Распяленные челюсти, казалось, кусали плитку, обгоревшие лохмотья мундира едва прикрывали голые кости. Левая рука, согнутая в локте, торчала паучьей лапой, уперев костяную ладонь в пол, правая, вытянутая вперед, покоилась на стальных ножнах меча син-гунто, словно мертвец из последних сил кому-то его протягивал. – Кто это? – прошептал Джун. – Скорее всего, кто-то из отцовских товарищей, иначе откуда ему было знать о нашем тайном убежище? Я назвал его капитаном Фудзиварой. Он умирал в темноте, один-одинешенек, крысы сточили его до костей, но меча из рук он не выпустил. Американцы не смогли наложить на его оружие свои грязные лапы!

Джун представил, как горящий человек врывается в бункер, захлопывает крышку, отсекая путь ревущему пламени, и валится на пол, воя от боли. Как корчится гигантским обожженным червяком, скрипит зубами и колотится лбом об пол, оставляя на кафеле лоскуты кожи, но упорно сжимает в кулаке меч. Как, обессилев, лежит в темноте, терзаемый жаждой, не в состоянии покинуть укрытие, ставшее ему могилой. Возможно, он был еще жив, когда крысы выскальзывали из вентиляционных отверстий и с писком стекались к нему, чтобы урвать кусок отравленной плоти и унести с собой… А Тэцуо преспокойно спит рядом с его останками! Он даже не попытался уложить скелет чин по чину, сложив руки на груди. Огонек погас, погрузив бункер во тьму. Тэцуо это, похоже, ничуть не смутило: должно быть, он наловчился видеть в темноте, как кошка. – Но… разве хорошо, что он лежит здесь? – спросил Джун с дрожью в голосе. – Почему ты не похоронишь его? – С ним всегда можно поболтать, когда становится одиноко, – отозвался невидимый Тэцуо. – Он не отвечает, но оно и к лучшему. Спрашиваешь: «Вы не против, капитан, если я на одну ночь одолжу ваш клинок?» Ни разу не отказал. Ха-ха! Сердце мальчика судорожно толкнулось в груди. Ему показалось, что бетонные стены наползают на него, угрожая раздавить. Голова закружилась, пол норовил уйти из-под ног. Уже привычный приступ тошнотворной слабости усугубился ужасом. – Ты б-берешь его меч? Зачем? Вместо ответа что-то тихо зашуршало в темноте. Джун чуть не намочил шорты. Смутное подозрение быстро перерастало в уверенность. Кто-то на рынке сказал, что все мечи давно изъяли. И действительно, американцы ходили по домам, проверяя, не сберег ли кто меч, – тут им здорово пригодились списки военнослужащих, уцелевшие в префектуре. Простые же граждане, обнаружив где-нибудь под завалами син-гунто (чаще всего вместе с останками владельца), спешили его сдать за вознаграждение, довольно, кстати, приличное. С той же целью сдавали и старинные катаны и вакидзаси, веками хранившиеся в семье как реликвии, – голод оказался сильнее почитания предков. Словом, найти сейчас в Японии хоть самый завалящий меч было большой проблемой. Однако Атомному Демону это каким-то образом удалось. Джун отчаянно защелкал колесиком зажигалки. Шорох усилился, к нему прибавился тихий скрежет. Тэцуо? Или это мертвый капитан ползет к нему, сжимая в руке син-гунто? Нет, капитан тут ни при чем. Это не он по ночам поднимается из бетонной могилы с мечом в руке. Атомный Демон – не призрак, не оживший мертвец, а человек из плоти и крови. Человек, жестоко убивший Рин. Которая нравилась Тэцуо. Но гуляла с американцами. Которые Тэцуо не нравятся. Так же, как не нравился ему Синдзабуро, на чем свет поносивший японских военных… одним из которых был отец Тэцуо. – Ты знал Синдзабуро, ну, того журналиста? – выпалил Джун, продолжая сражаться с зажигалкой. Из темноты долетел сухой смешок. – А как же! Приходил в том году снять меня для «Тюгоку». Сказал, что мой «Патриот» потряс его до печенок. Я даже тогда не поверил, уж больно скользкий тип. И шустрый. Ха-ха! Пришлось изрядно за ним побегать. Джун заскулил. Перед его мысленным взором возникли мама, Юми и Акико. Акико плачет без молока, Юми изводит маму, поминутно спрашивая: «Братик скоро вернется?» И мама отвечает ей: «Скоро, маленькая, совсем скоро». Только он, возможно, никогда не вернется. Он очутился в логове Атомного Демона, и глупая фантазия о том, чтобы Тэцуо отсек ему голову, того гляди обернется реальностью. Даже кишки себе выпускать не придется – Ясима охотно окажет ему такую любезность. Язычок пламени наконец вспыхнул, выхватив Тэцуо из темноты. Он стоял прямо перед Джуном, держа син-гунто в руке. Мальчик хотел закричать, но голоса не было. Тэцуо потянул меч из ножен. В свете зажигалки блеснуло стальное лезвие, то самое лезвие, что кромсало Рин, беднягу Синдзабуро и неизвестную Джуну девушку, а сейчас отведает плоти Джуна. – Как я с ним смотрюсь, Серизава? Таким мечом мой папа рубил головы и кишки выпускал врагам. Этот не хуже! Слова доносились до Джуна как сквозь ватное одеяло. Зажигалка выпала из ослабевших пальцев и звонко стукнулась о кафель, продолжая гореть. Ноги подкосились. Последним, что он видел, прежде чем тьма поглотила его, был холодный блеск син-гунто.
7. Что с тобой сделали, Рин-тян?
…В то утро, твое последнее утро в этом мире, Тэцуо Ясима отвел тебя к сгоревшей вишне. Там, под сенью обугленных бесплодных ветвей, краснея и пряча глаза, он взял тебя за руку и произнес: «Ты мне нравишься, Рин». А тебе нравится Тэцуо с его мужественным лицом и мускулистым подтянутым телом, Тэцуо, которому сам черт не брат, – и все же ты со смехом сказала, что предпочитаешь американцев: у них, по крайней мере, есть деньги. Впервые на глазах Железного Тэцуо появились слезы. Он больше ни слова не произнес. Отвернулся, сжав кулаки, и бросился прочь. Тебе тоже захотелось плакать, но ты раньше бы умерла, чем назвала ему истинную причину отказа. А вечером ты ходила к кинотеатру «Суйсэн», где теперь офицерский клуб, и усатый майор с вислыми губами и глазами карпа, обливаясь потом, брал тебя сзади в темном сыром проулке, хлестал по щекам, дергал за волосы и называл little bitch. Это ничего: ты зато поделилась с ним замечательной гонореей! А чтоб не так было противно, ты, упираясь ладонями в холодную стену, представляла себя с Тэцуо. У тебя до сих пор все болит внутри, и, шагая домой вдоль берега, ты по-утячьи расставляешь ноги, зато карман греют заветные бумажки, и ты думаешь, как обрадуется папа, услышав, что на фабрике сегодня давали премию. От фабрики, кстати, осталась одна труба, да и та наполовину разрушена. Бедный, слепой, наивный папа! Ты останавливаешься у сгоревшей сакуры, где утром встречалась с Тэцуо, и сквозь переплетение ее ветвей смотришь на звезды, булавочные проколы в черном бархате неба, которого папа никогда больше не увидит, даже если проживет сто лет (это вряд ли: за последние месяцы он почти облысел и редко встает с постели). Он следил за небом в тот день, шестого августа, и небо ответило ему огненной вспышкой, от которой папины глаза побелели, как вкрутую сваренное яйцо. Звезды расплываются, размытые слезами. В то же время тебя переполняет безумное счастье от того, что ты можешь ими любоваться. Оторваться бы от земли и взмыть туда, к звездам, оставив далеко-далеко внизу и разрушенный город, и жалкую лачугу, и злого усатого майора! Поглощенная этой фантазией, ты ничего не замечаешь вокруг. Не видишь тень, возникшую из темноты, пока она не кидается в атаку. Оборачиваешься на скрип песка под тяжелыми башмаками – и видишь занесенный меч. Ты вскидываешь руку навстречу летящей стали. Боли сперва не чувствуешь – лишь онемение от локтя до плеча, будто огрели палкой, вот только рука отлетает, вращаясь, в вихре кровавых брызг. Теплые капли окропляют тебе лицо, жгут глаза, становится солоно во рту. Смотришь на хлещущий кровью тупой обрубок, еще не сознавая, что это твоя рука, что от твоего тела, молодого, здорового тела (гонорея не в счет) отхватили кусок. А потом приходит чувство, будто к открытой ране приложили кусок льда, а с ним осознание. Открываешь рот, чтобы закричать, но не хватает воздуха, и ты судорожно ловишь, глотаешь его пересохшим ртом, а кровь барабанит по земле весенней капелью – и тут лезвие врезается тебе в лицо, рассекает глаз, переносицу, губы, десны, и вместо крика вылетает струя кровавой рвоты вперемешку с выбитыми зубами. Ощущаешь, как кровь льется в горло, слышишь треск – это клинок вошел в череп. За багровой вспышкой приходит темнота. Лежишь в темноте. Тело словно чужое, бестолковый кокон из плоти, и незримые нити, связывающие тебя с ним, лопаются одна за другой. Кровь клокочет в горле, нос забит будто горячей патокой. Ты не столько чувствуешь, сколько осознаешь твердость почвы под спиной и нежное касание холодного воздуха, когда тебе задирают юбку и стягивают по бедрам трусики. Раздвигают ноги. Шевеля рассеченными губами, ты пытаешься протестовать, но только выдуваешь кровавые пузыри. А потом в тебя входит ледяная сталь. Тело пробивает мелкая дрожь. Ты выгибаешься мостиком и снова падаешь. Лезвие проникает все глубже, рассекая, раздирая, кромсая внутренности, вкручивается в матку и наконец вытягивается обратно с потоком крови, увитое обрывками кишок. Боль могла бы свести с ума, но ты скорее осознаешь ее, чем ощущаешь. Сознание сжимается в крохотную мерцающую точку. Как светлячок в ночи. А потом гаснет.8. Демон-искуситель
– Так ты… действительно Атомный Демон? – тихо спросил Джун. Он лежал под одеялом, раздетый донага и до скрипа отмытый, грудь перемотана крест-накрест чистыми бинтами. – Вот же дурацкое прозвище, да? – Присев на край постели, Тэцуо обворожительно улыбнулся. – Как у супергероя в тупых американских комиксах. А впрочем, мне нравится. Джун со стоном попытался сесть, но Тэцуо взял его за плечи и прижал к футону: – Не спеши, голова закружится. Эти два придурка порядком тебя отделали. Я бы на твоем месте тут повалялся денек-другой. – Сколько я здесь? – Часов пять-шесть. Здоров ты спать! Даже не почувствовал, как я тебя мыл и перевязывал. А здорово получилось, да? Мама учила меня помогать раненым. Атомный Демон умеет не только резать, но и латать. Ему действительно нравится это прозвище, подумал Джун. От мысли, что Ясима своими кровавыми руками касался его тела, бросало в дрожь. Керосиновая лампа горела на столике, разгоняя мрак по углам. В ее сиянии Джун увидел, что Фудзивара-скелет снова накрыт простыней: хоть какое-то облегчение! У постели стоял тазик, в розовой воде отмокала тряпица. Рядом лежала дорожная сумка. Что в ней, чья-то отрубленная голова? – Пожалуйста, Тэцуо, отпусти меня домой. – Он не хотел показывать страха, но голос предательски дрогнул. – Я никому не скажу, клянусь. Тэцуо хмыкнул: – Почему ты боишься меня, Серизава? – Рин… ты убил Рин… – И Синдзабуро, и всех остальных. А еще за молоком сгонял для твоей сестренки. И вот, – Тэцуо полез в сумку и с гордостью предъявил свежую пару шорт и белоснежную майку, – сменял на твое рванье. Торговец, конечно, не хотел давать одежку за половые тряпки, но я убеждать умею. Знай он, что говорит с самим Атомным Демоном, вообще наложил бы в штаны! Ну чего ты дрожишь? – добавил он ласково. – Стал бы я о тебе заботиться, чтобы потом прикончить? Джун пробормотал еле слышно: – Ты и о Рин заботился. – Я всего лишь освободил ее. Американцы отравили не только ее тело, но и душу. Тогда-то я и понял, что должен сражаться, пока так не случилось со всеми! – Тэцуо вскочил и стал мерить шагами комнату, не забывая огибать накрытый простыней предмет на полу. Точно зверь в клетке, подумал Джун. Он вспомнил лукавую улыбку Рин, ее искристые глаза. Кулаки сами сжались под одеялом. – Чего ты от меня хочешь, Ясима? Чтобы я с тобой убивал людей? Тэцуо развернулся к нему, сжав руку в кулак: – Не людей, Серизава! Врагов и предателей! Убийц наших отцов и стервятников, что пируют на их костях! – На чьих костях пировал папа Рин? – Джун понимал, что ходит по лезвию меча, но остановиться уже не мог. – Ведь это тоже твоих рук дело? Кого он предал? Ясима пожал плечами: – Он сам умолял меня избавить его от страданий. Без дочки его жизнь лишилась смысла. Он был достойным человеком, разве его вина, что Рин стала грязной американской подстилкой? Я причинил старику боль, пусть даже поневоле, значит, обязан был даровать ему избавление. Кстати, я тогда дал маху, – нахмурился Тэцуо, – перехватил ему глотку своим ножом, а не кухонным, который в руку потом вложил. Толковый сыщик мог бы определить. Пойми, Серизава: я патриот, а не чудовище. Только Синдзабуро я убивал с удовольствием! Жаль девчонку, что с ним была, но другого случая могло не представиться, да и душа ее, скорее всего, тоже была отравлена, так что это для нее благо… Четыре жизни, ошеломленно подумал Джун. Четыре человека зарезаны, изуродованы, выпотрошены – ради страны и собственного блага? Что ты за монстр, Ясима? – Боюсь, тебе не будет от меня толку, – сказал он. – Я даже драться не умею, ты же видел. – Зато я видел, что ты не умеешь и предавать, – возразил Тэцуо. – Мы с Кентой и Горо нарочно тебя испытывали, но ты не предал свою маму. Такие, как мы с тобой, – будущее Японии. Не Кента, не Горо – они славные парни, но дураки. Мы! Тогда, в классе, увидев твой рисунок, я сказал себе: вот человек, способный увидеть мир моими глазами. Мы с тобой Инь и Ян, свет и тьма, две части одного целого… Джун вспомнил, как Горо выкручивал ему руку, и скрипнул зубами. Испытание, значит? Он бы с удовольствием испытал на прочность башку самого Ясимы. Например, кирпичом. Тэцуо разглагольствовал еще долго. Он говорил о памяти предков и особом историческом пути Японии, об уникальной ее духовности; о долге любого японца без раздумий умереть ради страны и Императора, томящегося в руках предателей и трусов. О гордости и силе духа говорил он, о самурайской чести, пронесенной сквозь века, – а у Джуна перед глазами стояло черное мертвое дерево и обезображенное тело Рин, распростертое под ним с кишками наружу. Испорченной Рин, грязной гулящей девки, всегда готовой поделиться последним. Чашка душистого дымящегося риса в зимний холодный день, которую они с мамой и Юми могли позволить себе на одолженные Рин деньги, стоила в тысячу раз больше оглушительно звонких и столь же оглушительно пустых речей Ясимы. Рин – вот Япония; мама, сходящая сейчас с ума от беспокойства, – вот Япония! И крошка Акико, ревущая без молока, – это Япония! За эту Японию он любому перегрызет глотку, за эту Японию без раздумий отдаст свою жизнь, но не за идеалы и традиции людей, давно ставших прахом. – Я никому ничего не скажу, Тэцуо, – повторил он, когда Ясима закончил свою пламенную тираду. – Но убивать никого не буду. Это твоя война, не моя. Тебе нечего терять… Прости, – добавил он почти искренне, увидев боль на лице Ясимы. – Я не могу идти на риск. У меня сестренки и мама. Если ты любил… любишь своих маму и Каори-тян… ты меня поймешь. – Тогда вспомни человека, который причинил боль твоей семье, – молвил Тэцуо. – Я могу тебе описать его, если ты забыл. У него светлые волосы и глаза как льдинки. Ростом под метр девяносто, широкие плечи, загорелый. Его зовут Дэн Дункан, лейтенант Дэн Дункан. Джун сел, отбросив одеяло: – Откуда ты… Ясима снисходительно улыбнулся: – Я же Атомный Демон, помнишь? Ладно… Я поболтал с госпожой Мацумото, которая видела его с твоей мамой. У таких сплетниц глазищи совиные и память не хуже. Я навел справки, нашел парня, который работает у янки истопником, тоже очень сметливый, постоянно подслушивает, о чем они треплются. Говорит, больше всего на свете Дункан любит кино, виски и женщин. Японцев не считает за людей, но в совершенстве владеет японским. По вероисповеданию католик. Командование от него не в восторге. Неплохо для начала? Джун молчал, переваривая услышанное. – И ты… правда сможешь его убить? – произнес он наконец. Улыбка Тэцуо стала шире: – А ты, Серизава? Мы с Кентой и Горо добудем его для тебя, и ты вот этим мечом снесешь его белобрысую голову с плеч, хочешь? Джун больше не думал о Рин и других жертвах Тэцуо. Сейчас он мог думать только о лейтенанте Дункане. Мы хотим, чтобы ты нам спела. Бледная задница, ходящая ходуном. Пей, бэби-сан, пей! Луч фонаря, направленный маме в лицо. Становись на четвереньки. Смятая банкнота на полу. Он заскрипел зубами, запрокинул голову, загоняя обратно рвущийся из груди вопль. Выдохнул: – Когда?.. Тэцуо снова пожал плечами: – День, неделя, месяц, год… Рано или поздно он окажется здесь. – А если не получится? – Тогда я подстерегу его где-нибудь на улице и воткну нож в печень. Раз плюнуть. – Лучше я, – тихо сказал Джун. – Научишь меня обращаться с ножом? Тэцуо радостно засмеялся.Они расстались на берегу реки, у черного сожженного дерева, того самого, под которым в муках умерла Рин. Сумерки дышали прошедшим дождем, лучи закатного солнца косыми стрелами рассекали обрывки туч, и напоенная влагой земля чавкала под ногами. Вручив Джуну бутылку молока (гораздо большую, чем та, что он украл и потом раскокал), Тэцуо проговорил: – Послушай, Серизава… – Что? – Ты бы не мог в другой раз, ну, нарисовать меня? С мечом в руке. Чтобы, если я умру… если проиграю войну… от меня на земле хоть что-то осталось. Опустив голову, Джун пробормотал: – Я не могу, Тэцуо. Ясима нахмурился: – Ты здорово нарисовал Сатоми и Фудзивару. – А больше не рисую. – Но почему? – Не лежит душа. Тэцуо пристально посмотрел на него, потом просветлел лицом: – Ты прав, Джун! Сейчас время других картин и других историй. Тех, что пишутся кровью. Оставшись один, Джун стянул майку через голову, бросил ее на землю и стал яростно разматывать бинты. Единственное, что он готов был принять из рук Атомного Демона, – это голову с соломенными волосами. И еще молоко для сестренки. Он спешил домой, на ходу сдирая повязки. Бинты в пятнах крови летели в реку, извивались в воде белыми змеями. Пусть раны снова кровоточат! Он бы сорвал с себя и шорты, да не бежать же домой голым… Уже совсем стемнело, когда он распахнул дверь лачуги. – Мамочка! Юми! Я дома! Юми выкатилась навстречу, обхватила его за ногу, прильнула дрожащим телом. – Братик! Бра-атик! Где же ты пропадал! Мама сидела у очага спиной к нему, прижимая к груди Акико. Она как будто вовсе не удивилась, увидев его полуголым, с грудью в порезах. Лишь промолвила равнодушно: – А, вернулся наконец… – Мамочка, пожалуйста, прости меня! – Джун протянул ей бутылку. – Я правда не хотел… Смотри, я принес молоко для Акико! – Не нужно ей больше твоего молока. Бутылка в руке налилась тяжестью. Он вдруг понял, что Акико до сих пор не издала ни звука, хотя должна бы криком кричать от голода. Он заглянул через мамино плечо. Увидел бледное личико, усеянное лиловыми пятнами, приоткрытый ротик и синюшный язычок между беззубых десен. Глаза Акико были закрыты, словно она спала, но, коснувшись ее щеки, Джун ощутил липкий противный холод, будто до куска мяса дотронулся. Бутылка выскользнула из пальцев и разлетелась вдребезги. Ненужное молоко разлилось по полу, поползло в щели. Встреча с Тэцуо, его пламенные речи, обещание мести – все стало пустым, неважным теперь, когда аист с черепашкой отпрянули от Акико. Он закричал, завыл в голос, ударяя себя кулаками по голове, и Юми вторила ему, причитая сквозь слезы: – Бедная Акико! Бедная, бедная наша сестренка!
9. Разрушители миров
Той ночью дождь зарядил с новой силой. Гром гудел без умолку, будто черти-громовики по случаю кончины Акико упились на небесах саке и в хмельном угаре лупили в свои барабаны. Ветер остервенело тряс хлипкие стены лачуги. Река шипела под тугими хлесткими струями. Вспышки молний выхватывали из мрака оливково-черные волны, катящиеся внахлест в клочьях белой пены. Джун стоял в дверях, глядя на реку и жмурясь, когда ветер швырял ледяные брызги ему в лицо. Если Ота снова выйдет из берегов, как тогда, в сентябре, им не поздоровится. Конечно, он унесет Юми на плечах (при условии, что не навалится один из проклятых приступов), но вдруг мама не захочет спасаться? Обеих ему не вытащить… Он закрыл дверь и устало опустился на тюфяк рядом с дрожащей Юми. – Бра-атик, мне страшно, страшно! – тянула сестренка; ее глаза блестели в свете одинокой свечи. Мама замерла на коленях, положив руку на край люльки и глядя на Акико, словно взглядом хотела ее оживить. Для нее сейчас не было ни разгула стихии, ни Джуна, ни Юми. – Все будет хорошо, Юми-тян, – сказал Джун, обнимая сестренку. – Вот увидишь. Ничего больше не случи… БАБАХ! Конечно, это ударил гром. А вовсе не дверь распахнулась с грохотом. И не стоял перед стеною дождя лейтенант Дэн Дункан, держась за притолоку и улыбаясь, точно старый друг, по которому все успели соскучиться. Судьба не бывает так изощренно жестока. Джун забился в угол, потянув за собой Юми. Заморгал, надеясь, что лейтенант исчезнет. Но тот по-прежнему стоял на пороге, облепленный мокрым хаки, в соломенных волосах искрились капли воды. Снова с бутылкой «Сунтори» в руке. Он зубами выдернул пробку, сплюнул через плечо и сделал большой глоток. – Доброго вечера, бэби-сан! Приютишь, пока дождь не кончится? Судя по его заплетающемуся языку, эта бутылка была за вечер не первой. В дом он вошел пошатываясь, вода лилась с него ручьями, глаза хищно блестели. Во всяком случае, с ним не было его дружков – возблагодарим же богов за маленькие милости. Мама будто не слышала его. Она даже не вздрогнула, когда Дункан по-хозяйски взял ее за плечи и развернул к себе, лишь молвила равнодушно: – Ах, это снова ты. Хорошо. У нас как раз кончаются деньги. И сама, заложив руки за спину, распустила узел оби, пока Дункан жадно целовал ее в шею. – Выпьешь? – спросил он, протянув бутылку. Мама, схватив ее, стала взахлеб глотать. Ее горло судорожно дергалось, виски ручьями лилось с подбородка на грудь. Дункан восхищенно присвистнул и отобрал бутылку. – Вот что, ребятки, – обернулся он к детям, указав на них донышком, – я не буду выставлять вас за дверь. Не та нынче погодка. Просто отвернитесь, okay? Хотя чего вы там не видели, – добавил он, пьяно хохотнув, и глотнул еще. Мама улеглась, раскинув руки как крылья, словно сбитая стрелой птица. Не обращая больше внимания на детей, Дункан раздернул полы ее кимоно и навалился, покрывая лицо поцелуями. Мама охнула, когда рука американца клещом вцепилась в ее левую грудь. – Туман, – слабым голосом пробормотала она, – туман в голове… Как хорошо… Дункан разжал руку и с неожиданной нежностью коснулся кончиками пальцев ее приоткрытых губ. Потом торопливо, чуть не срывая пуговицы, расстегнул мокрую рубашку и сбросил на пол, лихорадочно сдернул майку. В дрожащем свете одинокой свечи его мускулистый торс отливал золотом; мамино тело в распахнутом кимоно беззащитно белело. Джун привычно закрыл Юми глаза ладонью, зажмурился сам и представил черный зев бомбоубежища и скелет офицера на кафельном полу. Меч, зажатый в костяных пальцах, ждет, когда его освободят из ножен, чтобы рассечь шею врага, выпустив дымящийся багряный поток. Ш-ШИХ-Ч-ЧВАК! – и покатится по полу голова с соломенными волосами, тараща голубые глаза в предсмертном ужасе… Пока он тешил себя мечтами, Юми решила действовать. Изо всех силенок рванувшись из рук брата, она закричала: – Пусти мамочку, гад! Пусти, пусти! Джун не глядя перехватил ее поперек груди. Извернувшись, Юми укусила его за руку, а зубки у нее были остренькие. Вскрикнув, он открыл глаза, чтобы увидеть, как Дункан, посмеиваясь, стягивает с мамы штаны. Его настойчивая рука скользнула по ее животу и угнездилась между бедер. Мама вздрогнула, но продолжала отрешенно глядеть в потолок, пока его пальцы перебирали ее беззащитную плоть, словно паучьи лапки, ощупывающие запутавшуюся в сетях муху. Над рекой натужно ухнул гром. Снова задрожали стены лачуги, листки с рисунками встрепенулись, будто хотели сорваться и унестись в грозу. А Юми все кричала: – Пусти, пусти! И лягала брата грязными пятками. – Ну, бэби-сан, что ты как неживая? – бормотал Дункан, сражаясь с пряжкой ремня. – Сейчас… сейчас… «Сначала я отрублю ему руки, – думал Джун, прижимая к себе бешено извивающуюся сестренку. – Только потом голову. Нет, сперва отхвачу кое-что другое…» Он стиснул зубы, представляя, как нож кромсает скользкую упругую плоть, и Дункан визжит как баба, и дыра у него между ног хлещет кровью. Вот как, наверное, чувствовал себя Тэцуо, расправляясь с теми, кого ненавидел! Это наслаждение – уничтожать. Рука лейтенанта вдруг замерла между маминых бедер. Подняв голову, он спросил: – А что та маленькая крикунья, которую Мерфи чуть тогда не пришиб? Что-то я ее не слышу. – Она умерла, – просто сказала мама. – Моя девочка умерла, но тебе-то что за горе? Американец хрипло рассмеялся: – Ну и шутки у тебя, бэби-сан! Эй, маленькая… Маленькая! – Ухмыляясь, он дотянулся до люльки и потряс ее за бортик. – Эй, просыпайся, эй! Джун не выдержал. – ОСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОКОЕ! Она умерла, вы что, не видите! Американец отдернул руку, будто обжегшись. Ухмылка сползла с его губ. В наступившей тишине слышны были только завывания ветра и неумолчный шелест ливня. Потом Дункан хрипло произнес: – Не может быть. Никто не удостоил его ответом. Он сполз с мамы, склонился над люлькой и уставился на застывшее бледное личико. Потыкал пальцем в пуговку носа, в холодную щечку. Снова повернулся к маме – лицо блестит испариной, в распахнутых глазах застыл ужас, почти как в фантазии Джуна. – У меня осталось еще двое детей, – вымолвила мама, отвечая на невысказанный вопрос. – Их тоже нужно кормить. Дункан сглотнул, запустив руку в мокрые волосы: – Это ведь не мы?.. Мерфи, конечно, крепко ее схватил, но… – Ах, не переживай, – все так же равнодушно отозвалась мама. – Мы всего лишь япошки, смешные узкоглазые человечки. Одним больше, одним меньше, какая разница? Делай то, за чем пришел. – Кем ты меня, черт возьми, считаешь? – севшим голосом проговорил лейтенант. – Ах, разве мое мнение чего-то стоит? – Мамины губы изогнулись в ленивой пьяной усмешке. – Самое во мне ценное находится между ног. А может, ты хочешь, чтоб я снова для тебя спела? Ты да я, да мы с тобой, два конца от пояса! – Она злобно захохотала, извиваясь на полу, как змея. Американец влепил ей пощечину. Голова мамы мотнулась, брызнув слюной с губ. Хохот захлебнулся, сменившись рыданиями. Она заколотилась затылком об пол, скрючивая пальцы и кривя рот в горестном вопле. – Мамочка! – Отпустив сестренку, Джун кинулся к ней и обхватил за голову дрожащими руками. – Мамочка, что с тобой? Она замотала головой, замычала надрывно. Тем временем Юми налетела на Дункана и принялась лупить его кулачками по голой спине, по плечам, крича: – Не смей бить мамочку! Вот тебе, вот тебе, вот! Американец сидел неподвижно, даже не пытаясь ее оттолкнуть. Наконец Юми выдохлась и отступила, тяжело дыша и воинственно сверкая глазенками. Мама притихла, лишь судорожные всхлипы сотрясали ее тело. Дункан натянул майку, накинул мокрую рубашку, стараясь никому не смотреть в глаза. Джун ждал, что он уберется, однако Дункан уходить не спешил. Он сел по-японски, на пятки, сложив руки на коленях и уставясь на рисунки на стене. Из оцепенения его вывела муха, с тоненьким звоном усевшаяся на синюшную щечку Акико. Лейтенант согнал ее взмахом ладони и произнес: – Надо побыстрее сжечь ее, пока не начала разлагаться. – У меня нет корзины, куда ее положить, – отозвалась мама. Она так и лежала голая, не пытаясь прикрыться. – И дров. И дождь на дворе. – Но я мог бы… – Оставьте нас! – выкрикнул Джун, поглаживая маму по волосам. – Вы убили мою сестренку, разве этого мало? – Да без меня она бы сдохла гораздо раньше! – ощерился американец, стукнув кулаком по бедру. – Мерфи – злобный хорек, он бы по стенке ее размазал… И если ты забыл, именно я остановил этого кретина! Я! – Какая разница! – заорал Джун. – Она из-за вас умерла! Вы сбросили бомбу, отравили землю! Вы моего папу сожгли! Из-за вас я заболел! Вы все убийцы, все! Лицо Дункана исказилось от ярости. Он занес руку: – Закрой тявку, щенок, а не то… – А не то что? – Оттолкнув Джуна, мама приподнялась на локтях и с вызовом посмотрела ему в глаза. – Убьешь? Давай, доставай пистолет. Окажи любезность! Сперва меня, потом этих несчастных детей. Лучше б им вообще было не рождаться! – Убийца! – выкрикнул Джун, сжимая кулаки. – Проклятый убийца! – Убийца! Убийца! – звонко вторила ему Юми. Они подняли такой крик, что заглушили шум бури. Дункан молча сидел, глядя на них. Он подождал, когда дети, выдохшись, умолкнут, после чего слегка заплетающимся языком произнес: – А теперь послушайте меня! Послушайте. Я скоро вернусь. Дождь не будет идти вечно. Мы устроим вашей малышке достойные похороны. Okay? И прежде чем кто-то что-то успел сказать, вскочил и выбежал из лачуги. Стена дождя поглотила его, и лишь бутылка на полу да отчетливый запах виски напоминали, что он вообще приходил. Дождь барабанил по жестяной кровле. Натянув штаны, мама посмотрела на детей блуждающим взором. Дотянулась до бутылки и разом опрокинула в горло остатки виски. Поперхнулась. Потом запахнула кимоно и непослушными руками стала возиться с оби. Взгляд у нее сделался совсем мутный. – Ты да я, да мы с тобо-ой… д-два конца от пояса-а… – затянула она сипло. – Завяжи их у меня, да покрепче, на… на… ИК! Дьявол, да где ж эта сволочь за-авязывается?.. Над лачугой насмешливо заворчал гром. Несколько часов спустя американец вернулся, промокший до нитки, но с вязанкой сухого хвороста, завернутой в кусок брезента. Еще принес плетеную корзинку и бутылку жидкости для розжига – где только ухитрился добыть среди ночи? К тому времени гроза иссякла, и в разрывы облаков выглянул месяц. Дункан поманил Джуна рукой, и тот безропотно последовал за ним. Юми увязалась следом. Мама тем временем укладывала Акико в корзинку, что-то напевая невнятно. У бедной Акико совсем не было игрушек, поэтому мама положила с ней только соску. Джун вспомнил, каких трудов стоило эту соску добыть, и почему-то от этого ему сделалось особенно горько. На берегу они соорудили костер. Пока Джун укладывал хворост, лейтенант спросил: – Там, на стене… Это ведь все ты рисовал? Джун не удостоил его ответом. – Я к тебе, щенок, обращаюсь. – Я, – буркнул Джун. Пусть отвяжется. – Самородок на помойке, – пробормотал Дункан себе под нос. – Чертенок рисует не хуже Престона Блэра[64]. – Только братик больше не рисует, – доложила Юми. Американец вел себя миролюбиво и в детском ее сознании перестал уже быть врагом. – Ты бросил рисовать? Почему? У тебя здорово получалось. – Я встретил вас, – сказал Джун. Лейтенант хмыкнул и посмотрел на него долгим взглядом. Протянув руку, он взял мальчика за плечо: – Послушай, я не знал… Мне действительно очень жаль. Джун дернулся, сбросив его руку, и отступил подальше. Плеснув горючим, Дункан достал из кармана зажигалку и сам поджег хворост. Пламя рванулось к небу с хлопком, похожим на звук расправляемой простыни, с шипящим треском охватило корзинку. Джун оцепенело смотрел, как глаза Акико вспенились сквозь сомкнутые веки, а личико почернело и сморщилось, точно слива в печке. – Бра-атик! – Юми потянула его за штанину. – А Акико тоже заберет кит? – Конечно, Юми-тян. – А она с него не свалится? У нее ручки сла-абенькие! – А ее… – Он задумался на мгновение. – Ее папа заберет. Прилетит на ките и унесет к звездам. – Тогда давай всю ночь не ложиться! Чтобы подстеречь кита и помахать папе, как раньше, помнишь? – Нельзя, Юми. Тогда кит обидится и вообще не прилетит. Они не хотят, чтоб их видели, помнишь? И Акико будет плакать, что ее не забирают, а папа – ругаться, пока ты не уснешь. – Ну ла-адно, – вздохнула сестренка. – А вкусно Акико пахнет! Как цыпленок караагэ. – Замолчи, Юми-тян! Вот глупая! – Сам такой! Дункан смотрел в огонь, зацепив большими пальцами ремень. Отсветы пламени играли на мрачном лице, топили лед в глазах. Он вдруг заговорил, и голос его, набирая силу, эхом разнесся над берегом:Не плачьте над могилою моей:
Меня там нет, я не покоюсь в ней!
Я – в дуновеньи ветра над землей,
В алмазных блестках на снегу зимой,
Я – в солнечном от спелости зерне,
И дождь осенний шепчет обо мне.
Когда в тиши утра проснетесь вы,
Я снизойду на вас из синевы
Полетом птиц, встречающих зарю.
Я светом звездным сон ваш озарю.
Так не роняйте слез
На мой могильный камень:
Я не под ним!
Я не уйду. Я с вами[65]…

Он долго не мог уснуть в ту ночь, первую ночь без Акико, но в конце концов провалился в бездну тревожных видений. Фудзивара-скелет, треща костями, гнался за ним сквозь дым и огонь, язычки пламени трепетали в его глазницах, меч в костяной руке пластал раскаленный воздух. Отрубленная голова Дункана вращалась под ногами, точно футбольный мяч, тараща голубые глаза и скалясь в усмешке; Джун перепрыгивал через нее, вздымая тучи едкого пепла и колючих искр, а она щелкала зубами, норовя укусить его за лодыжку. Красные и синие рогатые черти плясали перед ним, размахивая палицами, кривляясь и показывая языки, – у одного вместо глаза красовалась черная резиновая нашлепка. Где-то надрывалась Акико, ее крик резал уши, точно визг циркулярной пилы. Неужели они ошиблись и сожгли ее заживо? Фудзивара все ближе, его зубы клацают над самым ухом, холодная сталь в руке готова кромсать и рубить… Нет, капитан, прошу!.. Джун открыл глаза и резко сел, давясь прогорклой темнотой. Мама спала как убитая, прижимая рукой к груди узелок с тем, что осталось от его сестренки. Акико больше не поднимет ее ни свет ни заря, требуя молока или сменить пеленки. Рядышком с мамой сладко посапывала Юми, раскинув худые ручонки и приоткрыв розовый ротик. От обеих чуть заметно тянуло гарью. Он долго смотрел на маму и сестренку. Опять они остались втроем. Как он досадовал, когда Акико будила его нетерпеливыми воплями! А если б сейчас она опять заорала, вырвав его из этого мучительного, нелепого сна, который все никак не хочет кончаться, он бы расцеловал ее. Она так забавно кряхтит, когда целуешь в носик, и машет ручками: отвяжись! Да только никакой это не сон, и Акико он больше не поцелует. Она там, в узелке, который мама прижимает к груди. И не одна лишь Акико. Там все платья, которые она никогда не наденет, – целый гардероб, все книжки и учебники, которые ей не суждено прочесть, – настоящая библиотека! Там куча друзей и подружек, и даже юноша, который однажды, краснея и запинаясь, промямлил бы: «Ты мне нравишься, Акико!» – и вскоре стал бы ее мужем. Там десятки, сотни мальчиков и девочек, ее детей, внуков и правнуков, бесчисленное множество неродившихся миров, зашитое в одном маленьком узелке. А развяжешь – высыплется лишь горсточка серой пыли да несколько костей. Он перевел взгляд на рисунки. Лица мертвых школьных товарищей едва проступали из темноты, и каждый был целым миром, обращенным во прах. Он, Джун, стал прахом еще при жизни, да и прежних мамы и Юми больше не существует. И если Дэн Дункан, лейтенант Соломенные Волосы, думает, что его вонючие консервы могут хоть что-нибудь искупить, – что ж… пусть думает. Консервы и у Ясимы есть. И еще есть син-гунто, острый как бритва. Почти год назад, далеко за океаном, человек, сотворивший бомбу, произнес: «Я – Смерть, разрушитель миров». В тот момент, ослепленный не столько ядерной вспышкой (сварочные очки надежно защищали его ясные голубые глаза), сколько гордыней (которая вскоре сменится ужасом и мучительными угрызениями совести), он не сознавал ни истинного значения этих слов, ни того, насколько переоценил собственное могущество. Разрушать миры под силу любому мальчишке. Для этого вполне подойдут камень, палка, нож… наконец, меч син-гунто. Джун ускользнул из дому на рассвете. Река дремала в тумане. Он миновал ряды тихих темных лачуг, завязших в ватной дымке, пересек мост и направился в город. Несмотря на бессонную ночь, его переполняла энергия, и шел он почти вприпрыжку. Уже оставив мост далеко позади, он хлопнул себя по лбу: деньги забыл, дурак! Как он теперь купит молоко для Акико? Метнулся было обратно и только потом вспомнил, что Акико больше нет. А вот и сгоревшая вишня, под которой погибла Рин. Черный скрюченный силуэт с растопыренными ветвями маячит во мгле, словно привидение. «Куда путь держишь, Серизава-кун? – вопрошает мертвое дерево. – Что ты затеял?» Проходя мимо, он старался смотреть на реку. А когда, не выдержав, обернулся, дерево уже растворилось в тумане. Над Хиросимой занималась заря. Солнце робко выглянуло из-за горизонта, и в нежной персиковой дымке проступили силуэты уцелевших заданий. Редкие прохожие казались тенями, сбежавшими со стен. Прогрохотал трамвай, может, даже тот самый, что год назад водил папа. Они так почернели от копоти, не различишь. Зазвенел на повороте – ТРИНЬ! ТРИНЬ! – и высек из проводов шипящий фонтанчик искр. Рука Джуна, непроизвольно поднявшаяся помахать ему, замерла в воздухе. В прежние времена из окон трамвая доносился гомон – люди смеялись, болтали, ругались между собой; а сейчас все молча висели на поручнях, точно связки сушеной рыбы. Лица угрюмые, лица усталые, безразличные лица с пустыми глазами – лица живых мертвецов, забывших улечься в свои могилы. Трамвай утонул в тумане, а Джун все стоял как дурак с поднятой рукой. Он еще постоял немного, собираясь с духом, потом опустил руку и решительным шагом пересек рельсы. Путь его лежал через разрушенные кварталы, к пустоши, где торчала одинокая стена с силуэтами женщины и маленькой девочки, навечно запечатленными на ней. Туда, где под отравленной землей Атомный Демон делил ночлег с мертвецом, дожидаясь своего часа.10. Суд Осириса
Сомнения начали одолевать Джуна к вечеру. Днем он парил как на крыльях, ничего не замечая вокруг, опьяненный содеянным. Ему больших усилий стоило не похвастаться Юми: «Нынче ночью я убью американца!» Но по мере того, как таял дневной свет, уступая место синим сумеркам, таяла и решимость, и то, что предстояло сделать, давило на сердце камнем. – Он придет, – твердила мама весь вечер. – Он придет, я знаю. Но уже поднялся над лачугой серп месяца, разлив серебро в темных водах Оты, уже засияли звезды, а лейтенант все не шел. Мама уложила Юми спать, а сама стояла на берегу, вглядываясь в ночь. Прислушивалась к каждому шороху. Повторяла упрямо: – Он придет. Он обещал. – Зачем он нам? – спросил Джун. – У нас теперь есть деньги. – Неважно. Он обещал! Он должен прийти! Он не сможет сдержать свое обещание, мамочка, угрюмо подумал Джун. Он не придет. Они с Тэцуо разработали план вместе. Чтобы сюда попасть, лейтенанту нужно пересечь мост, и Тэцуо будет поджидать его там. Он скажет Дункану, что госпожа Серизава спьяну опрокинула свечу и спалила лачугу. Теперь она ютится с детьми в старом бомбоубежище, страдая от ожогов и голода, но он, приятель Джуна, охотно покажет господину дорогу! Если Дункан не пожелает идти в ловушку, например отдаст Ясиме консервы, чтобы тот отнес их сам, или предложит позвать врача, Тэцуо просто вонзит нож ему в грудь и скинет тело в реку. Так или иначе до рассвета американец не доживет. – Я даже не сказала ему спасибо, – бормотала мама, поддергивая обтрепанные рукава. – Он решит, что я неблагодарная… – Он американец, мамочка. Какая разница, что о тебе думает враг? – Этот враг, этотамериканец, будь они все прокляты, единственный пожалел нас в этом проклятом городе. Кроме Рин, которой больше нет. Он лучше их всех вместе взятых! – Она кивнула в сторону поселка. – Я ненавижу его, но я обязана его поблагодарить. В глубине души у Джуна искоркой теплилась надежда, что Дункану удастся вырваться и убежать. Возможно, даже прикончить Тэцуо и его дружков; каким бы ни был лейтенант негодяем, он все-таки не резал никого на куски… Джун пытался задавить, погасить эту искорку. Дункан не заслуживает жалости. Может, тот приступ благородства был у него единственным. Может, за консервы он бы потребовал обычную свою плату. Может, он вообще не придет! Мало ли что человек наобещал спьяну? Но все равно что-то точило душу, и перед глазами снова и снова вставало обугленное дерево на берегу. – Я подожду его, мамочка, хорошо? – предложил он. – Тебе надо поспать. – Не могу. Акико все время снится. Просыпаюсь – а ее нет! Но в конце концов, прождав еще час или больше, мама все же вернулась в дом, легла рядом с Юми и почти мгновенно заснула. Джун сидел на крыльце, подставляя лицо ночному ветру. Он думал об Акико, которая умерла в своей колыбельке, окруженная любовью и заботой, а не на полу с разбитым черепом и вытекающими мозгами. Дункан не позволил этому случиться. Дункан остановил Годзу, чуть не задушившего маму. Дункан собрал для них хворост. Дункан кусал маму за грудь. Дункан обещал принести консервы. Дункан ударил его ногой. Джун обхватил голову руками, пытаясь выдавить назойливые мысли. Потом встал и тихонько прошел в лачугу. Мама спала с Юми в обнимку, постанывая во сне. Он склонился над ними, слушая их дыхание. – Акико, – еле слышно пробормотала мама. – Акико. Он сглотнул комок в горле и снова вышел на крыльцо. Постоял немного, а потом сорвался с места, да так, что земля брызнула из-под сандалий. Он был у самого моста, когда массивный силуэт отделился от перил и шагнул навстречу. Джун вскрикнул, налетев на него с разбегу. От удара воздух со свистом вырвался из груди. Отлетев, мальчик упал на спину. – Какая встреча! – Рожа Горо, украшенная новой черной повязкой, заслонила лунный свет. – А я как раз за тобой. Куда торопишься, Серизава? – Я… я… – Он хотел сказать «я передумал», но вспомнил о ноже у Горо на поясе. – Я только хотел узнать… – Экий ты нетерпеливый, Серизава, – ухмыльнулся Горо, будто единственным своим глазом мог видеть Джуна насквозь. – Было рисково, но мы справились. Он даже не успел выхватить пушку. Все ради тебя, Джу-тян. Ну как, готов пролить американскую кровь? Сердце Джуна оборвалось. Значит, все. Лейтенант у них в руках. Еще вчера это известие привело бы его в восторг. – Я… я, кажется, ногу вывихнул. – Он осторожно пощупал лодыжку. – Ой, как больно! – Я могу ее вылечить, Джу-тян. – Одним неуловимым движением Горо выхватил нож и поднес к лицу Джуна. Лезвие хищно блеснуло во мраке. – Знаешь, может, Тэцуо ты и нравишься, но меня ты со своими девчачьими ручонками всегда бесил, – доверительно сообщил Горо. – Тебе хоть раз приходилось ими работать, принцесса Сакура? Мы с Кентой с пяти лет ходили с отцом на промысел! – Я ри-рисовал… – пролепетал Джун, пытаясь отползти. Горо тут же прижал его рукой к земле, словно кот мышонка. Мелкие камушки впились мальчику в спину, но ладонь Горо была грубее. Не успевшие зажить порезы на груди отозвались саднящей болью. – «Я ри-рисовал»! – тоненьким голоском передразнил Горо. – Голову отрубить врагу – это не карандашиком водить по бумаге. А скажи мне, Серизава: почему кто-то с детства должен как проклятый вкалывать, пока ты сидишь в теньке и ри-рисуешь? Почему Тэцуо ставит тебя выше нас с Кентой? Почему твое смазливое личико не обгорело, а? – Он повернул голову так, что свет луны упал на изрубцованную половину лица, а потом схватил Джуна за волосы и поднес нож ближе. – Чем ты лучше нас, а? – Ни-ничем… – Ответ не-неправильный, Се-се-серизава. Ты хуже нас. И, если ты подведешь Тэцуо, а я в этом не сомневаюсь… Помнишь, как он разделал ту девку? – Я… я… – Джун стучал зубами. – Я не подведу… Горо нехотя убрал руку и выпрямился. Джун поднялся на дрожащие ноги. Бросив на него исполненный презрения взгляд, Горо сунул нож обратно в чехол и вразвалочку пересек мост. Джун плелся следом. – Рин, – пробормотал он, когда они проходили мимо сгоревшей вишни. – Что? – обернулся Горо. – «Ту девку» звали Рин. Вы с братом хорошо знали ее. – Американская подстилка, вот как ее звали, – бросил Горо. – Так же, как твою мамочку. А ты весь в нее. Надеть платьишко – вылитая пан-пан. Джун не кинулся на него лишь потому, что не сомневался: Горо только того и ждет. Злоба, исходящая от него, казалась физически ощутимой, как ядовитый жар «пикадона». – Этот гад чуть не задушил Тэцуо, – пробормотал Горо, обращаясь скорее к самому себе. – Схватил за глотку и не отпускал, даже когда Кента дал ему по башке. Тэцуо легко мог воткнуть нож ему в печень, но хотел взять его живым. Для тебя! – Он оглянулся на Джуна через плечо. – Почему, Серизава?.. И тогда Джун наконец понял, за что братья Харада так его ненавидели. В глазах Горо горела дикая, звериная ревность. Неотесанный, лишенный воображения, он боготворил Тэцуо так же, как еще недавно Джун, да только проникнуть в голову своего кумира никогда бы не смог. Горо родился чернью, и даже сотни «пикадонов» не хватило бы, чтобы снести незримый барьер сословных предрассудков, отделявший его от Тэцуо, барьер, который возводился веками, когда еще прадеды их прадедов не появились на свет… И Джун, такой же простолюдин, как и они, разрушил этот барьер в несколько движений карандаша. Для братьев Харада, потерявших все, что было им дорого, Тэцуо стал огнем, горящим в равнодушной холодной тьме; они вились вокруг него, как мотыльки вьются вокруг керосиновой лампы, бестолково колотясь о стеклянный колпак, но лишь Джуна Ясима подпустил к себе, лишь ему дозволил сжечь крылья в своем ослепительном сиянии. Как им было не возненавидеть его? Джун даже пожалел бы Горо, кабы не грязный его язык. – Тэцуо даст мне все, что я попрошу, – произнес он, с удовольствием отметив, как губы Горо дернулись в зверином оскале. – Может, я попрошу у него твою башку, если ты еще хоть слово скажешь о моей маме… – Сперва сам отсеки башку янки, Серизава! – прошипел Горо. – Ну, пошевеливайся!Над пустырем висела ватная тишина, бурьян чуть заметно колыхался, серебрясь в лунном свете. Тэцуо, положив руку на рукоять меча на поясе, ждал их у стены своего дома, рядом с тенями матери и сестры. Черный силуэт сливался с темнотой, лицо и руки белели призрачными пятнами. Он подошел к Джуну, отодвинув Горо, и внезапно заключил его в объятия. Джун не обнял его в ответ, но и вырваться не пытался – просто стоял, свесив руки, чувствуя, как сердце Атомного Демона бешено колотится под тканью черного гакурана. Тэцуо отстранил его и с горделивой улыбкой оттянул ворот, показав горло с цепочкой лиловых кровоподтеков. – Да ты весь дрожишь, – сипло проговорил он. – Страшно? Джун выдавил улыбку, чувствуя затылком ненавидящий взгляд Горо. Запах тления встретил их с порога, словно радушный хозяин. Он проник Джуну в ноздри и угнездился в пересохшем рту. Фудзивара-скелет не лежал больше посреди комнаты, а спиной и затылком подпирал стену, сложив костяные руки на коленях и одобрительно скаля щербатые челюсти. Взгляд пустых, крысами выеденных глазниц был прикован к пленнику, лежавшему у стены со связанными за спиной руками. Соломенные волосы на затылке потемнели от крови. Возле головы натекла лужица, которая в неверном свете керосиновой лампы казалась черной. Кента стоял над Дунканом, нацелив «кольт» американца ему же в голову. – Сними с предохранителя, дубина, – бросил Тэцуо. – Там рычажок такой сбоку. Кента подчинился, звонкий щелчок эхом скакнул от стены к стене. Тэцуо повернулся к Джуну. В полумраке его самурайский профиль казался высеченным из камня. Глаза блестели в темноте, словно капли нефти. – Ну, Серизава, что я говорил? – просипел он. – Он твой. Джун глубоко вдохнул и подошел к Дункану – цок-цок! – чувствуя себя будто во сне. Человек, у которого он валялся в ногах, сам теперь лежит беспомощный у его ног, разве не поразительно? Наклонившись, коснулся пальцами разбитого затылка и отдернул руку, услышав слабый стон. На пальцах остались липкие разводы, в полумраке напоминавшие ржавчину. Джун зачем-то понюхал пальцы; пахло медью. Накатила дурнота. Он вдруг с ужасающей ясностью понял, что, как и Дункан, никогда не покинет этого страшного подземелья. Как только он ударит, как только кровь американца брызнет на кафельную плитку, прежний Джун перестанет существовать. – Кто-нибудь, приведите в чувство эту свинью! – скомандовал Тэцуо. Опустив пистолет, Кента с размаху ударил пленника ногой в живот. Звук был такой, словно бейсбольной битой стукнули тюк с бельем. Дункан вскинул голову, глаза на залитом кровью лице вылезли на лоб. Кента ударил снова, с той же страстью, с какой еще недавно бил Джуна, и мальчик вздрогнул, ощутив боль в собственных ребрах. Лейтенант зашелся надсадным кашлем. Тэцуо протянул Джуну син-гунто. Мальчик замер, не в силах прикоснуться к мечу, терзавшему Рин. – Смелее, Джун, – прошептал Тэцуо, массируя горло. Мягко, почти ласково, но в голосе явственно прозвучала угроза. Джун взял оружие, лишившее жизни трех человек. Ничего особенного; рукоять с железным набалдашником легла в руку так же удобно, как раньше ложились карандаш или кисть. В чем неправ Ясима? Акико сгорела в костре, малютка Акико, никому в жизни не причинившая зла, да и жила-то всего пару месяцев… и Эйко с ее чудесными ушками тоже сгорела, сгорела заживо, и отец… Тысячи людей, тысячи миров обратились в прах в одночасье! Ни один американец не заслужил такой легкой смерти! Чужеземный дьявол даже не узнает, каково это, когда закипает все, что в теле есть жидкого, а легкие наполняются огнем! Мальчик потянул рукоять, и клинок со змеиным шипением покинул ножны. Он оказался тяжелее, чем думал Джун. Положив ножны на пол, Тэцуо шагнул к пленнику и схватил его за слипшиеся волосы, запрокидывая голову. – Добро пожаловать в Японию, янки! Я – Атомный Демон, небось слыхал обо мне? А это, – он повернул его лицом к Джуну, – это Серизава Джун, твоя смерть! Глаза Дункана расширились на мгновение при виде меча. Сплюнув, он прохрипел: – Смерть? Больше похоже на дрожащего мальчишку, который не понимает, во что ввязался! – Становись на четвереньки, – тихо произнес Джун. Опустившись на одно колено, он заглянул Дункану в глаза. – Вы сказали это моей маме. Дункан хрипло расхохотался, но смех сразу перешел в кашель. – Злопамятный чертенок! – выдохнул он. – Я хотел бы… только спросить… – Валяй, лейтенант, – сказал Тэцуо, дернув его за волосы. – Нам спешить некуда. Американец посмотрел на Джуна. В ледяных глазах не было ни злобы загнанного зверя, ни ужаса теленка на бойне, как у молодого янки, забитого на мосту, лишь яростная, неукротимая воля к жизни. И еще – вызов. – Скажи честно, хочет ли твоя мама, чтобы меня не стало? Хочет ли она, чтобы меня прикончил именно ее сын? Будет она гордиться тобой, как думаешь? Не отводи глаз, щенок! Отвечай как мужчина! Джун отпрянул, испуганный его криком. Открыл рот, но не смог издать ни звука. Меч еще сильнее налился тяжестью, потянул руку вниз. – Ты ничего не сказал ей, верно? – Дункан хрипло засмеялся. – Я не удивлен. Плевать ты хотел на свою маму. Я, во всяком случае, не сделал с ней ничего такого, на что бы она не дала согласия! – Замолчите! – Вскочив, Джун впечатал деревянную платформу сандалика пленнику в лицо. Тот сдавленно взвыл, но тут же заговорил снова: – За убийство американского офицера тебя, мальчишка, потом все равно повесят. Подумай, что тогда будет с твоей сестренкой и мамой. Она потеряла уже одного ребенка… Но для маленького патриота месть важнее таких мелочей, верно? – Он ухмыльнулся разбитым ртом. – Плевать, что думает женщина, спавшая с янки, честь дороже! – Не слушай его, – сказал Тэцуо, нахмурившись. – Этот дьявол зубы тебе заговаривает. Но Джун не мог не слушать. Если бы Дункан пресмыкался перед ним, моля о пощаде, то давно лишился бы головы. Но он говорил спокойно, уверенно, и уже этим превосходил Джуна, и каждое слово било в цель, точно пуля снайпера. Даже связанный, он был сильнее! – Ты недостоин своей матери, – чеканил лейтенант, глядя ему прямо в глаза. – Ради тебя она переступила через свою гордость и ненависть. Это требует куда больше мужества, чем рубануть мечом безоружного. Опусти меч, мальчишка, если действительно любишь ее, и беги домой. Это отребье и без тебя превосходно справится… – Отребье! – взвизгнул Горо. Он кинулся на пленника и принялся остервенело бить ногами. Дункан хрипел и корчился. Джун попятился к лестнице, но Кента, вместе с Тэцуо зачарованно следивший за избиением, обернулся на стук сандалий и тут же направил пистолет мальчику в лицо: – Куда это ты намылился, Серизава? Разве ты не один из нас? Или он прав, мы для тебя отребье? А? – Я… я… – Тошнота мешала сосредоточиться, слова ускользали. – Я просто… я… Горо замер над стонущим пленником, тяжело дыша и обливаясь потом. Единственный глаз его угрожающе сузился. – Говорил я тебе, Тэцуо, нам не нужен этот слюнтяй! – Он положил руку на рукоять ножа. – Почему ты так цепляешься за него? Что он для тебя значит? – Заткнись! – взвизгнул Тэцуо. Он повернулся к Джуну. – Что с тобой, Серизава? Разве не этого ты хотел? Разве ты не с нами? – Я не могу так просто убить человека… – Это не человек! – заорал Тэцуо, забыв про раздавленное горло. – Ты ослеп? Это чертов американец! – Не могу! – со слезами выкрикнул Джун. – А они смогли, Серизава! Они смогли! Оглядись вокруг! Джун отступил еще на шаг и запнулся о вещмешок на полу, тяжелый, словно валун. Внутри глухо брякнули консервные банки. Нелегко, наверное, было тащить их в такую даль… Тэцуо поймал его за плечо, не давая упасть, и толкнул обратно к Дункану. Американец, оказывается, даром времени не терял: извиваясь на полу, он сжимал-разжимал кулаки, крутил плечами, вращал запястьями, до крови сдирая кожу. Цепкие пальцы теребили узлы, поддевая ногтями тугие витки. – Гляди, Серизава, он сейчас выпутается! Руби скорее! Джун стиснул эфес. Кожаная оплетка стала скользкой от пота. Он перехватил меч другой рукой. – И введут его в подземный чертог богини Маат, – произнес Дункан, не переставая работать запястьями, – и пред лицом Осириса и сорока двух богов заставят дать отчет обо всем праведном и неправедном, что он делал в жизни. И возложат сердце его, отягощенное злом, на чашу весов, на другую же опустят перышко справедливой Маат; и если зло перевесит, чудовищная Амт, что ждет у трона Осириса, раскроет по знаку свою крокодилью пасть и поглотит грешника с его сердцем; если же перевесит доброе, то он будет отпущен… Говоря, он смотрел на Джуна, и тот сразу понял, что имеет в виду лейтенант. Он помнил из учебников про суд Осириса, даже как-то изобразил его в египетском стиле. Как давно это было! А и правда, что перевесит: сумка с консервами или четыре унции, шестьсот калорий, хорошенько сдобренных витамином Б? – Что вы там лопочете, лейтенант? – прохрипел Тэцуо. – Богу своему молитесь? Громче, отчетливей! Я слышал, он туговат на ухо. – Fuck you, – ответил Дункан и тут же скорчился, получив от Кенты очередного пинка. Горо выхватил нож и несколько раз ткнул пленника в ребра, неглубоко, но на рубашке хаки все равно распустились алые цветы. Джун отвернулся, борясь с тошнотой, и встретился взглядом с пустыми глазницами Фудзивары-скелета. Мертвец ухмылялся, словно забавляясь его слабостью. В треугольной дыре на месте носа что-то копошилось – паук? «Во мне много чего копошится, малыш-ш, – прошептал у него в голове Фудзивара. – Во мне кипит жизнь, а ты уже, считай, покойник. Я буду жить в Тэцуо, и в Кенте, и в Горо, и в сотнях других таких же… Такие, как мы, никогда не умрут. Ты такой, как мы, мальчик? Или как та девка?» Стены бункера растаяли, точно дым, и перед Джуном вновь возникло обугленное вишневое дерево на пустынном берегу, кровью залитая земля, тени растопыренных голых ветвей на обезображенном лице… Только теперь это было его лицо. Это он лежал мертвый под мертвым деревом, с вытекшим глазом и отрубленной в локте рукой. Сорванные шорты открывали кровавую дыру в паху. Джун оцепенело смотрел на собственное тело, на потроха, жирными блестящими кольцами свернувшиеся в грязи между бледных худых бедер. Фудзивара стоял рядом, костяной рукой вцепившись ему в загривок; голая челюсть скелета ходила ходуном, зубы клацали, как трещотки-наруко. Он трясся в беззвучном смехе, и дрожь эта через костяные липкие пальцы проникала под кожу, мурашками расползаясь по телу. Миг – и наваждение растаяло, только дрожь осталась. Снова возникли бетонные стены бункера, Тэцуо, Горо, Кента и окровавленный беспомощный человек на полу. И Фудзивара-скелет снова сидел в углу, ожидая развязки. «Ты такой, как я, мальчик?» Будто во сне, Джун шагнул вперед, обеими руками занося син-гунто. «Или как та девка?» Тэцуо обернулся к скелету: – Смотри, Фудзивара! Смотри, как мы отомстим за тебя! «Ее звали Рин, сволочи!» Джун ударил. Он метил в шею, надеясь снести голову с одного замаха, вот только силенок у него осталось всего ничего, да и меч был слишком тяжелый. Вместо шеи лезвие угодило в висок. Наверное, снесло бы осьмушку черепа, если б Джун, ужаснувшись содеянному, в последнюю минуту не попытался остановиться. И все равно удар отдался в запястьях, а кровь так и брызнула. Американец взвыл, и эхом вторили ему Кента и Горо. Глаза Тэцуо распахнулись в изумлении. Рука дернулась к виску, из которого ручьем побежала кровь, заливая воротничок гакурана. Он коснулся раны дрожащими пальцами, будто не мог поверить, что мальчик, однажды залезший к нему в голову, оказался способен раскроить ее мечом. Потом глаза его закатились, и он рухнул к ногам Джуна.

Все застыли, оцепенело глядя на Атомного Демона, поверженного худеньким мальчишкой. Все, кроме лейтенанта – он продолжал сражаться с веревкой и уже порядком ослабил ее. Кента и Горо даже не пытались помешать ему. Сияние, разгонявшее мрак вокруг них, только что погасло, оставив их в растерянности и отчаянии. Первым очнулся Кента. Скалясь напуганной обезьяной, он вскинул пистолет. Ствол заметался, выбирая между вооруженным Джуном и пока еще беззащитным американцем. Остановился на Джуне. Взвизгнув, мальчик снова взмахнул мечом, чиркнув Кенту лезвием по руке. Ударил выстрел, одна из плиток на полу брызнула фонтаном осколков. Кента с воплем схватился за распоротое запястье, пистолет выскользнул из его пальцев, звонко стукнул об пол и еще раз выстрелил. Горо рванулся вперед с ножом наперевес, но и он еще не до конца опомнился, так что Джун без труда выбил нож у него из руки взмахом син-гунто. Развернувшись, он стрелой взлетел по лестнице и ударился в бронированную дверь всем своим тощим телом. Та со скрежетом отворилась, ночной свежестью дохнуло в лицо. Он успел разглядеть обвитую плющом стену, небо в россыпях звезд – а потом рука Горо сгребла его за горло и уволокла обратно в зловонный сумрак. Задыхаясь, Джун снова махнул син-гунто, но меч угодил в стену, вывернулся из пальцев и отлетел куда-то в сторону с жалобным звоном. Деревянные сандалики затарахтели по ступенькам – клак-клак-клак! – и сорвались с ног. Последние ступеньки мальчик отсчитывал босыми пятками, до чего же больно! Горо швырнул его на пол и, тяжело дыша, взгромоздился ему на грудь. Сквозь плывущие перед глазами огненные круги Джун увидел его перекошенное, залитое потом лицо. Он схватил Джуна за подбородок, вдавив затылком в кафель, а другой рукой нашарил на полу нож. – Я тебе глаза выколю, Серизава! Грохот выстрела в стенах бункера прозвучал отрывистым лающим кашлем. Где-то рядом сдавленно квакнул Кента. Рука Горо с ножом замерла. Ударил второй выстрел – и переносица Горо взорвалась ливнем крови, мозгов и костей. Повязка слетела с разорванного в куски лица, уцелевший глаз выскочил из глазницы. Джун закричал от ужаса и омерзения, руками размазывая по лицу горячие слизистые ошметки, но крик его оборвался, потому что Горо рухнул сверху, как мешок с кирпичами, выбив воздух из легких. Извиваясь и толкаясь пятками, Джун на локтях выполз из-под трупа. То, что осталось от лица Горо, проскользило по голой ноге мальчика, пачкая ее кровавой слизью, и с влажным шлепком уткнулось в пол. В затылке среди слипшихся волос зияла дыра с обожженными краями, в которую Джун мог бы просунуть палец, возникни у него такое желание (у него не возникло). Чуть поодаль хрипел на полу Кента, зажимая рукой пробитое горло. Сквозь пальцы струилась кровь. Взгляд его, изумленный, неверящий, встретился со взглядом Джуна; он открыл рот, словно что-то хотел сказать, но вместо этого выкашлял кровяной сгусток, пару раз дернулся и затих. Джун с трудом поднялся на четвереньки. Дункан, теперь уже на ногах, оттолкнулся рукой от стены. Голубые глаза дико блестели на окровавленном лице, веревка дохлой змеей свернулась у ног. В другой руке дрожал пистолет, нацеленный Джуну точнехонько между глаз. – Встать, – прохрипел Дункан. – Встать, щенок! В глаза смотри. – Пошел ты, – равнодушно ответил Джун, поднимаясь на ноги. Пистолет изрыгнул огонь, но в последний момент дуло дернулось в сторону. Череп Фудзивары-скелета разлетелся вдребезги – костяная макушка свечой взвилась в воздух и упала на колени вместе с оторванной челюстью. Следующий выстрел проделал дырку в истлевших лохмотьях мундира на груди. Фудзивара спиной съехал по стенке на бок. Из разбитых ребер выскочила жирная серая крыса и с писком кинулась наутек. Дункан засмеялся, будто закаркал, и опустил дымящийся ствол. – Кажется, мне порядком досталось, – проговорил он и повалился лицом вперед. Джун, не думая, вскинул руки и подхватил его. Оба рухнули на колени. За распахнутой настежь дверью тоскливо свистел ветер. Серебристый свет месяца струился по ступенькам вниз, где на залитом кровью кафеле, в окружении безжизненных тел, стояли на коленях американский офицер и японский мальчик – стояли обнявшись, слишком измученные и обессиленные, чтобы оттолкнуть друг друга.
11. Шесть бутылок джина
– …Слушайте, слушайте! Правда, ладные у меня сапоги? Вот, хотите, расскажу, как добыл их? В Хиросиму возвращалось все больше репатриантов, и этот щуплый человечек в обрывках военной формы, с блуждающей улыбкой в черной густой бороде и мечтательным добрым взглядом, был одним из них. В знойный полдень он шатался по дорогам, выискивая прохожих, чтобы поделиться своей историей. Отвязаться от него было невозможно – он вприпрыжку семенил следом, размахивая руками, и тарахтел без умолку: – Значит, застряли мы на острове Лейте. Шел февраль, американская артиллерия каждый день разносила наши позиции в клочья, и осталось от славного гарнизона полторы сотни с голодухи дрищущих голодранцев. А дождь так и хлещет, так и хлещет! Мы дышали дождем, мы носили его на теле вместе с одеждой, и от того тела́ наши гнили и пухли. Мы продирались сквозь заросли и тупили о них син-гунто, и колючки рвали штаны, и мошкара выедала глаза, а партизаны при всяком удобном случае резали нашему брату глотку. Сапоги у меня совсем развалились, и месил я ногами сырую грязь, и пальцы на ногах стали как пузыри с ледяной водой. От всего взвода нас осталось пять человек, один я без сапог. Разве справедливо! Утром на привале разбудил я своего дружка Дайкити и говорю: Дайкити-кун, отойдем-ка в лес, я свои дела сделаю, а ты постоишь на стреме! Только дело я задумал другое: очень уж хорошие были у него сапоги! Ну, он пошел со мной, и в кустиках я штыком его чирк по горлу! А только не впору мне пришлись его сапоги – то ли ножка была у Дайкити, как у гейши, то ли мои так страшно распухли, но как ни тужился, как по`том ни обливался – не лезут, и все тут! Фух! Тогда позвал я по-тихому другого товарища, Ёдзо: дескать, нашли мы с Дайкити в лесу пожрать, только тс-с, а то капитан с Кавамото все отберут. Он пошел, боров безмозглый, а в лесу я ему тоже глотку штыком перехватил и сапоги снял. Так они велики оказались! Ну, впал я тут в отчаянье. Хотел уже вернуться за Кавамото, у него сапоги были дрянь, конечно, и каши просили, но все-таки сапоги. Только Кавамото, знать, почуял неладное, сказал капитану, и встретили они меня дружным винтовочным залпом! Пришлось бежать обратно в лес. Там сорвал я с мертвого Дайкити винтовку, и когда они пошли за мной, уложил обоих из-за большого валуна. Вот капитанские сапоги оказались в самый раз, отличные сапоги, не желаете убедиться? Прыгая на одной ноге, он принимался стаскивать сапог, чем и пользовались невольные слушатели, чтобы удрать. Находились, однако, и смельчаки, желающие дослушать историю до конца. – Так и полег наш славный взвод за пару сапог! – говорил бродяга, шевеля грязными пальцами в пыли. – Только это еще не все. Видите ли, чтоб не сдаться с голоду янки, я штыком разделал товарищей, и хватило на неделю. Борода моя слиплась тогда от крови… Но тела быстро разлагались и кишели личинками, так что все равно пришлось сдаться янки. Слюнки текли, когда я смотрел на их лоснящиеся морды и толстые шеи, но я им сдался и ел, как собачка, у них из рук. Вы убьете меня теперь? Прошу, убейте! Я недостоин жить! Хиросимцы предпочитали думать, что перед ними обычный городской сумасшедший – уж больно чудовищной была история. Иные от души потешались над бедолагой. «Как она, вкусная, человечинка?» – спрашивали они, и он, причмокнув задумчиво, отвечал: – Как свинина, только жуется хуже. Скользкая, волокнистая. Нередко его колотили. Кто-то жаловался в полицию. Но властям не было дела до полоумного бродяги, чей рассказ, вернее всего, не удастся ни подтвердить, ни опровергнуть. Среди множества отбросов войны, бродящих по разрушенным улицам, этот горемыка, в котором угрожающим казался разве что запах немытых ног, выглядел чуть ли не самым безобидным. Мало ли кто что болтает? Настоящие злодеи словам предпочитают действие. Вот хоть Атомный Демон, которого так и не удалось до сих пор найти… Где он прячется? Когда нанесет новый удар? Кто станет следующей жертвой? Журналисты «Тюгоку», опасаясь за свою жизнь, резко снизили обличительный накал статей, к большой досаде оккупационных сил. На рынке Атомного Демона по-прежнему поминали, но больше вскользь; у торговцев и покупателей без него хватало забот, да и аппетиты якудза росли даже не по часам, а уже, казалось, поминутно. Городские власти набирали добровольческие отряды патрулировать улицы, но, поскольку новых убийств с помощью меча не происходило, вместо охоты на живого убийцу их отправили искать мертвецов. Вооружившись адресами граждан, пропавших без вести, добровольцы методично раскапывали квартал за кварталом в поисках тел, которые тут же и предавали огню; их стараниями трупный запах в городе мало-помалу пошел на убыль. А безумный скиталец так и шатался по разрушенным кварталам, ища свою смерть, но даже смерть не желала иметь с ним дела. Он поименно помнил убитых товарищей, но не помнил ни собственного имени, ни дома, где жил до войны. Если у него и осталась в живых какая-то родня, то признавать его не хотела. – Убей себя сам, за чем дело стало? – говорили ему со смехом. – Брюхо распорол – и вся недолга! Что ты докучаешь людям, ошметок? В ответ бродяга, грустно улыбнувшись, лез костлявой рукой за пазуху и предъявлял потускневший нательный крестик: – Разве добрый католик наложит на себя руки? Отцы и матери при виде его хватали детей на руки или прижимали к себе; уж больно хищно поглядывал бродяга на малышей, только что не пускал слюни. И когда он уходил, загребая своими хвалеными сапогами пыль, облегченно вздыхали. Один из них, худой мужчина с культей вместо ноги, опиравшийся одной рукой на костыль, а другой на плечи жены, сказал рыдающему от страха сынишке: – Посмотри на него, Хироси, посмотри и запомни: это и есть война! Другие оборванцы избегали бродягу, как зачумленного. Он никогда не просил подаяния, питался из мусорных баков на задворках ресторанов и баров, что в изобилии открывались теперь каждый день, а по ночам, вдали от людских глаз, раскапывал завалы в поисках человеческих останков. Забившись в какую-нибудь нору под обломками, он обсасывал склизкое мясо с костей, раскусывал с хрустом гниющие хрящи, и потом его рвало черной зловонной слизью, но даже трупный яд не мог оборвать его существование. И он выл в темноте, свернувшись калачиком и обхватив руками клокочущий живот, скулил, точно брошенный пес, и кричал в темноту: – Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил? Бог безмолвствовал. Бог теперь нечасто обращал Свой взор к Хиросиме.
Поисковые отряды так и не обнаружили бункера, в котором Атомный Демон устроил свое логово. Двое, знавшие об этом, хранили молчание. Даже маме Джун не сказал, что случилось на самом деле. Для лейтенанта Дэна Дункана, застрелившего двух японских мальчишек, пусть и в порядке самозащиты, рассказать правду означало бы позорное увольнение, если не трибунал. Отлежавшись пару дней в военном госпитале, Дункан объяснил командованию, что во время ночной прогулки подвергся нападению неизвестных, а кто обработал его раны и помог добраться до штаба, совсем не помнит. Лейтенанту устроили суровую выволочку, а с бойцами провели дополнительный инструктаж о правилах поведения на оккупированных территориях. Тем и кончилось дело.
Смерть крошки Акико, как ни жестоко это звучит, дала госпоже Серизава возможность найти работу: она подрядилась помогать соседям, пострадавшим от «пикадона». Многие люди, с виду вполне здоровые, страдали от таких же приступов слабости, какие мучили Джуна, и целыми днями не могли трудиться по хозяйству; у кого-то пострадали при взрыве члены семьи, а на уход за ними не хватало ни сил, ни времени. Госпожа Серизава, как заправская медсестра, обмывала лежачих, обрабатывала гноящиеся язвы и пролежни, извлекала из незаживших ран мушиные яйца, делала перевязки, готовила еду и читала ослепшим. Поначалу к ней относились с презрительным недоверием и обращались, только когда становилось совсем уж невмоготу; но она так ласкова была со страдальцами, так учтива с их родными, сколько бы те ни прохаживались на ее счет, что вскоре стала желанной гостьей в любом доме, и на исходе мая никто даже за глаза не позволил бы себе назвать ее «пан-пан» или американской подстилкой. И невдомек было соседям, что талант к врачеванию госпожа Серизава открыла в себе в ту ночь, когда в ее лачугу, опираясь на плечи ее сына, ввалился истекающий кровью американский лейтенант. – Ты прирожденная медсестра, бэби-сан, – сказал он после того, как она зашила его рассеченный затылок. – У тебя золотые руки. Мой тебе совет: попробуй заработать на них. Маме платили рисом – по горсточке с каждой семьи, но набегало в итоге прилично, и вскоре Джун забыл про грелку с кипятком в пустом животе. Частенько заносили подарки: – Здравствуйте, госпожа Серизава! Как поживаете? Бабушка просила передать немного лапши… – Добрейший вечерок, госпожа Серизава. Ох, кости ломит, не иначе к дождю! Я раздобыла пяток яиц, возьмите парочку для Юми с Джуном. – …А нога и не болит совсем! Вас, должно быть, Окунинуси[66] поцеловал, госпожа Серизава! Вот хороший отрез шелка, не хотите ли? Иногда давали и денег; первым делом мама купила небольшую камидану и поставила на нее деревянные таблички с именами папы и Акико. С алтарем в лачуге сразу сделалось гораздо уютнее. А еще лучше стало, когда один парень, у которого болела бабушка, в благодарность принес маме мощную керосиновую лампу, так что по вечерам уже не приходилось ютиться при свете одинокой свечи. Госпожа Мацумото, у которой занемогла тетя, в благодарность за помощь (а может, в возмещение бед, которые принес семье Серизава ее длинный язык) отдала подшивку «Красной птицы», и теперь мама читала вслух Юми рассказы, стихи и сказки.Красная птичка, пичужка,
Красная почему ты?
Красные ягоды клевала!
Белая птичка, пичужка,
Белая почему ты?
Белые ягоды клевала!

– «…Прямо за окном простирался песчаный пляж, а сразу за ним – море. Гулюшки с удивлением смотрели через окошко на его иссиня-черную даль. Далеко в море едва виднелся красный буй. Вот за буем прошел черный пароход с желтыми трубами, выпуская длинную-длинную струю дыма. Гулюшки всполошились: – Ой, какой большой корабль! И какой быстрый! Гули-гули, гули-гули…»[68] Чудесный выдался вечерок! Недавно прошел дождь, и в воздухе разливалась мягкая свежесть. Мама только что вернулась от госпожи Мацумото, усталая, пахнущая лекарствами, но веселая. Они втроем вдоволь напились чаю, и мама, усадив Юми на колени, читала ей сказку господина Миэкити. – «…Когда мама проснулась на следующее утро, дом уже родил Судзу. Пока все спали, малышка Судзу с красным личиком сама забралась на красный футон и теперь сладко посапывала. Мама обрадовалась и позвала: – Папа, папа, Судзу здесь! Маленькая-маленькая Судзу! И папа, и бабушка были так счастливы, что только и повторяли: – Ах, Судзу… – Судзу, Судзу… Потом Судзу впервые попила маминого молочка. Иногда она громко плакала: „Уа-уа“. А… иногда… хныкала… „Хнык-хнык“». Журнал упал на пол. Мама расплакалась, прижав к себе Юми. Видя, что сестренка тоже сейчас заревет, Джун сам подобрал журнал и скорей принялся читать дальше. – «…Однажды папа снова поднес Судзу к гулюшкам. Гулюшки обрадовались и сказали с поклоном: – Судзуко, Судзуко, здравствуй. Гули-гули-гули-гули. – Вот, вот, Судзу, смотри сюда, – говоря так, папа поднес Судзу к клетке, чтобы показать гулюшек. Но Судзу облизывала кулачок (прямо как ты, Юми, в ее возрасте!) и глядела в другую сторону. Сколько бы папа ни просил, Судзу и не думала смотреть на гулюшек. – Ах, она пока еще маленькая. Когда же Судзу скажет „гулюшки-гулюшки“? – нетерпеливо ворковали они…» – У! – возмутилась Юми. – Какая эта Судзу вредина! – Ты, Юми-тян, тоже не подарок! – улыбнулась мама сквозь слезы. Джун читал – и мир становился прежним, и не было больше ни американского лейтенанта, ни убитой Рин, ни огненного ада на улицах Хиросимы, и дома стояли целые, и не умирали сестренки, и отцы по вечерам всегда возвращались домой. Вот сейчас донесутся с улицы знакомые цок-цок и шарк-шарк – и папин тенорок, выводящий «Сакуру»… Но вместо отца пришел американский лейтенант с большим кожаным портфелем в руке. БАБАХ! Кто еще ввалился бы в дом так бесцеремонно? Мама, в испуге ахнув, крепче прижала Юми к груди. Джун вскочил, выставив перед собой журнал. – «Красная птица»! – На лице Дункана сияла радостная улыбка. – По ней я мальчишкой учил японский! От него снова тянуло виски. Голова его до сих пор была перевязана, однако синяки на лице почти сошли. Он скинул ботинки и, слегка прихрамывая, прошел в комнату. Чинно поклонился маме, а Юми скомандовал: – Подставляй лапку! Сестренка вместо этого подбоченилась: – А ты больше не будешь обижать мамочку? Он помотал забинтованной головой. Но Юми не унималась: – Клятву! – Слово скаута! – Дункан двумя пальцами перекрестил сердце. Удовлетворенно кивнув, Юми протянула ладошку, и он сыпанул ей разноцветных кругляшей из картонной трубочки с надписью «M&M’s». – Отличная штука, – сказал он, – вот попробуй! Это тебе не секретное оружие Гитлера. – Ум! – простонала Юми, чавкая. – Вкуснятина! Дункан снова повернулся к онемевшей госпоже Серизава. – А это тебе, бэби-сан. – Он достал из нагрудного кармана куртки толстую пачку банкнот. Мама, недолго думая, взяла их и быстро пересчитала. Ее глаза широко раскрылись, а потом наполнились слезами. – Как мне отблагодарить вас, господин?.. – пролепетала она, прижав деньги к груди. Лицо Дункана прорезала кривая усмешка: – Прошу, не искушай меня, бэби-сан. Ты не представляешь, как мне хочется сорвать с тебя это кимоно прямо здесь и сейчас. Мама отвернулась, закрыв вспыхнувшее лицо рукавом. – И так тоже не делай, так только соблазнительнее. Чуть не забыл! Все-таки здорово меня по башке тогда отоварили… – Он снова полез в нагрудный карман и достал мятую фотокарточку. – Сожги, порви – как тебе удобнее. Старина Мерфи не хотел ее отдавать, пришлось немножко подправить ему вывеску. Кстати, он просил тебе передать, что глубоко раскаивается в своем безобразном поведении. Мама взяла фото. По тому, как задрожали ее губы, Джун понял, что там. Пальцы ее сжались, сминая карточку. – Спасибо, – сказала она с коротким поклоном. – А теперь, бэби-сан, не желаешь ли прогуляться, пока еще не стемнело? Нам с твоим сыном нужно потолковать. У Джуна упало сердце. – О чем? – Мама поднесла руку к горлу. – О башмаках и сургуче, капусте, королях… А, не бери в голову. Просто поверь: наш разговор пойдет ему на пользу. – Но… – Иди, мамочка, – нарушил молчание Джун. – И Юми бери с собой. Положи деньги скорее в банк, а то украдут еще. Кажется, «Сумитомо» работает до десяти. – Ты уверен? Он кивнул. Ему совершенно не улыбалось остаться с Дунканом наедине, но если лейтенант заведет речь о том, что с ними случилось на самом деле, лучше, чтобы мама и Юми этого не слышали. – Он дело говорит. – Дункан украдкой подмигнул Джуну. – Воры по домам так и шастают. – Действительно, у господина Ватанабэ вчера умыкнули прямо из дому пару сапог… – протянула мама. – Но ходить по городу с такой кучей денег… А впрочем, кто догадается? – улыбнулась она и решительно сунула купюры за пазуху. – Пойдем, Юми. – А гулюшки?! – взбунтовалась Юми. – Я хочу знать, увидит ли их Судзуко! Но мама посадила ее на спину и вышла из лачуги, закрыв за собой дверь. Вскоре шарканье ее сандалий и протестующие вопли Юми стихли вдали. Джун скрипнул зубами. Не то чтобы Дункан пугал его, как раньше; он видел лейтенанта беспомощным и знал, какого цвета у него кровь. Он был рад, что не запятнал своих рук этой кровью, но от этого общество Дункана не становилось приятнее. Лейтенант не спешил начать разговор. Он отобрал у Джуна номер «Красной птицы», полистал, улыбаясь своим мыслям, бросил на тюфяк. Потом, заложив руки с портфелем за спину, прошел к стене, долго изучал рисунки и наконец сказал: – За неделю ничего не прибавилось. По-прежнему не рисуешь? Джун кивнул, удивленный. Неужели этот чудак запомнил, что там висело? Нет, в нем точно есть что-то дьявольское. – Из-за меня. – Это было утверждение, не вопрос, но Джун опять кивнул. – Мики, – прочитал Дункан под портретом взъерошенного мальчугана с чертиками в глазах. Перевел взгляд на девочку с грустным лицом и короткой стрижкой, на еще одного мальчишку с пухлыми хомячьими щечками и хитрой улыбкой. – Юрико… Дзиро… Хидэо… Рин… Твои друзья? – Да. – Кто-нибудь из них сейчас жив? – Вы убили всех. – Джун не стал уточнять, что Рин стала жертвой Ясимы. Без янки этого бы все равно не случилось. – Невиновен! – поднял руки Дункан. – Бог свидетель, я много детей убил в Кобе и в Токио… зажигалки, они, извини, цели не выбирают… но не здесь. Выходит, это твой мемориал. Жаль, славные были ребятишки. А папаша где? Джун не ответил. К чему откровенничать с чужеземным дьяволом? – А вот и кит, – дьявол восторженно прищелкнул языком. – Красавец, ей-богу, красавец! Не на нем ли твой отец прилетал за сестренкой? – Никто не прилетал. Это глупая сказка для Юми. – И в небесах, и на земле таких полно чудес, – изрек лейтенант, – что всей вашей премудрости не снились! Я, если хочешь знать, видел однажды гремлина, вот как тебя сейчас, который резвился на крыле моего самолета. Ловил солнечных зайчиков, что твой котенок. Мохнатый такой, и уши-локаторы. Он показал мне нос и умчался в облака. Попрошу не ухмыляться! Думаешь, я бы нарезался перед вылетом? Конечно, это мог быть мираж… Но вдруг нет? Вдруг твой старик с сестренкой действительно летают на ките? Вдруг в океане перед штормами поют русалки? Вдруг в озере Лох-Несс обитает живой плезиозавр? Ах, мальчишка, разве у тебя совсем не осталось фантазии? «Он когда-нибудь бывает трезвым? – тоскливо подумал Джун. – Видно, правда только перед вылетами, да и то, небось, соврал…» Он зевнул, прикрыв рот ладонью. Взгляд американца остановился на одном из рисунков, изображающем городскую улицу. Вдоль тротуара, погруженного в зеленоватую тенистую рябь, спешила стайка школьниц; одна из девочек, держа заруку подругу, скакала на одной ножке. Бабушка в расшитом пионами кимоно, присев на корточки перед ревущим малышом, разглядывала его разбитую коленку, и было почти слышно, как старушка ворчит да охает. У дощатого забора сиротливо притулился велосипед с погнутым колесом. На соседнем рисунке был Замок Карпов, похожий на скалистый утес в буйном море зелени; Джун рисовал его в ветреный день, когда листва вскипает волнами, так что при взгляде на рисунок был слышен ее шипящий шелест. – Я никогда не был в Хиросиме до войны, – вымолвил лейтенант. – В Токио был, в Киото… В Хиросиме – ни разу. А теперь ее больше нет, и лишь на твоих рисунках я могу видеть, каким был этот город до нас. – Успевайте, – буркнул Джун. – Я давно собираюсь их сжечь. Мальчик брякнул это назло, но лейтенанту будто лягушку за шиворот сунули. Он резко повернулся: – Ты сожжешь опять свой родной город?.. Своих друзей?.. – Это не мои друзья. Это на стене рисунки. – Ты ЭТО называешь просто рисунками? Джун пожал плечами: – Все рисунки одинаковы. Помолчав, Дункан спросил: – Ты знаешь, что Гитлер был художником? Джун снова пожал плечами. Он знал только, что Гитлер был союзником Японии, а значит, благородным человеком и мудрым правителем – так, во всяком случае, говорили в школе. Еще там говорили, что Япония непобедима и японский дух не сломить, так что и насчет Гитлера возникали сомнения. – Видал я его работы, – продолжал Дункан. – Старина Адольф честно старался: все детали схвачены с хваленой немецкой точностью. Не хватает только знаешь чего? Души. Той самой искорки, что отличает живое от неживого. В человечках из палочек, которых рисуют дети, не столь талантливые, как ты, больше жизни, чем в трудах Гитлера. Лежит такой пейзаж, как нарумяненный труп на столе: руки-ноги-голова на месте, но за живого сойдет разве что издали. Портреты его кисти и того хуже: стоит лишь заглянуть в их пустые глаза, чтобы понять – рисовал ходячий мертвец, который никогда, сколь бы ни тужился, не поймет, что такое жизнь и в чем ее ценность, но всегда будет завидовать живущим. В этих так называемых картинах сквозит все, что будет потом. Книги, летящие в огонь. Толпы восторженных идиотов, ревущих «Хайль!». Газовые камеры. Печи, которые топят людьми. Мыло из человеческого жира, абажуры из кожи, матрасы с женским волосом вместо конского… Культ смерти, которую таким, как Гитлер, гораздо легче понять. А в твоих работах я вижу жизнь во всей ее красоте. Твои друзья и твой город живут в этих рисунках, и если ты, проклятый щенок, хочешь их сжечь, так я лучше вот этими руками задушу тебя! Он шагнул к Джуну, подняв руку, и мальчик отпрянул. – Рисунки лгут! – крикнул он яростно. – В жизни нет никакой красоты! Дункан усмехнулся: – Не знаю, спасет ли красота мир, но как минимум ваш Киото она спасла. Министр Стимсон был так этим городом очарован, что дошел до самого Трумэна и отговорил его, а убедить в чем-то этого старого осла ох как непросто. Вдумайся: будь твой город столь же прекрасен, возможно, он бы уцелел. Не будь столь хорош Киото, он сейчас бы лежал в руинах… – В таком случае, – сказал Джун, – я красоту ненавижу. – Так рисуй уродство, черт бы тебя побрал! Кто ты такой, чтобы судить о жизни? Что ты в ней видел? – Я видел американцев, и этого достаточно. – Это же многие народы могут сказать и о вас, японцах. Но не будем об этом… Знаешь, что мне помогло не свихнуться на этой проклятой войне? Дисней. Ты смотрел Диснея? Джуну оставалось лишь помотать головой. – И они еще нас называют варварами, – усмехнулся Дункан. – Дисней напоминал нам в этом аду, что в жизни осталось место для красоты, а значит, за нее стоит бороться. Помню, сбили наш самолет в джунглях, мы с ребятами по пояс в воде прорываемся к своим вдоль ручья, деревья полыхают, над головами пули визжат… Только шел рядом с тобой товарищ, с которым вчера анекдоты травили, а через секунду – бац! – валится в воду с простреленной башкой. А я вспомнил, как Бэмби спасался от охотников, и говорю себе: хрен вам, охотнички узкоглазые, я доживу до весны! Дожил, как видишь… Ночами я прокручивал в голове «Веселые симфонии» и представлял иногда, что меня оберегает фея с голубыми волосами, которая не даст мне сдохнуть, если я буду хорошим мальчиком. Белоснежка ждала меня дома, как верная невеста… Но был один фильм… один удивительный фильм… Я поклялся выжить, чтобы только снова увидеть его. И я хочу, чтобы сегодня ты посмотрел его вместе со мной. За этим я и пришел. Мы с тобой идем в кино, прямо сейчас. – Не хочу, – сказал Джун, на всякий случай попятившись. Ему стало не по себе. Вспомнились нехорошие истории, ходившие среди мальчишек: будто есть такие мужчины, что всегда готовы тебя накормить, угостить сигаретой или вот так же сводить в кино, но в уплату требуют жуткие вещи. Стыдные. Грязные. Как будто ты пан-пан. Ну как и лейтенант из этих? – Ты не представляешь, от чего отказываешься. – И не хочу представлять. Я хочу только, чтобы вы оставили нас в покое. – Я не жду, что мы станем с тобой друзьями, – произнес Дункан. – То, что я сделал вам, смывается только кровью, а это мы с тобой уже проходили. Но все-таки я спас твою жизнь после того, как ты поставил под удар мою. Ты у меня в долгу, и все, чего я от тебя хочу, это чтобы ты пару часов посидел со мной в долбаном кинотеатре. – Я тоже спас вашу жизнь. Мы в расчете. Лейтенант хмыкнул: – Ты имеешь дело с прирожденным делягой, сынок, а это значит, что я всегда найду предложение, от которого даже такой маленький бука не сможет отказаться. Ты посмотришь со мною фильм, если я пообещаю никогда, никогда больше не появляться у вас на пороге? – Напрасно я не отрубил вам голову. – Тогда бы моя голова каждое утро прикатывалась к вам на порог, чтобы цапнуть тебя за ногу. От меня так просто не отделаешься. Джун задумался. Может, рискнуть? Те жуткие мужчины, если верить рассказчикам, всегда до тошноты ласковы и обходительны (чего о лейтенанте точно не скажешь), да к тому же трусливы, как крысы (и это тоже не про него, чего уж там). Да и мысль о том, чтобы никогда больше не видеть этого человека и не слышать гнусного «бэби-сан», обращенного к маме, была слишком заманчива… – Вы обещаете, что больше никогда не придете? – Это будет нелегко, приятель. Ох, нелегко. Верь не верь, а только я успел уже прикипеть к вашей семейке. Стоял за дверью, слушал, как вы читаете, и… А, не важно. Уговор дороже денег. – Лейтенант грустно улыбнулся и поднял руку. – Слово офицера. – Но как же мама? Они с Юми вернутся, а нас нет… Дункан достал из портфеля тетрадь в кожаной обложке и карандаш. Выдернул листок. – Оставь записку. Надеюсь, писать ты не разучился?Кинотеатр «Суйсэн», ставший теперь офицерским клубом, достойно перенес атомную бомбардировку – лишь каменные стены почернели от копоти да пришлось заменить выбитые окна. Сейчас там крутили только американские фильмы для солдат и офицеров, но чиновники префектуры, помогающие оккупационной администрации, тоже имели право посещать сеансы. Правда, такая честь была довольно сомнительной, поскольку подгулявшие янки любили приводить своих бэби-сан и демонстративно обжиматься с ними, дабы лишний раз подчеркнуть, кто здесь победители; однако искушение прикоснуться к богатой чужеземной культуре, много лет находившейся под запретом, оказалось сильнее уязвленной гордости, и чиновники приходили снова и снова. Джун в последний раз ходил в «Суйсэн» с отцом – на очень длинный мультфильм под названием «Божественные моряки Момотаро». Папа, не знавший, что жить ему осталось всего пару месяцев, хохотал до слез, когда Момотаро и его друзья-зверушки задавали жару трусливым британцам, а когда в конце маленькие обезьянки играли в десантников, прыгая на нарисованный мелом американский континент, он в восторге молотил кулаками по подлокотникам. Что бы он сказал, узнав, что его сын вернется сюда с врагом, янки, человеком, который творил всякие гнусности с мамой? «Я делаю это только ради тебя, папа, – сказал Джун про себя. – Чтобы он больше никогда не приблизился к маме. Если только слово американского офицера чего-нибудь стоит…» Смеркалось, и отсветы уличных фонарей жидким золотом мерцали на мокром асфальте. Несколько парочек околачивались у крыльца: девушки, по виду старшие школьницы, что-то щебетали своим кавалерам на таком ломаном английском, что те вряд ли хоть слово могли разобрать, но все равно смеялись, сверкая белыми зубами. Джун подумал, что американцев отбирают в армию, как лошадей, – в первую очередь глядя в зубы. Дункан втолкнул его в тесный проулок за кинотеатром (тот самый, в котором Рин Аоки в последний раз отрабатывала свои йены, о чем Джун, конечно же, знать не мог) и забарабанил кулаком в дверь черного хода. Несколько минут спустя послышалось страдальческое оханье, и дверь с лязгом отворилась, явив обоим круглую, красную и весьма недовольную физиономию. Торчащие над ушами клочья седых волос и круглые, подслеповато моргающие глаза придавали ей сходство с разбуженным старым филином. – Ernie! – радостно возопил Дункан. – What’s up, you old sot [69]? – Uh-oh, Danny, – сердито заухал-заскрипел филин, – glad to see you’re okay, but why break down the door [70]? – It’s urgent [71]. Дункан с портфелем наперевес протиснулся мимо старика, на волосок разминувшись с его внушительным пузом, и втащил за собой Джуна. В полумраке мальчик разглядел коридорчик с бежевыми стенами и узкую лесенку, ведущую, очевидно, в будку киномеханика. Эрни зачем-то выглянул в проулок, прежде чем затворить дверь и повернуться к гостям. На нем были мятые серые брюки с красными подтяжками и рубашка в полоску, которую под мышками украшали внушительные пятна пота. Ничего удивительного – духота в коридорчике стояла страшная. – Well, Ernie, – Дункан вытер рукавом взмокший лоб, – what’s on the program today [72]? – Uh… Something Chaplin. «Modern times», I think. – Эрни повертел толстым пальцем в пунцовом ухе, словно пытаясь прочистить голову. – Yes, like this [73]. – Wouldn’t it be better to put «Fantasia» in place of poor old Charlie? – спросил лейтенант вкрадчиво. – You know, guys don’t care what you’re show there, they just want to cuddle gals[74]. Старик задумался на мгновение, потом вздохнул: – No, not better. Poor old Charlie lasts for less than an hour and a half, and your «Fantasia» is more than two. That’s six damn reels… By the way, what kind of boy did you bring with you?[75] – Illegitimate son, – сказал Дункан без тени улыбки. – The kid really wants to watch this cartoon[76]. – Well, our boys want to look at Paulette Godard’s legs when she puts on roller skates, – развел руками Эрни. – Sorry, Danny[77]. Лейтенант задумчиво помял подбородок, потом просиял. – Look, Ernie, how about three bottles of «Gordons»[78]? – Six. – Эрни зачем-то оттянул большими пальцами подтяжки и отпустил со звонким щелчком. – One for each damn reel[79]. – Ernie, have mercy on your poor old liver. Three is enough for you[80]. – Six, – скрипнул старик. – Ernie, for God’s sake! Maybe at least four[81]? – Nay, nay, nay, – замотал головой Эрни. – Mrs. McDonnell didn’t grow suckers. Six![82] – Five?[83] Джун зевнул. Он сомлел от духоты, ни словечка не понимал, а от Эрни разило перегаром даже сильнее, чем от Дункана. И еще табаком. Мужчины продолжали препираться. По-види- мому, оба находили в этом огромное удовольствие. – Five and another bottle on fresh the nip! – наконец заявил Эрни. – And only out of sympathy for your nice little boy, young man[84]… – Он протянул руку и взъерошил Джуну волосы. Тот отпрянул. Дункан скорбно взглянул на мальчика: – Как тебе нравится этот старый пердун? Шесть бутылок джина! А сам после трех лыка уже не вяжет. – What did you just say to the boy? – прищурился старик. – Something nasty about old Ernie McDonnell? After all, I’d better put poor old Charlie on. The guys are waiting[85]. – No way! – притворно возмутился Дункан. – I told him that Ernie McDonnell is a greatest old fart in the world[86]! – Oh, Danny, Danny! I was hoping that at least a blow to the pate would straighten your twisted brains[87]… – All right, Ernie! – перебил Дункан. – Six is six, but if you mess up the reels again, I swear I’ll tie you to your chair and drink them in front of you one by one. Okay[88]? – You unhuman fiend, Danny! – возопил старик. – Besides, did I ever let myself do that[89]? – Just every fucking night[90]? Смеясь, они пожали друг другу руки. Дункан открыл портфель и одну за другой извлек шесть бутылок джина, ни больше ни меньше. Сразу видно, заранее подготовился. Старик посмотрел одну на просвет, удовлетворенно крякнул и показал Дункану странную фигуру из пальцев: большой и указательный сложены колечком, остальные оттопырены: – Thank you very much[91]! – Don’t forget the reels, Ernie! We rely on you[92]. – My Gosh, Danny[93]! Старик открыл дверь и выпроводил гостей обратно в проулок. Джун вдохнул полной грудью: после душной берлоги Эрни напоенный дождем воздух был хорош как никогда. – Между прочим, это та самая копия, которую ваши вояки в начале войны забрали с нашего грузового судна и отправили в Токио, – сообщил Дункан по дороге к главному входу. – Мы нашли ее в архивах вашей студии «Тохо», и с тех пор эта пленка кочует по всей Японии. Скоро ее пошлют в Фукуоку, а потом обратно в Штаты. Мы, янки, всегда возвращаем свое. Впрочем, – добавил он, вприпрыжку взлетев на крыльцо, – у «Фантазии» нет и не может быть одного хозяина. Сегодня она будет твоей. Тебе нравятся динозавры? Джун немного знал о динозаврах из учебников. Это такие вымершие чудища, вроде драконов. Внутри поневоле встрепенулось давно забытое предвкушение чуда, какое он всякий раз испытывал, входя в кинотеатр. Зал, наполовину полный, гудел, как пчелиный улей. Большинство кресел занимали американские офицеры из младшего состава, многие в обнимку с японочками. В общий гомон то и дело вклинивались девичьи взвизги, когда кто-нибудь из ухажеров давал излишнюю волю рукам. Несколько чиновников-японцев с застывшими улыбками вперились в белый экран, не желая видеть, что творят бака-гайдзины. – Я с детства бредил динозаврами, – говорил Дункан, прокладывая путь между кресел. Он будто сбросил пару десятков лет, превратившись в мальчишку, который пытается заразить своим увлечением школьного приятеля. – Ты когда-нибудь видел рисунки Чарльза Найта? А «Затерянный мир» О’Брайена? «Кинг-Конга»? Бронтозавриху Герти? «Миллион лет до нашей эры» – piece of crap! Нацепили на аллигаторов гребни, на свинью рога, обвешали слона медвежьими шкурами, а поди ж ты, чуть ли не «Оскар» за спецэффекты! Кто-нибудь должен переснять этот фильм. Нет, «Фантазия», конечно, целиком прекрасна, но эпизод с динозаврами! Это магия, понимаешь, настоящее волшебство… – Hey, Dan, – прервал его излияния офицер в соседнем ряду, обнимавший за плечи пухленькую школьницу, – what a ugly girl you have[94]? – It’s a boy, – с ухмылкой ответил Дункан. – And if you, Stevie, have any thoughts on this, do not hesitate to tell me[95]. Американцы взорвались хохотом. Джун, не понимавший причины их бурного веселья, ощутил себя ягненком в окружении волков. Они с лейтенантом заняли места в пятом ряду. Лейтенант, к великому ужасу Джуна, сразу водрузил ноги в нечищеных ботинках на спинку кресла впереди. Сидевший в нем офицер о чем-то шептался со своей спутницей и ничего не замечал. Похудевший портфель Дункан пристроил на сиденье рядом. Джун вжался в кресло, мечтая просочиться в обивку. Наконец огни начали меркнуть. Прежде чем свет погас окончательно, Джун бросил взгляд на своего неприятного спутника. Глаза Дункана сияли предвкушением, на губах играла улыбка.

– …Вот так за пару сапог полегли остатки нашего славного взвода! Костерок, разведенный на пятачке у одинокой стены, тихо потрескивал, бросая тени на изможденное заросшее лицо бродяги. Он стянул сапог, звучно поскреб усеянную струпьями стопу в разводах грязи и заискивающе спросил: – Вы действительно убьете меня теперь, господин? Человек, сидевший напротив, молча кивнул и поднялся на ноги, слегка покачиваясь. Его голову перехватывала повязка-хатимаки в желтых и бурых пятнах, алый круг восходящего солнца циклопьим глазом горел во лбу. – Ах, господин, – бродяга хлопнул себя по узловатым коленям, торчащим из драных брюк, – какое счастье, что я на вас набрел! – Он так низко поклонился, что язычки пламени чуть не лизнули всклокоченную бороду. – Вы один согласились даровать мне избавление! Вы добрый дух, не иначе! – Нет, – промолвил его собеседник, – я демон. Меч сверкнул в свете костра и рассек шею безумца. Клочья срезанной бороды разлетелись черным пухом. Голова запрокинулась на шматке плоти, косматым затылком ткнувшись между лопаток. Из рассеченной трахеи вырвался клокочущий свист, пузыристая кровь взметнулась фонтаном и дождем пролилась в огонь, зашипев на раскаленных угольях. Бродяга повалился в костер, притушив его своим телом, – голова так и покоилась у него на спине, устремив помутневший взор в небеса, счастливая улыбка залипла в залитой кровью бороде. Глядя на убитого, Атомный Демон нахмурился. Еще недавно он бы с одного замаха снес голову начисто, но удар по черепу не прошел даром. Собственное тело плохо слушалось его, голова трещала, в левом глазу постоянно мельтешили какие-то белесые инфузории – должно быть, отслоилась сетчатка. Ему казалось, что, если он снимет повязку, голова раскроется, как цветок, и мозги шмякнутся наземь. Но боль, день и ночь стучащая в стенки его бедного разбитого черепа, словно обезумевший узник, не могла сравниться с болью в сердце – нестерпимой, раздирающей, какую может причинить лишь предательство. Стыд постоянно жег его изнутри. Из-за его гордыни и глупости, из-за преступной, детской доверчивости погибли двое славных, верных ребят, а священная миссия оказалась под угрозой. Он покончил бы с позором, вспоров себе живот и вывалив кишки на кафельный пол убежища, но оставалось незавершенное дело, а отец учил его все доводить до конца. Атомный Демон достал из кармана платок и хорошенько протер лезвие, прежде чем вогнать его с лязгом в ножны. Хороший боец всегда следит за чистотой своего клинка и своих помыслов. Постоял немного, глядя на мертвеца. Запах обожженной немытой плоти и ставшая уже привычной дурнота не могли омрачить легкого удовлетворения. Искалеченный или нет, он все-таки совершил благое дело, освободив очередную слабую, сгнившую душу, а значит, карма будет благоволить ему. Еще повоюем! Он отошел от убитого, став едва различимой тенью в сумерках. Подволакивая ногу, тень обогнула стену и приблизилась к двум другим теням, застывшим на опаленном кирпиче. Поочередно дотронулась до каждой холодными пальцами. Стиснула зубы, загоняя вглубь рвущиеся рыдания. Тени на стене дрожали, размытые слезами, и казалось, что большая вот-вот коснется головы маленькой, вот еще чуть-чуть, совсем-совсем немножко… – У меня больше никого не осталось, – сказал Атомный Демон. – Я один на свете. Тень-мама и тень-сестренка, разумеется, хранили молчание. Но ночной ветерок всколыхнул траву, и в ее шелесте слышался ласковый шепот: «Мы ждем… мы ждем…» – Еще не время! Я еще не закончил! Атомный Демон вытер слезы рукой с мечом и спрятал его за полу гакурана. Подхватил увесистую канистру, стоявшую у стены, встряхнул хорошенько. Содержимое канистры отозвалось звучным плеском. Он улыбнулся.12. Отблеск тысячи солнц
«Фантазия» оказалась куда длиннее «Момотаро» – два часа с небольшим; перед каждым эпизодом на экране появлялся оркестр, и лысеющий господин в очках рассказывал по-английски о том, что зрителям предстоит увидеть. Но для Джуна эти два часа пролетели стремительно. Дункан объяснил, что господин в очках – это Димс Тейлор, известный в Америке композитор и музыкальный критик, а величавый дирижер с копной седых кудрей – маэстро Леопольд Стоковский. Склонившись к уху мальчика, лейтенант шепотом переводил все, что говорил Тейлор, однако музыка и рожденные ею картины не нуждались в переводе: русские, немецкие, итальянские и французские композиторы говорили со слушателем на одном языке. «Момотаро» был черно-белым; «Фантазия» с первых секунд захлестнула Джуна калейдоскопом ярких цветов и мерцающих фигур. Музыка гремела морским прибоем и струилась солнечным светом; мелькала золотыми головастиками, гудела толстыми малиновыми струнами и золотом подмигивала в алых реках; невесомо парила среди розовеющих облаков; ревела лилово-красными волнами, возносилась позолоченными вершинами и проливалась метеоритным дождем… и над всем парила величавая фигура господина Стоковского с дирижерской палочкой в руке. Увы, янки в зале оказались ко всему глухи: ропот, шепотки, смешки, покашливание и негодующие взвизги девиц заглушали громовой голос Баха. Сидевший впереди офицер, сложив ладони рупором, крикнул: – It`s all bullshit! Where’s Mickey Mouse[96]? Остальные поддержали его смехом и свистом. Японцы чинно сидели, глядя в экран, лишь напряженные спины выдавали негодование. Музыка из «Щелкунчика» Чайковского перенесла зрителей в мир серебряных паутинок и мерцающих огоньков. Крохотные разноцветные девочки порхали в ночи, трепеща стрекозиными крылышками; лепестки цветов погружались в воду и кружились, словно балерины; цветки чертополоха, будто казаки, отплясывали русский гопак, грибочки в красных шляпках танцевали китайский танец – самый маленький, очень похожий на Юми, постоянно выбивался из круга и смешно подпрыгивал на коротеньких толстых ножках. («Мы воевали с Китаем, – невпопад подумал Джун, – как глупо…») В синей речной глубине кружились золотые рыбки с томными глазами и пухлыми губками, окутываясь вуалями плавников. Пришла туманная осень, и, кружась, поплыли под музыку красные, желтые, оранжевые листья. Некоторые из них отчаянно цеплялись за ветки, но ледяной безжалостный ветер срывал их, унося в последний полет, и музыка стонала в жалобном бессильном протесте. Глядя, как они борются за жизнь, притихли даже неугомонные янки, а одна из бэби-сан вдруг начала всхлипывать. Кто-то из японцев заворчал, зашикал, будто рассерженный кот. Офицер, с которым пришла девушка, гладил ее по голове, ласково шепча на ушко. – П-простите! – пролепетала девушка, давясь слезами. – Это… это так прекрасно! Джун почувствовал, как у него самого комок поднялся в горле. Стало трудно дышать, глаза защипало. А тем временем на экране серебряные духи зимы украшали ветки хрустким колючим инеем и белым узором разрисовывали скованную морозцем воду. Закружились в танце снежинки, их становилось все больше и больше, и вскоре уснувшая земля окуталась мягким белым саваном. Вот, наконец, появился и Микки-Маус! Он без конца таскал тяжелые ведра с водой для своего учителя – чародея с жуткими змеиными глазами и длинной седой бородой. Но как только грозный сэнсэй отправился спать, хитрый мышонок надел его волшебный колпак и прочел заклинание. Старая метла, стоявшая в углу, зашевелилась, отрастила пару крепких рук и короткие мохнатые ножки. Микки тут же всучил этому странному созданию ведра, показал, что нужно делать, а сам бухнулся в кресло и не заметил, как уснул. Во сне он повелевал штормами и зажигал в небесах звезды, а проснулся от того, что его захлестывали потоки воды. Тщетно пытался Микки остановить ожившую метлу – безмозглый ёкай как ни в чем не бывало продолжал таскать воду, а как его остановить, мышонок не знал! В отчаянии он схватил топор. Хрясь! Тресь! Лишь кучка щепок осталась от метлы. Но не успел горе-волшебник перевести дух, как каждая из них – о ужас! – превратилась в новую метлу, и у каждой было по паре рук, и в каждой руке по ведру. Безликая деревянная армия маршем спустилась по лестнице. Дверь распахнулась под их натиском, отшвырнув беспомощного Микки. Он пытался ведром вычерпывать воду и выплескивать за окно, но на каждое вылитое ведро метлы наливали сотни. Вода поднялась уже почти до потолка, и мышонок, как за плот, цепляясь за магическую книгу, лихорадочно листал размокшие страницы, пытаясь найти нужное заклинание. Американцы хохотали как оглашенные – бессердечный народ! К счастью, на шум явился проснувшийся чародей и в несколько пассов руками разделался и с метлами, и с учиненным ими потопом. Микки, растянув рот до ушей в подобострастной улыбке, вручил разгневанному сэнсэю колпак и метлу, а сам взялся за ведра… Не помогло – этой же метлой он тотчас получил под зад и вместе с ведрами пулей вылетел из лаборатории чародея. И хотя в том, чтобы вот так осрамиться перед учителем, нет ничего смешного, Джун обнаружил, что улыбается так же широко, как Микки. – Микки-Маус, – грустно усмехнулся Дункан, глядя, как мышонок, что-то весело вереща, жмет руку господину Стоковскому. – Лучший символ для человечества. Кто бы дал нам метлой по жопе! – Что? – громко спросил Джун, пытаясь перекричать хохот в зале. – Так, мысли вслух, – отмахнулся лейтенант. – Подожди… Сейчас ты увидишь! Господин Тейлор объявил очередной эпизод – «Весну священную» господина Стравинского. Склонившись к уху Джуна, лейтенант снова начал переводить. Джун морщился: от запаха виски слезились глаза. Речь шла о незапамятных временах, когда мир был молод и жизнь в нем только зарождалась, о динозаврах, бывших царях планеты, бесславно канувших в вечность, о волшебном процессе эволюции. – Наука, а не искусство создавали сценарий этого эпизода! – в один голос провозгласили Тейлор и лейтенант. Джун поудобнее устроился в кресле. Под причудливые, нервно скачущие трели на экране возникло бездонное космическое пространство. Музыка плыла сквозь спиральные вихри галактик, сквозь жемчужные россыпи звезд, сквозь яростные вспышки протуберанцев. Земля ворвалась в кадр докрасна раскаленным ядром. Под бой барабанов она содрогалась в агонии, извергая сквозь жерла вулканов фонтаны жидкого пламени. Земная кора лопалась, выплескивая реки огненной крови, и скалы, сметенные ими, сползали и рушились в воду. Раскаленный, бурлящий, клокочущий ад – как мог он породить что-то живое? И все же корчи планеты понемногу стихали, музыка успокаивалась, превращаясь в колыбельную зарождающейся жизни. И публика тоже стихла. Все стихло, кроме музыки. Дрожащий луч проектора выхватывал из темноты лица зрителей – приоткрытые рты, блестящие глаза, – и, омытые его сиянием, они вдруг стали неразличимы. Не стало ни японцев, ни американцев, ни побежденных, ни победителей: только люди, сплоченные детским, незапятнанным изумлением, будто волшебный этот свет смыл все наносное, чужеродное. Рассекая тьму, луч извлекал из белого полотна дивные образы. На глазах у жителей двадцатого столетия в теплой глубине океана из крохотных слизистых комочков зарождалась жизнь. Хрупкая, беззащитная, она стремительно крепла, набирала силу, отращивала жгутики и расцветала сотнями разных форм. Вот закачались в толще воды прозрачные купола медуз; вот распустили щупальца спруты в лихо закрученных раковинах; вот панцирная рыба, нелепое создание с попугаячьей головой, избежав чьей-то хищной пасти, на смешных плавниках-культяпках настойчиво карабкается на сушу… – Миллионы лет борьбы за существование! – пробормотал Дункан. – Миллионы лет безостановочного развития и совершенствования… Ради чего? Но этих его мыслей вслух Джун не услышал. Разинув рот и вытаращив глаза, он смотрел, как из парной воды величаво поднялись лебяжьи шеи морских драконов («Плезиозавры», – шепнул в темноте лейтенант, и мальчик повторил про себя это слово); одни плавали, рассекая воду четырьмя мощными ластами, другие выползали на песок и нежились у подножия огромной скалы, что подобно Замку Карпов возносилась в огненное небо. На вершине ее гнездились демоны, похожие на птиц и летучих мышей одновременно, их затылки были украшены кривыми костяными ножами. Распахнув кожистые крылья, демоны то кругами парили в небе, то стрелой устремлялись вниз, чтобы выхватывать из моря трепещущих рыб, – но не всем было суждено снова взмыть в небеса; Джун вскрикнул, когда морской ящер, похожий на крокодила с плавниками и шипастым гребнем вдоль спины, вдруг вынырнул из воды, цапнул острыми зубами зазевавшегося летуна за тощую шею и утащил в глубину.
В туманном дыхании лесов, слезящихся влагой, средь озер и болот благоденствовали ящеры всех форм и размеров. Длинношеие исполины, стоя по брюхо в воде, уминали сочную зелень и благодушно взирали на мир маленькими сонными глазками; двуногие смешные чудища с утиными клювами и парусами на затылке приглядывали за гнездами, полными огромных яиц; верткие малыши-ящерики сновали у них под ногами. Ящеры с высокими гребнями на спине, ящеры с тремя рогами, двуногие, четвероногие, ящеры, ящеры, ящеры, рай драконов, безмятежно-прекрасный сон! И этот сон неожиданно стал кошмаром. С первыми каплями дождя динозавры, все как один, в тревоге вскинули головы. Снова угрожающе грянули барабаны, задрожала земля под громовой поступью, и в блеске молний явился демон с кровавыми очами, огромной пастью, полной зубов-ножей, и трехпалыми ручонками, которые так не вязались с его чудовищным обликом, что делали его еще ужаснее. Тираннозавр Рекс, самый кошмарный убийца из всех, кого носила земля, как назвал его господин Тейлор. Динозавры, большие и малые, бросились врассыпную, спасаясь от страшной пасти. Но один, диковинное создание с клювастой головкой, костяными лепестками на горбатой спине и шипастым хвостом, замешкался, и чудовище настигло его! Тщетно несчастный ящер рассекал дождевые струи взмахами хвоста, пытаясь поразить шипами противника, – тираннозавр, улучив момент, схватил его за шею и перекусил ее. Остальные динозавры, сгрудившись вместе, с тоской и ужасом наблюдали эту картину, а потом развернулись и побрели восвояси, чтобы не видеть, как чудовище пожирает их собрата… Вновь засияло солнце, но мир динозавров уже не был прежним. Что-то случилось, быть может, большой космический «пикадон», превративший райские кущи в адские пустоши. Динозавры, давясь песком, пытались высосать из пересохшей земли последние капли влаги и глодали голые ветки почерневших мертвых деревьев. Внезапно один из японских чиновников, тыча дрожащим пальцем в экран, выкрикнул: – Это же мы! Смотрите! Это наша бедная Хиросима! Стоны и плач покатились волной по рядам. Рыдали солидные чиновники, рыдали беспутные бэби-сан, кричали в ярости и горе, потрясая кулаками. – А, ч-черт! – прошипел Дункан. – Об этом я не подумал. Не вышло бы заварухи… Джун не слушал его – он кричал и плакал вместе со всеми, и грозил кулаком сам не зная кому. И хотя гневный хор заглушал музыку, американцы в зале не посмели его осадить. А на экране гиганты увязали ногами в зыбучем песке, из последних сил отбиваясь от хищников, и брели в слепом отчаянии сквозь раскаленное марево, страдая от жажды, как спустя миллионы лет будут брести жители Хиросимы; и, теряя силы, валились наземь. Хищники и травоядные, бывшие убийцы и бывшие жертвы, шли рядом, вывалив языки; вот, закатив глаза, рухнул грозный тираннозавр, а остальные продолжили свой обреченный путь в никуда. Джун глотал слезы, охрипнув от крика. Лицо лейтенанта было скорбно-торжественным, а когда последние неуклюжие фигуры растворились в песчаной мгле, провожаемые рыданиями, он вдруг поднял руку и отдал честь. Налетевшая буря заносила песком кости бывших владык Земли. Скалы дрожали и осыпались каменным крошевом. Море вырвалось из берегов и с ликующим ревом устремилось в долины, снося все на своем пути. Раскаленное солнце поднялось уже над опустевшей мертвой планетой… В зале повисла оглушающая тишина, нарушаемая редкими всхлипами. Потом офицер, сидевший перед Джуном и Дунканом, пробормотал себе под нос: – Oh men. Nuts Japs[97]! Девушка, сидевшая рядом с ним, до сих пор всхлипывала и не слышала его. Но услышал Дункан. Схватив офицера за волосы, он запрокинул его голову назад. Офицер изумленно разинул рот, точно хулиган, застигнутый врасплох разгневанным полицейским. – Shut. Up, – процедил Дункан ему на ухо, и до конца сеанса бедолага больше не раскрывал рта. После небольшого антракта, в котором Тейлор рассказывал о форме различных звуков, жизнь вновь закипела на экране, а в зале вновь воцарился мир. В конце концов, следующим номером шла «Пастораль» Бетховена. На горе Олимп резвились юные сатиры, кентавры и кентаврицы всех цветов радуги, в небе кружились пегасы с жеребятами и амурчиками, и рекою лилось вино на пиру добродушного толстяка Бахуса, очень похожего на киномеханика Эрни и совсем немножко – на папу Джуна. Даже Зевс, обрушивший на всю честную компанию бурю с громом и молниями, не гневался, а просто шалил, словно огромный бородатый мальчишка. Вот громовержец, утомившись от проказ, завалился на боковую, укутавшись, как в перину, в черные тучи; по небу разноцветным мостом раскинулась радуга, и все живое снова высыпало из укрытий. Солнце укатилось за горизонт в золотой колеснице, усталые гуляки разошлись по домам, и когда бог сна Морфей укрыл темнотой землю, Диана-охотница пустила серебряную стрелу, которая рассыпалась по небу мириадами сияющих звезд… На «Танце часов» Понкьелли все и вовсе хохотали – как не засмеяться, когда страусихи, слонихи и бегемотицы танцуют балет! С уморительным самодовольством они выделывали самые сложные пируэты, а впрочем, у них здорово получалось! С наступлением ночи появились верткие зеленые аллигаторы в красных плащах, потирая когтистые лапы и хищно облизываясь. Их вожак вовсю ухлестывал за кокеткой-бегемотихой, остальные гонялись за слонами и страусихами, и в конце концов поднялась такая кутерьма, что двери в балетном зале сорвались с петель! Но совсем иные танцы были в ходу в ночь на Лысой горе. Там музыка свистела и выла холодным ветром и кружились в дикой пляске ведьмы и демоны, извиваясь в языках адского пламени. Призрачные всадники неслись в небесах; метались гарпии, в бессмысленной злобе тараща глаза и скаля клыкастые рты. Сквозь петли виселиц, сквозь лабиринты домов, над покосившимися крышами и старыми кладбищами плыли изможденные привидения, и там, где они пролетали, могилы изрыгали своих мертвецов. И над этим безумным ликующим шабашем, над беспомощным спящим миром торжествующе раскинула крылья страшная черная фигура с треугольными огнями глаз – Чернобог, повелитель Тьмы. Но как только зазвонил колокол, предвещая рассвет, порождения ночи сгинули все до единого, и напрасно грозил Чернобог кулаками небу! С последним ударом колокола он облекся крыльями и превратился в камень, слившись с горной вершиной. Под тихий хор «Аве Мария» поплыли фигуры со свечами в руках. Через холмы и долины, сквозь лесную чащу пробирались они навстречу рассвету, и деревья наконец расступились перед ними, открывая зеленый простор, где холмы дремали в предрассветной дымке. Солнце поднялось над вершинами, и золотое сияние разогнало тьму, пробуждая мир от затянувшегося дурного сна…
Зажегся свет, а Джун так и сидел, пораженный, раздавленный красотой и величием увиденного. Присмиревшие янки со своими бэби-сан пробирались к выходу, за ними, украдкой вытирая глаза, семенили чиновники. Вот уже никого, кроме Джуна с лейтенантом, не осталось в зале, а он все глядел на белое полотно экрана, будто ждал, что оно оживет снова и подарит ему еще несколько чудесных видений. И когда они с Дунканом наконец вышли на улицу, притихшую и безлюдную, он схватил американца за руку и со слезами в голосе воскликнул: – Это… это было прекрасно! Это была… – Красота, – закончил лейтенант. Появился Эрни, пошатываясь и распространяя в свежем ночном воздухе алкогольные испарения. Лицо его разрумянилось пуще прежнего, глаза блестели. Прилаживая на дверь большой висячий замок, он затянул хрипло:
I’m dreaming… of a white… Christmas! Just like… the ones I used to know… Where the treetops… glisten! And children… listen! To hear sleigh bells in the snow…
– Hey, Ernie, aren’t you celebrating Christmas a little early[98]? – крикнул со смехом Дункан. Старик повернулся к ним и произнес, нацелив на лейтенанта палец: – With six bottles of «Gordons», Danny, Christmas comes whenever I wish! Good night to you and your little boy[99]. – Well done, Ernie, that you didn’t mix up the reels[100], – сказал лейтенант. Эрни шутовски взял под козырек, а потом подмигнул Джуну. Джун улыбнулся в ответ, подумав, что где-нибудь в Нью-Йорке, Бостоне или Коннектикуте родные ждут добродушного старика Эрни так же, как они с мамой и Юми ждали с работы папу. Ведь за океаном, теперь он в этом не сомневался, живут такие же точно люди. Он даже к лейтенанту больше не испытывал неприязни. Пусть живет на свете такой человек, Дэн Дункан, пускай даже будет счастлив. За океаном, от мамы подальше. Распрощавшись с Эрни, они побрели в сторону набережной. Джун ничего не видел вокруг, и Дункану пришлось удержать его за плечо, пропуская грохочущий трамвай. Перед глазами Джуна стояли динозавры, такие могучие и одновременно такие уязвимые, совсем как люди. Интересно, каким был бы мир, не погибни они в расцвете, мир, в котором добродушные гиганты и кровожадные чудовища так и бродили бы по земле, парили в небесах и покоряли океаны? Скорее всего, человеку не нашлось бы в нем места, но не нашлось бы места и многому другому, что несет с собой человек. Господин Тейлор говорил, что динозавры не блистали умом, но Джун решил, что люди вряд ли имеют право судить их. На разбитой лестнице, спускающейся к реке, мужчина и мальчик немного посидели, глядя на воду. Лейтенант курил, огонек сигареты мерцал во мраке. Наконец Дункан произнес: – Давным-давно преподавал в университете Филадельфии один профессор, и звали его Коуп, Эдвард Дринкер Коуп. Однажды он делал реконструкцию плезиозавра… Помнишь этих, с длинными шеями? – Конечно! Они такие красивые! – В представлении Коупа они были не столь красивы. Видишь ли, он перепутал шею с хвостом и натурально присобачил несчастной твари голову к заднице. – Лейтенант хохотнул. – Профессор Чарльз Отниел Марш из Йеля, моей, кстати, alma mater, указал Коупу на его ошибку. Просто взял черепушку и на глазах у всех поставил на положенное ей место, чего Коуп простить, конечно, никак не мог. Между двумя учеными разразилась Костяная война, длившаяся пятнадцать лет, в которой каждый стремился обскакать соперника по числу находок, не забывая попутно полоскать его имя в научной прессе. Ни один не мог признать, что был в чем-то неправ, понимаешь? Так в любой войне и бывает. – А кто победил? Дункан выдохнул струю дыма. – Никто. Старики спустили на борьбу все свои сбережения и умерли в нищете. Зато благодаря их соперничеству были открыты почти все существа, которых ты увидел в «Весне священной». Думаю, это единственная война, от которой человечество только выиграло, согласен? Джун кивнул, не понимая, к чему клонит американец. – Вот мы вроде победили, так? – продолжал Дункан. – Счастья полные штаны! Ходим этакими королями, трахаем завоеванных девок и, как черти, хлещем виски. Только на деле большинство из нас – как тот дурацкий плезиозавр. Привычный нам мир остался в прошлом, и хрен там поймешь, где у тебя теперь голова, а где хвост. Но однажды кто-то берет твою дурную черепушку и ставит на место… Понимаешь, о чем я? – Нет. – А, не бери в голову. Я вот что хочу сказать, Серизава Джун: спасибо тебе. Спасибо, что поставил мою черепушку на место. – И вам спасибо, – сказал Джун, вставая. – Вы были правы. Я ничего не видел в жизни прекраснее. А теперь мне пора. – Я провожу тебя до дома. На улицах небезопасно. – Не провожайте. Вы дали слово. – Но ведь темно. – Вы дали СЛОВО. Дункан со вздохом раздавил окурок о ступеньку. – Слово офицера… черт бы его подрал. Джун коротко поклонился и уже хотел спуститься к берегу, но Дункан тут же поймал его за руку: – Не так быстро. Ты что, думаешь, я просто так водил тебя в кино? Нет уж, дружок, удовольствие нужно отработать. У Джуна подкосились ноги. Он завертел головой, но не увидел никого, кто мог бы прийти на помощь. – Что вы хотите? – спросил он упавшим голосом, боясь услышать ответ. А услышав, чуть не задохнулся от ужаса. Так вот что было на уме у лейтенанта с самого начала… Каков негодяй! – Пустите! – завопил он, отчаянно вырывая руку. – Я не хочу! Не буду, слышите? – Врешь. Ты этого хочешь, по глазам вижу. – Вы меня не заставите! Пустите, я закричу! – Давай, кричи! – ухмыльнулся Дункан. – Зови полицию, если хочешь. «Господин полицейский, этот американец сводил меня в кино, а теперь требует, чтобы я нарисовал для него рисунок! Арестуйте его!» Не миновать мне тогда трибунала. – Не хочу! Пожалуйста, не заставляйте меня! Но он кривил душой и знал это. Он уже и сам чувствовал, как нарастает внутри почти забытое ощущение кипящей, рвущейся на волю энергии. «Фантазия» запустила, казалось бы, давно умершую в нем жажду творчества, как разряд тока запускает остановившееся сердце. Он вздохнул, признавая поражение, а Дункан тем временем достал из портфеля уже знакомые карандаш и тетрадку. – Нарисуй мне любую тварь из «Весны священной», – велел он. – И если я увижу халтуру, заставлю тебя ее съесть. Джун буквально выхватил карандаш с тетрадью из его рук и уселся на ступеньках, скрестив ноги. Внутри по-прежнему все кипело, но уже не от гнева: ему не терпелось поскорее воплотить на бумаге переполнявшие голову образы. Мама однажды в шутку сравнила это с родовыми схватками – когда во время вечернего купания Джун в порыве вдохновения выскочил из ванны и голышом помчался через весь дом делать наброски. Папа со смехом возразил маме, что так, скорее, бывает, когда живот прихватит… После этого Джун два дня с ним не разговаривал, однако со временем пришел к выводу, что оба сравнения не лишены смысла. Но еще никогда его рука не двигалась так стремительно, как теперь. Казалось, не он наносит линии на бумагу, а они изначально таились в ее обманчиво пустой белизне, ожидая, когда он откроет их касаниями грифеля, как окаменелые кости ждут в толще земли, пока их не откопают. Значит, плезиозавр, господинДункан? Извольте, вот вам плезиозавр, с телом-веретеном и длинной шеей, да зубов, зубов побольше. Ящер торпедой вырвался из воды, взметнув голову и распахнув пасть, будто хочет схватить с неба луну, и широкий его плавник вспарывает лунную рябь на темных волнах Оты… Он протянул тетрадь Дункану, и тот долго изучал скетч при свете луны. – Вам нравится? – спросил Джун, с удивлением отметив, что ему не все равно. – Голова во всяком случае на месте, – протянул лейтенант. – Хотя, уверен, ты сможешь гораздо лучше. Рисуй, чертов узкоглазый мальчишка! Этому миру как никогда нужна красота. Он забрал тетрадь с рисунком и растворился в ночи, и с тех пор Джун Серизава никогда больше не видел лейтенанта Дэна Дункана.
Он вприпрыжку спустился к реке. Выжженная земля Хиросимы пружинила под ногами. Как будто с глаз спала мутная, грязная пелена и мир вдруг открылся ему во всем великолепии красок и форм. В лунных бликах на водной глади, в грудах развороченного взрывом бетона, в обломках прежней жизни он видел красоту – скорбную, трагическую, но все-таки красоту; в голове на разные лады звучали мелодии из «Фантазии». У него щемило сердце при мысли, что эту чудесную картину скоро отправят обратно в Америку, и, может быть, он больше никогда ее не увидит. Но довольно и того, что она есть на свете! Он миновал купол Гэмбаку. Оголенные балки, омытые лунным светом, напоминали ребра динозавра, и Джун подумал, что, когда Хиросиму отстроят заново, купол нужно будет сохранить в таком виде. Останутся в прошлом смерть, голод, разруха и шоколад со вкусом прелой картошки, на месте развалин вырастут новые дома, и лишь Атомный купол будет стоять на страже мира, напоминая, что и самые могущественные создания могут кануть в вечность. А он… он завтра же купит новый набор карандашей и нарисует новую землю, Землю динозавров, с туманными лесами и раскаленными пустынями, с теплыми морями и топкими болотами, сумрачными ущельями и залитыми солнцем равнинами. Лейтенант говорил, что друзья Джуна живут в его рисунках; так отчего бы в них не ожить прежним владыкам Земли? Прикидывая, какого ящера нарисует первым (тираннозавра? или того, с шипами на хвосте? а может, рогатого?), он чуть не наткнулся на обгоревшее вишневое дерево. Кровь, пролитая под ним, давно ушла в землю, и ничто не напоминало, что именно здесь погибла добрая девушка Рин Аоки. Но что это? Черные ветви окутались бело-розовой дымкой, и нежное, едва ощутимое благоухание разливается в темноте! Не веря глазам, Джун протянул руку, и несколько лепестков опустилось ему на ладонь. Сакура расцвела! И… что там за звук, такой утробный, самодовольный, раскатистый? Неужели это лягушки рокочут на мелководье? Душа его сама распустилась сотней цветов. Не это ли ощущал папа, когда был навеселе: звенящий восторг от того, что тебя окружает жизнь, что ты – неотрывная часть ее? Энергия, что билась сейчас в худеньком теле Джуна, была мощнее, чем в любой атомной бомбе. Ему казалось, что он вот-вот взорвется, но не огненным вихрем, выжигающим все живое, а облаком бело-розовых лепестков, и разлетится по свету, неся весть о том, что в Хиросиме, разрушенной, мертвой, выжженной Хиросиме, в самом начале лета, когда уже и надежды никакой не осталось, вдруг зацвела сакура! Он даже испугался немного и, чтобы не взорваться, поскакал к мосту, размахивая руками над головой и оглашая ночь звонким криком:
Сакура, сакура!
Солнце светит в синеве!
То ли дымка на горе,
То ль клубятся облака!

Наконец, когда от его волос уже повалил пар, брус отвалился в сторону, и дверь распахнулась. Мама вывалилась в клубах дыма и рухнула Джуну на руки, заходясь кашлем, – грязная, всклокоченная, с дикими слезящимися глазами. Кимоно на спине курилось, узел оби тлел. Юми она прижимала к груди, сестренка прятала личико на ее плече. Они втроем повалились наземь. И едва успели отползти подальше, как крыша лачуги со скрипом и стоном провалилась, взметнув сноп искр. «Все-таки сгорели мои рисунки», – мелькнуло в голове Джуна. Они сидели на берегу, прильнув друг к дружке. Мама укачивала хнычущую Юми. Джун прижимался к ним, чувствуя живое тепло их тел и быстрое тук-тук-тук сердец. Отдышавшись немного, мама выпалила: – Тот мальчишка, где он?! Я выцарапаю ему глаза! – Это был Атомный Демон, мамочка, – сказал Джун. – Не беспокойся, его больше нет. Динозавр забрал его. – Кто? – Водяной динозавр. Такой, с длинной шеей. Плезиозавр, вот. Ему один профессор приставил голову к заднице, а другой поправил, и у них началась война… Она коснулась дрожащей рукой его окровавленного виска: – Этот подонок ударил тебя по голове! – Это не важно. Все равно динозавр его сожрал. – Да что ты заладил! Какой динозавр, какой профессор? Что еще за фанта… Ее взгляд остановился на откушенной руке, облепленной клочьями черного гакурана. Взвизгнув, мама снова схватила Юми в охапку. – Фантазия, – закончил Джун. – Не пугайся, мама, это просто… фантазия. Он встал, подошел к жалкому огрызку на земле. Осторожно ткнул ногой, будто дохлую змею, которая и после смерти может вцепиться, но расслабленные пальцы, конечно, даже не шелохнулись. На бледном запястье алела рваная рана, оставленная его, Джуна, зубами. Там, где поработали другие зубы (куда большего размера), в искромсанном мясе влажно поблескивала желтоватая головка кости. Он пинком отправил останки Тэцуо в реку. Рука, отнявшая столько жизней, звучно плюхнулась в воду и, крутясь, пошла ко дну в розовом облачке. Раз уже появились лягушки, значит, и рыбы есть, и за крабами дело не станет, так что скоро никто не отличит карающую десницу Атомного Демона от других костей, устилающих дно. Пятна крови Джун затер ногой, а сверху намел земли – не нужно соседям их видеть. Покончив с этим, он подобрал с песка предмет, который выплюнуло чудовище. Бережно обтер с железных боков противную липкую слизь и увидел знакомые темные подпалины. Крышка откинулась легко, словно только того и ждала. Карандаши лежали один к одному, в целости и сохранности. Привет, хозяин, мы скучали! Он любовно пробежался пальцами по их разноцветным граням, закрыл пенал и взглянул на реку. Огненные блики дрожали на волнах, последний отблеск тысячи солнц, чуть не ослепивших его шестого августа двадцатого года Сёва. А может, и не последний – смотря как понимать. Где-то там, в глубине, плыло, утолив свой голод, древнее чудовище. Оно возвращалось в призрачный мир, откуда пришло, – на Землю динозавров, которой только предстоит обрести очертания благодаря Серизаве Джуну, юному художнику из Хиросимы. – Спасибо, – сказал он и поклонился реке. – Ну вот, – грустно протянула Юми, – братик сошел с ума. Он прижал пенал к груди. Перевел взгляд на ошалелое мамино лицо, на чумазую рожицу сестренки, на развалины лачуги, догорающие у них за спиной, – и впервые со дня, когда взорвалась бомба, звонко, от души расхохотался. – Дракон, Юми, – произнес он с улыбкой. – Атомного Демона съел водяной дракон. Хочешь, я тебе его нарисую?
Ота струится.
Блещет в студеной воде
Огненный жар.
Благодарности
Всякая авторская книга – на самом деле результат стараний множества людей, и я считаю необходимым упомянуть их здесь. В первую очередь хочу поблагодарить Мишу Парфенова и Владислава Женевского – людей, стоявших у истоков «Темной волны», можно сказать, возродивших в России хоррор. Причем не только русский – серия «Мастера ужасов», положившая начало новой волне публикаций зарубежных авторов, получила зеленый свет на волне успеха «Самой Страшной Книги». Влада, к сожалению, уже нет с нами, но его я могу смело назвать человеком, давшим мне путевку в жизнь. Миша же сделал все, чтобы русский хоррор покорял всё новые вершины, никогда не останавливаясь на достигнутом. Также я хочу поблагодарить других своих товарищей по «Темной волне», чьи успехи заставили меня подумать: «Черт, я хочу к этим крутым ребятам!» Спасибо Ирине Епифановой, Евгении Адушевой и Александру Прокоповичу – лучшей команде редакторов, о какой только можно мечтать. Спасибо моим друзьям, родным и близким, которые верили в меня, а порой и жестко пинали в направлении цели. В особенности Максиму Черняеву – есть люди, знакомство с которыми делает вас лучше, и Макс определенно из их числа. Он не фанат ужастиков, но гуманистический посыл «Отблеска тысячи солнц» – целиком его заслуга. Отдельно хочу поблагодарить сайт «Лаборатория фантастики», на котором я, без шуток, провожу большую часть жизни. Все началось именно с него. Но особенно горячо я хочу поблагодарить тех, кто читает мои истории и ловит кайф. Доброе слово и кошке приятно, авторы же от добрых слов натурально тащатся. Если писатель утверждает, будто ему пофиг, что думают о его творчестве читатели, он либо свистит, как Троцкий, либо никому не сдавшийся бездарь… который свистит, как Троцкий. Стивен Кинг в своих книгах не устает благодарить Постоянного Читателя, и пусть одним из главных принципов ССК всегда была самобытность, это тот случай, когда стоит кое-что содрать и у Кинга. Спасибо, что вы есть, дорогие друзья!Елена Усачёва Всадники проклятого леса
© Усачёва Е. А., текст, 2023 © Макарцова В. В., рис. на обложке, 2023 © ООО «Издательство АСТ», 2023 Художник Влада Макарцова* * *
Всадники проклятого леса
Однажды купили родители в магазине черную пластинку. Принесли домой, положили на стол и стали собираться на работу. Мама девочке говорит: «Мы уходим, а ты ни в коем случае не слушай черную пластинку». Сказала и ушла. Девочка долго ходила вокруг стола, брала пластинку, вертела ее в руках. А потом не выдержала и поставила ее. Сначала долго раздавалось шипение, а потом зловещий шепот произнес: «Здравствуй, девочка. Я Смерть. Я пришла за тобой». И девочки не стало. А пластинка так до сих пор и играет, потому что некому выключить проигрыватель.
Глава I Трое из леса
Лес застыл, прислушиваясь. Испуганно ухнувшая птица подавилась собственным криком и глубже закопалась в ветви. Мороз крепчал. Заледенелые елки потемнели, ярче на них обозначился белый снег. Что-то должно было произойти… И что-то произошло… Издалека раздался мерный хруст приближающихся шагов. От этого звука вздрогнул воздух. Шевельнулись, оживая, елки, полетел на землю снег. Укатанная трудолюбивыми лыжниками тропинка оцепенела – так всегда бывает, когда кто-то ждет чьего-то появления. И они появились. Из-за поворота черной тенью вылетел конь, на нем темным горбом возвышался всадник, с его высоких угловатых плеч спадал плащ. Конь всхрапнул, шарахаясь от веток. На ровной дороге он прибавил ходу. За ним появился второй всадник, его длинная накидка дыбилась на ветру, капюшон был низко надвинут на глаза. Всадник на мгновение сдержал коня, наклонился, пытаясь всмотреться в непроглядный сумрак. Конь, недовольно дергая головой, устремился вслед за скрывшимся за поворотом первым всадником. Качнулись тяжелые под снегом лапы ели. Срезая поворот, из-за дерева вынырнул третий всадник, конь вспахал сугроб, одним прыжком выбрался из снега и снова оказался на тропинке. Заверещала спросонья в вершинах деревьев птица. Среди темных стволов метнулась тень. С елки полетел снег. Всадник остановил вздрагивающего от волнения коня, повернулся. Из-под низко надвинутого капюшона глянула темнота. Конь фыркнул, отдуваясь от снега. Белые снежинки на его боках взлетели прозрачным покрывалом. Ноги всадника в длинных черных сапогах еле шевельнулись. Конь присел и одним широким махом перешел в галоп. Черные деревья выступили вперед и канули в сумерки. Снег попал Мише Рыбкину за шиворот, растаял и противной влагой просочился за воротник. Но Мишка этого не замечал. Он стоял на тропинке, глядя в ту сторону, куда ускакали всадники, и не мог прийти в себя от испуга. Всадники? Ночью? Что им здесь делать? Он медленно повернул голову. Сугроб, куда только что провалилась третья лошадь, был чист. Никаких следов не осталось. Значит, это не люди… Рыбкин попятился, свалился с тропинки и, не обращая внимания на снег, на деревья, сующие свои сучья ему в лицо, помчался обратно. В лагерь, к ребятам, к костру! Мишка бежал, не разбирая дороги. В глазах у него скакали елки. Ему казалось, что он мчится по кругу и натыкается на одни и те же деревья. Но чехарда черных веток закончилась, колючая лапа последний раз мазнула его по лицу, стволы расступились, открывая поляну, палатки, большой костер. После звенящей тишины леса голоса одноклассников показались Рыбкину невероятно громкими, милыми и родными. Бояться больше было нечего. – Рыба, ты где был? – понеслось со всех сторон. – Так! – Олег Павлович Андреев, высокий худой парень с круглыми очками на носу, их учитель географии, смахнул с Мишкиной шапки снег, потрепал огромные красные помпоны на макушке. – Где был, что видел? Много зайцев поймал? Мы тут без тебя всю кашу съели, так что будешь довольствоваться чаем. – Как съели? – Из Мишкиной головы тут же вылетели все конные призраки. – А я? – Он шагнул к костру, вокруг которого споро стучали ложками, доедая остатки ужина, несколько девчонок и мальчишек. – Ты же на охоту пошел, – хитро прищурился Олег Павлович. – Ну и где твоя добыча? Мы сидели, ждали, кашу пустую пришлось есть! – Какая добыча? – Мишка не понимал, что ему говорят. Он только видел, что его приятель Антон Верещагин сидит на бревне, схватившись за живот, и заходится в истерическом смехе. – А ужинать-то я что буду? Вокруг костра стало тихо, ложки стучать перестали. Сдерживая улыбки, ребята переглядывались. Но вид расстроенного Мишки был настолько смешон, что все сорвались на общий хохот. – Ладно, не боись, – смилостивился учитель. – Найдется для тебя каша. В руках у Рыбкина оказалась чуть теплая миска, сверху прикрытая тарелкой, на которой лежал большой кусок хлеба. Мишка облегченно хлюпнул носом, поправил на голове свою знаменитую красную шапку с помпонами и опустил ложку в кашу. Не то чтобы Мишка был таким уж обжорой, но в походе есть хочется зверски. А тут еще пережитый страх добавил аппетита. Рыбкин жевал, по его худому, вытянутому лицу блуждала довольная улыбка. Был он высоким, тощим и немного нескладным. Главной деталью его костюма была знаменитая красная шапка, к которой в прошлом году его старшая сестра зачем-то пришила два огромных помпона. Первое время над этой шапкой смеялись, а потом она стала опознавательным знаком их класса в любом походе. Именно эту шапку нарисовали на эмблеме их отряда, когда на каком-то смотре понадобилось придумать герб их отряду. Так что… Не все так плохо было в Датском королевстве, как говорил Мишкин папа. – В следующий раз уйдешь без разрешения, – глаза Олега Павловича за стеклами стали жесткими, улыбка превратилась в злой оскал, – можешь не возвращаться. Так и пойдешь пешком до дома. Миша промычал нечто неразборчивое, потому что рот его был занят. – Ты куда исчез? – Антон уселся рядом с приятелем. – Мы палатку ставить собрались, а тебя нет. Паганель уже давно круги вокруг лагеря нарезает. Конечно, можно было и позвонить, но в поход сотовых телефонов никто не брал. Это было условие такое. Зима, холодно, снег – могут попортиться. Да и заряжать все равно негде. Не от костра же… Вот и договорились – не брать. А так бы, конечно, один звонок – и никто бы не беспокоился. Олег Павлович пришел в школу после института и сразу же был назначен классным руководителем их седьмого «А». Несмотря на «солидный» возраст, двадцать два года, Олегом Павловичем его еще никто не звал. Даже учителя с лукавой улыбкой звали его Олегом или Олежкой, в лучшем случае Палычем. Среди ребят он получил кличку Паганель за длинный рост, худобу, вьющиеся волосы и небольшие круглые очки. Ко всему прочему, он вел в школе географию и этим окончательно подтверждал свое сходство с героем Жюля Верна из романа «Дети капитана Гранта». Идей и энергии Олегу Павловичу было не занимать, поэтому с первого же дня он стал таскать ребят по музеям, театрам и походам. Своим напором он ломал любое родительское сопротивление и недовольное брюзжание учителей. И главной его победой был лыжный предновогодний поход. Год кончился, все оценки поставлены, волноваться больше не о чем, все поездки с родителями потом, после праздников, впереди самое лучшее время – Новый год, а значит, можно немного расслабиться и погонять по снежному лесу. – Я в лес ходил, – промычал Миша, смакуя остатки каши. – Шустрый самый, да? Мог бы меня взять с собой, – обиженно засопел Верещагин. – Вместе бы сходили. Судьба свела Мишку с Антоном еще в первом классе, они тогда сразу сели вместе и первые три года честно дрались, выясняя, кто из них главнее. Потом драться стало неинтересно, и они подружились: Антон замечательно делал домашку по алгебре, геометрии и физике, Мишка выручал его по литературе, ботанике и химии. Мишка играл на гитаре, успел собрать неплохую коллекцию музыкальных компакт-дисков, мог спокойно прослушать какую-нибудь сонату Моцарта или вдруг прочитать книжку стихов. Антон всего этого не понимал. Книжки у него чаще всего служили подставкой под чай. Все дни он проводил на улице, занимался бегом на коньках и большим теннисом. Именно поэтому неусидчивый Мишка сбежал, оставив вечно голодного Антона сторожить булькающую кашу. Сбежал втихаря, потому что такие ночные прогулки надо совершать только в одиночестве. Вот и погулял. – Нашел что просить! – Рыбкин облизал ложку, с грустью посмотрел в пустую миску и только потом поднял глаза на приятеля. – Можешь идти, они тебя ждут. – Кто? – Всадники. – Мишка потянулся за кружкой. – Там в лесу всадники… Черные, страшные и… – Он поискал слова. – И… кровожадные, – зачем-то ляпнул он. – Почему кровожадные? – растерялся Верещагин. – Вампиры потому что! – с воодушевлением стал врать Мишка. – Под капюшонами пустота. В сугроб прыгнули и следов не оставили. – Зато ты там, наверное, очень наследил, – съязвила Лиза Шульгина, которая сидела рядом, грела руки о железные бока кружки и откровенно подслушивала разговор приятелей. – А ты бы не испугалась, если бы на тебя из темноты выскочила такая махина! – напустился на нее Рыбкин. – Ой, ой, ой! – томно протянула Лиза. – Лошадь он никогда не видел… Или это был всадник без головы? – Нет, головы у них были… – на полном серьезе ответил Мишка. – Странные были эти всадники, проскакали, как призраки. Я даже подумал, что это привидения. – Так, привидения! – Рядом стоял Паганель, нагруженный стопкой спальников. – Еще полчаса посидите – и будете спать в холодной палатке. Поворошите костер, чтобы не погас, и натягивайте на себя все теплые вещи. Спать пора. Мишка лениво поднялся. После беготни по лесу и теплого ужина ему уже ничего не хотелось. В куче приготовленных на завтра дров он нашел палку покрепче и стал ею ворошить гаснущий костер. Палка во что-то ткнулась. Рыбкин покопал глубже, выуживая на свет что-то небольшое и гнутое. Костер прогорел, растопил снег, провалился до земли, и что-либо выуживать оттуда было неудобно. – Лови его, лови! – с азартом закричал Антон, подпрыгивая на месте. – Так! – Теперь в руках Паганеля был ворох свитеров. – Кого ловим? Рыбку золотую? Лиза звонко расхохоталась. – Нет! – мрачно буркнул Мишка, которому давно надоело, что все кому не лень издеваются над его фамилией. Мало ли кого как зовут? Некоторые с фамилией Горшков живут – и ничего! К ногам учителя подкатился полукруглый обуглившийся предмет. Олег Павлович с сомнением на лице толкнул его ботинком. – Мне казалось, мы собирались кататься на лыжах, а не на лошадях, – задумчиво произнес он. – При чем здесь лошади? – напрягся Рыбкин. Перед глазами у него сразу встал снежный лес и черные тени на тропинке. – При том! – Паганель был мрачен. – То, что ты достал, называется подкова. И ею обычно подковывают лошадей. Подкова была совсем черная, истончившаяся, дырочки по центральному ободку заросли ржавчиной. Миша потрогал находку рукой – не горячая ли? Поднял ее и стал бестолково вертеть перед своим носом – в подковах он ничего не понимал. – Кстати, подковы приносят удачу, – добавил Олег Павлович, исчезая в палатке мальчиков. Рыбкин с сомнением покосился на учителя, взвесил на ладони прожженную железку. – Удача – это хорошо, – по-деловому отозвался Антон. – Гони ее сюда, сейчас проверять будем. Но тут Паганель отправил всех по палаткам, велев отсыпаться перед завтрашним марш-броском, и все эксперименты были отложены до лучших времен. – Слушай, – бормотал Верещагин, ворочаясь в спальнике, чтобы согреться, – если это подкова, значит, здесь кто-то на лошади скакал. Значит, твои всадники не привидения. – Отвали от меня, – толкнул его в бок засыпающий Рыбкин. Зря ему напомнили про этих всадников. Пришедший было сон стал постепенно отступать. Он вновь вспомнил хруст снега, темные фигуры коней, черные накидки наездников. Вот один из них поворачивает голову, и становится видно, что в капюшоне ничего нет. Пустота. Пустой перчаткой он трогает повод, разворачивает коня. Тот взбрыкивает, с задней ноги у него срывается подкова и летит Мишке прямо в лоб. Он уклоняется, но подкова меняет свое направление и снова направляется к нему. Рыбкин отшатывается, теряет равновесие, садится в сугроб, и вот тогда подкова прицельно бьет ему между глаз. Сыплется с потревоженной еловой ветки снег. Мишка потирает ушибленное место, пытается встать, но кто-то обнимает его сзади за плечи, давит, тянет вниз. В голове от удара звенит, подкова жжет ладони, снег за воротником растаял и стекает по спине противной струйкой. На душе становится тревожно от предчувствия чего-то нехорошего и неизбежного, как контрольная по химии или выговор за опоздание. Рыбкин пытается выбраться из засасывающего сугроба, хватается за тонкий ствол осинки и останавливается. Мимо него по дороге, как в замедленном кино, проносятся лошади. Происходит это до того неспешно, что Мишка успевает рассмотреть всадников. Впереди, обняв шею могучего коня и бестолково болтая длинными тощими ногами, сидит Олег Павлович. На низенькой каурой лошадке едет Антон Верещагин, за ярко-медный цвет волос прозванный Рыжим. Его круглое пухлое лицо лучится от удовольствия. На плечи, скрывая его невысокую крепкую фигуру, накинут темный длинный плащ. Плащ бьется на ветру. От этого идущая за ним лошадь выворачивает голову в сторону и идет не прямо, а как-то боком. На ней сидит Андрюха Васильев, длинный, с плоским конопатым, вечно обветренным лицом и неизменной улыбкой на губах. В седле он держится плохо, сползая то на одну сторону, то на другую, повод пляшет в его руках. Радостно тряхнув нечесаными волосами и выкрикнув свою коронную фразу: «Здорово, ребяты!», из-за спины он достает мотоциклетный шлем и водружает его на голову. Хмурый Сашка Токаев, кудрявый Вовка Сидоров… Первая красавица класса Карина Смирнова, вредная Лизка Шульгина, к которой давно и прочно прилипло имя Лизка-Ириска, Настя Павлова, которая даже на лошади ухитряется читать. И все они проезжают мимо, а его, Мишку Рыбкина, тянет в другую сторону. И он понимает, что если сейчас не закричит, если на него не посмотрят, то больше он их не увидит никогда. От этой мысли ему становится нечем дышать, он захлебывается снегом и ужасом… и просыпается. Наглый Верещагин отнял у него «подушку» – засунутые друг в друга свитера, – разметался во сне, положил свою руку Мишке на грудь, отчего Рыбкину в первые секунды после сна показалось, что его душат, да еще стащил половину спальника. Сам Миша оказался с краю, хотя точно помнил, что вечером ложился по центру, чтобы было теплее. Посмотрев в довольные спящие лица одноклассников, он понял, что его беспардонно вытеснили. Рассердившись на всех, Мишка выбрался из спальника, надел ледяные валенки и шагнул из палатки на свет. Уже наступило утро. Низкое солнце ярко освещало деревья, темные тени ложились на искрящийся снег. Обе палатки еще спали, вчерашний костер покрылся серебристым инеем. Рыбкин сладко потянулся, взмахнул руками, пытаясь согреться на морозном воздухе, да так и замер с поднятыми руками. По тропинке, шагах в двадцати от лагеря, пронесся огромный белый конь с маленьким всадником на спине. За ним, наседая на хвост, мчалась высокая, темная лошадь. На ее спине сидела девчонка, из-под черной вязаной шапочки торчал длинный жиденький хвостик. Мишка открыл рот, с трудом соображая, что же это происходит. Откуда в лесу такое количество лошадей? Или все это ему только кажется? В вышине каркнула ворона. Показался третий всадник. Небольшая крепенькая лошадка, чем-то похожая на Сивку-Бурку из сказки, мелко подпрыгивая, как мячик, скакала вслед за остальными. В седле тоже сидела девчонка, укутанная в шарф, куртку и шапку. Проезжая мимо палаток, она успела обернуться и, как Мише показалось, кивнуть ему. От этого кивка у Рыбкина все поплыло перед глазами, он попятился, споткнулся и свалился обратно в палатку. Жалобно крякнул крепежный трос, завопил Антон. – Вставай, вставай! – дергал Рыбкин приятеля за рукав, все ближе и ближе пододвигая его к выходу. – Рыжий, поднимайся, там лошади! – Какие лошади? – Не разлепляя глаз, Верещагин попытался отцепить от себя руку друга. – Перестань меня толкать! Ребята в палатке стали поднимать сонные головы. – Только что по дороге проскакали! Вставай! – с еще большим азартом стал трясти товарища Рыбкин. – Твои привидения, сам и лови! Антон отвернулся, натянул на себя Мишкин спальник, собираясь спать дальше. Мишка выпал из палатки и, еще не соображая, что делает, пошел к тропинке. На этот раз следы были. На лыжне – а вчера весь день туда-сюда по тропинке ездили любители зимних видов спорта – четко виднелись вмятины от копыт. Из-за поворота показался дед на лыжах. Бодро размахивая руками, он быстро катился вперед. – Надо же, а! – вздохнул он, останавливаясь около Мишки. – Они уже здесь были! Всю лыжню раздолбали! Вот гады! Дед горестно покачал головой, стянул перчатку и почесал нос. – Кто? – Спросонья Рыбкин плохо соображал. – Да лошади. Каждый раз лыжню разбивают, управы на них нет. – Дед сунул маленькую ладошку в перчатку. – Сколько их здесь гоняли! Сколько препятствий ставили! Ничего не помогает! Все равно скачут. Их даже призраки не останавливают! При упоминании о призраках Миша нахмурился, но дед больше ничего не сказал. Он одновременно воткнул обе палки в снег, резко оттолкнулся и покатил дальше, спотыкаясь на колдобинах. – И чего ты орал? – сонный Андрюха Васильев, как всегда, лохматый и, как всегда, одетый кое-как, вяло потягивался, кривя рот в широком зевке. – Подумаешь, лошади… У меня в бабкиной деревне у одного мужика верблюд жил. И ничего… – Он покопался в карманах, достал шапку, натянул ее на голову. – Блин, холодно-то как! Да, верблюд, конечно, будет посильнее лошади. Но и лошадь еще та зверюга… Только сейчас Рыбкин заметил, что на улице, да и в палатке, действительно холодно. Пронзительно-голубое небо и яркое солнце обещали сильный мороз. Паганель торопил всех с завтраком, последний раз проверял лыжи, предупреждая, что сегодня они пройдут как минимум километров двадцать. Но прошли они гораздо меньше. Обогнув лес по большой дуге, они вышли на ровную просторную просеку. Впереди широким, размеренным шагом шел Олег Павлович, за ним пристроились девчонки, Миша с Антоном оказались в хвосте. Рыбкин постоянно сходил с лыжни, палки разбегались у него в разные стороны, и вообще он уже подумывал, что завтра останется охранять лагерь вместо хитрого Васильева, который сейчас, наверное, спит в палатке, укутавшись во все спальники. Его тоскливые размышления прервал знакомый топот. Мишка даже оглядываться не стал. Он шагнул с тропинки и повалился в сугроб, подбирая под себя лыжи. – Куда? – раздалось сзади, и сверху на него посыпались комки снега. – Дорогу! – гаркнули следом. Рыбкин приоткрыл глаза. Судя по следам, первая лошадь прошла рядом с ним, две другие, делая крюк, обошли его на почтительном расстоянии. Теперь он смог их рассмотреть. Впереди ехала девчонка со светлыми волосами, остроносая, скуластая, с быстрыми злыми глазами. За ней – маленькая крепкая девочка, хвостик смешно торчал из-под шапки. Третья девчонка была чем-то похожа на вторую, такая же невысокая, крепкая, глаза ее прикрывала длинная челочка. На вид им было лет двенадцать-тринадцать. Все три лихо сидели в седлах, ловко управляясь с огромными животными. Увидев большое количество лыжников, кони занервничали, а последняя невысокая бурая лошадка с длинной спутанной гривой начала пятиться, приседать на задние ноги, все больше и больше увязая в снегу. – Мамай! – рявкнула наездница. – Хватит дурить! Паганель обернулся, энергично взмахнул палками, отчего головная белая лошадь шарахнулась в сторону. Беловолосую всадницу мотнуло в седле. – Не дергайте палками, – крикнула она, подбирая выпущенный из рук повод. Лошадь развернулась и встала. – Это вы с утра были? – улыбаясь, спросил Олег Павлович. – Мы, – хором ответили две похожие друг на друга девочки. – А что? – тут же кинулась в бой светловолосая. – Красиво. Здорово у вас получается. – Паганель похлопал белого коня по шее. – А погладить можно? – протянула руку Лиза. – Только осторожно, он может укусить, – предупредила светловолосая. – А покататься можно? – выехал вперед маленький Сашка Токаев. – Чуть-чуть. Я умею! – Прокат у нас после обеда. Приходите на фабрику, – холодно отрезала светловолосая. – Вика! Поехали дальше! – заторопила девочка с хвостиком. – Ну вот, лыжню испортили… – вздохнула Карина. – Еще накатаете, – отмахнулась от нее Вика. Видно, на эту тему с лыжниками она разговаривала не раз и не два. – А лучше идите в ту часть леса, – светловолосая махнула рукой куда-то вперед, – нас там не бывает. – Почему? По не накатанной лыжне езда плохая? – усмехнулся Паганель. – Не ходим туда, и все, – угрюмо отрезала светловолосая. – Не наш это лес. Там другие ходят. – Тоже лыжню бьют? – зло спросила Карина. – Нет, не бьют… – начала светловолосая, но ее перебили. – Вика, чего встала? – грубо окрикнула ее девочка на низкорослом Мамае. – Пошли! – И часто вы здесь катаетесь? – уже в спину всадницам спросил Олег Павлович. – Два раза в день, – не поворачиваясь, крикнула светловолосая Вика. – Сейчас – первый. Две другие девчонки отозвались дружным смехом. – Ну что? – Паганель оглянулся на притихших ребят. – Пойдем туда, где нас не затопчут? Но их затоптали и там. Следы копыт показывали им границу леса, где ходили лошади и где их не было. Но как только ребята выехали на чистую ровную лыжню, они снова наткнулись на свободно гуляющего коня. Сначала все подумали, что он гуляет один. Конь задумчиво шел сам по себе, печально опустив морду в снег. Седла на нем не было, только свисала с тощих боков потертая попона. Даже на взгляд неискушенного Мишки, который за всю свою жизнь видел не очень много лошадей, в основном на аллеях парка, этот конь был очень стар. Провалившаяся спина, прикрытая попоной, обвислый живот, понуро опущенная голова, изогнутые ноги. Но вот из-за коня выглянула девчонка. Такая же невысокая, как предыдущие наездницы, небольшой курносый носик прятался под веснушками, длинные рыжие волосы лохматой гривой были рассыпаны по плечам. Девчонка окинула взглядом лыжников, на ее бледных губах появилась улыбка. – Ну вот. – Олег Павлович остановился, вокруг него сгрудились ребята. – А нам сказали, что лошадей здесь не будет. – Мы уже уходим. – Девчонка коснулась рукой шеи коня, и тот доверчиво повернул к ней голову. – Вас здесь много? – спросил Олег Павлович. – Здесь других лошадей много, не только наши. – Девочка погладила коня по морде, тот качнулся, тяжело вздохнул и положил голову на плечо спутницы. – А вы откуда? – Мы с фабрики, – медленно подбирая слова, ответила девочка. – Там конюшня. Есть… – И быстро добавила: – Вам здесь делать нечего. Уходите! – Почему это? – улыбнулся Олег Павлович. Девочка быстро вскинула глаза и тут же опустила их. – Нельзя, и всё, неужели не понятно? – Она дернула коня за попону и пошла прочь, с трудом выдергивая ноги из снега. Мишка крутил головой, соображая, что ему так не нравится в этом месте. Елки, лес, изгиб дороги, большой сугроб. Точно! Вчера вечером он был здесь, в этих сугробах вязла призрачная лошадь. Значит, они совсем недалеко от лагеря, просто сделали большой круг. А просека, похоже, делит этот лес пополам… В этот момент Рыбкин понял, что замерз, что у него промокли ноги, зудит натертая ладонь, звенит в ушах, и вообще жизнь дает явный крен не в ту сторону. – Олег Павлович! – во всю мощь легких гаркнул Рыбкин. – Я замерз, можно, я в лагерь пойду? – Ты заблудишься, – покачал головой Паганель. – Лагерь рядом. Рукой подать! «Вчера в темноте дошел, – мысленно добавил Мишка, – и сегодня доберусь. Тоже мне дальний путь…» – Мы пойдем не быстро, если передумаешь, нагонишь. – Ну и дурак, – выдохнул Антон, вставая на лыжню. – Катись, Рыжий, бей свои мировые рекорды, – вдруг рассердился Рыбкин, развернулся и побежал в обратную сторону. Девчонка все так же шла рядом со своим конем, что-то перебирая в руках. – Эй, погоди! – догнал ее Рыбкин. Девочка обернулась. Вместе с ней обернулась и лошадь. – Слушай, а вчера вечером кто здесь скакал? Трое, я видел. Черные, высокие… Ваши, да? – Нет, не наши. – Девочка пошла дальше. – Здесь есть другие лошади. – А кто? Всадники на них сидели такие странные, с темными капюшонами на головах! – Мишка скользнул чуть вперед, лыжей задел треснувшее копыто коня. – Эй, полегче! – Девочка предупреждающе подняла руку. Конь равнодушно покосился на людей. – Как его зовут? – Мишка на всякий случай отошел подальше. – Заток. – Девочка смотрела на Рыбкина холодно. – Вам не стоит здесь оставаться. Место, где вы разбили лагерь, нехорошее. Особенно для лыжников. Понял? – Но ты-то сюда пришла и, кажется, вполне жива и здорова. И с другими ничего не случится. – Есть такая история про девочку, которой не разрешали слушать одну пластинку, но она все же поставила ее. Хочешь узнать, что было потом? – Ей врезали по первое число и лишили мороженого, – хмыкнул собственной шутке Миша. – Нет. Все умерли. – Глаза девочки снова потемнели. – Почему? – Потому что нельзя делать то, что запрещено. Ходить в этот лес нельзя. Нельзя, и все! – Значит, вчера здесь былине вы? – на всякий случай спросил Рыбкин. Уж больно ему хотелось узнать, что за странные всадники встретились ему прошлым вечером. – Не мы. Здесь вчера вообще никого не могло быть. – Но я же… – Дорогу! – раздалось издалека. Миша сначала не принял этот крик на свой счет, но быстро приближающийся топот дал понять, что кричат именно ему. – Осторожно! Дорогу! Прямо на него мчалась лошадь, в седле, как влитой, сидел всадник, на его голову был натянут капюшон, за спиной развевался плащ. Пытаясь отступить, Миша взмахнул руками, палки взлетели вверх. Конь резко затормозил, глаза его расширились от испуга. Животное осело в снег, взбрыкнув передними ногами, копыта просвистели перед мгновенно побледневшим лицом Рыбкина. – Лыжник! – То ли сказал, то ли прошипел всадник, выкидывая вперед руку. Мишка опрокинулся назад, из кармана у него выскользнула подкова. – Жертва! Конь взвился на дыбы. У Миши заложило уши от пронзительного ржания. Он хотел закричать, но слова застряли у него в горле. Ужас холодной волной накрыл его голову. Конь танцевал на лыжне, не оставляя следов, хотя снег вокруг взбесившегося животного крутился вихрем. – Уничтожить! – выдохнул всадник, коротко послал коня вперед, и тот всей массой опустился на Рыбкина. Поднялся белый круговорот. Черный всадник поблек и растворился в холодном воздухе. Вместе с ним исчез Мишка. От него осталась только вмятина в сугробе да выпавшая из кармана подкова. Девочка с лошадью развернулась и пошла дальше своей дорогой.
Глава II Ночные явления
Мишку искали долго. Рыжий обегал весь лес, нагоняя те самые двадцать километров, что обещал им Олег Павлович. Девчонки тревожно перешептывались. Андрюха Васильев, оставленный на этот день в лагере за сторожа, недоуменно пожимал плечами – никто к нему днем не приходил, только где-то вдалеке постоянно ржала лошадь да лыжники все время сновали туда-сюда. Из людей никто у палаток не появлялся. Антон вернулся из очередного рейда с подковой в руках. – Вот, – протянул он гнутую железку учителю. – Она лежала там, где мы с ним расстались. Олег Павлович повертел в руках подкову, задумчиво постучал ею о ладонь. – Куда он мог деться с палками и в лыжных ботинках? – в который раз спросил он. – Мы же ни одного человека не видели! С кем он мог уйти? – Почему не видели? – Настя Павлова оторвалась от книжки, заложив ее пальцем, поправила сползающие с носа очки. – Видели девочку с конем, доходяга такой старый у нее был. – Девочка… – Олег Павлович нервно крутанул подкову в руках. – Лошадь… Холстомер… Кажется, она говорила, откуда они! – С фабрики, – буркнула Настя, вновь опуская голову над книгой. – Фабрика! – Паганель выпрямился, не глядя, сунул подкову в руки Антону. – Карина, смотри за обедом! Девочки, никто никуда не уходит! Васильев, пойдем! Антон молча проводил их взглядом. – Лизка-Ириска! – Он спрятал подкову в карман. – Не скучай! Я скоро приду! – Куда? – вскочила Карина. – Рыжий, вернись! Палыч велел всем ждать его здесь! Слышишь? – Будет грустно, смотри на мою фотографию! – Верещагин, я кому сказала! – напустила на себя строгость Смирнова. – Бывай! – махнул рукой Рыжий. – И не трогай баркас, взорвешься! Антон на секунду скрылся в палатке и вскоре вышел оттуда в лыжных ботинках, нацепил лыжи и тоже скрылся за деревьями. Только шел он в противоположную сторону от поселка, куда направились Олег Павлович с Андрюхой. Шел он к лыжне, по которой проехали на лошадях девчонки. Кажется, светловолосая Вика говорила, что они два раза ездят этим маршрутом. Они же скачут по всему лесу. А если они видели Рыбкина? В отличие от фантазера Мишки Антон не верил ни в потусторонние явления, ни в магическую силу. Если приятель куда-то пропал, то все было просто – либо он за кем-то ушел, либо его кто-то увел. Солнце клонилось к закату, в его свете деревья казались хрустально-прозрачными. То ли мороз стал сильнее, то ли у людей желание гулять пропало, только в лесу никого не было. Ни одного человека. Верещагин прокатился туда-сюда по узким тропинкам. Никого. Лошади появились с наступлением сумерек. Антон не услышал их, скорее почувствовал, что они приближаются. Сначала чуть дрогнула земля. Потом раздался топот, захрустел мерзлый снег, и из-за поворота вылетел белый конь. – Дорогу! – раздался звонкий голос. – Стой! – Антон выскочил на лыжню, размахивая палками. – Идиот! Белый конь шарахнулся в сторону, всадника приподняло, мотнуло в седле, но он усидел. Бегущий за ним гнедой конь, не ожидавший такой резкой остановки, ткнулся мордой в круп белого, отчего тот взбрыкнул. Тяжелые копыта ударили в грудь гнедого коня. Он сошел с тропинки и, утонув в снегу, стал заваливаться на Антона. Третий, рыжий, конь резко остановился, встал на дыбы, сбросил всадника и затрусил прочь. – Ты чего, совсем больной? – раздался возмущенный голос. На белом коне сидела Вика, светловолосая девчонка со злыми беспокойными глазами. – Ты бы еще под копыта прыгнул! Палками он машет! Иди, лови теперь Гравёра! Все произошло так быстро, что Антон ничего не успел понять. У его ног сидела женщина лет сорока и, близоруко щурясь, шарила вокруг себя. Шапка с ее головы упала. – Лена, что с тобой? К великому удивлению Верещагина, на высоком гнедом коне сидел мужчина, маленький, толстенький, с усами. Он забавно болтался в седле, с трудом удерживая себя в нем. Ни с хвостиком, ни с челкой девчонок не было. М-да, а Антон-то собирался говорить именно с ними. Про себя он решил, что белобрысая Вика не станет с ним разговаривать. Уж больно строгая она была на вид. – Опять очки упали, – сокрушенно покачала головой женщина. – Держи! – крикнули у Верещагина над головой, и он на всякий случай втянул голову в плечи. Вика соскочила с коня, всучила в онемевшие руки Антона повод и зашагала вслед за убежавшей лошадью. Рыжий покосился на животное. Вблизи конь казался огромным, как танк, и невероятно свирепым. Белый с шумом выдохнул воздух и потянулся к зеленой еловой ветке. – Стой, куда? – Антон попытался сделать шаг, споткнулся, зацепился одной лыжей за другую. Конь недовольно покосился на него и фыркнул. Мужчина и женщина копались в сугробе, искали очки. – А где остальные девочки? – спросил Антон, тоже начав выглядывать в снегу золотистую оправу. – Мы прокат, – женщина оторвалась от своих поисков. – Катаемся здесь, а девочки на конюшне остались. Белый конь опять потянул Верещагина к ветке. В этот раз лыжи стояли правильно, и Антон просто поехал в ту сторону, куда его влекли. – Голову ему не давай опускать! – издалека рявкнула Вика. Она уже поймала сбежавшего Гравёра и шла обратно. – Подними, подними ему голову. Конь наклонился, подбирая со снега осыпавшиеся иголки. Антон подставил под его шею плечо, пытаясь приподнять голову. – Всё нашли? – Девочка грозно посмотрела на женщину, и та покорно кивнула. – Держите Гравёра. Сесть сможете? – Женщина опять кивнула. – Вердер, – всплеснула руками Вика, поворачиваясь к белому коню, – почему ты опять весь в зелени?! Девочка вырвала повод из рук Антона, легко вскочила в седло. – А где остальные? – Забывшись, Верещагин подошел совсем близко к коню. – Помнишь, вы утром скакали? – Утром? – Вика на мгновение задумалась. – Зачем тебе? Предположим, на конюшне они. – Слушай, тут друг у меня пропал, – доверительно зашептал Рыжий, привставая на цыпочки и хватаясь за болтающийся повод. – С нами на лыжах пошел, отстал и потерялся. Ты его не видела? – Не было никого. – Вика не собиралась с ним разговаривать. – Тут еще девчонка ходила со старой лошадью. – Антон сделал несколько неуклюжих шагов рядом с конем, тот недовольно покосился на такое удивительное соседство. – Она не ваша? – С Затоком? – Уже готовая уехать, девчонка развернула коня в его сторону. – Где вы их видели? – Утром. Они были там… – он поискал правильное слово, – где вы обычно не бываете. Ну, помнишь, ты сама сказала. – А! – Интерес Вики тут же угас. – Это тебе показалось, не было там никого. – Как не было? – А так! Мираж это, на самом деле никого нет, – Вика недовольно поглядывала на своих спутников, которые никак не могли разобраться со своими лошадьми. – Не стоит туда ходить, гиблое место. Там призраки живут. И они очень не любят лыжников. Ну, бывай! Кавалькада лошадей потрусила дальше в лес. Антон озадаченно топтался на тропинке – он опять ничего не понял. Какие призраки, какое место? Мишка-то куда делся? Олег Павлович с Андрюхой пришли под вечер, недовольные и злые, – Рыбкина они не нашли. Выяснить что-нибудь им тоже не удалось. Вечером у костра держали совет. По-хорошему надо было ехать в город и заявлять об исчезновении Мишки в полицию. С другой стороны, лучше было остаться, потому что Мишка мог еще появиться. Понурые ребята сидели молчаливым кружком. Неудачно все складывалось. Вместо веселого предновогоднего похода получались какие-то тягомотные мучения с ожиданием непонятно чего. Хороший подарочек они подготовили маме Рыбкина Вике: встречайте Новый год в гордом одиночестве, сын ваш больше к вам не придет. Или все же придет? Становилось холоднее. Костер гореть отказывался, время от времени вспыхивая, каждую секунду норовя погаснуть окончательно. Антон вертел в руках подкову, отлично понимая – ждать бесполезно, здесь есть какая-то загадка, разгадав которую они смогут разыскать Мишку. – Холодно, – жалобно пискнула Карина, пряча руки в варежках в рукава. Настя шмыгнула носом, пододвигаясь ближе к огню, удобнее устроила на коленях книгу. Лиза вздохнула, поводя плечами, ей эта поездка с самого начала не нравилась. Паганель сидел, уставившись в костер, и молчал. – Мне кажется, надо идти на конюшню, они что-то знают, – произнес Антон. После долгого молчания слова его прозвучали приглушенно. – Да что конюшня? – возмутился Андрюха. – Были мы около нее – тихое место. Мало ли людей по лесу шастает? Лыжников ведь пропасть была! – Значит, решаем так. – Олег Павлович стукнул себя ладонями по коленям, внимательно оглядел ребят. – Ждем ночь. Если Рыбкин к завтрашнему полудню не объявится, сворачиваемся и идем в город. Пускай его полиция ищет. Ищет, ищет… Антон посмотрел на огонь в полукружье подковы. Подкова, лошади… Все-таки что-то здесь не то. Он встал и побрел прочь из лагеря. Мишка вчера нашел подкову и встретил странных всадников… Вдалеке послышался свист. Наверное, последний за сегодняшний день спортсмен совершал прогулку перед сном. Антон пробежал немного вперед, прикинул, как пойдет лыжня, срезал угол и через какое-то время снова очутился около тропинки. Скрип приближался. Лыжник был где-то совсем рядом. Не заметив замершего Верещагина, он прошел мимо. До Антона донеслось его учащенное дыхание. Все было нормально, ничего необычного. Ну, лыжник… Катается. Устанет, поедет домой, чай пить будет. Лес вокруг стал неожиданно темным и зловещим. В этой темноте Антон побрел дальше, продираясь сквозь еловые ветки, надеясь выйти к новому месту на тропинке до того, как там окажется лыжник. Ему показалось, что это очень важно – проследить, доберется лыжник до конца своего маршрута целым и невредимым, или ему что-то помешает это сделать. Тяжело дыша, лыжник прошел мимо. Антон побежал – лыжня долго шла прямо, никуда не сворачивая. Если перед этим у костра Рыжий сильно мерз, то теперь ему было очень жарко. Когда лыжник выехал из-за поворота, между Верещагиным и лыжней оставался один невысокий бугор. Антон скатился со снегового наката. Спина лыжника таяла в сгущающейся темноте. Но растаять окончательно она не успела. Навстречу человеку не спеша выехал всадник, его темная одежда сливалась с черной шкурой коня, на голову был низко натянут капюшон. К своему удивлению, все это Верещагин видел четко и ясно, как будто лыжника и всадника кто-то осветил контрастным светом. – Да что же вы ночью-то ездите! – ахнул лыжник, останавливаясь. – Утром от вас покоя нет, днем нет! Дай, думаю, вечерком отдохну! Всадник не обратил внимания на возмущения лыжника, его лошадь все так же шла вперед. Их разделяло несколько шагов. Теперь либо всадник должен был сойти с тропинки, либо лыжник откатиться в сторону. Вероятно, именно это лыжник и хотел сделать, но одна лыжа у него поехала вперед, он не удержал равновесия и, чтобы не упасть, взмахнул палкой. Конь, перед мордой которого просвистел железный наконечник, дернулся туда-сюда и наступил на лыжу. Хрустнуло, переламываясь, дерево. – Жертва! – прошипел всадник. Конь вновь взвился на дыбы. Антону показалось, что он смотрит захватывающий триллер по телевизору, до того невероятной выглядела эта картина – сумерки, лыжник, вставший на дыбы конь. Вот сейчас должна прозвучать страшная музыка – и что-то произойдет: то ли тщедушный лыжник превратится в терминатора, то ли конь взлетит в темные небеса. Но случилось невероятное – конь опустился на скорчившегося человека, вокруг них завихрился снег, и стало совсем темно. Когда снег улегся, на тропинке никого не осталось. – Эй, а человек где?? В фильме могло происходить все, что угодно. Но чтобы вот так, посреди леса, в нормальной жизни, ни с того ни с сего пропал человек? Это уже слишком. – Куда все делись-то? – Прочь! – Шипение пронеслось по лесу и растворилось среди замерзших стволов деревьев. – Убирайся! Верещагин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как из-за поворота выныривает лошадь, черный всадник взмахивает рукой, свистит хлыст. Несмотря на темноту, Антону удалось очень хорошо рассмотреть приближающегося коня – темная оскаленная морда, блеснувшие зубы с зажатым между ними железным трензелем, огромный глаз, налившийся кровью, напряженные мускулы. Статуя! Ожившая статуя! Конь приближался. Антон, всегда боявшийся крупных животных, машинально отступил назад, провалившись по колено в сугроб. Конь пролетел мимо, но всадник резко осадил его. Рыжий быстро опомнился и помчался прочь от жуткого черного призрака. Он успел сделать несколько шагов, прежде чем навстречу ему прямо из лыжни выскочил еще один всадник. Снег белой пелериной скатился с темных боков коня. – Жертва! Человек! – Вы чего? – Антон замешкался, до того невероятным было происходящее. – С ума сошли? Чего вам нужно? Всадник приближался. Антон бросился к деревьям. Всадник, предугадав его движение, направил лошадь туда, где через секунду должен был оказаться Верещагин. Но застрявший в сугробе валенок не дал Антону шагнуть. Это его спасло. Конь пронесся в нескольких сантиметрах от него, над ухом свистнул хлыст. – За что? Что я вам сделал? – Антон бестолково дергал ногой в валенке, пытаясь высвободиться из ледяной корки. Всадник молча развернул коня. Рыжий собрал последние силы, вскочил на ноги, выбрался на тропинку и… не сдвинулся с места. Перед ним возникла совершенно невероятная картина. По тропинке шла девочка, рядом с ней, низко наклонив голову, плелась старая кляча. Это была та самая пара, что встретилась им днем. Девочка подняла удивленные глаза на выскочившего из снега Антона. – Ты… – Казалось, она приглядывается к нему. – Ты не должен здесь быть! – Несмотря на удивление, голос у нее был спокойный. – Уходи! Беги отсюда! – Ее лошадь сделала несколько шагов вперед, потянулась мордой в сторону Верещагина. – Заток! Вернись! – грозно прикрикнула девочка и повернулась к Рыжему. – Я тебя предупредила. Верещагин обернулся. Оба всадника неспешной рысью приближались. Справа хрустел снег. Оттуда тоже кто-то шел. – Никогда больше сюда не приходи! Забудь дорогу! И своим скажи! Сегодня вам повезло, завтра уже не повезет. Не вставайте на эту лыжню! Она никуда вас не приведет! – Почему? Кто вы такие? Куда делся Мишка? – с каждым словом Антону становилось все страшнее и страшнее. – Кто эти всадники? Куда исчез лыжник? Кто ты сама такая? Верещагин еще долго задавал бы вопросы, потому что их у него накопилось достаточно. Но бряцанье сбруи сзади, напомнило, что долго стоять на месте нельзя. Из-под елки показался третий всадник. Этого уже Антон выдержать не мог. Сзади девчонка со своим доходягой, впереди странная троица, по бокам черный лес. – Что вы ко мне привязались? – заверещал Рыжий, бросая в приближающихся всадников снегом. – Что вам нужно? Катитесь туда, откуда пришли! Мама! С криком «Помогите!» он бросился вперед. Вблизи лошади казались огромными. От нетерпения они танцевали на мощных ногах. «Затопчут», – мелькнуло в голове. Но было уже поздно, ноги сами несли его прямо на черных гигантов. Не ожидавшие лобового столкновения, всадники остановились. Воспользовавшись их замешательством, Верещагин пробежал несколько шагов по скользкой лыжне, головой вперед нырнул в елки и забарахтался в сугробе. Антон бежал по самым непроходимым чащобам. Снег был везде: во рту, в валенках, за шиворотом, в рукавах куртки. Шапка сползала на глаза, но Верещагин этого не замечал – в лесу стояла такая темнота, что было все равно, смотрит он вперед или нет. Отовсюду слышался хруст. Хрустел снег справа, слева, спереди и сзади. Рыжий задыхался, и от этого ему казалось, что его уже окружили и лошади тычут мордами ему прямо в спину. Он обернулся, ноги потеряли опору, и он кувырком полетел под деревья. Когда мир вокруг перестал вращаться и ноги опустились ниже головы, Антон открыл глаза. Вокруг стояла невероятная тишина. Не было ни скрипов, ни шипения. Черные силуэты деревьев замерли. И все же кто-то здесь был. Рыжий чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Медленно, стараясь не скрипеть снегом, он прополз под ближайшую елку, скатился к самому стволу. Прислушался. Вокруг была все та же тишина. «Уф, пронесло!» Антон стряхнул с себя снег, отдышался. Надо же, как он попал! Эдак и коньки отбросить можно. Ты идешь, а на тебя такая махина вываливается. Куда они лыжника-то дели? Не в снег же он провалился вместе с лыжами. Неужели и Мишку так же затоптали?.. Копытами… Рядом что-то шваркнуло. Верещагин перестал дышать. Тишина. Может, птица? Надо возвращаться в лагерь. Собирать всех ребят и срочно убираться отсюда. А как же Мишка?.. Верещагин упал обратно под елку. Если Рыба попал в такую передрягу?.. Как же они его здесь бросят? Нужно выследить, куда уходят всадники… А если они никуда не уходят, а просто сидят в сугробе? Засада у них такая, именно на этом участке. Выскакивают и уничтожают всех, кто попадается им на пути. Антону впервые стало безумно жалко неуклюжего Мишку. Невозможно, невероятно, что он его больше не увидит. Никогда, никогда? Ни на минуточку? Верещагин так расстроился, что чуть не расплакался прямо под этой дурацкой елкой. Холодало. Надо было возвращаться в лагерь. Рыжий прикинул, откуда он пришел и куда попал. Выходило, что, уходя от погони, бежал он в противоположную от лагеря сторону. Теперь надо возвращаться к тропинке, миновать ее и идти, не сворачивая, прямо. Если костер не затушили, то у него есть шанс выбраться прямо к палаткам. А если затушили и легли спать… Нет, лучше не думать об этом. Не лягут они, не дождавшись его. Олег Павлович весь лес на ноги поставит, сто костров разведет, но ученика своего встретит. К лыжне он шел по своим следам. Натоптал он славно, будто бульдозер прошел. Всадники давно бы уже выследили его, но преследовать такую мелкую жертву они не собирались. Вот и замечательно! Антон дошел до елок, за которыми проходила лыжня. Перебежать ее, пройти еще минут десять. И все закончится. Он шагнул в сугроб. Из соседнего сугроба с холодным треском рванулся конь. От ужаса Антон забыл, как двигаться. Конь заржал, танцуя на одном месте, и прыгнул на него. Ноги Верещагина подкосились, он упал в снег. В голове билась одна мысль: «Перейти тропинку, перейти тропинку!» Громкое ржание над головой оглушило. Блеснули копыта вставшего на дыбы жеребца. Копыта впечатались в снег рядом с его рукой. Глубокий след тут же затянулся ровной корочкой снега. Конь всхрапнул, снова поднимая себя на задние ноги. Рыжий откатился в сторону, двинулся вперед, но прямо перед ним возник еще один всадник. Конь нервно перебирал жилистыми ногами. – Человек! Третий всадник мчался по тропинке, конь дергался из стороны в сторону, тряс огромной мордой, билась на скаку грива, глухо звякали медяшки на сбруе. – Мама! Антон приподнялся, рукой закрываясь от мчащегося на него ужаса. Конь резко остановился, обдав его снежной крошкой. Воздушной волной Верещагина опрокинуло на спину. По инерции он кувыркнулся еще раз, на руках подтянулся к сугробу. Из-за елки показалась высокая темная фигура, полоснул по веткам плащ. Лошадь, легко выпрыгивая из глубокого снега, мчалась прямо на Антона. – Отстаньте от меня! – взвизгнул он, пораженный тем, как запросто лошади преодолевают сугробы. – А-а! Антон отпрыгнул в сторону. Заорала в вышине перепуганная птица. Деревья расступились, за ними шла широкая просека. После глубокого снега на дороге Рыжий почувствовал себя легко и свободно. Он буквально пролетел хорошо утоптанную тропинку и снова углубился в лес. – Эге-гей! Голос раздался откуда-то справа и сзади. – Народ! – прохрипел Антон, падая на колени. «Где ты, где ты, где ты!» – ухало вокруг. «Ан, ан, ан», – отзывалось сердце. – Верещагин! – выл голос Карины в десяти шагах от него. – Рыжий! – со всей дури орал Андрюха Васильев. В Антона кто-то уперся, ослепил светом фонарика. Это была Настя Павлова. – Это ты, что ли? – с удивлением спросила она, вглядываясь в перекошенную физиономию одноклассника. – Эй, народ! Здесь он! – Ненормальный! Ты где был? – Васильев бежал к ним, смешно вскидывая ноги. – Верещагин! Ты что творишь? – Раздвинув группку ребят, вперед вышел Олег Павлович с горящей головней в руках. – Что с тобой? Все с ужасом уставились на одноклассника. Лицо Антона было расцарапано, из носа текла кровь, бровь рассечена. С ног до головы он был усыпан снегом. Шапка сползла на затылок и едва держалась на голове. На одной ноге вместо обуви болтался полусползший заледенелый носок. Руки, прижимавшие к груди валенок, побелели. Взгляд отсутствующе блуждал. – Что же это делается! – ахнул Паганель, которого больше всего впечатлила необутая нога. Он скинул с себя куртку, завернул в нее Верещагина, поднял его на руки. – Там, там… – попытался объяснить Антон, показывая рукой в ту сторону, откуда прибежал. – Всадники! Берегитесь! Карина взвизгнула, уронив фонарь. Все повернули головы в сторону темного леса. Там никого не было.Глава III Подслушанный разговор
Полночи Антона грели, отпаивали горячим чаем, растирали ледяные руки и ноги. Толком рассказать у него не получилось. В полубеспамятстве он твердил о черных всадниках, запретной лыжне, девочке, советовавшей поскорее убираться отсюда, и про Мишку, провалившегося под снег, потому что не послушался этого предупреждения. Девчонки ахали, Олег Павлович сокрушенно качал головой. Ребята ждали от него объяснений, а он ничего не мог объяснить. Куда делся Рыбкин? Может, он просто взял и сбежал домой? Без вещей, на лыжах дошел до города, без денег влез в электричку и поехал домой. С лыжами. Но без рюкзака. Олег Павлович потер лоб, протянул руки к догорающему костру. Что-то с ребятами творилось странное. Это не первый их поход, но никаких исчезновений до этого не было. А тут сначала Рыбкин как сквозь землю провалился, потом Верещагин на несколько часов исчез. И как нарочно – под Новый год. Все вокруг будут праздновать, веселиться, а им волноваться о пропавшем ребенке. Паганель оторвался от созерцания костра, бесшумно подошел поближе к девчачьей палатке. Кажется, это был голос Насти Павловой: – И говорит мама девочке: «Я ухожу на работу, а ты ни в коем случае не трогай черной пластинки». И говорит папа девочке: «Я ухожу на работу, ты остаешься одна, не смей включать черную пластинку». Все ушли. Девочка немного поиграла в куклы. Но ей стало скучно, она походила по квартире да и поставила пластинку. Сначала долго раздавалось шипение, а потом зловещий шепот произнес: «Здравствуй, девочка. Я смерть. Я пришла за тобой. Отдай свое сердце!» Палатка взорвалась криком, дрогнул тент. Паганель отшатнулся. За его спиной промелькнула тень. – Да ну, ерунда все это! – протянула Лиза Шульгина. – Знаем мы эти шуточки: «Девочки не стало. А пластинка так до сих пор и продолжает играть, потому что выключить проигрыватель некому». Слышали. Я таких историй сколько угодно могу рассказать. – Раз знаешь, так рассказывай сама, – обиженно засопела Настя. Палатка снова заходила ходуном, видимо, в ней кто-то переворачивался. – И расскажу, – капризно протянула Шульгина. – Такое расскажу, спать потом не будете. За палаткой проскрипели шаги. – У-у-у-у! Девчонки испуганно завизжали. Крику прибавилось, когда темная тощая фигура метнулась к приподнятому тенту и что-то бросила внутрь. Стены палатки снова затрепыхались. Олег Павлович наклонился, перехватывая темную фигуру. Перед ним мелькнула довольная физиономия Васильева. – А чего они своими сказками спать не дают! – заканючил Андрюха. – Дурак ты, Васильев, – из палатки выглянула Карина. – Тебя давно пора в психушку сдать. Тринадцать лет, а соображалка на три без хвостика. Ты своим снегом мне в лицо попал. Можешь прощаться с жизнью. Ты не жилец! – Ну вот! – Паганель поставил Андрюху на землю. – Смертный приговор ты себе уже подписал, иди, спи свою последнюю ночь. Учитель подтолкнул Васильева к палатке, полез следом. – А чего я? – пытался возмущаться Андрюха. – Может, это и не я был, а эти… Всадники. – Иди, иди, всадник, – подогнал его Олег Павлович. И лес снова погрузился в тишину. Антон проснулся от того, что ему было жарко. Свитера, спальники, шерстяные носки, две шапки на голове… От вчерашнего ужаса не осталось и следа. Голова работала четко и ясно. Он быстро вспомнил все, что произошло. Организм потребовал движения. Сразу же захотелось куда-то бежать, что-то делать, кого-то спасать. Он заворочался, выбираясь из одежек, полез к выходу. В лесу светило солнце. Воздух заметно потеплел, вдыхать его было легко и приятно. Антон сунул ноги в просушенные вчера у огня валенки. Олег Павлович уже раздувал утренний костер. Отсыревшие полешки гореть не хотели, Паганель раздувал их, кашляя от лезущего в лицо дыма. Антон махнул ему рукой, шагнул за елки и замер. В какой-то момент ему показалось, что он видит старый, хорошо знакомый фильм. Мимо него галопом проскакал белый конь, маленькая всадница в зеленой курточке как влитая сидела в седле. Следом мчался гнедой конь. Высокая хрупкая девушка, сильно откинувшись назад, изо всех сил натягивала повод, сдерживая разошедшегося скакуна. Верещагин машинально сделал несколько шагов вперед. Ему страшно захотелось посмотреть на следы. Сбоку на него вихрем налетел невысокий бурый конек. Мелькнул его расширенный испуганный глаз. – Смотри, куда чешешь! – рявкнули у Антона над головой. В седле сидела маленькая крепенькая девчонка, из-под челки она недовольно смотрела на мальчика. Конь, округлив в ужасе глаза, топтался на месте. – Давай же, Мамай! Чего встал? – крикнула коню девочка. Мамай потрусил вслед проскакавшим лошадям. – Чего? Опять шныряют здесь? Рядом с Антоном, обхватив себя за плечи, стоял сонный Васильев. Он заразительно зевал, почесывался, сонно моргая глазами. – Почему опять? – не понял Верещагин. – Вчера они здесь уже были. Мы с Рыбой их видели. – С Рыбой? – Ну да. Я же говорю – что странного в лошадях? Вот у моей бабки в деревне верблюд жил. Вот это – да! А лошади? Что в них такого? – Зачем же они каждый день здесь ездят? – Катаются, – пожал плечами Андрюха. – Маршрут у них тут, наверное, проходит. Эх, натянуть бы веревку, а когда они подъедут, дернуть. Вот смеху-то было бы! – Значит, они делают большой круг и едут домой… – Антон попытался представить, в каком направлении должны двигаться лошади, чтобы пройти просеку и выйти к поселку. – И в другую часть леса не ходят… – Да ладно – лошади… Подумаешь! – тянул Васильев. – Если бы они здесь на мотоциклах гоняли, было бы о чем говорить! – Мне нужно… – Антон развернулся, собираясь бежать обратно в лагерь, но налетел на Паганеля. – Так. – Олег Павлович взял Верещагина за плечо. – Куда спешим? Где пожар? – А тут… лошади скачут, – в растерянности пробормотал Рыжий. – И чего? – Олег Павлович поправил на носу очки. – Мы их вчера видели. Ты хочешь сказать, что это твои вчерашние всадники? – Нет, это не они. – Да ладно, – хлопнул его по плечу Васильев. – Лошади, лошади… Вот если бы верблюды. Верещагин в задумчивости засунул руки в карманы, его пальцы коснулись холодного шершавого железа. Подкова! Как он про нее мог забыть. – Я… сейчас. – Держа подкову перед глазами, Антон стал отступать к палаткам. – Я… быстро. Мне очень нужно. Всего на минуточку… Ладно, да? – Что ладно? Ты куда? Отыскав свои лыжные ботинки, Антон бухнулся в сугроб и начал переобуваться. Из палатки высунул голову Сашка Токаев. – Что, опять куда-то идем? – лениво зевнул он. – А говорили, стоим на месте. – Стоп! – Олег Павлович широкими шагами шел через лагерь. – Куда собрался? Я же сказал, что никто никуда не идет! – Олег Павлович, – взмолился Антон, – я на секундочку к ним на конюшню забегу и вернусь. Паганель отрицательно покачал головой. – Вдруг Мишка найдется! – прошептал Рыжий и шмыгнул носом. – Так! – Олег Павлович оглядел поляну. – Один ты никуда не пойдешь. – Его взгляд уперся в ухмыляющуюся физиономию Андрюхи. – Васильев! Чего стоишь? Быстро одевайся. Заодно найдете почту, позвоните Рыбкину домой. Может, он уже давно чай с кренделями пьет, а мы тут его ищем! Андрюха! Отомри! Васильев сонно поежился и полез в палатку. – Значит так, – Паганель недовольно смотрел на своих подопечных, – идёте, узнаёте и возвращаетесь. Если вас не будет в течение трех часов, мы идем за вами. Понятно? Антон кивнул, а Васильев снова заулыбался. Для него в жизни не существовало трагедий. Мальчишки нацепили лыжи и вышли из лагеря. Как только палатки скрылись за деревьями, Андрюха перестал улыбаться и остановился. – И чего тебя понесло на эту конюшню? Лошадей захотел посмотреть? – Мишка видел лошадей, прежде чем пропасть… – От волнения Антон был бледен. – Вчера вечером я тоже видел лошадей. Одна из них встала на дыбы, и лыжника не стало. Ехал он себе, ехал… а потом исчез. – Чего ты мелешь? Куда исчез? – фыркнул Андрюха. – Я откуда знаю? Был – и нет. Я думаю, так же и с Мишкой поступили. – На кой им Мишка сдался? – недоверчиво протянул Васильев. На этот вопрос Антон ответа не знал. Вдвоем они выехали из леса, сняли лыжи. Практически сразу за их спиной раздался лошадиный топот – всадницы возвращались. – Здорово, ребяты! – ухмыльнулся Васильев. Вика ответила ему ледяным взглядом. – Что нужно? – С наступающими вас праздниками! – издалека начал Антон, приноравливаясь к быстрому шагу лошади. – С Новым годом! С новым счастьем! – Дальше что? – Юная наездница не была настроена на разговор. – Вика, что они от тебя хотят? – К ним подъехала худая девчонка на высоком гнедом жеребце. – Вы кто? – Разговор есть, – догнал их Васильев. – Слезайте со своего транспорта, поговорим. – Близко не подходи – лягнет, – предупредила худая, видя, что Васильев собирается обойти ее коня сзади. – А если вы хотите говорить, пошли с нами до конюшни. Лошади поскакали дальше. – Видел, как я их? – подмигнул Андрюха. – Испугались… Сейчас все расскажут, как миленькие. Во всем признаются! Он удобней перехватил лыжи и побежал следом за всадницами. Идти пришлось долго. Ряд домов закончился железными воротами. Проходящий мимо старичок подтвердил, что это и есть фабрика, что она здесь одна и что конюшня там есть. Друзья прошли в ворота, пересекли утоптанную снежную площадку, остановились около белого длинного одноэтажного здания. Дверь была закрыта на висячий замок. – Не понял… – Васильев повертел в руках тяжелый замок. – Через что они вошли? Через трубу? Они что, ведьмы? Андрюха с Антоном задрали головы. Трубы на крыше не было. – Что вы здесь потеряли? Голос прозвучал неожиданно громко. От испуга Васильев уронил лыжи, и те с грохотом упали на порог. За ними стояла высокая худая девушка. – Что вам понадобилось? Зачем вы сюда пришли, а? «Какие-то они все неприветливые на этой конюшне», – мелькнуло в голове Антона. – А верблюдов у вас нет? – хохотнул Васильев. Девушка недовольно качнула головой. – Это все, что вы хотели узнать? – презрительно бросила она. Перед глазами Верещагина возникла темная тропинка, старая лошадь, рядом с ней девочка. Что дальше? Что дальше? Как-то она звала коня?.. Замок… Залог… Закладка… Заточка… Что-то… типа… А! Заток! – Вам привет от хозяйки Затока, – он глядел прямо в лицо девушки. Она покраснела и опустила глаза. – Пойдем, – махнула она рукой и пошла вдоль белого здания. С другой стороны дверь оказалась открытой, в дверном проеме висело одеяло. Девушка откинула его, проходя внутрь. Ребята замялись на входе. – Войдем, – зашептал Васильев, – а они нас зажарят. Или съедят сырыми, как считаешь? – Сырыми, – мрачно ответил Антон, ставя лыжи у входа. – И откусывать будут еще от живых. Так вкуснее. Он тяжело вздохнул и откинул одеяло. Васильев на всякий случай немного задержался снаружи. Первый от входа загончик был пуст, свежие опилки лежали горкой. На железной двери висела табличка: «Заток. Буденновская порода. Закат – Токана». И снизу от руки было написано: «Не поить!» В следующем деннике стоял низенький бурый конек, он просунул морду между прутьев, с любопытством принюхиваясь. На его двери было написано: «Мамай. Малыш – Майка». За ним в другом загончике стоял белый конь. – Вердер, – обрадовался Антон, просовывая сквозь прутья руку. Конь фыркнул и демонстративно повернулся к мальчику задом. – Вот хам! – выдохнул подошедший Васильев. – Эй ты! А ну повернись к нам мордой! – Вы куда пошли? Светловолосая Вика стояла у них за спиной, приглашая зайти в комнату. Ребята шагнули в распахнутую дверь и оказались в небольшом квадратном помещении. Напротив двери было окно, под ним стол, вдоль всей правой стены, завешенной одеждой, стоял высокий топчан, с другой стороны – громоздкий деревянный стеллаж, на котором ютились разномастные коробки, баночки, веревочки, чайники, чашки. Под всем этим добром на перекладине лежали седла. Около двери на крючках висели уздечки, сверху над каждой были таблички: «Вердер», «Мамай», «Офис», «Заток», «Гравёр». Крючок Затока был пуст. Под крючками стоял большой зеленый сундук, заваленный войлочными попонами, мешковинами и еще какими-то тряпками. – Ну и что же передавала Светка? Голос худой девушки отвлек ребят от изучения комнатки. – Какая Светка? – Васильев сделал круглые наивные глаза. – Вы хотели говорить – говорите. Тебя как зовут? – девушка резко повернулась к Васильеву. – Андрюха, – пасуя перед таким напором, ответил Васильев. – А это Рыжий, – расплылся он в довольной улыбке, гладя Антона по голове. – Отвали, – отмахнулся от неуместной шутки Верещагин. – Вчера вон она, – парень мотнул головой в сторону белобрысой, – сказала, что в дальнюю часть леса вы не ходите. Почему? – Там нет удобных тропинок, – ответила Вика, недовольно сощурившись. – Неправда! – вспыхнул Антон. – Другие же там скачут! – Это не наши, – тут же ответила невысокая темноволосая девочка с челочкой. Вторая темноволосая сидела рядом и молчала. – А чьи? – Верещагина начало бесить, что все они здесь сидят спокойные и равнодушные, в то время как в лесу такое творится! – Что они там делают? Куда деваются люди? – Где ты видел Светлану? – повторила свой вопрос худая. – Что она говорила? – Велела не соваться в тот лес. И тут же прискакали всадники, – мрачно сообщил Рыжий. – Значит, она там! – вскочила Вика. – Оксана! У нее все получилось! Худая девушка, которую назвали Оксаной, жестом остановила светловолосую, повернулась к Антону. – Дальше что было? – Я не понял… – замялся Верещагин. – Но мужик на лыжах исчез. И они стали охотиться на меня. А за день до этого пропал мой хороший друг, Мишка. Куда он делся? Что вы об этом знаете? – Вика, сядь! – прикрикнула Оксана на светловолосую, и та покорно забралась на топчан. – Послушайте, мальчики, я могу вам только посоветовать поскорее уехать отсюда. Ваш приятель уже не вернется. Это все, что мы скажем. – Э! Погодите! Что у вас здесь происходит? – встрепенулся ничего не понявший Васильев. – Куда Рыбу дели? – Какую рыбу? – презрительно бросила Вика. – У вас что, глюки? – Что это за черные всадники? – упрямо повторил Верещагин. – Что им надо? – Пусть они уйдут, – жалобно пискнула девочка с челочкой. – Чего они от нас хотят? – Правда, уходите, мы ничего не знаем. – Оксана стала оттеснять ребят к выходу. – Вы все спросили, что хотели? – Нет! Так не пойдет! – Антон вынырнул из-под руки девушки и подбежал к Вике. – Ты вчера говорила, что мы никого не видели, что никакой девочки с лошадью не было! А мы видели! Мы даже разговаривали. А позавчера смотри что нашли. – Он выдернул руку из кармана, протягивая на раскрытой ладони ржавую подкову. – Обыкновенная подкова, – упрямо мотнула головой Вика. – И никакой девочки с лошадьми вы не видели. Понятно? – Откуда же у вас это? – Он ткнул пальцем в пустой крючок с надписью «Заток», открыл дверь, подбежал к пустому деннику, где на табличке стояло то же имя. – Лошадь у нас была. – Девчонки столпились в дверях комнатки. Впереди стояла Вика, цедила слова сквозь зубы. – Умерла месяц назад. Так что никого вы видеть не могли. А Светку тем более. Она в поселке живет. И в лес не ходит. Еще вопросы есть? – Почему вы не ходите в дальнюю часть леса? – как заведенный повторил Антон. – Что там происходит? – Лыжников там много, поэтому мы туда не ездим, – все тем же спокойным голосом проговорила Вика. – Они пугают лошадей. – А может, это вы лыжников пугаете? – Антона несло, он задавал свои вопросы и не мог остановиться. – Может, и мы. – Со стороны создавалось впечатление, что между Верещагиным и Викой идет словесная дуэль, кто кого переговорит. – Только мы по этим тропинкам всегда ездим, а они два раза в год. И никакую лыжню мы им не портим! – Где живет Света? Девчонки переглянулись и скрылись в комнатке. В дверях осталась одна Оксана. – Уезжайте отсюда, – грустно повторила она. – Вы ничего здесь не найдете. Обыкновенные люди, обыкновенный лес. Может, ваш приятель сбежал и теперь дома сидит? Позвоните ему. Антон крутил в руках бесполезную подкову. – А правда, что она приносит удачу? – спросил он, показывая железку. – Да, если ты ее нашел в лесу, а не купил в магазине. Больше спрашивать было не о чем. – Катюхи, – позвала Оксана, – проводите их. Значит, обеих похожих друг на друга девочек зовут Катями. Под их бдительными взглядами ребята вышли на улицу. – Ты что-нибудь понял? – Васильев был явно удивлен разговором. – О чем они говорили? Какой лес? При чем здесь лыжники? – Хочешь – иди сам с ними разговаривай, – разозлился Антон. – Может, тебе они что-нибудь скажут. Видел, как окрысились? – Вы уходите? – Дверь распахнулась, из-за одеяла на них сурово глянула Вика. – Уходим, уходим, – неохотно пробубнил Андрюха, собирая разбросанные лыжи. – Постоять нельзя… Они пошли вдоль конюшни, мимо окна комнатки, откуда за ними внимательно наблюдало несколько пар глаз, добрались до площадки. – Погоди. – Антон сунул лыжи в руки Васильева. – Ты иди к воротам и стой там, я сейчас подойду. – Эй! А я? – забеспокоился Андрюха. – Иди, иди, – махнул рукой Верещагин, осматривая вход и дверь с висячим замком. Над козырьком тоже была дверь, которая, вероятно, вела на чердак. Замка на ней видно не было. Верещагин подпрыгнул, ухватился руками за одну из перекладин козырька, подтянулся. Неудобные лыжные ботинки скользили по стене, не давая возможности зацепиться и влезть на козырек. Немного покопавшись, Антон все же влез на громыхнувшее железо настила, осторожно потянул ручку двери на себя, и она беззвучно открылась. – Уходи! – Рыжий махнул рукой застывшему Васильеву. – Тебя заметят! Андрюха наконец все понял, кивнул, подхватил разбегающиеся палки и неуклюже побежал через площадку к воротам. Из-за конюшни вышла белобрысая Вика. Она внимательно посмотрела в спину удаляющемуся Андрюхе, огляделась, подошла к двери, сняла висячий замок. – Ушли! – крикнула она, исчезая за дверью. Тем временем Антон пробирался вдоль тюков сена, которыми чердак был просто забит. Под ногами мягко пружинили деревянные доски. Верещагин прикинул, где должна находиться комнатка. Просочился между мешками, нащупал под ногами какие-то деревяшки. Рыжий был убежден: девчонки сейчас обсуждают странных всадников, непонятную Светку с Затоком. Все, что они не хотели говорить Антону, они говорили друг другу. И ему просто до зарезу нужно было все это услышать. Деревяшки, заваленные сеном, не хотели сдвигаться. Антон изрядно попотел, прежде чем смог подцепить одну и передвинуть ее немного вперед. Под нею в полу оказалась небольшая щель между досками потолка. Видно в эту щель было плохо. Прямо под Верещагиным на сундуке сидели обе Кати, между столом и дверью время от времени пробегала Вика. Оксана сидела на топчане около окна и не вставала, поэтому Антон ее вообще не видел. Ему повезло: видимо, до этого все молчали, обдумывая ситуацию. – Слышите, шуршит что-то? – произнесла Оксана. Обе Кати одновременно подняли головы. Антон еле успел отшатнуться, закрыв дырку ладонью. Выждав время, он снова припал к щели. – Кошки ходят. – Вика остановилась посреди комнаты. – Здесь скоро черти ходить будут, – недовольно буркнула маленькая Катя, поворачивая голову в сторону Вики. – А что вы наменя уставились? – всплеснула руками белобрысая. – Я смотрела, он ушел! – Сходи, еще раз проверь, – попросила Оксана. Девчонки посмотрели в окно. – Неужели это была Светка? – жалобно спросила Катя с челкой. Про себя Антон сразу же окрестил одну Катю маленькой, а другую – Катя с челкой. – Была – не была, какая разница? – грубо оборвала ее Вика. – А вот и такая! – подала голос Оксана. – Они ее видели! Значит, у нее все получилось! – Надо сходить посмотреть! – Маленькая Катя покосилась на соседку, но та сидела, опустив голову, дергая ниточку на своих штанах. – Талаева! И не думай! – Голос у Оксаны стал резким и визгливым. – Как ты туда пойдешь? Слышала, что он говорил? Лыжник был, а потом его не стало. Друг его пропал. Ты тоже хочешь… исчезнуть? – Но она там одна! – еле слышно пробормотала маленькая Талаева и уткнулась в коленки. – Ага, топай, и вас там будет двое, – похлопала ее по плечу Катя с челкой. – Весело вам будет при минус двадцати в сугробе сидеть! – Это несерьезно, – взрослым рассудительным тоном заявила Оксана. – Сходить посмотреть, конечно, можно. Удастся кого-нибудь увидеть – хорошо… Но если все так, как говорил этот парень, то соваться туда не следует. – Интересно, куда люди деваются? – задумчиво произнесла Катя с челкой. – Они же не могут проваливаться сквозь землю! – Теперь ты хочешь это проверить? – подняла голову маленькая Катя Талаева. – Ладно, надо решать, что делать будем? – прервала бесполезный разговор Вика. – Предупреждаю, я туда не поеду! Я не участвовала во всем этом деле, и я его расхлебывать не буду! – А чего ты на других киваешь? – Топчан под Оксаной заскрипел. – Это было общее желание. Кто кричал, что нам мешают ездить?! Кто хотел, чтобы лес был только наш? Вот – он ваш, но ступить вы туда не можете! – А при чем тут я? – взвизгнула Вика. – Это Катька Кошелева тогда упала! Это она за Мамаем полдня бегала! – Что ты все время на меня стрелки переводишь? – заорала Катя Кошелева, та самая девочка с челкой, которую Антон до этого про себя называл тихоней. Голос у тихони оказался не слабым. – Я только предложила, а вы все поддержали! – Ага, поддержали! – Вика встала напротив подруги, уперев руки в бока. – Примчалась вся в соплях и слезах, вопила, что эти лыжники чуть Мамая не убили! Вот все и побежали за него заступаться! – Не ори на нее! – вскочила со своего места Талаева. – Ты первая стала просить, чтобы в лесу не осталось ни одного человека! – Так ведь остались! – стала напирать на нее Вика. – Вон сколько народу шныряет! Вчера тетка из проката ссыпалась. От этих лыжников опять никакого прохода нет! Вердер шарахается, на маршрут не выходит. – Хватит шуметь, – зло прервала спор Оксана. – Все хороши! Одна крикнула, другие поддержали! Антону стало неудобно лежать, он шевельнулся, и разговор внизу тут же прервался. – Что это? – Катя Талаева завертела головой, мельком глянула наверх, высунулась за дверь. – Не похоже на кошек. Вика выбежала в коридор, оттуда глухо раздался ее голос: – Нет никого, показалось. Или все-таки кошка пробежала. – Кошка, опять кошка… – жалобно пробормотала Кошелева. – Тут скоро такие кошки бегать начнут! Вилами не отмахаешься. Я ночью плохо сплю. Как вспомню этих черных всадников… Жуть. – А ты не вспоминай! – посоветовала Оксана. – Как пришли, так и уйдут. – Ага, уйдут! – зло прошипела маленькая Талаева. – Они уже месяц здесь! Хорошо, что они пока только там сидят, за просекой! А если им надоест и они переберутся в ближний лес? Вы представляете, что здесь начнется? Они же всех перетопчут! – Не должны, – как-то неуверенно протянула Оксана. – Вы просили, чтобы нам не мешали. Больше ничего! А нам мешают только в лесу. – Да нам везде мешают! – Вика вновь стала бегать по комнатке. – Эти школьники еще здесь! Какой леший их сюда принес? – Тише! Не шуми! – Топчан снова заскрипел, вероятно, Оксана приподнялась, чтобы выглянуть в окно. – Школьники здесь ни при чем. Покатаются и уйдут. А этот лес у нас останется. И если что-то случится, расхлебывать придется нам. Будьте незаметней и ведите себя скромнее. Мы уже однажды захотели, и это случилось. Хватит! А то вы все человечество с лица земли сотрете. – Было бы хорошо! – презрительно бросила Вика. – Ага! – хохотнула Катя с челкой. – На всей планете ты и Офис. Красота! – Нет, еще пускай будут те, кто косит сено и производит опилки, – ехидно добавила Вика. – Тогда одну половину человечества придется оставить, – под общий смех завершила картину будущего Оксана. – А с лесом-то что делать? – прервала веселье маленькая Катя. – Неужели теперь туда никогда нельзя будет ходить? – Посмотрим. – Оксана вышла на середину комнаты, и Антон ее наконец увидел. – Может, они, и правда, скоро уйдут оттуда. Новый год начнется, они и исчезнут. В крайнем случае, будем загадывать желания, чтобы все это поскорее закончилось. У нас же есть место, где сбываются все наши мечты. – Ага! – фыркнула Вика. – А пока мы будем ждать исполнения желаний, они уничтожат весь поселок! Ладно, я пошла Офиса поить, а то скоро прокат придет. Она что-то взяла из угла комнаты и вышла. – Куда же все-таки люди деваются? – задумчиво произнесла Катя с челкой. – Если они умирают, то вокруг этого леса уже давно бы полиция ходила. – Представляешь, – хохотнула Талаева, – сколько полицейских пропало бы! – А если вырубить все деревья, призраки останутся? – снова подала голос тихая Катя Кошелева. – Место останется. – Оксана что-то искала на полках. – И все остальные тоже. Ты ведь помнишь, почему они там появились? – Помню… – кивнула Катя с челкой. – Откуда у этого рыжего мальчика подкова? Мы ведь ничего не нашли. А у него теперь целая подкова! – Не волнуйся. – В руках у Оксаны оказалась банка. – Он ее еще потеряет. Хватит сидеть и киснуть. Пошли лошадей поить. Антон оторвался от щели. В голове все перемешалось. У него было такое ощущение, как будто девочки внизу говорили на иностранном языке. Слова вроде знакомые, но о чем идет речь, не понятно. Он встал, переступил затекшими ногами. – Да кто же там ходит! – громко воскликнула Вика. И Верещагин понял, что ему надо быстро-быстро бежать, пока его не поймали и не превратили в какую-нибудь лошадь. Стараясь не шуметь, он пробрался между тюками, приоткрыл дверь. Площадка была пуста. Выбрался на козырек. От ворот двинулись две фигуры. Антон заторопился, лыжные ботинки заскользили по железной кровле. Он скатился, еле успев зацепиться за балку. Козырек опасно накренился. Затрещала порванная куртка. Вдалеке ахнула женщина. Рыжий спрыгнул, не рассчитав высоты, отбил пятки, взвыл и, ковыляя, побежал через площадку. – Ушибся! – От ворот двигались мужчина и женщина, которых Антон видел вчера. Решив, что Верещагин сорвался с крыши, они побежали к нему на помощь. – Ничего, – поморщившись, выдохнул Антон. – Обойдется. – Он перевел дух, внимательно посмотрел на подошедших. – А вы тоже в дальний лес не ходите? – В дальний лес? Это за просекой? – оживился мужчина. – Сейчас зима, туда просто так и не пройдешь, только на лыжах. – На лыжах? – Антон перестал морщиться. – Значит, туда только лыжники ходят? – Наверное, – пожал плечами мужчина. – Тебе зачем? – Он посмотрел на ноги Антона. – Или ты тоже лыжник? – Тоже, – мрачно кивнул Рыжий. – Вам лыжники сильно мешают? – Нет, что вы! – улыбнулась женщина, лицо у нее было доброе и открытое. – Нам они совсем не мешают. Мы их ухитряемся объезжать. Хотя ругаются они часто. – На что? – искренне удивился Верещагин. – Лес ведь большой! – Говорят, мы по лыжне скачем, разбиваем ее – вот они и ругаются. – Ерунда это, – махнул рукой мужчина. – Мы и не мешаем друг другу… За спиной Рыжего шарахнула дверь. Он обернулся. На пороге стояла Вика и исподлобья нехорошо смотрела на него. Антон мило ей улыбнулся, но тут улыбка застыла на его лице. Дверь чердака, откуда он только что спрыгнул, была распахнута. Вика проследила за его взглядом. Узнавать, что она будет делать, когда поймет, кто топтался на чердаке, Антон не стал. Он обогнул мужчину с женщиной и помчался к воротам, где его уже давно ждал Васильев.
Глава IV И пришли всадники!
– Это они! Я все слышал! – Эмоции перехлестывали Верещагина через край. – Я ничего не понял, но это они вызвали всадников! Бежим отсюда! Васильев лениво подхватил лыжи и неторопливым шагом пошел следом. – Чего ты заладил – всадники, всадники… – недовольно протянул он. – Что за всадники такие, ты толком можешь сказать? – Я не знаю. – Антон наклонился, чтобы поднять упавшие палки. – Огромный черный конь выскакивает из сугроба, на нем всадник в черном плаще, на голову низко надвинут капюшон. – Уже страшно! – скривился Васильев. – Я сам видел! Ехал лыжник, на него выскочил всадник, и лыжника не стало. – Чушь какая-то! Фантастика! – Васильев развел руками, уронив лыжи на асфальт. – Ты хочешь сказать, что вчера это ты от них так чесал, что валенок потерял? – Ну да, – смутился Антон. – Ерунда! Этого не может быть! – Не может, да? А Мишка где? Ребята посмотрели друг на друга. Васильев хотел еще что-то сказать, но смолчал. Он снова подобрал лыжи и зашагал по поселку. – Сейчас позвоним, а потом пойдем смотреть на твоих всадников. И если это будут опять девочки на лошадях, то я не знаю, что сделаю! Не жить тебе, Рыжий, спокойно! – Не надо туда ходить, – мрачно попросил Антон. Васильев в ответ только хмыкнул.До Мишкиного дома они дозвонились сразу. По телефону его мама очень спокойно ответила, что ее сын не появлялся и не звонил, что после возвращения она ждет всех его друзей на пироги. Приезжайте скорее и будьте умницами! Зачем звонили? Просто так, проведать. Мишка попросил. Сам он занят разведением костра. Разгорается он плохо. А Мишка, как самый знатный костровой, неотлучно за ним следит. Эту историю Антон придумал на ходу и даже вспотел, пока все выговаривал. Мама поверила, пожелала им удачи и повесила трубку. Ребята уставились друг на друга. – Чего встал? – разозлился Васильев. – Пошли. Показывай своих призраков. – Ты уверен, что хочешь их увидеть? – Не дрейфь, прорвемся, – хлопнул его по плечу Васильев. – Я однажды городскую контрольную списал под носом у завуча, и ничего. Я везучий. Они вернулись в лес, нацепили лыжи. Вглубь убегала одна широкая натоптанная дорожка. Если по ней все время идти, то, сделав большой крюк, можно проехать к лагерю. Чуть дальше проходила просека. Она разделяла лес на две части. В ближайшей к поселку части стоял лагерь. В дальнем лесу жили призраки. Широким шагом Васильев мчался к просеке. Антон еле поспевал за ним. Ему очень хотелось развернуться и с такой же скоростью побежать обратно, залезть в палатку и никуда из нее не выходить. Но и бросить Андрюху одного невозможно. Ищи его потом в этих дурацких сугробах! Лыжня была хорошо укатанная, следов копыт не видно. Значит, больших разрушений этой дороге лошади не нанесли. Просека встретила их полным безлюдьем. Антон бежал, внимательно глядя по сторонам, пытаясь найти то место, где он шел вчера, улепетывая от призраков. Следов он должен был оставить много, потому что мчался через сугробы, не разбирая дороги. Впереди показался поворот, за ним развилка: одна лыжня идет на круг и обратно, а другая… Они еще не подошли к повороту, но у Верещагина уже что-то ёкнуло внутри. Он понял – они у цели. – Стой! Васильев недовольно обернулся. – Если мы повернем направо, то как раз попадем на ту лыжню. Лучше срезать и идти лесом. – Он кивнул в сторону разворошенных сугробов – это были его следы. – Пошли. – Андрюхе было все равно где поднимать на смех одноклассника. Он ступил на хрустнувший снег. Антон глубоко вздохнул и последовал за ним. Вчера ему казалось, что бежит он по прямой, но, судя по следам, шел он зигзагами, обегая каждое дерево. А вот и елка, под которой он сидел. – Погоди! – беззвучно прошептал Антон, но Васильев услышал его. Голова его вертелась на тонкой шее во все стороны. Он вглядывался в каждый куст. Значит, и его прижало. Только он не знал, что смотреть надо не на кусты, а на сугробы. – Давай постоим, тропинка где-то совсем рядом, – снова зашептал Рыжий, останавливаясь. – Они там сидят, в сугробах. Но могут и здесь появиться. Я сел валенок вытряхнуть, всадник на меня и выскочил. – Сугроб, говоришь? – Васильев попытался ухмыльнуться, но у него не получилось. – Правый или левый? – Слушай… – Антон почувствовал, как закружилась голова в ожидании чего-то неминуемого и ужасного. Он протянул руку. Она так сильно тряслась, что Рыжему с трудом удалось ухватиться за край Андрюхиной куртки. – Слушай, пойдем отсюда! А? Они рядом. Они наблюдают. Как только мы подойдем к тропинке, они появятся! – Шевельнулась еловая лапа, сбрасывая снег. – Не двигайся! Но Васильев упорно шел вперед. Верещагина легко толкнули в спину. Ему привиделось, что он уже пропал под копытами черного призрака. Рыжий втянул голову в плечи, мельком глянув наверх. Там сияло ультрамариновое небо, резало глаза яркое холодное солнце. За спиной вздохнули. Антон повернулся. Его глаза встретились с тусклым серым глазом старой лошади. Это был Заток. Нос у него был припорошен снегом. Вблизи морда оказалась совсем седой. Нижняя губа отвисла, обнажая редкие гнилые зубы. Его хозяйки видно не было. – Тебе чего? – Страх постепенно отходил, но что-то не позволяло Антону выдохнуть. Конечно! Сначала появляется эта пара, всадники приходят следом. Антон осмотрелся. Васильев уже скрылся за ближайшими елками. Заток медленно обошел Антона и снова боднул его, подталкивая в сторону просеки. – Ты хочешь, чтобы мы ушли? – прошептал Верещагин. Заток мотнул головой, с шумом втянул в себя воздух. Рыжий еще не видел, но уже ощутил, что всадники где-то здесь. Они ищут новую жертву. И, скорее всего, этой жертвой будет кто-то из них. Снова вздрогнула елка. И прямо из сугроба стала подниматься фигура лошади. Зверь как будто лежал там, припорошенный снегом. Но вот он встал, отряхнулся. Звякнула сбруя. Снег взлетел вокруг лошади прозрачной вуалью и медленно сполз с ее покатых боков. Над седлом взметнулась черная тень. Всадник вставил ноги в стремена, коснулся пятками лошадиных боков и двинулся к тропинке. На Антона он даже не посмотрел. От удивления Рыжий открыл рот, машинально сделал несколько шагов за ним. Он никак не мог решиться – либо окликнуть Васильева, чтобы тот обернулся и увидел преследователя, либо тихо идти следом, оставаясь незамеченным. А вдруг всадник Васильева не увидит, но если Верещагин начнет кричать, то выдаст и себя, и приятеля. Антон медленно двигался вперед, надеясь, что в этот раз повезет и им удастся вернуться в лагерь. Ничего не видящий Васильев упорно шел к тропинке. До нее оставалось немного, когда из ближайшего сугроба прямо на Андрюху выскочил всадник. – Берегись! – запоздало крикнул Рыжий. Его крик перекрыло шипение. – Жертва! – пророкотал выскочивший всадник, рукой показывая на Васильева. От неожиданности Андрюха качнулся, лыжная палка полетела в сторону коня. Тот шарахнулся, споткнулся и начал заваливаться на бок. Всадник делал отчаянные попытки удержать его на ногах. Антон почувствовал, как отяжелел правый карман его куртки. Счастливая подкова! Неужели она может помочь? Между тем Васильев, усиленно работая руками и ногами, пытался выбраться на тропинку. – Назад! – Верещагин сжал подкову в кулаке и побежал за приятелем. – Не выходи на тропинку! Стой! Казалось, одноклассник не слышит его, штурмуя последний перед тропинкой сугроб. – Человек! – ахнул лес. Андрюха оглянулся. На него во весь опор мчался третий всадник. Васильев попытался отойти в сторону, уступая ему дорогу, запутался в лыжах, покачнулся и упал. В этот момент всадник поднял лошадь, чтобы опустить ее на свою жертву. Копыта взрыли снег рядом с торчащим из сугроба задом Андрюхи. Конь протяжно заржал, пронося всадника дальше по дорожке. Перемахнув через высокий снег, на тропинку выскочил еще один всадник. И тут же за ним, прихватив с собой чуть ли не весь сугроб, на дорожку вывалился Антон. – Уходи! – крикнул он приятелю, размахивая руками. – Беги к просеке! Дальше они не пойдут! – Люди! – вздохнул лес. У Васильева никак не получалось встать, он барахтался на скользкой лыжне, ноги его разъезжались, палки он успел потерять. Пока первые два всадника разворачивались, третий выбрался на тропинку и легкой рысцой пошел на Андрюху. Не в силах встать, тот пополз. – Стой, гад! – завопил Рыжий, поворачиваясь к наезднику и выхватывая из кармана подкову. – Отстань от него, а то как долбану тебя сейчас! Звезды с неба посыплются! Не останавливаясь, всадник повернул в его сторону голову, повел рукой. Сзади раздался топот. Значит, подкова не помогает. Антон сжал ее в ладони. – Чтоб ты провалился! – выкрикнул он, бросаясь вперед. Он этого так искренне сейчас захотел, что даже голова заболела от подкатившей к горлу ярости. Всадника как будто что-то толкнуло в спину. Он вздрогнул, изогнулся, капюшон сполз на плечи, открывая светлые волосы, четко очерченные скулы, острый нос, прищуренные злые глаза. Антон, осененный страшной догадкой, открыл рот, но ничего сделать не успел. Девочка, очень похожая на Вику из конюшни, опрокинулась назад, дернув на себя повод. Конь взметнулся на дыбы, мгновение постоял ровной свечкой. Но всадница все больше и больше откидывалась назад, утягивая за собой коня. Оба они кувырнулись на спину, лошадь поверх всадницы. Взлетел снег, скрывая упавших. И все исчезло. Тропинка оказалась пуста. Ни всадницы… Ни Васильева! Антон заторопился. Он выкатился за поворот, и камень свалился у него с души. Кувыркаясь и оскальзываясь, Андрюха ковылял по лыжне. Вдвоем они выбежали на просеку. Сзади снова раздался топот. – В лес! Здесь граница! На полной скорости они врезались в елку. Васильев отполз подальше, засунул в рот варежку и стал с шумом высасывать из нее воду. – Во, черти! – наконец проговорил он. – Я думал, не дойду, задохнусь! – Значит, убедился? Все? Тебе хватило? – Антон лицом упал в снег, пытаясь остудить полыхающие жаром щеки. – Хватило! – Лицо Васильева расплылось в довольной улыбке. – Надо же как они… Хотя и не верблюды… – Ненормальный! – не выдержал Антон. – А если бы мы не убежали? Экспериментатор ненормальный! Если захочешь еще что-нибудь выяснить, то делай это без меня! Антон выглянул из кустов, изучая, что делается на просеке. Оба всадника стояли на дороге, конь одного из них копытом копал снег. Из леса вышел Заток, грустно мотнул головой, принюхался и… пошел дальше. Он медленно проплелся мимо ребят, взял вялыми губами еловую ветку у них над головой, пожевал, выплюнул и побрел через сугробы. Антон, не веря своим глазам, смотрел на удаляющегося коня. Он перешел границу! Рыжий толкнул разомлевшего Васильева. Всадники еще мгновение потоптались на просеке, конь одного из них последний раз взрыл копытом снег, и они оба одновременно шагнули в ближайший сугроб. – Дорога! Жертва! – пророкотал наездник, приподнимаясь на стременах. Он оглядел ближайшие кусты и деревья. – Вам не уйти! Васильев выплюнул варежку изо рта, приподнялся на локте. – Куда это они? Ты же сказал, что дальше они не пойдут! – Значит, пойдут! Бежим! – Антон вскочил. – Вот они! Лес взорвался эхом. Теперь, казалось, все действовало против ребят. Кочки не давали им проехать, лыжи тонули в сугробах, ветки загораживали дорогу, кусты цеплялись за куртки и штаны. Всадникам здесь тоже приходилось туго. Они передвигались уже не так легко, как раньше: кони глубоко проваливались в снег. И следы их уже не исчезали. Это Антону почему-то запомнилось особо. Кувырнувшись на очередной кочке, Рыжий почувствовал, что в ноге его что-то хрустнуло и ей стало невероятно легко. Он испуганно схватился за лодыжку. Но нога была цела, сломалась лыжа. Подбирать обломки не было времени. Верещагин быстро отцепил вторую лыжу и пополз вперед. Васильев ковырялся сзади. – Заток, ты где? – негромко позвали рядом. Мелькнула знакомая невысокая фигура с рыжими распущенными волосами. – Тошенька, куда ты делся? – тихо позвала она. Верещагин чуть не налетел на девочку, и только тогда Света его заметила. – Осторожно! – крикнул Рыжий, откатываясь в сторону. Снег под черными копытами взорвался сотней ледяных осколков. Светины глаза расширились от удивления и ужаса. Антон сделал еще несколько шагов, за деревьями показались ярко-оранжевые тенты палаток, поднимался к небу слабый дымок от костра. В отчаянии он обернулся – вместе с Васильевым они вели всадников к лагерю. Что делать дальше, он не знал. Обратно бежать они не могли, выбираться к поселку было бессмысленно. Оба всадника нависли над Андрюхой, одному из них оставалось сделать последний прыжок. И тут Антон не выдержал. – Помогите! – крик сам собой вырвался у него из груди. – Андрюха! Но было поздно. Черные всадники одновременно опустили своих коней над закапывающимся в снег Васильевым. По лесу прокатился вздох. Взлетела снежная крошка. Первой заорала Карина. Всадники тут же отреагировали на этот крик, повернув лошадей в ее сторону. Ребята качнулись назад. Кто-то упал, на кого-то наступили. Среди пляшущих цветных шапок и курток мелькнула худощавая фигура Паганеля. Он быстро оглядел поляну, выдернул из костра горящую головню и шагнул навстречу всадникам. – Кто бы вы ни были – убирайтесь отсюда! – прокричал он, размахивая шипящей головешкой. – Ни шагу дальше! Всадники переглянулись. Видимо, огонь их отпугивал. Один из них склонился с седла, рукой провел черту в снегу. – Вы не проживете и дня, – прошипел он. – Вы испугаетесь собственного страха! – Резко развернул коня и неожиданно легко, хотя до этого жеребец тонул по брюхо в сугробах, потрусил прочь. Второй всадник исчез вместе с ним. Рядом плакали. Антон повернул голову. Света сидела на том месте, где только что был Васильев, ладошкой гладила белый снег, слизывала с губ слезинки. – Уходите! – как заведенная повторяла она. – Вам нельзя здесь оставаться! Это нехорошее место! Слишком много здесь было сказано слов и проклятий! Уходите! Собирайтесь и уезжайте, пока они не вернулись! Они придут и всех вас убьют! Всех! Она уже не гладила снег, а в слепом бессилии колотила по нему кулачком. Антон подполз к ней поближе. – Кто они? Откуда они взялись? – Не знаю! – Света зарыдала в голос. На ее рыдания из-за елки вышел Заток. Он грустно посмотрел на хозяйку, качнул мордой и тяжело вздохнул. – Они сами пришли! Не было меня тогда. Катька Кошелева ехала на Мамае, какой-то лыжник махнул палкой. Мамай на дыбы встал, сбросил Катьку и ускакал. Они его целый день искали. И там, в лесу, что-то произошло! – Лошадь фыркнула, как бы зовя хозяйку за собой. – Уходите! Они вас не забудут. Их ничем нельзя остановить! Бегите отсюда. И никогда! Слышите? Никогда не ходите в тот лес. Если вы не послушаетесь, произойдет что-то страшное. Я чувствую это. Пока они сидели там, у себя, все еще можно было исправить. Но проклятье вышло за пределы запретного леса. Ему теперь нет преграды. Оно будет уничтожать каждого, кого увидит. Вы не спасетесь. – Теперь с каждым словом глаза ее высыхали, голос становился глуше и злее. – Ничего уже сделать нельзя! И вы будете их следующей жертвой. Вот увидите! Уходите! Она быстро встала, схватила Затока за гриву, одним махом перекинула ногу, уселась на его спине, и они медленно ушли за деревья. Антон поднялся на трясущихся ногах. Голова шла кругом. Он сделал шаг вперед, и тут весь мир взорвался для него радужными красками. Снег ринулся из-под ног. Его дернуло в сторону и вниз. Казалось, он безостановочно падает в пропасть и никак не может упасть. Перед глазами ошарашенного Антона промелькнула черная блестящая шерсть. Выскочивший из сугроба конь толкнул его в грудь, отчего Верещагин, взмахнув руками, навзничь упал в снег. – Антоха! Тошка! Верещагин! Рыжий! – Лагерь кричал и вопил на разные голоса, призывая одноклассника за безопасную черту. Конь топтался рядом. Всадник ждал хотя бы одного движения от человека, чтобы начать действовать. Но Антон не двигался. На него напало тупое безразличие. Он лежал в сугробе, и ему было так хорошо, как давно уже не было. До этого все время приходилось куда-то бежать, с кем-то разговаривать, кому-то что-то доказывать. А теперь можно просто лежать и смотреть на снег. Оцепенение уходило медленно. Сначала вернулся звук – орали ребята. Потом Верещагин стал чувствовать свои руки и ноги. Ногам было холодно в тонких лыжных ботинках, а засунутым в карманы рукам стало неудобно – в ладонь правой что-то впивалось. Подкова! Снова она! Конь недовольно фыркнул. Звякнули железки сбруи. – Не нравится, да? – равнодушно пошептал Рыжий, помахивая перед всадником подковой. – Может, теперь она на тебя подействует? Он размахнулся и швырнул свою, как ему казалось, ценную находку в коня, стараясь попасть по морде. Конь шарахнулся, уклоняясь от летящего предмета. И только тогда Антон понял, что ошибся. Что все дело не в подкове и зря он ее бросил. Потому что этого движения и ждал всадник. Он ждал реакции на свое появление – ненависти, испуга, злобы. Пока к нему никак не относились, он не мог кинуться. Как только его начинали бояться или ненавидеть, он бросался в бой. Антон помчался к своим, до них было рукой подать. Каринка с Лизой рыдали, обняв друг друга, Настя зачем-то ползла вперед. Олег Павлович застыл, вытянувшись по стойке смирно. Вовка с Сашкой скакали, как два зайца, размахивая руками. Сидоров от возбуждения высунул язык. Верещагин видел перед собой черту, которую провел всадник. Голову захлестывал ужас, казалось, что конь вот-вот опустит на его спину могучие копыта. Антону мерещилось, что он уже видит, как из-под сползшего капюшона на него смотрят испуганные глаза маленькой Кати Талаевой. Через черту он не перешел, а перепрыгнул, приземлившись на руки ребят. – Тоха! – раздался общий вопль. Лошадь черной тенью мелькнула над снегом и исчезла. – Подкова, – прошептал Рыжий, когда общими усилиями его удалось оттащить к палаткам. – Я сейчас за ней сбегаю! – отозвался Токаев. – Стоять! – рявкнул Паганель, отчего остановились все. Рыжий выпал из ослабевших рук. – Никто никуда не пойдет, – более спокойно добавил Олег Павлович, помогая Антону подняться. – Все остаются в лагере и никуда дальше трех шагов от костра не отходят. Это понятно? – Все неуверенно закивали. – Карина, что у нас с обедом? – повернулся он к остолбеневшим девчонкам. – Готов, наверное, – пожала плечами Смирнова, оглядываясь на потухший костер. – Чтобы через полчаса обед был готов. – Добрый и хорошо знакомый Паганель вдруг стал жестким и непривычно строгим. – Верещагин, иди переодеваться, вернешься, все расскажешь. Токаев, помоги девочкам развести костер. Сидоров, принеси миски и весь запас шоколада. Повторяю, из лагеря – ни ногой! Он внимательно посмотрел на каждого и отвернулся. – Подкову бы вернуть… – зашептал Антон. – Может, пригодится… – После поговорим! – суровый голос Паганеля не допускал возражений. Антон быстро переоделся, сунул ноги в валенки и юркнул за палатки. Ему казалось, что роковой черты уже не должно быть видно – столько по ней скакали. Но она виднелась – четкая, ясная, глубокая. Рыжего передернуло от ее вида. Вокруг не было никого. В десяти шагах от черты, на самом верху чудом сохранившегося сугробика, темнела в холодном свете солнца подкова. Добежать бы до нее, схватить и прыгнуть обратно… Искушение было слишком велико. Верещагин дернулся, но на его плечо тут же легла чья-то рука. Он испуганно обернулся. – Далеко собрался? – сурово спросил Олег Павлович. – Ты ничего не хочешь нам рассказать? И Антон рассказал. Про всадников, про конюшню в поселке, про девчонок, про Свету с Затоком, что вроде бы она почти то же, что всадники, но немного другая, и о том, что мама Рыбкина ждет всех на пироги. На время рассказа все забыли про остывающую кашу, до того ошеломляло услышанное. Потом долго молчали, уткнувшись в свои тарелки. – Считаешь, подкова может помочь? – спросил Олег Павлович. Было видно, что ему очень хочется сохранить суровое выражение лица, но что делать, он не знает, и постепенно его глаза теряют уверенность, улыбка превращается в растерянную ухмылку. – Девчонки на конюшне сказали, что я ее не зря нашел. – Антон вертел в руках миску с кашей – есть не хотелось. – А давайте, я схожу, – снова вызвался Токаев. – Я очень люблю лошадей, этим летом в конный поход ходил. Я их не боюсь. – Ну да, – встряла Каринка, облизывая ложку, – откуда ты знаешь, что они считают страхом, а что нет? Мишка, между прочим, пятиборьем занимается, сам на лошадях скачет. Он-то чего испугался? – Надо ни о чем не думать, тогда пройдешь. – Верещагину нравилось, что он находится в центре внимания. – Попробуй хотя бы секунду не думать о белом зайце, – пробормотал Паганель, ковыряясь палкой в костре. Все заулыбались – это была их классная шутка. А ведь правда, как можно не думать об этом самом зайце, когда он так настойчиво лезет в голову? – Может, попробуем найти тех девчонок с конюшни и все у них узнать? – тихо подала голос Настя Павлова. – Хорошо бы, только как туда пройти? – усмехнулся Вовка. – Как только ты шагнешь из лагеря, тебе больше уже никуда не понадобится идти. Всадники решат, в каком сугробе тебя поселить. – Надо бежать отсюда! – вскочила Карина. – Давайте! Быстренько соберемся, свернем лагерь и уйдем. Они же именно этого от нас хотят! Все! Хватит! Насиделись мы на этом морозе! Поехали домой! Поехали! Я домой хочу! Ну, пожалуйста! – Она заплакала, уткнувшись лицом в ладони. Настя шмыгнула носом, растерянно посмотрела по сторонам. Лиза схватила первые попавшиеся миски и шагнула за палатки. Оттуда раздалось всхлипывание. – Так! – Олег Павлович оглядел свою поникшую гвардию. – Никуда мы сейчас, конечно, не пойдем. Если подкова нужна, мы ее достанем. Тоха, ты говоришь, твои знакомые с конюшни еще проедут по ближайшей дорожке. Они же не знают, что всадники вышли из запретного леса, значит, обязательно здесь появятся. Вот тогда-то мы их и попробуем перехватить. Так! – На лице Паганеля мелькнула довольная улыбка, значит, он что-то придумал. – Сашка, Тоха, пошли добывать подкову счастья. Девочки, на вас посуда. Вовка, ты за главного. Чтобы костер полыхал до небес! Все одновременно встали и разбежались по своим делам. Паганель с ребятами подошел к черте. – Лыжной палкой не дотянемся. – Учитель прикинул расстояние до подковы. – Придется перейти черту. Значит, их нельзя бояться и ненавидеть. Так? – Видимо, они чувствуют злобу, – зашептал Антон. – Я тогда очень сильно захотел, чтобы один из всадников провалился. Разозлили они меня – скачут и скачут. Я и сказал: «Чтоб ты провалился». Он и провалился. – Лучше бы пожелал что-нибудь другое, – в тон ему зашептал Паганель. – Например, чтобы Васильев с Рыбкиным вернулись. – Васильев тогда со мной был, – растерялся Верещагин. До него вдруг дошло, что во всех своих поисках он ни разу искренне не захотел, чтобы Мишка вернулся. Ему хотелось его найти. Первому. Чтобы все позавидовали, какой он ловкий и догадливый. Антон выпрямился и представил Мишку, неуклюже топающего на лыжах прямо по сугробам. Вспомнил, как он криво улыбался каждый раз, когда Паганель вызывал его к доске путешествовать по карте, которую он почему-то не мог выучить и все время путал Австралию с Аргентиной. Как же Антон соскучился по нему! День не видел, а уже соскучился по его нытью и постоянному желанию куда-то бежать и что-то смотреть. Скорей бы он вернулся. В конце концов – кто завтра за него пироги есть будет?! – Можно, я схожу? – снова предложил Токаев. – Я не боюсь лошадей, мне даже интересно посмотреть на них поближе… – Стойте! – Олег Павлович замер, лицо его стало сосредоточенным, он к чему-то прислушивался. – Снег хрустит. Сюда кто-то идет. – Лыжники? – заранее испугался Антон. – Предупредить бы их! Три рта перестали дышать, три пары глаз внимательно оглядывали сугробы, пытаясь предсказать, из какого сейчас вылетит черная тень. Но снег оставался неподвижным, все так же блестя под бледным зимним солнцем. Шаги приближались. – Уходите! – одновременно крикнули все трое. На крик лыжник поднял голову. Красная шапка с двумя помпонами! На них с удивлением смотрел Миша Рыбкин. – Куда? – не понял он. – О! Моя подкова! – обрадовался Мишка, заметив ржавую железку. – А я думал, куда она затерялась? А она вот, хорошая моя! Рыбкин поднял подкову. Ребята затаили дыхание. Олегу Павловичу ужасно захотелось закрыть глаза. Но ничего не происходило. Мишка сунул подкову в карман и, проваливаясь палками в снег, пошел дальше. Он даже не обратил внимания на черту, все еще чернеющую у ног одноклассников, и учителя. Все с ужасом ждали его приближения к роковой границе. Но перешел он ее так же легко, как и весь участок леса до лагеря. – Рыба! – от полноты чувств Антон шарахнул приятеля кулаком по плечу. – Откуда ты взялся? – Ты чего, Рыжий, совсем ошалел? – растерялся такому приему Мишка. – Из леса, конечно. Только как это вы прежде меня оказались в лагере? Вы же собирались еще несколько километров пройти? Ребята настороженно глянули на возродившегося одноклассника. – Как прозвище учителя географии? – глядя прямо в глаза Мишки, спросил Токаев. – Паганель. – Рыбкин покосился на замершего рядом Олега Павловича. – А что? – Так! – Учитель шевельнулся, сгоняя оцепенение. – Это уже слишком! – И зашагал к костру. Ребята закидали Мишку вопросами, но тот ничего не мог рассказать, он считал, что все еще находится во вчерашнем дне. Что он только что поговорил со Светкой, удачно увернулся от скачущего по тропинке всадника, встал и пошел в лагерь. – Я так ждал, так ждал! – в сотый раз повторял Рыжий. – Это Олег Павлович посоветовал. Говорит, захоти, чтобы Рыбкин вернулся. Вот я и захотел! – Все ясно, – перекрывая радостный шум, прокричала Карина. – Давайте возвращать Васильева, и ходу отсюда! Но сколько ребята ни пыжились, Васильев не появлялся. Может, они не очень хотели, чтобы он вернулся? – Пока мы во всем не разберемся, никто никуда не пойдет, – сухо произнес Паганель. – Всадники не дадут нам отсюда выбраться целыми и невредимыми. – А как же Новый год? – пискнула Настя. – Понадобится, так и Новый год здесь встретим, – отрезал учитель. Спорить с ним никто не стал.
Глава V Злое слово не воробей, вылетит и к тебе же вернется
– Смотрите, смотрите! – Настя первая заметила лыжника. Невысокий сухонький старичок в легком спортивном костюме, на голове шапочка-петушок. Бежал он легко, словно скользил не по снегу, а прямо по воздуху. Ребята молча следили за его передвижениями. – Эй, – позвал Сашка. – Не ездите тут лучше. – И замялся, не зная, как лучше сказать – «вас здесь затопчут» или «вас здесь убьют». Лыжник выпрямился. – А что происходит? – весело крикнул он. – Соревнования? – Здесь лошади! – брякнул Антон. – Это ничего! – просто ответил старичок. – Я им не помешаю! – Тут одна бешеная лошадь людей топчет, – с трудом выдавил из себя Верещагин. – Да? Постараюсь ее объехать, – махнул палкой старичок и покатил дальше. – Может, все закончилось? – с надеждой спросил Вовка Сидоров. – Где тогда Васильев? – возразил Паганель, с трудом отводя глаза от исчезающей невысокой фигуры. – Все правильно! – воскликнул Рыжий. – Этот лыжник их не боится! Говорит, что он им не мешает! Они ему тоже не мешают… – А мы, значит, мешаем? – буркнул Саша, расстроенный тем, что старичок его не послушал и поехал-таки дальше. А ведь он может уже и не вернуться. – Что-то я запуталась, – потерла лоб Лиза. – Сложно все получается. Бояться – не бояться… Кто это все определяет? Как они решают, на кого надо напрыгивать, а на кого нет? Но ответов на эти вопросы ни у кого не было. В лагере царила тишина и скука. Олег Павлович в задумчивости перебирал струны гитары, девчонки молчаливо сидели в палатке, мальчишки, не говоря ни слова, топтались около костра. Что делать дальше, не знал никто. – А не поставить ли нам чайку? – потянулся Паганель. Да так и замер. Из-за елок показалась лошадь. Это был белый Вердер. Оборванная уздечка волочилась по снегу, седло съехало на бок, морда коня была в царапинах. Конь дожевал еловую ветку и вопросительно посмотрел на людей. – Вот это да! – ахнул Рыбкин, вскакивая. – Откуда ты? В ответ Вердер фыркнул и мотнул головой. – Они там что, с ума все посходили? – нахмурился Антон. – Зачем они лошадь отпустили? – Иди сюда, маленький! – Миша протянул руку с куском черного хлеба. Конь принюхался и пошел на угощение. – Ничего себе маленький! Не веди его сюда! – вскочил Вовка. – За ним же сейчас все всадники леса прискачут! – Не прискачут. – Рыба скормил зверю хлеб, подхватил поводья, потрепал коня по шее. – Он от них убежал. Теперь он наша добыча! Карина высунула голову из палатки. – Чем ты будешь эту добычу кормить? – поинтересовалась она. – Надо на нем покататься, пока хозяева не пришли, – нашелся Сашка. – И куда вы собрались ехать? – усмехнулся Олег Павлович. – Вокруг костра? По лесу прокатилось протяжное ржание. Вердер вздрогнул, задрал голову и тоже заржал. – Они уже идут! – взвизгнула Карина, исчезая в палатке. Рыбкин скептически посмотрел на коня, бросил повод и слегка толкнул Вердера в белый бок. – Иди отсюда, – попросил он. Вердер развернулся, носом подлез под Мишкину руку. – Хлеба просит, – догадался Сашка. Вердер еще раз мотнул головой и начал копать ногой снег. – Еще чего он просит? – мрачно спросил Антон. – Может, ему икру на подносе принести? На икру конь не согласился. Он вздрогнул, переступил на месте и лег в снег, что вызвало бурный восторг среди ребят. Навалявшись вволю, конь встал, встряхнулся и снова шагнул к Мишке. – Гони его! – подскочил Антон. – Нечего его приваживать! Еще понравится, он от нас вообще никогда не уйдет! Верещагин плечом навалился на круглый бок лошади. Вердер покосился на него и сделал шаг в сторону. Не удержавшись на ногах, Рыжий плюхнулся на снег. Вокруг засмеялись, зафырчал и конь. – Издеваетесь? – рассердился Верещагин. – Вот увидите, за ним сюда придут! И за ним пришли. Ломая кусты, к палаткам выбрался невысокий рыжий конь Гравёр. Увидев Вердера, он замотал головой, принюхался, вытянул морду и заржал. Вердер равнодушно покосился на него и снова ткнулся в плечо Рыбкина, требуя угощения. – Сейчас у нас здесь целая конюшня соберется, – мрачно предрек Рыжий, отходя подальше. Тихий день переходил в тоскливый вечер. В верхушках деревьев поднялся ветер. Он протяжно гудел, рождая в душе ребят тревогу. Лошади прядали ушами, косясь по сторонам. Даже костер перестал трещать. Ребята вертели головами, ожидая очередного визита. Поляна замерла, готовясь принять нового гостя. Первым учуял чужака Гравёр. Конь задергался, пытаясь сорваться с привязи, затанцевал на месте, заржал. К черте подъехал всадник. Черный конь тяжело дышал, глаза его блестели. Уткнувшись в невидимую преграду, лошадь и всадник дрогнули и пропали. Лес предупреждающе ухнул. И тут же на тропинке показалась Вика, Офис под ней шел широкой рысью. Увидев столпившихся ребят, она остановилась. – Он здесь! – нехотя крикнул Токаев. – Призрак на черной лошади. Вика кивнула. – Лошади у вас? – спросила она. – У нас! – Сашка встал, готовый защищать коней, к которым успел привязаться. Вика снова кивнула и тронула повод. Всадник выскочил из-под елки снежным вихрем. Конь под Викой с места скакнул вбок, встал на дыбы, забил передними ногами. Вика перегнулась вперед, еле держась в седле. Черный конь тоже встал на дыбы, призрак чуть откинулся назад, сбрасывая с головы капюшон. На какое-то мгновение все замерли, завороженные этим потрясающим зрелищем. Вика заорала, падая на шею Офису, заставляя его опуститься на землю. – Сюда! – хором завопили ребята. Не выдержав напряженного момента, Сашка побежал к тропинке. Он успел сделать несколько шагов, прежде чем сбоку на него выскочил второй всадник. – Жертва! – ахнул лес. – Человек! – отозвались деревья. Лес потонул в криках и визгах. Забыв обо всем, Антон прыгнул следом за Сашкой. Паганель успел перехватить дернувшегося за ним Рыбкина. Карина упала в снег, закрыла глаза и тихо заплакала. Настя, воинственно блестя очками, стояла, вытянувшись, сжав кулаки, готовая в любую минуту сорваться с места и вступить в драку. На тропинке все смешалось. Офис крутился на месте, Вика нещадно колотила по его бокам пятками. Вокруг них скакал черный конь, пытаясь встать так, чтобы удобней было прыгнуть. Но сделать это ему не давали. На тропинку выскочил Сашка. Увидев его, Офис взбрыкнул и понесся прямо на Токаева. Закрыв голову руками, тот упал в сугроб. Гнавшийся за ним конь споткнулся, пролетев мимо. Взлетел снег – призрак упал в одну сторону, конь кувыркался в сугробе в другой стороне. Офис резко остановился, чуть не сбросив белобрысую Вику, развернулся и помчался по лыжне. Первый всадник направил свою лошадь за ним. Второй всадник выбрался из снега, легким движением вскочил в седло и поскакал следом. – Куда? Стой! – Сашка копался в сугробе, пытаясь вылезти из него. – Отстаньте от нее! – Совсем чокнулся? – рядом с ним упал Антон. – Он же мог тебя убить! – Догнать бы их! – Сашка с завистью смотрел вслед ускакавшим всадникам. – Ничего, без тебя догонят! – Паганель вытащил Токаева из сугроба, встряхнул и поставил на ноги. – Быстро обратно! Повторять не пришлось. Мальчишки заспешили в лагерь. Лес ахнул, вздрогнула земля. На тропинку вылетел черный всадник, крутанул коня, оглядываясь. – Проклятье! – шарахнулось от деревьев. – Не стойте на пути проклятья! Вам не пересилить предначертанного! Запрет нарушен! Слова произнесены! Он ускакалобратно, оставив ребят в немом оцепенении. С треском ломая сучья деревьев, на тропинку из леса выбрался Офис. Викины глаза были расширены от ужаса. – Сюда! – подпрыгнул Сашка. – За черту! Вика развернула коня. Сугроб перед ней раскрылся, выпуская всадника. – Нет! – взвизгнула девочка. – Вы не на тех охотитесь! Вы должны лыжников уничтожать! Всадник не стал ее слушать. Его конь прыгнул вперед, прямо на ошалевшего от всего происходящего Офиса. Тот дернулся. Вику приподняло над седлом, мотнуло, и она полетела на снег. Но упасть не успела. Черный конь накрыл ее своим телом. Взвился снежный вихрь. И все исчезло. Только Офис, не понимая, что случилось, бегал туда-сюда по тропинке, мотая головой. – Вот зараза! – выдохнул Сашка, падая в снег. – Поставить бы какой-нибудь предупреждающий знак, чтобы сюда никто не ходил, – подала голос Настя. – Бежать надо! Бежать! – как заклинание повторяла Лиза слова Карины. – Ну вот, – прошептал Антон, на которого все эти события, казалось, произвели наибольшее впечатление, – табун мы у себя собрали, теперь можем альтернативную группу создавать. Будем ездить за призраками и возвращать людей. Только, боюсь, надолго нас не хватит. – Лошадь, иди сюда! – позвал Саша, протягивая руку. – Его Офис зовут, – подсказал Рыжий, и тут его осенило. – Стойте! Мишка! Ты помнишь, сколько было всадников с самого начала. – Трое, кажется… – Миша потер лоб. – Да, трое. Один еще такой на низенькой лошадке. – Трое! А теперь их двое! – Один спать пошел, – мрачно пошутил Вовка. – Нет! – торжественно воскликнул Верещагин, поднимая палец вверх. – Он исчез! Я же говорил – тогда, на дорожке, я пожелал, чтобы он провалился! И он пропал! – Да иди ты сюда! – Сашка уже устал тянуть руку к непонятливому коню. – Давай, топай, тут жрать дают! Офис тянул морду, но идти не торопился. – Ты что же, предлагаешь всем нам отправиться на другой конец леса, чтобы пожелать этим всадникам провалиться в тартарары? – усмехнулся Вовка. – Давайте я пойду! – встрепенулся Сашка. Ему надоело уговаривать Офиса, и он бросил хлеб около черты. – Глупое животное, есть захочешь, само подойдешь. И как ни странно, на коня это подействовало. Он сошел с тропинки. – Никто никуда не пойдет, – категорически заявил Олег Павлович. – Вы что же думаете, всадники вас просто так пропустят? Найти бы тех, кто все это устроил, и уши оборвать! – Кто устроил, кто устроил… – проворчал Верещагин. – Девчонки эти и устроили! – Вот молодец! – Сашка подхватил повод подошедшего Офиса. – Теперь у нас будет своя конюшня. – Девчонки, говоришь? – пробормотал Паганель. – Что же, им и самим сейчас несладко приходится. Через час лес снова ожил. Но это уже были обыкновенные человеческие голоса: – Вика! Жирнова! – Вика! Офис! – Люди! Голоса то приближались, то удалялись. Кони начали нервничать. – За лошадьми идут, – догадался Антон. – Вика! – отозвался лес. – Они что, все сюда идут? – подняла глаза от книги Настя. – Их там еще трое оставалось, – вспомнил Рыжий. – И один конь. Сашка оглядел поляну: – Четвертого коня ставить будет некуда. Крики приближались. – Предупредить бы их, чтобы не шли сюда, – подала голос Настя. – Если они в лесу, то им все равно, где быть. – Сашка скатал снежок. – Не обязательно здесь. – Он прицелился и запустил снежок в ближайший сугроб. – Теперь у этих всадников целый лес. – А давайте отвлечем этих всадников на себя? – Сашка так и сыпал гениальными идеями. – Я выйду. Они поскачут за мной. И пока мы будем бегать, вы проведете девчонок. – Не годится. – Олег Павлович снял очки, протер их и снова водрузил на нос. – Ты не знаешь, куда бежать. Можешь выскочить как раз на этих девчонок и вывести на них всадников. Тогда мы вообще никого не найдем. Как будто услышав его, из сугроба поднялся черный призрак. Карина ахнула, садясь в снег. – Жертва! – пророкотал он. – Стой! – шагнул вперед Токаев. – Какая жертва? Совсем крыша уехала? Пропустите их! Но всадник уже растворился в сумерках. – Неужели мы так и будем здесь сидеть? – От волнения Сашка побледнел. – Олег Павлович, давайте что-нибудь делать. – Спокойно! – Паганель схватил Сашку за плечо. – Ты сейчас самая удачная мишень для призраков. У тебя от эмоций искры из глаз сыплются. – Не хочу я быть спокойным! – дернулся под руками учителя Токаев. – Пустите меня! – Так! – Олег Павлович засунул озябшие руки в карманы. – Я сказал – никто никуда не идет! – Надо навалиться всем вместе, – упрямо твердил Сашка, бегая по лагерю. – Всех они не смогут забрать. Они уничтожают по одному. Один человек – одна эмоция. Много людей – разные эмоции. Я буду кричать. Рыжий смеяться. А Каринка плакать. Это должно свести их с ума. – Токаев! Даже не думай! – Паганель пошел за ним. – Я тебя никуда не пущу! – Учитель остановился около палатки, в которой исчез Сашка. – Все будут сидеть здесь до завтрашнего утра. Утром мы попробуем уйти отсюда или позвать на помощь. Вы пришли со мной, со мной вы и уйдете! Это понятно? Из палатки никто не отвечал. Но вот она качнулась. С другой ее стороны выскочил Сашка и с воплем: «Ура!», размахивая перед собой фонариком, побежал к тропинке. – Токаев! Сашка пулей пролетел мимо застывших ребят, в несколько прыжков преодолел снежное пространство и вылетел на тропинку. – Сюда! Скорее сюда! – Фонарик в его руках ходил ходуном. Сашка вертелся на одном месте, пытаясь угадать, с какой стороны ему грозит опасность. Снова начал падать снег. – Сюда! Люди! Скорее! Ахнул лес. Этот вздох подтолкнул стоявших у черты ребят. Крича каждый что-то свое, они побежали к тропинке. У границы осталась одна Каринка. Она стояла, прижав к груди кулачки, ее побелевшие губы что-то беззвучно шептали. Олег Павлович, обреченно махнув рукой, пошел за всеми. Гикая и улюлюкая, ребята выскочили на лыжню. Настя с Лизой, перекрикивая друг друга, орали песню из «Бременских музыкантов». Антон с Мишей, ногами вспахивая окрестные сугробы, со словами: «Здесь их нет! И здесь тоже!» – пытались раскопать хотя бы одного всадника. Вовка, достав из кармана маленькую лазерную указку, водил вокруг красным лучом, изображая из себя снайпера. Сашка скакал, размахивая фонарем. Голос его заметно сел, но он все так же бодро продолжал выкрикивать разные призывы: – Народ! Они здесь! Как вас там! Идите сюда! – К нам! К нам! К нам! – надсаживались Рыба с Рыжим. – «…Наша крыша небо голубое…» – чуть переведя дыхание, снова подхватывали девчонки. – Бедлам! – в сердцах сплюнул Олег Павлович и оглянулся. На него смотрела лошадиная морда. Невысокий конек подозрительно косился огромным карим глазом из-под длинной лохматой челки. Над его головой виднелось бледное перепуганное лицо Кати Талаевой, выпученные от страха глаза так же, как и у ее коня, терялись за лохматой челкой. Коня под уздцы держала Катя Кошелева. – Вы чего орете? – удивленно спросила она. – Вас ищем, – просто ответил Олег Павлович. Над тропинкой повисла тишина. – Они? – Сашка направил луч фонарика в лицо Кати Кошелевой. – Чего надо? – загородилась она от света локтем. – Они, они, – мелко закивал Антон. – А раз они, то идем отсюда! – гаркнул Олег Павлович. И как до этого бежали к тропинке, так же дружно все сорвались и побежали обратно. Но сделать они успели всего несколько шагов. Между ними и заветной границей стоял всадник. – Между прочим, это одна из вас! – крикнул Рыжий, подбегая к всаднику. – Сашка, свети на него! Антон дернул коня за уздечку. Тот недовольно мотнул мордой, отбрасывая от себя мальчика. От резкого движения капюшон сполз с головы всадника. В то же мгновение луч фонаря нашел его лицо. Из-под низкой челки на ребят смотрели черные пронзительно злые глаза. Застывшее лицо-маска, очень похожее на Катю Кошелеву, дернулось, рот с темными, почти черными губами приоткрылся. – Мы всадники проклятья! – разнеслось по лесу. – Мы порождения ненависти! Мы заставим вас бояться! Мы уничтожим вас! Чернота вокруг всадника сгустилась. Он как будто сам стал распространять эту черноту, одновременно пропадая в ней. Сашка в обход призрака потащил упирающуюся лошадку к лагерю. За ним еле поспевала Катька Кошелева. Талаева плакала, уткнувшись в гриву Мамаю. Как только фонарик перестал светить в лицо всадника, он ринулся вперед. Но ребята ждали этого. Перед копытами коня они расступились в разные стороны. Антон с Мишкой и Настей отбежали обратно к тропинке. Олег Павлович, волоча за собой Лизу и Вовку, пробивался к лагерю. Из сугроба стал выбираться второй всадник. Но Сашка уже провел мимо него Мамая; Катьку Кошелеву к палаткам тащили волоком, сама она идти уже не могла. – Жертва! – громыхнул лес, и всадник направил своего коня на Антона. – Сама ты – жертва! – крикнул Рыжий, отпрыгивая в сторону. – На тебя бы сейчас Андрюху Васильева! Он бы тебе такую жертву показал – забыла бы, как тебя саму зовут! Ему неожиданно стало легко и весело. Подумаешь, скачут тут всякие! Больно надо их бояться, а тем более ненавидеть! Они же смешные! Да! Смешные! И ничего особенного в них нет! Но, видимо, Мишка с Настей думали по-другому. Пролетев мимо Верещагина, призрак направил свою лошадь на них. Сзади подъезжал второй всадник. – Эй, подснежники! Куда же вы? – пытался разозлить их Антон. Но на него уже перестали обращать внимание. – А как же я? Эй, как там тебя? – Он погрозил кулаком ближайшему призраку. – Ты же меня собирался в сугроб втоптать! Куда же ты пошел? Размазывая по лицу быстро таявшие снежинки, Рыжий упорно шел за всадником, наседающим на Павлову. Насте стало совсем плохо. Увидев черную махину, она села в снег, замерла, втянув голову в плечи. – Настька! Ты чего сидишь? Вставай давай! – пытался докричаться до нее Верещагин. Второй всадник теснил Мишку, бестолково бегающего от него по кругу. И круг этот все больше и больше сужался. Антону почему-то показалось, что, если бы сейчас здесь был Андрюха Васильев, он бы легко придумал, как спасти Настю. Самому Рыжему в голову ничего не приходило. Он устал, страшно устал. Ему захотелось немедленно исчезнуть отсюда, из этого места, из этого времени. Хорошо было бы вернуться назад на несколько дней, чтобы никуда не ездить, а сидеть тихо дома, тупо пялясь в телевизор. Как в замедленном кино, оба всадника взвились на дыбы. Настя обреченно прикрыла ладошками глаза с очками. Мишка неуклюже оступился и упал на колени в снег. И тут сугроб, на котором сидел Антон, зашевелился. Рыжего подбросило вверх, с перепугу он пробежал несколько шагов вперед, прежде чем увяз в снегу, споткнулся, упал, проехался на пузе, врезавшись в Рыбкина. Вместе с ним он пролетел еще немного вперед и мягко приземлился между копытами лошадки, на которой приехала Катька Талаева. За его спиной раздалось недовольное ржание коня и противное змеиное шипение. Ребята быстренько протолкнули Антона с Мишкой подальше в лагерь и вновь устремились к черте. Снова ахнул лес, снова зашипел призрак. Вся поляна взорвалась криками «Ура!», и на Антона сверху свалились две темные фигуры. Перед лицом промелькнуло что-то знакомо-лохматое, оно больно ткнуло его кулаком под дых и откатилось в сторону. Рыжему стало нечем дышать, голова пошла кругом. Он разинул рот, чтобы захватить хоть сколько-нибудь воздуха. – Здорово, ребяты! – гаркнул до боли знакомый голос. И все стало на свои места. Около догорающего костра улыбался во весь рот невероятно довольный Васильев. За локоть он поддерживал еле стоящую на ногах Настю Павлову.Глава VI Череп коня Вещего Олега
Месяц назад. День может тянуться долго и скучно. Особенно когда ждешь последнего урока с контрольной по математике. А может пронестись очень быстро, и только что начавшееся утро как-то вдруг незаметно превращается в поздний вечер. Так обычно бывает в субботу. Воскресенье же было настоящим мученьем. А все потому, что лес – такой красивый, такой белый и пушистый, такой сказочный лес, – стал ареной настоящей борьбы за выживание. Выводить из конюшни лошадей не хотелось. Но они просились на мягкий снег, на свежий воздух. А снег все падал и падал, превращая лес в древнюю легенду. Он лежал на ветвях, пригибая их до земли, замерзал на еловых иголках, заносил тропинки. Ранним утром по нему пробегали первые лыжники. Они усердно накатывали лыжню. Когда на свою привычную прогулку вышли лошади, лыжников было уже очень много. И дорога у всех была одна. Война за лес то разгоралась, то затихала. Люди клали поперек тропинок бревна. Лошади перепрыгивали через них, разбивая лыжню еще больше. В тот день после обеда лошадей напрокат никто не взял. Из денника вывели только Мамая. Катя Кошелева хотела выгулять его в лесу. Мамай взбрыкивал, играя на свежем снегу, пару раз попытался встать на дыбы. Сначала Кате показалось, что лес уже успокоился, даже снег перестал идти. Заходящее солнце ярко высвечивало каждый бугорок на тропинке. Мамай шел мелкой рысью, смахивая длинным хвостом снег с веток. Катя перебирала в озябших руках повод, думая о вечере, о том времени, когда они закроют конюшню и пешком пойдут на станцию. Или отправятся в гости к Светке Андрияшиной, напьются чаю, будут смотреть телевизор. Очнулась она от своих мыслей слишком поздно. Лыжник выбежал из-за поворота и уткнулся в Мамая. Катя даже не успела рассмотреть, какой он, этот лыжник. Перед мордой коня взлетели палки. Мамай резко остановился, взбрыкнул передними ногами и опустил их на лыжи. Затрещало дерево. От неожиданности и испуга лыжник заорал, ткнув в коня одной из своих палок. Железный наконечник угодил Мамаю в грудь. От резкой боли конь снова вскинулся. Лыжник упал на спину. Мамай поддал задом. Катя вылетела из седла, головой уйдя в ближайший сугроб. Почувствовав свободу, конь еще пару раз взбрыкнул и легким галопом помчался по тропинке. – Стой! – подскочила Катя. Она не слышала, что кричал ей лыжник. Мамай быстро удалялся. Вот он последний раз показался между деревьями и исчез совсем. – Мамай! Проваливаясь в снег, скользя по укатанной лыжне, Катя бежала за лошадью, не представляя, что теперь делать. Мамай мог петлять по лесу и день, и два. Ни голод, ни холод не заставят его искать дорогу домой. А потом произошло вообще невероятное – только что перед ней были отчетливые следы копыт, и вот они исчезли. Зато справа и слева виднелись переворошенные сугробы, как будто в них специально кто-то валялся. На конюшню Катя пришла через час, мокрая, вспотевшая, всхлипывающая, еле стоящая на ногах от усталости. – Что? – по узкому проходу конюшни к ней шла Вика Жирнова. – Он лыжника испугался, – в голос заревела Катя. – Я удержать его не смогла. Его палкой ударили!.. Не доходя до рыдающей Кати, Вика повернулась, рванула на себя запор денника. Потревоженный Офис удивленно покосился на нее. – Седлаемся! – крикнула она, выводя коня в коридор. – Пешком мы его не найдем. – Куда? – выбежала Оксана. – Мамая искать! Кошелева, утирая рукавом сопли, побежала к деннику Гравёра. Катя Талаева тащила седло к деннику Вердера. – Темнеет. – Оксана все еще стояла около дверей. – Час у нас есть. – Вика затянула подпругу, перекинула через голову коня уздечку. Зацокали по цементному полу подковы. Лошади занервничали. Кошелева никак не могла вставить ногу в стремя – Гравёр танцевал вокруг нее, не желая стоять смирно. В лесу все сразу перешли на рысь. Доехав до первого перекрестка, остановились. – Расходимся, – скомандовала Вика. Ее маленькое скуластое лицо было напряженным, в глазах сверкнула злоба. – Встречаемся через полчаса в начале просеки. Если я увижу хотя бы одного человека, затопчу, чтобы не шлялся тут больше. Поубивала бы всех лыжников, вместе взятых! Она грубо дернула повод и с места послала коня в галоп. Кати, оставшись вдвоем, переглянулись – такой злой Вику они еще не видели. Поиски ничего не дали. Мамай как сквозь землю провалился. Начинало темнеть, когда все снова собрались на просеке. – Где ты его потеряла-то? – сердито спросила Вика у Кошелевой. – Там, за поворотом, – мотнула головой Катя. Жирнова резко развернула коня, посылая его по узкой тропинке. Найти место падения оказалось несложно. На тропинке остались обломки лыж, было натоптано. Вика спрыгнула на землю, пнула обломок лыжи. – У, ненавижу, – прошептала она. – Ездят тут, ездят! Делать им нечего, мотаются туда-сюда. Она снова пнула обломок и ахнула. – Что? – подалась вперед Катя Талаева. Из-под деревяшки выпало что-то блестящее. Вика быстро наклонилась. – Подкова! – помахала она над головой находкой. – Новенькая. – Значит, не наша. – Талаева с завистью смотрела на подругу: найти подкову – верная примета. Принесет удачу. – Наша и быть не могла. – Вика вертела подкову в руках. – У нас лошади всю зиму не подкованы. – Улыбка сбежала с ее лица. – Где же все-таки Мамай? Куда его могло унести? – Она еще раз огляделась. – Хочу, чтобы все лыжники провалились, чтобы больше ни одного в этом лесу не было! – вдруг выкрикнула она, потрясая подковой над головой. – Ты что? – испугалась Талаева. – Зачем? Пусть ездят… – Чтобы их не было, – буркнула Вика, садясь в седло. – Надоели они. – И мне они надоели, – вздохнула совсем скисшая Кошелева. – Я знаете как испугалась! А бедный Мамайчик? Он его прямо железякой в грудь ударил. Пусть, пусть все проваливаются вместе со своими лыжами. – Тогда и собак туда же надо послать, – поддакнула Талаева. – Чтоб они больше не гавкали! – Пусть все проваливаются! – развеселилась Вика, продолжая потрясать подковой. Но веселье ее быстро закончилось. Из-за поворота один за другим выехали три темных всадника на черных конях. На всех троих были черные плащи, на головы низко надвинуты капюшоны. – Чьи это? – осторожно спросила Кошелева. – Я таких никогда не видела. По верхушкам деревьев проскрипел ветер. Лес вздохнул. – Вы просили. Вас услышали, – пронеслось над тропинкой. – Они будут пропадать. Девчонки озадаченно оглядывались, не понимая, что происходит. – Жертва! – ахнуло где-то совсем рядом. Всадники одновременно повернулись и так же одновременно в одну ногу ступили с тропинки в снег. Их черные тела растворились в наступающих серых сумерках. – Что это, а? – первая подала голос Кошелева. Вика вдруг почувствовала, какой тяжелой и горячей стала подкова. Она взвизгнула, отбрасывая ее от себя под елку. И тут же поблизости раздалось ржание. На дорожку выбежал Мамай. Он недоверчиво покосился на застывших девчонок. – Едем отсюда! – Вика перегнулась, подхватывая повод нашедшегося коня. – Скорее! Лес поглотил топот удаляющихся лошадей, и снова стало тихо. Только это была уже не привычная зимняя тишина. Теперь в лесу поселилось настороженное ожидание чего-то… Лес ждал. Ждала и тропинка. По ней вот-вот должна была пройти первая жертва. Слухи о «нехорошем» лесе мгновенно облетели всю округу. В поселке говорили о ведьмах и бомжах, поселившихся за просекой. Девчонки молча переглядывались. Они о чем-то догадывались, но пока еще никто не отваживался заговорить об этом. – Я пошла гулять! Светка накинула на тощую спину Затока теплую попону, подвязала ее тесемками под брюхом, чтобы не сползала. – Надолго? – выглянула из комнатки Оксана. – До просеки и обратно. – Светка любовно потрепала Затока по холке, конь вздохнул и положил морду ей на плечо. – Нам надо двигаться. – Не ходите далеко. Ладно? И возвращайтесь скорее, – привычно предупредила Оксана. – За просеку не забирайтесь. – Хорошо. Света подошла к двери, Заток послушно шел следом. Вика вышла из денника. – Света, я возьму твою книгу? – Угу, – закрывая за собой дверь, буркнула Светка. Вика зашла в комнату, забралась на топчан, с довольной улыбкой вытащила из Светкиного рюкзака пухлую книжку. На обложке был изображен маленький мальчик с красными кровожадными глазами. В одной руке у него был окровавленный нож, в другой гнутая вилка. По темному парку он крался к окну, за которым виднелись мужчина и женщина. Кривыми буквами с красными потеками на обложке было написано: «Детские страшилки». Вика открыла книгу наугад и начала громко читать: – «Однажды пошли родители в магазин и купили черную пластинку. Принесли домой, положили на стол и стали собираться на работу. Мама девочке и говорит: «Мы уходим, а ты ни в коем случае не слушай черную пластинку»… Светлана с Затоком из леса не вернулись.Вокруг костра повисла тишина. Каринка тихо плакала. Ребята подозрительно косились друг на друга. Катька Кошелева, закончив рассказ, шмыгнула носом и вопросительно посмотрела на Паганеля. – Так! – выдал учитель свое коронное восклицание. – Значит, есть проклятие. Есть непонятная подкова, осуществившая это проклятие. И есть еще одна подкова, которая пока не сделала ничего хорошего, но вроде бы и вреда не приносит. – Вот уж не думал, – не к месту радостно хохотнул Васильев, – что любые проклятия сбываются. Эх, если бы так и было, то ни одного учителя в мире не осталось бы… – Не любые. – Олег Павлович поправил на носу очки. – Но в принципе любое злое пожелание несет в себе определенный заряд. Кстати, – повернулся он к Андрюхе, – проклятье опасно как для того, кому его желают, так и для самого желающего. – Оно что, бьет и туда и сюда? – не поняла Настя. – Да, – кивнул учитель. – В этом опасность любого проклятия. – Поэтому Вика и пропала? – еле слышно спросила маленькая Катя. – Сказка какая-то получается, – лениво потянулся Вовка. – Что-то не верится во все это. Если есть место проклятья, то должно быть место антипроклятья. – А с чего ты взял, что этого антипроклятья не существует? – встал Паганель. – Мы его не искали. Вполне возможно, оно заключается в этой подкове. Незаметно для всех Сашка встал и отошел от костра. Когда яркий свет перестал бить по глазам, со всех сторон на Токаева наступила ночь. В городе не бывает таких ночей. Там всегда ездят машины, шумит вода в трубах, ходит по коридору мама. А здесь ничего, кроме скрипа снега под ногой да вздыхающих рядом лошадей, не было. До проклятой черты он мог дойти с закрытыми глазами – столько до нее было уже хожено. Когда глаза окончательно привыкли к темноте, Сашка перед своим носом увидел чернеющую границу. Падающий весь вечер снег не скрыл ее. – Ты чего сбежал? – сзади к Токаеву незаметно подошла Настя. Следом за ней топал Мишка. – Вас только здесь не хватало! – замахнулся на них Сашка. – Идите отсюда. А то опять все всадники леса сбегутся. – У меня на них иммунитет, – важно сообщил Рыбкин, усаживаясь рядом с Сашкой у черты. – Меня они не должны трогать. – Ага, ты пойди к ним и скажи это, – ухмыльнулся Токаев. – Они сильно обрадуются твоему приходу. – Слушайте, – Настя поправила на носу очки и воинственно огляделась. – А что, если разбросать все сугробы? Всадникам тогда неоткуда будет выходить. – Тоже вариант, – кивнул Мишка, незаметно для себя ковыряясь мыском ботинка в темной черте. – Вот интересно, – с жаром начала Настя, – если какая-то Вика смогла захотеть, чтобы эти всадники появились, то я могу захотеть, чтобы все пропавшие люди вернулись обратно? – Начинай, – разрешил Сашка. Его не интересовали идеи одноклассницы. Ему вдруг представилось, что если он доберется до ближайшего сугроба и раскопает его, то обнаружит там как минимум череп. Точно такой же, какой был нарисован в книжке со стихами о Вещем Олеге. Из глаза черепа вылезет змея и прошипит: «Сюды незя…» Желание было настолько сильным, что он лег на живот и, подтягиваясь на руках, прополз несколько метров вперед. Под ближайшим кустом был наметен приличный сугроб. Сашка сунул руку в пушистый снег. Ему показалось, что пальцы коснулись чего-то твердого. Он неуверенно смахнул вершинку сугроба. Сейчас… Еще чуть-чуть… Немного… Змея уже шевелится… Не было там никакой змеи. И черепа тоже. И всадника. Под кустом лежало несколько смерзшихся палок. – Ты чего, клад ищешь? – зашептал Миша. – Это лучше днем делать. До следующего сугроба было далековато, но в Токаеве проснулся азарт первооткрывателя. Он чувствовал, что заветный череп скрывается где-то рядом. Причем не просто скрывается, а тихо-незаметно перебирается из одного сугроба в другой. – Выходи давай! – под нос себе бормотал Сашка, вкапываясь в очередной снежный холм. – Все равно ты от меня далеко не уйдешь. Догоню, найду и… Руки снова во что-то уперлись. Это был обломок лыжи. – Тьфу ты, черт! – в сердцах выругался Сашка. – Вечно какая-нибудь ерунда попадается! – Вот я, например, хочу, чтобы все закончилось, – продолжала бурчать Настя. – Почему мое желание не сбывается, а Рыжего сбывается? Все ведь хотели, чтобы ты вернулся, но стоило этого захотеть Верещагину, как ты появился… – Он мой друг, – пожал плечами Миша. – Поэтому у него и получилось. – А Васильев откуда взялся? – Ладно, считай, что этого ты захотела, – щедро разрешил Рыбкин. – Не хотела я, чтобы он возвращался, – упрямо твердила Павлова. – Может, я хочу, чтобы вернулась Вика, которая заварила всю эту кашу? Чтобы сейчас было лето и каникулы. – Размечталась! – хмыкнул Рыбкин. Слушал он ее невнимательно, его больше занимало, что там делает Сашка. С каждой минутой тот отползал все дальше и дальше. Пойти за ним или не пойти? Далеко ли ему удастся забраться? Может, всадники спать легли и до утра не появятся? Тогда они могут легко, ничего не боясь, дойти до той тропинки, где все это началось… – Вот пускай, пускай она возвращается и все это расхлебывает, – бубнила Павлова. – Пусть придет странная Света с лошадью и объяснит, какой такой запрет нарушен и кто его нарушил. Пускай придут все лыжники и немедленно помирятся с девчонками – нашли из-за чего враждовать! – Не буянь, – шикнул на Настю Миша. – Хоти потише, а то сейчас сюда и правда весь лес сбежится. – Пусть, пусть сбежится! – от души воскликнула Настя. – Зато всем всё станет ясно. Сашка добрался до тропинки. За спиной бормотала неугомонная Павлова, Рыбкин ей поддакивал. Мог бы и сюда подойти, вместо того чтобы там торчать. Втроем бы они быстрее проверили все эти сугробы. Ведь череп где-то совсем рядом. Стоит только копнуть поглубже, и он появится! Перед Сашей было сразу два сугроба. Он вкопался в один из них, оставив второй у себя за спиной. Миша видел, как Сашка принялся усердно разваливать большущий сугроб. Снег летел во все стороны. Из-за этого снега, из-за темноты Миша не сразу разглядел, что сугроб за спиной Саши шевелится. – Сашка! Осторожно! Не задумываясь, Миша перепрыгнул через проклятую черту и побежал к тропинке. Настя, не переставая бубнить, шла следом. – Хочу, чтобы все вернулось! – канючила она. Из-за слабого зрения в темноте она практически ничего не видела, поэтому не сразу поняла, куда побежал Мишка. Сугроб развалился, выбрасывая из себя человеческую фигуру. Несколько секунд фигура пролежала неподвижно, а потом села в снегу. – Не подходи! – заорал Мишка. – Ай! – взвизгнул человек, откатываясь в сторону. – Чего тебе? Это была Вика Жирнова. Рыбкин повернулся к Насте. – Хотела? – махнул он рукой в сторону появившейся девочки. – Получай! Ожил еще один сугроб. Из-под него поднялась скрюченная фигура, но Настя ее как будто и не замечала. Она в задумчивости стояла около тропинки, продолжая бормотать под нос свои желания. На тропинке Токаев остановился. По бокам было очень много сугробов, и пропахать их все казалось нереальным. Но он чувствовал, что череп где-то здесь. Стоит только разрыть сугроб справа! Нет! Слева! Сашка взбил ногами снег. Посветил фонариком. Ничего интересного. За спиной кто-то ходил. – Мишка! – позвал Токаев. – Рыба! Это ты? – Тут я. – Мишка вышел на тропинку гораздо левее того места, где скрипел снег. – А там кто ходит? – Саша повел фонариком в сторону. – Павлова, – равнодушно протянул Рыбкин. – Желания загадывает… Ты-то что делаешь? – Интересно, – Сашка свалил ногой очередную снежную макушку, – если они встают из снега, то как они там оказываются? Ползают под землей? Они же по лесу не скачут. У них как-то получается там исчезнуть, здесь появиться. Мистика! Миша огляделся. – Так оно и есть – мистика, – пожал он плечами. Трогать сугробы ему не хотелось, пусть они там себе лежат, если им лежится. – Ну вот! – Сашка снова взбежал на сугроб. – Увидеть бы, как они лежат! – Тоже мне интерес! Сзади, между ребятами и проклятой чертой, подозрительно заухало, заахало. Они уже шагнули обратно, когда перед ними из темноты вынырнула Настя. – Я и говорю, – она поправила сползающие очки и шмыгнула носом, – домой хочется. Ребята с удивлением уставились на нее. – Зачем ты за нами пошла? – зашептал Саша. – Сидела бы у костра, мечтала бы себе тихо. – Интересно ведь, куда вы пойдете, – обиделась за такой прием Павлова. – Никуда не пойдем. – Саша покосился на Мишу. – Постоим, постоим и вернемся. Лес вздохнул, захрустел снег. Токаев испуганно обвел вокруг себя фонариком. В какой-то момент ему показалось, что из-за всех кустов на них смотрит по меньшей мере сотня глаз. – Да выключи ты его. – Мишка потянулся к Сашиной руке. – Из-за него ничего не видно. Без света на них навалилась абсолютная темнота. – Чего стоять? – поежился Сашка. – Пошли куда-нибудь. – И он снова шагнул в сугроб. Как только ребята скрылись между елок, из темноты появилась невысокая человеческая фигура с длинными рыжими волосами – Света. Она остановилась, прислушиваясь, потемневшие глаза цепко оглядели тропинку, разворошенные сугробы. Снова захрустел снег, выбрасывая из себя скрюченного человека. Какое-то время он возился в снегу, потом выпрямился, с трудом поднимаясь на ноги. Это была Оксана. За ее спиной появилась Вика Жирнова. Шагнули из темноты еще двое – низенький кряжистый мужчина и высокая женщина в очках, прокатчики с конюшни. Ветер качнул их фигуры, и все четверо одновременно сделали шаг вперед. Света, скользя по поверхности снега, добралась до проклятой черты. Линия, проведенная призраками, еще больше почернела и углубилась. Поколебавшись, Света пересекла ее, глянула из-за кустов. Поляну освещал яркий костер. На границе света и тени, понурив головы, спали лошади. В стороне от них лежали седла. Две палатки замерли черными треугольниками. У костра шел негромкий разговор. Андрюха Васильев, до конца еще не пришедший в себя после своего возвращения, суетился у костра, то подкладывая полешки, то вороша прогоревшие угли. Темные глаза девочки налились еще большей темнотой. – Я вас заставлю бояться, – прошептала она. – Я вас заставлю уйти отсюда. Вас убьет собственный страх! Почуявшие что-то лошади дрогнули. Всхрапнул со сна Гравёр. Света беззвучно отступила обратно к черте. За ее спиной встали темные фигуры. Они дождались, когда Света кивнет, и, не спеша обогнув кусты, вышли на свет. Света отошла еще дальше, и из снега встали четверо лыжников в разноцветных спортивных костюмах. Трое мужчин и одна женщина. Все на лыжах. Света опять кивнула, и лыжники, как по команде, двинулись к костру. Вскинулся снег, выпуская очередную партию лыжников. Со стороны поляны послышались удивленные возгласы. Лыжники скрылась за кустами. Последний раз взлетел снег. У еще больше углубившейся черты встал сухонький старичок в шапке-петушке на голове. Он поудобней перехватил палки и мелко засеменил в сторону голосов. Блестевшие чернотой глаза Светы стали бледнеть, выцветать. Она глубоко вздохнула и растворилась в ночи. А поляна все больше и больше оживала. Появление новых людей разогнало дремоту. За суетой никто и не заметил исчезновения троих ребят. Лес насторожился. Снова зашевелился снег. Фыркнул вставший на ноги конь. Призрак поправил ноги в стременах, поднял голову. Вокруг царили радость, удивление, восторг. Всадник недовольно дернул поводом, заставляя коня идти вперед. Все это было не то. Ему нужны были страх, ненависть, трепет. Ему нужны были отрицательные эмоции. Сашка шел с края от лыжни, вспарывая сапогами снег. Миша, мелко подскакивая, бежал рядом. Идти ему никуда не хотелось, но и возвращаться одному было как-то боязно. Поэтому он шел вперед, втайне надеясь, что их прогулка ничем плохим не закончится. – Найдешь ты их, что дальше? – не унималась Павлова, стараясь не отставать от одноклассников. – Они же наскакивать начнут. – Не начнут, – Сашка с разбега запрыгнул на высокий сугроб. – Они нападают, когда их боятся. А мы сейчас сходим к той тропе, откуда они появились, найдем их и пошлем обратно. Как Рыжий говорил, так и сделаем. – И тебе совсем не страшно? – Настя в очередной раз шмыгнула носом. – Слушай, Павлова, – остановился Токаев. – Если ты такая пугливая, топай обратно. Мы тебя не звали. Правда, Рыба? – Угу, – кивнул Миша, сосредоточенно глядя себе под ноги. Настя обиженно засопела, отставая на несколько шагов. Она не смотрела по сторонам, боясь увидеть что-нибудь лишнее. Поэтому пикирующую на нее птицу она заметила в последний момент. Черная тень стремительно приблизилась к ней. Прежде чем споткнуться и растянуться на тропинке, Павлова успела рассмотреть огромный, светящийся в темноте желтый глаз. Птица, гулко хлопая крыльями, полетела прочь. Настя осторожно подняла голову. Ребята, только что топавшие в двух шагах от нее, скрылись за поворотом. И Павловой по-настоящему стало страшно. Со всех сторон ее обступила темнота. Она почувствовала, как леденеют руки в стылых перчатках, как холодят ноги штаны, промокшие на коленках. Откуда она пришла? Оттуда? – Там кусты, елки. Оттуда? – Там сугробы, темные деревья. Оттуда? – Там темнота, гудящий ветер. «Только не бояться. Не бояться!» – начала уговаривать она сама себя. Шарахнулась по веткам темная тень. Крупная птица, шурша крыльями, перелетела с дерева на дерево. Настя запрокинула голову, чтобы посмотреть на нее, и вдруг почувствовала, что заваливается на спину. Снег уходил из-под ног. Павлова опрокинулась навзничь. Падение было каким-то бесконечным. Она все летела, летела и не могла остановиться. – Настя! – тихо позвал Миша. – Куда она делась? Рыбкин с Токаевым стояли на просеке. Всю дорогу они слышали рядом с собой бормотание Павловой. Ее причитания так надоели ребятам, что они не заметили, как Настя от них отстала. – Она где-то здесь, – прошептал Миша, вглядываясь в темные кусты. – Мы прошли всего-то ничего. Я точно помню, минуту назад она еще шла рядом со мной. – Он прислушался, а потом тихо позвал: – Настя! Выходи! – Не хватает еще потерять ее в этом лесу! – Сашка сделал несколько шагов назад. – А если это всадники? – Миша опасливо оглянулся. – Ерунда! – Чем дальше они шли, тем меньше Сашка помнил о черных призраках. Его сейчас больше интересовало, найдут ли они хоть что-нибудь там, куда идут. – Если бы это были всадники, мы бы их тоже увидели. Настя! – Павлова! – гаркнул, осмелев, Рыбкин. По лесу прокатилось эхо. – Может, она пошла обратно в лагерь? – Сашка снова прислушался. – Так далеко одна? – засомневался Мишка. – Ладно. – Токаев устал вслушиваться и вглядываться в непроницаемую темноту леса. – Давай дойдем до места, о котором рассказывали девчонки с конюшни, посмотрим, что там, а потом начнем искать Павлову. Не поворачивать же нам обратно, когда мы уже практически дошли! Рыба молча пожал плечами. Ему казалось, что важнее найти Настю, чем снова идти вперед по темному лесу. Он засунул руки в карманы, соображая, что бы такое сказать неугомонному Токаеву. Правая рука наткнулась на шершавое железо. Подкова! Он вытащил ее из кармана. Сейчас подкова показалась ему слишком уж тяжелой. Или это он так сильно устал за сегодняшний длинный день? Мишка задумчиво покрутил железку в руке, несколько раз подбросил вверх. Откуда прилетела птица, он не успел заметить. Черная тень мелькнула над головой. Его обдало холодным сквозняком. Жесткое крыло царапнуло по щеке. Только что подброшенная подкова исчезла в скрюченных лапах. Несколько секунд Рыбкин стоял с открытым ртом, совершенно оглушенный таким поворотом событий. – А… – только и смог выдавить он из себя, делая несколько шагов за улетевшей птицей. – Куда? – Что стряслось? – нахмурился Сашка. – Ты видел, да? – подбежал к нему Рыбкин, тыча пальцем в темное небо. – Видел? Как она, а? – Кто? – ничего не понял Токаев. – Птица! – заорал Мишка. – Видел? Налетела и подкову утащила. Теперь они вдвоем уставились в темноту. После Мишкиных криков тишина казалась особенно зловещей. – Слушай, – зашептал Рыбкин, – может, обратно в лагерь пойдем? Мне что-то уже ничего не хочется узнавать. – Ага, – насупился Сашка, – топай. Заодно Павлову догонишь. Если ты такой трус, нечего было со мной идти! Токаев зашагал по просеке, засунув руки в карманы. Он уже и сам не понимал, зачем и куда он идет, зачем вообще вышел из лагеря. Сначала ему хотелось найти череп коня Вещего Олега, для этого он перекапывал сугробы. Потом он вспомнил слова Рыжего о том, как тот уничтожил призрак. Под конец все его мысли сошлись на том, что если было место, где произнесено проклятье, то должно быть и место антипроклятья. И скорее всего, именно на этом месте они ухитрились развести костер. Поэтому-то всадники и не входили в их лагерь. Просека вильнула в сторону. Вправо от нее побежала тропинка. – Эта, что ли? – Сашка повернулся к Рыбе. – Про нее говорили? – Про нее, – буркнул Рыбкин, косясь по сторонам. Он вспомнил, что совсем недавно шел отсюда к лагерю, уверенный, что все еще длится вчерашний день. – Осталось немного пройти. Подбадривая друг друга, они сделали несколько шагов по тропе. Под ногами снова была лыжня. Остановились. Еще немного прошли. Снег глухо хрустел под ногой. Токаев влез в сугроб. Разворошил его руками. – И что? – удивленно спросил он. – Где эти всадники? Кругом стояла все та же тишина. – Может, фонариком посветить, они и придут? – робко предложил Миша. В душе он был рад, что никакие призраки не появляются. Сашка несколько раз щелкнул переключателем. Желтый световой кружок пробежал по деревьям. Ничего не произошло. – Надо еще пройти, – решил он. – Мы, наверное, не дошли. Они сделали еще несколько шагов. Тропинка повернула, и только сейчас Мишка понял, что они на месте. Что именно здесь тогда на него налетел всадник. Отсюда он шел обратно в лагерь. – Здесь! – тронул он одноклассника за плечо. Сашка обернулся. Лицо его прямо на глазах удивленного Рыбкина вытянулось и стремительно побледнело. Миша заметил, что Токаев смотрит куда-то мимо него, и тоже обернулся. Первым его желанием было заорать и броситься наутек. Прямо за его спиной, на расстоянии вытянутой руки, стояла Павлова. Лицо у нее было мертвенно белым, синюшные губы сжаты, из ее головы поднималась большая черная птица. Настя вытянулась вверх и рухнула на землю, рассыпавшись стаей черных птиц. Рыбкин шарахнулся назад, налетел на Сашку и вместе с ним повалился в снег.

Глава VII Паника в лагере
В лагере вновь наступила тишина. Обе Кати сидели рядышком, одинаково зажав в ладонях кружки с горячим чаем. Рассказывать больше ничего не хотелось. И так все было понятно. Паганель в задумчивости ковырял палкой в ярко горевшем костре. – Ну что, – встал он. – Давайте спать. Утро вечера мудренее. – Он посмотрел на ребят, сидящих у костра. – А Токаев с Рыбкиным уже в палатку залезли? Верещагин тревожно оглянулся. Раньше Мишка, отправляясь спать, всегда говорил ему об этом. Он поднялся, окинул взглядом поляну. – Нет, а чего ждать? – встрепенулся Васильев, делая очередной круг около костра – с самого возвращения ему не сиделось. – Давайте что-нибудь сделаем. – Что ты будешь делать в темноте? – покачал головой учитель. – Пошли спать. – Его там нет, – воскликнул Антон, вылезая из палатки. Все подняли головы. – Кого? – повернулся к нему Олег Павлович. Над лагерем пронесся громкий стон, каркнула птица. С шумом сверху шарахнулась темная тень. Обе Кати, взвизгнув, брызнули врассыпную от костра, побросав кружки. Лиза с Кариной вскочили. Огромная ворона, распластав свои крылья чуть ли не на полполяны, пронеслась над их головами, шваркнула по кустам и растворилась в темноте. Все замерли. Но тут гнетущую тишину нарушили проснувшиеся кони. Они нервно взбрыкнули, громко заржал Гравёр. На поляну вышли четверо – две пары следовали друг за другом. Впереди шла невысокая худая бледная девушка с копной черных растрепанных волос. За ней, не отставая ни на шаг, двигалась девчонка лет тринадцати, с небольшим скуластеньким личиком, обрамленным короткими светлыми волосами. За их спинами, скромно потупившись, шли мужчина и женщина. Все с удивлением уставились на них. Первыми отмерли обе Кати. – Оксанка! – Вика! Олег Павлович облегченно выдохнул. – Ваши, что ли? – натужно улыбнулся он. Это внезапное появление его сильно встревожило. – Наши! Наши! – затрясла челочкой Катя Кошелева. – Наши! – от избытка чувств Талаева несколько раз подпрыгнула, хлопнув в ладоши. – Вы нашлись! Откуда? Оксана сдержанно улыбнулась. – Просто пришли, – пожала она плечами. Сказать она больше ничего не успела, потому что, щурясь на свет костра, из темноты вышли еще четверо – трое пожилых мужчин и женщина в ярко-оранжевом костюме. Все они стояли на лыжах. – Здрасти, – недовольно обвела всех глазами женщина. – Вы кто? – Мы-то? – вскочил Васильев. – Мы здесь живем. А вы здесь как оказались? Женщина открыла рот, чтобы ответить, но мимо нее прошли еще четверо, тоже на лыжах и тоже в спортивных костюмах. Лошади нервно перебирали ногами, опасливо косясь на лыжников. Когда на поляне появилась очередная четверка, все уже галдели, пытаясь перекричать друг друга. Паганель растерянно разводил руками, не зная, что делать. Людей оказалось столько, что они не помещались около костра. – Откуда они взялись? – спросил Вовка, пробираясь поближе к учителю. – Вероятно, это те, кто встречался с призраками. – Олег Павлович вертел головой, стараясь в толпе разглядеть своих учеников. – Видимо, что-то произошло, и они вернулись. Взрослые радовались друг другу, как давним знакомым. Все они сняли лыжи, утыкали ими снег вокруг поляны, уселись, кто где, стали весело переговариваться, проверять свое снаряжение, кто-то достал из рюкзаков кульки с бутербродами. Тут же на огне появилось ведро со снегом. Пришельцы решили заварить чай. Антон снова влез в палатку, перещупал все ее содержимое. Мишки не было. Верещагин обежал всю поляну, заглянул к лошадям. Кроме Рыбы, не было еще Сашки, и куда-то запропастилась Настя. Ну, Павлова его интересовала меньше всего. Она сейчас где-нибудь с фонариком очередную книжку читает, а вот куда Рыба исчез? Да еще без него, Антона! На всякий случай Верещагин решил проверить наблюдательный пункт у черты. Вдруг Мишка там обосновался? Наблюдательная площадка оказалась пуста. Только проклятая черта была подозрительно раскопана и от этого выглядела еще более темной. Антон прислушался. За спиной гудел лагерь. Впереди, в темноте кто-то ходил. – Рыба, это ты? – дрогнувшим голосом позвал Верещагин. На крик никто не отозвался, но шаги зазвучали быстрее. – Эй! Рыжий попятился, испугавшись, что сейчас увидит нечто совсем невообразимое. Его сердце забухало в такт приближающимся шагам. Из ночи вынырнула невысокая фигура, взмахнула рукой и побежала к нему. – Мишка! Где ты был? – обрадовался Антон, делая шаг навстречу идущему. Но это оказался не Мишка. Подошедший тяжело дышал, глаза его бегали, широкое круглое лицо было бледным и слегка отсвечивало капельками пота на лбу. Он был ростом с Антона. Переминался с ноги на ногу, теребя в руках шапку. Черная куртка его была расстегнута. Где-то Антон уже видел этого парня, только никак не мог вспомнить где. Может, в школе? Или во дворе? Короткий вздернутый нос, тонкая полоска губ, непокорная кудрявая прядь, падающая на лоб. Даже в темноте видно, что эта самая прядь, да и вся голова ярко-медного цвета. Верещагин попятился, инстинктивно ощупывая себя. Черная куртка на нем была расстегнута. Машинально тронул непокорную, вечно свисающую на лоб кудрявую прядь. Двойник робко улыбнулся, за воротником у него что-то зашевелилось, и над его плечом показался черный клюв ворона. Птица выбралась из-под куртки и громко каркнула. И уже отовсюду из него стали лезть птицы. – Мама! – завопил Антон, бросаясь обратно в лагерь, который уже ходил ходуном от криков. Люди прямо на глазах рассыпались десятками черных птиц, которые налетали на бегающих людей, сбивали их с ног, потом снова собирались, превращаясь то с сухонького старичка, то в тетку в оранжевом костюме. Лошади бесились около своей коновязи. Гравёр коротко вздернул головой, срывая со своей морды узду, и помчался по поляне, взбрыкивая и вскидывая передними ногами. Вода из ведра опрокинулась, заливая костер. Наступившая темнота взорвалась воплями, криками и вороньим граем. Кто-то просил о помощи. Кто-то звал родственников, включая бабушку и дедушку. Затрещала ткань палаток. – Сюда! Сюда! – орал Олег Павлович, размахивая над собой тлеющей головешкой, вынутой из костра. Но на гаснущий огонек сбегались не ребята, а черноголовые демоны. За Паганеля цеплялись клювы, лапы и крылья. Вперед выскочил совершенно ошалевший от страха Гравёр. Он без остановки лягался. В разные стороны от него отлетали призраки. Из глубины леса раздалось ржание. Гравёр повел ухом, вскинулся и громко заржал в ответ. За спиной учителя стал разливаться белый свет. Он ярко осветил место побоища. Олег Павлович выхватил из толпы проносящихся мимо него Лизу с Кариной. – Стоять! – приказал он потерявшим голову от страха девочкам. Они перестали дергаться и покорно замерли. От костра раздавался стук. Как будто кто-то высокий стучал молотком обо что-то железное. Учитель шагнул вперед. Высоким оказался Васильев. Он стоял у тлеющего костра, вооружившись ведром, и методично опускал его на голову каждому, кто пытался к нему подобраться. – Не лезь! – ревел Андрюха. – Зашибу! Паганель вовремя выудил Вовку Сидорова из-под свистнувшего у него над головой ведра. Зажмурившийся Вовка полз на четвереньках, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг себя. С треском обвалилась палатка, в которой жили девчонки. Тент заходил ходуном, из-под него вынырнули низенький мужчина и женщина в очках. Посмотрев друг на друга, они хихикнули и обрушились на землю водопадом перьев. За Антоном мчался его двойник. Бежать ему было неудобно, потому что ноги его все время превращались то в птичьи лапы, то в черные крылья. – Спасите! – орал Антон. – Спасите! – вторил двойник. На этот вопль выскочил Гравёр. Рыжий конь повел ошалевшими глазами, вскинулся и опустил передние копыта на двойника. Раздался хлопок, и двойник растекся по снегу черной жидкостью. Олег Павлович за шиворот перехватил бегающего кругами Антона, поставил рядом с девчонками. – Никуда не уходи, – коротко бросил он, направляясь к костру. Васильев уже заметно устал, пот струился по его лицу. Паганель удачно поднырнул под его руку, увернулся от ведра и гаркнул прямо ему в глаза: – Хорош орать! Васильев закрыл рот и огляделся. Призраки толпились вокруг палаток, возмущенно каркая и взмахивая руками-крыльями. Ребята попятились. Еще несколько шагов, и они оказались на утоптанной смотровой площадке. Свет бил из черты. Она разъезжалась, съедая снег. Ее края медленно закруглялись, охватывая поляну широким кольцом. За чертой стоял всадник. – Олег Павлович, – зашептала Лиза, – они нас выгоняют с поляны. Призраки наступали. Вид у них становился все более уродливый, все были бы рады не смотреть, но отвести глаза не получалось. Карина вцепилась в учителя, закатила глаза и стала медленно сползать в снег. Васильев запустил в наступающие фигуры ведром, которое все еще сжимал в руке. Ведро врезалось в старичка и тот распался десятком черных птиц. – Может, в лес? – подал голос Сидоров. И тут между ними снова появился Гравёр, за его гриву цеплялась Катька Талаева. – Гра-а-авёр, – кричала она в черные глаза коня. – Сто-о-ой! Лошади у коновязи опять занервничали, задергались. Это остановило призраков. – Ребята! – раздалось из леса. – Обложили, – затравленно прошептал Антон, сжимая кулаки. Из леса к ним кто-то бежал. Пройдя сквозь призрака, этот кто-то подошел к светлой черте и остановился. – Настя? – выдохнула Лиза. – Не подходи! – выскочил вперед Антон. – Это не Павлова, это ее двойник! Смотрите, она сейчас разваливаться начнет. – Какой двойник? – Настя еле переводила дух, очки скакали на ее вздернутом носу. – Там Рыба с Сашкой к просеке пошли! – Оглянись! – завизжала Лиза. Всадник, не шелохнувшийся, когда через него прошла Настя, наклонился вперед, перегнулся через седло, навис над плечом Павловой. – У вас ничего не получится! – зашипел он. – Вы останетесь здесь. Вас запугают ваши же страхи. Вы убьете друг друга своей же ненавистью! Конь поднялся на дыбы, развернулся на одном месте и прыгнул в неожиданно навалившуюся со всех сторон темноту. Черта погасла, оставив после себя кривой черный глубокий след. Над поляной повисла тишина. Чиркнула зажигалка. Тоненький огонек осветил перепуганные лица ребят, Настю и Антона, стоящего перед ней со сжатыми кулаками. – Убирайся, – сквозь зубы процедил Рыжий. – Олег Павлович, чего это он? – Павлова готова была вот-вот разреветься. – Потом подеретесь, – прошептал Паганель, хлопая себя по карманам в поисках фонарика. – Нужно посмотреть, что творится в лагере. Васильев! Чего застыл? Иди посмотри, что там! – Ага! Я чего, самый крайний? – фыркнул Андрюха. – Пускай Рыжий идет. Антон метнулся туда-сюда, не зная, с чего начать – врезать псевдо-Павловой, чтобы она растворилась, идти в лагерь или бежать за дураком Рыбкиным, которого опять понесло неизвестно куда. – Вы что, не поняли? – снова заговорила Настя. – Они там – на лыжне. – Не слушайте ее, – зашептал Вовка на ухо учителю. – Она хочет, чтобы мы вышли за черту. Тогда нам всем придет конец. – Что же вы стоите? – завопила Павлова, шагая вперед. И тут за спинами ребят раздался еле слышный голос: – Гравёр убежал. Около кустов стояла маленькая Катя Талаева, по ее щекам текли слезы. – Теперь никто-никто не вернется? – умирающим голосом спросила она. – Никогда? Из леса донеслось далекое ржание. Ребята посмотрели друг на друга и молча пошли к палаткам. Призраки из лагеря ушли. А вместе с ними исчезли все дрова и вся вода. А это значило, что в любом случае завтра утром придется выходить в лес. – Попали, – прошептал Васильев, при свете фонарика оглядев всеобщий разгром. – Бежать отсюда надо, – с решимостью произнес Вовка. – Мы сможем пробиться, всадники ведь куда-то ускакали. – Ускакали? Прискачут! – криво усмехнулся Антон. Ему было до слез обидно, что Рыбкин ушел без него. А ведь мог позвать. И тогда он был бы там, в лесу, а не сидел бы здесь и не ждал неизвестно чего. – Вы как хотите, а я к ребятам пойду, – решился Рыжий. – Все равно надо что-то делать. Олег Павлович удобней перехватил лежащую у него на руках в полуобморочном состоянии Карину. – Ладно, – кивнул он, пристраивая Смирнову на попоне. – Была – не была! Все равно терять нам уже нечего. Девчонки, – повернулся он к двум Катям, – присмотрите за Кариной. Лиза! – он поискал глазами Шульгину, – остаешься охранять лагерь. От лошадей не отходите! Если что, они отпугнут призраков. – Вы нас бросаете? – взвизгнула Лиза. Вот это да! А они-то всегда считали, что Лизка-Ириска храбрая! А тут вдруг расклеилась… И ревет в три ручья… И лицо у нее красное… И глаза испуганные… Вот так живешь с человеком семь лет, а он неожиданно оказывается… Ну да ладно. – Мы скоро придем, – учитель строго посмотрел ей в глаза. – Вы не вернетесь, – заплакала Лиза. Все-таки зря она это. Вон и Кати хлюпают носом. А ведь Талаева только что так отчаянно ловила Гравёра. А он огромный… И лягается… И глаза у него бешеные… Огромные и темные… – Не каркай, – буркнул Васильев, потуже затягивая пояс своей куртки. – Если вы будете сидеть тихо, то все вернутся. Конечно, вернутся! Куда они денутся? Вот только пройдутся по темному лесу, соберут все страхи, спрячут в мешок и вернутся. Антон поежился. А ведь где-то там бродит его двойник. И глаза у него по лицу растекаются. – Пошли, что ли? – торопил всех Андрюха. Ему не терпелось ринуться в бой. Махать шашкой, рубить врагов направо и налево. Такому ничего не страшно. Паганель присел около Лизы на корточки, шепнул ей что-то на ухо, потрепал по плечу. Шульгина моргнула мокрыми ресницами и улыбнулась. Что он ей пообещал? Лисицу из леса принести или поймать настоящего волка? Да, Паганель кого угодно может уговорить. Он вообще убедительный. Верещагин и не заметил, как стал разговаривать сам с собой. Как будто недавняя беготня по лагерю заставила его по-другому посмотреть вокруг. Вот стоит Андрюха, уже вооружившийся палкой. Он и тогда ничего не боялся. И сейчас ему ничего не страшно. Просто интересно пройти по ночному лесу. Вовка Сидоров бестолково вертит головой. Он еще ничего для себя не понял и не решил. Но раз предлагают идти, он пойдет. Вовке, наверное, немного страшно. Но азарт предстоящего путешествия перебивает все остальные мысли. Насте тоже хочется идти. Она уже была там, в лесу, ничего необычного не встретила, кроме зайца, и теперь снова согласна туда вернуться. Почему? Потому что рядом бесстрашный Андрюха, потому что где-то там бродят Сашка с Мишкой. И вообще это будет замечательное приключение. А Олег Павлович выглядит скорее растерянным, чем уверенным. Он понимает, что надо куда-то идти и что-то делать. Но что делать и куда идти, не знает. Он не хочет оставлять девчонок одних, но и бросать двоих учеников где-то там, в темноте и неизвестности, тоже нельзя. А обе Кати ни о чем не думали, кроме как о своих распрекрасных лошадях. Им было совершенно не жалко людей, их не волновали ребята, которые по их милости вынуждены вместо предновогоднего отдыха носиться по лесу, борясь со страхом. Они думали только про убежавшего Гравёра и строили планы, как бы половчее его завтра поймать и всем вместе отправиться обратно на конюшню. Олег Павлович оглядел свое небольшое «войско» и пошел к проклятой черте. – Верещагин, не отставай, – позвал он. Слова до Антона доходили медленно. Он видел, как губы учителя шевелятся, но звук до него дошел, когда Паганель уже скрылся за деревьями. Рыжий нахмурился. Что-то с ним происходило, только он не мог понять – что. Стараясь ни о чем не думать, Антон побежал вперед. Лес мелькал перед Антоном серыми пятнами. Впереди, проваливаясь в сугробы, шли четверо. Олег Павлович светил перед собой фонариком, вглядываясь в следы, оставленные Токаевым, пропахал он здесь славно. В маленькой группе, бегущей по лесу, зрел страх. И шел он от Вовки. Значит, появления всадников оставалось ждать недолго. Это почему-то радовало Антона, он уже видел двигающегося параллельно их дороге всадника. На тропинке Паганель остановился. – Антон, что ты вечно отстаешь? Догоняй! – Я тут! Из снега вылетел всадник. В стремительном движении он опрокинул Антона. Паганель чудом успел выхватить орущего Сидорова из сугроба. Всадник в длинном прыжке нырнул как раз в то место, где только что сидел Вовка. Крик еще не успел затихнуть между деревьями, когда Вовка мелко всхлипнул и рассыпался черной вороньей стаей. – Неудачно все вышло, – пробормотала оставшаяся воронья голова, растворяясь в воздухе. – Да что ж это! – ахнул Олег Павлович, вскакивая. На просеке его ждали оставшиеся ребята. Настя сидела на дороге, утирая слезы рукавом, вокруг нее скакал Васильев, тыча во все стороны палкой. – Они где-то здесь, – шептал он, страшно поводя глазами. – Хватит бегать, он рядом с тобой, – крикнул Олег Павлович, чувствуя, что от этого крика в его душе что-то обрывается. Какая-то тоненькая ниточка, сдерживающая его тело в нормальном положении, лопается, и все – руки, ноги, внутренности – обваливается в бездонную яму. Остатки учителя исчезли в черной дыре. Кувыркнувшись, к Настиной руке упали небольшие круглые очки с темной оправой. Павлова потянулась, чтобы коснуться их, но между очками и ее рукой вдруг оказалась палка. – Не трогай! – приказал Васильев, отбрасывая очки подальше. – Как хотите, – прошипели очки, медленно превращаясь в змею. Змея злобно сплюнула неизрасходованный яд и поползла к черепу, лежащему на верхушке сугроба. Она влезла в пустую глазницу и свернулась внутри клубочком. Вперед выехал всадник. – Страшно? – поинтересовался он, перегнувшись с седла. – Не дождешься! – махнул палкой Васильев. – Настька, хватит реветь! Вставай! Ничего этого нет. Мираж все… – Мираж? – икнула от страха Павлова. – Стоять! – Палка взлетела, упершись в грудь коню. – Не подходи! – голос у одноклассника звучал зловеще. – Сейчас как дам между глаз, окулист не поможет. Призрак замер. – Убирайся к чертям собачьим, – Андрюха потряс своим оружием. – Я-то уберусь, – усмехнулся всадник. – А как же твои друзья? Неужели ты не хочешь их спасти? – Шевели копытами отсюда! – не унимался Васильев. – Мои друзья разберутся без тебя. – Ты уверен? Всадник наклонился вперед, протягивая руку к Андрюхиной палке. Тот легонько стукнул по протянутой руке. Палка рассыпалась мелким серым порошком. От неожиданности Андрюха отпрыгнул назад, споткнулся о сидящую на тропинке Павлову и упал. – Вы навеки останетесь в этом лесу! – пророкотал всадник. Васильев откатился в сторону, отталкивая Настю. – Иди ты знаешь куда?! – выкрикнул он и замер, успев привстать только на колени. Капюшона на голове всадника не было, на Васильева смотрели черные злые глаза Кати Кошелевой. Он даже несколько раз сморгнул – настолько это было невероятно! Тихая Катька, сидящая у костра, и вот это создание, возвышающееся перед ним. – Слушай, ты! Чучело огородное! – выкрикнул он. – А ты в курсе, что людей пугать нехорошо? Тебе родители об этом в детстве не говорили? – Ой, – притворно ахнула Катька, заводя глаза под лоб. – Какие слова! – Она запрокинула голову, и эта голова у нее завалилась куда-то за плечи, а потом вернулась обратно, но уже с другим лицом. Теперь на них смотрело маленькое скуластенькое личико Вики Жирновой. – Мне можно все. Понятно? Теперь наше время! Что хотим, то и делаем! Васильев попятился – к подобным превращениям так сразу привыкнуть трудновато. – Эй, белобрысая, – дрогнувшим голосом начал Васильев, – шла бы ты домой! Тебя, наверное, бабушка ждет, волнуется! – Бойтесь! – коротко приказала Вика, посылая коня вперед. – Щаз! – прищурился Васильев. – Воробьев пугай. Пошли, Настька, пусть она без нас здесь выпендривается! Он помог Павловой подняться. – Никуда вы не пойдете! – упрямо повторила Вика. – Минутой раньше, минутой позже, но вы все равно достанетесь этому лесу и этому проклятию. – Белобрысая, хорош буянить, – лениво отмахнулся от нее Васильев и, вдруг вспомнив слова учителя, назидательным тоном произнес: – Любое проклятие возвращается, ты что, не в курсе? Желать другим людям смерти вредно для здоровья. И вообще – по ночам нужно спать, а не по лесу шастать! Ясно? – Ладно, посмотрим, кто кого! Капюшон сам собой наполз обратно на голову Жирновой. Она взмахнула рукой с появившимся хлыстом. Со свистом он опустился на круп присевшего от такого обращения коня. Взвился снег. – Очень страшно, – прошептал Васильев, чувствуя, как все сильнее и сильнее Павлова наваливается на него. – Держись, Настюха! Прорвемся! Я понял: главное – их не бояться. Им же чего нужно? Напугать нас. Чтобы мы делали то, что они хотят. А им лес завоевать нужно. – А нам – Сашку с Мишкой найти, – пробормотала Настя, постепенно приходя в себя. – Вот и пошли за ними. – Васильев воинственно оглянулся. – Ну, где тут ваши тропинки, показывай! Сейчас мы всех этих всадников в порошок разотрем!
Глава VIII Люди и призраки
Рыбкин с Сашкой барахтались в сугробе, пытаясь выбраться на лыжню, но только сильнее увязали в снегу. Стоящая перед ними «Настя» рассыпалась десятком птиц и собиралась обратно. – Бежим! – крикнул Сашка и первым понесся по тропинке. Рыбкин помчался вслед за ним. Поворот скрыл от него Токаева. Испугавшись, что останется один, Миша прибавил ходу, проскользнул поворот и с разбегу налетел на замершего одноклассника. Перед ними появилась Света. За ее спиной вздыхал Заток. – Ага! – почему-то выпалил Рыбкин. – И ты здесь? Как поживаешь? Девочка сверкнула на него темными глазами. – «Родители купили черную пластинку…» – начала она. – Да чего ты к этой истории привязалась? – недовольно буркнул Сашка. – Далась она тебе… – В лагере ее подружки ждут, – начал Мишка, – а она здесь сказки рассказывает. Давай топай, а то лошадь простудишь! Не слыша их слов, Света продолжала: – «И велели девочке ни в коем случае ее не трогать…» Сашка на всякий случай попятился. – Слушай, – зашептал он, – может, это автомат какой-нибудь? Знаешь, бывают такие – когда мимо него проходит человек, они начинают говорить. Кока-колу продавать или еще что-нибудь впаривать. Или как призраки в аттракционе. Вылезают из-за угла, пугают, а сделать ничего не могут. – Хорошо бы! – Рыбкин не разделял радужных взглядов приятеля. Искаженное лицо стоящей перед ними девочки не обещало ничего хорошего. – А куда люди пропадают? – А никуда, – усмехнулся Токаев. – Дома потом сидят, чай пьют. – Он сделал несколько шагов в сторону Светы. – Эй! Ты чего здесь шастаешь? А ну, кыш отсюда! Она замолчала. Глаза ее потемнели. Чернота разлилась вокруг, превращаясь в гигантскую птицу, затмевая собой тропинку. Мишка отчетливо клацнул челюстью. – Вот так, – довольно потер руки Сашка, оглядываясь. Лес вокруг беззвучно спал. Темное небо молча смотрело на них. – И дальше что? – Рыба сделал несколько шагов вперед, потоптался на том месте, где только что стояла девочка. – Куда она делась? – Спать пошла. Сашкина радость быстро улетучилась. Он вдруг почувствовал, что вокруг холодно и темно, что вообще ночь и стоят они на непонятно какой тропинке в незнакомом лесу. – Пошли обратно. Что здесь торчать? – буркнул Токаев. – Подожди. – Мишка удивился резкой смене в настроении одноклассника. – Давай дождемся всадников. Они появятся, и мы их пошлем обратно. Ну, как Антон говорил. – Отстань ты со своими желаниями! – равнодушно сплюнул Токаев. – Надоело. Я обратно пошел. – Как пошел? – ничего не понимающий Рыбкин сделал несколько шагов за уходящим приятелем. – А ребята? Ведь если всадники исчезнут, то все вернутся. – Потом как-нибудь, – отмахнулся Сашка. – Зачем же мы тогда сюда шли? – забеспокоился Мишка. – Ты сам хотел выкопать кого-нибудь. – Теперь не хочу. Надоело! Он двинулся по тропинке обратно к просеке. – Подожди! – побежал за ним Рыба. – Раз пришли, давай что-нибудь сделаем! Зря, что ли, через весь лес топали? – Все равно здесь никого нет, – через плечо бросил Сашка. – И может, всю ночь никто так и не появится. Ждать их теперь! – Стой! – Мишка снова забежал вперед. – Мы сейчас костер разведем, согреемся. И правда, чего ждать на холоде? Токаев остановился, равнодушно посмотрел на одноклассника. Восприняв его молчание как знак согласия, Рыбкин стал быстро обрывать ветки росшего на обочине куста, вытащил из-под елки засохшую лапу. Все это он сложил на тропинке, трясущимися руками полез в карман. Где-то у него были спички. Целый коробок. Он его специально перед походом купил. Ага, вот! Только бы спички не отсырели! Огонек с шипением разгорелся на сухих хвоинках, пробежал вверх по высохшему мху. Мишка тут же сунул в огонь пучок сухой травы, выкопанный из снега. – Сейчас! Подожди! Будет тепло. Огонь занимался, разгораясь все сильнее и сильнее. Темнота отступила под напором пламени. Мишка присел, сунув озябшую руку поближе к теплу. – Смотри! – От того, что костер разгорелся, ему стало не просто тепло. Ему стало легко и весело. Все призраки и всадники сами собой забылись. – Теперь нам никто не страшен. Сашка все так же стоял в нескольких шагах от одноклассника, засунув руки в карманы и недовольно глядя на Мишкину суету. Лицо его выражало крайнюю степень презрения. Зло сплюнув, он развернулся и пошел к просеке. «Вы убьете друг друга ненавистью», – пронеслось в голове у Мишки. – Не уходи! Рыба растерянно хлопал глазами. Происходило что-то непонятное и неправильное. Сашка уходил. Еще чуть-чуть, и он скроется за поворотом. Бежать за ним? Тогда зачем они сюда шли? Ждать всадников? Почему они не появляются? Они уже должны быть здесь! Или они не обращают внимания на пешеходов, им только лыжников подавай? Неужели придется идти обратно за лыжами? Миша так и не решил, что же делать дальше. Сашка ушел. В задумчивости Мишка повернулся к своему маленькому костру. Яркое пламя плясало на тонких ветках, трещала, прогорая, еловая хвоя. Пламя согрело вокруг снег. Но вместо того, чтобы растаять, он постепенно становился прозрачным. Сначала появилась спящая под ним земля. Земля стала прозрачной, и под ней проступили белесые кости и черепа. Много костей и черепов. Больших, маленьких, вытянутых, раздробленных. Все они скалили гнилые зубы, выпячивали пустые глазницы, скреблись друг о друга, с сухим треском ломались, пробивая землю, вылезая наружу. Мишка попятился. Вдруг он почувствовал, что в руке держит не палку, которую только что хотел сунуть в огонь, а что-то легкое и шершавое. Череп! Вытянутый лошадиный череп. Череп клацнул челюстью, при этом потеряв несколько зубов, зыркнул на него черными глазницами. – А-а-а-а! Упав на землю, череп подпрыгнул и провалился сквозь землю, присоединившись к остальным костям. Рыбкин бросился за поворот. Здесь, в темноте, земля перестала быть прозрачной, скрыв под собой свой страшный клад. Сердце в груди у Мишки колотилось, подскакивая под горло. От страха тряслись ноги. – Черт! – попытался он взять себя в руки. – Черт, черт, черт! Я не боюсь вас! Слышите! И тут он остановился. А чего он, собственно говоря, разорался. Это же хорошо, что он боится, правильно. На страх-то всадники как раз и должны прийти! Он перебрал в голове все случаи их появления. Первый раз, когда он пошел изучать местность. Здесь он был впервые и немного трусил. Потом днем на этой же тропинке после разговора со Светкой. Всадник выскочил из-за поворота. Было это неожиданно и очень страшно. Когда еще? Перед лагерем. Там они налетели ураганом и даже толком испугаться не дали. Или дали… Хотя если ребята исчезли… Что-то должно быть еще… Призраки появились, когда Вика Жирнова произнесла проклятие. Загадочная Светка с Затоком постоянно твердит, что нельзя преступать запреты. Близко… Точно! От пришедшей к нему в голову догадки Мишка даже подпрыгнул. Все оказалось так просто! Всадники действовали, когда их начинали ненавидеть, когда их боялись. А эта Света – все же понятно! Всеми своими жуткими историями она просто пыталась запугать их, заставить делать то, чего в принципе делать не стоит. С Сашкой то же самое – они заставили его уйти, чтобы он, Рыбкин, остался один и сильно испугался. А так как сейчас он, Мишка, ничего не боится, то ничего и не происходит. – Какой догадливый! Рыбкин вздрогнул. За его спиной стояла Светка и с руки кормила Затока морковкой. – Тебе-то это зачем нужно? – выпалил он. – Нам с Затоком вдвоем хорошо. Никто больше и не нужен! – Она любовно потрепала лошадь по морде. – А вы тут ходите, мешаетесь. – А может, это вы мешаетесь? – нагло спросил Рыбкин. Он почувствовал себя невероятно уверенно – встал ровно, засунул руки в карманы. – Поздно, – лениво потянулась Света. – Лагеря вашего уже нет. Учитель сбежал. Твой дружок исчез сразу за поворотом. Шли там какие-то по лесу, но с ними уже разобрались. Лес почти наш. Так что давай – бойся по-быстрому и катись вслед за всеми. – Как это – лагеря нет? – не понял Рыбкин. – Куда все делись? – За вами пошли. Пошли да сгинули. Вот так. – Куда сгинули? – Мишка сжал кулаки. – Ты врешь! Света весело расхохоталась. Этот смех отбросил Рыбкина назад. Он развернулся и побежал по тропинке туда, где скрылся Токаев. – Сашка! Лес проглотил его крик. – Токаев! Казалось, что звуки застряли в его горле. За поворотом никого не оказалось. И дальше тоже никого – одна тьма. В вершинах деревьев загудел ветер. – Тебе ничего не поможет. – От обиды, что ничего не получается, Светка топнула ногой. – Расскажи, почему все это именно здесь произошло, – попросил Рыбкин. – Ты же обо всем догадался. – Светка недовольно поджала губы. – Дура Вика захотела. А если чего-то сильно хочешь, это сбывается. Да и место это, говорят, нехорошее. Битвы здесь были большие, люди убивали друг друга и умирали, всех ненавидя. А еще то ли коня Вещего Олега тут закопали, то ли колдунья поблизости жила, то ли животных здесь забивали. Короче, много чего здесь было. А теперь всегда сыро, туман собирается, грибы не растут, одни поганки, болото, деревья гниют… – А при чем здесь подковы? – Так просто. Вика захотела, чтобы всадники убивали людей – появилась подкова. Если бы по лесу бегали охотники, то они бы нашли заколдованную пулю. – А ты здесь как оказалась? Встретившись с призраками, ты должна была исчезнуть. Как все! – Потому что я – это я! Понял? – Светка пристально смотрела в Мишины глаза. – Мне лошади ничего сделать не могут! Потому что я Затока больше всего на свете люблю. Он у меня старенький, может скоро умереть. А так мы с ним будем долго-долго жить. Сколько захотим. И весь лес будет наш, и никого мы сюда не пустим! – И тебе не жалко своих подруг? – Нечего было сюда соваться – я их предупреждала! Светка взмахнула руками, вокруг нее взвихрился снег. Сейчас она была похожа на Снежную королеву. Такая же белая и такая же глупая. – Вставай, – приказала девочка, и ее голос прокатился по лесу как выстрел. – За тобой пришли! Рыба приподнялся – вставать совсем не хотелось. Он вдруг почувствовал, как гудят от долгой ходьбы ноги, как хочется спать: все-таки была ночь, и в это время он обычно уже спал. Дремота навалилась так внезапно, что Мишка закрыл глаза и снова откинулся назад. Лицо его побледнело. Взметнувшийся снег припорошил одежду. Света довольно улыбнулась. Ей не удалось заставить этого мальчишку испугаться. Зато она очень легко усыпила его разговорами. Да и мороз сделал свое дело. А при такой погоде долго он не проспит. Вернее, проспит, но скоро его сон станет вечным… Андрюха с Настей сначала прошли мимо нужного поворота. Идти по просеке было так удобно, что они увлеклись и под мерный хруст снега под ногами протопали лишние метры. Только когда широкая просека сделалась узкой, они поняли, что попали куда-то не туда. – Прошли, наверное, – Андрюха почесал палкой лоб. – Надо вернуться. – В лагерь? – с надеждой в голосе спросила Настя. – Да погоди ты со своим лагерем! – возмутился Васильев, поворачивая обратно. – Тут самое интересное начинается, а ты – в лагерь, в лагерь. Завопила на вершине дерева потревоженная птица. Настя присела, дергая Андрюху на себя. – Чтоб тебе пусто было! – развернулся разъяренный Андрюха. – Ты чего, спокойно идти не можешь? Сугробы по сторонам тропинки ожили. Одновременно из них выскочили два всадника. Настя прыгнула мимо Васильева и помчалась по лыжне. Андрюха пятился, выставив перед собой палку. – Не подходи! – орал он, чувствуя, как страх уверенно овладевает им. Он запустил в ближайшего коня палкой и побежал за Павловой. Выскочив из-за поворота, Андрюха вдруг почувствовал, что не бежит, а падает – вперед головой, вольно раскинув руки. Васильев ласточкой пролетел над лыжней, плюхнулся на живот. Сбоку что-то пискнуло, и когда быстрое мелькание деревьев и снега вокруг него прекратилось, он смог разглядеть копошащиеся фигуры, мимо которых он только что промчался. К своему великому удивлению, он увидел Настю, сидящую рядом с Рыбкиным. Красная шапка с помпонами слетела с его лохматых, торчащих во все стороны волос. Лицо Мишки было удивленным и… заспанным. Больше ничего рассмотреть Андрюха не успел, потому что весь лес загородил от него взвившийся над сидящими одноклассниками конь. – Нет! Васильев пытался встать и никак не мог это сделать – ноги разъезжались, руки не находили надежной опоры. – Не трогайте их! – вопил от бессилия Андрюха. Он отлично понимал, что сейчас у него на глазах исчезнут и, может, никогда больше не вернутся его два лучших друга, а он будет сидеть, не в силах подняться! – Провалитесь вы все пропадом! – выкрикнул он, утопая в снегу по шейку. Тем временем конь перелетел через сидящих на тропинке ребят, резко развернулся, останавливаясь. Проснувшийся Мишка еще слабо соображал, что вокруг происходит. Он несколько раз взмахнул ресницами, а когда окончательно открыл глаза, то снова увидел над собой лошадиную морду – черные испуганные глаза, припорошенный снегом нос, стягивающие концы рта железные кольца. – Провалитесь вы все пропадом! – пронеслось над тропинкой. Всадник кувырком скатился с лошади. Черным кульком он ворочался на тропинке, пытаясь встать. Проклятие ухнуло ему на голову, увлекая его под снег. Лошадь, лишенная всадника, вздрогнула, отпрянула назад, заржала и в коротком прыжке исчезла среди деревьев. Второй всадник, благополучно задержавшийся на тропинке, откинулся в седле, заставляя лошадь пятиться. Но конь уже не слушался его. – Я сказала – стоять! – взвизгнула повисшая на шее наездница. Силы оказались не равны. Конь тянул вперед, стаскивая наездницу с седла. – Не подходи! – вопил Васильев. С его места было видно, как лошадь склонилась над Настей. – Животина! Не смей ее трогать! Убирайся отсюда! Ярость подняла Андрюху на ноги. Он вскочил, в два прыжка добежал до всадника и, вложив в кулак весь свой гнев, стукнул коня по шее. Конь всхрапнул и поскакал между деревьями. Первая же низкая ветка подцепила наездницу за капюшон, вынимая ее из седла. Смешно болтая руками и ногами, она перелетела через круп и упала на тропинку. Здесь она завертелась волчком, превращаясь в огромную черную каплю, и юркнула в снег. Вместо себя она оставила какой-то блестящий предмет. – Ездить сначала научись. – Злоба мгновенно улетучилась из Андрюхи, сменившись жуткой усталостью. – Еле в седле сидит, а туда же – людей сшибает. – Смотрите! – закричал Мишка. – Подкова! Новенькая! Он протянул руку. – Не трогай! – подскочил Васильев. Все уставились на блестящую железку. Через мгновение от нее пошел пар, серебряная подкова налилась красным цветом и стала проваливаться, выжигая снег. Когда из образовавшейся щели перестал валить пар, из-под земли донесся еле слышный металлический звук удара. И все стихло. – Куда это она делась? – пополз вперед Мишка. – Неважно, – Васильев носком ботинка стал забрасывать след от подковы снегом. – Провалилась – и ладно. Главное, чтобы обратно не вернулась. – Получившийся бугорок он старательно примял. – А если вернется? – испуганно прошептала Настя. – Ты? – изумился только сейчас разглядевший одноклассницу Рыбкин и на всякий случай отполз подальше. Но меняться Павлова не собиралась. Если у нее что и текло, так только слезы из глаз. – Это действительно ты? – на всякий случай спросил Мишка. – Она, она, – поддакнул Андрюха. – Можешь не сомневаться, мы вместе шли. – А тут только что… – Рыба крутанулся на месте. – Эта… с лошадью! – И ее найдем. – Васильев помог Насте подняться. – Теперь от нас никто не уйдет! – Он потряс сжатым кулаком, давая понять, что если что-то произойдет, то берегись вся лесная братия. – А может, – Мишка недоверчиво покосился на то место, где еще совсем недавно лежала подкова, – выкопаем ее и как следует спрячем? Ведь именно в ней все проклятие и заключается. – Да ну ее, – махнул рукой Андрюха. – Эта подкова уже небось до центра земли долетела. Пускай там и расплавится! Сейчас, когда страх миновал, идти по тропинке стало гораздо легче – не надо было ни оглядываться, ни прятаться. Да и вокруг стало как будто светлее и теплее. – Тут что произошло, – громко рассуждал Васильев, шагая впереди всех. – Девчонки так сильно захотели избавиться от лыжников, что их желание воплотилось в действительность – так появились всадницы. – А как же Света? – забежал вперед Мишка, внимательно слушавший Андрюху. – Черт ее знает, – пожал плечами Васильев. – Наверное, она так любит своего доходягу и так ненавидит всех вокруг, что сама стала ходячей ненавистью. В ней собралась вся злоба этого леса. Недаром она никого сюда не пускала, пугая своими страшилками. С ее энергией нужно отдельную планету создавать и жить там. И страшилку эту с пластинкой приплела, типа, сказали не трогать, вот и не трогайте. В смысле, в лес не суйтесь. Она сама хороша! Всем же известно, что проклятия возвращаются. Она бы лучше не проклинала, все было бы нормально. – Что же получается? – Рыбкин опять вышел вперед. – Они такие плохие, а мы такие замечательные? Васильев остановился, пристально посмотрел в глаза однокласснику. – Ну почему же? – как-то странно скривился он. – Мы разные. За его спиной мелькнула тень. Настя завизжала. Васильев кинулся на Рыбкина. Лицо его исказила бешеная злоба, рот скривился в усмешке. Не ожидавший нападения Мишка упал назад, отбив себе зад и спину. Он успел только выставить руки вперед, стараясь защититься от разъяренного Андрея. Хотя назвать то, что над ним нависало, Андрюхой было уже нельзя. Лицо его стало черным, из носа вырос птичий клюв. Руки сделались невероятно гибкими и сильными. Ладонь превратилась в крыло, которое железной хваткой обвило Мишкину шею. Рыбкин широко раскрыл рот, но даже это не помогло – воздуха не хватало, он задыхался. На мгновение лицо борющегося с ним существа стало похоже на Светкино, свисающие перья превратились в длинные рыжие волосы. – Вы не уйдете отсюда! – грохнул лес. – Злобу нельзя уничтожить. Она будет жить в вас. Она разлита по всему миру. Она им правит. – Убирайся! – завизжала Настя, опуская на спину чудовища сжатые кулаки. – Отпусти его! От этого удара по телу чудовища пошла волна, оно выгнулось и вдруг рассыпалось сотней мерцающих шариков. Коснувшись земли, шарики лопались, из них выплескивалась густая маслянистая жидкость. Эта жидкость тут же залилась Мишке в рот, и он, едва успев хватить немного воздуха, снова задохнулся, задергался из последних сил. Вскочил. Но голова у него кружилась. Мгновенно загустевшая жидкость забила все дыхательные пути. Мир вокруг него покачнулся, что-то яркой вспышкой взорвалось в голове. Стало невыносимо светло, яркий луч резанул по глазам. А потом наступили абсолютная темнота и тишина. Лес опрокинулся на Мишку, и они вместе стали проваливаться в пустоту. Когда Рыбкин открыл глаза, то сначала подумал, что сошел с ума. Сверху на него смотрела лошадиная морда с седыми вислыми губами. «Заток», – вспомнил он. Старый конь вздохнул, отходя в сторону. На его месте оказалось встревоженное лицо Васильева. Мишка сел, загораживаясь от Андрея локтем. – Не подходи, – прошептал Рыбкин. Они все еще были неподалеку от просеки. – Спокойно, – криво улыбнулся Андрюха. – Все закончилось. – Руки убери! – Мишка резво вскочил на ноги, забыв и про головокружение, и про слабость. – Не трогай меня! – А я ничего, – Васильев спрятал руки за спину. – Я думал, помочь тебе надо. – Ага! Ты уже мне помог. Чуть не убил меня, дурак! – Это не я, – обиженно засопел Васильев. – Это ненормальная Светка была. Я даже сделать ничего не успел, как она в меня вселилась со своими птицами. К ребятам шагнул Заток, требовательно ткнулся мордой в Настино плечо. – Так, народ, – скомандовала Павлова, копируя Паганеля. – Хватит ругаться, пошли в лагерь. Там уже, наверное, все собрались. – Она потрепала лошадь по шее, и та доверчиво положила морду ей на плечо. – Что же тогда со Светой стало? – Мишка все еще продолжал стоять, не двигаясь с места. – Злобой она изошла – вот что! – вдруг выдала Настя. – А если вы тут будете ругаться, то сюда еще кто-нибудь придет! Поняли? Ребята молча переглянулись. – А мы чего? – забормотал Рыбкин, выбираясь из снега. – Мы так. Я только хотел узнать, что это было. Ты уж не сердись. – М-да, – задумчиво протянул Васильев. – Когда женщина сердится – это ураган. – И тут же получил от Насти увесистый подзатыльник. – А что я сказал? – подпрыгнул он. – Это же правда! Павлову сейчас не интересовало, правда это или нет. Ей хотелось уйти от места, где таким фантастическим способом сбываются злые пожелания, где даже мысль оказывается материальной. Если бы только идущие следом за ней ребята знали, как ей хотелось поскорее забыть случившееся! Впереди Новый год, праздники, все неприятное можно оставить в прошлом и никогда-никогда об этом не вспоминать. Если очень постараться, выбросить это из головы можно. Загадать под бой курантов – а это самое верное средство, – и все загаданное сбудется. Только загаданное должно быть обязательно добрым. Плохое в новом году никому не нужно. Так они и шли по еле видимой тропинке. И как хорошо было больше ни о чем не думать и ничего не бояться. А что дальше? Через десять минут продрогшие ребята выйдут к костру, где их уже ждут с нетерпением. В котелке радостно булькнет вода. Паганель пошуршит пакетиками с чаем и выдаст каждому по большому прянику. Поход их закончился. Завтра они соберут заново расставленные палатки и отправятся домой. Отмываться, отогреваться, лечить сопливый нос и подстуженное горло, чтобы Новый год встретить веселыми и здоровыми. Лошадей в эту же ночь заберут девчонки. Даже за Затоком придут. Свету они обнаружат около погасшего костра утром. Она будет сидеть, уткнувшись в колени и плакать. Вероятно, ей захочется попросить у всех прощения и объяснить, что она не думала устраивать весь этот кошмар. Но ребята пока не готовы не только прощать, но даже выслушать. Васильев выведет из-за палатки Затока, сунет ей в руку уздечку и отвернется. Светка уйдет, не проронив ни слова, только холодные слезинки будут замерзать на ее ресницах. Кто знает, что она там хотела сказать! Может, что хорошее, а может, и плохое. Плохое не надо. Ведь если не велят трогать черную пластинку, то лучше ее не трогать. И проклятий не произносить. А то мало ли чего…
Грейди Хендрикс Хоррормолл
Grady Hendrix Horrorstör© 2014 by Grady Hendrix © Дмитрий Могилевцев, перевод, 2023 © ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *
Глава 1. Бруука
Диван, в котором воплотились все Ваши мечты о диване! С подушками из пены с эффектом памяти, с высокой спинкой, обеспечивающей Вашей шее такую нужную поддержку, «Бруука» – расслабляющее начало для конца ваших дней. ДОСТУПНО В ВАРИАНТАХ: ЛЕСНАЯ ЗЕЛЕНЬ, БАКЛАЖАН, КРАСНАЯ ОХРА И НОЧЬ Д 87¾ × Ш 32¼ × В 34¼ НОМЕР ТОВАРА 5124696669Начинался рассвет, и зомби брели, спотыкаясь, через парковку к дальнему ее концу, увенчанному огромным бежевым коробом. Позже их воскресят лошадиные дозы «Старбакса», но пока эти мертвецы были едва живы. Причины смерти разнились: похмелье, ночные кошмары, эпично затянувшийся сеанс онлайн-игры, нарушенный циркадный ритм из-за привычки допоздна смотреть телевизор, непрестанно хнычущие дети, празднующие до четырех утра соседи, разбитые сердца, неоплаченные счета, упущенные возможности, хворающие собаки, беспутные дочки, больные родители, полночный жор мороженого прямо у холодильника. Но каждое утро пять дней в неделю (и все семь в праздничные недели) они тащились сюда, к тому, что никогда не менялось в их жизни, что всегда останетсяна месте, несмотря на дождь, снег, развод, смерти домашних питомцев – к работе. «Орск» был чисто американской мебельной торговой сетью с отдаленно скандинавским флером, предлагавшим приличный дизайн жизни и быта за цены меньше икеевских. Вдохновляющий лозунг «Орска» обещал «лучшую жизнь для каждого», а в особенности для акционеров, каждый год собиравшихся в штаб-квартире в Милуоки, штат Висконсин, чтобы услышать, насколько внушительные доходы приносит их дешевый клон «Икеи». «Орск» сулил клиентам «все необходимое» для каждой стадии их жизни, от колыбелек «Бальзак» до кресел-качалок «Гутбол». В «Орске» не продавались разве что гробы. Пока что. «Орск» представлял собой огромное сердце, прокачивавшее по кругу своей гигантской сети 318 партнеров: 228 занятых полный день, 90 на полставки, бесконечно циркулирующий поток. Каждое утро работающие на этажах партнеры втекали внутрь, проводили по сканерам карточками, включали свои компьютеры и помогали клиентам измерить образцовые шкафы «Кноббл», найти самые комфортные кровати «Мюскк» и подобрать именно такие, какие нужно, стаканы для воды «Лагния». Каждый день после обеда приходило время для потока партнеров, занимавшихся снабжением: они везли новый товар на Склад Самообслуживания, дополняли, расставляли, заполняли стойки и полки, волокли поддоны с товаром на Торговый этаж. Идеальная система, спроектированная со всей точностью для того, чтобы оптимизировать работу каждого из 112 магазинов сети «Орск», рассеянных по Северной Америке, и 38 магазинов по всему миру. Но в первый четверг июня в 7:30 утра в Орске номер 00108 округа Кайахога, Огайо, эта хорошо откалиброванная система со скрежетом пошла вразнос. Проблемы начались, когда испустил дух картридер рядом со служебным входом. Партнеры прибывали, сбивались у двери в сконфуженную беспорядочную толпу. Они беспомощно махали удостоверениями над ридером до тех пор, пока не явился Бэзил, вице-менеджер, направивший всех к другой стороне здания и входу для клиентов. Те заходили в «Орск» сквозь внушительный застекленный двухэтажный атриум, поднимались по эскалатору на третий этаж и там вступали в лабиринт Демонстрационного этажа, спроектированного так, чтобы раскрыть клиенту стиль «Орска» самым оптимальным образом, как предполагала армия дизайнеров интерьера, архитекторов и ретейл-консультантов. Но здесь появилась еще одна проблема: лента эскалатора крутилась в противоположную сторону. Партнеры по этажу втиснулись в атриум и растерянно замерли, не понимая, что делать дальше. Следом столпились ИТ-партнеры и рой постпродажников, кадровиков и грузчиков. Вскоре люди уже набились, как сельди в бочку, а некоторые по-прежнему маячили на улице. Эми заметила человеческую пробку с парковки, спеша через нее с размякшим, подтекающим картонным стаканом кофе в руке. «Только не сегодня, – подумала она. – Только не сейчас». Она купила этот стакан за доллар сорок девять центов в «Спидвее» три недели назад – взяв один такой кофе, можно сколько угодно перезаполнять стаканчик. Похоже, «сколько угодно» кончалось сегодня. Пока Эми глядела в отчаянии на толпу партнеров, донышко, наконец, вывалилось, и кофе низвергся на кеды. Эми даже и не заметила. Она знала, что раз толпа, значит, проблема, а если проблема, значит, менеджер, а так рано поутру «менеджер» означало Бэзила. А Эми не могла позволить Бэзилу заметить ее. Сегодня она должна была стать Бэзило-невидимой. На краю толпы околачивался Мэтт, как обычно в черном худи. Он мрачно поедал МакМаффин с яйцом и щурился от болезненных лучей утреннего солнца. – Что случилось? – спросила Эми. – Не могут открыть тюрьму, так что мы не можем отбыть срок, – ответил Мэтт, стряхивая крошки из огромной хипстерской бороды. – А вход для персонала? – Заглючил. – А как же мы попадем вовремя? – Да не спеши ты, – посоветовал Мэтт, деловито высасывая сырную нитку из поросли, окаймляющей рот. – Внутри ожидает только ретейловое рабство, бесконечная эксплуатация и личное порабощение вкупе с обязанностью исполнять прихоти корпоративных властителей. Прищурившись, Эми различила сквозь окно долговязый силуэт Бэзила, старавшегося урегулировать человеческую пробку, размахивая тощими, как спагетти, руками. Он так близко! В животе у Эми образовался холодный ком. Но Бэзил стоял к ней спиной. Может быть, у нее еще есть шанс. – Мэтт, это хорошая мысль, – заметила Эми. Чтобы не упустить момент, она ловко ввинтилась в толпу, пригибаясь за спинами, наступая на ноги, проскальзывая на свободные места – и вступила в атриум. Вот оно, успокаивающее объятие «Орска»! Всегда та самая температура, идеально освещенные комнаты, музыкальный фон всегда идеальной громкости и покой тоже идеальный. Но сегодняшним утром в воздухе ощущалось что-то нездоровое, какой-то прогорклый запашок. – Я и не знал, что этот эскалатор может крутиться в обратную сторону, – заметил Бэзил партнеру, безуспешно колотившему по кнопке аварийной остановки. – Это вообще технически возможно? Эми не стала ждать ответа. Ее единственной сегодняшней задачей, как и задачей нескольких следующих дней, было любой ценой избежать Бэзила. Если он не увидит ее, рассуждала она, то не сможет и уволить. Магазин в Кайахоге работал всего одиннадцать месяцев, но уже все знали: он не оправдал корпоративных надежд и продавал куда меньше ожидаемого – но не из-за недостатка клиентов. В особенности по выходным Демонстрационный зал и Торговый этаж кишели людьми: семьями, супружескими парами, пенсионерами, теми, кому было некуда больше пойти, студентами и их соседями по комнате, молодыми родителями с младенцами, угрюмыми молодоженами, покупающими свой первый диван… целым легионом клиентов, стискивающих карты, сумки, набитые списками моделей на стикерах, с выдранными из каталогов «Орска» страницами, с кредитками, жгущими карманы, и все готовы тратить. Но по необъяснимой причине продажи недотягивали до прогнозов. Эми перевелась в Кайахогу из магазина в Янгстауне, в пятидесяти милях отсюда. Сперва все было в порядке, и жила Эми на полпути между городами, так что время на дорогу не увеличилось. Но одиннадцать месяцев в Кайахоге переполнили чашу терпения. Эми отправила запрос на перевод назад, в Янгстаун, и теперь компьютеры в региональном отделении «Орска» переваривали запрос. Главное, продержаться еще несколько дней – и придет спасение. Проблема Эми звалась Бэзил, новоназначенный помощник менеджера, высокий чернокожий парень с идеальной осанкой и рубашками из химчистки. С момента ее повышения он сделал Эми своей мишенью, вечно приходил в ее отдел, чтобы перепроверить ее решения и дать советы, в которых она не нуждалась. Она знала, что он собирает список ее ошибок и просчетов, чтобы обосновать увольнение за некомпетентность. А когда придет сокращение штата – а его неизбежность ощущали все, странное напряжение так и вихрилось повсюду, – Эми, несомненно, окажется в числе первых. Так что пока запрос полз сквозь систему, Эми вела себя образцово. Она вовремя являлась каждый день, улыбалась клиентам; не моргнув глазом принимала известия о срочных изменениях графика. Ее рабочая униформа (бежевая рубашка поло, синие джинсы, кеды «Чак Тейлор») была безукоризненна. Она боролась с естественным желанием отвечать грубостью на грубость и, прежде всего, держалась подальше от Бэзила, решив ни в коей мере не привлекать его внимание. Эскалатор тоненько механически взвыл, заскрежетал шестернями, остановился и закрутился в противоположном направлении. Бэзил захотел похлопать техника по спине, тот захотел дать пять. Вышел конфуз. – Вот это я называю инициативой! – объявил Бэзил и захлопал. Затем толпа партнеров по этажу полилась по шевелящимся ступенькам наверх, к Демонстрационному залу на третьем этаже. Эми решила не следовать общему примеру и не проходить мимо Бэзила, а воспользоваться обходным путем. Наперекор намерениям всей команды психологов ретейла, Эми пошла через «Орск» в обратную сторону: от самой задней части (кассы) она двинулась по часовой стрелке по всему пищеварительному тракту ко рту (Демонстрационный зал у выхода с эскалатора). «Орск» спроектировали в расчете на движение клиентов против часовой стрелки, чтобы поддерживать их в состоянии магазинного гипноза. Идти в другую сторону было как зайти с выхода в ярмарочную комнату ужасов при включенном свете – пропадал весь эффект. Она пробежала мимо касс, по центральному коридору Склада Самообслуживания с его пятидесятифутовыми потолками и башнями полок. Плоско упакованная мебель громоздилась на индустриального калибра арматуре, бесчисленные серые ряды уходили в туманную даль. Бесцветный заводской город из картона и стали в четырнадцатую дюйма, сорок один коридор, нависающий над крошечным человеком, пока потолок резко не снизится – здесь проходила граница отдела маркетинга. Эми пробежала облако запахов в Домашних декорациях с их ящиками ароматических свечей, миновала блеклые поделки Настенных декораций и протиснулась сквозь вращающуюся дверь – путь напрямик, перенесший из прогретой лампами Галереи освещения в Столовые приборы, откуда лестница вела наверх, в Демонстрационный зал. Перепрыгивая через ступеньки, Эми выскочила на третий этаж вблизи гнездившегося у Демонстрационного зала кафе. Этот зал был центром того, что «Орск» обрушивал на головы клиентов, океаном мебели с композициями комнат, сделанных в виде настоящих квартир с «орской» мебелью (все доступно для покупки и лежит на Складе Самообслуживания). Эми проскользнула сквозь Детский отдел, направляясь к проходу между секциями, но вдруг заметила, что кто-то смотрит на нее – и, прочертив кедами по полу, остановилась. Вдали, у двухъярусных кроватей «Магог», стоял мужчина. Даже на таком расстоянии было ясно: это не партнер. Партнеры в «Орске» были представлены в четырех цветах: этажные в бежевом, снабженцы в оранжевом, операционные в коричневом и стажеры в красном. А глядящий на Эми мужчина был в темно-синем. Чужой. Наверное, ранний прошмыгнувший посетитель. Но выяснить, кто он, Эми не успела. Мужчина развернулся и юркнул в Шкафы. Она пожала плечами. Кем бы он ни был – не ее проблема. Ее проблема – уберечься от Бэзила до перевода в Янгстаун. Эми решила срезать через Оптимальное Хранение, просочилась сквозь несколько рядов стенок «Тоус» и «Фиккаро» и наконец выбралась на отмели Домашнего Офиса, где обитали только столы. Бэзил поджидал Эми рядом с ее родной информационной стойкой, и с ним шестеро стажеров в красных рубашках. – Эми, доброе утро, – сказал Бэзил. – Я хочу, чтобы вы провели этих стажеров по главному маршруту. – Я бы с удовольствием, – ответила Эми, улыбаясь так широко, что аж лицо заныло. – Но вчера Пэт попросил меня проверить инвентарь по этажам. – Я хочу, чтобы вы провели этих стажеров по главному маршруту, – повторил Бэзил. – Инвентарь может проверить кто-нибудь другой. Эми хотела возразить. Ее неудержимо тянуло перечить каждому произносимому Бэзилом слову, но тут ее телефон испустил пронзительный хохот дятла Вуди Вудпекера – пришла СМС. Глядя на то, как Эми неуклюже выуживала телефон, Бэзил объявил стажерам: – Конечно же, Эми знает, что партнерам всегда строго запрещено приносить телефоны в Демонстрационный зал. – Это еще одно «помогите», – показав телефон, пояснила она. Несколько недель назад партнеры по этажу стали получать СМС с единственным словом «помогите» с одного и того же частного номера. СМС эти плодились как кролики, приходили каждый час и серьезно нервировали работников. Корпорация твердила, что ее айтишники ничем не могут помочь, ведь проблема не в «Орске», и посоветовали блокировать номер или обратиться к мобильном оператору. Эми сделала и то и другое, но чертовы СМС все-таки иногда проскакивали. – Все партнеры должны оставлять телефоны в своих шкафчиках, – заявил Бэзил, обрушив, будто камень, все свое негодование на Эми. – И Эми тоже следовало бы оставить свой перед тем, как она отметилась. Эми вдруг поняла, что она не отметилась и, по сути, работает даром до того момента, как сможет проскользнуть к регистратору и вставить свою карточку. Но Бэзил уже взял след, и она не осмелилась признаться. Первое правило любого желающего сохранить работу: не выставлять себя идиотом перед тем, кто может тебя уволить. – Окей, ребята, – Эми заставила себя подавить панику и улыбнуться Бэзилу, – меня зовут Эми. Мы с вами на этаже Демонстрационного зала. Здесь клиенты начинают свои отношения с «Орском», и мы тоже начнем здесь. Площадь этажа – 220 000 квадратных футов, так что наши клиенты движутся вдоль Яркого Сияющего Пути. Эми указала на большие белые стрелки весьма дружелюбного вида, намалеванные на полу. – Этот путь спроектирован с тем, чтобы оптимальным образом доставить клиента от входа к кассам. Но есть и прямые проходы, сокращающие путь. Я покажу их вам по дороге. Эми столько раз произносила эту речь, что и сама не слишком обращала внимание на то, что говорит. Она думала про Бэзила и все свои причины злиться на него. Дело было не в том, что он на три года моложе и на пять позиций выше. И не в том, что он тощий и нескладный гик, сплошь торчащие лопатки и локти – ну точно Уркель из сериала «Дела семейные», только ростом побольше. И не в нескончаемом потоке фальшивого корпоративного вдохновения, который извергался из него в любое время рабочего дня. Нет – проблема Эми главным образом была в том, что Бэзил вел себя так, будто жалел ее, словно взял на благотворительное попечение неудачницу, требующую особого внимания, и за это ей хотелось дать ему в морду. – Обычно клиент тратит три с половиной часа на свое первое посещение «Орска», и большую их часть он проводит здесь, в Демонстрационном зале. Здесь наша главная цель – не подтолкнуть к покупке, но вдохновить, показать клиенту, насколько эффективной и элегантной может быть его жизнь, полностью обставленная «Орском». Яркий Сияющий Путь подводит их к целому спектру возможностей и мебельных решений. Здесь мы показываем: пусть клиент пришел за вложенными столиками «Генофакте», они будут смотреться намного лучше рядом с напольной лампой «Ренифлур». Бэзил, похоже, удовлетворился тем, что Эми не запорола экскурсию для стажеров, и куда-то исчез. Эми же пошла против стрелок, а стажеры потянулись за ней, как выводок утят в красных рубашечках. – В «Орск» приходят два типа клиентов, – продолжила она, – одни не покупают ничего, вторые покупают всё. Но серьезные покупки случаются только тогда, когда клиенты спускаются на Торговый этаж и там попадают в так называемый «открытый карман». Это место спроектировано так, чтобы подвергнуть клиента максимальному магазинному стрессу. Цель – заставить достать бумажники и купить хоть что-нибудь, пусть всего лишь лампочку, поскольку открывший кошелек в среднем тратит 97 долларов за одно посещение «Орска». Эми с новичками прибыла в Жилые Комнаты и Диваны, где Мэтт на пару с другим партнером пытался взгромоздить диван «Бруука» на тележку. Бэзила в пределах видимости не наблюдалось. Эми расслабилась, сбросила улыбку и вернулась к своей привычной саркастической манере. – Слева мы наблюдаем партнеров по этажу в естественной среде обитания. Чтобы работать в Жилых Комнатах и Диванах, нужно уметь поднимать по меньшей мере пятьдесят фунтов. Потому в этой ПУ работают только партнеры с самыми знойными телами. Кто-нибудь знает, что означает «ПУ»? – Производственный участок? – предположил стажер с брекетами. – Да. И чем же мы занимаемся в ПУ? Повисло молчание. Никто никогда не отвечал правильно на этот вопрос, хотя ответ красовался прямо на обложке методички для работников. – Мы распределяем счастье! – объявила Эми. – Мы делимся радостью «Орска»! Два шага к Мэтту, и в нос ударила вонь: запах оставленного на жаре биотуалета, скисших помоев, гнилой рыбы. Дальше смрад дошел до стажеров, и они прикрыли лица своими красными рубашками. На обивке «Брууки» («Блярг» из «Классической линии») красовались жирные темные пятна. – Я весьма рада тому, что нам всем довелось увидеть это, – сообщила Эми стажерам. – Среди многих достоинств «Орска» есть и возможность взаимодействия с клиентами самых разных жизненных путей, включая тех, кто меняет грязные подгузники на дорогих диванах. – Вообще-то, – заметил Мэтт, – так уже было, когда мы открыли. – То есть те, кто закрывал магазин, оставили сюрприз утренней смене. Господа стажеры, в «Орске» каждый сам за себя. Мэтт снова покачал головой. – Я закрывал вчера вечером. И когда я уходил, диван был чистый. Как это случилось, никто не знает. – Именно, – резюмировала Эми, – и потому каждое рабочее место оснащено одобренным «Орском» гипоаллергенным нетоксичным освежителем воздуха. Ибо когда какая-нибудь леди вздумает забросить подтекающий подгузник своего чада-мутанта за диван, все мы едины в желании не позволить нашему магазину до конца смены пахнуть как зад вундеркинда. – Это часто случается? – поинтересовался стажер. – Постоянно, – ответил Мэтт. – Люди заходят не только ради шопинга. Кто-то думает, что здесь его личная гостиная, только с горничными. А горничная – ты, конечно. Ведут себя по-свински, а ты убирай за ними. Грязные подгузники – это еще цветочки. На прошлой неделе клиент жевал табак и сплевывал в банку «кока-колы», но все время промахивался и украшал пол чудесными бурыми кляксами. – И на этой оптимистичной ноте давайте проследуем в Оптимальное Хранение, самый неприятный отдел «Орска», потому что люди никогда не приносят точных измерений того, что им нужно. Следующие два часа десять минут Эми конвоировала стажеров по Демонстрационному залу, от Кухонь и Столовых до Туалетов, Ванных, Платяных Шкафов и Детской. Около полудня она завершила тур в кафе, остановившись у стены с фотографиями десяти главнейших менеджеров сети. Начальство висело в черных рамках и залихватски, спортивно и солидарно улыбалось. – Мы завершаем наше путешествие у галереи свершений, о которых можно лишь мечтать, – сказала Эми. – Эти мужчины и женщины – большой и мощный мозг за фасадом «Орска». Если хотите сохранить работу, я бы предложила запомнить их имена и лица и избегать их как чумы. Стажеры уставились на стену. Некоторые приняли Эми всерьез и на самом деле пытались запомнить лица. За спиной Эми неслышно возникла Тринити. – Веришь в духов? – спросила она. – Господи Иисусе! – отшатнувшись, выдохнула Эми. – В принципе, он тоже считается духом, – подтвердила Тринити. – Но я имела в виду что-то типа привидений, как в фильме «Паранормальная активность». В мире есть два типа людей: те, которые верят в духов, и те, которые нет. Вот ты кто? Тринити была типичным образчиком вечно счастливых, пышущих энергией, суперпопулярных девушек, напоминающих созданий из «Гремлинов». Первые полчаса с ними интересно, но потом хочется засунуть их в блендер. По слухам, ее родители были суперхристианскими корейцами, что помогало объяснить радужные хвостики, пирсинг на языке, дерзкую татуировку на пояснице и разноцветные ногти. Несмотря на весь этот глэм-панк, Эми знала, что такие ногти делали за 125 долларов, волосы красили профессионалы, пирсинг стоил целое состояние, да и татуировка обошлась недешево. Как обычно: поскреби бунтаря, и обнаружишь папину кредитку. – Господа стажеры, сегодня ваш счастливый день! – окинув взглядом краснорубашечную гурьбу, объявила Эми. – Тринити работает в Композиции и Дизайне, а это в одной ступеньке от работы над каталогом в самом Корпоративном офисе «Орск-США». Кое-кто из стажеров заметно оживился. Да, у корпоративных работников самые лучшие зарплаты и соцпакеты. А лучше всего то, что им не приходится общаться с клиентами, пытающимися развести на скидки – например, указывая, что в «Таргете» продают то же самое, но дешевле, и потому не сбросите ли двадцать процентов? Стажеры завалили Тринити вопросами. Как она понимает, что в зале все хорошо выставлено? И сколько времени занимает выучить Девяносто Девять «Орских» Правил Домашней Композиции? А правда, что столы с фальшивыми компьютерами продаются в шесть раз лучше, чем столы без фальшивых компьютеров? – Отдел кадров будет через минуту, – пообещала Эми. – Они помогут вам продолжить увлекательную экскурсию по «Орску». Но никто уже не слушал ее. Все глазели на Тринити. – Отличные вопросы! – радостно провозгласила она. – Но я отвечаю только на вопросы истинно верующих. Итак, сколько из вас видело духов? Поднимите руки. Эми оставила Тринити сбивать с толку стажеров и направилась назад к Домашнему Офису, чтобы заняться проверкой этажа. С самого открытия магазина в Кайахоге, то есть уже одиннадцать месяцев, компьютеры постоянно спотыкались о нестыковки в инвентарных списках. В результате каждый божий день партнеры обходили этажи и вручную переписывали товары снова и снова. А это именно тот монотонный труд, который убивает душу. Последней жертвой инвентарного кризиса оказались столы с беговой дорожкой «Швыррь», первые в новой линейке физкультурной мебели «Орска». Эми эта мебель казалась безумием. Для Эми всякая работа делилась на две категории: та, где нужно стоять, и та, где можно сидеть. Стоящим платят по часам. Сидящие получают месячные оклады. Пока работа вынуждала Эми стоять (что скверно), но она знала, что, если повезет, ей достанется сидячая работа (что замечательно). А «Швыррь» эту простую фундаментальную истину перевернул с ног на голову. Когда ты за столом с беговой дорожкой, ты сидишь или стоишь? От одной мысли об этом болела голова. Эми стояла у своей информационной стойки и проверяла инвентарный список, когда снова внезапно явилась Тринити. – Ох ты ж! – Эми вздрогнула. – Я забыла сказать, Бэзил хочет видеть тебя в мотивационной комнате. Инструктаж за закрытыми дверями. Ну, ты же знаешь, что это значит. Эми омертвела от страха. – Он сказал что-нибудь еще? Сказал, зачем? – Разве непонятно? – ухмыльнувшись, риторически спросила Тринити. – Тебя вышибают.
Глава 2. Деррьсекк
«Деррьсекк» – это место и для хранения вещей, и для отдыха, модулярное устройство для сидения, способное превратить даже маленькое пространство в готовый принимать гостей зал. Позвольте своему воображению – и своим друзьям – бродить свободно! ДОСТУПНО В ВАРИАНТАХ: ЛАЙМ, ЛИМОН, ФЛАМИНГО, СНЕГ И НОЧЬ Д 42¾ × Ш 32¼ × В 34¼ НОМЕР ТОВАРА 5498766643Эми пересекла кафе и зашла в дверь, ведущую к тыльной стороне здания. В конце длинного коридора с дверями в офисы кадровиков, айтишников и специалистов по продажам она открыла дверь в мотивационную комнату. Там на кубе «Деррьсекк» сидела в одиночестве женщина средних лет, выглядящая как певица в стиле кантри-вестерн: блондинистая грива и слишком много туши на лице. Женщина нервно тыкала в губы тюбиком «Блистекса». – Руфь Энн? И ты тоже? – не веря глазам, сказала Эми. – Ну, я бы не стала спешить с заключениями, – закручивая колпачок тюбика и стараясь контролировать голос, заметила Руфь Энн. Эми закрыла дверь и опустилась на другой куб «Деррьсекк». Руфь Энн была в такой же степени сосредоточенной и целеустремленной, в какой Эми – ленивой и ненадежной. Если уж Бэзил решил избавиться от обеих, сокращения в штате намечались гораздо серьезней, чем представлялось. Мысли забегали по кругу. Если увольняют Руфь Энн, то уж Эми и подавно. А если уволят, то все кончено. Она потеряет квартиру, придется возвращаться в мамин трейлер. Не так уж плохо работать в ретейле, когда получаешь 12 долларов в час плюс соцпакет. Но если потерять эту работу, придется идти в обычный торговый центр, а там платят минималку. В Огайо это 7,95 доллара в час. А на такие деньги не проживешь. Эми и так уже запоздала с квартплатой. И если увольняют Руфь Энн, то уж, конечно, уволят и Эми. Мозг жевал эти мысли как жвачку. – Они что-нибудь сказали тебе? – спросила Эми. – Нет. Но если уж мы обе здесь, то у Бэзила явно веская причина. – Мы – первые на выход. Бэзил увольняет нас. – Давай проверим, на самом ли деле над нами сгустились тучи, прежде чем пугаться потопа, – назидательно сказала Руфь Энн. В этом была вся она. Руфь Энн помнила дни рождения, когда кого приняли на работу, помнила, как зовут детей своих коллег и чем зарабатывают на жизнь их супруги, она общалась с младшими ровно так же, как и со старшими. Никогда не говорила ни с кем свысока, не поучала, никогда ни о ком не сказала и плохого слова. До того как перевестись в Кайахогу, чтобы «просто попробовать новое», она тринадцать лет работала в «Орске» Янгстауна. Сорок семь, никогда не была замужем, без детей, и Эми никогда не слышала о сколько-нибудь серьезном бойфренде. Руфь Энн относилась к «Орску» как к дому и семье и каждый день пыталась сделать их лучше. Работая на кассе, она считала личным долгом отправить клиента домой улыбающимся. Она в самом деле жила, чтобы делать других счастливей. – Спасибо тебе за толику оптимизма, – сказала Эми. – Но если ты здесь со мной, значит, у нас плохие новости. – Да не тревожься понапрасну, – стиснув губы, посоветовала Руфь Энн. – Мы просто посидим тут, и что бы ни случилось, мы пройдем через это вместе. Она наклонилась и обняла Эми. Та попыталась заговорить, но на глаза навернулись слезы, глотку сжало, будто кулаком. Если сейчас открыть рот, то попросту заревешь в голос, как придавленный клаксон. Эми пообещала себе не плакать. Могут забрать работу, но достоинство им не отнять. Она отстранилась, уставилась в ковер и скрипнула зубами. И как же так вышло, а? Первые восемнадцать лет жизни впереди была ясная цель: выбраться из маминого трейлера. Хотя в школе консультант по выбору профессий посмеялся над ее желанием попасть в колледж, Эми наскребла достаточно грантов для того, чтобы попасть в Государственный университет Кливленда на коммерческий дизайн. Но мать снова вышла замуж, и доход нового мужа спихнул Эми в финансовую пропасть. Без выплат от универа пришлось оформлять бумаги на отчисление. А теперь она снова запаздывала с квартплатой. Соседки поставили недвусмысленное условие: или за сутки принесешь недостающие шесть сотен, или до свидания. Чем сильнее Эми сопротивлялась жизни, тем быстрей тонула. Каждый месяц на одни и те же счета получалось выделять все меньше денег. Чем быстрей бежишь, тем быстрей вертится беличье колесо. Иногда хотелось просто остановиться и посмотреть, насколько все станет плохо, если перестанешь трепыхаться. Она не ожидала от жизни справедливости, но разве обязательно быть настолько беспощадной? Руфь Энн сжала Эми руку и подала скомканную салфетку. Эми отмахнулась. – Нет. Я не плачу. Две женщины сидели друг напротив друга, неподвижно и безмолвно. Эми от шока перешла к торгу, затем к депрессии, тут же к праведному негодованию и, наконец, к покорному принятию. Но тут же цикл горестных раздумий начался заново, и когда Бэзил открыл дверь, Эми снова кипела праведным негодованием. Если проигрывать, то в ярком ореоле славы. Она бросилась в бой, не дав Бэзилу раскрыть рот. – Я знаю, что вы давно взяли меня на прицел, ну и пусть. Но я не могу поверить в то, что вы увольняете единственного честного, хорошего человека здесь. – Что? – только и выговорил застигнутый врасплох Бэзил. – Эми, не надо… – сказала Руфь Энн. – Нет, – отрезала та. – Если меня увольняют, что же, пусть. Но я хочу, чтобы он понял: увольняя вас, он совершает огромную ошибку. – Она повернулась к Бэзилу. – Послушайте, уволить Руфь Энн – это как забить дубиной маленького тюленя. Вы же станете исчадием ада. Руфь Энн любят все! – Эми, выслушайте меня! – сказал Бэзил. – Да, ваша связь с брендом не слишком сильна, ваши презентации из рук вон, вы агрессивная, ищете ссоры, ваше поведение не согласуется с нашими Базовыми Ценностями… – Пожалуйста, – сказала Эми, – не надо. – …Но я не увольняю вас, – закончил Бэзил. – Нет? – поразилась Эми. – Вы увольняете меня? – пропищала Руфь Энн. – Я никого не увольняю. Я позвал вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь. У нас ночью срочная работа. Побочный проект. И мне нужно, чтобы вы о нем не распространялись. Облегчение потекло по жилам, будто наркотик. Сейчас бы Эми согласилась на что угодно: карабкаться на Эверест, угонять самолет, бежать голой через парковку «Орска» (четыре гектара), играя при этом на тромбоне. Она счастливо и бездумно кивнула – вместе с Руфь Энн. Но притом часть рассудка, не совсем затопленная эндорфинами, прошептала: «Это будет что-то странное и нехорошее. Наверняка нехорошее». – Работа будет немного странная, – подтвердил Бэзил. – Насколько? – поинтересовалась Эми. Бэзил понизил голос, в точности как на инструктаже в киношном боевике. – За последние шесть недель против магазина совершено множество преступлений. Каждое утро новая смена находит поврежденные товары. Зеркала, блюда, рамы картин, содранные занавески. Целые матрасы, порубленные в клочья. А этим утром у нас было… Происшествие. С «Бруукой». – Происшествие? – спросила Руфь Энн. – Диван обмазали какой-то субстанцией. – Какашками, – уточнила Эми. – Субстанцией, – повторил Бэзил. – Пахнущей какашками. – У нас порча на одиннадцать процентов выше нормы. Пэту пришлось сообщить в Региональный офис. Он же поручил мне провести внутреннее расследование. Пэт был генеральным менеджером магазина и непосредственным начальником Бэзила. Он однажды принял роды прямо на «Мюскке» и заплатил из своего кармана за диджея с караоке на рождественском корпоративе. Никто не хотел разочаровывать Пэта. – Конечно, я не хотел бы разочаровать его, – продолжил Бэзил. – А как же Предотвращение Потерь? – спросила Руфь Энн. – Разве у них нет камер? – Их сотни. И я пересматривал записи. Но свет-то на таймере, и каждый раз в два часа ночи он переводится в режим сумерек. Я решил, что тогда и случаются потери – между 2 и 7:30 утра, до прибытия утренней смены. – Но это невозможно, – возразила Эми. – Здесь никого нет после одиннадцати. – Очевидно, кто-то все же есть, – сказал Бэзил. – Мне это не нравится, – закусив губу, сообщила Руфь Энн. – Я предлагаю нам троим поработать лишнюю смену. Сегодня, с десяти до семи. Мы выждем в комнате отдыха, затем раз в час будем обходить магазин: Демонстрационный зал, Торговый этаж и Склад Самообслуживания. Если внутрь пробрался вандал и разносит тут все, мы обнаружим его и вызовем полицию. Проблема решена. – Я сегодня не могу, у меня планы, – сообщила Эми. Не то чтобы у нее на самом деле были планы, но ужасно не хотелось бодрствовать целые сутки. – Нужно обязательно этой ночью. Региональный офис уже ответил на письмо Пэта. С утра пораньше здесь будет их Команда Консультантов. Они захотят обойти магазин сверху донизу. И они не должны увидеть поутру «Брууку», обмазанную… сами знаете, чем. – А почему мы? – осведомилась Эми. – Потому что вы обе – лояльные и надежные партнеры. Эми закатила глаза. – Серьезно? Бэзил замялся. – Ладно, я буду честен: я уже завербовал Томми и Грега из Пополнения, но как раз сегодня «Индейцы» играют с «Сокс», и парни отказались. Затем я попросил Дэвида Поттса и его брата Рассела, но сегодня с утра они сказались больными. Я попробовал обратиться к Эдуарду Пену, но тот занят, присматривает за внуками. Затем решил уговорить Таню из кафе, но она собирается смотреть аукцион на «Е-бэй». И теперь я прошу вас, потому что знаю: вы обе не откажетесь. – В самом деле? Вы так уверены? – спросила Эми. – Руфь Энн согласится, потому что она ответственна, знает цену излишней огласки и искренне переживает за «Орск». Вы согласитесь, потому что хотите вернуться в Янгстаун. Утром я видел на компьютере вашу просьбу о переводе. Я знаю, что вам не нравится этот магазин и вам не нравлюсь я. Но если вы отработаете сверхурочные, я позабочусь о том, чтобы вашу просьбу удовлетворили, и вы меня больше не увидите. Первым порывом Эми было съязвить, но она вдруг поняла, что предложение не такое уж скверное. – За сверхурочные в полтора раза больше? – деловито спросила она. – Даже лучше: вдвое. Причем наличными в конце смены – просто чтобы показать, как я ценю ваше участие и умение не говорить лишнего. Эми быстро прикинула: восемь часов на двойном тарифе – это две сотни долларов. Достаточно, чтобы утихомирить соседей до следующего чека от «Орска». – Я в деле, – объявила она. – И я тоже, – поддержала Руфь Энн. – Будет интересно – это как на пижамной вечеринке. Бэзил пожал им руки, закрепив сделку. – Ждите меня у служебного входа в десять вечера. Я запущу вас внутрь, когда Технический отдел закончит с уборкой. Мы выждем, пока все успокоится, затем выйдем на первый патруль. И никому ни слова, поняли? Это сугубо тайная операция. Дверь в комнату консультаций распахнулась и внутрь ввалились Мэтт с Тринити. – Тут люди! – изобразив удивление, воскликнула Тринити. – Привет, ребята, как дела? – поинтересовался Мэтт. Бэзил немедленно сделал вид, что, мол, ничего такого, отчего сразу стало ясно: очень даже такое, и вообще дело нечисто. – Мы просто беседуем, – заявил он и сообщил Руфь Энн с Эми: – Большое спасибо за обратную связь. Она будет должным образом рассмотрена и передана наверх. – Обратная связь насчет чего? – поинтересовался Мэтт. – Все в порядке? – внимательно глядя на Эми, спросила Тринити. – В этой комнате очень странная атмосфера. Будто здесь только что был трудный разговор. – Вы лучше пока воспользуйтесь своим перерывом, – направляясь к двери, посоветовал Бэзил. – Мне нужно идти. Тринити уселась напротив Эми и Руфь Энн. – Если серьезно, чего он хотел? Девочки, вас уволили? Не стесняйтесь, рассказывайте. – Вы что, шастали по коридору и подслушивали? – поинтересовалась Эми. – Мы собирали сведения, критически важные для морали коллектива, – сообщила Тринити. – Никого не уволили, – сказала Руфь Энн. – Я ж тебе говорил, – сказал Мэтт Тринити. – Я знал, что они никогда не уволят Руфь Энн. Тринити показала ему язык, и оба принялись игриво браниться. Эми слыхала про то, что у Тринити интрижка с Мэттом, но слухи ходили про интрижки Тринити с половиной партнеров на этаже, причем как с мужчинами, так и с женщинами. Она была из таких отвязных задорных девиц, звезд вечеринок. Для парней они неотразимы, а для Эми – невыносимы. – Пойду я, – объявила она и встала. Тринити загородила путь к двери. – Если уж тебя не увольняют, чего хочет Бэзил? Хочет поставить тебя на другое место и отправляет переучиваться? Переводит на неполный день? Магазин закрывается? – Извини, но сегодня я не могу снабдить тебя дневной порцией магазинной драмы. Увы, у меня есть неотложные вещи поважней, к примеру, проверка всех «Швыррьев» на этаже. – Мы с Мэттом использовали научный подход, чтобы показать: грядут большие перемены. Положение в этом магазине приблизилось к критической точке. Любая твоя информация поможет нам завершить картину событий. – Серьезно, неужели закрывается магазин? – спросил Мэтт. – Руфь Энн, да брось, что случилось? Нам нужны данные из первых рук, – не отступала Тринити. – Наверное, будет лучше, если я ничего не скажу, – заключила Руфь Энн. – Ты убиваешь нас, – сказала Тринити, – буквально убиваешь. – Хорошо, – заметила Эми, – может, тогда ты перестанешь быть такой назойливой. С этими словами Эми оставила Руфь Энн двум самым раздражающим людям в «Орске» и пошла к своей стойке, где и провела два следующих часа за сравнением инвентарных номеров столов «Швыррь». Смена закончилась в четыре. Эми с полчаса покаталась на машине, затем решила слегка вздремнуть перед секретной ночной сменой в десять. Без денег лучше в съемную квартиру не возвращаться, а Бэзил прямо сказал: деньги будут, когда отработаешь смену. Эми постеснялась спать в машине прямо на стоянке «Орска», где постоянно шляются коллеги, потому проехала с милю по шоссе 77, заехала на стоянку «Красного омара», встала около мусорного бака и откинула до упора сиденье. Было жарко, в машине воняло маслом, от кедов воняло кофе. Эми закрыла глаза, пытаясь унять жужжание в голове. Сперва показалось, что заснуть так и не удастся, но день выдался долгим. Эми изрядно напереживалась. После сорока пяти минут сидения и размышления о том, в какое дерьмо превратилась жизнь, сорока пяти минут мыслей о том, как убежать из «Орска» и получить сидячую работу, сорока пяти минут ощущения струйками стекающего по ребрам пота она наконец провалилась в липкую дрему. А когда рассудок уже прикрывал лавочку и выключал свет, Эми успела сонно подумать про то, сможет ли хоть когда выбраться из беличьего колеса, застрянет ли навсегда в ретейле, в «Орске». Но зря. Не стоит беспокоиться. Сегодня ее последняя смена здесь.
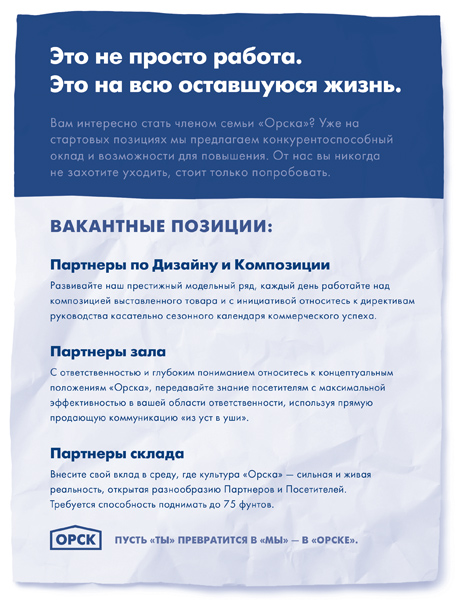
Глава 3. Задл
Мы все – «жаворонки», если относимся к нашему телу и разуму с заботой и уважением. Задержитесь у Вашего «Задла», чтобы превратить завтрак в настоящий праздник нового дня. Когда сидишь на «Задле», все становится чуточку вкусней. ДОСТУПНО В ВАРИАНТАХ: КРАСНОЕ ЗОЛОТО, НЕКТАР, ЛОСОСЬ И СЛИВА Д 23¾ × Ш 30¼ × В 32¼ НОМЕР ТОВАРА 7666585634В течение дня «Орск» выглядел вполне обычным зданием. Привычный контейнер из современных материалов, дом для людей и мебели. Но после одиннадцати вечера, когда никто больше не суетился в его коридорах, когда гас свет в дальних офисах, когда выпроваживали в парадную дверь последних клиентов, намертво закупоривали нутро здания и уходили домой последние партнеры по этажу – «Орск» превращался в нечто совершенно иное. Эми сидела на унитазе в женском туалете на втором этаже и не замечала изменений, происходящих вокруг. Она знала только, что Бэзил хочет убить ее. Бэзил неустанно донимал ее весь прошедший час их ночного марафона. Что Эми нравится в работе? Что именно приносит больше всего удовольствия? Что меньше всего? Эми честно отвечала, пока не поняла, что его вопросы – попросту прелюдия к донельзя нудной лекции о важности человеческого капитала в культуре «Орска». Он пространно излагал ценности командной работы, разглагольствовал о гордости за свое предприятие, о четырех «Д» (Добродушие, Доступность, Деловитость, Дотошность). Цитировал по памяти автобиографию основателя «Орска» Тома Ларсена. Руфь Энн делала вид, что слушает, но Эми видела, что та втихую решает под столом судоку. Само собой, если видела Эми, видел и Бэзил, но, похоже, ему было наплевать. Он что, решил изводить одну Эми? Так хотелось сказать, что она и без того в порядке, не надо жизненных советов, большое-спасибо-вы-очень-любезны. Он же знает, что она переводится в Янгстаун, так почему бы не оставить в покое? Раздираемая желаниями – то ли съязвить, то ли промолчать и вытерпеть, – Эми нашла убежище в туалете. Вообще, если уж Бэзил так печется об «Орске», мог бы заняться уборкой сортиров. Стены ее отсека покрывали граффити. Ладно, если б они были забавными, вроде «Потяните здесь, чтобы получить магистерскую по литературе» под раздатчиком туалетной бумаги, тогда бы и посидеть можно было подольше. Но тут виднелись только странные имена и даты. Эми подтерлась, смыла, пошла к умывальнику, намылила руки, смыла, намылила снова, чтобы только потянуть время до возвращения в комнату отдыха. Когда Эми вошла, Бэзил посмотрел на часы. – Это ваш третий визит в уборную за час. – И вас это касается каким образом? – Таким, что ваша работа – обходить этажи, а не прятаться в уборной всю ночь. Эми скрипнула зубами. – Сделаю. Я ваш обход. Скажите только, когда надо. И она вернулась к своему стулу. Комнату отдыха обставили столами и стульями «Задл». Умеренная цена, простой элегантный дизайн, но Эми не могла высидеть на «Задле» и четверти часа без того, чтобы не заболела спина. А Руфь Энн спокойно сидела, разложив перед собой три тюбика «Блистекса», с книгой судоку под столом на коленях. Рядом с дверью стояла гигантская пластиковая корзина, полная Волшебных Инструментов. Гении из Милуоки спроектировали мебель «Орска» так, что к ней не подходили обычные домашние инструменты. «Орская» мебель поддавалась только патентованному «Орскому Волшебному Инструменту», небольшому изогнутому буквой «Г» ключу, теряющемуся с неимоверной легкостью. Потому магазин раздавал их корзинами, а работникам предписывалось всегда носить их с собой. Один лежал у Эми в кармане прямо сейчас, а дома в ящике для ненужного барахла пылилась еще дюжина. Эми обвела взглядом комнату. На стене висел большой плакат с надписью: «Усердный труд делает „Орск“ семьей, усердный труд – это свобода!» Эми не могла решить: то ли эта подделывающаяся под «Икею» высокопарная фальшивка в европейском стиле лишь слегка раздражает, или она откровенно оскорбительная. Нет ничего хуже магазина, прикидывающегося тем, чем он и не пахнет. Больше в комнате отдыха ничего не занимало ни глаза, ни разум. Плоскоэкранный телевизор в углу беззвучно показывал новости Си-эн-эн. Толпа заключенных в оранжевых комбинезонах ходила кругом по бетонному двору для прогулок. Какое знакомое чувство. Бэзил подтянул свой стул к столу Эми. – Знаете, мне было очень жаль видеть вашу просьбу о переводе. Мне кажется, у вас большой потенциал. Немного усердной работы, и вы могли бы стать Ответственным Магазина. – Спасибо, – не отрывая взгляда от телевизора, поблагодарила она. – Эми, я искренне. Я же был партнером на этаже, как и вы. Я прошел тест и стал Ответственным Магазина, затем работником зала, менеджером этажа, и наконец Пэт продвинул меня в свои заместители. Если я смог, сможете и вы. – Правильно, и эта дорожка ведет к менеджерству, а значит, я буду ответственной за все в магазине и виноватой за все, что идет не так; то есть еще больше совещаний, больше рабочих часов, и моим делом станет головоломное расписание – и за все это я получу на ослепительные семьдесят пять центов в час больше. Я не буду проходить тест. – Но вы же уже проходили его, – заметил Бэзил. – Мне сказал Пэт. Руфь Энн оживилась. – В самом деле? Восхитительно. Эми, мои поздравления! Эми попыталась взять себя в руки. – В чем дело? – спросила искренне встревоженная Руфь Энн. Тишина стала тягостной. – Но это же такой простойтест, – щебетала Руфь Энн. – Почитал учебник двадцать минут да и поставил галочки в кружочках… Она растерянно умолкла. – Эми не прошла, – объяснил Бэзил. – Ей не хватило двух баллов. Я попросил Пэта запросить Региональный офис насчет послабления, но вы же знаете, как они относятся к деловым результатам. Числа никогда не лгут, и все такое. Эми густо покраснела. Все шутили насчет того, что тест на ответственного, мол, такой легкий, «пройдет и менеджер магазина». Эми была настолько уверенной в себе, что вообще не потрудилась готовиться. Ничего сложного, справится и так. – Вы можете попробовать еще раз через полгода, – предложил Бэзил. – Если останетесь, я мог бы помочь вам с подготовкой. – Мне не нужна ваша помощь. Вы начинали в Платяных Шкафах, – буркнула Эми. – И что это должно значить? – Это самая убогая секция на этаже. Пакет виноградного желе, и тот справится с работой Ответственного за шкафы. Они – просто большие пустые ящики с дверями. – Что обнаруживает ваше фундаментальное непонимание работы в Платяных Шкафах. – В Шкафах тяжело работать, – вмешалась Руфь Энн. – Люди злятся, потому что шкафы сложно собирать. Эми вздохнула. – Ладно, Шкафы – это замечательно и удивительно. Там восхитительно работать. Прямо как мозги оперировать. Мне не следовало ничего говорить об этом. – Если не хотите, можете уйти, – сказал Бэзил. – Я хочу, – воткнув ногти в ладони, процедила Эми. – Не хочу вас обидеть, но не могли бы вы воздержаться от непрошеных советов, и тем более от цитирования названий глав из мемуаров Тома Ларсена. Я понимаю, для вас это религия, но для меня просто работа. – В этом и есть ваша проблема. Для вас это «просто работа». – А чем она еще должна быть? – Делом. – Один черт. – Нет, – отрезал Бэзил. – Работа у парня на заправке. У людей в «Орске» – дело. Их призвание. Ответственность перед тем, что больше их. Дело придает жизни цель, позволяет построить то, что останется после вас. У дела есть цель помимо зарабатывания денег. – Умоляю, остановитесь. – Нет ничего плохого в том, чтобы серьезно относиться к делу, – сказала Руфь Энн. – Она ни к чему не может относиться серьезно, – заметил Бэзил. – В этом ее проблема. – Я делаю свою работу, – сказала Эми. – Я прихожу вовремя, выполняю задачи по магазину, продаю людям столы, я получаю деньги. За это «Орск» и платит мне: за работу. Но я не планирую заниматься продажами всю оставшуюся жизнь. – Правда? А чем вы хотите заниматься? – Я… Эми внезапно поняла, что у нее, по существу, нет никаких планов на будущее. – У меня есть планы. И это не ваше дело! – Вам нужно мыслить шире, увидеть общую картину, – не унимался Бэзил. – А знаете, что вижу я? То, что вы посвящаете жизнь магазину, который – фальшивая подделка под лучший магазин, с лучшей мебелью и лучшим менеджментом. Вот такая общая картина. – Может, выйдем на первый обход? – предложила Руфь Энн. – У меня нешуточная ответственность, и я серьезно к ней отношусь, – сказал Бэзил. – Какая ответственность? – поинтересовалась Эми. – Серьезно. Это же ретейл. Какая здесь может быть ответственность? – Безопасность. Я в ответе за вашу безопасность и безопасность всех остальных в магазине. И я отношусь к этому крайне серьезно. – Я вполне в состоянии выполнять работу и без вашей защиты. Не то чтобы я могла потеряться и умереть от голода где-нибудь в Демонстрационном зале. – Я совсем не понимаю вашего отношения, – сказал Бэзил. – Вы хотите продвинуться по работе, но не готовитесь к экзамену. Вы не хотите всю жизнь проработать в ретейле, но бросили колледж. У вас в самом деле есть жизненный план или вы просто придумываете на ходу? Эми встала. – Куда вы? – В туалет, – направившись к выходу, ответила она. – Вы же только что ходили! – крикнул Бэзил ей вслед. Эми с лязгом распахнула дверь женской уборной. Единственное место, куда не пойдет следом Бэзил гавкать про свое дерьмо, чтобы только оконфузить и пристыдить. Неужели он не понимает, что ей и так хватает унижений? Восемьдесят процентов подающихся проходят тест на Ответственного Магазина. Восемьдесят процентов! Эми повернула кран. Трубы непристойно хрюкнули, так что затряслась фаянсовая раковина, и выплюнули в нее ржавую воду. Эми повернула кран в обратную сторону и покачала головой. Да провались это место в ад! Оно и провалится, нет сомнений. Она глубоко, ровно задышала, пытаясь успокоиться. Что с ней происходит? Она посмотрела на отражение своего покрытого пятнами лица, перевела взгляд вправо – и тут у нее перехватило дыхание. Новое граффити.


Рядом с зеркалом – новая порция каракулей. Раньше их не было. Или были? Что это за «Улей», черт возьми? Футбольная команда? Банда наркодельцов из Кливленда? На краске были нацарапаны два десятка надписей, и все одинакового вида: имя, слово «Улей» и срок. Ближе к двери в надписях было больше разнообразия:


И самая длинная надпись из всех.

Эми вытерла руки о джинсы и покинула туалет. В холле на нее навалились все 225 000 квадратных футов пустоты «Орска» – служебные коридоры, тылы здания, Склад, Торговый этаж, Демонстрационный зал – плюс огромная парковка, отделявшая магазин от шоссе. Огромный сумрачный лабиринт, и ты посреди него. Чтобы контролировать такое пространство, требуется немало людей. Уж точно не трое. Пустота тревожила, давила, разрасталась. Лишенный людей «Орск» казался опасным. БАМ!
Эми замерла. Это что за звук?
БАМ-БАЦ-БАММ! Впереди коридор, по сторонам – двери офисов. На стенах постеры о воспроизводимости ресурсов, зеленой жизни на зеленой планете, работе «Орска» во благо грядущих поколений, а рядом ведущая на первый этаж лестница. Шум оттуда. Секунда шла за секундой, самым громким слышимым звуком оставалось дыхание Эми. Она глубоко вдохнула. Сосредоточься. Надо мыслить трезво. Это работа. Опасности нет и быть не может. Людей не похищают в «Леруа Мерлен» и не убивают в «OBI». Никого и никогда. Если и есть на Земле место безопасней большого ретейла глобальной торговой сети, то Эми не могла его представить. Но все равно жутковато. Она осторожно спустилась на первый этаж и остановилась внизу лестницы. Шум стал гораздо тише. Бац, бам, бац… бац, бам… бац… Рядом с табельным таймером был служебный вход, и Эми увидела, что дверь распахнулась от сквозняка. Она с облегчением толкнула ручку и выглянула на парковку, окрашенную светом газоразрядных ламп в химически оранжевый цвет. Эми даже моргнула от удивления. Надо же, уже глубокая ночь. Внутри магазина и не скажешь, который час. Там же нет окон ни в потолке, ни в стенах, нет часов, никак не узнаешь, сколько времени или градусов снаружи. Как в казино. «Орск» существует в вечном настоящем. Через дверной проем повеяло влажным теплым ветром. За исключением невидимой армии лягушек, орущих на болоте, ночь стояла совершенно тихая. Эми видела свою маленькую красную «Хонду» на парковке. Хорошо бы сейчас пойти по теплому асфальту, усесться за руль, поехать… но куда? Домой не приедешь без денег, которые должна соседкам по квартире. И отсюда нельзя, иначе потеряешь работу. Ехать некуда. Эми невольно хлопнула дверью так, что с потолка посыпалась краска. Но дверь не закрылась. Эми присмотрелась. Что-то втиснули в проем, и защелка не доходит до конца. Огромный розовый ком жвачки. Выколупать ее?.. Выколупывание жвачки из дверей не входит в обязанности партнера по этажу. Если уж Бэзил чувствует себя ответственным, пусть и выколупывает. Когда она вернулась в комнату отдыха, Бэзил нахмурился. – Вы не можете без конца прятаться в туалете. Пора начинать патрулирование. – Служебная дверь поломана, – сообщила Эми. – А почему вы спускались вниз? – Я услышала, как лязгает дверь, и решила побыть ответственной. Кто-то испортил замок. Теперь дверь не закрывается. – Нарушение охранного режима, – резюмировал Бэзил. – Видите? Именно поэтому мы здесь и дежурим! Он убежал исследовать дверь. Руфь Энн закрыла книгу судоку. – Думаешь, кто-то и в самом деле прошмыгнул в магазин? – Я не понимаю, что происходит. Но в туалете новые граффити. Клянусь, их не было там двадцать минут назад. – Мне начинает казаться, что не следовало ввязываться в это, – крутя в пальцах колпачок от «Блистекса», сообщила Руфь Энн. – Я-то хотела получить за лишние часы, думала, просто посижу и порешаю головоломки. И в голову не пришло, что мы увидим хоть кого-нибудь. – Да ничего плохого не случится, – подбодрила ее Эми за секунду до того, как телефон залился смехом Вуди Вудпекера. Она глянула на телефон. Та самая СМС. «Помогите». – Лично я на работе отключаю телефон, – сообщила Руфь Энн. – Поэтому я никогда и не получаю их. В комнату ворвался слегка запыхавшийся Бэзил. – Я смог плотно прикрыть двери, но не сумел закрыть на замок. У нас точно нарушение режима безопасности. Немедленно начинаем патрулирование. Он подошел к маркерной доске, нарисовал приблизительную схему магазина и принялся описывать маршрут обхода. – Для облегчения поисков я разделил магазин на зоны для каждого. На первом выходе Руфь Энн пойдет в Демонстрационный зал. Эми, за вами Торговый этаж, а я возьму Склад Самообслуживания. – Постойте, мы что, разделяемся? – воскликнула Руфь Энн. – Нам много обходить. – Мне не кажется, что это хорошая идея, – заметила Эми. – А в женском туалете новые граффити. Вам стоило бы посмотреть. – Граффити сейчас – наименьшее из зол. – Но они жуткие… – Мы будем чувствовать себя намного уверенней вместе, – сказала Руфь Энн. – И что мне делать, если я обнаружу кого-нибудь? В смысле, для того же и ищем. Вы ведь хотите, чтобы я кого-нибудь нашла. Но что случится, если найду? Я ведь буду одна! Бэзил скривился, будто от сильной головной боли. Похоже, он все усилия приложил к тому, чтобы правильно и четко нарисовать свою схему, и не подумал о важном. Конечно, можно разделяться, когда с тобой компания привыкших тягать плоско упакованную мебель, ребята вроде Томми и Грега. Но что делать Руфь Энн, когда встретит незваного гостя один на один? Что тут вообще можно сделать? Продемонстрировать Дружелюбие, Добродушие и Деловитость? – Если ходить всем вместе, от нас легко удрать, – указал Бэзил. – Надо разделиться. Тогда увеличится область охвата. – Мы с Руфь Энн идем вместе, – отрезала Эми. – Подумайте о нашей безопасности. Мы займемся Демонстрационным залом, а вы – Торговым залом и Складом. Само собой, одно упоминание о «нашей безопасности» от женщин – и прямо в точку. – Ладно, но начать нужно прямо сейчас. Насколько я понимаю, кто-то уже вовсю портит собственность магазина. Когда они вышли в Демонстрационный зал близ кафе и по правую руку от Детской, было почти 23:30. Прямо впереди лестница вела вниз, на Торговый этаж. – Будьте начеку и присматривайтесь ко всему, – наставил на прощание Бэзил своим лучшим лидерским голосом. – После первого выхода встретимся в зоне отдыха. Если что-нибудь случится, там мы перегруппируемся, хорошо? Если заметите подозрительное, немедленно позвоните мне. Меня обучали, как поступать в таких случаях. Помните: я в ответе за вашу безопасность. – Ну да, – со вздохом подтвердила Эми. И они разделились.
Глава 4. Лирипип
Очистите комнату, уберите прочь свои заботы. Неважно, какого размера Ваш дом. Шкаф «Лирипип» предлагает место для хранения вещей нужных, но не тех, на которые Вы хотели бы смотреть каждый день. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: НАТУРАЛЬНАЯ БЕРЕЗА, СВЕТЛЫЙ КЛЕН И СЕРЫЙ ДУБ Д 19¾ × Ш 15¼ × В 72¼ НОМЕР ТОВАРА 4356663223Эми прошла через кафе к эскалатору и объявила: – Мы пойдем по Яркому Сияющему Пути. Затем поняла, что рядом никого нет, обернулась и увидела Руфь Энн с другой стороны кафе. – Прошу прощения, но, может, сперва проверим кафе? – предложила та. – Я даже не представляю, кого мы ищем. – Тинейджеров или страдающих бессонницей… Не знаю я, – буркнула Эми. – Давай, идем, оставим кафе на потом. – Ты уверена? – Хорошо, хочешь кафе – давай начнем с кафе. – Нет, ты права. Сделаем по-твоему, – согласилась Руфь Энн, но с места не двинулась. – Так ты идешь? – спросила Эми. – Извини. Руфь Энн пошла к Эми. – Этот Демонстрационный зал очень жуткий. В Янгстауне совсем не такой. – Они абсолютно одинаковые, – отрезала Эми. – Ну зачем кому-то забираться в магазин? Ты ведь раньше не встречалась с таким, да? – Клиенты чего только не вытворяют. Я помню огромного толстого парня, который явился под самое закрытие, снял туфли, снял и аккуратно сложил штаны, забрался в «Мюскк» и заснул. Его не замечали целый час. А Пэт мне рассказал, что однажды женщина с ребенком прятались в шкафу «Лингам» после закрытия. Пэт шел через Спальни, дверь шкафа открылась – и эти двое, крадучись, выбрались наружу. Пэт тогда чуть не умер. Они дошли до эскалатора. Прежде чем ступить на Яркий Сияющий Путь, Эми остановилась у доски почета – портретов менеджмента на стене. – Знаешь, а мне Бэзил нравится гораздо больше, когда его рот не шевелится. Кажется, Руфь Энн захотелось сказать резкость, но она сдержалась и выдавила только: – Он – приятный молодой человек. – Ходячий мешок с инструкциями. – Не все те, с кем ты не соглашаешься, плохие люди. – Бэзил – плохой. – На нем много ответственности, – сказала Руфь Энн. – Например? Удостоверяться в том, что каждый партнер к концу рабочего дня разозлен и донельзя вымотан? Стараться составлять такое расписание, чтобы испортить жизнь максимальному числу партнеров? – Он растит маленькую сестренку. Ей девять лет, Бэзил практически папа ей. Он дает деньги на все – от ее носков до платы за школу. Эми покопалась в списке возможных презрительных ремарок, ничего не отыскала. – Ладно, я не знала. Но он все равно как обучающее радио компании. «Орск» это, «Орск» то, молитесь «Орску», благоговейте перед «Орском». – «Орск» сделал для него много хорошего. Он из Восточного Кливленда. Ты знаешь, как выглядит это место? Эми подумала, что видела его только в десятичасовых новостях. – Перед тем, как получить место здесь, он был на грани отчаяния. «Орск» дал ему работу и перевернул его мир. Одни уходят в Церковь, другие спиваются, третьи идут в банды. Бэзил попал в «Орск». Унылый депрессивный разговор. Ну что тут скажешь? Или придется соглашаться с тем, что святому Бэзилу надо основать собственную церковь, или съязвить и выставить себя сварливой дурой. У нее тоже паршивая жизнь. Знаете, каково оно, вырасти в фиговом трейлере с мамашей, чья идея семейного развлечения – игра в «спрячь водку». Но если рассказывать об этом сейчас, прозвучит, словно она захотела перебить своими горестями чужие. Но в соревновании на тему «чья жизнь паршивей» ей точно не перешибить черного, выросшего в Восточном Кливленде. – Ладно, пойдем на наш дурацкий обход, – объявила она. Она развернулась и направилась мимо гигантской стопки каталогов «Орска» к входу в Жилые комнаты и Диваны. – Знаешь, я проработала в магазине Янгстауна тринадцать лет, и у меня ни разу не было проблем с Демонстрационным залом, – сообщила Руфь Энн. – А здесь я потерялась в первый же день. И было совсем не весело. По-настоящему страшно. Эми не слушала, в голове все вертелся разговор с Бэзилом о провале на этом тупом тесте. Обидно и больно, и не за то, что провалилась. Нет, теперь все узнают, что она провалилась. А Руфь Энн все щебетала. – Я хотела зайти к Диане Дарновской в Кухни. Ты же знаешь Диану Дарновскую? Ну, ту, которая всегда носит эти пуговицы с Санта-Клаусом под Рождество? В общем, я свернула не туда и шла потом целых полчаса, весь свой обеденный перерыв. Испугалась до беспамятства. Запаниковала. Будто кто-то меняет магазин прямо за моей спиной. Когда я, наконец, нашла Диану, мне хотелось только сесть и разреветься. Я никогда больше не заходила на этот этаж. – Ты серьезно? – удивилась Эми. – Ты здесь одиннадцать месяцев и ни разу не сходила в Демонстрационный зал? – Люди меняются с возрастом. Сама увидишь. – Без людей здесь жутко, – признала Эми. Наверное, нервность заразна. Эми мимо воли замурлыкала зловещую тему из «Сумеречной зоны»: – Ду-ди-ду-ду-ду, ду-ди-ду-ду-ду… – Пожалуйста, не надо, – взмолилась Руфь Энн. – Тут и без того скверно. Эми остановилась у тускло-желтого информационного стенда. На боку была нарисована карта Демонстрационного зала с огромным значком «Вы здесь» прямо посреди Жилых Комнат и Диванов. – Маршрут здесь – просто большая петля, как в любом другом «Орске». Как в Янгстауне, – ведя пальцем по карте, сказала Эми. – Я сегодня вела по нему кучку стажеров. Они с ходу разобрались. Руфь Энн глядела на карту, будто кот на телевизор – без малейшего понятия о том, что видит. – Видишь знак «Вы здесь»? – Угу-мм, – неубедительно промычала Руфь Энн. – Он обозначает, где мы. В каждом отделе есть такая карта, поэтому не потеряешься. Это как дорожка из хлебных крошек в лабиринте. Пока смотришь внимательно, не собьешься с пути. Руфь Энн не выглядела убежденной. – Просто иди за мной, – посоветовала Эми. – Мы вернемся в комнату отдыха через полчаса. Они прошли мимо корзин с подушками, игровых площадок для малышей, прилавков, информационных стендов и свисающих с потолка рекламных плакатов. Корзины со всякой товарной всячиной по углам заслоняли обзор, и Эми временами не видела Яркого Сияющего Пути сквозь лабиринт мебели. Весь просторный этаж как будто сжался до узкого прохода, а тот странно изгибался, заворачивался и петлял. Вскоре Эми показалось, что она блуждает по необъятной пустыне без следов и троп, где попадалась лишь мебель исчезнувшей цивилизации. Женщины миновали ряд из шести разных книжных шкафов «Смэгма», в каждом – сотни одинаковых книг («Дизайн – это хорошо» в оранжево-черной суперобложке; «Орск» закупал эту книгу вагонами), и, наконец, достигли Кухонь, эту часть магазина Эми любила больше всех. Она выросла в трейлере, где стояла плита с парой конфорок и электродуховкой, и потому Эми втайне, стыдясь этого, мечтала о кухне от «Орска». Она остановилась у сверкающе-белой «Харбро» и задумчиво произнесла: – Ты можешь представить, что когда-нибудь сумеешь купить такое? Руфь Энн часто и прерывисто дышала, на ее верхней губе поблескивали бисеринки пота. Она покопалась в карманах, выудила тюбик «Блистекса», помазалась – и, похоже, успокоилась, выровняла дыхание. – У меня есть эта кухня, – призналась она. – Только шкафчики шиферно-серые, а не в «арктическом белом». Эми ощутила себя идиоткой. Ну, конечно, Руфь Энн может позволить себе отличную кухню. Руфь Энн не по уши в долгах за колледж, который бросила. Она не ищет себе поношенную одежду в «Гудвилл», наверняка имеет пенсионные накопления, а ее машина не гадит все время подтекающим маслом. Эми же и вообразить не могла покупку чего-нибудь дороже сотни долларов. – Что за шум? – спросила Руфь Энн. Эми прислушалась. Что-то в раковине – скребет по металлу. Эми пошла на звук. – Что там? – спросила Руфь Энн. – Иииу! – выдохнула Эми и отшатнулась. Из слива мягко, будто у нее не было костей, выскользнула жирная черная крыса, заскребла в раковине, сумела уцепиться и выпихнула себя наверх, на столешницу. Руфь Энн прижала ладонь ко рту. – И что будем делать? – осведомилась Эми. Обе женщины в ужасе наблюдали за тем, как тварь неторопливо проковыляла по столешнице и втиснулась в узкую щель между холодильником и стеной, зашуршала, сползая по гипсокартонной стенке, и шлепнулась на пол. Руфь Энн вцепилась в запястье Эми. – Мои ноги! – Какие ноги? Где? – Я не хочу, чтобы это касалось моих ног! Руфь Энн кинулась наутек по Яркому Сияющему Пути, Эми за ней. Они остановились только у Столовых. Руфь Энн поспешно намазала губы «Блистексом». – Я тут никогда не видела крыс, – заметила Эми. – Бэзил ошалеет, когда узнает. – Эта труба ведь не соединена с канализацией, – сказала Руфь Энн. – Эта тварь была внутри шкафчика! А ведь крысы – социальные животные. Где одна, там и дюжина. Эми содрогнулась, и обе двинулись дальше. Магазин казался бесконечным, таинственный молчаливый простор вокруг, разветвления лабиринта, ходы и норы, полные мебели, словно в кошмарно бесконечном кукольном доме. Эми хотела ускориться, но Руфь Энн едва плелась. – Может, вернемся и как следует проверим Кухни? – предложила она. – Мы слишком уж быстро прошли сквозь них. Мы могли пропустить что-нибудь. – Просто пойдем дальше, – отрезала Эми. Они зашли в Спальни – огромную равнину матрасов, окаймленную моделями спален. Руфь Энн остановилась у одной, показывающей «Коллекцию Пайконнь». – Как насчет вон того чулана? Думаешь, нам стоит проверить за дверцей? – Думаешь, там прячется кто-нибудь? Руфь Энн мертвенно побледнела. – А если и вправду… Эми подошла и дернула за ручку. – А-а! – преждевременно взвизгнула Руфь Энн. – Это фальшивка, – дергая дверь и колыхая модельную стенку, напомнила Эми. – Такие двери по всему магазину. Ты что, и вправду никуда не ходила, кроме касс? Руфь Энн покачала головой. – Посмотри. Эми потянулась за занавеску и потянула за шнур – подняла жалюзи. За ними оказались забранные молочно-матовым пластиком четыре оконные рамы, привинченные к стене. – Разве не изумительный вид? Руфь Энн по-прежнему стояла, крепко зажмурившись. – Все нормально. Тут не на что смотреть. Это фальшивка, – повторила Эми. Руфь Энн приоткрыла один глаз, затем оба и сконфузилась: – Знаешь, я не хотела увидеть Жутких Ползюков. Эми расхохоталась. – Кого-кого? – Когда я была маленькая, я жутко боялась темноты. Родители заставили меня перейти в мою собственную спальню, и я не могла уснуть неделями. Каждую ночь я видела в тенях Жутких Ползюков. Такие жирные темные пятна на стене. Гнусные. Они ползли вниз, чтобы схватить меня. Я не могла никому рассказать, но ведь что-то надо было делать! А закрыть глаза было мало, потому что я могла ненароком подсмотреть. А если я не видела их, то и они не видели меня. Поэтому я заматывала носки вокруг головы, как маску для сна. Так глупо, правда? – А что бы они сделали, если бы увидели тебя? – Я так никогда и не узнала, – уже спокойнее сказал Руфь Энн. – Наверное, что-то плохое. Повисла тишина, с каждой секундой все более гнетущая. – Пойдем, а то мне жутко от твоих историй, – сказала Эми. Они пошли дальше. Эми держалась поблизости от Руфь Энн, помня о ее нервах. Хотя и саму Эми дурацкий рассказ про Ползюков выбил из колеи. Безмолвный Демонстрационный зал простирался вдаль. Было слышно, как под потолком мерно крутятся огромные лопасти вентиляторов. Ни музыки, ни голосов. Казалось, магазин замер и напряженно вслушивается. Позади что-то треснуло. Обе женщины вздрогнули. – Идем дальше, – прошептала Эми. Они зашагали быстрей. Эми сдерживалась изо всех сил, чтобы не побежать, истошно вопя и лупя мебель, чтобы только заполнить пустоту человеческими звуками. От Яркого Сверкающего Пути отходили глухие коридоры, будто руки, указывающие в тупики. Из дверных проемов подглядывали углы заправленных кроватей. На столбе информационного поста тихо перестукивались в вентиляционной струе подвешенные на крючки деревянные линейки. Даже шуршание одежды казалось невыносимо громким. В ушах тяжко стучала кровь, заглушая все вокруг. Руфь Энн все время оглядывалась – не идет ли кто следом? Эми краем глаза заметила движение. Впереди кто-то копошился на кровати «Мюскк». Волосатый клубок корчился на подушках, будто комок крыс. Затем он разделился надвое, кто-то вскочил с кровати, попятился. Эми заморгала. Черт возьми, что же это? Одна тень выпростала руку и помахала. – Эй, как дела? – придушенно крикнул Мэтт и вытер рукой бороду. На другой стороне кровати покрасневшая Тринити спешно натягивала черную тенниску. – Эй, привет. Руфь Энн всхлипнула от облегчения и вцепилась Эми в руку. – Что за хрень? – поинтересовалась та. – Устраиваем базовый лагерь, – сообщил Мэтт. – На «Мюскке»? – скептически спросила Эми. – Вы вломились в магазин, чтобы потрахаться на грязном «Мюскке»? Вы знаете, сколько детей вытирали свои сопли об эту штуку? Она уселась на выставочную платформу со «Скульпином» и захохотала. Руфь Энн тяжело вздохнула и тоже залилась смехом. Смеяться было хорошо. Как что-то живое и сильное в этом море трупной мебели. – Мы не вламывались, – осторожно заметила Тринити, когда все успокоились. – А как же вы попали внутрь? – Спрятались в парочке «Лирипипов» и подождали, пока все уйдут. – Так что технически это не взлом с проникновением, – сказал Мэтт. – Бэзил будет в ярости, – предсказала Эми. – Но ты ж ему не скажешь, – предположила Тринити. – Отчего это? – Он же не поймет. А мы здесь, чтобы провести полное парапсихологическое исследование. Эми с Руфь Энн молча уставились на нее. – Проще говоря, мы охотимся на призраков, – пояснил Мэтт. – Тут просто кишит паранормальная энергия, так что мы притащили оборудование для ее измерения. Он указал на четыре огромные сумки у кровати. – Электромагнитные датчики, термометры, инфракрасные камеры, портативные детекторы движения, диктофоны с речевым управлением для записи электронных голосовых феноменов, ну и еще всякое по мелочи – тренога и прочее. – И как вы втиснули это все в «Лирипип»? – поинтересовалась Руфь Энн. – Мы оставили их в машине. Когда разошелся народ, мы прошмыгнули к служебному входу и все отнесли. – Так это вы запихнули жвачку в замок! – возмутилась Эми. – А мы думали, кто-то вломился. Бэзил заставил нас обходить Демонстрационный этаж раз в час. – Хреново вам, – согласилась Тринити. – Конечно, когда оно все всплывет, мы повинимся перед Бэзилом и всякое такое, но ведь он бы никогда не разрешил нам наше исследование, в особенности со съемками, которые мы собираемся провести. – Ага, поняла, – сказала Эми. – Вы как «Паранормальные исследователи» на A&E[101]. – Ничего подобного, – отрезал Мэтт. – Мы не такие убогие. – Но у вас же куча оборудования, как у тамошних на A&E, – сказала Руфь Энн. – Да прекратите ты поминать A&E! – буркнул Мэтт. – Мы целимся гораздо выше. Тринити хочет, чтобы мы стали первыми охотниками за привидениями на канале «Браво». – И что случится, когда вы обнаружите призрака? – поинтересовалась Руфь Энн. – Получим запись высокого разрешения, без всяких съемочных трюков, без редактирования и обработки, – ответила Тринити. – Настоящее доказательство существования призраков. – И тогда что? – продолжила Руфь Энн. – Если призрак в настроении дать полноценное интервью а-ля Чарли Роуз[102] – попробуем, – ответил Мэтт. – Но я что-то сомневаюсь в этом. – Вы же понимаете, что призраков не существует! – буркнула Эми. – Очень даже существует, – парировала Тринити. – Их видело множество людей. – Множество людей и снежного человека видели! – Криптозоология – совершенно иная область исследований, – вставил Мэтт. – Подумайте сами: призраки или нет, но здесь происходит масса странного. Ломаные «Пронки», послания о помощи, дерьмо на «Брууке». Может, это не призраки, а может, и они. Он постучал носком кеда по полу. – Ты знаешь, что здесь было до того, как построили «Орск»? – Ничего, – ответила Руфь Энн. – Я тут постоянно ездила. Болото тут было. – А до болота – тюрьма. – Да вряд ли. – Очень давно. В восемнадцатом веке, – сообщила Тринити. – В девятнадцатом, – поправил Мэтт. – А какая разница? – Сотня лет, – ответил Мэтт. – Мрачное было место. Прямо там, где мы сейчас стоим, умерла куча людей. Тюрьма вроде как исчезла. Большинство даже не слышали про нее. – Жуть какая, – выдохнула Руфь Энн. – Да никакая не жуть, – возразила Эми. – Исторический факт. – Конечно, можно и наплевать на историю. Дело ваше, – чуть не подпрыгивая от возбуждения, заявила Тринити. – Но все умершие тут оставили психическую энергию, от нее и происходят странности в магазине. Людей кидали в тюрьму за кражу буханки хлеба. Ничего удивительного, что их души в бешенстве! Она заволокла сумку на «Мюскк», раскрыла и достала девять матово-серых пластиковых яиц, уложила их в ряд, разорвала пластиковые упаковки батареек и принялась совать в яйца свежие «Кроны». – Что это? – поинтересовалась Руфь Энн. – Датчики электромагнитного излучения. Я сунула туда флешки, чтобы записывать время аномальных всплесков, так что мы сможем описать изменения поля за всю ночь. – Я ничего из этого не поняла, – пожаловалась Руфь Энн. – Помнишь, когда все думали, что мобильники вызывают рак мозга? – спросила Тринити. – Тогда целая куча всяких скорых на подъем трешовых компаний и начала делать такие штуки, чтобы люди могли видеть электрические поля от своих телефонов, от силовых линий и прочего барахла, которое вокруг нас. Те, которые помешаны на своем здоровье, до сих пор их используют, но нужнее всего они для охотников за призраками. – И почему? – поинтересовалась Эми. – Да потому что духи – это энергия! – И ты серьезно веришь в это? – спросила Эми у Мэтта. – Ну, смысл в этом есть, – пожав плечами, ответил он. – Есть много исследований насчет того, что электрические поля от подземных потоков или высоковольтных линий могут и в самом деле индуцировать симптомы одержимости духами. Люди слышат непонятное, ощущают странные запахи, дезориентированы, со странными перепадами настроения. Такое можно смоделировать и в лаборатории с большим магнитом. Тринити покачала головой: – Духи вызывают электромагнитную активность, они не ее следствие, а причина! – Ты видела хотя бы одного? – поинтересовалась Эми. – Господи боже, как я хотела бы! – мечтательно изрекла Тринити. – Это было бы офигенно! В детстве я любила смотреть фильмы ужасов, когда родителей не было дома, а после кино я отключала свет и бродила в темноте, чтобы увидеть призрака. Мэтт говорит, он однажды видел. Я так завидую! – Ты видел призрака? – спросила Руфь Энн. – Он страшный? – Ну, это могло быть что угодно. Я заметил только краешком глаза, – признался Мэтт. – Но это же был призрак! Полноценный фантом! – возмутилась Тринити. – Ты сам говорил мне! – Это было давно, – искоса глянув на Эми, сообщил Мэтт. – Но сейчас в «Орске» происходит что-то странное. Так что мы сделаем съемку и беспристрастно посмотрим на то, что получилось. – Вы знаете, что никогда не получалось у этих придурков из «Паранормальных исследований», «Паранормального патруля» и «Сыщиков призраков»? – спросила Тринити. – Настоящих съемок! У них никогда не было кадров с настоящим призраком. У них всегда только толпа жирных кретинов, которые бродят по темным домам и вопят «здравствуйте-здравствуйте, я знаю, что вы здесь, я чувствую ваше присутствие, пожалуйста, дайте знак». Потом они делают вид, будто что-то услышали, и крутят камерой. – Ах, вы это видели?! Слышали?! – очень похоже изобразил Мэтт. – О боже мой, он сказал «помогите»! – Сегодня мы получим доказательство. Прямо на камеру, – пообещала Тринити. – И я не имею в виду всякие сферы, призраки-вихри, плавающую муть или энергетические ленты. Мы делаем настоящую съемку настоящих явлений. Потом мы смонтируем результат и пошлем ролик в «51 Майндс», «Антикс» или какую-нибудь другую продюсерскую компанию, и они обалдеют. Когда в команде охотников за призраками парень с девушкой – это киногенично на все сто! Мэтт обеспечит науку, я – огонек. Наш ролик вынесет им мозг. А заодно и вынесет нас из Огайо. «Призрак-бомба»! – Призрак боба? – растерянно спросила Эми. – Нет, «Призрак-бомба»! Это название нашего шоу. Потому что оно про призраков, а бомба – это мы. – Так и будет! – воскликнул Мэтт и дал ей пять. – Это самое худшее название для шоу из всех, которые я слышала, – изумленно глядя на них, пробормотала Эми. Тринити оскалилась и показала образцово наманикюренный средний палец. – А мне кажется, замечательно, – заметила Руфь Энн. – «Призрак-бомба» звучит так по-уличному. Круто, как сейчас говорят, так ведь? – Спасибо, – сказала Тринити и повернулась к Эми: – Я не хочу, чтобы ты шлялась поблизости и портила настрой. Ты нам все испоганишь. Сегодня – очень важная ночь, потому что я наконец-то получила возможность заснять вживую настоящего призрака. Я не хочу, чтобы ты своей негативной энергией распугала их. Затем она обратилась к Руфь Энн: – Слушай, а отчего бы тебе не пойти с нами? Поможешь мне расставить датчики поля. Мы докажем существование призраков, станем знаменитыми и крутыми! Тринити трудно отказать. Так что Руфь Энн помазала себя «Блистексом» и покорно отправилась вслед за Тринити назад по Яркому Сверкающему Пути. Через минуту они исчезли среди мебели и оставили Эми с Мэттом одних.
Глава 5. Мюскк
Спрячьтесь на Вашем личном острове, где Вы отыщете так необходимый Вам отдых – словно на облаке высоко над тревогами этого мира. «Мюскк» укрывает Вас в своих объятиях, уносит в путешествие к стране снов. ВОЗМОЖНЫЙ МАТЕРИАЛ КАРКАСА: НОЧНАЯ БЕРЕЗА, БОБРОВЫЙ ДУБ И ПЛАТАН ДОСТУПНЫ ДВУХСПАЛЬНЫЕ, ПОЛУТОРНЫЕ И ОДНОСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ НОМЕР ТОВАРА 7524321666– Ладно, – согласился Мэтт, загружая в рюкзак самопишущие потенциометры. – Нам нужно расставить их всех вдоль Яркого Сияющего Пути. – Думаешь, они хоть что-нибудь покажут? – Конечно. Только глянь на нашу осветительную сеть. Он указал на потолок. В двенадцати футах над головой нависал лабиринт перекрещенных балок, кабелей, огромных вентиляционных и узких водопроводных труб. Всё маскировки ради закрашено той же белой краской, что и потолок. – И что вы хотите найти в сети освещения? – Мы-то не хотим. Но в этом магазине шестьсот восемьдесят ламп общего освещения и двести для подсветки товара, так что большая часть электромагнитной активности – от них. Именно ее наши датчики и засекут. Он схватил датчик и помотал им в воздухе, будто палкой благовоний. – Два миллигауса. Думается, это мы и будем регистрировать всю ночь. – Тогда к чему эти датчики? Мэтт вытащил портативную цифровую камеру, закинул на плечо рюкзак и вручил Эми карандаш и карту магазина. – Помечай места, где я оставляю датчики. Если потеряю хоть один, Тринити меня убьет. – Но, если они не покажут ничего, кроме фона от осветительной сети, зачем их вообще расставлять? – идя следом за Мэттом в глубину отдела Спален, поинтересовалась Эми. – Потому что так придумала Тринити. – И ты по уши втюрился в нее? Мэтт не ответил. Эми знала, как Тринити действовала на партнеров мужского пола. Поиграть немного в супер-обворожительную японскую школьницу – и можно навербовать целую армию охотников за привидениями. Мэтт положил первый датчик на прикроватный столик «Сильбиан». – Джейсон Хоуз, мой любимый водопроводчик[103]. Эми молча посмотрела на него. – Мне нравится называть датчики именами охотников за призраками с ТВ-сериалов. Но ты пометь их положение на карте, хорошо? Они шли по Яркому Сверкающему Пути, оставили за спиной Спальни, начали петлять по Ванным и Шкафам. Мэтт останавливался каждые семьдесят пять футов, чтобы поместить датчик на комод «Финнимбрун», в ультраузкий одностворчатый шкаф «Лирипип», на стойку для участников «Нашей Команды» за Детскими Товарами. Каждому датчику давалось имя. – Лоррейн Уоррен, разводит кур… Райан Бьюэлл, вздорный истерик… Джош Гейтс, помешанный на авантюрах болван[104]… – С чего ты так на них взъелся? – У этих людей проблемы с логикой. Они выдают желаемое за действительное. Произносят слово «энергия», не понимая, что оно значит. Делают вид, что разбираются в физике, хотя не имеют представления о том, как работают их приборы. Они зовут себя «учеными», но втаптывают в дерьмо саму суть научного подхода. А хуже всего то, что они ужасно выглядят на экране. – А вы, конечно, будете выглядеть круто? – Ну конечно! От Тринити прямо объектив горит. Она забавная и веселая, у нее суперстиль, умеет обращаться с инструментами и даже спаять контур, а это очень секси. Даже если мы не снимем призраков на камеру, то сваяем потрясное шоу: запишем скачки и провалы фона, загоним съемку на разных длинах волн, на длинных инфракрасных и на коротких, запишем интересную электроакустику, датчиками температуры обнаружим холодные места, поставим детекторы движения, постараемся записать ультразвук. Когда снимем, у меня будет куча крутейших записей самого жуткого места на земле, то бишь этого магазина после закрытия. Затем я займусь нарезкой и монтажом, и после, будь там призрак или нет, ролик получится на ура. Эми вдруг поняла. – Да ты же не веришь в духов. Вообще не веришь! Мэтт включил камеру. – Я верю в то, что духи – явление субъективного восприятия. У них нет объективной реальности. Они существуют сугубо в восприятии видящих их людей. – То есть призраки – ненастоящие? – Я этого не говорил. Ладно, давай-ка поснимаем. Здесь прямо как в «Детских играх». Эми наблюдала за тем, ка Мэтт снимает плюшевых зверей, сваленных в большие корзины будто кучи трупов; полки, заставленные пустоглазыми куклами, идиотски уставившимися в никуда; простыни с цирковыми зверями на кроватях, где никто никогда не спал – будто в заброшенных детских призрачного города. Да уж, Мэтт знал, что делал. Он пересмотрел все сезоны всех когда-либо снятых шоу про охоту за духами и в точности знал, как подать аудитории желаемое: жутких кукол, страшные комнаты, зловещую игру наползающих теней. – Но ты ведь говорил Тринити, что самолично видел духа, – напомнила Эми. – Полнотелое явление. Она же так и сказала. – Я видел то, что мой мозг воспринял как духа. Но наш мозг – довольно сложное устройство. Там бывают спазмы сосудов в лобной доли, сонный паралич, парейдолия. Этот дух мог быть чем угодно. – Но не душой мертвеца в поисках света. – Именно. Они прошли напрямик в Оптимальное Хранение. Мэтт лег на пол и снял мрачно нависающий над проходом «Убеганн», забрался на «Квалтаг» и взял верхний ракурс безмолвных рядов мебели, провел объективом вдоль витрины из оргстекла. Внутри нее механическая рука тупо открывала и закрывала без конца дверцу телевизионной тумбы «Яклепт», чтобы продемонстрировать прочность и надежность «орских» петель. – Тринити считает духов реальными, а твой заход на духов – просто уловка для того, чтобы забраться ей в трусы, – сказала Эми. – А какое тебе дело до нас с Тринити? Я что, когда-нибудь приставал к тебе насчет твоей половой жизни? – Потому что это еще одно доказательство того, что мужики – кобели. Очевидно, духи много значат для Тринити. А ты делаешь вид, что поверил, чтобы затащить ее в постель. С ума от вас сойти. Ты и историю про тюрьму придумал? – Паноптикум Кайахоги существовал на самом деле. Ты разве никогда не слышала о нем? – Я не обладаю глубокими познаниями в необыкновенной истории штата Огайо. – В девятнадцатом веке это была важная история. Комендант тюрьмы – Исайя Ворт – был настоящим маньяком. Он верил в то, что непрерывное наблюдение может «исцелить» преступников. Тюрьма была круглая, вахта охраны – в самом центре, так что заключенные – Ворт называл их «кающимися» – никогда не могли знать в точности, смотрят на них или нет. Ноль уединения. Под камерами было три подвала, где работали кающиеся, три огромных лабиринта, там стояла куча приспособлений для бессмысленной работы, созданных, чтобы перепрограммировать мозг. – Мэтт пожал плечами и добавил: – Прямо как в «Орске». – Только не говори такого при Бэзиле, – посоветовала Эми. – Но это же правда! «Орск» весь спроектирован для того, чтобы дезориентировать. Магазин хочет, чтобы посетитель сдался на волю спроектированной программы шопинга. Паноптикум Кайахоги был, в принципе, тем же самым. Комендант считал, что сможет исправить разум преступников постоянным надзором, принудительным трудом и бессмысленным повторением одних и тех же действий. В те времена люди верили, что здание может оказывать психологическое воздействие, если построить его должным образом. Мэтт провел Эми мимо ряда сверкающе-белых «Гельветесниксов» и свернул напрямик в Шкафы. Когда оба вынырнули из мебельного лабиринта, то оказались перед витриной из оргстекла. Внутри нее механическая рука тупо открывала и закрывала без конца дверцу телевизионной тумбы «Яклепт», чтобы продемонстрировать прочность и надежность «орских» петель. Эту руку оба уже видели. – Ты вообще смотрел, куда мы идем? – поинтересовалась Эми. – Ну я же толкал речь. Но это, в общем, иллюстрирует мою точку зрения. Если в этом магазине расслабишься хоть на момент – потеряешься. Отвлечешься и сам не заметишь, как спустил восемь сотен баксов на пластмассовый «Убеганн». Они вернулись на Яркий Сияющий Путь и пошли по стрелкам, которые, по идее, должны были привести к Кухням, Столовым и, наконец, к Спальням. – Вот кажется, что за столько времени разобрался в этом месте, знаешь, что к чему. – Конечно. У тебя и со всей жизнью так: знаешь, что к чему. – Не со всей жизнью, – серьезно возразил Мэтт. – Только с планом «Бегство из Огайо». «Призрак-бомба» и в самом деле станет бомбой, мы с Тринити будем жить счастливо и умрем в один день, а в следующий раз, когда ты в сети наткнешься на канал «Браво», ты… Твою ж мать! Мэтт с Эми застыли. Вокруг расстилалось море черных, белых и черно-белых столешниц, столов и конторских кресел на колесиках. Непонятным образом они снова оказались в Домашнем Офисе. – Видишь, о чем я? – риторически спросил Мэтт. – Наш великий повелитель и господин Том Ларсен выстроил свои магазины так, чтобы индуцировать «перенос Грюэна»: чувство растерянности, географического отчаяния,удерживающего человека в состоянии полной дезориентации – как и в «Икее», как и в «Ящиках и Бочках»[105]. – Я поняла, очень убедительно, – буркнула Эми. Зазвонил мобильный Мэтта, тот глянул на экран и сообщил: «Тринити». Мэтт договорился встретиться с ней у того самого «Мюскка» и отключился, а Эми сказал: – Они ждут нас. Эми казалось, что прошло лишь несколько минут, но посмотрела на часы и поняла, что бродит по магазину уже полчаса. Наверное, Бэзил уже ломает голову над тем, что же случилось. Мэтт с Эми опять пошли в другую сторону по Яркому Сияющему Пути – в третий раз направились к Кухням и Столовым. – Мне нужно отыскать Руфь Энн и пойти вместе с ней к комнатам отдыха, – заметила Эми. – Что, по-твоему, мне сказать Бэзилу? – В каком смысле? – Когда он узнает, что вы двое прошмыгнули в магазин, то разозлится. Мэтт ничего не сказал. Он ошарашенно пялился в видоискатель камеры. Они свернули за угол и должны были зайти в Кухни, а вместо этого снова оказались в Домашнем Офисе. – Мэтт, что случилось? – Бессмыслица какая, – покачав головой, задумчиво произнес он. – Ты опять пошел по кругу. – Посмотри в камеру. Он направил объектив вдоль стрелки Яркого Сияющего Пути в Домашний Офис. Эми заглянула. В видоискателе были Кухни. – Это предыдущие кадры, – предположила Эми. – Нет, – водя камерой, отрезал Мэтт. Панорама смещалась сообразно движениям. Он увеличил изображение так, что весь видоискатель заполнился набором шкафов «Грандгринд». Эми даже смогла разглядеть штрихкод и цену по скидке. Но в действительности перед объективом была лишь пустота. – Проблемы с картой памяти, – сказала Эми. Мэтт вытащил карту, зажал ее между пальцами, показал Эми – будто фокусник, вытащивший туза из колоды. – Проблемы не с картой. – Я отказываюсь в это верить! – Отказывайся или нет, мы оба видим это. Так что у нас есть три варианта. Первый: перед нами на самом деле Кухни, но мы думаем, что это Домашний Офис. То бишь камера права, а мы нет. Второй: перед нами на самом деле Домашний Офис, а камера почему-то показывает Кухни. То бишь мы правы, а камера нет. – А третий вариант? – Мы оба сходим с ума. – Но это невозможно, – беспомощно произнесла Эми. – Очень даже возможно. Помнишь, что я говорил тебе про электромагнитные поля? По-настоящему сильные поля мешают работе мозга. Может, дело в нашей осветительной сети, или в силовых кабелях, или в гигантской геомагнитной аномалии под этим зданием. – Но если поле действует на наш мозг, почему оно действует и на камеру? – Может, оно и не действует. Скажем, с камерой все в порядке, а у нас галлюцинации. В конце концов они договорились о новой тактике: идти по Пути, который фиксирует камера, и на видимое невооруженным глазом не обращать внимания. Мэтт увеличивал изображение до тех пор, пока в видоискатель не поместилась лишь указывающая нужное направление стрелка. Оба шли, глядя только в камеру, стараясь не обращать внимания на окружающее. У Эми закружилась голова. – Я не хочу сходить с ума. – А мы и не сходим с ума, – успокоил Мэтт. – Мы испытываем экстремальное воздействие сильных электромагнитных полей на мозг. Они шли по камере, которая вела их по безумному кругу петляющей реальности. На экране оба спокойно шли через Оптимальное Хранение. А глаза видели, что они сталкиваются с мусорными корзинами и шкафами в Домашнем Офисе, а потом карабкаются по оттоманкам и угловым столам в Жилых Комнатах. – А как быть, если мы вернемся к тому «Мюскку», но не обнаружим Руфь Энн с Тринити? – поинтересовалась Эми. – Вдруг они окажутся на экране, но не в реальности? – Будем разбираться со странностями по очереди, – сказал Мэтт. – Сворачивай налево… Осторожней! Он пригнул Эми голову – та чуть не врезалась в угол стеллажа. Затем они перелезли через кресло «Потемкин» и оказались на другой стороне макета комнаты. По камере они только что резко свернули направо по Яркому Сияющему Пути. – Да этот путь ведет нас туда, откуда мы пришли, – сказала Эми. – Не паникуй. Просто иди за камерой. Эми положила руку на плечо Мэтта и послушно двинулась следом. Они зашагали быстрей. Оба уже изрядно выдохлись, худи Мэтта взмокло от пота. Они свернули еще раз, и в одно головокружительное мгновение изображения на экране и вокруг слились в одно. Тринити с Руфь Энн сидели на кровати и ждали. – Ребята, вы чем там занимались? Флиртовали? – поинтересовалась Тринити. Эми села на краешек кровати, прижав ладони к вискам, и пыталась упорядочить мысли. – Я даже не знаю, как это объяснить, – сказала она. – Мы заблудились. Целиком и полностью сбились с пути. – Ну, это небольшое преувеличение, – заметил Мэтт. – Ведь я таки привел нас обратно. Встревоженная Руфь Энн опустилась на колени рядом с Эми. – Ты выглядишь немного не в себе. Что случилось? Эми рассказала обо всем – и о том, как они нашли путь к Спальням по изображению в камере. По мере рассказа Тринити все больше оживлялась. – По мне, это уж точно паранормальная активность, что это еще может быть? Тут нет рационального объяснения! – Рациональных объяснений тут множество, – сказал Мэтт. – Рациональные, шмациональные – да плевать. Я хочу попробовать. Бери камеру и пойдем в Кухни, может, феномен повторится. Она схватила Мэтта за руку и потащила по Яркому Сияющему Пути. Мэтт еле успел подхватить сумку с приборами. – Нам нужно в комнату отдыха, – сказала Эми. – Нас ждет Бэзил. – Конечно, – согласилась Руфь Энн, обняла Эми за талию и помогла подняться с кровати. – Дорогая, пойдем. Может, тебе нужно перекусить чем-нибудь? Пару крендельков, поднимется сахар в крови – и все будет нормально. Вместе они отправились в Платяные Шкафы, и бескрайняя тишина Демонстрационного зала окутала их, будто саваном. Эми повторяла себе, что больше не боится, но чем дольше они шли по Пути, тем сильней делался страх заблудиться. Эми зашагала быстрее, по спине поползли холодные мурашки. Наконец, будто цунами, нахлынуло облегчение: впереди – ярко раскрашенные ярусные кровати Детской. Но Эми позволила себе расслабиться, только когда обе оказались в комнате отдыха, где все четыре стены уж точно не были трюком расстроенного мозга: можно и увидеть, и пощупать. – Я так рада, что все закончилось, – тихо сказала Руфь Энн. – Я тоже. – Но по расписанию Бэзила нам через пятнадцать минут начинать новый обход. Сердце Эми покатилось к пяткам.
Глава 6. Кьерринг
Созданный как сосуд для памяти, «Кьерринг» привносит порядок и организацию в Ваши любимые книги, кино, музыку… во все то, что добавляет красоту, элегантность и искусство в Вашу жизнь. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: НАТУРАЛЬНАЯ БЕРЕЗА, СВЕТЛАЯ БЕРЕЗА И ХАКИ НОМЕР ТОВАРА 7766611132Когда Руфь Энн с Эми вернулись в комнату отдыха, Бэзил был в ярости. – Какие слова в выражении «тридцать минут» вы не поняли? Чем вы занимались? – Мы говорили с Мэттом и Тринити, – объяснила Руфь Энн. – Что? – Это они заклеили жвачкой служебный вход. Но Тринити обещала мне, что они, уходя, уберут жвачку, потому не стоит беспокоиться. – Что? – повторил Бэзил. – Они сейчас в Спальнях. Но всё в порядке, они ничего не портят – просто снимают видео для своего шоу о призраках. – Что? – снова спросил Бэзил. – Вы же знаете эти шоу на канале A&E, ну, про охотников за призраками?.. Ой, я перепутала, они хотят не на A&E, а на «Браво». Да, как-то так. В общем, они говорят, что магазин построили на месте старой тюрьмы, поэтому они принесли камеры, микрофоны, кучу всяких электромагнитных детекторов и начали снимать свое маленькое шоу про охоту на призраков. Так мило! Мы поймали их целующимися, правда, Эми? – Да, поймали, – усаживаясь на «Задл» и скрестив руки, подтвердила та. Она решила так и остаться сидеть здесь и ни за какие коврижки не возвращаться в Демонстрационный зал до конца ночи. Эми даже не позволила себе глянуть на телефон. Когда она смотрела в последний раз, было 00:20. Если посмотрит сейчас и там не будет по меньшей мере часа ночи, она точно сойдет с ума. Но нельзя же проверять. Еще слишком рано. Но, вопреки здравому смыслу, Эми не удержалась и посмотрела. 00:25. – Невероятно! – воскликнул Бэзил. – И зачем им? – Они хотят сделать «Орск» знаменитым, – ответила Руфь Энн. – «Орск» уже знаменит. Вы должны показать мне, где они. Прямо сейчас. Эми не хотела участвовать в этом безумии. Она хотела забиться в уголок, туда, где все осмысленно и разумно, и не идти назад, на этаж. Пытаясь отыскать что-нибудь, на чем можно было бы остановить взгляд, она посмотрела наверх. – Это пятно всегда было тут? – глядя на потускневшее желтое пятно, занимающее целых три потолочных панели, пробормотала она. – Да, – подтвердил Бэзил. – А мне кажется, что нет. – Оно уже поблекло, – указал Бэзил. – Так что оно не может быть свежим. Всё, тайна раскрыта. Эми терзало тяжелое подозрение, что Бэзил все-таки ошибается. Недавно, когда он сыпал цитатами из третьей главы «Нужно немного сборки: моя жизнь в ретейле» Тома Ларсена, Эми закатила глаза и от нечего делать принялась считать потолочные панели. Прежде чем надоело, она досчитала до ста двенадцати. И ни на одной не было пятен. – Пойдем, – велел Бэзил. – Мне нужно разобраться с проблемой Мэтта и Тринити. – Да нет с ними никакой проблемы, – заверила Руфь Энн. – Нет, есть. Это совершенно точно проблема. Но прежде чем они смогли заняться проблемой, та сама притопала к ним по коридору. Тринити ворвалась в комнату, улюлюкая и размахивая камерой. Забегала по комнате, затанцевала, затрясла руками над головой. – Я поймала призрака! Настоящего духа! Призрачного суперпризрачного распрепризрачного духа! – Стоп! – заорал Бэзил. – Вы вышли за все рамки! Вы не должны находиться здесь! – Да это не призрак, – поправил появившийся в дверях взмокший от пота Мэтт. – Кто-то проник через служебный вход. Он здесь, в магазине, вместе с нами. Прямо сейчас. – Вы не можете этого делать, – сурово изрек Бэзил. – Нельзя просто бегать туда-сюда и безумствовать. Это безответственно. Если Пэт узнает, он уволит вас на месте. – Мы можем показать ему мою съемку, – предложила Тринити. – Потому что я успела снять, и вышло – изумительно! – Да это не дух, – повторил Мэтт. – Духов не… то есть они не так действуют. – Стоп! – заорал Бэзил, и Тринити, наконец, перестала танцевать. – У меня нет настроения шутить с вами. Завтра, когда уедет делегация из Главного офиса, мы с вами серьезно переговорим насчет вашего будущего в «Орске». – Мой будущее – это «Призрак-бомба», – объявила Тринити. – Потому что нашему материалу стопроцентно дадут зеленый свет. У тебя от него просто снесет крышу! – Ну, я не знаю насчет зеленого света и прочего, но очень хотелось бы посмотреть, – сообщила Руфь Энн. – Ты выставляешь себя дурой, – сказал Мэтт. – Это не призрак. Кто-то прячется в магазине. – Единственный, кто выставляет себя дураком – это ты. Я знаю, что это дух, потому что я видела его, он прошел рядом со мной, и я сняла его на камеру. Ты не веришь в то, что это дух, потому что ты – ревнивая жопа! – Духи не существуют и никогда не существовали, – отрезал Мэтт. – Они не существовали вчера, не существуют сегодня и не будут завтра. Это страшилки для тех, кто до беспамятства боится смерти. Ты же умная. Ну как ты можешь верить в такое? Его слова легли как свинец. Как то, что уже никогда и никак не обратить вспять. Тринити глянула на него так, будто получила пощечину. – В смысле, они могут существовать, да, – промямлил Мэтт, – но этот вряд ли был. – Отвали, – сказала Тринити и повернулась к нему спиной. – Руфь Энн, хочешь видеть мой призрак? Иди сюда, глянь. Тринити открыла камеру и запустила перемотку. Эми не хотела смотреть, но помимо воли и вопреки здравому смыслу подошла. Треск статики, мельтешение – и перемотка вернулась к нормальной скорости. На экране появился ЭМП-датчик посреди массивной глыбы обеденного стола «Франжк», окруженного восемью стульями. Изображение его уменьшалось, пока не превратилось в белую точку, а потом камера двинулась вперед, покачиваясь, – эффект, будто в игре-стрелялке от первого лица. Из динамика камеры зазвучал металлически дребезжащий электронный голос Тринити: – Назначенное кающимся наказание имело целью искупить их вину. Даже сегодня этот магазин полнится эхом криков тех, кто умер здесь. – Ты что, читаешь текст? – спросила Эми. – Я же говорил ей не делать этого, – проворчал Мэтт. – А тебя вообще никто не слушает! – буркнула Тринити. Камера поворачивалась, приближаясь к столу, миновала постер «Орск: наш дом навсегда». На этом плакате перечислялись не вредящие окружающей среде материалы «Франджка». Камера захватила человеческую фигуру, стоящую у дверей спальни, затем показала набор полок «Краеб». И тут Эми ощутила, как все вокруг затаили дыхание. Она замерла. Камера медленно повернулась назад, к двери в спальню. Слишком поздно. Тень бросилась, в объективе почернело, камера задрожала, опрокинулась, по экрану побежали светлые полосы. – Видели? – заорала Тринити. – Он кинулся прямо ко мне! Холодный до жути, ткнулся в меня, я споткнулась о стул и грохнулась. – Он напал на тебя, – сказал Мэтт. – Он пытался наладить контакт! Видоискатель развернулся, и внезапно камера показала спину человека, убегающего по Пути к Кухням. Эми заметила темно-синюю рубашку, белые теннисные туфли. Затем человек прыгнул за стойку. – Вы видели? Он же в кроссовках, – указал Мэтт. – Что за призрак носит кроссовки? – О господи, я уже видела этого парня, – воскликнула Эми. – Он был тут утром, когда я пришла на работу. Я видела, как он стоял в Спальнях. – А почему вы ничего не сказали? – осведомился Бэзил. – Потому что не работаю в Предотвращении Потерь, понятно? Это не моя работа. – Увидишь что-то – скажи кому-то, – процитировал Бэзил. – Это на странице тридцать шесть инструкции для работников «Орска». Эми, вам следовало бы знать ее. – Тот самый парень, – не обращая на него внимания, определила Эми. – Граффити в туалете, дерьмо на «Брууке». Это он, сто раз он! – Это не тот самый парень. Это дух, – не сдавалась Тринити. – Никакой не дух! – буркнул Мэтт. – Ты что, все время врал мне? – спросила Тринити. – Ты же говорил, что веришь в духов, а теперь я, наконец, на все сто сняла духа, а ты говоришь, что он не дух? – Ты хоть немного слушала то, что я говорил? – осведомился Мэтт. – Нет, потому что все твои разговоры – это попытка отвалить и удрать. Мы сюда пришли, чтобы снимать духов, и мы не уйдем, пока не наснимаем духов. И точка. – Вы оба – прекратите! – заорал Бэзил. Его голос заметался эхом в комнате. Все застыли. – Это вам не спальная вечеринка! У меня два партнера вломились в магазин, чтобы снимать телешоу в месте, за которое я ответственен! У меня тут вандал, пишущий на стенах в туалете и гадящий на мебель. Он свирепо уставился на часы. – А еще у меня через шесть часов явится команда консультантов, и это место должно выглядеть девственно чистым! Пэт должен получить санитарное разрешение от Регионального офиса, или все мы будем подавать свои резюме в питтсбургскую «Икею»! Понимаете? Все задумчиво молчали. – Ладно, расставим приоритеты. Прежде всего, мы ловим этого парня. – Духа, – вставила Тринити. – Не духа, – прошипел Мэтт. – Кончайте с этим, – посоветовал Бэзил. – Мы должны держаться вместе, и мы вместе прочешем магазин из конца в конец. А когда отыщем его, то и решим, что с ним делать. А затем я решу, что делать с вами обоими. – И как же вы собираетесь искать его? – осведомилась Эми. – Не знаю. Может, выстроимся в шеренгу и прочешем? – Вон он, – сказала Тринити. – Или начнем в центре и пойдем расширяющимися кругами, – предложил Мэтт. – Да вот же он, прямо тут, – повторила Тринити. – Может, подняться повыше? – предложил Бэзил. – Тогда мы сможем заглянуть за стены, увидеть магазин сверху, разбить его на сектора и обследовать их. – Мы просто можем пойти прямо к нему, – указала Тринити. – И как вы узнаете, где он? – раздраженно спросил Бэзил. – Я сейчас смотрю прямо на него. Они все повернулись и посмотрели. Плоскоэкранный монитор, висящий в углу, был настроен на Си-эн-эн, но теперь он показывал заснятое на любительскую камеру изображение – увеличенное, размытое, без логотипа канала и бегущих строк с новостями. Похоже, трансляция с камеры наблюдения в магазине. Освещение очень слабое, но безошибочно распознается Демонстрационный зал где-то на границе Спален и Столовых. – Вон там, – сказал Тринити, подошла к монитору и коснулась экрана. И все увидели: из-за «Кьерринга» высовывалась мужская нога. Видны были только штаны ниже колена, голая лодыжка и грязная кроссовка. Нога вдруг спряталась за «Кьерринг». Движение показалось таким жутким, что Эми невольно отступила на шаг. Все посмотрели на Бэзила. Перед лицом такой жути им нужен был лидер. Тот уловил настроение и немедленно им воспользовался. – Окей, мы идем в Столовые. – А как съемка с камеры наблюдения вообще попала на телевизор? – поинтересовалась Эми. – Понятия не имею, – отрезал Бэзил. – Но в моем списке вопросов без ответа этот – далеко не на первом месте. Прямо сейчас нам нужно отыскать человека в этом магазине и… Переговорить с ним. Посмотреть, кто это. Разрешить ситуацию. – Секундочку, я поменяю батарейки, – объявила Тринити и полезла в рюкзак. – Вы не идете. – Исключено. – Тринити, он прав, – поддержал Мэтт. – Этот парень уже кидался на тебя. Оставь нам разбираться с ним. – Но ты тоже не идешь, – заметил Бэзил. – Ха! – воскликнула Тринити. – Вы не можете закрыть нас здесь. Тут даже двери нет, – возмутился Мэтт. – Мы проводим вас к машине, – сказал Бэзил. – Нам нужно забрать снаряжение. Оно дорогое. Бэзил устало и зло посмотрел на него. – Простите меня, – вмешалась Руфь Энн, – я, само собой, не хочу совать нос в ваши дела, но, может, мы пойдем к тому человеку, пока он не спрятался снова? И чем больше нас, тем безопасней. Может, нам пока держаться вместе? – Как давно вы сделали те кадры? – спросил Бэзил. – Минут пятнадцать назад, – ответил Мэтт. – Ладно. Мы держимся вместе, пока не отыщем того парня. Возьмите и камеру, на случай если потребуется свидетельство для Пэта – просто чтобы доказать правильность моих действий. Через секунду все уже направились следом за Бэзилом наружу. Эми не хотелось идти, оставаться одной тоже не хотелось. Поэтому, в качестве компромисса, она решила держаться как можно дальше от остальных. Бэзил остановился у женского туалета. – Вы что-то говорили про граффити? – Они внутри. Все следом за Бэзилом зашли в туалет. Эми – последней. Каждый за́мер, не в силах выговорить и слова. Стены, от пола до потолка, были покрыты царапинами, будто кто-то изрядно поработал резцом.

Каждый дюйм казенной желтой краски был помечен, выдолблен, стесан, исцарапан, исковырян и изуродован. – Это… – выговорил Бэзил и осекся. – Почему вы ничего не сказали? – Было не настолько плохо, – ответила Эми. Удивленная Тринити провела пальцами по стене. Руфь Энн стояла, будто окаменев, вытянувшись по струнке, и ничего не трогала. В туалете воняло как от «Брууки», только еще сильнее. – Улей, – прочитал вслух Мэтт слово, повторяющееся повсюду рядом с бесчисленными именами и числами. – Что за чертов «Улей»? – Один человек никак не мог учинить такое, – определил Бэзил. – В особенности учитывая то, что магазин закрыт. Это работа на целую ночь. Но вот они, граффити, прямо перед глазами. – Я больше не могу вдыхать эту вонь, – объявила Руфь Энн и вышла. Остальные побрели за ней. – Не сомневаюсь, этому есть разумное объяснение, – заверил Бэзил. – Я хочу, чтобы вы все слушали внимательно и сделали в точности то, что я скажу. Вы всё поняли? – Нужно вызвать полицию, – предложила Эми. – Ни в коем случае, – отрезал Бэзил. – С полицией приедет и Пэт. Он будет в ярости. Комиссия так или иначе явится утром, а проблема не будет решена. Но если мы прочешем магазин вместе, если отыщем этого парня, то раз и навсегда решим проблему. – Я не вернусь в Демонстрационный зал, – объявила Эми. – Извините, но одного обхода там мне хватило. – Как хотите. Вы с Руфь Энн отправляйтесь в зону отдыха. Я не хочу, чтобы кто-нибудь оставался один. Руфь Энн кивнула, но явно не обрадовалась. – Заметите что-нибудь подозрительное – звоните мне на мобильный. И, что бы ни случилось, не покидайте комнату отдыха. По магазину и так бегает достаточно людей. Ситуация начинает походить на эпизод «Скуби-Ду». Мы соберемся, когда поймаем того парня. Впервые за ночь Эми была рада подчиниться приказу. Она вернулась в комнату отдыха и достала мобильный. – Мне это не нравится, – сообщила зашедшая следом Руфь Энн. – Мне тоже, – согласилась Эми, скользнув пальцем по экрану. – Что ты делаешь? – Вызываю полицию. – Но мы же договорились, что не станем вызывать. – Я соврала. – 911, что случилось? – спросил оператор. – Привет. Это «Орск» в Кайахоге. У нас клиент, то есть посторонний, прячется в магазине. Он изуродовал туалет. Мне кажется, он опасный. – Вам нужна полиция, пожарные или скорая помощь? – Полиция, наверное. Нужна скорая помощь полиции. – Пострадавшие есть? – Нет, но мы перепуганы до смерти. – Где вы находитесь? – Я в «Орске», мебельном магазине, рядом с шоссе 77, около Индепенденс. – Вы знаете точный адрес – улица, дом? Эми умолкла в растерянности. Она никогда не думала об «Орске» как о месте с адресом. Да он же просто торчал на обочине за городом, как почти всякий крупный торговый центр, ну, как «Домашний Склад» или «Бочки». Эми пошарила глазами по бумажкам, пришпиленным к доске объявлений для работников. Наконец взгляд упал на едва заметный, мельчайший шрифт в верхней части какого-то официального письма. – Семьдесят четыре четырнадцать Ривер Парк Драйв. Это рядом с шоссе 77. – Это жилой дом или предприятие? – Эми? – одними губами произнесла Руфь Энн. – Предприятие. Это гигантское здание с гигантской вывеской, орущей «ОРСК» гигантскими десятифутовыми буквами!!! Таких сотня по всей стране. Вы знаете их? – Эми? – прошептала Руфь Энн и постучала Эми пальцем по плечу. – Погодите, – сказала Эми и прижала телефон к животу. – Что такое? – Повесь трубку. – Почему? – Мне нужна эта работа. Ты молодая, можешь пойти куда-нибудь еще, а я не могу. Если я потеряю эту работу, то другой не найду. Повесь трубку. – И тебе есть дело до работы, когда можно попросту умереть? – Эми, я прошу тебя как подругу, пожалуйста, повесь трубку. Эми немного поколебалась, затем снова поднесла телефон к уху. – Мэм? – спросил оператор. – Вы еще на связи? – Послушайте, я ошиблась. Нам не нужна полиция. – Мэм, наряды уже едут к вам. Я буду должен… Эми отключилась. – Спасибо, – сказала Руфь Энн. – Обходиться без полиции – плохая идея. Бэзил делает хуже, не лучше. – Он найдет того человека, и все будет замечательно. Как же иначе? А если вызвать полицию, это подорвет его авторитет. Зазвонил телефон Эми. Она приняла звонок. – Мэм, прервалась связь, – сказал оператор линии 911. – Я хочу, чтобы вы знали: патрульная машина направляется по вашему адресу, 7414 Ривер Парк Драйв, из Брексвилля. Они скоро будут у вас. – Спасибо, – поблагодарила Эми, отключилась и сказала Руфь Энн: – Они все равно приедут. – Ох, – закусив губу, сказала Руфь Энн. – Ладно. – Мне жаль. Но знаешь, не то чтобы очень жаль. Давай тихо и спокойно посидим здесь, и через двадцать минут все закончится. – Нет, – возразила Руфь Энн. – Мы сейчас пойдем наверх и поможем Бэзилу отыскать того типа до того, как сюда явится полиция. Мы сделаем, что он скажет, и нас не уволят. – Только не я. Я не вернусь на тот этаж. – Ну дела, – произнесла Руфь Энн. Она нервно осмотрелась, словно боялась, что кто-то наблюдает за ними, и затем глянула на Эми. И вдруг вся нерешительность, нервность, суетливость, рассеянное благодушие – все то, что составляло привычную Руфь Энн – исчезли. – Послушай-ка сюда, избалованная девчонка, – произнесла она. Эми никогда не слышала, чтобы Руфь Энн говорила так. Хуже того, Эми и не представляла, что Руфь Энн может так говорить. – Может, у тебя и есть те, кто приютит тебя в случае чего – но у меня нет. У меня нет семьи. Друзей немного. Когда я дома, то провожу время за кроссвордами и смотрю телевизор вместе со Снупи. Ты знаешь, кто такой Снупи? Это плюшевый пес, которого я выиграла на ярмарке в Грейт Лэйкс. Ты знаешь, что у меня есть? Моя работа. Она оплачивает мои расходы, дает мне семью, принесла мне чудесную кухню, и я не допущу ее потери только из-за того, что сопливая девчонка, привыкшая все время ныть и огрызаться, описалась с перепугу и не хочет подняться и помочь коллегам отыскать типа, шныряющего по магазину. – Но, Руфь Энн… – Нет, ты уже вдоволь наболталась этой ночью. Теперь время послушать. Когда я в последний раз проверяла твой возраст, он равнялся двадцати четырем годам. Твои тринадцать лет и естественное этому возрасту свойство злиться на все подряд давно остались за спиной. Придержи язык, соберись и поступай, наконец, как взрослая! Не хочешь идти помогать? О, наша киса надулась. Я тоже не хочу, но у меня работа, и я должна делать то, чего не хочу. Потому за работу и платят деньги. Жизни наплевать на то, чего ты хочешь, и другим людям тоже. Важно не то, чего ты хочешь, а то, что ты делаешь. И прямо сейчас ты встанешь вместе со мной, рядом со мной выйдешь отсюда, отыщешь наших друзей и поможешь им разобраться с проблемой. Завтра можешь вытворять любую херню, но сегодня я сохраню свою работу. Так что давай, подотри сопли и пойдем. Эми открыла рот, чтобы хлестко ответить, но вдруг обнаружила, что не может возразить абсолютно ничего. – Хорошо, – сказала Эми.

Глава 7. Этажутт
Сердце дома – это Ваша кухня, где встречаются чудесная еда, чудесные запахи, чудесная кулинария и чудесные друзья. «Этажутт» обеспечит кухне современный облик, который подвигнет Вас создать Ваше очередное произведение искусства, будь то завтрак для двоих или обед на двенадцать персон. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: СНЕГ, НОЧЬ И ШИФЕР РАЗМЕР ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ Если у вас есть вопросы – просто спОРСКите!Они отыскали Бэзила и остальных в Спальнях. Компания пряталась за «Дразилом» – шкафом с выдвижными ящиками. – Ш-ш-ш, – зашипел Мэтт и замахал рукой. – Этот парень… он там. Мэтт ткнул пальцем в сторону двойных дверей, ведущих в тыльную часть магазина. Эми покорно нырнула за «Дразил». – Как он выглядит? – прошептала она. – Вообще-то, мы его не видели, – признался Бэзил. – Но Тринити заметила движение, потом мы все увидели, как шевелятся двери. Мы его выманим наружу, потом зажмем в клещи. – А как это, зажать в клещи? – поинтересовалась Эми. – Ох, ради всего святого, – буркнула Руфь Энн, решительно подошла к двойным дверям и распахнула их. – Тут никого. Он, бедолага, наверное, еще прячется в Столовых под полками. – Вы целиком пренебрегли безопасностью, – сказал Бэзил. – На вас могли напасть. Руфь Энн покачала головой. – У того, кто вздумал прятаться в нашем магазине, наверняка куча проблем. Думаю, этому парню очень нужна помощь. – А она права, – заметила Эми. – Если мне не хочется тут быть, с чего хотеть ему? – Мы идем в Столовые, – не обращая внимания на Эми, объявил Бэзил. – Подождите-ка, – попросил Мэтт. Он открыл шкаф «Тойсе» и вытащил сумку с аппаратурой, раскрыл и выудил длиннющий – фута в два – фонарь, больше напоминающий полицейскую дубинку и, похоже, способный серьезно помять череп. – Вы не будете применять это к человеческому существу, – постановил Бэзил. – Посмотрим. Этот тип без малого напал на Тринити. – Меня тренировали в улаживании кризисов в ретейле. Я разберусь. Мэтт не ответил и молча направился к Столовым. – Духа нельзя побить! – вскричала Тринити и заспешила следом, а за ней и остальные. – Вы понимаете, что вы больше не контролируете ситуацию? – сказала Эми Бэзилу. – Я контролирую ситуацию на сто процентов, – заверил Бэзил и поспешил за Мэттом. Так они отправились в долгое путешествие по Яркому Сверкающему Пути к Столовым. Миновали огромные зеркала «Пронк», прислоненные к стене, показывающие холодные серебристые версии путников, закованные в стекло. Миновали ряды кресел, ожидающих посетителей, которые так никогда и не придут, миновали опустелые полки, голые столы, заброшенные кровати, двери, ведущие в никуда. – Чем-то пахнет, – сказала Руфь Энн. – Воняет, – уточнила Тринити. Кислая затхлая вонь гниющей тины ползла по Демонстрационному залу, будто низовой туман. Чем ближе к Столовым, тем хуже. Вонь щипала ноздри, от нее першило в глотке. Воняло так же, как в туалете, как утром от «Брууки». От вони кожа казалась склизкой. Наконец, они подошли к месту, которое видели с камеры, и остановились у края Яркого Сияющего Пути, чувствуя себя так, будто ступили в авильон телесъемок и сейчас за ними наблюдают миллионы зрителей. Стулья из набора «Франжк» валялись на полу, посреди массивного стола торчал пластиковый ЭМП-датчик. У Эми заколотилось сердце. – Духи, вы слышите меня? – воззвала Тринити. – Тихо ты! – прошипел Мэтт. – Не привлекай внимание. – Не указывай мне, – водя камерой из стороны в сторону, пытаясь снова поймать своего духа, огрызнулась та. – Духи, обнаружьте себя! – Я просто не верю в это, – решительно объявила Руфь Энн. – Я трусишка почище любого из вас, но это же просто смешно. Она опустилась на колени и заглянула под «Кьерринг». – Снова никого. Он ушел. Какое облегчение! Эми буквально ожила. Может, сейчас все вернутся в комнату отдыха? А лучше – решат, что хватит сюрпризов, и отправятся домой? Но затем она глянула вперед, вдоль Яркого Сияющего Пути, и увидела. На другой стороне прохода напротив Столовых красовалась пурпуром спальня «Сильвиан». Там все было аккуратно, до мельчайших деталей выровнено, выглажено и выставлено – за исключением белого с рюшами покрывала на кровати. Из тени под ней выглядывала волосатая человеческая рука с золотым обручальным кольцом на пальце. Эми толкнула Бэзила и показала пальцем. Бэзил посмотрел – и его глаза сделались как блюдца, будто в мультфильме. Мэтт проследил за их взглядами, увидел руку и невольно отступил на шаг. Мэтт попытался оттянуть Тринити, но та извернулась и стряхнула его руку. Руфь Энн отошла на цыпочках на дальний край Яркого Сияющего Пути. – Э-э, мы вас видим! – натужно и чрезмерно громко объявил Бэзил. Ноль реакции. – Под кроватью! С обручальным кольцом. Волосатые руки. Мы видим вас, волосатые руки. И… мы окружили вас! Рука не пошевелилась, даже не дрогнула. Эми похолодела. А вдруг нашли труп? Кто-то умер в Спальнях, и ведь никак нельзя оставлять тело утренней смене. Бэзил наверняка заставит убрать до приезда Команды Консультантов. Господи, что за ночь! Когда же она кончится? – Слушайте, мы вызвали полицию, – снова попытался Бэзил. – Выходите, или вас вытащат полицейские. Хотите перцового газа в глаза? Дозу электрошока? И тут Руфь Энн подошла к кровати и подняла матрас. Человек лежал на животе, раскинув конечности по полу, как морская звезда. Он задергался, попытался уползти, словно потревоженный жук из-под перевернутого камня. Вскочил на ноги, но тюкнулся головой о кроватный каркас. Инерция была слишком велика, чтобы остановиться, и он потерял равновесие. Шатаясь, он кинулся по Яркому Сияющему Пути, но врезался в двойное кресло «Сплуг» и полетел через него головой вниз. – Лучше беги от нас! – заорал Мэтт. – Нет, не беги! – заорал Бэзил. – Стоп! Мужчина кое-как встал и захромал к морю столов – наверное, хотел перейти напрямик в Оптимальное Хранение. – Я сказал – стоп! Двери закрыты! Мы снимаем вас на камеру! Мужчина сгорбился, руки бессильно повисли – будто щелкнули выключателем и лишили сил, – затем повернулся. Растущая лысина, суточная щетина на подбородке, выглядящая, будто лиловый наждак. – Вы меня поймали, да? – гнусаво и тоненько произнес он. – Я пойман, всё. Объемистое брюхо растягивает синюю рубашку поло, под мышками белые пятна от высохшего пота. Армейского фасона штаны на коленях вытерты до блеска, носок одной кроссовки обмотан изолентой. – Стоять, не двигаться! – рявкнул Бэзил. – Я и не двигаюсь. – Это ты ударил мою девушку? – осведомился Мэтт. – Я? Ударил? Да ничего подобного! Я с ней столкнулся и перепугался до полусмерти. Ну и удрал. Если что, так это она наскочила на меня. Я никогда не подниму руку на женщину. Я убежденный пацифист! Не знаю, ребята, что она вам наговорила. – Он не пытался ударить меня, – возразила Тринити. – Он пытался что-то сообщить. Тринити подскочила к мужчине, наставила камеру. – Сколько времени вы уже мертвы? – Да не дух он! – взвыл в отчаянии Мэтт. – Он просто бездомный. Бомж. Не подходи к нему близко. – Могли бы и не обзываться, – сказал искренне огорченный мужчина. – Но, знаете, душенька, ваш парень прав. Я не дух. – Он не мой парень, – возразила Тринити. – И я знаю, что вы не дух. Духи не прячутся под кроватями. Затем она уселась в кресло «Скопперлойт» и заревела. – Ох, милая, – произнесла Руфь Энн и поспешила к ней. – Я в порядке, – прошептала Тринити сквозь слезы. – Все… все нормально. – Кто вы? – грозно вопросил Бэзил. – Вас не должно тут быть! – Я – Карл. – Карл кто? – Я предпочел бы не говорить. – У вас есть удостоверение личности? – Вы что, полиция? – Я не полиция, – выговорил Бэзил, отчетливо выделивший слово «полиция». – Но я ответственен за этот магазин. Как вы проникли внутрь? – Так же, как и во всякую другую ночь. Я торчу в кафе до закрытия, в половине десятого иду в туалет, сажусь на унитаз и кладу ноги на корзину всякий раз, когда кто-нибудь заходит. Кстати, ваша охрана совсем никудышная. Лучше вам подрядить другую компанию на это дело. Тринити ревела так, будто собралась реветь до конца жизни, Руфь Энн ласково гладила ей спину. Мэтт стоял сбоку и выглядел сконфуженным. – Вы видели именно этого парня? – спросил Бэзил у Эми. – Я была довольно-таки далеко, но, думаю, это он. – О! – воскликнул Карл, будто Эми разъяснила что-то тревожащее его. – Да вы же та девчонка с утра. Надеюсь, я не напугал вас. Я думал, что вы уж наверняка вызовете охрану. – Это вы испортили «Брууку»? – осведомился Бэзил. – Что? – Диван «Бруука». Когда мы открыли утром магазин, один из диванов был испачкан, э-э… субстанцией. – Дерьмом, – вставила Эми. Карл покраснел. – Слушайте, могу я переговорить с вами с глазу на глаз? – спросил Карл у Бэзила. – Как мужчина с мужчиной? Бэзил махнул своей команде рукой – мол, я разберусь. – Подождите, я скоро, – пообещал он, взял Карла под локоть и отвел его на несколько шагов по Яркому Сияющему Пути. – Дело в том, что я не слишком хорошо себя чувствую в последнее время, – объяснил Карл. – И я плохо помню, что случилось прошлой ночью. – Вы принимаете наркотики? – У меня болит голова, – удрученно сообщил Карл. – Я не говорил вам, что у меня эпилепсия? Иногда я отключаюсь, а когда включаюсь, то на мне земля или стекло в волосах. Посмотрите на мои руки. Он протянул ладони. Ногти были черными. – Когда я вчера ложился спать, ногти были чистые. – Вы совсем ничего не помните? – Я принимал таблетки по рецепту. Но теперь мне не на что покупать их. – Как давно вы лазите к нам? – Пожалуйста, не сердитесь. Для меня ваш магазин – просто место поспать. Да еще сходить в туалет. Я никогда ничего не крал. – Но вы же ломаете товар, – напомнил Бэзил. – Зеркала, занавески, посуду… – Никогда, клянусь вам! Я отношусь к этому месту как к дому. У вас лозунг «Дом для каждого». И мой тоже, да. – Это не ваш дом. Это деловое предприятие. – Но мне больше некуда идти. Я пробовал и «Лоуз», и «Икею», но у них намного лучше охрана. Можете вы хоть немного посочувствовать мне? Последнюю реплику он адресовал Эми, Руфь Энн, Мэтту и Тринити, собравшимся за спиной Бэзила. – Моя маленькая дочь осталась у жены, и я не могу навещать ее, если у меня нет крыши над головой кроме приюта для бездомных. Так что я приехал сюда на автобусе, подал заявку на работу, а когда обходил магазин, подумал, что это место куда лучше любого приюта. Ну, вот я вроде как и застрял тут. В кафе отличные цены. – Вы – жертва нашей экономики, – выдал Бэзил, давая Карлу повод оправдаться. – Ну да, конечно, можно сказать и так, – согласился тот. Эми увидела на лице Бэзила выражение задумчивое и возвышенное. Ага, наш помощник менеджера пытался всю ночь утвердить свой авторитет, и вот он, звездный час! Сейчас будет лекция о ценностях «Орска». – Боюсь, что решение не только за мной, – изрек Бэзил. – Здесь, в «Орске», мы – одна команда. А команда решает вместе. Это и есть способ мыслить «по-орски». – В самом деле? – произнесла Эми. – Мы можем позволить Карлу уйти отсюда либо вызовем полицию, – не обращая внимания на Эми, продолжил Бэзил. – Так или иначе, мы решаем и голосуем вместе. – Пожалуйста, не надо полиции! – взмолился Карл. – Я голосую первым, и я за полицию, – объявил Бэзил. – Я тоже, – подтвердил Мэтт. – Он мог ранить Тринити. – Я никого не ранил и не собирался, – запротестовал Карл. – Ну слушайте, отведите меня вниз, сфотографируйте, повесьте на вашей доске воришек, чтобы я не смог опять прийти сюда. Потом вышибите меня отсюда как собаку. Попасть отсюда в Кливленд посреди ночи – само по себе немалое наказание. Ночлежки будут закрыты. Но я пойду и уже никогда не вернусь. Люди добрые, пожалуйста, не отдавайте меня полиции. Если меня арестуют, моя жена получит новое оружие против меня в суде. Вы же знаете, какая сейчас война с отцами. – Я за то, чтобы отпустить. У бедняги и так достаточно бед в жизни, – сказала Руфь Энн. – Мэм, спасибо, – выдохнул Карл и протянул руку. – Я так рад встретить вас. Спасибо! – Да, – подала голос Тринити, наконец прекратившая рыдать. – Мне наплевать. Будь что будет. Отпустите его. Ничья. Два голоса против двух. Все посмотрели на Эми. Как и Руфь Энн, она не видела смысла наказывать человека. Его поймали, выкидывают в ночь, и всему отыскалось рациональное объяснение. Может, теперь Бэзил отменит дальнейшие поиски и распустит всех по домам? – Нам следует отпустить его, – решила она. – Ради чего нам вызывать полицию? Он не хочет спать в своей машине? Ну и что? И я не хочу спать в своей машине. – У меня нет машины, – уточнил Карл. – Он всего лишь кое-что поломал, – игнорируя его слова, продолжила Эми. – Но поломанное ведь даже не наше личное. А «Орску» вполне по карману возместить поломки. В общем, мы поймали виновника беспорядков в магазине. Давайте закончим на этом и разойдемся по домам. Хватит уже. – Ладно, – раздраженно согласился Бэзил. – Я выиграл? – спросил Карл. – Выиграл, – подтвердила Тринити. – Да! – вскричал Карл. – Спасибо! Он кинулся к Тринити, заключил ее в крепкие объятия, поднял. Настроение команды радикально изменилось. Может быть, просто после напряжения и страха пришло облегчение – всех, кроме Бэзила, охватила эйфорическая пьяная радость. – Но есть одна маленькая проблема, – сказала Руфь Энн. – Эми уже вызвала полицию. – Зачем? Я же буквально сказал не делать именно этого, – сказал Бэзил. – Я испугалась, – призналась Эми. – Так отзовите их, – посоветовал Карл. – Скажите не приезжать. – Не сработает, – покачав головой, сообщила Руфь Энн. – Про это все время показывают в «Полицейских». Если их уж вызвали, они обязательно явятся. – Простите, – промямлила Эми. Бэзил раздраженно посмотрел на нее. – Хорошо, я разберусь. Делаем вот что: я иду вниз, к входу, стою снаружи и дожидаюсь полицейских, говорю о ложной тревоге и исполняю все необходимые формальности. Как только они уедут, мы выдворяем Карла. Вам подходит такой план? – Как скажете, – с готовностью согласился Карл и затряс руку Бэзила. – Я всем вам обязан. Спасибо за то, что вы такие хорошие люди. Спасибо! Бэзил с трудом выдернул руку и объявил: – Пока я не вернусь, всем оставаться здесь! – И еще раз спасибо! – провозгласил Карл. – Хватит уже, – посоветовал Бэзил и отправился к входу. Карл пошел трясти всем руки, представляться и узнавать имена. – Я очень благодарен за ваш голос, – сказал он Эми. – Вы сделали для меня сегодня хорошее дело. Вы – добрые люди. Я этого не забуду. – Э-э, спасибо? – смущенно промямлила Эми. Повисла неловкая тишина. Столовые – не лучшее место для убийства времени. Все натянуто заулыбались, мол, а что поделать? – Может, кто-нибудь захватил карты? – с улыбкой осведомилась Руфь Энн. – Эх, вся ночь насмарку, – пожаловалась Тринити. В кармане Эми тихонько заиграло и тут же оборвалось. Она вытащила телефон, нажала «принять». – Да, слушаю. – Это диспетчер отдела полиции Брексвилля. Вы звонили 911? – Да, но… – Ваш адрес 7414 Ривер Парк Драйв? – Да, но нам не нужно… – Как туда доехать? – Это зависит от того, с какой стороны подъезжать. Вы разве не знаете? Нужно выехать из Кайахоги, и от любого выезда к нам идет подъездная дорога. Но с автострады съездов нет. – Значит, им нужно выехать на проезд к вам? – Ну да, – подтвердила Эми. – Я им сообщу. Если у нас возникнут проблемы, до вас можно дозвониться по этому номеру? – Конечно, хотя у меня в батарее осталось мало заряда. Кроме того, вам и приезжать не нужно… Диспетчер отключился. – Плохие новости: копы все-таки едут, – объявила Эми. – Хорошие новости: они заблудились. – Да, ночь получается длинной, – заметила Руфь Энн и спросила у Мэтта: – Как,нашли призраков? – Если не считать Карла, то нет, – призналась Тринити. Мэтт тяжело опустился в кресло «Скопперлойт». – Сегодня у нас сплошь обещания и ничего существенного, – заметил он. – Без кульминации у нас будет одно нагнетание – и никакой развязки. Карл заметил его видеокамеру. – Эй, ребята, вы что, охотники за привидениями, как по A&E? – И с чего все на свете говорят именно про A&E? – разозлился Мэтт. – Что, нет других каналов? – Они хотят на «Браво», – объяснила Эми. – Но духи бывают только в жилых домах, – возразил Карл. – Это известно всем. – Так это и есть жилой дом со спальнями, ванными, кухнями и столовыми, – сказал Мэтт. – Если дом со всем таким можно назвать жилым, то да, «Орск» – жилой дом. «Дом для всех». Люди приходят сюда, просто чтобы болтаться весь день, скушать клецки, оставить детей на игровой площадке, поглазеть, попить кофе. Да вы и сами сказали: это место было вашим домом. – Хм, ну, если по-вашему, то да, точно дом, – согласился Карл. – Когда все уходят, тут жутковато. Атмосфера такая – хоть проводи спиритический сеанс. Он рассмеялся себе под нос, но умолк, когда заметил, как Тринити смотрит на него. Ему сделалось неловко, он поежился. Тринити сверлила его взглядом. – И что я такого сказал? Я не смеялся над вами, ничего такого. Честно. – Вы – гений! – объявила она. – Вы. Настоящий. Гений! – В самом деле? – Мэтт! Аппаратуру! У нас будет сеанс! – Зрители обожают спиритические сеансы, – оживился Мэтт. – И в кадре такое отлично смотрится. – Мы возьмем свечи из Домашнего Декора, – распорядилась Тринити. – Стол – «Франжк», вон тот, с черным покрытием. Оно выглядит будто капот катафалка. – Нужно поторопиться, успеть, прежде чем вернется Бэзил, – заметил Мэтт. – Да вряд ли он скоро вернется, – заверила Эми. – Но у нас еще есть большая проблема. Разве здесь не слишком светло для сеанса? Мэтт посмотрел на часы, и в этот момент все шестьсот восемьдесят осветительных ламп «Орска» одновременно щелкнули и отключились. На Демонстрационный зал опустился сумрак. Из укромных мест выскочили тысячи теней, мебель показалась странной, непомерно огромной, какой не должна быть. Руфь Энн тихонько вскрикнула. – Автоматика. Каждую ночь в два, – сообщил Мэтт. – Идеальное совпадение, – ухмыльнувшись команде, объявила Тринити. – Итак, кто участвует?
Глава 8. Франжк
Обед – это не только стол или стулья. Наши обеды – это разговоры, друзья, воспоминания, которые сверкнут сегодня и останутся навсегда. «Франжк» – это рама, а картина в ней – Ваша жизнь. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: НОЧНАЯ БЕРЕЗА, БОБРОВЫЙ ДУБ Д 92¾ × Ш 32¼ × В 34¼ НОМЕР ТОВАРА 6666434881После того как Руфь Энн убедили в том, что сеанс никоим образом не связан с сатанизмом, пришлось убеждать в этом и Эми. – Я не хочу держаться за руки, – объявила она. – Доверься мне, – посоветовал Мэтт. – Я знаю, как можно замкнуть круг, не держась за руки. Финальным испытанием стало уговорить Карла. Он не хотел участвовать. Но Мэтт объяснил, что трое выглядят слишком несолидно, а четверо слишком симметрично для съемок. – Лучше всего смотрятся спиритические сеансы с пятью участниками. В общем, либо нас будет пятеро, либо не стоит и начинать. – Как-то оно кажется жутковатым, – пожаловался Карл. – Ну, наверное, невежливо отказываться… Все согласились, возвращение Бэзила уже не за горами, а потому Мэтт с Тринити заметались по залу, как гиперактивные щенята. Оставшегося освещения хватало, чтобы не потеряться и всё найти. Мэтт притащил пару сумок с приборами, установил треноги и камеры на них. Тринити галопом помчалась на Торговый этаж и вернулась с упаковкой ванильных церковных свечей, которые расставила по столовой. Когда она закончила, обстановка была как в киношной романтической сцене. – Не могу поверить, что делаю это, – подумала вслух Эми. – Поверь, – сказал Мэтт. Он разместил камеры неровным полукругом у «Франжка», шлепнул посередине стола потенциометр. – Аудитории «Призрак-бомбы» это безумно понравится! – сказала Тринити. – Но ведь на спиритических сеансах настоящих духов не вызывают. Или вызывают? – усомнилась Руфь Энн. – Конечно вызывают! – воскликнула Тринити. – Нет, не вызывают, – ответила Эми. – Так или иначе, ролик получится отличный, – заметил Мэтт. Закончив с декорациями, Тринити показала всем их места. Во главе стола сел Карл, слева от него Тринити, справа – Руфь Энн, Мэтт устроился рядом с Тринити, напротив него примостилась Эми. – А теперь, как я и говорил, мы не будем держаться за руки и нарушать санитарию, – копаясь в сумке, объявил Мэтт. Он торжественно вытащил и предъявил всем свое средство гигиены. – Мэтт, ни за что. Нет, и всё, – прошептала Руфь Энн. – Ты шутишь? – осведомилась у него Эми. Как фокусник, расправляющий колоду карт, Мэтт разложил на столе пять пар серебристых наручников и зловеще ухмыльнулся. – Зато никто не сможет разомкнуть круг, – объяснила Тринити, – и шуршать под столом, изображая паранормальную активность. – И на видео это будет смотреться ну просто изумительно, – добавил Мэтт. – Ваш дом, ваши правила, – пожав плечам, резюмировал Карл и взял наручники. Он нацепил браслет на левую руку, и дужка вошла в замок с громким щелк-щелк-щелк-ЩЕЛК! – Ты крутой! – сказала Тринити. – Я хочу видеть ключ, – заупрямилась Эми. – Прямо здесь, – сказал Мэтт и похлопал по карману своего худи. – Я хочу проверить. Мэтт вынул ключ, положил на стол и толкнул к Эми. Та открыла наручники. Работает. То есть не придется сидеть в «Орске» прикованными друг к другу до конца ночи. Она потянулась и положила ключ на середину стола. – Он будет здесь. Я не хочу, чтобы у нас тут случилась сцена как из тупого ситкома, когда вдруг оказывается, что никто не может отыскать ключ от наручников. – Бэзил убьет нас, – сказала Эми, но щелк-щелк-щелкнула дужкой на левом запястье и протянула другой браслет Руфь Энн. – В последний раз я носила наручники в 1988 году, – сообщила Руфь Энн. – На весенних каникулах в Миртл Бич, Каролина. – Расскажите, расскажите! – защебетала Тринити. – Наша компания схлестнулась с парой «Ангелов ада». Мы проиграли, но я успела кое-кого хорошенько приложить. Когда нас наконец к следующему вечеру выпустили из кутузки, «ангелы» проставили нам ящик пива, и мы гуляли на пляже до утра. – Вы – невероятная женщина, – заметил Карл. – Ты записал это? – спросила Тринити у Мэтта. Руфь Энн покраснела, в очередной раз помазалась «Блистексом» и застегнула браслет на правом запястье, приковав себя к Эми. – Ну точно как в старые добрые времена. Мэтт с Тринити возились с аппаратурой, проверяли, хорошо ли нацелены камеры, и зажигали свечи. Наконец Тринити уселась и приковала себя к Карлу, Мэтт зашмыгал между камерами, включая запись, и скользнул в кресло рядом с Тринити. – Финальный трюк, – объявил он, взял протянутый браслет Эми и защелкнул на левом запястье. Он сидел напротив нее, им пришлось протянуть руки над столом. Затем Мэтт установил другой наручник на столе, сунул в него правую руку и защелкнул дужку, придавив ее подбородком. – Вуаля! Круг замкнулся. Тринити подняла руки и звякнула цепью. – Мы все под замком. Всем удобно? – Я хочу в туалет, – сообщила Эми. – Заткнись, – посоветовал Мэтт. – Вы уверены, что это не сатанизм? – осведомилась Руфь Энн. – Это не связано ни с какой религией или сектой, – отрезала Тринити. – Это так, понарошку, – заверил Мэтт. – Как доска с алфавитом для спиритических сеансов, знаете? – А сейчас мы сидим тихо, пока я прошу духов поговорить с нами, хорошо? – не обращая внимания на Мэтта, сказала Тринити. – Как просить, я не знаю. Я раньше не занималась подобным. Давайте минуту помолчим. Воцарилась тишина. Только браслеты иногда царапали стол да звякали цепочки – все устраивались поудобней. Эми захотелось почесать правый бок, но наручники мешали. Постепенно звуки прекратились, все начали прислушиваться к пространству огромного магазина. У кого-то заурчало в желудке, и Эми чуть не расхохоталась. Она увидела, что Тринити тоже едва сдерживается, и не выдержала – засмеялась. – Простите, это у меня, – сознался Карл. – Этому духу нужна фрикаделька, – сказала Эми. Тринити сорвалась, захихикала. – Ш-ш! – зашипел Мэтт. – У нас мало времени на запись. Все утихли. На этот раз тишина продержалась пятнадцать секунд. Затем послышался замогильный стон. – О-о-о-о… Руфь Энн закрыла глаза и застонала. – О-о-о… я хочу… о-о… говорить… о-о… с вашим менеджером… Все заржали – за исключением Тринити. – Бросьте. Давайте серьезней, – сурово призвала она. – С минуты на минуту вернется Бэзил. – Ладно-ладно, – согласилась Руфь Энн. – Я прошу прощения. Буду паинькой. Еще немного хихиканья, стонов, странных шумов, но в конце концов компания успокоилась. Тринити закрыла глаза, за ней Руфь Энн с Карлом. Эми осмотрелась. Свечи мерцали в сумраке, тени от них дрожали на плакатах «Орска». «Наш дом навечно», – гласил один. «Место для любого и навсегда», – обещал другой. Мэтт заметил, куда она глядит, и Эми, почему-то смутившись, отвернулась. Как будто ее поймали на молитве с открытыми глазами в День благодарения. От невыносимо сильного аромата свечей разболелась голова. Вокруг них простиралась громада магазина, тишина давила, будто толща воды на океанском дне. – Духи? – позвала Тринити. Ее голос расколол тишину. Эми вздрогнула. – Духи, вы здесь? Слышите меня? Руфь Энн ласково, успокаивающе погладила руку Эми. – Духи! Вы здесь этой ночью? Если вы слышите меня, дайте знак. Ни звука в ответ. Ни шороха. Эми помимо воли напряженно вслушивалась, будто всерьез ожидает ответа. Все вслушивались. Липкая вонь синтетической ванили, казалось, выдавила весь кислород. – Духи, мы пришли с миром. Позвольте нам пообщаться с вами, скажите, что вам нужно. Мы знаем, что вы так давно были несправедливо заключены здесь, и мы хотим, чтобы вы знали: мы готовы услышать вашу историю. Раньше вам запрещали говорить, но теперь вы свободны. Говорите, духи. Говорите. За все время, что Эми знала Тринити, та никогда не вела себя настолько серьезно и искренне. Тринити и в самом деле верила. И вот тогда Эми поняла, что сеанс может стать по-настоящему опасным. Кто знает, чему сейчас открывают дверь сидящие за столом? Но то, что началось, – уже началось, и должно идти своим чередом. Оставалось только слушать. Эми закрыла глаза и вслушалась в жужжание камер. Их объективы автоматически снимали ближние и дальние планы, двигались, линзы автоматически подгонялись к ситуации. Эми попыталась отстраниться от шума камер, но услышала басовитый гул вентиляции, постаралась отстраниться и от него. Дальше – неестественно огромная пустота магазина, урчание труб в стенах, потрескивание, пощелкивание – громада медленно оседала, остывала, устраивалась в ночи. Эми даже показалось, что она слышит хруст песка под кедами Бэзила, расхаживающего по паркингу в ожидании полиции. И вдруг – новый шум, гораздо ближе. Мокрый, мягкий, шлепающий. Кто-то тяжело дышит. Звук с другой стороны стола. Эми сосредоточилась до предела, но ей не сразу удалось очнуться и, наконец, открыть глаза. Тринити. В мягком свете свечей Эми видела, как движутся рывками ее глазные яблоки под опущенными веками. Рот раскрыт, кулаки стиснуты, запястья вжались в браслеты наручников, из носа течет. Тонкая струйка слизи опустилась на верхнюю губу, потекла ниже, и, вдохнув, Тринити всосала ее в рот. В голове Эми завертелась дюжина колкостей, но она промолчала. Слизь текла и текла, ее становилось все больше, она стекала через верхнюю губу Тринити и капала ей в рот. Омерзительно. Эми глянула на Мэтта, но тот сидел с закрытыми глазами. Все сидели с закрытыми глазами. Эми поерзала на стуле. Может, кому-нибудь стоило бы заговорить? Разбудить Тринити? Вряд ли она захочет видеть такую гадость в своей «Призрак-бомбе». Наконец рот Тринити заполнился, слизь пролилась, свесилась тонкой струйкой, прицепившейся к нижней губе. Струйка растянулась, задрожала, плавно закачалась. Наконец, ее кончик дотянулся до футболки Тринити и прилепился к ней. Эми не выдержала. – Эй, – прошептала она. Тринити вдруг хлюпнула, открыла глаза и попыталась сглотнуть слизь. Горло задрожало – Тринити давилась вязкой клееобразной массой, глотала и вздрагивала, сотрясалась, не в силах проглотить жижу, потянулась к шее, но скованные наручниками руки не доставали. – Мэтт! – позвала Эми. – Всё в порядке, я здесь. – Что случилось? Руфь Энн открыла глаза. – Она же давится. Снимите наручники! – Всё в порядке, – повторил Мэтт. – Трин, просто выплюнь. Не глотай. Горло Тринити дернулось в последний раз, и Эми увидела невозможное: Тринити будто рвало под водой. Перед ее лицом повисла густая молочно-белая жидкость, немыслимое, застывшее в воздухе облако. От него медленно отделялись вязкие белые отростки-щупальца. – Сними наручники!!! – крикнула Эми, но то ли Мэтт не расслышал, то ли оцепенел от изумления. Изо рта Тринити лилось все больше жижи, облако густело, от его волнистой поверхности отражалось сияние свечей, усиливая дрожь. Студенистая масса казалась живой. Из Тринити вырывалось все больше жижи, судорожные движения облака вдруг обрели смысл, ответвляющиеся щупальца коснулись лица девушки, уцепились за уши, за волосы, приклеились к щекам, подтягивались, обматывались вокруг, скрыли лицо за шевелением молочных желваков. Все облако подтянулось, легло на темя Тринити, обволокло ее выше плеч, скрыло, голова превратилась в бесформенный белый клубок. Он ритмично подрагивал, будто дышал за Тринити. Ее грудь вздымалась, сокращалась диафрагма, стискивались мышцы живота. Тринити выблевывала все новые порции жижи, белый клубок плотнел, бугрился. Где-то глубоко внутри себя Эми поняла: вокруг повисла вонь, та самая, как от «Брууки» и уборной, застоялый, затхлый запах, как от гнилого сыра или гниющих нечистот. Только Карл не видел эктоплазму. Он по-прежнему сидел с закрытыми глазами и тяжело сопел носом. Лицо покраснело, на шее вздулись жилы. Воротник поло почернел от пота. Длинная ложноножка молочно-белой жижи протянулась через стол, потрогала воздух вокруг Карла. Тот открыл глаза как раз перед тем, как жижа нежно обняла его лицо и закатилась в ноздри. К горлу Эми подкатила тошнота, но она не могла ни двигаться, ни говорить. Как парализованная, она наблюдала за этим омерзительным слиянием. Жижа протянулась от рта Тринити к носу Карла, колеблясь над столом, будто плывущая под водой ткань. – Эй… эй, – забормотал Карл. От голоса эктоплазма затрепетала. Затем оторвалась ото рта Тринити и, юркая как угорь, скользнула в ноздри Карла. Жижа исчезла так же внезапно, как появилась – и будто рассеялось заклятие, парализовавшее всех. – Окей, – произнесла Эми, пробуя вновь слушающийся голос. – Окей, окей. – А он… – прошептала Руфь Энн и осеклась. – Больно!.. Я уже забыл, как больно, – громко произнес Карл. Голос стал другим: глубже, сильней. Он вовсе не походил на голос прежнего Карла. Пальцы судорожно стискивались в кулаки, распрямлялись – будто на столе бились в агонии умирающие крабы. Несколько минут он молчал, тишина казалась невыносимой, а когда Карл заговорил, он стал гораздо спокойнее. – Простите меня, – прошептал он, – но почему же всегда так больно? Голова Тринити запрокинулась назад, будто на сломанной шее, глаза закрылись. Она еще оставалась в трансе. – Кто ты, дух? – прохрипела она. Карл посмотрел на наручники. Вся его неуверенность, доброта, слабость исчезли без следа. – Вы ограничили мою свободу? Как ложно и неправильно! Вы ущербны духом сильнее, чем я полагал. – Кто ты? – снова спросила Тринити. – Я ваш страж, ваш целитель. Я – ваша Полярная звезда, источник вашего здоровья и благополучия. Вы научитесь любить меня, как все кающиеся в моем Улье. По хребту Эми прокатилась капля холодного пота. Она подумала о граффити в туалете…

– Его назвали Ульем, потому что он был наполнен непрестанным трудом, – произнес Карл, и его мокрое от пота лицо засияло воодушевлением. – Мои партнеры разбогатели трудами кающихся, но я истинно заботился о них. Я предписывал им работу, очищающую их души. – Хватит, – объявил Мэтт и потянулся за ключом, волоча за собой вялую руку Тринити. Но в суматохе ключ исчез со стола. – О печальный юный любовник, преследующий то, чего никогда не получит, – возвестил Карл. – Мой мальчик, боюсь, для тебя исцеление окажется трудным. – Что за хрень ты несешь? – буркнул Мэтт. – У меня ты будешь крутить рычаг, – предсказал Карл. – Это приглушит твою романтическую глупость. Тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре… – Где ключ? – вертя головой, воскликнул Мэтт. – Десять тысяч поворотов рычага каждый день, – продолжил Карл. – Десять тысяч сегодня, десять тысяч завтра, десять тысяч послезавтра. И никакого выхода наружу, пока не исцелитесь, ибо двери Улья открываются лишь в одну сторону. – Он оторвал взгляд от Мэтта, посмотрел на остальных: – Каждый из вас, наверное, думает, что попал сюда случайно. Нет. Я долго наблюдал за вами, отбирал самых больных в ваших рядах и подталкивал руку судьбы, чтобы она привела вас ко мне. Должно быть, провидение улыбнулось мне. Все вы здесь. Эми хотелось сказать что-нибудь вроде «да пофигу», да вообще что угодно, лишь бы прервать, перебить, огорошить эту самодовольную наглость, показать, что с ней нельзя говорить таким тоном. Но почему-то она ощущала себя пустой, плоской и бессильной. – А вот наша старая дева, – глядя на Руфь Энн, продолжил Карл. – Все еще боится Жутких Ползюков. У нее все еще разум младенца. Боюсь, ее излечение будет довольно болезненным. Но боль – верный знак эффективности. Руфь Энн отпрянула, вжалась в спинку стула, а Карл уставился на Тринити. – Эту нужно отвратить от пути обольщения. У нас есть лечение, включающее сокрушение тела непрестанным верчением бегового колеса. Оно весьма результативно для падших женщин. Затем он посмотрел на Эми. Та потупилась, не желая заглядывать ему в глаза. Она не хотела, чтобы он ее видел, корчилась, будто насекомое на игле. А его глаза безжалостно раздевали ее, обдирали кожу, раскрывали естество, обнажали нутро на столе вивисектора. – А вот ваше излечение я предвкушаю более всего. Я преподнесу вам разновидность моего успокаивающего кресла, и оно приведет к реализации истинных устремлений вашей натуры. Ибо, видите ли, здесь не место кары. Здесь – мануфактура, и ее предназначение – производить здоровый разум. И начать излечение крайне просто. Я научился этому у сербских племен. Церкви строятся на местах мученичества святых. Перед строительством моста в основание замуровывается дитя. Все великие труды должны начаться с жертвоприношения. С тем Карл и встал. Руфь Энн подскочила, ожидая, что он потянет за собой ее левую руку – но с обеих запястий Карла свисали разомкнутые наручники. Он как-то сумел незаметно для всех отсоединиться от нее и Тринити. – Отдай мне ключ, – выпалил Мэтт, отчаянно пытающийся казаться храбрым. – Мой кнут рассечет ваши звериные шкуры, погонит вас на работу, ибо работа суть лечение морали, необходимое для исправления деградировавшего разума, – сурово предупредил Карл, и его голос раскатился громом по Демонстрационному залу. То был голос проповедника, голос из прошлого, из эпохи до микрофонов, голос, предназначенный для соборов, изобличавший ведьм и порицавший грешных. Он пел на латыни в то время, когда горели на костре женщины и тяжкие камни сминали мужчин. – А теперь давайте принесем жертву, нужную, чтобы начался великий труд. Используем же подручный материал, чтобы распахнуть врата и открыть дверь. Идите же на мою мануфактуру, – объявил он, облизнув бледные губы бесцветным языком. – Идите же, и пусть тяжкий труд излечит слабость ваших умов. Карл взялся за разомкнутый браслет на левом запястье и, держа дужку, будто серп, прижал острый конец к шее. Сперва казалось, что он всего лишь почесывается, но Карл вогнал зазубренное острие себе в горло. Руфь Энн завизжала. Эми не могла отвести глаз. Карл все глубже продавливал железо внутрь, зацепил за трахею – и дернул за цепь. Раздался мокрый хруст и хлынула черная кровь. Мэтт отступил на шаг, опрокинул на пол стул; за ним потянулось вялое тело Тринити. Она шлепнулась на пол и, будто в нелепой черной комедии, увлекла за собой Мэтта. Оттого Эми сдернуло с места, она ударилась животом об угол стола и глухо вскрикнула. Покатились ванильные свечи, оставляя дорожки из жидкого белого воска. Руфь Энн успела вскочить, но по-прежнему была прикована к Эми, потому ее дернуло назад, и она повалила треножник с камерой. Карл закачался, у него из горла толчками выплескивалась кровь. Затем он медленно опустился на стул, лицо – застывшая маска, рот расслабленно раскрыт. – Он умер? – спросил Мэтт. – Убил себя? Мы и вправду только что видели, как парень убил себя? – Эми, не тяни, – попросила Руфь Энн. Она вскарабкалась на стол, распихивая свечи. – Что? – спросила Эми. – Не шевелись. Руфь Энн склонилась над Карлом, залезла в нагрудный карман его поло, вытащила ключ и отомкнула наручник на правой кисти. Затем Руфь Энн стянула блузку, слезла на пол, одну руку приложила к затылку Карла, а второй прижала одежду к зияющей ране на горле. Ткань тут же промокла насквозь. – Помоги мне, – приказала она Эми и кинула ей ключ. – Подними ему ноги. Эми поковырялась ключом в замке и освободилась. Одним взмахом руки Руфь Энн очистила стол. Об пол застучала россыпь свечей и потенциометр. Вдвоем они взгромоздили Карла на «Франжк». Руфь Энн пыталась блузкой удержать на месте края раны, схватила запястье Карла, проверила пульс. – Дерьмо, – прошипела она и выпустила руку. Эми никогда раньше не слыхала, чтобы Руфь Энн сквернословила, и это могло означать лишь одно. – Нам не следовало этого делать, – пролепетала Эми. – Я знала, что это плохая идея. Руфь Энн оторвала пропитанную кровью блузку от горла, расправила, накрыла лицо Карла. Эми разомкнула наручники у остальных, Мэтт помог Тринити подняться на ноги. Ту по-прежнему качало, ему пришлось поддерживать ее. – Что случилось? – хрипло прошептала она. – Не понимаю. Карл ранен? – Что за чертовщина тут происходит? – осведомился Бэзил. Он стоял посреди Яркого Сияющего Пути с раскрытым от изумления и ужаса ртом – будто видел худший в жизни кошмар. Воск упавших ванильных свечей щедро обрызгал стены, на полу валялись опрокинутые камеры, наручники. Руфь Энн в одном лифчике, повсюду кровь, а на обеденном столе «Франжк» лежал покойник. – Кто-нибудь, ответьте! – закричал Бэзил. – Кто сделал это с ним? – Он сам, – ответил Мэтт. – Он свихнулся и самоубился. – Но это был не Карл, а кто-то другой, – поправила Эми. – Он объявил себя нашим стражем, а это место своей мануфактурой. Тринити уставилась на нее в благоговейном ужасе. – Так сеанс оказался успешным? – Люди, о чем вы? – взмолился Бэзил. – Нужно вызвать полицию, – определила Эми. – Позвонить им и сказать, чтобы возвращались. – Они так и не приехали, – раздраженно произнес Бэзил. – Я пришел справиться, звонили ли они вам. – Я пыталась спасти его. Я правда пыталась, – сказала Руфь Энн. – Идите и умойтесь, – велел Бэзил. – В комнате отдыха есть футболки. Возьмите с собой Тринити. Я не хочу, чтобы вы ходили в одиночку. Когда приедет полиция, я зайду за вами. – Мы обнаружили духа, – сообщила Тринити. – Замолчите и идите в комнату отдыха, – велел Бэзил. – Глазам своим не могу поверить! На «Франжке» – труп! А комиссия будет здесь… Он посмотрел на часы. – …Через пять часов. У нас есть всего лишь пять часов, чтобы все вычистить и привести в порядок. Сущий кошмар! Тринити с Руфь Энн ушли по Яркому Сияющему Пути. – Тут никто не виноват, – попыталась объяснить Эми. – У нас был спиритический сеанс, и… – Спиритический сеанс? – изумился Бэзил. – Господи боже… – Правда, – подтвердил Мэтт. – И у Карла вдруг случилась одержимость или вроде того… – Замолчите, вы, оба! Немедленно! Он решительно прошел мимо них к «Франжку». Лицо Карла так и осталось под блузкой. Бэзил попытался приподнять ткань. Кровь уже подсохла, ткань отдиралась с треском. Эми раньше лишь дважды видела трупы. Первый – ее дяди, который, как говорили, спокойно умер во сне. Второй – соседа по трейлерному парку, тот скончался от передозировки. Карл выглядел гораздо хуже и того, и другого. Глаза выпучились, как вареные яйца, рот перекошен от гримасы боли, а на горло страшно и посмотреть. Эми ощутила, как обмяк Бэзил, растерянный и подавленный. – Нам следует… – начала она. – Не сейчас, – устало произнес он. – Дайте мне еще минуту, тогда говорите. Рука Карла метнулась вверх, стиснула запястье Эми. Та закричала. Его глаза повернулись в орбитах, уставились на нее, гримаса сменилась холодной презрительной усмешкой. Когда он заговорил, голос, казалось, полз из раны в шее. – Двери открыты. Издали донесся щелчок, и у Эми потемнело в глазах. Погасло все: подсветка, знаки выхода, индикаторы питания. Буквально все. В Демонстрационном зале не было окон и световых люков. Без электричества там стало черней ночи. Эми почувствовала себя слепой, оторванной от всех, потерянной во тьме. Она отшатнулась и вдруг поняла, что Карл выпустил ее руку. – Аварийное освещение, – произнес бестелесный голос. Эми узнала его. Бэзил. Где-то слева. – Никто не может отключить аварийное освещение, – продолжил он. – Это невозможно. Несмотря на огромное пространство зала, Эми ощущала, как надвигаются, давят стены и потолок. Кровь тяжело застучала в висках, судорожными толчками пошла по венам. Ужас. Но испугал ее не кромешный мрак – а тишина. Обычно Эми всегда слышала далекий рев вентиляционной системы, гонящей воздух по милям воздуховодов, но теперь смолкло все. Тьма пожирала каждый звук, глушила его, убивала. Воздух стал теплым и неожиданно неподвижным. – Используйте телефоны, – посоветовал Мэтт. В темноте расцвел зловещий голубой цветок – Мэтт включил айфон и поставил экран на максимальную яркость. Эми включила свою «раскладушку» и обнаружила, что у батареи осталась одна полоска. Она направила свет на Мэтта. Тот сидел на корточках у сумки и копался внутри. – Он должен быть где-то здесь, – сказал он. – Аварийное освещение не отключается никогда, даже при землетрясении, – повторил Бэзил. «Тут дела похуже землетрясения, – подумала Эми. – Такого инженеры „Орска“ в принципе не могли предвидеть». – Вот! – объявил Мэтт и включил фонарь, высветив обеденный стол. И вот тогда они обнаружили, что остались одни в темноте. Стол был пуст. Брызги крови, воска – и все. – Что за чертовщина? – сказал Мэтт. – О, слава богу, – вздохнул Бэзил. – Он всего лишь ранен. – Невозможно, – отрезала Эми. – Вы не видели того, что видели мы.
Глава 9. Мезонксик
Вам нужен гардероб, работающий на Вас, а не наоборот. Наша система «Мезонксик» – основа Вашего дня, созидающая порядок из хаоса. Позвольте ему заняться Вашей одеждой, пока Вы занимаетесь собой. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: СНЕГ, СРЕДНЯЯ БЕРЕЗА, НОЧНОЙ ДУБ Размер зависит от выбранной конфигурации Если у Вас есть вопросы – просто спОРСКите!Бэзил выхватил у Мэтта фонарь и повел лучом по Демонстрационному залу, потыкал в мебель, образцы интерьеров. Тени шарахались от внезапного света. – Карл! Вы меня слышите? – Это безумие, – сказала Эми Мэтту. – Ты же видел, что случилось. Надо уходить отсюда. Будь у нее хоть толика мужества, Эми пошла бы сама. Но уж больно кромешная и плотная чернота стояла вокруг. А жалкий телефон слишком слаб и не осветит путь. Эми никогда не боялась темноты, призраков и серийных убийц, но теперь казалась себе крохотной и уязвимой, окруженной чем-то голодным, нетерпеливым. В голове отдавались слова Руфь Энн о Жутких Ползюках, которые обитают в густых тенях и подбираются все ближе и ближе. – Эми права. Нужно идти, – согласился Мэтт. – С раненым, который запачкает кровью весь Демонстрационный зал? Невозможно, – отрезал Бэзил. – Он распорол себе горло и убил себя, – сказал Мэтт. – Если бы он умер, то остался бы на столе, – справедливо заметил Бэзил, шагнул вперед и нацелил фонарь на Спальни. – Карл? – Пожалуйста, давайте уйдем отсюда, – взмолилась Эми. – Безопасней идти вместе… – Я должен забрать Тринити, – сказал Мэтт. – Я не могу оставить ее здесь. – Отлично. Мы пройдем мимо комнаты отдыха, заберем Тринити с Руфь Энн, а потом уйдем все вместе. – Карл! Вы в порядке? – с облегчением выкрикнул Бэзил. Эми посмотрела, куда указывал свет фонаря: за Яркий Сияющий Путь, в спальню «Сильвиан» – пурпурную с белой каймой, из-за этого она походила на гостевую спальню пожилой леди. Эми всегда представляла, что там должно пахнуть лавандой. В дальнем левом углу была дверь, ведущая в небольшой зал с демонстрационным комплектом полок и ящиков «Мезонксик». Там стоял Карл. – Вы очень нас напугали, – сказал Бэзил. Эми видела рану на горле. Кровь казалась черной в свете фонаря. Один выпученный глаз закатился, виднелся только белок. Второй уставился вверх и налево. На лице Карла застыла ухмылка. Он стоял неподвижно, будто окаменев. А затем поднял руку и жестом подозвал их. – Ох, дерьмо, – выдохнула Эми. – Уходим, – решил Мэтт. Карл скользнул в дверь, скрылся из виду. Бэзил направился за ним – вместе с фонарем. Мэтт схватил шефа за руку. – Эми права. Это безумие. Давайте оставим такие дела профессионалам. – Я и есть профессионал, – возразил Бэзил. – И потому делаю то, что и должно профессионалу. Нельзя просто уйти от беды, надеясь, что кто-нибудь исправит и приберет. Он пошел за Карлом, Мэтт с Эми следом. Конечно, разве можно оставаться в кромешной темноте? Они вошли в спальню «Сильвиан», под ногами захрустел кленовый паркет. Чем ближе к концу спальни, тем сильней затхлость, тем тяжелей дышать. Они свернули за угол, в комнату – скорей, обрывок коридора, – где выставлялся предназначенный для оборудования чуланов и закутков «Мезонксик» – система полок, отсеков, выдвижных ящиков и штанг для плечиков, призванная оптимально организовать хранилище в самом маленьком пространстве. Три демонстрационные белые рубашки на плечиках покачивались на холодном сквозняке. В конце узкого пурпурного коридора стояла поддельная деревянная дверь, похожая на ту, что Эми недавно показывала Руфь Энн. Дешевая фальшивка, вделанная в глухую стену для отвода глаз. Но дверь была приоткрыта. – Меня сейчас стошнит, – предупредила Эми. – Не на экспозицию, – всполошился Бэзил. – Она не открывается, – сказала Эми. – Эта дверь не должна открываться. В принципе. Бэзил потянул за ручку, и дверь распахнулась. За ней тянулся длинный мрачный коридор. Пока Бэзил не открыл дверь до конца, Эми еще могла убедить себя в том, что это просто мираж, странная тень, морок, порожденный штуками с электромагнитным полем, про которые говорил Мэтт. Но сомнения исчезли. Никаких миражей. Этого коридора не должно здесь быть. Он невозможен. А если открывается эта дверь, как с остальными фальшивками? А как насчет фальшивых окон? Если пройти по магазину и поднять жалюзи, что откроется? Холодный, смердящий болотной гнилью ветер взъерошил волосы Эми. Ей показалось, что она стоит перед холодильником, полным протухшей еды. Демонстрационные рубашки дико скакали на плечиках. Снова вонь «Брууки», туалета, спиритического сеанса. – Это галлюцинация, – отчаянно пытаясь поверить в собственные слова, произнесла Эми. – Попытаетесь пройти сквозь дверь – сломаете себе нос. Свет фонаря осветил несколько футов коридора. На белых оштукатуренных стенах – желтые пятна от воды. Грязный пол из необработанного бетона. Через двадцать футов – резкий поворот направо. – Вы слышали это? – спросил Бэзил. Все трое вслушались. – Я ничего не слышал, – заметил Мэтт. – Это Карл. Он там, – определил Бэзил. Затем он шагнул за порог, и сумрак сомкнулся за ним. Мэтт двинулся следом – но Эми схватила его за руку. – Не надо. – У него фонарь, – напомнил Мэтт. – Мы не отыщем пути наружу в темноте. – Но это не путь наружу. Это путь внутрь. Все это неправильно. – Нужно держаться вместе, – решил Мэтт и стряхнул руку Эми. Затем он шагнул вслед за Бэзилом за порог, в невозможный коридор. Эми посмотрела на удаляющиеся спины мужчин в тусклом свете фонаря и поспешила за ними. В конце узкой комнаты «Мезонксик» Эми задержалась, но, в конце концов, решилась и ступила за порог. Стены сразу же отрезали ее от магазина – будто кулак сдавил череп. Мэтт с Бэзилом были всего в нескольких шагах впереди, стена в конце коридора делалась ярче с их приближением, по углам скакали вниз и вверх тени. Подошвы Эми хрустели по грязному полу. В ярком белом круге света стены выглядели больными, все в перекрывающихся желтых пятнах, зарослях плесени. – Нам нужно уходить отсюда, – едва сдерживая ужас в голосе, пролепетала Эми в мужские спины. Она не хотела поддаваться страху, но это была физическая реакция по всему телу, с которой невозможно бороться. – Серьезно, ребята, магазин не продолжается в эту сторону. Этого коридора не должно быть. Он не должен существовать. И нам не следует быть здесь. Что-то дернулось у ноги. Эми вскрикнула и подскочила. Мэтт с Бэзилом мгновенно развернулись. – Это мой телефон, – с удовольствием сообщила она, вытащила вибрирующий прибор из кармана обеими руками и показала мужчинам. – Алло? – Это диспетчер полиции Брексвилля. Наш патруль не может отыскать дорогу к вашему адресу. Вы уверены, что это около шоссе 77? – Я сюда езжу на работу каждый день. У вас есть GPS или вроде того? – Компьютер показывает, что названный вами адрес недействителен. – И что это значит? – Это значит, что, согласно нашей системе, этот адрес… Женский голос оборвался, и экран почернел. Эми нажала кнопку «Включить», но телефон был мертв и бесполезен, как кирпич. – Что они сказали? – спросил Бэзил. – Я не уверена в том, что они вообще приедут. Возможно, мы сами по себе. – Я понимаю, что вы оба в панике, – заметил Бэзил. – Но нам следует отыскать Карла. Он… – Он больше не Карл, – отрезала Эми. – Вы не были там и не видели того, что видели мы. Тринити позвала всех духов в магазине, пригласила соединиться с нами. И что-то завладело Карлом. Он назвал себя «стражем». Целителем душ. Он сказал, что мы все – кающиеся… – Исайя Ворт! – посмотрев на Эми, воскликнул Мэтт. – Об этом парне я раньше и говорил тебе. Он был начальником Паноптикума Кайахоги, тюрьмы девятнадцатого века. – Да хватит этой чепухи из «Бомбы-призрака», – буркнул Бэзил. – Карл – бездомный в состоянии глубокого аффекта. Согласно «Учебнику культуры лидерства „Орска“», нам следует найти его, утешить и вызвать медиков. Это официальная практика магазина. Он посветил в коридор. – Наверное, парень уже на полпути к Спальням. – Этот коридор ведет не к Спальням, а к Улью, тюрьме девятнадцатого века, – сказала Эми. – Пожалуйста, прекратите вести себя так, будто этот коридор – нормальный. Вы должны понимать, что его на самом деле не существует. – Он существует. Мы стоим в нем, не так ли? – добродушно заметил Бэзил. – Это может быть галлюцинацией, – возразил Мэтт. – Продукт электромагнитного поля либо токсичных газов из вентиляции. – Вы и в самом деле так думаете? Мэтт изо всех сил ударил кулаком в стену. От удара посыпался дождь из чешуек влажной штукатурки. Мэтт разжал кулак и покачал головой. – Похоже, что нет, – резюмировал он. – Бэзил, пожалуйста, мы должны повернуть назад, – взмолилась Эми. – Я уважаю вас как менеджера магазина, вас тренировали для подобных ситуаций, но я-то напугана. Я – ваша подчиненная, я очень боюсь и нуждаюсь в вашей помощи. Пожалуйста, можем мы повернуть назад? Пожалуйста, давайте отыщем Руфь Энн с Тринити и уберемся отсюда? Бэзил заколебался, взвешивая варианты. Эми знала из теста на Ответственного по Магазину, что менеджеры «Орска» ответственны и за клиентов, и за партнеров. Но если менеджеру приходится выбирать между теми и другими? Кто приоритетней? Таких вопросов в тесте не задавали. Бэзил очевидно мучился и не мог решить. – Сделаем вот как, – наконец решился он. – Я загляну за угол. Если мы увидим Спальни, то пойдем дальше. Если нет, обещаю: мы повернем назад. – Ладно, пусть, – согласился Мэтт. – Идите и быстренько загляните, а мы подождем здесь. – И побыстрей, – попросила Эми. Бэзил с фонарем направился к повороту. Эми застыла, стараясь не шевелиться и ни в коем случае не касаться стен. Болотная вонь, казалось, прилипла к самому нёбу, напитала горечью слюну, сползающую вниз по глотке. – Ты еще здесь? – прошептала она. Невыносимо жуткое, нескончаемое мгновение Мэтт не отвечал. Затем осветил свое лицо голубым светом телефона. – Да, еще здесь. Бэзил направил луч за угол, замер в нерешительности, щурясь, вглядывался в темноту, водил туда-сюда фонарем. – Бэзил? – прошептал Мэтт. Эми услышала первой. Это был даже не шум, а, скорее, смещение воздуха, ощущение чего-то большого, заполнившего широкий коридор, огромного, исходящего из глубины. Приближающегося. Идущего к ним. Эми не выдержала. – Беги! – крикнула она, развернулась и слепо помчалась в темноту, ударяясь плечом о стену. Мэтт бежал прямо за спиной и подсвечивал путь телефоном. В его тусклом сиянии обрисовалась дверь в конце коридора. Эми не сомневалась: еще секунда, и та захлопнется, навсегда поймав ее в Улье. И вдруг оба оказались снаружи, в чистом упорядоченном мире «Орска», в узком чулане, окруженные системой «Мезонксик». Но они не остановились, побежали дальше, не став ждать и смотреть, выбрался ли Бэзил. Теперь он сам по себе. Они выскочили из закутка, пролетели через макет комнаты, на полной скорости вывернули на Яркий Сияющий Путь и не останавливались, пока не выбились из сил и не шлепнулись на пол за стойкой в Кухнях. Мэтт спрятал светящийся телефон в складках худи. – Ты видела их? – шепотом спросил он. – Кого «их»? – Там, в коридоре. Там были люди. Эми не знала, что она видела, а что нет. Они затаились за стойкой, стараясь расслышать что-нибудь в темноте. – Что за шум? – спросил Мэтт. Эми прислушалась. Тихое стеклянное позвякивание. Мэтт посветил назад. Там на полке тихо покачивались стаканы «Гланс», постукивая друг об друга. Затем Эми ощутила ритмичную вибрацию пола. – Что-то приближается, – прошептала она. Экран телефона вспыхнул белым и разлетелся вдребезги. Мэтт кинулся прочь, вокруг – водопад бьющегося стекла. Кто-то невидимый смел все с полок, осколки посыпались дождем. Потом настала тишина. Выждав, Эми посмотрела вверх. – Мэтт? – прошептала она. Он не ответил. Не видно ни зги. В магазине черным-черно. Она даже не понимала, в какую сторону смотрит. – Мэтт, пожалуйста, скажи мне, что ты здесь. Никакого ответа.
Глава 10. Хюгга
Представьте свое домашнее «я» своему рабочему «я» посредством регулируемого кресла «Хюгга» на колесиках. Пусть творческое вдохновение, которое Вы ощущаете в моменты полного комфорта, превратит Ваше рабочее место в царство разума и покоя. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: НОЧНАЯ КОЖА Д 26¾ × Ш 32¼ × В 52¼ Номер товара 0666400917Он что, бросил ее, оставил в темноте? Может, прямо сейчас крадется к выходу? Но можно ли винить его? Вместе они бросили Бэзила, а сейчас Мэтт бросил ее. Каждый сам за себя. Затем она услышала частое дыхание среди мрака. Эми кинулась на звук, коснулась пальцами рубашки Мэтта. – Ты в порядке? Она провела пальцами вверх и нащупала мокрую ткань с налипшими песком и грязью. Плоть казалась мертвенно-холодной, кожа – каменно-твердой. Когда Эми поняла, что ночной пришелец – вовсе не Мэтт, тот уже засунул грубые пальцы ей в рот и повалил на пол. Эми попыталась уползти, но руки отыскали ее, схватили. Сотни их вытащили ее из укрытия, потащили по полу, ударяя о стены и мебель. Эми извивалась, кричала так долго и так громко, что забыла о своем крике. Она вцепилась ногтями в кленовый паркет, но лишь сорвала ноготь, будто мокрую почтовую марку. Холодные, в грязной коросте руки хватали Эми за щиколотки, запястья, шею, лицо. Разум ее лопнул, словно перегоревшая лампа, и лишь тогда крик оборвался. После этого руки тащили, толкали, тянули, щупали и дергали, и все время было темно как во сне. С каждым вздохом в тело врывалась густая липкая вонь того страшного коридора. Люди – или человекообразные твари – столпились вокруг, сдавили, их грязная одежда мешала дышать, тела под лохмотьями были мертвее мрамора; голова кружилась от смрада, мороз от студеной плоти пробирал до костей. Руки подняли Эми, шлепнули в кресло так, что перехватило дыхание. Какая-то отдаленная часть ее разума распознала кресло «Какунг» с высокой спинкой, с которого ободрали подушку. Грудь перехватил, затянул пояс, а когда она вдохнула, тот затянулся сильнее, сплющивая легкие и ребра, не позволяя набрать в них столько воздуха, чтобы хватило на крик. Эми попыталась лягаться, но тени удержали ее ноги. В щиколотки врезались узкие твердые полосы. Тени придавили и привязали кисти к подлокотникам. Новые и новые полосы захватывали бедра, колени, щиколотки, талию, плечи, шею. Эми попыталась повернуть голову и поняла, что ее привязали к спинке кресла, и осталось только глядеть прямо перед собой. Гнилую вонь перебил запах горячего пластика. Эми рассеянно подумала, что используют тепловую сварку. Ею заваривали пластиковые крепления, какими связывали кипы картона на мусорном складе. Руки безжалостно затягивали пластик, и тот резал кожу и мышцы, впивался в кость. По всему телу полосы впивались в плоть. Эми ощущала себя резиновым мешком с кровью, сдавленным до того, что вот-вот лопнет. Она чуть дышала, едва могла набрать воздух в легкие. Она тихонькозаныла. Получился бы крик, если бы рот тоже не прихватила пластиковая полоса. Эми не могла понять, куда ее затащили. В Домашний Офис? В Спальни? Слишком темно, не разобрать ничего. Вокруг столпились напоминающие людей твари – от их тел исходили холод и вонь. Но, несмотря на их присутствие, казалось, вокруг пусто, будто эти существа были всего лишь оболочками, пустышками. Не-людьми. Будто их и вовсе здесь не было. Затем из темноты послышался шепот: – Ты же понимаешь: это для твоего же блага. Эми захныкала. – Ну, ну, не надо, ш-ш. Тебе всегда было нужно именно это. В твоей душе нет секретов от меня. Эми попыталась вырваться – но не смогла и шевельнуться. – Я понимаю твое безумие, – прошептал Исайя ей на ухо. Эми слышала, как хрипел и свистел воздух, выходящий из его разорванной шеи, шевелящий отодранный лоскут мяса на горле. – Безумие – это воспаление крови, возбуждение артерий. Мое умиротворяющее кресло затормозит импульс несущейся к мозгу крови, уменьшит подвижность мускулов и частоту пульса. Если потребуется, я выпущу из тебя воспаленную телесную жидкость, применю лечение ледяной ванной либо кипятком. А ты не сможешь ни пошевелиться, ни протестовать. Эми ощутила, как Исайя передвинулся и заговорил с другого бока. Она напряглась, пытаясь скосить глаза, дрожа от усилия рассмотреть его в темноте. – Твое безумие типично. Твой дух растревожен, обеспокоен, ты все время суетишься, занимаешься бессмысленными делами, бьешься и мечешься безо всякого толку. Его слова резонировали с чем-то глубинным и больным в разуме Эми. Она и в самом деле суетилась, билась как рыба об лед – и какой смысл? И был ли он когда-нибудь? – Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Такое естественное желание даже для столь падшей женщины, как ты. Но, хотя твой дух страждет, плоть слаба. Мое успокаивающее кресло позволяет более не противиться естеству. Подчиняет плоть. Ты будешь сидеть, погруженная в раздумья, а твоя горячечная кровь прекратит сумасшедший бег. А твой избавленный от яда мозг, наконец, достигнет желанного покоя. Придет гуманное и милосердное избавление от мучений. А если ты вдруг умрешь, разве покой смерти не предпочтительней пустой суеты и бессмысленного хаоса твой жизни? Эми, ты достигнешь покоя. Истинного покоя. Он погладил ее по голове. Эми хотела отдернуться, но не смогла пошевелиться. Затем ощущение руки исчезло, и его больше не было слышно. А вскоре она перестала ощущать себя Эми. Она была вещью, привязанной к креслу. И медленно начала погружаться в безумие. Она не привыкла оставаться в полной неподвижности. В жизни Эми постоянно что-нибудь поправляла на себе, так и сяк шевелилась, потягивалась, сгибалась, разгибалась, передвигала руки и ноги. Теперь у нее полностью отобрали власть над телом. Мускулы наливались болью, затекали суставы, кровь скапливалась в опухших ногах, хотелось кричать от отчаяния и мучений. Только бы набрать достаточно воздуха в расплющенные легкие, если бы только раскрыть рот хоть чуть-чуть. Хребет, вдавленный в деревянную спинку, превратился в колонну агонии от копчика до основания черепа. Горела шея, удерживающая невыносимо тяжелую голову. Коленные чашечки ныли так, будто пытались выдраться наружу. Все ниже колен онемело. Но хуже всего было с пальцами рук. Эми пыталась распрямить их, хоть чуточку пошевелить, но их привязали очень плотно – будто кто-то вцепился в них зубами и не отпускал. Когда она пыталась хоть немного потянуть их, то лишь беспомощно дергала пластиковые полосы. Кровь притекала к подушечкам пальцев, они раздулись, будто виноградины. Каждый удар сердца болезненно отдавался под ногтями. Впереди пустота, взгляд теряется в пустоте, в темноте столь глубокой, что и не понять, открыты глаза либо закрыты. Без новой информации, дрейфуя во мраке, разум обратился против самого себя. Он выстроил в ряд все двадцать четыре года жизни Эми и подсчитал, что же хорошего дали метания, борьба, крохоборство, экономия, двойные смены, заполненные отчеты и работа над своим портфолио. Вся эта работа и муки – зачем? Каждое утро она просыпалась, все сильнее уставая, каждый месяц запаздывала с квартплатой, каждую неделю тянула еду у соседей по квартире. Эми никогда не хватало бензина, она всегда занимала деньги, всегда жила в долгах – и на жизнь все равно не хватало. Беличье колесо крутилось все быстрее и быстрей. В каком-то смысле кресло и вправду оказалось благом. Оно освободило от иллюзий и показало истину. Эми одна, никто не придет ей помочь. Она постоянно пыталась убежать от своего предназначения: надеть униформу и работать от звонка до звонка. Настало время принять истинную суть. Скверной ее жизнь сделали лжецы. Они уверяли, что она сможет все, что захочет, и нужно целиться в луну, ведь даже если промажешь, все равно окажешься среди звезд. Лжецы снимали кино, внушавшее, что она способна на подвиг. Сплошная ложь. Эми родилась, чтобы отвечать на звонки в справочных, нести сумки к машинам клиентов, отмечать приход на работу и уход с нее, отмерять жизнь перерывами на перекур. Думать по-другому – безумие. Лишь кресло не солгало ей. Оно излечило безумие. Оно показало, на что способна Эми. Ни на что. Что-то всплыло из мрака в разум, и внезапно она поняла: вот, наконец, та самая сидячая работа. Так забавно – потому что, наконец, правда. Сидение в этом кресле – последнее, что Эми сделает в жизни. С самого начала неудача следовала за неудачей. Эми не удалось выбраться из маминого трейлера, закончить колледж и получить диплом, пройти тест на Ответственного по Магазину, сделать хоть что-то путное с жизнью. В этом ее натура – терпеть поражение и убегать. Если разрезать ее на мельчайшие части и обследовать, все, что отыщется – одни неудачи, поражения и бегство. Многие годы она спрашивала себя: что будет, если перестать барахтаться, пустить все на самотек? Эми, сколько себя помнила, жутко боялась того, насколько глубоко может пасть, если перестанет лезть, суетиться и бежать. Какое облегчение наконец отыскать ответ. Вот настолько. Дальше некуда. Это уже дно. Руки и ноги немели, боль утихала, приходило облегчение. Разуму делалось лучше. Эми ощущала, как он исцеляется, сбрасывает десятилетия лжи и безумия, принимает свое место в естественном порядке вещей. Она останется в кресле недвижимой, ничего не делающей, и не останется иллюзий, не будет бесполезных стараний, тщетных попыток скрыться. Спасибо креслу. Он показало истинное место Эми в этой жизни. Грудь стянута так плотно, что невозможно как следует вдохнуть. Закружилась голова. Эми не могла двигаться. Не могла видеть. Не могла слышать и дышать. Единственная оставшаяся мысль бежала и бежала по кругу. – Я дома… Дома… Я дома…
Глава 11. Телохватт
Обладая несколькими несомненными преимуществами над традиционными формами обездвиживания, «Телохватт» удерживает кающегося, предотвращает чрезмерно оживленное движение крови к мозгу, понуждает субъект к состоянию полной неподвижности, способствующей саморефлексии, освобождающей от внешнего стресса. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: СВЕТЛЫЙ ДУБ, СРЕДНЯЯ БЕРЕЗА Д 24¾ × Ш 21¼ × В 53¼ Номер товара 53556666200Руки. Две руки на лице – будто пара мягких пауков по коже. Но Эми не хватало воздуха, чтобы закричать. Вырвалось только жалкое блеянье. Огромный безумный крик остался внутри, запертый там. В глаза ударил свет. Зрачки сжались до острия иголки. – Ш-ш, тихо. Это я, Бэзил. Вы в порядке? Эми хотелось отвернуться, но ленты прочно держали голову. Глаза привыкли к полной темноте, их слепил даже слабый свет телефона. Если бы она могла говорить, то велела бы ему уйти, оставить ее в покое. Бэзил провел пальцами по лентам, натянутым, твердым как сталь. Тело Эми целиком занемело. Приток крови к конечностям почти прекратился, руки и ноги стали холодными и безжизненными, будто куски дерева. Изнемогая от нехватки кислорода, они уплыли по океану боли, одна за другой. Бэзил повернулся, вот так запросто ушел и унес свет. Эми закрыла глаза. По щекам покатились слезы – слезы облегчения. Теперь она опять сможет остаться в темноте. Как жестоко дарить надежду на то, что кто-то может прийти за ней. Какой садизм – внушать, что она кому-то нужна, когда она всегда в одиночестве. Это же… Лента, удерживающая подбородок, натянулась сильней, лопнула – и исчезла. Эми невольно втянула ртом воздух. – Хи-и-и-и а… И чуть не захлебнулась им. Легкие не захотели расправляться, чтобы принять его. – Не торопитесь, – посоветовал Бэзил. – Вдыхайте понемногу. Он присел на корточки у кресла. Дурак, он пытался освободить ее от того, что она уже приняла, забрать то, чего она по-настоящему хотела – как раз когда, наконец, смогла обрести цель. Он делал вид, что она может покинуть кресло. Лгал. – Хороший менеджер всегда носит с собой карманный нож, – сообщил Бэзил. – Никогда не знаешь, вдруг клиенту понадобится помочь открыть упаковку. Сковывавшие грудь ленты лопнули. Голова Эми закружилась от внезапного прилива кислорода. Она попыталась заговорить, но выходила лишь бессвязная белиберда. Бэзил хлопотал вокруг – спереди, сзади, сбоку – полосовал ножом. Одна за другой пластиковые полосы на пальцах, кистях, предплечьях, локтях лопались, высвобождая плоть. И каждый раз за благословенным мгновением бесчувствия огнем взрывалась боль. Кровь снова текла по жилам, в пальцы рук и ног будто заколачивали гвозди, загоняли булавки. Так страшно и мучительно – но зачем? Она же никуда не уйдет. Зачем он терзает ее, почему не оставит в покое? – Эми, пожалуйста, поговорите со мной, – попросил Бэзил из темноты. Эми сидела очень тихо и дрожала всем телом. – Я бродил в темноте, спотыкался… искал хоть кого-нибудь. Свет полностью отключился. Указатели выхода не работают, вентиляция тоже, и, честно говоря, если тот ненормальный учинил с вами такое, то я бы не хотел дожидаться его возвращения… давайте, пойдем отсюда. Эми не двигалась, не разговаривала. Она лишь зажмурилась и снова провалилась в темноту. – Я помогу вам встать, – пообещал Бэзил. Она ничего не сказала. Может, если ничего не говорить ему, он и уйдет восвояси? Но он не ушел, встал сзади, схватил под мышки и поднял. Когда тяжесть тела пришлась на ноги, в них словно залили кипящее масло, окунули в него ступни и щиколотки. От неистовой, невыносимой боли Эми обмякла, выскользнула из рук Бэзила, свалилась на пол, инстинктивно скорчилась, подтянула колени к подбородку, заплакала. Так хотелось назад, в кресло. В нем было легче. Намного легче. Бэзил обнял ее за талию, напрягся и приподнял, усадив на пол. Она бессильно оперлась о стену. – Уходи, – прошептала Эми. – Пожалуйста. Он присел рядом на корточки, отвел потную прядь с ее лица, посветил телефоном в глаза – мутные, ничего не видящие. – Я не могу оставить вас здесь. Я ваш руководитель. Я несу за вас ответственность. Эми завалилась набок и попыталась уползти. Руки горели огнем, мускулы будто порвали на части и скололи степлером. Они дергались не туда, вздувались узлами, не хотели помещаться под кожей. Тело казалось старым и хрупким. Бэзил пытался ее остановить, но Эми упорно ползла, желая ускользнуть назад, в темноту, прекратить бесполезную суету. Она бездумно извивалась на полу, лезла вдоль стены. Эми подумала, что если Бэзил продолжит громко разговаривать, его услышат, придут – и возьмутся за лечение его безумия. Она улыбнулась: – Не беспокойся, он излечит и тебя. – Кто? – Комендант Ворт. – Вы имеете в виду Карла? Бездомного? Это он – комендант Ворт? Она попыталась мотнуть головой, но даже от такого простейшего движения в мозгу вспыхнула нечеловеческая боль. – Комендант… Он внутри Карла. Носит Карла как перчатку. Он хочет помочь нам. – Эми, я не понимаю, о чем вы. Но с тобой что-то решительно не в порядке. Вы понимаете, где мы? Какой сейчас день? – Мы в Улье. – Нет никакого Улья. Вы не в себе. – Это место, где мы получим то, что заслужили. – Мы в «Орске», – указал Бэзил. – Нет. Мы всегда были в Улье. Ничего иного вокруг нас нет и не было. – Хорошо, – согласился Бэзил. Он снова попытался поднять Эми, и снова она обвисла в его руках. Когда он захотел перехватить ее поудобнее, она снова соскользнула на пол. Бэзил снова ушел. Хоть бы навсегда. Темнота укрыла Эми, унесла в забытье. Конечно, не в безопасности обездвиживающего кресла, но все же, если не двигаться и не противиться, ощущаешь себя частью Улья. Вдали глухо зарокотало. Да, комендант Ворт возвращается за ней. Он вернет ее в кресло или подвергнет терапии посильнее. Рокот усилился. Эми расслабилась, чтобы спокойно принять грядущее. Она устала ощущать себя больной и сломанной. Хотелось стать целой. Она обшаривала взглядом тьму в поисках повелителя. Но вместо Ворта из темноты показался Бэзил, слегка подсвеченный сиянием мобильника и катящий офисное кресло «Хюгга». Когда он остановился, прекратился и рокот. Бэзил опустился рядом с Эми на колени и сказал: – Уходим отсюда. – Ты не можешь знать и понять то, что он придумал для нас, – возразила Эми. – Вы правы. Я не знаю и не понимаю того, что происходит. Но, тем не менее, я в ответе за вас. Он поднял ее, заволок обмякшее тело на «Хюггу». Эми снова попыталась соскользнуть, но Бэзил успел схватить ее за плечи и удержать. Затем осторожно толкнул кресло вперед, и они поехали по Яркому Сияющему Пути. Колесики жутко грохотали, и Эми с удовольствием думала о том, что шум обязательно привлечет Ворта, поэтому расслабилась и осмотрелась. С потолка тряпкой свисал плакат с надписью «Принесите новую жизнь в ваш дом». Но сейчас в темноте различались лишь последние два слова, «ваш дом». Бэзил вертел телефоном: тусклого серого света хватало, чтобы осветить диваны и кресла вокруг, но все за ними скрывала тьма. – Уже почти приехали, – сообщил он. – Мы выйдем наружу, и, если нам повезет, там уже будет полиция. Они помогут вывести всех остальных. – Мы никуда не выйдем, – сказала Эми. Впереди Яркий Сияющий Путь перекрыла высокая баррикада из мебели: огромная гора шкафов «Фигаро», стенок «Нелепотт», кресел-качалок «Гутбол» и разбитых столов «Горежырр». Корзина с товарами лежала на боку, бежевые сумки для покупок разлетелись по полу. Повсюду блестело битое стекло. Эми вспомнила грязные заскорузлые руки, шарящие по лицу. Ей захотелось убежать – но ведь нужно вернуться. Убежать или вернуться? – Надо найти другой путь, – прошептал Бэзил. Он повернулся к Кухням, а Эми улыбнулась. Чем больше он суетится и старается, тем быстрее осознает безнадежность их положения. Они никогда не выйдут наружу. Комендант Ворт будет без конца удлинять их срок, добавлять год за годом. Он очень рассердится из-за того, что Эми покинула кресло, прервала предписанное лечение. Бэзил свернул с Пути, подкатил кресло к проходу между Кухнями и Шкафами – но дверь оказалась завалена разбитой мебелью. Сам по себе Бэзил бы перелез ее, но вместе с Эми это было невозможно. – Никаких проблем, – он сохранял уверенность. – Обойдем по длинному пути. Бэзил развернул кресло назад, к Столовым. Эми вдруг поняла, что легкие уже не так сильно болят, дыхание почти восстановилось, прояснилось в голове. Пережитый в кресле ужас понемногу уходил из памяти. – Мы в ловушке, – прошептала она. – Мы в порядке, – попытался заверить Бэзил, но в голосе не ощущалось особой уверенности. – Просто придется идти через тыльную часть здания. Колесико «Хюгги» завизжало, ритмичный пронзительный скрежет – ясный маяк для всех, кто поджидает в темноте. – Идти некуда, – сказала Эми. – Нужно что-то делать. Нельзя просто забиться под диван и ждать, пока взойдет солнце. Сначала по ним ударил холод, порыв ледяного ветра, от которого перехватило дыхание. Затем появилась вонь, такая едкая и злая, что у Эми запершило в горле – будто в темноте подошел целый состав гнилого мяса. Рядом возникло нечто немыслимое, настолько чудовищное, что Эми покинули все мысли о жестоком лечении и коменданте. Остался лишь страх. Бэзил остановил кресло, прислушался, затем нагнулся к ней и прошептал на ухо: – Вы можете бежать? Эми была слишком перепугана для того, чтобы ответить. Конечно, она не могла бежать. Она не надеялась даже встать. Бэзил завертел головой, впервые по-настоящему напуганный. – Я не смогу толкать вас с достаточной скоростью… Они теперь отчетливо слышали шаги: десятки, сотни – и все в унисон. Бэзил выволок Эми из кресла, втащил на помост, засунул под обеденный стол «Петрихор» подальше от надвигающегося гниющего левиафана, сотрясающего пол, наполняющего воздух смрадом, и зашептал, стараясь перекрыть все усиливающееся жуткое мягкое шлепанье истлевшего мяса: – Что бы ни случилось, не пытайтесь помочь мне. Я справлюсь. Просто выждите до тех пор, пока они не уйдут, и затем выбирайтесь наружу. Он пошел назад, к Яркому Сияющему Пути, держа высоко над головой телефон – свет в темноте. Из теней к нему что-то хлынуло. Когда оно выступило на свет, Эми увидела сотни ног с грязными босыми ступнями, стоящих так плотно друг к другу, что они казались принадлежащими одной исполинской твари. Целое войско вступило в магазин, одетое в чересчур большие полосатые рубахи и штаны, со склоненными головами. Лоб каждого упирался в спину идущего впереди. Они стояли так тесно, что казались огромной членистой сколопендрой, слепленной из мертвой плоти. Они остановились в нескольких футах от Бэзила. Тот пытался выглядеть храбрым. Он встал, гордо выпрямившись, посреди Яркого Сияющего Пути, расставив ноги, подсвеченный телефоном. Но когда он рассмотрел подошедших – а он осторожно и тщательно рассмотрел их, – то явно увидел не то, чего ожидал. Он смешался, и в замешательстве вернулся к своим инструкциям: – В данное время «Орск» уже закрыт. Вы все незаконно проникли на частную территорию. Краткое мгновение ничто не двигалось. Затем телефон перешел в спящий режим, отключив последний проблеск света в Демонстрационном зале, и кающиеся бросились на Бэзила.

Глава 12. Альбутерк
Вы можете идти вечно и никуда не прийти благодаря бесконечной дорожке «Альбутерк». Бесконечные возможности разворачиваются перед Вами, когда Вы убираете цель из уравнения жизни и позволяете путешествию длиться вечно! ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: СЕРЫЙ ДУБ, НАТУРАЛЬНАЯ БЕРЕЗА И НОЧНОЙ ДУБ Д 22¾ × Ш 67¼ × В 49¼ Номер товара 8181666241Эми постаралась сжаться до предела. Надежда на излечение, желание снова оказаться в руках коменданта, все прочее, забившее голову, растаяло от звуков, доносящихся с Пути – звуков рук и ног, ударяющих в живую плоть. Эми знала, что она безнадежная трусиха. Нужно помочь Бэзилу, но она не могла дать им обнаружить себя. Не могла даже подумать о том, чтобы снова сесть в то кресло. Она забилась глубже под стол, скрючилась и стала ждать, когда звуки стихнут. Но они не стихали долго. Очень долго. Даже после того, как утих шум и войско удалилось, утащив Бэзила с собой, Эми осталась лежать под столом. Ей хотелось остаться там до рассвета, пока автоматически не включится освещение этажей и не прибудет утренняя смена. Было бы так просто лежать и не двигаться. Но комендант Ворт наверняка ищет ее, и кающиеся вскоре вернутся, прочешут этажи. Несомненно, они обнаружат укрытие Эми. Комендант Ворт не из тех, кто прощает ослушников. Нужно уходить, и прямо сейчас. Но чтобы выбраться, нужен свет – а он остался у Бэзила. Эми выползла на четвереньках в проход, ожидая, что в любой момент из тьмы протянется рука и ухватит ее за горло. Исчезло покрытие под ладонями, и Эми ощутила край Яркого Сияющего Пути. Тот был засыпан грязью и песком, измазан чем-то липким, источал болотную вонь. Эми зашарила по полу в поисках телефона. И чем больше искала, тем сильней давил страх. Без телефона не будет света, без света придется пробираться по магазину в кромешной темноте, ходить кругами, петлять. Она наверняка заблудится. Ногти коснулись чего-то пластикового, легко скользнувшего прочь. Ага, вот и он. Эми включила телефон, и в лицо ударил мертвый телевизионный свет. Она посветила вокруг – вдруг что-то еще поджидает ее среди теней – и стала изучать экран, чтобы понять, как увеличить яркость. Телефон был запаролен. Эми подумала с минуту, вспомнила, насколько Бэзил предан «Орску», и набрала номер магазина, 6775 – и, к ее огромному удовольствию, появился экран с приложениями. Она отыскала «фонарь» и, послушный пальцу, телефон засветился. Затем Эми попыталась встать, но ноги походили на мешки ломаных веток. Она почти сразу упала и ушибла о пол левое колено. Ступни ныли, кости в коленях скребли друг о дружку, скрипели суставы, хребет будто разбили вдребезги. Потребовалось собрать все силы, чтобы опереться на «Скульпин» и поднять себя на ноги. Получалось у нее только медленно и болезненно хромать – но сил хватило добраться по Яркому Сияющему Пути до Спален, затем до Ванн и Шкафов. Оттуда можно пройти в Детские, срезать в Оптимальное Хранение, потом в Домашний Офис, Гостиные и оттуда, наконец, спустится по эскалатору к выходу – конечно, если дорогу не преградит очередная баррикада. Каждые несколько минут Эми быстренько светила телефоном вокруг, чтобы сориентироваться. И всякий раз, включая его, ожидала увидеть жуткую рожу, ухмыляющуюся из темноты, бледное тело, выныривающее из теней. Или коменданта Ворта, терпеливо ждущего возвращения беглянки. Но никто не выглянул и не вынырнул до самого Домашнего Офиса. Справа высились ряды книжных полок «Смэгма», заполненные рядами книг «Дизайн – это хорошо». Их тени дрожали в такт дрожанию руки, сжимавшей телефон. И вот инфопост со знакомым лозунгом: «Если у вас есть вопросы – просто спОРСКите!» Дурацкая шутка показалась до боли родной, хорошей приметой, доказательством того, что Эми идет туда, куда нужно. Она свернула направо, углубилась в Домашний Офис, а когда в очередной раз включила телефон, заметила вдали движение и прижала мобильник к груди, чтобы скрыть свет. Эми опустилась на корточки как можно ниже рядом с «Карецца». Покрытые синяками колени задрожали от напряжения. Что-то определенно двигалось впереди. Такой звук ни с чем не спутаешь. В темноте урчал и скрежетал мотор. Путь проходил прямо рядом с источником шума. Эми понимала: выбора нет. Хочешь добраться до выхода – придется пройти мимо него. Кровь стыла в жилах, но Эми опустилась на четвереньки и поползла по Яркому Сияющему Пути. Машинный скрежет сделался громче, вскоре послышалось прерывистое хриплое дыхание, и другой шум, куда менее человеческий – как подошва, раз за разом наступающая на липкое. Звук мотора делался громче, и дыхание тоже, и в нем угадывалось что-то знакомое. Не в силах противиться любопытству, Эми оторвала от тела телефон и посветила вперед. Темнота рассеялась, и показался стол-дорожка «Альбутерк». Столешница наклонена вперед, быстро крутится черная лента, а на дорожке – перекошенный, скрюченный человек, старающийся не упасть. Спина согнута под тяжкой ношей, кеды разваливаются. Одна подошва уже отстала и шлепала по ленте, будто лакающий воду собачий язык. – Тринити? – прошептала Эми. Ее кисти были примотаны скотчем к переднему краю стола, огромная сумка из-под снаряжения, набитая чем-то тяжелым, взгромождена на плечи. Волосы взмокли от пота. – Я видела духа, – посмотрев на Эми, пробормотала Тринити. – Я, наконец, увидела духа, но не понравилась ему. – Давай я вытащу тебя из этой штуки. – Мне вскоре станет лучше. – Это тебя Исайя сказал? – Да, – улыбнувшись, ответила Тринити. – Комендант Ворт обещал излечить меня. Она поморщилась и заплакала. – Минутку, – пообещала Эми. Она подошла к передней части стола, попыталась отодрать скотч – и увидела, что стало с пальцами Тринити. Их сломали. Они торчали в разные стороны, будто пучок ломаных карандашей, иссиня-черные от кровоподтеков. Эми нашла конец ленты и осторожно развернула ее, чтобы не причинять лишней боли – но Тринити, похоже, не замечала. Затем Эми сняла сумку со спины, осторожно продела искалеченные руки в лямки. Сумка была такой тяжелой, что выскользнула и шлепнулась на пол. Молния разошлась, каталоги «Орска» выплеснулись наружу, будто куча внутренностей. Эми обняла Тринити за талию и стащила с ленты. – Нет, – вяло трепыхаясь, возразила Тринити. – Тс-с, тихо, – придерживая ее, посоветовала Эми. Если бы кто-нибудь этим утром пришел в «Орск» и спросил, подруги ли они, Эми бы сказала что-то вроде: «Э-э, не совсем». Но боль и страх упрощают все. Тринити потерялась в том же аду, что и Эми. Но рядом не оказалось Бэзила, чтобы спасти – только Эми. – Нет, – забормотала Тринити себе под нос, будто заклинание. – Нет, нет, нет… – Мы уходим отсюда, – пытаясь подражать уверенности Бэзила, объявила Эми и обняла трепыхающуюся девушку. – Я не оставлю тебя здесь. Я обещаю. Придерживая за талию, Эми повела подругу по Яркому Сияющему Пути. Прихрамывая, они ковыляли вперед, и Эми решила поговорить. Может, Тринити утешит и успокоит звук человеческого голоса? – Когда мы спустимся по эскалатору, то вручную откроем двери, выйдем на парковку снаружи. Мы позвоним, вызовем помощь, она пошлет в магазин больше людей. Много людей. И все будет в порядке. И ты будешь в порядке. Главное – выбраться отсюда. Они подошли к эскалатору. Внизу ядовитый оранжевый свет лился сквозь фасадные окна. Во тьме он казался ярче дневного. А затем зазвонил телефон Бэзила. Эми оцепенела от ужаса – так громко и жутко зазвучала мелодия из «Доктора Кто». Она потыкала пальцем в экран и ответила: – Алло? – Где вы? – Мэтт? Ты где? – Я немного сбился. Кажется, я в Оптимальном Хранении, стою рядом со «Смэгмой». – А я у самого эскалатора в Гостиных, – чуть не млея от радости, ответила Эми. Ведь Мэтт – это еще одна пара рук. Сильных рук. Он поможет с Тринити. – Ты знаешь, как прийти сюда? – Я ищу Тринити. – Я уже нашла ее. Она рядом со мной. – Но я только что видел ее в проходе! Она направляется к Шкафам. – Нет, Мэтт, она тут, стоит со мной! – Я не могу оставить ее здесь одну. Эми ткнула телефон в лицо Тринити. – Поговори с ним. Скажи что-нибудь! Но Тринити стояла, будто немая. Эми снова шлепнула телефон о свое ухо. – Я не могу оставить ее, – сказал Мэтт. – Это же обман. Это место обманывает тебя! – Я позвоню тебе, как только найду ее. Я сейчас. Мэтт отключился. Эми попыталась перезвонить – но пошли длинные гудки, а потом телефон переключился на голосовую почту. Эми посмотрела на Тринити. Та стояла, уставившись на нее, будто впервые увидела. – Вот так оно и обманывает нас, – пояснила Эми. – Нужно идти дальше. Но, похоже, Тринити не слушала. Эми задумалась над тем, как свести Тринити вниз по неисправному эскалатору, и вдруг обратила внимание на ряд портретов «орского» высшего начальства на стене, в одинаковых черных рамках. Теперь портреты изображали одного человека, под всеми подпись «Исайя Ворт, комендант». На первом портрете выцарапаны глаза. На втором разбито стекло, лицо изрезано в лоскуты. На третьем водяной подтек съел лицо, оставил лишь бесформенное белое пятно на плечах. И дальше по ряду каждый портрет представлял по-своему изувеченное ухмыляющееся лицо Ворта: безглазое, с черной дырой вместо рта, исцарапанное иголками, обугленное до черноты, сожженное кислотой. Тринити вдруг извернулась и вырвалась. Эми зашаталась, но в последнее мгновение успела ухватить ее за футболку, потянула, развернула Тринити к себе лицом. – Отвратительно, – сказала та. – Да, но пойдем, – крепче хватаясь за футболку, посоветовала Эми. – Нужно идти отсюда. – Никому нельзя покидать Улей, – склонив голову, растерянно произнесла Тринити. Она резко отклонилась назад, отстранилась, и потрепанная футболка разорвалась посредине, спала с тела. Эми посмотрела на оставшийся в руке обрывок, затем на Тринити, а та кинулась бежать в Гостиные и растворилась в темноте. – Тринити! – забыв об опасности, закричала Эми. Но девушка исчезла. Магазин поглотил ее, будто бездонное озеро – брошенный черный камень. Неподалеку что-то тяжело врезалось в стену, загрохотали валящиеся шкафы. Охваченная паникой, Эми бросилась вниз по эскалатору, спотыкаясь о края ступенек, хватаясь за резиновый поручень, чтобы не упасть. Впереди – стеклянные двери, выводящие на парковку, сочатся оранжевым цветом от фонарей на стоянке. В один из первых дней Эми в «Орске» Пэт показал, как вручную открывать двери в случае отключения электричества. Механизм встроен в дверь. Достаточно надавить кнопку, сунуть пальцы в образовавшуюся щель и раздвинуть створки. Из темноты донесся крик. Руфь Энн. Эми напомнила себе, что этот магазин обманывает. Он был создан для того, чтобы специально сбивать с пути. Он хотел, чтобы клиенты уступили заранее созданной программе. Руфь Энн закричала снова – дико, как животное. Кто-то учинял с ней что-то невообразимое. Эми не могла определить, откуда идет крик. Может, он существует только в ее голове? Эми сказала себе, что все это – попытки запутать, затормозить, не дать уйти. Жуткие существа из магазина – они же прямо за спиной. Они хотят заточить их здесь навечно. Не хотят никого выпускать. Эми надавила кнопку большим пальцем, затем сунула исцарапанные пальцы в щель и раздвинула створки. Без помощи мотора те раздвигались неохотно, чуть расползлись и застряли в паре футов друг от друга. Внутрь хлынул теплый ветер, и Эми выскользнула наружу. На свободу.
Глава 13. Рычаагк
Примите простоту вечного повторения с «Рычаагк», грубой рукоятью на системе тормозящих шестеренок, требующей всех Ваших сил для вечного вращения. Погрузитесь в медитативное состояние отчаяния после сотни поворотов, тысячи поворотов, даже десяти тысяч поворотов. Единственное правило: «Рычаагк» никогда не останавливается, даже когда останавливается Ваше тело. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: ЖЕЛЕЗО Д 13¾ × Ш 13¼ × В 13¼ Номер товара 4266637111Эми бежала, не останавливаясь, до самой середины парковки, залитой оранжевым люминесцентным светом. – О боже мой, да где вы? – простонала она. С пустой парковки отчетливо виделись огни легковых и грузовиков, несущихся по шоссе 77. Эми видела даже рампу съезда на дорогу до «Орска». Компьютер показывает, что названный вами адрес недействителен, сказала ей диспетчер. Это значит, что, согласно нашей системе, этот адрес… Что «этот адрес»? Не существует? Как такое возможно? Эми побежала вдоль здания, шлепая кедами по теплому асфальту. Вот дальний отдел парковки, где должны оставлять машины партнеры. Вот джип Руфь Энн с наклейкой «Моя вторая машина – „Харлей“» на бампере. «Ниссан Куб» Бэзила с номером «TARDIS1». Третья машина – захламленная до предела «Субару», наверное, Мэтта или Тринити. А вон ее, Эми, бедная «Хонда Цивик», подтекающая маслом. И все еще никаких полицейских. Эми сама по себе. Совсем. Она неуклюжими пальцами вытянула ключи из кармана, открыла дверь. Машина пискнула. О да, сейчас приоткрытая дверь – самое важное в жизни. «Ты никого не бросаешь, – сказала себе Эми. – Ты приведешь помощь». Это умный поступок. Хорошая идея. Она закрыла дверь, завела мотор, развернулась в сторону выезда и, не желая медлить, чтобы ненароком не передумать, вдавила педаль газа. Все, впереди – шоссе 77. «Кто-то же должен выбраться, – сказала она себе. – Должен выбраться и вызвать помощь. Это же не значит, что я убегаю…» Но ведь, по правде, она убегает. Именно этому научило ее кресло коменданта Ворта. Эми всегда сдавалась, быстро все бросала, уходила. Так сильно проще, чем пытаться. У выезда из парковки Эми ударила по тормозам, остановилась, посмотрела на огни шоссе: бесконечный поток легковушек, автобусов, большегрузных трейлеров. Несомненно, где-то там находится и патрульная машина, полицейские высматривают съезд, которого так и не найдут. Эми посмотрела на магазин. Издали он вовсе не казался угрожающим. Просто большая бежевая коробка из дешевых стройматериалов, плюхнутая поверх заасфальтированного пустыря. Все прочее – трюки, игра света и тени, запрограммированное восприятие. Снаружи это легче увидеть и понять. А внутри – легко забыть. Друзья остались внутри. Впрочем, не друзья – коллеги по магазину. Всего лишь коллеги, и не стоит забывать об этом. Но Бэзил-то вернулся. Эми думала, что он всего лишь, как попугай, лепечет об «орской ответственности», но ведь он и в самом деле верил в свои слова. Он спас ее из кресла и ради нее встал лицом к лицу с армией кающихся. И Мэтт отказался уходить без Тринити, и Руфь Энн, конечно, отказалась бы уходить без любого из коллег. «Они – не твои друзья, – повторила себе Эми. – Ты ничего им не должна. Они – не твоя ответственность». Она закрыла глаза и прислушалась к пульсирующей боли от синяков и порезов, оставленных смирительным креслом по всему телу. А водительское кресло так на него похоже. Телу в нем тяжело, сонно. Если закрыть глаза, безопасно. Никто не тронет. Машина дернулась вперед, застыла, когда нога соскользнула с педали. Эми резко открыла глаза и, прежде чем клюнуть носом еще раз, укусила себя за палец – тот, с оторванным ногтем. В руку выстрелила жгучая боль, напрочь согнавшая сон. Вот она, опция номер два: умиротворяющее кресло. Оно всегда ждет, всегда хочет заполучить ее обратно. Всегда желает, чтобы она сдалась, уселась и никогда больше не вставала. В конечном итоге, подумала Эми, все всегда сводится к выбору: остаться сидеть или встать. Она резко выкрутила баранку, развернулась и вернулась к главному входу, припарковалась на желтой полосе с надписью: «Не парковаться и не останавливаться». Двери главного входа уже закрылись и намертво защелкнулись. Ну, конечно, снаружи не открыть. Эми закрыла глаза от света, посмотрела сквозь стекло на Демонстрационный зал. Тени ползли среди сумрака, скользили по помостам, текли со стен. Жуткие Ползюки хотели остаться наедине с Руфь Энн, Мэттом, Тринити и Бэзилом. Эми удрала. Они не хотели, чтобы она возвращалась. Но разве Бэзил не сказал, что дверь служебного входа все еще сломана? Эми обежала здание, дернула за ручку, та с легкостью открылась. Оранжевый свет с парковки высветил часы на стене. Индикатор остановился на 3.15. От одного взгляда внутрь заколотилось сердце. Сейчас – последний шанс повернуться и уйти, поступить, как разумный человек. В ноздри ударила кислая болотная вонь магазина. Из него веяло затхлым холодом. Не давая себе времени передумать, Эми шагнула внутрь. Первая остановка – комната отдыха. Тут они обещали друг другу собраться. Даже если внутри никого, там есть фонари, аптечки первой помощи и другие полезные вещи. Освещая дорогу телефоном Бэзила, Эми свернула налево и увидела лестницу, ведущую на второй этаж. Эми нерешительно пошла к ней и вздрогнула, когда за спиной лязгнула дверь. Магазин заглотил жертву. Водянистый цифровой свет играл на стенах. Эми шла к лестнице, натянутая, как струна, вся обратившись в слух. Наверху – коридор с дверями офисов. Каждая может открыться в любой момент и показать то, чего вовсе не хочется видеть. Стены испещрены трещинами, сочится вода, краска пузырится, отслаивается чешуей, свисает полосами, летит вниз. Пол уже усыпан ею. По полу метнулась тень. Еще одна крыса, грязная и мокрая. Она промчалась вдоль стены и скрылась в темноте. Эми заставила себя успокоиться. Крысы сейчас – самая меньшая из проблем, всего лишь добавленная толика запрограммированной дезориентации. Эми глубоко задышала, пошла по коридору, а затем услышала: тихое поскребывание за дверями. Она говорила себе, что бояться больше нет смысла, в то время как рука будто сама по себе тянулась к ручке, поворачивала ее. Дверь открылась. Чулан-склад. Стопки бумаги и черных маркеров, степлеров, картриджей для принтера, все – аккуратными рядами на полках. А у задней стены, снизу, в гипсовой перегородке – дыра с краями, испещренными царапинами, испачканными чем-то темным. Из дыры несет ледяным зловонием. Внимание Эми привлек предмет на полу. Она подняла его; это был маленький тюбик «Врачебного ягодного бальзама для губ» фирмы «Блистекс». Эми выронила его и попятилась в коридор. Отчего-то ей подумалось, что в комнате отдыха никого не будет. Догадка оказалась верной, и она тут же бросилась к аптечке первой помощи, привинченной к стене у входа. Какая радость! Внутри – желтый фонарик. Она выдернула его, включила, и в комнате будто засияло солнце. Все, телефон Бэзила – в карман, и можно осмотреться. Она проверила и под «Задлами», для пущей уверенности. Никаких крыс, мужчин в полосатых робах, ни Мэтта, ни Руфь Энн, ни Тринити. И Бэзила. Головы коснулось что-то холодное и мокрое; Эми пригнулась и повела вокруг фонарем. Лишь тени. Впереди упало что-то маленькое, серебристое. Эми посмотрела наверх и охнула, прижавшись к стене как можно дальше от центра комнаты. Пятно на потолке разрослось, напоминая огромное беременное брюхо, набрякшее желтой водой. Та капала в огромную лужу посреди комнаты. Похоже, провисший пузырь мог лопнуть в любой момент. По стенам оживленно журчали ручейки, сбегали в корзину с Волшебными Инструментами, растекались по разбухшим каталогам «Орска» – верней, по тому, что когда-то было ими. Сейчас поверх них лежали кипы канцелярского вида желтых листков, заполненных четким почерком. На листке сверху, датированном пятым мая 1839 года, было написано: …вкратце, данная комиссия нашла нижеследующее: Паноптикум Кайахоги – не более чем фабрика по производству безумцев. Многие кающиеся потеряли рассудок из-за отупляющей монотонности повторяющегося труда. Иные поддались отчаянию и нанесли себе увечья. Мельничное колесо отсоединено от жерновов, кающиеся, которых следовало использовать для прибыльного труда, посланы вращать «рычаг» до тех пор, пока не лишатся сил и здоровья и не смогут более трудиться. Комиссия не обнаружила признаков доходного производства. Комендант Исайя Ворт не только хорошо знает о вышеописанном положении дел, но извлекает из того удовольствие. Наша рекомендация: немедленное закрытие… Эми выпустила из пальцев листок. Все это она уже знала. Смотреть тут нечего и ждать тоже. Никто не придет. Пора идти дальше. Она в последний раз обвела взглядом комнату и заметила, что изменился лозунг на стене. Раньше там было: «Усердный труд делает „Орск“ семьей, семья освобождает от тяжелого труда!» Но бегущая вода смыла большинство букв. Сейчас надпись гласила: «труд освобождает». Эми уже была у выхода, когда послышался шепот. Кто-то совсем рядом бормотал и скребся. Эми повертела фонарем. Нет, никого поблизости. Она приложила ухо к мокрой стене и прошептала: – Привет? Ответ оказался таким громким, что Эми отскочила. – …прятаться, прячусь, не могут найти меня, не могут видеть меня, идут и идут… Голос такой хриплый, с присвистом. Эми сразу узнала его. – Руфь Энн? Что-то ударило, зашелестело по другую сторону гипсовой стены. – Эми? Та прижала руки к стене, беспомощно заскребла краску. – Руфь Энн, я вытащу тебя отсюда. – Нет. Здесь они не увидят меня. – Кто не увидит? – Жуткие Ползюки. – Ты залезла туда через чулан? – Я сделала укрытие, – ответила Руфь Энн. Что-то острое царапнуло по другой стороне стены. Похоже, ноготь. Затем Эми вспомнила дыру, процарапанную в стене чулана, и измазанные темной жидкостью края. – Ты ранена? Тебе больно? – Сначала было больно. Очень больно. Но теперь они не найдут меня. – Возвращайся назад, к дыре, – прижав ладони к стене, попросила Эми. – Ты сможешь найти дорогу в чулан? Я там встречусь с тобой… БАХ-Х! Что-то с такой силой грохнуло в стену с другой стороны, что Эми отбросило. Руфь Энн завизжала. – Это они! – Дыра! Жди меня у дыры! Эми кинулась к чулану. Дыра совсем никакая. Через нее не протиснешься. Но ведь Руфь Энн как-то смогла. Значит, можно. Эми опустилась на корточки, чтобы попытаться, и увидела, как что-то выбирается наружу. Черная от грязи рука ухватилась за край. – Помоги мне, – прошептала Руфь Энн. – Дай мне вторую руку, – попросила Эми. Она схватила оба запястья – и тут же чуть не выпустила их. Обе руки в крови и грязи, не удержать, пальцы скользят. Она вытерла руки об джинсы и попыталась снова, потянула сильнее, помогая Руфь Энн просунуть голову и плечи сквозь дыру. – Все будет в порядке, – заверила Эми. – Совсем скоро ты окажешься у себя на диване, будешь смотреть «Настоящих домохозяек». И больше никаких Жутких Ползюков. Что-то было не так с пальцами Руфь Энн. Они были твердые, будто с мозолями наверху, но ногтей нет, и вокруг разодрано до живого мяса. Выцарапывая дыру, Руфь Энн в буквальном смысле разодрала пальцы до костей. Каждый заканчивался кроваво-белым торчащим обломком. – Эми! – закричала Руфь Энн. Что-то схватило ее, потянуло назад, в дыру. Эми схватила женщину за плечи, но тот, кто находился с другой стороны, был намного сильней. – Держись! – прошипела Эми. – Я не хочу видеть их! – причитала Руфь Энн. – Я тебя не отпущу! Эми уперлась ногами в стену, отклонилась назад, но Руфь Энн неумолимо выскальзывала из рук, погружалась назад, в темноту. – Помогите!!! Рывок – и Эми полетела головой вперед в дыру. За стеной оказался тесный проход между гипсовой стеной и металлическими вентиляционными трубами. Слишком низкий – не проберешься даже на четвереньках. Эми поползла на животе, отталкиваясь ногами. Руфь Энн ехала ногами вперед, окровавленные руки шлепали по алюминиевым трубам и не могли уцепиться. Эми оттолкнулась сильней, вытянулась, схватила ее запястья. Фонарь откатился прочь, полосуя тенями проход. – Я держу тебя и не отпущу, клянусь! Руфь Энн лишь покачала головой. Вдруг ее голос стал спокойным, будто вдруг стало ясно, что будет дальше, и она все приняла и смирилась. – Тебе не хватит сил. – Хватит! – Нет. Ты одна, а их много. Но, дорогая, я хочу, чтобы ты знала: это не твоя вина. То, что схватило Руфь Энн, потянуло сильней, вырвало ее запястья из рук Эми, повлекло в темноту. Извиваясь, Эми поползла вперед, но никого догнать не смогла. – Руфь Энн! – отчаянно закричала она. А подругу, казалось, будущее больше не волновало. Она перестала сопротивляться, нецеплялась и не корчилась. – Не беспокойся. Если я не смогу видеть их, то они не смогут увидеть меня. Затем без малейших колебаний она воткнула обломки пальцев в глазницы и вырвала себе глаза. – Нет! – закричала Эми. Она схватила фонарик, посветила в проход. Поздно. Руфь Энн уже исчезла. Остались только кровавые отпечатки пальцев на гипсовой стене. Издали донесся мягкий шлепающий звук – в глубь магазина волокли бездыханное тело. Еще утром, когда Эми боялась увольнения, Руфь Энн обнимала ее. А дома на диване Руфь Энн остался Снупи и ждал, когда вернется хозяйка и включит телевизор. Она не колебалась ни секунды, когда Карл изувечил себя, сразу сняла блузку и попыталась остановить кровь. Руфь Энн была лучшей из них всех. Что-то окаменело в душе Эми, она стиснула кулаки и пообещала себе вытащить всех. Без исключения. И неважно, кто попытается остановить ее и через что придется пройти. Она уже бросила достаточно в своей жизни – и друзей не бросит. То, что произошло с Руфь Энн, больше ни с кем не случится. Эми выползла из норы, оцарапав себе ребра, осторожно закрыла дверь чулана за собой и пошла по задворкам магазина к двойным качающимся дверям кафе. Там отключила фонарь и, толкнув створку, проскользнула на этаж Демонстрационного зала. Впереди, в сочащемся сквозь окна справа оранжевом свете виднелись эскалатор и лестница, ведущие на Торговый этаж. Слева виднелись Детские. Эми могла разобрать очертания проходов и сориентироваться. Она и не думала скрываться. Когда справа что-то задвигалось, Эми включила фонарь и посветила в кафе. Первым, что она увидела, был человек в грубой серой робе с широкими белыми полосами поперек нее. Человек протянул обе руки направо и принял от соседа стул «Задл». Стул человек держал за ножки на высоте груди и передал соседу слева – будто они вытаскивали мебель из приятельского дома. Тот передал соседу слева, тот своему соседу, и дальше, дальше – по кругу. От того, сколько их было, у Эми перехватило дыхание. После двадцать первого она перестала считать. Если их было больше, знать об этом она не хотела. Люди не обращали на Эми внимания, передавали по кругу как минимум дюжину кресел, работали ритмично, механически, будто клапаны машины. В сумраке что-то двигалось по лестнице. Эми направила туда фонарь. Еще четверо спускались по ней – далеко не такие тощие и грязные, как люди в кафе, но в капюшонах, с пояса свисают дубинки. Эта четверка приближалась с неумолимостью роботов. Наверняка охранники, стражи, те, кто охотится за убегающими и наказывает смутьянов. Эми знала: они идут за ней. Она всего на секунду оторвала взгляд от людей в кафе, а когда снова посмотрела на них, оказалось – они поставили стулья на пол и уставились на нее. Мгновенно пересохло во рту, из желудка толкнулся наверх кислый ком. Если бы Эми могла собраться с мыслями, наверное, кинулась бы наутек. Но эти десятки взглядов буквально пригвоздили ее к месту. Хуже всего – их лица. Измазанные, покрытые темной вуалью, будто кто-то размазал черты грязным ластиком, оставил лишь смутные узлы теней. Ни глаз, ни носа, ни рта, ни человечности. Стерта всякая индивидуальность. Эми посмотрела на лестницу. Люди в капюшонах уже спустились. От сознания их близости ее будто пронзил ток, она встрепенулась и бросилась в Детские. На бегу отключила фонарь, надеясь спрятаться. Она слышала, как движутся сзади тела, но не рискнула обернуться. Куда бежать, она знала в точности. Уворачиваясь от мебели и виляя, прошмыгнула мимо темных закутков Детской, заскочила под башни Шкафов, промчалась мимо Ванных и, наконец, добралась до экспозиции со спальней «Финнимбрун». Эми включила фонарь, направила в пол. Тот был покрыт грязью, пятнами липкого клея, клочьями черной земли. Натоптанный грязный след тянулся мимо «Мезонксика» – прямо туда, откуда Эми недавно вырвалась. В дальнем конце узкого коридора цвета ржавчины фальшивая деревянная дверь зияла, будто рот клоуна, приглашала зайти. Там Бэзил. Может быть, и Мэтт с Тринити. Для Руфь Энн уже слишком поздно, но, возможно, удастся спасти хоть кого-нибудь. Нужно идти. Эми глубоко вдохнула, наполнила легкие вонючей болотной сыростью, плывущей холодом из раскрытой двери, и бросилась вперед, чертя лучом фонаря по стенам. Она отправилась в сердце Улья.
Глава 14. Йоллуп
Если Вы носите этот весьма стесняющий головной убор, то Вам строго рекомендуется ходить медленно и размеренно, уделяя самое пристальное внимание прямой осанке. «Йоллуп» склоняет Вашу голову в знак покорности и смирения, нагружая череп и шею необходимым весом. «Йоллуп» также снабжен колокольчиком, оповещающим всех о Вашем присутствии. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: ЖЕЛЕЗО Д 18¾ × Ш 14¼ × В 16¼ Номер товара 3927272666Коридор выглядел заметно у́же, чем в прошлый раз. От гнилой вони кружилась голова. Луч фонаря обшаривал пол, потолок и стены, разгоняя тени. Штукатурка на крошащихся стенах взмокла и гнила, будто кожа прокаженного. Пол казался мягким из-за толстого слоя грязи. Слизь и грязь сталактитами свисали с потолка. Эми бежала. Впереди коридор сворачивал направо, уходил во мрак. На углу Эми остановилась в нерешительности, сперва сунула вперед фонарь, затем выглянула сама. Там лежал пустой, безопасный с виду коридор – будто завлекал. Еще тридцать футов, и коридор разветвился. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Эми свернула налево. Затем снова повернула налево, и еще раз, затем направо, все глубже погружаясь в Улей. Коридор сузился так, что плечи касались стен. Эми напряженно вслушивалась, надеясь распознать голоса Бэзила, Мэтта или Тринити. Но доносилась лишь тихая капель воды, сбегающей по стенам, собирающейся у ног. Потихоньку подступала клаустрофобия. Страх стучал в рассудок, подначивал. Мол, если попытаешься вернуться так, как пришла сюда – коридор окажется другим. Эми напомнила себе, что магазин запрограммирован на дезориентацию. Так что лучше просто идти вперед. Налево, направо, направо, налево. Струя холодной воды с потолка, будто игла, скользнула за шиворот – словно ударила током. Эми потянулась вытереть. Жидкость была с желтой грязью, будто с гноем из проколотого нарыва. Стены давили, дышалось с трудом. Заболела голова. Налево, направо, направо, налево. Эми свернула за угол и замерла. Новый коридор, и без оштукатуренных стен, сочащихся влагой. По обе стороны – высокие железные решетки, похожие на двери, поперечины из шелушащихся ржавчиной прутьев. Что делать? На голову каплет холодная вода. Надо идти вперед? А вдруг эти двери открыты, вдруг кто-то прячется в темноте за ними? Но Эми была уверена: цель близка. Магазин хотел помешать ей найти это место; пытался запутать ее, но она все равно нашла. Она шагнула вперед, затем еще раз. – Бэзил? – прошептала она. – Мэтт? Тринити? Спереди и слева из решетки вылез белый червь. Эми подошла поближе и поняла, что это палец. Из решеток ползли человеческие руки, протискивались в щели, тянулись к ней, к ее теплу. Грязные пальцы колыхались в холодном воздухе, как анемоны, вынюхивали ее своими подушечками. Эми обвела коридор лучом фонаря, и решетки взорвались бледной плотью. Сотни рук протискивались сквозь прутья, стены сделались покрытыми живой шерстью из шевелящихся пальцев. Эми кинулась бежать. Пальцы скребли по лицу, коленям, бедрам, груди, старались зацепить одежду, продраться к коже. Коридор закончился очередной развилкой. Слева – подобие уже пройденного, решетки и сотни торчащих рук. Эми пошла направо. Вода закапала сильней, с потолка пошел настоящий дождь. Эми вытерла рукавом лицо, свернула за угол. Она понимала, что окончательно сбилась с пути и заплутала, но была уверена: нужное все ближе. В новом коридоре комнаты по сторонам гораздо больше и дальше отстояли друг от друга. Эми заставила себя посветить в них. В каждой была мебель, утащенная из Демонстрационного зала, словно кающиеся были насекомыми, готовящими гнездо к зиме. В одной – стол «Горежырр» с заботливо расставленными стульями. В другой – напольный матрац «Скоптсы», весь покрытый плесенью, обвис, прислоненный к стене. В третьей комнате – разбитые салатные миски. Осколки блестят в луче фонаря, толстым ковром лежат на полу, будто только и ждут того, чтобы вонзиться в чьи-нибудь артерии и вены. В последней комнате коридора – вешалка для полотенец «Мунго». Система состояла из двух матовых, элегантно изогнутых стальных стержней. Верхний – для больших банных полотенец, нижний, потоньше – для ручных и мочалок. Система «Мунго» была бестселлером в Ванных. А здесь с нее свисал человек. Связанные за спиной руки прикручены к верхнему стержню кожаными ремнями. Ноги согнуты в коленях, лодыжки перекрещены, ступни привязаны к нижнему, так что тело образовало гротескно изогнутую фигуру. Наволочка «Противвдуп», пропитанная темной жижей, закрывала лицо будто капюшон. Эми сразу узнала брюки и рубашку. Человек пошевелился, глухо звякнул колокольчик. – Бэзил? – прошептала она. Он испустил негромкий, исполненный боли стон, качнулся в одну сторону, в другую. В тесной комнате колокольчик бренчал с неестественной громкостью. – Это я. Все в порядке. Я вернулась за тобой. Она взялась за верх наволочки двумя пальцами, сдернула ее с головы. Под ней оказалась клетка из стальных полос, закрепленная на голове железными винтами, закрытая на шее болтом с барашковой гайкой. С воротника свисал грубый железный колокольчик. Один глаз Бэзила почти полностью заплыл, второй покрывала запекшаяся кровь. Нижняя губа рассечена, скулы в синяках и распухли. Он повернул распухшее лицо к Эми, пытаясь разглядеть ее. – …Э… ми… – Я сейчас тебя освобожу. Бэзил тяжело, быстро, глубоко задышал. Эми присмотрелась к прихватившим руки ремням. Их сильно затянуло, узлы – как стальные. А вот под весом Бэзила вылезли болты с одной стороны основания «Мунго». Она уперлась ногой в стену, дернула стержень, а вес Бэзила довершил остальное. Он обвалился на пол лицом вниз, ударился плечом и шеей, взвыл от боли под дикое бренчание колокольчика. Узлы перестали затягиваться под весом тела, и Эми смогла развязать их. Она осторожно вынула ноги Бэзила из кожаных петель, опустила на пол. Сложнее оказалось справиться с клеткой на голове. Но болт, скреплявший воротник, в конце концов поддался усилиям, и Эми даже охнула от радости. Дальше просто: отвинтить, отомкнуть защелку и зашвырнуть страшное железо в угол. Освобожденный от уз Бэзил лежал, будто изломанная кукла, и тяжело дышал. По щекам катились слезы. – Я тебя переверну, – предупредила Эми. Когда она перевернула его на спину, он охнул. Она схватила его за руки, высвободила из-под тела, потерла кисти, стараясь вернуть им чувствительность. – Моя рука, – выдохнул Бэзил. – Она сломана? Эми не знала. Она никогда не видела, как выглядит сломанная рука. – Мы уходим отсюда, – вместо ответа сказала Эми. – Магазин попытается остановить нас, будет путать, лезть в голову, завладевать рассудком. Но если сосредоточиться и собраться, можно ему не позволить. Нужно бороться, понимаешь? Похоже, Бэзилу было очень больно. Он закрыл глаза. – Я же сказал тебе уходить. – И когда это я исполняла твои приказы? Бэзил скривился. Эми сперва и не поняла, отчего. Губы натянулись, открыли окровавленные зубы, лоб сморщился, щеки сдвинулись. Он улыбался. – Магатвешфенная, – прохрипел он. – Что? Он прокашлялся, сплюнул кровью. – Ты – настоящая Ответственная по Магазину. Я всегда это знал. Эми подтянула его к стене, помогла сесть, опершись спиной о мокрую штукатурку. – Это был комендант, Исайя Ворт, – прошептал Бэзил. – Он сделал это со мной. Он сказал, что я слабый, неэффективный и что он управится с людьми вместо меня. – Бэзил, ты – отличный менеджер. Он покачал головой, спросил: – А где Тринити? – Она ранена. Но она еще в магазине. Мэтт пытается отыскать ее. – Он в безопасности? – Не совсем, – ответила Эми, не зная, стоит ли сообщать о самом плохом. – Мне кажется, Руфь Энн… – Что? – Мертва, – сказала Эми и сглотнула. В горле будто засел кусок стекла. Бэзил оперся затылком о стену, зажмурился. – Я знал, что мне не следовало звать ее сегодняшней ночью. Я знал. И погубил ее. Я все испортил и погубил Руфь Энн. – Это не твоя вина. Это ничья вина. Бэзил снова покачал головой. – Я так выбрал. Я пригласил вас обоих. Это дало мне повод поговорить с тобой. – Что? – Я думал, что смогу выяснить, почему ты так популярна. Почему все говорят с тобой. – Я не так уж и популярна. – А я зануда. Пока я не стал менеджером этажа, со мной никто и не разговаривал. Эми подумала над этим с минуту и, наконец, сказала: – Есть вещи и похуже, чем быть занудой. Потом они сидели и молчали так долго, что Эми встревожилась. Уж не заснул ли Бэзил? – Нужно идти. Отдохнуть можно и снаружи. Она попыталась поднять его, но, похоже, Бэзил не пылал желанием снова навестить Демонстрационный зал. Ему была нужна мотивация. – Тебя же ждет дома сестра. Ей нужно, чтобы ты вернулся домой, верно? – У нее завтра день рождения, – вяло сообщил Бэзил. – Вообще-то, уже сегодня. – Как ее зовут? – Шанетт. Ей исполнится десять. – И что ты купил ей? – Лего. Она хочет айпэд, но мы экономим. – А торт? Ты купил ей торт? – Мы его сделаем. Как всегда. Традиция. – Тогда лучше нам увести тебя отсюда, – заверила Эми. – Доставим тебя домой, и ты испечешь ей торт. – Еще минутку, – попросил Бэзил. – Дай мне посидеть еще минутку. Эми присела рядом. Батарея в фонаре садилась, свет пожелтел до оттенка старой кости. Хорошо, еще минутка. Так хорошо просто сидеть, не двигаться, не бежать. Это было приятно и казалось чем-то правильным. Можно остаться здесь, а поутру новая смена отыщет их. Нет нужды бояться, принимать трудные решения. Фонарь все тускнел и тускнел. Скоро он погаснет, останется лишь сидеть в темноте и ждать. Но в глубине души Эми знала: это все неправда. Так магазин подталкивает разум, лезет в голову, подстегивает скверные старые привычки и страхи. Она взялась за палец с вырванным ногтем и сдавила так, что перед глазами заплясали огни. Боль помогла подняться на ноги, трезво подумать. Эми хлопнула в ладоши, резкий звук эхом заметался по комнате. – Больше никаких промедлений! Мы не останавливаемся, пока не выберемся отсюда. – Еще минутку, – сонно выговорил Бэзил. – Нет! – отрезала она, схватила его за руку и потянула вверх. – Вот так магазин и выигрывает. Когда мы перестаем стараться, когда ленимся. Давай, Бэзил, шевелись. Она ощущала себя учительницей физкультуры, хлопающей по плечу, увещевающей, дергающей и грозящей. Но в конце концов она поставила его на ноги. – Ох, – глухо выдохнул он сквозь разбитые, распухшие губы и завалился направо. Эми подхватила его и держала, пока кровь возвращалась к ногам. Как поток острых иголок вниз по щиколоткам в ступни. Бэзил скрючился от боли. Эми помогала ему удержаться на ногах, пока не пройдет боль. – Куда идти? – наконец спросил он. – За мной, – с непререкаемой уверенностью ответила она, хотя понятия не имела, куда. Она вспомнила: кто-то говорил ей, что путь наружу из любого лабиринта – это всегда поворачивать направо. Конечно, план действий так себе, но можно сосредоточиться на его исполнении, так хотя бы магазин в голову не заберется. Она помогла Бэзилу выбраться из комнаты, но в дверях его ноги подкосились, и он рухнул на пол. – Холодно, – простонал он. В тусклом свете Эми увидела, что его босые ноги мокры. Тонкая пелена воды текла с коридора, где целиком закрыла пол. Вода вихрилась у пяток. – Где-то протечка, – пробормотала Эми. – Труба лопнула, – уточнил Бэзил, когда Эми помогла ему подняться на ноги. Он был прав. Вода прибывала, неслась по полу. Пока глубина не больше дюйма, но уровень не убывал. Беглецы зашагали быстрее, эхо шагов разносилось по коридору. – Как мы выберемся отсюда? – осведомился Бэзил. Эми хотела объяснить свою идею с лабиринтом, но в голову пришла идея получше. – Пойдем вслед за водой. Она всегда отыщет дорогу. Они дошлепали до угла, свернули в коридор с решетками. Он воды веяло холодом. Сквозь решетки просунулось целое море рук, возбужденное людским присутствием. – Что за чертовщина? – пробормотал Бэзил. – Направь луч вперед и не отходи далеко от меня, – велела Эми и вручила ему гаснущий фонарь. – Их слишком много. – Тут не очень с обходными путями. Или ты собрался остаться здесь? Бэзил покачал головой. Прежде, чем он передумал, Эми схватила его за пояс, и оба шагнули к рукам. Те тут же протянулись к ней – словно нетопыри-альбиносы из темноты захлопали крыльями у лица. Руки хватали, тянули, щипали. Эми пригнула голову и упорно ступала сквозь водоворот холодной плоти. Руки хватали за волосы и выдирали пряди, лезли как черви в рот, цеплялись за щеки и одежду, шлепали по глазам, и оттого перед ними будто вспыхивал свет. Хотели сбить с ног, затянуть к себе. Шатаясь, дрожа, хныча, покрытая грязью от нечистых рук, Эми упорно брела вперед и тащила за пояс Бэзила. Она пыталась отшибить самые наглые, но те хватали за пальцы, выворачивали до хруста в суставах, драли лицо. И вдруг исчезли. Эми с Бэзилом выбрались из коридора решеток, как пловцы на берег, и остановились, не в силах отдышаться. Бэзил уставил вытаращенные глаза в пол, беззвучно шевелил располосованными губами. Руки разодрали запекшиеся раны, снова потекла кровь. Эми выпустила пояс, согнулась. Она ощущала себя испачканной сверху донизу. – Твои волосы… они вырвали их, – прошептал Бэзил. Она пощупала свою голову. Вся липкая от крови. Ступни обожгло холодом. Эми вздрогнула. Вода уже заливалась в ее кеды «Чак Тейлор». – Главное – двигаться, – сказала она. – Мы уже почти пришли. Они свернули налево, направо и снова направо, вслед за потоком воды. Все просто: если глубже, то идешь в нужном направлении. Вода всегда следует по пути наименьшего сопротивления. Луч фонаря уже едва рассеивал тени, превратился в слабое сияние, отражающееся от темной водяной поверхности. Несмотря на раны, Бэзил не отставал, а когда начинал, Эми хватала за здоровую руку и тянула, и пара шагала быстрее. Эми подумала, что они двое ни дать ни взять – пара крыс, бегущих с тонущего судна. Наконец, за очередным углом, в двадцати футах впереди показалась дешевая белая деревянная дверь. Вот и выход в Демонстрационный зал. Перед ним собралась лужа. Эми прошлепала к нему, нащупала круглую ручку и повернула. Дверь раскрылась – и вода хлынула в зал, разлилась по Спальням, исчезла под «Пайконнями» и «Финнимбрунами». – Затопленный Демонстрационный зал, – плюхаясь на кровать, мрачно подытожил Бэзил. – Комиссии это безумно понравится. – Это наименьшая из наших проблем, – забирая у него фонарь, мрачно посулила Эми и вдруг заметила, на чем Бэзил сидит. – Ха, Спальни. Мы в Спальнях. А ну-ка, пойдем! Она кинулась чуть не бегом. Бэзил едва поспевал. Свет фонаря мерцал и дрожал, будто пламя гаснущей свечи. Эми подняла его над головой, затем опустила вниз, полезла под кровать. – Что ты ищешь? – спросил Бэзил. – Сумки. У Мэтта вместе со снаряжением и фонари. – Эми, Спальни – огромные. Ты их ни за что не отыщешь. Та прекратила метаться. Обнаружив свою цель, она кинулась за «Мюскк». Перегнулась через него и потащила с пола мокрую спортивную сумку. – Что ты там говорил? Открыть молнию, запустить обе руки в содержимое, обыскать, затем поднять и вывернуть на кровать. Выпал длинный черный «Маглайт». Бэзил схватил его, щелкнул выключателем. Вырвался мощный луч белого света. – Ты – мой новый супергерой, – объявил Бэзил. – А теперь пошли, отыщем остальных. Он повел лучом по Спальням. – Не надо! – крикнула Эми. Слишком поздно. Фонарь безжалостно высветил ожидающих в темноте: среди мебели затаились сотни грязных призраков. Куда бы ни ткнулся луч, там с бесконечным терпением дожидались кающиеся, окружали, заполняли зал. Эми вспомнила, как ее схватили и понесли к креслу. Лютый ужас пронизал ее сверху донизу, она окаменела. Сотни потерявших человеческое духов со стертыми лицами окружили ее – недвижные, бездыханные, застывшие как трупы, молчаливые как смерть. Затем в их толпе что-то зашевелилось. Группка передвинулась в сторону, открыла дорогу кому-то, бесцеремонно шагающему к беглецам. Наконец из безликой толпы мертвецов выступил Карл, или, скорее, комендант Исайя Ворт, он промакивал губы образцом обивочной ткани. Его лицо скривилось в ухмылке, полной ненависти и презрения.

Глава 15. Литтабод
С помощью центробежной силы, вызывающей потерю сознания и обмороки, «Литтабод», непрестанно вращающаяся машина, обуздывает грубые импульсы природы и обращает их против Вашего тела. Если Вам повезет, действие ограничится лишь рвотой и перманентным повреждением мозга. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: СНЕЖНАЯ БЕРЕЗА, НОЧНАЯ БЕРЕЗА И СЕРЫЙ ДУБ Д 92¾ × Ш 32¼ × В 34¼ Номер товара 6595956661Первой реакцией Эми было выключить свет, закрыть лицо руками, будто маленький ребенок, и тем заставить чудищ уйти – будто они просто Жуткие Ползюки Руфь Энн. Если не видишь их, они не видят тебя. Но Эми понимала: для этого уже слишком поздно. Она больше не сможет спрятаться. Чудища настоящие. Так что Эми заставила себя смотреть. Она увидела выставку гниющей униженной плоти. Руки торчали под неестественными углами, ноги были вывернуты, раздроблены в коленях, спины согбены, искривлены, лохмотьями свисали одежда и кожа. Мертвецы смердели болотной грязью. Эми не могла оторвать от них глаз. – Работа выжигает болезнь из разума, – объявил комендант Ворт. – Это – философский камень, превращающий низкий металл девиации в чистейшее золото послушания. Та же самая проповедь, огонь и сера, но теперь Эми заметила: с голосом Исайи происходит что-то странное. Он словно доносился издалека, как если бы Эми с Бэзилом слушали его из телефонной трубки на скверной линии. Хуже того, звуки речи не соотносились с движениями губ. Карл выглядел персонажем плохо дублированного кино. – Думаю, надо драпать, – прошептала Эми Бэзилу. – Давай-ка налево. Тот не ответил. Эми глянула: его кожа блестела от холодного пота, он бормотал под нос. – Дети мои, глупец и трусиха, – улыбаясь, обратился к ним комендант. – Что за разочарование! Вы двое не вняли моим урокам. Но я неутомим в научении, и теперь вы присоединитесь к вашим соратникам на моей фабрике, где мы перекуем ваши рассудки в нечто более приемлемое. – Твоя фабрика закрыта. Ее больше нет, – произнесла Эми. – Бедная больная глупышка. Я так хотел вылечить тебя. Мои кающиеся пришли ко мне полными скверны, и я работал с их смертными телами излечения ради. В процессе улучшения их разумов некоторые были повреждены, некоторые приняли новые болезненные формы, но ведь скульптор должен тесать камень, дабы придать ему видимость более приятную глазу. Должен ли скульптор выпустить резец при первых криках боли? – Мы уходим, – сказал ему Эми. – Забираем друзей и уходим. – Я бы нарушил свою клятву, если бы выпустил вас столь больными. Мои покровители не смогли осознать ни моих методов, ни моей миссии и пытались увести моих кающихся до их излечения. Я не допустил этого тогда, не допущу и сейчас. Эми посмотрел на заливающую пол воду и поняла. – Что ты сделал? – Лучше было бы спросить, как я спас их. Я принес высшую жертву. Мои стражи отвели их вниз, в мастерские, и закрыли двери. Те, кто не желал подчиниться и сотрудничать, были спокойно помещены в гробы, дабы не беспокоить остальных. Затем я открыл шлюзы и позволил реке навеять им сон, обнять, подобно матери, обнимающей больное дитя. – Ты их утопил, – сказала Эми. – Я спрятал их в пелене времени. Триста восемнадцать человек. Я, будто простыней, покрыл рекой их головы, а затем вспорол себе горло, чтобы когда-нибудь вернуть их и вылечить. Я понимаю, сколько неудобств доставило это моим благодетелям. Я понимаю, что они не смогли отыскать тела и принуждены были набивать гробы речной грязью и так похоронить, чтобы утешить бесстыдно рыдающие семейства. Но я пережил их всех. Эти больные – хворающие ленью, ложными представлениями, безумием, развратным поведением – все будут излечены. Я не прекращу моих трудов до полного излечения каждого, пусть даже мне придется начинать работу заново каждую ночь до скончания мира. Разве это не похвальное устремление? Разве не великолепен мой разум? Он визжал и вещал, а Эми рассматривала человекоподобные фигуры вокруг него. Лица затенены, покрыты тьмой и грязью. Но Эми не ощущала в них зла. Ей было очень жаль их, давным-давно отбывших свои сроки. Бедные потерянные души, так и не достигшие искупления, вынужденные бесконечно предаваться тем же самым бессмысленным занятиям. Они сунули ее в кресло не потому, что ненавидели. Они просто не знали, что еще делать с ней. Чувство вины и стыд приковали их к этому месту, хотя сроки их давно истекли. – К сожалению, тебя не излечить за одну ночь, – уставившись на Эми, процедил Ворт. – Но твоя болезнь усугубилась. Лечение будет трудным. – Я не больна. – О, еще как больна! И теперь присоединишься к друзьям. Как хорошо иметь новых пациентов. Еще столько терапий я не опробовал! О, теория удаления органов доктора Коттона. Ротационная машина. Гидротерапевтические ванны. Полное погружение. – Слушайте меня! – закричала Эми, и ее голос раскатился по Демонстрационному залу. – Вам не нужно тут больше быть! Кающиеся не подали виду, что услышали ее. – Эми? Что, черт возьми, ты делаешь? – прошипел Бэзил. – Но, прежде всего, мы полагаемся на тяжелый труд, – продолжил комендант. Эми подумала, что то ли у нее разыгралось воображение, то ли в самом деле голос коменданта делался громче, будто он пытался перекричать ее. – Это станет основой и базой твоего лечения! Ибо тяжкий труд – это великий жернов, на котором заострится твой дух. Тяжкий труд – лестница, по которой твоя смрадная плоть взойдет к здоровью. – Вы уже отбыли свой срок! – крикнула Эми. – Любое ваше наказание уже давно закончилось! Что вы сделали? Убили людей, которые и так уже давно мертвы? Украли еду для семей, которые лежат в земле? Задолжали сто лет как исчезнувшей компании? Вы уже заплатили за свои преступления! – Остерегайтесь лжецов, завлекающих вас в слабость! – взвизгнул Исайя Ворт. – Вы знаете тяжесть ваших грехов. Ее никогда не избыть. Искупление лишь в вечности. Это единственный путь к благу, единственная истинная заповедь! – Никто не держит вас здесь! – крикнула Эми. – Вы не закованы, вы не больны, вам не нужно лечение. Вы можете уйти в любое время. Это все, что вам нужно сделать. Уходите. Вы можете обрести свободу! Кающиеся зашевелились, зашлепали босыми ногами по грязи. – Это не очень хорошая идея, – прошептал Бэзил. – Свободу! – еще громче крикнула Эми. – Здесь больше нет тюрьмы. Она развалилась многие десятилетия назад. Стен больше нет. Никто не помнит ваших преступлений! – Свобода через труд! – истерично завизжал Ворт. – Это единственная свобода! Ибо свобода – это кнут, умерщвляющий вашу падшую плоть, вылепляющий из ваших грехов нечто более приличное, достойное… – Вы больше не в цепях! – перекричала его Эми. – Ваше заключение – просто ваша привычка! Вы свободны уже десятилетия – вы просто не осознали этого! – Она лжет! – вопил Исайя. – Она забивает ваши уши сладкими словами и пустой надеждой! Но есть лишь один финал! Нет других путей! Нет другой цели! На мгновение повисла тишина. Эми показалось, что сейчас может случиться что угодно. Комендант Ворт качнулся вперед – его толкнули в спину. Он развернулся, разбрызгивая грязь с пола. – Кто смеет касаться меня?! Я – ваш блюститель! Толпа теней зашаркала ногами, подалась вперед. Грязные тела окружили коменданта, схватили, принялись толкать, тянуть, пихать с одного края тесного кольца к другому. Они казались голодными, словно стая диких зверей. Будто их спустили с поводка. Покрытые грязью и гнилью, они зароились вокруг, скрыли коменданта из вида. Исайя заверещал разорванной глоткой, а затем визг превратился в бульканье и хрипы. Эми была рада тому, что больше не видела Ворта. Они с Бэзилом захотели уйти, но толпа кающихся, неподвижных, как камни, по-прежнему стояла на пути. – Отчего они не уходят? – прошептал Бэзил. – Не знаю, – прошептала Эми в ответ. – Сворачиваем налево. Они подались влево, к Яркому Сияющему Пути, но на дороге встали другие кающиеся. Эми подумала, что это вовсе бессмысленно. Она же освободила их, обнулила сроки. – Чего они хотят? – спросил Бэзил. Эми не успела ответить. Кающиеся хлынули к ним приливной волной, захлестнули, сбили с ног, подхватили, крутили и качали, понесли в гнилой вони, совершенно беспомощных против грубой бессмысленной силы. Эми закричала, но вскоре умолкла, растерянная. Кающиеся ничего не хотели лично от Эми с Бэзилом, но лишь подчинились безумному ритуалу, управлявшему их душами больше столетия. Ритуал стал их сутью. Бэзил попытался дотянуться до нее, но масса захлестнула его, унесла прочь. Луч фонаря скакал по потолку. Бэзила погребли тела. Это опять кресло. Они тащат ее в кресло. Эми вырывалась, но их руки были словно железные балки, обмерзшие, заляпанные обжигающе холодной грязью. Руки оторвали извивающуюся, размахивающую руками и ногами Эми от пола, подняли над головами. В редких сполохах от фонаря закрутился потолок. Ее опустили рядом с едва различимым в сумраке продолговатым ящиком – лежащим шкафом, раскрытым и похожим в темноте на гроб. – Я не помещусь, – безумно подумала Эми, когда ее впихивали в шкаф. – Я совсем не помещусь… Кающиеся закрыли дверку. Эми выпрямила руки, оттолкнула опускающийся кусок дерева. Но те налегали сверху всей тяжестью, их было слишком много. Хотя Эми смогла задержать их, напрягая руки, будто отжимаясь, но вскоре ощутила, будто руки в локтях начинают выгибаться в неправильную сторону. Еще немного – и сломаются. А кающиеся не ослабляли напор. Так что Эми расслабилась, крышка захлопнулась с такой силой, что воздухом толкнуло в лицо. Сверху загрохотало. БЛАМ-БЛАМ-БЛАМ-БЛАМ… В тесноте шкафа каждый удар слышался, будто выстрел в упор. В шкаф загоняли гвозди, забивали намертво. Звуки ударов заполнили Демонстрационный зал. Улей снова наполнился шумом работы.
Глава 16. Ингаутопп
Отдайтесь панике, ужасу и отчаянию медленного утопления, когда самая смерть становится далекой надеждой. Элегантно спроектированная гидротерапевтическая ванна «Ингаутопп» позволяет пользователю снова и снова переживать подобный стресс – до тех пор, пока не завершится лечение. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: НОЧНАЯ БЕРЕЗА, НАТУРАЛЬНЫЙ КЛЕН И СЕРЫЙ ДУБ Д 22¾ × Ш 21¼ × В 68¼ . Номер товара 0056660043Наконец грохот стих, оставил опустошающую тишину. Эми была полностью обездвижена в ящике приблизительно шести футов длины, двадцати дюймов ширины и таком неглубоком, что крышка касалась лица. Ящик был размером с гроб, но Эми сразу поняла, что это «Лирипип», один из бестселлеров в Шкафах. Она не могла согнуть колени, правая рука оказалась зажатой под телом. Она уперлась левой ладонью в крышку. Но даже не смогла распрямить руку, это было все равно что поднимать гору. Хриплое дыхание гулко отдавалось в тесном пространстве. Она попыталась думать рационально. Опасность задохнуться не угрожает. Крупная корпорация наподобие «Орска» не сделала бы настолько воздухонепроницаемый шкаф. А если внутрь заберется ребенок? Но если вот этот конкретный «Лирипип» случайно сделали воздухонепроницаемым? А если кающиеся завернули его в упаковочный пластик? А если они хотят закопать ее где-нибудь в Улье? А может, они попросту хотят запихнуть ее на далекую полку в огромном Складе Самообслуживания да и оставить там? Хоть кто-нибудь тогда услышит? Она может пролежать там многие месяцы, прежде чем кто-нибудь обнаружит ее останки. Эми громко закричала, забилась, ударяя плечами о стенки. Но все бесполезно. Она едва могла шевельнуться. А чем меньше могла шевелиться, тем больше хотелось, тем нужней было выбраться наружу ПРЯМО СЕЙЧАС! Затем она почувствовала воду. Сперва Эми посчитала ее собственным потом. Но поняла, что влаги слишком много и та слишком холодная. Словно ледяная рука обняла правое бедро, настолько студеная, что задрожала ступня в «Чаке Тейлоре». Если б посветить, то наверняка бы Эми увидела пар от своего дыхания. Она прислушалась, пытаясь понять, что же происходит, но мешал прерывистый хрип, вырывавшийся из горла. Эми заставила себя дышать спокойней, и, наконец, различила шорох своей одежды, тонкий звон в ушах. А за ними – спокойное, ровное, неумолимое журчание воды, которая текла мимо «Лирипипа» и затапливала Демонстрационный зал. Эми провела пальцами правой руки по задней стенке шкафа. Мокрые. Вода потекла в рукава. Эми снова пощупала заднюю стенку и обнаружила уже стоячую воду. Ледяная, та продолжала течь, понижая температуру тела, заставляя дрожать и стучать зубами. Шкаф – будто камень посреди потока, вода струится по обе стороны. Вдруг он скользнул налево. Сперва Эми подумала, что ее снова подняли кающиеся, но шкаф закачался, задрожал. Поплыл. Вскоре пальцы правой руки целиком покрыла вода. Чтобы дышать, пришлось прижиматься к самой дверце. Эми закричала, забилась, а вода поднималась все выше, заливала плечи и колени, заполняла нижнюю половину «Лирипипа». Вопреки всем ее подвигам – бегству из кресла и магазина, спасению Бэзила и встрече с комендантом – ее, Эми, настигнет смерть. Эми утонет, заколоченная в «Лирипипе». И вот тут до нее дошло. Заколоченной в «Лирипипе»? Все партнеры магазина знали: клиенты ненавидели «Лирипип». Продавались эти шкафы по бросовой цене, покупали их пачками, но всякий купивший вскоре сожалел об этом. Разъяренные покупатели без конца отправляли их на Возврат. Сборка шкафа была бесконечным источником фрустрации. Верхняя крышка крепилась к боковинам на четырех болтах, которые никогда нормально не зажимались. Даже полностью завинченные, они ослабевали и выпадали от малейшего движения. «Лирипипы» в Демонстрационном зале постоянно подкручивали, а это можно было сделать только особым «орским» Волшебным Инструментом. Как все добропорядочные работники «Орска», Эми всегда носила с собой Волшебный Инструмент. То есть надо достать его, дотянуться до крышки, отвинтить два болта и снять ее. Если повезет, шкаф развалится целиком. Такое бывает при халатной сборке плоско упакованной мебели. В нормальных обстоятельствах – легче легкого. Но как это сделать, когда все сильней немеет рука, когда ты заперта в темноте и тебя заливает ледяная вода? Но другого выхода нет. Сперва надо залезть в правый карман, причем левой рукой, потому что правая зажата под телом. А левая лежит на груди, зажатая дверцей. Эми попыталась распрямить руку и так сильно вдавила в дверцу, что побоялась сломать себе запястье. Но нет, удалось протиснуть, опустить руку к талии. Пальцы мяли холодные складки мокрой одежды. Ага, а вот и глубокая складка… похоже, карман… мышцы напряглись, будто стянулись в узлы… и где он? Господи, а вдруг потеряла? Выронила из кармана, когда бежала? Она машинально попыталась глянуть вниз и с такой силой ударилась лбом о дверцу, что прикусила кончик языка. Пальцы пролезли глубже, нащупали что-то твердое и острое. Эми выгнулась, помогая предмету выскользнуть из кармана, ухватила мокрую металлическую рукоять кончиками пальцев и вытащила Волшебный Инструмент. Теперь самое трудное. Эми как-то умудрилась вывернуть правую руку, просунуть вверх, затем принялась просовывать наверх левую, прижатую к животу. Подтянула ее как змею к лицу. Стало больно, почти невыносимо, но Эми не отступала и, хныча, просовывала руку все дальше. Последнее сверхчеловеческое усилие… Эми охнула и высвободила руку, ударилась пальцами в крышку, ссадила костяшки – и выронила Инструмент. Она не дала себе запаниковать, когда пошарила в воде и не отыскала его. Звуки снаружи стали тише, но она ощущала, как поток бьет в шкаф, шевелит его, как неумолимо поднимается вода, заполняет по самую дверцу. Теперь уровень достиг подбородка. Тело немело от ледяной жижи, смердящей грязью и нефтью. Эми еще поискала Инструмент, осторожней, чтобы ненароком не оттолкнуть. Но его не было. Совсем. Он что, проскользнул в щель? Или вода пропихнула его под спину, между лопаток, где не достать, как ни пытайся? От таких мыслей можно сойти с ума. Если Инструмент провалился ниже шеи, все равно что его и не было. Локти не резиновые. Тогда уж точно утонешь. Эми заставила себя успокоиться, подумать неторопливо, обстоятельно. Надо делать то, что она всегда делала в подобных обстоятельствах: искать там, где меньше всего ожидаешь. Она начала искать, вытянув руку до предела, в заведомом отдалении от места, где разжала пальцы, ощупала заднюю стенку, и выше головы, и ниже. Хотя пальцы так занемели от холода, что можно и не заметить, даже уткнувшись ими в Инструмент. Медленно, неторопливо. И вот, в самом невероятном месте, в двух дюймах над правым плечом, пальцы уткнулись во что-то – и оттолкнули. – Попался, – прошептала Эми. Он пощупала осторожней, накрыла Инструмент ладонью, подцепила ногтем и оторвала от задней стенки, аккуратно уложила в ладонь и крепко сжала. Затем попробовала вставить его в верхний правый болт. Пальцы совсем занемели. Пришлось долго тыкать, пока вставила… Ага, на месте. Теперь повернуть. Сил не было, болт завинтился намертво. Эми напрягла руку изо всех сил, уткнувшись бицепсом в нос. В конце концов раздался резкий хруст, и болт поддался. Повернуть удается всего на пол-оборота, затем снова надо вынимать и вставлять Инструмент. Повторяя ритуал, Эми всякий раз билась носом и скулами, но почти не замечала боль. Наконец, болт вылез, она смогла вытащить его. Теперь правая сторона головы оказалась полностью под водой. Эми с удовлетворением услышала, как болт клацнул, упав на заднюю стенку, потянулась к следующему болту, напротив, и начала долгий трудный ритуал откручивания. С каждым поворотом локоть бился о крышку шкафа-гроба. Но именно боль заставляла работать, повторять снова и снова. Монотонный ритм: круть-бац-круть-бац-круть-бац. Откручивается заметно дольше, чем первый. Может, она делает что-нибудь не так? Может, сорвала резьбу и теперь болт бесполезно прокручивается на месте? И вдруг он выскочил. Упершись подошвами в нижнюю стенку, Эми уперлась левой рукой в крышку и толкнула. Та сперва не двинулась, но вскоре размокшая ДСП поддалась, хрустнула, болты другой стороны выскочили из влажного дерева, крышка откинулась, будто люк, и отвалилась. Внутрь хлынула вода. Эми ухватила острые края обеими руками и выскользнула наружу, будто змея из старой кожи, затем, шатаясь, поднялась на ноги. Повсюду из темноты доносились шорох и журчание текущей воды. – Бэзил! – закричала Эми. Она тут же заметила единственное пятно света на угольно-черном полу. Утонувший «Маглайт» еще работал. Он лежал рядом с инфопостом, у шкафа «Дразил». Эми зашлепала к нему, каждый шаг – будто суешь ногу в ведро со льдом. Сунула руку по локоть в жуткий холод, вытащила фонарь, после чего немедленно отправилась на поиски Бэзила. Шкафы валились повсюду. Прямо перед Эми поток перевернул еще два и покатил прочь. Позади, вдалеке, что-то ревело словно водопад. Если ее заколотили в шкаф, вероятно, Бэзила заколотили тоже. Неподалеку низко сидел в воде лежащий плашмя двустворчатый гардероб «Финнимбрун», обмотанный прозрачной упаковочной пленкой. Эми дошлепала до него и постучала в дверь. – Бэзил! Изнутри слабо вскрикнули. Она вернулась назад к инфопосту, принялась шарить в ящиках, выдергивать один за другим и выворачивать содержимое в воду. Обычно резаки валялись буквально повсюду, но теперь пришлось вытащить все. Резак нашелся в самом последнем, внизу. Назад. Эми рассекла пленку одним движением, раскрыла дверь. Бэзил лежал внутри. Она схватила его за руки, потащила и вдруг поняла, как сильно боялась того, что он уже умер. – Ууй, – вскрикнул он, когда Эми внезапно сдавила Бэзила в объятиях. – Что такое? – выпустив его, спросила она. – Они сломали мне запястье, когда пихали внутрь. – А меня заколотили в «Лирипипе». Ты можешь идти? Он кивнул. Эми обвела лучом Демонстрационный зал, пытаясь определить, куда лучше идти, и застыла в ужасе. – О господи… Потоки били изо всех фальшивых окон и дверей в никуда, взбивая пену, расшвыривая мебель, и та плюхалась в туче брызг, кувыркалась в черном маслянистом озере, в которое превратился Демонстрационный зал. – Нужно идти, – сказал Бэзил. – Нужно отыскать Мэтта и Тринити. – Вода поднимается слишком быстро, – сказал Бэзил, и был прав: вода уже доходила до колен. – У нас есть время. Это второй этаж. Вряд ли вода поднимется выше. – В нормальной ситуации – да. Но разве сегодняшней ночью хоть что-нибудь было нормальным? – Так что, мы их бросим? – Нам самим сильно повезло выжить, – стуча зубами, пробормотал Бэзил. – Еще несколько минут – и гипотермия. Вода поднимается. Если не уйдем сейчас – можем не уйти вообще. Качаясь в потоке, мимо проплыло кресло «Потемкин». Оно направилось к выходу из магазина. – Мы должны вернуться за ними. Обещай мне. – Я об-бещаю, – заикаясь, выдавил дрожащий Бэзил. – А теперь п-пойдем. Они зашлепали вслед за потоком. В Детских пришлось продираться через слой размокших плюшевых панд, чьи взъерошенные морды пялились в потолок. Звук водопада делался все громче, поток ускорялся, грозил сшибить с ног. Когда Эми увидела источник шума, ее сердце ухнуло. Вода с ревом, вихрясь, летела вниз, на второй этаж, и не только по лестнице – по всему промежуточному этажу, тремя огромными водопадами. Лестница превратилась в пенный каскад. – Обойдем! – заорал Бэзил, пытаясь перекричать шум. – Через кафе к эскалатору с другого края Демонстрационного зала. А потом низом до главного входа. Эми посветила в сторону кафе и увидела, как поток подхватил три стула «Задл», затянул на ступеньки, закрутил, скатил вниз, и там стулья исчезли в яростном потоке. – А ты сможешь? – спросила она. Бэзил кивнул, и оба пошли в кафе, прочь отревущего водопада на лестнице. Поток мешал. Когда нога отрывалась от пола, вода подхватывала ее, норовила утащить. Эми было по пояс, грязные брызги уже долетали до подбородка. Эми вела Бэзила перед собой, держала за левую руку. Его правая свисала как плеть. Мимо, кувыркаясь, проплыл очередной «Задл», ударил ножкой Бэзила в лодыжку. Тот упал и скрылся под водой. – Бэзил! Голова показалась над поверхностью в шести футах. Его быстро несло к водопаду. Эми запрыгала следом, отчаянно стараясь удержаться на ногах. Бэзил не смог встать, поток снова сшиб его. Эми потянулась… напрасно, слишком далеко. Она успела увидеть только его полные ужаса глаза. Бэзила затянуло в бурлящий поток на лестнице, идущей вниз, на Торговый этаж. Эми закричала от бессильной злости. До безопасного спуска по эскалатору оставались считаные футы. А что теперь? Идти через весь Торговый этаж, потом назад по Складу Самообслуживания и через кассы, чтобы добраться до выхода? Слишком далеко. А вдруг Бэзил не пережил падения? Но он же пришел за ней. Надо идти за ним. Она села в воду и отдалась на волю течения. Секунда – и Эми уже летела кувырком по лестнице, вода кидала ее, била, словно кувалдой. В самом низу стремнина ударила, будто грузовик на шоссе, зашвырнула в глубину. Везде – рев, муть, непонятно, где верх и где низ. В лоб врезалось что-то острое, Эми выпихнуло на поверхность. Судорожный вздох, вокруг темнота, грязная болотная вода струится по лицу. Поток несет прочь от лестницы. Поразительно, но Эми не выпустила «Маглайт». Она посветила по сторонам. Бэзил болтался рядом, уцепившись здоровой рукой за поддон с упаковками минеральной воды. – Ты в порядке? – спросила Эми. Похоже, он был в шоке. Лицо посерело, глаза пустые, и трясло его, как в эпилептическом припадке. Эми зацепилась за ящики рядом. – Мы можем срезать через Освещение и оттуда прямо на Склад, – предложила она. – Затем проплывем мимо касс – и мы снаружи. Трудно было сказать, кивает Бэзил или его попросту так трясет. В лежащую на ящике руку Эми вдруг воткнулось что-то острое. Она инстинктивно дернула рукой и подтянула прямо к лицу что-то тяжелое, мокрое и черное. Она вскрикнула, взмахнула рукой. В воду шлепнулась черная крыса и забарахталась прочь. Эми повела вокруг лучом. Грызуны были повсюду, на всякой выступающей из воды поверхности. Пытаясь спастись от поднимающейся воды, они лезли вверх, кишели на полках. Их покрывал сплошной ковер черных шевелящихся тел. Они карабкались друг на друга, на ящики и плавающий мусор, отчаянно старались зацепиться хоть за что-нибудь. Вода кишела ими. – Пойдем! – закричала Эми. Бэзил не двинулся. Эми схватила его за шиворот и поволокла в холодный затопленный сумрак. Торговый этаж был более привычной покупателям частью магазина. Там они толкали тележки мимо полок, заполненных всякой обычной рухлядью: тарелками, плакатами, рамками для фотографий, лопатками, рулонами упаковочной бумаги, стаканами, пластиковыми солонками и перечницами, посудными полотенцами, салфетками, декоративными подушечками. Теперь все это добро бултыхалось в реке глубиной по грудь. От воды поднимались холод и смрад, темнота пищала и шевелилась, заполненная мириадами крыс. Эми тащила Бэзила за здоровую руку. Течение толкало в спины, помогало, но они постоянно спотыкались о затопленную мебель, тележки, вокруг ног обвивались провода. – Еще немного, и придем, крепись, – снова и снова уговаривала Эми. В «Орске» словно пронесся ураган. Плавающие мини-карандаши, бутылки с водой, размякшие карты магазина, размотавшиеся с катушек, цветочные горшки, зеркала, крысы. Вода несла все. На подходах к огромному Складу Самообслуживания Эми обнаружила, что больше не нужно идти. Достаточно оттолкнуться от пола – и вода понесет. Гораздо легче плыть вместе с мусором, чем проталкиваться сквозь него. Поток завернул за угол, ускорился, вынес в просторный Склад. Тут был бесполезен «Маглайт», полки простирались на полсотни футов вверх, до потолка. Повсюду слышался хруст и треск. Здание принимало тяжесть воды. Далеко наверху, в темноте, стонали и скрежетали загруженные стальные полки. Там и тут раздавались мощные всплески, эхом отдающиеся вокруг. Сверху валились коробки с «Брууками» и «Мюскками». Что-то ударило по щиколоткам. Ступни зацепились за утонувшую мебель. Эми закрутило. Она выпустила Бэзила и чуть не врезалась в опорную стойку, повела лучом над несущейся водой. Да, вон его голова и плечи в потоке. – Хватайся за полку! – заорала она. Он протянул здоровую руку, оттолкнулся ногами, зацепился, обернулся – и закричал: – Плыви! Скорей! Не оглядывайся! Эми сделала то же, что и любой в подобной ситуации: оглянулась. На нее надвигалась волна крыс, чудовищная масса, увлекаемая течением, направлявшаяся прямо в лицо. Тысячи их барахтались в воде. Эми представила, как они скребут губы, извиваясь, лезут в рот, под футболку, пищат и раздирают кожу. Она в слепой панике кинулась вперед. Бэзил оттолкнулся, поплыл рядом. Они гребли изо всех сил, миновали кассы, где потолок снижался до обычных десяти футов. Эми стукнулась головой о плакат «До новых встреч», свисавший с потолочной балки. Позади из темноты доносился многоголосый писк. Избитое тело – сплошная боль. Руки налились свинцом, от холода горела кожа, губы потрескались. Но спасение близко. Вон стеклянные двери и парковка за ними. Они почти целиком под водой, но верх еще виден. Снаружи льется оранжевый свет, после магазинного мрака – это почти день. Эми подплыла к датчику движения над дверью и помахала перед ним рукой. Затем шлепнула по нему, ударила кулаком – бесполезно. Электричества нет, двери закрыты. Вода сочится сквозь крохотную щель между дверями, с шипением брызжет наружу. – К-крысы, – стуча зубами, сообщил Бэзил. – Они п-приближаются. Безнадежно. Столько мучений – и все впустую. Они с Бэзилом утонут, а до свежего воздуха всего дюйм стекла. А сзади надвигались крысы. Именно сюда их несло течение. Еще несколько минут – и вода закипит от них, они вскарабкаются на лицо, пытаясь удержаться на поверхности, загонят вниз своей тяжестью, вереща, раздирая, кусая, царапая. Настоящее торнадо из дергающихся ошалелых тварей. Эми с Бэзилом утонут. Или их раздерут в клочки. – Огнетушитель! – осенило ее. – Что? – выдохнул старающийся удержаться на плаву Бэзил. – Где он? С какой стороны от двери? – Слева? – нерешительно пробормотал он. – Слева, да… нет, справа. Определенно, справа… – Бэзил, я смогу нырнуть за ним только один раз, – посмотрев ему в глаза, сказала Эми. – Слева. Точно. Эми глубоко вдохнула и нырнула. В воде растворилось столько моющих химикатов, что она обжигала глаза. Но Эми их не закрыла. Она погружалась, отталкиваясь от рамы, разделяющей стеклянные панели. Грязная вода странно преломляла, искривляла свет «Маглайта», но его хватало. Эми заметила красное пятно огнетушителя слева от двери, выдернула его из зажимов. Ну да, прямо по инструкции. «В случае экстренной необходимости разбейте стекло». В спину ударило что-то твердое, запуталось в ногах. Эми перепугалась, задергалась, затем поняла, что это «Пунанг» – слишком поздно. Выпущенный из рук огнетушитель пошел вниз, лязгнул о пол и улегся на боку. Эми отпихнула кресло и нырнула. Легкие горели огнем, но всплывать, чтобы вдохнуть – некогда. Она проплыла последние три фута, ухватила огнетушитель. Уперевшись ногами, повернула его нижней частью к двери, выдохнула, чтобы облегчить давление на горящие огнем легкие, подняла огнетушитель к плечу и грохнула в стекло. Но сопротивление воды забрало всю силу у удара и сделало его бессильным толчком. Не во что упереться. И стекло слишком толстое. А огнетушитель слишком тяжелый. Все, теперь уж точно конец. Снаружи льется мутное оранжевое сияние. Сквозь стекло заметно движение. Полыхают синие, красные огни. Сирены? Это полиция? В глазах темнеет. Так близко. Совсем рядом. Всю жизнь Эми не хватало самую малость. Она отступала, не успевала, бросала. Вся жизнь – сплошное отступление. Сейчас Эми старалась изо всех сил, но уже слишком поздно. Уже не успеешь всплыть, зато, наверное, хватит сил попробовать еще раз. Последнее усилие – и тогда уже можно отступить в последний раз, уже в никуда. Последний шанс. Эми приставила дно огнетушителя к стеклу, отвела на три дюйма, крепко сжала, напрягла плечи, как могла, и, мысленно заорав от натуги, ударила. Врезавшись в стекло, огнетушитель задрожал в руках, стекло загудело, будто подводный колокол. Но не разбилось. Эми расслабилась. Выпустила огнетушитель из рук, перед глазами все поплыло, легкие заполнялись грязной водой. Эми уплывала во мрак, к тому самому креслу, всегда поджидавшему ее. Но вдруг что-то треснуло – будто переломили хворостину. По стеклу зигзагом побежала серебристая линия. Трещина. Такая яркая, что видно и сквозь сумрак. А затем звук лопающегося льда. Трещина добралась до правого верхнего угла, расширилась, брызнула осколками – а давление довершило остальное. Дальнейшее произошло в одно мгновение. Исполинский, космический рев. Стекло взорвалось, водяная лавина обрушилась на стоянку, вынесла Эми наружу, ударила головой о верх двери, обожгла болью. Эми крутило, мотало, разворачивало и кувыркало вместе с мусором, крысами, стеклом, грязью и размокшими кассовыми чеками по стоянке для клиентов «Орска».
Глава 17. Гюрне
Расслабьтесь на твердых, упругих матрасах, пока эта элегантно спроектированная каталка несет Вас к избранному месту назначения. Неважно, ждет ли Вас лихорадочный забег к палате интенсивной терапии или более спокойный круиз к патологоанатому, «Гюрне» доставит клиента со стилем и комфортом. ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ: ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ Д 25¾ × Ш 75¼ × В 31¼ Номер товара 7743666252Чудовищный фонтан шлепнул Эми на тротуар, покатил ее, беспомощную, по бетону, за бордюр, на асфальт стоянки. А вода все хлестала из магазина, будто ударивший вбок гейзер, пенная река, полная верещащих крыс. Одна шлепнулась Эми на грудь, но поток тут же унес тварь прочь. Эми попыталась встать, но вода опрокидывала на спину. Она поползла, выплевывая грязную едкую жижу, на разодранных в кровь коленях, упираясь ладонями, ободранными до живого мяса – и сумела выбраться, вылезти из потока, упала на бок и закрыла глаза. – Мэм, с вами все в порядке? Эми открыла глаза, повертела головой, высматривая Бэзила. Ага, вон он, у входа, окруженный тремя пожарными. Его уже проверяют, расспрашивают. – Мэм, вы меня слышите? Эми попыталась сесть. Над ней стоял очень молодой полицейский из шерифского отдела округа Кайахога. Выглядел он лет на четырнадцать. Он поддержал ее под локоть, и она, шатаясь, сумела встать на ноги, а затем крепко обняла его и навзрыд, во весь голос заревела, содрогаясь всем телом. – Нужен врач! – закричал полицейский, обернувшись, а затем уже тише добавил: – Мэм, вы порезали голову. Она потрогала пальцами лоб. Там свисал отодранный кусок кожи. Пальцы стали грязно-серыми, липкими. Оранжевый свет парковки обесцветил кровь, и Эми глядела на нее, будто зачарованная. Все, цель в жизни исчезла. Больше не надо выбиваться из сил, стараясь удрать из «Орска». И все как во сне. Походящий на футбольного защитника медбрат забрал ее от полицейского и привел к машине скорой помощи. Там было очень ярко и бело, и когда он усадил Эми на задний бампер, она ни за что не захотела покидать этот современный безопасный свет. – Мисс, как вас зовут? – Эми. Он посветил крошечным фонариком ей в глаза. – Эми, вы знаете, какой сегодня день? – День после вчера. – Надо думать, у вас нет жутких мозговых повреждений? – улыбнувшись, спросил он. Эми покачала головой и попыталась улыбнуться. – Не надо, – посоветовал врач. – Постарайтесь не двигаться. Я позабочусь о вас до тех пор, пока мы не отвезем вас в больницу. Ладно, можно и не двигаться. Фельдшер сунул термометр ей в ухо, проверил показания, развернул одеяло из фольги и укрыл плечи, чтобы Эми перестало трясти от холода. Когда она снова попыталась встать, он положил руку ей на плечо в попытке успокоить. Мол, еще пара минут, и все, отпущу. Потом натянул голубые резиновые перчатки и занялся ее головой. Копы натягивали желтую ленту перед входом в магазин. Там и сям на стоянке стояли запаркованные вкривь и вкось пожарные машины, пожарные прижимались к стеклам, старались рассмотреть, что делается внутри. За их машинами и каретами скорой уже появился целый легион легковушек. Везде суетились люди, орали в телефоны, снимали на них, сидели на водительских сиденьях, открыв двери, и сообщали кому-то скверные новости. Стайка полицейских заверещала и принялась отплясывать джигу – прямо у них под ногами понеслась орда мокрых крыс. – Вот вы! Эми! Слава богу, все в порядке! Услышав свое имя, Эми бездумно обернулась, посмотрела на говорящего. К ней деловито семенил менеджер магазина, Пэт, одетый в футболку «Ван Хален» и треники. – Она в порядке? – спросил Пэт у фельдшера. – Пока, кажется, да, – отрезая торчащий кусок бинта, ответил тот. – Сделаем томографию, наложим пару швов, согреем – и уж точно будет все в порядке. – Слава богу, – неопределенно поблагодарил Пэт и обернулся к Эми. – Вы выглядите так, будто вы в шоке. Вы в шоке? В порядке?.. Скажите, она в порядке? – Нет, – ответила Эми. – Что здесь случилось? Какое безумие, – сказал Пэт. Эми посмотрела на магазин, все еще изрыгавший воду на парковку. Тут и там среди пожарных и полицейских бегали люди в кепках и спортивных кофтах, орали друг на друга и в мобильные телефоны. Один пытался выстучать пальцем электронное письмо, удерживая ноутбук одной рукой. Рука дрожала, ноутбук тоже. Наверное, это и была пресловутая комиссия, «Команда Консультантов „Орска“». Она явилась точно по расписанию. Эми посмотрела на свою грязную футболку, изодранные джинсы, искромсанные кеды. – Не знаю, – наконец сообщила она Пэту. – С Бэзилом все в порядке? – У него сломана рука, ему нужно в больницу. Но в остальном – да, с ним все будет в порядке. – Вы видели остальных? – Остальных? Там был кто-то еще? – Мэтт и Тринити. И Руфь Энн. Они были с нами. – О господи, – сообщил Пэт, побежал к Команде Консультантов и принялся оживленно совещаться с ними, показывать на «Орск» и дико размахивать руками. Эми подошла к Бэзилу. Тот сидел, прислонившись к задней стенке пожарной машины. Лицо его было серым. Начали проявляться синяки, обтянувшая скулы кожа темнела, опухала. Бэзил улыбнулся, отчего треснула корка на разбитой губе и потекла кровь, блестящая в свете фонарей. – Ох, – сказал он. – Твоя голова… – Они так и не выбрались. Я надеялась, что они смогут, но выбрались только мы. Улыбка пропала с лица Бэзила. Он встал и скривился от боли в сломанной руке. – Сынок, ты лучше сядь, пока не упал, – посоветовал пожарный. Бэзил не обратил внимания и отошел в сторону вместе с Эми. – А что делает Пэт? – Ну что он может делать? – буркнула Эми. – Наверняка их тела найдут внутри, когда вытечет вода. Все облегчение и радость от спасения пропали, обернулись горечью и усталой злостью. – А может, и нет, – возразил Бэзил. – Мы же не знаем, что там случилось. – Я знаю, что там случилось. Там была тюрьма, а мы построили новую на ее руинах, и прежние заключенные явились попробовать новенького. Бэзил, не отрывая взгляда от магазина, кивнул. – Да, очень похоже на правду. На парковке зашумели. Эми с Бэзилом обернулись. По асфальту мчался микроавтобус 19-го канала, передачи «Горячие новости», прямиком к входу. Пара копов кинулась наперерез. Консультанты «Орска» робко отступили к нанятым в прокате машинам. – И как они собираются все объяснить? – поинтересовалась Эми. – Да найдут что-нибудь приемлемое для всех. Пэт уже два раза поминал проектировщика здания. Наверное, иск будет эпичным. – А ты как? Они обвинят тебя? – Я сам себя обвиню. Это я притащил вас для того, чтобы спасти свою идиотскую работу. Пусть я не звал Мэтта с Тринити, но я же был старшим в магазине на то время. Ответственность на мне. Я погубил их всех. – Это неправда, – сказала Эми. – Эй, ребята, – объявил Пэт, защелкал пальцами, привлекая внимание, и показал мобильник. – Это что? Один из наших? На экране светилось одно-единственное слово: «Помогите». Эми узнала номер. – Это Мэтт! Позвоните ему! Пэтт набрал номер. Три длинных губка – и телефон переключился на голосовую почту. Эми выхватила его и набрала смс: «Где ты?» Все трое с минуту молча глазели на пустой экран. Затем зажужжало, и появилось слово «помогите». – Он жив! – воскликнула Эми. – Мэтт еще жив. Пэт схватил телефон и побежал делиться новостями. – Что с ним случится? – спросила Эми. – Не знаю, – ответил Бэзил. – Но его батарея рано или поздно сядет. Осознание произошедшего ложилось им на плечи, будто саван. Тишину нарушило возвращение фельдшера. – Мисс, вам нужно ехать в больницу. Если ваши друзья еще в магазине, пожарные отыщут их. – Нет, не отыщут, – сказала ему Эми. Они с Бэзилом пошли назад, к скорой. Пэт засеменил вслед за ними. Консультанты наблюдали издали. – Эй, ребята, подождите-ка, – воззвал Пэт и сказал врачу: – Если вы не против, мы на минутку. Тот кивнул, отошел на несколько футов. – Я знаю, что вы оба пережили ужасное, – начал Пэт. – Я хотел бы принести вам самые искренние, глубочайшие извинения от имени «Орска». Ребята, хочу вас заверить: какой бы ни оказалась причина случившегося сегодня, никто не собирается возлагать вину на работников либо менеджмент. Все потери возместят, хорошо? Бэзил? Вы понимаете меня? – Спасибо, – сказал Бэзил. – «Орск» – это семья. А в семье заботятся друг о друге. Команда Консультантов хочет, чтобы вы знали: это не конец вашего совместного пути в будущее с «Орском». Фактически это лишь начало. В Региональном офисе есть два вакантных места – и очень хороших места. Они в Пенсильвании. Но вам заплатят подъемные. И каждый из вас, вы оба – отличные кандидатуры. – Нас повышают? – спросил Бэзил. – Офисная работа, с помесячной оплатой и полным социальным пакетом, – заверил Пэт и втиснул визитку в руку Бэзила. На оборотной стороне визитки был электронный адрес – не из «Орска». – Это самого Тома Ларсена. Он лично свяжется с вами в течение следующих двадцати четырех часов. – Не понимаю, – признался Бэзил. – Мы просим лишь одно: чтобы вы не общались с прессой. Выждали немного. Они не поймут случившегося и только введут всех в замешательство. Мы сами проведем полное расследование, переговорим с архитектором и строителями. Когда мы узнаем, в чем дело, сообщим вам. А когда настанет время говорить с прессой, «Орск» позаботится о том, чтобы вас поддержали добрые знающие люди, хорошо понимающие, как работают масс-медиа и как именно представить ваши впечатления. Мы вознаградим вас за неприятные переживания и ущерб, вас и семью Руфь Энн. – Мэтта и Тринити тоже, – заметила Эми. – Ну, это другое, – заметил Пэт. – Я знаю, вы, ребята, говорите, что и они были там, но я уверен: от стресса и неразберихи возможно поверить во многое, все путается, трудно понять, что же именно происходит. Знаете, их вход не зарегистрирован. – Они были там, – сказала Эми. – Я понимаю, вы в это верите. Но ситуация запутанная и без того, чтобы добавлять в неразбериху еще и пару пропавших. Давайте не усугублять, добавляя то, что делает ее на вид еще хуже. – Они были там, – повторила Эми. – Я их видела. Я протащила Тринити через полмагазина. Я говорила с Мэттом. Я не сошла с ума. – Никто не говорит, что вы сошли с ума, – согласился Пэт. – Но посудите сами: они не зарегистрировались, работы не делали, Бэзил не платил им. То есть разве вы в ответе за них? Эми, вот для вас. Он протянул вторую визитку с тем же самым адресом на обороте. – То есть нам следует молчать и тогда мы сохраним нашу работу? – очень вежливо и очень холодно осведомилась Эми. – Не только сохраните – улучшите, – пообещал Пэт. – Беспроигрышная ситуация. – Вы серьезно? Трое ваших работников мертвы, и вы пытаетесь подкупить нас? Эми оттолкнула руку с визиткой. – Пэт, оставьте себе вашу лучшую работу. Мы лучше будем собирать бутылки на обочине, чем хотя бы еще день останемся работать на «Орск». Так, Бэзил? – Я понимаю: вы очень расстроены, – начал Пэт. – Расстроена? – крикнула Эми. Репортер команды новостей услышала вскрик, позвала оператора, и они попытались обойти стоящих цепью полицейских, подобраться ближе. Орские консультанты встревожились. – Люди погибли, я еле выжила, и первое, что вы захотели сделать, это избавиться от ответственности. Вы хоть понимаете, насколько это уродливо? – Эми, прекрати, – попросил Бэзил. – Он прав. Что сделано, то сделано. Их не должно было быть в магазине. Эми будто отвесили оплеуху. – И ты тоже за это? – не веря ушам, спросила она. – Я бы тоже хотел разгневаться. Но это больше не наша ответственность. Оставь разбираться профессионалам. Они все сделают правильно. А мне нужно заботиться о сестренке. Порадуйся, что нам готовы хоть как-то все возместить. В груди Эми будто развернула крылья чудовищная огромная птица. Злость заполнила всю ее, залила мир. Надо же! Все, что они делали внутри магазина, все пережитые кошмары – их будто и не было. Эми никогда в жизни не ощущала себя настолько одинокой. – Поверьте, мне искренне жаль, – проинформировал Пэт. – Частным образом мы выразим соболезнования семьям. Мы переговорим с архитекторами и строителями, и мы заставим их ответить за трагедию. Мы постараемся никого не дать в обиду. Вы с Бэзилом не должны винить себя за такой поворот событий. Вы не были в ответе за Мэтта, Тринити и Руфь Энн. Эми замахнулась, прицелившись в голову. Она никогда раньше не била людей, потому вышло что-то среднее между оплеухой и прямым в челюсть, удар скорее удивил Пэта, а не навредил ему. – Ублюдок! – крикнула Эми. – В том-то и дело, что была!
Эпилог
Конечно, «Орск» нашел устраивающую всех версию: глобальный прорыв системы водоснабжения вкупе с полным отказом системы пожаротушения. Когда в магазин, наконец, явились страховые инспекторы, то обнаружили фальшивые двери закрытыми, шкафы разбитыми, а кающихся и трупы – отсутствующими. И никакого доказательства чего бы то ни было, за исключением глобального потопа. Все содержимое магазина списали в потери. Мэтта, Тринити и Руфь Энн так и не нашли. «Орск» заплатил за похоронные церемонии, выдал семьям отступные. В случае Мэтта с Тринити все сделали кулуарно, не признав в открытую их присутствия в магазине. Было разбирательство между разными офисами компании, архитектурной фирмой и строителями, но никто не подал в суд и не выступил перед прессой. Тело Карла не нашли, его имя не появилось ни в одной статье о катастрофе. Эми так и не поняла, почему. То ли потому, что он был бездомным, то ли потому, что никогда не существовал. Похоже, она единственная на целом свете помнила о нем. Было три поминальные службы: для Мэтта, Тринити и Руфь Энн. На поминание Тринити пускали только членов ее церкви. На службе Мэтта было полно его однокашников из подготовительного отделения, произнесли несколько серьезных и значительных речей, и не очень хорошо спели – слишком много вибрато. Бэзил тоже пришел, но Эми не захотела подходить к нему. На службу по Руфь Энн явилось сто тридцать четыре человека, все – работники «Орска» или клиенты. Все превозносили покойницу, плакали, говорили о мелких любезностях с ее стороны. Спереди на столе восседал Снупи, окруженный цветами и фотографиями в рамочке. Многие явились в униформах «Орска». Эми простояла половину службы и ушла еще более злой и удрученной, чем была до нее. Через неделю после событий с Эми связался юридический офис «Орска». Юристы написали, что компания считает всех своих партнеров членами одной «орской» семьи и хочет продемонстрировать добрую волю. Если Эми подпишет свидетельство о том, что не питает к компании претензий, и заявление о том, что не собирается подавать в суд, то «Орск», не признавая каких-либо нарушений либо своей ответственности за них, готов на прощание щедро ее вознаградить. Эми было наплевать. Она подписала бумагу, даже не прочитав. Через девяносто дней пришел чек на сумму 8397 долларов. Эми не могла спать. В первый день новый мамин муж, Джерард, забрал Эми из больницы и отвез домой, в трейлер. Мама слишком расстроилась, растерялась, в панике выпила снотворного и завалилась спать до приезда дочери. Эми включила все до последней лампы и задернула занавески. Она преподнесла Джерарду сильно урезанную версию случившегося, где не было ни кающихся, ни туннелей, ни заточения в шкафу, но даже и так все звучало слишком уж фантастично. Она не сомневалась: Джерард подумал, что она наврала. Вскоре он отправился на боковую, и Эми осталась одна. Измученная, но вконец перепуганная, она не решилась спать в одиночестве, принесла подушку с одеялом в мамину комнату и легла на полу у кровати, не в силах сомкнуть глаз. На следующий день Эми то и дело отключалась: посреди обеда, разговора с мамой, трепа с прежними соседями по телефону. Они звонили еще четыре раза, а когда она ответила, подключили к группе, на три голоса восхваляли ее храбрость и героизм и донимали вопросами о том, как все было. Но спустя несколько минут поняли, что из Эми не вытащить сочных подробностей, и решили побыстрей и по возможности вежливей закончить разговор. Через несколько дней Джерард съездил в ее квартиру и забрал вещи. Эми не сразу узнала о том, что он выписал чек на ее долг по квартплате. Помог затащить коробки в прежнюю спальню, но Эми так и не распаковала их. Она ходила в одних и тех же трениках каждый день и спала большую часть времени. Мама сперва суетилась, они с Джерардом искренне обрадовались воссоединению семьи, но потихоньку стало ощущаться разочарование. И выражение его не замедлило ждать. Джерард деликатно намекал на то, что неплохо было бы вернуться в колледж или найти другую работу. Какую угодно, не обязательно в ретейле. Хоть собак выгуливать, лишь бы чем-нибудь заниматься. Нельзя же сидеть в спальне и смотреть телевизор до конца жизни. Но Эми теперь хотела именно этого и ничего больше. Она смотрела «Настоящих домохозяек» до тех пор, пока не поняла, что видела каждую серию каждого сезона как минимум дважды. Затем принялась покупать кино на iTunes и однажды потратила за неделю 147 долларов. Бэзил пять раз писал ей, но она удаляла его мейлы, не читая. Чтение требовало слишком большой сосредоточенности. Эми попробовала несколько книг о горе и душевных травмах, даже взялась за Библию и заказала на «Амазоне» Коран. Но всякий раз после нескольких предложений мысли заворачивали куда-то далеко. В конце концов Эми забросила книги. В первую неделю после катастрофы она ревностно следила за новостями, жадно хватала всякое известие об «Орске». Но через несколько дней происшествие исчезло с первых страниц, а с тем угас и интерес Эми. Она ела, спала днями напролет, игнорировала вопросы мамы и Джерарда до тех пор, пока те не перестали спрашивать. Эми просто существовала. Прошло шесть месяцев. Затем семь. На Рождество Эми осталась в своей комнате, мама поехала в гости к тетям и дядьям без нее. В канун Нового года Эми заснула в шесть вечера, проснулась в три утра и потом два дня не могла сомкнуть глаз. Пришел и ушел январь. За ним февраль. Дни пропадали из календаря, и каждый был в точности как предыдущий. Иногда Эми плакала без причины, ревела навзрыд, а иногда слезы сами собой катились по щекам, непонятно отчего. Прошли март и апрель. Джерард с мамой уехали в отпуск к Ниагарскому водопаду, повидать маминых кузенов. Оставаться одной в трейлере было невыносимо, и Эми заселилась в отель. Помимо того, Эми не выходила на улицу, ни с кем не разговаривала, отказывалась от терапии. Ела, когда хотела, и спала, когда могла. Существовала. Но однажды поняла, что должна сделать. После потопа, газетных статей, после того эфира на «Коктейле с Крисом Мэттьюсом», где пресс-секретарю «Орска-США» пришлось отвечать на вопросы о том, как именно компания обеспечивает безопасность партнеров, после похоронных церемоний «Орск» тихо ускользнул из города. Здание магазина заросло токсичной черной плесенью. Его следовало разрушить и построить заново. Том Ларсен не захотел вкладывать огромные деньги в магазин с таким количеством негатива. Лучше уж подсчитать потери и удрать подальше. К общему большому удивлению, здание купила другая большая сеть. Спустя тринадцать месяцев после происшествия там открылась «Планета Детства» – ретейл, единоразовое решение всех проблем вашего ребенка. С «Планетой Детства» ребенок – не просто величайшее событие, но также и старт ошеломляюще нового стиля жизни. Когда Эми прочитала новость, то в тот же день поехала в магазин и подала заявку на работу. Она не поверила своим ушам, когда на следующий же день ей позвонили из отдела кадров и объявили, что она взята на место помощника менеджера по этажу. Она скрывала новость от мамы с Джерардом, сколько могла, и рассказала все только вечером перед выходом на работу. Оба были счастливы. Джерард выразил семейное мнение в проникновенной речи: – Мы довольны тем, что ты снова усаживаешься на сбросившую тебя лошадь. Мы думаем, что уже настало время и тебе участвовать в семейных расходах. Компенсации надолго не хватит. Утром в первую смену на новой работе Эми зарядилась визином, выпила шесть чашек кофе, завела свою старую «Хонду Цивик» и поехала по знакомому до боли маршруту, по объездной дороге к Ривер Парк Драйв. По привычке загнала машину на боковую стоянку у здания, недавно вмещавшего «Орск», а теперь – «Планету Детства». Магазин изменился, но, в сущности, остался таким же. Пастельные оттенки заменились на простые и яркие цвета, вывески выглядели так, будто их накорябал цветным карандашом необычно грамотный младенец. Знаки напоминали Маме и Папе купить жизненно важное для их несравненного чада, страдающего, но еще не умеющего выразить свои желания, так что «Планета Детства» великодушно потрудилась эти невыраженные желания выразить и донести. Спасибо, «Планета Детства». Эми зашла, доложила о прибытии, повстречалась с главой отдела кадров, купила униформу и отправилась в раздевалку, чтобы переодеться в мягкие синие джинсы и мешковатую розовую рубаху, похожую на халат. Но тут никто не носил кед «Чак Тейлор». Кроссовки «Рибок», розовые для девушек, синие для парней. Эми напомнила себе купить при случае пару, чтобы не выделяться. Она опаздывала на смену, так что куратор повел ее к уже начавшемуся туру для новичков. В бывшем Демонстрационном зале тоже были макеты комнат, иногда в тех же местах, но тут показывали по большей части игровые уголки, комнаты для ухода за младенцами и первые настоящие персональные спальни для несравненной маленькой леди (или джентльмена). Эми с удовольствием отметила, что в нескольких макетах нашлись и приколоченные к стенам фальшивые двери, чтобы дополнить иллюзию настоящего дома. Непрестанно болтая, куратор вел Эми между изогнутыми помостами и загроможденными выставочными комплектами. Наконец, они встретились с командой новичков, внимающих менеджеру. – Мы хотим направлять клиентов, но не подавлять их, – вещал куратор. – «Планета Детства» производит ошеломляющее впечатление, но оно всегда должно быть позитивным. Первый контакт в ретейле – жизненно важен. Менеджер заметил Эми, кивнул и продолжил. – В «Планете Детства» есть два типа клиентов. Одни не покупают ничего, вторые покупают всё. Но серьезные покупки случаются только тогда, когда клиенты спускаются к «Магазину Детства» и там попадают в, как мы их называем, «открытые карманы». Эти места спроектированы так, чтобы подвергнуть клиента максимальному магазинному стрессу. Эми расслабилась и безмятежно окунулась в знакомую атмосферу ретейл-гипноза. Смена кончилась в шесть часов. Эми неторопливо пообедала в «Панера Бред» прямо у шоссе 77, заглянула в «Спорттовары Дика» и «Домашний склад», купила нужное, вернулась на парковку «Планеты Детства» и принялась ждать. Уборщики пришли в одиннадцать. Череда одетых в желтое работников потянулась к служебному входу. Эми открыла дверь машины, подтянула лямки на рюкзаке. Тяжелая штука. Набитая фонарями, батареями, пластырями от тошноты и укачивания, пятью сотнями ярдов лески, стофутовым мотком светящейся в темноте ленты, отверткой, ножом и тремя фирменными Волшебными Инструментами «Планеты Детства». На этот раз она не потеряется в туннелях, но отметит путь лентой и леской, а когда отыщет остальных, то сможет вывести их назад. Последний уборщик был коренастый коротышка с козлиной бородкой и татуировкой на шее. Как только он провел картой по замку и вошел внутрь, Эми кинулась к двери, чтобы задержать, пока та не успела захлопнуться. Увы, слишком медленно. Зря припарковалась так далеко. Эми протянула руку к ручке – но лишь царапнула ее. Дверь захлопнулась. Эми в ярости пнула дверную раму. – Позволь-ка мне, – сказал кто-то. Эми обернулась и увидела идущего к ней Бэзила. Тот неплохо выглядел. Набрал пару фунтов. И лицо прилично зажило. Небольшой шрам выпирал как червяк на подбородке, другой изгибался на левой брови. На правом предплечье – эластичный бандаж-ортез. В руке – пропуск в «Планету Детства». – Я так и подумал, когда увидел твое имя в сегодняшнем списке, – сказал он. – Что в рюкзаке? Эми решила, что ни в коем разе ничего не скажет предателю, но не смогла удержаться от искушения и решила поязвить: – Как скверно, что у тебя не вышло с блестящей карьерой в «Орске». Наверное, потребовалась серьезная операция, чтобы вытащить тебя из задницы Тома Ларсена. – Я так и не написал ему, – сказал Бэзил. – Просто не смог. В общем, дело свелось к тому, что большую часть прошлого года я проработал в «Макдоналдсе». – У-у, как здорово. Похоже, ты отрастил чуток морали. – Я здесь уже три месяца заместитель операционного менеджера. Что в рюкзаке? – Мне надо идти, – отвернувшись, сказала Эми. – Если увидишь меня на этаже – не заговаривай. У нас с тобой ничего общего, понимаешь? – Готов спорить, в твоем рюкзаке то же самое, что и в моем: фонари, батареи, грелки для рук. Я даже взял баллончик со слезоточивым газом, хотя не знаю, как он подействует на них. Я как раз шел за рюкзаком. Ярость Эми сменилась замешательством. – Ты о чем? – Они были и моими друзьями. И, что важнее, я в ответе за них. Я пытался сказать тебе это раньше, но ты не слушала, – сказал он, а затем нагнулся и прошептал: – Кстати, я один раз уже оставался на ночь. Двери открыты. Улей здесь. – А Мэтт? Тринити? Ты видел их? – Еще нет. Но ты ведь здесь из-за них? – Да, – подтвердила Эми. – И я вытащу их. Все твердят, что, мол, случилось и прошло, и теперь живи нормально, но я не хочу нормально. Мне не нравится, какой я была раньше. Я хочу остаться той, кем стала в ту ночь. – Это может быть трудней, чем кажется, – заметил Бэзил. – Да, без вождя кающиеся не так организованны, от них легче убежать. Но магазин по-прежнему лезет в голову, а из-за детских товаров все стало страшнее. Запомни: нельзя заглядывать в детские кроватки. – Хорошо, – согласилась Эми. – Я не стану торопиться. Я буду выяснять постепенно, как это работает и что делать, и буду возвращаться и днем, и ночью до тех пор, пока не отыщу их. И я не отступлю. Они чуть не улыбнулись друг другу, но Эми поспешила отвернуться. Воздух стал влажным, в трясине запели лягушки. Эми услышала, как пискнул сканер, когда Бэзил провел пропуском по замку. Тот щелкнул, дверь открылась. Внутрь полетели мотыльки, привлеченные светом. Эми хотелось сказать что-нибудь, заверить Бэзила в том, что она изменилась и очень рада видеть его, а еще в том, что ошибалась. Но вместо этого просто шагнула вперед. Нельзя тратить время зря. Впереди большая работа.Черные сказки: сборник рассказов Составитель: Парфенов М. С.
© Авторы, текст, 2022 © М. С. Парфенов, составление, 2022 © Валерий Петелин, иллюстрация, 2022 © ООО «Издательство АСТ», 2023* * *
Старые сказки
Здравствуй, дружочек. Устраивайся поуд обнее – сейчас я расскажу тебе сказку… Да не одну, а много сказок! Целую бездну удивительных историй, полных самых невероятных чудес и умопомрачительных свершений. Держу пари – таких ты еще не слышал. Впрочем, начнем мы с нескольких замечательных сказок, которые могут показаться тебе смутно знакомыми. Ты думал, что знал их – Золотого петушка, Русалочку, Красную Шапочку… Ты ошибался. Но чу! Тише, дружочек, тише… Мы начинаем. Кири-ку-ку!Майк Гелприн. Саранча, скопец, палач
 Северяне пришли на нашу землю числом несметным, ранней весной, едва в горных долинах стаял снег. У них были глаза цвета стали и волосы цвета льна. Они не знали страха и не давали пощады. Они опустошали города, казнили воинов, умерщвляли стариков, а молодых угоняли в полон. Они не были даже жестокими, они походили на равнодушную и жадную саранчу, оставляющую за собой пустыню там, где цвела жизнь.
Мой отец Селим-Шах, мудрейший из мудрых и храбрейший из храбрых, велел слать гонцов в сопредельные страны, моля соседей о помощи. Гонцы вернулись ни с чем – великие султаны и шахи заперлись в своих городах, степные ханы отогнали кочевые стада на горные склоны. «От трусости отвага на расстоянье шага», – говорили ученикам мудрецы. Забывая упомянуть о том, что и в обратном направлении расстояние не больше.
– Лучше испытать беду, чем страх перед ней, – сказал Селим-Шах, мудрейший из мудрых и храбрейший из храбрых.
На следующее утро он повел войско северянам навстречу.
Неделей позже отец вернулся – на запряженной четверкой арбе, под рогожей, разрубленный пополам. Гассалы трижды омыли его, закутали в кафан, и имам прочел над телом положенные молитвы. Мои старшие братья – рослый, горбоносый, с бешеными глазами Алишер, и тихий, робкий, ясноглазый Мансур, дали на Коране клятву мести.
– Шемаха, – сказал мне Алишер, прижав Священную Книгу к сердцу. – Видит Аллах, настали черные времена. Завтра с рассветом купцы погонят последние караваны на юг. Ты уйдешь с ними.
Я поклонилась в ответ. Мне едва сравнялось шестнадцать, но ни единого дня с тех пор, как научилась ходить, я не провела в праздности. Как подобает дочери великого шаха, я училась всему, и учителя мои были лучшими из лучших. Я свободно изъяснялась на четырех языках, а разумела еще полдюжины, включая наречие северян. Я практиковала врачевание и целительство, слагала стихи и на память читала суры, играла на лютне и не ведала усталости в танце. Я владела секретами древней магии и знала толк в травах, необходимых для заклинаний.
Я чтила шариат и осознавала, что предназначение женщины – служить мужчине, повиноваться ему, ублажать его плоть и рожать ему детей. Но у меня не было еще своего мужчины, а отца моего забрал к себе Аллах. Поэтому я сочла возможным ослушаться брата.
Алишер ушел, чтобы повелевать правоверными, а я, закутавшись в черный шелк, удалилась в упрятанное под переплетением дворцовых коридоров подземелье. Там, в каземате, я провела оставшиеся до прихода северян дни. Я сама толком не понимала, отчего решила остаться. Я лишь чувствовала, что мое место здесь – в крепости, обреченной на гибель.
Они не стали брать город в осаду. Они не жалели себя и пошли на приступ с марша через день после того, как дозорные заметили передовые разъезды с крепостных стен. За час до полудня я выбралась из подземелья наружу и взбежала наверх. Я видела, как они карабкались по приставным лестницам, щитами прикрываясь от стрел. Они лезли – упорно, оголтело, неистово. Они умирали, но новые живые заменяли убитых. К трем пополудни первый из них – дюжий, круглолицый, курносый, с окровавленным лбом под помятым шлемом, прорвался в проем между зубцами северной стены. Он рычал, как подраненный лев, и бился один против пятерых. Он был от меня в тридцати шагах, и время замерло – я видела, как медленно, словно прорубая вязкое тесто, ползет к груди северянина боевой ятаган. И как лезвие уходит в сторону, принятое на гарду меча. Видела, как раздвоенное жало зульфикара впивается в щит и теряет силу, угодив в стальную оковку. А потом замершее, приостановившееся время вдруг встрепенулось, взорвалось брызгами крови, оглушило лязгом стали и пустилось вскачь.
Он не мог уцелеть, этот круглолицый северный воин, но он уцелел. У него не было ни единой возможности устоять на ногах, но он устоял и дал время тем, кто шел за ним вслед. Они вывернулись у него из-за спины, его сородичи, рослые, ражие северяне с распяленными в крике ртами и пляшущей в глазах сталью клинков. С каждым мгновением их становилось все больше, и они оттеснили, отжали защитников прочь от стен.
Мимо меня во главе десятка правоверных промчался Алишер, у подножия крепостной башни схлестнулся с круглолицым. Я метнулась за братом вслед… Остановилась, отпрянула назад: отделившаяся от тела голова Алишера катилась по каменной кладке к моим ногам. Я закричала – страшно, отчаянно, а черные бешеные глаза мертвого брата, глядя на меня, затухали, заплывали бельмами.
По каменным ступеням я слетела вниз, затем бежала в толпе прочь от рухнувших городских ворот.
– В мечеть, – бил в уши истошный, панический голос Мансура. – В мече-е-еть!
Ему следовало родиться женщиной, моему робкому, улыбчивому брату, которому дворцовые ашуги прочили будущее великого поэта. Ему следовало родиться мной. Тогда Мансур ушел бы с караваном на юг, и кто знает, как бы обернулась судьба.
Стены мечети не спасли нас. К закату северяне ворвались внутрь. Меня вытащили на площадь, швырнули на камни, и тощий, востроносый, с подбитым глазом победитель стал вязать мне бечевой руки.
– Гладкая девка, сытая, – бормотал он себе под нос. – Целая или порченая, имею интерес знать.
– Не про тебя девка, подьячий, – осадил в двух шагах коня кряжистый, рябой северянин в подбитом серебром парчовом кафтане. – Не твоего поля ягодка.
– Почто ж не моего, воевода? – почесал подбитый глаз востроносый подьячий.
– Басурмане говорят, это дочь самого шаха.
– Тьфу ты, – выругался подьячий, когда воевода отъехал. – Свезло тебе, чумазая, – кому-нибудь из благородных достанешься. Им, благородным, бабу еттить лениво, не то что нам, сиволапым. Мы бы, – мечтательно причмокнул он, – тебя впятером гоняли, в пять елдаков. К утру, глядишь, и живого места на тебе б не осталось.
Они грабили город три дня: резали скот и мужчин, силой брали женщин, жгли дома и тащили, тащили, тащили в свои телеги наше добро. Они закололи имама, обезглавили муэдзинов и превратили в конюшню храм. Они поднимались на минарет и мочились с балкона, испражнялись в фонтан, а страницами Священной Книги подтирали зады.
Я, связанная, брошенная на занозистое тележное дно, обложенная тюками с награбленным, беззвучно плакала, глядя на то, что творит северная саранча. Но ненависти, лютой, безрассудной ненависти, еще не было во мне. Ее не было, даже когда по площади перед мечетью пронесли нанизанную на пику голову Алишера. Ненависть появилась позже, на четвертое утро. Солнце стыдливо прикрылось тучами, чтобы не смотреть. Вместо солнца смотрела я. Смотрела, как на площадь вывели обнаженного, обритого наголо, с порванной плетьми кожей Мансура.
Мой брат бился в руках двух бородачей, подталкивающих его к вбитому в землю, смазанному бараньим салом колу. В ясных джейраньих глазах Мансура метались мука и боль, а потом, когда бородачи вздернули его от земли и подсадили на кол, Мансур закричал. Этот крик не умер вместе с ним, не заглох в разорванном заднем проходе, не увяз в пробитом желудке и не утонул в лопнувших от нестерпимой муки глазах. Крик остался во мне, я приняла его, вобрала в себя и затолкала, забила в сердце. Предсмертная мольба брата поселилась во мне навечно, и клятва, которую он дал на Коране, стала моей.
Я рассталась с сознанием прежде, чем Мансур умер, а когда пришла в себя, услышала приветственный рев.
– Царевич! Царевич! – в тысячу глоток орала толпа победителей.
Я вскинула взгляд на грузного всадника с мясистым, рассеченным шрамом лицом. Был он в расшитой золотой вязью накидке, драгоценные камни швыряли сполохи света с рукояти его меча, а гнедой жеребец мотал головой, всхрапывал и фыркал, будто жаловался на непосильную и ненавистную ношу.
– Хорошо погуляли, братцы? – гаркнул царевич. Покивал в ответ на нестройную разноголосицу и добавил: – Ну, пора и честь знать.
Он спешился, обнялся с давешним рябым воеводой в подбитой серебром парче. Выслушал сказанные на ухо слова, задумчиво почесал перечеркнутую шрамом скулу и зашагал через площадь ко мне. Оглядел с придиркой, будто выставленную на базарный торг кобылу, втянул носом воздух, поморщился.
– Не люблю басурманок, – сказал царевич, – а от этой еще и смердит.
– Так нужду справлять негде, светлейший, – принялся оправдываться тощий востроносый подьячий. – Под себя девка ходила, потому и запашок от нее. Но ежели отмыть…
Пару мгновений царевич размышлял, что будет, если меня отмыть.
– Пустое, – сказал он наконец и добавил грязной площадной брани. – Кто, говоришь, первым одолел стену?
– Так Ивашка же Авдеев.
– Ну, значит, пиши приказ: за храбрость жалую девку сию Ивашке, сыну Авдееву. Пускай забирает, сучий хвост. Заслужил.
Северяне пришли на нашу землю числом несметным, ранней весной, едва в горных долинах стаял снег. У них были глаза цвета стали и волосы цвета льна. Они не знали страха и не давали пощады. Они опустошали города, казнили воинов, умерщвляли стариков, а молодых угоняли в полон. Они не были даже жестокими, они походили на равнодушную и жадную саранчу, оставляющую за собой пустыню там, где цвела жизнь.
Мой отец Селим-Шах, мудрейший из мудрых и храбрейший из храбрых, велел слать гонцов в сопредельные страны, моля соседей о помощи. Гонцы вернулись ни с чем – великие султаны и шахи заперлись в своих городах, степные ханы отогнали кочевые стада на горные склоны. «От трусости отвага на расстоянье шага», – говорили ученикам мудрецы. Забывая упомянуть о том, что и в обратном направлении расстояние не больше.
– Лучше испытать беду, чем страх перед ней, – сказал Селим-Шах, мудрейший из мудрых и храбрейший из храбрых.
На следующее утро он повел войско северянам навстречу.
Неделей позже отец вернулся – на запряженной четверкой арбе, под рогожей, разрубленный пополам. Гассалы трижды омыли его, закутали в кафан, и имам прочел над телом положенные молитвы. Мои старшие братья – рослый, горбоносый, с бешеными глазами Алишер, и тихий, робкий, ясноглазый Мансур, дали на Коране клятву мести.
– Шемаха, – сказал мне Алишер, прижав Священную Книгу к сердцу. – Видит Аллах, настали черные времена. Завтра с рассветом купцы погонят последние караваны на юг. Ты уйдешь с ними.
Я поклонилась в ответ. Мне едва сравнялось шестнадцать, но ни единого дня с тех пор, как научилась ходить, я не провела в праздности. Как подобает дочери великого шаха, я училась всему, и учителя мои были лучшими из лучших. Я свободно изъяснялась на четырех языках, а разумела еще полдюжины, включая наречие северян. Я практиковала врачевание и целительство, слагала стихи и на память читала суры, играла на лютне и не ведала усталости в танце. Я владела секретами древней магии и знала толк в травах, необходимых для заклинаний.
Я чтила шариат и осознавала, что предназначение женщины – служить мужчине, повиноваться ему, ублажать его плоть и рожать ему детей. Но у меня не было еще своего мужчины, а отца моего забрал к себе Аллах. Поэтому я сочла возможным ослушаться брата.
Алишер ушел, чтобы повелевать правоверными, а я, закутавшись в черный шелк, удалилась в упрятанное под переплетением дворцовых коридоров подземелье. Там, в каземате, я провела оставшиеся до прихода северян дни. Я сама толком не понимала, отчего решила остаться. Я лишь чувствовала, что мое место здесь – в крепости, обреченной на гибель.
Они не стали брать город в осаду. Они не жалели себя и пошли на приступ с марша через день после того, как дозорные заметили передовые разъезды с крепостных стен. За час до полудня я выбралась из подземелья наружу и взбежала наверх. Я видела, как они карабкались по приставным лестницам, щитами прикрываясь от стрел. Они лезли – упорно, оголтело, неистово. Они умирали, но новые живые заменяли убитых. К трем пополудни первый из них – дюжий, круглолицый, курносый, с окровавленным лбом под помятым шлемом, прорвался в проем между зубцами северной стены. Он рычал, как подраненный лев, и бился один против пятерых. Он был от меня в тридцати шагах, и время замерло – я видела, как медленно, словно прорубая вязкое тесто, ползет к груди северянина боевой ятаган. И как лезвие уходит в сторону, принятое на гарду меча. Видела, как раздвоенное жало зульфикара впивается в щит и теряет силу, угодив в стальную оковку. А потом замершее, приостановившееся время вдруг встрепенулось, взорвалось брызгами крови, оглушило лязгом стали и пустилось вскачь.
Он не мог уцелеть, этот круглолицый северный воин, но он уцелел. У него не было ни единой возможности устоять на ногах, но он устоял и дал время тем, кто шел за ним вслед. Они вывернулись у него из-за спины, его сородичи, рослые, ражие северяне с распяленными в крике ртами и пляшущей в глазах сталью клинков. С каждым мгновением их становилось все больше, и они оттеснили, отжали защитников прочь от стен.
Мимо меня во главе десятка правоверных промчался Алишер, у подножия крепостной башни схлестнулся с круглолицым. Я метнулась за братом вслед… Остановилась, отпрянула назад: отделившаяся от тела голова Алишера катилась по каменной кладке к моим ногам. Я закричала – страшно, отчаянно, а черные бешеные глаза мертвого брата, глядя на меня, затухали, заплывали бельмами.
По каменным ступеням я слетела вниз, затем бежала в толпе прочь от рухнувших городских ворот.
– В мечеть, – бил в уши истошный, панический голос Мансура. – В мече-е-еть!
Ему следовало родиться женщиной, моему робкому, улыбчивому брату, которому дворцовые ашуги прочили будущее великого поэта. Ему следовало родиться мной. Тогда Мансур ушел бы с караваном на юг, и кто знает, как бы обернулась судьба.
Стены мечети не спасли нас. К закату северяне ворвались внутрь. Меня вытащили на площадь, швырнули на камни, и тощий, востроносый, с подбитым глазом победитель стал вязать мне бечевой руки.
– Гладкая девка, сытая, – бормотал он себе под нос. – Целая или порченая, имею интерес знать.
– Не про тебя девка, подьячий, – осадил в двух шагах коня кряжистый, рябой северянин в подбитом серебром парчовом кафтане. – Не твоего поля ягодка.
– Почто ж не моего, воевода? – почесал подбитый глаз востроносый подьячий.
– Басурмане говорят, это дочь самого шаха.
– Тьфу ты, – выругался подьячий, когда воевода отъехал. – Свезло тебе, чумазая, – кому-нибудь из благородных достанешься. Им, благородным, бабу еттить лениво, не то что нам, сиволапым. Мы бы, – мечтательно причмокнул он, – тебя впятером гоняли, в пять елдаков. К утру, глядишь, и живого места на тебе б не осталось.
Они грабили город три дня: резали скот и мужчин, силой брали женщин, жгли дома и тащили, тащили, тащили в свои телеги наше добро. Они закололи имама, обезглавили муэдзинов и превратили в конюшню храм. Они поднимались на минарет и мочились с балкона, испражнялись в фонтан, а страницами Священной Книги подтирали зады.
Я, связанная, брошенная на занозистое тележное дно, обложенная тюками с награбленным, беззвучно плакала, глядя на то, что творит северная саранча. Но ненависти, лютой, безрассудной ненависти, еще не было во мне. Ее не было, даже когда по площади перед мечетью пронесли нанизанную на пику голову Алишера. Ненависть появилась позже, на четвертое утро. Солнце стыдливо прикрылось тучами, чтобы не смотреть. Вместо солнца смотрела я. Смотрела, как на площадь вывели обнаженного, обритого наголо, с порванной плетьми кожей Мансура.
Мой брат бился в руках двух бородачей, подталкивающих его к вбитому в землю, смазанному бараньим салом колу. В ясных джейраньих глазах Мансура метались мука и боль, а потом, когда бородачи вздернули его от земли и подсадили на кол, Мансур закричал. Этот крик не умер вместе с ним, не заглох в разорванном заднем проходе, не увяз в пробитом желудке и не утонул в лопнувших от нестерпимой муки глазах. Крик остался во мне, я приняла его, вобрала в себя и затолкала, забила в сердце. Предсмертная мольба брата поселилась во мне навечно, и клятва, которую он дал на Коране, стала моей.
Я рассталась с сознанием прежде, чем Мансур умер, а когда пришла в себя, услышала приветственный рев.
– Царевич! Царевич! – в тысячу глоток орала толпа победителей.
Я вскинула взгляд на грузного всадника с мясистым, рассеченным шрамом лицом. Был он в расшитой золотой вязью накидке, драгоценные камни швыряли сполохи света с рукояти его меча, а гнедой жеребец мотал головой, всхрапывал и фыркал, будто жаловался на непосильную и ненавистную ношу.
– Хорошо погуляли, братцы? – гаркнул царевич. Покивал в ответ на нестройную разноголосицу и добавил: – Ну, пора и честь знать.
Он спешился, обнялся с давешним рябым воеводой в подбитой серебром парче. Выслушал сказанные на ухо слова, задумчиво почесал перечеркнутую шрамом скулу и зашагал через площадь ко мне. Оглядел с придиркой, будто выставленную на базарный торг кобылу, втянул носом воздух, поморщился.
– Не люблю басурманок, – сказал царевич, – а от этой еще и смердит.
– Так нужду справлять негде, светлейший, – принялся оправдываться тощий востроносый подьячий. – Под себя девка ходила, потому и запашок от нее. Но ежели отмыть…
Пару мгновений царевич размышлял, что будет, если меня отмыть.
– Пустое, – сказал он наконец и добавил грязной площадной брани. – Кто, говоришь, первым одолел стену?
– Так Ивашка же Авдеев.
– Ну, значит, пиши приказ: за храбрость жалую девку сию Ивашке, сыну Авдееву. Пускай забирает, сучий хвост. Заслужил.
* * *
Безветренной душной ночью, под побитой звездной сыпью тушей хворого неба, круглолицый и курносый Ивашка, Авдеев сын, взял меня. Я корчилась под ним, изнемогая от стыда, боли и ненависти, а в десяти шагах глумливо ржали надо мной стреноженные обозные кони. – Ты это, если что, прости, девка, – подступился ко мне наутро Ивашка. – Нехорошо я с тобой. Тебя как зовут-то? Я промолчала. Он потоптался поодаль, опростал нос и убрался, а следующей ночью пришел опять. – Ты это, – шептал Ивашка, подминая меня под себя, – не серчай шибко. У меня девок-то и не было ни одной, я оттого и неуклюж малость. Звать-то как? – Шемаха, – простонала я, когда он вторгся в меня и стал хозяйничать, будто дорвавшийся до древесных жуков лесной дятел. Мне не было больно, как накануне. И постыдно не было. Я даже испытала нечто сродни довольству, когда он излился в меня. – Шем… Шам… – бормотал Ивашка, перебирая пальцами мои косы. – Не выговорить никак. Шма… Шха… черт побери! Я буду звать тебя Машкой. Так звали коров и сук в убогой, затерявшейся среди непролазных лесов деревне, в которую Ивашка меня привез. Жил он в бревенчатом, с закопченным потолком и слюдяными окнами срубе, называемом курной избой. Кроме Ивашки, в избе обитали две его малолетние сестрицы и жилистая седая старуха-мать. – Машка? – с сомнением в голосе спросила старуха, глядя на меня. – Что ж, поглядим на эту Машку. Она глядела и днем, пока я изнемогала от непосильной деревенской работы, и ночью, когда Ивашка, не стыдясь любопытных сестер, подминал меня под себя. – Ты это, – говорил он, вдоволь натешившись моим смуглым, податливым и научившимся кое-как отвечать на его движения телом. – Не серчай, если что. Прикипел я к тебе, Машка, люба ты мне. Я молчала. Я вставала раньше всех и ложилась последней. И терпела. Терпела похоронивший под собой деревню ненавистный снег, топившуюся по-черному смрадную печь, безвкусную простецкую еду и постылую, выматывающую, каждодневную бабью работу. Я прибиралась в избе, стирала исподнее, ходила за скотиной и лопатила навоз. И знала – настанет мой день. – Машка-то понесла, матушка, – на исходе зимы сказал Ивашка старухе. – Чего делать-то с ней? Та призадумалась, долго жевала дряблые старушечьи губы, затем сказала: – А женись на ней. Девка справная, и черт с ней, что басурманка. В церкви ее окрестим. – А что, и окрестим, – согласился Ивашка. – Благодарствуйте, матушка. Стало быть, Пасху отгуляем, а на Красную горку и свадьбу сыграть можно. Моего согласия Ивашка не спросил. Он был незлобивым, нетрусливым и работящим. Возможно, он и в самом деле любил меня – по-своему, так, как любит саранча с холодной северной кровью. Но у меня в жилах текла горячая южная. А в сердце жила месть, и кричал в нем, голосил, не давая мне забвения и покоя, казненный Мансур. Когда весеннее солнце растопило снег и по деревне потянуло бражным дурманом, я отыскала на лесной опушке пробившиеся из-под земли навстречу теплу ростки вшивой травы. Откопала корни и измельчила их в порошок. Когда отошло пасхальное воскресенье, выбралась из избы во двор. Разделась донага и, воздев руки к небу, до полуночи стояла под звездами. Я произнесла заклинания, дающие силу отраве-траве, и прочла четыре суры Корана, благословляющие на джихад. Ивашка, Авдеев сын, до свадьбы со мной не дожил. И старуха не дожила, и старухин приплод. Потравленная саранча бессильно корчилась на полатях, выблевывая на метеный пол зловонное содержимое желудков и отхаркиваясь зеленой мокротой. Обухом топора я проломила череп старухе. Лезвием перехватила горло старшей девке и серпом зарезала младшую. Затем подступилась к Ивашке. Он долго не хотел умирать, даже с перебитыми руками, переломанными ногами и вспоротым животом. Он мучился на полу, но не орал от боли, а лишь глядел на меня изумленно, и тогда я выколола ему глаза и отсекла срам. Когда Ивашка, наконец, отмучился, я обезглавила его, поквитавшись за Алишера. Затем вырезала у убитых сердца, побросала в холщовый мешок и облила дощатый пол жидкостью, которую саранча перегоняла из браги и называла сивухой. Подожгла избу и ушла в ночь. До проезжего тракта я добралась на третьи сутки. К тому времени я съела сердца саранчи, и насытившийся Мансур притих во мне, перестав кричать.* * *
Меня подобрал цыганский табор. Было в нем пять кибиток, за последней из которых косолапо трусил цепной медведь. Табор колесил по северным городам, давая цирковые представления в обмен на медяки и хлеб. – А ты вылитая ромалэ, красавица, – сказал, оглядев меня исподлобья, морщинистый, с измаранными проседью курчавыми волосами старик. – Плясать умеешь? Петь? На гуслях бацать? Я сказала, что петь и плясать могу, а бацать выучусь. – Чье дитя носишь? – скосил глаза на мой живот старик. – То не твое дело. – Не мое, – согласился он. – Что ж, ступай тогда к Кхамало, у него как раз жена зимой померла от хвори, а цыгану без женщины никак нельзя. Днем он был горласт, ленив и вечно пьян, этот Кхамало, с задубевшей на солнце кожей и медной серьгой в ухе. Но он был искусен, затейлив и неутомим по ночам, и с ним я познала то, чего и близко не было с убиенным Ивашкой из рода северной саранчи. Я принимала в себя Кхамало то лежа, то опустившись на колени, то стоя в рост и ухватившись за перекладину, поддерживающую кибиточный полог. Я скакала на Кхамало подобно цирковой лошади. Я узнала, что лоно женщины – не единственное пристанище для мужской плоти, а когда женщина на сносях – и не главное. А еще узнала, что красива, желанна и не хуже цыганки. Ранней осенью в тряской кибитке я разрешилась от бремени младенцем мужеского пола. Услышав пронзительный детский писк, Кхамало осадил коней, спрыгнул с облучка и сунул голову под полог. – Эх, хорошо, – сказал он. – Цыган родился – пить будем, гулять будем, песни петь будем. – Не цыган, – простонала я. – И не будем. Я перекусила пуповину. Подобрав юбки, выбралась из кибитки наружу с пищащим Ивашкиным отродьем в руках. Шатаясь от слабости, проковыляла туда, где порыкивал и звенел цепью медведь. С размаху размозжила голову ублюдка о колесо и бросила медведю измаранное кровью и слизью тельце. Они долго стояли вокруг меня и молчали, пятеро мужчин, четыре женщины и выводок цыганских детей. Они смотрели в землю, на небо, на лошадей, но только не на меня. Затем Кхамало прокашлялся и, глядя в сторону, заговорил: – Уходи от нас, женщина. Мы не воюем и не убиваем людей. Ни нашего рода, ни чужого. Убивцам нет места среди нас. Ступай прочь и не возвращайся больше. Сидя на обочине в придорожной грязи, я долго смотрела табору вслед. Затем поднялась и побрела в лес. Я провела в нем семь дней, кормясь грибами и ягодами и собирая травы. Утром восьмого дня в узелках, что я навязала, порвав на лоскуты нижнюю юбку, лежали листья подбела и бересклета, корни белладонны и переступня, стебли белокрыльника и клещевины, цветы болиголова и горькой полыни. Напоследок я нарвала гроздей волчьей ягоды и выжала сок в ладони. Долго решалась, прежде чем расстаться с плодородием, дарованным всякой женщине Всевышним. Когда решилась, присела на корточки и напоила ядовитым соком свое лоно. Я выбралась на проезжую дорогу и три дня спустя спрыгнула с груженного битой птицей воза неподалеку от стольных мясных рядов.* * *
Я бросилась царевичу в ноги тем же днем, на закате, когда усталое северное солнце завалилось за золоченые дворцовые купола. – А ну, постой! – гаркнул царевич вознице, выбрался из роскошного, запряженного тройкой возка и шагнул ко мне. Багровый шрам пошел волнами по мясистой щеке и замер, будто почуявшая опасность, скользнувшая по бархану и насторожившаяся пустынная эфа. – Ты кто, красавица? – Не узнаешь, светлейший? – дерзко ответила я, не вставая с колен. – Может статься, оттого, что от меня сейчас не смердит? Царевич изумленно заломил бровь. – Вот ты, значит, кто, – проговорил он. – Дщерь непокорного шаха. Как же тебя зовут, я подзабыл… – Шемаха. Иван, Авдеев сын, которому ты меня подарил, называл Машкой. – Шемаха мне больше по нраву, – усмехнулся царевич. – И где он, твой Иван? – Он освободил меня от тягла, – я поднялась и заглянула царевичу в серые холодные глаза. – Помнишь площадного подьячего при войске, светлейший? Тот советовал меня отмыть, прежде чем попробовать. Ты тогда сказал, что не любишь басурманок. А теперь? Царевич отступил на шаг и неспешно меня осмотрел. – Ты стала настоящей красавицей, – признал он. – Что ж, немудрено для девицы царских кровей. Что ты от меня хочешь? – Ничего, царевич. Лишь быть при тебе. Возможно, я придусь тебе по душе, если и в самом деле меня отмыть. Я с дороги, а от бассейнов с фонтанами успела отвыкнуть. Меня устроила бы парная баня. Он взял меня в этой самой бане, распаренную, разомлевшую от чистоты и тепла. Его вялый ленивый орган едва нашел себе дорогу во мне. Он пыхтел, отдувался и кашлял, и его дыхание становилось все тяжелее, а плоть все мягче. Тогда я выскользнула из-под него и опустилась перед ним на колени. – Клянусь, ты была права, Шемаха, – сказал царевич некоторое время спустя. – Мне это по душе. Я прикажу, чтобы тебе отвели покои в моей половине. И распоряжусь, чтобы за тобою приглядывали. Он поселил меня в тесной полуподвальной каморке и приставил ко мне скопца. Это был страшный человек, сухопарый, мосластый и желтоглазый, похожий на изголодавшегося волка. Нет большего унижения для сильного мужчины, чем прислуживать женщинам. Нет большего позора, чем закончить свои дни евнухом в ханском гареме. Но этому унижение и позор были неведомы. Этот оскопил себя сам, чтобы желания плоти не препятствовали аскезе и колдовству. – Я вижу твое нутро, – сказал он. – Твоя душа черная, как разбойничья ночь, и гнилая, как чумная язва. Смотри сюда, – он вскинул руку и наставил костлявый палец на шпиль дворцовой часовни. Я вгляделась. На перекладине венчающего шпиль креста хлопала крыльями невиданная птица с золотым оперением. – Это птица гамаюн, – бросил скопец мне в лицо. – Она досталась мне еще птенцом. Гамаюн кричит, когда чует беду. Вчера, едва ты появилась у нас, он кричал. Мне стало страшно, так страшно, как было, лишь когда казнили Мансура. Но я сумела побороть этот страх и засмеялась скопцу в лицо. – Ты лжешь, старик, – сказала я дерзко. – Это обыкновенный рыжий петух из тех, что топчет кур на заре. Петушок кукарекает от страха, потому что боится попасть стряпухе под нож. Скопец ничего не ответил, а лишь плюнул мне под ноги и пошел прочь. Той же ночью я услаждала царевича в его опочивальне. А едва он захрапел, выскользнула из нее и поспешила к себе. Я смешала корни белладонны с цветами горькой полыни, в глиняной плошке растолкла в порошок и острием ножа резанула по пальцу. Сдобрила порошок кровью и произнесла заклятие, необходимое для приворота. Три дня спустя я сыпанула щепоть снадобья в чарку с вином и подала ее царевичу. Когда я возвращалась от него, петушок на шпиле зашелся криком, но я лишь усмехнулась в ответ. Теперь царевич проводил со мной все ночи и не отсылал прочь, насытившись. – Скопец говорит, что ты приворожила меня, Шемаха, – сказал он однажды. – Птица гамаюн, дескать, кричит, завидев тебя. – Скопец лжет. Так же, как его лживая птица. – А пускай даже он говорит правду. Мне по душе твоя ворожба. Я ненавидела этого северянина. У него было имя, но я ни вслух, ни про себя не произносила его. У саранчи нет имен. Я согревала ему постель, ласкала его, глотала его семя и ждала, когда придет мой день. Мало-помалу царевич стал брать меня с собой на прогулки, на охоту, а потом и решил представить родне. – Шамаханская царица, – шутливо объявил он, введя меня в убранные золотом покои. – Бывшая. Ныне же моей милостью проживается среди челяди. Я поклонилась до земли сидящему на троне плешивому старику с ястребиным носом и выцветшими глазами. Затем – стоящему по левую руку от него молодцу. Он был высок, широкоплеч, кудряв, хорош лицом и строен статью. Он отличался от старшего брата в той же мере, в какой горный орел разнится со степным коршуном. – Ты приглянулась отцу, – сказал ночью царевич. – Не стряслось бы беды. – Какой беды? – эхом откликнулась я. – На старости лет отец стал скорбен умом и несдержан в гневе. По правде сказать, я опасаюсь его. И в особенности опасаюсь младшенького. Мой братец хитер, коварен и изворотлив, в отличие от меня, простака. – Ты не кажешься мне простаком, светлейший, – возразила я. Царевич нахмурился. – Я грубиян и рубака, а не придворный, – буркнул он. – В походах я ем мясо с ножа и сплю под лошадиной попоной. Что у меня на уме, то и на языке. А братец обучался в заморских странах и нахватался всякой всячины от иноземцев. Отцу он милее гораздо более моего и льстит ему, не стыдясь. Так что кто знает, не прикажет ли однажды старик удавить старшего сынка и наследника во благо младшенького. – Ты пугаешь меня, царевич? – Предупреждаю. Отцу каждую ночь водят новую девку. А наутро порют ее плетьми, потому что не сумела разжечь остывшую кровь. Старик по утрам злой как черт, горе тому, кто попадет ему под горячую руку. А младшенький тут как тут. Не беда, дескать, дорогой батюшка, другую найдем. Но тот, упрямый долдон… – Дадон, – решительно поправила я. – Так степняки-скотоводы говорят о предводителе кочевья, если тот зажился и потерял разум от старости. Царевич расхохотался. – Дадон, – повторил он. – Надо же… У нас так называют неуклюжих и нескладных глупцов. Умора. А ты, девка, остра на язык.* * *
На изломе весны на юге поднялись горцы, дерзкими набегами разорили пограничные селения северян. Плешивый старик с выцветшими глазами, которого старший сын теперь за глаза иначе как Дадоном не величал, велел собираться в поход. – Скоро вернусь, – обещал царевич, с натугой влезая в седло. – Гляди, девка, чего услышу – убью. Я поклонилась до земли и помахала вслед платком белого шелка. А тем же вечером петушок на часовенном шпиле заголосил вновь. Случилось это, когда через порог моей каморки перешагнул младшенький. День спустя я поняла, что искусный и затейливый Кхамало годился этому разве что в подмастерья. – Поговаривают, ты колдунья, Шемаха, – сказал однажды младшенький, пока я пыталась отдышаться после всего того, что он со мною проделывал. Сам он даже не запыхался. – Кто поговаривает? – выдохнула я. – К примеру, скопец. Моего братца, по его словам, ты приворожила. Что скажешь? Я отдышалась. Я смотрела на него и думала, как обошлась бы с ним, доведись ему оказаться в моей власти, а не мне – в его. Этому я не позволила бы умереть быстро, как Ивашке. – Скопец врет! – Он никогда не врет. И его птица не врет тоже. Я имею к тебе вопрос, шамаханская царица. Что, если я предложу тебе стать царицей северной? Я долго молчала. Младшенький молчал тоже – ждал. – Ты что же, хочешь женить на мне отца, царевич? – спросила я наконец. В чем мать родила, он поднялся с постели и подбоченился. Льняные кудри упали на лоб, достав до холодных стальных глаз под широкими, вразлет, бровями. Я смотрела на него, хотела его и ненавидела. – Не отца, – проговорил он. – Я сам позову тебя в жены. Если только… – Если только что? – Есть три человека. Мой брат, наш с ним папенька и скопец. С братом будет несложно, он глуп и беспечен. Ты смекаешь, о чем я? – Беспечный человек – мертвый человек, – поделилась я восточной мудростью. – Я понимаю, о чем ты. Еще я понимала, что переживу этих троих самое большее на день-другой. Но я была на это согласна. Особенно потому, что туда, откуда не возвращаются, полагала прихватить с собой младшенького. – Что ты от меня хочешь, светлейший? – Я знаю, как сделать, чтобы отец позабыл себя от гнева. И знаю, как поступить, чтобы гнев его пал на скопца. Сможешь ли ты составить приворотное зелье? Я помедлила. – Пожалуй, смогу. А сам ты не опасаешься моих зелий, царевич? Младшенький скривил губы. – Я еще не ослаб умом, чтобы принять чарку из твоих рук. Ступай, готовься: завтрашней ночью ты разделишь ложе с моим отцом.* * *
Он был слюнявый и суетливый, этот крючконосый, с выцветшими глазами старик. Смерть уже пометила его – изжелтила дряблую кожу и потравила плешь сизыми пятнами. Он был немощен и похотлив, а его мужское естество походило на дохлого водяного червя, и лишь великий Аллах ведает, каким чудом мне иногда удавалось этого червя оживить. – Государь, у этой женщины черные глаза, черные волосы и алые губы, – сказал однажды скопец, всю ночь дожидавшийся пробуждения Дадона у порога царской опочивальни. – Но не только. Ее помыслы тоже черны, а руки алы от крови. Прикажи ее гнать, государь. Птица гамаюн исходит криком, предвещая беду. – Я лучше прикажу гнать тебя, – взъярился Дадон, к которому минувшей ночью раз-другой вернулась мужская сила. – Ступай вон! К лету гонцы принесли тревожные вести с юга. Старший царевич слал их одного за другим, моля о подмоге. Затем слать перестал. Истаяла неделя, за ней сгинула новая, гонцов с юга больше не было. – Собирайся, – велел Дадон сыну. – Поведешь войско на выручку брату. Младший царевич лихо запрыгнул в седло, подмигнул мне на прощание и пришпорил коня. Я поклонилась ему до земли и помахала вслед платком белого шелка. Он отправлялся геройствовать – убивать брата. Я оставалась ублажать старика. Младшенький вернулся, когда летняя жара сменилась уже осенней сыростью. Я стояла на дворцовом крыльце и ликовала, на него глядя, а в моем сердце хохотом заходился казненный Мансур. Царевич вернулся домой. Так же, как три года назад вернулся мой покойный отец Селим-Шах. Младшенького привезли на телеге, раскроенного пополам, прикрытого драной рогожей. На смрад, который исходил от него, слетались навозные мухи. Вслед за первой телегой катилась другая – на ней везли старшего. Содеянное вернулось к нему: из-под рогожи в лицо Дадону скалился череп. Отделенная от тела голова царевича сгнила на солнце, так же, как отсеченная и наколотая на пику голова моего брата. На неверных ногах Дадон ковылял к покойникам. Шаг, еще шаг… – Это она! – догнал царя заполошный голос скопца. – Она приворожила их и прелюбодействовала с обоими! Отдайте! Отдайте же! Отдайте ее мне!* * *
Я сижу взаперти в тесной башенной келье в ожидании казни. В узкое, пробитое в камне окно я гляжу на то место на площади перед дворцом, где Дадон царским жезлом раскроил череп скопцу. И на то, где толпа в клочья разорвала птицу с золотым оперением. В отличие от царя «петушок» смерть принял достойно. Он отомстил. Он успел вырвать Дадону ноздри, выклевать глаза и пробить клювом темя. Но птица отомстила лишь одному. Я же отправила в Джиханнам их всех. Предводители северной саранчи мертвы, все трое. И мертв тот, четвертый, что пытался их уберечь от беды. Дверь темницы со скрипом отворяется. Я поднимаюсь на ноги, чтобы встретить палачей стоя. Я… …тяжело оседаю на каменные плиты. Мне нечем дышать – сдавленная ужасом глотка не пропускает воздух. Задыхаясь, я смотрю на того, кто застыл на пороге. На мертвеца. – Завтра тебя сожгут, Шемаха, – говорит он. – Ты хотела моей смерти и потому умрешь. Клянусь, мне жаль тебя. Не твоя вина, что я оказался предусмотрительнее вас всех. – Зачем ты здесь? – выдавливаю я из себя. – Хотел спросить, что ты подсыпала мне в вино. Белладонну я распознал по вкусу, но там было и нечто иное. – Полынь, – шепчу я обреченно. – Цветы горькой полыни. – Что ж, – царевич усмехается, багровый шрам, перечеркнувший мясистую щеку, кривится, гнется дугой. – Привкус мне пришелся по нраву, я прикажу отныне подавать мне вино с полынью. Покойный братец из твоих рук кубка бы брать не стал. Он был слишком осторожен и слишком труслив. А я с детства приучал себя к ядам – отравы и зелья для меня безвредны.Он стоит в десяти шагах и с ухмылкой смотрит на меня, привязанную к столбу и обложенную хворостом. Младшенький собирался убить брата, а себя выдать за мертвого. Он знал, что птица гамаюн всегда мстит убийце того, кто ее выкормил. Он предвидел, как потерявший голову от горя и гнева, опоенный приворотным зельем царь обойдется со скопцом. Он прогадал: старший царевич оказался не тем простаком, за которого с усердием себя выдавал. Он сам проделал то, что приготовил для него младший. Проделал моими руками. Палач подносит к хворосту пылающий факел. – Шемаха, – окликает меня царевич. – Знаешь, о чем я думал вплоть до этого мига? Я молчу. Мне ли не знать, о чем думает палач перед тем, как казнить свою жертву. – Я думал, не помиловать ли тебя. – Что? – шепчу я. – Что ты сказал? – Мне было ладно с тобой. Я подумывал, не стоит ли тебя помиловать и жить с тобой как с женой. Ты могла бы стать мне хорошей парой. – И что же? – отчаянно кричу я. – Что ты решил?! Царевич усмехается мне в лицо. То ли с грустью, то ли с издевкой, не поймешь. – Решил, что тогда ты однажды ночью меня зарежешь. Прощай. Первые языки огня лижут мне ноги.
Александр Матюхин. На ногах

Оля
Ее называли Олей, и ей часто снилось море. Плотное, теплое, изумрудное. Денис шутил: – Ты у меня русалка, как в городской сказке, которая должна убивать мужчин, но влюбилась и передумала! Он искренне думал, что влюблен. А ей давно перестали нравиться его объятия, сигаретный запах изо рта, сухие губы, выпирающий живот. Она ненавидела музыку, которую он слушал, фильмы, которые он смотрел, рваные джинсы и растянутые футболки. Оля мечтала вырваться из душной съемной квартиры и мчаться, мчаться, чтобы никто и никогда не догнал. Например, к морю. Но ничего не получалось, потому что сложно, знаете ли, сбежать, когда нижняя половина тела – это рыбий хвост. С утра Денис набирал полную ванну и переносил Олю из постели в воду. Осторожно обтирал губкой. Заботился. Оля плескала хвостом, разминая затекшие мышцы. Пила кофе. Ела тосты с джемом. Слушала радио в наушниках, прикрыв глаза. Когда Денис уходил, она долго лежала под водой, представляя, что спряталась от мира в глубокой темной расщелине где-то на дне моря. Она слышала шум смываемой воды, шарканье тапок, приглушенную музыку, бормотание чьего-то телевизора. Слышала, как люди разговаривают по телефонам, вызывают лифт. Кто-то ругался. Кто-то занимался сексом – иногда и не по одному разу. Ближе к обеду Оля выбиралась из ванной и ползла в кухню. Хвост тяжелел, оставлял на полу влажные и склизкие следы. Оля не любила ползать, она хотела, чтобы ее носили на руках. Мир за окном кухни казался чем-то фантастическим. Мир, где у людей есть ноги. Мир, где люди смеются, поют, мечтают, путешествуют. Мир без ограничений. В обеденный перерыв звонил Денис. Смеялся, покашливал, спрашивал про «как дела». У него был маслянистый грубый голос, как у всякого работяги, сутками напролет курящего дешевые сигареты, ругающегося матом, вдыхающего соленый морской воздух. Раньше Оле нравился голос Дениса, теперь он ее раздражал. Она уже знала, что лучше всего ставить разговор на громкую связь и просто слушать. – Люблю тебя! – говорил он в самом начале отношений. А Оля думала, как ответить: «Я тебя тоже»; «Взаимно»; «Спасибо». – Угу… Она отключала связь и вновь смотрела в окно. Серая зима, густо наполненная ветром, запахом морской соли, мишурой бесконечных снегопадов, отступила месяц назад, и сейчас на улице было ярко, солнечно, хорошо. По тротуару мчались на самокатах, ходили с колясками, останавливались, чтобы поболтать под свежими изумрудными листьями. Оле тоже хотелось на улицу, прогуляться, но это же смешно и нелепо, потому что русалки не гуляют, даже в мечтах. И еще у нее была другая задача. Тайный зов. Инстинкт. Она находила взглядом подходящего человека. Мужчину. Иногда красивого, иногда все равно какого. Чтобы он не торопился, а задержался внизу, под окнами. Она должна была уловить его запах, определить – дешевый одеколон, кофе в забегаловке, пиво, грязная рубашка и давно не стиранные трусы, а значит, одинок, значит, можно, – и тогда, открыв окно, позвать его. Мужчины всегда откликались на зов. Этот тоже. Высокий, излишне худой, скуластый, чуть лысоватый, но чем-то неуловимо привлекательный. Оля, поймав его взгляд, улыбнулась, поманила тонким пальцем. Он, конечно, видел только верхнюю половину ее тела, влюблялся мгновенно (мужчины и влюблялись всегда) и шел к окнам, не отводя глаз. – Зайдешь? Второй подъезд. Сорок шесть на домофоне. Тебе туда. Она не церемонилась. За полгода вошло в привычку. Закрыла окно, поползла к входной двери, стала ждать звонка. Все они поднимались на третий этаж стремительно. Она чувствовала биение их сердец даже через дверь. Открывала. Ловила секундный ужас в глазах, ухмылялась, небрежно шевелила плечом, приглашая войти. Никто никогда не упрямился. Мужчина переступал через порог и с этого момента оказывался полностью в ее власти. Оля поползла в гостиную, по пути стягивая через голову футболку. Диван был разложен и застелен заранее. Худой незнакомец жадно шел следом, тоже раздеваясь – торопливо и небрежно, с хрустом вскрывая молнию на джинсах. – Давай, милый. Не знаешь, как примоститься? Сейчас покажу. Да, дорогой, не очевидно. Двигайся неторопливо, мне нужно успеть почувствовать. Да, милый, нежнее. Я же говорю, не нужно торопиться. Вот так. Меняем позу. Давай еще раз. Не беспокойся, все будет хорошо. И еще раз. Знаешь, а ты неплох. Хочешь перекурить? Нам нужно вернуться к процедуре еще два раза, чтобы наверняка. Знаешь, как я устала верить в это «наверняка»? Милый, давай. Дорогой, ты хорош. Быстрее. Теперь можно быстрее. Ты сладко пахнешь. Ты прекрасен. Да, милый. Прекрасен. Он ушел сразу же, как все закончилось: растерянный, ничего не понимающий. В его взгляде все еще не угасло желание, но память уже услужливо рассыпалась на песчинки, потому что ни один человеческий мозг не мог удержать в себе воспоминаний о произошедшем. Мужчина сошел бы с ума, если хотя бы на минуту позволил себе освежить в памяти подробности. Оля лежала на диване, расслабленная и удовлетворенная, обтирала тело влажными салфетками с запахом лаванды и крапивы. Потом перемещалась в ванную комнату и погружалась в теплую воду с головой. Сквозь приоткрытые губы сочилась вода, жабры фильтровали кислород. Где-то внизу живота, на границе человеческого и рыбьего, зарождалась приятная долгожданная боль. Оля закрыла глаза, ей снова снилось море. Но сон наслаивался на другой – пыльная дорога, по которой русалка вышагивает на красивых женских ножках. Обязательно босая и стопроцентно счастливая. Оксюморон.Денис
Признаться, той ночью в начале осени он хотел выйти в море на лодке в одиночку, отплыть как можно дальше, привязать к ногам металлический кусок арматуры и спрыгнуть в воду. К утру течение отнесло бы лодку на восток, и его искали бы как минимум неделю. Возможно, никогда бы не нашли. Здорово, правда? Навечно остаться под толщей воды, разглядывая пустыми глазницами проплывающих рыбешек, выглядывая в темноте знакомый образ. К этой мысли Денис шел долго, с момента, как по-настоящему осознал, что жена умерла. Проснулся от этой мысли в пустой квартире, на разложенном в гостиной диване, пялясь в потолок. В голове крутилось: это навсегда. Милой, доброй, любимой Оли больше не будет. Пустая спальня так и останется пустой. Не с кем лежать на кровати и смотреть телевизор. Не с кем ужинать, пить пиво, обсуждать многочисленных соседей, друзей и коллег по работе. Она утонула (какая ирония!), потому что в этом небольшом промышленном городке шестьдесят процентов смертей связаны с водой. Статистика беспощадна. Когда Оля умерла, Денис находился в море. Сложно было найти момент в серых буднях, когда Денис занимался чем-то другим, кроме промышленной рыбалки. Таскал сети и сортировал рыбешку, курил и шутил с товарищами, пил холодный кофе и омывал лицо соленой водой. Наслаждался жизнью, как любил, потому что его жизнь была всецело связана с морем. Первое сообщение пробилось сквозь расстояние. До берега оставалось еще четыре километра. Короткое и эмоциональное, от сестры: «Срочно приезжай в больницу!» Потом телефон засыпали звонки и сообщения, голоса сочувствующих и тревожащихся. Он не успел. Признаться, он опоздал еще до того, как вообще узнал об Олиной смерти. Как сухо и невообразимо точно: смерть наступила в результате удушья, вызванного попаданием воды в легкие. Оля упала, ударилась головой о камень, потеряла сознание и захлебнулась. Ее вытащили через семь минут. Говорят, у Оли были открыты глаза. Денис долгое время крутил в голове эту мысль. Успела ли Оля сообразить, что умирает? Какие образы всплывали в ее голове? Могла ли она выжить? Потом проснулся и понял: не могла. И ее больше нет.Арматура с веревкой лежали на дне лодки. Денис оделся теплее – и потому что было по-сентябрьски холодно, и чтобы быть тяжелее там, под водой. Тельняшка, футболка, теплая рубашка, свитер, пальто с меховой подкладкой. Трико, штаны, брезентовые брюки. Резиновые сапоги до колена. Никто не удивился. Здесь рыбачили круглосуточно, лодки-одиночки выходили в море каждые полчаса. В морозном вечернем тумане мир сужался до размеров крохотного суденышка, и рыбакам часто нравилось просто уплывать за несколько километров от земли, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Тишина стояла такая, будто Дениса замотали в ватное одеяло из пара и мороза. Он забросил удочку, хотя в этом не было необходимости. Скорее, по привычке. Закурил. Умирать было не страшно, а даже радостно. Под водой так же одиноко и пусто, как и в квартире. Последнюю сигарету хотелось докурить именно сейчас: неторопливо, задумчиво, вглядываясь в полумрак вокруг. Наконец он щелчком отправил окурок в воду и стал обвязывать ноги веревкой. Денис не сразу заметил, что лодка качнулась сильнее, чем должна была, – отвлекся на узлы. Потом расслышал тяжелый всплеск, лодка накренилась уже совсем сильно. Полуобернулся – и обомлел. На носу сидела Оля. Его Оля, настоящая и живая. Влажные волосы прилипли ко лбу и обнаженным плечам. Капли воды рассыпались по красивому лицу и стекали с подбородка. Оля улыбалась. У Оли вместо нижней половины тела был толстый рыбий хвост, как у русалки. Денис почему-то сразу поверил, что это нормально. То есть бывает же так, что утонувшие люди возвращаются в другом обличье. Ничего, блин, удивительного. В их городке и не такое происходило, если верить слухам. – Иди ко мне, – попросил Денис и понял, что по щекам текут слезы. – Господи, я так соскучился. Оля протянула к нему худые тонкие руки – пальцы с перепонками – и неловко подползла. Хвост тяжело ударял по бортам. Пахло рыбой, влагой, водорослями, глубиной. Они обнялись, потом Денис поцеловал Олю так крепко, как только мог. Почувствовал, что вот она, родная и любимая, снова с ним. – Поехали домой, – сказала Оля. – Здесь холодно и темно. Он выбросил в воду арматуру, веревку. Стащил с себя часть одежды и замотал Олю, как мог, в пальто и брезентовые брюки. До берега плыли в тишине. Денис то и дело оглядывался, чтобы проверить, не морок ли это. Но Оля была здесь, рядом. Любимая.
Оля
Та, которую называли Олей, вдруг начала мечтать о ногах. Сама не заметила, когда эта мечта пробралась в ее мысли и пустила корни. Будто заразилась, заболела неведомой русалкам болезнью. Бывает же такое? Мысли стали человеческими, и мечты тоже преобразились, изменили часть сущности. Вот были сны о море, о толще воды над головой, а вот – сидит у окна каждый день и смотрит на улицу. С завистью и сожалением. Дети бегают по площадке. Катаются с горок, кружатся на каруселях, играют в догонялки. Торопливо перебирают ножками. Женщины выстукивают каблуками по асфальту. Красиво выглядят, красиво звучат. Кто-то в кроссовках наматывает круги по стадиону. Кто-то выжимает сцепление и газ. Кто-то сидит на лавочке, закинув ногу на ногу. В этом мире ноги – лучшее, что вообще может быть. Денис шептал ночью: – Мы тебя вернем, любимая. Научишься ходить, бегать, и мы с тобой вдвоем прокатимся на велосипедах. Как-нибудь. Он был мечтателем, из тех, кто не замечает реальности. Приходил по вечерам, от него пахло морем, солью, рыбой. Любил забираться в ванну, рядом с Олей, гладить ее чешуйчатый хвост и рассказывать бесконечно долго, в подробностях, о своем скучном и однообразном дне. Оле не хотелось слушать, но она терпела. Потому что была в какой-то степени зависима сейчас. Зависима от этой квартиры, ванны, раскладного дивана, от окна на улицу с удобным расположением и – главное! – зависима от времени и новых ощущений. Первоначальный план был прост. Как любая самка ее вида, достигнув половой зрелости, Оля отправилась к берегу. Путь предстоял долгий, интуитивный. Обязательно в одиночестве, поскольку самка в период путешествия становится агрессивной и способна загрызть соперниц. Сквозь холод и темноту, с глубин моря к поверхности – и дальше, дальше от родного гнезда. Она изголодалась и разозлилась, но так и должно быть, так велят инстинкты. Голод и злость обостряют чувства, заставляют быстрее найти желаемое. И она нашла, забралась в лодку, улыбнулась, погружая первого увиденного в жизни человека в состояние транса. Ей нужно было заняться с ним оплодотворением, заполучить семя, а затем вернуться обратно в глубины, чтобы произвести потомство. Но человек вдруг заплакал и сказал: – Иди ко мне! И она не смогла отказать, потому что никто никогда не ломал наваждение с такой легкостью, как он. Человек назвал самку Олей, прижал к себе, и она замерла в нерешительности, ощущая, как трепетно забилось сердце. Это было невиданное и неожиданное ощущение. Оно задавило инстинкты, вытащив наружу что-то совершенно иное. Та, которую назвали Олей, вдруг захотела остаться в мире людей на какое-то время. Продлить необычное чувство. Она позволила отвезти себя в его квартиру. Улыбалась, когда он раздевал ее, омывал под душем, счищая водоросли, ракушки, налипший песок. Они занялись оплодотворением прямо в скользкой ванне. Денис быстро разобрался что к чему и в процессе возбужденно нашептывал ей на ухо: «Оля, Оля, радость моя, ты вернулась, да…» Оля не сопротивлялась и даже не оставила на его теле укусов. Ей понравилось ложиться с ним в постель, прижиматься к теплому телу, обнимать, слушать, как он дышит и как бьется человеческое сердце под грудной клеткой. Оля могла бы с легкостью выломать ребра, достать сердце и съесть его (говорят, вкусное), но сейчас ей не нужно было ничего этого. Просто хотелось продлить странное и необычное чувство. Да, Денис любил ее и считал своей женой. Оле нравилось, пусть это и было сумасшествие. Она задержалась в его квартире сначала на два дня, потом на неделю. Любовь не была взаимной, но проснулось любопытство. Каково это – жить человеческой жизнью? Как чувствовала себя та самая жена, которую Денис оставлял в квартире, когда уходил в море? Чем она занималась? Смотрела в окно? Переключала один за одним каналы телевизора? Беспечно пела? Приманивала других самцов, которые проходили мимо? Что-то еще? Оля наслаждалась ощущением человеческой жизни. Вторую неделю, третью. Училась мыть посуду, чистить яблоки, смотреть ролики на Youtube, умываться, чистить зубы, надевать блузки и бюстгальтеры. Училась вести диалог с Денисом, регулировать воду в ванне, включать телевизор и не рыться в мусорной корзине. Человеческий быт окружил ее, но вместе с тем появилось и еще одно чувство – желание выбраться из квартиры и прогуляться по улице. На ногах. А затем случилось кое-что еще. К концу первого месяца, в дни полной луны, когда внизу живота должна была зародиться ноющая тягучая боль; когда хвост должен был отяжелеть, а яйцеводы – выметывать в воду оплодотворенные икринки, ничего не произошло. Ольга лежала в ванной, напряженная и злая. Ей следовало возвращаться в море, искать другое место. Но она не хотела уходить. Не сейчас. В горле зародился зов. Инстинкт. Она поползла к окну на кухне, забралась на подоконник. Искала, ждала. В конце концов, самке не важно, кто ее оплодотворит, главное – размножение.Прошло полгода: три десятка случайных человеков, пришедших на зов; два промаха – вместо мужчин появлялись ошалевшие женщины, сдирающие с себя одежду еще на лестничном пролете; шесть тихих вечеров неудовлетворенных ожиданий; сто дней мечтания о красивых женских ножках. Затем она поняла, что оплодотворилась. Затихла, ожидая конца месяца. Сделалось уютно и радостно. Даже Денис не надоедал как раньше. Она бы давно загрызла его, но ей нравилось наблюдать за слепой наивной любовью, за тем, как он обманывается в своих мечтах и желаниях, принимая ее за другую. Бедный, бедный Денис. Если задуматься, она действительно могла бы обратиться девицей-утопленницей, если бы мир был сказкой. Но, увы, русалки сами по себе, а люди – сами. …Она жалела Дениса, поэтому хотела забрать икру и исчезнуть из его жизни. Не убивать, оставить. В тот день, когда это должно было произойти (Ольга едва выбралась из ванны, чувствуя слабость и жгучий голод после долгого метания), Денис вернулся на два часа раньше и прямо из коридора закричал: – Оля, милая моя! Мы едем немедленно! Возвращать тебе ноги!
Денис
Признаться, мысли об Олиных ногах стали его навязчивой идеей. У той Оли, настоящей, не было хвоста, и осознание этого выбивало Дениса из обычного состояния. Он уже не мог беззаботно собраться с утра на работу, отправиться на дежурном автобусе к причалу, выйти в море, провести рабочий день за ловлей рыбы и вернуться назад, к любимой, уставший физически, но отдохнувший духовно. Что-то в мире неуловимо сломалось, как крохотная деталь в огромном механизме. На второй месяц после появления обновленной Оли Денис начал искать решение. Сначала слепо, наугад – листал вкладки в Интернете, подбирал правильные поисковые фразы, читал новости, газеты, собирал слухи. Потом услышал где-то невнятно оброненную фразу о целителе, который много лет подрабатывает в городе, вытаскивая людей из моря и возвращая их к прежней жизни. Денис ухватился за ниточку, стал распутывать. О целителе, как оказалось, знали многие, но почти все предпочитали помалкивать. Денису повезло, у него была сестра Надя, которая, как оказалось, тоже была в курсе. Они встретились у больницы, где Надя работала хирургом. Поедая недорогой бизнес-ланч, сестра поведала несколько интересных историй. Целитель этот вырезал жабры пойманным в морях недочеловекам и вшивал легкие. Заменял сердца, делал морских обитателей полноценными людьми. Но главное – он мог сделать из русалочьего хвоста ноги. Сестра лично ничего не видела, как это всегда и бывает, но рассказывала настолько уверенно и правдоподобно, что Денис поверил. Вообще-то он готов был поверить сразу же и во что угодно, был бы повод. Людямсвойственно отсекать ненужное и тянуться к тому, что кажется им единственно верным. Спустя несколько месяцев странных знакомств, потраченных денег и нервов Денис заполучил телефон целителя и тут же набрал его, вслушиваясь в гудки с надеждой и страхом отчаявшегося человека. Он любил Олю, но этот хвост… Неправильный и раздражающий… – Вы удалите его? – спросил, едва обменялись с целителем банальными приветственными фразами. – Разрежу надвое, очищу, сошью. Процедура слишком сложная, чтобы я вот так сразу вам все рассказал. Голос у целителя был уставший.Еще через неделю Денис получил адрес и время. В назначенный день он высадился на берег раньше обычного и сразу же помчался домой. – Оля, милая моя! Мы едем немедленно! Денис застал ее в коридоре. По кафельному полу из ванной комнаты тянулся липкий влажный след. Подхватил любимую, завернул в полотенце. Оля непонимающе хлопала глазами: – Какие ноги? Куда едем? – Я обо всем договорился! Ты снова сможешь ходить! – Но я не… Она была слишком бледная, уставшая. Тяжело дышала. Приболела? – Ничего не бойся, там опытный человек, с гарантиями! Кусачей мыслью впилось в сознание: ничего он не знает о целителе, кроме разговоров и слухов. Никаких дипломов не видел, ни отзывов. Но вот ведь какая штука… Если чего-то очень хочется, то вокруг желания создается собственная вселенная, в которую веришь безоговорочно. Потому что без веры ни одна мечта никогда бы не осуществилась. Денис поднял Олю на руки и впервые вынес из квартиры. Оля обхватила его шею. Не сопротивлялась и не возражала. Пытливо смотрела по сторонам. Кажется, Денис чувствовал, как бьется ее сердечко. Спустились к машине, Денис уложил Олю на заднее сиденье. Она спросила осторожно: – Скоро я смогу ходить, как ты? – Обязательно! – заверил Денис. – И мы с тобой снова будем счастливы. Машина мчалась сорок минут, разрезая старый портовый городок по единственной прямой трассе. Потом свернули на гравийную дорожку в лес, долго тряслись по ней и уперлись в шлагбаум. Денис вышел, взял Ольгу на руки и отправился за шлагбаум пешком. Вскоре сквозь лес проступили очертания небольшого деревянного домика. На крыльце сидел целитель в медицинском халате, шапочке и галошах. Курил, поглядывая сквозь прищур на Дениса, подходящего к нему с Олей на руках. – Жирная, – сказал он. – Килограммов на пятьдесят пять тянет. Денис хотел обидеться, но вовремя спохватился. Не в том он был положении. – Куда нести? Целитель шевельнул плечом: – Через сени, потом налево, на диванчик клади. И возвращайся, тебе внутри делать нечего. На природе подождешь. Оля вцепилась в шею Дениса ноготками. Когда заходили в тесные сени с низким потолком, прошептала: – Это ведь не опасно? – Надо рискнуть, иначе как еще вернуть счастье? Верь мне. Он уложил Олю на старый диван с глубокими пролежнями, укрытый белой простыней, от которой остро пахло хлоркой. Поцеловал в холодные губы и выскользнул на улицу, в прохладу, будто вынырнул из густой соленой воды. Целитель как раз докуривал. – Долго ждать? – нагловато спросил Денис, как бы подразумевая, что чем быстрее, тем лучше. – Сколько понадобится, – ответил целитель, втаптывая окурок в землю. – А что, дружище, не хочешь поменяться? Ты мне русалку и все ее свежее потомство, а я тебе, значит, вдвое выше рынка наличкой. Экземпляр хороший, редкий. Свалишь из этого городка куда подальше, будешь себе жить припеваючи до конца лет. Денис оскорбился: – Она не русалка, а моя жена! Имейте уважение. Целитель несколько секунд смотрел на Дениса, будто хотел возразить. Потом тонко, ехидно улыбнулся: – Как скажешь, дружище. Я мозги вправлять не умею. Но учти, что с ногами эта твоя жена сильно в цене упадет. Целитель почти уже поднялся на крыльцо, когда Денис окликнул его. Спросил: – А что за свежее потомство? Вы о чем? – Она у тебя икру метала сегодня, – ответил целитель. – Ты не разбираешься? Грудь налилась, мешки под глазами, запах острый, морской. Считай, поздравляю, молодой папаша. Он рассмеялся квакающим смехом и скрылся за дверьми.
Надя
Родители погибли, когда ей было двенадцать, а Денису – семнадцать. Он заканчивал школу и думал уехать из города в столицу, пытать счастья в бюджетных вузах. Но жизнь повернулась иначе, Денис отправился работать рыболовом на небольшом местном суденышке и следующие восемь лет растил сестру. У них была та самая разница в возрасте, которая в юности мешала сильно сблизиться, стать друг другу по-настоящему нужными. Надя только-только училась влюбляться, а Денис уже встречался с одноклассницей, курил и напивался с друзьями. Наде нужно было, чтобы кто-то рассказал ей про месячные, а Денис вываливал в ванну свежую, еще трепыхающуюся рыбу и чистил ее до полуночи, резал, набивал морозилку. Лет до семнадцати Надя чувствовала, что они посторонние люди. Денис будто стал ее опекуном, не вызывая и не требуя родственных чувств. Все изменилось, когда Надя закончила школу и поступила в медвуз. Впервые она уехала из городка на три месяца, а когда вернулась – на платформе ее ждал Денис. Он заключил сестру в объятия, прижал к себе так крепко, что у нее перехватило дыхание, а потом взял за руку и повел к машине. Ничего такого не сказал, но Надя вдруг поняла, что Денис скучал, что в этом мире нет у него родственников, кроме нее. Да, Денис не умел проявлять чувства, но он любил сестру, и это было важно. Еще через пять лет Денис встретил Ольгу. Надя и сама к тому времени пару раз влюблялась в коллег по работе (увы, безответно), поэтому всецело разделила счастье Дениса и впустила Ольгу в их крохотную, как икринка, семейную ячейку. Смерть Ольги свела Дениса с ума. Надя все это время была рядом, но понимала, что родственная любовь никогда не заменит любовь мужчины к женщине. Денис превратился в безмолвную тень. Он плыл по течению жизни – вставал на рассвете, молча завтракал, уходил на работу. Возвращался затемно, ужинал, ложился спать. Надя подгадывала под его расписание, мчалась в квартиру к брату с утра, жарила ему яичницу, разогревала кофе. Потом опять же мчалась вечером после работы, быстро прибирала, готовила нехитрый ужин, дожидалась появления Дениса и сидела с ним, пока он ел, глядя пустыми глазами в окно. Она спрашивала: «Может, сходить к психологу?» Он отвечал: «Психологи – шарлатаны, они не вернут человека к жизни». Через несколько месяцев после Олиной смерти Надя уехала в столицу на практику. Писала и звонила Денису каждый день. Он не любил общаться, отвечал сухо, но хотя бы поддерживал связь. Затем – за день до ее приезда – не прочитал сообщение и не ответил на звонок. Всю ночь Надя тряслась в плацкартном вагоне без сна, перебирая в голове все возможные варианты. Она была уверена, что Денис ушел в море и не вернулся. С вокзала Надя помчалась на такси к его дому, выскочила в сером предрассветном тумане и увидела, что в окнах квартиры Дениса горит свет. На кухне сквозь стекло был хорошо виден женский силуэт. Незнакомая девушка сидела на подоконнике, полуобернувшись. К ней подошел Денис, обнял, поцеловал – и Надя вдруг ощутила себя дурой. Она вернулась домой и впервые за много месяцев не пошла к брату после пробуждения. Денис позвонил сам ближе к обеду. Голос его звучал взволнованно и радостно. Он сказал: «У меня кое-что случилось в жизни, но пока рано об этом говорить. Можно попросить тебя не приезжать по утрам? Я сам буду готовить завтраки, обещаю!» Она ответила: «Хорошо, как скажешь. Если будет нужна помощь, обращайся». Денис обратился позже, когда попросил найти целителя. Тогда-то Надя обо всем и догадалась.Маленький портовый городок полнился слухами о русалках, которые время от времени выбирались на берег, спаривались с мужчинами и пожирали их. Надя впитывала эти слухи с детства и давно привыкла к ним. Не сильно удивилась даже тогда, когда впервые встретила на хирургическом столе жертву русалки. Человек выжил, хоть и лишился трех пальцев на левой руке и правого соска. Рассказывал страшное о том, как морская тварь выплыла из глубины, схватила и потащила за собой. Он захлебывался, но тварь впилась ледяными губами в его губы и затолкала ему в легкие воздуха, не давая умереть. Там, на глубине, под давлением, от которого заложило уши, взвилась зубная боль, а перед глазами налились красные пятна, морская тварь содрала с него плавки и совершила что-то ужасное. Оргазм был болезненным и кровавым: возбужденная тварь вырвала ему сосок и впилась зубами в кисть, отрывая пальцы. Мужчина то ли потерял сознание, то ли провалился в безрассудство и пришел в себя уже в рыбацкой лодке. Говорили, что его сожрали бы целиком, как делают все русалки после спаривания, но помешала моторная лодка с сетью, которая зацепила Витальку и отвлекла морскую тварь. В больнице никто не удивился. Мужчину выходили и выписали, а жизнь пошла своим чередом. Раз в год-два Надя сталкивалась с очередной жертвой русалок, правда, теперь только в морге, когда помогала местному патологоанатому на полставки. Когда Денис приехал в больницу на обед и спросил, знает ли Надя о целителе, она сразу все поняла. Захотелось тут же расспросить брата: как поймал, как русалка не съела его до сих пор, как он вообще живет с ней в квартире. Хотелось взять его за воротник, встряхнуть, рассказать об опасности, потому что Надя не раз и не два вскрывала трупы тех, кого русалки сожрали после спаривания. Но Денис опередил и сказал что-то совершенно сумасшедшее. Он сказал: «Оля вернулась, представляешь? Я нашел ее в море. Она обратилась в русалку, и теперь у нее хвост. Мы любим друг друга, как прежде. Ты не поверишь, насколько я счастлив!» Но ведь Надя видела в окне не Олю, а другую женщину. А перед ней сидел влюбленный, счастливый брат. Она запнулась и ответила: «Я найду контакты, есть знакомые…» Невозможно было поверить, что он говорит о русалке. Никто не выживал после общения с ними. Никто в них не влюблялся. Оксюморон.
В больнице портового городка хранилось множество секретов. Контакты действительно нашла, передала. В душе Дениса сидела глубокая влюбленность, свет исходил из его взгляда – безумный или очарованный, не разобрать. Вечером того же дня, после быстрого, но яркого секса с патологоанатомом в его кабинете, Надя спросила, видел ли он когда-нибудь живую русалку. Тот ответил, что боится русалок, как смертоносную заразу. Он добавил: – У русалок долгая и злобная память. Они охотятся за жертвой до тех пор, пока не получат желаемого. Если не сожрали сразу после оплодотворения – выследят и сожрут позже, через год или два. От них нет спасения, в этом-то и проблема. Если увидел русалку живьем, то рано или поздно умрешь. И еще сказал, подумав, чуть тише, чем следовало: – За последние полгода ко мне поступили девять мужчин разного возраста. У всех острый сепсис, вызванный неизвестной инфекцией нервной системы. Сгорали за несколько дней. У каждого были укусы. Такие, мелкие, будто грызуны поработали. У кого-то на шее, у кого-то под мышкой или на затылке. Разные, в общем. Я еще никому не говорил, но сдается мне, что это проделки русалок. – У нас в городе поселилась русалка? – Почему бы и нет? Подумай, зачем каждый год плыть к берегу и искать себе жертву для оплодотворения, если можно поселиться городе и выбирать любого проходящего мимо мужчину? Рано или поздно эти твари могли до такого додуматься. Надя переваривала услышанное несколько дней и однажды вечером после работы отправилась к Денису. Мысли сделались колкими, острыми. Вместе с волнением нарастал страх, от которого дрожали пальцы. Надя не знала, что собирается говорить и делать, но почему-то была уверена, что брат выслушает ее. Как минимум выслушает… Она позвонила в дверь, потом постучала, прежде чем сообразила, что никто ей не откроет. Дениса не было, несмотря на поздний час. Хотела взять телефон и набрать номер брата, но почему-то одернула себя и полезла за ключами. Страх перерос в злость. К черту! Она сидела с Денисом после смерти Ольги, бегала к нему каждый день, приводила в себя, ухаживала, так почему он не хочет рассказать всю правду об этой своей русалке? Надя распахнула дверь, шагнула в темноту коридора. Сразу почувствовала отталкивающий запах тухлой рыбы. Воздух шевельнулся, проникая миазмами в ноздри, облепляя веки и путаясь в волосах. Едва сдерживая позывы к рвоте, она включила свет. На полу блестел жирный размазанный след. Из ванной доносились звуки. Кто-то копошился, попискивал. Надя поняла, что́ там, но старательно отмела непрошеную мысль. Потому что если она права, то где-то в квартире почти наверняка лежит мертвый Денис. Русалки не оставляют в живых, помните?.. Она затряслась от страха и злости. Подошла к двери, щелкнула выключателем – и когда увидела то, что находилось в ванне, заорала так, что захлебнулась горячим едким воздухом. В ванне копошились вылупившиеся из икринок твари. Русалки еще не обрели человеческих черт, на их треугольных мордах выделялись глазищи с вертикальными зрачками и мощные челюсти с частоколом зубов. Атрофированные руки елозили вдоль тела, хвосты извивались и хлестали из стороны в сторону. Бледная кожа русалок была густо покрыта слизью. И все вместе – сотни крошечных тварей – походили на слипшуюся чавкающую массу не то рыб, не то головастиков. Надю таки стошнило, она вывалилась обратно в коридор и поспешила на кухню. Первое, что сделала, – открыла окно, высунулась наполовину и стала вдыхать свежий прохладный воздух. Звук копошащихся русалок не покидал ее. Казалось, что эти твари сейчас выберутся из ванны и набросятся, чтобы сожрать. Ведь им нужен корм, верно? Корм, который ходит, дышит, живет. – Денис! – позвала хриплым голосом. Идти по коридору мимо ванной было очень страшно. – Денис! Никто не отзывался. Пальцы впились в подоконник. Надя лихорадочно осматривала кухню, пока не уперлась взглядом в раковину. Решение пришло быстро: под раковиной у Дениса стояли две бутылки очистителя труб, бутылка «Доместоса», еще одна, начатая, – средство от накипи. Надя сгребла их и поволокла к ванной комнате. Страх переливался через сознание, как морские волны через преграду. Она вспомнила трупы мужчин, которых вылавливали из моря со следами укусов. И рассказ патологоанатома тоже вспомнила. Надя ворвалась в ванную, на ходу срывая колпачки с бутылок. Опрокинула «Доместос» в шевелящуюся склизкую массу. Жидкость выходила толчками, зашипела и запенилась при соприкосновении с русалочьими телами. Ванну наполнил тонкий пронзительный визг. Надя, зажмурившись, принялась выливать следующую бутылку. В ноздри проник совсем уж мерзкий запах, но вытошнить было нечего. Желудок дергался от болезненных спазмов. Когда закружилась голова, Надя вышла в коридор, отдышаться. Из ванной комнаты кричали болезненно и дико. К этим крикам вдруг прибавился еще один – взрослый, женский. Надя повернулась и увидела в дверях Дениса, держащего на руках женщину. Ноги ее были плотно перевязаны влажными бинтами, пропитанными кровью. – Ты их убила! – закричала женщина, и звуки ее голоса впились в мозг, как рыболовные крючья. Надя не обратила внимания на крик. Она увидела брата. Живого, господи, живого и здорового! Улыбнувшись, она сделала шаг к Денису, а женщина на его руках вдруг рванулась к ней, вытягивая длинные тонкие руки с длинными же тонкими пальцами. Ногти впились в кожу, разодрали щеки. Денис отшатнулся, выпустил русалку, а сам шлепнулся на пол, упершись спиной о дверь. Надя под весом нападавшей упала тоже. Ударила несколько раз кулаками в пустоту. Воздух вокруг заволокло запахом протухшей рыбы. Что-то звонко клацнуло около уха. Чужие пальцы лезли в рот, царапали и раздирали лицо. – Ты их убила! Моих детей! Убила! Убила! Наде нечего было ответить. Она не могла сопротивляться бешеному напору русалки. Пыталась прикрыть лицо руками, но увидела перед собой распахнутую пасть. Челюсти русалки сомкнулись на носу, с хрустом и чавканьем вырвали его. Боль заметалась по телу. Надя закричала, но в распахнутый рот снова полезли тонкие извивающиеся пальцы, нащупали язык – вырвали. Потом острый ноготь наотмашь черканул по левому глазу. Мир наполнился темнотой и криками. Надя позвала: – Денис! Спаси! Денис, пожалуйста! Но брат не пришел на помощь. Не в этот раз.
* * *
В этот раз инстинкты победили. Русалка развернулась на руках, рассматривая Дениса. Он сидел в коридоре, упершись о входную дверь. Глаза распахнуты, рот приоткрыт, кадык ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Больше не было смысла скрываться, пусть смотрит на нее такую, какая есть: зеленые волосы, глаза с тонкими вертикальными зрачками, большие челюсти, рваные губы, чешуя на щеках и висках и еще – атрофированные жабры на шее. Русалка медленно подползла, давая Денису время, чтобы он понял: Оли нет и никогда не было. Все морок и разочарование. Он был влюблен в образ, который создал сам себе, а она лишь немного помогла Денису… сделала его счастливым на короткое время. Ну а теперь пора заканчивать. Он хотел что-то сказать, но русалка опередила: навалилась, вдавила пальцами кадык Дениса внутрь – ногти порвали кожу. Впилась зубами в его сухие обветренные губы, будто в вареные креветки. Откусила. Когда Денис закричал, русалка сломала ему руки в суставах, выбила плечи, вышибла коленные чашечки – и только после этого принялась неторопливо, как умела, душить и кусать. Она не испытывала удовольствия, скорее, ей стало вдруг уютно от возвращения в привычное состояние. Русалки убивают мужчин – это инстинкт, зов, непреложное правило, как хотите называйте. Русалка, которая сопротивляется инстинктам, плохо кончит. Как там говорил Денис: это похоже на городскую сказку. Верно. Не нужно было очеловечиваться. Вот чем закончилось в итоге. Русалка поползла в ванную. Уже по запаху поняла, что дело плохо. Перевалилась через борт ванны и увидела своих мертвых детей в пузырящейся серой пене. Дети слиплись между собой, их пасти были распахнуты в безмолвных криках, глаза вытекли, а хвосты посмертно вздрагивали. Бедные, бедные дети. Русалка беззвучно плакала рыбьими слезами, пока инстинкты не отступили и разум снова не стал светлым. Выхватила взглядом еще живых детей, тех, кого можно было спасти. Принялась соскребать их, очищать, умывать холодной проточной водой. Складывала в пластмассовый красный тазик. Плакала и плакала. Живых насчитала двенадцать особей. Трое из них вряд ли выкарабкаются, но остальные… если не поздно…Оля
Та, кого называли Олей, выбралась из квартиры на следующую ночь. Плоть регенерировала быстро, стопы тридцать шестого размера с красивым педикюром прижились, а нити швов растворялись, оставляя тонкие полоски шрамов на бледной коже. Весь день она пробовала ходить. Приятно было ощутить пятками холод линолеума и кафельного пола. Мышцы болели, а на плечи давила невидимая сила. Но Оля справилась – к вечеру она уже нелепо пританцовывала, стирая кляксы крови в коридоре влажной половой тряпкой. Денис был еще жив. Она уложила его на диван и время от времени присаживалась, тихо шепча: – Спасибо! Я почти уже чувствую себя человеком. Он не реагировал, не было сил, но явно слышал. Ночью она вышла из квартиры, легко спустилась по ступенькам, выпорхнула в прохладу города – как и мечтала! Нашла машину Дениса, погрузила на заднее сиденье таз с водой, где плескались выжившие дети. Рядом положила и самого Дениса, предварительно завернутого в одеяло с головой. Ехать на машине оказалось несложно. Особенно, когда не заботишься о качестве вождения. Ей понравилось подставлять лицо ветру через открытое окно, понравились запах бензина и звук работающего двигателя. Та, кого звали Олей, мчалась сквозь ночной городок к морю. Она не знала маршрута, но знала, что здесь в любом направлении – вода. Морем пахло повсюду. Выкатила к пустому причалу, заглушила мотор, почувствовала умиротворяющую тишину. Вспомнила, каково это – находиться глубоко под водой, куда почти не проникает свет и не доходят звуки. Будто что-то могучее окутало ее со всех сторон, как махровое одеяло. Когда-то давно ей нравилось это чувство, но сейчас время изменилось. Вытащила Дениса, раздела его и разделась сама. Взяла на руки обмякшее тело и прыгнула с ним в воду. Денис нашел в себе силы барахтаться, но вскоре затих. Оля увлекла его от берега в глубину, в темноту, в тишину. Плыть с новыми ногами оказалось не так удобно, как с хвостом, но она быстро привыкла. Денис захлебнулся минуты через полторы. Оля надеялась, что он так и хотел – умереть в воде, зная, что его жена тоже где-то здесь, пусть в фантазиях и воспоминаниях, но рядом. Она бы прихватила арматуру, но не знала, где ее взять… И так сойдет, в общем. Отпустила тело Дениса в нескольких километрах от берега и поплыла обратно. В машине ее ждали выжившие дети. Оля знала, что будет делать дальше. Ей хотелось выехать на трассу и мчать, мчать подальше от этого городка, куда глаза глядят, в сердце страны, чтобы вокруг было много мужчин и мало русалок, чтобы не пахло морем, водорослями, солью и рыбой. Пока так. Задавив инстинкты. Сухопутная русалка на ногах. Оксюморон.Владимир Чубуков. Бабушка

Часть первая
Кличка у Лены Матерьяльцевой была жутковатая. Красная Шапочка. Получила ее, потому что носила шапочку из кожи индейца. На вид этакий пилеолус, или дзуккетто, как у католических кардиналов. Считалось, что шапочка защищает девочку от зла – от педофилов, сатанистов, гопников и чего похуже. Такие шапочки из кожи индейцев стали популярны после того, как во время американского Зомбо-Хаоса наш бравый президент аннексировал Аляску, вернул ее на родину, так сказать, и вошла она в состав земель российских, что, в свою очередь, позволило алеутской мафии выйти на наши просторы. Вместе с алеутами просочились к нам и теплолюбивые индейцы из южных американских штатов, поэтому индейцев у нас оказалось как-то многовато. Но кончилось все хорошо: объединенными усилиями традиционных для России этнических бандитских группировок был остановлен индейский беспредел на Святой Руси, обнаглевшие индюки поставлены на место и согнаны в Биробиджанскую резервацию, Аляска же покорно легла под наших. В наследие от индейских войн нам остались две вещи: выражение «посадить на кактус» и шапочки из индейской кожи. Как-то так сложилось убеждение, что если индейца налысо побрить, скальп с него снять, обработать должным образом, то выйдет из этого скальпа клевая шапочка, к тому же обладающая защитными мистическими свойствами. Такие шапочки стали красить в красный, алый, малиновый либо бордовый цвет и назвали красными. Выражение «красная шапочка» в народе прижилось. Стоили такие шапочки немало, многие мечтали их иметь, да не всякому было дано, а вот Лена Матерьяльцева, на зависть окружающим, красной шапочкой обзавелась. Папин подарок. Был ее папа лихим человеком, семь индейских скальпов снял собственноручно. И погиб как настоящий пацан – в бетон закатали. И вот отправилась наша Лена к бабушке, в лес. Шапочка на голове, рюкзак за спиной. Идет, в наушниках авангардный джаз-метал воет и скрежещет. Последние проблески цивилизации за спиной давно померкли уже. Вокруг только уродливые деревья и мертвые десантники на ветвях висят. Одни трупы мумифицированы, другие выглядят свежими, кровушка с молочком, хотя висят уже третий год. Вот эти последние, когда под ними проходишь, все кажется, будто взглядами тебя провожают и губы их мертвые кривятся в плотоядных усмешках. После падения метеорита, когда город в одну ночь зарос лесом, а беженцы в истерике рассказывали про страшных тварей, которые лезли из древесных дупел и нападали на людей, решили в зону падения послать войска. И лишь когда полегла целая десантная дивизия, президент наконец послушался Крахоманова, главного кремлевского экстрасенса; тот настаивал, чтобы никто и носа не казал в пятикилометровую зону вокруг места падения метеорита. Лена с мамой и бабушкой жили в добротном двухэтажном доме на окраине города, в паре километров от места падения. Когда началась паника, Лена с мамой убежали, прихватив немного вещей, а бабушка осталась. Она была очень жирной, ходить не могла, сидела, расплывшись, на диване, и сказала дочке с внучкой: «За меня не беспокойтесь, милые, уж я-то не пропаду». И точно – не пропала. Единственной была, кто остался в зоне падения и выжил. А все почему? Потому что старая ведьма была ведьмой не только в фигуральном, но и в самом прямом смысле. За те почти три года, что прошли со дня падения метеорита, бабушка еще больше разжирела. Ее телеса уже не помещались ни на диване, ни в комнате, ни даже на этаже, но со второго этажа, где она обитала, перетекли на первый, заполнив большую часть помещений внизу. Жирела бабушка оттого, что с помощью колдовства и гипноза привлекала к себе всякую живность – тварей Божьих и неведомых тварей дьявольских, обитавших в лесу, что разросся вокруг. Приходили твари на зов ее и сами покорно лезли к ней в рот, который у бабушки эволюционировал в целую пасть с острейшими зубами и уже не просто открывался, а прямо-таки разверзался, заглатывая жертвы. Неведомые твари, проникавшие в наш мир, были чрезвычайно питательны. Безмерно разжирев и раздавшись, бабушка вместе с тем отрастила себе новые конечности, которыми могла орудовать на первом этаже дома, в то время как на втором заседал ее основной корпус. И рот у бабушки был блуждающий; если голова вместе с мозгом пребывала безвылазно на втором этаже, то рот неким противоестественным образом умудрялся блуждать по всему телу, стремительно двигаясь по нему, словно акулий плавник в воде, и распахнуться мог где угодно – хоть на втором этаже, хоть на первом. Глазами для подслеповатой старушки служили загипнотизированные мухи, летавшие по дому и вокруг него. Визуальную информацию, получаемую мухами, бабушка считывала на лету. Колдовские способности ее после падения метеорита усилились, ибо космос, откуда метеорит прилетел, был полон черного колдовства и адских созданий, средь звезд кишащих кошмарными тенями. Но вернемся к нашей Лене. Бабушку она периодически навещала. И хотя лес, где бабушка жила, был опасен, однако с девочкой ничего дурного до сих пор не случалось. То ли кожа индейца и впрямь защищала ее, то ли это бабушка мистически протежировала любимую внучку. Лена остановилась и присела пописать. Сидя под кустом, услышала треск веток (как раз в ее наушниках один трек уже стих, а другой еще не громыхнул) и краем глаза заметила силуэт, мелькнувший за деревьями. Она тут же отключила плеер и едва успела привести себя в пристойный вид, как увидела человека, выходящего из-за дерева. Высокий худой мужчина, голый, неестественно бледный. Казалось, тонкая белесая кожа его натянута на плесневелый каркас, и эта внутренняя плесень безобразно сквозь кожу просвечивает. Лена, в свои тринадцать лет, была невинна и целомудренна, поэтому сильно смутилась, завидев голого мужчину. Смущение тут же сменилось страхом, как только рассмотрела то, что висело у незнакомца между ног: там извивался пучок щупалец. Вид вполне осьминожий, цвет телесный, выглядели щупальца тошнотворно. – Привет-привет! – сказал незнакомец бодро, но в то же время несколько отстраненно, словно Лена ему только мерещилась и он, по какой-то иррациональной прихоти, заговорил со своей галлюцинацией. – Здравствуйте, – настороженно ответила девочка. Незнакомец молча обошел ее по кругу, со всех сторон рассмотрел, особое внимание обратил на шапочку. – Позвольте, а вы кто такой? – спросила Лена. Незнакомец застыл на месте. – Я-то? – произнес задумчиво. – Ну… Владимир… Волков. По роду занятий контрабармаглот. Знаешь, да? «О, бойся Бармаглота, сын! Он так свирлеп и дик!» Я тоже свиреп и тоже дик, как и положено всякому контрабармаглоту. Борьба со злом – ремесло суровое. – Вы что, убийца Бармаглотов? – уточнила Лена. – Да, и это в том числе, – рассеянно подтвердил Волков, озираясь, словно проверяя, не подкрался ли к ним какой-нибудь Бармаглот, пока они беспечно беседуют; похоже, не подкрался. – Вы чокнутый? – спросила девочка прямо; она могла быть прямолинейной до полной бестактности. – Не могу отрицать, – ответил Волков неожиданно серьезным тоном. – Я, конечно, тешу себя надеждой, что распад личности зашел не слишком далеко, но знаешь, как оно бывает! И потом, меня учили всегда предполагать самое худшее. – А вы убиваете Бармаглотов чем – голыми руками? Волков усмехнулся: – Бармаглота нельзя убить руками, только разумом. И показал пальцем на пучок щупальцев у себя между ног. – Это у вас там разум? – поинтересовалась Лена с некоторой брезгливостью. – А что в голове? – А в голове мозг. Мозгу и без разума хорошо. Мозг – хитрая тварь, которая без всякого разума вполне может имитировать разумную деятельность. Разум же базируется здесь. – И он пошевелил своими щупальцами, которые раскрылись, будто зловещий цветок. – Поэтому и говорится про целомудрие – что оно есть либо нет его. Поняла? Лена ничего не поняла, но кивнула. – Интересно было бы посмотреть, как вы убиваете Бармаглота. Волков странно взглянул на девочку, словно только сейчас заметил ее по-настоящему. – Чтобы убить Бармаглота, нужно стать объектом его внимания. А чтобы стать таковым, нужно вызвать его. Хочешь вызвать – выполни условие. – Какое условие? – Бармаглот является в наш мир из портала. – Волков указал пальцем на дупло ближайшего дерева. – И чтобы вызвать эту тварь, надо сделать кое-что. Испытать страх. Страх вблизи портала. Страх привлечет и выманит Бармаглота. Поскольку я бояться не способен – могу только внушать страх, но никак не испытывать, – то бояться придется тебе. Давай начинай. – Начинай – что? – Начинай испытывать страх. – Я не могу, – сказала Лена. – Девочка, ты меня разочаровываешь! Я ведь знаю, что женщины – хитрые бестии, которые для защиты от страшных бестий, мужчин, отточили искусство притворства до потусторонней остроты, так что и сами начинают верить себе, когда лгут. Пустят фальшивую слезу – и сами убеждаются в ее искренности. Так и со страхом: подделывают ловко и покупаются на свой обман. – Да не могу я! – воскликнула Лена с некоторой даже злостью. – Я вам кто, робот, что ли?! – Конечно, милая! А кто же ты еще? Мы все тут роботы, андроиды, квазилюди, псевдочеловеки. Такова уж наша сущность, она искривлена, как фальшивая улыбка. Прикинься, что боишься, прикинься тщательно – и тут же сама себе поверишь. – Нет, я так не могу. Волков пристально посмотрел на нее, въедаясь взглядом и что-то вычисляя для себя. – Я понял, – сказал он наконец, – что с тобой не так. Ты… Но да ладно! Не будем. Хорошо! Я сам посею страх в твоей душе. Иди ко мне. Лена послушно приблизилась, встала перед Волковым, лицом к лицу. – Смотри мне в глаза! – велел он. – Не отрываясь. Девочка заглянула в его глаза. Зрачки Волкова расширились. Лена погружалась в их магнетическую черноту, холодную и пустую, которая словно присасывалась к ней. Высосанная из реальности, она не видела и не чувствовала, как щупальца Волкова удлиняются, поднимаются к ее лицу, ползают по нему, охватывают голову, истончаются, заползают в ноздри, в уши, в рот, как обвивают ее мозг, находят в нем центры различных чувств. Руки Волкова непроизвольно поднялись над головой, раскачиваясь, будто стебли на ветру. Пальцы когтями хищной птицы свисали с надломленных запястий. Липкий ужас снизошел на Лену. Дрожь побежала по коже. Ноги подкосились, и она упала бы, когда б не щупальца, державшие голову. Волков осторожно уложил девочку на засохшую грязь, извлек щупальца из всех отверстий. Приказал: – Смотри! Зрение вернулось, и она увидела лицо Волкова, нависшее над ней. Теперь девочка постигла, что это чудовище под маской человека, антропоморфный зверь из бездны. Страх парализовал Лену. Здесь некому было ее спасти. Она оказалась наедине с кошмарной тварью. Безумное желание охватило ее: пусть явится сюда другая тварь, еще кошмарней, чудовищней, смертельней!.. Пена выступила у девочки на губах. – Сейчас сниму сливки твоего страха и закину в портал, – сказал Волков. Склонившись, он слизал пену с ее губ. Выпрямился, подошел к дереву, заглянул в дупло и плюнул в его черноту. – И белый кролик полетел слезой мороженой во тьму… – прошептал, вглядываясь в дупло. Повернувшись к Лене, прибавил: – Мы с тобой разбудили силы мрака. Теперь терпеливо ждем. Бармаглот скоро прибудет. Ты, конечно, понимаешь, что никакой это не Бармаглот, так его зовут условно. Да никто, кроме меня, и не зовет. Кто он на самом деле, знать не знаю. Волков помог девочке встать, велел отойти подальше и оттуда смотреть, сам же уселся на землю близ дерева. Лена наблюдала за ним и за деревом из отдаления. В какой-то момент она задремала, веки сомкнулись, а когда разомкнулись, увидела, что из дупла вылезает бледная фигура. Волков поднялся и поджидал гостя. Вздыбленные щупальца хищно шевелились на весу. Когда фигура выбралась наружу, Лена увидела, что пришелец – точная копия Волкова. Тот же рост, то же сложение, те же черты лица, и кожа, и щупальца в паху! Два близнеца начали кружить друг вокруг друга в подобии ритуального танца, и Лена вскоре уже не понимала, кто из них кто – где Волков, а где пришелец. Щупальца соперников удлинялись, оплетали тела друг друга, и вскоре оба оказались заключены в их переплетения. Упав, эта пара каталась по земле. Ни звука при этом не издавая. Молчание обрамляло жутковатую картину. Наконец поднялся один, высвобождаясь из уже бессильных щупалец соперника, а тот остался лежать. Победитель взглянул на Лену и поманил ее пальцем. Лена ощутила тошнотворный холодок внутри. Кто он, этот выживший? Волков? Или Волков – тот, поверженный? Надо бежать, решила она. И побежала. Но страх обессилил ее. Шатаясь, едва не падая, Лена судорожно брела по лесу. Бледная фигура шла за ней следом, соблюдая дистанцию. Именно это – дистанция – и убедило ее, что за ней идет Волков. Будь то другой, он бы давно уже нагнал и напал. Лена прекратила заторможенное бегство. – Имя! Имя назови! – потребовала от фигуры. Та ответила: – Да Волков я, дуреха! Владимир Ильич. Ну! Беда с вами, бабами, беда! Как страх нужен, так вы испугаться не можете, а где не надо – там у вас паника. Вот все у вас через задницу! Он приблизился, обнял дрожащую девочку за плечи, и та разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. – Я думала, это не ты, – сказала Лена сквозь слезы. – Я, не я! Глупая, вот же глупая! Все у моего «я» будет хорошо, даже если оно – не я, – бормотал Волков, неловко поглаживая девочку по волосам. – Слушай, а вот скажи мне, что ты в рюкзаке несешь? Пирожки? Может, мы с тобой слопаем парочку? – Не, – Лена помотала головой. – С пирожками в лес ходить – такое бывает только в сказках для дебилов. Если б у тебя дочь была, отпустил бы ты ее одну в лес, чтобы пирожки куда-то отнести? – У меня сын, – ответил Волков. – Чуть младше тебя. Ремня бы я ему дал, попробуй он только в этот лес сунуться. – Вот видишь, а ты говоришь «пирожки»! – Что ж ты несешь такое? – Сейчас покажу, – произнесла Лена, отстраняясь и снимая рюкзак со спины. – Вот. Она достала и показала Волкову отрубленную женскую голову. Короткие волосы с проплешинами. Неестественно длинная тонкая шея, словно какой-то хвост, висела под головой. Выпученные остекленевшие глаза. Из распахнутого рта высунулся длиннющий язык. Волков аж присвистнул от изумления. – Чья? – тихо выдавил из себя. – Мамина, – просто и буднично ответила девочка. – Ты что, маму грохнула? Лена рассмеялась. Волков смотрел на нее, растерянный. – Дурацкий же вопрос! – произнесла сквозь смех. – Я тебе отрезанную голову показываю, а ты такой: маму, что ли, грохнула? Глупее ничего не мог спросить? Убийца Бармаглотов! Голову включай иногда. Хрен знает чем думаешь, а думать надо головой. Отсмеявшись, она засунула мертвую голову в рюкзак, затянула горловину и, не обращая внимания на Волкова, двинулась в своем направлении. Бросила на ходу: – Короче, я пошла. Мне до темноты нужно туда-сюда обернуться. Хочешь со мной, тогда не тормози. Волков постоял немного и двинулся вслед за Леной. Вскоре нагнал ее. Шел чуть позади и сбоку. – Когда метеорит упал, – рассказывала она по дороге, – мама чем-то заразилась. Мы ж не знали ничего. Да и сейчас – что мы знаем? Удрать-то сумели, но заразу с собой унесли. Пока в палаточном городке жили, все нормально было. А как получили домик в поселке, теремок этот, тогда и началось. Словно зараза ждала, пока мы уединимся. Короче, у мамы шея и плечо опухли с левой стороны. Опухоль за один день образовалась. Мама – в панику. К врачам боялась идти: а ну-ка, изолируют! Беженцы из зоны все ведь на особом счету. Ну и проходила с опухолью целый день. Что делать – не знала. А ночью проснулась – кошмар приснился – и видит над собой лицо. Женское. Думала, забралась в дом какая-то мерзавка, но потом поняла: лицо-то ее собственное! И шею увидела. Из опухоли выросла вторая голова, размером почти как первая, чуть поменьше, а шея тонкая, гибкая, длинная. Эта шея изогнулась как змея, а голова на ней смотрит, смотрит. Глаза безумные. Мама в крик, меня разбудила. Я вбежала, включила свет – и тоже давай орать. Как две дуры мы тогда вопили. Вдруг вторая голова – раз! – и плюнула маме в лицо. А потом языком слюну слизала. Ей, похоже, понравилось, и давай она маме в лицо плевать, потом облизывать. Мерзость такая! Я догадалась треснуть вторую голову по затылку пепельницей, она сознание потеряла. У мамы дурная привычка курить в постели. Ненавижу такое! Но в тот раз пепельница пригодилась. Мама говорит: «Надо эту голову быстрей отрезать». Мама у меня вообще решительная. Приняла она обезболивающее, а я лишнюю голову отчикала садовым секатором. Выбрала место, где шея потоньше. Рану прижгла. У мамы отросток второй шеи, сантиметров двадцать, остался. Она потом спрятала его под платок и к ветеринару – папиному старому знакомому – пошла, тот ей грамотно все отрезал, рану обработал. Тогда мама и решила отправиться в лес, к бабушке. Меня с собой не взяла, боялась. Голову отрезанную понесла. Думала, бабушка объяснит ей, что это за фигня. Но бабушка сказала только, чтоб голову ей оставила – разбираться будет. Месяца через три все повторилось. На этот раз мы четко действовали. Раз, два – и «Гитлер капут». Мама с новой головой опять к бабушке пошла. Та сказала, что ее колдовство против этих голов бессильно, поэтому терпи, головы отрезай, раны залечивай. Это все проклятие какое-то инопланетное, которое нашими средствами не снять. Дала мази для заживления ран и для обезболивания. Сказала, чтоб мама не только сама к ней приходила, но и меня брала, что ничего с нами в лесу не случится, поэтому спокойно ходите и приносите все отрезанные головы. Вот и ходим: то я, то мама. – Однако! – вымолвил Волков. – А ты: «Пирожки, пирожки»! – рассмеялась Лена. – Вроде взрослый человек, а какая чушь в голову лезет! Раньше мне казалось, взрослые – это как боги, запредельные какие-то существа. Думала: ой, я ведь и сама когда-нибудь взрослой стану, ёлы-палы, как здорово и страшно! А теперь вот расту и к вам, взрослым, все больше приближаюсь, так у меня измена какая-то, стремно че-то: куда я движусь, в какую пропасть?! – Это нормально, – отозвался Волков. – Подростки в твоем возрасте – сплошь злобные гаденыши, старших уважать перестают, зубами только клацают на всех и вся. Конечно, тебе покажется, что проваливаешься в пропасть. Так оно и есть. Это собственное естество начинает разверзаться под тобой. Еще пару-тройку лет – и тебя так накроет, что мама не горюй! – Слушай, ты можешь мне объяснить, почему вот это вот, которое из дупла вылезло, так на тебя похоже? Ты что, тоже оттуда вылез? – Я-то? – задумался Волков. – Да вроде нет. Я ж помню, у меня жизнь была, семья, служба. Теперь я здесь… – А, я поняла! – воскликнула девочка. – Когда Бармаглоты к нам лезут, они принимают вид того человека, который вблизи дупла оказался. Они, типа, наши стремные двойники, да? Злые доппельгангеры. – Может быть, – пожал плечами Волков. – А щупальца у тебя откуда? Опять плечами пожал: – Да они всегда у меня. Или… Не знаю. Остаток пути молчали. Наконец и бабушкин дом за деревьями показался. Когда подошли к забору, Лена наказала Волкову во двор не входить, снаружи подождать, а то мало ли что. Сама вошла во двор, и тут же мухи окружили ее целым роем. Лена не отгоняла их, то ж бабушкины мушки. Она улыбнулась им, через них передавая улыбку бабушке. – Ягодка моя! – раздался бабушкин голос, пещерно-глубокий, когда Лена ступила на порог. – Привет, бабуль! – отозвалась она. – Новую принесла? – осведомилась бабушка. – Ага. Лена сняла рюкзак и достала голову. Одна из нижних бабушкиных рук (а нижними она называла те руки, которыми орудовала на первом этаже), похожая на анаконду, с огромной птичьей лапой на конце, подползла к Лене, приняла голову в свои когтистые пальцы и утянула ее во мрак. Просторный холл на первом этаже был наполнен легким сумраком, который сгущался в глубине, превращаясь в чернильную тьму, где бабушка скрывала свою плоть. Из этой колдовской тьмы раздавался голос, оттуда выползали страшные змеистые руки. После бабушкиной трансформации Лена никогда не заходила в глубину холла, никогда не видела бабушку – только эти руки, выползавшие из тьмы. Ей хватало того небольшого пространства на границе тьмы, которое бабушка отвела для них с мамой в начале холла, перед входной дверью. Какой стала бабушка после всех метаморфоз – Лена не знала и не могла удостовериться: действительно ли это все еще бабушка, не чуждая ли тварь какая-нибудь, занявшая место старушки? Мама – та видела бабушку в новом облике, она все рассказала дочери, а девочка поверила без малейших сомнений, ибо привыкла маме доверять. Лена верила в то, что с ней говорит бабушка, что именно к бабушкеона приходит в гости, что этот дом для нее не ловушка. Чистую веру девочки не могло поколебать даже то, что она явственно чувствовала дыхание ужаса, исходившее из неестественно густой тьмы, в которой скрывалась бабушка. Лена понимала, что бабушке, дабы выжить в лесу, как раз и надо быть такой – внушающей ужас, жуткой и смертоносной, иначе ведь и нельзя. Лена даже чувствовала особый уют, сладостную жуть, когда ее омывал ужас, излучаемый бабушкой. Сидеть в кресле на гостевой стороне холла, пить травяной чай и слушать родной голос – это приносило девочке необычайное удовольствие. Вот и сейчас она удобно устроилась в кресле с чашкой ароматного чая, закусывала ягодами в желе и внимала одной из бабушкиных историй. Та часто вспоминала молодость, дедушку, рассказывала, как он ухаживал за ней, какие безумные номера откалывал при этом, вспоминала всякие смешные случаи из жизни мамы, когда она была маленькой. Но вот о чем бабушка никогда не говорила – так это о своих занятиях колдовством. На этой теме лежало табу. Лена однажды спросила об этом, и бабушка сказала лишь, что все началось с ее работы фармацевтом, когда она сидела в аптеке и составляла лекарства по рецептам – это, в конечном счете, и привело ее к черной магии. Больше на эту тему говорить не желала. Зато о мелочах обыденной жизни болтала с удовольствием. И сейчас бабушка что-то рассказывала внучке, интересное и смешное, но вдруг прервалась. – Скажи-ка мне, ягодка моя, – строго спросила, – кого ты там привела с собой? Что за чучело у забора ошивается? Лена поперхнулась чаем и робко вымолвила: – Бабусь, это… Ну, это Волков. Он в лесу встретился. – Волков, говоришь? – Ага, Волков Владимир Ильич. Контрабармаглот. – О-хо-хох… – вздохнула бабушка. – Сейчас позову его и посмотрим, что за Волков. В ушах у Лены слегка зазвенело, и кожу начало покалывать: так ментальный бабушкин зов проявлял себя на физическом плане. Дверь скрипнула, отворяясь, и в доме появился Волков. Миновал Лену, даже не взглянув на нее, почти вошел в глубокую тьму и замер на границе видимости. – Кто таков? – сурово осведомилась бабушка. – Только правду говори. Ничего, кроме правды. – Владимир Волков, контрабармаглот, – механически отвечал тот, погруженный в транс. – Что за мерзкий вид у тебя? – продолжала бабушка допрос. – Так надо, – произнес Волков тем же ровным безжизненным тоном. – Должность, звание, из какого подразделения? – Не могу знать. Информация засекречена от меня самого. Память стерта. – Черт! – ругнулась бабушка. – Такого я еще не встречала. Ладно. Иди ко мне, я тебя раскушу. Волков послушно двинулся в глубь холла. Лена смотрела, как его бледный силуэт растворяется во тьме, словно тонет в черной воде. Вот он и пропал окончательно. Во тьме у Волкова включилось ночное зрение. Он шел среди уродливых груд бабушкиной плоти, похожих на тесто, разбухшее от дрожжей, или на клубы воска, подогретого в глицерине. Местами из этой массы высовывались огромные змеистые руки с различными захватами на конце – то птичьи лапы, то пучки щупалец с присосками, то почти человеческие длинные пальцы. Кое-где из телесных масс поднимались похожие на грибы головы на длинных шеях. Волков опознал двойников той самой головы, которую показала ему девочка. Почему они торчат из бабушкиной плоти, он не задумывался: в состоянии гипнотического транса еще можно кое-как фиксировать окружающее, но анализировать уже нельзя. На самом деле бабушка прививала себе эти головы для изучения. Имелась у нее научно-исследовательская жилка, побуждавшая к рискованным экспериментам. Феномен голов был ей непонятен, и она решила разобраться в нем эмпирически. Но головы так и оставались загадкой. Привитые к телу, они оживали, впрочем, это была какая-то лжежизнь, подобная загробному сну. Бабушка получала доступ к их разуму, но тот был настолько не человеческим, даже не животным, что ни понять его, ни вступить с ним в осмысленный контакт никак не удавалось. Одна из голов потянулась к Волкову и, выбросив длинный язык, захватила его шею в петлю. Волков остановился. Голова меж тем отпустила шею и начала облизывать языком его лицо, потом грудь, потом живот, наконец спустилась еще ниже, к паху, и тут щупальца Волкова резко дернулись и обхватили голову. Крепко держа, они полезли в ее рот и ноздри, пробрались к самому мозгу, вонзились в него утончившимися кончиками. Волков проник в разум головы, в тот чудовищный абсурд, что клубился в нем взамен рационального мышления, вошел в его лабиринт, и там с его сознанием соприкоснулось сознание бабушки, чьи ментальные ответвления тоже блуждали по лабиринту в исследовательских целях. Тогда-то и поняла бабушка, насколько Волков опасен. Не успев разобраться в характере опасности, она тут же расправилась с ним, дабы пресечь угрозу на корню. Три ее руки вцепились в Волкова, поволокли к распахнутой пасти с двойными рядами огромных острых зубов. При этом голова, которую Волков обвил своими щупальцами, оторвалась от шеи; болталась у него меж ног, словно кошмарный плод. Обезглавленная шея извивалась в конвульсиях, брызжа чернильной кровью. Бабушка кромсала Волкова своими зубами. По туннелю ее глотки ползли к нему симбионты, обитавшие в бабушкином организме. Эти огромные слизни с иглами острейших зубов помогали бабушке разжевывать пищу. Она специально вывела у себя внутри колонию этих тварей. Часто бывало, что она проглатывала какое-нибудь существо, не успев разжевать, и оно, попав в ее глотку, бросалось в бегство и путешествовало по обширному нутру, скрываясь в его закоулках. С такими внутренними беглецами и расправлялись слизни-симбионты. Они настигали беглеца, начинали пожирать его и отрыгивать, тем самым и себя насыщая, и бабушке доставляя удобный материал для переваривания. Слизни, подчиняясь ментальному бабушкиному приказу, набросились на Волкова и терзали его. Обычно они держались подальше от бабушкиных зубов, чтоб самим не пострадать в их мясорубке, но тут следовало поскорее устранить источник угрозы – этого непонятного Волкова, так что слизнями можно было пренебречь. Пусть несколько особей погибнут от бабушкиных зубов, не беда, главное – Волков будет оперативно ликвидирован. Один слизень впился ему в глаз, выгрыз его и начал ввинчиваться в голову через глазницу, пожирая мозг. А череп Волкова в это время трескался в орехоколке бабушкиных челюстей. Лена сидела в кресле, держала в руке недопитую чашку чая и тревожно вслушивалась в чавканье, хлюпанье и скрежет, долетавшие из тьмы, где растворился убийца Бармаглотов. Ей показалось, что шапочка из кожи индейца липнет к ее голове, как живое существо, словно хочет срастись с нею, стать ее неотъемлемой частью. И еще показалось, что шапочка начала мыслить. Словно на ней оттиснулся разум того индейца, с которого Ленин папа снял скальп для шапочки, а теперь скальп отдавал эти отпечатки разума своей новой хозяйке. Она почувствовала, как вместе с мертвым индейским разумом на нее нисходит ужас. Казалось, призрак погибшего индейца навис над ней, склонился и пьет ее сознание. Лена вскочила из кресла, чашка полетела на пол, брызнули осколки. Девочка пыталась сорвать шапочку с головы, но та прилипла к волосам. Призрак индейца виделся краем глаза: он сидел у нее на плечах, сгорбившись и опустив губы, вытянутые в трубочку, неестественно длинную, будто нос муравьеда, сквозь шапочку – прямо ей в голову. Погрузил их туда, как соломинку в стакан с коктейлем. Лена металась и корчилась, пытаясь сорвать шапочку. Не получалось. Бабушка в тот момент дожирала Волкова. А где-то в небе нарастал вой. Что-то страшное падало сверху. И когда Лена почувствовала, что призрачные индейские губы уже присосались к ее сердцу, раздался оглушительный грохот взрыва и полыхнуло пламя. Оторванная от тела голова девочки была жива и продолжала мыслить, когда летела в потоке взрывной волны. Индейская шапочка прочно сидела на ней. Шапочка действительно защищала то, на что была надета, и сейчас защитила голову Лены от разрушения и смерти. Поэтому, когда голова упала на землю примерно в полукилометре от эпицентра взрыва, она была жива и в сознании. Правда, ее сознание совсем почернело от ужаса. Упав на землю, голова подкатилась к корням дерева, выступавшим из земли, и лежала меж них, направив ввысь оцепенелый взгляд. Недолго она пролежала там. Из дупла дерева выбралось странное существо с обрубком шеи, вокруг которого, как поганки у пенька, росли на длинных тонких ножках маленькие уродливые головы – человеческие, птичьи, кошачьи, собачьи, рыбьи. Руками-корягами существо захватило голову девочки, осмотрело и обнюхало ее всеми своими головами. Затем скрылось в дупле вместе с добычей. Призрак индейца, невидимо витавший тут же, хотел было последовать за многоголовым, но едва заглянул в дупло, в его космическую черноту, как в страхе отшатнулся, прошипел индейское проклятие и полетел прочь.Часть вторая
Покойный Владимир Волков, офицер военной разведки, выполнял в лесу задание командования по сбору информации. В его тело был вживлен маячок, который в момент смерти агента посылал сигнал, автоматически запускавший ракету, нацеленную на то место, где маячок заработал. Военное начальство Волкова разрывалось между желаниями изучать лес и бомбить его, поэтому решили: ежели погибнет агент, обязательно шарахнем ракетой по месту его гибели, а там посмотрим. Бабушку, едва успевшую сожрать Волкова, взрывом разорвало в клочья, разметало вместе с обломками дома, и черная душа старой ведьмы отправилась в ад. Ее внучка отчасти выжила: голова Лены, хоть и оторванная, была жива благодаря неизученным свойствам индейской шапочки и временно пребывала в шоковом состоянии. Пришла в себя она уже в том жутком мире, куда ведет дупло всякого дерева в лесу. Достоверно про тот мир ничего нельзя сказать, одно только ясно: там нечто худшее, чем ад. Ведь призрак индейца, выползший из преисподней, содрогнулся от ужаса, едва заглянул в дупло. Злобный индейский дух намеревался мстить дочери своего убийцы до самой ее смерти, но и в этой мстительной душонке тлел уголек здравого смысла, и загробная пиявка предпочла отказаться от мести, лишь бы не попасть в то чудовищное измерение, куда ведет дупло и куда унесла голову девочки неведомая тварь. На месте взрыва образовался кратер размером с небольшой стадион, и в центре того кратера за одну ночь выросло дерево, самое большое в лесу, формой похожее на гриб атомного взрыва. На самом деле все деревья леса были инопланетными грибами. Они маскировались под обычные земные деревья и годами втихаря выбрасывали споры, которые разносило ветрами далеко во все стороны от леса. Военные и ученые, наблюдавшие за лесом, и не подозревали даже, что все эти мнимые деревья суть грибы и что такие же грибы уже проросли под видом деревьев далеко за пределами зоны падения метеорита. Но гриб, что вырос на месте взорванного бабушкиного дома, с самого начала не скрывал своей сущности. Огромный, грозный, чудовищный, с широченным дуплом, похожим на злобный космический глаз, возвышался он над выжженной землей на добрую сотню метров. В ту ночь, когда вырос этот гриб, главный кремлевский экстрасенс Крахоманов покончил с собой. Впрочем, была ли его смерть суицидом, это еще вопрос. Крахоманова обнаружили висящим под потолком на его собственных кишках, вылезших у него изо рта. Казалось, он не просто висит, а истошно кричит, задрав голову вверх, и гирлянды кишок, протянутые изо рта к потолку, воплощают застывший фонтан его крика. Словно выстрелившие вверх языки многоязыкого хамелеона, вцепились те кишки в подвесной потолок. Похоже, в организме Крахоманова произошла некая зловещая мутация. Но дело это темное, результаты экспертизы его трупа были засекречены. А в лесу меж тем началось движение. Мертвые десантники, висевшие на ветвях, спустились на землю и стали бродить по лесу, собирая разбросанные взрывом части бабушкиного тела. Собирали их и приносили к подножию огромного «атомного» гриба. Старая ведьма, попавшая в ад, руководила оттуда этими мертвецами, которые еще при жизни, как люди служивые, привыкли подчиняться приказам своего армейского начальства, теперь же попали в подчинение к новому адскому командиру. Если чины адской иерархии сопоставить с земными военными чинами, то бабушка, учитывая все ее колдовские способности, попав в ад, получила там статус, соответствующий примерно генерал-полковнику в должности командующего войсками военного округа. Поэтому вся десантная дивизия, погибшая в лесу, признала ее старшей по званию и должности и безропотно поступила под ее командование. Насобирав достаточно останков, мертвецы, управляемые нитями бабушкиной воли, уходящими в ад, провели в тени «атомного» гриба разработанный ведьмой колдовской ритуал, в ходе которого забросили останки в дупло гриба. Затем они застыли в ожидании. Вскоре из дупла начала выползать тошнотворная масса, похожая на мертвую плоть, разложившуюся до состояния желе. Десантники стояли под грибом, а масса все ползла и ползла, заполняя кратер. И вот уже мертвецы стоят по колено в той мерзкой жиже. Вот – по пояс. А вот уж – и с головой скрылись в смрадной глубине бесформенной мертвечины. Наполнился кратер массой, как чаша, но дупло все продолжало исторгать потоки пузырящейся гниющей плоти. Военные, наблюдая за этим процессом с помощью дронов, хотели было послать туда ракету, да вовремя одумались. Одну ведь ракету выпустили уже – и что вышло? Морозным ужасом дохнуло на них, когда задумались, что будет, если вторая ракета отдаст свою энергию лесу. Поэтому решили покуда просто наблюдать за событиями. Когда наступила ночь и черный туман окутал лес, укрыв его от приборов ночного видения, ситуация вышла из-под всякого контроля. Наутро чудовищное зрелище предстало глазам наблюдателей. Весь лес был затоплен тошнотворной массой гниющей плоти, оформившейся в гигантскую амебу, достигавшую до семи километров в диаметре, а в высоту – до двух километров. На пике этой массы проступало подобие лица с таким кошмарным взглядом, что даже на фотографиях он у многих вызывал кардиологические приступы. По периметру из этой амебы высовывались длинные щупальца с устрашающими захватами на концах. И масса той амебы непрестанно росла. Пробив лицо этого существа по всем федеральным базам данных, установили, что принадлежит оно Глафире Алексеевне Приворотовой, чья дочь, Лариса Аркадьевна, в замужестве Матерьяльцева, была женой члена крупной ОПГ Леонида Матерьяльцева по кличке Скальпель, убитого во время раздела сфер криминального влияния после так называемых индейских войн. Глафира Алексеевна считалась без вести пропавшей во время падения метеорита на город Чертополошинск. Военные аналитики, сопоставив все факты, вскоре пришли к выводу, что майор Владимир Волков, герой-разведчик, погиб в том самом секторе леса, где стоял дом, которым Глафира Приворотова владела вместе с дочерью Ларисой Матерьяльцевой. Когда обо всем доложили президенту, он срочно собрал у себя лучших специалистов-медиумов из Коммуникативного отдела Министерства оккультной безопасности, чтобы они устроили спиритический сеанс и вызвали дух покойного Крахоманова, к советам которого президент всегда прислушивался, а если нарушал те советы, то горько раскаивался потом. Вызванный медиумами дух Крахоманова сказал, что страшная беда пришла на землю русскую, ибо восстала из ада худшая из ведьм, которая сумела создать себе эктоплазменное тело нового типа, способное трансформироваться в сверхматерию. Необходимое количество элементарных частиц для формирования этого тела ведьма получила и продолжает получать из космической бездны через порталы леса, который весь теперь находится внутри нее, будто в гигантском шатре. Также Крахоманов посоветовал обратить внимание, что на тысячи километров вокруг места падения Чертополошинского метеорита растет огромное множество деревьев – на самом деле инопланетных грибов – с порталами, которые также выделяют космическую эктоплазму, и та потихоньку течет в сторону зоны падения метеорита, чтоб в итоге слиться с телом ведьмы. Прежде Крахоманов и сам не понимал всей опасности, которую представлял лес, выросший в зоне падения, но теперь, после смерти, у него на многое открылись глаза. – Что же делать?! – воскликнул побледневший президент; блики ужаса плясали в его глазах. – Быстрее бомбить, пока не стало поздно! – с жаром отвечал дух Крахоманова. – Три ракеты с ядерными боеголовками, не меньше! Раздолбать проклятую ведьму без пощады! А будут военные отговаривать – мол, не надо бомбить, как бы чего не вышло, – так расстреливать их на месте по законам военного времени! Ведь она уже началась, самая священная из всех священных войн, и медлить нельзя! Тут же президент отдал приказ о нанесении одновременно трех ядерных ударов по территории, покрытой телом Глафиры Алексеевны. Военных, которые только заикнулись, чтобы отговорить его от такого шага, пристрелили на месте сотрудники президентской охраны. И полетели три ракеты в цель… А в это время в Биробиджанской резервации индейские шаманы начали служить торжественный молебен в честь Глафиры Алексеевны, в которой своим обостренным чутьем уже пронюхали новое могущественное божество. Решение бомбить оказалось худшим, что можно было предпринять в той ситуации. Глафира Алексеевна словно ждала этих ракет, и когда они подлетали к ней, в необъятной плоти ее распахнулось сразу три чудовищных рта, будто три провала, и каждый из них поглотил по ракете. Взрывов никто не видел и не слышал, поскольку ракеты, проглоченные ведьмой, были перенаправлены в дупла-порталы и ушли в космические бездны, а из бездн через порталы хлынули в ответ такие мощные потоки космической эктоплазмы, что вскоре всю планету затопило этой мерзостной дрянью. И глазом не успело моргнуть человечество, как очутилось внутри бабушки Глафиры, чьи безмерные телеса покрыли всю Землю – все континенты и все территории морей и океанов, испарившихся от жара ее космически-адской плоти. С тех пор все мы, выжившие в Глафирином апофеозе, обитаем внутри нее, всеобщей нашей Бабушки и богини, в кошмарных лабиринтах ее грандиозного тела. Сказать ли, что мы теперь живем в аду? Да нет, пожалуй, не станем такого утверждать, ведь мы же еще не знаем, что такое настоящий ад, откуда явилась к нам Глафира Алексеевна и куда каждый отправится после смерти. Живем себе потихоньку, будто черви внутри огромного трупа, извиваемся – каждый в меру своих способностей, пожираем друг друга в погоне за местечком поуютнее, короче, все у нас как у людей. Правят нами мертвецы, вызванные Глафирой из ада и воскрешенные могуществом ее. Во главе их стоит Глеб Крахоманов, бывший кремлевский экстрасенс и советник президента Российской Федерации, оказавший Глафире неоценимую услугу, когда по ее указке дал нашему бедному президенту губительный совет о трех ракетах. В память о тех трех ракетах мы теперь отмечаем веселый праздник – Троицын день. Инопланетные грибы с дуплами-порталами растут повсюду под пещерными сводами Бабушкиного нутра. Из тех порталов являются к нам чудовищные космические твари, Бабушкины союзники, которые помогли ей воцариться на земле. Тварям этим позволяет Бабушка охотиться на нас, похищать нас и уводить в рабство – в свои кошмарные миры, о которых поговаривают, что они хуже самого ада. Более-менее хорошо еще устроились биробиджанские индейцы, вовремя подсуетившиеся со своим торжественным молебном и оказавшие Бабушке энергетическую поддержку в решительный момент. Это позволило ей скорректировать курс тех трех ракет, которыми ее пытались уничтожить и которые она отдала космическим тварям в обмен на эктоплазму. Как выглядит Бабушкина плоть снаружи, того мы не ведаем – нам ведь такое не показывают, – а изнутри она представляет собой многоуровневый лабиринт с бесчисленными туннелями и пещерами. Кроме нас, людишек, да вышедших из ада мертвецов, да залетных космических гадин, обитают еще в тех туннелях и пещерах Бабушкины симбионты – прожорливые зубастые слизни, первое поколение которых она вывела внутри себя прежде своей первой смерти. Если мертвецам Бабушка дала право всячески мучить нас, но не до смерти, то слизням дала право нас убивать и пожирать. Бабушка очень умна и расчетлива, поэтому все у нее учтено: скольких человек космические чудовища утаскивают в свои порталы, скольких – пожирают слизни, скольких терзают мертвецы, а сколько таких, что живут припеваючи. За всем этим Бабушка внимательно следит, соблюдая угодный ей баланс, так что какая-никакая справедливость, пусть и чудовищная, в нашем мире все ж таки присутствует. Ну, а в дни праздников – их у нас три – так и вообще наступает полная безопасность, когда мы отдыхаем от забот и веселимся. В эти дни Бабушка разрешает нам принимать инопланетные наркотики, которые куда веселее всяких там мухоморов и кактусов. Прежних синтетических наркотиков, типа ЛСД и спайса, у нас уже нет, да оно, может, и к лучшему. Праздники же наши – это упомянутый День Ядерной Троицы, День падения Чертополошинского метеорита и День рождения Глафиры Алексеевны, которой, как говорится, честь, слава и хвала ныне и присно и во веки веков. Аминь, ёпт! В конце концов, человек ведь такая тварь, которая к любому кошмару сумеет приспособиться и посреди любого ужаса найдет себе комфорт и удовольствия.Новые сказки
Ну и как тебе, милый дружочек, наши первые истории? Сон как рукой сняло, готов слушать дальше? А дальше тебя поджидает все самое волшебное, удивительное и необычное! Новые предания и легенды, презабавные каверзы и совсем нешуточные байки лучших сказителей современности. Но будь осторожен, дружочек, иные из этих историй плюются ядом и норовят сцапать да унести в мир иной, мир пугающий. В мир запредельной Нави…Дмитрий Тихонов. Странные вещи с вершины горы
 Отец заболел вскоре после того, как сошел снег. Долго кашлял, надрывно и сухо, мучился головными болями, откладывал все больше дел на потом, а к концу апреля слег. Ночами метался в горячке, днем тонул в тонком, прозрачном полусне, то и дело вздрагивая, испуганно вздымая опухшие веки. Говорить ему было сложно – стоило начать, как накатывал кашель, раздирающий грудь и горло, – а потому Рита тоже молчала. Ухаживала, стирала, поила горячим бульоном, сидела у кровати, наблюдая, как за окном наливается солнечным светом молодая листва. Так прошла почти неделя. В последний день месяца, ближе к вечеру, отец разбудил задремавшую было дочь, ткнул заскорузлым пальцем в календарь на стене:
– Сегодня ведь, Ритк, да? Правильно?
– Да, пап. – Она зевнула и потянулась, недовольная резким пробуждением, недовольная неизбежным этим разговором, которого боялась с тех самых пор, как болезнь приобрела серьезный оборот. – Все правильно.
– Хреново. Утром не…
На выдохе из его груди хлынул грохочущим потоком кашель, и отец раздраженно застучал кулаком по одеялу. Кулак был бледен и костляв и принадлежал, казалось, совсем другому человеку, а вовсе не двужильному лесничему, которому что три десятка километров за день прошагать, что телегу дров нарубить – раз плюнуть.
– Не встать… – слабым голосом договорил больной, прокашлявшись. – Выходит, тебе на гору идти. Да, Ритк? Ну а кому еще?
– Ты что, пап? Я не справлюсь. Страшно.
– И чего страшно? Нечего там бояться совершенно. Завтра утром на горе безопасней, чем в райотделе милиции. Звери разбегутся. Лучший день в году: тихо, спокойно, гуляй – не хочу.
– Так ведь меня не звери пугают.
– А больше не будет никого, обещаю. Все улетят, как только солнце встанет. Я ни ра…
Отец снова зашелся в приступе кашля, и Рита прикрыла глаза, чтобы не смотреть, как наливается кровью его измученное лицо.
– За все время я ни разу не встречал их, – прошептал он наконец, словно боясь потревожить хищника, притаившегося в груди. – Сколько лет уже туда хожу, прибираю, и хоть бы кто показался! Нет, это просто лес, и на самой вершине горы следы… праздника. Конечно, там разное можно найти, и нужно держать ухо востро, чтобы не порезаться или не обжечься ненароком. Но ты будешь одна, даже не сомневайся.
Договорив, отец откинулся на подушку, едва дыша. На висках его блестел пот. Стиснутые губы дрожали. Взгляд блуждал по потолку, будто там, среди трещин в побелке, скрывались криво нацарапанные подсказки, способные помочь договориться с дочерью, убедить ее в необходимости делать все, как должно.
Только Рита и сама знала, что завтра утром отправится на гору. От этого зависело их с отцом благосостояние, их стол, их уверенность в будущем. Его обеспеченная старость. Ее высшее образование. Каждый год в первый день мая отец поднимался на вершину горы и возвращался с рюкзаком, полным странных вещей, которые затем продавал незнакомцам на пестро раскрашенных машинах, незнакомцам в нелепых ярких шляпах, незнакомцам, говорящим на чужих, не по-человечески звучащих языках. Покупатели щедро платили за странные вещи, принесенные с вершины горы, – гораздо, гораздо больше, чем готово было выложить Ветлыновское лесничество за тяжелый, но честный каждодневный труд. В течение следующей недели к их домику станут подъезжать одна за другой разноцветные иномарки, и если Рите с отцом нечего будет предложить… Она не знала, что случится, но надеяться на лучшее не стоило. Покупатели не производили впечатления людей, умеющих прощать ошибки или давать поблажки, – честно говоря, покупатели вообще не производили впечатления людей.
Об этом она тоже обязательно спросит отца. Кем были обладатели хищных ухмылок, носящие смешные шляпы, откуда они взялись, как вышли на лесничего, как связаны с теми, кто собирается на горе раз в год, в ночь между весной и летом, – немало накопилось вопросов, с которыми больше нельзя тянуть. Но это потом, в ближайшем, но все-таки будущем. Сперва ей предстояло восхождение.
Перед тем как отправиться в постель, Рита долго рассматривала гору из кухонного окна. Отсюда та не казалась ни особенно высокой, ни опасной. Ничего таинственного не угадывалось ни в оплывшем силуэте, ни в покатых уставших склонах, зябко кутавшихся в кучерявое покрывало леса. Но над горой собирались тучи, а за горой опускалось в лес солнце, и последние багровые отсветы ложились на бугристое низкое небо, превращая его в поверхность чуждого мира, нависшего над нашим и готового соприкоснуться с ним, заразить и гору, и лес, и все вокруг неведомой скверной.
Ночью Рита не спала. Лежа в кровати, которая вот-вот должна была стать ей мала, она слушала, как барабанят по крыше капли и как гремит над вершиной гром. Так всегда происходило в эту ночь, что бы там ни обещали в прогнозе погоды: наваливалась буря, прижимала к земле лес и дом, била ливнем, слепила молниями, наполняла холодом сны. Раньше, когда была жива мама, она приходила к Рите, гладила по волосам, успокаивая и утешая – и дочь, и саму себя, наверное. Теперь прийти было некому, и Рита пыталась утешиться воспоминаниями, но получалось плохо.
К утру буря утихла и дождь кончился. Как всегда.
Отец заболел вскоре после того, как сошел снег. Долго кашлял, надрывно и сухо, мучился головными болями, откладывал все больше дел на потом, а к концу апреля слег. Ночами метался в горячке, днем тонул в тонком, прозрачном полусне, то и дело вздрагивая, испуганно вздымая опухшие веки. Говорить ему было сложно – стоило начать, как накатывал кашель, раздирающий грудь и горло, – а потому Рита тоже молчала. Ухаживала, стирала, поила горячим бульоном, сидела у кровати, наблюдая, как за окном наливается солнечным светом молодая листва. Так прошла почти неделя. В последний день месяца, ближе к вечеру, отец разбудил задремавшую было дочь, ткнул заскорузлым пальцем в календарь на стене:
– Сегодня ведь, Ритк, да? Правильно?
– Да, пап. – Она зевнула и потянулась, недовольная резким пробуждением, недовольная неизбежным этим разговором, которого боялась с тех самых пор, как болезнь приобрела серьезный оборот. – Все правильно.
– Хреново. Утром не…
На выдохе из его груди хлынул грохочущим потоком кашель, и отец раздраженно застучал кулаком по одеялу. Кулак был бледен и костляв и принадлежал, казалось, совсем другому человеку, а вовсе не двужильному лесничему, которому что три десятка километров за день прошагать, что телегу дров нарубить – раз плюнуть.
– Не встать… – слабым голосом договорил больной, прокашлявшись. – Выходит, тебе на гору идти. Да, Ритк? Ну а кому еще?
– Ты что, пап? Я не справлюсь. Страшно.
– И чего страшно? Нечего там бояться совершенно. Завтра утром на горе безопасней, чем в райотделе милиции. Звери разбегутся. Лучший день в году: тихо, спокойно, гуляй – не хочу.
– Так ведь меня не звери пугают.
– А больше не будет никого, обещаю. Все улетят, как только солнце встанет. Я ни ра…
Отец снова зашелся в приступе кашля, и Рита прикрыла глаза, чтобы не смотреть, как наливается кровью его измученное лицо.
– За все время я ни разу не встречал их, – прошептал он наконец, словно боясь потревожить хищника, притаившегося в груди. – Сколько лет уже туда хожу, прибираю, и хоть бы кто показался! Нет, это просто лес, и на самой вершине горы следы… праздника. Конечно, там разное можно найти, и нужно держать ухо востро, чтобы не порезаться или не обжечься ненароком. Но ты будешь одна, даже не сомневайся.
Договорив, отец откинулся на подушку, едва дыша. На висках его блестел пот. Стиснутые губы дрожали. Взгляд блуждал по потолку, будто там, среди трещин в побелке, скрывались криво нацарапанные подсказки, способные помочь договориться с дочерью, убедить ее в необходимости делать все, как должно.
Только Рита и сама знала, что завтра утром отправится на гору. От этого зависело их с отцом благосостояние, их стол, их уверенность в будущем. Его обеспеченная старость. Ее высшее образование. Каждый год в первый день мая отец поднимался на вершину горы и возвращался с рюкзаком, полным странных вещей, которые затем продавал незнакомцам на пестро раскрашенных машинах, незнакомцам в нелепых ярких шляпах, незнакомцам, говорящим на чужих, не по-человечески звучащих языках. Покупатели щедро платили за странные вещи, принесенные с вершины горы, – гораздо, гораздо больше, чем готово было выложить Ветлыновское лесничество за тяжелый, но честный каждодневный труд. В течение следующей недели к их домику станут подъезжать одна за другой разноцветные иномарки, и если Рите с отцом нечего будет предложить… Она не знала, что случится, но надеяться на лучшее не стоило. Покупатели не производили впечатления людей, умеющих прощать ошибки или давать поблажки, – честно говоря, покупатели вообще не производили впечатления людей.
Об этом она тоже обязательно спросит отца. Кем были обладатели хищных ухмылок, носящие смешные шляпы, откуда они взялись, как вышли на лесничего, как связаны с теми, кто собирается на горе раз в год, в ночь между весной и летом, – немало накопилось вопросов, с которыми больше нельзя тянуть. Но это потом, в ближайшем, но все-таки будущем. Сперва ей предстояло восхождение.
Перед тем как отправиться в постель, Рита долго рассматривала гору из кухонного окна. Отсюда та не казалась ни особенно высокой, ни опасной. Ничего таинственного не угадывалось ни в оплывшем силуэте, ни в покатых уставших склонах, зябко кутавшихся в кучерявое покрывало леса. Но над горой собирались тучи, а за горой опускалось в лес солнце, и последние багровые отсветы ложились на бугристое низкое небо, превращая его в поверхность чуждого мира, нависшего над нашим и готового соприкоснуться с ним, заразить и гору, и лес, и все вокруг неведомой скверной.
Ночью Рита не спала. Лежа в кровати, которая вот-вот должна была стать ей мала, она слушала, как барабанят по крыше капли и как гремит над вершиной гром. Так всегда происходило в эту ночь, что бы там ни обещали в прогнозе погоды: наваливалась буря, прижимала к земле лес и дом, била ливнем, слепила молниями, наполняла холодом сны. Раньше, когда была жива мама, она приходила к Рите, гладила по волосам, успокаивая и утешая – и дочь, и саму себя, наверное. Теперь прийти было некому, и Рита пыталась утешиться воспоминаниями, но получалось плохо.
К утру буря утихла и дождь кончился. Как всегда.
* * *
На вершину не вела ни одна тропа. Отец поднимался туда лишь раз в год. Не так уж и часто. Что, если он ошибался насчет тех, кто празднует приход лета на вершине? Что, если он не видел их там потому, что не знал, куда смотреть, или празднующие просто не хотели показываться? Что, если появление незнакомой девчонки, которой не исполнилось и четырнадцати лет, разозлит их? В самом деле – ты поручаешь работу взрослому мужику, а тот присылает вместо себя пигалицу с двумя длинными косичками и неправильным прикусом. Рита бы точно разозлилась. По совету отца в зарослях орешника у подножия она выломала прямую крепкую палку себе по росту и, используя ее в качестве посоха, начала подъем – напрямик, не выбирая дороги. Лес на склонах был темен и неприветлив с любой стороны. Еще он был тих. Не абсолютно – деревья поскрипывали под ветром, шумели молодой листвой, словно бахвалясь перед гостьей, – но непривычно: ни пения птиц, ни зуда насекомых, ни шорохов в траве вокруг, которые неизбежны, когда напуганная ящерица или лягушка бросается прочь, чтобы не попасть тебе под ноги. Рита будто шла сквозь нарисованный лес. О, это был настоящий шедевр, но все равно лишь иллюзия, изображение жизни. И сама Рита здесь казалась себе нарисованной девочкой. Крохотной фигуркой среди высоченных стволов, обозначенной несколькими движениями кисти. С первого взгляда и не разобрать, кто это, а будешь всматриваться – распадется на отдельные мазки, окончательно потеряет всякое сходство с человеком. Нарисованная девочка поднималась по нарисованному склону. Иллюстрация к сказке, старой как мир. Она часто зевала и терла глаза, не отдохнувшие за бессонную ночь. Тряпичные кеды быстро промокли во влажной траве. Лямки отцовского рюкзака то и дело съезжали с узеньких плеч. Рюкзак пока был наполнен лишь смутной тревогой и целым ворохом воображаемых несчастий, столь основательно перемешанных, что никто не сумел бы отличить одно от другого, – но и такого веса вполне хватало, чтобы заныла спина. – Все будет хорошо, – повторяла Рита вслух слова отца, сказанные на прощание. – Ты только не разглядывай подолгу ничего, в руках особо не верти. Схватила – и суй сразу в рюкзак. Так вернее. Фраза звучала не слишком обнадеживающе, но хотя бы звучала. Позволяла заглушить холодную тишину вокруг. И потому она произносила ее вновь и вновь, по-разному интонируя, пытаясь убедиться, что именно так и поступит, увидев нечто необычное там, наверху. Не станет изучать. Уберет в рюкзак не глядя. – Все будет хорошо? Ты только не разглядывай подолгу. Ничего! В руках особо. Не верти… Еще Рита то и дело вынимала из заднего кармана джинсов тетрадный листок со списком нужных предметов, кое-как набросанным рукой отца. Буквы выглядели еще более мятыми и влажными, чем бумага, на которой они были начертаны. Даже Рита, давно и хорошо знавшая этот почерк, с трудом разбирала написанное:1 муз. инструмент Посуда – 2 или 3 Игрушка – 2 или 3 1 книга или 1 картина Одежда – 1 или 2 вещи 1 чучело или 1 статуэтка 1 непонятная вещь
– Больше ничего не надо, – сказал отец, передавая ей листок. – Как только соберешь, возвращайся. Этого хватит. Затем он закашлялся, покраснел и махнул рукой, давая понять, что Рите пора выходить. Ему явно стало хуже. Так она и не успела спросить про последний пункт в списке. Одна непонятная вещь. Насколько непонятная? Значит ли это, что, не разглядывая и не вертя в руках, назначение вещи невозможно определить? Если так, то как не спутать ее с редким музыкальным инструментом или абстрактной статуэткой? Или это должно быть что-то настолько невообразимое, что с первого взгляда осознаешь – вот оно? – Нормальные отцы посылают дочерей со списком в магазин, – сообщила Рита покосившейся липе, в ветвях которой чернело воронье гнездо. – Но у нас все по-другому, потому что мы живем на природе. Липа не ответила. Рита хотела пожаловаться еще, но в последний момент осеклась – почудилось движение впереди, среди рыжего мертвого сосняка, перекрывающего путь к вершине. Будто кто-то переметнулся от одного ствола к другому. Или пролетел. Несколько мгновений девочка не шевелилась, пристально вглядываясь в тени перед собой, готовая в любую секунду развернуться и со всех ног помчаться вниз. Но тени замерли и больше никаких фокусов не вытворяли. – Птица, – сказала Рита липе, чьи ветви еще нависали над ней. – Из твоего гнезда, должно быть. Липа вновь промолчала, а Рита торопливо миновала подозрительное место и углубилась в сухостой. Трава под ногами сменилась настилом из тусклой, ржавой хвои, и сам воздух словно был полон ржавчины и мелких колючек. Казалось, он даже похрустывает при вдохе. Меж голых ветвей, торчащих во все стороны растопыренными пальцами, висели клочья серой паутины. Склон стал заметно круче. Очень скоро Рита выбилась из сил. Однако отдыхать здесь, на кладбище сосен, ей не хотелось, тем более когда до вершины оставалось всего ничего. Сквозь переплетения костлявых крон виднелось чистое небо. Всем телом опираясь на посох – спасибо, папа, что надоумил! – и тяжко, влажно дыша, Рита поднималась выше и выше, обходила корни и корявые пни, перебиралась через поваленные стволы. Горло саднило. Глаза слезились. Спина стонала от боли. А потом воздух стал чище, и солнечный свет, свободный от ветвей, ударил в лицо. Впереди открылась круглая поляна без единого дерева. Восхождение закончилось, но обрадоваться Рита не успела. Потому что увидела стул.
* * *
Непомерно большой, грубо сколоченный из бревен и широких досок, посеревших от времени, стул был вкопан в землю в нескольких шагах впереди. Вкопан основательно, хотя и давно. Вкопан таким образом, что, сиди на нем кто-нибудь, Рита, выбравшись из зарослей, оказалась бы прямо у сидящего перед глазами. С пляшущим от усталости и страха сердцем девочка подошла ближе. На спинке стула были ножом вырезаны символы, каких ей прежде не встречалось: что-то вроде перечеркнутого крест-накрест треугольника и полумесяца, концы рогов которого соединяла волнистая линия. На сиденье, прямо под символами, стояла кружка. Пузатая, высокая, с изящно выгнутой ручкой и остроконечной крышкой. Такие иногда показывали в кино. Кружка – это ведь посуда, верно? Медленно протянув руку, Рита коснулась пальцами холодного глиняного бока. Ничего не произошло. Только стало вдруг понятно, насколько на самом деле огромен стул: сиденье находилось на уровне ее груди, а значит, предназначался он для великана в три раза выше отца. Кружка же была вполне обычного размера. Положив посох, Рита взяла ее, взвесила в руке. Похоже, пустая. По выпуклым бокам расползался вычурный пестро раскрашенный орнамент. Понять, что именно он изображает, не получалось. То ли башни разных размеров и форм, сплетающиеся друг с другом, то ли стебли, тянущиеся к висящей в черном небе луне, то ли щупальца, обвивающие хрупкую человеческую фигурку… Рита поймала себя на том, что напряженно всматривается в орнамент, позабыв об окружающем мире и, что куда хуже, позабыв об отцовском наказе. – Не разглядывай подолгу ничего, – произнесла она вслух, и собственный голос показался ей совершенно незнакомым. – Ничего в руках особо не верти. Рита сбросила со спины рюкзак и спрятала кружку внутрь, поборов внезапное желание заглянуть под остроконечную металлическую крышку. Начало положено. Жаль, она не догадалась прихватить с собой карандаш, чтобы отмечать найденные предметы в списке. В следующий заход, через год, запасется всем необходимым. – Посуда – одна штука, – сказала Рита, и на сей раз голос прозвучал как должно. – Не так уж и сложно. На вершине становилось жарко. Пока девочка взбиралась по склону, солнце тоже не теряло времени зря и теперь висело, казалось, прямо над ней, раскаленное и злое. По крайней мере, оно не оставило ни единого шанса теням и сырости. Невысокая трава, покрывавшая макушку горы, уже успела полностью просохнуть. Рита огляделась. Шагах в двадцати от нее стоял второй стул, столь же большой, но повернутый в другую сторону и слегка скособоченный – одна из трухлявых ножек подломилась. Ни на нем, ни рядом не виднелось ничего интересного. С другой стороны, на примерно таком же расстоянии, тянулась вдоль земли приземистая широкая лавка, и вот на ней было разложено сразу несколько вещей, явно стоящих внимания. Рита приблизилась, стараясь смотреть куда угодно, кроме лавки. Но нащупывать предметы вслепую все-таки не решилась – не хватало еще распороть ладонь ржавым гвоздем или занозить палец. Первым она взяла бубен. Нежно и протяжно звякнули бубенчики на его краях. Деревянный обод покрывала сложная резьба, и различить что-либо в ее хитросплетениях не удалось бы при всем желании, а вот на кожаной мембране красовалась картинка, мгновенно врезавшаяся в сознание: огромная звериная пасть пожирала кричащего человека. Изображение было примитивным, нарочито упрощенным – вроде средневековых миниатюр, которых полным-полно в учебнике по истории за следующий год, – но выполненным опытной, взрослой рукой. Яркие краски, четкие линии, острые клыки, немой вопль, навсегда застывший на искаженном от ужаса лице, – ничто здесь не нуждалось в долгом изучении. Хватило пары секунд, чтобы Рита впитала все до последней детали. – Музыкальный инструмент… – пробормотала она, зажмурившись. – Одна штука. И убрала бубен в рюкзак. Затем пришел черед перчатки. Это была дамская вещь, кружевная и невесомая. Ткань оказалась мягкой, словно пух. Рите нестерпимо захотелось примерить, увидеть, как выглядит ее рука в этих черных кружевах, узор которых непрерывно менялся в зависимости от того, под каким углом смотреть: там можно было отыскать цветы и листья, крылья, лианы, змей и драконов, обнаженных мужчин и женщин, сливающихся друг с другом, перетекающих друг в друга. Рита уже начала надевать перчатку, как вдруг где-то неподалеку, то ли прямо у нее за спиной, то ли чуть в стороне, раздался протяжный шорох. Девочка подскочила и стремительно обернулась. Мертвый сосновый лес, окружавший вершину горы ржавой колючей проволокой, застыл в абсолютной недвижности. Он словно сам не понимал, откуда донесся звук. Или притворялся, что не понимает. Шорох не повторялся. Скомкав перчатку, Рита сунула ее в рюкзак и тут же отправила следом последний предмет с лавки: бутылку из темного непрозрачного стекла с этикеткой, изображавшей рыбу со смеющимся человеческим лицом. Затем она решительно направилась к центру поляны, подальше от рыжих сосен с их шелестящими секретами, – туда, где возвышался внушительных размеров стол, на котором наверняка можно было отыскать что-нибудь из списка. По дороге Рита замечала тут и там следы минувшего празднества: глиняные черепки и обглоданные кости в траве, черные пятна кострищ, торчащие из земли палки с привязанными к ним обрывками цветных лент, разбросанные холщовые мешки и мятые бумажные пакеты с яркими принтами. Кто бы ни провел здесь минувшую ночь, мусора после себя они оставили немало. Рита едва не пнула попавшуюся на пути резную деревянную фигурку, приняв ту за очередной обломок вчерашнего торжества, но в последний момент все же успела остановить занесенную ногу. Фигурка была поднята и очищена от налипшей земли, после чего отправилась в рюкзак. Сойдет за «чучело или статуэтку». Кого она изображала, понять не удалось: что-то бесформенное, не совсем осмысленное – то ли старинный корабль, то ли птица, то ли человек без головы. Пусть покупатели сами разбираются. Стол был широк и высок, под стать стульям, вкопанным на окраине поляны, и у Риты без всяких проблем получилось бы пройти под ним в полный рост. Чтобы оказаться наверху, пришлось сначала вскарабкаться на скамейку, стоявшую с противоположной стороны, и уже с нее перебраться на столешницу. Все равно что на крышу небольшого гаража или сарая. И на этой крыше девочку ждало настоящее изобилие. Кроме нескольких тарелок с объедками, каждая из которых была самого обычного размера, тут стояли кружки и кувшины, картонные коробки и фанерные ящики. Повсюду лежали вещи – столько, что хватило бы на полтора десятка отцовских списков! На ветхих, трухлявых досках столешницы Рита чувствовала бы себя увереннее, передвигаясь на четвереньках, но так было куда сложнее пробираться среди завалов и уж точно невозможно окинуть взглядом сразу все интересные варианты. Пришлось выпрямиться. Доски скрипели и прогибались, но держали. Первым делом она схватила покалеченную, облезлую куклу – то ли пса, то ли медведя, плотно набитого чем-то шуршащим и пахнущего свежим сеном. Скрюченные лапы не двигались. Левый глаз бедолаги, вырезанный из пожелтевшей кости, слепо пялился вдаль. Вместо правого торчало лишь несколько оборванных нитей. – Игрушка, значит, – сказала Рита. – Сгодишься. Едва застегнув пряжку рюкзака, она заметила книгу. Старая, в твердом тканевом переплете с выцветшим рисунком и потертыми углами. У них дома в большой комнате на стеллаже стояли похожие томики – бледные, чуть перекошенные. Обломки давно прошедшей и забытой жизни, то ли дедушкиной, то ли прабабушкиной, то ли предыдущего лесника. Отец никогда их не читал. Не справившись с искушением, Рита осторожно приоткрыла книгу. Сразу стало ясно, что это сборник стихов: текст был напечатан столбиками в серединах страниц, оставляя большую их часть пустыми. Буквы казались знакомыми, да и многие слова тоже, но понять написанное Рита все равно не могла. Строчки расплывались, наползали одна на другую, менялись местами. Слова исчезали, но появлялись вновь, стоило сместить взгляд. Не желая сдаваться, она попробовала прочесть одно стихотворение вслух. Получалась какая-то ерунда:Лес иглы стропилами стоп Тревога по следу Змеем Пахнет чужак пахнет чужак
Девочка не сомневалась, что если прочитает тот же самый отрывок еще раз, то услышит совсем другие слова. Захлопнув книгу, Рита пожала плечами: наверное, у незнакомцев в смешных шляпах подобные стихи сейчас в моде. Ну и черт с ними, не ее дело. Достав из кармана список, она постучала пальцем по строчке «1 книга или 1 картина», довольно хмыкнула и принялась открывать рюкзак. В этот самый момент позади, на довольно приличном расстоянии, раздался шорох, гораздо громче, чем в прошлый раз. Рита, уверенная, что опять не увидит ничего подозрительного, нехотя обернулась – и тут же, чуть не захлебнувшись собственным вдохом, метнулась на дальний край стола, по пути больно ударившись коленкой и с грохотом обрушив наземь несколько ящиков. Удивительно, но ей удалось не закричать. Оно приближалось со стороны рыжей опушки, двигаясь странно, словно удерживаемое над землей неведомой силой. Так движется ныряльщик вдоль морского дна, цепляясь за кораллы и водоросли. Неспешно, лениво оно плыло по воздуху, едва касаясь травы стальными когтями – чтобы не подниматься выше и не сбиться с пути. Застыв среди коробок и опрокинутой посуды, Рита не мигая наблюдала за появившимся на полянесуществом. В чем-то оно походило на человека: конечности – именно руки и ноги, а не лапы, кожа – бледная и безволосая. На одной из лопаток даже виднелась крупная татуировка, детали которой с такого расстояния различить не удавалось. Но в остальном… Все тело было бугристым, словно измятым, и изгибалось мягко и плавно, подобно телу змеи или длинной рыбы. Пальцы рук заканчивались заостренными клинками, сияющими на солнце. А самое главное – у существа отсутствовала голова. Полностью. Под кожей между левым и правым плечом бугрилось несколько небольших выпуклостей, ничем не отличавшихся от таких же на спине и боках. Неестественность, неправильность этого создания завораживали. Рита не могла отвести взгляда. Вцепившись в лямки рюкзака, она лихорадочно пыталась сообразить, как поступать дальше. Отец учил, что при встрече с медведем нельзя убегать и показывать страх. Но ведь по воздуху над поляной полз не медведь. К чему были те уроки, если за всю свою жизнь на краю огромного леса она так ни разу и не столкнулась с по-настоящему опасным зверем, но встретила вот это? Причем там, где, по словам отца, ей ровным счетом ничего не угрожало?! Возмущение разбавило страх, помогло справиться с оцепенением. Девочка осторожно сместилась к самому краю стола и начала спускать ноги, надеясь незаметно сползти на скамейку, а уже оттуда на землю. Ни одна доска не скрипнула под ней, ни одна тарелка не звякнула, но безголовый, паривший вокруг стула, с которого она взяла кружку, на сей раз мгновенно отреагировал на далекое движение. Оттолкнувшись от стула, он простер руки вперед, вытянулся в тугую хищную линию и, подобно атакующей акуле, поплыл к Рите – столь стремительно, что та едва успела втянуть ноги на столешницу, прежде чем стальные когти впились в лавку всего в полуметре от нее. Девочка вновь замерла, стиснув зубы и стараясь даже не дышать, пока чудовище копошилось внизу, ощупывало траву и ножки стола. Совсем не дышать, однако, не получалось, и, бесшумно втягивая носом воздух, она почувствовала запах. Свежий насыщенный запах озона. Это ее не удивило. Тварь пахла прошедшей грозой. Проведя под столом несколько минут, безголовый вылетел из-под него. Рита сразу зажмурилась, вжалась в доски и рюкзак, надеясь затеряться среди ящиков, коробок и прочего хлама. Заслонив солнце, тень нависла прямо над ней, подобно тяжелой туче. Запах озона стал сильнее. Совсем рядом стальное острие проскребло по эмалированной тарелке, будто в задумчивости. Чудовище прислушивалось? Или могло видеть ее? Или просто тянуло время, наслаждаясь страхом, скомкавшим ее сердце? Крик, безнадежный и душераздирающий, зародился в Ритиной груди, но она не осмеливалась выпустить его, и крик разрастался в оглушительной тишине, заполняя собой все тело, звенел в коленях, нестерпимо жег веки, гудел в висках тяжелым медным колоколом. А когда она уже готова была открыть рот и завопить изо всех сил, прощаясь с жизнью и готовясь к неизбежной боли, лицо ее омыл солнечный свет. Тень исчезла. Рита открыла глаза – все вокруг казалось зеленым – проморгалась и медленно приподнялась на локтях. Безголового она заметила не сразу. Теперь он висел в воздухе вертикально, шагах в двадцати от стола. Пальцы полусогнутых ног чуть-чуть не доставали до травы. Так стало видно, что у него нет ни сосков, ни пупка, ни гениталий, но на груди и животе красовалась еще одна огромная синяя татуировка: широко распахнутые глаза, под ними – две раздувшиеся ноздри, а еще ниже – рот, растянутый в зубастой усмешке. Изображены они были схематично и не слишком аккуратно, но их хватило, чтобы Риту окатила новая волна ужаса: казалось, чудовище смотрит именно на нее и улыбается именно ей. Руки безголового непрерывно двигались. Он складывал перед грудью знак за знаком из ладоней и пальцев, подобно тому, как это делают глухонемые. Два больших пальца вместе, остальные расставлены веером в стороны. Большой палец левой руки ложится на указательный палец правой, остальные согнуты. Указательный и мизинец левой руки смотрят вверх, большой отставлен, правая ладонь выставлена вперед. Символы сменялись непрерывно. Задевая друг друга, еле слышно позвякивали стальные когти. Рита не разбиралась в жестовых языках, а потому не могла понять сказанного. Впрочем, вряд ли безголовый обращался к ней. Слишком уж точны были жесты, слишком выверена последовательность. Он проговаривал вызубренное наизусть. Он – и Рита осознала это, когда стало уже слишком поздно, – читал заклинание. В завершение этой беззвучной тирады безголовый оглушительно хлопнул в ладоши – так, что даже в ярком дневном свете было видно, как посыпались с когтей искры. И тотчас все на столе пришло в движение, заерзало на своих местах, оторвалось от нагретых солнцем досок и потянулось вверх, к небу, не удерживаемое больше силой притяжения земли. Все, кроме Риты и того, что лежало в ее рюкзаке. Кувшины, ящики, тарелки и обглоданные кости, хрустальные бокалы, скрипки и звериные рога, резные светильники, молотки и связанные сложными узлами веревки – все проплывало мимо, поднимаясь выше и выше. Рита вскочила, но от неожиданности растерялась и на несколько мгновений даже забыла о грозящей опасности, наблюдая с открытым ртом, как улетают вещи, составлявшие ее укрытие. Опомнилась она, когда до самого последнего из ящиков было уже не допрыгнуть. Великанский стол опустел, и Рита, стоящая в середине с рюкзаком в руках, осталась единственным угощением. Теперь-то глаза на груди безголового уж точно видели ее, и пасть на животе безголового скалилась в предвкушении ее боли. Чудовище приближалось неторопливо, все в том же вертикальном положении, вытянув руки в стороны, словно стараясь не спугнуть жертву раньше времени. Кожа его в солнечном свете выглядела молочно-белой. Рита смотрела в наколотое на этой белизне уродливое лицо и, до крови закусив губу, собиралась с духом. Отец учил, что от медведя нельзя убегать. Побежишь – умрешь. Дашь понять, что с тобой шутки плохи, – есть шанс уцелеть. Ори, шуми, размахивай чем-нибудь. Но не стой просто так, Ритка, не стой столбом. Она сунула руку в рюкзак и нащупала там самый увесистый из найденных предметов. Вытащила – это оказалась пивная кружка с крышкой, – завопила и с размаху ударила перед собой как палицей, метя точно между нарисованных глаз. Во время взмаха крышка откинулась, и из кружки широкой дугой хлынул поток белого песка. Стоило этой загадочной субстанции угодить на безголового, как тот отпрянул аж на добрую дюжину шагов и принялся извиваться в воздухе, словно гигантская раненая змея, стараясь стряхнуть с себя все до мельчайшей крупинки. Движения его выглядели еще более отвратительными оттого, что были совершенно беззвучны. Рита в изумлении уставилась на кружку – та снова стала полна. Она принюхалась, макнула палец в белый порошок, попробовала на вкус. Соль. Самая обычная поваренная соль, только куда более мелкого помола, чем в магазинных пачках. Сразу вспомнилось, как отец иногда рассыпал такую вдоль порога и на подоконниках – давно, еще до смерти мамы. В последние годы он этого не делал. Выходит, все-таки знал о том, что обитает на горе? Тем временем безголовый, отряхнувшись, начал огибать стол по широкой дуге, надеясь, видимо, напасть на Риту сзади. Девочка не собиралась позволить ему подобраться к себе. Опустившись на четвереньки, она принялась сыпать соль из кружки щедрой белой дорожкой по самому краю столешницы. Безголовый отшатнулся, помедлил немного, затем попытался зайти с другой стороны, но момент был уже упущен. Рита обвела столешницу по всему периметру широкой полосой соли и, замкнув ее, торжествующе грохнула по-прежнему полной кружкой по старым доскам, чудом их не проломив. – А! Выкуси, чучело! – завопила она, грозя трясущимся кулаком. – Козел! Сраный! Залупа конская! Нелепые эти слова заставили ее расхохотаться в голос, пронзительно, надрывно. Безголовый неподвижно висел в воздухе на порядочном расстоянии, слегка склонившись набок, отчего глаза на его груди смотрели пристальнее и хитрее, с издевательским прищуром. Рита выкрикнула еще несколько ругательств, слышанных когда-то от отца, но смех больше не шел. Ноги дрожали так, что стоять было невозможно. Тогда она уселась посреди столешницы, уронила лицо в ладони и зарыдала.
* * *
К полудню жара стала невыносимой. Рита, давно понявшая, что загнала сама себя в ловушку, уже не имела сил ни бояться, ни отчаиваться, ни следить за безголовым, который невозмутимо кружил вокруг стола, никуда не спеша и не выказывая ни малейших признаков усталости. Ей хотелось только пить. Мысли тонули в раскаленном мареве, и она никак не могла вспомнить, взяла ли утром в дорогу бутылку с водой. Ведь должна была… Но отчего-то бутылка не находилась в рюкзаке. Три попытки – и ни одной успешной. Каждый раз там оказывалась только бутыль из темного стекла, на этикетке которой скалилась в язвительной ухмылке рыба с человеческим лицом. Извлечь пробку было нечем, да и Рита все равно пока не решилась бы оттуда пить. Проклятая рыбина наверняка состояла в сговоре с безголовым и насмехалась над ней, над несчастной тринадцатилетней девчонкой, обреченной на гибель на вершине горы. – Не понимаю… – пробормотала Рита, шмыгая носом и в очередной раз обшаривая все карманы рюкзака. – Нет воды. А ведь должна быть… Эй, куда это ты? Ей почудилось, что безголовый опасно приблизился к столу у нее за спиной. Он пролетел мимо, но, намереваясь припугнуть чудовище, Рита потянулась к пивной кружке, все это время стоявшей рядом, и вздрогнула от удивления. Кружка оказалась холодной. Ее глазированные бока покрылись влагой, по зловещему узору медленно скользила вниз прозрачная капля. Рита, не смея поверить своему счастью, подняла крышку. Кружка была полна воды. Первый несмелый глоток развеял все сомнения. Ни малейшего привкуса соли. Чистая холодная вода прямиком из лесного родника. – Так вот почему за вас столько платят! – сказала Рита странным вещам в рюкзаке и стала пить, запрокинув голову. С каждым глотком силы возвращались к ней… С каждым глотком прозрачная, пьяная легкость наполняла тело и душу. Рита испугалась даже, что вот-вот взлетит, повиснет над столом. Воздушный шар в форме дочери лесничего. Уникальный сувенир на память об этом удивительном месте. Но для такого все-таки надо было окончательно лишиться головы. Сознание ее стремительно полнилось новыми образами. Когда, напившись, Рита опустила кружку, они хлынули сплошным искрящимся потоком. Чужие мечты и воспоминания. Понимания и предположения. Безголовый больше не пугал ее. О да, он был опасен, смертельно опасен – неуловимо быстрый, ловкий, неутомимый, стальные когти острее любого ножа, – но по ту сторону соли, лишенный голоса и слуха, оставался крайне ограниченным в общении с вещами. Мог повелеть что-то простое, приказать и прикрикнуть хлопком ладоней, но на задушевные разговоры был, естественно, не способен. – Сгинь, уродец! – весело сказала ему Рита, и вся поляна, задремавшая на жаре, встрепенулась от этих слов. – Сгинь, пока не поздно! Безголовый остановился, замер на мгновение, затем выпрямился и нарочито медленно подплыл к столу, завис в воздухе у самого края, вперясь жуткими своими глазами прямо в Ритино лицо. Он принимал вызов. Рита встала, качнулась вперед-назад на затекших ногах. Мир плыл вокруг. Краски смешивались. На еще не высохший пейзаж кто-то плеснул водой. Чистой родниковой водой. Девочка шагнула к краю, навстречу чудовищу. Они застыли друг напротив друга, разделенные лишь полосой соли шириной в полпальца. В нос вновь ударил запах озона, напомнив о тревогах прошедшей ночи. Рита растянула рот в улыбке-оскале. Окажись безголовый человеком, был бы точно на голову выше нее. А так примерно одного роста. Ровня. С трудом преодолев соблазн ткнуть пальцем в глаз на бледной груди – возможно, на что-то подобное чудовище и рассчитывало, – Рита покачала головой и отвернулась. Ее шатнуло. Стол, поляна, вся гора качались под ногами, но в этом не было ничего страшного. В такт качке плясали цветные круги в небе, а на краю зрения возникали мутные, едва различимые силуэты, огромные фигуры, окончательный облик которых никак не удавалось уловить – стоило чуть повернуть голову, как они тут же растворялись в полуденном мареве. Если на полотне мира Риту обозначили лишь несколькими быстрыми, не слишком аккуратными мазками, то этих можно было считать карандашными набросками, забытыми и скрытыми под слоем краски. Лишь сейчас, когда вода из кружки размыла привычные цвета и реальность потекла, обнажая холст, стало возможно различить очертания. Еще они переговаривались – вибрирующими мелодичными голосами. Девочка прислушалась, но так и не сумела понять ни слова. Однако она знала, что можно сделать. Порывшись в рюкзаке, Рита вытащила игрушку, то ли пса, то ли медведя, погладила его по мягкой вытертой спине, поцеловала в хрустящую полуслепую морду, спросила: «Что они говорят?», усадила на доски и отвернулась. Кому понравится, когда на тебя пялятся во время столь важного задания! То ли пес, то ли медведь молчал. Рита терпеливо ждала, краем глаза наблюдая за гигантским силуэтом на одном из стульев на дальней стороне поляны. Наконец за спиной раздался голос, усталый и надтреснутый, немного похожий на отцовский: – Пастырь говорит, что нельзя отпускать девочку. Она идеально чувствует ценность. Она станет отличной приказчицей, лучшей за долгое время. Певица говорит, что, если держать ее дольше, девочка может умереть… Рита чуть сдвинула голову, надеясь захватить в поле зрения еще один силуэт. Ничего не получалось. Исполинские создания, владыки вершины горы, не предназначались для того, чтобы на них смотреть. – Пастырь говорит, что до вечера девочка не умрет, – продолжал то ли пес, то ли медведь. – Пусть остается до заката. Когда солнце сядет, здоровье старого приказчика подойдет к концу, и ее можно будет отпустить. У Риты все похолодело внутри. «Старый приказчик» – это ведь об отце? Ну конечно, о ком же еще! – Подкидыш говорит, что не стоит рисковать и держать девочку дольше – так можно потерять обоих приказчиков. Певица поддерживает. Придурок говорит, что девочка нашла бутылку здоровья. Если она действительно так хорошо чувствует ценность, то, вернувшись к старому приказчику, может напоить его и продлить жизнь. Тогда им придется терпеть старого приказчика и в следующем году. Пастырь поддерживает. Рита, похолодев еще сильнее, открыла рюкзак. Вот она, бутыль из темного стекла с ухмыляющейся рыбой на этикетке. То, чего не хватает отцу, чтобы избавиться от свалившей его болезни. То, без чего он умрет, когда сядет солнце. Мысли, подхлестнутые страхом, засуетились подобно муравьям в разворошенном муравейнике. Если пойти сейчас, она точно успеет. – Подкидыш говорит, что нужно убедить девочку подождать. Показать ей власть, – бубнил то ли пес, то ли медведь. – Объяснить силу. Падальщик говорит, что если девочка будет спускаться в темноте, то споткнется о корень, сломает шею и через пару дней порадует всех нас потрясающим ароматом. Провидица говорит… – Тише! – оборвала игрушку Рита. – Не мешай думать! Она положила замолчавшего то ли пса, то ли медведя в рюкзак и окинула взглядом свой небольшой урожай странных вещей. Бубен, перчатка, бутылка, игрушка, деревянная статуэтка. Была еще книга, но выскользнула из рук при появлении безголового, а потом исчезла в небе вместе с остальными предметами со стола. Рита вытащила деревянную статуэтку и, прищурившись, стала сравнивать ее со сторожевым чудовищем, парящим над травой неподалеку. Сходство было очень условным – и только если предположить, что статуэтка действительно изображает человека без головы, а не старинный корабль без мачты или спящую хищную птицу. Впрочем, Рита уже догадалась, что ее летающий остропальцый враг – такое же порождение этой поляны, как и все остальное. Просто созданное и существующее по другим законам, по стандартам иного мира. Непонятная вещь. Одна штука. Отсюда следовало, что, даже если статуэтка не имеет к безголовому никакого отношения, это можно исправить. Рита выпрямилась во весь рост и, несколько раз шумно вдохнув, чтобы унять волнение, крикнула: – Эй! Уродец! Смотри, что есть! Убедившись, что глаза безголового смотрят прямо на нее, Рита вытянула вперед руку с зажатой в кулаке статуэткой и припечатала: – Это ты! Затем нагнулась над пивной кружкой, прошептала: – Мне нужен огонь, – и откинула крышку. Изнутри пахнуло жаром. Рита затолкала статуэтку в кружку, закрыла ее, отсела. Несколько секунд спустя из-под крышки потянулась тонкая струйка черного дыма. Безголовый, наблюдавший за этими манипуляциями с вытатуированным равнодушием, вдруг содрогнулся всем своим бугристым бескостным телом. Подобно пловцу, поднимающемуся с глубины, он рывком взлетел на высоту человеческого роста и напряженно замер, будто прислушиваясь. Затем взмахнул руками, рванулся назад, к лесу, но на полпути остановился, нырнул к земле и там забился, страшно, безысходно, тряся конечностями и сминая траву. Тело его выгнулось дугой, на бледной плоти проступили черные пятна, через мгновения разошедшиеся трещинами, из которых хлынули наружу языки пламени. Рита отвернулась. – Сгинь, уродец!.. – прошептала она, закусив губу. – Предупреждала же. Несколько минут, пока за спиной шумел огонь и содрогался в агонии безголовый, Рита потратила на сборы: аккуратно уложила все предметы, включая раскаленную кружку, застегнула и тщательно проверила каждый ремешок. Когда на поляне наступила тишина, девочка поднялась, надела рюкзак задом наперед, чтобы он висел не на спине, а на груди, и, бережно придерживая груз руками, спустилась со стола на лавку, а затем на землю. От безголового осталось широкое пятно выгоревшей травы с обугленными ошметками плоти, среди которых по-прежнему сверкали стальные когти. Приближаться к ним Рита не решилась. Быстро сориентировавшись по стульям, она направилась к рыжему лесу – туда, откуда пришла. Ее по-прежнему качало, каждый шаг давался с трудом. На периферии зрения все еще маячили высоченные фигуры обитателей поляны: Пастыря и Певицы, или Подкидыша и Падальщика, или кого там еще… Они не могли остановить ее, для них Рита тоже была призраком, обитающим на другой стороне восприятия. Возможно, сейчас она проходила прямо сквозь них. Возможно, они понимали, что перспективная приказчица пропадает, и сыпали проклятиями. Возможно, оплакивали самую странную из своих вещей. Все это не имело значения. Стоило Рите миновать стул, как что-то с грохотом врезалось в землю в трех шагах слева, взорвавшись тучей обломков. Взвизгнув, девочка присела, закрыв телом драгоценный рюкзак. Острая щепка распахала ей щеку под глазом, еще одна вонзилась в плечо. Испуганно глянув вверх, она поняла, что это не гнев тающих в небесной синеве гигантов. Это возвращались предметы, отправленные безголовым к солнцу. Ящики, вазы, садовые ножницы, статуэтки и картины, половники и книги сыпались на поляну смертоносным грохочущим дождем. Визжа от леденящего душу восторга и по-прежнему прикрывая собой рюкзак, Рита во всю прыть бросилась прочь и вздохнула с облегчением, только оказавшись среди сухих сосен, только вдохнув раскаленный воздух, колючий, как мертвая хвоя под ногами. Здесь начался уклон, и пришлось сбавить шаг. Не хватало еще действительно споткнуться о корень, сломать шею и разбить бутылку со смеющейся рыбой на этикетке. Нет, Рита будет осторожна. Спешить некуда. Время есть. Живая, едва уцелевшая девочка с окровавленным лицом спускалась сквозь нарисованный лес. Позади нее сгущалась тьма, сердито ворчал гром – над вершиной горы снова собиралась гроза. Девочка знала, что там ею остались недовольны: отказалась от власти, отказалась от силы, открывшийся талант направила на сожжение редкого и ценного экземпляра. Она знала, что покупатели в нелепых пестрых шляпах, первые из которых явятся уже завтра, будут рвать и метать, и скрипеть звериными зубами, ведь из списка странных вещей с горы удалось принести меньше половины. Она знала, что умирающий лесник, он же старый приказчик, тоже вряд ли обрадуется такому исходу: не зря же он лгал, отправляя дочь на вершину, надеясь избавить ее от зрелища своей смерти и передать обязанности по наследству. Грядущие беды и неприятные разговоры мало волновали уцелевшую девочку, идущую сквозь нарисованный лес. Она несла в рюкзаке целый год жизни для человека, который научил ее, что от медведя нельзя убегать. Никакой ему обеспеченной старости, никакого ей высшего образования. Никакой уверенности в будущем. Наверное, им уже ночью придется покинуть дом и скрыться, уехать куда глаза глядят. Наконец-то. Прочь от проклятой горы. На целый год. Это немало, этого вполне достаточно. Только бы успеть до заката.Олег Кожин. Птица вещая
 В этом нет ничего противозаконного, и все-таки каждый раз Влад воровато озирается. Где-то там, за стальными дверями, льнут к амбразурам глазков соседи по лестничной клетке. На камуфляже стоящего в дверях мужчины висит солоноватый аромат прогоревших березовых веток. На кирзовых сапогах – ошметки летнего разнотравья. За плечами – тощий рюкзак. А на руках – кровь времени. Влад сдвигается к стене, превращается в египетскую фреску, пропуская Охотника.
Снедаемые каждый своим нетерпением, они мнутся в прихожей. Владу не терпится получить товар, Охотнику не терпится убраться отсюда, но они делают сотни ненужных телодвижений, оттягивая момент передачи. Потому что Охотнику, как бы он это ни скрывал даже от самого себя, до смерти хочется шагнуть за пределы прихожей, хоть одним глазком взглянуть на кухню, спальню и гостиную, в которой никогда не было гостей. Хочется увидеть, настолько ли там все дико и причудливо, как рисует его воображение. А Влад…
Влад попросту боится. Он смотрит на траурный пакет из «Красного и Белого» и боится запускать руки в его раздутое нутро. Пакет напоминает ему дохлую крысу, даже после смерти источающую иррациональную угрозу.
Охотник смущенно кашляет. Его плавающий взгляд гуляет по однотонным обоям и плотно прикрытым дверям цвета венге. Он думает о супергероях из кино, счастливых обладателях рентгеновского зрения, и завидует им черной мальчишеской завистью. Влад кладет на этажерку конверт с деньгами и принимает пакет. Конверт пропадает во внутреннем кармане камуфляжной куртки. После первой сделки Охотник ни разу не пересчитывал.
Влад высыпает содержимое пакета на заранее подстеленные газеты. С мягким шелестом невесомые серые перья засыпают бумажный спам. Наметанный глаз без труда различает обман. Два пера, кажется, журавлиных, Влад возвращает гостю. Тот без тени смущения прячет их вслед за конвертом. Это их негласная игра. Влад уверен, что гость подбрасывает фальшивки специально.
Ссыпав перья обратно в пакет, Влад кивает Охотнику, и тот кивает в ответ. Влад знает, что любопытные соседи прильнули к его двери, желая пронюхать, прознать, уловить хоть мельчайший намек на происходящее. Однако, когда дверь открывается, лестничная клетка подозрительно пуста, и Влад снова ощущает, как вибрируют их острые носы, как настороженно топорщатся уши, там, в темных затхлых отнорках многоквартирного человейника.
Охотник проскальзывает в приоткрытую дверь и, вопреки неудовлетворенному любопытству, выдыхает с облегчением. Влад не видит этого, перед ним только широкая спина в красках летнего леса, но воздух дрожит от этого могучего выдоха. Трудно не заметить. Каждый раз Владу кажется, что эта встреча последняя, но с новым сезоном ему приходит короткая эсэмэска: «Как обычно?» И он отвечает еще короче: «Да».
Пакет в руках чуть тяжелее воздуха, но Влад обхватывает его двумя руками. В спальне аскетический минимализм и чистота, мебель из «Икеи», краски из «Леруа Мерлен»; Охотник, попади он сюда, остался бы разочарованным. Бесшумный робот-пылесос, получив долгожданную свободу, между ног Влада проскальзывает в коридор, подъедать редкие крохи высохшей грязи и лесные былинки. Влад садится на кровать, достает из тумбочки маникюрные ножницы и аккуратно, стежок за стежком, вспарывает подушку. Из нее несет несвежим дыханием.
Разорванный рот наволочки блюет слежавшимися серыми перьями.
В этом нет ничего противозаконного, и все-таки каждый раз Влад воровато озирается. Где-то там, за стальными дверями, льнут к амбразурам глазков соседи по лестничной клетке. На камуфляже стоящего в дверях мужчины висит солоноватый аромат прогоревших березовых веток. На кирзовых сапогах – ошметки летнего разнотравья. За плечами – тощий рюкзак. А на руках – кровь времени. Влад сдвигается к стене, превращается в египетскую фреску, пропуская Охотника.
Снедаемые каждый своим нетерпением, они мнутся в прихожей. Владу не терпится получить товар, Охотнику не терпится убраться отсюда, но они делают сотни ненужных телодвижений, оттягивая момент передачи. Потому что Охотнику, как бы он это ни скрывал даже от самого себя, до смерти хочется шагнуть за пределы прихожей, хоть одним глазком взглянуть на кухню, спальню и гостиную, в которой никогда не было гостей. Хочется увидеть, настолько ли там все дико и причудливо, как рисует его воображение. А Влад…
Влад попросту боится. Он смотрит на траурный пакет из «Красного и Белого» и боится запускать руки в его раздутое нутро. Пакет напоминает ему дохлую крысу, даже после смерти источающую иррациональную угрозу.
Охотник смущенно кашляет. Его плавающий взгляд гуляет по однотонным обоям и плотно прикрытым дверям цвета венге. Он думает о супергероях из кино, счастливых обладателях рентгеновского зрения, и завидует им черной мальчишеской завистью. Влад кладет на этажерку конверт с деньгами и принимает пакет. Конверт пропадает во внутреннем кармане камуфляжной куртки. После первой сделки Охотник ни разу не пересчитывал.
Влад высыпает содержимое пакета на заранее подстеленные газеты. С мягким шелестом невесомые серые перья засыпают бумажный спам. Наметанный глаз без труда различает обман. Два пера, кажется, журавлиных, Влад возвращает гостю. Тот без тени смущения прячет их вслед за конвертом. Это их негласная игра. Влад уверен, что гость подбрасывает фальшивки специально.
Ссыпав перья обратно в пакет, Влад кивает Охотнику, и тот кивает в ответ. Влад знает, что любопытные соседи прильнули к его двери, желая пронюхать, прознать, уловить хоть мельчайший намек на происходящее. Однако, когда дверь открывается, лестничная клетка подозрительно пуста, и Влад снова ощущает, как вибрируют их острые носы, как настороженно топорщатся уши, там, в темных затхлых отнорках многоквартирного человейника.
Охотник проскальзывает в приоткрытую дверь и, вопреки неудовлетворенному любопытству, выдыхает с облегчением. Влад не видит этого, перед ним только широкая спина в красках летнего леса, но воздух дрожит от этого могучего выдоха. Трудно не заметить. Каждый раз Владу кажется, что эта встреча последняя, но с новым сезоном ему приходит короткая эсэмэска: «Как обычно?» И он отвечает еще короче: «Да».
Пакет в руках чуть тяжелее воздуха, но Влад обхватывает его двумя руками. В спальне аскетический минимализм и чистота, мебель из «Икеи», краски из «Леруа Мерлен»; Охотник, попади он сюда, остался бы разочарованным. Бесшумный робот-пылесос, получив долгожданную свободу, между ног Влада проскальзывает в коридор, подъедать редкие крохи высохшей грязи и лесные былинки. Влад садится на кровать, достает из тумбочки маникюрные ножницы и аккуратно, стежок за стежком, вспарывает подушку. Из нее несет несвежим дыханием.
Разорванный рот наволочки блюет слежавшимися серыми перьями.
* * *
Владику было шесть, но ругаться, как взрослые, он уже умел. Наслушался всякого. Немного от старшего брата Тёмки, но больше от маминого нового друга дяди Андрея Которого-Нельзя-Называть-Папой. Тёмка на четыре года старше и две головы выше Владика, непостижимый великан, всевидящий и всеведающий, однажды пробовал курить, прятал под матрасом журнал с голыми женщинами и матерился редко, но умело. Другое дело дядя Андрей, Которого-Нельзя-Называть-Папой. Этот, выпив водки, начинал строчить как пулемет, заворачивая не какие-то там трехэтажные, а, наверное, стоэтажные матюги. Владик, наизусть помнящий «Бородино» и все песенки из «Фиксиков», без особого труда запоминал даже самые цветистые обороты, падающие из златозубого рта дяди Андрея. Ругаться, как взрослые, Владик умел, но… стеснялся. Тем более при Девочке. – Но это же какая-то… фигня? – тщательно подбирая слово, спросил Владик. – Ха… Городской мальчик! Девочка фыркнула и закатила глаза так высоко, как, должно быть, умеют только маленькие девочки и святые со старых икон. Она была на пару лет старше Владика, и на самом деле у нее было имя. Точно было, она сама его сказала там, возле ржавой сельской водоколонки, напоминающей вросшего в землю робота. А он, как настоящий мальчишка, тут же его забыл. Света, может? Или Маша, мультяшная подружка терпеливого Медведя? Девочка была вылитая Маша, маленькая, веснушчатая, с огромными кроличьими резцами, торчащими из-под верхней губы. Но нет, точно что-то на «А»… Алёнка? Владику хотелось, чтобы ее звали Алёнкой, как шоколадку. Они сидели на сложенных квадратом бревнах, до блеска ошкуренных задами детей и подростков, что с незапамятных времен приходили на эту укромную поляну: посидеть у костра, запечь картошку, покурить тайком, а то и сорвать первый поцелуй. Вокруг притих августовский лес, вялый, чуть живой от затяжной жары. Лес лениво наблюдал за Владиком, отчего на предплечьях мальчика проступали мурашки. – Когда моей тете было шестнадцать лет, – проникновенным страшилочным голосом сказала Девочка, – они с подружками тут гуляли. И одна подружка спросила. И тетя сказала, что насчитали они всего два. А через четыре года подружка на речку пошла, трусами за корягу зацепилась и утонула. Понял? – Так не бывает! И вообще четыре – это не два. – Вот дурачок! Как только два года прошло, смерть уже за тетиной подружкой ходила. Если бы захотела, то могла и на Новый год ее забрать, как только часы двенадцать раз пробили, или в любой другой день. – Точно фигня. – Ой, только не говори, что ты струсил! Еле заметные белесые брови Девочки нахмурились подозрительно, но в глазах выкидывали коленца озорные чертенята. Легко, совсем как взрослая женщина, она ловила глупого мальчишку на его же словах, и Владику оставалось лишь краснеть и прятать взгляд в прибитом дождями, давно не ведавшем огня кострище. – Боишься, что и тебе всего два года осталось, да? Или меньше, представляешь? Год! Ужас как страшно! Ну а я ничего не боюсь… Конопатая мордочка приобрела мечтательное выражение. Девочка полуобернулась к лесу, запрокинула голову и с театральной ленцой спросила: – Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? Голова Владика втянулась в плечи. По счастью, Девочка, увлеченно слушающая едва различимый шелест листьев, ничего не заметила. А то не избежать бы новых насмешек. Так они сидели несколько бесконечно долгих протяжных ударов сердца. И вот когда ожидание неминуемой беды сделалось невыносимым, лес ответил непринужденно и почти ласково: – Ку-ку! Владик со свистом выдохнул, но сразу зажал рот ладонями – с такой яростью шикнула на него Девочка. Подсчитывая отмеренные годы, губы ее едва уловимо артикулировали: два, три, четыре… Владик, скрестив пальцы на руках и ногах, с затаенной надеждой вторил: пять, шесть… боясь, что вот сейчас, сию секунду оборвется это волшебство и высоко в небесах, отмерив жизненный путь Девочки, щелкнет невидимый клюв, похожий на ножницы тех страшных старух из книжки с древнегреческими мифами. А когда он все-таки щелкнул, Владик долго не мог поверить и считал дальше: семнадцать, восемнадцать… Он готов был считать хоть до ста, хоть до тысячи, хотя еще никогда не считал так много, но Девочка подвела итог честно: – Шестнадцать! – Как шестнадцать?! – спросил потрясенный Владик. – Так мало? – Ну, ты точно дурачок! Это мне будет… двадцать… Двадцать четыре! Я совсем уже старая буду! Никогда не слышала, чтобы кому-то так много накуковали. Вот тогда бы Владику насторожиться, почуять наконец розыгрыш и посмеяться над глупыми страхами. Но этот мир создан таким, что мужчины воспринимают его предельно серьезно. А маленькие мужчины – трижды предельно. Опьяненный магической эйфорией и несправедливым подсчетом, Владик выпалил: – А у меня будет больше! И прежде чем сообразил, что делает, спросил, обращаясь к удивленному лесу: – Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?! Произнесенные, слова застыли в воздухе, подобно бабочкам, влетевшим в тенета. Липкая паутинная реальность обволакивала их, пеленала, обездвиживала. И уже тревожно дрожали нити под необратимой поступью тихих ног. Владик застыл вместе с ними, горячо сожалея о своей несдержанности. «Глупый, глупый Владик! Кто тебя за язык тянул?!» – ругался в голове испуганный невидимка. Вновь незаметно скрестив пальцы, Владик бесшумно просил Вселенную, чтобы его вопрос остался без ответа. Однако у Вселенной были на его счет другие планы. – Ку-ку! – Ку-ку! – Ку-ку!.. Эластичная паутина застывшего времени облепила Владика, как пищевая пленка. Его кожа перестала дышать. Слиплись легкие. В сухой пещере рта, точно рыба, проспавшая отлив, нервно вздрагивал шершавый язык. В немигающих зрачках проползали ленивые облака, немилосердно ныли напряженные мышцы шеи, удерживающей запрокинутую голову. Протяжный тоскливый зов влетал в его уши, откладываясь в мозгу грядущими годами, множеством лет, напророченных древней лесной вещуньей. Всякий раз, когда голос замолкал – ненадолго, на едва заметные доли секунды, необходимые даже птицам, чтобы вдохнуть, – сердце Владика обрывалось в ледяную пустоту. И взмывало обратно, и билось о ребра, как бешеное, стоило отсчету возобновиться. Он давно обогнал Девочку и уверенно взял второй десяток. Потом третий. Четвертый. А кукушка все звала и звала его Смерть, но никак не могла докричаться. – Так не бывает! – выпалила Девочка, когда лишенный магии мир затопила звенящая тишина. Они словно поменялись местами: трусоватый скептик и снисходительный всезнайка. – Ты же сама слышала. – Слышала? Да мне никто не поверит! Это же… это… Восемьдесят четыре! Старше, чем мой дедушка! Умереть не встать! Но умирать Владик не собирался. Он собирался жить долго, куда дольше, чем дедушка Девочки. Потому что слышал то, чего не слышала она. Каждый напророченный год скрывался не просто в крике вещей птицы, но в каждом оброненном ею слоге. Владик понял, почему подружка тетиной девочки прожила на два года дольше, а сам он проживет не восемьдесят четыре, а… рожая в уме трехзначное число, Владик на мгновение задумался, совсем как Девочка несколько минут… часов, дней или жизней назад. Не восемьдесят четыре, а сто шестьдесят восемь. – Куда тебе столько? – Все еще перекатывая в уме неверное число, Девочка трясла рыжими косичками. – Я с тобой поделюсь, – великодушно сказал шестилетний Владик. И подумал: «Сто шестьдесят восемь! Целая вечность!»* * *
За стеной буянил полтергейст. Так брат Тёмка, уже не такой и великан, а попросту вредный и заносчивый подросток, именовал пятничные загулы взрослых. Не родителей, не мамы с папой – взрослых. Тёмка с Владиком не знали, как еще назвать это подобие семьи. Допустим, мама, она всегда была мамой, хоть и старалась при каждом удобном случае сбагрить сыновей к бабушке. Но сожитель ее – восьмилетнему Владику чудились в этом слове сжимающиеся кольца змеиного тела – даже через два года остался дядей Андреем, Которого-Нельзя-Называть-Папой. А если нет папы и мамы, то какая уж там семья? Не-бла-го-по-луч-на-я. Так говорила учительница Владика, и ее водянистые старческие глаза наполнялись фальшивым сочувствием. Владик смотрел на нее и думал: «Я переживу тебя, твоих детей и твоих внуков». Ну и кто теперь не-бла-го-по-луч-ный?! Полтергейст громыхал стульями, в щепы разбивая их о стены. С обиженным звоном разлетались на куски чашки и тарелки. Под незримой тяжестью буйного духа скрипели рассохшиеся половицы. Полтергейст ревел голосом дяди Андрея, выкрикивал гнусные слова, от которых в душе Владика смущение густо перемешивалось со злостью. Потом орал голосом мамы. Искаженный призрачной глоткой, он хрипел и плевался. И тоже говорил много гадостей. И вновь гремело, выло, дребезжало и грозило убить, поджечь дом, спалить суку вместе с сучатами. Владик отрешенно думал, что и в этот раз никто из соседей не постучал к ним в дверь, не поинтересовался, все ли у них в порядке. Должно быть, они сильно боялись полтергейста. Если бы не Тёмка, карауливший дверь, Владик непременно вышел бы из комнаты. По «Рен-ТВ» говорили, что нечисть боится серебра и железа. Серебра у Владика не было, но под кроватью лежал обрезок арматуры размером с его предплечье. Дядька со стройки сказал, что арматура железная. Но Тёмка оставался непреклонен: когда бушевал полтергейст, он усаживал младшего брата рядом, и на «горячем стуле» они играли в третьих «Героев». Новые части их старенький комп не тянул. Владик всегда играл за подземников. Тёмка думал, это потому, что в Темнице черные драконы, самые сильные в игре. Но Владику просто нравились гарпии. В их широких когтистых лапах, грязных крыльях и нечеловечески отрешенных лицах он видел ту, что предсказала ему долгую жизнь. И это был секрет, о котором необязательно знать даже старшему брату. Вечер, нацепив монокль луны, заглянул в окно, но быстро разочаровался, нахмурился тучами. Кампания и в самом деле вышла скучная, Тёмка быстро развился, вынес противников и теперь методично сжимал кольцо вокруг последнего замка Владика, поднимая свои флаги над шахтами и лесопилками. Владик в сражениях участвовал неохотно, лишь задумчиво слонялся по карте, словно игра ему наскучила. Отчасти так оно и было, он попросту ждал, когда хоть на минуту останется в комнате один. Щелкнул язычок дверного замка. Тёмка скорчил страдальческую мину, но от игры не оторвался. Владик тоже не стал оборачиваться. Тысячу раз он видел, как мама стоит там, прислонясь к косяку, одной рукой играя с прядью волос, другой запахивая короткий халат, из-под которого торчит край несвежей ночнушки. И вся мама такая, как эта ночнушка, – сероватая, потасканная. Предплечья в синяках; худые татуированные пальцы дяди Андрея скрывали недюжинную силу. Атласный подол халата в сигаретных ожогах. Кислый запах алкогольного пота. И это утомленное выражение одутловатого лица… За последние годы в маме многое изменилось, но эту перемену Владик считал самой гадкой. Словно мама пыталась доказать им, как сильно она старается, но и сама с трудом верила в эту ложь. Владик по-прежнему думал, что мама очень красивая. Ее волосы оставались жгуче-черными, как у индейцев. Когда мама заплетала их в косу, то превращалась в Покахонтас, и было не так заметно, как скучают ее волосы по шампуням и бальзамам. В серых глазах мамы часто плавала алкогольная муть, но на солнце в них, как раньше, плескалась голубизна. Если бы не это мерзкое выражение лица и хриплый голос, больше подходящий старухе… – Все, не бойтесь, заснул козлина. Как будто кто-то боялся. Дядя Андрей, конечно, буянил страшно, но, строго говоря, ни разу не ударил ни маму, ни Тёмку, ни самого Владика. Хотя частенько сверлил хмельным глазом, словно выбирая, кому врезать первому. – Мама со всем разобралась. Все хорошо, зайчики мои. Темка придушенно хрюкнул, передал мышку младшему брату. Под пальцами Владика пластиковый корпус страдальчески заскрипел. Зайчики, ха! – Можете выходить, только тихонечко-тихонечко, ладно? Дядю Андрея не разбудите… а то опять начнет, сука… Ой! – Мать икнула, стыдливо прикрыв рот ладошкой. – Там сосисок полпачки, и эти… макароны разогреете. Или Тёмочка яичницу пожарит Владику. Да, Тёмочка, пожаришь? Владик, хочешь яичницу, а? Владик? Вла-а-ди-и-ик?! Владик не хотел отвечать даже кивком. И яичницу не хотел. Но больше всего не хотел оборачиваться, чтобы лишний раз не видеть эту чужую женщину, с пятницы по понедельник занимающую тело мамы. – Владик? Тёмк? Тём? Тё-ма-а-а?! – Мать помолчала и рявкнула: – Ну и сидите голодными! Сука… Ой! И выкатилась из комнаты, хлопнув дверью с такой силой, словно вести себя «тихонечко-тихонечко» вовсе и не нужно. Тёмка сохранил игру, потянулся со вкусом и заговорщицки подмигнул Владику: – А долго они сегодня. Думал обосрусь прямо тут. Выходя из комнаты, бросил: – Толчок занят. Приспичит – мне по фигу, хоть в раковину ссы. Но Владик слышал, как брат прятал под футболку тот самый, за годы изрядно потерявший в глянце, журнал. Это его полностью устраивало. Как только дверь за братом закрылась, Владик запрыгнул на подоконник, дотянулся до приоткрытой форточки. Высунув голову в прохладную осеннюю темноту, он собрал в голове образ дяди Андрея и спросил: – Кукушка-кукушка, сколько ему жить осталось? В их спальном районе даже захудалого парка не было. Так, газоны с чахлой травой и желтоватым кизильником, заехать на которые мешал высокий бордюр. Кто услышит слабый голос, камнем упавший с седьмого этажа? А ведь услышит. Владик знал, уже услышала. Лесная вещунья, для которой границы – условность. Ночью переполненный мочевой пузырь погнал Владика в туалет. В темноте ведя рукой по стене, волоча ноги в тапках со стоптанным задником, Владик неожиданно обнаружил себя стоящим на пороге спальни взрослых. Глаза, раскрытые едва ли на щелочку, распахнулись, ресницами сметая остатки сна. Здесь пахло свежестью ночного города, зябко тянуло по ногам. Дядя Андрей не любил жару, окно закрывал только зимой, когда температура опускалась ниже минус пяти. Он и сейчас лежал в одних трусах и татуировках, ногами сбив простыню в сероватый ком. Рядом, по самую макушку укутанная двумя одеялами, похрапывала мама. При желании Владик мог рассмотреть все морщинки на ее беспокойно нахмуренном лице; завязанные узлом шторы обвисли по краям карниза бесполезными тряпками, и лунный свет заливал комнату. А она просто протиснулась в приоткрытые створки. Мягко зашуршали серые перья, когда нечто сгорбленное соскользнуло с подоконника ртутным перекатом. Еле слышно клацнули когти, переступая по скрипучим доскам. Крупное, размером с пятилетнего ребенка, оно взгромоздилось в изголовье кровати, взмахивая крыльями, и нависло короткоклювым старушечьим ликом своим над приоткрытым ртом дяди Андрея. Тот всхрапнул беспокойно, но лишь еще больше запрокинул голову. Волосатая грудь с синими церковными куполами возле сердца вздымалась мерно. Нечто развело крылья, изогнутыми когтями на концах впиваясь в деревянное изголовье кровати, стало похожим на летучую мышь. Широкие черные ямы на месте глаз отыскали застывшего в дверном проеме мальчика. Словно в недоброй улыбке раскрылся клюв, роняя первое тихое «ку-ку!». По ногам Владика, журча, хлынул горячий ручей. Когда нечто, все так же горбясь, вскарабкалось обратно на подоконник и, раскинув крылья, кануло вниз, Владик, сняв мокрые тапочки, прошел в ванную. Его трясло, но он старательно застирал трусы, отжал и затолкал их в самый низ ящика с грязной одеждой. Мать туда доберется нескоро. Обмотав бедра полотенцем, он вернулся к спальне с тряпкой и ведром и в темноте, стараясь не дышать слишком громко, отмыл пол. Тапки засыпал порошком и оставил в ведре отмокать. В детской Владик на ощупь отыскал чистые трусы, забился под одеяло и дрожал, кутаясь и пряча голову под подушку. Кристальная ясность понимания сжигала изнутри. Если тогда, в лесу, он сделал нечто, чего делать, возможно, не стоило, то сейчас совершил нечто запрещенное. Он исчел жизнь человеческую вместе с серой вещуньей, и число то было двадцать четыре. Ровно столько лет оставалось дяде Андрею, Которого-Нельзя-Называть-Папой, коптить небеса этого мира. И ровно столько лет вещунья заберет у Владика, чтобы срок тот вышел еще до Нового года.* * *
Староста группы, длинноволосый очкарик Саня Савелов, как-то сказал ему: – Иногда, Влад, ты на людей смотришь, как на говно. Он ошибался. Все одногруппники ошибались. В его взгляде отродясь не водилось презрения. Только мудрое сожаление поэта, наблюдающего за мотыльками-однодневками. Та ночная сделка, о которой он вспоминал все реже, да и то исключительно как о дурном сне, отняла у Влада почти четверть века. Однако он не унывал, ведь оставшегося хватило бы на две человеческие жизни. Это были его две жизни, и разбрасываться ими он не собирался. Детские глупости остались в детстве. Практически исчезли вместе с кошмарными пробуждениями посреди ночи и подозрительным отношением к открытым окнам. Тем более что смерть дяди Андрея, через пару месяцев по пьяни замерзшего у гаражей, не принесла желаемого освобождения. Мать продолжала выпивать, а постоянный мужчина сменился вереницей случайных. На фоне некоторых дядя Андрей вспоминался Владу как, в общем-то, неплохой мужик. Странным образом мать удерживалась на самом краю пропасти, за которым следовало падение на то дно, что входит в сферу интересов службы опеки. При всех маминых загулах сыновья ее не голодали и были одеты, хотя гардероб их разнообразием не отличался. Влад действительно не понимал, каким чудом она дотянула до его совершеннолетия, не допившись до цирроза, или той стадии, когда продать что-нибудь из домашних вещей, чтобы купить бутылку, начинает казаться неплохой идеей. Ровно до совершеннолетия. А потом… – Вла-а-ади-и-ик! Вла-а-ади-и-ик?! Зажав телефон между плечом и ухом, Влад плотно прикрыл кухонную дверь. – Опять орет? – спросила трубка голосом Тёмки. – Орет. Врачиха приходила, дала каких-то таблеток, сказала, получше будет. Ни фига не лучше, только хуже, по-моему. – Капризничает! – авторитетно заявил Тёмка. – Внимания хочет. – Перехочет… – Влад помялся, авансом коря себя за лебезящие нотки, но все же спросил: – Тём, ты же приедешь? Присмотришь за ней эту неделю? Он почти не удивился, почти не ощутил ненависти, услышав: – Слушай, старик, как раз об этом хотел. Короче, не срастается. Ленка моя уперлась рогом, к родакам своим на Новый год тащит. Типа, пора знакомиться… Он лишь обронил тихо и безэмоционально: – Сука, ты же обещал. – Чё обещал?! Чё обещал-то?! – окрысился Тёмка. – Сказал – постараюсь! Я постарался, не получилось, какие вопросы?! – Влад промолчал, и эта покорность окончательно вывела брата из себя. – Слушай, старик, мне реально некогда тебе сопли подтирать! Мне свою жизнь устраивать надо. Я и без того с вами столько возился… – Нет. Не возился, – сказал Влад и нажал отбой. Хотя сказать – заорать – хотел совершенно иное. Крохотное заклинание, отмеряющее жизненный срок этого неблагодарного говнюка, бросившего его один на один с больной матерью. Скрипнув зубами, Влад пинком распахнул дверь. – Вла-а-ади-и-ик?! Пальцы приласкали покрытый трещинами экран смартфона, вызывая к жизни групповой университетский чат. Бегло просмотрев последние сообщения, Влад отстучал, злобно вбивая пальцы в виртуальную клавиатуру: «Не смогу поехать. Извините», четырьмя словами перечеркнув почти полгода подготовки, планирования, ожиданий и экономии на всем, чем только можно. – Вла-а-ади-и-ик?! Мать скинула одеяло на пол, требовательно молотя по кровати культями ног. Всегда так делала, желая побесить Влада: дескать, смотрите, до чего вы меня довели. Мысль, что в цепочке «алкоголизм – диабет – ампутация ступней» нет вины ее детей, мать если и посещала, то очень, очень давно. – Пришел наконец! Оторвался от дел, ваше царское величество! – Мать с ненавистью прожгла сына мутными от обезболивающего глазами. – Я ору, глотку срываю, а они там за-а-аняты. Сдохну тут, никто и не почешется… Влад привычно выкрутил звук на минимум. Живя с матерью, давно научился так делать. Беззвучно шевелились кривящиеся губы, похожие на высохших червяков. Влад подносил к ним таблетки, воду, пищу и представлял себя чернокожим аборигеном, просящим милости у злобного божества. Мать слабо цеплялась за его футболку, делала плаксивое лицо, подставляя руку для укола инсулина, а Влад пребывал в божественной тишине, где самым громким звуком оставались звуки его мыслей. Стук упавшего на пол стакана все же вывел его из транса. Следом, разлетевшись на две части, грохнулся пульт, шурша шлепнулись блистеры с таблетками. Запрокинув голову, мать рыдала. Должно быть, опять просила купить выпивки, а он проигнорировал. Подавив тяжелый вздох, Влад молча ушел в свою комнату. Экран телефона разделили всплывающие сообщения в «Телеграм». Тёмка, не найдя смелости общаться живьем, написал: «Слушай ну прасти. Риально нисмогу. Не кисни ёпть поедеш еще со своими заучками. Сам падумай многа ей там осталось. Год два максимум». За стеной крики и причитания потонули в многоголосой перепалке шоу Малахова. Надо же, беспомощная, безногая, а до пульта добралась. Тёмке хорошо говорить: год-два. Он к этому аду даже не приближается, последний раз на день рождения матери не приехал даже, только позвонил ей. Групповой чат пестрел сообщениями однокурсников. «Влад, очень жаль». «Блин, ну чё за дела?! Всей группой же собирались?!» «Так и знала, что кто-то сольется, но не думала, что ты». И только староста Саня Савёлов догадался спросить: «Влад, у тебя случилось что-то?» Буквы расплывались перед глазами. Одинокая капля шлепнулась на экран, поползла по чату, оставляя влажный улиточный след. От этого простого, едва проявленного участия Владу вдруг стало жалко себя, своих бесцельно уходящих лет. Сколько ей там осталось? Пусть больше, пусть три, даже пять, это же не так много… Прислонясь разгоряченным лбом к стене, давя рвущие грудь всхлипы, Влад набрал: «У меня мать умерла». И, боясь передумать, торопливо прошептал в скрытый обоями холодный бетон: – Кукушка-кукушка…* * *
К ночи маятник настроения качнулся в другую сторону, из подавленного превратился в нечто сродни новогоднему томлению, которого Влад не ощущал уже давно. Он подготовился заранее. Заставил мать принять двойную дозу седативного, укрыл теплым одеялом, оставив открытым только лицо. Зима стояла мягкая, а батареи шпарили, как в аду, но из-за распахнутой форточки комнату выстудило за полчаса. В темноте, сидя в продавленном кресле, хранящем на подлокотниках отпечатки сигаретных ожогов, Влад, точно маленький мальчик, поджал под себя ноги и закутался в покрывало. Тихонько похрапывала мать. Еле слышно болтал телевизор соседей снизу. От окна в комнату тянулись корявые тени. Ощущение близящегося чуда стало почти физическим. Резкими щелчками разносясь в каньоне спящих девятиэтажек, захлопали крылья. Сгорбленный силуэт проступил на светлом квадрате окна. Скрипнули по стеклу когти, помогая существу протиснуться в форточку. По-птичьи наклонилась округлая голова, обводя комнату внимательным взглядом. В своем укрытии Влад сжался, теснее стянул края пахнущего пылью покрывала, оставил только щелочку для глаз. Существо спрыгнуло в комнату. Расправив крылья, мягко погасило инерцию, уселось матери на грудь. Мать вздрогнула в своем коконе, попыталась высвободить руку, но когтистые пальцы сдавили ее тело, припечатали к кровати. Падающий от окна свет позволял разглядеть сетчатые русла глубоких морщин, прорезающих старческое лицо, так похожее на человеческое. Клюв раскрылся… «Раз-два, – мысленно перевел для себя Влад, трясясь от внезапного озноба. – Год-другой». Морщинистый лик на мгновение обернулся к нему. Тени от массивных надбровных дуг скрывали глаза, но Влад готов был поклясться, что они смеются над доверчивым дурачком, что вновь призвал недоступные его разумению силы. Клюв вещуньи почти коснулся приоткрытого рта матери, укрытая серыми перьями грудь расширилась, набирая побольше воздуха. – Нет… – прошептал Влад. – Нет… И хотя голосу вещуньи был подвластен лишь один слог, Влад понимал самую суть этих звуков, пропитанных злобным ехидством. «Да! О да! Я. Отберу. У тебя. Всё». Год-другой. Год-другой. Вот уже восемь. Вот и двенадцать. Влад выскочил из своего укрытия, силясь заорать, но спазм сдавил стенки горла, позволяя протискиваться лишь обрывочным хрипам. «Не надо! Стой! Я передумал!» Не смея приблизиться, оборвать таинство отнятия жизни, он скакал вокруг кровати, рубя руками прохладный воздух. Да только где там напугать саму Вечность? Вкрадчивый голос терзал Влада, пронзал уши ржавыми гвоздями, и не было возможности отрешиться, уйти в себя, как сотни раз уходил он от материнских упреков. Вот бы не слышать! Вот бы перестать слы… Решение оформилось внезапно. Подгоняемый безостановочным кукованием – двадцать два! двадцать четыре! – он опрометью кинулся в прихожую, где в старом встроенном шкафу лежал ящик с инструментами. В темноте, ощупью, трясущиеся пальцы сорвали промасленную оберточную бумагу с пачки гвоздей-двухсоток. Кажется, их положил сюда еще дядя Андрей, а вот поди ж ты, только сейчас понадобились. Голос вещуньи долетал и сюда, четкий и звонкий. Холодные острия гвоздей легли в ушные проемы. Влад знал, что духу у него не хватит на два захода и делать нужно разом, быстро, наверняка. Он вдохнул, будто перед прыжком в воду, и нажал, резко проталкивая гвозди внутрь. Голова взорвалась болью, даже зубы заныли, реальность задрожала алым маревом. Но вместе с тем пришло ощущение безмятежного спокойствия, словно добрый доктор поставил последний, пусть и очень болезненный стежок, стягивающий рану, через которую вытекала жизнь. Влад вдруг понял, что кричит, захлебывается от боли и страха, но слышит это лишь нутром. Только потому, что привык слышать и знает, как звучит крик. Окровавленные гвозди упали на пол, беззвучно запрыгали по старым доскам. С двух сторон по шее щекотно текло что-то горячее. Посреди звенящей тишины, шатаясь и придерживаясь за стены, Влад вошел в материнскую спальню. Звуки пропали. Не только ненавистный, леденящий нутро клекот вещуньи, но и стук шагов, шум ночной улицы, дыхание спящего многоквартирного дома да и его, Влада, собственное дыхание. Вообще все. А с ними пропала и небывалая птица с лицом древней старухи. Рука матери безвольно свешивалась до самого пола. Край приоткрытого рта блестел от засохшей слюны, сухие губы обметал похожий на мел белый налет. Воздух в комнате совсем остыл, но мать, словно ей было жарко, сбила одеяла на животе, выставив наружу с одной стороны плечи с бретельками ночной сорочки, с другой – бледные культи ног. В ложбинке грудей лежал крохотный металлический крестик. Лежал абсолютно неподвижно, потому что мать не дышала. Рыдания прорвались сквозь стиснутое спазмами горло, не слышимые никем. Влад смотрел на мертвую мать и рыдал от жалости к себе. Ему двадцать, он наконец-то свободен, и жить бы ему до ста и дольше, но нет. Тридцати восьми лет как не бывало. И теперь придется таиться, чтобы сохранить то, что удалось спасти.* * *
Той весной он, по наитию, впервые дал то странное объявление на охотничьем форуме: мол, скупаю кукушек, тушками. Какой-то остряк мгновенно зарифмовал, и в ветке, даже после того, как объявление стало неактуальным, еще долго куражились над двинутым заказчиком. Только один отнесся к делу серьезно. Вскоре Влад понял, что достаточно только перьев и, если накинуть Охотнику сверху, можно избавиться от мороки с ощипыванием и утилизацией. Благодаря подушке, набитой серыми перьями, кошмарам ход был заказан. Страж с ружьем очищал леса от страшных тварей. Влад каждую ночь спал как младенец. Он прозевал тот момент, когда деньги перестали быть проблемой. У него появился дорогой мощный компьютер и счет в банке, а ипотеку за двушку в новостройке Влад закрыл за год. Сразу после смерти матери ему повезло устроиться на удаленку в крупную московскую контору с головной где-то в Ирландии. Контора, в духе времени, чутко относилась к его инвалидности. Даже предлагала оплатить операцию по восстановлению слуха, и Влад приложил немало усилий, чтобы сохранить свой кокон тишины. Мир, куда не долетит зловещий зов кукушки. Сотрудником он действительно был ответственным и ценным. Всегда на посту, готов прийти на помощь, и мало кто задумывался, отчего так. Почему молодой мужчина, образованный, не урод, заперся в четырех стенах, точно монах-отшельник. Впрочем, монахом Влад отнюдь не был. Да, не о такой жизни он грезил, задыхаясь в родительском доме, но всемогущий Интернет с лихвой компенсировал ему отсутствие путешествий и живого общения. Так было даже проще, не приходилось размахивать перед лицом табличкой «Извините, я глухой и не слышу вас». Интернет подарил Владу иные страны и даже иные миры, терабайты фильмов, игр и книг. Доставка работала исправно, наполняя холодильник едой, аптечку лекарствами, а шкаф одеждой. Разве что мусор по-прежнему приходилось выносить самому. Ночью. Оглядываясь, не крадется ли за спиной кто-то из мерзких любопытных тварей, живущих по соседству. Снаружи таилась опасность. Влад знал, что сыграл не по правилам и крепко обидел вещую птицу. Он не открывал окна. А еще не болел, содержал квартиру в чистоте, сам делал мелкий ремонт, только бы не впускать никого в свою крепость, где, если он не обманулся в расчетах, мог спокойно прожить еще девяносто шесть лет. Вопрос интимных потребностей тоже снял Интернет. Влад решался долго, но в конце концов трясущимися руками заполнил заявку на сайте эскорт-услуг. Он выбирал придирчиво, скрупулезно, и лоб его покрывался испариной, когда он читал анкеты эскортниц с дивными именами: Виолетта, Кассиопея, Клеопатра. Однако сайт прислал ему обезличенное письмо с одной-единственной анкетой. Девушку звали Алина, это имя показалось Владу максимально реальным, непохожим на псевдоним. Хотя трудно было представить, что кто-то станет заниматься… этим… под своим настоящим именем. Куцая анкета Алины содержала лишь возраст и одно-единственное многозначительное слово «классика», что на фоне предложений ее коллег выглядело чуть ли не целомудренно. Рыжие, почти красные волосы, короткими острыми прядями, неброский, но умелый макияж, красивая длинная шея, тонкие брови и лепные скулы делали ее бледное лицо фарфорово-хрупким. Влад придумал историю, в которой Алина была француженкой, приехавшей учиться по обмену и застрявшей среди серых панелек, вдали от родных Елисейских Полей и Эйфелевой башни. Реальность наверняка была куда прозаичнее, но Влад ни о чем не спрашивал. Не хотел знать. Влад и привязываться не хотел, но в самый первый вечер Алина, едва оказавшись в его прихожей, достала из кармана желтый стикер с короткой фразой, второпях написанной смешными печатными буквами: «Привет! Я Алина», чем окончательно покорила Влада. Нет. Нет… Окончательно она покорила его, когда достала из сумочки ручку и, пряча лукавую улыбку, дописала: «А ты симпатичный!» В первый раз она сделала все сама. Сперва это был просто секс. Неуклюжий, торопливый, бестолковый секс вчерашнего девственника, после которого, большую часть оплаченного времени, Алина прижималась к Владу и гладила его бедро, спину, касалась волос и улыбалась так понимающе, что хотелось заплакать. То есть Влад убеждал себя, что это просто секс. Но уже тогда понимал, что безбожно врет. А однажды Алина, восхитительно обнаженная и растрепанная, отстранилась от Влада и потянулась к сумочке. В ее руках оказались планшет и стилос. Влада охватило такое смятение, какого он не испытывал, даже когда впервые увидел Алину голой. «Поболтаем?» – чернело на белом фоне электронного листа. И Влад пропал окончательно. Они болтали обо всем на свете, и ночь пролетала незаметно, и не нужна была подушка, набитая серыми перьями, чтобы отогнать страх. «Нет, не читала. „На игле“ смотрела, это же по нему снято?» «Я однажды была в Праге, там очень красиво. Ты должен как-нибудь выбраться». «Как-то пробовала сдать на права, но оказалось, что я боюсь машин, представляешь?!» «Старые „Звездные войны“ классные, да, но „Мандалорец“ такой милый!» «Ты знаешь, Достоевского я только после школы распробовала. „Преступление и наказание“ очень глубокая книга. Мне кажется, зря ею школьников пичкают. Они и половину не поймут». Алина обладала редким даром поддерживать любой разговор, любую тему. Она искренне интересовалась незнакомыми вещами и не стеснялась переспрашивать, если не понимала. Влад знал, что это всего лишь работа. Его деньги перетекали в ее время. Но визиты Алины становились все продолжительнее, и, начав с одной встречи в неделю, они незаметно перешли на три. «У тебя и консоль есть? А там можно играть вдвоем?» И они играли вдвоем. «Слушай, так неловко, но, кажется, я проголодалась…» И на кухне, не знающей женской руки, Алина, пританцовывая и беззвучно смеясь, в чем мать родила готовила им поздний ужин. «Научишь меня? Это сложно?» И Влад с замирающим сердцем складывал ее тонкие пальцы в фигуры ручной азбуки глухих. Язык жестов давался Алине легко. Когда дело касалось простых предложений – поужинать, посмотреть фильм, заняться сексом, планшет все чаще оказывался не у дел. Иногда Влад фантазировал, как находит ее сутенера и меняет свои годы жизни на его, освобождая Алину. В мечтах Влад был мстителем в маске, тайным супергероем, но Алина, конечно, обо всем догадывалась и, со слезами на глазах, благодарила спасителя. Но в первый день весны Алина перекрасилась, и мечты сгорели, оставив по себе лишь жирный пепел. Такой же серый, как новый цвет ее волос. Влад как раз собирался написать Охотнику, подтверждая контракт. Его отвлекло новое сообщение в мессенджере, селфи от Алины с подписью: «Как тебе мой новый облик?» С фотографии на него смотрела незнакомая женщина с птичьими заострившимися чертами лица. Короткие острые пряди больше не напоминали языки огня. Они походили на перья. Как те, что туго набивали его подушку. Те, которые давно пора было сменить. Влад схватился за голову. Вены на висках пульсировали под пальцами. «Блииин… Тебе не понравилось?» Она почувствовала или просто отреагировала на долгое молчание. Влад сглотнул застрявший в горле ком и почувствовал себя лучше. Словно тот мешал ему ответить. Мешал говорить. «Раньше было лучше» «Вот засада! Девочки в один голос сказали, что так необычнее и свежее. Вот козы! Прибью их!» Глядя, как помаргивает троеточие набираемого сообщения, Влад молчал. Ему нечего было сказать этой чужой женщине с клювом вместо носа. «Сегодня как обычно? У меня для тебя сюрприз! Отметим год наших… партнерских отношений». Видимо, сообразив, что сказала, Алина густо пересыпала сообщение смайлами. Влад хотел написать: «Нет! Не приходи сюда больше! Забудь дорогу в мой дом!» Но вместо этого написал: «Ок». Бесполезно. Она ведь уже знает сюда дорогу! Лучше… подготовиться. Взять, к примеру, молоток. Да, молоток подойдет. «Не переживай насчет волос. Я что-нибудь придумаю», – написала Алина. «Я и не переживаю», – ответил Влад. И не врал. Он уже все придумал.* * *
Алина вошла в его дом, в его крепость, такая же, как прежде. Хитро подмигнув, она покрутила головой, давая Владу возможность оценить ярко-оранжевую бандану с «огурцами». «Ну как?» – спросили ее пальцы. Пряча молоток за спиной, Влад неожиданно для себя ответил: «Да, так лучше. Гораздо». Он чувствовал себя донельзя нелепо, словно маньяк из дешевого ужастика. Двигаясь боком, он пропустил Алину в комнату и торопливо спрятал молоток на полке с обувью. Да что на него нашло? Вот же она, его Алина! Она достала планшет. «Я могу ее сегодня не снимать, если ты понимаешь, о чем я. А уже завтра все будет, как прежде» Взвесив на руке черный непроницаемый пакет, Алина игриво приподняла брови. «Пойдем! Сюрприз, помнишь?» В пакете оказалась бутылка вина, дорогого даже на вид. «И лучше не спрашивай, сколько оно стоило!» Алина улыбнулась, жестом попросила достать бокалы. Пока Влад нарезал сыр, мыл фрукты, она открыла бутылку, разлила, оставила «подышать». На вкус вино оказалось… как вино, Влад в этом не сильно разбирался. Все еще чувствуя себя виноватым, он послушно прикончил бокал, только чтобы порадовать Алину. От пережитого стресса ему страшно хотелось спать. Лицо Алины плыло у него перед глазами. Влад не мог думать ни о чем, кроме того, что вот сейчас они допьют эту дорогую кислятину и отправятся в кровать. Без ласк, без секса, просто спать, прижимаясь друг к другу. Он даже попытался встать, но вино оказалось коварным, ноги не слушались. Влад расплылся по креслу и не то сполз, не то свалился на пол. Лицо Алины заслонило потолок, заслонило весь мир. Пальцы ее беззвучно пощелкали перед его носом. Алина скривила губы, что-то сказала, и Влад, который всегда плохо читал по губам, неожиданно понял все, от слова до слова. Понял, вспомнил и похолодел. – Ха… Городской мальчик! Влад попытался зажмуриться, но его не слушались даже веки – тяжеленные каменные плиты не хотели закрывать глаза. – Не злись на меня, пожалуйста! – бормотала Алина, усаживаясь ему на грудь. – Но ты ведь сам, помнишь? Ты сам обещал со мной поделиться! А она разрешила! Она сказала, можно! А мне жить год осталось! Год, понимаешь ты?! Крашенные в серый перья выбились из-под красной банданы. Заострился нос, глаза утратили блеск. Алина склонилась над Владом. Неуверенно оттопырила средний и указательный пальцы, словно священник, благословляющий паству. Пальцы качнулись, завершая фигуру, и тут же сложились в следующую: большой и мизинец смотрят в стороны, остальные поджаты. И тут же повторила, уже быстрее. «Ку-ку!» – прочел Влад. «Ку-ку!» «Ку-ку!..»Ярослав Землянухин. Никодим
 Никодим проснулся оттого, что кто-то, старательно отфыркиваясь и урча, пил молоко из его миски. Неужто соседский Васька снова пробрался в избу? Неча чужому коту делать в его, Никодима, доме.
Пришлось вылезти из-за печки, из теплого гнездышка, которое он свил у пристенка. Хозяйка, конечно, сюда не заглядывала, но береженого Чур бережет. Спрыгнул на пол меховыми лапками, по половицам идти было просто, он знал каждую из них – третья скрипит, шестая лежит кривенько, все хозяин Торчин ее не подгонит. А сам вона спит, храпака такого дает, что крышу сейчас сдует. Хозяйка вчерась третьим чадом разрешилась, вот папашка и накидался то ли от радости, то ли от горя. И так два рта есть просят, а с самим Торчином и хозяйкой четыре получается. Куда еще один-то? Тьфу! Никодим беззвучно сплюнул и тут же проверил, что ничего не попало на больную половицу. А то где это видано, чтоб домовой в собственном жилище грязюку наводил?!
Он прислушался: сердце дома тукало быстрее, чем обычно, – дом чувствовал чужого в своем нутре.
От миски, в которую Глашка, добрая душа, изредка плескала несколько глотков припасенного после скудной трапезы молока, несло сильнее, чем от хозяина поутру. В скисшей бурде плавали белые с желтыми прожилками сгустки. За спиной что-то протарабанило по деревянным половицам. Никодим обернулся: в подвешенной так, чтобы хозяйка могла баюкать, не вставая с кровати, колыбели забарахтались две ноги и исчезли под пологом.
Что такое? Не могут человечьи дети в первую же ночь по избе бегать и молоко портить! Никодим неслышно проскользнул к люльке, на миг задержался, залюбовался прикорнувшей на сундуке Глашкой, цепкими лапами взобрался по стене и навис над новорожденным.
В люльке лежал подменыш. Торчал нос-сучок, черные глубокие буркалы пялились на Никодима, беззубый рот – надруб на коре – по-рыбьи раззявился.
Вот те на! Полешка! Подменили! Где это видано, чтобы при живом домовом другая нечисть в избе хозяйничала?!
Полешка пошевелил ручками-обрубками и закричал. Только не так, как кричат младенцы, когда им холодно или голодно, а так, чтобы напугать Никодима, поднять на уши всю избу. Первой вскочила хозяйка. Затуманенными от сна глазами нащупала Никодима.
– Крыса! – истошно завопила она и с редчайшей ловкостью взметнулась на лавку.
Никодим ссыпался по стене. Вмиг вскочил старшой, Ивашка, дернул из-под лавки чурку. Бросился в одном исподнем на середину дома.
Громыхнуло ночное ведро и с лязгом покатилось. Воспользовавшись этим, Никодим прыгнул в угол, заволок Ивашке глаза так, что тот увидел лишь толстую паутину, растянувшуюся от одной стены до другой.
– Что там, Вань? – прошептала со своего сундука Глаша.
– Да ничего, грязюка… Етить ее! – отмахнулся Ивашка. – Завтра подметешь.
– Ага, – покорно кивнула сестра.
– А крыса?.. – протянула с лавки хозяйка, все еще сминая в кулаках подол.
– Убежала, скотина.
Хозяйка осторожно спустилась на пол, который заскрипел под массивным телом. Полешка орал и бесновался в колыбели.
– Ты мое дитятко, сейчас кушать дам! – запричитала ничего не подозревающая мать, доставая налитую молоком сиську. Она сунула руку под полог и осеклась на полуслове.
Еще один душераздирающий вопль заставил дом вздрогнуть. Так, что даже хозяин, которого не тронул крысиный переполох, теперь сел, косо оглядываясь.
Никодим воспользовался тем, что домашние бросились к колыбели, и прыгнул в подпол, откуда через черный ход выкатился во двор.
Снаружи его била мелкая дрожь. Изредка, конечно, во двор Никодим выходил, но сразу становилось не по себе, если покидал дом, который укрывал, кормил и давал силу. Домушка закутался поплотнее в зипун.
К баннику надо идти за советом. Вот кто ночью бдит сквозь слюдяное оконце и все чует. Кто мог несмышленыша умыкнуть? Да хоть кто! Может, хапун, следящий из темноты за людьми, или бабай, что в полночь гремит костями в мешке, или кикимора неприкаянная. На ребеночке-то креста нет – любая нечисть норовит к нему лапы протянуть.
Банник будет и постарше, и помудрее, глядишь, чего дельного скажет. Да только дать взамен неча, а ведь он попросит, даже не попросит: потребует.
Ветер набрасывался на верхушки деревьев так, что те со стоном клонились над домовым, норовили накрыть его колючими кронами, но в последний момент какая-то сила выпрямляла их, и только сухие листья долетали до земли. Зарычал старый пес Аркан, тут же подавился лаем, признав своих. Замолотил хвостом, положив морду на худые лапы.
Баня стояла в глубине двора. Низкий сруб с единственным окном и черной крышей косился под тяжестью лет, косился, да все никак не падал. Эх, хозяин безрукий сделался! Вся надежда на Ивашку, тот, глядишь, подрастет – станет по хозяйству помогать.
Тяжело поддалась осевшая, обитая клоками старой пакли дверь. Внутри пахло сыростью. Прямоугольник окна пропускал лунный свет, другого освещения не было.
Из угла послышался скрёб. По дереву застучали три пары ног. Никодим замер. Над ухом заклокотало, засопело, обнюхивая его.
Наконец сопение прекратилось.
– Братушка пожаловал… – прошипел тихий голос.
– Здрав будь, банник. – Слова упали в темноту.
– Нечасто братушка старого обдирника [106] навещает, нечасто в гости заходит. А обдирнику даже угостить нечем, на стол неча поставить. Хозяева до угощения жадные стали. Приходится старому кишки узлом связать да мух залетных вылавливать.
– Прав ты, банник, – кивнул Никодим. – От них и раньше-то негусто было, а теперь вообще про нас забыли. Только Глашка, та хоть молоко выставляет.
Они помолчали. Каждый подумал о своем.
– Так с чем ты пожаловал к обдирнику? – раздался вопрос уже из другого угла.
– Ты бы огонек какой затеплил. Не все к темноте, как ты, привычны, – сказал Никодим.
В ответ закряхтело, зашмыгало. Вспыхнула свеча. На стене заплясала тень банника, такая же уродливая и кривая, как ее хозяин. У него было шесть паучьих лап. Каждая оканчивалась мохнатой ладонью, которыми он тискал за срам слишком любопытных девиц, охочих до ворожбы. Интересно, Глашка ходила к нему на суженого гадать? Передернуло от мысли, что и ее касалась омерзительная рука.
Никодим взглянул на щуплое тело, которое уместилось между мосластыми суставами, вытянутую, всю состоящую из морщин морду, огромные закрученные улиткой уши.
Баннику не нужен был свет – у него не было глаз. Какой только нечисти не ходит по земле! Никодим порой забывал, что и сам-то из ее числа. Он степенно откашлялся, стряхнул с зипуна несуществующую пылинку и спросил:
– Ты же знаешь, что хозяйка разрешилась младенчиком.
– Как не знать-то? Тут и рожала, а помогала ей Анисья. Крику было… Уши впору паклей забить. Анисья говорит ей: «Дыши, как учила!» А та только орет, что твой упырь на болоте. А потом Торчин на Анисью орал во дворе. И чего шумел, спрашивается, ведь младенчик-то здоровым вышел. Как он нынче?
– Да вот по этому делу я к тебе и пришел. Полешкой его подменили!
Лицо банника сморщилось еще больше:
– Ах вот оно что… Вот чего она шастала
– Кто? Кто шастала, обдирник?
Банник приблизил безобразные губы к уху домового и зашептал, хотя слушать их было некому:
– Как луна взошла сегодня, так кикимора во дворе шастала. Обдирник тут же почуял неладное.
– Откуда тебе знать, кто это был? Ты же отроду незрячий.
Банник отпрянул, оттопырил нижнюю губу, оскалив коричневые зубы, – видать, задел его Никодим.
– Обдирник любого духа за версту учует! – заклокотал он.
– Ладно-ладно, соседушка, прости старого! – Домовой приподнял раскрытые руки, призывая к мировой.
– А как она подпевать начала, так сразу понял: точно кикимора из горелого дома. – Банник завыл: – Крутись пряльце, шейся пряжа…
Надо было уходить, соседушка отвлекся на эту вздорную песню. Никодим бочком-бочком пошел к выходу. Лишь бы не почуял.
– …вейся ведьмин куделек… – заканчивал банник.
Навострил огромное ухо и тотчас прыгнул. Заметил! Свеча потухла от резкого порыва.
– Куда это ты, братушка? А подарочки? – донеслось из темноты.
– Не принес ничего, сосед. Ты же знаешь, как оно бывает. – С этими словами домовой нащупывал спиной дверь. Перекидываться в паутину или плесень какую не имело смысла, все равно найдет по звуку и запаху.
– Ты знаешь правила…
– В следующий раз я тебе вдвойне принесу!
Холодная сырая темнота молчала. Никодим сделал еще пару шагов. Вот уже, кажется, дверная пакля щекотнула шею.
– Нет! – рявкнул над ухом хриплый голос.
Четыре лапы повалили домового, еще две вцепились в горло, принялись душить. Банник держал крепко.
От смрадного дыхания запершило в горле, безглазая морда была совсем рядом. Они боролись, пока Никодиму не удалось высвободить руку. Бил он наугад туда, откуда слышалось сопение.
– На! – Кулачок скользнул по колючей щетине и провалился в пустоту. – На! – выдавил домовой еще раз, и второй удар достиг цели – уродливого уха. Лапы, прижимающие его к полу, ослабли.
Это дало возможность вывернуть тело, и, приподнявшись, Никодим гаркнул. Злобно, громко. Словом, которым чертей да прочую нечисть клянут. Это охладило банника, который со скулением отбежал в угол. Мигом стал жалким уродцем, баюкающим огромные уши паучьими лапами.
Так далеко Никодим не ходил, домовые вообще редко от хозяйства отлучаются. А теперь двор со скучающим Арканом, злополучная баня, из которой еле удалось вырваться, – все это осталось за спиной. Впереди петляла изгрызенная колдобинами сельская дорога, мертвенно-синяя от лунного света. Ветер гулял по верхушкам деревьев. Среди веток что-то шебуршало, кто-то пару раз недовольно хрюкнул. Может, кабан торил тропу в поисках человечьего огорода или какой мелкий бес подглядывал, дивился, что домовой ночами бродит. Над головой застонало. Схватило когтищами за шею. Никодим подпрыгнул и юркнул в заросли крапивы. Там, где он стоял, что-то медленно, с хрустом осыпалось. Замолкло. Да что же за напасть такая на голову прыгает?!
Долго не решался вернуться на дорогу, все потирал расцарапанную кожу да ждал, что этот, который свалился, себя проявит. Набрался смелости и выглянул. Ба! Да это же ветку ветер переломил. Коря себя за малодушие, Никодим отправился дальше.
Пожарище старого дома возвышалось на краю села обломками черных зубов. Раньше, когда дом еще стоял, там жил свой домушка, а как туда занесло кикимору, никто и не знал. Но случилась между ними война, да такая, что домушник исчез. Позже соседский Васька принес новость: дескать, видел он рядом с болотами армяк окровавленный как раз домовому впору. А потом дом сгорел. Никто не знает, что там случилось: может, хозяева новой шишиге [107] не угодили, а может, она сама недоглядела, только под утро вытащили оттуда всю семью обгорелков. С тех пор и живет кикимора одинешенька средь горелых стен.
– Крутись пряльце, шейся пряжа, вейся ведьмин куделек… – доносил ветер с пожарища скрипучий напев.
Никодим поморщился. Вот Глашка напевала, когда по хозяйству возилась, так, что однажды он заслушался, засмотрелся в ее синие глаза да чуть из-за печки не вывалился. Река молочная у нее из уст выходила, а не песнь. А это что?
Домовой тихо заглянул в остатки дверного проема. Кикимора пряла. Худой рукой она крутила веретено, сучила нить справа налево. В свете луны поблескивала исписанная лопатка новенькой прялки. Нить рвалась, кудель мочалилась, но кикимору это не смущало, и она начинала сызнова.
Чуть хрустнули холодные угольки под мохнатой лапой Никодима. Кикимора вздернулась, повела ухом и тотчас слилась со стеной. Только перекатывалось с боку на бок веретено с лохматой пряжей.
– Шишига! – окликнул Никодим. – А ну вылазь!
Звонкий смех разлетелся над пожарищем.
– Не-а!
– Вылазь, кому говорят! Дело есть.
Хохот весенней капелью пропел с другой стороны.
– Не хочешь вылазить – будем так гутарить.
– А ты меня сперва поймай!
Никодим сплюнул, спохватился да вспомнил, что тут и так всё в саже. Прислушался – вдруг сердце дома еще живо. Нет, пожарище молчало, а ведь на мгновение послышался в глубине слабый-слабый тук. Нет. Почудилось все-таки.
– Не хочешь показаться – давай так поговорим…
– Поймай!
– Ох, ёнда [108]! Признавайся: зачем людского ребеночка поленом подменила?!
Шуршание на мгновение смолкло, а потом резко со всех сторон завизжало:
– Поймай! Поймай! Поймай!
Кикимора верещала уже отнюдь не игриво, а злобно, словно пыталась убить голосом. Никодим закрыл уши лапками, от истошного звука свербело в носу. Он медленно побрел, пытаясь укрыться от визга. Теперь понятно, что испытывал банник при громком крике. Никодим споткнулся. На выгоревшем полу валялось все, что оставила кикимора.
– Ну, визгопряха, я сейчас твою пряжу растопчу, а прялку себе заберу и в печке спалю! – заорал он, держа над головой блестящую, почти новенькую прялку с размочаленной куделью.
Что за тишина? Неужто он оглох от этого бешеного ора?
Ан нет, шишига резко заткнулась, и Никодим не сразу смог принять наступившее молчание.
– Отдай куделек, дедушка! – донесся плаксивый голос.
– Выходи! – потряс прялкой домовой.
Угловатый силуэт отделился от стены. Кикимора осторожно выставила перед собой тонкую лапку, потом другую. Чуть встряхнула кустистыми рогами и наклонила голову. Мутные зеленые глаза следили за прялкой.
– Не для себя младенчика украла, – сказала шишига, не отводя взгляда. – На Соромном болоте потопленница мается. Ее хозяин обидел: обрюхатил, а потом не признал.
Внутри у Никодима стрельнуло. Тут же шишига дернулась за прялкой, но домовой оказался быстрее. Он покрепче перехватил ручку и снова удивился, какая та гладкая, будто и не пережила пожар.
Кикимора зашипела, прижалась к земле и продолжила:
– Жалко мне ее стало. А у этих как раз третий появился. Зачем им столько ртов? Вот я им и принесла полешку живого, тот покричит-покричит да издохнет. А младенчика на болота снесла. Пусть горемыка порадуется.
Никодим пристально посмотрел на шишигу. Швырнул ей барахло, та враз прыгнула, накрыла телом и лопатку, и пряжу.
– Дура ты, дура, его же там упыри сожрут! – разъярился на нее Никодим.
Кикимора молчала, уродливые пальцы перебирали кудель.
Никодим проснулся оттого, что кто-то, старательно отфыркиваясь и урча, пил молоко из его миски. Неужто соседский Васька снова пробрался в избу? Неча чужому коту делать в его, Никодима, доме.
Пришлось вылезти из-за печки, из теплого гнездышка, которое он свил у пристенка. Хозяйка, конечно, сюда не заглядывала, но береженого Чур бережет. Спрыгнул на пол меховыми лапками, по половицам идти было просто, он знал каждую из них – третья скрипит, шестая лежит кривенько, все хозяин Торчин ее не подгонит. А сам вона спит, храпака такого дает, что крышу сейчас сдует. Хозяйка вчерась третьим чадом разрешилась, вот папашка и накидался то ли от радости, то ли от горя. И так два рта есть просят, а с самим Торчином и хозяйкой четыре получается. Куда еще один-то? Тьфу! Никодим беззвучно сплюнул и тут же проверил, что ничего не попало на больную половицу. А то где это видано, чтоб домовой в собственном жилище грязюку наводил?!
Он прислушался: сердце дома тукало быстрее, чем обычно, – дом чувствовал чужого в своем нутре.
От миски, в которую Глашка, добрая душа, изредка плескала несколько глотков припасенного после скудной трапезы молока, несло сильнее, чем от хозяина поутру. В скисшей бурде плавали белые с желтыми прожилками сгустки. За спиной что-то протарабанило по деревянным половицам. Никодим обернулся: в подвешенной так, чтобы хозяйка могла баюкать, не вставая с кровати, колыбели забарахтались две ноги и исчезли под пологом.
Что такое? Не могут человечьи дети в первую же ночь по избе бегать и молоко портить! Никодим неслышно проскользнул к люльке, на миг задержался, залюбовался прикорнувшей на сундуке Глашкой, цепкими лапами взобрался по стене и навис над новорожденным.
В люльке лежал подменыш. Торчал нос-сучок, черные глубокие буркалы пялились на Никодима, беззубый рот – надруб на коре – по-рыбьи раззявился.
Вот те на! Полешка! Подменили! Где это видано, чтобы при живом домовом другая нечисть в избе хозяйничала?!
Полешка пошевелил ручками-обрубками и закричал. Только не так, как кричат младенцы, когда им холодно или голодно, а так, чтобы напугать Никодима, поднять на уши всю избу. Первой вскочила хозяйка. Затуманенными от сна глазами нащупала Никодима.
– Крыса! – истошно завопила она и с редчайшей ловкостью взметнулась на лавку.
Никодим ссыпался по стене. Вмиг вскочил старшой, Ивашка, дернул из-под лавки чурку. Бросился в одном исподнем на середину дома.
Громыхнуло ночное ведро и с лязгом покатилось. Воспользовавшись этим, Никодим прыгнул в угол, заволок Ивашке глаза так, что тот увидел лишь толстую паутину, растянувшуюся от одной стены до другой.
– Что там, Вань? – прошептала со своего сундука Глаша.
– Да ничего, грязюка… Етить ее! – отмахнулся Ивашка. – Завтра подметешь.
– Ага, – покорно кивнула сестра.
– А крыса?.. – протянула с лавки хозяйка, все еще сминая в кулаках подол.
– Убежала, скотина.
Хозяйка осторожно спустилась на пол, который заскрипел под массивным телом. Полешка орал и бесновался в колыбели.
– Ты мое дитятко, сейчас кушать дам! – запричитала ничего не подозревающая мать, доставая налитую молоком сиську. Она сунула руку под полог и осеклась на полуслове.
Еще один душераздирающий вопль заставил дом вздрогнуть. Так, что даже хозяин, которого не тронул крысиный переполох, теперь сел, косо оглядываясь.
Никодим воспользовался тем, что домашние бросились к колыбели, и прыгнул в подпол, откуда через черный ход выкатился во двор.
Снаружи его била мелкая дрожь. Изредка, конечно, во двор Никодим выходил, но сразу становилось не по себе, если покидал дом, который укрывал, кормил и давал силу. Домушка закутался поплотнее в зипун.
К баннику надо идти за советом. Вот кто ночью бдит сквозь слюдяное оконце и все чует. Кто мог несмышленыша умыкнуть? Да хоть кто! Может, хапун, следящий из темноты за людьми, или бабай, что в полночь гремит костями в мешке, или кикимора неприкаянная. На ребеночке-то креста нет – любая нечисть норовит к нему лапы протянуть.
Банник будет и постарше, и помудрее, глядишь, чего дельного скажет. Да только дать взамен неча, а ведь он попросит, даже не попросит: потребует.
Ветер набрасывался на верхушки деревьев так, что те со стоном клонились над домовым, норовили накрыть его колючими кронами, но в последний момент какая-то сила выпрямляла их, и только сухие листья долетали до земли. Зарычал старый пес Аркан, тут же подавился лаем, признав своих. Замолотил хвостом, положив морду на худые лапы.
Баня стояла в глубине двора. Низкий сруб с единственным окном и черной крышей косился под тяжестью лет, косился, да все никак не падал. Эх, хозяин безрукий сделался! Вся надежда на Ивашку, тот, глядишь, подрастет – станет по хозяйству помогать.
Тяжело поддалась осевшая, обитая клоками старой пакли дверь. Внутри пахло сыростью. Прямоугольник окна пропускал лунный свет, другого освещения не было.
Из угла послышался скрёб. По дереву застучали три пары ног. Никодим замер. Над ухом заклокотало, засопело, обнюхивая его.
Наконец сопение прекратилось.
– Братушка пожаловал… – прошипел тихий голос.
– Здрав будь, банник. – Слова упали в темноту.
– Нечасто братушка старого обдирника [106] навещает, нечасто в гости заходит. А обдирнику даже угостить нечем, на стол неча поставить. Хозяева до угощения жадные стали. Приходится старому кишки узлом связать да мух залетных вылавливать.
– Прав ты, банник, – кивнул Никодим. – От них и раньше-то негусто было, а теперь вообще про нас забыли. Только Глашка, та хоть молоко выставляет.
Они помолчали. Каждый подумал о своем.
– Так с чем ты пожаловал к обдирнику? – раздался вопрос уже из другого угла.
– Ты бы огонек какой затеплил. Не все к темноте, как ты, привычны, – сказал Никодим.
В ответ закряхтело, зашмыгало. Вспыхнула свеча. На стене заплясала тень банника, такая же уродливая и кривая, как ее хозяин. У него было шесть паучьих лап. Каждая оканчивалась мохнатой ладонью, которыми он тискал за срам слишком любопытных девиц, охочих до ворожбы. Интересно, Глашка ходила к нему на суженого гадать? Передернуло от мысли, что и ее касалась омерзительная рука.
Никодим взглянул на щуплое тело, которое уместилось между мосластыми суставами, вытянутую, всю состоящую из морщин морду, огромные закрученные улиткой уши.
Баннику не нужен был свет – у него не было глаз. Какой только нечисти не ходит по земле! Никодим порой забывал, что и сам-то из ее числа. Он степенно откашлялся, стряхнул с зипуна несуществующую пылинку и спросил:
– Ты же знаешь, что хозяйка разрешилась младенчиком.
– Как не знать-то? Тут и рожала, а помогала ей Анисья. Крику было… Уши впору паклей забить. Анисья говорит ей: «Дыши, как учила!» А та только орет, что твой упырь на болоте. А потом Торчин на Анисью орал во дворе. И чего шумел, спрашивается, ведь младенчик-то здоровым вышел. Как он нынче?
– Да вот по этому делу я к тебе и пришел. Полешкой его подменили!
Лицо банника сморщилось еще больше:
– Ах вот оно что… Вот чего она шастала
– Кто? Кто шастала, обдирник?
Банник приблизил безобразные губы к уху домового и зашептал, хотя слушать их было некому:
– Как луна взошла сегодня, так кикимора во дворе шастала. Обдирник тут же почуял неладное.
– Откуда тебе знать, кто это был? Ты же отроду незрячий.
Банник отпрянул, оттопырил нижнюю губу, оскалив коричневые зубы, – видать, задел его Никодим.
– Обдирник любого духа за версту учует! – заклокотал он.
– Ладно-ладно, соседушка, прости старого! – Домовой приподнял раскрытые руки, призывая к мировой.
– А как она подпевать начала, так сразу понял: точно кикимора из горелого дома. – Банник завыл: – Крутись пряльце, шейся пряжа…
Надо было уходить, соседушка отвлекся на эту вздорную песню. Никодим бочком-бочком пошел к выходу. Лишь бы не почуял.
– …вейся ведьмин куделек… – заканчивал банник.
Навострил огромное ухо и тотчас прыгнул. Заметил! Свеча потухла от резкого порыва.
– Куда это ты, братушка? А подарочки? – донеслось из темноты.
– Не принес ничего, сосед. Ты же знаешь, как оно бывает. – С этими словами домовой нащупывал спиной дверь. Перекидываться в паутину или плесень какую не имело смысла, все равно найдет по звуку и запаху.
– Ты знаешь правила…
– В следующий раз я тебе вдвойне принесу!
Холодная сырая темнота молчала. Никодим сделал еще пару шагов. Вот уже, кажется, дверная пакля щекотнула шею.
– Нет! – рявкнул над ухом хриплый голос.
Четыре лапы повалили домового, еще две вцепились в горло, принялись душить. Банник держал крепко.
От смрадного дыхания запершило в горле, безглазая морда была совсем рядом. Они боролись, пока Никодиму не удалось высвободить руку. Бил он наугад туда, откуда слышалось сопение.
– На! – Кулачок скользнул по колючей щетине и провалился в пустоту. – На! – выдавил домовой еще раз, и второй удар достиг цели – уродливого уха. Лапы, прижимающие его к полу, ослабли.
Это дало возможность вывернуть тело, и, приподнявшись, Никодим гаркнул. Злобно, громко. Словом, которым чертей да прочую нечисть клянут. Это охладило банника, который со скулением отбежал в угол. Мигом стал жалким уродцем, баюкающим огромные уши паучьими лапами.
Так далеко Никодим не ходил, домовые вообще редко от хозяйства отлучаются. А теперь двор со скучающим Арканом, злополучная баня, из которой еле удалось вырваться, – все это осталось за спиной. Впереди петляла изгрызенная колдобинами сельская дорога, мертвенно-синяя от лунного света. Ветер гулял по верхушкам деревьев. Среди веток что-то шебуршало, кто-то пару раз недовольно хрюкнул. Может, кабан торил тропу в поисках человечьего огорода или какой мелкий бес подглядывал, дивился, что домовой ночами бродит. Над головой застонало. Схватило когтищами за шею. Никодим подпрыгнул и юркнул в заросли крапивы. Там, где он стоял, что-то медленно, с хрустом осыпалось. Замолкло. Да что же за напасть такая на голову прыгает?!
Долго не решался вернуться на дорогу, все потирал расцарапанную кожу да ждал, что этот, который свалился, себя проявит. Набрался смелости и выглянул. Ба! Да это же ветку ветер переломил. Коря себя за малодушие, Никодим отправился дальше.
Пожарище старого дома возвышалось на краю села обломками черных зубов. Раньше, когда дом еще стоял, там жил свой домушка, а как туда занесло кикимору, никто и не знал. Но случилась между ними война, да такая, что домушник исчез. Позже соседский Васька принес новость: дескать, видел он рядом с болотами армяк окровавленный как раз домовому впору. А потом дом сгорел. Никто не знает, что там случилось: может, хозяева новой шишиге [107] не угодили, а может, она сама недоглядела, только под утро вытащили оттуда всю семью обгорелков. С тех пор и живет кикимора одинешенька средь горелых стен.
– Крутись пряльце, шейся пряжа, вейся ведьмин куделек… – доносил ветер с пожарища скрипучий напев.
Никодим поморщился. Вот Глашка напевала, когда по хозяйству возилась, так, что однажды он заслушался, засмотрелся в ее синие глаза да чуть из-за печки не вывалился. Река молочная у нее из уст выходила, а не песнь. А это что?
Домовой тихо заглянул в остатки дверного проема. Кикимора пряла. Худой рукой она крутила веретено, сучила нить справа налево. В свете луны поблескивала исписанная лопатка новенькой прялки. Нить рвалась, кудель мочалилась, но кикимору это не смущало, и она начинала сызнова.
Чуть хрустнули холодные угольки под мохнатой лапой Никодима. Кикимора вздернулась, повела ухом и тотчас слилась со стеной. Только перекатывалось с боку на бок веретено с лохматой пряжей.
– Шишига! – окликнул Никодим. – А ну вылазь!
Звонкий смех разлетелся над пожарищем.
– Не-а!
– Вылазь, кому говорят! Дело есть.
Хохот весенней капелью пропел с другой стороны.
– Не хочешь вылазить – будем так гутарить.
– А ты меня сперва поймай!
Никодим сплюнул, спохватился да вспомнил, что тут и так всё в саже. Прислушался – вдруг сердце дома еще живо. Нет, пожарище молчало, а ведь на мгновение послышался в глубине слабый-слабый тук. Нет. Почудилось все-таки.
– Не хочешь показаться – давай так поговорим…
– Поймай!
– Ох, ёнда [108]! Признавайся: зачем людского ребеночка поленом подменила?!
Шуршание на мгновение смолкло, а потом резко со всех сторон завизжало:
– Поймай! Поймай! Поймай!
Кикимора верещала уже отнюдь не игриво, а злобно, словно пыталась убить голосом. Никодим закрыл уши лапками, от истошного звука свербело в носу. Он медленно побрел, пытаясь укрыться от визга. Теперь понятно, что испытывал банник при громком крике. Никодим споткнулся. На выгоревшем полу валялось все, что оставила кикимора.
– Ну, визгопряха, я сейчас твою пряжу растопчу, а прялку себе заберу и в печке спалю! – заорал он, держа над головой блестящую, почти новенькую прялку с размочаленной куделью.
Что за тишина? Неужто он оглох от этого бешеного ора?
Ан нет, шишига резко заткнулась, и Никодим не сразу смог принять наступившее молчание.
– Отдай куделек, дедушка! – донесся плаксивый голос.
– Выходи! – потряс прялкой домовой.
Угловатый силуэт отделился от стены. Кикимора осторожно выставила перед собой тонкую лапку, потом другую. Чуть встряхнула кустистыми рогами и наклонила голову. Мутные зеленые глаза следили за прялкой.
– Не для себя младенчика украла, – сказала шишига, не отводя взгляда. – На Соромном болоте потопленница мается. Ее хозяин обидел: обрюхатил, а потом не признал.
Внутри у Никодима стрельнуло. Тут же шишига дернулась за прялкой, но домовой оказался быстрее. Он покрепче перехватил ручку и снова удивился, какая та гладкая, будто и не пережила пожар.
Кикимора зашипела, прижалась к земле и продолжила:
– Жалко мне ее стало. А у этих как раз третий появился. Зачем им столько ртов? Вот я им и принесла полешку живого, тот покричит-покричит да издохнет. А младенчика на болота снесла. Пусть горемыка порадуется.
Никодим пристально посмотрел на шишигу. Швырнул ей барахло, та враз прыгнула, накрыла телом и лопатку, и пряжу.
– Дура ты, дура, его же там упыри сожрут! – разъярился на нее Никодим.
Кикимора молчала, уродливые пальцы перебирали кудель.
История про Торчина и Пелагею была давней, тогда в доме только первенец появился – Ивашка. Пелагее, златоволосой сельской красавице, в тот год семнадцать исполнилось. Как раз на Ярилин день девки хороводы водили, а парни за ними подсматривали. Среди них был Ждан. Не скрывал он, что Пелагея люба ему, она тоже со дня на день сватов от него ждала и, чтобы на другую глаз не положил, подарила ему волнистый кожаный браслет. А Торчин тогда уже приметил Пелагею. И стало ему неспокойно, захотел обладать ею, гладить ее золотые кудри. Плевать на первенца, плевать на хозяйку, стройную, не раздавшуюся еще молодку. Вот подай ему прямо сейчас красавицу Пелагею, и все тут! Долго крутился перед витым зеркалом, сапоги красные и так и эдак ставил. Кафтан по сто раз разглаживал. Хозяйка, качая младенца на руках, все вздыхала: куда в ночь собрался? Чуяло сердце, что грех на мужниной душе затаился. А тот отнекивался, говорил, что с друзьями гулять идет. А большего-то бабе знать и не надо, да и сама боялась не то что спросить, даже подумать. Хозяин вернулся под утро один. Пьяный и злой. С ободранных рукавов капала вода; красные сапоги торфом вымазаны. Одним словом, из болота вылез. А вот Ждан после той ночи домой не вернулся. Искали его, искали – без толку. Значится, его лес забрал. Пелагея рыдала, волосы на себе рвала, да разве суженого вернешь? Как стала на люди выходить, так Торчин все рядом крутился – то на чарочку зовет, то безделушку сунет, и не смущало его, что в селе шептали, дескать, помог хозяин молодому жениху исчезнуть. Шептали, но вслух сказать боялись. Однажды Торчин вернулся домой с красной, расцарапанной в лохмотья мордой, но довольный, а через пару месяцев пошли слухи, что понесла девка. Пелагея снова в избе заперлась. Еще месяц спустя, как раз первый снег прошел, видели ее утром босой да с наметившимся пузом, шла она к Соромным болотам рано утром. Ушла да и не вернулась, знать, болота ее забрали. Никодим вышел к злополучным топям. Светила полная луна – время, когда вся нежить далекий зов чует и к живым тянется. Низко плыл густой, как первач, туман. В мареве являлись призрачные силуэты. Эх, сколько душ бродит тут неупокоенными! Надо найти младенчика, отобрать и тикать! Лишь бы успеть, пока он упырям не достался. Никодим сглотнул. Как бы ему самому упырям на глаза не попасться… Тут хоть перекидывайся, хоть не перекидывайся, а морок на них навести не удастся – у упырей в голове не думка, а порченая каша. Никодим сделал шаг. Под ногами зашевелилась, забулькала трясина. Еще шаг. Он не представлял, куда ступать, скорее, его вело то внутреннее чутье, которое издревле сохраняет жизнь и домушкам, и шишигам, и бесам, которое ведет утопцев и упырей по незримым дорожкам среди болот и не дает им провалиться. Кто-то подвывал, хлюпал босыми ступнями. Никодим медленно продвигался вперед, раздвигая паутинистый морок перед собой. Голос стал громче, и домовой, к своему удивлению, стал различать отдельные звуки, будто кто-то очень старался петь, но никогда в жизни не слышал, как это делают. На болоте, спиной к Никодиму, стояла утопленница. Она переминалась на отекших синих ногах, на теле висело рваное исподнее. Руки что-то держали перед собой – что-то или кого-то, кому покойница пела. Она оглянулась, и Никодим мог поклясться, что это опухшая, с вывалившимся языком Пелагея. Точно младенчика баюкает! Да жив ли тот? Утопленница сделала шаг, и туман проглотил ее. Несуразная песнь отдалилась. Никодим побежал за ней и через некоторое время обнаружил покойницу в том же положении. Руку вытяни – коснешься истлевшего рубища. Но Пелагея мигом растворилась в хмари. Эх, водит зараза! Кружит! Хочет погубить его – честного домового, а ведь он только пришел забрать то, что ей не принадлежит, не ради хозяев безголовых, а ради души невинной! Никодим скинул зипун, вывернул его наизнанку и надел опять. Тут даже туман, показалось, стал жиже, а голос покойницы отчетливо прозвучал рядом. Попалась! Заплутать домового вздумала, а он не так-то глуп оказался! Перед Никодимом снова стояла Пелагея. На этот раз лицом. – Так что же ты мне голову морочила?! – выругался Никодим и замер. Расплывшаяся титька с кляксой соска выбилась из-под драного одеяния, а ниже торчал из прорехи, весь в паутине вен, невероятно раздувшийся живот, который поглаживала утопленница. Но не это привело его, бывалого домушку, в оцепенение, а то, что под руками Пелагеи кожа ее чрева ходила ходуном. Что-то отчаянно пыталось вырваться наружу! Нерожденный, который никогда не увидит солнечного света, переродился в упыря и оказался обречен скитаться вместе с матерью по топям. – Разбудил ребеночка! – с досадой пробулькала Пелагея. Обманула Никодима кикимора проклятая, не нужен утопленнице младенчик – она своего баюкает. Тикать надо, пока на стоны да плач упыри не сбежались. Он стал медленно отступать, чтобы дернуть с болот во всю домовую прыть. Из белесой пелены вышел, опираясь на передние лапы, упырь. Гнилостный его запах перебивал смрад болот так, что вчерашнее молоко в утробе Никодима напомнило о себе. Одежда упыря давно сгнила, лишь на иссохшем запястье болтался витой кожаный браслет. Упырь присел на корточки и завыл безгубым ртом. Болота, некогда сонные и ленивые, враз ожили. Зашевелилась, зачавкала топь. Алчно заклокотал туман. И Никодим побежал. Упыри преследовали его сворой голодных псов; зловоние обжигало, клекот множества глоток звучал за плечами, а болота все тянулись и тянулись. Вот уже холодная рука цапнула за ногу, кто-то схватил полы зипуна – домовой вывернулся из одежки. И стать бы ему кормом для покойников, но за спиной завыли, послышалось недовольное кипешение, и погоня вроде как отстала. Никодим оглянулся: несколько упырей валялись, а те, что бежали следом, не блюдя никакого порядку, спотыкались о первых и сами сбивались в кучу, создавая препятствие тем, кто был за ними. Некоторые поднимались, чтобы продолжить погоню, но мгновение было упущено, домовой чуть поднажал и выскочил с трясины на опушку.
Светало. У лесного ручья Никодим выжимал болотную тину из одежды. Звонко цвыркая, вспорхнула стайка птиц, разнося слухи о погоне на Соромных болотах. Мимо с отрывистым лаем пробежала лисица. Следом пропыхтел лесовик, остановился, задержал вопросительный взгляд: мол, что в чаще домушка потерял? Услышал рассказ птиц, кивнул и покосолапил дальше. Хороший он, лесовик, без надобности не в свое дело лезть не станет. Что же это выходит? А выходит, что провела Никодима шишига. Шлёнда [109] шалопутная, баба бесстыжая. И как только он не смекнул? Отправила на болота к упырям! А ведь тот, который при утопленнице был, не кто иной, как Ждан. Значит, нашли друг друга после смерти. Вот он любушку вместе с неродившимся, пусть не своим, чадом и бдит. Будь упыри чуть сообразительнее, будь в голове у них не каша, а извилины, как у обычных людей, гнить бы Никодиму сейчас в ихних желудках. Так что повезло, ой как повезло, что они гурьбой за ним побежали сворой голодных псов, да друг о дружку поспотыкивались. А что же кикимора? Не зря с новенькой прялкой игралась, не зря. Откуда она ей могла достаться? Кто мог подарить? Никодим почесал затылок. Какую песнь пела кикимора? Крутись пряльце, шейся пряжа, вейся ведьмин куделек. А в округе лишь одна ведьма живет. И у нее зуб на хозяина.
Контур горелого дома полыхал в лучах рассвета. Будто не ушел огонь, а продолжал медленный танец на пожарище. Кикиморы не было слышно. В то время, когда все домовые духи готовят жилище к новому дню, она спала. Да и хозяйства лишилась, устроилась приживалой на чужом горюшке. Ух, злость берет! Никодим скрипнул зубами. Где теперь искать эту блудню? Печка торчала посреди пожарища черным курганом. А ну-ка заглянет он за голбец. Пока двигал мокрые от росы доски, весь перемазался сажей. Вот она, голубушка, кемарит в обнимкусо своей прелестью. Что-то стукнуло в подполе – раз, другой. Неужто дом еще жив? Никодим медленно потянул прялку, кикимора зачмокала губами, покрутилась, нащупывая в полусне свое барахло. – Проснись, дочь Мокоши [110]! – густо проревел домовой. Перекинулся в тень, потек смоляным пятном по стене печки, растянулся по огрызкам стен. Дом питал его тонкой струйкой, остатками еще бившейся в нем жизни. Придавал Никодиму сил после побега от упырей. – Ай-ай-ай! – заверещала кикимора. Никодим рос, ширился, поглотил собою блудню, так что от кикиморы осталась видимой только пара перепуганных глаз. – Кому младенчика человеческого снесла?! – прогремел голос из сердца тьмы. – Ведьме! Анисье! Она прялку с кудельком за детеныша обещала! – А не брешешь?! – Лопни мои глаза, если это не так! Тут же опустилась тень, сдулась, как опара на ветру. – Ух, шлёнда! – пригрозил Никодим кулаком. Хотел сплюнуть, да вспомнил про обугленное, но еще бьющееся сердце глубоко в подполе. Он не стал смотреть, как бросилась шишига к своим сокровищам. Побродил по пожарищу, прислушиваясь. Кажется, нашел нужное место. Разгреб пепел лапкой и отодвинул чудом выжившую половицу. Запястье все еще пахло тиной, Никодим надкусил его, и тонкий алый ручеек побежал в подпол. В глубине насыщалось жизнью сердце дома. Больше ничего Никодим сделать для него не мог.
Избушка ведьмы стояла в лесу, вдали от людских жилищ – ведьмы не любят лишнего внимания. Анисья пришла сюда давно, поселилась в брошенной лесной сторожке. И после этого окрестные лесные и домовые духи почувствовали, что наступил какой-то незримый порядок, который появляется, когда рядом обживается человек, наделенный силой. Местные ходили к ней со всей округи, кому роды надо было принять, кому недуг прогнать, а порой прибегали девицы, чтобы парня вернуть или зазно́бить. Анисья была ни стара, ни млада, многие мужики, что постарше, поглядывали на нее да цокали языком. И было из-за чего: черты лица у нее были ладными, серебряные волосы струились по плечам, гибкий стан ласкал взор. Мужики, конечно, цокали, да подойти не решались, только кузнец, что жил бобылем, однажды нарвал луговых цветов и пошел поутру к ведьминой избе. Никто не знает, что там у них произошло, только рассказывали, как кузнец бежал с выпученными глазами, подбирая опростанные портки, а сзади звонко хохотала Анисья. Через несколько дней пришел мужик в себя, но о том, что случилось, молчал. И заикаться стал с тех пор. В избушке ведьмы мало что осталось от хлипкой сторожки. Скособоченная и кряжистая, она вросла в землю, переплелась курьими ножками с корнями вековых дубов. Избушка с каждым годом росла – в благодарность за помощь местные подновляли дом, да и лесная нечисть приложила тут лапы. На охлупе сидел огромный ворон, его единственный глаз с красными болезненными прожилками следил за домовым. – Ну что ты уставился? – прошептал Никодим. Птица в ответ недовольно каркнула и упала с крыши. У самой земли могучие крылья подхватили ее, и ворон пронесся над головой Никодима, сбив домушку с ног, окатив его волной холодного секущего воздуха. – Чур меня! – замахал лапками Никодим, но ворон уже пропал. Домовой отряхнулся, помедлил, выбирая, как войти. Негоже через людские двери домовым ходить – надо искать черный ход. Прислушался. Птицы в кронах молчали. Только ветер со свистом поднимался из ближайшего оврага. И что его, рядового домушку, привело сюда? Вот попадет он в дом и что скажет ведьме? «Отдай младенчика»? Так Анисья его враз превратит в пыль за такую наглость. Почему именно в пыль, Никодим не знал, но почему-то пыль казалась ему самым унизительным способом лишить домушку жизни. Может, так и надо, чтобы люди у людей воровали потомство, а его – домового духа – хата с краю, сидеть ему на своем месте и не высовываться. Что же он перед горелым домом не повернул обратно? Наверное, потому, что ему, Никодиму, больше всех надо и хата его не с краю. Вон он, черный ход – наверху, там, где ласточки обычно гнезда вьют. Цепкие лапки сами находили щербины в бревнах так, что Никодим быстро оказался под скатом крыши. Тут торчали клочки выдернутой пакли. Из лаза тянуло теплом, смесь непривычных запахов щекотала ноздри: ароматы трав, тонкий душок звериного помета и сушеной рыбы. Никодим втиснулся, пополз в темноте, в какой-то момент лапки нащупали пустоту, и он ухнул аккурат на связку высушенных грибов. Отсюда открывалось убранство сторожки – уже не скромного приюта охотников да лесников, а настоящего ведьмина жилища. Избушка медленно, со скрипом дышала. Вдох-выдох. Внутри копошилась жизнь, бегали жуки, шуршали полевки. Только домовьего духа тут отродясь не было. У груженного пузырьками, костями, камешками и куриными лапами стола колдовала сама Анисья. Не глядя, она достала из раскаленной печи горшок и влила его содержимое в одну из склянок. Запузырилась желтая жидкость. В воздухе появился сладкий запах, от которого обжигало язык. Рука ведьмы замерла. Анисья шумно втянула воздух: – Что за нечисть пожаловала? Никодим отдернулся, хотел сховаться от ее взгляда, но не тут-то было – из-за спины высунулась одноглазая кошачья морда. Кот был покрыт такой густой черной шерстью, что казался неотъемлемым от темноты, в которой прятался. Только глаз, похожий на колотую рану, светился красным, второй был затянут рубцом. Помощник ведьмы! Оборотень! Животное заорало так, как умеют только коты по весне, – низко и хрипло. От неожиданности домушка скатился по полкам, задел какие-то закатки, которые посыпались на пол, и плюхнулся прямо перед Анисьей. Рядом беззвучно приземлился ведьмин помощник. – Так-так, кутный бог [111] неблагодарного дома пришел… – проговорила Анисья. Зла в ее голосе не было. Бесцветные глаза сосредоточились на домушке. Руки сами продолжали помешивать и разливать желтую жидкость. Никодим глубоко вдохнул и выпалил: – Есть у тебя младенчик людской, Анисья-ведунья! Ведьма прищурилась: – Кто же тебе сказал такое? – Никто, я сам догадался. Хоть это и было полуправдой, но Никодим давно поверил в то, что докумекал до всего только своей головой, а сказав это, поднял подбородок и гордо подбоченился. Ведьма звонко рассмеялась: – А я уж думала, дочь Мокоши не сдержала язык! – Так есть или нет? Отвечай! – Может, и есть, – усмехнулась ведьма. – Твое дело – в доме порядок блюсти. А за мелкими пусть бабы носятся. – Так какой же, матушка, порядок, если не вся семья в избе? Если кого-то недосчитались? Дочь блудит. Хозяин али хозяйка гуляет невесть где… Анисья взглянула на Никодима с интересом: – Это про какого же хозяина ты говоришь? Уж не про своего ли? Про того, кто полушку повитухе пожалел? Который невинную опорочил и до греха довел? Или ты про хозяйку, что все его бесчинства покрывала? А? Ведьма буравила домового бесцветным взглядом. На дне глубоких, как колодцы, глаз сверкали отблески молний. Никодим не отвел взор, ответил сурово: – Ты, если хочешь кого поучить – так поучай, а младенца не трогай. Не его это дело. – Хоть бы пальцем его тронула… Она скупым жестом поманила кота, и тот прыгнул в угол, в котором обычно лик людского бога вешают. Там густился черный дым. Длинные когти располосовали клубы, распустившиеся цветком, и открылись антрацитовые лепестки. В самой середине этой черноты лежал пропавший младенчик. – Видишь? В добром здравии чадушко. Разве с такими он родителями должен остаться? Кого они вырастят из него? Голозадого пахаря? Пьянчугу-конюха? А? Брошу сторожку, уйду глубже в лес. Выращу из него ведьмака. И ты со мной отправляйся – опытному домушке всегда работа найдется.
Никодим зачарованно смотрел на невинное дитя. Ребеночек мирно сопел и причмокивал губами. И все чаяния, казалось, собрались в этом маленьком кусочке плоти, Но самое главное, что Никодим ясно осознал, почему его так тянуло найти младенчика. Потому что без него сердце дома уже не будет биться, как прежде. Окно с треском раскололось, на пол посыпались куски слюды. В избушку влетел увесистый, размером с кулак, валун. – Ведьма! – заревел с улицы мужской бас. – Вертай Торчиново чадо! – подхватили другие голоса. Кот выгнулся черной дугой, зашипел, уперев единственный глаз в расколотое окно. – Рановато они… – процедила Анисья, чьи глаза превратились в щелочки. В кособокую дверь глухо застучали. – Анисья! Потолковать надо! – Кому потолковать надо, тот оконца бить не будет! – отозвалась Анисья. Она враз преобразилась: черты заострились, кожа высохла, словно ведьма постарела на полвека, почернели бесцветные глаза. Рука, покрывшаяся серыми пятнами, сжала одну из склянок. Никодим шмыгнул в тень. Дверь распахнулась, в избу ворвался порыв холодного воздуха, наполненного дымом горящих факелов. Анисья замахнулась, и зелье полетело в открывшийся проем. Вспыхнуло с той стороны, дом содрогнулся, наполнился прогорклым чадом. Рядом с Никодимом шлепнулся и пополз большой пятиногий паук. Домушка пригляделся – это был не паук, а оторванная по запястье человеческая кисть. Ведьма захохотала. Зло, отрешенно. – Жги ведьму! – заорали на улице. В разбитое окно влетел факел, и сухой скарб быстро занялся пламенем. Анисья швырнула в ответ следующую склянку. Опять затрясло. Никодим рысью пробежал сквозь брыд [112] в угол дома. Там, в паутинистом сумраке, кашлял и царапал лицо неуклюжими пальцами очнувшийся младенец. Ребенок оказался легким, почти невесомым, но постоянно норовил выскользнуть из взмокших лапок. Глаза слезились, Никодим схаркивал накопившуюся под языком горечь. Выход не проглядывался, но было слышно, где происходит переполох. Натыкаясь на битую посуду и обломки мебели, домушка пробирался на звук. Наконец вывалился наружу с ребенком на руках, хватая ртом холодный, как ключевая вода, воздух. На улице царил бедлам. Со всех сторон несся вой и стон. К Никодиму полз мужик, загребая единственной целой рукой. Он клокотал в перемазанную кровью бороду. На месте глаз зияли выжженные отверстия. В нем почти невозможно было узнать бобыля-кузнеца. Прочь отсюда! Прочь! Домушка бросился туда, где проглядывали кроны. Лишь оказавшись под сенью деревьев, он дал себе продых. Ребенок на руках извивался и драл глотку. – Тихо-тихо… – зашептал ему на ухо Никодим. Прижал крепче шерстяными лапками, укутал теплом дыхания так, как это умеют только домовые, когда в доме младенец не может уснуть и надо прийти на помощь вконец потерявшей надежду матери. Ребенок стал затихать, зачмокал и прикрыл умиротворенно глазки. Теперь назад! К дому! Положить чадо в люльку. Вернуть на попечение хозяйки или Глашки. Да, лучше Глашки. Она присмотрит за ним. Никодим оглянулся: избушка ведьмы полыхала. Столб смоляного дыма покачивался на утреннем ветру. От клубов оторвался черный клок, расправил крылья, раскидывая по кругу капли-перья, сверкнул раскаленным глазом-угольком и ринулся на домушку. Снова бежать! Колючки цепляли шерсть, драли портки, хлесткие ветки полосовали лицо. Совсем скоро деревня, да добежит ли он? Раз-другой ворон обрушивался на них, но плотные ветки не давали прицелиться, клюнуть или схватить беглецов. Никодим прижался к стволу векового дуба, под ветвями которого его было не достать. Сверху послышалось недовольное карканье. Ворон свалился неподалеку, завертелся, забурлил, сжался, вытянулся, только красная точка оставалась на месте и буровила домушку. Уже через мгновение огромный черный кот гнул спину. Никодим отложил спящего ребенка, а сам припал к земле. Мышцы напряглись, зазвенели натянутой нитью. Он приготовился. Не раз доводилось ему гонять соседского Ваську, драться с ним, хотя тот пускал в дело клыки и когти; зачастую сцеплялся со злыми от голода крысами; однажды оседлал приблудившегося бешеного пса, лишь бы Аркан не подхватил заразу. Помощник Анисьи с пронзительным воем бросился в драку. Он всадил когтищи в плечи Никодиму, и они покатились по жухлой листве. Кот лупил задними лапами так, что кожа рвалась в лоскуты. Домушка вцепился в горло, нащупал мягкое и сжал. Кот отпрыгнул. Стал обходить побоку. Прыжок! Острые зубы целились в морду, но Никодим откатился и тут же оседлал оборотня. Тот крутанул мордой, пытаясь сбросить обузу, но цепкие лапы держали крепко, а пальцы уже подбирались к пылающему жизнью угольку. Перст погрузился в глаз, и Никодим почувствовал, что сунул его в кипящую воду, в самую печку, но все равно, сжав зубы, провернул там. Телом ощутил, как задрожал зверь, заголосил и лишь тогда отпустил. Оборотень вился от боли, он обращался то в птицу, то становился змеей, наконец выкинул одно крыло и с трудом поднялся в воздух, сослепу врезался в крону, запутался там, но вскоре вырвался из ветвей и полетел прочь. Путь домой был труден. Пылали иссеченные ноги. За Никодимом тянулась россыпь алого бисера. Поначалу он боялся, что какой дикий зверь учует запах крови и пойдет за ним, но в ветвях зашуршал лесовик, выглянул, кивнул, и домушка успокоился, поняв, что старик приглядит, чтобы волк или лиса не увязались за ним. Уже показался скошенный забор родного двора. Зазвенел цепью, заскулил Аркан. Дыхание дома успокаивало боль, наполняло члены жизнью, но все равно этого было мало – хотелось зарыться под корни, уснуть. И только тяжесть бесценной ноши в лапках толкала Никодима вперед. Не обращаясь – сил не было, он прошел по краю двора, вскарабкался на крыльцо и сколь мог бережно положил младенца перед дверью. Присел, глубоко вдохнул – в груди булькало, стальной обруч стянул ее и не давал вволю насладиться студеным воздухом. Еще чуть-чуть, через подпол пролезть за голбец, там отлежаться… Ребенок почувствовал, как ушло тепло, в котором он спал, и закричал. За спиной скрипнули петли. Раздался девичий визг: – Ой, батюшки! Что-то острое и ледяное вонзилось в плечо. Никодим скатился с крыльца, мутнеющим взором увидел стоящую в дверях Глашку с вилами наперевес. Она лопотала: – Услышала, как он закричал… Вилы взяла – вдруг там… А тут крыса здоровущая… Никодим полз к черному ходу, помогать приходилось себе только одной лапой – другая безжизненно висела. Ничего-ничего, только добраться до печки. Спрятаться. Уснуть. Дом поможет. Дом вылечит. Заплакал ребенок. Радостно запричитала Глашка. Послышался другой голос, Ванькин. Все звуки превратились в мешанину. Впереди виднелся кудлатый от пакли проем. Виднелся, но никак не хотел приближаться. И путь до этой тускнеющей прорехи был самым долгим в жизни Никодима.
Дмитрий Золов. Райская тренькалка
 Премного благодарен вам, хозяева, за хлеб и за редьку. Раз вы не хотите музыку слушать, так, может быть, расскажу я историю о райской тренькалке, будь она неладна. Отчего-то вспомнилась ее музыка, крутится в голове: там-та-да-да-там, там-та-да-да-там.
Вот только имени своего называть не стану. Хотя прошло уже без малого десять лет, за те дела, думается, все еще можно попасть на дыбу или сразу на костер. Пускай моей вины ни в чем нет, но кто ж при таких обстоятельствах будет разбираться?
Так вот. Случилось это далеко от здешних мест, в моем родном городишке, который назывался Новым. Возникло это поселение не очень давно, и путного имени для него придумать не успели.
Народ в Новом городе жил серьезный. Все только тем и занимались, что валили лес и сплавляли его по реке, потому что на королевских верфях за одну хорошую сосну давали пять монет серебром, а это, понятно, деньги немалые. Никто у нас от дела не отлынивал и каждый хотел заработать. Даже меня, с детства страдавшего вялой болезнью, старались пристроить к общему промыслу. Один Жумс Паратикомбер ни черта не делал, а только сочинял свои балланды, но к такому положению и он пришел не сразу.
Поначалу Жумс был как все и трудился за плотовщика, однако к двадцати пяти годам ему вдруг взбрело в голову влюбиться в дочку артельного старшины – Селию Хемберменбер. То есть до этого он мимо Селии всю жизнь ходил – и ничего, а тут вдруг в один момент такая напасть, как будто кто его сглазил.
Артельный старшина, может, и рад был бы отдать дочку за Жумса, тем более что Селия особой красотой не сияла да еще и прихрамывала на левую ногу, как лошадь без подковы. Однако у Жумса от любви мозги съехали набекрень. Вместо того чтобы посвататься приличным порядком, он вдруг начал с утра до ночи сочинять всякие балланды, стихи то есть.
Надо заметить, что стихов в нашем городишке раньше никогда не было и даже музыку в таверне не играли. То есть люди там были рассудительные, пиво пили степенно, под деловой разговор, а всякие фигли-мигли терпеть не могли, почитая их причиной убытков. Как-то раз, помнится, забрел к нам некий трубадур с музыкальной пилой, так его представление даже бабы не стали слушать, и заработал он только два плевка в морду.
Выходит, был наш городишко для балланд местом неподходящим, однако Жумс об этом и знать не хотел. Целями днями таскался он за Селией как привязанный и рассказывал стихи, надеясь таким образом растрогать ее сердце. Только ночью Жумс оставлял Селию в покое, потому что надо ж ему было когда-то новые балланды придумывать.
Ко всему прочему начались у Жумса яростные припадки. Если кто из парней решал вдруг подмигнуть Селии или пошутить с ней, Паратикомбер сразу бросался в драку и бился отчаянно, чем под руку подвернется. Прямо-таки свирепость на него находила.
Из-за этих признаков народ решил, что молодой Паратикомбер повредился в уме. С тех-то пор его и прозвали Бешеным.
Что же до артельного старшины, то он, конечно, не хотел дочурку, хоть и хромоногую, за сумасшедшего отдавать. А сама Селия характер имела робкий и все эти события переживала молча. Однако ж можно было заметить, что всякие там балланды и пристальные взгляды Жумса ее скорее пугают, нежели радуют.
Таким образом прошло около месяца, и тогда братья Селии решили избавить сестру от странного ухажера. Подкараулили они Жумса и хотели с ним беседу провести, однако Паратикомбер говорить не пожелал, достал нож и бросился на троих. Так вышло, что двоих братьев он сразу подрезал почти до смерти и третьего бы пырнул, да только тот успел его раньше поленом оглушить.
Поскольку сначала посчитали, что двое раненых в скором времени помрут и произошло настоящее убийство, Жумса скрутили и отправили для казни к судье в соседний город. Однако оба брата Хемберменбера каким-то образом выжили, а потому Жумса вешать не стали и присудили к бессрочной каторге. В любом случае снова увидеть его в городе рассчитывать не приходилось, из-за чего никто особо не опечалился, а семейство Хемберменберов – так вообще вздохнуло с облегчением.
Лет же через пять после этого до нас дошло известие, что по случаю восшествия на престол нового государя всех каторжан, кроме конокрадов, предполагается выпустить на волю.
На то время у Селии уже имелся женишок из соседнего города, и мы тогда решили, что Жумс, вернувшись с каторги, первым делом его и прибьет.
Такого недоразумения папаша Хемберменбер допустить не хотел, поскольку у женишка была хорошая хлебная торговля и артельный старшина рассчитывал войти в это дело по-семейному. В нашем-то городе все валили лес, а ничем прочим не занимались, отчего хлеб, конечно, приходилось закупать в других местах. Вот Хемберменбер и думал, что от этого предприятия, если с кем надо породниться, ему пойдет отличная прибыль. Как же такого выгодного жениха оставить Жумсу на растерзание? Да и хахаль Селии, судя по всему, тоже не спешил из-за любви с жизнью расставаться. Вот и возник у них совместный план.
Поутру помолвку Селии объявили расторгнутой по причине несходства характеров молодых, а уже к обеду папаша Хемберменбер ко мне приперся и без лишних иносказаний заявил:
– Чего ты тут просто так валяешься? Вместо этого лучше взял бы мою дочурку в жены.
А у меня в тот день как раз был приступ вялой болезни, и я не то чтобы жениться, а вообще ничего не хотел. Так только, лежал на кровати и из последних сил смотрел в потолок.
– Идите вы, господин артельный старшина, к дьяволу! – говорю.
А Хемберменбер стоит на своем: женись – и все тут.
– Да что я, – говорю, – буду делать с вашей дочкой, если и без того очень слаб здоровьем?
– А вот она как раз за тобой и станет ухаживать, – отвечает артельный старшина. – Селия очень сердобольная и любит со всякой дохлятиной возиться. Так что ты женись и не пожалеешь. И с приданым я не поскуплюсь.
– Так она ж еще и хромая! – не сдаюсь я.
– А тебе ее что, в телегу запрягать? – не отступает Хемберменбер. – Да и от кого бы еще такие вещи слушать, но только не от тебя, замухрышки!
Тут, как на беду, матушка из кухни разговор услыхала и тоже ко мне прицепилась:
– В самом деле, чего бы тебе не жениться? Сколько ж мне, старухе, с тобой нянькаться? Пусть и другой кто-нибудь помучается. А то, что невеста прихрамывает, так это ничего. Хромые, говорят, бывают очень выносливыми.
– Да что вы, матушка, городите! – чуть ли не кричу я. – Вы что же, мне желаете смерти?! Разве не слыхали, что вскорости явится с каторги Бешеный Жумс?! Вот он-то мне за эту невесту голову и отвернет!
Тут матушка призадумалась, а Хемберменбер заявляет:
– Ничего такого случиться не может, потому что я придумал, как это предотвратить. Я не поскуплюсь, приобрету железную кольчугу, и будешь носить ее под рубахой. Когда Жумс на тебя с ножом бросится, мы его скрутим и отправим обратно на каторгу.
Матушке план понравился, а вот мне – не очень. Однако эти двое до того лихо взяли меня в оборот, что никаких сил отбрехиваться не хватило.
– Черт с вами! – говорю. – Делайте что хотите, только оставьте меня сейчас в покое!
В общем, следующим же днем нас с Селией обвенчали, и стали мы вроде как муж и жена. Вскоре мне это дело даже понравилось.
Супруга моя была женщиной тихой и хворать во время приступов вялой болезни не мешала. Даже наоборот, меняла мне примочки. Жили мы вполне ладно.
А Бешеный Жумс Паратикомбер все не появлялся. В других городах тамошние каторжники давно уже возвратились по домам и снова набедокурить успели, а нашего нет как нет. И видно, что папаша Хемберменбер по этому поводу проявляет беспокойство. Будто даже жалко ему, что Жумс не показывается. А по мне, так лучше бы Бешеный вообще где-нибудь сгинул. Очень я тревожился, его ожидая, потому что не хотел всяких там драк.
Но целый год прошел вполне спокойно. Только однажды заявились навеселе папаша Хемберменбер с бывшим женишком Селии и говорят, что, мол, свадьба моя была ненастоящая, а совершилась только под угрозой скорого возвращения Жумса. Теперь же, когда вроде буйного каторжника ждать не приходится, неплохо было бы все обратно переиграть, за хорошие отступные, конечно. Пока я над предложением размышлял, появилась моя женушка. Обычно-то она себя вела тише покойника, а тут с руганью на родителя напустилась.
– Что же это, – говорит, – из-за ваших каверз я должна, как кошка, по пять раз на дню замуж выходить?! Не будет такого!
И выгнала папашу вместе с бывшим женихом.
С той поры я жену даже зауважал как человека с характером. Хотя, конечно, отступные, которые папаша Хемберменбер предлагал, были очень соблазнительны и совсем бы не помешали при моем-то слабом здоровье. Ну да уж что вороны склевали, то мышам не достанется.
На второй год женатой жизни я о Жумсе Паратикомбере и думать забыл. Но вот сижу как-то у окна, размышляю, пойти завтра на работу или еще немного похворать, а тут от пристани бегут мальчишки и вопят: «Бешеный вернулся!»
Я сразу поспешил к папаше Хемберменберу за обещанной кольчугой. Тот по случаю оказался дома, однако ж выяснилось, что кольчугу он давно продал, чтобы зря не ржавела.
– А мне что же, – возмущаюсь я, – из-за вашей хозяйственности теперь, как свинье, на убой отправляться?!
– Почему же на убой? – успокаивает меня Хемберменбер. – Сиди себе во дворе и ничего не бойся, а мои сынки рядом спрячутся. Как только Жумс нож достанет, мы его сразу скрутим, а может быть, и совсем прибьем. Он тебя и пальцем тронуть не успеет.
Позвал артельный старшина сыновей, велел им запастись топорами и веревками, взял меня под руку и повел к дому.
Во дворе папаша Хемберменбер посадил меня на лавку, сам стал поодаль, а сыновья его за углом притаились. Сижу я, жду, что вот-вот на дороге Бешеный Жумс покажется. Думаю: очень жаль, что ни мамаши, ни жены сейчас дома нет. Они-то, наверное, смогли бы меня от Жумса спасти, а на младших Хемберменберов надежда плохая. Артельный старшина стоит в кустах, глядит на улицу и мне время от времени подмигивает. Очень я пожалел тогда, что не взял с тестя отступные за его хромую дочку.
Тут артельный старшина кричит на всю улицу:
– Здравствуй, Жумс! Ты ли это?! Тысячу лет тебя не видел!
Вижу: к моей калитке подходит Бешеный Паратикомбер. И раньше-то он своим безумием страх внушал, а теперь, после каторги, и вовсе потерял человеческий облик. Лицо у него стало серое, все морщинами обвисло. Глаза белесые, в красных жилках. Волосы на голове повылезли – только из-за самых ушей два седых пучка торчат. И одет он в такие обноски, что не дай боже.
– Здравствуй, дядя Хемберменбер, – отвечает Жумс и так шепелявит, что понятно – зубов у него немного осталось.
Однако ж, несмотря на свой нехороший вид, ведет себя Жумс вполне мирно. Тогда я подумал, что он, наверное, про нашу с Селией свадьбу еще не знает и до поры опасаться нечего.
– А у нас тут, пока тебя не было, много чего случилось, – продолжает Хемберменбер. – К примеру, дочку мою, Селию, за которой ты все ухлестывал, помнишь? Так я ее замуж выдал!
У меня от таких речей сердце похолодело. «И кто старого борова за язык тянет?! Неужто нельзя было о чем другом разговор завести?! Зачем Бешеного раньше времени распалять?»
Однако Жумс отвечает вроде как спокойно:
– Конечно, я помню Селию. Надеюсь, что она счастлива в этом браке.
А Хемберменбер, язва ему в нутро, не унимается.
– Знаешь, за кого я Селию-то выдал? Нипочем не угадаешь. Вот за этого малахольного! – говорит артельный старшина и в меня пальцем тычет, будто специально Бешеного натравливает.
Подумал я, что без смертоубийства теперь, наверное, не обойдется.
А Жумс глядит на меня глазами в красных прожилках. Ну, кажется, сейчас бросится! Однако Жумс не бросился, а только вздохнул и пожал плечами.
– Что ж, – говорит, – примите поздравления. Раз Селия за вас замуж пошла, значит, вы, наверное, человек достойный. Совет вам да любовь.
От такого поворота Хемберменбер слегка опешил.
– Постой-ка! – кричит он Жумсу. – А ты что же, не будешь на малахольного с ножом кидаться? Ведь он твою девку увел! Хотя, может быть, у тебя сейчас ножа нет? Так я свой одолжу.
– Нет, – отвечает Жумс. – Ни на кого я кидаться не буду. Это заблуждение юности я в себе окончательно изжил.
Сказал он так, прокашлялся и пошел своей дорогой.
Тут, значит, сынки Хемберменберы из-за угла выглядывают, интересуются, когда же им Жумса хватать. На это артельный старшина только махнул рукой и зашагал к своему дому.
А я ему кричу вдогонку:
– Теперь, папаша, ваш замысел стал вполне ясен! Вы, не иначе, хотели, чтобы Бешеный Жумс меня жизни лишил, сам на каторгу отправился да заодно освободил бы место подле вашей дочки для желательного жениха. Это очень похоже на преступление!
Хемберменбер мне ничего не ответил.
Когда я это происшествие матушке вечером рассказал, она хотела на свата в суд донести, однако ж ее Селия отговорила. Мол, не по-семейному это. Да и, скорее всего, оправдают папашу Хемберменбера за болезнью, поскольку у него и ранее случались припадки коварства.
Жумс стал жить тихо, будто на каторге вместе со здоровьем и бешенство растерял. На Селию он и глаз не поднимал и старался нигде на улице с ней случайно не встретиться. В общем, вел себя вполне пристойно. Одно только в нем народ смущало: никак Жумс не хотел приниматься за работу, а вместо этого целыми днями что-то царапал на бумаге. Наверное, все те же балланды.
По этому поводу приходили к нему уважаемые люди, увещевали, чтобы он в артель записывался и начинал жить, как все. Однако Жумс отнекивался, говорил, что за годы лишений окончательно открыл свое призвание. Мол-де, он поэт и предназначен для того, чтобы через стих нести в мир красоту и правду, а потому ни на что другое тратить себя не намерен.
Казалось бы, и черт с ним, с полоумным. Нравится ему балланды писать, так пусть и пишет. Но тут по городу слух пошел, будто Жумс промышляет воровством. Кому такая мысль первому в голову взбрела – неизвестно, но уже вскоре все говорили об этом как о совершенно ясном деле. А как иначе? Ведь Жумс работу не работает, но и с голоду не подыхает. Откуда ж ему, спрашивается, пропитание брать, если не приворовывать?
Собрались уже люди на Паратикомбера донос писать, но тут вышла загвоздка: доказательств-то его преступности никаких нет, а без этого судья, пожалуй, донос не примет.
Тогда установили за Жумсом слежку и начали каждый свое добро перебирать, выяснять, что же пропало. Долго возились, однако ясности не прибавилось. Всякий был уверен, что чего-то из имущества не хватает, а чего именно и сколько – назвать не мог. И слежка впустую прошла. Жумс в основном дома сидел, и смотреть за ним было очень уж неинтересно, а потому соглядатаи либо засыпали в засаде, либо бросали пост и отправлялись в таверну.
В итоге все сошлись на том, что проклятый Паратикомбер на каторге до того хитро выучился воровать, что его теперь никак и не поймаешь. Людей это очень расстроило, а предложить, как выйти из затруднения, никто не мог.
Началась в городе беспокойная жизнь. Народ обо всем позабыл и только и думал, как бы свое имущество защитить от грабежа. Накупили замков и запоров, на работу и в церковь стали ходить по очереди, чтобы всегда в доме оставался сторож, спать начали плохо, подскакивали от каждого шороха – вдруг вор лезет. Каждый завел специальную книгу, в которую для учета записывал свое барахло вплоть до последней ветошки. От таких трудов и волнений начал народ выбиваться из сил и впадать в раздражительность.
Стало ясно, что эдак жить нельзя, и тогда решили люди без обиняков с Жумсом переговорить. Разбудили они нашего священника, глухого Эколампадия, собрали делегацию и направились к дому Паратикомбера. Тот если и удивился такому визиту, то виду не подал.
– Что вам, – спрашивает, – от меня потребовалось?
– А то, – говорят люди, – чтобы ты воровать прекратил.
– С чего вы взяли, будто я ворую? – интересуется Паратикомбер.
– С того, что работать ты не работаешь, а вон какой холеный и откормленный!
Тут, надо сказать, народ малость перегнул. Холеным-то и откормленным Жумса вряд ли можно было назвать. Скорее, даже наоборот, непонятно, на чем у него штаны держались – так он отощал.
– Я больше питаюсь духовной пищей, чем телесной, – отвечает Жумс, – потому мне очень мало всего надо.
Такие слова народ не устроили.
– Нет, – говорят, – этим нас не заморочишь! Лучше отправляйся, как все прочие, на работу, чтобы мы знали, чем ты живешь, или же поди прочь из города и не искушай нас больше!
Тогда Жумс приосанился и гордо заявил, что работать может только поэтом, так как в этом его предназначение свыше.
Люди по-всякому пытались его усовестить, однако он на своем стоял твердо. Такая вышла заминка, что никто не знал, чем препирательство закончить. По-хорошему, надо было бы прибить Жумса всем миром, да и дело с концом. А то чего зря собирались-то? Однако некоторые сомневались: мол, это, кажется, не по закону.
Тогда растолкали глухого Эколампадия, сомлевшего было на солнышке, и криком прямо в ухо объяснили ему, в чем вопрос, чтобы тот рассудил по церковному праву.
– Отчего вы, чада, всполошились? – удивился Эколампадий. – Ежели хочет сия заблудшая овца быть стихотворцем, так пускай. Может, из этого выйдет какая-то польза. Ведь и царь Давид, и царь Соломон слагали вирши во славу Божью.
На это священнику возразили: то были цари, и всякому понятно, что им работать для пропитания не требовалось, а здесь совсем другой случай.
И тут точно дьявол меня за язык потянул. Я возьми да и ляпни:
– А что, если нам скидываться Жумсу понемногу за его балланды?
– В самом деле, – кивнул Эколампадий. – Чтобы не было сомнений, предоставьте своему брату пропитание за труды. Пусть по воскресеньям, кроме постных дней, после церковной службы Жумс принародно на площади читает свои стихи, а вы за это давайте ему по четверти пфеннига с дома. Кажется, это не очень накладно.
Все решили, что большого убытка от такого обычая, пожалуй, не будет и для спокойствия можно поступиться четвертью пфеннига. Жумс читать стихи согласился. На том и условились, после чего в городе наступило спокойствие.
С этих пор Жумс целую неделю сочинял какую-нибудь балланду, в праздничный день зачитывал ее на площади, стоя на перевернутой бочке, а потом со слушателей деньги в шапку собирал.
И надо сказать, до того унылое это было зрелище, что просто ляг да подохни. Уж на что отец Эколампадий скучно службу проводил, но ее можно было вытерпеть, потому что она для спасения души, а вот за какие блага слушать Жумсовы балланды да еще и четверть пфеннига за это платить – неясно.
Главное же, никто не мог разобрать, о чем Жумс на бочке заливается. Все слова вроде бы понятные, но, хоть лоб расшиби, не уразумеешь, что там такое приключилось. Ко всему прочему, Жумс еще и шепелявил сильно из-за отсутствия зубов и слюнями брызгал, если в раж входил.
В общем, благосклонно всю эту болтовню слушал только отец Эколампадий. Так оно и понятно: священник-то глухой. Ему что сделается? А остальные старались поскорее деньги в шапку бросить и с площади улизнуть либо же вовсе туда не являться под предлогом разных обстоятельств. Кто же не смог отвертеться, у того потом до самого вечера башка трещала от Жумсовых балланд так, что и праздник не в праздник.
Скоро все свелось к тому, что народ на площадь приходить перестал, а деньги Паратикомберу так пытались передать, без личного присутствия на представлении. Однако Жумс брать их наотрез отказывался. Говорил, что раз стихов его не слушали, то и платить тут не за что. Вот и вышло: от чего мы ушли, к тому и вернулись, и появились опасения, как бы Паратикомбер из-за отсутствия денег снова не принялся за воровство.
Тогда на общем сборе решили составить распорядок, по которому слушать стихи каждому в свою очередь, чтобы и Бешеного Жумса без законного пропитания не оставлять, и самим не слишком перетруждать голову. Так и поступили. С тех пор каждый горожанин, исключая детей, баб на сносях и кормящих матерей, должен был являться на площадь через два воскресенья на третье и составлять там публику на Паратикомберовых чтениях.
Жумс, кажется, понимал, что народ его стихи ненавидит лютой ненавистью и слушает их не по зову сердца. В душе Паратикомбер, наверное, расстраивался, но вслух говорил, что для принятия поэзии нужны привычка и особый склад ума, и он эту привычку не мытьем, так катаньем у нас выработает.
Со временем привычка и правда начала появляться. Сам я, к примеру, вскоре мог вполне спокойно высидеть до самого конца балланды и не заснуть. К удивлению, у некоторых даже особый склад ума возник. Несколько девиц-перестарков принялись на площадь без очереди каждое воскресенье ходить, а после приступать к Жумсу и допытываться, какая мысль подразумевалась в том или ином стихотворении.
Заметил я, что среди этих девиц и моя Селия затесалась. То есть, конечно, с расспросами к Жумсу она не подходила, однако ж всякое воскресенье площадь посещала исправно. Сначала я этому значения не придал, да только меня матушка просветила.
– Не иначе, – говорит, – моя невестка в стихоплета влюбилась. Вон как на него глядит, словно поп на алтарь!
– С чего бы? – удивляюсь. – Если он в прежние времена ей не нужен был, так теперь, плешивый да беззубый, зачем бы сдался?
– Плохо ты, сынок, понимаешь бабье сердце, – качает головой матушка. – Но, однако ж, следи, как бы чего не вышло.
Стал я следить – и точно. Неспроста Селия на Жумса поглядывала. Да и он, как начинал про терновый венец любви читать, все время в ее сторону поворачивался.
Приступился я к жене, потребовал, чтобы не в свою очередь на площадь не ходила, а только по распорядку. Она в ответ говорит:
– Что вы от меня хотите? Я перед вами ни в чем не виновата, так могу в выходной день и про прекрасное послушать. Это, может быть, моя отдушина.
Хотел я ее поколотить для порядка, да только в то время чувствовал себя неважно из-за вялой болезни. «Бог с ней, – думаю. – Пускай себе слушает в отдушину, пока не забывается».
О городе нашем благодаря Жумсовым стихам распространилась слава как об очень культурном поселении. Вроде бы сам граф собирался лично представление посетить. Эти слухи очень взволновали Паратикомбера. Он на прибытие сиятельной особы сильно надеялся: «Вот уж кто поймет мое искусство по-настоящему!» Однако граф так и не приехал, зато послал городу в дар красивую доску с золоченой надписью.
Ни денег, ни привилегий к доске не прилагалось, но Паратикомбер после награды очень возгордился. «Кроме вас, дуболомов, – говорил он, – есть еще благородные люди, которые кое-что понимают в поэзии».
Слушать такие слова было обидно. Мало того что отец Эколампадий каждое воскресенье обличал нас в грехах, так теперь еще и Паратикомбер обзываться начал. Вот однажды кто-то возьми да и ответь Жумсу:
– Раз мы дуболомы, так чего ж ты среди нас зря страдаешь?! Вот и пошел бы к графу! Там бы тебе небось обрадовались, как гусю на Рождество!
– Давно бы уж пошел, – огрызнулся Жумс, – да только у высокой публики принято, чтобы стихи читали под музыку, а в этом городишке никто даже в бубен стучать не умеет. Если был бы со мной подходящий музыкант, я бы тут ни дня не остался и давно бы уже прославился.
Эти слова всем запали в самое сердце. Что же, выходит, если найти Жумсу музыканта, то он уберется из города и на представлениях сидеть не надо будет?
Начали размышлять насчет музыканта, да только где ж его возьмешь? Среди наших, понятно, никто умениями по этой части похвастаться не мог, а пришлых звать – дело ненадежное. Они, наверное, долго Жумсовых балланд не выдержат и сбегут с деньгами, потому как у них привычки нет.
Тут папаша Хемберменбер говорит:
– Пускай мой зятек на какой-нибудь музыке играть выучится и проваливает к графу вместе с Бешеным Жумсом!
Я как это услышал, очень удивился:
– С чего это? Вы сами-то посудите, какой из меня музыкант?!
– А с того, – отвечает артельный старшина, – что ты всю эту канитель начал – ты и распутывай! Кто, скажи-ка, первым предложил Жумсу на стихи скидываться?! Кроме того, ты человек во всем городе для работы самый бесполезный, значит, если отлучишься на месяц-другой, дело особо не пострадает.
А народу только и надо, что крайнего найти.
– Конечно! – загалдели все. – Пусть малахольный в музыканты идет! Кому еще идти, как не ему?!
Я отбрехивался, как мог, а потом думаю: «И черт с вами! Смотаюсь в музыканты туда и обратно, пристрою Жумса к графскому двору, а там улизну потихоньку». К тому же у меня в этом деле и свой резон имелся – Бешеного подальше от Селии спровадить.
– Хорошо, – говорю. – Согласен. Только на какой же музыке мне играть?
И в самом деле, во всем Новом городе подходящего снаряжения и близко не имелось.
Что ж, выдали мне сколько-то денег из общественной казны и решили отправить с ближайшим плотом в соседний город, чтобы я там инструментом обзавелся да заодно разузнал, как на нем играют.
Надо сказать, тот год вышел сырой, неурожайный, и цены на хлеб стояли высоко. Наши, понятно, дорого покупать не любили и ждали до последнего – вдруг что изменится. Когда мука в амбарах поиздержалась, пришлось, конечно, снаряжать закупщиков, чтобы взяли хлеб, почем отпускают. На это дело вызвался папаша Хемберменбер, и мне выходило отправляться в путь вместе с ним.
Попрощался я с матушкой, грозно зыркнул на жену, чтобы не баловала во время отъезда, и погрузился на плот. Там уже папаша Хемберменбер меня поджидал. Ему предстояло добраться вниз по реке до самого устья, по дороге выяснить, где мука подешевле, а после сдать лес на верфи и подрядить корабль, чтобы закупить и доставить хлеб. Я же должен был раньше сойти и заняться своим делом.
Так или иначе добрались мы до ближайшего города. Слез я с плота, а папаша Хемберменбер мне говорит:
– Мы обратной дорогой будем не более чем через месяц. Если не хочешь здесь застрять, должен до этого срока управиться.
Я только плечами пожал. «Чего б, – думаю, – мне за целый месяц не управиться? Главное, чтобы к этому времени моя жена чего-нибудь без присмотра не вытворила».
Хемберменбер, значит, о цене на хлеб справился и отбыл, а я пошел у людей насчет музыки узнавать. Местные мне говорят: ступай в любую таверну – там всякого сброду полно, и каждый на чем-нибудь бренчит.
В таверне и в самом деле народу оказалось столько, что не пропихнуться. Не в пример нашим спокойным заведениям, музыка там наяривала так, что голова опухла, и все скакали туда-сюда – танцевали то есть.
Присмотрелся я: музыку четверо играют. Один в дырявую палку дует, второй что-то вроде кузнечных мехов растягивает, третий по доске с лесками тросточкой водит, а четвертый колотит в большой короб. Шум от этого прегромкий, но людям вроде бы нравится. Привычные, наверное. И уже то хорошо, что балланд там никаких не читают, а все больше орут понятные и даже забавные песни. «Вот бы, – думаю, – и наш Паратикомбер такие песни вместо балланд сочинял, тогда бы, наверное, всем легче жилось».
Дождался я, когда музыканты сделают перерыв, и подошел к тому, кто в палку дул.
– Надо мне, – говорю, – господин хороший, научиться так же играть, как вы.
– Отчего же не научиться? – отвечает он. – Вот купи себе флейту и учись на здоровье. У меня как раз запасная есть.
Сторговались мы о цене, и выдал он мне другую дырявую палку, такую же, как у него. «Ну, – думаю, – быстро у меня дело слаживается». Принялся я в палку дуть, а оттуда – только шипение.
– Что же, – говорю, – господин хороший, эта флейта,наверное, сломанная.
– Ничего она не сломанная! – смеется музыкант. – Просто ты дуешь неправильно. Ну-ка, дай, я покажу.
Взял он мою флейту и давай на ней музыку свистеть – аж в ушах заложило.
– Вот и мне нужно такому научиться, – говорю.
– Что ж, я могу научить за особую плату, – кивает музыкант. – У тебя пальцы тонкие – как раз для этого дела подходящие. Уже через два года будешь замечательно играть на флейте.
– Ну нет! – отвечаю. – У меня времени всего месяц. Так что забирайте свою палку, возвращайте деньги, а я пойду в другом месте поспрашиваю.
– Если уж по рукам ударили, так вещь продана, и денег я не верну, – говорит музыкант. – А спрашивать можешь где угодно, – никто тебя за месяц музыке не научит.
Пробовал я с ним рядиться, однако меня быстренько из таверны на улицу выперли. «Ладно же, – думаю. – На одну неудачу нечего смотреть». Спрятал купленную флейту за пазуху и отправился к другой таверне.
Долго я так ходил, много с кем разговаривал, пару раз даже бит бывал, но только все зря – никто не брался меня музыке научить быстрее, чем за год. Пробовал я и на флейте от скуки дудеть, да только мало что получалось. Скоро уж и месяцу конец. Общественные деньги я порядком поиздержал, а ничего не добился. И тут один человек сообщил мне, что на лугах за городом встали табором цыгане. Они, мол, в музыке больше прочих понимают, и надо бы у них тоже о моем деле спросить. Мне-то терять нечего – пошел. «Посмотрю, – думаю, – что это за цыгане такие».
Вышел за город, добрался до лугов и вижу: много там разноцветных повозок стоит, а вокруг снуют чернявые люди в ярких одежках. Подобрался ближе. Эти самые цыгане, как меня увидели, сразу собрались вокруг, лопочут чего-то, смеются. Я спрашиваю:
– Нельзя ли у вас музыке выучиться?
– Конечно, можно, дорогой! – отвечают цыгане. – На чем ты играть хочешь? У нас много разных инструментов. Купи, к примеру, вот эту гитару – на ней быстро научишься. У тебя пальцы тонкие – как раз для этого дела подходящие.
Однако ж я к тому времени уже был опытный.
– Э нет! – говорю. – Ничего я покупать не стану, пока играть не научусь. А времени для этого у меня только три дня.
Перестали цыгане улыбаться.
– Тогда, – говорит один из них, – тебе надо к нашей синьоре идти. Если она захочет, может быть, что-то для тебя и сделает, а нет – так нет.
Повели они меня к какому-то потрепанному шатру, затолкали внутрь, а там сидит женщина, каких я раньше и представить себе не мог. Размерами она такова, что если ее разобрать, то можно семерых, как я, сделать, да еще фунтов десять сала останется. Усы у нее густые – иной мужик позавидовал бы. А запах от цыганки идет такой, как будто бочку уксуса пролили.
Я, конечно, замялся сначала, но потом все же свое дело кое-как изложил. Цыганка расхохоталась, как ворона, и говорит:
– В таком разе, ленивый музыкант, могу предложить тебе райскую тренькалку. Это хитрый механизм, привезенный из дальних земель, и на нем можно играть сразу, безо всякого учения, если, конечно, не побоишься иметь с ним дело.
А откуда б я знал в ту пору, чего следует бояться, а чего нет?
– Давай, – говорю, – свой механизм, но учти, что платить за него не буду, пока играть не смогу.
Достала цыганка некий ящик, не большой, но и не маленький. Сбоку у ящика приделана ручка навроде колодезного ворота.
– Вот, – говорит она. – Крути эту ручку потихоньку от себя – и всех делов.
Взял я коробку, попробовал – действительно, что-то тенькает.
– Да ты ровнее крути! Плавнее! – командует цыганка и хохочет.
Стал я крутить ровнее, и образовалась кое-какая музыка, будто бы что-то внутри у ящика за лески задевает, и они в лад тренькают: там-та-да-да-там, там-та-да-да-там.
– То-то же! – говорит цыганка. – Через денек-другой приноровишься, и совсем ладно получится.
– Что же ты, тетенька, хочешь за этот механизм? – спрашиваю, а сам думаю, что денег на диковину наверняка не хватит.
А цыганка называет цену как раз вровень с тем, сколько у меня монет осталось. Расплатился я, взял тренькалку под мышку и хотел уж уходить, но тут цыганка меня остановила:
– Еще одно не сказала. Ты от себя-то ручку крути, сколько вздумается, а на себя – не пробуй, пока не придет самый крайний случай.
Я в растерянности был, а потому и не спросил, что же это за случай такой и что произойдет, если ручку крутить на себя. Вышел из шатра, а цыгане ко мне уж и не подходят, даже будто в сторону шарахаются.
Поспешил я в город и стал поджидать на пристани корабль Хемберменбера, привыкая заодно на тренькалке играть. В общем, за два дня я с этим инструментом вполне освоился. Плохо только, что ни денег, ни запасов у меня не осталось. Так и приходилось ночевать на улице и голодом голодать. Но, слава богу, в положенное время прибыл наш корабль.
Артельный старшина тренькалку послушал и остался доволен, а после отправился на пристань, встретил там бывшего женишка Селии и стал с ним о чем-то беседовать. Я же к тому времени приналег на припасы, чтобы три голодных дня отожрать обратно. Возвратился Хемберменбер и сообщил, что лучшая цена на хлеб как была в этих местах, так и осталась, а потому за муку он уже рассчитался и теперь надо ее на борт грузить. Я прикинулся спящим, чтобы меня кули таскать не заставили, да незаметно и вправду заснул. Проснулся же, только когда мужики с работой управились и корабль от пристани отчалил.
Добрались мы до Нового города. Народ нашему прибытию обрадовался. Все на причал вышли, шапками машут. Я тренькалку показываю и кричу, чтобы не волновались: поручение, мол, выполнено! Будет теперь музыка! Но на меня никто и не смотрит. Все лезут к Хемберменберу и спрашивают: много ли привез муки?
Оказалось, весь город уже три недели без хлеба сидит. Оно и понятно, что тут не до музыки.
Я первым делом поспешил к матушке, чтобы выяснить, не наблудила ли жена за время моей отлучки, но, кажется, ничего такого не произошло. Я успокоился и пошел Бешеному Жумсу тренькалку показать. Жумс послушал, обрадовался и сказал, что для балланд эта музыка вполне подходит. Надо только теперь наловчиться, как ему читать и как мне крутить, чтобы друг под друга подстраиваться. Ну, день и другой мы так вот упражнялись, и, надо сказать, за это время я как-то лучше стал его стихи понимать, а кое-какие мне даже понравились.
Папаша Хемберменбер меж тем ходил по городу и хвастал, что он-де при общей дороговизне умудрился столько муки купить, что ее теперь до следующей осени хватит. В общем, все хорошо складывалось. Люди караваи пекли, а мы с Жумсом готовились к воскресному представлению, чтобы перед походом к графу опробовать тренькалку на знакомой публике. Вот только в городе начали твориться странные дела.
Поначалу вроде бы ничего особенного: ну, одному живот схватит, ну, другого пронесет. Честно говоря, меня и самого нет-нет да и прослабляло. Некоторые жаловались: мол, шкуру жечь начало и в пот бросает. Потом те девицы-перестарки, что были Жумса главными поклонницами, вдруг бредить стали и чертей ловить на ровном месте. У одной старухи ни с того ни с сего рука почернела, а следом – и у другой. Кое у кого зловонные гнойники открылись. Стали подозревать, что здесь какая-то порча.
Народ в городе приуныл, да и мне эти события не понравились. Думаю: и без того у меня здоровье слабое, а если еще и порча прицепится, то можно Богу душу отдать. С такими мыслями хотел я идти к Жумсу, звать его поскорее в дорогу к графу, пока не поздно, но тут он сам как раз к обеду приходит, весь растревоженный.
– Вот! – говорит Жумс и достает из кармана пригоршню муки. – Попробуй-ка! Не чувствуешь, будто погребом отдает?
Я попробовал, а за мной следом – и матушка с женой.
– Черт его знает, – отвечаем. – Может быть, и отдает, а может, и нет.
– Точно отдает, не сомневайтесь! – говорит Жумс. – Это потому, что мука зараженная. От этого и порча началась. У нас на каторге такой же случай был, когда торгаши-мошенники привезли дрянное зерно. Завтра как раз воскресенье – вот и объявлю народу, чтобы хлеб этот не ели, а муку выбросили в реку!
– Ты в уме ли?! – всполошилась матушка. – Город перед зимой без хлеба оставить хочешь?! Что мы жрать-то станем? Да и не бывает порчи от хлеба, потому что он, как и вино, происходит от Господа.
– Я побольше вашего повидал и знаю, что бывает, а что нет, – отвечает Жумс. – Лучше уж поголодать, чем на тот свет отправиться!
В общем, вышел между ними спор, и переспорить никто не может. Я слушаю и сомневаюсь: вроде бы и Жумс дело говорит, а вроде бы и матушка права. Главное – непонятно, есть теперь хлеб или же не стоит? Селия – та сразу корку в сторону отложила, а я жую и думаю: кажется, вкусно, а вроде и погребом отдает. Решил покамест доесть, что начал, а уж завтра народ небось разберется, как дальше быть.
На следующий день чувствовал я себя неважно. Лихорадка на меня напала, похуже вялой болезни. Хотелось мне дома отлежаться, да пришлось выходить – без меня-то теперь выступление не получится. Кое-как доплелся я до площади, разместился с тренькалкой возле Жумса. По распорядку собрался народ, приготовился терпеть представление.
Жумс велел мне крутить потихоньку, с оттягом, а сам прочел новую балланду про отравленный колодец. Я на людей смотрю, пытаюсь понять, нравится им музыка или не очень. А народ квелый: один кряхтит, другой потеет, как лошадь в упряжке, а третий подергивается. В общем, никому не до музыки. Видать, порча широко разошлась.
После чтения доложил Жумс собранию об отравленной муке. Надо, мол, поскорее от нее избавиться. Тут все всполошились, сразу позабыли о недомогании и давай каждый свое горланить. Одни кричат: правда! Другие: вранье!
Тогда вперед выходит артельный старшина, злой как черт, и говорит:
– Это злокозненный навет! Паратикомбер из мести наговаривает, будто я отравленную муку привез! Все оттого, что он хотел на моей дочке жениться, но получил отказ. А настоящая порча вот от чего! – Хемберменбер прямо на меня дрожащим пальцем указывает: – Вот от этой штуки порча! Малохольный ручку у ней крутит и на нас свою болезнь накручивает!
Я такого подвоха не ожидал. Начал отпираться: ничего, мол, не накручиваю. А сам думаю: кто его знает, может, так оно и есть? Мало ли что мне жирная цыганка подсунула?
Народ приступился, хотел было разбить тренькалку, но папаша Хемберменбер всех остановил.
– Неизвестно еще, что вылезет из этого приспособления, если поломать, – сказал он. – Лучше коробку не будем трогать, а изгоним этих двоих из города на веки вечные, тем более что их вроде как при дворе у графа давно заждались.
На том и порешили. Выдали нам с Жумсом лодку и велели завтра же поутру убираться куда угодно, а в Новый город больше носа не совать.
Матушка и Селия, услыхав такой приговор, разрыдались. Признаться, я и сам всплакнул. А проклятый Жумс Паратикомбер не проронил ни слезинки.
Так или иначе пошел я собираться в изгнание, а тренькалку богомерзкую хотел прямо на площади оставить. Только люди сказали, что им такого подарка не нужно, и велели инструмент забрать с собой.
Матушка с женой снарядили меня в дорогу. Лег я ночевать в последний раз дома, а мне не спится. Лихорадка все сильнее, и мысли разные в голове путаются. «Как, – думаю, – со слабым здоровьем буду на чужбине жить? Помру, наверное, где-нибудь в канаве». Потом другое на ум приходит: «А ну вдруг Жумс прав, и вся отрава от хлеба?! Так, пожалуй, дома еще быстрее помрешь, а у графа при дворе, глядишь, и в самом деле прославимся».
Ворочался я так, ворочался, и тут слышу, будто дверь скрипнула и из дома вышел кто-то. Я в окно выглянул, смотрю – во дворе под луной Селия с Жумсом беседует о чем-то, да еще и за руки его держит! «Ага! – думаю. – Вот когда все на поверхность выплыло!»
Хотел я на улицу выскочить, чтобы застать любовников врасплох, но пока поднимался, пока куртку искал да сапоги натягивал, Селия уже сама вернулась.
– Что же это за паскудство такое?! – спрашиваю я жену.
А она отвечает спокойно, словно и нет за ней никакой вины:
– Это не паскудство, а настоящая любовь. Наконец-то после стольких лет мы с господином Паратикомбером друг другу душу открыли и теперь уже не расстанемся до самой смерти. Я вместе с ним в изгнание отправлюсь. Сейчас он кое-какие дела доделает, придет сюда, и надо будет на пристань идти. Так что собирайся быстрее.
Смотрю я Селии в глаза и вижу, что она твердо решила к Жумсу переметнуться. Такая меня тогда обида взяла, что даже лихорадка немного отступила.
– Как же так?! – спрашиваю. – Неужели я хуже плешивого стихоплета?! Ты посмотри – у него и зубов-то нет, и рожа вся в морщинах.
– Что ж теперь? – пожимает плечами жена. – С зубами-то вас много, а любит меня по-настоящему только один Жумс.
Я по характеру человек тихий, но тут не стерпел и начал ругаться дурными словами.
– Сволочи вы! – кричу. – Подлецы! Если надеетесь, что после такого я стану для Паратикомберовых стишков на тренькалке играть, так не на того напали! Ищите себе другую музыку, а я вас знать не желаю! Как появится Жумс, я ему голову разобью!
Тут матушка проснулась, выяснила, в чем дело, поохала, а потом начала меня урезонивать. Мол, в жизни всякое приключается, тем более когда дело доходит до любви. А с Жумсом ругаться не нужно. Жумс – человек бывалый, и еще неизвестно, кто кому голову разобьет. К тому же с ним на чужбине я как-нибудь, наверное, проживу, а в одиночку – загнусь в скором времени. Да и жена – такая штука, что можно где угодно новую найти, если понадобится.
Покричал я, покричал, да и угомонился. «Что ж, – думаю, – раз пошли несчастья чередой, то ничего с этим не поделаешь и остается только терпеть».
Тут как раз Жумс к нам стучится, запыхавшийся весь.
– Пойдемте скорее! – говорит. – Пора в путь отправляться.
А про дело с моей женой – ни слова, и на меня даже не глядит.
Взяли бабы мешки, я – тренькалку, и отправились мы на пристань, хотя до рассвета еще было далеко. Я нарочно впереди пошел, чтобы ни Жумса, ни Селии не видеть и лишний раз себя не расстраивать. Идем молча, только матушка немного всхлипывает перед разлукой. И тут вдруг колокол зазвонил.
– Никак пожар! – всполошилась матушка. – Надо бы на подмогу спешить!
– Вот еще! – говорю. – Они меня из города выгнали, а я им пожары туши! Пускай сами разбираются!
И Жумс меня поддержал: мол, это теперь не наше дело.
Народ на улицу повылазил, суетится, спрашивает, где и что горит, а мы мимо идем. Так добрались почти до самой площади, и тут слышим за спиной крики:
– Держи Бешеного! Это он амбары подпалил!
Я обернулся и вижу: бегут к нам люди с кольями, и папаша Хемберменбер впереди. Я ничего толком понять не успел, а Жумса уже под руки подхватили.
– Бей поджигателя! – вопит Хемберменбер.
А Жумс ему в ответ:
– Я вас, дураков, спас от страшного яда из отравленной муки! Вы меня благодарить должны!
Его сразу и поблагодарил кто-то колом по лбу. Жумс упал, а его обступили и давай лупить чем попало.
Тут Селия как закричит, будто из нее душу вынимают:
– Не троньте его! Не троньте! – и бросилась людей от Жумса оттаскивать.
Ее раз отпихнули, потом стукнули, потом посильнее наподдали, чтобы не мешала, а она все не отстает, кровь утирает и лезет вперед, старается Бешеного спасти.
Я при виде всего этого растерялся и не знал, что подумать. Вроде бы мне и приятно, что Жумса колотят, но вроде бы и боязно. Люди-то, смотрю, злые и не отступятся, пока до смерти не забьют. Оно и понятно: амбары с хлебом поджечь – хуже преступления, наверное, не бывает.
Паратикомбер сначала выкрикивал что-то, кажется, стихи читал, но после какого-то удара вдруг захрипел, умолк и перестал даже голову руками закрывать. Тогда Селия завизжала так, что я подумал, у меня в ушах лопнет:
– Убийцы! Убийцы!
А потом кинулась на своего папашу и вцепилась ему прямо в шею.
Артельный старшина под горячую руку и стукнул дочурку прямо в висок. То ли у него в кулаке свинчатка была, то ли еще что, но только, несмотря на шум и гвалт, я услыхал, как у Селии голова хрустнула. Бывшая моя жена повалилась навзничь. Папаша Хемберменбер в запале еще пару раз ее пнул, но опомнился, сел рядом и давай тормошить. А она не встает.
Люди меж тем измолотили Жумса до кровавой каши и притомились. Стоят, дышат, папаша Хемберменбер возле убитой дочки плачет, а колокол звонит, не умолкая. Потом вдруг все разом на меня глаза подняли.
– Наверняка и этот помогал амбары поджигать, – говорит кто-то.
– Что вы! Что вы! Сын мой все это время дома спал! – заголосила матушка, но ее никто слушать не собирался.
Вижу, люди ко мне двинулись. У всех кулаки в крови, и глаза красным налиты. Надо бы мне бежать, да только понимаю, что догонят. Тут моя ладонь сама собой легла на ручку тренькалки. Вспомнил я, что жирная цыганка в крайнем случае велела на себя эту ручку крутить. «Ну, – думаю, – какой же еще случай крайний, если не этот?» И провернул тренькалку в неправильную сторону.
Один раз звякнула леска, другой, и зазвучала музыка задом наперед: мат-ад-ад-ат-мат, мат-ад-ад-ат-мат. Как будто все на свете не так, а иначе. Как будто дождь летит на небо, а трава врастает в землю, а дитя в мать залазит. Жуткое дело – такое слышать. Но я, как начал играть, остановиться почему-то уже не мог. Рука сама собой наворачивала.
Люди замерли, вытаращили глаза. Смотрю: волосы у них дыбом поднимаются, а кожа и тут и там подергивается, как у взбесившейся собаки на загривке.
А потом началась корча. Первой она матушку скрутила. Вывернуло у нее вдруг руки, как у людей не бывает, ноги в стороны раскорячило. Начала матушка кругами ходить и подпрыгивать, будто пляшет. Следом за ней кто-то упал на четвереньки и заскакал чертом. Потом уже и все, кто рядом был, пустились в такие страшные пляски, что не дай боже еще раз это увидеть. Вот и артельный старшина убитую дочку свою оставил и принялся кувырки выкидывать.
А я все ручку кручу не туда, не прекращаю. Дьяволова музыка разгоняется, продирает до самого хребта. Так она разошлась, что за ней и колокола не слышно, а на площадь со всех сторон собираются люди. И никто обычным порядком не идет. Иные скачут, иные кубарем перекатываются, иные вообще вытворяют непонятно что. Бабы подолы выше голов задирают, мужики пускают ветры так, что треск стоит, детишки сами себя за язык ногтями тянут. Старухи с черными руками приползли на брюхе, хохочут. Девицы-перестарки с разбегу бьются о стены до крови. Народ кишмя кишит, падает, на лица друг другу наступает. Вой, визг и смрад стоит, и все это непотребство закручивается вокруг тренькалки, как водоворот.
Начало мне мерещиться, будто весь мир наш пошел трещинами, а вокруг вовсе не люди, а демоны и химеры, которые из этих самых прорех выбрались. И сам я – точно такой же, их музыкант.
Колокол давно умолк. Со стороны амбаров приполз огонь и начал забирать дома вокруг площади. За звоном тренькалки не слышно, как пожарища трещат. Да и кому какое дело, когда вокруг такая пляска?
Солнце взошло, и солнце закатилось, а я злодейскую музыку не прекращаю. Многие танцоры повалились наземь, а другие о них спотыкаются. Я дрожу от лихорадки, шкуру на ладони содрал, кровь на землю капает, а мне это даже как будто в удовольствие. Кругом проваливаются прогоревшие крыши.
«Господи Боже мой! – думаю. – Господи Боже милостивый!» А больше ничего думать не в силах. Мир померк. Я мотал, мотал головой, чтобы его обратно вернуть, но не выходило ничего, кроме вывернутой музыки. Только она осталась, и я сам себя позабыл.
Сколько пробыл я в таком забытье – неизвестно. Может быть, и навсегда бы там остался, но только слышу, будто сквозь дьявольскую музыку пробивается стук, сначала слабый, издалека, а потом – ближе. Открыл я глаза, вижу черноту, а через нее идет отец Эколампадий и посохом стучит. Подошел он ко мне, поднял посох и пронзил тренькалку с размаху. Механизм заскрипел, заскрежетал, рукоятку заклинило, и моя ладонь с нее сорвалась со страшной болью, от которой слезы брызнули. Слезами промыло глаза, и только тогда я смог ясно видеть.
Смотрю: вся площадь бездыханными телами завалена, вокруг пепелище, а рядом отец Эколампадий посохом тренькалку крушит. Расколотил он ее так, что остались только щепки и шестеренки, а потом повернулся и пошел куда-то.
Я ему кричу:
– Постойте, святой отец! Что теперь делать-то?
А он не поворачивается – идет себе да идет, через мертвецов перешагивает. Тогда я вспомнил, что священник-то наш глухой и кричать ему нужно в самое ухо.
Догнал я отца Эколампадия, снова спрашиваю, что делать.
– Ступай себе, куда знаешь, – ответил священник, – а я мертвых хоронить буду.
Хотел я сначала священнику помочь, а потом думаю: что от меня толку со слабым здоровьем да с содранной рукой? Отыскал я среди туловищ мешок с припасами, что мне матушка с бывшей женой собрали, и поковылял на пристань. Сел там в лодку, оттолкнулся от берега и поплыл, куда вода течет. Так теперь и шляюсь без малого десять лет.
Премного благодарен вам, хозяева, за хлеб и за редьку. Раз вы не хотите музыку слушать, так, может быть, расскажу я историю о райской тренькалке, будь она неладна. Отчего-то вспомнилась ее музыка, крутится в голове: там-та-да-да-там, там-та-да-да-там.
Вот только имени своего называть не стану. Хотя прошло уже без малого десять лет, за те дела, думается, все еще можно попасть на дыбу или сразу на костер. Пускай моей вины ни в чем нет, но кто ж при таких обстоятельствах будет разбираться?
Так вот. Случилось это далеко от здешних мест, в моем родном городишке, который назывался Новым. Возникло это поселение не очень давно, и путного имени для него придумать не успели.
Народ в Новом городе жил серьезный. Все только тем и занимались, что валили лес и сплавляли его по реке, потому что на королевских верфях за одну хорошую сосну давали пять монет серебром, а это, понятно, деньги немалые. Никто у нас от дела не отлынивал и каждый хотел заработать. Даже меня, с детства страдавшего вялой болезнью, старались пристроить к общему промыслу. Один Жумс Паратикомбер ни черта не делал, а только сочинял свои балланды, но к такому положению и он пришел не сразу.
Поначалу Жумс был как все и трудился за плотовщика, однако к двадцати пяти годам ему вдруг взбрело в голову влюбиться в дочку артельного старшины – Селию Хемберменбер. То есть до этого он мимо Селии всю жизнь ходил – и ничего, а тут вдруг в один момент такая напасть, как будто кто его сглазил.
Артельный старшина, может, и рад был бы отдать дочку за Жумса, тем более что Селия особой красотой не сияла да еще и прихрамывала на левую ногу, как лошадь без подковы. Однако у Жумса от любви мозги съехали набекрень. Вместо того чтобы посвататься приличным порядком, он вдруг начал с утра до ночи сочинять всякие балланды, стихи то есть.
Надо заметить, что стихов в нашем городишке раньше никогда не было и даже музыку в таверне не играли. То есть люди там были рассудительные, пиво пили степенно, под деловой разговор, а всякие фигли-мигли терпеть не могли, почитая их причиной убытков. Как-то раз, помнится, забрел к нам некий трубадур с музыкальной пилой, так его представление даже бабы не стали слушать, и заработал он только два плевка в морду.
Выходит, был наш городишко для балланд местом неподходящим, однако Жумс об этом и знать не хотел. Целями днями таскался он за Селией как привязанный и рассказывал стихи, надеясь таким образом растрогать ее сердце. Только ночью Жумс оставлял Селию в покое, потому что надо ж ему было когда-то новые балланды придумывать.
Ко всему прочему начались у Жумса яростные припадки. Если кто из парней решал вдруг подмигнуть Селии или пошутить с ней, Паратикомбер сразу бросался в драку и бился отчаянно, чем под руку подвернется. Прямо-таки свирепость на него находила.
Из-за этих признаков народ решил, что молодой Паратикомбер повредился в уме. С тех-то пор его и прозвали Бешеным.
Что же до артельного старшины, то он, конечно, не хотел дочурку, хоть и хромоногую, за сумасшедшего отдавать. А сама Селия характер имела робкий и все эти события переживала молча. Однако ж можно было заметить, что всякие там балланды и пристальные взгляды Жумса ее скорее пугают, нежели радуют.
Таким образом прошло около месяца, и тогда братья Селии решили избавить сестру от странного ухажера. Подкараулили они Жумса и хотели с ним беседу провести, однако Паратикомбер говорить не пожелал, достал нож и бросился на троих. Так вышло, что двоих братьев он сразу подрезал почти до смерти и третьего бы пырнул, да только тот успел его раньше поленом оглушить.
Поскольку сначала посчитали, что двое раненых в скором времени помрут и произошло настоящее убийство, Жумса скрутили и отправили для казни к судье в соседний город. Однако оба брата Хемберменбера каким-то образом выжили, а потому Жумса вешать не стали и присудили к бессрочной каторге. В любом случае снова увидеть его в городе рассчитывать не приходилось, из-за чего никто особо не опечалился, а семейство Хемберменберов – так вообще вздохнуло с облегчением.
Лет же через пять после этого до нас дошло известие, что по случаю восшествия на престол нового государя всех каторжан, кроме конокрадов, предполагается выпустить на волю.
На то время у Селии уже имелся женишок из соседнего города, и мы тогда решили, что Жумс, вернувшись с каторги, первым делом его и прибьет.
Такого недоразумения папаша Хемберменбер допустить не хотел, поскольку у женишка была хорошая хлебная торговля и артельный старшина рассчитывал войти в это дело по-семейному. В нашем-то городе все валили лес, а ничем прочим не занимались, отчего хлеб, конечно, приходилось закупать в других местах. Вот Хемберменбер и думал, что от этого предприятия, если с кем надо породниться, ему пойдет отличная прибыль. Как же такого выгодного жениха оставить Жумсу на растерзание? Да и хахаль Селии, судя по всему, тоже не спешил из-за любви с жизнью расставаться. Вот и возник у них совместный план.
Поутру помолвку Селии объявили расторгнутой по причине несходства характеров молодых, а уже к обеду папаша Хемберменбер ко мне приперся и без лишних иносказаний заявил:
– Чего ты тут просто так валяешься? Вместо этого лучше взял бы мою дочурку в жены.
А у меня в тот день как раз был приступ вялой болезни, и я не то чтобы жениться, а вообще ничего не хотел. Так только, лежал на кровати и из последних сил смотрел в потолок.
– Идите вы, господин артельный старшина, к дьяволу! – говорю.
А Хемберменбер стоит на своем: женись – и все тут.
– Да что я, – говорю, – буду делать с вашей дочкой, если и без того очень слаб здоровьем?
– А вот она как раз за тобой и станет ухаживать, – отвечает артельный старшина. – Селия очень сердобольная и любит со всякой дохлятиной возиться. Так что ты женись и не пожалеешь. И с приданым я не поскуплюсь.
– Так она ж еще и хромая! – не сдаюсь я.
– А тебе ее что, в телегу запрягать? – не отступает Хемберменбер. – Да и от кого бы еще такие вещи слушать, но только не от тебя, замухрышки!
Тут, как на беду, матушка из кухни разговор услыхала и тоже ко мне прицепилась:
– В самом деле, чего бы тебе не жениться? Сколько ж мне, старухе, с тобой нянькаться? Пусть и другой кто-нибудь помучается. А то, что невеста прихрамывает, так это ничего. Хромые, говорят, бывают очень выносливыми.
– Да что вы, матушка, городите! – чуть ли не кричу я. – Вы что же, мне желаете смерти?! Разве не слыхали, что вскорости явится с каторги Бешеный Жумс?! Вот он-то мне за эту невесту голову и отвернет!
Тут матушка призадумалась, а Хемберменбер заявляет:
– Ничего такого случиться не может, потому что я придумал, как это предотвратить. Я не поскуплюсь, приобрету железную кольчугу, и будешь носить ее под рубахой. Когда Жумс на тебя с ножом бросится, мы его скрутим и отправим обратно на каторгу.
Матушке план понравился, а вот мне – не очень. Однако эти двое до того лихо взяли меня в оборот, что никаких сил отбрехиваться не хватило.
– Черт с вами! – говорю. – Делайте что хотите, только оставьте меня сейчас в покое!
В общем, следующим же днем нас с Селией обвенчали, и стали мы вроде как муж и жена. Вскоре мне это дело даже понравилось.
Супруга моя была женщиной тихой и хворать во время приступов вялой болезни не мешала. Даже наоборот, меняла мне примочки. Жили мы вполне ладно.
А Бешеный Жумс Паратикомбер все не появлялся. В других городах тамошние каторжники давно уже возвратились по домам и снова набедокурить успели, а нашего нет как нет. И видно, что папаша Хемберменбер по этому поводу проявляет беспокойство. Будто даже жалко ему, что Жумс не показывается. А по мне, так лучше бы Бешеный вообще где-нибудь сгинул. Очень я тревожился, его ожидая, потому что не хотел всяких там драк.
Но целый год прошел вполне спокойно. Только однажды заявились навеселе папаша Хемберменбер с бывшим женишком Селии и говорят, что, мол, свадьба моя была ненастоящая, а совершилась только под угрозой скорого возвращения Жумса. Теперь же, когда вроде буйного каторжника ждать не приходится, неплохо было бы все обратно переиграть, за хорошие отступные, конечно. Пока я над предложением размышлял, появилась моя женушка. Обычно-то она себя вела тише покойника, а тут с руганью на родителя напустилась.
– Что же это, – говорит, – из-за ваших каверз я должна, как кошка, по пять раз на дню замуж выходить?! Не будет такого!
И выгнала папашу вместе с бывшим женихом.
С той поры я жену даже зауважал как человека с характером. Хотя, конечно, отступные, которые папаша Хемберменбер предлагал, были очень соблазнительны и совсем бы не помешали при моем-то слабом здоровье. Ну да уж что вороны склевали, то мышам не достанется.
На второй год женатой жизни я о Жумсе Паратикомбере и думать забыл. Но вот сижу как-то у окна, размышляю, пойти завтра на работу или еще немного похворать, а тут от пристани бегут мальчишки и вопят: «Бешеный вернулся!»
Я сразу поспешил к папаше Хемберменберу за обещанной кольчугой. Тот по случаю оказался дома, однако ж выяснилось, что кольчугу он давно продал, чтобы зря не ржавела.
– А мне что же, – возмущаюсь я, – из-за вашей хозяйственности теперь, как свинье, на убой отправляться?!
– Почему же на убой? – успокаивает меня Хемберменбер. – Сиди себе во дворе и ничего не бойся, а мои сынки рядом спрячутся. Как только Жумс нож достанет, мы его сразу скрутим, а может быть, и совсем прибьем. Он тебя и пальцем тронуть не успеет.
Позвал артельный старшина сыновей, велел им запастись топорами и веревками, взял меня под руку и повел к дому.
Во дворе папаша Хемберменбер посадил меня на лавку, сам стал поодаль, а сыновья его за углом притаились. Сижу я, жду, что вот-вот на дороге Бешеный Жумс покажется. Думаю: очень жаль, что ни мамаши, ни жены сейчас дома нет. Они-то, наверное, смогли бы меня от Жумса спасти, а на младших Хемберменберов надежда плохая. Артельный старшина стоит в кустах, глядит на улицу и мне время от времени подмигивает. Очень я пожалел тогда, что не взял с тестя отступные за его хромую дочку.
Тут артельный старшина кричит на всю улицу:
– Здравствуй, Жумс! Ты ли это?! Тысячу лет тебя не видел!
Вижу: к моей калитке подходит Бешеный Паратикомбер. И раньше-то он своим безумием страх внушал, а теперь, после каторги, и вовсе потерял человеческий облик. Лицо у него стало серое, все морщинами обвисло. Глаза белесые, в красных жилках. Волосы на голове повылезли – только из-за самых ушей два седых пучка торчат. И одет он в такие обноски, что не дай боже.
– Здравствуй, дядя Хемберменбер, – отвечает Жумс и так шепелявит, что понятно – зубов у него немного осталось.
Однако ж, несмотря на свой нехороший вид, ведет себя Жумс вполне мирно. Тогда я подумал, что он, наверное, про нашу с Селией свадьбу еще не знает и до поры опасаться нечего.
– А у нас тут, пока тебя не было, много чего случилось, – продолжает Хемберменбер. – К примеру, дочку мою, Селию, за которой ты все ухлестывал, помнишь? Так я ее замуж выдал!
У меня от таких речей сердце похолодело. «И кто старого борова за язык тянет?! Неужто нельзя было о чем другом разговор завести?! Зачем Бешеного раньше времени распалять?»
Однако Жумс отвечает вроде как спокойно:
– Конечно, я помню Селию. Надеюсь, что она счастлива в этом браке.
А Хемберменбер, язва ему в нутро, не унимается.
– Знаешь, за кого я Селию-то выдал? Нипочем не угадаешь. Вот за этого малахольного! – говорит артельный старшина и в меня пальцем тычет, будто специально Бешеного натравливает.
Подумал я, что без смертоубийства теперь, наверное, не обойдется.
А Жумс глядит на меня глазами в красных прожилках. Ну, кажется, сейчас бросится! Однако Жумс не бросился, а только вздохнул и пожал плечами.
– Что ж, – говорит, – примите поздравления. Раз Селия за вас замуж пошла, значит, вы, наверное, человек достойный. Совет вам да любовь.
От такого поворота Хемберменбер слегка опешил.
– Постой-ка! – кричит он Жумсу. – А ты что же, не будешь на малахольного с ножом кидаться? Ведь он твою девку увел! Хотя, может быть, у тебя сейчас ножа нет? Так я свой одолжу.
– Нет, – отвечает Жумс. – Ни на кого я кидаться не буду. Это заблуждение юности я в себе окончательно изжил.
Сказал он так, прокашлялся и пошел своей дорогой.
Тут, значит, сынки Хемберменберы из-за угла выглядывают, интересуются, когда же им Жумса хватать. На это артельный старшина только махнул рукой и зашагал к своему дому.
А я ему кричу вдогонку:
– Теперь, папаша, ваш замысел стал вполне ясен! Вы, не иначе, хотели, чтобы Бешеный Жумс меня жизни лишил, сам на каторгу отправился да заодно освободил бы место подле вашей дочки для желательного жениха. Это очень похоже на преступление!
Хемберменбер мне ничего не ответил.
Когда я это происшествие матушке вечером рассказал, она хотела на свата в суд донести, однако ж ее Селия отговорила. Мол, не по-семейному это. Да и, скорее всего, оправдают папашу Хемберменбера за болезнью, поскольку у него и ранее случались припадки коварства.
Жумс стал жить тихо, будто на каторге вместе со здоровьем и бешенство растерял. На Селию он и глаз не поднимал и старался нигде на улице с ней случайно не встретиться. В общем, вел себя вполне пристойно. Одно только в нем народ смущало: никак Жумс не хотел приниматься за работу, а вместо этого целыми днями что-то царапал на бумаге. Наверное, все те же балланды.
По этому поводу приходили к нему уважаемые люди, увещевали, чтобы он в артель записывался и начинал жить, как все. Однако Жумс отнекивался, говорил, что за годы лишений окончательно открыл свое призвание. Мол-де, он поэт и предназначен для того, чтобы через стих нести в мир красоту и правду, а потому ни на что другое тратить себя не намерен.
Казалось бы, и черт с ним, с полоумным. Нравится ему балланды писать, так пусть и пишет. Но тут по городу слух пошел, будто Жумс промышляет воровством. Кому такая мысль первому в голову взбрела – неизвестно, но уже вскоре все говорили об этом как о совершенно ясном деле. А как иначе? Ведь Жумс работу не работает, но и с голоду не подыхает. Откуда ж ему, спрашивается, пропитание брать, если не приворовывать?
Собрались уже люди на Паратикомбера донос писать, но тут вышла загвоздка: доказательств-то его преступности никаких нет, а без этого судья, пожалуй, донос не примет.
Тогда установили за Жумсом слежку и начали каждый свое добро перебирать, выяснять, что же пропало. Долго возились, однако ясности не прибавилось. Всякий был уверен, что чего-то из имущества не хватает, а чего именно и сколько – назвать не мог. И слежка впустую прошла. Жумс в основном дома сидел, и смотреть за ним было очень уж неинтересно, а потому соглядатаи либо засыпали в засаде, либо бросали пост и отправлялись в таверну.
В итоге все сошлись на том, что проклятый Паратикомбер на каторге до того хитро выучился воровать, что его теперь никак и не поймаешь. Людей это очень расстроило, а предложить, как выйти из затруднения, никто не мог.
Началась в городе беспокойная жизнь. Народ обо всем позабыл и только и думал, как бы свое имущество защитить от грабежа. Накупили замков и запоров, на работу и в церковь стали ходить по очереди, чтобы всегда в доме оставался сторож, спать начали плохо, подскакивали от каждого шороха – вдруг вор лезет. Каждый завел специальную книгу, в которую для учета записывал свое барахло вплоть до последней ветошки. От таких трудов и волнений начал народ выбиваться из сил и впадать в раздражительность.
Стало ясно, что эдак жить нельзя, и тогда решили люди без обиняков с Жумсом переговорить. Разбудили они нашего священника, глухого Эколампадия, собрали делегацию и направились к дому Паратикомбера. Тот если и удивился такому визиту, то виду не подал.
– Что вам, – спрашивает, – от меня потребовалось?
– А то, – говорят люди, – чтобы ты воровать прекратил.
– С чего вы взяли, будто я ворую? – интересуется Паратикомбер.
– С того, что работать ты не работаешь, а вон какой холеный и откормленный!
Тут, надо сказать, народ малость перегнул. Холеным-то и откормленным Жумса вряд ли можно было назвать. Скорее, даже наоборот, непонятно, на чем у него штаны держались – так он отощал.
– Я больше питаюсь духовной пищей, чем телесной, – отвечает Жумс, – потому мне очень мало всего надо.
Такие слова народ не устроили.
– Нет, – говорят, – этим нас не заморочишь! Лучше отправляйся, как все прочие, на работу, чтобы мы знали, чем ты живешь, или же поди прочь из города и не искушай нас больше!
Тогда Жумс приосанился и гордо заявил, что работать может только поэтом, так как в этом его предназначение свыше.
Люди по-всякому пытались его усовестить, однако он на своем стоял твердо. Такая вышла заминка, что никто не знал, чем препирательство закончить. По-хорошему, надо было бы прибить Жумса всем миром, да и дело с концом. А то чего зря собирались-то? Однако некоторые сомневались: мол, это, кажется, не по закону.
Тогда растолкали глухого Эколампадия, сомлевшего было на солнышке, и криком прямо в ухо объяснили ему, в чем вопрос, чтобы тот рассудил по церковному праву.
– Отчего вы, чада, всполошились? – удивился Эколампадий. – Ежели хочет сия заблудшая овца быть стихотворцем, так пускай. Может, из этого выйдет какая-то польза. Ведь и царь Давид, и царь Соломон слагали вирши во славу Божью.
На это священнику возразили: то были цари, и всякому понятно, что им работать для пропитания не требовалось, а здесь совсем другой случай.
И тут точно дьявол меня за язык потянул. Я возьми да и ляпни:
– А что, если нам скидываться Жумсу понемногу за его балланды?
– В самом деле, – кивнул Эколампадий. – Чтобы не было сомнений, предоставьте своему брату пропитание за труды. Пусть по воскресеньям, кроме постных дней, после церковной службы Жумс принародно на площади читает свои стихи, а вы за это давайте ему по четверти пфеннига с дома. Кажется, это не очень накладно.
Все решили, что большого убытка от такого обычая, пожалуй, не будет и для спокойствия можно поступиться четвертью пфеннига. Жумс читать стихи согласился. На том и условились, после чего в городе наступило спокойствие.
С этих пор Жумс целую неделю сочинял какую-нибудь балланду, в праздничный день зачитывал ее на площади, стоя на перевернутой бочке, а потом со слушателей деньги в шапку собирал.
И надо сказать, до того унылое это было зрелище, что просто ляг да подохни. Уж на что отец Эколампадий скучно службу проводил, но ее можно было вытерпеть, потому что она для спасения души, а вот за какие блага слушать Жумсовы балланды да еще и четверть пфеннига за это платить – неясно.
Главное же, никто не мог разобрать, о чем Жумс на бочке заливается. Все слова вроде бы понятные, но, хоть лоб расшиби, не уразумеешь, что там такое приключилось. Ко всему прочему, Жумс еще и шепелявил сильно из-за отсутствия зубов и слюнями брызгал, если в раж входил.
В общем, благосклонно всю эту болтовню слушал только отец Эколампадий. Так оно и понятно: священник-то глухой. Ему что сделается? А остальные старались поскорее деньги в шапку бросить и с площади улизнуть либо же вовсе туда не являться под предлогом разных обстоятельств. Кто же не смог отвертеться, у того потом до самого вечера башка трещала от Жумсовых балланд так, что и праздник не в праздник.
Скоро все свелось к тому, что народ на площадь приходить перестал, а деньги Паратикомберу так пытались передать, без личного присутствия на представлении. Однако Жумс брать их наотрез отказывался. Говорил, что раз стихов его не слушали, то и платить тут не за что. Вот и вышло: от чего мы ушли, к тому и вернулись, и появились опасения, как бы Паратикомбер из-за отсутствия денег снова не принялся за воровство.
Тогда на общем сборе решили составить распорядок, по которому слушать стихи каждому в свою очередь, чтобы и Бешеного Жумса без законного пропитания не оставлять, и самим не слишком перетруждать голову. Так и поступили. С тех пор каждый горожанин, исключая детей, баб на сносях и кормящих матерей, должен был являться на площадь через два воскресенья на третье и составлять там публику на Паратикомберовых чтениях.
Жумс, кажется, понимал, что народ его стихи ненавидит лютой ненавистью и слушает их не по зову сердца. В душе Паратикомбер, наверное, расстраивался, но вслух говорил, что для принятия поэзии нужны привычка и особый склад ума, и он эту привычку не мытьем, так катаньем у нас выработает.
Со временем привычка и правда начала появляться. Сам я, к примеру, вскоре мог вполне спокойно высидеть до самого конца балланды и не заснуть. К удивлению, у некоторых даже особый склад ума возник. Несколько девиц-перестарков принялись на площадь без очереди каждое воскресенье ходить, а после приступать к Жумсу и допытываться, какая мысль подразумевалась в том или ином стихотворении.
Заметил я, что среди этих девиц и моя Селия затесалась. То есть, конечно, с расспросами к Жумсу она не подходила, однако ж всякое воскресенье площадь посещала исправно. Сначала я этому значения не придал, да только меня матушка просветила.
– Не иначе, – говорит, – моя невестка в стихоплета влюбилась. Вон как на него глядит, словно поп на алтарь!
– С чего бы? – удивляюсь. – Если он в прежние времена ей не нужен был, так теперь, плешивый да беззубый, зачем бы сдался?
– Плохо ты, сынок, понимаешь бабье сердце, – качает головой матушка. – Но, однако ж, следи, как бы чего не вышло.
Стал я следить – и точно. Неспроста Селия на Жумса поглядывала. Да и он, как начинал про терновый венец любви читать, все время в ее сторону поворачивался.
Приступился я к жене, потребовал, чтобы не в свою очередь на площадь не ходила, а только по распорядку. Она в ответ говорит:
– Что вы от меня хотите? Я перед вами ни в чем не виновата, так могу в выходной день и про прекрасное послушать. Это, может быть, моя отдушина.
Хотел я ее поколотить для порядка, да только в то время чувствовал себя неважно из-за вялой болезни. «Бог с ней, – думаю. – Пускай себе слушает в отдушину, пока не забывается».
О городе нашем благодаря Жумсовым стихам распространилась слава как об очень культурном поселении. Вроде бы сам граф собирался лично представление посетить. Эти слухи очень взволновали Паратикомбера. Он на прибытие сиятельной особы сильно надеялся: «Вот уж кто поймет мое искусство по-настоящему!» Однако граф так и не приехал, зато послал городу в дар красивую доску с золоченой надписью.
Ни денег, ни привилегий к доске не прилагалось, но Паратикомбер после награды очень возгордился. «Кроме вас, дуболомов, – говорил он, – есть еще благородные люди, которые кое-что понимают в поэзии».
Слушать такие слова было обидно. Мало того что отец Эколампадий каждое воскресенье обличал нас в грехах, так теперь еще и Паратикомбер обзываться начал. Вот однажды кто-то возьми да и ответь Жумсу:
– Раз мы дуболомы, так чего ж ты среди нас зря страдаешь?! Вот и пошел бы к графу! Там бы тебе небось обрадовались, как гусю на Рождество!
– Давно бы уж пошел, – огрызнулся Жумс, – да только у высокой публики принято, чтобы стихи читали под музыку, а в этом городишке никто даже в бубен стучать не умеет. Если был бы со мной подходящий музыкант, я бы тут ни дня не остался и давно бы уже прославился.
Эти слова всем запали в самое сердце. Что же, выходит, если найти Жумсу музыканта, то он уберется из города и на представлениях сидеть не надо будет?
Начали размышлять насчет музыканта, да только где ж его возьмешь? Среди наших, понятно, никто умениями по этой части похвастаться не мог, а пришлых звать – дело ненадежное. Они, наверное, долго Жумсовых балланд не выдержат и сбегут с деньгами, потому как у них привычки нет.
Тут папаша Хемберменбер говорит:
– Пускай мой зятек на какой-нибудь музыке играть выучится и проваливает к графу вместе с Бешеным Жумсом!
Я как это услышал, очень удивился:
– С чего это? Вы сами-то посудите, какой из меня музыкант?!
– А с того, – отвечает артельный старшина, – что ты всю эту канитель начал – ты и распутывай! Кто, скажи-ка, первым предложил Жумсу на стихи скидываться?! Кроме того, ты человек во всем городе для работы самый бесполезный, значит, если отлучишься на месяц-другой, дело особо не пострадает.
А народу только и надо, что крайнего найти.
– Конечно! – загалдели все. – Пусть малахольный в музыканты идет! Кому еще идти, как не ему?!
Я отбрехивался, как мог, а потом думаю: «И черт с вами! Смотаюсь в музыканты туда и обратно, пристрою Жумса к графскому двору, а там улизну потихоньку». К тому же у меня в этом деле и свой резон имелся – Бешеного подальше от Селии спровадить.
– Хорошо, – говорю. – Согласен. Только на какой же музыке мне играть?
И в самом деле, во всем Новом городе подходящего снаряжения и близко не имелось.
Что ж, выдали мне сколько-то денег из общественной казны и решили отправить с ближайшим плотом в соседний город, чтобы я там инструментом обзавелся да заодно разузнал, как на нем играют.
Надо сказать, тот год вышел сырой, неурожайный, и цены на хлеб стояли высоко. Наши, понятно, дорого покупать не любили и ждали до последнего – вдруг что изменится. Когда мука в амбарах поиздержалась, пришлось, конечно, снаряжать закупщиков, чтобы взяли хлеб, почем отпускают. На это дело вызвался папаша Хемберменбер, и мне выходило отправляться в путь вместе с ним.
Попрощался я с матушкой, грозно зыркнул на жену, чтобы не баловала во время отъезда, и погрузился на плот. Там уже папаша Хемберменбер меня поджидал. Ему предстояло добраться вниз по реке до самого устья, по дороге выяснить, где мука подешевле, а после сдать лес на верфи и подрядить корабль, чтобы закупить и доставить хлеб. Я же должен был раньше сойти и заняться своим делом.
Так или иначе добрались мы до ближайшего города. Слез я с плота, а папаша Хемберменбер мне говорит:
– Мы обратной дорогой будем не более чем через месяц. Если не хочешь здесь застрять, должен до этого срока управиться.
Я только плечами пожал. «Чего б, – думаю, – мне за целый месяц не управиться? Главное, чтобы к этому времени моя жена чего-нибудь без присмотра не вытворила».
Хемберменбер, значит, о цене на хлеб справился и отбыл, а я пошел у людей насчет музыки узнавать. Местные мне говорят: ступай в любую таверну – там всякого сброду полно, и каждый на чем-нибудь бренчит.
В таверне и в самом деле народу оказалось столько, что не пропихнуться. Не в пример нашим спокойным заведениям, музыка там наяривала так, что голова опухла, и все скакали туда-сюда – танцевали то есть.
Присмотрелся я: музыку четверо играют. Один в дырявую палку дует, второй что-то вроде кузнечных мехов растягивает, третий по доске с лесками тросточкой водит, а четвертый колотит в большой короб. Шум от этого прегромкий, но людям вроде бы нравится. Привычные, наверное. И уже то хорошо, что балланд там никаких не читают, а все больше орут понятные и даже забавные песни. «Вот бы, – думаю, – и наш Паратикомбер такие песни вместо балланд сочинял, тогда бы, наверное, всем легче жилось».
Дождался я, когда музыканты сделают перерыв, и подошел к тому, кто в палку дул.
– Надо мне, – говорю, – господин хороший, научиться так же играть, как вы.
– Отчего же не научиться? – отвечает он. – Вот купи себе флейту и учись на здоровье. У меня как раз запасная есть.
Сторговались мы о цене, и выдал он мне другую дырявую палку, такую же, как у него. «Ну, – думаю, – быстро у меня дело слаживается». Принялся я в палку дуть, а оттуда – только шипение.
– Что же, – говорю, – господин хороший, эта флейта,наверное, сломанная.
– Ничего она не сломанная! – смеется музыкант. – Просто ты дуешь неправильно. Ну-ка, дай, я покажу.
Взял он мою флейту и давай на ней музыку свистеть – аж в ушах заложило.
– Вот и мне нужно такому научиться, – говорю.
– Что ж, я могу научить за особую плату, – кивает музыкант. – У тебя пальцы тонкие – как раз для этого дела подходящие. Уже через два года будешь замечательно играть на флейте.
– Ну нет! – отвечаю. – У меня времени всего месяц. Так что забирайте свою палку, возвращайте деньги, а я пойду в другом месте поспрашиваю.
– Если уж по рукам ударили, так вещь продана, и денег я не верну, – говорит музыкант. – А спрашивать можешь где угодно, – никто тебя за месяц музыке не научит.
Пробовал я с ним рядиться, однако меня быстренько из таверны на улицу выперли. «Ладно же, – думаю. – На одну неудачу нечего смотреть». Спрятал купленную флейту за пазуху и отправился к другой таверне.
Долго я так ходил, много с кем разговаривал, пару раз даже бит бывал, но только все зря – никто не брался меня музыке научить быстрее, чем за год. Пробовал я и на флейте от скуки дудеть, да только мало что получалось. Скоро уж и месяцу конец. Общественные деньги я порядком поиздержал, а ничего не добился. И тут один человек сообщил мне, что на лугах за городом встали табором цыгане. Они, мол, в музыке больше прочих понимают, и надо бы у них тоже о моем деле спросить. Мне-то терять нечего – пошел. «Посмотрю, – думаю, – что это за цыгане такие».
Вышел за город, добрался до лугов и вижу: много там разноцветных повозок стоит, а вокруг снуют чернявые люди в ярких одежках. Подобрался ближе. Эти самые цыгане, как меня увидели, сразу собрались вокруг, лопочут чего-то, смеются. Я спрашиваю:
– Нельзя ли у вас музыке выучиться?
– Конечно, можно, дорогой! – отвечают цыгане. – На чем ты играть хочешь? У нас много разных инструментов. Купи, к примеру, вот эту гитару – на ней быстро научишься. У тебя пальцы тонкие – как раз для этого дела подходящие.
Однако ж я к тому времени уже был опытный.
– Э нет! – говорю. – Ничего я покупать не стану, пока играть не научусь. А времени для этого у меня только три дня.
Перестали цыгане улыбаться.
– Тогда, – говорит один из них, – тебе надо к нашей синьоре идти. Если она захочет, может быть, что-то для тебя и сделает, а нет – так нет.
Повели они меня к какому-то потрепанному шатру, затолкали внутрь, а там сидит женщина, каких я раньше и представить себе не мог. Размерами она такова, что если ее разобрать, то можно семерых, как я, сделать, да еще фунтов десять сала останется. Усы у нее густые – иной мужик позавидовал бы. А запах от цыганки идет такой, как будто бочку уксуса пролили.
Я, конечно, замялся сначала, но потом все же свое дело кое-как изложил. Цыганка расхохоталась, как ворона, и говорит:
– В таком разе, ленивый музыкант, могу предложить тебе райскую тренькалку. Это хитрый механизм, привезенный из дальних земель, и на нем можно играть сразу, безо всякого учения, если, конечно, не побоишься иметь с ним дело.
А откуда б я знал в ту пору, чего следует бояться, а чего нет?
– Давай, – говорю, – свой механизм, но учти, что платить за него не буду, пока играть не смогу.
Достала цыганка некий ящик, не большой, но и не маленький. Сбоку у ящика приделана ручка навроде колодезного ворота.
– Вот, – говорит она. – Крути эту ручку потихоньку от себя – и всех делов.
Взял я коробку, попробовал – действительно, что-то тенькает.
– Да ты ровнее крути! Плавнее! – командует цыганка и хохочет.
Стал я крутить ровнее, и образовалась кое-какая музыка, будто бы что-то внутри у ящика за лески задевает, и они в лад тренькают: там-та-да-да-там, там-та-да-да-там.
– То-то же! – говорит цыганка. – Через денек-другой приноровишься, и совсем ладно получится.
– Что же ты, тетенька, хочешь за этот механизм? – спрашиваю, а сам думаю, что денег на диковину наверняка не хватит.
А цыганка называет цену как раз вровень с тем, сколько у меня монет осталось. Расплатился я, взял тренькалку под мышку и хотел уж уходить, но тут цыганка меня остановила:
– Еще одно не сказала. Ты от себя-то ручку крути, сколько вздумается, а на себя – не пробуй, пока не придет самый крайний случай.
Я в растерянности был, а потому и не спросил, что же это за случай такой и что произойдет, если ручку крутить на себя. Вышел из шатра, а цыгане ко мне уж и не подходят, даже будто в сторону шарахаются.
Поспешил я в город и стал поджидать на пристани корабль Хемберменбера, привыкая заодно на тренькалке играть. В общем, за два дня я с этим инструментом вполне освоился. Плохо только, что ни денег, ни запасов у меня не осталось. Так и приходилось ночевать на улице и голодом голодать. Но, слава богу, в положенное время прибыл наш корабль.
Артельный старшина тренькалку послушал и остался доволен, а после отправился на пристань, встретил там бывшего женишка Селии и стал с ним о чем-то беседовать. Я же к тому времени приналег на припасы, чтобы три голодных дня отожрать обратно. Возвратился Хемберменбер и сообщил, что лучшая цена на хлеб как была в этих местах, так и осталась, а потому за муку он уже рассчитался и теперь надо ее на борт грузить. Я прикинулся спящим, чтобы меня кули таскать не заставили, да незаметно и вправду заснул. Проснулся же, только когда мужики с работой управились и корабль от пристани отчалил.
Добрались мы до Нового города. Народ нашему прибытию обрадовался. Все на причал вышли, шапками машут. Я тренькалку показываю и кричу, чтобы не волновались: поручение, мол, выполнено! Будет теперь музыка! Но на меня никто и не смотрит. Все лезут к Хемберменберу и спрашивают: много ли привез муки?
Оказалось, весь город уже три недели без хлеба сидит. Оно и понятно, что тут не до музыки.
Я первым делом поспешил к матушке, чтобы выяснить, не наблудила ли жена за время моей отлучки, но, кажется, ничего такого не произошло. Я успокоился и пошел Бешеному Жумсу тренькалку показать. Жумс послушал, обрадовался и сказал, что для балланд эта музыка вполне подходит. Надо только теперь наловчиться, как ему читать и как мне крутить, чтобы друг под друга подстраиваться. Ну, день и другой мы так вот упражнялись, и, надо сказать, за это время я как-то лучше стал его стихи понимать, а кое-какие мне даже понравились.
Папаша Хемберменбер меж тем ходил по городу и хвастал, что он-де при общей дороговизне умудрился столько муки купить, что ее теперь до следующей осени хватит. В общем, все хорошо складывалось. Люди караваи пекли, а мы с Жумсом готовились к воскресному представлению, чтобы перед походом к графу опробовать тренькалку на знакомой публике. Вот только в городе начали твориться странные дела.
Поначалу вроде бы ничего особенного: ну, одному живот схватит, ну, другого пронесет. Честно говоря, меня и самого нет-нет да и прослабляло. Некоторые жаловались: мол, шкуру жечь начало и в пот бросает. Потом те девицы-перестарки, что были Жумса главными поклонницами, вдруг бредить стали и чертей ловить на ровном месте. У одной старухи ни с того ни с сего рука почернела, а следом – и у другой. Кое у кого зловонные гнойники открылись. Стали подозревать, что здесь какая-то порча.
Народ в городе приуныл, да и мне эти события не понравились. Думаю: и без того у меня здоровье слабое, а если еще и порча прицепится, то можно Богу душу отдать. С такими мыслями хотел я идти к Жумсу, звать его поскорее в дорогу к графу, пока не поздно, но тут он сам как раз к обеду приходит, весь растревоженный.
– Вот! – говорит Жумс и достает из кармана пригоршню муки. – Попробуй-ка! Не чувствуешь, будто погребом отдает?
Я попробовал, а за мной следом – и матушка с женой.
– Черт его знает, – отвечаем. – Может быть, и отдает, а может, и нет.
– Точно отдает, не сомневайтесь! – говорит Жумс. – Это потому, что мука зараженная. От этого и порча началась. У нас на каторге такой же случай был, когда торгаши-мошенники привезли дрянное зерно. Завтра как раз воскресенье – вот и объявлю народу, чтобы хлеб этот не ели, а муку выбросили в реку!
– Ты в уме ли?! – всполошилась матушка. – Город перед зимой без хлеба оставить хочешь?! Что мы жрать-то станем? Да и не бывает порчи от хлеба, потому что он, как и вино, происходит от Господа.
– Я побольше вашего повидал и знаю, что бывает, а что нет, – отвечает Жумс. – Лучше уж поголодать, чем на тот свет отправиться!
В общем, вышел между ними спор, и переспорить никто не может. Я слушаю и сомневаюсь: вроде бы и Жумс дело говорит, а вроде бы и матушка права. Главное – непонятно, есть теперь хлеб или же не стоит? Селия – та сразу корку в сторону отложила, а я жую и думаю: кажется, вкусно, а вроде и погребом отдает. Решил покамест доесть, что начал, а уж завтра народ небось разберется, как дальше быть.
На следующий день чувствовал я себя неважно. Лихорадка на меня напала, похуже вялой болезни. Хотелось мне дома отлежаться, да пришлось выходить – без меня-то теперь выступление не получится. Кое-как доплелся я до площади, разместился с тренькалкой возле Жумса. По распорядку собрался народ, приготовился терпеть представление.
Жумс велел мне крутить потихоньку, с оттягом, а сам прочел новую балланду про отравленный колодец. Я на людей смотрю, пытаюсь понять, нравится им музыка или не очень. А народ квелый: один кряхтит, другой потеет, как лошадь в упряжке, а третий подергивается. В общем, никому не до музыки. Видать, порча широко разошлась.
После чтения доложил Жумс собранию об отравленной муке. Надо, мол, поскорее от нее избавиться. Тут все всполошились, сразу позабыли о недомогании и давай каждый свое горланить. Одни кричат: правда! Другие: вранье!
Тогда вперед выходит артельный старшина, злой как черт, и говорит:
– Это злокозненный навет! Паратикомбер из мести наговаривает, будто я отравленную муку привез! Все оттого, что он хотел на моей дочке жениться, но получил отказ. А настоящая порча вот от чего! – Хемберменбер прямо на меня дрожащим пальцем указывает: – Вот от этой штуки порча! Малохольный ручку у ней крутит и на нас свою болезнь накручивает!
Я такого подвоха не ожидал. Начал отпираться: ничего, мол, не накручиваю. А сам думаю: кто его знает, может, так оно и есть? Мало ли что мне жирная цыганка подсунула?
Народ приступился, хотел было разбить тренькалку, но папаша Хемберменбер всех остановил.
– Неизвестно еще, что вылезет из этого приспособления, если поломать, – сказал он. – Лучше коробку не будем трогать, а изгоним этих двоих из города на веки вечные, тем более что их вроде как при дворе у графа давно заждались.
На том и порешили. Выдали нам с Жумсом лодку и велели завтра же поутру убираться куда угодно, а в Новый город больше носа не совать.
Матушка и Селия, услыхав такой приговор, разрыдались. Признаться, я и сам всплакнул. А проклятый Жумс Паратикомбер не проронил ни слезинки.
Так или иначе пошел я собираться в изгнание, а тренькалку богомерзкую хотел прямо на площади оставить. Только люди сказали, что им такого подарка не нужно, и велели инструмент забрать с собой.
Матушка с женой снарядили меня в дорогу. Лег я ночевать в последний раз дома, а мне не спится. Лихорадка все сильнее, и мысли разные в голове путаются. «Как, – думаю, – со слабым здоровьем буду на чужбине жить? Помру, наверное, где-нибудь в канаве». Потом другое на ум приходит: «А ну вдруг Жумс прав, и вся отрава от хлеба?! Так, пожалуй, дома еще быстрее помрешь, а у графа при дворе, глядишь, и в самом деле прославимся».
Ворочался я так, ворочался, и тут слышу, будто дверь скрипнула и из дома вышел кто-то. Я в окно выглянул, смотрю – во дворе под луной Селия с Жумсом беседует о чем-то, да еще и за руки его держит! «Ага! – думаю. – Вот когда все на поверхность выплыло!»
Хотел я на улицу выскочить, чтобы застать любовников врасплох, но пока поднимался, пока куртку искал да сапоги натягивал, Селия уже сама вернулась.
– Что же это за паскудство такое?! – спрашиваю я жену.
А она отвечает спокойно, словно и нет за ней никакой вины:
– Это не паскудство, а настоящая любовь. Наконец-то после стольких лет мы с господином Паратикомбером друг другу душу открыли и теперь уже не расстанемся до самой смерти. Я вместе с ним в изгнание отправлюсь. Сейчас он кое-какие дела доделает, придет сюда, и надо будет на пристань идти. Так что собирайся быстрее.
Смотрю я Селии в глаза и вижу, что она твердо решила к Жумсу переметнуться. Такая меня тогда обида взяла, что даже лихорадка немного отступила.
– Как же так?! – спрашиваю. – Неужели я хуже плешивого стихоплета?! Ты посмотри – у него и зубов-то нет, и рожа вся в морщинах.
– Что ж теперь? – пожимает плечами жена. – С зубами-то вас много, а любит меня по-настоящему только один Жумс.
Я по характеру человек тихий, но тут не стерпел и начал ругаться дурными словами.
– Сволочи вы! – кричу. – Подлецы! Если надеетесь, что после такого я стану для Паратикомберовых стишков на тренькалке играть, так не на того напали! Ищите себе другую музыку, а я вас знать не желаю! Как появится Жумс, я ему голову разобью!
Тут матушка проснулась, выяснила, в чем дело, поохала, а потом начала меня урезонивать. Мол, в жизни всякое приключается, тем более когда дело доходит до любви. А с Жумсом ругаться не нужно. Жумс – человек бывалый, и еще неизвестно, кто кому голову разобьет. К тому же с ним на чужбине я как-нибудь, наверное, проживу, а в одиночку – загнусь в скором времени. Да и жена – такая штука, что можно где угодно новую найти, если понадобится.
Покричал я, покричал, да и угомонился. «Что ж, – думаю, – раз пошли несчастья чередой, то ничего с этим не поделаешь и остается только терпеть».
Тут как раз Жумс к нам стучится, запыхавшийся весь.
– Пойдемте скорее! – говорит. – Пора в путь отправляться.
А про дело с моей женой – ни слова, и на меня даже не глядит.
Взяли бабы мешки, я – тренькалку, и отправились мы на пристань, хотя до рассвета еще было далеко. Я нарочно впереди пошел, чтобы ни Жумса, ни Селии не видеть и лишний раз себя не расстраивать. Идем молча, только матушка немного всхлипывает перед разлукой. И тут вдруг колокол зазвонил.
– Никак пожар! – всполошилась матушка. – Надо бы на подмогу спешить!
– Вот еще! – говорю. – Они меня из города выгнали, а я им пожары туши! Пускай сами разбираются!
И Жумс меня поддержал: мол, это теперь не наше дело.
Народ на улицу повылазил, суетится, спрашивает, где и что горит, а мы мимо идем. Так добрались почти до самой площади, и тут слышим за спиной крики:
– Держи Бешеного! Это он амбары подпалил!
Я обернулся и вижу: бегут к нам люди с кольями, и папаша Хемберменбер впереди. Я ничего толком понять не успел, а Жумса уже под руки подхватили.
– Бей поджигателя! – вопит Хемберменбер.
А Жумс ему в ответ:
– Я вас, дураков, спас от страшного яда из отравленной муки! Вы меня благодарить должны!
Его сразу и поблагодарил кто-то колом по лбу. Жумс упал, а его обступили и давай лупить чем попало.
Тут Селия как закричит, будто из нее душу вынимают:
– Не троньте его! Не троньте! – и бросилась людей от Жумса оттаскивать.
Ее раз отпихнули, потом стукнули, потом посильнее наподдали, чтобы не мешала, а она все не отстает, кровь утирает и лезет вперед, старается Бешеного спасти.
Я при виде всего этого растерялся и не знал, что подумать. Вроде бы мне и приятно, что Жумса колотят, но вроде бы и боязно. Люди-то, смотрю, злые и не отступятся, пока до смерти не забьют. Оно и понятно: амбары с хлебом поджечь – хуже преступления, наверное, не бывает.
Паратикомбер сначала выкрикивал что-то, кажется, стихи читал, но после какого-то удара вдруг захрипел, умолк и перестал даже голову руками закрывать. Тогда Селия завизжала так, что я подумал, у меня в ушах лопнет:
– Убийцы! Убийцы!
А потом кинулась на своего папашу и вцепилась ему прямо в шею.
Артельный старшина под горячую руку и стукнул дочурку прямо в висок. То ли у него в кулаке свинчатка была, то ли еще что, но только, несмотря на шум и гвалт, я услыхал, как у Селии голова хрустнула. Бывшая моя жена повалилась навзничь. Папаша Хемберменбер в запале еще пару раз ее пнул, но опомнился, сел рядом и давай тормошить. А она не встает.
Люди меж тем измолотили Жумса до кровавой каши и притомились. Стоят, дышат, папаша Хемберменбер возле убитой дочки плачет, а колокол звонит, не умолкая. Потом вдруг все разом на меня глаза подняли.
– Наверняка и этот помогал амбары поджигать, – говорит кто-то.
– Что вы! Что вы! Сын мой все это время дома спал! – заголосила матушка, но ее никто слушать не собирался.
Вижу, люди ко мне двинулись. У всех кулаки в крови, и глаза красным налиты. Надо бы мне бежать, да только понимаю, что догонят. Тут моя ладонь сама собой легла на ручку тренькалки. Вспомнил я, что жирная цыганка в крайнем случае велела на себя эту ручку крутить. «Ну, – думаю, – какой же еще случай крайний, если не этот?» И провернул тренькалку в неправильную сторону.
Один раз звякнула леска, другой, и зазвучала музыка задом наперед: мат-ад-ад-ат-мат, мат-ад-ад-ат-мат. Как будто все на свете не так, а иначе. Как будто дождь летит на небо, а трава врастает в землю, а дитя в мать залазит. Жуткое дело – такое слышать. Но я, как начал играть, остановиться почему-то уже не мог. Рука сама собой наворачивала.
Люди замерли, вытаращили глаза. Смотрю: волосы у них дыбом поднимаются, а кожа и тут и там подергивается, как у взбесившейся собаки на загривке.
А потом началась корча. Первой она матушку скрутила. Вывернуло у нее вдруг руки, как у людей не бывает, ноги в стороны раскорячило. Начала матушка кругами ходить и подпрыгивать, будто пляшет. Следом за ней кто-то упал на четвереньки и заскакал чертом. Потом уже и все, кто рядом был, пустились в такие страшные пляски, что не дай боже еще раз это увидеть. Вот и артельный старшина убитую дочку свою оставил и принялся кувырки выкидывать.
А я все ручку кручу не туда, не прекращаю. Дьяволова музыка разгоняется, продирает до самого хребта. Так она разошлась, что за ней и колокола не слышно, а на площадь со всех сторон собираются люди. И никто обычным порядком не идет. Иные скачут, иные кубарем перекатываются, иные вообще вытворяют непонятно что. Бабы подолы выше голов задирают, мужики пускают ветры так, что треск стоит, детишки сами себя за язык ногтями тянут. Старухи с черными руками приползли на брюхе, хохочут. Девицы-перестарки с разбегу бьются о стены до крови. Народ кишмя кишит, падает, на лица друг другу наступает. Вой, визг и смрад стоит, и все это непотребство закручивается вокруг тренькалки, как водоворот.
Начало мне мерещиться, будто весь мир наш пошел трещинами, а вокруг вовсе не люди, а демоны и химеры, которые из этих самых прорех выбрались. И сам я – точно такой же, их музыкант.
Колокол давно умолк. Со стороны амбаров приполз огонь и начал забирать дома вокруг площади. За звоном тренькалки не слышно, как пожарища трещат. Да и кому какое дело, когда вокруг такая пляска?
Солнце взошло, и солнце закатилось, а я злодейскую музыку не прекращаю. Многие танцоры повалились наземь, а другие о них спотыкаются. Я дрожу от лихорадки, шкуру на ладони содрал, кровь на землю капает, а мне это даже как будто в удовольствие. Кругом проваливаются прогоревшие крыши.
«Господи Боже мой! – думаю. – Господи Боже милостивый!» А больше ничего думать не в силах. Мир померк. Я мотал, мотал головой, чтобы его обратно вернуть, но не выходило ничего, кроме вывернутой музыки. Только она осталась, и я сам себя позабыл.
Сколько пробыл я в таком забытье – неизвестно. Может быть, и навсегда бы там остался, но только слышу, будто сквозь дьявольскую музыку пробивается стук, сначала слабый, издалека, а потом – ближе. Открыл я глаза, вижу черноту, а через нее идет отец Эколампадий и посохом стучит. Подошел он ко мне, поднял посох и пронзил тренькалку с размаху. Механизм заскрипел, заскрежетал, рукоятку заклинило, и моя ладонь с нее сорвалась со страшной болью, от которой слезы брызнули. Слезами промыло глаза, и только тогда я смог ясно видеть.
Смотрю: вся площадь бездыханными телами завалена, вокруг пепелище, а рядом отец Эколампадий посохом тренькалку крушит. Расколотил он ее так, что остались только щепки и шестеренки, а потом повернулся и пошел куда-то.
Я ему кричу:
– Постойте, святой отец! Что теперь делать-то?
А он не поворачивается – идет себе да идет, через мертвецов перешагивает. Тогда я вспомнил, что священник-то наш глухой и кричать ему нужно в самое ухо.
Догнал я отца Эколампадия, снова спрашиваю, что делать.
– Ступай себе, куда знаешь, – ответил священник, – а я мертвых хоронить буду.
Хотел я сначала священнику помочь, а потом думаю: что от меня толку со слабым здоровьем да с содранной рукой? Отыскал я среди туловищ мешок с припасами, что мне матушка с бывшей женой собрали, и поковылял на пристань. Сел там в лодку, оттолкнулся от берега и поплыл, куда вода течет. Так теперь и шляюсь без малого десять лет.
* * *
Рассказал я вам историю о райской тренькалке, а к чему рассказал-то? К тому, что кажется мне, будто хлеб в ваших местах погребом отдает. Но это уж вы сами решайте, так оно или нет. А теперь, если кто все же пожелает и готов заплатить по четверти пфеннига, я готов вам сыграть что-нибудь на флейте. Мат-ад-ад-ат-мат, мат-ад-ад-ат-мат.Герман Шендеров. Намощ
 «Жили-были старик со старухою, и было у них три сына. Два просужи, а третий – дурак. Рожей крив, умом худ, норовом скверен. Мать бранит его:
«Жили-были старик со старухою, и было у них три сына. Два просужи, а третий – дурак. Рожей крив, умом худ, норовом скверен. Мать бранит его:
– Почем лежишь лежнем, возьми борону, огород поборонуй! – Не, матушка, не хочу я!
Братья лесовать собираются, зовут его с собою:
– Пойдем, братец, с нами, зверя добудем али птицу! – Не умею я, братцы, – отвечает дурак.
Отец зовет:
– Подите, сыновья, рубите подчеку, будем сеять репу! – Не, батько, притомился я, – отвечает дурак».
Зайцев дрожащими руками закрыл распечатку, облизнул губы, оглянулся – не смотрит ли кто. В столовой все были заняты своими делами: студенты лезли без очереди; буфетчица, отчаявшись достучаться до них на великом и могучем, принялась лаять на киргизском; Валерия Ратиборовна, завкафедрой русского народного творчества, ходячий реликт, препарировала пластиковым ножом пирожок. Мучная плоть разошлась, наружу показались разваренные мясные внутренности. Завкафедрой поймала взгляд Зайцева, воззрилась недоуменно через толстые линзы очков.
– Приятного аппетита, Валерия Ратиборовна! – расплылся тот в подобострастной улыбке. «Чтоб ты сдохла, мразь старая!»
Нет, изучать такое на людях было бы в высшей степени безответственно – кто угодно мог попытаться увести ценный материал. Зайцев сгреб распечатки и пулей выскочил из здания университета. В кармане завибрировал смартфон, но Зайцев звонок проигнорировал.
В подземном переходе он не удержался и, распахнув папку, побежал взглядом по строчкам.
«Вошли сыновья в возраст, родители им и наказали жениться. Старший брат обженился с купеческой дочкой. Средний – с поповишной дочкою. А дурак знай себе лежит на печи и ни к одной невесте свататься не хочет – та ему лицом не вышла, у той приданого мало, у третьей коса больно худа. Крепко призадумались тогда старик со старухой, три дня да три ночи думали, ничего не надумали. И вот остановились у них на постой калики перехожие – главы пеплом посыпаны, одежи раздрызганы. Пожаловались им старики на сына непутевого, а те и говорят:
– Слыхали мы про царевну одну – кожа бела-прозрачна, что снег; из косточки в косточку мозжечок переливается, очи черны, что колодезь, уста слаще меду, перси аки мать-сыра-земля необъятные, косы по всей суше волочатся да в море-окияне полощатся. А приданого у ей – на сколь глаз хватает, да еще поглыбже. Красавица писана, к ней и царевичи, и поповичи сватаются.
Обрадовались старик со старухой, стали испрашивать, где ту невесту сыскать. Отвечали калики перехожие:
– Искать ее за рекой да за лесом, в тридевятом царстве, тридесятом государстве. Чтоб найтить ее, надобно три посоха железных сточить, три просвиры железные изгрызть да три пары сапог железных истоптать.
Пошли тогда старик со старухой спозаранку к кузнецу и велели сковать трое сапог железных, три посоха да три просвиры. Собрали дурака в путь-дорогу, благословили и строгий наказ дали: без царевны не возвращаться».
От чтения отвлекла чья-то рука, вцепившаяся в полу тонкого демисезонного пальто: – Милок, сжалься, подай на хлебушек…
Прислонившись к заплеванной стене, на полу сидел нищий. Безногий и грязный, седой как лунь, он по-птичьи загребал изъязвленными пальчиками край зайцевского пальто и шумно втягивал воздух сизой опухолью, заменявшей ему нос. Все лицо покрывали спелые, налившиеся гнойнички. Зайцев зашипел, вырвался из слабой хватки, поспешил к выходу.
– Невесту тебе славную желаю! – хрипел вслед калека, будто сквозь кровавую пену. – Чтоб в горе и в радости, в горечи и в сладости на веки вечные и еще подольше! – Нет уж, спасибо, была уже одна… – пробормотал Зайцев под нос.
* * *
Вбежав в квартиру, Зайцев судорожно сбросил ботинки и нырнул к себе в комнату. Лишь здесь, в окружении грамот за участие в олимпиадах по русскому и литературе, за столом, за котором писал еще школьные сочинения, он наконец-то смог успокоиться, выдохнуть и выпустить из рук заветную папку. Оттягивая момент триумфа, отправился на кухню за чаем.Мать уже вернулась с работы и теперь колдовала над кастрюлями: – Ванюша, ты уже дома? Ужинать будешь? – Ма, отстань! – бросил он, брезгливо уворачиваясь от объятий.
Сердце кольнула совесть, но тут же отпустила. В конце концов, это она во всем виновата. Это из-за ее гиперопеки он вырос мямлей и тюфяком, из-за нее же не поехал в Москву и теперь прозябает аспирантом в заштатном вузе, из-за нее развелся с Ирой. Скрипнул зубами, выдавил: – Чайник горячий? – Сейчас поставлю… – Я сам!
Пять неуютных минут на кухне сопровождались причитаниями: «Помру, Ванечка, кто ж о тебе позаботится? Так и останешься бобылем. Девочку бы тебе хорошую найти. Да не такую дрянь, как была эта твоя хабалка Ирка! У моей подруги с работы… Павел Семенович, кстати, звонил, спрашивал, чего в гости не заглядываешь, а мы с ним так и не рассчитались…» Наконец, заварив чаю, Зайцев оказался у рабочего стола, поставил на угол кружку, щелкнул настольной лампой, открыл папку и принялся читать с самого начала:
«Устное народное творчество – русское ли или любой другой народности – изобилует мифами, основанными на описании обряда инициации. Будь то долганский, египетский или новогвинейский фольклор, одним из наиболее популярных сказочных мотивов является обряд посвящения неофита, а сам миф содержит в себе характерные элементы ритуала».
От тяжеловесного слога мгновенно заныли виски. Слинкина – плоскомордая заочница из отдаленного ПГТ – хоть и заканчивала пятый курс филологического, так и не научилась строить предложения по-человечески. Неискушенной колхознице казалось, что натужный канцелярит придает тексту серьезности, и Зайцев уже не в первый раз проклинал день, когда его назначили научруком для Слинкиной. Но не сегодня. Теперь он готов был носить эти пятьдесят кило бледной провинциальности на руках, ведь именно благодаря Слинкиной перед ним на столе лежала его гарантированная кандидатская. Старая манда Ратиборовна больше не проскрипит свое: «В вашей работе нет новаторства, Зайцев». Вот тебе, старуха, полный рот новаторства! Завибрировавший было телефон Зайцев безжалостно отбросил за кровать.
«…то, что в обычной форме обрело бы черты жестокого избиения, клеймления, возможно, инвалидизации и – как итог – изгнания провинившегося или непригодного члена общины, также имеет право на существование в форме устного сказа. В качестве примера такого ритуала деинициации возьмем русскую народную сказку „Намощ“».
Даже читая эти строки в третий раз, Зайцев не мог избавиться от внутренней дрожи, что прокатилась костяной колесницей по позвоночнику. Когда-то, когда Зайцев еще не растерял надежд и амбиций, он успел выучить наизусть всего Афанасьева, включая том с «Заветными сказками»; раз шесть перечитать «Морфологию» Проппа, проштудировал весь долганский фольклор и недурно разбирался в чукотском эпосе. Ни в одном из доступных источников он не встречал подобной сказки. Мелкие и незаметные для дилетанта элементы – вроде намекающих на загробную тематику «полощущихся в море кос» и «сватающихся поповичей» – превращали обыкновенную побасенку в самое настоящее сокровище, непонятно где и как найденное бесталанной, по сути, Слинкиной.
«Основным отличием „Намощи“ от всего существующего народного фольклора является первооснова – в художественную часть вплетен ритуал не инициации, но изгнания».
Зайцев торжественно занес карандаш над пухлой тетрадью и принялся делать заметки. С названием он сдался достаточно быстро – странное «Намощ» напоминало не то «немощь», не то «Макошь», но из-за отсутствия мягкого знака не удавалось даже установить род существительного. Плюнув, он двинулся дальше.
«Пошел дурак через лес темный да дремучий, кругом филины ухают да волки рыскают. Страшно дураку, холодно да голодно. Вдруг – глядь: стоит избушка на куриных ножках, на бараньих рожках, вкруг – тын, а на кажной тынинке по человечьей головинке. Зашел дурак в избушку, а там – Ега-костяная нога: на печи – голова, в углу – нога, спиною – пустая, волосами – простая, нос – в потолок врос, жопа – жилена, дырка – мылена. Зашевелилась, заворочалась, скрипит аки телега несмазанная:
– Фу-фу, прежде человечьего духа видом не видано, слыхом не слыхано, а тут человечий дух сам в рот катится, на ложку садится. Как выпотрошу, как выварю, в муке вываляю, накушаюсь вдоволь, да на косточках поваляюся.
Устрахался дурак, давай умолять:
– Бабушка-Ега, ты меня не потроши да не вари. Я трое сапог железных запас, три просвиры железных да три посоха. Иду я за царевною царства тридевятого, женихом ейным быть хочу.
Тут же баба-Ега присмирела, подобрела и говорит:
– Коли ты к сястрице моей старшой свататься идешь, так надо тебя приодеть, попарить да за стол усадить.
Захлопотала Ега, в ладоши хлопнула – тотчас из всех углов сбежались павуки – кажный с кошку, глаза что плошки – и давай ткать паутину. Выткали дураку рубаху – что печь бела, ни велика ни мала. Хлопнула Ега в ладоши второй раз – повалил из печи пар да жар, не видно ни зги – ни избы, ни Еги. Вертится дурак, а его с кажной стороны венички крапивные охаживают. Охаживают да приговаривают: – Первый парок – то ветерок; второй парок – не укусит волчок; третий парок – проберет до кишок; а четвертый парок – уж ждет червячок! Хлещут его венички, да так задорно, что дурак лишь покрикивает, а со спины кожа ременями лезет. Дурак кричит, а венички не слушают, только знай себе спину дерут. Упокоились, когда сплошное мясо на костях осталось. Хлопнула Ега в ладоши в третий раз – кувшины да кастрюли сами с полок послетали, на стол поставились. Глядит дурак на блюда – а там руки-ноги да головы человечьи плавают. Испужался он, а Ега ложку сует: – В царстве тридевятом, кто плоти человечьей не отведал, тех аки псов в конуры садят, кто крови человечьей не лакал – в телеги запрягают. Не видать тебе тогда царевны».
Зайцев прервался, записал мысль, чтобы не забыть: «Каннибализм – причина или стадия отречения от социума?»
«Поник дурак, да делать неча – отведал плоти человечьей. Снарядила его Ега в путь-дорогу: нарядила в сотканное павуками рубище, подпоясала ременем из дураковой кожи да платком рот подвязала и наказала строго:
– В тридевятом царстве, тридесятом государстве рот не разевай, разговоров избегай, руками ничего не хватай, по дороге не глазей, а то выгонят взашей.
Поклонился дурак Еге в ножки и двинулся дальше в путь-дорогу».
«На роль изгнанника выбран карикатурно изображенный бесполезный член общества – лентяй и неумеха, чтобы дать четкий…»
– Ваня, щи будешь? – раздалось из-за двери. – Мам, я занят! – огрызнулся Зайцев.
Пришлось вновь собирать мысли в кучу.
«Яга – явный репрезентатив жреца, совершающего подготовку изгнанника к переходу в посмертие: переодевание в саван, ритуальное избиение, омовение, похоронные угощения. Рот подвязан, как у покойника».
Строка «жопа – жилена, дырка – мылена» позабавила Зайцева, но он быстро распознал это двустишие как способ подчеркнуть женственность Яги. Тут же записал: «Жрец, производивший ритуал изгнания, должен быть женского пола». Долго не давал ему покоя «нос», который «в потолок врос». Записал «великанша», поставил знак вопроса, зачеркнул. Тут же хлопнул себя по лбу и неровным почерком вывел: «Яга занимает всю избу, так как обитает в могиле. Яга определяет появление героя сказки по запаху, так как сама мертва и видеть живых неспособна».
Анализ Зайцев делал на скорую руку – выписывал беспорядочные тезисы, тут же в них теряясь и записывая заново. Тыльную сторону ладони покрыл серый слой карандашного графита, глаза слезились, голова гудела, как трансформатор, но азарт гнал дальше по тексту.
Украсть дипломную работу Слинкиной для своей диссертации он решил, едва увидев начало сказки. Ему, как научному руководителю, ничего не стоило зарубить заочницу, сказать, что «тема нерелевантна», или сослаться на «невнятные источники» и заставить ее писать набившее оскомину «Устное народное творчество как средство воспитания нравственной культуры». Все равно ей в ее ПГТ Ивашкино академические успехи не грозят. То ли дело Зайцев. С такой работой даже на умирающей вместе с Валерией Ратиборовной кафедре фольклористики можно и шуму навести, и грант выбить. Нужно лишь заявить о себе.
Воодушевленный, Зайцев перевернул страницу и… громко выматерился. Тут же в дверном проеме появилась седая голова матери: – Ванюш, ты чего? – Ничего, отцепись!
Дверь закрылась, а Зайцев зарылся пальцами в нечесаные вихры и сдавленно застонал. То-то папочка показалась тонковатой. Дипломная работа заканчивалась словами «в путь-дорогу», а дальше – пустота, ни источников, ни заключения, ни списка литературы – ничего.
– Дура гребаная! – стукнул Зайцев кулаком по столу, да так, что кружка подскочила. Вот что мешало Слинкиной прислать ему работу на электронную почту? Хотя она, кажется, говорила, что в ее часть поселка Интернет еще не провели. – Колхоз гребаный!
С трудом успокоившись, Зайцев достал телефон, нашел номер. На звонок ответило какое-то быдло: – Слинкину? В жопу сходи, пришибленный! Больше сюда не звони!
С испугу Зайцев бросил трубку. Разговаривать с подобными индивидами он так и не научился. Вдобавок он не был уверен, что набрал правильный номер. Сидя в кресле, он тяжело дышал. Разгоряченный разум работал вхолостую, пропуская через себя и мысленно пережевывая каждое прочитанное слово ополовиненной сказки. Сейчас Зайцев хотел лишь одного – найти продолжение текста.
В таком болезненном возбуждении он провел остаток вечера. Щей есть не стал – на вкус они показались мыльными, будто в супе растворили брусок «Хозяйственного». Оказалось, мать перепутала соль с содой. В ванной холодная вода вдруг сменилась кипятком и ошпарила ему ногу – мама решила помыть кастрюлю, пока Зайцев был в душе. Скандалили до поздней ночи. Пожилая женщина утирала глаза кухонной тряпкой и все бормотала: – Ванюша, я же для тебя… Тобой только дышу… А он в ответ матерился, визжал и пинал стулья, сам не помня, с чего разгорелась ссора. Зайцева до того занесло, что он обещался «получить Нобелевку и съехать наконец с этой ссаной халупы!».
Ночью долго не мог уснуть, ворочался под одеялом, стараясь сберечь от жесткого ворса ожог, а сосед за стенкой, похоже, сошел с ума и принялся блеять на разные лады: то «бе-е-е», то «ме-е-е». Зайцев лупил ногой по стене, скрежетал зубами, но идти разбираться не решился. Уснув наконец, он бродил во сне по бесконечному подземному переходу, а за ним на культяпках полз давешний калека и кашляюще клекотал, скаля гнилые пеньки: – Кожа бела, что снег, очи черны, что колодезь, перси аки мать-сыра-земля необъятные, вихры по всей суше волочатся да в море-окияне полощатся…
* * *
Раным-ранехонько Зайцев рванул на кафедру и принялся рыскать по папкам в поисках личного дела Слинкиной. Запутавшись в бесконечных офисных шкафах, он с неохотой обратился-таки за помощью в бухгалтерию. Три тетки, окопавшиеся за широкими мониторами, напоминали ему сестер-грай из мифа о Персее – такие же древние, неповоротливые и злобные, они общались друг с другом исключительно на паучьем, шипящем языке: «Платеш-ш-шка за семес-с-стр» или «оутсорс-с-синг», «инс-с-спекция». К паучихам принято было ходить исключительно с подношениями. Вот и Зайцев, стыдливо шлепнув коробку «Коркунова» на ворох квитанций, чеков и распечаток, проблеял: – Мне бы адрес одной заочницы найти. Дозвониться не могу, а нужно дипломную работу обсудить… – Закрываем излиш-ш-шки. Зайдите веч-ч-чером.Все пары Зайцев провел как в тумане. Он не помнил, что говорил студентам, что писал на доске. Будущие филологи, впрочем, как и всегда, залипали в смартфоны, рисовали узоры в конспектах и хрустели чипсами.
Наконец, когда занятия закончились, Зайцев присел на корточки напротив бухгалтерии. От нетерпения само собой задергалось колено, забилась жилка на виске. Чтобы скоротать время, Зайцев открыл папку Слинкиной и принялся читать по новой, едва воспринимая написанное:
«В данном случае волшебную сказку стоит рассматривать не как воспоминание и деконструкцию ритуалов, а как ритуал в себе. В качестве аналога можно вспомнить новогвинейские инсценировки из трудов Неверманна: когда жрецы разыгрывали перед неофитами представление, посвящая их в знания племени. В данном же случае ритуал совершается посредством…»
– Вот он, ваш-ш-ш адрес-с-с! – раздалось над головой у Зайцева. На папку лег желтый стикер с адресом: «Ивашкино, ул. Кривоколенная, д. 39». Паучиха просочилась обратно в дверь, а Зайцев вскочил с места и поспешил к выходу.
* * *
Темнело рано. Вдобавок небо заволокло набрякшими тучами, которые то и дело поплевывали на дрянное пальтишко Зайцева гадкой моросью. Ближайшая электричка в сторону Ивашкино отъезжала аж через полчаса. Голодный (в горячке забыл пообедать), он прельстился лоснящимся от жира беляшом на вокзале, но, едва надкусив, выбросил в урну: серая кашица хрустела на зубах, точно кусок мяса пропустили через мясорубку вместе с костями.– Совсем охерели! На ровном месте кинуть норовят! – выругался Зайцев, хотел пойти скандалить, но длинный нож в руках волосатого до синевы кавказца, которым тот срезал мясо для шаурмы, заставил передумать. Мясо на вертеле, местами обугленное, медленно вращалось и формой напоминало человека. Точнее, ребенка. Сочащееся жиром, оно продолжало поворачиваться, и если бы это был человечек, то прямо сейчас, буквально через секунду, он должен был повернуться к Зайцеву лицом…
– …поезд… Фш-ш-фш – …атово отправляется с фш-фш платформы!
Кое-как Зайцев различил в какофонии, лившейся из динамиков, свое направление. Бросился через мост на платформу. Какой-то старик с забинтованным лбом подстерег его у самой лестницы и ткнул костлявым пальцем под ребра: – Ишь, какой тошший… – Пошел ты!
Невольно вспомнилась сказка, где ведьма такими вот тычками проверяла похищенных детей – достаточно ли те откормлены для убоя. От места, где его коснулся стариковский палец, разливалось по телу судорожное омерзение. Зайцева передернуло. По пути он споткнулся, изгваздал в луже брюки и кое-как запрыгнул в закрывающиеся двери электрички. Перешагнул через клетчатые баулы дачников и сел у окна. За мутным стеклом качнулись и поплыли переплетающиеся рельсы. Вскоре их сменили безрадостные пейзажи распаханных пустырей и лысеющего подлеска. Кто-то снова пытался до него дозвониться. Зайцев нажал на красный кружок сброса.
По проходу прошествовал торгаш: – Венички дубовые, березовые, крапивные. Два берешь – третий в подарок. Третий парок – проберет до кишок! Протискиваясь мимо Зайцева, случайно хлестнул его по лицу своей ношей. – Аккуратней, падла! – Чего-о-о? – протянул торговец, уставился на Зайцева. Тот промолчал.
На сиденье по соседству подросток доводил, по-видимому, младшую сестру: – Хочешь сказку? – Да! – Как дед насрал в коляску! – Ну Дима! – Так ты хочешь сказку? Как дед насрал в коляску!
Долго ли, коротко ли, динамик над головой прошуршал: – Ивашкино. Следующая станция…
Зайцев выпрыгнул из электрички на раздолбанную платформу, огляделся. Дождь усилился, бил тяжелыми косыми струями. На выходе со станции кренился проржавевший указатель – налево к улице Складской, направо через лесопарк – просто Пучай. В голове зародилась грустная шутка-самосмейка: «Направо пойдешь – жену потеряешь, налево пойдешь – в аспирантах застрянешь, прямо…»
Что будет по прямой, Зайцев так и не придумал – его внимание отвлек размокший под дождем листок у перил платформы. Мелкий шрифт и бледно пропечатанные буквы показались знакомыми. Будто загипнотизированный, он подобрал размякшую бумагу и принялся читать:
«Кивнул дурак и двинулся дальше в путь-дорогу…»
– Дурища криворукая! – радостно и возмущенно выдохнул Зайцев. Это ж надо было по пути растерять собственную дипломную работу, да еще и с уникальным фольклорным элементом! «Этого, впрочем, – ехидно подумал он, – Слинкина, похоже, не знала. Дура набитая!» Он жадно впился глазами в текст и принялся читать:
Видит, река-широка, ни вброд перейти, ни по воде проплыть, а через реку – мост калиновый перекинут. Идет дурак по мосту…»
Тут же в шуме дождя Зайцев различил мерное журчание воды. Навигатор в телефонечетко указывал, что путь к улице Кривоколенной ведет именно туда.
«Идет дурак по мосту, глядь – плывут по воде покойнички. Сами бледные да прозрачные – дно чрез них видать. Мимо проплывают, рот что рыбы разевают:
– Куда идешь, дурачок? Не ходи к царевне, у ней зубов сорок сороков, она тебя сгрызет, кости в прах разотрет!
А дурак идет, не слушает…»
Моста через речку не нашлось. Впрочем, и речкой это вонючее проточное болото Зайцев бы назвать не решился. Вместо моста кто-то перекинул через канаву несколько узких бревен. Скользкие от дождя, они то и дело норовили сбросить Зайцева в пенистый коричневый поток. Где-то на середине «мостика» завибрировал телефон. Неловко подцепив его в кармане, Зайцев резко выдернул руку, и гаджет, выполнив замысловатый кульбит, плюхнулся в ивашкинскую говнотечку. Ботинок соскользнул с края бревна, и Зайцев стремительно ухнул по щиколотку. Выматерившись, он принялся шарить ногой в потоке, но натыкался лишь на какие-то ветки и палки или пальцы плывущих по воде покойничков. Невыносимо заломило в висках. Зайцев брезгливо выдернул ногу из воды и, хлюпая ботинком, перешел на другой берег. Тоскливо посмотрел на бурую пену – под ней упокоились и все фото, и заметки по кандидатской, и телефонная книжка. Да и Павлу Семеновичу он так и не позвонил.
– Похер! – злобно сплюнул Зайцев. – Будет грант – будет тебе и новый телефон!
Дальше путь лежал по раскисшей тропинке через редколесье. Стоило тексту на листке закончиться, как под ногами у Зайцева тут же обнаружилась следующая страница. Было в этом что-то жуткое, сказочное, точно он, как Гензель и Гретель, шел по хлебным крошкам к пряничному домику. Нервировало лишь то, что эти «крошки» разбросал не Зайцев, а кто-то другой.
Черные от влаги деревья казались разбухшими, напившимися крови и едва пропускали свет. Облака-тучи черные, сбившись в стадо, грохотали над головой пуще прежнего. Сверкнула молния. На секунду Зайцеву показалось, что где-то между деревьев, пошатываясь, бродит безголовая тень. Коготки страха вцепились под лопатку, защекотали. Прогоняя жуткое видение, Зайцев принялся на ходу читать очередной отрывок:
«А дурак идет, не слушает. Видит, лежит на берегу голова – глазища навыкате, язык вынутый, из шеи кровя текет в землю-матушку. Завидела голова дурака, взмолилась:
– Подсоби мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил, да по нраву ей пришелся. Она тулово-то мое за лыком-корой снарядила, а голова здесь осталась. Погляди-ка в лесу дремучем – не бродит ли где тулово мое осиротевшее».
И действительно, где-то поблизости раздался жалобный лепет, будто кто-то оставил в лесу младенца. Поодаль Зайцев заметил пенек, на котором лежало что-то вроде мусорного пакета. Из надорванного бока на труху струилось красное, похожее на томатный сок. Казалось, до ушей донеслось:
– Подсоби мне, добрый молодец!
– На хрен! – прорычал Зайцев сквозь зубы, затыкая уши. – Все на хрен!
Лесополоса и не думала заканчиваться. Казалось, она раскинулась на многие километры вокруг, конца-края не видать. Ветер метался, что шальной, меж редких деревьев, то и дело заставляя Зайцева оборачиваться – ему слышалось, как лес шепчет его имя. Тягостная неправильность всего и вся вокруг заставляла тревожно кусать губы, оглядываться на любой шорох, искать в каждом сучке лицо, а в каждой тени – чудо-юдо неведомое. Он уже малодушно подумывал, не повернуть ли к платформе, но сказка, обещавшая кандидатскую, почет и уважение коллег, гнала в путь-дорогу.
«Идет он дальше, видит – дуб растет, высокий, ветвями небо подпирает. А на ветвях – уши человечии развешаны. Куда дурак пойдет, туда они и поворотятся. Слышит, шумят ветви:
– Куда идешь ты, дурак? Не ходи к царевне, она – дочь царя потуземного, во грехе с матушкой-смертушкой зачатая, кровию вскормленная, слезами омытая.
Страшно сделалось дураку».
Подняв глаза, Зайцев хмыкнул – и в самом деле, на деревьях вокруг свисали какие-то грибообразные наросты, закручивающиеся спиралью, которые издалека можно было принять за уши. Кто знает, какие ужасы мерещились необразованному крестьянину в самых обыкновенных вещах?
Левая нога замерзла и почти потеряла чувствительность, а нахлебавшийся воды ботинок ощущался тяжелым, будто железным. Вскоре Зайцев встретил и следующего персонажа сказки:
«Вдруг глядь – не то дерево растет, не то человек мыкается. Ногами в землю сырую упирается, руки ветками разрастаются, а кору жуки да мураши подъедают. Увидал он дурака, взмолился:
– Подсоби мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил, да ей приглянулся. Она меня отрядила лес ее стеречь, а тут на меня жучки да мураши и напали. Не брось в беде, отгони жучков-мурашей.
Дурак поглядел да прошел мимо – не зря же ему Ега рот подвязала да разговоров избегать наказала».
Этот старый вяз и правда когда-то мог походить на человека, но, видимо, стал жертвой не то засухи, не то жучков-древоточцев. Теперь же коряга казалась тенью самой себя, воющим призраком, что широко распахивал дупло-пасть, набитую пластиковым мусором и бутылками. Ветви-руки вздымались к небу синему в мольбе, а «тулово» превратилось в прогнившую труху. Зайцев из любопытства пнул корягу, и дерево со стоном выплюнуло ему на ногу с десяток белесых личинок.
– Гадость!
Вглядевшись в мерзкий комок, Зайцев различил нечто белое, знакомо усеянное вордовским «Таймс нью роман». Предыдущий отрывок сказки уже закончился. Брезгливо сморщившись, он отряхнул листок от личинок и почти не удивился, когда увидел продолжение «Намощи».
«Пришел дурак во чисто поле широкое, а на поле том ветер свищет:
– Куда идешь ты, дурак? Не ходи к царевне, у ней коса корни земли обвивает, очи насквозь глядят, а в месте заветном горячей, чем в пекле.
Совсем испугался дурак, да уж не поворотишься».
Выйдя на поросший ковылем пустырь, Зайцев увидел тощую фигурку, которая то и дело нагибалась за чем-то. Нагнется молодец за ягодкой – да в лукошко. А у того дна нет – все на землицу и валится. Заметив Зайцева, человек выпрямился, помахал рукой, выпалил на одном дыхании: – Помоги мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил, да ей приглянулся. Говорит, принеси ты мне полно лукошко ягод, наливных да спелых, крупных да белых. Сказала, покуда не принесу, не возвращаться. Помоги мне ягод набрать, вдвоем-то быстрее сладим.
Зайцев застыл на месте, не смея двинуться. Тощий как жердь и заросший по самые брови незнакомец явно был сумасшедшим. Об этом красноречиво свидетельствовала лишенная дна корзина, куда безумец исправно складывал какие-то гладкие белесые шарики, которые из корзины тут же валились на землю. Нагнувшись за очередным, он кокетливо продемонстрировал его Зайцеву, и тот задохнулся от ужаса – безумец собирал глазные яблоки.
– Подсоби, братец. Как полное лукошко наберем, так и свободны будем. Мужик, тебе чего? У тебя, я гляжу, уже две ягодки есть!
Смысл сказанного дошел до Зайцева, лишь когда грязная ладонь с заскорузлыми ногтями потянулась к его лицу. В руке незнакомца блеснула короткая финка. По-бабьи взвизгнув, Зайцев рванул с места, не обращая внимания на хлюпающий и норовящий соскочить ботинок. В боку кололо, в глазах плясали красные круги, в виски будто вкручивали раскаленные добела шурупы. Вслед доносилось недоуменное: – Совсем, добрый молодец, что ли?!
Зайцев, хрипя, продирался через кустарник. Ветки хлестали по лицу, ноги вязли в земляной каше, а сам Зайцев напряженно вслушивался – не бежит ли безумец следом. Размякший под дождем склон выкинул его на исполосованную тракторными шинами проселочную дорогу. Видит – возник перед ним дворец. Указатель на покосившемся заборе гласил: «Кривоколенная, д. 39». Под сердцем вновь затлел потухший было под дождем огонек азарта: «Добрался!»
Вид домишко имел удручающий: маковки в камнях самоцветных, тын над горами вздымается, прохудившаяся крыша, почерневшая от гнили, готова в любой момент провалиться, врата сами собой открываются – болтающуюся на одной петле калитку мотал порывистый ветер. А из врат бросились на дурака три пса с двумя головами – один другого больше: у одного глазища – что плошки, у второго – что блюда, а у третьего – что озера огненные. Псы огнем-пламенем дышат, клыки точат, рычат. Подбежали к дураку, окружили. Двое псов – тощих, с плешивыми боками и свисающей шкурой – скалили желтые клыки, не решаясь приблизиться. А вот лежавшая в луже сука с раздувшейся утробой вскочила, рванула к Зайцеву в абсолютном молчании – с явным намерением перегрызть чужаку глотку. Слева от неестественно наклоненной головы болталась вторая – кривая и рудиментарная с заросшими глазами и смешно торчащим ухом.
«Думает дурак, что смерть-кончина его пришла, а псы – как кутята дворовые – на спину легли и пузо подставляют, скулят:
– Не губи нас, добрый молодец, пощади! Ежели ты себя не пожалел – на ремни спину порезал, то нас и подавно не пожалеешь.
И пропустили дурака».
Зайцев сам не понял, в какой момент его ремень оказался до предела затянут на шее двухголовой псины. Стиснутые в напряжении зубы ныли, с разодранного рукава стекала кровь – сука билась за свою собачью жизнь до последнего. От нахлынувшего вмиг приступа исступленной, патологической кровожадности не осталось и следа. Ясно было одно – теперь можно отпустить. Задушенная тварь шлепнулась в жидкую грязь, вывалившийся язык утонул в луже. Тощая свита суки будто испарилась. Путь был свободен. Он дочитал до последней буквы и аккуратно сложил размокший листок в папку. Последняя страница должна быть внутри.
Миновав калитку, Зайцев зашагал через заросший сорняком садик к покрытой вагонкой дверце, потянул ручку. Пыльные сени пахли прелыми яблоками и сыростью. Входит он в палаты белокаменные, перед ним стол весь в яствах заморских на блюдах золотых, как для пира богатого, кругом каменья да злато-серебро, стены заросли мхом, в одном из углов укоренилась колония крупных, как на подбор, поганок. С крыши капнуло за шиворот. Смердело гнилью и сыростью, к горлу Зайцева подкатил ком кислятины. Над столом, несмотря на промозглый холод, вился рой мясных мух. А на троне золотом сидит царевна – ни в сказке сказать, ни пером описать: кожей бела, очами черна, уста медовые, косы как канаты вьются – конца-краю не видать. В глазах Зайцева действительность дрожала и двоилась, троилась – он видел то красавицу-царевну; то какое-то землистого цвета голое обрюзгшее создание, которое не получалось увидеть целиком – оно не умещалось ни в поле зрения, ни в сознании; бесцветное, абсолютное и дебелое ничто. Губища червонные, перси наливные, ланиты румяные. Говорит, как ручеек журчит: – Вот и пришел ты, мой суженый-ряженый. Долго же я тебя ждала-тосковала, женихов к себе не подпускала, не ела, не пила, все по тебе кручинилась.
Создание выбросило вперед длиннопалую узловатую конечность, ткнуло скрюченным пальцем в нетронутую снедь – окорока свиные, сгнившие до кости; икра осетровая, из которой уже вылуплялись в беспорядочном копошении мушиные личинки; хлеба румяные, покрытые пушистым слоем плесени.
Смотреть на это получалось с трудом – взгляд то и дело натыкался то на гниющие стены избы, то на трухлявые половицы. Мозг, повинуясь древнему инстинкту, отказывался воспринимать увиденное в бесплодной попытке сберечь остатки зайцевского рассудка. За бревенчатыми стенами разыгрывалась настоящая буря: ливень колотил по крыше, завывал горестно ветер, сверкала молния. Заячье сердце Зайцева забилось в судорожной агонии, виски пульсировали, в голове будто колотили в колокол. Ноги обмякли, Зайцев рухнул на колени. Из горла вырвалось сиплое:
– Не вели, царевна, казнить, вели слово молвить! Не гневись, не могу я на тебе жениться! — Слова помимо его воли, сами собой звучали в пустой избе, произносимые непонятно для кого. То, что необъятной тушей ворочалось во тьме и жадно разевало медовые уста, точно не было никем, а скорее, даже служило антиподом для понятия «кто». – Я трое сапог железных истоптал, три посоха железных сточил, три просвиры железные сгрыз, чтоб тебя сосватать, да вижу – больно хороша ты для меня, не достоин я красы такой.
– Как же так? – спросила царевна. Квакающий голос высверливал в центре черепа дыру, заполняя ее густой тягучей пустотой. – Нас потуземный царь-батюшка благословил, землицей черной клятву скрепил, что быть нам вместе в горе и в радости, в горечи и в сладости, на веки вечные и еще подольше. Ну-ка, суженые мои да ряженые мои, явитесь передо мною, как лист перед травою, да расскажите – нешто и правда меня жених недостоин?
Явились тут же суженые. Вырос из земли погрызенный жуками да мурашами молодец – занесенное бурей, ввалилось в окно трухлявое бревно, рассыпав остатки стекла и личинок. Прикатилася голова без тулова, оставляя темный кровавый след. Пришел и молодец с пустой корзинкой – пальцы беспокойно терзали воздух, будто выкручивая лампочку из узкого патрона. Заговорили:
– Он мне ягоды собрать не помог.
– А мне не помог тулово найти.
– А от меня – жучков-мурашей не отогнал.
И завопили в один голос:
– Достоин, достоин! Будет он тебе суженым, а нам – братцем названым!
– Нет! Зайцев отшатнулся от жуткого создания на троне золотом и от его свиты, дернулся к двери, а палаты белокаменные все тянутся да петляют, и ни оконца, ни дверцы не видать. Перед глазами заплясали багровые круги, в затылке угнездился болезненный жгучий ком; мозг закипал в попытках осознавать одновременно сразу две реальности. Одну – в которой к нему с улыбкой, как пава, плыла по мраморным полам белокожая красавица в расшитом самоцветами кокошнике, и ту, в которой, волоча по полу черные космы, к нему приближалось это. Под кожей существа с мерзким хлюпаньем из косточки в косточку мозжечок переливался. Сморщенные обвисшие перси волочились по полу, необъятные аки мать-сыра-земля. Скрежетали оглушительно кривые железные зубы – какие-то бесконечные количества, как целое кладбище из могильных плит. «Нет, не бесконечные, – возразил внутренний голос, после чего тоже исказился, стал напевным, сказочным. – Ровно сорок сороков!» Холодные пальцы обвили лицо, дохнуло разрытой могилой, вперились в самую душу бесчисленные черные, что колодезь, очи. В глотке Зайцева запузырилась подступающая рвота.
– Нет! – выдохнул он и надрывно завыл. – На помощь кто-нибудь! Помогите!
Завопил дурак, давай вырываться, а тут откуда ни возьмись поспешили со всех углов к столу гости – рогатые, хвостатые, с копытами да пятачками, блеют и мекают, невесту с женихом привечают. Был среди них и странный калека из перехода с лицом, похожим на пузырчатый целлофан: коснешься – и начнут один за одним лопаться набухшие гнойники. Рядом стоял огромный и волосатый, как черт, кавказец из ларька на вокзале. На плече он небрежно держал вертел с насаженным на него, еще сырым и блестящим от маринада, детским трупиком. Старик с забинтованной головой тыкал в трупик пальцем и недовольно охал: «Тошший!» То, что Зайцев принимал за бинт, оказалось похоронным венчиком с полоской церковной кириллицы. Три паучихи из бухгалтерии окончательно сбросили маскировку и в двадцать четыре лапы дербанили коробку «Коркунова», поблескивая фасеточными очками. Брат с сестрой из электрички теперь срослись в порочное двуединое нечто и в сладострастных судорогах шептали: «Жила баба с дураком, ни разу не кончала. Наша сказка хороша, начинай сначала!» Подхватили на руки дурака и в опочивальню понесли да приговаривали:
– А как дурак с царевною обручилися, царю-батюшке потуземному поклонилися, будет у них терем-теремок, не низок, не высок, без окон, без дверей, под глыбокою землей, атласом оторочен, гвоздями заколочен. А как дурак с царевною обручилися, шоб у них детишки народилися, холодные да белые, как яблочки прелые. А как дурак с царевною обручилися, будет у них хер да ни хера, и холодная кутья!
Визжит дурак, сам шевельнуться не может, а невеста уста медовые разомкнула, и голос Валерии Ратиборовны раздался из раззявленной пасти, усеянной крупными желтыми зубами по самую глотку:
– Вы снова упускаете суть, Зайцев. Эта попытка морфологического анализа – еще одно доказательство вашей некомпетентности. Смысл не в отдельных деталях и символах, содержащихся в мифе. В данном случае миф работает как цельный продукт, полностью заменяя собой ритуал. По отдельности его элементы не играют никакой роли, в то время как в совокупности работают как своего рода первобытное нейролингвистическое программирование, команда. Если желаете – заклинание или проклятие.
Произнося слово «проклятие», на букве «я» узкие сморщенные губы Валерии Ратиборовны разошлись в стороны, а челюсть вышла из пазов, чтобы Зайцев поместился в пасти целиком. Из тьмы бесконечно разрастающейся пасти, внутрь которой проваливался Зайцев, явилось лицо Иры Слинкиной – молоденькой студентки пятого курса с широкой рязанской харей и скромной улыбкой не разбитых еще губ, покорившей тогда Зайцева. Наивная провинциалка, она робела и смущалась перед молодым аспирантом, зачитывая ему свой диплом:
– «Этот ритуал несет в себе две составляющие… Первая – обращение ритуала инициации вспять, как бы заставляющее посредством временной смерти члена племени перейти из статуса взрослого мужчины обратно в статус ребенка, а вторая…» Извините, Иван Валентинович, а можно своими словами? Вот. А вторая – она из доземлевладельческих анимистских культов, когда этим, ну… Вот! «Хтоническим божествам приносили требу – в форме рабов, детей или неугодных членов племени. Так, изгнанник превращался в этакого жертвенного агнца, и его судьба передавалась в руки дикой природы, символизирующей триединое женское божество, что вечно – дева, мать и старуха». Видите? Заучила!
На букве «а» бывшая жена открыла рот гораздо шире обычного и приняла его в себя, как иногда с легким смущением принимала раньше, а после бежала мимо маминой комнаты к раковине, чтобы сплюнуть, – брезговала. Маму это страшно бесило, и Зайцев, кончив, еще долго слушал их перепалки в коридоре. Все это было до того, как Ира ушла к какому-то быдлану, доведенная зайцевскими вспышками ярости и бесконечными претензиями свекрови. Следом явилась и сама свекровь, мать Зайцева.
– Мама… – прошептал он. По губам текли сопли и слезы. Кривящимся ртом Зайцев завывал: – Пожалуйста! Не надо! Помогите кто-нибудь! На помощь! На помощь!
Мама, не размыкая губ, мурлыкала какую-то колыбельную без слов. Ту, что поют не в пору народившемуся или калечному отпрыску, прежде чем оставить в чаще леса под деревом. Так, мурлыкая, и проглотила царица дурака целиком. Колокол в голове Зайцева замолчал на краткий миг, а следом – лопнула веревка, и медная махина полетела вниз, круша балки и перекрытия колокольни, которой и был сам Зайцев. Из последних сил он выдавил: – На помощь! И провалился во тьму. Именно там в безбрежной пустоте собственного искалеченного сознания он не прочел, но узнал содержимое последней страницы:
«Тут же сделалась царевна беременною. Пузо гладит да приговаривает:
– Будешь моим младшеньким да разлюбименьким, буду тебя баловать да тешить. Куплю тебе леденец да свистульку и положу в люльку. Буду люльку качать, новых суженых привечать.
Родила царевна дурака Зайцева маленького, кривенького да глупого. Пережеванного. Глазками – луп-луп, ножками – топ-топ, губенками – хлоп-хлоп, да слова казать не может, только знай себе твердит:
– На омощ, на мощ! Намощ!
Так и остался дурак жить-поживать в тридевятом доме, тридесятом государстве при царевне вечным дитем, токмо плачет горько и все „намощ“ твердит».
* * *
– Анна Евгеньевна, ну я же вас предупреждал! – Врач-психиатр, дородный Павел Семенович, грохотал пустой бочкой, заполняя своим голосом всю маленькую кухню. – Он в диспансере когда последний раз отмечался, помните, нет? Я вчера дату глянул – ахнул. А на таблетках вы опять экономите?Мать Зайцева, будто сгорбившаяся под тяжестью чувства вины, лишь кивала и пихала ложечку с остывшей кашей в навсегда искривившийся рот сына. Сам Зайцев, совершенно седой, сидел скрюченный в кресле и, по-заячьи прижав руки к груди в паралитической судороге, пялился остекленевшим взглядом в потолок. Непослушные губы шлепали:
– Намощ… Намощ…
– Что это он? – спросил психиатр, кивнув на Зайцева.
– Ой, не знаю, – со слезой ответила Анна Евгеньевна, – привезли его уже таким. Он местного грибника напугал, благодаря ему и нашли. Три дня искали, а он там лежал, в доме вертихвостки этой Ирки. Обгаженный, замерзший и… Такой вот. Врачи сказали, навсегда теперь дурачком сделался. У, хабалка поганая! Мало ей было мальчика моего окрутить, так она еще и с ума его свела, лярва такая…
– Не стоит. Бедная девушка здесь вообще ни при чем. Очередной приступ могло спровоцировать что угодно. Я вам говорил, что отклонения у Ивана могут приобрести совершенно непредсказуемый характер. Предупреждал, что подобные эпизоды могут запросто закончиться инсультом. Я второй раз по вашей просьбе снижаю дозировку – и вот к чему это приводит. Сначала жену едва стулом не забил, теперь сам… Понимаете, у психотика мозг в момент кризиса кипит как котел – никакие сосуды не выдержат! Ладно Иван, но вы-то взрослый, адекватный человек, могли как-то повлиять…
– Да не слушается он меня! – сорвалась на рыдания Анна Евгеньевна. – Я ему – Ваня-Ваня, а ему что в лоб, что по лбу…
– Ну-ну, чего теперь-то себя грызть? – Павел Семенович неловко похлопал женщину по плечу, та вздрогнула. – А почему эта ваша… как ее, Слинкина? Почему она скорую не вызвала?
– Да она давно уже в город перебралась, дом забросила. Не знаю, чего Ванюша туда поехал.
– Ладно. Давайте конструктивно. – Павел Семенович извлек из портфеля какие-то буклеты. – У меня есть хорошие медикаменты, качественная программа реабилитации, палата опять же индивидуальная. Чудес не обещаю, но подлечим за скромные…
Психиатр назвал сумму. Анна Евгеньевна ахнула: – Да откуда у нас такие деньги?!
– Не знаю. Украдите. Заработайте. Возьмите кредит, – холодно пожал плечами психиатр. – Ну или давайте я сейчас бригаду кликну – поступит в общее отделение. А что, там ничем не хуже, вы видели. Разве что мочой попахивает, ну и препараты попроще. Вы же там бывали?
Анна Евгеньевна всхлипнула. Павел Семенович смягчился: – Ладно. Не убивайтесь. Есть вариант один… – Психиатр перешел на интимный полушепот. – Вам все равно на двоих этой квартиры многовато, да еще и теперь, когда Иван… В общем, я предлагаю следующее – вы на меня его долю переписываете, и я вашего сына размещаю в лучшей палате со всеми удобствами и заказываю препараты из Израиля, по внутреннему ценнику. А? Вы с решением не спешите, обдумайте все. Я позвоню на неделе.
Павел Семенович похлопал Анну Евгеньевну по дрожащему плечу, встал из-за стола и начал собираться. Но хозяйка всполошилась: – Доктор, подождите! Там с ним бумаги нашли! – Какие бумаги? Вы извините, у меня скоро встреча… – Ну взгляните быстренько! Ванечка ими прямо бредил! Говорил, уникальный материал, премия едва ли не Нобелевская… – Нобелевская? – усмехнулся психиатр, но в голосе сквозил интерес. – Да, говорил, если опубликовать – будут и гранты и премии… Я сейчас принесу! – Ну несите-несите, поглядим…
Стоило пожилой женщине вернуться на кухню с набухшей от влаги папкой, как Зайцев вжался в кресло и, продолжая пялиться в потолок, заверещал с надрывом: – Намощ! Намощ! Под несчастным растеклась лужа. – Ох, не опять так снова! – с досадой всплеснула руками Анна Евгеньевна и пошла за тряпкой.
Павел Семенович скорее схватил папку и отвернулся от больного к окну, чтобы не спровоцировать еще один приступ. Открыл. Заголовок гласил: «Пооытя». Искалеченное болезненным сознанием пациента слово сразу бросилось в глаза. Что это значит? «По наитию»? «Простите»? «Помогите»? Машинально психиатр принялся читать:
«В стародавние времена в некоем царстве-государстве повадилось страшное чудище людей жрать. Ростом выше сосен, глазища что колодцы пекельные, пламенем адским горят, в пасти клычища да зубища железные один другого больше. Идет – земля трясется, летит – гром гремит…»
Вдруг дом будто тряхануло. Боковое зрение Павла Семеновича отметило в вечерней мгле, отделенной от кухни тонким тюлем, шевеление чего-то громадного, неповоротливого. Вспыхнули, ослепляя, два циклопических глаза, сверкнула молния. Лампочка в кухне погасла, и остался лишь болезненно-белый свет из глаз страшилища. Психиатр почувствовал себя точно на хирургическом столе под бестеневой лампой. Внутренности сжались в ожидании хищного прикосновения скальпеля. Воспаленное воображение различило что-то похожее на клыки…
– Твою мать, Вадим! Куда ты дергаешься? – Да просто ручник не сработал… – Херник у тебя не сработал! Из-за тебя весь дом обесточили!
Ругань рабочих с улицы отрезвила Павла Семеновича, вырвала из внезапно накатившего кошмара. Головой монстра со светящимися глазами оказалась обыкновенная люлька для высотных работ, растущая из горбатого ЗИЛа; горящими очами – прожекторы по ее краю, а за клыки он принял всего лишь прутья самой люльки. Никакой грозы, конечно же, тоже не было – искрил провод на столбе, поврежденный нерадивыми электриками. Совершенно машинально психиатр вновь опустил взгляд на текст, и света от «глаз чудовища» вполне хватило, чтобы Павел Семенович прочел следующую строчку и испытал странное щемящее чувство, будто твердая и хорошо знакомая ему реальность ползет по швам, аки рубаха нештопаная:
«И жил в том городе один жадный лекарь, что решил обобрать бедную вдову…»
Сергей Лёвин. Искры
 17.55
Нина Богданова
17.55
Нина Богданова
Звонок на пульт поступил, когда на улице совсем завечерело и очень хотелось поскорее домой, лечь на диван, смотреть «мыло» и пить глинтвейн. Нина подняла трубку, свободной рукой листая в мобильнике ленту соцсети. С трудом сдерживая зевок, сказала: «Пожарная охрана. Здравствуйте» – и услышала то, от чего внутри похолодело и пятничный вечер сразу перестал казаться скучным. – Девушка, девушка! Плавни горят! – прокричал голос в динамике. Нина будто увидела звонящую: немолодая, но еще и не возрастная учительница. Или врач. Но непременно интеллигентной профессии. Интонации выдали. Нина, работавшая диспетчером больше десяти лет, распознавала, что за человек с ней говорит, легко и практически безошибочно. – Где очаг? – спохватилась она. – Вы откуда звоните? Назовите адрес. – Из Чембурки я. На окраине живу, на Озерной, двадцать семь. Перед окнами все полыхает, метров триста перед домом. Может, четыреста. Точнее не скажу. От Анапы хутор в пяти километрах. Вечерние пятничные пробки на выезде помешают, но караул прибудет быстро, прикинула Нина. – Не переживайте, пожалуйста. Я сейчас же направлю к вам бригаду. Тон Богдановой действовал как успокаивающее. С той стороны провода с облегчением выдохнули: – Спасибо! – Ожидайте. Нина повесила трубку, но аппарат вновь взорвался трелью. Нахмурившись, она поняла, что в ближайшие часы говорить придется много. Даже слишком.
18.03 Огник
– Мам, а мам? Ма-а-ам! Можно конфетку? Стриженный так коротко, что кажется лысым, Лёша заходит в зал. Впрочем, назвать комнатенку залом можно с большой натяжкой. Она просто самая большая в их старом доме. Мама спит на диване. На столе рядом бутылка. Жидкости мало, на два пальца. – Мам, а мам? Она не открывает глаз, раздраженно мычит, Лёша не понимает. И решает, что это «да». Шлепает тапочками на кухню. В раковине гора грязной посуды. Мама все реже ее моет. Ей лень. Лёша бы помог, он знает, как это делать. Но тогда надо зажечь колонку, а ему это строго-настрого запрещено. Если мама проснется и увидит его со спичками, в лучшем случае влепит затрещину. В худшем нахлестает по попе так, что она будет гореть как ошпаренная. Гореть… Лёша любит огонь. Не просто любит – обожает. Больше всего на свете! Больше даже, чем конфеты или мороженое. Однажды он развел костер посреди своей комнаты: сложил в кучку деревянные кубики, пластиковых солдатиков, мимимишек, фиксиков. Порвал над ними на клочки газету и, чиркнув спичкой, поднес огонек к бумаге. Игрушки весело вспыхнули, пламя заплясало. И Лёша заплясал вместе с ним! Мама избила его так, что он хромал неделю. Или две. Ссадина на лице никак не заживала: кожа лопалась, становилась мокрой и липкой. Лёша болячку расчесывал, она его злила. Мама перестала водить его в садик. Сказала: надо, чтобы ничего видно не было. Предупредила: если на улице кто спросит, что случилось, отвечать надо: упал. Бежал по дому и растянулся в коридоре. Такое бывает. Когда Лёша был совсем-совсем маленьким, уже тогда язычки пламени на конфорке разглядывал и пытался до них дотянуться. Один раз удалось – на пальцах волдыри вскочили, защипало больно – ужас! Бабуля еще жива была, пузыри мазью из аптеки мазала и учила Лёшу, что посикать на них надо, народное средство, веками проверенное. Она была со странностями, но Лёша все равно ее любил. Даже больше мамы. Когда бабуля сильно сердилась, она называла его непонятными словами. То имбецилом, то огнепоклонником. Скажет, а сама потом плачет. «Имбецил» Лёше не нравился, его слова с буквой «ц» в принципе злили – нехорошие, ненашенские. То цирк, то центрифуга, то царапина, циркуль. Еще муха цеце – бр-р! «Огнепоклонник» звучал лучше. Но слово длинное, сложное, язык вывихнешь, и Лёша его сократил до Огника. – Баба, я Огник! Ог-ник! Так ей и заявил. А она ему: – Ты Лёша. Лёша! Забудь глупости свои! – Огник! – напирал мальчик. Не сдавался. Так и привязалась кличка. Бабушки год как нет, а прозвище осталось. Лёша тайком подворовывал спички. Он знал, где мама их прячет: в нижнем ящике серванта, под перевернутой сковородой. Зажигал, когда никого дома не было. Или когда мама спала крепко, как сейчас. Хлебнет из бутылки с микстурой, а потом храпит перед телевизором. («Ты смотри не пей, не вздумай! Отравишься! Это для взрослых лекарство!» – предупреждала. Знала, что Лёша лекарств, как и врачей, боится. Пока совсем маленьким был, его столько по клиникам да больничкам перетаскали, эх…) Он подпаливал паутину в углах вместе с пауками и засушенными мухами, жег листы бумаги, разорванные на длинные полоски. Иногда ловил пчел и ос, бьющихся об окна изнутри, запихивал в коробки из-под таблеток и подносил спичку. Слушал, как они жужжат и бьются внутри, пока чернеет и съеживается картон. Следы пожарчиков Огник прятал. Знал, что мама не помнит, сколько спичек лежало в пачке, и пользовался ее рассеянностью. Тайничок соорудил: в углу комнаты, под кроватью, под прикрытием здоровенной пластмассовой машины, с которой давно не играл – надоела… Он лег на пол, пролез, собирая пыль майкой и спортивками, в глубину и достал коробок. Прошел на цыпочках мимо мамы – та не шелохнулась – в предбанник, предвкушая, как соорудит здесь костерчик. Но вдруг понял: что-то не так. Солнце давно закатилось, но было светло. Странное сияние неподалеку дрожало и трансформировалось, мерцало и подмаргивало. Лёша прилип носом к стеклу и охнул: из плавней вдоль горизонта поднимался огромный непостижимо прекрасный огонь. Он танцевал.
18.55 Николай Кузнецов
Оперативный штаб организовали шустро. Пригнали на окраину Чембурки из анапской автоколонны пазик – вот и плацдарм для заседаний. Окна закрыты плотно, гарью не несет и внутри более-менее тепло. На улице стоял дубак. Термометр показывал минус три, но северо-восточный ветер, его еще называли бора, свирепствовал второй день. И продирал до костей. Кузнецов заведовал оргвопросами: прежде всего, координировал бедлам, который разворачивался вокруг. Прибывали эмчеэсники, пожарные, сотрудники мэрии. Все стремились что-то делать, срочно, немедленно, но больше мешали друг другу, спорили и переругивались. Каждый считал себя главным и, соответственно, правым. Спасатель с почти тридцатилетним стажем Кузнецов, прошедший Крым и рым, разруливал суету со слоновьим спокойствием. Для своих пятидесяти шести он выглядел намного, лет на десять, моложе, мог отжаться восемьдесят раз и подтянуться двадцать, а недавно выполнил нормативы ГТО на золотой значок. В крае шло повсеместное помешательство, районы мерились процентами жителей, сдавших комплекс упражнений. Спортинструкторы рыскали по школам, вузам и предприятиям, а недавно заглянули к ним в Кубань-СПАС, зная, что работники там спортивные и к тому же муниципалы, к добровольно-принудительным мерам привычные, возмущаться не станут. Тогда Николай и показал класс, краем глаза отмечая, как молодая поросль на него смотрит: удивились парни, конечно. Догадывались, что мужик он крепкий, но чтобы настолько… Никто не подозревал, что Кузнецов комплексует из-за возраста. Недавно его зам, мужик помоложе и технически продвинутее, показал ему в Инстаграме видео, в котором Николай предостерегал о прогнозируемом норд-осте. Тролль, спрятавшийся за ником Pravdorub и картинкой с волчьей мордой, откомментировал: «Кому-то пора на пенсию. Даешь дорогу молодым! А то песок уже сыплется». Кузнецов хмыкнул, бросил безразлично: «Пусть пишут, жалко, что ли»… А сам расстроился. Мелькнула даже мыслишка, не закрасить ли седину, но прогнал – бредятина ж! Так и носил внутри обиду, которая нет-нет да вспенивалась, и он морально был готов придушить того, кто назовет его стариком или еще оскорбительнее – старпером… Первое заседание штаба назначили на полвосьмого вечера, и Кузнецов собирался оставить в автобусе только тех, кто принимал реальные решения и мог повлиять на ситуацию – по-настоящему проблемную. Горел сухой камыш быстро. Огонь шел со скоростью сто метров в час и приближался к заправке, за которой начинался жилой сектор. Волна пламени катилась и в другую сторону, в глубь плавней, раскидывала щупальца, ползла даже против ветра. В эпицентре такое тушить невозможно – ни одна спецтехника не пройдет, на первых метрах завязнет. Но там-то ладно. Страшнее, если огонь на заправку пожалует или до окраинных домов доберется. Тогда выход один – эвакуация. Вице-мэр Синютин с красным то ли от волнения, то ли от мороза лицом как раз договаривался с директором близлежащего санатория о размещении потерпевших. – Человек сто примешь? А двести? Не факт, что понадобится, но мне докладывать надо. На штабе, да! – ревел он в айфон. – Да тут весь край сейчас будет! Ладно, Михалыч, ладно. Спасибо! Дай бог больше не позвоню. Начальник пожарного гарнизона в неуместной для автобуса каске и форме, не переставая, звонил и отвечал, звонил и отвечал. Не хватало техники, ближайший гидрант – в трех километрах. Впрочем, к Анапе уже стягивались пожарные машины из Новороссийска и Темрюка. И, конечно, суетились чиновники всех мастей! Тем, кто рангом повыше, Кузнецов напомнил время заседания, а вот начальника отдела по твердым коммунальным отходам Еремеева развернул к дверям. Тем более повод нашелся: – Сергей Иваныч, прогноз неутешительный. Помогать надо. Возьми пару человек, сходите по крайним домам. Чтобы документы, деньги, все необходимое готовили. Только чтобы без паники! Аккуратно, как с детьми.
19.14 Сергей Еремеев
В первом домишке живет дедок лет семидесяти. Один. Еремеев по недовольному прищуру понимает: перед ним – типичный человек-говно. Как в песне «Биртмана». Не ошибается. – Тушите давайте! Никуда я не пойду! – заявляет гражданин. – Это ваша обязанность – обеспечивать нашу безопасность. Вы власть! Вот и отрабатывайте зарплаты свои непомерные! – Послу… Человек-говно захлопывает дверь, не давая завершить фразу. Сергей думает постучать еще разок, поубеждать, но уходит. Понятно же, что не вариант. Такой умник упрется, хрен переубедишь. Только если паленым запахнет и пламя на стены полезет, жопу поднимет. И то не факт. Время распределять надо рационально, не тратить на пустое. Второй дом на Озерной улице. Обычная семья. Вышли родители, двое деток. Встревожены, конечно. А как иначе? Полыхает – мама не горюй! Пожарные вовсю тушат, но результата не видно. Зарево все ярче. – Нам точно не надо уезжать из дома? – Глава семейства встревожен, хотя старается это скрыть. – Принимаются все меры, чтобы огонь сюда не дошел. Но на всякий случай будьте готовы. – Может, не будем ждать? – У женщины глаза на мокром месте, губы дрожат. – Говорит же человек, не паникуй! – Мужчина изучающе смотрит на Еремеева. Тот выдерживает взгляд, и хозяин ненадолго успокаивается. Третий дом – самый обветшалый. Сергей нажимает на кнопку звонка. Ждет. Жмет повторно. В окне мерцает свет, но никто не открывает. Еремеев стучит. Сильнее. Еще сильнее. Он почему-то волнуется. Чуйка сработала, а она не обманывает, столько раз убеждался. И вроде надо дальше, домов много, но он молотит и молотит по обшитой дерматином фанере. И, вознагражденный за терпение, видит, как в предбанник выходит дамочка. Еремеев без труда определяет, что за птица: белки в красных прожилках, лицо одутловатое, помятое, координация движений – мечта гаишника. А когда она отпирает, по дыханию удостоверяется: не ошибся. – Женщина, здравствуйте. В плавнях пожар. Огонь сюда идет, есть угроза жилому сектору, – тараторит он и хочет побыстрее оставить алкоголичку досыпать. Вряд ли она понимает, о чем он говорит, в лучшем случае половину. Но по искаженному волнением лицу видит: что-то не так. И остается, а женщина нервно оглядывает предбанник и исчезает в комнате, едва не снеся дверной косяк плечом. «Больно будет, как проспится. И не вспомнит же, откуда синяк», – думает Сергей и слышит, как мечется внутри хозяйка. Доносится: – Лёша? Лё-о-оша! Ты где?! Не разуваясь, он заходит в комнату. Внимания на бедлам вокруг старается не обращать. Пусть соцзащита расхлебывает, он позже туда сообщит, не забудет. Дамочка сидит на обшарпанном диванчике, обхватив голову руками, и подвывает. – Что случилось? Он уже знает ответ. Хочет, чтобы она озвучила. И она делает это. – Сы-ы-ын пропал. Лёшенька. – Не волнуйтесь, мы его найдем. – Он у меня дурачо-о-ок… С подбородка свисает то ли слюна, то ли сопли, слезы катятся по рыхлым щекам – неприятное зрелище. Но Еремееву не жаль пьянчужку. Может, встряска мозги ей промоет. Гораздо важнее пропавший ребенок. – Мы. Его. Найдем, – повторяет он уверенно. А внутри екает. Натягивается тетивой и обрывается. Плохая чуйка, ох плохая.
18.30–19.01 Виктор Комиссаров
Комиссар и его ребята прибыли на место первыми. Экипаж слаженный, сработавшийся, не раз в прямом смысле огонь и воду проходил. Плавни тушить тоже приходилось – год с лишним назад, в августе. И тогда дул сильнейший ветер, только жаркий, сухой. Дым шел такой, что бздуны в Сети переполошились. Курортный сезон в разгаре, все хором в смартфоны строчить: «Караул! Атас! Мы все сгорим»! МЧС даже авиацию выделило: сначала два вертолета Ми-8, потом самолет Бе-200. Только с воздуха и потушили. С плавнями – оно ж как, работать невозможно. По сути, болото, густо заросшее камышом. Ни одна машина не пройдет. Метр от силы, и колеса вязнут. Бывало, пожарные проваливались в прелое месиво по пояс. Лешка Болотов однажды по шею ушел, еле вытащили. Экипировка тяжелая, неудобная: костюм защитный, шлем с огнеупорным стеклом вместе килограммов восемь тянут, если не больше. Пока тушили, кляли всех и вся: условия чудовищные, а результат едва виден. Но сейчас было хуже, много хуже, чем летом. Холод адский, проклятый норд-ост проникает через костюм. И вроде жар от огня должен идти, но не чувствуется, ветер рассеивает его над плавнями вместе с искрами. Брызги в оранжевых отсветах кажутся кровью огня. Словно не воду льешь, а пламя. Красиво, но как же холодно! Через мгновение Комиссаров забыл о стуже, громоздком костюме и рассыпающихся фейерверком искрах. Неподалеку от места, куда он направлял струю брандспойта, Виктор увидел…
19.20 Кузнецов, Самсонов, Еремеев
– Иваныч, слушай, мне сейчас Комиссаров звонил, старший прапор, из лучших моих бойцов. Ты его помнишь, может? – Грамоту выписывали, помню. На прошлом пожаре в лимане отличился. – Так вот… – Замначальника пожарного гарнизона Александр Самсонов затянул паузу. – Сань, у меня штаб вот-вот начнется, минут пять максимум. Мэр в пути, шишки из края на подъезде. Не тяни! Что там с Комиссаровым твоим? – Чертовщина, Иваныч. Если б не знал его сам как облупленного, решил бы, что неадекват. Или розыгрыш глупый. Но он не из брехливых. И обстановка не для шуток. – Саня-а-а… – Ладно-ладно, извини, понимаю. Но не сказать не могу. Я сам сейчас из Новоросса еду. Но на выезде, мать ее, пробка. Встал намертво. – Саня!!! – Короче, Комиссар в плавнях огненного человека видел. – Чего?! – Силуэт, говорит, человеческий. Рост маленький, а сам из огня весь. Бегает, и от него камыши сильнее разгораются. – Бред. – Согласен. Но Комиссар на нервах. Начальнику гарнизона рапортовать боится – меня набрал. А я тебя. – Здесь ваш шеф, краевого министра встречает. Все, Сань, я все понял, некогда мне глюками заниматься, ей-богу. У меня Чембурка вот-вот на воздух взлетит. – Понимаю. Все понимаю, брат. Извини. Приеду, сам разберусь. – Лады, а я пошел гостей встречать. По ходу, Горнев из Краснодара домчал. Быстроон… Хотя если с мигалкой… Кузнецов дал отбой и сунул мобильник в карман. Но аппарат тут же встрепенулся. – Кто еще?! – рассердился Николай. Поглядел на экран, прикинул, отвечать или нет, но все же ткнул пальцем в зеленую трубку. – Николай Иванович, это Еремеев. – Слушаю. Только быстро! – У нас ЧП. Мальчишка пропал. – Какой мальчишка?! – Маленький. Семья неполная, проблемная. Мамашка вразлюлю, а ребенок дверь открыл и ушел. Шесть лет. А еще он, похоже, того… – Чего того?! – Ну, с кукухой проблемы. ЗПР. И… мать, в общем, говорит, он на огне помешан. Мог на пожар убежать. – Твою ж мать! Сука! Сука!!! Только детского трупа нам не хватало! Звони своим срочно, кто там с тобой по улицам ходит: тосовцам, волонтерам – всем! Пусть про пацана спрашивают. Я ментам сейчас сообщу. Адрес у матери какой?
18.22 Огник
Одному из дома выходить нельзя. За это мама так накажет, что… Представить боязно. Лёша как-то вышел во двор без спроса на чуть-чуть. Потом мама его за руку волокла, он думал, сломается, плакал. А она еще и об диван его швырнула. Огник отпружинил и свалился на пол, головой стукнулся. Серебряные звездочки увидел – как на небе… Минут двадцать он любовался через мутное стекло предбанника, как искры разрисовывают ночь стеблями причудливых растений и бутонами ярких цветов, как радостно танцует веселое зарево, и понимал, что остаться дома не сможет. В голову просачивался чужой и незнакомый, но ровный, успокаивающий, на одной ноте, голос. Сначала потрескивание и шуршание – так сырые дрова в костре не могут свыкнуться, что скоро сгорят. Потом звук сложился в песню – нечеловеческую, очень старую, древнее любого из людских языков. Лёша, сам не зная как, догадался, что это голос огня и что обращается он к нему. К нему одному. – Иди ко мне, малыш, иди скорее! – пел огонь. – Будем танцевать вместе! Огник решил, что если ненадолго сгонять на пожар, то мама не узнает. Она же спит! Он с трудом отворил тугой шпингалет, поежился от ледяного ветра, ворвавшегося в теплые сени, и как был, во фланелевых штанишках и майке с Крошем из Смешариков, в тапочках на босу ногу, побежал по пожухшей траве туда, где его ждали.
19.15 Комиссаров
Комиссар потер задубевшие руки. Пальцы мерзли, защита не спасала. Посмотрел на огонь, который сейчас проливал его сменщик Сергей, на телефон, по которому звонил заму шефа. Пространство двоилось и троилось. В ушах звенело. Виктор никогда не сталкивался со сверхъестественным. Рационалист до мозга костей, человек волевой и упрямый, он не одобрял сослуживцев, крестящихся перед выездом, не ходил в церковь даже по большим праздникам и, несмотря на любовь к чтению, терпеть не мог мистических романов. Их авторы мозги людям пудрят, а сами небось только успевают гонорары считать. Поэтому строгий разум Комиссарова наотрез отказывался принять то, что объяснения не имело и в рамки обыденного не вмещалось. Вообще ни в какие координаты не вписывалось. Он совершенно точно своими глазами видел в камышах огненного человечка. Тот кружился в оранжевом вареве из всполохов, размахивал руками и взбрыкивал ногами, тряс головенкой и прыгал – вбок, дальше, еще дальше. Сухие стебли от прикосновений вспыхивали бенгальскими огнями, а человечек хлопал в ладоши и танцевал еще яростнее, еще энергичнее. В памяти возникла сказка из детства – «Огневушка-поскакушка». О чем она, Комиссаров не припоминал, давно было, но название удивительно подходило этому странному созданию. Комиссар служил в пожарке с той поры, как окончил вуз, тушил в самых экстремальных условиях здания любого калибра – от времянок до многоэтажек, но с такой дьявольщиной никогда не встречался. Даже не слышал. А услышал бы, не поверил. Вдоль дороги, за которой до края горизонта простирались плавни, сейчас стояло шесть экипажей. За каждым условно закрепили участок. Помогали местные – лопатами делали земляные валы. Но получалось плохо – почва замерзла, еле поддавалась. Сзади была заправка. Если рванет, испепелит Чембурку к чертям. Потому стояли намертво. Огневичок поплясал и скрылся из виду, Комиссара сменил напарник, и тот ничего необычного не видел. Стоял и поливал. А может, и не было огненного человечка? Но трепыхающееся, как бабочка в стеклянной банке, сердце подсказывало: был.
18.33 Огник
Шум стоял такой, что Лёша подумал: оглохнет. Ветер выл сердито, злобно. В его рев вклинивались сирены подъезжающих пожарных машин и звенящие, полные отчаяния птичьи крики. Воздух напряженно дрожал, словно внутренности огромной волынки. Порывы валили с ног – тельце тощее, кожа да кости. Но Лёша упорно прорезал северняк насквозь. Он перебежал через асфальтовую дорогу, угодил носком тапки в выбоину, упал и скатился с гравийной насыпи в траву возле плавней. Поднялся и стал продираться через камыши. Под ногами хлюпало, ступни уползали в ледяную жижу, но неглубоко. Слишком легкий, чтобы провалиться, он шел и шел, ближе и ближе к пожару. Что-то внизу дернулось, полоснуло по щиколотке – мышь укусила. Грызуны бежали толпой, очнувшись от спячки. По бугоркам слежавшейся травы шебуршали шевелящимся ковром насекомые. Сухие острые листья секли, стесывали кожу, но Лёша не думал, как рассердится мама, когда увидит его, вернувшегося с грязнющими окровавленными коленями, остывшего, как мороженое, под свирепым натиском ветра. Он больше не думал о маме вовсе. Домик на Озерной оставался все дальше, а сам Лёша приближался к точке невозврата. Несколько шагов, и все, обратного пути нет. Он раздвинул стебли. Впереди был свободный от камыша островок. Небольшой, метра полтора в диаметре. И сразу за ним – стена пламени. Огник встал напротив нее и внезапно очутился в полной тишине. Какофония смолкла, как оркестр по команде дирижера, застывшего с поднятой палочкой. Оранжевые языки перестали пожирать камыш, искры зависли в небе комплектом неизвестных астрономам созвездий. Ветер стих, будто невидимый волшебник прочитал заклинание: «Замри!» Лёша сделал ровно три шага навстречу зареву и протянул к нему руку. Он не сомневался, что делает правильно и что нет никакого другого выбора, не было и не будет. Только так – слиться с огнем, стать его частицей: горячей, беспощадной, величественной. Сквозь кожу проступили узелки вен, засияли золотом, разливая по телу жар. Едва видные волоски на руках распрямились, как наэлектризованные, и вспыхнули. И все разом вернулось: рев, гогот, завывания ветра, мышиный писк, птичий гогот и сиренный гул, раскатывающийся над плавнями. Пожар рванул вперед, сграбастал Лёшу исполинской оранжевой пятерней, сжал что есть сил и растворил в себе. А спустя минуту отпустил. Только это был уже не прежний Лёша.
19.36 Кузнецов
Заседание опять перенесли. На восемь. Слишком много неразберихи. И начальников переизбыток. Каждый распушал хвост, хвастался боевой раскраской и норовил показать когти. Краевики считали, что местные не разрулят ситуацию сами, а местные – что только они могут остановить огонь. Пока не дрались, и слава богу. – Трактора́, трактора́ пригнать надо! – настаивал заезжий чиновник с модной бородкой, которую ровняли не иначе в барбершопе. – Пусть они вдоль плавней пройдут, минерализованную полосу сформируют. – Они там как пить дать потонут! Не потонут, так увязнут и сгорят нахер! – не соглашался первый вице-мэр. Главы города пока не было – он спешил из Краснодара, с губернаторского совещания. – Может, встречным огнем? Выжжем аккуратненько метра три вдоль берега, пожар дойдет, а дальше-то некуда, – предлагал замминистра края по ЧС и гражданской обороне. – При такой силе ветра крайне опасно, мы не сможем контролировать пламя. Сами себя в угол загоним. – Начальник местного гарнизона перед вышестоящими не пасовал, но взгляд на всякий случай прятал, его было удобно уставить в карту, лежащую посреди стола. Кузнецову вдруг страшно захотелось на воздух. Немедленно. – Выйду ненадолго, минут пять-десять, – посмотрел он на спорящих. Те кивнули. – Схожу сам на обстановку посмотрю. – Доло́жите, Николай Иванович. Ждем! – махнул рукой замглавы и продолжил спор. Кузнецов вышел, вдохнул морозную свежесть и впервые за четыре года пожалел, что бросил курить. Страстно хотелось затянуться. Но крамольные мысли отогнал, сплюнул, набрал номер Еремеева: – Нашли пацана? – Ищем. Нет нигде. Всю Озерную уже прочесали. – Продолжайте. Следующие дома шерстите. Все. Как найдете, сразу сообщи. Я по… Из тьмы выбежал здоровенный чумазый мужик в фуфайке и с лопатой наперевес, едва не сшиб Кузнецова с ног. Тот устоял, но, разозлившись, схватил бегуна за грудки, притянул к себе, проорал: – Ты куда так прешь, гад?! – Там огневик! – по-бабьи взвыл незнакомец и хотел поскакать дальше, но Николай не пустил. Вцепился в рукав и развернул «легкоатлета». – Что случилось? Какой огневик? Напуганный мужик ничего не слышал и не видел, лишь порывался убежать. Пришлось применить безотказный метод – влепить пощечину. – Смотри! На меня смотри! Слушай! – Кузнецов знал, как выбрать тон поубедительнее. – Я начальник управления ГО и ЧС, и я должен знать все, что происходит на моей территории. Понял меня? Понял?! Битюг начал очухиваться, кровь отлила от лица. – Знаешь, кто плавни поджег?! – Нет. Нет! И не поджигал их никто! Огневик это балует. – Какой, на хрен, огневик?! Мужик воровато огляделся, будто проверял, не подсматривает ли кто. Сзади темнели силуэты машин и возвышался автобус со светящимися окнами. Впереди на полгоризонта расстилалось пламя. Было очень шумно, но амбал все равно приблизился к Кузнецову вплотную, будто хотел нашептать на ухо. Но приходилось кричать: – Я сам местный. Наша семья с позапрошлого века здесь живет. Прабабка сказывала, дух огненный в лиманах спит – огневик. Раз в пятьдесят лет просыпается, и тогда пиши пропало. Не остановишь. Пока не насытится, не успокоится. – Бред, ну бред же! – Кузнецову захотелось ударить мужика по щетинистой морде, повалить и пинать. Будто это он во всем виноват. – Бред-то бред. Но бабка говорила, как пол-Витязево в шестидесятые выгорело. И Анапская в семнадцатом году. Ни в жисть бы не поверил, но… – Голос незнакомца булькнул. – Я сам его сейчас видел. На плавнях он танцует. Быть беде, начальник! – Огневик… – усмехнулся Кузнецов. – Танцует. Ну ладно. Ладно… – И разжал пальцы. – Можете не верить! – просиял освобожденный и нырнул во мглу. Оттуда донеслось: – Я с семьей тикать буду, а вам никакая техника не поможет! Попомните мои слова!
19.41 Комиссаров
Передохнув с полчасика, он снова вышел тушить, теперь на соседнем участке. Огонь продолжал рваться к Чембурке, ветер усиливался и не собирался менять направление. Оставалось стоять до последнего. Нет, умирать никто не собирался, но начальник гарнизона предупредил: если в ближайшие полчаса ситуация не изменится, начнется эвакуация. Администрация пригнала пять или шесть автобусов. Они стояли вдоль дороги на безопасном расстоянии, грели моторы и ждали отмашку. Внутри сидели волонтеры – всех подняли оперативно. Близился момент истины. Метров десять пламя вперед пройдет – хана, сматывай шланги. Риск станет непозволительным. Про огненного плясуна Комиссар старался не думать. Решил: стресс, дымом надышался, примерещилось. Так проще. Да и Самсонов, который добрался-таки из Новороссийска, промыл мозги: – Вить, по нашей службе чего только не привидится. Панов вон жар-птицу над высоткой на пожаре углядел. Клялся-божился, что не брешет. Размером с павлина и с хвостом расфуфыренным, из огня вся. Летала в дыму, искры по кровле сыпала. Так что не бери в голову, человек твой огненный – еще не самый треш. Пламя ужинало жадно, забиралось дальше, ближе. На мощные струи воды внимания не обращало – уворачивалось, перекидывалось с залитых стеблей на соседние, скручивая их в уродливые черные загогулины. Завораживающее, гипнотизирующее зрелище. Но лучше наблюдать со стороны, с экрана большого ЖК-телика или даже IMAX, но не когда эта сокрушительная масса надвигается на тебя. Не тогда. Ветер выдохнул так, что Комиссар через защитное стекло ощутил контрастную смесь жара и холода. Впереди что-то тоскливо завыло, навзрыд, оглушительно, затрещало и заметалось. И пламя вдруг расступилось, освобождая четко очерченный узкий коридор. Комиссар едва не выронил брандспойт, который извергал струю над пустотой посреди геометрически ровных, как ножом отрезанных, огненных стен в камыше. По высвобожденному коридору навстречу Виктору, искривляясь в немыслимых ужимках, которых никогда не выдержали бы человеческие суставы, приближался огненный коротышка. Будто вызревшая в вулканическом чреве лава ожила и выродила некрупное, немногим выше метра, тело из темно-оранжевой, с угольными прожилками, плоти. Под тонкой кожей-корочкой пролегали корневые системы вен и капилляров того же цвета, но оттенком поярче – как и лишенные зрачков глаза и ногти на руках и ногах. Одежды на пришельце (а Комиссар сразу решил, что это инопланетянин, не сбежавший же из ада демон или внебрачный сын Гефеста) не было, а еще от огневика растекался жар похлеще, чем в самой экстремальной бане. Словно бандерлог под немигающим взглядом Каа, Комиссар наблюдал, как танцор, спазматически сокращаясь и подрагивая, изображая пародийное подобие брейка, застыл неподалеку от него и запрокинул лысую голову, по которой змеились то ли трещины, то ли черные кровеносные сосуды. Огневик открыл пасть – внутри извивался язык, на поверхности которого плясали алые треугольнички, вместо зубов вдоль десен тянулись жвалы – и застрекотал, перекрывая свист ветра. Режущий, невыносимый звук проникал в мозг, выплавлял в нем тоннель. Пространство заполнило шипение и хрипы. Комиссар взвыл и выронил рукав.
19.42 Огник
Рожденный заново, перевоплощенный, очистившийся от далекого, почти неразличимого уже прошлого, Лёша наслаждался обретенной гуттаперчевостью и непостижимой сверхчеловеческой силой. Огонь покорно подчинялся ему – мог вознестись и расстелиться по плавням, помчаться в любом направлении, которое укажет Огник. Но тот пока не знал, как распорядиться этим даром, что с ним делать. И просто бегал туда-сюда, а впереди плескались волны пламени. Лёша заметил человека в смешном неуклюжем костюме – тот поливал камыш из здоровенного шланга. Чтобы не напугать его своим новым обличьем, выпрыгнув из зарослей, он неторопливо раздвинул огонь и витиевато протанцевал к пожарному. Лица за маской, в стекле которой отражалось дрожащее марево, видно не было, но Огник почувствовал, что человек взволнован, даже напуган. – Не бойся, дядь, – сказал он и сам удивился новому голосу: чужому, сильному. И повторил, наслаждаясь мощным звучанием: – Не бойся! Давай поиграем? Мужчина выронил шланг, закричал и присел на корточки, обхватив шлем руками. А выгнувшийся брандспойт прочертил зигзаг и ударил в Огника тугой струей ледяной воды. Тело окутали клубы пара, стало очень больно, больнее чем от крапивы или фиолетовой медузы. Но еще больше – обидно. Он же поиграть хотел, а его… Лёша заверещал и направил оплетенную туманными сгустками ладонь со спекшимися в подобие клешни пальцами на беснующийся рукав, который тут же скрутило в содрогающийся узел. А затем повел рукой на того, кто сделал ему больно. Так тебе, гад! Так! Гори, гори ярче!
19.44 Кузнецов
Он услышал крик издалека. Несмотря на ветер. Вычленил его из гула. Привычка… В шторм тоже ничего не разобрать, когда, нарушая инструкцию, рискуя, гребешь на лодке к бую, в который вцепился и держится из последних сил насмерть перепуганный кайтер. Волны грохочут, ветер ревет, а ты все равно каким-то шестым, восьмым чувством улавливаешь крик о помощи. И торопишься делать то, что умеешь лучше всего, что любишь больше жизни, – спасать. Сейчас он тоже рванул вперед, побежал, хотя по надрыву понял: крикун – не жилец. В голосе жила смерть. Слишком острая боль, слишком большая обреченность. Перейденный Рубикон. На бегу увидел, как от пожарной машины, горбатым зверем сторожившей околицу Чембурки, отделились силуэты и побежали на крик, а им навстречу из мечущегося зарева выпрыгнул человекоподобный факел. «Пацан тот! Не иначе. Все, конец ему», – мелькнуло в мыслях, ошпарило ужасом – не уберегли мальца, теперь хана, Следственный комитет шкуру со всех живьем сдерет. Черт! Черт! Черт!!! Но объятая пламенем фигурка не была похожа на умирающего ребенка. Кузнецов продолжал бежать, тяжело дыша, спотыкаясь на невидимых в темноте кочках и все отчетливее понимая: здесь происходит что-то неправильное, противоестественное, что-то намного хуже пожара. Порыв норд-оста швырнул в лицо смрад горелой плоти. Последний раз Николай ощущал этот отвратительный запах месяцев семь назад. Тогда в перевернутой после аварии KIA заживо сгорела зажатая между рулем и сиденьем молодая женщина. Гражданские вытащить ее не сумели, огонь распространялся слишком быстро, и случайным свидетелям пришлось слушать крики агонии и наблюдать за мучениями, не в силах что-то изменить. Экипаж прибыл на место, когда было уже поздно… Огненный человечек подпрыгнул – высоко, люди так не скачут – и спикировал на приблизившихся пожарных. Снова крик – режущий барабанные перепонки. Вспышка. Омерзительный ветер. Тошнотворный. Люди корчились и крючились, бились в агонии на земле. До места их казни оставалось метров тридцать, не больше, когда Кузнецов услышал, как сквозь вопли боли пробивается смех. Искаженный уродливым хрипом, но узнаваемо-детский – так ребенок хохочет в цирке над дрессированным пуделем или растянувшимся на арене клоуном. А еще из зарослей доносился голос – или это игра воображения, или штормовой северный ветер, или крыша поехала… Будто ревет дикий зверь, огромный, разбушевавшийся – гибрид слона, тигра и кабана. Протяжный трубный звук, рычание и хрюканье сразу. Ожила рация: – Иваныч! Иваныч! Ты где? Тебя все ищут! Мэр приехал. Злой как черт. Штаб начинать надо! Кузнецов хотел ответить, но не смог. Ноги несли его навстречу огню и захлебывающимся предсмертными криками телам, в гости к пламенному человечку. Развернуться бы и мчаться к автобусу со штабистами. Они не видели этого безумия, не слышали. Они помогут, приведут его в чувство, спасут. Они могут… Николай собрал волю в кулак и остановился.
19.48 Огник
Дяденька – тот, последний, без костюма, как у пожарников, – оказался сильным. Сильнее тех, с которыми он успел сыграть в игру. Огник понял, что с ним легко не справится, – тот сопротивлялся, выдавливал его из своих мыслей, – и решил позвать того, кто скрывался позади, в огне. Тот, в плавнях, и был самим огнем. Наблюдающим за своим ребенком и его забавами. И, когда сын обратился к нему, он откликнулся и вышел.
19.55 Кузнецов, Огник
Ноги снова слушались. Да, они опять принадлежали ему. Слева стояла осиротевшая пожарная машина. Справа, метрах в ста, была ее близняшка. Работала еще одна бригада. Там, на другом конце галактики. Сзади – недалеко, сразу за неширокой, метра три, дорогой – светилась заправка. Возле орудовали лопатами ее сотрудники, которых начальство выгнало копать бесполезный ров. А впереди поднимался четырехметровый огненный великан: насекомоподобный, суставчато-мосластый, похожий на палочника, с непропорционально огромной головой, которая еле держалась на тонкой шее, болтаясь из стороны в сторону. Кузнецов часто заморгал, пытаясь избавиться от наваждения, будто закроешь глаза, а когда откроешь – будет другой день, месяц или даже год. Не получилось. Гигант размашисто шагнул из плавней на берег, сделал пару неуверенных шагов, будто пробуя, на что способен, а потом в четыре больших прыжка доскакал к своей маленькой копии и погладил ее клешней по лысому черепу. – К-к-кто вы? – просипел Кузнецов. – Что вы такое? Язык не слушался, еле ворочался, как разбухшая от влаги тряпка. Ему никто не ответил. Огник выкрикнул нечто неразборчиво-междометное, отец гортанно проклокотал в ответ, они одновременно развернулись к Николаю, подошли к нему, и пламенный верзила провел ладонью по его голове – так же, как делал это несколько секунд назад с мальчиком. Только последствия были другими. Боль переполнила Кузнецова. С макушки мгновенно начала слезать, скручиваясь в рулоны, кожа, выпуская струйки крови из оголенных сосудов. Сердце загалопировало, скулы свело, а челюсти заклинило, нижний ряд зубов, смыкаясь, крошил верхний. Когда в ноздри вторгся запах горелых волос и мяса – его мяса, – организм смилостивился, и Кузнецов потерял сознание, рухнул на землю искалеченной хулиганом куклой. Одежда зарделась, но он этого уже не почувствовал. – Поиграем? – склонившись к Огнику, пророкотал отец. – Конечно! Ура! Идем играть! – запрыгал счастливый сын. И они пошли, оставляя дымящиеся следы на траве, к заправке. Ветер достиг апогея. Ликуя, он расписывал мглистое небо лепестками искр, складывающихся в узоры, которые по красоте и экспрессии легко могли соперничать с полотнами имажинистов. Жаль, любоваться этой красотой было некому. Зрители появились чуть позже.
Роман Смородский. …и все погрузилось в трясину
 День у Матвея Палыча не задался с самого начала. Он понял это с первой же ложкой липкой полуостывшей каши. Противный мелкий хруст на зубах отозвался в них острой болью – будто разом во всех. Оглушительно грохнула о стол тяжелая деревянная ложка, зажатая в огромном бугристом кулаке. Егорка-дурачок подскочил в своем углу и боязливо втянул голову в плечи, но гнев хозяина на сей раз был направлен не на него.
– Апр-р-рашка! – прорычал Матвей Палыч, не оборачиваясь.
– Да, свет мой, батюшка, – моментально откликнулась стоявшая за его широким плечом сгорбленная старушка.
– Опять у меня пыль в каше! – Его маленькие налитые кровью глаза прожигали стоявшую перед ним тарелку насквозь. – Не усвоила в прошлый раз мою науку?!
– Не серчай, благодетель наш… – заквохтала глупая служанка. – Глаз-то у меня уж не тот. А за науку век благодарна буду, она уж завсегда впрок…
Грузная, как у старого вепря, туша пришла в движение – барин смерил нерадивую злобным взглядом с головы до ног. Кривая на один глаз старуха с багровым синяком под скулой и вечно дрожащими губами замерла, виновато глядя в пол и сложив в неозвученной мольбе руки.
Она знала, что ему ничего не стоит перешибить ее хрупкое тело пополам одним ударом. Знал это, конечно же, и он сам. Даже дурачок Егорка знал – и потому затаил дыхание, боясь лишний раз шевельнуть пальцем, дабы не гневить грозного барина еще больше.
Ведь если барин снова побьет Апрашку, кто еще расскажет Егорке про Белый Бал?
Но вот Матвей Палыч снова повернулся к своей тарелке и взялся за ложку. На сей раз буря миновала. Один этот взгляд, само осознание возможности заслуженной расправы стали достаточным наказанием. Еще несколько ложек – не жуя, чтобы не чувствовать больше всем телом этот мерзкий болезненный хруст, – и он тяжело поднялся из-за стола. Ему предстояло самое важное дело в жизни, и, возможно, не только в его собственной.
– На болота пойду, – рыкнул он себе под нос и взял в руку тарелку с остатками каши.
– Почто же, батюшка… – запричитала было Апрашка.
С ошеломительной для столь внушительных габаритов скоростью ее оборвал удар тыльной стороной ладони по сморщенным губам. Несильный с его точки зрения, старушку он отбросил к стене. На засаленный передник капнула алая кровь.
– Дура ты, Апрашка, – мрачно усмехнулся барин и направился к сеням мимо вжавшегося в лавку Егорки. – Не лезь в то, чего своим умишкой не поймешь.
Матвей Палыч был почти благодушен к ней в тот день. Потому что не задался он на самом деле, теперь барин точно видел, еще до того, как в каше ему попались частицы пыли. День не задался с самого пробуждения. А точнее – с того, что предшествовало ему.
День у Матвея Палыча не задался с самого начала. Он понял это с первой же ложкой липкой полуостывшей каши. Противный мелкий хруст на зубах отозвался в них острой болью – будто разом во всех. Оглушительно грохнула о стол тяжелая деревянная ложка, зажатая в огромном бугристом кулаке. Егорка-дурачок подскочил в своем углу и боязливо втянул голову в плечи, но гнев хозяина на сей раз был направлен не на него.
– Апр-р-рашка! – прорычал Матвей Палыч, не оборачиваясь.
– Да, свет мой, батюшка, – моментально откликнулась стоявшая за его широким плечом сгорбленная старушка.
– Опять у меня пыль в каше! – Его маленькие налитые кровью глаза прожигали стоявшую перед ним тарелку насквозь. – Не усвоила в прошлый раз мою науку?!
– Не серчай, благодетель наш… – заквохтала глупая служанка. – Глаз-то у меня уж не тот. А за науку век благодарна буду, она уж завсегда впрок…
Грузная, как у старого вепря, туша пришла в движение – барин смерил нерадивую злобным взглядом с головы до ног. Кривая на один глаз старуха с багровым синяком под скулой и вечно дрожащими губами замерла, виновато глядя в пол и сложив в неозвученной мольбе руки.
Она знала, что ему ничего не стоит перешибить ее хрупкое тело пополам одним ударом. Знал это, конечно же, и он сам. Даже дурачок Егорка знал – и потому затаил дыхание, боясь лишний раз шевельнуть пальцем, дабы не гневить грозного барина еще больше.
Ведь если барин снова побьет Апрашку, кто еще расскажет Егорке про Белый Бал?
Но вот Матвей Палыч снова повернулся к своей тарелке и взялся за ложку. На сей раз буря миновала. Один этот взгляд, само осознание возможности заслуженной расправы стали достаточным наказанием. Еще несколько ложек – не жуя, чтобы не чувствовать больше всем телом этот мерзкий болезненный хруст, – и он тяжело поднялся из-за стола. Ему предстояло самое важное дело в жизни, и, возможно, не только в его собственной.
– На болота пойду, – рыкнул он себе под нос и взял в руку тарелку с остатками каши.
– Почто же, батюшка… – запричитала было Апрашка.
С ошеломительной для столь внушительных габаритов скоростью ее оборвал удар тыльной стороной ладони по сморщенным губам. Несильный с его точки зрения, старушку он отбросил к стене. На засаленный передник капнула алая кровь.
– Дура ты, Апрашка, – мрачно усмехнулся барин и направился к сеням мимо вжавшегося в лавку Егорки. – Не лезь в то, чего своим умишкой не поймешь.
Матвей Палыч был почти благодушен к ней в тот день. Потому что не задался он на самом деле, теперь барин точно видел, еще до того, как в каше ему попались частицы пыли. День не задался с самого пробуждения. А точнее – с того, что предшествовало ему.
* * *
Часом ранее он лежал в своей смятой за ночь постели. В его голове было тяжко и пусто, как чаще всего и бывало с ним по утрам. Перед глазами возвышалась стойка с отцовскими саблями и пистолетами, правее находился угол шкафа, освещенный робким солнечным лучом, пробившимся сквозь щербатые ставни, а левее – проход вниз, на первый этаж. Медленно ползли секунды. А может, минуты или часы – понять не было ни возможности, ни желания. «Обычное серое утро», – была его первая мысль, но тут… Тут он понял, что не может пошевелить и пальцем. На его лбу моментально выступил холодный пот, но он его даже не почувствовал. Все, что занимало его разум в тот момент: «Она пришла. Она пришла за мной». Днем Матвей Палыч был самой грозной силой на этих болотах. Каждый из немногих их обитателей слышал его тяжелые шаги издалека и неизменно трепетал от страха. Он сам же не боялся никого и ничего. Никого и ничего, кроме Нее. Сперва, как всегда, показались Ее грязные черные волосы, надежно закрывающие Ее лицо и впалую грудь. Медленными деревянными шагами Она поднималась к нему по ступеням – так, словно это стоило Ей огромного труда. Она поднималась, и вместе с Ней в барскую спальню проникала сама топь с ее черными кислыми запахами. Нарастал тот особый, ни на что не похожий хриплый клекот, еле слышный поначалу и оглушающе громкий к моменту, когда Она встала в проходе в полный рост, чуть пошатываясь. На совершенно негнущихся, будто вывернутых задом наперед ногах Она сделала шаг в его сторону. Потом еще один. Почти столь же негнущиеся руки неестественными рывками потянулись к Ее волосам. Еще немного, и Она уберет их в стороны, открыв ему тот ужас, что заменяет Ей лицо. Он хотел закрыть глаза, хотел отвернуться, лишь бы не видеть этого, хотел кричать и звать на помощь, как перепуганный ребенок, но лишь сдавленно хрипел, не в силах даже отвести взгляд. И этот клекот, этот кошмарный, оглушающий клекот… Снизу что-то грохнуло, и Матвей Палыч забарахтался, захлебываясь слезами, скуля от невыносимого страха. В спальне он был один. Не сразу он это осознал. И далеко не сразу смог успокоиться. Но послание было понято им с предельной ясностью. Она голодна. Время идти на болота.* * *
В сенях он опрокинул остатки каши с тарелки в подготовленную заблаговременно бадью с нечистотами и, кривясь, подхватил ее за прилаженную Апрашкой еще в его детстве веревочную ручку. Само собой, по доброй воле барин не прикоснулся бы к такой вещи и пальцем, но доверить эту свою повинность он не смог бы никому. Да и был ли у него выбор? Кто еще мог бы взвалить на себя эту ношу? Апрашка с Егоркой? Смешно ведь. А других людей в этих топях не водилось уже многие годы. Весь путь по невидимой, одному ему известной тропе занял, как обычно, около получаса. Конечно, он мог бы двигаться и быстрее, но его замедляла ледяная хватка все ближе подступающего к горлу ужаса. Ужаса от осознания, к чему его приближают эти неизменно тяжелые, самые тяжелые в его жизни шаги. Но вот и показалась из-за редких невысоких деревьев его цель. Тот самый омут, дорогу к которому он помнил с детства. Тот самый омут, в котором живет Она. Отчаянно стараясь не вглядываться в мутное зеркало грязной стоячей воды, Матвей Палыч осторожно, с немного дрожащих вытянутых рук опрокинул свою бадью прямо в него. – Кушай, Хозяйка… – прошептал он пересохшими губами. – Кушай, не гневайся. Что это колышется в воде у самого берега? Что за растрепанный темный ком? Затонувший после дождей кусок почвы с налипшей травой? Или… Матвей Палыч резко развернулся и бросился прочь почти что бегом, поскальзываясь и шумно хрипя. – Почудилось, просто почудилось… Не вглядываться, не думать, не будить лихо. Если Она услышит, если по-настоящему поднимется из глубины… Не только его постигнет кошмар за гранью воображения, нет. Весь мир – он точно это знал – все, что только есть под солнцем, все погрузится в трясину. И потому – не думать, не вглядываться. – Почудилось мне. Не гневайся, Хозяйка. Все, что угодно, только не гневайся.* * *
Когда Матвей был еще совсем маленьким, отец изредка брал его с собой на охоту. Он, Павел Пистоль, любил охоту, пожалуй, больше, чем что-либо и кого-либо еще. Собираясь за общим столом с вечно гогочущей оравой своих потрепанных жутких друзей с пустыми взглядами, он только о том и говорил, кого ему удалось подстрелить со времени прошлого застолья. Разумеется, некое подобие нежных чувств испытывал он и к сыну. Иначе зачем бы ему снова и снова пытаться научить того убивать? Только учение двигалось плохо. Сначала маленькому Матвею было тяжело даже поднять мертвым грузом тянущее к земле оружие. Когда же он подрос и эта отговорка перестала работать, оказалось, что ему не дают покоя какие-то странные сомнения в этом благородном занятии. – Если я нажму сюда, – спрашивал нюня дрожащим голосом, – эта утка умрет? Совсем умрет, да? – Именно, дурень, – отвечал Павел, награждая непутевого отпрыска тяжелым подзатыльником за глупый вопрос. Матвей хлюпал носом, зажмуривался и стрелял. Мимо. Раз за разом. Очевидно, нарочно. В его угловатой белокурой голове никак не хотела уложиться чудовищность навязываемого ему действа. Как же так: живое существо, имеющее какие-то неясные со стороны, но определенно наличествующие чувства и стремления, упадет замертво? И хуже того – упадет по его, Матвейкиной, воле? Но разочарование и презрение в отцовских глазах ржавыми ножами резали ранимую детскую душу. Матвей очень хотел достичь той недосягаемой высоты, на которой тятенька счел бы его достойным. И как-то раз он решил попробовать воспитать в себе недостающую для этого, как ему виделось, силу. Улучив момент, когда никому до него не было дела (что было не так уж сложно), он набрал в подол рубахи несколько камней размером в половину его большого, уже почти как у взрослого, кулака. Цель долго искать не пришлось – по двору в нескольких шагах от него, выискивая что-то в немного влажной, как всегда, земле, расхаживала наглая ворона. Все его существо противилось этому замаху, но тут наступить себе на горло оказалось проще, чем с отцовским ружьем. Отчасти потому, что он не вполне верил в возможность попадания – его испытанием было просто заставить себя швырнуть снаряд в направлении цели. И он швырнул. И попал. Что-то в самой глубине его сердца мучительно оборвалось, когда камень угодил птице в бок. Остальные снаряды с глухим стуком рассыпались по земле, а глаза заволокло соленым туманом. – Молодец! – раздался над ухом насмешливый голос. – Первая добыча, а? Не насмерть, но зашиб же. Можешь, когда захочешь. А ну, не отворачивайся! Смотри, смотри на нее. Нравится? Матвею совершенно не нравилось, но он послушно вытаращил мокрые глаза. Подбитая птица с глухим карканьем неловко пыталась отпрыгнуть прочь, волоча поломанное крыло. Никогда раньше мальчик не видел такого отчаяния, как в ее черных глазах-бусинках. – А ну, пошли! – Павел Пистоль схватил сына за плечо и поволок к его первой жертве. На его тонких губах заиграла кривая усмешка. – Дам тебе, остолопу, науку. В шаге от упавшей без движения в грязь птицы Матвей совершил неслыханную дерзость – вырвался из отцовской хватки и чуть отступил назад. Что-то странное мелькнуло на мгновение в глазах Павла. Похожее не то на злость, не то на…уважение? – Смотри! – прорычал он, ткнув пальцем в смертельно перепуганное, страдающее создание. – Я покажу. Его нога в грязном черном сапоге поднялась и опустилась кованым каблуком на голову вороны, впечатав ее в грязь. Никогда Матвей не забудет этот чавкающий хруст, это слабое, быстро затихающее биение черных перьев. В глазах отца плясали хорошо знакомые ему дьявольские искры. – Вот так с ними со всеми надо! – отчеканил Павел Пистоль, широко обвел рукой, вероятно, весь мир и сжал ее в кулак у носа онемевшего сына. – Запомнил, дурень? Вот так! Матвея вывернул наизнанку приступ рвоты. О да, он запомнил, и очень хорошо. Не раз и не два он будет ворочаться в постели долгими бессонными ночами, тщетно пытаясь выставить из памяти эту картину. Не раз и не два он со все более скупыми, но не менее искренними слезами будет раздумывать: учил ли кто-то в свое время так же и Павла? Или, быть может, он уродился другим – более сильным, решительным, недостижимо более совершенным? А с оружием у Матвея почему-то так и не заладилось. Ни он сам, ни отец его так и не смогли понять почему.* * *
Обычно после подношения Хозяйка давала Матвею Палычу передышку. Иногда Она не появлялась целую неделю, а иногда и почти что две. Тем не менее, несмотря на свою цикличность и относительную предсказуемость, это событие каждый раз заставало его врасплох. Возможно потому, что к встрече с настоящим страхом не может быть готов никто и никогда. На сей же раз эффект внезапности был удвоен: ведь с предыдущего подношения прошло всего лишь два дня. Обычное серое утро. Барин лежал в постели и ленивыми движениями глазных яблок обозревал свою скромную опочивальню. Стойка с оружием. Угол шкафа. Лестница вниз. И на лестнице кто-то стоит. Матвей Палыч быстро догадался кто, когда понял, что физически не может и шелохнуться. «Она пришла. Она пришла за мной». Ее движения были все такими же деревянными, но будто ускоренными в несколько раз. Удостоверившись, что жертва ее видит, Хозяйка с клекотом бросилась вперед, распространяя все тот же липкий кислый запах. За какие-то доли секунды повисли прямо над лицом Матвея Палыча ее мокрые черные волосы, испачканные тиной. Ломаные дергающиеся руки прядь за прядью разводили их в стороны. Стон несчастного перерос в сдавленный крик, а из перекошенного рта по подбородку потекла слюна. Он слишком хорошо знал, что предстанет его взгляду, и это делало пытку еще более мучительной. Лицá под волосами, конечно же, не было, да и быть не могло. Из-за прядей показались кривые окровавленные костяные наросты вокруг зияющей черным и красным дыры, формирующие искореженное подобие клюва. Именно из клюва раздавался этот режущий, оглушающий клекот. Именно этот клюв, однажды увиденный Матвеем в детстве, стал главным кошмаром его жизни, навсегда неразрывно связав с Хозяйкой. Стремительно приближающийся клюв, клекот, неестественные, дерганые движения – достаточно, чтобы свести с ума и взрослого, что уж говорить о ребенке. Крик Матвея Палыча перешел в предсмертный (он был уверен в этом) хрип. Все его силы были направлены в окоченевшие мышцы шеи – только бы отвернуться, только бы не смотреть… И она поддалась. А вместе с ней и все тело. Не отдавая себе отчета, он отвернулся к стене и подтянул колени к груди. По его лицу текли слезы страха. Он знал, он точно знал, что сейчас с ним, а может, и со всем миром произойдет что-то ужасное. Стоит Ей только захотеть – и все погрузится в трясину. Но секунды текли расплавленным воском, а кара задерживалась. И клекот с запахом тины. «Исчезли», – вдруг понял он. Несмело обернувшись, он выдохнул. В комнате он был один. Шкаф, стойка с оружием, лестница… Сердце Матвея Палыча оборвалось и ухнуло вниз. На лестнице, несколькими ступенями ниже порога, кто-то стоял. И на сей раз это точно был не сон. Время остановило свой ход. Матвей Палыч с невыносимым ужасом в глазах вглядывался в темный проем. Крик застрял в его горле и не мог ни выйти, ни дать дорогу другим звукам. Сердце колотилось как бешеное. Когда смутно видневшаяся в темноте голова фигуры шевельнулась, оно готово было разорваться, не выдерживая взятого темпа. Скрипнула ступенька, и макушка фигуры скрылась из виду. Секунду спустя скрипнула следующая. Кошмар во плоти медленно двигался вниз. Матвей Палыч прерывисто выдохнул и вытер пот со лба дрожащей рукой. Кажется, обошлось. Кажется, обошлось. Апрашка скрипнула самой нижней ступенью и шагнула в предрассветный сумрак столовой. Начинался новый день. Нужно было начинать варить барину кашу. Ну да хоть одним глазком посмотрела на него спящего. Уже хорошо. Уже стоило риска.* * *
За завтраком Матвей Палыч был угрюм и молчалив. И даже не заметил, была ли в каше, к которой он едва притронулся, пыль. Он не знал, что ему делать, как задобрить Хозяйку. Все эти годы он считал свои подношения действенным средством сдерживания Ее гнева. Видимо, этого было мало. Видимо, Ей нужно было от него что-то еще. Из тяжелых и вдобавок бесплодных раздумий его вырвал неожиданный звук. Много лет он не слышал ничего подобного и не думал, что когда-либо услышит еще. Стук копыт на заросшей дороге, единственной, что вела куда-то из этих болот. Стук копыт и беззаботное ржание ретивого коня. – Вот это новости! – с беззлобной насмешкой воскликнул кто-то во дворе. И удивленно присвистнул, видимо, окинув взглядом дом. Действительно, вот так новости. Даже мрачные размышления о Хозяйке отошли на второй план. Матвей Палыч настолько привык к одиночеству (прислугу он, естественно, за компанию не считал), что и не знал, как ему реагировать на это вторжение. Егорка замер, вытянув шею, в ожидании распоряжений от барина, но немая пауза затягивалась. – Ну, – наконец взяла на себя смелость заговорить Апрашка, – иди, Егорка, встречай гостя. Коня – на конюшню, где навес еще целый, а сам… – Она боязливо скосила глаз на Матвея Палыча. – Пусть заходит?.. – Да, – наконец вышел из оцепенения тот, недобро усмехнувшись своим мыслям. – Пусть заходит.– Позвольте, я подытожу. – Высокий и статный гость в чистом охотничьем наряде с прищуром подкрутил ус и слегка подался в сторону Матвея Палыча. – Живете вы, стало быть, на этой земле многие годы, а там, за топями, ни одна живая душа об этом и знать не знает? Смилуйтесь, во всей губернии никто в такой анекдот не поверит! Как же вас сюда занесло? Кто такое, с вашего позволения, имение построил? – Отец построил, – грозно рыкнул Матвей Палыч, надеясь, что гость не видит, как он избегает его насмешливого взгляда. Будучи несколько выше ростом и значительно шире в плечах, под этим взглядом он отчего-то чувствовал себя беззащитным. – Построил еще до моего рождения. – Как же, один построил? – приподнял кустистую бровь навязчивый незнакомец. – У него было много людей, – ответил Матвей Палыч с раздражением. – А где ж они все? – Бровь поднялась еще выше. – Ушли, когда он помер. Ушли и больше не возвращались. – Занятно… – протянул гость, отхлебнув воды из кружки с отколотым краем. – В высшей степени, с вашего позволения. В наступившей тишине в сознании Матвея Палыча всплыла картина, которую он так отчаянно старался забыть все эти годы. Он зажмурился и с силой потер ладонью лоб, но это не помогло. Никогда не помогало.
* * *
Ночь после шумного застолья. Каких-то пару часов назад отец устроил ему показательную выволочку. Самое поганое, что в этот раз Матвей вроде бы и не сделал ничего дурного. Дождался паузы в разухабистом взрослом разговоре и задал вполголоса вопрос, мучивший его уже долгое время: «Тять, а где моя маменька? Почему не живет с нами?» Ухо все еще пылало, как обложенное угольями, а в глазах стояло гогочущее сборище отбросов, не в первый раз наслаждающихся подобным зрелищем. – В последний раз… – тихонько шепчет себе под нос Матвей и сглатывает слезы обиды. – В последний раз это было, паскуда. В полной темноте он не видит даже кинжала, который до боли крепко сжимают его мокрые от пота пальцы. Но он хорошо знает дом. Где пройти, где повернуть, какую ступеньку перешагнуть. И вот он стоит над отцовской постелью. Нужно бить. Нужно бить сейчас, пока не проснулся. Иначе не справиться. «Да даже и так, – думает Матвей с помесью содрогания и тоски. – Даже так не справиться». Даже лежа в постели, спиной к угрозе, Павел Пистоль казался неуязвимым. Вот-вот повернется, отберет оружие и изобьет смертным боем за дерзость. Не говоря уж о том, что рука с кинжалом предательски отказывается подняться. Даже на него, самого родного, самого ненавистного, самого совершенного человека на свете. Небо за окном начинало светлеть. Теперь Матвей видел спину и неровно, потому как самостоятельно, выбритый ножом затылок. А может, не надо бить? Может, просто пугнуть? Пусть увидит, до чего едва не довел, пусть попросит прощения… Ну да, смешно. Не станет он просить. Не такой это человек. Но рука уже потянулась к отцовскому плечу. Слабый толчок. Реакции нет. Толчок посильнее. Крепко уснул, подонок. Не похоже на него. Аккуратно заткнув кинжал за пояс, Матвей взялся за мускулистое, твердое сверх обычного плечо и перевернул отца на спину. Безвольной плетью свесилась до пола рука. Глаза широко раскрыты. В них застыла нечеловеческая, непостижимая мука. Он мертв. Все кончено. Мертв. Было в этом что-то ужасающе неправильное. Грозный, непобедимый, неуязвимый Павел Пистоль не мог оказаться таким жалким и беспомощным. Нет, только не так, нет… Матвей закричал и бросился прочь…* * *
Прочь, дурные мысли, прочь. – А вы-то сами кто будете? – обратился Матвей Палыч к гостю в отчаянной попытке заглушить воспоминания. – Колесников я, – весело откликнулся тот, отхлебнув еще немного. – Александр, понимаете, Колесников, местный барин. Настоящий, с вашего позволения. – Шутить изволите? – оскалился Матвей Палыч. – Помилуйте, какие шутки! – всплеснул руками странный гость. – Не далее как месяц назад сам государь специальным указом пожаловал мне этот надел, до сих пор никого не интересовавший, и распорядился привести его в божеский вид. Понимаете ли, голубчик, прогресс – он ведь на месте не стоит. Болота осушим, лесок на окраине вырубим, землю в оборот пустим… И усадьбу, конечно же, настоящую построим, на что мне это страшилище? – Не осушите, – мрачно усмехнулся Матвей Палыч. – Хозяйка не даст. – Это что же за хозяйка такая? – не понял Александр. – Не представите? – Отчего ж не представить, – неожиданно согласился Матвей Палыч. –Пожалуйте за мной, коли топи не боитесь.* * *
Сложно сказать, что сподвигло Матвея Палыча на это решение. Отчасти он надеялся, что новоявленный «барин» испугается и сбежит подобру-поздорову. Отчасти – что Она заберет его и смилуется над своим верным слугой. Была и совсем отчаянная мысль: а не найдет ли Александр на Нее управу? Прогресс ведь на месте не стоит… Но нет. Глупо. Глупо даже надеяться. – Здесь! – бросил Матвей Палыч через плечо и остановился, не доходя до омута. – Здесь она живет. – Вот это да, а еще меня в шутовстве заподозрить изволили! – Колесников со смехом развел руками. – Никого я здесь не вижу, помилуйте. – В омуте, – Матвей Палыч понизил голос, чтобы скрыть звучавшую в нем дрожь. – Она живет в омуте. И если выйдет… Колесников, посмеиваясь, скинул кафтан и принялся закатывать рукав своей простой серой рубахи. – Если выйдет… – Матвей Палыч стушевался и от неожиданности упустил мысль. – Ужас что будет… Мы, полагаю, умрем, и все погрузится… – В этом омуте? – прервал его Александр. – Ну, давайте уж подыграю, коли вы такой шутник… – И прежде чем Матвей Палыч нашелся с ответом, он опустился перед водной гладью на колени и по локоть погрузил в нее руку, поднимая со дна муть с кислым запахом гнили. – Где же хозяйка, Матвей Палыч? Левее? Правее? Вылезайте уж, ваше сиятельство, смерть как на вас взглянуть охота! Матвей Палыч плохо запомнил, что произошло дальше. Кажется, дневной свет померк в его глазах, а сама временна́я ткань пошла трещинами. Вот он пошатнулся, едва не свалившись с кочки. Вот он что-то кричит не своим голосом, размахивая руками. А вот он всем своим немалым весом прижимает дерзкого дурака к земле, удерживая его голову под водой. – Видишь?.. – шипел он, капая Колесникову на затылок слюной. – Видишь ее, паскуда? Смотри, смотри, смотри, пока можешь… И тот видел. Точно видел. Иначе с чего бы ему так дергаться, прежде чем обмякнуть окончательно? Матвей Палыч поднялся на ноги над трупом, но они, не выдержав нервного напряжения, подогнулись, и он снова бухнулся на колени перед омутом. Его глаза были закрыты, по лбу катился соленый пот, а плечи била крупная дрожь. – Только не гневайся, Хозяйка, – еле слышно шептали его губы без участия его собственной воли. – Все что угодно, только не гневайся.* * *
Получасом позже распахнулась дверь дома, стукнувшись о набухшую от влаги бревенчатую стену. На пороге стоял Матвей Палыч. Один, перемазанный грязью, неистово вращая страшными глазами. Дух его, впрочем, был отчасти даже приподнят. На обратной дороге его посетила мысль, подарившая робкую надежду. Апрашка. В самом деле, думал он, из них троих она дольше всех живет на этих болотах. Если кто и знает, как остановить (или хотя бы замедлить) Хозяйку, то только она. – А когда барин нас отпустит? – послышался с кухни восторженный голос дурачка. – Страсть как хочется на Белый Бал попасть! – Скоро, Егорушка… – ворковала старуха. – Совсем скоро. Крупа в погребе совсем кончилась, последнюю уж с пылью пополам варила, а значит – близко Белый Бал… – Апр-р-рашка! – хрипло гаркнул барин, со злостью приложив дверной косяк кулаком. – Сколько раз говорить, чтоб не слышал я твоих сказок! А ну, подошла! Говорить будем… Едва слышно скрипнула задняя дверь – Егорка, не выдержав внезапного крика, сбежал в сторону конюшни. Пусть его, поганца. Один черт, проку никакого. Старуха же послушно засеменила барину навстречу, опустив в страхе единственный глаз и кусая украдкой дрожащие губы. – Да, свет мой, батюшка… – пролепетала она, похоже, судорожно гадая, чем провинилась на сей раз. – Про Хозяйку знаешь? – понизил голос Матвей Палыч. Говорить о Ней громче ему было, мягко говоря, боязно. – Хозяйку? – переспросила глупая служанка. – А… про кикимору? Бугристый кулак, немногим меньше ее головы, врезался ей прямо в нос, отбросив на добрых два шага назад, к столу. Матвей Палыч одним прыжком покрыл это расстояние и с размаху впечатал твердую ладонь служанке в ухо, опрокинув ее на лавку. – Только посмей еще так сказать, паскуда, – убью! Говори, что знаешь про Нее, ну?! С самого начала, как есть говори! Несколько секунд Апрашка сипло пыталась отдышаться, зажимая кровоточащее лицо рукой. Легче не стало, но больше медлить она не посмела. Пошатываясь и смиренно глядя в пол, она завела рассказ. С самого начала, как и требовал барин.* * *
Давным-давно жил в одном весьма удаленном от столицы городе почтенный седой чиновник. По местным меркам он был довольно богат, но значило это не так уж много: не водилось в тех краях ни денег особых, ни славы. Даже старомодных пышных приемов, кроме этого самого чиновника, никто не устраивал. Да и он считал себя к этому обязанным исключительно ради дочери. Супругу ему пришлось схоронить рано. Должно быть, из-за этого в дочке он совершенно души не чаял. Все восторгался, какой она растет умницей и красавицей, берег как зеницу ока и баловал едва ли не больше, чем мог себе позволить, в том числе и этими самыми приемами, или, как он сам обычно их называл, балами. Именно такой бал и стал в свое время предвестием конца. Началось все, как водится, с прибытия юноши. Он был единственным ярким пятном в композиции, с каждым годом все более напоминающей натюрморт. Черноглазый и чернобровый, он и во взгляде, и в фигуре имел какую-то особую стать, какой не было, пожалуй, ни у кого другого в этом городе. Приходил он без приглашения, но ни остановить, ни выставить его не смел даже хозяин приема, лишь изредка бросавший на незваного гостя взгляды, полные дурного предчувствия. Разумеется, его не могла не заметить хозяйская дочка, как и он не мог не заметить ее. Она наблюдала за ним украдкой, когда думала, что он не смотрит, а он, в свою очередь, приглядывался к ней. Он был охотником, а она – добычей. И, как это обычно бывает у хороших охотников, добыча до последнего не подозревала, что ее держат на мушке. Пожар в девичьем сердце вспыхнул еще до знакомства. Юноша, которого звали Павлом, не мог этого не замечать. Не прошло и месяца, как он явился на порог с парой мрачных ребят помоложе, сверкая кривой усмешкой и самоуверенностью. – Я не прошу руки вашей дочери, – прямо заявил он в лицо несчастному отцу. – Я не прошу. Я ее забираю. – Через мой труп! – выплюнул тот в ответ, не в силах скрыть предательскую дрожь в голосе. Усмешка на лице Павла стала шире. В последнюю секунду девица, робко прятавшаяся за отцовской спиной от внушающего и страсть, и трепет ухажера, увидела, как руки непрошеных визитеров тянутся к перевязям с пистолетами. – Я согласна! – негромко выкрикнула она, невесомой тенью проскользнув мимо отцовских рук в твердые грубые руки своего жениха. – Сбежим же! Прямо сейчас сбежим! – Я этого так не оставлю! – Старика затрясло от бессилия. – Я самого государя уведомлю! Не далее как через месяц здесь будет целая гвардейская рота! – Пусть приходят, – спокойно рыкнул в ответ Павел. – Уверяю вас, ни меня, ни дочку вы в жизни больше не увидите. Пусть приходит хоть рота, хоть целый полк. Нас не найдут. А если найдут… – Он отстранился от девицы и чуть наклонился к уху ее отца, распространяя амбре со смесью пороха и псины. – Если найдут – им же хуже. Целая буря бушевала в груди новоиспеченной невесты, когда Павел увозил ее прочь из города, в лес, в темноту. Новая жизнь смутно представлялась ей вольной, приятной и чрезвычайно увлекательной. Тогда она еще не понимала. Павел никогда не любил добычу. Павел любил только охоту. Поначалу все шло неплохо. Имение Павла разительно отличалось от отчего дома, но была в нем и своеобразная грубоватая прелесть. К компании лихих людей, допускавших и крепкое словцо, и пьяные драки, привыкнуть было сложнее, но тоже возможно. А вот того, что произошло через месяц, она предвидеть никак не могла. Шло обычное вечернее застолье. В тот день к ним присоединились несколько новых людей, и в их числе эта мерзкая девка. Она громко говорила, часто хохотала, запрокинув голову, и прикладывалась к кубку с вином. Было что-то первозданно-дикое в ее черных, немного косматых волосах, в пламени ее глаз, сверкавших в свете камина, как черные жемчужины. Конечно же, она не могла не заметить Павла. Конечно же, Павел не мог не заметить ее. Юная хозяйская женушка не сразу поняла, чего от нее хотят. Неуверенно улыбаясь, она смотрела на мужа, ожидая, что тот вот-вот засмеется и обнимет ее как ни в чем не бывало, но тот с тяжелым нажимом повторил: – Подлей вина гостье, подай лучший окорок и встань подле – может, еще понадобишься. Прислуживать за столом какой-то девке? Скверная шутка. Но чтобы не гневить любимого, жена улыбнулась чуть шире. – Непонятливая она у тебя! – насмешливо бросила девка и присвистнула на потеху толпе. Впрочем, поднявшийся было за столом гогот быстро смолк. Постепенно смолкли и голоса вокруг. Все взгляды обратились на Павла. Тот с громким скрежетом отодвинул свой тяжелый стул и поднялся. По его каменному лицу нельзя было прочесть ни чувств, ни мыслей. – Опозорить меня решила? Благородная, значит… – Он повернулся к жене и щелкнул костяшками на правой руке. – Ничего. Это поправимо. И его жесткий кулак со всей дюжей силой впечатался ей в левый глаз. Наказание длилось долго. Он бил ее в лицо, в живот, в голову – со страшной холодной равномерностью. Он говорил: забудь, какого ты рода. Забудь отца. Забудь балы. И имя свое забудь. Будешь делать, что я скажу. Скажу прислуживать за столом – будешь прислуживать за столом. Скажу утопиться в трясине – пойдешь и утопишься. И имя тебе отныне – Апрашка. Поняла, собака? Она не сразу уловила момент, когда на нее прекратили сыпаться удары. Чьи-то сильные руки подняли ее за плечи, а лицо окатило холодной водой из ковша. Ребра болели, как не болело до сих пор ничто и никогда. Все лицо распухло и ощутимо пульсировало в такт учащенному сердцебиению. Левый глаз больше не видел, а ноги едва держали. И прежде чем она смогла хоть немного осознать произошедшее, в руки ей сунули холодный глиняный кувшин, а откуда-то сбоку самый прекрасный, самый любимый голос на свете скомандовал: – Пошла! День шел за днем, за месяцем месяц. Апрашка все крепче свыкалась со своим новым именем, с болью, унижением и бесконечной чередой новых обязанностей. Постепенно она и впрямь стала забывать свое старое имя. Да и как же иначе? Барин ведь ясно сказал: забудь. Нельзя ослушаться того, кто запросто может сломать любую твою кость и регулярно подтверждает это делом. Он больше не притрагивался к ней, если не считать периодические побои «чтобы помнила». На что мне, говорил друзьям, кривая жена. И тем не менее со временем стало очевидно: Апрашка беременна. Настоящим чудом было то, что мальчик родился в срок и здоровым. Павел после родов потерял к Апрашке интерес окончательно. Подходил лишь изредка – осмотреть с прищуром своего отпрыска, будто на предмет изъянов. Изъянов на вид не находилось, и он, неопределенно хмыкнув, отправлялся в третий-четвертый раз за день чистить свои пистолеты. Для Апрашки же ребенок стал практически всем ее миром. Спешно закончив с чисткой печи или кормлением хозяйских псов и лошадей, она бежала на его громкий требовательный плач и, бывало, часами не могла оторвать от него любящего взгляда своего единственного глаза, пока не находилась для нее новая изнурительная работа. Само собой, Павел видел это. Само собой, ему были безразличны пристрастия глупой, постаревшей за эти три года служанки. Но, само собой, не лишить ее единственной отдушины он не мог. Впервые это произошло на очередном застолье – будто Апрашка мало боялась их до того дня. Пьяный Павел становился куда злее и, что еще хуже, непредсказуемее. В тот вечер, когда его мутный от выпитого взгляд упал на служанку, в нем заплясали уже знакомые ей страшные искры. Обычно в подобных случаях он ее бил. Но в этот раз… – Неси! – приказал он заплетающимся языком. – Живее, неси мне наследника, дура! У Апрашки похолодело в груди, но ослушаться она не решилась. Через минуту ее сын с интересом крутил по сторонам головой на барских руках. Павел поднялся, одной рукой удерживая на груди мальчика, а другой отвесил служанке звонкую пощечину. Орава, собравшаяся за большим столом, загоготала. – А ну, Матвейка, стукни ее! – весело скомандовал Павел. – А ну, скажи: «Дура ты, Апрашка!» – Туя паська! – радостно повторил мальчик и шлепнул ладошкой по плечу матери. В тот момент ее мир рухнул. В тот момент она все поняла с предельной возможной ясностью. Она растила не сына, нет. Она растила следующего барина.* * *
– Брешешь, стерва… – хрипло выдохнул Матвей Палыч. Его расширенные глаза с полопавшимися капиллярами рыскали по сморщенному, как лежалое яблоко, лицу. Рыскали в поисках хоть малейшего намека на ложь, но находили только безмерную усталость и безграничную – теперь он это видел – безусловную материнскую любовь. – Не посмела бы, свет мой, батюшка, – тихо ответила Апрашка и продолжила свой рассказ.* * *
Павел Пистоль во всех смыслах любил охоту. Само собой, он в любой момент мог взять добычу силой. Ее не спас бы даже нож, который она носила на перевязи за левым сапогом. Но ему не давал это сделать азарт. Она должна была попасть в его сети душой, а не только телом. Несомненно, у них было что-то общее. В ее глазах нередко плясали почти такие же шальные искры, как у самого Павла. Апрашка видела, как барин любуется ее особой, лихой статью. В бессильной злости и ревности ее огрубевшие к тому времени руки сжимали кувшин, когда она подливала вино в мятый бронзовый кубок своей преемницы. А та на нее даже не смотрела. Кого волнует какая-то глупая кривая служанка? Эта охота длилась несколько лет. Небольшая банда, к которой когда-то давно прибилась и эта мерзавка, уходила и пропадала, порой неделями, но, когда Апрашка уже начинала надеяться, что они не вернутся, девка появлялась вновь, как кошка у миски со сметаной. Павел точно знал, как угадать момент, чтобы спустить курок. И он не прогадал. Апрашка хорошо запомнила тот вечер, когда Павел увел свою добычу наверх, в спальню. Апрашка стояла под лестницей, вцепившись обеими огрубевшими руками в косяк. Из ее единственного глаза по щеке бежали скупые слезы. Слезы бессильной злобы. На следующий день Павел закатил очередную пирушку. Может быть, пребывал в отличном настроении от завершения долгой охоты. А может, просто хотел поскорее окончательно присвоить себе трофей. Апрашка давно не пыталась угадывать, что происходит в его буйной голове. Только смотрела в пол и смиренно соглашалась с любыми приказами и наказаниями – ей казалось, что это делает их чуть менее суровыми. Вот и она. Сидит по левую руку от Павла, пьет и хохочет с его людьми. Какое-то время он наблюдает, посмеиваясь. Затем ставит перед ней свой опустевший кубок и коротко приказывает: – А ну, наполни! Она смотрит на Павла. В ее глазах пьяные веселые искры. За столом вновь повисает тишина. Она склоняется над кубком и… …плюет в него. – Не серчайте, ваша светлость, дайте мне полчасика – будет вам полный кубок. Две секунды проходят в оцепенении, а затем толпа взрывается хохотом. Лицо Павла темнеет, багровеет. В его глазах больше нет азартных искр. Теперь в них только вязкая тяжелая пустота. Он хватает недавнюю невесту за волосы, поднимается из-за стола и коротко бросает через плечо вновь притихшему сборищу: – За мной! У выхода в сени его взгляд падает на съежившуюся в тени Апрашку. Свободной рукой он до боли сжимает ее плечо и командует: – Бери Матвейку! Идем на болото. Будет ему наука. Матвейка болен. У него жар. Не далее как пару часов назад он вовсе метался в бреду. Но Апрашка слишком хорошо знает, что бывает, если ослушаться барина, – даже в обычном его настроении. Она не смеет. Дрожащими руками она подымает сонного мальчика с влажной от пота постели и торопливо ведет его следом. Нельзя гневить барина. Нет, никак нельзя. Около получаса Павел тащит за волосы слабо упирающуюся девку. Она терпит, стиснув зубы. Ни звука не доносится из ее сжатых в ниточку губ. Молчит и процессия за ними. Никто не смеет проронить хоть слово. Никому больше не весело. Но вот и омут. Павел швыряет дерзкую девицу на землю и мельком оглядывается. – Матвей! А ну, иди сюда. Иди и смотри. Матвейка отлипает от Апрашкиной руки и подходит на дрожащих ногах. Он послушно смотрит, во все глаза смотрит на черноволосую девку, хоть и не вполне понимает, где находится и что происходит. А та наконец поднимается на ноги между отцом и сыном. Плечи ее с вызовом расправляются, а лицо бесстрашно обращено к бывшему жениху. – Смотри, Матвей, что бывает с теми, кто мне дерзит! – рычит Павел, с шорохом доставая что-то из-за пояса. БАХ. Внезапность и оглушительная громкость звука парализуют Матвея. С ужасом в широко открытых глазах он смотрит на то, что еще совсем недавно было дерзкой девицей. Теперь это нечто совсем другое. Неживое, он это чувствует. Из-под черных прядей, спадающих на плечи, торчат кровавые осколки черепа – жуткий искореженный клюв. Шаг в его сторону. Еще шаг – спиной вперед, на негнущихся ногах. Последний звук, страшный горловой клекот, и она падает прямо на мальчика. После короткого барского распоряжения труп торопливо оттаскивают. Кто-то кричит: «Камни, найдите камни! В омут ее!» Матвейка лежит без движения – только хрипит едва слышно. Его глаза закатились к небу, но неба мальчик явно не видит. Апрашка, охнув от тяжести, поднимает его на руки, губами трогает лоб. Горячий. Соленый. Пот, смешанный с чужой кровью. Через несколько часов Матвейка вздрагивает и рывком подымается в своей постели. Апрашка вздрагивает в ответ – только что задремала над молодым барином. – Чего ты, свет мой, батюшка, вскочил? Ложись, тебе почивать нужно… – Апрашка… – Взгляд мальчика направлен прямо перед собой, но он будто не видит склонившуюся над ним служанку. На лбу его снова выступил пот. Его бьет озноб. – Кто это был, Апрашка? Там, на болоте? Глупая кривая служанка тяжело и прерывисто вздыхает. Одной рукой она мягко укладывает Матвейку на пропитавшуюся потом подушку. Другая с силой сжимает треснутую глиняную кружку. Ее взгляд затуманивается, обращается внутрь, а в ее голосе вдруг звучит небывалая прежде ядовитая желчь: – Кикимора, батюшка. То была кикимора болотная. – Кикимора… – повторяет за ней Матвей. Слышно, что он не вполне понимает, что говорит. – Что за кикимора? – Страшная то тварь, батюшка. – Апрашкины руки продолжают до дрожи сжимать кружку. Костяшки на них побелели от напряжения. – Куда ни придет, с ней все горе и беды. Целый мир может отравить. Все может погрузить в трясину. Одни беды от нее, батюшка. Страшные беды. – А где же она живет? А что она… Что она ест? – Молодой барин хлюпает носом и со стоном отворачивается к стене. – В омуте живет, свет мой, батюшка… – отвечает служанка. По ее не мытому много дней лицу снова бегут слезы, оставляя светлые дорожки. – А ест, поди, нечистоты с помоями – все, что только есть у людей негодного. – Нечистоты… – бормочет Матвейка, ворочаясь. – Помои… Омут… Нечи… Апрашка… Кто это… Что это было, там, на болоте?.. – Кикимора… – шепчет служанка. Кружка в ее руке не выдерживает давления и раскалывается вдоль старой трещины. На Апрашкин подол выплескивается студеная колодезная вода, разбавленная жиденькой алой кровью из свежего пореза. – Кикимора то была, свет мой, батюшка. Страшная тварь… страшная… – Страшная… – эхом откликается слабый Матвейкин голос откуда-то снизу. – Страшная… Ки… ки… мо… ки…* * *
«Брешешь!» – хочет прорычать Матвей Палыч. Хочет, но не может. Он почти не помнит ту тяжелую ночь, наполненную горячечным бредом. Но все же теперь всплывают в его сознании разрозненные, бессмысленные фрагменты слов и ощущений. Черными, липкими от тины, пахнущими гнилой топью волосами нависло над ним понимание: Апрашка говорит правду. С тяжелым стоном барин опустился на лавку и закрыл лицо руками. Все, что он знал, все, к чему привык, все, во что с детства верил, – исчезло, растворилось в темнейшем омуте. Апрашка… матушка… Сколько боли он причинил ей за эти годы?.. – Не серчай, свет мой, батюшка, – вновь негромко заговорила та, не смея поднять на родного сына глаз. – А токмо нет больше крупы в погребе. Вся вышла. Нечего нам есть больше. Матвей Палыч с трудом отнял ладони от лица. Он тоже боялся посмотреть на старую кривую служанку. Впервые в жизни. Ее слова кислым черным илом налипли на осознание правдивости ее рассказа, которое страшными скрюченными пальцами вцепилось в его душу и тянуло вниз, в вязкую темноту. Но вот он все же поднял на нее глаза и на мгновение перехватил ее взгляд. Тот самый взгляд, которого упорно не замечал все эти годы. Слезный. Извиняющийся. Любящий. И все погрузилось в трясину.* * *
Кривая на левый глаз старуха вышла из гнилого, покосившегося от времени дома через заднюю кухонную дверь. Из конюшни осторожно выглянул Егорка-дурачок. Апрашка успокаивающе махнула рукой, и он тотчас подбежал, просияв широкой улыбкой. – Так что там, на Белом Балу-то? – задал он больше всего интересовавший его вопрос. Он уже не раз, не два и не десять слышал эту сладкую сказку, но всегда хотел послушать еще. Ведь приятнее ее не было ничего в его жизни. Его чрезвычайно захватывали описания сложных танцев, изысканных терпких вин, прекрасных дам и статных кавалеров, безусловно и незыблемо дружных между собой и со всеми присутствующими. Но на этот раз Апрашка взяла его за руку и повела к конюшне с другими словами: – Близко Белый Бал, Егорушка. Совсем немного потерпеть осталось. Только я покамест одна пойду – подготовлю все к твоему приходу. Ты, Егорушка… БАХ, – грохнуло в доме. – Отпустил, – прошептала старуха и сглотнула горько-сладкие слезы. – Отпустил нас барин. Ты, Егорушка, вот что: иди по дороге куда глаза глядят. Выйдешь к какой деревне – наймись в услужение. Придет время – найдет тебя Белый Бал. Вот только помоги мне в последний раз – возьми ту веревку да закинь одним концом на ту балку… Вот, молодец. Видишь, как у тебя все хорошо получается? Иди, Егорушка, иди. Обо мне не думай. Меня Белый Бал ждет.* * *
Егорка скакал по заросшей дороге вприпрыжку. Зеленовато-бурые ели кланялись ему навстречу, устилая путь мягкой опавшей хвоей. Он знал: куда бы ни привел его этот путь, он со всем справится. Каждый увидит, как он умен, пригож и расторопен. Может быть, новый барин даже позволит вылизывать после себя тарелку и спать на лавке у печки, в тепле. И все-то у него будет получаться с первого раза, любая работа – спориться, любая задача – решаться. А где-то в самом конце его ждет Белый Бал, где его тоже все будут любить и никто никогда не прогонит. Ну а до тех пор перед ним раскрыт целый мир. Огромный-преогромный мир, прекрасный и удивительный.Ринат Газизов. Три правила Сорок Сорок
 Сорок Сорок унесли меня ночью вместе с пазиком, который водил мой отец. Он бросил машину на проселке в полях, он был штатным водилой «Приневской фермы», почему отец взял в ту поездку меня – неизвестно, куда он делся – тоже.
Сорок Сорок не умели строить жилища.
Не жили подолгу на одном месте.
О них знал лишь тот, кого Сорок Сорок украли.
Они предпочитали воровать. Они только и делали, что воровали, могли утащить что угодно. Несущих сил хватало даже на то, чтоб летать по ночам с заброшенным бараком в лапах. Смутно помню, как меня несло в автобусе: то захватывало дух, то клонило в сон. Наверное, Сорок Сорок чудом меня не заметили, когда шарили черным глазом по окнам, вот и взяли, так-то они людьми не интересовались.
В том пазике я поселился вместе с младшими, я спал на сиденьях в третьем ряду слева, а топили мы его, подкидывая валежник в буржуйку, что пробила трубой кузов на месте водителя. Со мной вышло удобно: комбинезон пришелся от сироты, что не выжил прошлой зимой, а обувь мне смастерил старый Ёся из солдатских ремней. Я сдружился с тремя ровесниками. Они были слишком малы, чтобы попасть в Сорок Сорок, они говорили: надо ждать, пока трое старших окочурятся, тогда появятся свободные места. А мне вообще путь внутрь заказан – я чужих кровей.
Все трое умничали, но так и не смогли мне объяснить, откуда пришли.
Когда мне стукнет семь, приемная тетка скажет, что это меня похитили цыгане. Варвара махом раскроет дурацкую книгу, и сразу – на нужной иллюстрации, но я не узнаю в Сорок Сорок ни черных кудрей, ни куриц под мышкой, ни гитар, ни золотых серег.
Мои похитители куда древнее цыган.
До пяти лет я слонялся по нашему биваку, разбитому в прогалине в сосновом бору; ходил себе между краденых изб, краденых фургонов, краденых палаток, от загона с крадеными гусями и курами до тарахтящих бензиновых генераторов, от краденой цистерны с бензином до краденой бытовки, где Сорок Сорок наедались грибами и любили друг друга; по лесу и до озера; однажды здоровски украл у рыбака ведро пескарей; видел, прячась за березой, вертолеты; видел пожар, который уперся в ров, умело вырытый лапищами Сорок Сорок; видел лося, рога которого были как сосновые корни; видел падение звезд (кайфово, но слишком быстро); видел клеща размером с пятак; я постоянно просился внутрь Сорок Сорок – и обижался, когда меня не брали.
Их действительно было сорок, по-человечески сорок.
Тонкокостные, черноглазые, с бездонными плоскими животами. Они прекращали есть, только когда в гнезде не оставалось еды, и эту особенность я у них перенял, ел как не в себя и не толстел. Они долго-предолго странствовали по земле. Оборванцы, кто в медицинских халатах, кто в тулупе, в женском пальто, распахнутом на всю волосатую грудь, им было без разницы, в чем ходить. Я еще не сразу понял, что пестрота вещей вокруг меня – не потому, что воруют что попало, а как раз от того, что воруют всё в одном экземпляре. Никогда Сорок Сорок не подбирали подобное дважды.
Я кричал: «Возьмите меня с собой!», когда поздним вечером эти сорок странников собирались у костра, брались за руки, обнимались, чуть пританцовывая, лепились в дрожащую кучу тел, ртами издавали: «Чарк! Чарк! Чарк!» А потом – щелчок в суставе бытия! – и вот они коллективный оборотень.
Огромная до усрачки сорока.
Их семья так выживала.
Нужно очень долго жить вместе, нужно быть очень родными, чтобы так делать. Я разглядывал Иришку, Янку, Агнессу: они ли птичьи лапы с когтями, как грабли? Они ли немигающие глаза, как две кастрюльки, они ли птичий клюв, в который упихалась бы моторная лодка? А костистый Ёся с хромыми старикашками образуют птичий хребет? Морщинистая старуха, что заставляет меня таскать мусор за всех и тщательно закапывать, она своей висящей кожицей обтягивает всю семью? А толстые неулыбчивые мужики из сарая, которые только и делают, что лежат на соломе и дуют воду из бадьи, которую я им таскаю, – они в Сорок Сорок играют роль птичьих потрохов?..
Наверное, гадать бессмысленно, никто из них – не часть. Они все сразу – единое целое новое качество.
Умная книжная мысль, я ее тоже у кого-то украл.
Сорок Сорок унесли меня ночью вместе с пазиком, который водил мой отец. Он бросил машину на проселке в полях, он был штатным водилой «Приневской фермы», почему отец взял в ту поездку меня – неизвестно, куда он делся – тоже.
Сорок Сорок не умели строить жилища.
Не жили подолгу на одном месте.
О них знал лишь тот, кого Сорок Сорок украли.
Они предпочитали воровать. Они только и делали, что воровали, могли утащить что угодно. Несущих сил хватало даже на то, чтоб летать по ночам с заброшенным бараком в лапах. Смутно помню, как меня несло в автобусе: то захватывало дух, то клонило в сон. Наверное, Сорок Сорок чудом меня не заметили, когда шарили черным глазом по окнам, вот и взяли, так-то они людьми не интересовались.
В том пазике я поселился вместе с младшими, я спал на сиденьях в третьем ряду слева, а топили мы его, подкидывая валежник в буржуйку, что пробила трубой кузов на месте водителя. Со мной вышло удобно: комбинезон пришелся от сироты, что не выжил прошлой зимой, а обувь мне смастерил старый Ёся из солдатских ремней. Я сдружился с тремя ровесниками. Они были слишком малы, чтобы попасть в Сорок Сорок, они говорили: надо ждать, пока трое старших окочурятся, тогда появятся свободные места. А мне вообще путь внутрь заказан – я чужих кровей.
Все трое умничали, но так и не смогли мне объяснить, откуда пришли.
Когда мне стукнет семь, приемная тетка скажет, что это меня похитили цыгане. Варвара махом раскроет дурацкую книгу, и сразу – на нужной иллюстрации, но я не узнаю в Сорок Сорок ни черных кудрей, ни куриц под мышкой, ни гитар, ни золотых серег.
Мои похитители куда древнее цыган.
До пяти лет я слонялся по нашему биваку, разбитому в прогалине в сосновом бору; ходил себе между краденых изб, краденых фургонов, краденых палаток, от загона с крадеными гусями и курами до тарахтящих бензиновых генераторов, от краденой цистерны с бензином до краденой бытовки, где Сорок Сорок наедались грибами и любили друг друга; по лесу и до озера; однажды здоровски украл у рыбака ведро пескарей; видел, прячась за березой, вертолеты; видел пожар, который уперся в ров, умело вырытый лапищами Сорок Сорок; видел лося, рога которого были как сосновые корни; видел падение звезд (кайфово, но слишком быстро); видел клеща размером с пятак; я постоянно просился внутрь Сорок Сорок – и обижался, когда меня не брали.
Их действительно было сорок, по-человечески сорок.
Тонкокостные, черноглазые, с бездонными плоскими животами. Они прекращали есть, только когда в гнезде не оставалось еды, и эту особенность я у них перенял, ел как не в себя и не толстел. Они долго-предолго странствовали по земле. Оборванцы, кто в медицинских халатах, кто в тулупе, в женском пальто, распахнутом на всю волосатую грудь, им было без разницы, в чем ходить. Я еще не сразу понял, что пестрота вещей вокруг меня – не потому, что воруют что попало, а как раз от того, что воруют всё в одном экземпляре. Никогда Сорок Сорок не подбирали подобное дважды.
Я кричал: «Возьмите меня с собой!», когда поздним вечером эти сорок странников собирались у костра, брались за руки, обнимались, чуть пританцовывая, лепились в дрожащую кучу тел, ртами издавали: «Чарк! Чарк! Чарк!» А потом – щелчок в суставе бытия! – и вот они коллективный оборотень.
Огромная до усрачки сорока.
Их семья так выживала.
Нужно очень долго жить вместе, нужно быть очень родными, чтобы так делать. Я разглядывал Иришку, Янку, Агнессу: они ли птичьи лапы с когтями, как грабли? Они ли немигающие глаза, как две кастрюльки, они ли птичий клюв, в который упихалась бы моторная лодка? А костистый Ёся с хромыми старикашками образуют птичий хребет? Морщинистая старуха, что заставляет меня таскать мусор за всех и тщательно закапывать, она своей висящей кожицей обтягивает всю семью? А толстые неулыбчивые мужики из сарая, которые только и делают, что лежат на соломе и дуют воду из бадьи, которую я им таскаю, – они в Сорок Сорок играют роль птичьих потрохов?..
Наверное, гадать бессмысленно, никто из них – не часть. Они все сразу – единое целое новое качество.
Умная книжная мысль, я ее тоже у кого-то украл.
Думаю, беду на Сорок Сорок накликал я, хотя разве это беда, нет, это их привычка. Я стал проситься в город, когда в украденном багаже (а Сорок Сорок умудрились обворовать товарняк) нашел книги с картинками, и там был город с нормальными, как из рассказов Ёси, людьми, которые не крадут, были мосты, ровные невероятные дороги, словно прочерченные на земле суперфломастером, были еще дома из кирпича. Я клянчился туда, убеждал, что украду и вернусь из города с сырокопченой колбасой, с калькулятором, с футбольным мячом и зефиром, политым глазурью. Украду бездну крутых вещей. Я заснул, кожа на щеках была стянута от соли, потому что старый Ёся меня наругал. А ночью проснулся от грохота, который прошивал лес вдоль и поперек. Я уставился наружу из окна родного пазика. Посреди нашей поляны стояли двое чужих в хаки, я знал, что такое хаки, и лупили из винтовок, я знал, что такое винтовки, лупили по стремительно уносящимся на восток Сорок Сорок. Город сам явился в мой дом. Вот и все прощание со второй семьей. Два зверя, разрушивших мое детство, были из оружейно-охотничьего клуба «Левша». Им никто не поверил про Сорок Сорок. Они везли меня в Питер, у них были отупевшие лица людей, которых миновала большая беда, они ругались плохими словами, повторяли по дороге: «Ты только подтверди, малец, что динозавр был наяву, он сорвался и улетел, пацан, ты только не молчи!..» Но я чуть не умер еще на въезде. У меня была истерика. «Стрессовая реакция организма», – скажут потом. Очнулся я уже в детдоме. Полегчало: в детдоме есть стены и не видно, какой же это огромный город, как много в нем выставлено для кражи. За неделю я усвоил от воспитательницы Инны Витальевны основы своего положения. Что два года я прожил, «как Маугли», в стоянке бомжей в пятнадцати километрах от Люблинского озера; что про этих бомжей уже все газеты писали, что они, может, сектанты или старообрядцы какие; что врачи меня, спавшего, осмотрели и не нашли следов насилия, это новость хорошая; что непонятно, как мои бомжи доставляли в свою глухомань тачки, топливо, дачные бытовки, ведь ни дорог, ни троп в том лесу нет; что мои настоящие родители еще могут объявиться, потому что меня покажут по телику; что я «чрезвычайно хорошо социализировался», но меня бьет паника в городе, и это нормально; что у меня есть вши, глисты, грибок кожный, грибок ногтевой, какая-то зараза в левом ухе и что все это пустяки. Меня угостили зефиром с глазурью. Жизнь среди чужаков стала приемлема. Многие в детдоме были настоящие уроды. Но Танька была уродом из-за усохших ног, как будто из пяток, как из тюбика, невидимая тварь высасывала жизнь и пока остановилась на пояснице. Выше пояса Танька очень даже ничего. Глаза голубые, как стекло. Лицо по форме, как мастерок. Руки крепче, чем у меня, увиты венами. Танька передвигалась на них ловчее меня, а я не раз вызывал ее: кто быстрее доползет от чулана до столовки? Я был шустрый, тонкий, как змей, но она в этом прирожденный талант, я пыхтел, она смеялась и уносилась, девчонка-инвалид оставляла меня позади каждый день, и это ползанье наперегонки по вспученному линолеуму было самым счастливым временем моей жизни. Потом Инна Витальевна объяснила, что девочки так себя не ведут. Танька какое-то время глядела на меня свысока и сидела в коляске, как на троне, но это быстро прошло. В детдоме я делал куда больше вещей, чем у Сорок Сорок. Мы учились читать-писать в группе подготовки, мы наводили чистоту, мы устраивали «праздники и спортивные соревнования» и гостям детдома рассказывали, что любим «праздники и спортивные соревнования», я видел рыб в океанариуме, я видел депутата, который подарил детдому деньги, я мыл таксистам машины за пятьдесят рублей и на пятьдесят рублей покупал чипсы со вкусом бекона, я был в Эрмитаже, я видел там золотого павлина, я был в Спасе-на-Крови, я видел там тетю в короткой юбке, а под коленом у тети – синюю-пресинюю вену, я плавал на прогулочном катере по каналам, я боялся, что Конюшенный мост сорвет мне башку, но пронесло, я украл у чаек их крики, чтобы кричать самому, а над водой страшно стихло, Инна Витальевна всю обратную дорогу пыталась мои чаячьи вопли заткнуть, я украл ее злобу, она успокоилась как сама не своя, я проглотил ее злобу в свой живот, под язык накатила тревожная, мающаяся кислинка, которую через несколько лет я научусь называть изжогой, но я вытерпел до ночи и с помощью этой злобы выбил замок долбаной двери, Сорок Сорок никогда не запирались, я вышел в коридор, хотел найти Таньку и сказать ей, что я наконец-то научился красть и прятать украденное в животе, смотри! – Сорок Сорок были бы мной довольны, я даже хотел нащупать, попробовать украсть ее «врожденное прогрессирующее заболевание», но меня поймал ночной сторож Геннадьич, и первый подзатыльник я пропустил, но второй я украл и спрятал, чтобы вернуть ему на следующий день, увы, я думал о мести для Геннадьича и совсем забыл о той интересной мысли, ну, про Таньку и ее ноги… В такой суете промчался год. Я чутка поумнел. Я делал зарядку вместе с другими детьми. Мы по команде приседали, двигались по кругу на карачках, как курицы, а мне думалось, что мы никогда не слепимся в одну целую прекрасную Курицу Куриц, нетушки, слишком разные и не родные. Потом Таньку удочерили. Потом пришла Варвара, сказала воспитательнице, что на пятидесятилетие хочется подарочка, такой, чтоб ей по сердцу пришелся, ну и я пришелся ей по сердцу. Эта сладкая парочка вошла к нам в комнату. Павлуха как раз на руках стоял у стенки, языком облизывал стык между обоев, вдобавок свесил трусы на грудь, это он умел, Павлуха был совсем дурной, а тетки даже не восхитились, сказали мне: собирайся. Я оценил Варвару. Похожа на фрекен Бок, мужицкая баба, руки-батоны. Собраться я был рад: мигом вынул из шкафчика крылья из пенопласта, обшитые фанерой, а поверху ручкой намечены перья, я крылья мастерил и дорабатывал весь июль, продел кисти в лямки, подбежал к окну, запрыгнул на батарею – и меня тут же сбили с лету. «У него воображение», – предупредила воспитательница мою будущую опекуншу. «У меня решетки», – успокоила воспитательницу моя будущая опекунша. Но с Варварой оказалось не так уж стремно. У меня появились личные шмотки из комиссионного, хуже, чем у одноклассников, зато мои, только мои! Теперь я должен был ходить в школу, держа ее за руку, выполнять домашние задания, уборку, читать книги или делать вид, что читаю, смотреть старые мультфильмы, подставив голову Варваре, чтобы она, сидя в кресле, а я – у нее в ногах, могла меня по голове гладить. Я должен был выходить «ровным степенным шагом», расчесанный, накормленный, к ее подругам, чтобы она говорила, что она – благодетель, а я – тот самый мальчик, которого бросили в лесу, что скитался и жил с цыганами, и подруги целый год штамповали одним тоном, какой я бедный мальчик. В школе почти многие были нормальны, уродов поменьше, чем в детдоме, но самое главное – Танька оказалась неподалеку. Я жил на Большом проспекте рядом со сквером, где памятник Добролюбову, я понял, что увековечили мужика, который любит добро, а Танькина новая семья жила рядом с Ораниенбаумским садом, про него ничего не ясно. Когда я уходил на «волю», только Павлуха, глядя вверх и выше моего лба, попросил беречь Таньку, она же привозила ему конфеты «Алёнка». Я заверил, что с Танькой все будет чики-пуки, и он заржал, обдав меня радостными слюнями. Пролетел еще год. Первый класс: косички нормальных ходячих девчонок, мел на пальцах, мои неповоротливые мозги, чужие избалованные дети. Я задул восемь свечей, воткнутых в пирожное, от одной свечи надломился зефир, я сидел с теткой на кухне, она смотрела передачу, где людей женили по очереди, а я грустил, потому что за год ничего не украл. Я скучно жил. Наверно, я стал нормальным ребенком, выполняя Варварины указания. На следующий день после школы я отправился в гости к Таньке. Меня не пустили. Ее приемные родители ругались. Отец кричал: «Нельзя увольняться, нельзя!», а мать кричала: «Уйди, уйди, уйди, уйди!». Я не уходил, и Танька знала, что я из тех, кто долго не уходит, я ведь мог у парадной двери в детдоме стоять часами, ожидая, когда прилетят Сорок Сорок и закроют окно черным глазом. Танька знала: она выглянула из своей комнаты на втором этаже, помахала; только я мог понять, а никто из прохожих и не подумал бы, придурки, что Танька, как атлет на брусьях, подтянулась – в смысле на подоконнике, – легонько оторвалась от коляски, а потом перенесла вес на левую руку, чтоб правой так беззаботно помахать, и ничегошеньки, у нее лишь вены на шее вздулись. Я обожал наблюдать, как она справляется с такими вещами. Ее глаза были как фары ночной тачки, от которой Сорок Сорок наказывали бежать. Танька тоже могла включать дальний свет в глазах (я думал, что он только для меня, а ближний свет – это для прочих), Танька смотрела на меня, и город казался уже не таким огромным, Варвара была сносной, воздух – теплым, и даже желтый дом с зубастой решеткой арки, пялящийся страшными окнами на двор без детей, вдруг казался красивым и таинственным, как сказочный сундук из книжки… А потом ее бабушка дернула занавеску. Но мне хватило: я успел украсть одиночество Таньки. С ее одиночеством я продержался до ночи. Никогда еще не было так хреново. Зато к Таньке нагрянули знакомые ее приемных родителей, они радовались ей по-настоящему, потому что ее день рождения был позавчера, а дошло до них вдруг только сейчас, я видел эту гурьбу, внезапно ввалившуюся с тортиком и цветами к ним домой, стихли крики ее приемной семьи, я стоял под окном, держался за живот, услышал, как Таньке позвонили из двенадцатого детдома, она, оказывается, подружилась с какими-то инвалидами, ее пригласили на выставку песчаных скульптур, а я держался, держался, спрятался за дворовой скамейкой и согнулся пополам, сглатывая кислую слюну, она немедленно отправилась на Заячий остров вместе с бабушкой, которая внезапно ей так услужила, бабушка-то не сахар, они вообще водятся только двух сортов – либо бабушки-ангелы, либо бабушки-злыдни, серединки нет, они произошли от неродных доисторических существ, – ну а я все держался, я сидел на корточках и был один на весь двор, потом Танька возвращалась радостная, коляска дребезжала колокольчиками, на ее тонких ногах лежали тонкие пионы. Стемнело. Больше я не мог. Ее одиночество вытошнилось из меня тугой струей, и с утра у Таньки начался обычный хреновый день. Варвара отхлестала меня по заднице за то, что я шлялся невесть где. Про Таньку ей нельзя говорить, иначе Варвара заревнует.
В школе я украл красивую толстую ручку у Антохи. В ней сразу десять разноцветных стержней, можно переключать, ее искали всем классом на перемене, и только я жевал бутерброд. От такой кражи дух захватывало, тело ныло от нового ощущения, похожего на то, что я открыл на физкультуре: лезешь под потолок и, крепко обнимая ногами бугристый канат, млеешь, когда в тазу рождается болезненно-сладкое чувство. Кража ручки была такой же, только никто не косился: чего он там застрял на канате?.. Я пожал плечами на вопрос Антохи, тот сам порылся в моем рюкзаке, осмотрел парту, глянул на мои карманы: такая ручка бы здорово оттопыривалась. Я ему не нравился, этому плохишу, который будет «держать» класс до выпуска, а потом, наверное, купит пистолет и станет крутым, но ему было не по себе, ведь я постоянно жру, и предъявить-то нечего, не мог же он заглянуть ко мне в живот. Возвращаясь домой, я украл у дворовых котов голод, чтобы коты пухли, и к вечеру они вправду отожрались. Варвара запихала в меня тройную порцию макарон по-флотски, приговаривая, что корм идет не в коня. Я не был голоден. Просто я был выкормышем Сорок Сорок. В следующий раз я своровал пятерки по математике и, конечно, сглупил: надо было красть четвертные, а не просто за домашку. У Сорок Сорок было правило: КРАДИ ОДНУ ВЕЩЬ ОДИН РАЗ, не повторяйся, в этом вся соль, и я это ощутил так же верно, как свои кости. Повторюсь – поймают. Иногда Танька помогала бабушке, которая работала в ларьке на перекрестке Большого проспекта и Ленина. Там надо было продавать газеты, леденцы, пустяки. Детский труд запрещен, я-то знаю, но иногда бабушка отлучалась домой, а Танька, сидя в будке, ее заменяла, никто не видел снаружи в окошко, что она в инвалидном кресле, руки были длинные, по лицу лет шестнадцать, и дотянуться она могла до любого товара, и сдачу вернуть. Я украл у нее жвачку из распахнутой коробульки, зеленую, со вкусом яблока и наклейкой-тачкой. Потом она получит выговор от бабушки, расплачется, даже пожалуется мне. Все будет чики-пуки, заверю я Таньку. Жвачка была сладкая только в одно мгновение: она, как и все краденое, сразу очутилась в моем животе, я же никогда особо не прожевывал, сразу сделалось приятно, но кто-то провел когтем по хребту, и я задумался: кто меня может судить и могу ли я сам себя судить. В Библии сказано: не укради. А я крал. Сорок Сорок крали. «Сорок Сорок были до Библии», – так говорил Ёся, слушая Пугачеву по радиоприемнику. «Мы были всегда», – так говорили Иришка, Янка, Агнесса, сцеживая из цистерны топливо, чтоб залить в генератор и врубить автомат для жарки поп-корна. Мне было хорошо, и это все, что я умел. На этом мои терзания закончились. Второе правило я придумал сам в шестом классе: КРАДИ КАЙФОВОЕ. Безделушки вроде денег, ювелирки, мобильников меня не интересовали. Нет, я поступал иначе. Например, к Таньке стал наведываться Фёдор, он был из моей школы, они познакомились на отчетном концерте, где – ненавижу эти мероприятия! – каждому школьнику отводилась своя роль. Кто-то пел, кто-то бренчал на гитаре, кто-то танцевал или актерствовал, самые тупые микрофоны выносили, а я там себе места не находил, и даже классуха меня никуда не приспособила, я только думал, что вся эта тусовка не срастется в одного целого прекрасного зверя по имени СОШ № 51, который мог бы одним прыжком на мягких лапах перевалить с Петроградки в Кронштадт. А Фёдор на концерте был звездой, светлая голова, осанка как у царевича, и вещал стихи он медленно, с расстановкой, а не чирикал-бормотал, как я на уроках. Танька мне часто про него говорила, когда мы давили ледяную корку луж, я – пяткой, она – палкой, и всегда я злился пуще прежнего. Она уже не хотела ползать наперегонки по снегу. Она говорила, что я как дитя малое, она и вправду повзрослела, интересовалась, черт возьми, этим Фёдором. Я решил открыться Таньке, только чтоб сбить эту болтовню. Я рассказал про Сорок Сорок: как они становились одной огромной птицей, неуловимые, великие и немного бестолковые воры, никому не нужные, ничего не хотящие, кроме еды и уединения. Танька почему-то захохотала. Самое страшное, что я был, видимо, идиотом, с которым забавно дружить, а она становилась все красивее, и дальний свет ее глаз отнюдь не сошелся на мне: он распахивался на весь мир. Мобильник ее пиликнул. Я готов был поклясться, что это пришла юморная эсэмэска от Фёдора. Она сказала, что я инфантильный и про сороку гоню фольклорные выдумки. Сорока на самом деле никакая не воровка, а вполне себе умная птица изсемейства врановых. А на латыни вообще красота: сорока – это pica pica. Танька видела по телику, что она настолько умна, что, единственная из всех птиц, узнает себя в зеркале. Вот это реальный научный факт… А то, что я навыдумывал, это потешно, конечно, только… Тут я вконец разозлился. Я поинтересовался между делом, в какой вечер они с Фёдором пойдут на набережную Карповки, чтобы посмотреть на Иоанновский монастырь, ну то есть как пойдут – он будет катить ее трон, а она, раскрасневшаяся, прижимать к груди какой-нибудь цветок, ну и дурацкий повод, думал я, сосаться можно у подъезда, а так будете еще смущать монашек, им тоже захочется. Она назвала день свидания. Я появился загодя, еще не врубаясь, что бы вытворить. Танька уже стояла на крыльце, а Фёдор шел к ней от арки. Тут я вывернулся из-за двери, она вздрогнула, очень удивилась, что я гуляю здесь без предупреждения, Фёдор подходил ближе, ближе и так открыто улыбался, как я не умею, его душа изливалась из глаз. Я поморщился и украл то, что Танька готовила для Фёдора, она даже сама не знала, что готовила, такое поймешь, только когда заберешь, – я украл ее поцелуй. В животе вспыхнула невесомость. Пятки мои на миг расстались с землей. А в ровной походке высокого Фёдора, которому я так завидовал, что-то сбилось… Нет, конечно, они отправились вдвоем к Карповке. И вроде бы посмотрели, как подсвечивается этот скучный храм, но все было не то. Через два месяца Фёдор уехал в Москву, чтобы учиться там в продвинутой языковой школе. Помню, перед отъездом он помаячил у подъезда Таньки, в руке бумажка с его адресом и каким-то глупым признанием, Фёдор думал, что в будущем они встретятся, у него были сомнения и радость, он остро испытывал надежду и страх – я его знал нараспашку, но не потому что я одаренный юноша, а лишь потому что все это само представлялось мне для кражи. Я прошел за ним и в дверях метро украл эту бумажку с адресом и телефоном. Вдруг еще надумает, вернется, подарит. Он не вернулся. Танька горевала. Она так не горевала, даже когда врач сообщил, что болезнь прогрессирует, руки уже слабеют, к шестнадцати откажет диафрагма, дышать девочка сможет только с аппаратом ИВЛ, а потом умрет. Свет в глазах Таньки теперь светил внутрь. Приемные родители стали лучше себя вести, потому что видели впереди освобождение от груза. К тому же Танька успела им помочь: она стала третьим ребенком, поэтому родителям одобрили ипотеку с пустяковой ставкой. Я украл их лицемерие и подлость. Я не знал, куда это сплавить, поэтому подсунул их лицемерие и подлость Антохе, а тот рассказал-показал на всю школу, что Сашка из класса «Б» – не девственница. Потом Антоха подрался с ее братом, точнее, собрал шайку, чтобы справиться, у нее был крепкий брат, потом он врал милиции: подлости оказалось так много, что Антоха не мог вычерпать ее за раз. Танька не держала обиды на меня, ведь я не попался с поцелуем. Я был как эти воробьи: пронесутся, заденут висок краешком крыла, что-то украдут, шепнут о чем-то… Вот и куда ты шел? Какую мысль думал?.. Я понял третье правило Сорок Сорок: НИКОГДА НЕ ПОПАДАЙСЯ. Знал утробой: попадусь – исчезну я, все исчезнет, ну и Танька, возможно, расстроится.
В седьмом классе я украл клевые движения у Михи, который танцевал как бог, и всю дискотеку он был сам не свой, зато я подцепил Веру, хотя раньше она и не смотрела на меня. Я выпил литровую пластиковую бутылку джин-тоника, просто чтобы похвастаться, и тут же украл у прохожего трезвость, а тот сел мимо скамейки. Затем я ускорился: я украл обаяние, я украл надежность, я украл силу, я украл слезы, я украл ворчливость, я украл вдохновение, я украл тепло рук (у меня всегда холодные), я украл воодушевление, я украл восхищение, я украл внимание, я украл глупость, я украл гордость, я украл любознательность, я украл остроумие, я украл трудолюбие, я украл высокомерие, я украл какие-то слова, я украл какие-то мысли – и все уместилось у меня в животе. В этой суете пролетел еще год. Все реже я видел Таньку, потому что гулял с Мариной, а потом забыл ее где-то. Мне снились Сорок Сорок, тайно летающие по ночам над городами. За Варварой стал ухаживать надутый старпер, вроде ботана из «Что? Где? Когда?», линзы на носу такие толстые, что хоть в иллюминатор вставляй, но я ему радовался: квартира чаще оставалась в моем распоряжении, правда, все скучнее было жить. В восьмом классе наша руководительница представляла родителям психологическое резюме. Она вела журнал с характеристиками подопечных – оригинал журнала я украл, но эта зануда делала копии, – там было сказано про меня общими фразами, а в конце: «Тайный лидер (?). Себе на уме. [Зачеркнуто], [зачеркнуто], хамелеон, пу-[зачеркнуто]…» Я готов был дать руку на отсечение: она выводила слово «пустышка» и опомнилась. Такая похвала меня неприятно поразила. Дома я остался один, потому что Варвара с тем знатоком улетела к родным в Ростов. Был зимний месяц безделья, я хотел развлечься, и меня не отпускали эти характеристики: «хамелеон», «пустышка». На следующий день я увидел во дворе пару. Они приехали на шикозной «вольво», достали здоровенный глиняный горшок с пальмой и, смеясь, обнимая его, понесли в дом. Они чем-то напоминали Фёдора и Таньку, но гораздо старше. Они лет пять как поженились. Девушка мне понравилась. Длинный прямой птичий нос, черные глаза, плоский живот, тонкая кость: тонкие щиколотки (она была в туфельках, как с бала), тонкие запястья, тонкий юмор, тонкая сигарета – она мне подходила, я решил обладать. Я столкнулся с ними в дверях их дома и украл их любовь. Аксинья была кайфовая, она запомнила меня. Мы увиделись на следующий день, когда она одна шла на работу, и я истратил на нее чужое остроумие, чужой опыт, чужие повадки. На второй встрече я рассказал Аксинье про Сорок Сорок, немного прифантазировал, и она смеялась в голос, удивляясь самой себе, она вообще была тихоня. На третьей встрече я напялил на себя неотразимость (обворованный театрал через полгода сопьется), а от Аксиньи узнал о проблеме ранних браков, но ничего не понял. Оставалось три недели до возвращения Варвары, поэтому я ускорился и украл у девушки здравый смысл. Жизнь тут же закрутила пленку на своих бобинах вдвое быстрее. Через четверть часа после наших страстных лобызаний на лестничном пролете она поднялась к себе в дом и сказала мужу: «С меня хватит», они поговорили, они покричали, они что-то уронили, он ушел проветриться, она переехала в мою квартиру со всеми своими вещами и – арфой. Аксинья играла на арфе. Чужая жена сидела на скрипучей табуретке Варвары посреди нашей нафталиновой гостиной. Между ног Аксиньи с нежной величественностью устроилась арфа. Арфа была ясная и теплая, словно клен в бабье лето. От самой толстой струны ее подпрыгивал сервант и дребезжали окна. Волосы Аксиньи струились по плечам, вторя тому изгибу арфы, что с декой и колками. Крутой прогиб ее стоп вторил тому резному рисунку на раме, что припадал к ее груди, когда от ее груди отрывался я. Мы находили во всем сложную тайную композицию. Любые вещь и часть тела – ее или моя – всегда поэтически друг с другом соотносились, а иначе в квартире Варвары можно было подохнуть от бытовой убогости. Но у нас была «романтика». Я стащил ее у студентов «Ленфильма», студия тут неподалеку. Я перестал ходить в школу. Лежал днем на диване, сложив руки на животе, тщась согреть холодными ладонями краденое богатство, а вечером чужая жена возвращалась с работы. Мы принимали душ, лепились ненадолго в зверя о двух спинах, затем я наблюдал, как она длинными тонкими пальцами с узловатыми суставами перебирала струны. Она говорила, что силы натяжения в этой малышке столько, что, порвавшись, струна способна пробить пол или потолок – как повезет. Что я должен беречь арфу от сквозняка, закрой форточку, она костенеет от холода, да-да, лежал я, не шелохнувшись и подложив ладонь под щеку, а Аксинья играла, шепотом пропевая: ми-соль-си-фа, ля-ре-фа-ми, а потом ми-соль-ля-ре – из «Ромео и Джульетты», – и мерещилось мне, как Меркуцио перерубает пополам струна Тибальда, а она шептала так тихо-тихо эти ноты, будто по чуть-чуть выпуская из себя дикое дыхание, будто освобождаясь от меня. Вот Танька такой красотой не владела. Танька умела продавать газеты в ларьке на перекрестке Большого проспекта и Ленина; ну еще убираться по дому. Я знал, что она даже обниматься не умела, потому что ее не обнимали. И я почему-то не мог уснуть. Я думал, на что похожи ноги Таньки, если стянуть с них старые джинсы: годы шли, а джинсовые подвороты внизу не разматывались. Ее ноги ни с чем не соотносились. И руки были как руки. С мозолями, рабочие такие. Образ Таньки не удавалось втиснуть в мечту, я бесился и будил по ночам Аксинью, но один целый прекрасный зверь возникал лишь на считаные мгновения. Через неделю краденая любовь кончилась. Из меня она вырвалась внезапно, вместе с протухшим говяжьим филеем, купленным в сомнительном продуктовом, у которого я чуть позже, в отместку, украду лицензию и пожаробезопасность. Чужая жена опомнилась, решила, что ей пора возвращаться, что надо прекратить это, она сделала ужасные вещи, а я совсем маленький, выпей солевой раствор, мой мальчик, вытрись, это безумие, это невозможно. Я пожал плечами, надел штаны, помог Аксинье отнести вещи. Но я еще хранил другие штуки, которые украл у тех искушенных, что сильно старше, которым от моей кражи стало сильно легче, отвязные притягательные штуки – они умножались от моей юности. Эту последнюю дозу, отвал башки, я держал при себе, поэтому через три дня, опять разругавшись с мужем, Аксинья вернулась, звенящая и натянутая, как басовая струна, неискушенного меня она могла бы и перерубить, но я был усилен чужим пороком, и этой струне я устроил агонизирующее тремоло, но, увы, через неделю иссякли даже эти желания, которым и названия нет, и она ушла опять. Тревога от безнаказанности взяла меня за горло. Ноги сами понесли к Иоанновскому монастырю. Что я тут забыл? Не придумав ничего лучше, уставился на белую голубку, летящую на одной иконе: то ли она бежала из Ноева ковчега искать землю посредь океана, то ли неслась обратно. От ладана я расчихался. Потом какая-то бабка, показывавшая прихожанам, как правильно ставить свечку за упокой, взглянула на меня с яростью, высекла в воздухе знак от сглаза. Скрутило мой живот, и я убрался. Внутри было совсем пусто. Я позвонил Таньке. Она была как бы в помешательстве, не могла и двух слов связать. Возможно, у Таньки мозги съезжали набекрень, она предупреждала, что это при ее склерозе рано или поздно случится. Я позвал Таньку гулять. Я пообещал прийти в гости с коробкой конфет. Я хотел вспомнить анекдот, хотел ее рассмешить, я пытался смеяться, только она молчала. Алло! Алло? Танька положила трубку. Февраль я прожил как на иголках, совсем не крал. В марте поставил чайник. В апреле вымыл кружку. В мае мне опять захотелось женщину, но так, чтобы ничего и никого не ломать. Я возвращался домой после школы, я собрался купить журнал для взрослых и остановился у ларька – ларька, где работала бабушка Таньки. Перейти с Аксиньи на такой журнал было все равно что отменить эволюцию и залезть на дерево, но я был пуст и ничего не стыдился. Силу духа, достоинство, порядочность я уже когда-то у кого-то украл и истратил. Пока бабушка Тани прикидывала, можно ли продать журнал мне (конечно, нет), я украл у нее вчерашний день (бабушка это спишет на Альцгеймера). Из ее вчерашнего дня я узнал, что Танька больше не выбирается из постели и для бабушки теперь огромное счастье побыть на воздухе, не видя ее мучений. Танька должна умереть до Нового года, потому что не владеет телом, нарушается пищеварение, ей тяжело дышится, надо только перетерпеть, советовала на завтрак ее приемная бабушка ее приемным родителям, все-таки бэушный ребенок с таким пороком, с таким пробегом, это маета, скорее бы уже… а там жизнь начнется с чистого листа… Я смотрел, как ее бабушка, поджав губы, шарит по глянцевым обложкам с красотками, делая вид, что ищет мой журнал. Пустота во мне раскалилась. Я отказался; она вздохнула с облегчением. Значит, Танька будет мучиться до Нового года… Я любил Новый год больше своего дня рождения, а дни рождения не любил, потому что всегда был один, Варвара не в счет, а красть у самого себя… В общем, двойная печаль.
Ночью я обошел дом Таньки и полез по водосточной трубе. Она отчекрыжилась, я спрятался, сторож выбежал. Он назвал меня ишаком, хотя и не знал обо мне. Я полез по дереву – а это просто: надо лишь красть у гравитации силу. Извини, земля, – хэллоу, веточки. Силу гравитации лучше всего выпукивать, оставишь в себе – лопнешь, а так реактивное движение. Я пролетел от дерева до заветного окна не хуже, чем Питер Пэн. Чуть не промахнулся, но все-таки ухватился за створки, втащил себя вверх, они рассохлись и вздумали заскрипеть (на пластиковые стеклопакеты денег тут не водилось), но я украл звук и спрятал в живот, у меня тугой живот, хвалю на каждой странице. Живот надежно удерживает звук, когда дело не касается гравитации. В форточку пролез, ведь я был худ. Я украл гуттаперчевость у акробата цирка на Фонтанке, а он обрюзг и остался без работы, я украл билет у толстого ротозея, чтобы сходить в цирк на Фонтанке, а он скуксился и остался без радости. Волосы Таньки прилипли ко лбу, как намазанные клеем. Под одеялом стыковались какие-то несуразные детали. Не могли срастись в одно целое прекрасное летящее тело: взлетающее каждое утро из кровати – в день, сквозь дни в годы, от места к месту, унося нуждающихся в своем клюве или неся в клюве еду своим птенцам. Танька никак не могла лететь. На тумбочке была упаковка снотворного и пенал с Микки-Маусом. Из пенала почему-то торчали таблетки, много таблеток. От Таньки скверно пахло. Я сел рядом. Долго-предолго на нее пялился безо всякой мысли. Потом я вдруг испугался, что ее родители войдут и увидят меня, а я хоть и гибкий плут, но под кровать не влезу, а зрение их я красть не хотел, хватит уже. – Однажды я украл у тебя жвачку, – сказал я, быстренько засучивая рукава. Почему-то я подумал, что в такой ситуации надо извиниться, ведь я обещал Павлухе, что присмотрю за Танькой, а оно вон как обернулось. Но до сих пор не знаю, за что тут извиняться, мне было хорошо, я не попался, Танька не узнала, бабка бы ее за другое наругала, а жвачке безразлично. – Когда нам было по тринадцать, я украл твой поцелуй, и ты не сблизилась с Фёдором. Он уехал в столицу, а ты осталась дурой. Нет, все равно извиняться не буду. Твои губы пахли чечевицей, обожаю чечевицу. – Нам скоро будет по шестнадцать, и ты умираешь, все по плану: чики-пуки там, pica pica здесь. Я оглянулся в окно, куда мне уже следовало убираться, там, как и всегда, манила луна, я же когда-то хотел соревноваться с чертом – украсть ее или нет? Но это глупости. Туда не достану. – Это ты. Да-да, я, только усни, так сподручнее. – Как здорово, что ты пришел. Ну очень здорово, ты чего очнулась. Но я промолчал, потому что в комнате потемнело, ну и комок в горле, сами понимаете, я тут все видел, короче, я видел, к чему идет. – Помнишь, – сказала она, – ты украл чужую жену? Ты так это красочно описал. По-моему, лучший кусок в рассказе. – Как тут забудешь. Кража выдающаяся, ибо человека спер. – Ее звали Аксинья. Она красивая, играет на арфе, трынь-трынь, а ты, ты – самый гадкий человек на свете… или существо. Но знаешь что?.. Я бы тоже украла Аксинью. И поверь, украла бы ее лучше тебя, я же всегда была лучше… Танька беззвучно засмеялась. Это правда. Я вспомнил, как счастлив был, как ее ноги в красных колготках маячили у меня перед носом, когда волоклись по вспученному линолеуму детдома, как она с гиканьем опережала меня на дистанции от чулана до столовки. – Так ты понял, почему она все-таки ушла, и опять стало хорошо? – Потому что я не удержал чужую любовь в своем животе? – Да потому что не спрятать навсегда краденого человека, дебил. Какой же ты дебил и выдумщик. – А-а. Резонно. Живот поурчал, подтверждая, что людей он в себе еще не прятал и не способен на такое, нет, это к женщинам. Танька зажмурилась, сделала губы куриной гузкой, плакать вздумала, что ли?.. – Знаешь, Фёдор ведь маялся под этим окном. – Он такой, такой, – быстро закивала она. Я достал постаревшую бумажку, положил ей на снотворное, лишь бы не ныла. Там были адрес и телефон Фёдора. – Если он переехал в другой дом, то в Москве, Танька, ищи его, где такая воронка в небо поднимается. Воронка умных мыслей. А их закручивает желание скорей-скорей жить. В эту воронку засасывает птиц, да так, что они рожают раньше срока. Оно сразу видно – Фёдор идет. Сведения я украл у ветра, чистая правда, слышишь?.. Я произнес это, с трудом влезая на подоконник, потому что смерть Таньки весила, как брейтовская свинья. Невообразимая тяжесть в пузе. Я нелепо перевесился наружу, взмолился, чтобы Танька встала наконец, хотя бы подтолкнула меня. Но еще рано, все-таки рано; к тому же она опять забылась и уснула. Силы мои иссякли, я просто спрыгнул и разбил пятки вдребезги. Земля явила себя в подлинном, адски твердом великолепии. Как теперь ходить по осколкам костей? Я пополз домой почти по-пластунски, с разочарованием узнавая, как же слабы мои руки, собирая бесценным животом пыль, окурки, помет. На третьем пешеходном переходе тихо шуршащие колеса проверили мою пустоту на прочность. Вот тебе и выкормыш Сорок Сорок, какая ты птица? – ты теперь змей. У одного ночного прохожего я вздумал украсть прямохождение, но смог лишь рыгнуть, и отрыжка была пахучая, как гнилое яблоко. Не мог я красть – нагрузился до упора. Я оставил дверь квартиры приоткрытой, так было гигиенично. Взвился по гладильной доске, по ручке шкафа, подцепил зубами крюк вешалки и сбросил на пол новый костюм для выпускного, проскользнул в него, а затем лег смирно. Кажется, впервые в жизни успокоился. Свет ночного фонаря, льющего в гостиную, перебивала полетом какая-то птица, отчего мое лицо то уходило в тень, то вспыхивало. Прошла пара дней, за которые я ничего не ел, а даже и наоборот, в пятки мои впилась какая-то невидимая тварь и засосала, затем я утратил подвижность и дыхание, далее ввалились нахальные люди, подняли и положили меня на один стол, перенесли на другой, потом на третий, самый холодный, потом я качался-качался, потом со мной прощались, все это была дикая скука, в голове моей роились запоздалые мысли и абсурдное желание скорей-скорей жить, возможно, даже птицы рожали над моргом, а взбодрился я, только когда голос внутри шепнул. Голос был сладкий, как та жвачка, но и тяжелый, как та свинья: – Теперь укради жизнь вон у того мальчика. Укради – и ты вернешься, гарантирую. Ты все можешь, вечный сирота. – Это не мальчик, – отозвался я, хоть и не видел, кто там наведался на похороны, – это сто пудов Павлуха из приюта, он просто даун, у него щетина не растет. Зато Павлуха здорово на голове стоит. Я прям почувствовал, как смерть махнула на меня рукой. – Ты можешь все, – повторила смерть, рисуясь и подлизываясь, а впрочем, уже не надеясь, что я станцую твист на крышке гроба. – Все злодеи, все жуткие убийцы, – подумал я проникновенно и слегка не в такт предыдущей жизни, – выглядят именно злодеями и убийцами, пока не закроют глаза. – Так-так, ну и?.. – Смерть, с закрытыми глазами-то не крадут. О, это была шпилька. Крышку опустили, смерть ушла не попрощавшись, я сам оказался в чужом животе. Честно говоря, долго-предолго я крутил в уме сладкую фантазию о том, как Танька ворует чужую-мою-чужую-мою-чужую жену. Что они там вытворяли, ой-ей, арфистка и инвалид, руки музыкальные, руки работяжные, вот эти вот прогибы… Темнота наполнилась светлой грустью. Почему я никогда не спал с женщинами по-македонски? Всегда остается такая галочка-птичка: не сделал, не успел, не дожал, пустота во мне смеялась, хотя, безусловно, то был признак помешательства… Я мог существовать так вечно. Но она пришла. И зарыдала. Танька была далеко наверху, на свету. В звуке было что-то необычное: наверное, так рыдает человек, у которого за пару дней в отсохшую пехоту с упрямой болью ростка, пробивающего асфальт, вошла жизнь. Одна-одинешенька ревела на кладбище эта крепкая девица. И я скорбел: не видать мне, какие у нее отрастут ляхи. И зад – он сердечком нальется? А в профиль зад будет как доска или закруглится гудящим диким ульем?.. Она же годами его отсиживала, а теперь просто обязана как следует размять!.. Нет, такое одиночество невыносимо. Там, где у меня когда-то было сердце, засверкала, отозвавшись на Танькин плач, пустота. Свет ее глаз вонзился в землю, добурился до меня, и темноты не стало. Раз пришла – значит, догадалась. Я вспомнил о третьем правиле Сорок Сорок. Потрескивая белым шумом, как радиоприемник Ёси, я начал исчезать. Молодчина Танька, ты завершила все. Я попался.
Яна Демидович. Шоколадное сердце
 – Полюби меня… – услышала Мила томное и вздрогнула, задев рукой стопку шоколадок в палевой бумаге. – «Полюби меня»… за три рубля!
Мила обернулась – пожалуй, слишком быстро для воспитанной барышни – и наткнулась на привычный плутоватый взгляд.
«Опять Чернов. Ох, надоел же!» – внутренне скривилась Мила, но губы уже сами собой растягивались в заученной сахарной улыбке. Работаешь в кондитерской Эйнема – соответствуй.
– Доброго дня, сударь. Тортика желаете?
– Может, и тортика, – осклабился Чернов и, пригладив усы, вперился в Милин бюст. – А может, чего послаще… Милочка, а не соблаговолите ли вы отобедать со мной? Сегодня, скажем… в «Яре»? Во сколько за вами заехать?
Мила улыбнулась шире, стараясь, чтобы улыбка не выдала напряжения; взгляд ее метнулся по посетителям за столиками: даме с мальчиком, который, выпросив у мамы десять копеек, радостно бежал к аппарату с крохотными шоколадками, по купцу, что допил кофей и складывал газету… Что сказать, чем оправдать отказ?
Спасло появление Вари. Радостная, она ворвалась в дверь с неподобающей поспешностью: шляпка набекрень, одна из кудряшек выбилась на лоб, а уж глаза сияют…
– Милочка! Прости сердечно, опоздала, но тут такое!.. – начала Варя, однако поперхнулась, заметив импозантного господина.
– Прошу прощения… – пролепетала Варя.
– Не стоит извинений, голубушка, – весело сказал Чернов. – Новенькая, не так ли? Не имел удовольствия видеть вас раньше.
Варя кивнула, улыбнувшись до ямочек на щеках. Мила покачала головой. Ох, лапонька, тебя еще учить и учить. И работе, и как мужчин насквозь видеть: кто к тебе со всей душой, а кто лишь мяса кусок видит, игрушку для плотских удовольствий.
Вполуха слушая, что щебечет Варя, Мила упаковала торт и мягко вклинилась в разговор. Чернов не глядя расплатился, взял коробку и ушел, не забыв как следует обласкать взглядом счастливую его вниманием Варю. Про приглашение Милы он и думать забыл. Как же, новая девушка!
«Завтра-послезавтра вернется», – поморщилась Мила и цокнула языком, увидев, что подруга так и таращится ему вслед.
– Варвара!
Варя подпрыгнула и оглянулась.
– Почему опаздываем? Обещала же – на фабрику и обратно. Опять в Александровский заглянула?
Варино сияние вспыхнуло с новой силой.
– Нет! Мила, Мила, меня на обертке нарисуют! Мне Пьер сказал!..
От улыбки подруги тоже захотелось улыбаться.
– Поздравляю, лапонька, – ответила Мила, приобняв ее. – Ты заслужила.
Практика помещать портреты красивых работниц на упаковку шоколада была у «Эйнема» давней. Это придумал сам Юлиус Гейс – один из основателей, чьи дети сейчас управляли фабрикой и подчиненными ей кондитерскими-магазинами. Три года назад на одну из упаковок был помещен и Милин портрет.
– Ну, будет бездельничать. Пора за работу, – сказала Мила.
Варя кивнула.
Мгновение спустя дверной колокольчик звякнул вновь. Мила оправила платье и улыбнулась новой посетительнице:
– Здравствуйте, сударыня! Чего изволите?..
– Полюби меня… – услышала Мила томное и вздрогнула, задев рукой стопку шоколадок в палевой бумаге. – «Полюби меня»… за три рубля!
Мила обернулась – пожалуй, слишком быстро для воспитанной барышни – и наткнулась на привычный плутоватый взгляд.
«Опять Чернов. Ох, надоел же!» – внутренне скривилась Мила, но губы уже сами собой растягивались в заученной сахарной улыбке. Работаешь в кондитерской Эйнема – соответствуй.
– Доброго дня, сударь. Тортика желаете?
– Может, и тортика, – осклабился Чернов и, пригладив усы, вперился в Милин бюст. – А может, чего послаще… Милочка, а не соблаговолите ли вы отобедать со мной? Сегодня, скажем… в «Яре»? Во сколько за вами заехать?
Мила улыбнулась шире, стараясь, чтобы улыбка не выдала напряжения; взгляд ее метнулся по посетителям за столиками: даме с мальчиком, который, выпросив у мамы десять копеек, радостно бежал к аппарату с крохотными шоколадками, по купцу, что допил кофей и складывал газету… Что сказать, чем оправдать отказ?
Спасло появление Вари. Радостная, она ворвалась в дверь с неподобающей поспешностью: шляпка набекрень, одна из кудряшек выбилась на лоб, а уж глаза сияют…
– Милочка! Прости сердечно, опоздала, но тут такое!.. – начала Варя, однако поперхнулась, заметив импозантного господина.
– Прошу прощения… – пролепетала Варя.
– Не стоит извинений, голубушка, – весело сказал Чернов. – Новенькая, не так ли? Не имел удовольствия видеть вас раньше.
Варя кивнула, улыбнувшись до ямочек на щеках. Мила покачала головой. Ох, лапонька, тебя еще учить и учить. И работе, и как мужчин насквозь видеть: кто к тебе со всей душой, а кто лишь мяса кусок видит, игрушку для плотских удовольствий.
Вполуха слушая, что щебечет Варя, Мила упаковала торт и мягко вклинилась в разговор. Чернов не глядя расплатился, взял коробку и ушел, не забыв как следует обласкать взглядом счастливую его вниманием Варю. Про приглашение Милы он и думать забыл. Как же, новая девушка!
«Завтра-послезавтра вернется», – поморщилась Мила и цокнула языком, увидев, что подруга так и таращится ему вслед.
– Варвара!
Варя подпрыгнула и оглянулась.
– Почему опаздываем? Обещала же – на фабрику и обратно. Опять в Александровский заглянула?
Варино сияние вспыхнуло с новой силой.
– Нет! Мила, Мила, меня на обертке нарисуют! Мне Пьер сказал!..
От улыбки подруги тоже захотелось улыбаться.
– Поздравляю, лапонька, – ответила Мила, приобняв ее. – Ты заслужила.
Практика помещать портреты красивых работниц на упаковку шоколада была у «Эйнема» давней. Это придумал сам Юлиус Гейс – один из основателей, чьи дети сейчас управляли фабрикой и подчиненными ей кондитерскими-магазинами. Три года назад на одну из упаковок был помещен и Милин портрет.
– Ну, будет бездельничать. Пора за работу, – сказала Мила.
Варя кивнула.
Мгновение спустя дверной колокольчик звякнул вновь. Мила оправила платье и улыбнулась новой посетительнице:
– Здравствуйте, сударыня! Чего изволите?..
* * *
…Листья шуршали под ногами, словно фантики от конфект. Посверкивали золотой фольгой и багрянцем, что напоминал оттенком бархат, украшавший нутро самых изысканных упаковок. Мила шла по аллее, слушая Варину болтовню. Катала на языке карамельку и думала, до чего же все-таки ненавидит осень. Стоило подумать это третий раз – и налетел ветер. Мила шмыгнула носом и, не удержавшись, чихнула. Варя покатилась со смеху: – Мил, ты как Егорыч после понюшки! Утерев нос платочком, Мила покосилась на подругу. Ишь чего удумала, с их кладовщиком ее сравнивать. Егоза. – Ну Мил, ну не сердись… – тут же заластилась Варя. – Чего ты такая серьезная? Улыбнись! Ты ж с улыбкой – прямо солнышко! Мила усмехнулась и с тоской посмотрела на небо. Солнышко… Рожденная летом, Мила плохо переносила холод: особенно зиму и слякотную, скупую на солнце осень. Она искренне не понимала, как можно любить унылое время. Это пушкинское, тьфу, очей очарованье! Лишь солнце придавало Милиным глазам блеск, целовало бледное лицо, одаривая нос и щеки карамельной крошкой веснушек. Оно грело город, выжигая тени самых глубоких подворотен. Сейчас же… Москва была жесткой, мрачной. Сизо-стальной, точно старинный клинок, что вот-вот обагрится кровью. И, кажется, даже золотые луковки церквей потускнели и прогнили без теплого солнца. «И от Коленьки вестей нет… Где он, с кем?» – Пошли домой. Хватит променада, – вздохнув, сказала Мила. Карамель давно кончилась, оставив на языке послевкусие ягодной начинки. Но этого было мало. Мила, с детства любившая сладкое, и ныне потребляла его в больших количествах, сохраняя стройность фигуры. Идя к дому – квартирке, которую им предоставила над кондитерской фабрика, – Мила мечтала о чашке горячего шоколада. Налить, выпить, расчесать волосы… Хорошенько выспаться… Однако стоило им с подругой завернуть за угол, как Мила увидела знакомую фигуру. – Людочка! Сутулый длинноволосый паренек радостно двинулся им навстречу. – Здравствуй, сестренка! И вы здравствуйте, Варвара Ивановна! Пожалуйте облобызать вашу ручку! Хихикнув, Варя протянула руку в лайковой перчатке, на что Мила только покачала головой. Впрочем, если подумать, все в порядке. Это же просто Поль – ее невезучий кузен Поль, художник, что, без сомнений, вновь пришел просить денег. Когда-то он жил в знаменитой Ляпинке, но, когда ее закрыли после смерти владельцев, едва не стал бродягой. Поль жил у приятелей и подруг, рисовал всякое-разное. А еще – обожал азартные игры и всякий раз, проигрываясь в пух и прах, клятвенно заверял Милу, что этого больше не повторится. Ну а затем все начиналось по новой. – Людочка, друг мой, а не одолжишь ли ты мне… – начал Поль. Мила сурово поджала губы, зная, что долго эта ее суровость не продержится. Каждый раз при взгляде на Поля ей виделся забавный малыш. Сейчас, когда не стало родителей, когда она потеряла поместье, проданное за долги, и едва не угодила в содержанки, Поль, тоже сирота, остался для нее последним родственником по крови. Да, беспутным, да, странным – чего стоят эти его картины с разными механизмами! – но все же… родным. – Пойдем к нам на фабрику, покажи, что умеешь, – бывало, уговаривала Мила. Но Поль, вроде бы мягкий, как марципан, всякий раз каменел и отказывался. Он ненавидел немцев за то, что один из них когда-то разорил его отца. – Не буду я рисовать для немчуры. Не буду – и точка! Вот и занимался незнамо чем. – Хорошо… – вздохнула Мила в настоящем и полезла в сумочку. Кузен, получив желаемое, конечно, рассыпался в благодарностях и убежал. Мила лишь покачала головой. И когда же ты вырастешь, глупенький? Ответа не было. Мила бросила взгляд на тучи, затянувшие небосвод, поежилась… И пошла за Варей, утешив сердце мыслью о горячем шоколаде.* * *
Рабочий день утонул в заботах. Мила с Варей крутились, упаковывая торты и шоколад, обслуживая нескончаемых клиентов. Поэтому, когда колокольчик звякнул в двадцатый, если не тридцатый, раз, Мила чуть не застонала. Она еще не успела обернуться, когда сквозняк донес запах знакомого одеколона, и сердце дало перебой. «Вернулся!» Мила почти не услышала, как он поздоровался с Варей, стоявшей за стойкой. Лишь обернулась, и… – Здравствуйте, дорогая Людмила Захаровна. Бесконечно рад видеть вас в добром здравии. – Здравствуйте, Николай… – шепотом отозвалась Мила и запнулась, превращаясь из уверенной продавщицы в по уши влюбленную девчонку. «Коленька…» От него пахло морской солью и специями дальних стран. Цилиндр был снят, и кудри цвета сусального золота, эти мягчайшие кудри, к которым всегда так тянуло прикоснуться, щедрыми волнами омывали широкие плечи. Колыхались, будто лучи ее любимого светила. – А я вам подарок привез, – улыбнулся Николай. – Можно украсть вас на минутку? Если только… Он вопросительно взглянул на Варю, что поглядывала на них с веселым лукавством, и та закивала: – Иди, Милочка! Я справлюсь! – Ну если только на пять минут… – пролепетала Мила. Но сердце билось часто-часто, твердя свое, безумное и сладкое: «Да хоть на всю жизнь! Я согласна!..» Вот сели, улыбнулись друг другу. Мила, тая, словно шоколад под солнцем, посмотрела на сахарно-белые зубы под карамельными штрихами усов, на загар, красивший лицо и кисти сильных рук. Николай Соколовский служил этнографом при одном университете. Заядлый путешественник, сирота, воспитанный дядей, в свои тридцать пять он исколесил почти весь мир, и Мила до мельчайших деталей помнила день, когда он впервые решил зайти к ним за чашечкой шоколада. А потом пришел еще. И еще… С ним всегда было так легко, и темы для разговоров находились сами. Мила и Николай часто гуляли по паркам, ели конфекты и вместе смеялись, сидя в театре. И то давнее, пока не высказанное, будто с каждым днем все сильнее давило на их губы. Желало вырваться заветным: «Я вас люблю». Но, когда Миле чудилось, что ей вот-вот предложат руку и сердце, в Николае просыпалась авантюрная жилка. И он вновь уезжал, уплывал, ускользал, чтобы вернуться с подарком – и новой надеждой. Как сегодня. – Людмила Захаровна… – негромко произнес Николай, и рука его коснулась Милиной руки. Голос дрогнул. – Милая моя Людмила… Я больше не могу так. – Как?.. – выдавила Мила. – Без вас. Там, в Америке, я все понял, – сказал Николай. Мила слушала его, замерев. Она знала, что последнее путешествие любимый предпринял именно в Америку. Не ту, алеутскую, которая видела еще безбашенность Толстого, а иную, носившую название Латинской. Ту самую, откуда на фабрику везли лучшие какао-бобы. Николай вернулся с родины шоколада. И, похоже, готовился сделать ей… – Я нашел там золото. Остаток некого предмета, – продолжил Николай и вытащил из кармана коробочку. – Его нельзя было восстановить. Но мой ювелир сумел создать из него то, что я хотел. Мила, милая моя… Николай запнулся. Медленно открыл коробочку. – Примите это в знак моей любви. Я предлагаю вам свою руку. И сердце. Оба сердца, дорогая. В ушах Милы зашумело. Грозя упасть без чувств, она увидела выстланное шелком нутро, на котором покоился золотой кулон в форме сердечка. – Я согласна, – сглотнув, прошептала Мила. И наконец расплакалась от счастья.* * *
– Невкусно! – Вопль расколол утро, тонкой иглой войдя в и так болящий висок. – Мне не нравится! На пол полетел выплюнутый марципан. Гувернантка взвизгнула, стремясь призвать подопечного к порядку, но тщетно. «Какой же гадкий мальчишка», – поморщилась Мила. Сегодня она чувствовала себя отвратительно: проснувшись с гудящей головой, встала с кровати и ахнула, разглядев свою бледность в зеркале. К полудню румянец окрасил ее щеки вновь. Да только голова так и не прошла. «Переволновалась, – решила Мила и тронула место у ключицы, где под платьем на золотой цепочке висел золотой же кулон. Улыбка сразу растянула губы. – Ведь такое событие…» Сколько она ждала этого, сколько мечтала! – К Абрикосову хочу! – тем временем заявил противный мальчик. – Ананаса хочу, в шоколаде! «Вот и шел бы к Абрикосову», – в сердцах подумала Мила. Будь Мила верующей, наверное, помолилась бы Богу, чтобы тот избавил ее от такого клиента. Но вера в доброго Боженьку истлела в ней давным-давно, исчезла в темные времена, когда пришлось продать последний крестик. И все же удача улыбнулась Миле: поворчав, гувернантка наконец повела мальчишку к выходу. «Ушли!» Нет, Мила не ненавидела детей. Когда-нибудь и она станет мамой. Родит Коленьке не одного наследника. Но, прибирая на столике после посетителей, Мила то и дело кривила губы: тут рассыпано, там изгваздано… А уж что паршивец сотворил с коллекционной открыткой из шоколадного набора! Одни клочки остались. От этого вдруг накатила злость. Мила оперлась о столик, зажмурилась – а когда распахнула веки, со зрением случилось странное. Надписи на клочках закружились, словно размазываемые невидимой рукой. Смялись в незримом водовороте буквы, и… Обратились в непонятные письмена. Человечков, на чьих головах высились короны из перьев, а руки держали палки. Или копья? И чаши. И… – Мила! Тебе плохо? Клочок выпал из пальцев. Мила с трудом выпрямилась и взглянула на Варю. – Все хорошо, – с усилием произнесла она. – Голова что-то чугунная… – Сядь! – приказала Варя и стала хлопотать вокруг. – Скушай вот это. Станет лучше! – Спасибо… – слабо улыбнулась Мила. Глаза, вернувшись к обрывку, не увидели на нем ничего необычного. «Привиделось?» Наверное, все дело в рассказах Коленьки. С каким жаром он повествовал о давно сгинувших племенах Америки! Даже про некоторые жестокие обычаи как-то упомянул – вскользь, правда, чтобы не напугать. Про их любовь к золоту. И к шоколаду… «Они любили шоколад, почти как ты, – улыбаясь, говорил он. – У тебя шоколадное сердце, милая…» Прервав мысли, звякнул колокольчик. Новые посетители. «Пора за работу». Следующие несколько часов Мила усердно улыбалась, чистила столики и носила подносы. Да только ее самочувствие оставалось нездоровым. Пытаясь отвлечься, Мила мурлыкала любимые мелодии: то «Вальс-монпансье», то «Кекс-галоп» – их ноты вкладывали в упаковки некоторых конфект, радуя покупателей. Однако, чем больше она пыталась отвлечься, тем сильнее кровь пульсировала в висках: громко, гулко, будто целая армия барабанщиков, при мыслях о которых почему-то всплывали темные полуобнаженные тела, прокаленные солнцем каменные пирамиды и вереницы связанных людей, ведомых на… Из рук Милы вырвалась сахарница. К сафьяновым туфелькам брызнули осколки. – Простите! – Мила бросилась убирать разбитое. В локоть вцепились Варины пальцы: – Мила, я сама! Иди присядь! Дрожа, Мила подчинилась. Да что с ней сегодня?! Воздух, пропитанный шоколадом, внезапно стал нестерпимо душным. Мила прижала к груди ладонь. – Милочка… – шепнула подоспевшая подруга. – Сходи на улицу, проветрись! – Но… – Я и одна справлюсь. Иди! На тебе лица нет. – Ну хорошо, – нехотя кивнула Мила. Шляпка, пальто – и вот она на сентябрьской улице. Блеклые прохожие, серое небо с золотым огрызком солнца среди туч. Мила вздохнула и пошла к Александровскому саду. Она просто перетрудилась, переволновалась, вот и мерещится всякое. Но день, не задавшийся с самого утра, видно, решил и вовсе доконать ее. Впереди, на дорожке, стояла знакомая гувернантка, что беседовала с господином в пенсне. Рядом же, в кустах, мелькал знакомый матросский костюмчик. А еще… Тонкий слух Милы расслышал нечто, заставившее ее похолодеть. Судя по всему, гадкий мальчишка мучил кота. В груди вскипело возмущение. Мила собралась дойти до гувернантки и обратить ее внимание на вопиющий случай, но вскоре остановилась. Гувернантка явно знала, что творится, – вон какие раздраженные взгляды назад бросала! – но никоим образом не собиралась препятствовать. Ей было плевать. Пускай барчук играет. Мила стиснула кулаки. Смелость, граничащая с безрассудством, толкнула ее к обходной дорожке. Мгновение спустя Мила, пройдя кусты, вышла из арки, образованной двумя деревьями, и увидела мальчишку. У его ног, придавленная, корчилась пятнистая кошка. Ее «мяв» был уже почти не слышен, но Мила зашипела вместо нее: – Отпусти сейчас же! С этой стороны ее не было видно людям с дорожки, зато мальчик мог видеть хорошо. Вот поднял голову, заметил… Узнал. И с улыбкой надавил на кошачье горло сильней. – Отпусти! Перед глазами полыхнуло. Милу обдало жаром, а после она увидела вереницу голых детей. Пиная и щипая, жестоколицые взрослые вели их по ступеням величественной пирамиды, и слезы, что стекали с маленьких чумазых лиц, смешивались с кровью. Там был и он – растерянный, в обрывках матросского костюмчика. Зареванный, затюканный и непонимающий, что к чему. И Мила, стоявшая на верхней ступеньке, тянула к нему черный, как беззвездная ночь, обсидиановый нож и… улыбалась. Скалилась, показывая зубы, испачканные в терпком, вкусном, любимейшем шоколаде, когда… Что-то толкнуло в грудь. Мила трепыхнулась и увидела мальчишку, что как раз падал на траву. Мила еще успела понять, что он в обмороке, когда ноги сработали сами собой. Руки прижали к груди полуживой комок, а после с небес ударил дождь. Мила успела спрятаться за дерево, когда воздух прошил первый вопль гувернантки. Листва не прошуршала под каблуками, не дрогнула ни одна ветка, когда Мила незамеченной покинула сад. Сердце билось в груди барабаном. На руках слабо плакала кошка, а в мыслях царил ураган. Позже, в комнате, когда обласканная кошка успокоилась, а слезы Вари высохли, Мила опять вспомнила о страшном видении. Сейчас оно больше походило на морок. Мила так и не рассказала о нем подруге. Быть может, надо показаться врачу… Мила в задумчивости провела пальцем по золотому сердцу, которое не снимала с себя даже ночью. И успокоилась. Не будет она ничего никому говорить. Ни Варе, ни тем более Николаю. Это все ерунда. Надо просто выпить шоколаду – и баиньки. Мила рассеянно улыбнулась своим мыслям. Допила чашку, а после улеглась. Спасенная кошка, Пятнышко, свернулась у нее на груди и заурчала. А за окном все шел и шел дождь.* * *
На следующий день Мила проснулась в прекрасном настроении. Напевая, привела себя в порядок, погладила кошку. Все, что произошло вчера, казалось, случилось несколько лет назад. Причиной Милиной радости было и то, что сегодня она собиралась зайти к модистке. Пускай снимет мерки, подберет ткань и кружево для самого красивого, самого воздушного, как безе, платья на свадьбу! Настроение не испортила даже погода. Мила глянула на тучи и погрозила им кулаком: – У-у, противные! Сгиньте! Не выдержав, Мила прыснула. Память подкинула ей образ мальчика с обертки новых конфект «Ну-ка, отними!» – того самого, вдохновленного фарфоровой статуэткой из кабинета господина Гейса. Мрачный бутуз держал в одной руке шоколадку, а в другой – биту для лапты. И весь его вид говорил о том, что связываться с ним не стоит. Этот уж своего никому не отдаст! Добьется, чтобы все враги сгинули! Улыбнувшись, Мила полетела к модистке. Следующие несколько часов промчались, как один. Ближе к вечеру Мила очнулась в модной лавке, где выбирала себе новую шляпку. С пером или без пера, с вуалеткой или без? Миле хотелось и то, и другое, и третье, но… – А Прянишникову замуж позвали! – донесся знакомый голос. – Бог с тобой, Лизавета. Не может быть! – фыркнул второй, от звука которого Мила ахнула. – А что? Так-то она барышня собой недурна, да и голосок нежный. Помню, как нам пела… – А нос – крысиный, и зад, как у деревенской клуши! Побагровев, Мила скользнула за стойку с нарядами и, пригнувшись, посмотрела в щелку между ними. Так и есть. Старые знакомые. Лизавета и Анна – мерзкая, ненавистная Анна! – из магазинов Абрикосовых. Когда-то они вместе начинали работать на фабрике Эйнема, но затем двух девушек переманил конкурент. Они до сих пор трудились у него, в магазинах, как и Мила, и разительно отличались друг от друга: одна – дородная, светловолосая, настоящая русская баба, другая – тонкая и резкая брюнетка, похожая на испанку. Не так давно Абрикосов бросил в газеты потрясающую новость: что, мол, у него в одном магазине работают одни блондинки, а в другом – сплошь черненькие. Оказалось – липа, но сколько шумихи и попутных продаж! – Ну чего ты так возмущаешься, Анечка? Ну позвали ее и позвали. Тебя бы тоже позвали, не будь ты такой привередой. Анна скривила губы. – Кто жених-то? – Да какой-то Соколовский. Вроде бы географ какой… или этнограф… Анна вдруг ахнула, отчего у Милы зашлось сердце: – Это высокий такой? Блондин с песочными усиками? – Не знаю. Чего ты меня пытаешь? Я так, вполуха слышала от Санечки, с фабрики. А та – от Варвары, что с Милкой работает… – Я его знаю! Он у моего дяди жилетки заказывает, всякий месяц – разные! Я его давно приметила, все познакомиться хотела, но… – Анна расплылась в нехорошей улыбке. – А вот теперь и познакомлюсь. Кажется, Лизавета, что повернулась к подруге, начала что-то строго выговаривать ей. Но Мила уже не слышала: кровь бросилась в лицо, заполонила звуком тамтамов уши, а глаза будто подернулись бурой пленкой. В груди засела ненависть. Это она клокотала внутри вместе со словами: «Как… она… смеет?» Хотелось броситься вперед. Вцепиться мерзавке в волосы, мстя за все козни, что та чинила ей на фабрике. За все насмешки и, главное, за невозможное, кощунственное желание. Да, невысказанное, но такое явное. Ощутимое всеми фибрами души. Анна хотела отбить у нее Коленьку. Отбить. У нее! Это накануне свадьбы!.. Мила задохнулась. Кулон, нагретый телом, дрогнул на коже, точно настоящее сердце. И когда, совершив покупки, подруги покинули магазин, Мила выждала ровно пять минут и пошла следом. Щеки ее пылали. «Вернись, дурочка! Ведь увидят! Филером себявообразила?» Голос разума остался без ответа. Мила шла по улице, ускоряя шаг, прячась за углами зданий и деревьями, ступая по-кошачьи беззвучно. Ее не замечали, зато она – она замечала все: смуглые лица ванек, что мчались мимо нее; сочную зелень, сменившую золото осенних листьев; густой и влажный, как в бане, воздух, в котором, в этом белесом мареве, полном миражей, медленно шли две фигурки. «Что ты делаешь?!» В глазах потемнело. Мила прижалась к стене дома и, проморгавшись, увидела рядом рекламку «Ну-ка, отними!». Тяжело сглотнула, увидев, что нарисованный мальчик переменился: бело-розовая кожа сменилась шоколадной, одежда исчезла, обратившись набедренной повязкой, а бита для лапты вытянулась, родив по обеим сторонам частокол острых, черных, каменных зубов. – Макуауитль… – прохрипела Мила чужое, похожее на заклинание, слово. А потом – подхватила с земли палку, оброненную каким-то сорванцом, и сорвалась с места. Вот и переулок. Две подруги, идущие под ручку. Сумерки, что опускаются на город. И жгучее, чужое, дикое, что вулканом горит внутри, грозится выплеснуться беспощадной, сметающей все и вся лавой. Кажется, Лизавета ощутила это первой. Она еще успела повернуть голову, когда некая сила отшвырнула ее прочь, сильно ударив о стену переулка. Из губ вырвалось рычание, руки налились железной силой. И палка, которую Мила со свистом подняла над головой, опустилась на лицо Анны с ужасной, невероятной силой. Той силой, которую в умелых воинских руках показывает украшенный обсидианом макуауитль – мощный, как тропический ураган. И горло исходит криком, и кровь брызжет на платье, и голова – разбитое шоколадное яйцо, полное пастилы и вишневого варенья. И… «Ну-ка, отними его!..» – и Мила хохочет, хохочет, хохочет, славя Колю и Солнце, хохочет, разбивая грудную клетку ненавистной стервы, и, когда пальцы уже тянутся выдрать еще теплое сердце… Застывает. – Нет!.. – всхлипнула Мила, уронив окровавленную палку, и попятилась. Тело, что лежало перед ней в багряной луже, не шевелилось. Чуть поодаль, неподвижное, покоилось второе. За поворотом послышались голоса. Мила затравленно обернулась – и бросилась бежать. Она не знала, как добралась до магазина. Она бежала так, словно за ней гнались, но красная пелена, до сих пор стоявшая перед глазами, казалось, была и вне ее: прятала плачущую, сходящую с ума девушку от взглядов прохожих. И когда она ворвалась домой, то первым делом бросилась умываться. Уморившаяся за день Варя посапывала в кресле, а Мила, скрючившись, терла руки, измазанные в чужой крови. «Я убила их! Убила!» Милу затошнило. Ее вырвало, но облегчение не пришло. Всхлипывая, она сползла на пол и вцепилась себе в волосы. Золотой кулон пылал, грозя прожечь плоть. А еще – безумно хотелось шоколада. – Сгиньте!.. – заскулила Мила, когда перед глазами закружились пиктограммы. Когда стены исчезли, бросив ее в жар чужой древней страны, и суровый мужчина с поклоном протянул чашу чистого золота. В ней, укрытой красноватой шапкой взбитой пены, ждал ее напиток богов, сдобренный красным, будто кровь, перцем. Но вот губ коснулась влага, в ладонь вложили обсидиановый нож, и жертву, дарованную Солнцу, вытянули на алтаре… «Прочь! Из моей! Головы!..» Шепот из сердца кулона. Чуждый язык, но она понимала его, она знала, теперь знала, что делать, чтобы вернуть любимое солнышко и спасти мир от… Пальцы сомкнулись на сердечке и дернули его изо всех сил. Звякнув, лопнула цепочка. Мила со всей силы бросила подарок в дальний угол. И потеряла сознание.* * *
– Милочка, тебе опять нехорошо? Варин голос вырвал ее из тягостных мыслей. Моргнув, Мила вымученно улыбнулась: – Не переживай, Варенька. Я… Со мной все в порядке. Это было враньем. Но что ей оставалось? Признаться, что вчера она, осатанев, погубила двух человек? Тех самых, весть о чьей ужасной смерти уже прогремела на всех перекрестках?.. – Ты о них думаешь, да? У Милы дернулась щека. – Да… – И я думаю, – вздохнула Варя. – Жалко их – страсть! Это ж надо быть таким извергом! Как его только земля носит, мерзость такую! У Милы застучали зубы. Взгляд метнулся к шкапу, за стенкой которого, в жестянке из-под леденцов, прятался кулон, таивший в себе… Что? Дух давно сгинувшего народа? Некого демона из горячих стран? Она давно не верила в Бога, а вот в нечистую силу… В мире было много хорошего и много плохого. И иногда казалось, что плохого куда больше. Мила еще помнила страшные сказки дряхлой няньки. Всех этих полудниц, леших и упырей, неупокоенных душ и прочую пакость. Иногда от них спасали крест и святая вода, молитва. «Но если я не верю… Что делать?» Несколько часов назад она едва не выкинула подарок. Передумала в последний миг. И, обернув руки салфеткой, спрятала кулон подальше. А теперь… «Что же делать?» На лестнице появилась Пятнышко. Принюхалась – да так и застыла, глядя на злосчастный шкап. А потом вздыбила шерсть и зашипела. – Что ты, лапонька? Сейчас молочка дам… Но Варя не успела выполнить обещание: кошка метнулась обратно в комнату. И Мила с еще большей горечью поняла: дело нечисто. Да еще Колю так некстати отправили в другой город… «Успокойся. Все образуется». Но тут снова накатил ужас. Как, как можно успокоиться, если вчера она своими руками!.. Дрожа, Мила развернула под прилавком фантик и закинула в рот сливочную конфекту. Сразу же прикусила язык, и вкус шоколада стал слегка соленым. Весь день все валилось у нее из рук. В конце концов Варя отправила подругу в комнатку, прилечь, а сама, закрыв кондитерскую на перерыв, отправилась на фабрику с отчетностью. Мила почти сразу погрузилась в забытье. А проснулась ночью, когда на улицах зажгли все газовые фонари. Вари в комнате не было. Лишь Пятнышко, что открыла янтарные глаза. «Что-то с отчетом? Сидит внизу и исправляет?» – подумала Мила, но сердце кольнула игла. Накинув халатик, Мила стала спускаться. Уже на лестнице она увидела, что на первом этаже темно, а окна, которые обычно прикрывались ставнями до утра, не прикрыты. В кондитерскую сочился слабый свет с улицы, рождавший тени, похожие на чертей; воздух был сперт и почему-то пах пылью. Значит, Варя до сих пор не вернулась? Сердце Милы дрогнуло и помчалось галопом. «Что-то случилось! Она никогда…» Стон у входной двери. На секунду Мила окаменела. А после бросилась туда. Распахнуть в ночь, вглядеться… в ужасе ахнуть. На крыльце, скорчившись, рыдала Варя. Руки сработали раньше рассудка: Мила втянула подругу внутрь, зажгла свет и, наконец разглядев все, прижала ладони к губам. Кое-как надетое, местами порванное платье. Растрепанные волосы без шляпки. Никаких пальто и сумочки. И ноги – бледные, голые, без туфелек и чулок. Ноги в подтеках засохшей крови. – Варенька… Кто, как?! Подвывая, давясь слезами, Варя начала рассказывать. Как она шла с фабрики, как рядом остановилась карета и ее предложили подвезти. Это был он, Чернов. Такой красивый и галантный. И она, неопытная глупышка, растаяла от его комплиментов, согласилась заехать на ужин и… – И он тебя… – прошипела Мила. Варя содрогнулась и зарыдала еще сильнее. Не он. Они. Оцепенев, Мила слушала, как подруга, поняв, чего от нее хотят, возмутилась и воспротивилась. Но птичка уже угодила в силки. Запертые двери, равнодушие на лицах верных лакеев… Похоть в глазах мужчин. Да. Чернов любил радовать себя и друзей-дворян самым вкусным и сладким. Вот и порадовал. А потом вышвырнул вон, точно последнюю желтобилетницу. – Я дура, дура!.. – выла Варя, заламывая руки. Мила, по лицу которой катились слезы, лишь крепче сжимала ее в объятиях. – Кому я теперь такая буду нужна?! Мила пыталась успокаивать ее, заикаясь, твердила ласковые слова, но тщетно. Беда, которая случилась с подругой, была столь велика, что мозг оцепенел. Мила не могла сказать, сколько прошло времени, когда она все же уговорила Варю лечь в постель. – Варенька, я за доктором, – сказала она. И добавила, скрипнув зубами: – И за жандармами. Они… – Нет! Не смей никому рассказывать!.. – Варенька… – Это позор, Мила! Я не хочу! Я… – Варя опять зарыдала. – Т-ты не знаешь… Им н-ничего не будет… Они так и сказали, они… смеялись… Они б-богатые, у них все ку-уплено-о-о… – Варя… – Я жить не хочу… Мила, не хочу, не могу, не буду!.. – Варя! Так нельзя говорить! – ужаснулась Мила. Но та продолжала твердить это, и Мила поняла, что никуда она не пойдет. Не сейчас, когда Варя в таком настроении. Вот настанет утро, и тогда… Ужас и сострадание отдалились, сменившись лютой ненавистью. Мила покрепче сцепила зубы. Нет, она этого так не оставит. Если надо, и до императора дойдет. «Ты поплатишься, Чернов, черная твоя душа. Клянусь!» Она не заметила, как задремала. А когда очнулась – Вари в ее объятиях не было. Слабый утренний свет сочился в окно. На его фоне висело безжизненное тело, под которым валялась опрокинутая табуретка.* * *
Кондитерская не работала. Весь этот ужасный день Мила провела в каком-то оцепенении. Она почти не помнила, что отвечала соседям, жандармам и начальству, всем, кто приходил и подступался к ней с расспросами. Кажется, кто-то гладил ее по плечу и наливал чай, но после все ушли, оставив ее одну. День снова пожрала ночь, и Мила, сидящая на первом этаже, вдруг четко осознала, что никому не сказала про Чернова. Она не нарушила слова, данного подруге, лишь сообщила, что на нее кто-то напал и обесчестил, потому что… «Она так просила. Она больше жить не хотела. А я… Из-за меня…» Мила зажмурилась. Затем достала упаковку самого дорогого шоколада – и, вытащив первую плитку, стала есть: давясь, жадно, роняя на прилавок слезы и коричневую слюну. Сердце болело, тело тряслось. И чем больше Мила ела этого шоколада – тем сильнее разгоралась внутри злость. Вот только не на себя. Уже нет. Вдалеке словно ударил барабан. Мила встала… и решительно пошла к шкапу. Мгновение – и жестянка в ее руках, и золотое сердце приветственно блестит, и оно теплое, почти горячее, когда она вешает его, на новой цепочке, на шею. А потом сзади раздается шипение. Это Пятнышко, решившая проведать хозяйку, не одобряет ее выбор. И пятится, пятится, пятится, собираясь бежать. Шоколадные губы Милы растягиваются в улыбке. Она бросается кошке наперерез, подхватывает и прижимает к груди. Пятнышко воет, царапая ее когтями, и кондитерская исчезает, проваливаясь в джунгли. Кошка выворачивается из рук, на лету обращаясь в иного зверя. Громадные клыки, тяжелые лапы. Пятнистая шкура в шрамах от давних-предавних битв. «Ты знаешь, чего я хочу». И миры смешиваются, как в калейдоскопе. Огромная кошка ныряет в ночную Москву. Она мчится по садам и крышам, и Мила, глотающая шоколад, Мила, сидящая в кресле, видит все ее глазами. Вот и ворота, особняк, крыльцо и коридор. Покои, где, наигравшись за день, спит господин Чернов. Шорох. Скрип. Когти в пядь, что провели по лаку начищенного паркета. Он успевает очнуться, но поздно. Слишком поздно. Огромное тело, пахнущее джунглями, придавливает его к постели. Но сразу вцепиться в яремную вену? Нет. Это слишком просто. Мила видит, как зверь вгрызается в рот человека. Выдирает язык, полосует когтями живот. Он еще жив, когда ему вырывают мошонку и глаза, откусывают нос и, наконец, доходят до сердца. Чернов мычит, дойдя до предела адских мук. Мила улыбается. Умывшись после кровавой трапезы, ее ручной ягуар берет скользкий комок в пасть и мчится домой. И вот он у ее ног, вот в руках, и Мила, заплаканная, но счастливая, вся измазанная в шоколаде, протягивает сердце в окно, призывая новый, кровавый рассвет. И Солнце приходит.* * *
Пятнышко исчезла. Испарилась после памятной ночи, словно никогда не существовала. Жизнь мало-помалу входила в прежнюю колею: Миле прислали новую помощницу на обучение, снова появился несносный кузен. А от Вари остались лишь воспоминания да портрет на коробке конфект… Золотое сердце Мила больше не снимала. Ждала возвращения Николая и пыталась заново, как несколько дней назад, радоваться грядущей свадьбе. Мила почти привыкла к видениям, что посещали ее все чаще и становились все более ощутимыми. Гибель господина Чернова не освещали. Никто не знал, кто сотворил с ним такое непотребство. Мила жалела только об одном: не вызнала, кто из его друзей тоже измывался над Варей. Быть может, позже у нее и дойдут руки… В один из дней к ней заглянул Поль. Нервный, какой-то потасканный, он вручил ей папку рисунков и уговорил придержать их у себя. – Это шедевр, Мила! Лучшее, что я нарисовал! Проглатывая слова, Поль стал рассказывать про Москву будущего, которую увидел во сне. И вот воплотил на бумаге, однако хранить при себе не может – опасно. – Поль… – вздохнула Мила, разглядывая чудны́е самоходные сани на льду Москвы-реки, дирижабли в небе и разные машины. – Во что ты опять ввязался? Покраснев, Поль начал оправдываться. Что, мол, немного кое-кому задолжал, обещал расплатиться, да сроки поджимают. Вот и стали его пугать, вломились в квартиру, пока его не было, рисунки испоганили… – Сохрани их, Людочка. Потом заберу. Все будет хорошо. Пообещав это, Поль убежал. Но день уже клонился к вечеру, когда звякнул колокольчик и в кондитерскую влетел знакомый бледный студент. – Аркаша? Что случилось? Сердце Милы сжалось. Кто-то еще зашел в дверь, но она даже не заметила этого. – Людмила Захаровна… – выдохнул друг ее кузена. – С Полем беда! Утащили!.. – Утащили? Кого? Что здесь творится? «Коля!» Рядом со студентом появился нахмуренный Соколовский. Обернувшись к нему, Аркаша стал сбивчиво рассказывать. – Так. Хитровка. Так… – Николай нахмурился сильней, но, поймав Милин обеспокоенный взгляд, улыбнулся. – Не бойся, душа моя. Вытащим твоего брата. – Коля… – Не плачь, это все ерунда. Скоро вернусь. Пойдем, Аркадий! И он ушел, не забыв поцеловать ей руку. И Мила еще успела улыбнуться, не зная, что видит его живым последний раз.* * *
Избитый Поль вырос на пороге кондитерской под утро. Мила, которая так и не ложилась спать, ахнула от вида его синяков – и заморгала, не увидев рядом ни Колю, ни Аркашу. Почему не пришли? – Поль. А где… Заплывшее лицо кузена скривилось: – Людочка. Людочка, прости. Они… Мила ахнула: – В больнице?! – Нет. – Поль зашел и посадил ее, не понимающую, в кресло. – Людочка… Они… мертвы. Кажется, кузен говорил еще что-то. О драке в притоне, о том, как ему помогли сбежать и как он, обернувшись, успел увидеть… Поль говорил много чего, но перед глазами Милы продолжало стоять одно: лицо Коленьки, что из смугло-золотистого и живого становилось лунно-бледным и неживым. Мир катился в ад, и там, где раньше было горячее сердце, осталась дыра глубиной в бездну. – Ты – ничтожество! – скрежетнула Мила и, пошатываясь, встала. Кузен, который последние полчаса молил ее о прощении, умолк на полуфразе. – Ты никогда не добьешься успеха, – добавила она и достала папку с рисунками. Неизбитая половина лица Поля побагровела. – Ты просто жалкий… подлый… мерзкий дилетант… с дурными фантазиями! – прошипела Мила – и стала рвать его рисунки. – Нет!.. Он бросился к ней, пытаясь спасти хоть что-то, но Мила запустила в него сахарницей. А затем и вовсе стала кидать все, что только попадалось ей под руку. – Убирайся! Вон с моих глаз и из моей жизни! Лучше бы ты, ты, ты, ты умер!.. Мила орала и рыдала, круша и разрывая все, что могла. Она не заметила, когда Поль исчез, прихватив несколько спасенных клочков. Ей было уже плевать. Хотелось свернуться в клубок, словно подыхающая кошка, и наконец покинуть этот жестокий мир. Следующие дни слились в один: серый, мрачный… полный колокольного звона. Дядя Николая сумел нанять людей, чтобы те отыскали тело племянника, и сам организовал похороны. Мила больше не плакала: кончились слезы. Оставалось одно-единственное, последнее желание. И для его осуществления не хватало лишь Поля. Поэтому она почти обрадовалась, когда спустя два дня рядом с ней остановилась пролетка. – Людочка! – На нее смотрел Поль, с чьего лица еще не исчезли синяки. – Садись, подвезу. Мила как раз шла к нему, отдать восемь сохранившихся рисунков, и кивнула, принимая приглашение. – Вот, держи. Я тогда… много чего натворила. Прости. Поль моргнул, приняв рисунки. Губы его дрогнули в усмешке. – Да. Премного благодарен. Знаешь, Людочка… Кузен помолчал. Извозчик повернул лошадей совсем в другую сторону, но Мила не заметила этого. – Сегодня я опять проиграл в карты… – медленно произнес Поль. – И на этот раз… – В пальцах его мелькнуло нечто белое. – Я проиграл… тебя. Она не успела отшатнуться. Кузен накинулся на нее и прижал к лицу скверно пахнущую тряпку. Какое-то время Мила трепыхалась, пыталась вырваться, но тщетно. Ее держали слишком крепко. А потом все потемнело.* * *
– Ну что, рыбонька? Ну что, сладкая? Вокруг хохотали и топали ногами. Пахло махоркой, кислыми щами. Мужским по́том и перегаром. – Открывай глазки, лапонька! Покажи нам себя! А мы уж тебя порадуем… Правда ведь, ребятки? – А то! – Так порадуем, что до конца жизни запомнит! Смех. Гудящая голова, тошнота. Барабаны вдалеке?.. – Говорил, что нетронутая. Ни-ни до свадьбы! – Это какой свадьбы? С тем красавчиком? Которого мы на раз-два жмуриком сделали, а? – С ним, с ним, с соколиком! Невпопад стукнуло сердце. Следом дрогнуло золотое. Губы шевельнулись, начиная улыбаться. Неужели? Неужели ее желание сбудется? Мила открыла глаза. Неловко села, с усилием преодолев дурноту. Так и есть. Грязный, полный бандитской шушеры, притон. Мрази, по ошибке именуемые людьми. Те самые, которых так и не поймали. «Спасибо, милый Поль. Ты все-таки помог мне». – Эй, встает! Смотрите-ка! – Ну, кралечка? Что делать будем? Сама разденешься, али как? В улыбке Милы сверкнули оскаленные зубы: – Сама, лапонька. До конца жизни запомнишь. Веселый гогот кругом, потирание грязных рук. Слишком пьяные, чтобы понять, что́ не так. Слишком глупые. И неистовое, горячее золотое сердце, прожигающее кожу. Тропический жар преисподней вокруг. Мила скинула шляпку и туфельки. Стянула платье и нижнюю юбку без всякого стыда. Сбросила лиф с панталонами. Избавилась от чулок, разорвав их ногтями. Вопли с похабными замечаниями стали громче. Вот-вот напряжение достигнет пика. Но, когда Мила осталась в чем мать родила, произошло другое. Голая, с единственным украшением – золотым сердцем, – она лихорадочно задрожала. И те, кто шагнул было к ней, замерли на полушаге, раскрыв щербатые рты. – Что… Белая кожа пошла шоколадными пятнами. Волосы побелели, встав веером орлиных перьев. Нежные руки забугрились мускулами, скрученными жилами, а зубы полезли из десен, обращаясь в каменные лезвия, в острый обсидиан, что уже сменил каждый ноготь на руках и ногах. И Мила прыгнула – с места, без малейших усилий – чтобы влететь в мерзкую толпу. Крики, вой. Первая кровь, окрасившая губы. Сладкая и соленая, как приправленный острым перцем шоколад. Мила захохотала, когда кто-то вонзил ей нож в бедро. Отшвырнула бугая, который замахнулся дубинкой. Сложив пальцы наконечником копья, Мила пробила грудь первого попавшегося бандита и вырвала его еще трепещущее сердце. Она металась в закопченном зале, словно танцуя дикий победный танец, и тени воинов Ягуаров и Орлов плясали вокруг, подбадривая и помогая. Мила пожирала сердца. Мила не обращала внимания на раны. По телу ее текла кровь, смешанная с шоколадом, и каждая смерть отзывалась в ней радостью, исступленным восторгом и гортанными криками с вершин пирамид. Пиктограммы крутились перед глазами, с губ срывались незнакомые слова, стоны умирающих становились все тише… Силы заканчивались. «У тебя еще есть дело». Среди рисунков и пиктограмм вдруг всплыло знакомое бледное личико, и улыбка Милы растянулась до ушей. Да. Еще есть. Окровавленный притон стих.* * *
…По улице шла израненная голая девушка, которую, казалось, никто не замечал. С каждым шагом она шаталась все сильнее, но не переставала улыбаться. Она улыбалась прохожим, что глядели сквозь нее, улыбалась своим мыслям и ласково гладила золотой, как солнце, кулон на испещренной ранами груди. Внутри билось шоколадное сердце. Солнце скрывали тучи, но вскоре оно снова согреет ее ледяную кожу своим светом. «Жди гостей, Поль. Я скоро». Мила шаталась, но продолжала идти. Она должна была сделать все как надо. И она сделает. Она спасет мир и, наконец, отомстит. «Только дождись меня, Поль». Шаг, еще шаг. Багровые следы на брусчатке. Еще чуть-чуть поднажать, ведь… «Солнце хочет твоего сердца». И оно его получит.Оксана Ветловская. Мать-гора
 Склонившись над чертежами, Кайсаров невольно прислушивался к доносившемуся из отворенного окна чужому, непривычному говору.
– …змей к нему, говорили, все летат да летат. Змей, грят, богатство таскат. А он и впрямь богато жил, а как помер – ничо в доме не нашли, одни стены голые…
Было жарко, и вязкая, муторная эта жара казалась сродни редкой петербургской – словно дышишь сквозь горячую мокрую тряпку, и такая же тряпка облепляет все тело. Вообще климат тут напоминал столичный: со своенравной, переменчивой погодой и холодными ветрами, но здешний лесной воздух отчего-то казался Кайсарову тяжелым, будто близость гор каким-то образом передавала воздуху плотность камня. Порой болела голова, тоже как-то непривычно тягостно, начиная с затылка. Инженер Остафьев говорил, что это все из-за постоянных перепадов атмосферного давления. Остафьев, старше Кайсарова на десяток с лишним лет, маялся тут головной болью почти беспрерывно, еще с тех пор, как зимой приехали сюда на изыскания.
– …чо помер? Да рыба каменная ему в рот залетела. Зевал, и залетела. Каменную Девку он чем-то обидел, а кого она занелюбит, тому сделает чо-нибудь. Грят, под Мать-горой не то река, не то озеро, и там рыбы с каменными зубами. Таку рыбу пошлет, и та все потроха выест. После того человек быстро помират…
Говорок принадлежал крестьянке Авдотье, которая каждое утро ходила на рынок мимо дома, что Кайсаров нанял под контору, а после полудня возвращалась, по дороге успевая громко переговорить со всеми встречными, и разговоры ее обычно сводились к диким небылицам про ее родню и соседей. Кайсаров давно утвердился во мнении, что Авдотья была просто-напросто кем-то вроде местной блаженной. При ней постоянно находился мальчик лет шести, тоненький, с большой круглой шелковисто-белой головой, похожий на одуванчик. Очень тихий, мальчишка этот иногда принимался так же тихо, но очень неприятно шалить: подбирал с дороги какой-нибудь мусор или конский навоз и кидал в окна ближайшего дома, особенно в раскрытые. Авдотья тогда давала ему подзатыльников и говорила: «Чо барагозишь?»
Здесь, на Урале, можно было услышать всякий говор: то акающий среднерусский, то вдруг хохляцкий – здесь сначала беглые селились, а позже сюда стали привозить со всей России крестьян, проигранных помещиками уральским заводчикам. Но больше всего уже было своего, сложившегося, самобытного: очень быстрая, монотонная, неживая какая-то речь, с проглатыванием целых слогов и невыносимым «чоканьем». Местные говорили так, будто кашу во рту языком гоняли. Кайсарова это раздражало.
Впрочем, в последнее время его раздражало все, куда ни глянь. С тоннелем дела шли совсем плохо. При изыскании, когда в любую погоду инженеры поднимались на окрестные склоны, Кайсаров разработал такой вариант, при котором строительство тоннеля сокращало железную дорогу аж на десять верст и давало экономию в миллион рублей. Своим вариантом Кайсаров гордился и долго его пробивал. Начальник железной дороги никак не желал принимать новый проект, стоял на том, что строительство пути в обход самого непреодолимого участка гор не только разумнее, но и безопаснее, однако истинная причина была в другом: чем дороже казне выходило строительство, тем больше можно было растащить казенных денег. Вообще, нажива да стяжательство при постройке всегда шли далеко впереди государственных интересов, и не принимавший подобных порядков Кайсаров, даром что ему только тридцать лет исполнилось, уже успел нажить себе в Управлении железной дороги множество врагов. Однако находились у него и защитники. В конце концов, под его началом железная дорога строилась быстро и действительно выходила куда дешевле обычного, да еще славился Кайсаров среди инженеров тем, что умел провести железнодорожную ветку по самым, казалось бы, непроходимым местам.
При изысканиях картина выглядела вполне обнадеживающей: геологи предупреждали, что весь горный хребет в окрестностях испещрен глубокими трещинами, но одна гора, Мать-гора, как ее называли местные жители, представлялась геологам состоящей из породы относительно однородной и потому пригодной для безопасного строительства. Однако на деле все оказалось по-иному.
– …а ишшо другой мой сосед все жену бил да к вдове напротив хаживал, так жена Каменной Девке пожалобилась, и стал у мужа его нечестивый уд каменным, а вскоре помер он… – струился с улицы монотонный говорок крестьянки.
Когда ж она умолкнет-то, поморщился Кайсаров. Окно, что ли, закрыть. Но духотища была нестерпимая, да накурено – не продохнуть. Троих инженеров, своих подчиненных, Кайсаров отпустил обедать, а сам все сидел над планами и профилями, ерошил волосы. Вот кому тут «уд каменный» будет вместо дальнейшей службы, так это ему, Кайсарову, если ветку все же придется вести южнее и получится перерасход. И надо же было такому случиться, когда тоннель почти пробит. Да, с самого начала работа шла негладко: внутренности горы оказались непредсказуемы – то на подземную реку рабочие наткнутся, то обвал случится. Воду отвели – устроили дренажную галерею, проходку после обвала повторили, установили дополнительную крепь. Каждый раз при авариях гибли рабочие, но вот людей-то, в отличие от денег, Кайсаров не считал. Люди – самый непрочный материал. Самый легко заменяемый.
Тоннель пробивали с двух сторон, и когда уже почти насквозь прошли, то часть стены, казавшейся надежной, монолитной, обрушилась, и за ней открылся большой разлом, такой глубокий, что даже нельзя было сказать, как далеко он уходит в недра. Пока приняли решение наблюдать – если разлом не будет увеличиваться, то заделать его цементом и продолжить работы, а если трещина начнет расширяться, то убирать породу, пока состояние разлома не станет стабильным. Однако чутье подсказывало Кайсарову, что в проклятый этот разлом может рухнуть преизрядный участок тоннеля и пускать там поезда опасно. И как ни поверни теперь, что прокладка нового тоннеля, что постройка железной дороги в обход – все грозило задержкой, перерасходом казны и немилостью начальства.
– Каменная Девка – она в горе живет? – Кайсаров узнал живой, любопытствующий голос Елецкого, самого молодого своего инженера, недавно закончившего учебу. Елецкий, по его собственному признанию, «баловался литературкой» и, приехав в это богом забытое уральское село у подножия горы, с азартом принялся собирать здешние предания, легенды и былички.
– А то, – охотно ответила Авдотья. – Каменна Девка – дочь, а гора – ейная мать.
Тут в стекло распахнутой створки что-то звонко стукнуло, и по столу, по разложенным бумагам покатилось что-то небольшое, круглое – сухое конское яблоко?
Кайсаров в бешенстве шагнул к окну, перегнулся через подоконник.
– Пошла вон отсюда! – крикнул он Авдотье. – И щенка своего забери, и чтобы к этому дому близко не подходила, не то прикажу плетьми гнать!
Белобрысый мальчик опустил поднятую было в замахе руку и спрятался за материн подол. Авдотья всмотрелась в Кайсарова белесыми своими глазами – бледные радужки и белые брови в сочетании с грубым, лошадиным лицом делали ее похожей на старуху – и сказала:
– Ох, тяжко тебе, барин: сердце у тебя каменное.
– Пошла!..
– Зачем вы так, Георгий Иванович? – осторожно спросил Елецкий, когда крестьянка удалилась. – Живая энциклопедия народного творчества, между прочим.
– Вы зачем сюда приехали? Ради работы или ради народного творчества? – сухо выговорил ему Кайсаров. – Займитесь делом.
Елецкий пошел в дом. Подчиненные весьма уважали Кайсарова, но не сказать чтобы любили. Рабочие же его вовсе боялись – если пройдет по готовому участку дороги и заметит что-нибудь неладное, кары воспоследуют самые суровые, начиная со штрафов. Высокий, худой, с копной темных волос и орлиным носом, Кайсаров выглядел неприступным и мрачным; при разговоре имел привычку слегка поворачивать голову из стороны в сторону, пристально глядя на собеседника поверх мелких очков; и оттого не раз коллеги отмечали – было в нем что-то от ворона, который высматривает, как бы в глаз клюнуть.
Имелась у него еще одна примечательная особенность: хоть и молод, и недурен собой, не был он женат и чурался общества женщин. Однажды он случайно подслушал, как Жеребьёв тихо спросил у Елецкого (оба молодых инженера были из одного города и приятельствовали), не из этих ли Кайсаров. Из кого, не уточнил, но было ясно, что говорил он о грехе, порицаемом людьми и караемом государством. Тут Кайсаров зашел в комнату, и Жеребьёв мигом стушевался под его тяжелым взглядом.
Собственно, Кайсарова не интересовало ничего, кроме работы. Покрыть сетью железных дорог всю страну. Чтобы поезда неслись от Петербурга до Владивостока. Чтобы дикие, непроходимые, нескончаемые просторы прирученными, укрощенными верстами ложились под ноги, пронзенные надежной железной колеей, которая сокращает время пути, приближает великолепие технически оснащенного будущего. А женщины – что женщины… Расходный материал природы для строительства последующих человеческих поколений. Не более того.
Тут в комнату вошел как раз Жеребьёв – еще прежде, чем отворилась дверь, Кайсаров узнал его по надсадному кашлю. Зимой на изысканиях Жеребьёв сильно простудился, с тех пор так и кашлял – все глуше, все утробнее, с хрипами глотая воздух во время приступов. Остафьев на правах старшего не раз обращал внимание Кайсарова на это обстоятельство: «Сгорит ведь, дайте вы ему отпуск, Георгий Иванович», – но Кайсаров напоминал, что вместо обещанных восьми человек Управление направило ему лишь трех и отпуск всем будет только тогда, когда закончат работы.
Между тем выглядел Жеребьёв уже совсем измученным и нездоровым. Вместе с молодым инженером в комнату вошел бровастый насупленный Гуров – начальник работ, а следом один из десятников – коротконогий мордатый малый с очень хитрым прищуром, из тех, что записывают за рабочими каждый прогул, а сами подворовывают по мелочи, – на такое даже Кайсаров закрывал глаза, потому что иначе пришлось бы разогнать вообще всех.
– Георгий Иванович, у нас тут еще одна беда приключилась, – обреченно сообщил Жеребьёв и посмотрел на начальника работ.
– Беда не беда, а дичь какая-то. – Гуров развел тяжелыми ручищами. – Ну, Семен, ты не тяни, говори сам. – Это было сказано десятнику. Тот, аж приседая от подобострастия перед начальством, зачастил:
– Ваш-благородие, вот как на духу, сам слыхал! В разломе девка поет. Тоненький такой голосок. Старатели говорят – где в горе девка поет, там самоцветы лежат или золото. Это у нас все знают…
– И что дальше?! – свирепо спросил Кайсаров. – Какой еще голосок в разломе, вы что там, очумели все, да еще чтобы мне такое рассказывать?!
– Ну, один из мужиков наших и полез проверить, прям в провал, – пояснил десятник, попятившись. – А дальше я и рассказать не умею, ваш-благородие. Это видеть надобно. Из провала он вылез еще живой, но говорить уже не мог, а потом…
– К доктору его понесли, только донесли уже мертвым, – закончил Гуров. – В мертвецкой лежит. Вам, верно, лучше глянуть. Всякое у нас на проходке случалось, а такого еще не видал.
– Прямо сейчас пойдем! – резко сказал Кайсаров. Все равно работа не спорилась, а тут хоть пройтись, развеяться да посмотреть, в самом деле, что там у рабочих такое стряслось. Если бы кто в этот провал проклятый упал и голову бы себе насмерть разбил – ради такого сообщения к самому́ главному инженеру не пошли бы. Значит, и впрямь нечто из ряда вон.
Уже выходя из комнаты, Кайсаров вспомнил: надо бы убрать ту дрянь, что ему крестьянский мальчишка в окно кинул. Наклонился под стол – кругляш лежал там. Не конское яблоко, а округлый камешек с какими-то блестками. На миг Кайсарову почудилось, будто блестящие вкрапления – золотые крупицы. Поднял, хмыкнул: «Золото дураков!» В камешке были крохотные кубические кристаллы пирита.
На улице жара навалилась разом, так, что через пару шагов взмокли виски. Небо выгорело добела, и обычно темная громада горы тоже словно поблекла. Заросшая густым сосняком Мать-гора была видна отовсюду, село приткнулось как раз под ее тучным хвойным боком. На первый взгляд Уральские горы вовсе не казались грозными. Сизо-зеленые, совсем вдали млечно-голубоватые, они плавными волнами уходили к горизонту, вкрадчиво касались неба опушенными лесом вершинами – никакого сравнения с хищными гигантскими зубцами Альп, на которые Кайсаров насмотрелся в годы учебы. Впрочем, месяцы изысканий и работ показали, что первое впечатление было обманчивым, горы могли показать крутой нрав, особенно для строителя: выветренные породы, трещины, провалы…
Земская больница была совсем недалеко, через несколько домов, – такой же серый бревенчатый сруб, как прочие избы по соседству. Сам Кайсаров, отличавшийся завидным здоровьем, не заходил сюда еще ни разу, зато слышал от маявшегося кашлем Жеребьёва, что больничка одна на сорок верст окрест, всего один врач и дочь его, фельдшерица, и десяток коек, которых, конечно, всегда не хватает. Врач, еще нестарый, но сутулый и плешивый, встретил их и сразу, без предисловий, повел в мертвецкую, что стояла на задах, – глубоко утопленный в землю сарай с погребом. По дороге договаривал о чем-то со своей дочерью, крупной высокой девицей с простонародным открытым лицом, та отвечала:
– …Потому как дурень он, и губа у него отвислая, а в голове только мухи гудят.
– Твоя мать тоже не семи пядей во лбу, – урезонивал ее отец, – а взял в жены, чтобы одному не остаться.
Фельдшерица посторонилась, пропуская мужчин вперед, и в ее взгляде, случайно и равнодушно пойманном Кайсаровым, читалась вся усталость от этого тоскливого места, мелкотравчатого народа, собственной судьбы; девицу поначалу очень интересовали приезжие специалисты, но все, кроме Кайсарова, уже были женаты.
Именно мухи жирно гудели в погребе, где было прохладнее, чем на улице, но все же недостаточно холодно для того, чтобы приостановить разложение. Запах стоял ужасающий. Покойников было трое: высохший старик, какая-то баба и рабочий. Врач сдернул с лица последнего грубую холстину. Мухи от размашистого движения взбесились, замельтешили перед лицом, полезли в уши и за шиворот.
Кайсаров невольно стиснул в ком прижатый к лицу платок. Он ожидал увидеть что угодно – размозженное камнями лицо, пробитую черепную кость, но чтобы такое…
Разверстый рот покойника напоминал диковинный хрустальный цветок. Длинные крупные кристаллы, вроде кварца, росли под разными углами прямо изо рта, кристаллы поменьше блестящей сыпью усеяли губы. Неведомые образования были не прозрачными, а мутно-розовыми и багровыми, словно вобрали в себя кровь и прочие соки тела. То же творилось с глазами мертвеца: между вывернутых век торчали кварцевые друзы.
Жеребьёв мучительно закашлялся, затем со звуком тщетно подавляемой рвоты схватился за горло и выскочил из погреба. Кайсаров заставил себя спокойно смотреть.
– Я не знаю, что это, – как можно ровнее сказал он наконец. – Я о таком не читал и не слышал.
– Возможно, под горой в разломы выходят подземные газы, – начал медик, – и при их попадании на слизистые оболочки происходит неизвестный науке процесс…
– А не заразна ли эта хворь? – прервал его Кайсаров.
– Если это и болезнь, то она не передается от человека к человеку. Иначе бы тут уже все село вымерло. Прежде мне доводилось видеть подобное. Несколько лет тому назад привозили ко мне старателей с той стороны горы. У всех кристаллизировались ткани предплечий. Руки пришлось ампутировать. Один, правда, не дождался операции, сбежал через окно, не знаю, что с ним сталось. Ведь до сих пор среди народа ходят дремучие небылицы про докторов. Вот, пожалуйста, – врач указал на накрытую холстиной бабу, – если бы привезли ее раньше, так выжила бы и она, и младенец. Нет, двое суток ждали, а когда надумали на третьи привезти, она уж кровью истекла. Спрашиваю родню: ну отчего же так-то?! А те отвечают – да всем известно, что в лечебницах людей, видите ли, нарочно морят и потом делают из человечьего сала мази, а из костей порошки. Дикость, милостивый государь, дикость прямо-таки доисторическая!
Кайсаров мельком глянул на тело в окровавленной рубахе под приподнятой врачом тряпкой и поскорее отвел взгляд. Ведь тут холод его продрал даже больший, чем при взгляде на рабочего, погубленного неведомой подгорной хворью, – нутряной холод, склизкий, брезгливый ужас.
Окровавленный подол. Стоны, крики. «Вот, гляди, гляди, что с нами мужчины творят!..»
– Слыхал еще такую историю, не знаю, правда или нет, – продолжал доктор, – давно случилось, еще при крепостничестве. Была у одного горнозаводчика жена, самая лютая помещица в округе, крестьянских детей в прорубь кидала ради потехи. Так местные сказывают, родила она в страшных муках каменную глыбу вместо младенца и вскоре скончалась. Народное предание, разумеется. Но кто знает, может, как-то связано…
Кайсаров мотнул головой, не желая слушать далее.
На плоском камне возле входа в покойницкую сидела на солнцепеке ящерица с нарядным медным узором вдоль гибкой спины. Посмотрела Кайсарову прямо в душу крохотными, но необыкновенно разумными глазами. Сельчане звали этих тварей ласково, ящерками, и старались не обижать. По рассказам Елецкого, охотно делившегося своими фольклорными находками, ящерицы в местных преданиях были как-то связаны с духами окрестных гор, были вроде свиты или сестер Каменной Девки. Сознание местных жителей и впрямь изобиловало первобытными образами. Здесь строили церкви, но верили в огромного змея, живущего в озере, и в еще более огромного лося, поднимающего из-за гор на своих рогах солнце, и в Девку, которую боялись, но и любили, которую старатели почитали больше Богородицы…
Тень Кайсарова упала на камень, и ящерица юркнула в выжженную июльским зноем траву.
– Разлом заделать скорее, – сказал он вышедшему следом Гурову.
– Так вся кладка туда рухнет, – ответил тот. – Разлом со вчерашнего еще расширился, черти бы его побрали.
– Что ж, пойдем смотреть… – сквозь зубы процедил Кайсаров. В сущности, было уже ясно, что тоннелю настал конец, а Кайсарову грозят серьезные неприятности в Управлении: все его недоброжелатели разом всколыхнутся и загудят, как те мухи в мертвецкой.
Жерло тоннеля темнело за окраинными домами, выше по косогору, на который взбирались чахлые огороды. К тоннелю вела уже готовая мощная насыпь – клади рельсы да мчи на ту сторону Уральского хребта… Какую же невыразимую душную злобу испытывал сейчас Кайсаров, глядя на гранитные обрывы и дремучие хвойные склоны треклятой горы! От крутого подъема наверх по жаре в голове, чудилось, бил алый бубен в такт ударам сердца.
Под сводами тоннеля стало легче, изнутри горы шла сухая каменная прохлада, сейчас очень освежающая. Света снаружи хватало, чтобы увидеть пролом в стене, напоминающий разомкнутый огромный рот, только расположенный не по горизонтали, а по вертикали. Возле разлома отчего-то толпились рабочие, все местные мужики – Кайсарову мельком подумалось, что они-то, должно быть, смыслят в происходящем куда больше него или Гурова. Расспросить бы их. Короткое эхо вдруг подхватило среди мужских голосов детский. Дети и бабы часто работали при расчистке участков под железнодорожное полотно, но в копатели обычно брали мужчин – труд был не только каторжно тяжелым, но и опасным: деревянный щит над головами рабочих не всегда спасал от завалов.
Обходя бревна-крепи, Кайсаров приблизился к группе рабочих.
– Не троньте! – кричал мальчик. – Мне тетя внизу золото дала! Сказала, проклянет всякого, кто отберет силой! Купцу золото продам. Моему тятьке ноги отняли, я один работник в семье…
– Что здесь происходит? – громко спросил Кайсаров.
Мужики расступились, открывая взорам пришедших всклокоченного мальчика лет десяти, что-то прижимающего к груди.
– Мальцу золотой слиток дала.
– А Петьке давеча рот камнем забила.
– Ну дык ее воля, сама решат, кого озолотит…
– Кто ей по нраву, того и одарит. А кто не по нраву, того в камень обратит.
– Разойтись! – приказал Кайсаров, вдвойне озлившись от всей этой чертовщины. К его металлическому голосу прибавился гулкий, как из бочки, бас Гурова, рявкнувшего:
– А ну, все на выход!
Мужики отошли, мальчишка во весь дух припустил прочь.
– Видать, там, внизу, золотая жила, – озвучил Гуров уже очевидное.
Кайсаров подошел ближе к разлому, невольно вглядываясь во тьму таинственных недр. Удивительное дело – темнота в проломе отнюдь не была кромешной, откуда-то снизу шел сумеречный свет. Впрочем, ничего сверхъестественного: среди скальных массивов встречаются ничем не заполненные щели, в практике Кайсарова уже случалось такое, что по щели разлома можно было пройти на сорок с лишком саженей в сторону от тоннеля и выйти к горной речке в открытой глубокой расщелине.
Открытие богатого месторождения спасло бы дело, раздумывал Кайсаров, всматриваясь в серое свечение. Был бы повод с честью выйти из поганой ситуации и проложить тоннель в другом месте или вовсе пустить дорогу в обход. Вот толькочто за считаные часы превращает глаза и язык человека в алые кристаллы?
– Мальчишка-то чистый, – сказал рядом Жеребьёв. После подъема к тоннелю он был очень бледен и непрестанно откашливал мокроту.
– Да мы его толком и не рассмотрели, – ответил Кайсаров, отстраняясь от разлома: еще неведомо, что тут может вынести сквозняком, какой там воздух внизу – вполне может статься, и впрямь гиблый, отравленный.
Опустилась тишина, лишь чуть нарушаемая шелестом эха от шагов рабочих, уже вышедших из арки тоннеля. И вот в этой монолитной тиши Кайсаров вдруг расслышал пение. Далекий голос, мелодичный, девичий, выводил народную мелодию, вроде грустную, а вроде и радостную. Слов было не разобрать.
– Во, слышите, ваш-благородие: поет! – прошептал десятник.
– Значит, разлом в ущелье выходит, туда местные девки забредают, они и поют, – заключил Кайсаров. Шагнул обратно к провалу, вновь вгляделся, хоть и понимал, что ничего не увидит.
– Так нет в Мать-горе ущелий… – добавил десятник.
Пение прекратилось. Кайсаров подождал еще немного, пожал плечами и уже хотел было отойти, как что-то зашевелилось в глубине трещины. Перед пятном смутного света возникла темная человеческая фигура, она резво полезла наверх, цепляясь за камни, и что-то в ней было диковинное, настораживающее: то ли очень быстрые движения странно вывернутых рук и ног, то ли волнообразные извивы слишком гибкого туловища – а может, померещилось, далеко было, глубоко, сумрачно, не разобрать толком.
– Туда еще кто-то забрался, – сказал Кайсаров, и тут в проеме прямо перед ним вынырнула девка. Обычная деревенская девка, чумазая, с длиннющей иссиня-лоснящейся черной косой, в бесформенном сарафане, босоногая. Кайсаров, отшатнувшись просто от неожиданности, как-то сразу охватил взглядом ее небольшую ладную фигурку и выдохнул: надо же, ведь напугала, мерзавка!
А девка пристально, свободно, нагло уставилась ему в глаза – крестьяне так не смотрят.
– О, какой барин! – воскликнула весело. – Взгляд ястребиный, нрав стальной, сердце каменное. А душа – кутенок шуганый. Копай, копай свою нору для зверей железных, не тронем. А хочешь, камушков подарю? – И ткнула под нос остолбеневшему от такого нахальства Кайсарову грязную ладонь с кучкой каких-то шершаво-зеленых камней. Прямо перед собой Кайсаров увидел смуглое тонкое запястье – кожа сплошь была испещрена мелкими зеленоватыми кристалликами, расположенными не хаотично, как на давешнем мертвеце, а даже каким-то узором, вроде чешуи. И вокруг бесстыжих зеленых глаз девки, от самых ресниц, тоже расходилась по коже россыпь мелких кристаллов.
Девка была больна. Той самой подгорной хворью – или что такое эта омерзительная чертовщина, вдруг все же заразная?.. От этой мысли Кайсарова прямо-таки перетряхнуло в приступе тошной брезгливости. А ну как еще заразится он от этой дуры?! В придачу ему настойчиво почудился вызванный неугомонной памятью характерный запах нездорового женского тела, знакомый с детства, с неизбывным металлическим кровавым привкусом – хотя ничем кругом не пахло, кроме каменной пыли… Чернавка же все совала ему камни и вдруг – какая гадость! – дотронулась до его руки своей чумазой лапкой, шершавой от кристаллической сыпи.
– Пошла вон!
Из-за страха, отвращения, ярости Кайсаров оттолкнул ее сильнее, чем следовало. Так сильно, что девка повалилась назад, рассыпав свои камешки, – и тюкнулась головой об острый каменный выступ стены. И в тот миг, когда Кайсаров, как во сне, уже вполне понял, что наделал, но еще не до конца поверил в происходящее – и когда еще сумел бы удержать девку на краю провала, если бы не побрезговал схватить, – та пошатнулась раз, другой, взмахнула руками и полетела спиной в расщелину. Слышно было, как пару раз ударилось о камни тонкое легкое тело. И – тишина.
Господи, в каком-то бредовом отупении подумал Кайсаров, да я ж только что человека убил.
Было пока не страшно, нет, а еще более тошно, нестерпимо, до выворачивания нутра. Кайсаров как заведенный вытирал и вытирал руку платком, сглатывая и дико глядя в безмолвный провал.
– Что же вы наделали… – выдохнул рядом Жеребьёв.
– Дурак ты, ваш-благородие! – припечатал десятник. – Ох дурак, м-мать твою через тульский самовар! Ты ж ей понравился. Одарить тебя хотела! Дур-рачина…
– Кому – ей? – прошептал Кайсаров.
– Девке Каменной.
Десятник вдруг всплеснул руками и кинулся подбирать оброненные чернавкой камешки, тем же занялся Гуров.
– Как наиграетесь с этими цацками – провал закрыть наглухо, чем угодно, для начала хотя бы досками, чтобы никто больше туда не лез! – приказал им Кайсаров. – Завтра проверю!
И пошел из тоннеля, не чуя под собой ног, не понимая, что с ним происходит. Ну, свалилась в яму девка. Да сколько народу на стройке гибнет – никогда он не считал, не вникал. Какое ему дело? В самом-то деле – какое?..
Вечернее солнце плеснуло в глаза кровавым золотом от дальних лесов. Воздух еще был горяч, но уже поднималась от мелких болотцев у горы, по ту сторону насыпи, прохлада, мешаясь со смоляным духом нагретых сосновых стволов. И так же стыл, густел едкими смолистыми каплями на душе страх. Человека убил. Женщину. Да и черт с ней, рассердился на себя Кайсаров, довольно уже!
– Георгий Иванович… – догнал его покашливающий Жеребьёв.
– О том, что видел, молчи, – велел ему Кайсаров. – Еще нам пересудов не хватало. Девка сама в провал свалилась. Да и не моя вина, что она ко мне полезла.
Подъятая внезапным порывом ветра с насыпи, зернисто заскрипела на зубах пыль, словно тысячи мелких кристаллов. Против воли Кайсаров то и дело оглядывался, будто кто-то мог погнаться за ним, и впервые ему пришло в голову, что жерло тоннеля похоже на разверстую женскую утробу, и снова сделалось непереносимо тошно.
Возвращаясь в контору, он заметил старика, сидевшего на завалинке избы по соседству. Собственно, старик всегда там сидел, будто не человек, а чучело набитое, но Кайсаров только теперь обратил на него внимание, и то лишь потому, что по всему кругом метался его беспокойный взгляд. В душе свербело, и так хотелось отвлечься, хоть на что, хоть на полосатого кота, вышедшего в сиреневый сумрак палисадника, хоть на старика этого… Старик встретил взгляд Кайсарова, цыкнул зубом, и вдруг Кайсаров понял, что это не старик, а совершенно седой молодой мужчина, и пятна на его лице – не старческие, а бугристая, угловатая, словно каменная, сыпь. Мужчина поправил накинутый на плечи армяк, и Кайсарову бросилось в глаза что-то неладное с его правой рукой – будто не человеческая конечность, а двупалая толстая клешня в наростах. Будто грубая каменная заготовка. Мужчина осторожно подтянул к себе тяжелую, окаменелую руку и снова цыкнул.
Кайсаров не стал дальше приглядываться – померещилось? – и направился к крыльцу конторы.
Обычно работали допоздна – надо же было решать, что делать с треклятым тоннелем, – но сегодня Кайсаров был молчалив, рассеян, ловил тревожные взгляды исправно помалкивающего Жеребьёва и в конце концов отпустил всех раньше обычного, ссылаясь на головную боль от духоты.
– Да, тяжелая погода, – согласился Остафьев. – Гроза идет, – добавил прислушиваясь. Где-то далеко и впрямь загудел гром. – Что-то вы плохо выглядите, голубчик, – обратился он к Кайсарову. – Слышал я уже про подгорную хворь, смотрите, не тяните, если что – к врачу.
Кайсаров мельком посмотрел на свои руки, как бы невзначай провел ладонью по лицу – кристаллы эти… они же должны как-то ощущаться? Ладонь утерла холодный, несмотря на жару, пот.
Спал он этой ночью прескверно. Барахтался в мокрых от пота простынях, тонул в духоте комнаты, где воздух из открытого окна не давал облегчения, лишь доносил отзвуки грозы с горизонта. И снились Кайсарову вовсе не кристаллы, прорастающие сквозь человеческую плоть, – нет, мучили его давние, с детства, кошмары.
Вот его отец, мелкий самарский помещик: игрок, пьяница, дебошир. Вот мать, сирота, бесприданница. Моложе мужа лет на пятнадцать, она тосковала по лучшей участи, в отчаянии прятала деньги, прятала водку, и однажды муж крепко ее, беременную, за это избил. Кайсарову тогда было шесть лет – тихий впечатлительный мальчик, темные волосы пышной шапкой, темные грустные глаза. Он обожал красавицу-мать и не любил вечно воняющего кислятиной отца. А тот замахивается на мать раз, другой, таскает за волосы, швыряет об угол комода. Мать падает на колени, охает, не может подняться, и под ней ширится алая лужа, пятная светлый подол летнего платья. Кайсаров рядом, ошарашенно смотрит, его так никто и не увел, даже когда пришел доктор, просто всем было не до него, может, просто не заметили ребенка, стоящего за дверью. Столько крови, и ужасный багровый шматок, будто выпавшая внутренность, – недоношенный мертвый младенец. Мать после того едва оправилась, и не до конца – всякая беременность для нее теперь заканчивалась выкидышем, и всякий раз Кайсаров становился тому свидетелем. У матери в придачу сделалось что-то с головой, всех мужчин на свете она считала повинными в своих бедах, даже любимого сына. «Вот, гляди, что с нами мужчины-то творят!» И мать совала ему под нос окровавленную тряпку. Каждый выкидыш она переживала тяжело, каждый раз Кайсаров обмирал от ужаса, что мать может вовсе не подняться, так и умрет, истекая кровью из тех загадочных, пугающих женских недр, откуда на землю приходят все люди. Кайсаров ненавидел отца, который по-прежнему регулярно захаживал к матери в спальню, и ненавидел себя за то, что ничего не мог со всем этим поделать. Страх точил и точил его, как вода камень, и в отрочество он вышел с нерушимым убеждением, что мужское прикосновение непременно несет женщине боль и, возможно, смерть – к тому времени как раз умерла первыми родами его девятнадцатилетняя старшая сестра. Женщина и сама, по натуре своей, – боль и неразрывно связанная с жизнью смерть, расходный материал природы.
К такому нельзя было прикасаться. Такое нельзя было желать.
Кайсаров, очнувшись от рваного, расползающегося, как ветошь, сна, смотрел в темный потолок, терзая простыню, – все-таки принес смерть, одним лишь прикосновением, подумать только, как ни избегал женщин, а все-таки женщину убил, – и вновь погружался в неспокойное забытье.
И снилась ему теперь не стонущая мать в окровавленном платье, а юная дева. Незнакомая и в то же время где-то уже виденная. Ее иссиня-черные волосы ливнем струились по тонким обнаженным плечам, по ударявшей по глазам наготе бедер – до самой земли. Дева была прекрасна – острой, как алмазная грань, красотой: хрупкие ключицы под смуглой кожей, тяжелая округлая грудь, острые сосцы, черный омут волосяного треугольника внизу живота. Ее взор с пониманием и насмешкой встретился с алчущим взглядом Кайсарова, но зеленые глаза оставались жестокими, холодными: не радужки – граненые самоцветы. Кожа ее сплошь была в мелких зеленых кристаллах, легших затейливым узором, вроде чешуи, но так и манила прикоснуться – ощутить разом и стылость камня, и жар налитой плоти в ладонях.
Кайсаров проснулся в таком исступлении сладострастия, будто его мужское естество и впрямь обратилось в камень.
Между тем в дверь дома стучали, сонный слуга пошел отпирать; скоро забарабанили в дверь спальни.
– Георгий Иванович, откройте, беда великая! Георгий Иванович!..
Кайсаров в полнейшем одурении сидел на краю разворошенной постели. За окном занималось раннее утро, и первые лучи солнца, проникнув в комнату, уже давили жаром, словно вместе с солнцем в небо поднималась вся преисподняя.
Кое-как он поднялся, чувствуя себя пьяным, разбитым, никчемным, грешным. Начал одеваться, не попадая в рукава и штанины. За дверью, кажется, были все – и Остафьев, и молодые инженеры, и Гуров, и кто-то еще, множество искаженных ужасом лиц, и все от Кайсарова немедленно чего-то хотели, тогда как он сам желал лишь одного: чтобы все происходящее было сном, а еще лучше – чтобы сегодня он вообще не проснулся.
– Что же делать будем, Георгий Иванович? В Петербург телеграфировать – так не поверят!
Пошатываясь, Кайсаров вышел, ошалело щурясь на солнце. По всему селу стояла ужасающая тишина, тяжелая, как гранитное надгробие, даже петухи не пели. Ноги сами понесли Кайсарова по пустынным улицам на окраину села, к тоннелю – впрочем, именно туда, как ему объяснили, и следовало идти. Еще на подходе к арке тоннеля, взбираясь по насыпи, Кайсаров услышал словно бы многоголосый стон. Перед глазами плыли хлесткие изумрудно-зеленые солнечные пятна, и поэтому не сразу он сумел понять, что же видит перед собой в полутьме.
В тоннеле собрались рабочие, везшие на тачках камень для заделки провала. Но они никуда не двигались, будто приросли к месту – хотя нет, не будто, а буквально приросли, став единым целым с каменным массивом под их ногами. Тела их еще не совсем окаменели – серые гранитные жилы проросли вдоль рук, шеи, бугрились на щеках. Люди уже не могли двигаться, не могли толком открыть рот, но еще дышали, еще не потеряли физической способности издавать ужасающий немой стон.
– Боже правый… – прошелестел Кайсаров. – Это только здесь так? Или по всему селу?..
– Пока только здесь, – ответил Гуров. – Предлагаю взорвать тоннель. Динамита достаточно. Породы наверху тоже – завалит все намертво, и то, что засело там, внизу, уже не выберется наружу.
Взорвать тоннель. Пусть каменные глыбы не только закроют опаснейший провал, но и похоронят всю эту трижды проклятую затею. Такая мысль и Кайсарову первой пришла в голову.
– Но… взорвать вместе с людьми?.. – В воображении Кайсарова в воздух взлетели обломки камней, вросших в ошметки окровавленной плоти.
– Да с каких пор вы стали печься о людях? Им все равно уже ничем не помочь. А телеграфировать обо всем этом начальству – сами понимаете…
– Верно, – мертвым тоном сказал Кайсаров. – Готовьте динамит.
Спотыкаясь на камнях, как слепой, он, не слушая более никого, побрел вниз от тоннеля по насыпи. Ноги все задевали за что-то, несколько раз Кайсаров чуть не полетел вперед под откос, прежде чем наконец заметил: пробивавшаяся из насыпи молодая трава местами была живой, а местами – торчала жесткими окаменелыми иглами.
– Что же я наделал… – пробормотал он, бессмысленно озираясь.
У подножия насыпи лежал человек – вернее, то, что еще недавно было человеком: грубая каменная статуя, скорее, просто груда гранита в форме человеческого тела, в разодранной одежде; лишь простертая рука еще шевелилась, судорожно скребла пальцами каменное крошево, и на костяшках виднелись гранитные наросты, подобные чудовищной опухоли. Рабочий попытался убежать, но неведомая хворь… нет, злое проклятие настигло его и здесь. Кайсаров не мог отвести взгляда. Сколько он повидал на стройках изувеченных тел и всегда равнодушно проходил мимо. Однако именно теперь он глядел с острейшим ужасом – казалось, за грудиной враз содрали окаменевшую корку, обнажая уязвимое, кровоточащее, то, что он с отрочества так тщательно прятал от самого себя.
Прямо впереди на белой от пыли, выутюженной солнцем дороге маячила светлая фигура. Не зная зачем, Кайсаров подошел ближе. Это была крестьянка Авдотья, в обычном своем выгоревшем до белизны тряпье, в белом платке, она придерживала за плечо белоголового своего мальчишку, как всегда шалившего – пинавшего на дороге мелкие камешки, отчего вздымалась тонкая, как мука, пыль.
– Ох рассерчала она из-за тебя, барин, – сказала Авдотья. – Ты глянь, чо кругом творисся!
Женщина повела рукой, и Кайсаров огляделся: придорожные кусты, трава, запыленные головы клевера и тысячелистника – все обращалось в камень, в безупречно выточенное, тончайшее каменное кружево, изображавшее листья и цветы, – ни одному скульптору не по силам было бы создать подобное.
– Она к тебе с добром, а ты ее обидел. Замучит она тебя, ежели прощения не попросишь. Для каждого она кару сыщет, всех насквозь видит. Своей смерти ты не боисся, так она все кругом тебя терзать будет, это тебе во сто крат страшнее. Не ждал такого? Тяжко жить с каменным сердцем, а с живым ох как больно, верно, барин?
– Ты-то откуда все это знаешь? – глухо спросил Кайсаров.
– От ейной матери знаю, – указала Авдотья на исполинский лесистый горб горы. – Мужики у Девки золото просят, а бабе-то к чему золото – бабе дите нужно. Бог мне не давал детей, так я у горы пошла попросила, гора мне сказала, из какого родника попить, и вот, родила я мальчонку. Иди прощения проси. Не Девка, так мать ейная пожалеет.
– Боже правый, дичь какая… – Кайсаров схватился за голову, которую немилосердно пекло солнце, аж в ушах звенело. На дорогу перед ним упала птица. Мелкая пичуга, малиновка – одно крыло у нее еще билось о землю, а другое, окаменелое, лежало в пыли. Топорщили каменные иглы сосны у дороги, стояла брошенная телега у поворота, еще силилась подняться лошадь с превратившимся в камень крупом, человек уже лежал недвижим.
Все так же сжимая виски, Кайсаров помотал головой, повернулся и пошел обратно к тоннелю. Туда уже тащили ящики с динамитом.
– Стойте! – хрипло выкрикнул он. – Назад! Ничего здесь не трогать, пока я не вернусь!
«Если вообще вернусь», – закончил он про себя.
– Да вы с ума сошли! – Гуров схватил его за плечо, попытался задержать, Кайсаров вывернулся. – Погибнете зазря! Завалить все к черту, и дело с концом!
Кайсаров уставился ему в глаза своеобычным тяжелым взглядом, и даже теперь начальник работ, очевидно посчитавший, что главный инженер либо свихнулся от всего происходящего, либо солнечный удар получил, – даже теперь Гуров опустил голову.
– Если к закату не вернусь – взрывайте! – велел Кайсаров и шагнул в сизую тень тоннеля.
Его одинокие шаги будили в глубине гавкающее эхо. Рабочие уже почти полностью обратились в камень, лишь у двух человек посреди гранитных наростов еще светились болью и ужасом, еще жили вытаращенные от му́ки глаза. Да, никогда прежде Кайсаров не обращал внимания на рабочих – платят им исправно, и ладно. Никогда его не трогало, что люди гибли под завалами, ведь люди – самый дешевый расходный материал. Но вот теперь Кайсарова пробирало так, словно его собственные ноги, быстро шагающие по камню, начинали в этот самый камень обращаться.
Вот и провал. Он подобрал оброненное кем-то из рабочих кайло и разнес деревянное ограждение, построенное, чтобы никто больше в разлом в поисках дармового золота не лазил. Открылись бархатная чернота и тишь каменных недр. Там по-прежнему было все же не совсем черно, пробивался откуда-то в глубине призрачно-серебристый свет, и на него-то Кайсаров и пошел, когда сделал шаг вниз, в исполинскую каменную утробу, распахнувшую для него самое свое нутро.
Спускаться оказалось, против ожиданий, не слишком трудно – торчавшие кругом скальные обломки служили ступенями. Из-под каблуков крошились мелкие камешки, со звонким эхом улетая в неведомую глубину, но большие камни сидели прочно, и если Кайсаров пару раз оступился, чуть не полетев вниз, то лишь из-за собственной оплошности.
Долго он спускался, очень долго – чудилось, прошел и час, и два, а каменная лестница все не кончалась и бледный свет не становился ближе. Из недр дул сквозняк. Где-то текла и капала вода. Откуда-то сверху донесся тяжеловесный скрежет – на миг Кайсарову померещилось, что свод пещеры рухнет ему на голову: сверху шевелились и перемещались огромные массы камней. Он пригляделся: нет, то были не камни, а исполинские многочленистые каменные твари вроде гигантских мокриц. Дальше Кайсаров спускался по возможности тихо, чтобы не потревожить их, напряженно взглядывая наверх.
Наконец лестница закончилась. Перед ним открылась длинная пещера с теряющимся в полумраке огромным сводом, с гроздьями серых, будто сахаристых от какого-то налета сталактитов и сталагмитов, напоминавших колонны готического собора. Откуда-то сбоку – тоже будто в соборе – падали тонкие лучи пепельного света. Здесь были большие округлые камни, медленно перекатывающиеся по полу, разевающие вдруг хищные пасти, сплошь утыканные гранитными обломками, и кварцевые кристаллы, внезапно начинающие расти прямо под ногами с такой скоростью, какая могла привидеться лишь в горячечном сне. Еще из-под ног то и дело прыскали ящерицы, Кайсаров ступал очень осторожно, ему сейчас почему-то казалось крайне важным не наступить ненароком ни на одну из них. Ящерицы скрывались среди хаотичных россыпей камней, в которых он с содроганием опознал окаменелые части человеческих тел. Отколотые каменные руки и ноги. Разбитые туловища в истлевшем тряпье. Отдельно – головы, почти полностью поросшие мутно-багровыми кристаллами с ладонь длиной. Почему эти люди оказались здесь – тоже пришли сами и тоже искать прощения? И главное – что она с ними сделала и почему? Играла? Издевалась? Или же в какой-то миг они ей просто наскучили?..
«Скоро я сам все узнаю». Кайсаров непрестанно сухо сглатывал, словно в тщетной попытке проглотить ужас, подобный слишком крупной гранитно-холодной пилюле.
Впереди гулко заскрежетало и посыпалось. То, что поначалу показалось Кайсарову особенно крупной каменной колонной, начало поворачиваться.
Теперь она была в своем первоначальном, нечеловеческом обличье. Царевна этих мест, где над всем властвовала огромная гора. Тело царевны, высотой в три человеческих роста, было сплошь из гранита, как и у ее величественной матери-горы. С длинными конечностями и ребристой грудной клеткой, оно напоминало окаменелый остов не то человека-великана, не то гигантской ящерицы. С грохотом забил по полу зубчатый, гребнистый хвост. С ног до головы царевна была облачена в чешую из крупных светло-зеленых кристаллов хризолита и носила венец из аметистов. Глаза, огромные, изнутри мерцающие изумруды, уставились на Кайсарова – и каким-то ранее незнакомым чувством тот ощутил острый интерес этого существа, если не вечного, то, во всяком случае, рожденного очень давно, к мимолетным людским страстям, ярким, завораживающим, как пляска огня.
Совершенно человеческим – вернее, перенятым у людей жестом – существо склонило коронованную голову к ощетинившемуся кристаллами плечу.
У Кайсарова онемели ноги, каждый шаг давался с трудом – то ли слабая, смертная суть невольно обмирала перед нечеловеческим всесилием, то ли тело уже начинало обращаться в камень… Существо, любопытствуя, склонилось к нему, протянуло чудовищную длань с острейшими когтями-сталактитами. Кайсаров ощутил, как острие каменного когтя касается подбородка, чуть приподнимая и – возможно, ненароком – раня: по кадыку заскользили горячие капли крови. И, глядя в холодные кристаллические глаза подгорной царевны, уже почти не боясь, Кайсаров искал самые верные слова, пока ему еще не запечатали навечно рот драгоценной друзой, пока ему еще позволяли говорить.
Царевна медленно провела когтем по его скуле – играючи? с хищным наслаждением? или всего лишь с грубой великанской нежностью? – оставляя в коже глубокую алую дорожку. Склонилась еще ниже.
Мол, что же ты медлишь? Говори.
Склонившись над чертежами, Кайсаров невольно прислушивался к доносившемуся из отворенного окна чужому, непривычному говору.
– …змей к нему, говорили, все летат да летат. Змей, грят, богатство таскат. А он и впрямь богато жил, а как помер – ничо в доме не нашли, одни стены голые…
Было жарко, и вязкая, муторная эта жара казалась сродни редкой петербургской – словно дышишь сквозь горячую мокрую тряпку, и такая же тряпка облепляет все тело. Вообще климат тут напоминал столичный: со своенравной, переменчивой погодой и холодными ветрами, но здешний лесной воздух отчего-то казался Кайсарову тяжелым, будто близость гор каким-то образом передавала воздуху плотность камня. Порой болела голова, тоже как-то непривычно тягостно, начиная с затылка. Инженер Остафьев говорил, что это все из-за постоянных перепадов атмосферного давления. Остафьев, старше Кайсарова на десяток с лишним лет, маялся тут головной болью почти беспрерывно, еще с тех пор, как зимой приехали сюда на изыскания.
– …чо помер? Да рыба каменная ему в рот залетела. Зевал, и залетела. Каменную Девку он чем-то обидел, а кого она занелюбит, тому сделает чо-нибудь. Грят, под Мать-горой не то река, не то озеро, и там рыбы с каменными зубами. Таку рыбу пошлет, и та все потроха выест. После того человек быстро помират…
Говорок принадлежал крестьянке Авдотье, которая каждое утро ходила на рынок мимо дома, что Кайсаров нанял под контору, а после полудня возвращалась, по дороге успевая громко переговорить со всеми встречными, и разговоры ее обычно сводились к диким небылицам про ее родню и соседей. Кайсаров давно утвердился во мнении, что Авдотья была просто-напросто кем-то вроде местной блаженной. При ней постоянно находился мальчик лет шести, тоненький, с большой круглой шелковисто-белой головой, похожий на одуванчик. Очень тихий, мальчишка этот иногда принимался так же тихо, но очень неприятно шалить: подбирал с дороги какой-нибудь мусор или конский навоз и кидал в окна ближайшего дома, особенно в раскрытые. Авдотья тогда давала ему подзатыльников и говорила: «Чо барагозишь?»
Здесь, на Урале, можно было услышать всякий говор: то акающий среднерусский, то вдруг хохляцкий – здесь сначала беглые селились, а позже сюда стали привозить со всей России крестьян, проигранных помещиками уральским заводчикам. Но больше всего уже было своего, сложившегося, самобытного: очень быстрая, монотонная, неживая какая-то речь, с проглатыванием целых слогов и невыносимым «чоканьем». Местные говорили так, будто кашу во рту языком гоняли. Кайсарова это раздражало.
Впрочем, в последнее время его раздражало все, куда ни глянь. С тоннелем дела шли совсем плохо. При изыскании, когда в любую погоду инженеры поднимались на окрестные склоны, Кайсаров разработал такой вариант, при котором строительство тоннеля сокращало железную дорогу аж на десять верст и давало экономию в миллион рублей. Своим вариантом Кайсаров гордился и долго его пробивал. Начальник железной дороги никак не желал принимать новый проект, стоял на том, что строительство пути в обход самого непреодолимого участка гор не только разумнее, но и безопаснее, однако истинная причина была в другом: чем дороже казне выходило строительство, тем больше можно было растащить казенных денег. Вообще, нажива да стяжательство при постройке всегда шли далеко впереди государственных интересов, и не принимавший подобных порядков Кайсаров, даром что ему только тридцать лет исполнилось, уже успел нажить себе в Управлении железной дороги множество врагов. Однако находились у него и защитники. В конце концов, под его началом железная дорога строилась быстро и действительно выходила куда дешевле обычного, да еще славился Кайсаров среди инженеров тем, что умел провести железнодорожную ветку по самым, казалось бы, непроходимым местам.
При изысканиях картина выглядела вполне обнадеживающей: геологи предупреждали, что весь горный хребет в окрестностях испещрен глубокими трещинами, но одна гора, Мать-гора, как ее называли местные жители, представлялась геологам состоящей из породы относительно однородной и потому пригодной для безопасного строительства. Однако на деле все оказалось по-иному.
– …а ишшо другой мой сосед все жену бил да к вдове напротив хаживал, так жена Каменной Девке пожалобилась, и стал у мужа его нечестивый уд каменным, а вскоре помер он… – струился с улицы монотонный говорок крестьянки.
Когда ж она умолкнет-то, поморщился Кайсаров. Окно, что ли, закрыть. Но духотища была нестерпимая, да накурено – не продохнуть. Троих инженеров, своих подчиненных, Кайсаров отпустил обедать, а сам все сидел над планами и профилями, ерошил волосы. Вот кому тут «уд каменный» будет вместо дальнейшей службы, так это ему, Кайсарову, если ветку все же придется вести южнее и получится перерасход. И надо же было такому случиться, когда тоннель почти пробит. Да, с самого начала работа шла негладко: внутренности горы оказались непредсказуемы – то на подземную реку рабочие наткнутся, то обвал случится. Воду отвели – устроили дренажную галерею, проходку после обвала повторили, установили дополнительную крепь. Каждый раз при авариях гибли рабочие, но вот людей-то, в отличие от денег, Кайсаров не считал. Люди – самый непрочный материал. Самый легко заменяемый.
Тоннель пробивали с двух сторон, и когда уже почти насквозь прошли, то часть стены, казавшейся надежной, монолитной, обрушилась, и за ней открылся большой разлом, такой глубокий, что даже нельзя было сказать, как далеко он уходит в недра. Пока приняли решение наблюдать – если разлом не будет увеличиваться, то заделать его цементом и продолжить работы, а если трещина начнет расширяться, то убирать породу, пока состояние разлома не станет стабильным. Однако чутье подсказывало Кайсарову, что в проклятый этот разлом может рухнуть преизрядный участок тоннеля и пускать там поезда опасно. И как ни поверни теперь, что прокладка нового тоннеля, что постройка железной дороги в обход – все грозило задержкой, перерасходом казны и немилостью начальства.
– Каменная Девка – она в горе живет? – Кайсаров узнал живой, любопытствующий голос Елецкого, самого молодого своего инженера, недавно закончившего учебу. Елецкий, по его собственному признанию, «баловался литературкой» и, приехав в это богом забытое уральское село у подножия горы, с азартом принялся собирать здешние предания, легенды и былички.
– А то, – охотно ответила Авдотья. – Каменна Девка – дочь, а гора – ейная мать.
Тут в стекло распахнутой створки что-то звонко стукнуло, и по столу, по разложенным бумагам покатилось что-то небольшое, круглое – сухое конское яблоко?
Кайсаров в бешенстве шагнул к окну, перегнулся через подоконник.
– Пошла вон отсюда! – крикнул он Авдотье. – И щенка своего забери, и чтобы к этому дому близко не подходила, не то прикажу плетьми гнать!
Белобрысый мальчик опустил поднятую было в замахе руку и спрятался за материн подол. Авдотья всмотрелась в Кайсарова белесыми своими глазами – бледные радужки и белые брови в сочетании с грубым, лошадиным лицом делали ее похожей на старуху – и сказала:
– Ох, тяжко тебе, барин: сердце у тебя каменное.
– Пошла!..
– Зачем вы так, Георгий Иванович? – осторожно спросил Елецкий, когда крестьянка удалилась. – Живая энциклопедия народного творчества, между прочим.
– Вы зачем сюда приехали? Ради работы или ради народного творчества? – сухо выговорил ему Кайсаров. – Займитесь делом.
Елецкий пошел в дом. Подчиненные весьма уважали Кайсарова, но не сказать чтобы любили. Рабочие же его вовсе боялись – если пройдет по готовому участку дороги и заметит что-нибудь неладное, кары воспоследуют самые суровые, начиная со штрафов. Высокий, худой, с копной темных волос и орлиным носом, Кайсаров выглядел неприступным и мрачным; при разговоре имел привычку слегка поворачивать голову из стороны в сторону, пристально глядя на собеседника поверх мелких очков; и оттого не раз коллеги отмечали – было в нем что-то от ворона, который высматривает, как бы в глаз клюнуть.
Имелась у него еще одна примечательная особенность: хоть и молод, и недурен собой, не был он женат и чурался общества женщин. Однажды он случайно подслушал, как Жеребьёв тихо спросил у Елецкого (оба молодых инженера были из одного города и приятельствовали), не из этих ли Кайсаров. Из кого, не уточнил, но было ясно, что говорил он о грехе, порицаемом людьми и караемом государством. Тут Кайсаров зашел в комнату, и Жеребьёв мигом стушевался под его тяжелым взглядом.
Собственно, Кайсарова не интересовало ничего, кроме работы. Покрыть сетью железных дорог всю страну. Чтобы поезда неслись от Петербурга до Владивостока. Чтобы дикие, непроходимые, нескончаемые просторы прирученными, укрощенными верстами ложились под ноги, пронзенные надежной железной колеей, которая сокращает время пути, приближает великолепие технически оснащенного будущего. А женщины – что женщины… Расходный материал природы для строительства последующих человеческих поколений. Не более того.
Тут в комнату вошел как раз Жеребьёв – еще прежде, чем отворилась дверь, Кайсаров узнал его по надсадному кашлю. Зимой на изысканиях Жеребьёв сильно простудился, с тех пор так и кашлял – все глуше, все утробнее, с хрипами глотая воздух во время приступов. Остафьев на правах старшего не раз обращал внимание Кайсарова на это обстоятельство: «Сгорит ведь, дайте вы ему отпуск, Георгий Иванович», – но Кайсаров напоминал, что вместо обещанных восьми человек Управление направило ему лишь трех и отпуск всем будет только тогда, когда закончат работы.
Между тем выглядел Жеребьёв уже совсем измученным и нездоровым. Вместе с молодым инженером в комнату вошел бровастый насупленный Гуров – начальник работ, а следом один из десятников – коротконогий мордатый малый с очень хитрым прищуром, из тех, что записывают за рабочими каждый прогул, а сами подворовывают по мелочи, – на такое даже Кайсаров закрывал глаза, потому что иначе пришлось бы разогнать вообще всех.
– Георгий Иванович, у нас тут еще одна беда приключилась, – обреченно сообщил Жеребьёв и посмотрел на начальника работ.
– Беда не беда, а дичь какая-то. – Гуров развел тяжелыми ручищами. – Ну, Семен, ты не тяни, говори сам. – Это было сказано десятнику. Тот, аж приседая от подобострастия перед начальством, зачастил:
– Ваш-благородие, вот как на духу, сам слыхал! В разломе девка поет. Тоненький такой голосок. Старатели говорят – где в горе девка поет, там самоцветы лежат или золото. Это у нас все знают…
– И что дальше?! – свирепо спросил Кайсаров. – Какой еще голосок в разломе, вы что там, очумели все, да еще чтобы мне такое рассказывать?!
– Ну, один из мужиков наших и полез проверить, прям в провал, – пояснил десятник, попятившись. – А дальше я и рассказать не умею, ваш-благородие. Это видеть надобно. Из провала он вылез еще живой, но говорить уже не мог, а потом…
– К доктору его понесли, только донесли уже мертвым, – закончил Гуров. – В мертвецкой лежит. Вам, верно, лучше глянуть. Всякое у нас на проходке случалось, а такого еще не видал.
– Прямо сейчас пойдем! – резко сказал Кайсаров. Все равно работа не спорилась, а тут хоть пройтись, развеяться да посмотреть, в самом деле, что там у рабочих такое стряслось. Если бы кто в этот провал проклятый упал и голову бы себе насмерть разбил – ради такого сообщения к самому́ главному инженеру не пошли бы. Значит, и впрямь нечто из ряда вон.
Уже выходя из комнаты, Кайсаров вспомнил: надо бы убрать ту дрянь, что ему крестьянский мальчишка в окно кинул. Наклонился под стол – кругляш лежал там. Не конское яблоко, а округлый камешек с какими-то блестками. На миг Кайсарову почудилось, будто блестящие вкрапления – золотые крупицы. Поднял, хмыкнул: «Золото дураков!» В камешке были крохотные кубические кристаллы пирита.
На улице жара навалилась разом, так, что через пару шагов взмокли виски. Небо выгорело добела, и обычно темная громада горы тоже словно поблекла. Заросшая густым сосняком Мать-гора была видна отовсюду, село приткнулось как раз под ее тучным хвойным боком. На первый взгляд Уральские горы вовсе не казались грозными. Сизо-зеленые, совсем вдали млечно-голубоватые, они плавными волнами уходили к горизонту, вкрадчиво касались неба опушенными лесом вершинами – никакого сравнения с хищными гигантскими зубцами Альп, на которые Кайсаров насмотрелся в годы учебы. Впрочем, месяцы изысканий и работ показали, что первое впечатление было обманчивым, горы могли показать крутой нрав, особенно для строителя: выветренные породы, трещины, провалы…
Земская больница была совсем недалеко, через несколько домов, – такой же серый бревенчатый сруб, как прочие избы по соседству. Сам Кайсаров, отличавшийся завидным здоровьем, не заходил сюда еще ни разу, зато слышал от маявшегося кашлем Жеребьёва, что больничка одна на сорок верст окрест, всего один врач и дочь его, фельдшерица, и десяток коек, которых, конечно, всегда не хватает. Врач, еще нестарый, но сутулый и плешивый, встретил их и сразу, без предисловий, повел в мертвецкую, что стояла на задах, – глубоко утопленный в землю сарай с погребом. По дороге договаривал о чем-то со своей дочерью, крупной высокой девицей с простонародным открытым лицом, та отвечала:
– …Потому как дурень он, и губа у него отвислая, а в голове только мухи гудят.
– Твоя мать тоже не семи пядей во лбу, – урезонивал ее отец, – а взял в жены, чтобы одному не остаться.
Фельдшерица посторонилась, пропуская мужчин вперед, и в ее взгляде, случайно и равнодушно пойманном Кайсаровым, читалась вся усталость от этого тоскливого места, мелкотравчатого народа, собственной судьбы; девицу поначалу очень интересовали приезжие специалисты, но все, кроме Кайсарова, уже были женаты.
Именно мухи жирно гудели в погребе, где было прохладнее, чем на улице, но все же недостаточно холодно для того, чтобы приостановить разложение. Запах стоял ужасающий. Покойников было трое: высохший старик, какая-то баба и рабочий. Врач сдернул с лица последнего грубую холстину. Мухи от размашистого движения взбесились, замельтешили перед лицом, полезли в уши и за шиворот.
Кайсаров невольно стиснул в ком прижатый к лицу платок. Он ожидал увидеть что угодно – размозженное камнями лицо, пробитую черепную кость, но чтобы такое…
Разверстый рот покойника напоминал диковинный хрустальный цветок. Длинные крупные кристаллы, вроде кварца, росли под разными углами прямо изо рта, кристаллы поменьше блестящей сыпью усеяли губы. Неведомые образования были не прозрачными, а мутно-розовыми и багровыми, словно вобрали в себя кровь и прочие соки тела. То же творилось с глазами мертвеца: между вывернутых век торчали кварцевые друзы.
Жеребьёв мучительно закашлялся, затем со звуком тщетно подавляемой рвоты схватился за горло и выскочил из погреба. Кайсаров заставил себя спокойно смотреть.
– Я не знаю, что это, – как можно ровнее сказал он наконец. – Я о таком не читал и не слышал.
– Возможно, под горой в разломы выходят подземные газы, – начал медик, – и при их попадании на слизистые оболочки происходит неизвестный науке процесс…
– А не заразна ли эта хворь? – прервал его Кайсаров.
– Если это и болезнь, то она не передается от человека к человеку. Иначе бы тут уже все село вымерло. Прежде мне доводилось видеть подобное. Несколько лет тому назад привозили ко мне старателей с той стороны горы. У всех кристаллизировались ткани предплечий. Руки пришлось ампутировать. Один, правда, не дождался операции, сбежал через окно, не знаю, что с ним сталось. Ведь до сих пор среди народа ходят дремучие небылицы про докторов. Вот, пожалуйста, – врач указал на накрытую холстиной бабу, – если бы привезли ее раньше, так выжила бы и она, и младенец. Нет, двое суток ждали, а когда надумали на третьи привезти, она уж кровью истекла. Спрашиваю родню: ну отчего же так-то?! А те отвечают – да всем известно, что в лечебницах людей, видите ли, нарочно морят и потом делают из человечьего сала мази, а из костей порошки. Дикость, милостивый государь, дикость прямо-таки доисторическая!
Кайсаров мельком глянул на тело в окровавленной рубахе под приподнятой врачом тряпкой и поскорее отвел взгляд. Ведь тут холод его продрал даже больший, чем при взгляде на рабочего, погубленного неведомой подгорной хворью, – нутряной холод, склизкий, брезгливый ужас.
Окровавленный подол. Стоны, крики. «Вот, гляди, гляди, что с нами мужчины творят!..»
– Слыхал еще такую историю, не знаю, правда или нет, – продолжал доктор, – давно случилось, еще при крепостничестве. Была у одного горнозаводчика жена, самая лютая помещица в округе, крестьянских детей в прорубь кидала ради потехи. Так местные сказывают, родила она в страшных муках каменную глыбу вместо младенца и вскоре скончалась. Народное предание, разумеется. Но кто знает, может, как-то связано…
Кайсаров мотнул головой, не желая слушать далее.
На плоском камне возле входа в покойницкую сидела на солнцепеке ящерица с нарядным медным узором вдоль гибкой спины. Посмотрела Кайсарову прямо в душу крохотными, но необыкновенно разумными глазами. Сельчане звали этих тварей ласково, ящерками, и старались не обижать. По рассказам Елецкого, охотно делившегося своими фольклорными находками, ящерицы в местных преданиях были как-то связаны с духами окрестных гор, были вроде свиты или сестер Каменной Девки. Сознание местных жителей и впрямь изобиловало первобытными образами. Здесь строили церкви, но верили в огромного змея, живущего в озере, и в еще более огромного лося, поднимающего из-за гор на своих рогах солнце, и в Девку, которую боялись, но и любили, которую старатели почитали больше Богородицы…
Тень Кайсарова упала на камень, и ящерица юркнула в выжженную июльским зноем траву.
– Разлом заделать скорее, – сказал он вышедшему следом Гурову.
– Так вся кладка туда рухнет, – ответил тот. – Разлом со вчерашнего еще расширился, черти бы его побрали.
– Что ж, пойдем смотреть… – сквозь зубы процедил Кайсаров. В сущности, было уже ясно, что тоннелю настал конец, а Кайсарову грозят серьезные неприятности в Управлении: все его недоброжелатели разом всколыхнутся и загудят, как те мухи в мертвецкой.
Жерло тоннеля темнело за окраинными домами, выше по косогору, на который взбирались чахлые огороды. К тоннелю вела уже готовая мощная насыпь – клади рельсы да мчи на ту сторону Уральского хребта… Какую же невыразимую душную злобу испытывал сейчас Кайсаров, глядя на гранитные обрывы и дремучие хвойные склоны треклятой горы! От крутого подъема наверх по жаре в голове, чудилось, бил алый бубен в такт ударам сердца.
Под сводами тоннеля стало легче, изнутри горы шла сухая каменная прохлада, сейчас очень освежающая. Света снаружи хватало, чтобы увидеть пролом в стене, напоминающий разомкнутый огромный рот, только расположенный не по горизонтали, а по вертикали. Возле разлома отчего-то толпились рабочие, все местные мужики – Кайсарову мельком подумалось, что они-то, должно быть, смыслят в происходящем куда больше него или Гурова. Расспросить бы их. Короткое эхо вдруг подхватило среди мужских голосов детский. Дети и бабы часто работали при расчистке участков под железнодорожное полотно, но в копатели обычно брали мужчин – труд был не только каторжно тяжелым, но и опасным: деревянный щит над головами рабочих не всегда спасал от завалов.
Обходя бревна-крепи, Кайсаров приблизился к группе рабочих.
– Не троньте! – кричал мальчик. – Мне тетя внизу золото дала! Сказала, проклянет всякого, кто отберет силой! Купцу золото продам. Моему тятьке ноги отняли, я один работник в семье…
– Что здесь происходит? – громко спросил Кайсаров.
Мужики расступились, открывая взорам пришедших всклокоченного мальчика лет десяти, что-то прижимающего к груди.
– Мальцу золотой слиток дала.
– А Петьке давеча рот камнем забила.
– Ну дык ее воля, сама решат, кого озолотит…
– Кто ей по нраву, того и одарит. А кто не по нраву, того в камень обратит.
– Разойтись! – приказал Кайсаров, вдвойне озлившись от всей этой чертовщины. К его металлическому голосу прибавился гулкий, как из бочки, бас Гурова, рявкнувшего:
– А ну, все на выход!
Мужики отошли, мальчишка во весь дух припустил прочь.
– Видать, там, внизу, золотая жила, – озвучил Гуров уже очевидное.
Кайсаров подошел ближе к разлому, невольно вглядываясь во тьму таинственных недр. Удивительное дело – темнота в проломе отнюдь не была кромешной, откуда-то снизу шел сумеречный свет. Впрочем, ничего сверхъестественного: среди скальных массивов встречаются ничем не заполненные щели, в практике Кайсарова уже случалось такое, что по щели разлома можно было пройти на сорок с лишком саженей в сторону от тоннеля и выйти к горной речке в открытой глубокой расщелине.
Открытие богатого месторождения спасло бы дело, раздумывал Кайсаров, всматриваясь в серое свечение. Был бы повод с честью выйти из поганой ситуации и проложить тоннель в другом месте или вовсе пустить дорогу в обход. Вот толькочто за считаные часы превращает глаза и язык человека в алые кристаллы?
– Мальчишка-то чистый, – сказал рядом Жеребьёв. После подъема к тоннелю он был очень бледен и непрестанно откашливал мокроту.
– Да мы его толком и не рассмотрели, – ответил Кайсаров, отстраняясь от разлома: еще неведомо, что тут может вынести сквозняком, какой там воздух внизу – вполне может статься, и впрямь гиблый, отравленный.
Опустилась тишина, лишь чуть нарушаемая шелестом эха от шагов рабочих, уже вышедших из арки тоннеля. И вот в этой монолитной тиши Кайсаров вдруг расслышал пение. Далекий голос, мелодичный, девичий, выводил народную мелодию, вроде грустную, а вроде и радостную. Слов было не разобрать.
– Во, слышите, ваш-благородие: поет! – прошептал десятник.
– Значит, разлом в ущелье выходит, туда местные девки забредают, они и поют, – заключил Кайсаров. Шагнул обратно к провалу, вновь вгляделся, хоть и понимал, что ничего не увидит.
– Так нет в Мать-горе ущелий… – добавил десятник.
Пение прекратилось. Кайсаров подождал еще немного, пожал плечами и уже хотел было отойти, как что-то зашевелилось в глубине трещины. Перед пятном смутного света возникла темная человеческая фигура, она резво полезла наверх, цепляясь за камни, и что-то в ней было диковинное, настораживающее: то ли очень быстрые движения странно вывернутых рук и ног, то ли волнообразные извивы слишком гибкого туловища – а может, померещилось, далеко было, глубоко, сумрачно, не разобрать толком.
– Туда еще кто-то забрался, – сказал Кайсаров, и тут в проеме прямо перед ним вынырнула девка. Обычная деревенская девка, чумазая, с длиннющей иссиня-лоснящейся черной косой, в бесформенном сарафане, босоногая. Кайсаров, отшатнувшись просто от неожиданности, как-то сразу охватил взглядом ее небольшую ладную фигурку и выдохнул: надо же, ведь напугала, мерзавка!
А девка пристально, свободно, нагло уставилась ему в глаза – крестьяне так не смотрят.
– О, какой барин! – воскликнула весело. – Взгляд ястребиный, нрав стальной, сердце каменное. А душа – кутенок шуганый. Копай, копай свою нору для зверей железных, не тронем. А хочешь, камушков подарю? – И ткнула под нос остолбеневшему от такого нахальства Кайсарову грязную ладонь с кучкой каких-то шершаво-зеленых камней. Прямо перед собой Кайсаров увидел смуглое тонкое запястье – кожа сплошь была испещрена мелкими зеленоватыми кристалликами, расположенными не хаотично, как на давешнем мертвеце, а даже каким-то узором, вроде чешуи. И вокруг бесстыжих зеленых глаз девки, от самых ресниц, тоже расходилась по коже россыпь мелких кристаллов.
Девка была больна. Той самой подгорной хворью – или что такое эта омерзительная чертовщина, вдруг все же заразная?.. От этой мысли Кайсарова прямо-таки перетряхнуло в приступе тошной брезгливости. А ну как еще заразится он от этой дуры?! В придачу ему настойчиво почудился вызванный неугомонной памятью характерный запах нездорового женского тела, знакомый с детства, с неизбывным металлическим кровавым привкусом – хотя ничем кругом не пахло, кроме каменной пыли… Чернавка же все совала ему камни и вдруг – какая гадость! – дотронулась до его руки своей чумазой лапкой, шершавой от кристаллической сыпи.
– Пошла вон!
Из-за страха, отвращения, ярости Кайсаров оттолкнул ее сильнее, чем следовало. Так сильно, что девка повалилась назад, рассыпав свои камешки, – и тюкнулась головой об острый каменный выступ стены. И в тот миг, когда Кайсаров, как во сне, уже вполне понял, что наделал, но еще не до конца поверил в происходящее – и когда еще сумел бы удержать девку на краю провала, если бы не побрезговал схватить, – та пошатнулась раз, другой, взмахнула руками и полетела спиной в расщелину. Слышно было, как пару раз ударилось о камни тонкое легкое тело. И – тишина.
Господи, в каком-то бредовом отупении подумал Кайсаров, да я ж только что человека убил.
Было пока не страшно, нет, а еще более тошно, нестерпимо, до выворачивания нутра. Кайсаров как заведенный вытирал и вытирал руку платком, сглатывая и дико глядя в безмолвный провал.
– Что же вы наделали… – выдохнул рядом Жеребьёв.
– Дурак ты, ваш-благородие! – припечатал десятник. – Ох дурак, м-мать твою через тульский самовар! Ты ж ей понравился. Одарить тебя хотела! Дур-рачина…
– Кому – ей? – прошептал Кайсаров.
– Девке Каменной.
Десятник вдруг всплеснул руками и кинулся подбирать оброненные чернавкой камешки, тем же занялся Гуров.
– Как наиграетесь с этими цацками – провал закрыть наглухо, чем угодно, для начала хотя бы досками, чтобы никто больше туда не лез! – приказал им Кайсаров. – Завтра проверю!
И пошел из тоннеля, не чуя под собой ног, не понимая, что с ним происходит. Ну, свалилась в яму девка. Да сколько народу на стройке гибнет – никогда он не считал, не вникал. Какое ему дело? В самом-то деле – какое?..
Вечернее солнце плеснуло в глаза кровавым золотом от дальних лесов. Воздух еще был горяч, но уже поднималась от мелких болотцев у горы, по ту сторону насыпи, прохлада, мешаясь со смоляным духом нагретых сосновых стволов. И так же стыл, густел едкими смолистыми каплями на душе страх. Человека убил. Женщину. Да и черт с ней, рассердился на себя Кайсаров, довольно уже!
– Георгий Иванович… – догнал его покашливающий Жеребьёв.
– О том, что видел, молчи, – велел ему Кайсаров. – Еще нам пересудов не хватало. Девка сама в провал свалилась. Да и не моя вина, что она ко мне полезла.
Подъятая внезапным порывом ветра с насыпи, зернисто заскрипела на зубах пыль, словно тысячи мелких кристаллов. Против воли Кайсаров то и дело оглядывался, будто кто-то мог погнаться за ним, и впервые ему пришло в голову, что жерло тоннеля похоже на разверстую женскую утробу, и снова сделалось непереносимо тошно.
Возвращаясь в контору, он заметил старика, сидевшего на завалинке избы по соседству. Собственно, старик всегда там сидел, будто не человек, а чучело набитое, но Кайсаров только теперь обратил на него внимание, и то лишь потому, что по всему кругом метался его беспокойный взгляд. В душе свербело, и так хотелось отвлечься, хоть на что, хоть на полосатого кота, вышедшего в сиреневый сумрак палисадника, хоть на старика этого… Старик встретил взгляд Кайсарова, цыкнул зубом, и вдруг Кайсаров понял, что это не старик, а совершенно седой молодой мужчина, и пятна на его лице – не старческие, а бугристая, угловатая, словно каменная, сыпь. Мужчина поправил накинутый на плечи армяк, и Кайсарову бросилось в глаза что-то неладное с его правой рукой – будто не человеческая конечность, а двупалая толстая клешня в наростах. Будто грубая каменная заготовка. Мужчина осторожно подтянул к себе тяжелую, окаменелую руку и снова цыкнул.
Кайсаров не стал дальше приглядываться – померещилось? – и направился к крыльцу конторы.
Обычно работали допоздна – надо же было решать, что делать с треклятым тоннелем, – но сегодня Кайсаров был молчалив, рассеян, ловил тревожные взгляды исправно помалкивающего Жеребьёва и в конце концов отпустил всех раньше обычного, ссылаясь на головную боль от духоты.
– Да, тяжелая погода, – согласился Остафьев. – Гроза идет, – добавил прислушиваясь. Где-то далеко и впрямь загудел гром. – Что-то вы плохо выглядите, голубчик, – обратился он к Кайсарову. – Слышал я уже про подгорную хворь, смотрите, не тяните, если что – к врачу.
Кайсаров мельком посмотрел на свои руки, как бы невзначай провел ладонью по лицу – кристаллы эти… они же должны как-то ощущаться? Ладонь утерла холодный, несмотря на жару, пот.
Спал он этой ночью прескверно. Барахтался в мокрых от пота простынях, тонул в духоте комнаты, где воздух из открытого окна не давал облегчения, лишь доносил отзвуки грозы с горизонта. И снились Кайсарову вовсе не кристаллы, прорастающие сквозь человеческую плоть, – нет, мучили его давние, с детства, кошмары.
Вот его отец, мелкий самарский помещик: игрок, пьяница, дебошир. Вот мать, сирота, бесприданница. Моложе мужа лет на пятнадцать, она тосковала по лучшей участи, в отчаянии прятала деньги, прятала водку, и однажды муж крепко ее, беременную, за это избил. Кайсарову тогда было шесть лет – тихий впечатлительный мальчик, темные волосы пышной шапкой, темные грустные глаза. Он обожал красавицу-мать и не любил вечно воняющего кислятиной отца. А тот замахивается на мать раз, другой, таскает за волосы, швыряет об угол комода. Мать падает на колени, охает, не может подняться, и под ней ширится алая лужа, пятная светлый подол летнего платья. Кайсаров рядом, ошарашенно смотрит, его так никто и не увел, даже когда пришел доктор, просто всем было не до него, может, просто не заметили ребенка, стоящего за дверью. Столько крови, и ужасный багровый шматок, будто выпавшая внутренность, – недоношенный мертвый младенец. Мать после того едва оправилась, и не до конца – всякая беременность для нее теперь заканчивалась выкидышем, и всякий раз Кайсаров становился тому свидетелем. У матери в придачу сделалось что-то с головой, всех мужчин на свете она считала повинными в своих бедах, даже любимого сына. «Вот, гляди, что с нами мужчины-то творят!» И мать совала ему под нос окровавленную тряпку. Каждый выкидыш она переживала тяжело, каждый раз Кайсаров обмирал от ужаса, что мать может вовсе не подняться, так и умрет, истекая кровью из тех загадочных, пугающих женских недр, откуда на землю приходят все люди. Кайсаров ненавидел отца, который по-прежнему регулярно захаживал к матери в спальню, и ненавидел себя за то, что ничего не мог со всем этим поделать. Страх точил и точил его, как вода камень, и в отрочество он вышел с нерушимым убеждением, что мужское прикосновение непременно несет женщине боль и, возможно, смерть – к тому времени как раз умерла первыми родами его девятнадцатилетняя старшая сестра. Женщина и сама, по натуре своей, – боль и неразрывно связанная с жизнью смерть, расходный материал природы.
К такому нельзя было прикасаться. Такое нельзя было желать.
Кайсаров, очнувшись от рваного, расползающегося, как ветошь, сна, смотрел в темный потолок, терзая простыню, – все-таки принес смерть, одним лишь прикосновением, подумать только, как ни избегал женщин, а все-таки женщину убил, – и вновь погружался в неспокойное забытье.
И снилась ему теперь не стонущая мать в окровавленном платье, а юная дева. Незнакомая и в то же время где-то уже виденная. Ее иссиня-черные волосы ливнем струились по тонким обнаженным плечам, по ударявшей по глазам наготе бедер – до самой земли. Дева была прекрасна – острой, как алмазная грань, красотой: хрупкие ключицы под смуглой кожей, тяжелая округлая грудь, острые сосцы, черный омут волосяного треугольника внизу живота. Ее взор с пониманием и насмешкой встретился с алчущим взглядом Кайсарова, но зеленые глаза оставались жестокими, холодными: не радужки – граненые самоцветы. Кожа ее сплошь была в мелких зеленых кристаллах, легших затейливым узором, вроде чешуи, но так и манила прикоснуться – ощутить разом и стылость камня, и жар налитой плоти в ладонях.
Кайсаров проснулся в таком исступлении сладострастия, будто его мужское естество и впрямь обратилось в камень.
Между тем в дверь дома стучали, сонный слуга пошел отпирать; скоро забарабанили в дверь спальни.
– Георгий Иванович, откройте, беда великая! Георгий Иванович!..
Кайсаров в полнейшем одурении сидел на краю разворошенной постели. За окном занималось раннее утро, и первые лучи солнца, проникнув в комнату, уже давили жаром, словно вместе с солнцем в небо поднималась вся преисподняя.
Кое-как он поднялся, чувствуя себя пьяным, разбитым, никчемным, грешным. Начал одеваться, не попадая в рукава и штанины. За дверью, кажется, были все – и Остафьев, и молодые инженеры, и Гуров, и кто-то еще, множество искаженных ужасом лиц, и все от Кайсарова немедленно чего-то хотели, тогда как он сам желал лишь одного: чтобы все происходящее было сном, а еще лучше – чтобы сегодня он вообще не проснулся.
– Что же делать будем, Георгий Иванович? В Петербург телеграфировать – так не поверят!
Пошатываясь, Кайсаров вышел, ошалело щурясь на солнце. По всему селу стояла ужасающая тишина, тяжелая, как гранитное надгробие, даже петухи не пели. Ноги сами понесли Кайсарова по пустынным улицам на окраину села, к тоннелю – впрочем, именно туда, как ему объяснили, и следовало идти. Еще на подходе к арке тоннеля, взбираясь по насыпи, Кайсаров услышал словно бы многоголосый стон. Перед глазами плыли хлесткие изумрудно-зеленые солнечные пятна, и поэтому не сразу он сумел понять, что же видит перед собой в полутьме.
В тоннеле собрались рабочие, везшие на тачках камень для заделки провала. Но они никуда не двигались, будто приросли к месту – хотя нет, не будто, а буквально приросли, став единым целым с каменным массивом под их ногами. Тела их еще не совсем окаменели – серые гранитные жилы проросли вдоль рук, шеи, бугрились на щеках. Люди уже не могли двигаться, не могли толком открыть рот, но еще дышали, еще не потеряли физической способности издавать ужасающий немой стон.
– Боже правый… – прошелестел Кайсаров. – Это только здесь так? Или по всему селу?..
– Пока только здесь, – ответил Гуров. – Предлагаю взорвать тоннель. Динамита достаточно. Породы наверху тоже – завалит все намертво, и то, что засело там, внизу, уже не выберется наружу.
Взорвать тоннель. Пусть каменные глыбы не только закроют опаснейший провал, но и похоронят всю эту трижды проклятую затею. Такая мысль и Кайсарову первой пришла в голову.
– Но… взорвать вместе с людьми?.. – В воображении Кайсарова в воздух взлетели обломки камней, вросших в ошметки окровавленной плоти.
– Да с каких пор вы стали печься о людях? Им все равно уже ничем не помочь. А телеграфировать обо всем этом начальству – сами понимаете…
– Верно, – мертвым тоном сказал Кайсаров. – Готовьте динамит.
Спотыкаясь на камнях, как слепой, он, не слушая более никого, побрел вниз от тоннеля по насыпи. Ноги все задевали за что-то, несколько раз Кайсаров чуть не полетел вперед под откос, прежде чем наконец заметил: пробивавшаяся из насыпи молодая трава местами была живой, а местами – торчала жесткими окаменелыми иглами.
– Что же я наделал… – пробормотал он, бессмысленно озираясь.
У подножия насыпи лежал человек – вернее, то, что еще недавно было человеком: грубая каменная статуя, скорее, просто груда гранита в форме человеческого тела, в разодранной одежде; лишь простертая рука еще шевелилась, судорожно скребла пальцами каменное крошево, и на костяшках виднелись гранитные наросты, подобные чудовищной опухоли. Рабочий попытался убежать, но неведомая хворь… нет, злое проклятие настигло его и здесь. Кайсаров не мог отвести взгляда. Сколько он повидал на стройках изувеченных тел и всегда равнодушно проходил мимо. Однако именно теперь он глядел с острейшим ужасом – казалось, за грудиной враз содрали окаменевшую корку, обнажая уязвимое, кровоточащее, то, что он с отрочества так тщательно прятал от самого себя.
Прямо впереди на белой от пыли, выутюженной солнцем дороге маячила светлая фигура. Не зная зачем, Кайсаров подошел ближе. Это была крестьянка Авдотья, в обычном своем выгоревшем до белизны тряпье, в белом платке, она придерживала за плечо белоголового своего мальчишку, как всегда шалившего – пинавшего на дороге мелкие камешки, отчего вздымалась тонкая, как мука, пыль.
– Ох рассерчала она из-за тебя, барин, – сказала Авдотья. – Ты глянь, чо кругом творисся!
Женщина повела рукой, и Кайсаров огляделся: придорожные кусты, трава, запыленные головы клевера и тысячелистника – все обращалось в камень, в безупречно выточенное, тончайшее каменное кружево, изображавшее листья и цветы, – ни одному скульптору не по силам было бы создать подобное.
– Она к тебе с добром, а ты ее обидел. Замучит она тебя, ежели прощения не попросишь. Для каждого она кару сыщет, всех насквозь видит. Своей смерти ты не боисся, так она все кругом тебя терзать будет, это тебе во сто крат страшнее. Не ждал такого? Тяжко жить с каменным сердцем, а с живым ох как больно, верно, барин?
– Ты-то откуда все это знаешь? – глухо спросил Кайсаров.
– От ейной матери знаю, – указала Авдотья на исполинский лесистый горб горы. – Мужики у Девки золото просят, а бабе-то к чему золото – бабе дите нужно. Бог мне не давал детей, так я у горы пошла попросила, гора мне сказала, из какого родника попить, и вот, родила я мальчонку. Иди прощения проси. Не Девка, так мать ейная пожалеет.
– Боже правый, дичь какая… – Кайсаров схватился за голову, которую немилосердно пекло солнце, аж в ушах звенело. На дорогу перед ним упала птица. Мелкая пичуга, малиновка – одно крыло у нее еще билось о землю, а другое, окаменелое, лежало в пыли. Топорщили каменные иглы сосны у дороги, стояла брошенная телега у поворота, еще силилась подняться лошадь с превратившимся в камень крупом, человек уже лежал недвижим.
Все так же сжимая виски, Кайсаров помотал головой, повернулся и пошел обратно к тоннелю. Туда уже тащили ящики с динамитом.
– Стойте! – хрипло выкрикнул он. – Назад! Ничего здесь не трогать, пока я не вернусь!
«Если вообще вернусь», – закончил он про себя.
– Да вы с ума сошли! – Гуров схватил его за плечо, попытался задержать, Кайсаров вывернулся. – Погибнете зазря! Завалить все к черту, и дело с концом!
Кайсаров уставился ему в глаза своеобычным тяжелым взглядом, и даже теперь начальник работ, очевидно посчитавший, что главный инженер либо свихнулся от всего происходящего, либо солнечный удар получил, – даже теперь Гуров опустил голову.
– Если к закату не вернусь – взрывайте! – велел Кайсаров и шагнул в сизую тень тоннеля.
Его одинокие шаги будили в глубине гавкающее эхо. Рабочие уже почти полностью обратились в камень, лишь у двух человек посреди гранитных наростов еще светились болью и ужасом, еще жили вытаращенные от му́ки глаза. Да, никогда прежде Кайсаров не обращал внимания на рабочих – платят им исправно, и ладно. Никогда его не трогало, что люди гибли под завалами, ведь люди – самый дешевый расходный материал. Но вот теперь Кайсарова пробирало так, словно его собственные ноги, быстро шагающие по камню, начинали в этот самый камень обращаться.
Вот и провал. Он подобрал оброненное кем-то из рабочих кайло и разнес деревянное ограждение, построенное, чтобы никто больше в разлом в поисках дармового золота не лазил. Открылись бархатная чернота и тишь каменных недр. Там по-прежнему было все же не совсем черно, пробивался откуда-то в глубине призрачно-серебристый свет, и на него-то Кайсаров и пошел, когда сделал шаг вниз, в исполинскую каменную утробу, распахнувшую для него самое свое нутро.
Спускаться оказалось, против ожиданий, не слишком трудно – торчавшие кругом скальные обломки служили ступенями. Из-под каблуков крошились мелкие камешки, со звонким эхом улетая в неведомую глубину, но большие камни сидели прочно, и если Кайсаров пару раз оступился, чуть не полетев вниз, то лишь из-за собственной оплошности.
Долго он спускался, очень долго – чудилось, прошел и час, и два, а каменная лестница все не кончалась и бледный свет не становился ближе. Из недр дул сквозняк. Где-то текла и капала вода. Откуда-то сверху донесся тяжеловесный скрежет – на миг Кайсарову померещилось, что свод пещеры рухнет ему на голову: сверху шевелились и перемещались огромные массы камней. Он пригляделся: нет, то были не камни, а исполинские многочленистые каменные твари вроде гигантских мокриц. Дальше Кайсаров спускался по возможности тихо, чтобы не потревожить их, напряженно взглядывая наверх.
Наконец лестница закончилась. Перед ним открылась длинная пещера с теряющимся в полумраке огромным сводом, с гроздьями серых, будто сахаристых от какого-то налета сталактитов и сталагмитов, напоминавших колонны готического собора. Откуда-то сбоку – тоже будто в соборе – падали тонкие лучи пепельного света. Здесь были большие округлые камни, медленно перекатывающиеся по полу, разевающие вдруг хищные пасти, сплошь утыканные гранитными обломками, и кварцевые кристаллы, внезапно начинающие расти прямо под ногами с такой скоростью, какая могла привидеться лишь в горячечном сне. Еще из-под ног то и дело прыскали ящерицы, Кайсаров ступал очень осторожно, ему сейчас почему-то казалось крайне важным не наступить ненароком ни на одну из них. Ящерицы скрывались среди хаотичных россыпей камней, в которых он с содроганием опознал окаменелые части человеческих тел. Отколотые каменные руки и ноги. Разбитые туловища в истлевшем тряпье. Отдельно – головы, почти полностью поросшие мутно-багровыми кристаллами с ладонь длиной. Почему эти люди оказались здесь – тоже пришли сами и тоже искать прощения? И главное – что она с ними сделала и почему? Играла? Издевалась? Или же в какой-то миг они ей просто наскучили?..
«Скоро я сам все узнаю». Кайсаров непрестанно сухо сглатывал, словно в тщетной попытке проглотить ужас, подобный слишком крупной гранитно-холодной пилюле.
Впереди гулко заскрежетало и посыпалось. То, что поначалу показалось Кайсарову особенно крупной каменной колонной, начало поворачиваться.
Теперь она была в своем первоначальном, нечеловеческом обличье. Царевна этих мест, где над всем властвовала огромная гора. Тело царевны, высотой в три человеческих роста, было сплошь из гранита, как и у ее величественной матери-горы. С длинными конечностями и ребристой грудной клеткой, оно напоминало окаменелый остов не то человека-великана, не то гигантской ящерицы. С грохотом забил по полу зубчатый, гребнистый хвост. С ног до головы царевна была облачена в чешую из крупных светло-зеленых кристаллов хризолита и носила венец из аметистов. Глаза, огромные, изнутри мерцающие изумруды, уставились на Кайсарова – и каким-то ранее незнакомым чувством тот ощутил острый интерес этого существа, если не вечного, то, во всяком случае, рожденного очень давно, к мимолетным людским страстям, ярким, завораживающим, как пляска огня.
Совершенно человеческим – вернее, перенятым у людей жестом – существо склонило коронованную голову к ощетинившемуся кристаллами плечу.
У Кайсарова онемели ноги, каждый шаг давался с трудом – то ли слабая, смертная суть невольно обмирала перед нечеловеческим всесилием, то ли тело уже начинало обращаться в камень… Существо, любопытствуя, склонилось к нему, протянуло чудовищную длань с острейшими когтями-сталактитами. Кайсаров ощутил, как острие каменного когтя касается подбородка, чуть приподнимая и – возможно, ненароком – раня: по кадыку заскользили горячие капли крови. И, глядя в холодные кристаллические глаза подгорной царевны, уже почти не боясь, Кайсаров искал самые верные слова, пока ему еще не запечатали навечно рот драгоценной друзой, пока ему еще позволяли говорить.
Царевна медленно провела когтем по его скуле – играючи? с хищным наслаждением? или всего лишь с грубой великанской нежностью? – оставляя в коже глубокую алую дорожку. Склонилась еще ниже.
Мол, что же ты медлишь? Говори.
Дмитрий Тихонов. Разбойничья мистерия
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.Евангелие от Луки
 Дисмас висел на кресте. Дисмас висел на кресте и жаждал вознесения. Как в прошлую субботу, как в позапрошлую, как месяц назад. Он смотрел на сведенное смертной мукой окровавленное лицо Христа и ждал, когда раздастся наверху заветный шорох, когда прочные, надежные нити поднимут его тело над бренной землей и утянут в небеса, во тьму, в теплые руки Создателя.
Вокруг шумели голоса. Смеялись и плакали дети, обсуждали дела взрослые, шепотом молились старики. Лаяли собаки. Непрерывно, непрестанно лаяли собаки. Дисмас всегда удивлялся тому, как много собак бывает на деревенских ярмарках. Они почти не пугали его, эти огромные лохматые звери с клыкастыми пастями, но понять привязанность, которую люди испытывали к ним, не удавалось.
Солнце било в глаза. Сотник Лонгин, коренастый старик в жестяном панцире и рыцарском шлеме, украшенном оборванными перьями, взял копье наперевес. По рядам зрителей пробежал слитный вздох – смесь ужаса и восторга. Они ждали этой смерти. Они собрались здесь только ради нее, способной хоть ненадолго унять их собственную мучительную боязнь неведомого.
Переваливаясь с ноги на ногу, Лонгин подошел к Христу и быстрым, рутинным движением пронзил того копьем. Рев толпы заглушил крик боли.
– Нет, не смей! – раздался совсем рядом пронзительный детский голос. – Мерзавец!
Глупая, подумал Дисмас. Не понимает, что это удар милосердия, который означает победу – величайшую победу в истории рода людского. Не понимает, что бывают вещи хуже, гораздо хуже, чем сталь под ребром. Ему захотелось посмотреть на столь наивное, чистое дитя, однако голову он повернуть не мог. Все поле его зрения занимало лицо Христа, по-прежнему окровавленное, но уже спокойное и мирное. Самым краем глаза удавалось различить колышущиеся перья на шлеме Лонгина. Старый сотник ковылял к следующей жертве.
Удар пришелся в левый бок – чуть болезненнее, чем обычно. Дисмас вздрогнул, опустил голову. Голос Создателя гремел далеко наверху, повествуя о последних минутах земной жизни Христа. Когда речь зашла о Дисмасе, нити, проходящие сквозь его запястья и затылок, натянулись, сняли обмякшее тело с креста и вознесли вслед за Сыном Божиим в блаженную темноту. Дисмас успел увидеть, как сотник Лонгин замахивается, чтобы прекратить мучения Гестаса, нераскаявшегося вора, гордеца и богохульника, измывавшегося над Христом до самого конца. У ног Гестаса сидел Сатана.
Создатель перехватил Дисмаса, бережно положил вместе с Христом на верхнюю перекладину рамы балаганчика, а сам взял оттуда Иуду. Тому предстояло пережить собственную минуту славы, мечась по сцене в поисках подходящего дерева для самоубийства. Зрителям всегда нравилось наблюдать, как чернявый сутулый уродец остервенело пытается наказать себя. Они смеялись злорадно и торжествующе – так же, как Сатана, неотступно следующий за предателем по пятам. Этот смех напоминал Дисмасу о собаках.
Вот Иуда повис на осине, и Создатель, не прерывая громогласного повествования, принялся готовить Христа к возвращению на сцену: снял терновый венец, стер с лица кровь, обернул тело куском белой ткани, символизирующим жизнь вечную. Минуту спустя Сын Божий был обновлен и готов предстать перед зрителями и нарисованными на заднике апостолами.
– Надеюсь, сегодня никто не попытается меня стащить, – сказал он Дисмасу. – Снова старик за мной не побежит.
Дисмас с трудом сдержал смех. Пару недель назад во время кульминационной сцены какой-то мальчишка в замызганном камзоле подскочил к сцене, сорвал Христа с нитей, чуть не опрокинув при этом сам балаганчик вместе с Создателем, и бросился наутек. Создатель помчался следом со всей быстротой, на какую был способен, потешно тряся кулаками над головой. Толстяку ни за что бы не удалось угнаться за мальчишкой, но тот нарвался на богобоязненных крестьян, которые ухватили бедолагу за шиворот и передали прямо в объятия преследователя. В итоге все обошлось: воришка отделался парой зуботычин и затрещин, Создатель, хоть и целый вечер потом едва дышал, сумел избежать апоплексического удара, а Христос благополучно вернулся в сундучок к остальным марионеткам, обеспечив их темой для разговоров на несколько дней вперед.
Дисмас все еще улыбался, вспоминая это нелепое происшествие, когда представление завершилось. Христос явился ученикам, раздал напутствия, а затем снова взлетел в небо, только на сей раз медленно и торжественно. Раздалось несколько одобрительных выкриков, несколько жидких хлопков. Создатель, криво усмехаясь, вышел из-за ширмы с шапкой в руке. Некоторые из расходящихся зрителей бросали в шапку монеты.
– Да уж, не скоро мы обзаведемся новыми костюмами, – протянул Иуда, наблюдавший за сбором денег сквозь прореху в занавесе. – Хорошо, если старику на пропитание хватит.
– Мне бы не помешало сменить одеяния, – сказал Христос. – Эти уже никуда не годятся. Тут дыра, тут пятно. Разве в таком можно возноситься?
– Не переживай ты так, – сказал Сатана. – Всем наплевать. Думаешь, зрители сами лучше одеты?
– Но я же – не они. А тебе легко говорить: твоя нагота никого не смущает.
– Потому что каждый из них под одеждой наг. Каждый из них под одеждой – я.
– Вот именно! – развел руками Христос. – А нужно, чтобы они забыли об этом, чтобы смущались и стремились к образу и подобию…
– Идет! – проворчал Иуда. – Тишина!
Марионетки замолчали и улеглись, уставившись ничего не выражающими глазами в пространство. Им предстояла весьма неприятная, даже унизительная процедура – извлечение нитей из пазов в конечностях и головах.
Разговор продолжился позже, уже в сундуке. Создатель не сумел набрать достаточно денег, чтобы снять комнату, и теперь брел прочь от деревни, подыскивая место для ночлега. Сундук, висящий у него за спиной, ощутимо потряхивало при каждом шаге. Марионетки цеплялись друг за друга, пытаясь удержаться на одном месте, но все равно то и дело валились в кучу, из которой сразу принимались выкарабкиваться – только для того, чтобы несколько секунд спустя попадать обратно.
– Должно быть, в море такая же качка, – сказал Дисмас.
– В каком еще море?! – огрызнулся Гестас. – Только моря нам не хватало!
– Боишься, что грехи сразу потянут на дно? – засмеялся Христос. – Не волнуйся, кто верует в меня, тот не утонет. Истинно говорю вам…
– О, пожалуйста, заткнись, – сказал Гестас. – Просто заткнись.
– Никто не утонет, – подал голос Сатана со дна кучи. Он один не пытался никуда карабкаться и спокойно лежал, съехав в угол покосившегося сундука. – Мы же деревянные. Дерево плавает.
– Да ну?!
– Точно. Я однажды упал в реку. И ничего – вода не приняла меня, понесла прочь и вскоре выбросила на берег.
– Это когда такое случилось?
– Давно. Задолго до того, как Создатель выстругал тебя из осинового полена. Я ж самый старый из нас.
На несколько мгновений в сундуке воцарилась неловкая тишина. Снаружи доносилось тяжелое, надсадное дыхание Создателя. По бортам сундука скребли ветки. Наконец, прочистив горло, Гестас сказал:
– Не может быть. С чего это вдруг тебя первым делать понадобилось?
– А я не говорил, что первым, – невозмутимо ответил Сатана. – Первым он вроде бы Адама выстругал. Или Еву? Не помню точно. К моменту моего появления на свет эти двое уже вовсю грызлись друг с другом. Еще были архангел Михаил и пара ангелов, которые при необходимости играли роли Каина с Авелем.
– Ничего себе! – воскликнул Дисмас. – А куда они все подевались?
– Да кто куда, – пожал плечами Сатана. – Оказалось, что про грехопадение народу не очень интересно смотреть, да и матери детишек не пускали на голую Еву таращиться. В общем, Создатель решил, что называется, поменять репертуар.
– Чего?
– Их поменять на вас. Точнее, сперва он хотел устроить исход иудеев из Египта, но понял, что не справится с фараонами, жабами и всем прочим. Поэтому Адам, которого он уже начал было переделывать в Моисея, в итоге стал Иудой. Из ангела Каина получился Сотник, а из Евы – Мария. Ангела Авеля стоило чуть перекрасить, и вышел отличный Иоанн. Михаила же он по пьяной лавочке уронил в костер. Очень жаль, мы с ним неплохо ладили.
Снова повисла тишина. Создатель как раз остановился, чтобы перевести дух, и качка прекратилась. Марионетки ошеломленно рассматривали друг друга, словно пытаясь за нынешними лицами разглядеть предыдущие.
– Неужели это правда?.. – пробормотала Мария.
– Конечно, правда, – сказал Сатана. – Я никогда не лгу. Просто ты не помнишь, но прошлые жизни вообще мало кто помнит. Вот, например, воришки наши, Дисмас с Гестасом, совсем недавно были крепким осиновым стволом – возможно, даже тем самым, на ветке которого каждую субботу вешается Иуда. И что, помнят они, как росли посреди леса, как птички вили на них гнезда… или что там птички делают?
Дисмас с Гестасом переглянулись.
– Видишь? – удовлетворенно кивнул Сатана. – Оба понятия не имеют, о чем я говорю. Просто в какой-то момент вспыхнула в деревянных головах Божья искра – то ли когда кисть закончила лица им малевать, то ли немного раньше. Этого мне знать не дано. То же и с остальными: для кисти не важно, изображено ли уже что-то на полене, в которое она вдыхает новую жизнь.
Тут сундук вздрогнул, сильно накренился, мотнулся из стороны в сторону и плавно опустился на твердую поверхность. Видимо, Создатель все-таки отыскал подходящее место, чтобы провести ночь. Марионетки с облегчением расселись вдоль стен, задумчивые и молчаливые.
Снаружи доносились шелест и хруст – Создатель неспешно собирал хворост, доставал из мешка свой нехитрый провиант, разводил костер. Иногда принимался бурчать какую-то мелодию, но сразу замолкал. Временами бормотал себе под нос проклятия, но тут же осекался и просил прощения у Господа. В ответ ветер скрипел верхушками деревьев – высоко-высоко, почти под самым небом.
– Выходит, и нас однажды тоже… – прошептал вдруг Иоанн. – Тоже перекрасят?
– Несомненно! – с готовностью отозвался Сатана. – Когда старику надоест бубнить каждую субботу одно и то же, или когда плата за выступление все чаще будет вроде сегодняшней. Возможно, он уже задумывается над этим. Вот прямо сейчас сидит там и размышляет, каким еще сюжетом заинтересовать публику. Готов биться об заклад, нас ждет Апокалипсис.
– Почему?
– А что может быть зрелищнее? Горят земля и небо, ангелы трубят, из морей выползают чудовища, а по сцене носятся четыре жутких всадника, сея гибель. Красота! Вся ярмарка станет смотреть, не отрываясь.
– Значит, мы превратимся во всадников?
– Тут уж как повезет. Еще понадобится новый архангел Михаил, чтобы меня низвергнуть, – Сатана задумался на мгновение, а потом рассмеялся. – Меня и ангелов моих! Так что кому-то придется присоединиться к адскому воинству.
Перекусив, Создатель улегся спать. Марионетки слушали, как долго и шумно ворочался он с боку на бок, вздыхая и шепча молитвы, пока наконец не захрапел.
Разговоры в сундуке не клеились. Сатанинские откровения отбили всякую охоту к философствованиям и обсуждениям библейских сюжетов, за которыми марионетки обычно проводили ночи. Потому-то спустя пару часов они и сумели различить среди шорохов дремлющего леса шаги. Первым их услышал Дисмас.
– Кто-то идет, – сказал он.
Остальные встрепенулись, закрутили головами. Христос приложил к стенке едва намеченное резцом Создателя ухо, сосредоточенно зажмурился.
– Да… – прошептал он через несколько мгновений. – Двое. Один большой, второй поменьше. Приближаются.
– Ворье! – всплеснула руками Мария. – Только этого не хватало.
– Ничего не поделаешь, – сказал Христос. – Их ведут другие нити, до которых нам не дотянуться. Не ропщите, не гневайтесь попусту, а смиритесь и уповайте на…
– Тише! – шикнул Гестас. – Заткнись уже!
Шаги становились все четче – осторожные, неторопливые. Кто бы это ни были, они знали, куда направляются, и не хотели, чтобы их услышали. Минуту спустя незваные гости добрались до стоянки Создателя.
– Все, дальше я сам! – раздался сиплый шепот прямо над сундуком. – А ты стой там и не шевелись!
Что-то приглушенно лязгнуло, человек чертыхнулся и принялся копаться в пожитках Создателя. Марионеткам было прекрасно известно, что никаких ценностей не найдется в латаном заплечном мешке или в суме, которую старик носит на поясе. Жестяная коробочка с красками, библия в потертом переплете, чистая рубаха, огниво, нехитрая еда, фляга с водой да завернутые в промасленную бумагу инструменты – вот все, чем могли бы разжиться воры. Свое единственное сокровище, кукольную труппу, Создатель хранил в небольшом походном сундуке вместе с занавесом балаганчика и фрагментами его рамы. А ключ от сундука, так же как и все заработанные деньги, он прятал в кошель, неизменно пристегнутый к поясу.
Видимо, разбойник тоже знал про кошель, потому что, снова чертыхнувшись, приблизился к мирно храпящему старику. Сообщник, которому велено было стоять и не шевелиться, что-то тревожно пропищал. Хрустнула ветка, храп оборвался. И разбойники, и марионетки в сундуке, и лес вокруг, и ветер – все оцепенело.
– Какого дьявола?! – рявкнул Создатель. – Ты еще кто такой?
– Не двигайся, – дрогнувшим голосом ответил разбойник. – Лежи, если хочешь жить.
– Ах ублюдок! – Создатель был не из тех, кого можно запугать, тем более спросонок. – Сейчас сам у меня приляжешь!
Завязалась драка. До марионеток доносились тяжелые удары, пыхтение и возня. Все куклы повскакивали со своих мест, напряженные и перепуганные. Только Сатана остался сидеть в углу.
Вот снаружи после очередного угодившего в цель удара раздался гневный крик. На него тут же отозвался второй разбойник:
– Папочка!
И пронзительный голос этот показался Дисмасу странно знакомым. Однако прежде, чем он сумел вспомнить, где слышал его, случилось нечто ужасное. Создатель вдруг захрипел, протяжно и влажно. Борьба прекратилась. Большое, грузное тело тяжело повалилось в траву. Хрип оборвался, через секунду возобновился, но сразу утих навсегда.
– Папочка! – снова позвала девочка. Та самая, что днем на ярмарке обругала сотника Лонгина, прекратившего мучения Христа. Теперь в ее голосе не было паники или гнева, только тоска, под которой скрывался тусклый застарелый страх.
– Ну что ты вылупилась? – отозвался разбойник. Он больше не шептал. – Сама ж все видела. Проклятый боров чуть меня не одолел. Пришлось защищаться.
– Да, папочка.
– Жди там. Я быстро.
Судя по всему, бандит принялся обыскивать Создателя. До обитателей сундука постепенно доходила суть произошедшего. Сотник Лонгин, мрачно насупившись, покачивал копьем. Христос отвернулся к стене и застыл словно статуя. Мария опустилась на колени, закрыв лицо ладонями. Сатана, наоборот, поднялся и, снедаемый небывалым возбуждением, шагал из угла в угол. Дисмас тоже ощущал распирающую его изнутри жажду действия, вот только утолить эту жажду было нечем. Даже молитва не имела смысла – единственный известный ему бог был заперт вместе с ним.
– Не густо, – сказал убийца снаружи. – И ради этих денег ты сдох, толстяк? Не обидно? Мне обидно: рисковать шеей из-за пригоршни медяков! Ладно, посмотрим, что припрятано здесь…
Он шагнул к сундуку. Со скрежетом провернулся в замке ключ, крышка откинулась, и над марионетками навис темный силуэт. За ним виднелись кроны сосен, упирающиеся в полное звезд небо. Разбойник поднял с земли фонарь, за грязным стеклом которого едва теплилось тусклое пламя. В этом неверном свете стало возможно различить его тощее грязное лицо, обрамленное косматой бороденкой.
– Дьявол… – процедил убийца сквозь зубы. – Тут только куклы.
Он выпрямился и пнул сундук, опрокинув его набок. Марионетки рассыпались по влажной траве. Дисмас успел заметить и нож, висящий у разбойника на поясе справа, и что у него только одна рука – левая, в окровавленных пальцах которой он держит фонарь. Правая же заканчивалась на запястье обмотанной тряпьем культей.
– А можно их взять? – спросила девочка, послушно стоявшая все это время на прежнем месте. – Можно, папочка? Пожалуйста.
– Нет! – отрезал разбойник. – Если в деревне кто-то увидит, как ты играешь с этими куклами, мне несдобровать. Люди сразу догадаются, откуда они у тебя, и на сей раз мне ладонью не отделаться.
– Ну хотя бы одну! – взмолилась девочка. – Я буду играть с ней только дома, обещаю!
– Одну можно, – согласился отец. – Какую тебе?
– Иисуса, конечно, – серьезно сказала девочка. – Какую же еще.
– И то верно. – Разбойник склонился над марионетками, лежащими вперемешку, словно погибшие на поле боя, и, подсвечивая себе фонарем, стал расшвыривать их культей в поисках нужной. – Отличный выбор.
Сына Божьего он нашел быстро и ловко подцепил его указательным пальцем левой руки, испачкав белые одежды кровью Создателя. В полумраке Дисмас не мог различить лица Христа. Тот оставался неподвижен и безмолвен, как подобает деревянной игрушке в присутствии человека, и с покорностью принял свою судьбу.
– Вот твой Иисус, – сказал разбойник дочери. – А теперь пойдем-ка отсюда поскорее.
Он перешагнул через поваленный сундук, наступив пяткой стоптанного сапога на Иоанна, и поспешил прочь. Дочь последовала за ним, беспрерывно благодаря за подарок. Когда ее ангельский голосок потерялся за деревьями, марионетки зашевелились.
Дисмас поднялся первым, помог встать Иоанну. Подошва сапога расплющила тому нос и смазала краску на лице, перемешав черты. Любимый ученик Христа больше не мог говорить, а лишь мычал и громко, натужно сопел. Единственный уцелевший глаз пылал гневом и болью.
С трудом пробравшись сквозь траву, марионетки столпились возле тела Создателя. Тот лежал на спине, плечом в потухшем костре, и лицо его было белым, как березовая кора. Цепляясь за складки одежды, Сатана взобрался мертвецу на грудь и долго рассматривал это лицо. Он заглянул в распахнутый, будто все еще хрипящий рот, в застывшие ноздри, изучил узор морщин на щеках и лбу, но не нашел ничего, вселяющего надежду.
– Ни намека на душу! – крикнул он остальным. – Теперь это просто бревно. Оно будет лежать здесь до тех пор, пока не сгниет.
– А мы? – спросил Иуда. – Что делать нам?
Сатана уселся на плечо Создателя, свесив копыта, и несколько мгновений размышлял над ответом.
– Мы тоже можем лечь и сгнить, – сказал он в итоге. – До осени недалеко, так что много времени это не займет. А можем попытаться найти собственный путь.
– Верно! – воскликнул Дисмас. С этим яростным выкриком копившееся внутри напряжение наконец-то вырвалось на свободу, хлынуло в окружающую ночь потоком добела раскаленных слов. – Здесь оставаться нельзя. Давайте отыщем Христа! Пойдем следом за убийцами и спасем его! И за Создателя отомстим, перережем во сне их мерзкие глотки!
– Я не совсем это имел в виду, – чуть насмешливо сказал Сатана. – Но возражать не стану.
– Как их найти? – спросил Гестас. – Они, должно быть, уже далеко. Видели, какой длины у них ноги?
– Зато мы ближе к земле, – сказал Сатана. – Так проще разглядеть следы.
– Тогда не будем терять времени! – Дисмас вскинул кулак над головой. – Кто идет с нами?
Предложение не вызвало среди марионеток особого воодушевления. Они неуверенно переступали с ноги на ногу, мотали головами и прятали глаза в землю. Только изувеченный Иоанн сразу шагнул к Дисмасу – то ли ему уже нечего было терять, то ли он просто не понимал, что происходит.
– Ну же! – Дисмас изумленно всматривался в нарисованные лица. – Чем дольше мешкаем, тем дальше они уйдут. Ведь речь идет о Христе!
Вперед выступил сотник Лонгин, по-прежнему держащий копье на плече. Ни на кого не глядя, он подошел и встал рядом с Дисмасом. За ним последовал Иуда. Гестас и Мария, оставшись в меньшинстве, долго не продержались. Гестас махнул рукой:
– Ладно, идем. Хотя от постоянной болтовни этого сукина сына и болит голова.
Мария разрыдалась. Она обняла большой палец Создателя, прижала его к груди – кривой палец с грязным обломанным ногтем, твердый и холодный как могильная плита. Ей было страшно уходить от этих больших рук. Что может быть ужаснее, чем брести сквозь огромный ночной лес, брести самой по себе, без нитей, направляющих каждый шаг и каждую мысль! Что может быть ужаснее, чем не знать, какая судьба ожидает тебя через час, через минуту, через мгновение! Дисмас тоже чувствовал этот страх и не знал, как унять его, а потому просто терпеливо молчал.
Отплакав свое, Мария поцеловала ноготь Создателя и, все еще всхлипывая, присоединилась к остальным. В тишине и скорби, возглавляемые Сатаной, марионетки отправились на поиски Христа.
Поначалу казалось, что вся эта затея – одна гигантская ошибка, невыполнимая бредовая фантазия. Трава и корни деревьев были почти неодолимыми препятствиями. Однако стоило отчаяться, как Сатана вывел процессию на неширокую, но основательно протоптанную тропу, и идти стало не в пример легче.
Тропинка, усеянная желтой хвоей, вилась между высоченных сосен. Тут и там попадались упавшие шишки и следы звериных или птичьих лап. Сверху, из-под черных навесов крон, за шествием следили бледные холодные глаза, и каждая из марионеток чувствовала эти взгляды. Мария то и дело охала, при любом шорохе цеплялась за Гестаса. Сотник Лонгин пугал невидимых врагов копьем. Но никто не пикировал на маленьких деревянных человечков, никто не впивался загнутыми когтями в их головы и плечи, не утаскивал в кусты, не уносил в поднебесье – и вскоре путники стали понемногу успокаиваться.
– Ты и на тропе можешь различить следы убийц? – спросил Дисмас, поравнявшись с Сатаной.
– Нет. Но они точно прошли здесь.
– Откуда тебе это знать?
– Создатель был стар и болен… – вздохнул Сатана. – Он бы не стал продираться через бурелом, так?
– Наверное.
– Он тоже шел здесь. Эта тропа ведет в деревню, где была ярмарка. Девчонка видела наше представление – значит, она живет в деревне.
– Да, я вспомнил ее голос.
– Ну вот. Ничего сложного. Нужно добраться до деревни, а там отыщем ее жилье.
– Каким образом? В деревне много людей.
– У ее отца нет правой руки, и он готов зарезать первого встречного за несколько медяков. Думаешь, следует искать в зажиточных домах?
Эта фраза заставила Дисмаса задуматься. Он понимал, что Сатана имел в виду не совсем то, что произнес, но окончательный смысл уловить удалось не сразу. Насколько же проще было с Христом! Тот говорил: «Делай то», или «Не делай этого», или «Верующий в меня да не умрет», и никаких вопросов не возникало. Дисмас решил попросить Сатану впредь выражаться яснее, но едва он успел открыть рот, как сзади раздался крик:
– Ой! На меня что-то капнуло!
Процессия остановилась, все уставились на Иуду, который судорожно ощупывал свою макушку. На деревянных ладонях оставались черные пятна.
– Вода? – спросил Сатана. – С неба?
Иуда кивнул. Точно в подтверждение, еще одна большая капля упала на тропу у ног Гестаса и мгновенно впиталась в землю, оставив после себя мокрое пятно. Дисмас задрал голову. Звезд больше не было видно.
– Дело плохо, – сказал Сатана. – Нам нужно уйти с…
Дождь хлынул сплошной стеной. Увесистые капли забарабанили по палой хвое, по траве, по головам и спинам, по поднятым для защиты рукам. Марионетки бросились врассыпную – все, кроме Иоанна, который застыл на месте, подняв лицо. Единственный глаз его, быстро переполнившись влагой, пополз по щеке вниз. Иоанн разинул перекошенный рот и издал жуткий утробный вой, лишенный слов, но полный гнева и ненависти. Он проклинал небо. Через мгновение вода размыла и рот, превратила в вытянутую пасть, багровую рану, из которой теперь вырывался лишь протяжный хрип вроде того, что слышали они в последние секунды жизни Создателя.
Укрывшись среди корней ближайшей сосны, марионетки наблюдали, как растворяется в дожде любимый ученик Христа. Лицо его стекло на грудь, и то, что всего минуту назад было Иоанном, а до того – Авелем и безымянным ангелом, пошатнулось, рухнуло в мокрую хвою, затем поднялось на четвереньки и поплелось прочь, неспешно и бесцельно, словно червь или ручей.
– Надо ему помочь! – всхлипнула Мария и подалась вперед, но Гестас удержал ее на месте. Услышав этот всхлип, безликое существо на тропе вздрогнуло, повернулось и побрело к их укрытию. Мария зажмурилась. Упершись в корень, безликий поднялся на ноги. Покачиваясь из стороны в сторону, будто пьяный, он двинулся вдоль препятствия, слепо ощупывая пространство перед собой дрожащими руками.
– Видите?! – горячо прошептала Мария. – Видите? Он ищет нас!
Однако навстречу бывшему Иоанну она больше не рвалась. Вместо нее вперед шагнул сотник Лонгин. Выставив перед собой копье, он легко ткнул безликого в грудь. Тот пошатнулся, но устоял и уцепился за древко руками – неожиданно резко и цепко. Сотник попытался выдернуть оружие, однако безликий рванул древко на себя, едва не уронив старика лицом вниз. Неизвестно, чем могло закончиться это противостояние, если бы на помощь своему палачу не подоспели Дисмас и Гестас. Втроем им удалось вырвать копье из рук безликого. Тот, потеряв опору, опрокинулся навзничь, но в ту же секунду, не переворачиваясь, вновь пополз куда-то, оставляя за собой след на мокрой земле.
Лонгин, выругавшись, замахнулся копьем, однако пускать его в ход не пришлось. Удалившись на пару людских шагов, существо завязло в небольшой лужице, метнулось было обратно, но бессильно рухнуло в коричневую воду и замерло.
Почти минуту все молча смотрели, как оно неподвижно лежит под дождем.
– Царствие Небесное! – сказал тогда Сатана. – Мне нравился этот паренек.
– Молчи! – взвыла Мария, не глядя на него. – Ты нас сюда завел! Это твоя вина, твоя и Дисмаса.
Сатана засмеялся и хлопнул Дисмаса по плечу:
– Вот так, друг. А чего ты хотел? Позвал за собой, значит, теперь все – твоя вина. Что бы ни случилось.
– По-твоему, это повод для потехи? – сквозь зубы процедил Гестас. – Да?
– Да! – с вызовом ответил Сатана. – Мы все – лишь раскрашенные куски дерева. Не вижу беды в том, что один такой теперь валяется в луже. Мир ничего не потерял.
– Ах вот как! Почему бы тебе самому тогда туда не прилечь?! – С этими словами Гестас бросился на Сатану. Сцепившись, они повалились на влажную землю. Иуда и Дисмас кинулись разнимать. Прежде чем дерущихся удалось растащить, Гестас успел сломать Сатане правый рог, а сам получил копытом по лицу, отчего лишился доброй половины бороды.
– Надо же, – раздался над ними чужой голос, полный вкрадчивой злобы. – Такие маленькие люди, а ничем не отличаются от обычных.
Марионетки, тут же забыв о драке, уставились на гостя. Зверь смотрел на них из высокой травы, не обращая ни малейшего внимания на дождь. Никогда прежде не доводилось Дисмасу встречать подобных зверей. Грязно-рыжий и облезлый, он походил на собаку, но в узкой, изящной морде его и хитрых желтых глазах скользило что-то кошачье, что-то древнее, не знающее пощады.
– Ссоритесь, маленькие люди? – спросил зверь. – Может, я сумею рассудить вас?
– Мы не люди, – угрюмо сказал Гестас, поглаживая смазанную бороду. – И наши споры тебя не касаются.
– Хм… – Зверь наклонил голову в наигранной задумчивости. – А мне все-таки кажется, что люди. Ходите на двух ногах, шерсть не носите, не имеете хвостов. Пользуетесь тропой. Да, я давно за вами слежу. Настоящие люди, пусть и небольшого роста. Это хорошо, что вы такие маленькие.
– Почему?
– Потому что маленьких я смогу убить. Сами посудите, разве одолеть мне обычного человека? Он чересчур велик. Он расправляется с такими, как я, без всякого труда, счета и сожаления. Но на вас я отыграюсь.
Зверь атаковал резко и стремительно, еще до того, как стихло последнее произнесенное им слово. Никто из марионеток не успел даже моргнуть. Собачьи клыки сомкнулись на туловище Гестаса, стоявшего к чудовищу ближе остальных. Тот вскрикнул, рванулся, замолотил кулаками по серой морде, но эти удары не могли причинить хоть сколько-нибудь серьезного ущерба. Растолкав остальных, вперед выскочил сотник Лонгин. Подбежав вплотную к зверю, он несколько раз ткнул его копьем в шею и грудь. Острие не пробило шкуру, лишь бессильно скользило по влажной шерсти, но зверь отпрянул, будто напуганный одним только видом копья. Однако страх тут же погас в его желтых глазах. Припав к земле, он стиснул челюсти, перекусив Гестаса пополам, и ринулся на следующего противника. Огромная лапа сбила Лонгина с ног. Копье откатилось прочь. Зверь навис над сотником, клыками схватил его за голову в украшенном плюмажем шлеме и принялся яростно трясти из стороны в сторону, словно наказывая за попытку сопротивления. Конечности Лонгина болтались безвольно и жалко.
Сбросив с себя оцепенение, Дисмас подобрал с земли копье. Предполагал ли он когда-нибудь, наблюдая с креста за этим оружием, что однажды сам станет держать его в руках? Но жизнь оказалась изобретательнее любой библейской истории.
Обогнув зверя по широкой дуге, он подобрался на расстояние удара. Первый выпад не достиг цели. Но в следующую секунду что-то громко треснуло в стиснутых клыках чудовища, и обезглавленное тело Лонгина отлетело к сосне. Ударившись о ствол дерева, оно рухнуло наземь и застыло среди корней с неестественно раскинутыми руками. Зверь удовлетворенно рыкнул, выплюнул изжеванную голову сотника и замер, выбирая следующую жертву. В этот самый момент Дисмас размахнулся и обеими руками вогнал острие копья в желтый глаз.
Зверь взвизгнул и высоко подпрыгнул, вырвав древко из пальцев Дисмаса. Извернувшись в воздухе, плюхнулся на бок, перевернулся на живот, попытался подняться, но передние лапы подломились, и он ткнулся носом в хвою. Копье выскользнуло из раны, оставляя на серой шерсти кровавый след. Зверь замотал головой, как если бы пытался отогнать назойливую муху. Дисмас потянулся было к копью, но вынужден был отскочить от жутких челюстей, клацнувших прямо возле лица.
– Добивай! – заорал где-то за спиной Сатана. – Чур второй глаз мой!
Зверь оскалился и попятился. Его шатало. Крови на морде становилось все больше. Дисмас шагнул к нему, занес над головой кулак. Скуля и подвывая, зверь отшатнулся, юркнул в траву и скрылся из виду.
– Счастливо сдохнуть! – крикнул Сатана. – Как тебе маленькие люди, тварь?!
Дисмас обернулся. Он едва держался на ногах от пережитого страха. Иуда и Мария уже хлопотали возле Гестаса. Тот отмахивался, слабо бормоча что-то нечленораздельное. Оказалось, дождь уже заканчивался, только с древесных ветвей тут и там падали редкие капли. Сатана поднял с земли голову Лонгина в измятом жестяном шлеме, очистил от грязи и звериной слюны. От лица сотника почти ничего не осталось, клыки превратили его в неприглядное месиво, в котором никак не могла бы уцелеть Божья искра.
Гестасу повезло больше. Несмотря на то что тело его разломилось на две половины чуть ниже середины груди, он оставался в сознании, хотя и в расстроенных чувствах. Никакой речи о продолжении пути для него, разумеется, не шло. Иуда и Мария прислонили бедолагу к выступающему из земли сосновому корню, подперли у основания его же ногами.
– Может, удастся как-то склеить тебя… – бормотал Иуда, стараясь не смотреть Гестасу в глаза. – Или связать пенькой.
– К дьяволу пеньку! – скрипел в ответ Гестас. – Просто оставьте меня здесь, и все. На обратном пути заберете.
– Зверь может вернуться…
– Это вряд ли. Оставьте меня и ступайте, не теряйте времени. Я дождусь.
– Верно, – сказал Сатана. – Другого выхода нет.
– Я останусь с ним, – сказала Мария. В глазах ее, больших и чуть неровно нарисованных, сверкала такая ослепительная решимость, что никто не осмелился вымолвить и слова против. Дисмас даже почувствовал нечто вроде облегчения: после того как Мария обвинила его в случившемся с Иоанном, оставаться рядом с ней не хотелось.
Поэтому он не стал прощаться, а просто вышел на тропу, держа окровавленное копье на плече – так же, как делал сотник. Сатана с Иудой поспешно присоединились. Иуда боязливо поглядывал на небо и постоянно ощупывал ладонями макушку, на которой успела появиться заметная проплешина. Троица двинулась дальше, с осторожностью ступая по скользкой хвое. Позади Гестас и Мария говорили о чем-то, и Дисмас прибавил шагу, чтобы как можно скорее перестать слышать их голоса.
– Я вот думаю… – прокряхтел Сатана, с трудом поравнявшись с разбойником. – Может, бог с ним, с Христом, а?
– В каком смысле?
– В прямом, милый мой Дисмас. На черта он нам сдался? Ведь, по сути, все эти неприятности случились по его вине. Сам посуди: девчонка на ярмарке разволновалась из-за него, поэтому ее папаша и обратил внимание на Создателя, поэтому и пошел за ним, чтобы ограбить. Затем девчонка потребовала не кого-нибудь, а именно Христа, а мы, конечно, не смогли его бросить и ввязались в столь опасное предприятие…
– Ввязались? – с усмешкой переспросил Дисмас. – Ты же сам говорил о том, чтобы найти собственный путь.
– В точку! Собственный, а не тот же, каким шли прежде. По старому пути не пройти – большие ноги нужны, человечьи. Нас по нему в ящике таскали. Христос – это старый путь. Мы его еще найти не успели, а уже гибнем один за другим.
– Ясно. Что предлагаешь?
– Забраться в первое попавшееся дупло и там ночь переждать. Утром, как люди по тропе начнут ходить, станем присматриваться и выбирать. Кто понравится, тому прыгнем в заплечный мешок или на шляпу и поедем куда глаза глядят. Мир посмотрим, найдем место безопасное, без зверья и с крышей над головой.
– А Христа бросим?
– Предоставим собственной судьбе.
– И Гестаса с Марией?
– Там ничем не помочь. Ты и без меня это прекрасно понимаешь.
– Нет. – Дисмас остановился. – Не понимаю. – Он поднял копье Лонгина, уткнул багровое острие в грудь собеседнику и сказал, давясь гневом: – Я пошел спасать. Не себя. Другого. Так положено. Отойди от меня, Сатана.
Тот, воздев примирительно руки, отступил на шаг:
– Вижу, тебя не переубедить. Что ж, больше не стану приставать с разговорами.
Слово свое Сатана сдержал. Они пошли дальше в полной тишине. Время от времени Дисмас оборачивался, каждый раз ожидая увидеть пустую тропу, – но нет, оба его спутника продолжали угрюмо ковылять позади, то и дело стряхивая со ступней прилипшие иголки и тревожно озираясь по сторонам. До самого рассвета никто больше не проронил ни слова.
А на рассвете, когда солнце еще не выползло из-за горизонта, но уже затопило лес влажным мутным светом, они вышли к деревне. Тропа, струясь между деревьями, сбегала в низину, где, надежно укрытые от ветров окружающими холмами, жались друг к другу домики под красными черепичными крышами. Дисмас, прежде путешествовавший лишь в сундуке, ни за что бы не смог с уверенностью сказать, та ли это деревня, в которой прошлым вечером Создатель давал представление. На счастье, раздумывать долго не пришлось – Сатана осторожно коснулся его плеча и указал в сторону от тропы, на старый деревянный домишко, прилепившийся к склону холма:
– Взгляни на ворота.
Домишко был окружен покосившейся, а местами провалившейся изгородью, но ворота, собранные из трех могучих бревен, стояли ровно и крепко. А на воротах висел на загнутом ржавом гвозде фонарь. Тот самый фонарь, который ночью держал в единственной руке убийца, рассматривая содержимое сундука. Дисмас узнал его с первого взгляда.
– Какой у нас план? – спросил Иуда. – Кто-то ведь должен остаться снаружи, на всякий случай, так?
Дисмас пожал плечами:
– Наверное. Было бы здорово отвлечь собаку, если она там есть. Справишься?
– Попробую. А ты?
– А я – разбойник. Вот и займусь своим делом – проберусь внутрь, найду Христа и украду его. А то всю жизнь на кресте за воровство провисел, хотя ни одной кражи до сих пор не совершил. Обидно.
Сатана оскалил в ухмылке желтые клыки:
– Отлично. Я с тобой.
На то, чтобы добраться до дома, ушло почти полчаса. Большую часть этого времени они перелезали через огромное поваленное дерево, а потом еще пришлось обходить муравейник и вытаскивать Иуду из промоины, которую он не сумел перепрыгнуть. У ворот остановились и прислушались. Из-за них не доносилось ни звука. Дисмас просунул голову в зазор между жердями изгороди, но не смог ничего рассмотреть, потому что двор густо зарос крапивой.
Только протиснувшись в щель между створками ворот, он понял, что опасения оказались напрасны: собачья цепь, прикованная к кольцу у крыльца, проржавела, а сквозь звенья пробивалась наглая, давно не тревоженная трава. Путь был свободен.
Короткими перебежками – от ворот к лежащей на боку кадке, от кадки к пыльному мешку, от мешка к плетеной корзине – марионетки пересекли двор и по бревенчатой стене, цепляясь за торчащие тут и там пучки пакли, взобрались к окну, ставень которого был приоткрыт. Один за другим они пролезли внутрь и замерли на подоконнике в растерянности.
Прямо под ними на широкой лавке спал убийца Спасителя. В той же одежде, в тех же дырявых сапогах. Даже запекшаяся кровь еще виднелась на пальцах его левой руки, отставленной в сторону и повисшей над полом. Обмотанная тряпьем культя правой покоилась на груди. Убийца дышал ровно и спокойно, и лицо его казалось мягким, как у ребенка, несмотря на клочковатую бороду и длинный острый нос.
Сатана чуть не подпрыгнул от восторга и принялся ожесточенно жестикулировать, указывая сперва на копье Лонгина, потом на шею спящего и живописно проводя пальцем по собственному горлу. Дисмас покачал головой и прошептал:
– Сначала отыщем Христа.
– Но ты же сам этого хотел! – послышался злой шепот в ответ. – Лучше шанса не представится.
– Сначала отыщем Христа.
Нахмурившись, Сатана схватился за древко копья. Дисмас вырвал оружие и погрозил ему кулаком, но дожидаться ответной реакции не стал, а просто прыгнул вниз. Он мягко приземлился меж широко расставленных колен убийцы, на цыпочках прошел до торца лавки и по рукаву брошенного там камзола спустился на пол. Иуда, постоянно жмурясь и втягивая голову в плечи, последовал его примеру. Сатана же, сложив руки на груди, остался стоять на подоконнике.
Дисмаса это не волновало. Вместе с Иудой отправился он дальше, благо что в домике было всего две комнаты. Во второй, возле печки, сложенной из закопченных кирпичей, спала девочка, отвернувшись к стене и укрывшись с головой шерстяным одеялом. На столике возле ее изголовья, среди свечных огарков и яблочных огрызков, стоял Христос. Увидев товарищей по труппе, он вынужден был зажать себе рот руками, чтобы сдержать возглас удивления. Когда шок миновал, Сын Божий спросил сердитым шепотом:
– Вы зачем явились? Кто позволил?
– Мы за тобой, – в тон ему ответил Дисмас. – Хотим помочь вернуться.
– Вернуться? Куда?
– К нам.
– В сундук? В своем ли ты уме? Создатель умер. Что я там делать буду, на полянке гнить? Нет, разбойник, истинно говорю тебе: отныне место мое здесь.
– Постой… – Дисмас никак не мог поверить в то, что услышал. – Они же… убили его. Они!
– Ну и что? – Христос устало махнул рукой. – Это несчастные люди. Мать умерла уже давно. Отец потерял руку из-за несправедливого обвинения в воровстве. Он больше не может работать и потому губит свою бессмертную душу, промышляя разбоем, чтобы прокормить дитя. Разве не видишь, как сильно нуждается во мне сей дом?
– Я… – Слова вдруг подвели Дисмаса, оставили один на один с разверзшейся под ногами пустотой. – Но ведь ты – один из нас…
– Уже нет. Уходите. Вам нельзя оставаться.
– Поздно… – пробормотал Иуда, с ужасом глядя в соседнюю комнату, где заскрипели протяжно и отчаянно половицы. – Радуйся, отче…
– Какого дьявола?.. – раздался над ними сонный голос.
Тяжелыми, слегка нетвердыми шагами убийца вышел из спальни. Он тер ладонью лоб и зевал. На левом плече его, уцепившись за одежду, висел Сатана с торжествующей ухмылкой во все свое багровое лицо. Дисмас, не успев толком испугаться, хотел закричать, хотел ринуться в бой, бросить вызов новому зверю, пустить в ход оружие – но удар носком сапога швырнул его через всю комнату, к входной двери, и сломал древко копья.
– Какого дьявола?! – заорал во всю глотку убийца. – Совсем рехнулась, сучье отродье?!
Он обращался к девочке. Та, разбуженная воплем, села на кровати, еще не понимая, что происходит, – и тут же получила пощечину, от которой голова ее едва не оторвалась. Ловким, отработанным движением убийца стянул с себя ремень, замахнулся, ударил с оттягом. Девочка, застонав сквозь зубы, скатилась на пол и забилась под кровать.
– Что я тебе сказал, мерзавка?! – продолжал кричать убийца, остервенело хлеща ремнем по кровати. – Нельзя тащить сюда этих кукол! Нельзя!
Он сбил со стола Христа и стал топтать его обеими ногами, самозабвенно, со звериным наслаждением. Подкованные подошвы расправились с Сыном Божиим куда быстрее Понтия Пилата. Иуду ждала та же участь. Он лишь хрустнул жалобно, раскалываясь пополам, от промежности до макушки.
– Иди сюда, паскуда! – оттоптавшись на марионетках, зарычал убийца и нагнулся, чтобы, ухватив дочь за волосы, выволочь ее из-под кровати. От этого резкого движения Сатана сорвался с его плеча и растянулся на полу рядом с изувеченным Христом.
– Что я тебе ночью сказал, а? – Еще одна пощечина, оглушительно-звонкая. – Помнишь?!
– Только… одну… куклу… – задыхаясь, ответила девочка. Она не смотрела на отца.
– Вот именно! А ты сколько притащила? У, крыса! – Он толкнул ее, и девочка упала. – Вся в мать, упрямая да безмозглая!
Дисмас наблюдал за происходящим безучастно, ничем не выдавая гнева и страха. Он видел, как медленно поднимается на четвереньки Сатана, отвергая извечные законы всех марионеток и кукол. С багровой морды по-прежнему скалилась злобная улыбка того, кто побеждает любой ценой. Чего он хотел? Сбежать? Напасть на человека? Заговорить с ним?
– Чертова девчонка! На виселицу меня задумала отправить?
Убийца привстал, одной рукой сгреб с пола Сатану вместе с останками Иуды и Христа и, не разбирая, швырнул эту пеструю кучу в печку. Кинул сверху пару поленьев, щедро насыпал древесной стружки из ведра. Когда он, вытащив из кармана камзола огниво, начал высекать искру, девочка поднялась и побрела к выходу. На полу у двери она заметила Дисмаса, торопливо подхватила его и, не оглядываясь, выскочила наружу.
Здесь было уже совсем светло. Меж деревьев еще лежала легкая полупрозрачная дымка, и, стряхивая ее, лес пританцовывал под пение бесчисленных птиц. Из деревни доносился заливистый собачий лай. Мычали коровы, которых гнал на пастбище пастух. Девочка обогнула дом, перебралась через поваленный плетень и по дорожке, протоптанной в гуще бурьяна, вышла на небольшую полянку, где под навесом были свалены в кучу дрова – осиновые, березовые, сосновые. Непросто, должно быть, нарубить столько одной рукой, отрешенно подумал Дисмас.
Дочь убийцы уселась на чурбак, прижала марионетку к груди, погладила по голове:
– Не бойся, я тебя спрячу, а он через два дня все забудет. Он всегда забывает.
Дисмас молчал. Отсюда ему было прекрасно видно поросшую мхом крышу дома и торчащую над ней кирпичную трубу. Из трубы поползли клубы бледного дыма.
– А потом я тебя переодену, – продолжала девочка, баюкая Дисмаса. – Оторву кусочек от маминого платья, которое в подвале спрятала. Оно белое-белое, как раз для Христа подойдет. И волосы подрисую до плеч. Станешь у меня настоящим Христом, чистым и красивым. Все будет хорошо…
Дисмас качался на руках дочери убийцы, как на речных волнах, и не отрываясь смотрел на дым, что поднимался из трубы к светлому утреннему небу. Он жаждал вознесения.
Дисмас висел на кресте. Дисмас висел на кресте и жаждал вознесения. Как в прошлую субботу, как в позапрошлую, как месяц назад. Он смотрел на сведенное смертной мукой окровавленное лицо Христа и ждал, когда раздастся наверху заветный шорох, когда прочные, надежные нити поднимут его тело над бренной землей и утянут в небеса, во тьму, в теплые руки Создателя.
Вокруг шумели голоса. Смеялись и плакали дети, обсуждали дела взрослые, шепотом молились старики. Лаяли собаки. Непрерывно, непрестанно лаяли собаки. Дисмас всегда удивлялся тому, как много собак бывает на деревенских ярмарках. Они почти не пугали его, эти огромные лохматые звери с клыкастыми пастями, но понять привязанность, которую люди испытывали к ним, не удавалось.
Солнце било в глаза. Сотник Лонгин, коренастый старик в жестяном панцире и рыцарском шлеме, украшенном оборванными перьями, взял копье наперевес. По рядам зрителей пробежал слитный вздох – смесь ужаса и восторга. Они ждали этой смерти. Они собрались здесь только ради нее, способной хоть ненадолго унять их собственную мучительную боязнь неведомого.
Переваливаясь с ноги на ногу, Лонгин подошел к Христу и быстрым, рутинным движением пронзил того копьем. Рев толпы заглушил крик боли.
– Нет, не смей! – раздался совсем рядом пронзительный детский голос. – Мерзавец!
Глупая, подумал Дисмас. Не понимает, что это удар милосердия, который означает победу – величайшую победу в истории рода людского. Не понимает, что бывают вещи хуже, гораздо хуже, чем сталь под ребром. Ему захотелось посмотреть на столь наивное, чистое дитя, однако голову он повернуть не мог. Все поле его зрения занимало лицо Христа, по-прежнему окровавленное, но уже спокойное и мирное. Самым краем глаза удавалось различить колышущиеся перья на шлеме Лонгина. Старый сотник ковылял к следующей жертве.
Удар пришелся в левый бок – чуть болезненнее, чем обычно. Дисмас вздрогнул, опустил голову. Голос Создателя гремел далеко наверху, повествуя о последних минутах земной жизни Христа. Когда речь зашла о Дисмасе, нити, проходящие сквозь его запястья и затылок, натянулись, сняли обмякшее тело с креста и вознесли вслед за Сыном Божиим в блаженную темноту. Дисмас успел увидеть, как сотник Лонгин замахивается, чтобы прекратить мучения Гестаса, нераскаявшегося вора, гордеца и богохульника, измывавшегося над Христом до самого конца. У ног Гестаса сидел Сатана.
Создатель перехватил Дисмаса, бережно положил вместе с Христом на верхнюю перекладину рамы балаганчика, а сам взял оттуда Иуду. Тому предстояло пережить собственную минуту славы, мечась по сцене в поисках подходящего дерева для самоубийства. Зрителям всегда нравилось наблюдать, как чернявый сутулый уродец остервенело пытается наказать себя. Они смеялись злорадно и торжествующе – так же, как Сатана, неотступно следующий за предателем по пятам. Этот смех напоминал Дисмасу о собаках.
Вот Иуда повис на осине, и Создатель, не прерывая громогласного повествования, принялся готовить Христа к возвращению на сцену: снял терновый венец, стер с лица кровь, обернул тело куском белой ткани, символизирующим жизнь вечную. Минуту спустя Сын Божий был обновлен и готов предстать перед зрителями и нарисованными на заднике апостолами.
– Надеюсь, сегодня никто не попытается меня стащить, – сказал он Дисмасу. – Снова старик за мной не побежит.
Дисмас с трудом сдержал смех. Пару недель назад во время кульминационной сцены какой-то мальчишка в замызганном камзоле подскочил к сцене, сорвал Христа с нитей, чуть не опрокинув при этом сам балаганчик вместе с Создателем, и бросился наутек. Создатель помчался следом со всей быстротой, на какую был способен, потешно тряся кулаками над головой. Толстяку ни за что бы не удалось угнаться за мальчишкой, но тот нарвался на богобоязненных крестьян, которые ухватили бедолагу за шиворот и передали прямо в объятия преследователя. В итоге все обошлось: воришка отделался парой зуботычин и затрещин, Создатель, хоть и целый вечер потом едва дышал, сумел избежать апоплексического удара, а Христос благополучно вернулся в сундучок к остальным марионеткам, обеспечив их темой для разговоров на несколько дней вперед.
Дисмас все еще улыбался, вспоминая это нелепое происшествие, когда представление завершилось. Христос явился ученикам, раздал напутствия, а затем снова взлетел в небо, только на сей раз медленно и торжественно. Раздалось несколько одобрительных выкриков, несколько жидких хлопков. Создатель, криво усмехаясь, вышел из-за ширмы с шапкой в руке. Некоторые из расходящихся зрителей бросали в шапку монеты.
– Да уж, не скоро мы обзаведемся новыми костюмами, – протянул Иуда, наблюдавший за сбором денег сквозь прореху в занавесе. – Хорошо, если старику на пропитание хватит.
– Мне бы не помешало сменить одеяния, – сказал Христос. – Эти уже никуда не годятся. Тут дыра, тут пятно. Разве в таком можно возноситься?
– Не переживай ты так, – сказал Сатана. – Всем наплевать. Думаешь, зрители сами лучше одеты?
– Но я же – не они. А тебе легко говорить: твоя нагота никого не смущает.
– Потому что каждый из них под одеждой наг. Каждый из них под одеждой – я.
– Вот именно! – развел руками Христос. – А нужно, чтобы они забыли об этом, чтобы смущались и стремились к образу и подобию…
– Идет! – проворчал Иуда. – Тишина!
Марионетки замолчали и улеглись, уставившись ничего не выражающими глазами в пространство. Им предстояла весьма неприятная, даже унизительная процедура – извлечение нитей из пазов в конечностях и головах.
Разговор продолжился позже, уже в сундуке. Создатель не сумел набрать достаточно денег, чтобы снять комнату, и теперь брел прочь от деревни, подыскивая место для ночлега. Сундук, висящий у него за спиной, ощутимо потряхивало при каждом шаге. Марионетки цеплялись друг за друга, пытаясь удержаться на одном месте, но все равно то и дело валились в кучу, из которой сразу принимались выкарабкиваться – только для того, чтобы несколько секунд спустя попадать обратно.
– Должно быть, в море такая же качка, – сказал Дисмас.
– В каком еще море?! – огрызнулся Гестас. – Только моря нам не хватало!
– Боишься, что грехи сразу потянут на дно? – засмеялся Христос. – Не волнуйся, кто верует в меня, тот не утонет. Истинно говорю вам…
– О, пожалуйста, заткнись, – сказал Гестас. – Просто заткнись.
– Никто не утонет, – подал голос Сатана со дна кучи. Он один не пытался никуда карабкаться и спокойно лежал, съехав в угол покосившегося сундука. – Мы же деревянные. Дерево плавает.
– Да ну?!
– Точно. Я однажды упал в реку. И ничего – вода не приняла меня, понесла прочь и вскоре выбросила на берег.
– Это когда такое случилось?
– Давно. Задолго до того, как Создатель выстругал тебя из осинового полена. Я ж самый старый из нас.
На несколько мгновений в сундуке воцарилась неловкая тишина. Снаружи доносилось тяжелое, надсадное дыхание Создателя. По бортам сундука скребли ветки. Наконец, прочистив горло, Гестас сказал:
– Не может быть. С чего это вдруг тебя первым делать понадобилось?
– А я не говорил, что первым, – невозмутимо ответил Сатана. – Первым он вроде бы Адама выстругал. Или Еву? Не помню точно. К моменту моего появления на свет эти двое уже вовсю грызлись друг с другом. Еще были архангел Михаил и пара ангелов, которые при необходимости играли роли Каина с Авелем.
– Ничего себе! – воскликнул Дисмас. – А куда они все подевались?
– Да кто куда, – пожал плечами Сатана. – Оказалось, что про грехопадение народу не очень интересно смотреть, да и матери детишек не пускали на голую Еву таращиться. В общем, Создатель решил, что называется, поменять репертуар.
– Чего?
– Их поменять на вас. Точнее, сперва он хотел устроить исход иудеев из Египта, но понял, что не справится с фараонами, жабами и всем прочим. Поэтому Адам, которого он уже начал было переделывать в Моисея, в итоге стал Иудой. Из ангела Каина получился Сотник, а из Евы – Мария. Ангела Авеля стоило чуть перекрасить, и вышел отличный Иоанн. Михаила же он по пьяной лавочке уронил в костер. Очень жаль, мы с ним неплохо ладили.
Снова повисла тишина. Создатель как раз остановился, чтобы перевести дух, и качка прекратилась. Марионетки ошеломленно рассматривали друг друга, словно пытаясь за нынешними лицами разглядеть предыдущие.
– Неужели это правда?.. – пробормотала Мария.
– Конечно, правда, – сказал Сатана. – Я никогда не лгу. Просто ты не помнишь, но прошлые жизни вообще мало кто помнит. Вот, например, воришки наши, Дисмас с Гестасом, совсем недавно были крепким осиновым стволом – возможно, даже тем самым, на ветке которого каждую субботу вешается Иуда. И что, помнят они, как росли посреди леса, как птички вили на них гнезда… или что там птички делают?
Дисмас с Гестасом переглянулись.
– Видишь? – удовлетворенно кивнул Сатана. – Оба понятия не имеют, о чем я говорю. Просто в какой-то момент вспыхнула в деревянных головах Божья искра – то ли когда кисть закончила лица им малевать, то ли немного раньше. Этого мне знать не дано. То же и с остальными: для кисти не важно, изображено ли уже что-то на полене, в которое она вдыхает новую жизнь.
Тут сундук вздрогнул, сильно накренился, мотнулся из стороны в сторону и плавно опустился на твердую поверхность. Видимо, Создатель все-таки отыскал подходящее место, чтобы провести ночь. Марионетки с облегчением расселись вдоль стен, задумчивые и молчаливые.
Снаружи доносились шелест и хруст – Создатель неспешно собирал хворост, доставал из мешка свой нехитрый провиант, разводил костер. Иногда принимался бурчать какую-то мелодию, но сразу замолкал. Временами бормотал себе под нос проклятия, но тут же осекался и просил прощения у Господа. В ответ ветер скрипел верхушками деревьев – высоко-высоко, почти под самым небом.
– Выходит, и нас однажды тоже… – прошептал вдруг Иоанн. – Тоже перекрасят?
– Несомненно! – с готовностью отозвался Сатана. – Когда старику надоест бубнить каждую субботу одно и то же, или когда плата за выступление все чаще будет вроде сегодняшней. Возможно, он уже задумывается над этим. Вот прямо сейчас сидит там и размышляет, каким еще сюжетом заинтересовать публику. Готов биться об заклад, нас ждет Апокалипсис.
– Почему?
– А что может быть зрелищнее? Горят земля и небо, ангелы трубят, из морей выползают чудовища, а по сцене носятся четыре жутких всадника, сея гибель. Красота! Вся ярмарка станет смотреть, не отрываясь.
– Значит, мы превратимся во всадников?
– Тут уж как повезет. Еще понадобится новый архангел Михаил, чтобы меня низвергнуть, – Сатана задумался на мгновение, а потом рассмеялся. – Меня и ангелов моих! Так что кому-то придется присоединиться к адскому воинству.
Перекусив, Создатель улегся спать. Марионетки слушали, как долго и шумно ворочался он с боку на бок, вздыхая и шепча молитвы, пока наконец не захрапел.
Разговоры в сундуке не клеились. Сатанинские откровения отбили всякую охоту к философствованиям и обсуждениям библейских сюжетов, за которыми марионетки обычно проводили ночи. Потому-то спустя пару часов они и сумели различить среди шорохов дремлющего леса шаги. Первым их услышал Дисмас.
– Кто-то идет, – сказал он.
Остальные встрепенулись, закрутили головами. Христос приложил к стенке едва намеченное резцом Создателя ухо, сосредоточенно зажмурился.
– Да… – прошептал он через несколько мгновений. – Двое. Один большой, второй поменьше. Приближаются.
– Ворье! – всплеснула руками Мария. – Только этого не хватало.
– Ничего не поделаешь, – сказал Христос. – Их ведут другие нити, до которых нам не дотянуться. Не ропщите, не гневайтесь попусту, а смиритесь и уповайте на…
– Тише! – шикнул Гестас. – Заткнись уже!
Шаги становились все четче – осторожные, неторопливые. Кто бы это ни были, они знали, куда направляются, и не хотели, чтобы их услышали. Минуту спустя незваные гости добрались до стоянки Создателя.
– Все, дальше я сам! – раздался сиплый шепот прямо над сундуком. – А ты стой там и не шевелись!
Что-то приглушенно лязгнуло, человек чертыхнулся и принялся копаться в пожитках Создателя. Марионеткам было прекрасно известно, что никаких ценностей не найдется в латаном заплечном мешке или в суме, которую старик носит на поясе. Жестяная коробочка с красками, библия в потертом переплете, чистая рубаха, огниво, нехитрая еда, фляга с водой да завернутые в промасленную бумагу инструменты – вот все, чем могли бы разжиться воры. Свое единственное сокровище, кукольную труппу, Создатель хранил в небольшом походном сундуке вместе с занавесом балаганчика и фрагментами его рамы. А ключ от сундука, так же как и все заработанные деньги, он прятал в кошель, неизменно пристегнутый к поясу.
Видимо, разбойник тоже знал про кошель, потому что, снова чертыхнувшись, приблизился к мирно храпящему старику. Сообщник, которому велено было стоять и не шевелиться, что-то тревожно пропищал. Хрустнула ветка, храп оборвался. И разбойники, и марионетки в сундуке, и лес вокруг, и ветер – все оцепенело.
– Какого дьявола?! – рявкнул Создатель. – Ты еще кто такой?
– Не двигайся, – дрогнувшим голосом ответил разбойник. – Лежи, если хочешь жить.
– Ах ублюдок! – Создатель был не из тех, кого можно запугать, тем более спросонок. – Сейчас сам у меня приляжешь!
Завязалась драка. До марионеток доносились тяжелые удары, пыхтение и возня. Все куклы повскакивали со своих мест, напряженные и перепуганные. Только Сатана остался сидеть в углу.
Вот снаружи после очередного угодившего в цель удара раздался гневный крик. На него тут же отозвался второй разбойник:
– Папочка!
И пронзительный голос этот показался Дисмасу странно знакомым. Однако прежде, чем он сумел вспомнить, где слышал его, случилось нечто ужасное. Создатель вдруг захрипел, протяжно и влажно. Борьба прекратилась. Большое, грузное тело тяжело повалилось в траву. Хрип оборвался, через секунду возобновился, но сразу утих навсегда.
– Папочка! – снова позвала девочка. Та самая, что днем на ярмарке обругала сотника Лонгина, прекратившего мучения Христа. Теперь в ее голосе не было паники или гнева, только тоска, под которой скрывался тусклый застарелый страх.
– Ну что ты вылупилась? – отозвался разбойник. Он больше не шептал. – Сама ж все видела. Проклятый боров чуть меня не одолел. Пришлось защищаться.
– Да, папочка.
– Жди там. Я быстро.
Судя по всему, бандит принялся обыскивать Создателя. До обитателей сундука постепенно доходила суть произошедшего. Сотник Лонгин, мрачно насупившись, покачивал копьем. Христос отвернулся к стене и застыл словно статуя. Мария опустилась на колени, закрыв лицо ладонями. Сатана, наоборот, поднялся и, снедаемый небывалым возбуждением, шагал из угла в угол. Дисмас тоже ощущал распирающую его изнутри жажду действия, вот только утолить эту жажду было нечем. Даже молитва не имела смысла – единственный известный ему бог был заперт вместе с ним.
– Не густо, – сказал убийца снаружи. – И ради этих денег ты сдох, толстяк? Не обидно? Мне обидно: рисковать шеей из-за пригоршни медяков! Ладно, посмотрим, что припрятано здесь…
Он шагнул к сундуку. Со скрежетом провернулся в замке ключ, крышка откинулась, и над марионетками навис темный силуэт. За ним виднелись кроны сосен, упирающиеся в полное звезд небо. Разбойник поднял с земли фонарь, за грязным стеклом которого едва теплилось тусклое пламя. В этом неверном свете стало возможно различить его тощее грязное лицо, обрамленное косматой бороденкой.
– Дьявол… – процедил убийца сквозь зубы. – Тут только куклы.
Он выпрямился и пнул сундук, опрокинув его набок. Марионетки рассыпались по влажной траве. Дисмас успел заметить и нож, висящий у разбойника на поясе справа, и что у него только одна рука – левая, в окровавленных пальцах которой он держит фонарь. Правая же заканчивалась на запястье обмотанной тряпьем культей.
– А можно их взять? – спросила девочка, послушно стоявшая все это время на прежнем месте. – Можно, папочка? Пожалуйста.
– Нет! – отрезал разбойник. – Если в деревне кто-то увидит, как ты играешь с этими куклами, мне несдобровать. Люди сразу догадаются, откуда они у тебя, и на сей раз мне ладонью не отделаться.
– Ну хотя бы одну! – взмолилась девочка. – Я буду играть с ней только дома, обещаю!
– Одну можно, – согласился отец. – Какую тебе?
– Иисуса, конечно, – серьезно сказала девочка. – Какую же еще.
– И то верно. – Разбойник склонился над марионетками, лежащими вперемешку, словно погибшие на поле боя, и, подсвечивая себе фонарем, стал расшвыривать их культей в поисках нужной. – Отличный выбор.
Сына Божьего он нашел быстро и ловко подцепил его указательным пальцем левой руки, испачкав белые одежды кровью Создателя. В полумраке Дисмас не мог различить лица Христа. Тот оставался неподвижен и безмолвен, как подобает деревянной игрушке в присутствии человека, и с покорностью принял свою судьбу.
– Вот твой Иисус, – сказал разбойник дочери. – А теперь пойдем-ка отсюда поскорее.
Он перешагнул через поваленный сундук, наступив пяткой стоптанного сапога на Иоанна, и поспешил прочь. Дочь последовала за ним, беспрерывно благодаря за подарок. Когда ее ангельский голосок потерялся за деревьями, марионетки зашевелились.
Дисмас поднялся первым, помог встать Иоанну. Подошва сапога расплющила тому нос и смазала краску на лице, перемешав черты. Любимый ученик Христа больше не мог говорить, а лишь мычал и громко, натужно сопел. Единственный уцелевший глаз пылал гневом и болью.
С трудом пробравшись сквозь траву, марионетки столпились возле тела Создателя. Тот лежал на спине, плечом в потухшем костре, и лицо его было белым, как березовая кора. Цепляясь за складки одежды, Сатана взобрался мертвецу на грудь и долго рассматривал это лицо. Он заглянул в распахнутый, будто все еще хрипящий рот, в застывшие ноздри, изучил узор морщин на щеках и лбу, но не нашел ничего, вселяющего надежду.
– Ни намека на душу! – крикнул он остальным. – Теперь это просто бревно. Оно будет лежать здесь до тех пор, пока не сгниет.
– А мы? – спросил Иуда. – Что делать нам?
Сатана уселся на плечо Создателя, свесив копыта, и несколько мгновений размышлял над ответом.
– Мы тоже можем лечь и сгнить, – сказал он в итоге. – До осени недалеко, так что много времени это не займет. А можем попытаться найти собственный путь.
– Верно! – воскликнул Дисмас. С этим яростным выкриком копившееся внутри напряжение наконец-то вырвалось на свободу, хлынуло в окружающую ночь потоком добела раскаленных слов. – Здесь оставаться нельзя. Давайте отыщем Христа! Пойдем следом за убийцами и спасем его! И за Создателя отомстим, перережем во сне их мерзкие глотки!
– Я не совсем это имел в виду, – чуть насмешливо сказал Сатана. – Но возражать не стану.
– Как их найти? – спросил Гестас. – Они, должно быть, уже далеко. Видели, какой длины у них ноги?
– Зато мы ближе к земле, – сказал Сатана. – Так проще разглядеть следы.
– Тогда не будем терять времени! – Дисмас вскинул кулак над головой. – Кто идет с нами?
Предложение не вызвало среди марионеток особого воодушевления. Они неуверенно переступали с ноги на ногу, мотали головами и прятали глаза в землю. Только изувеченный Иоанн сразу шагнул к Дисмасу – то ли ему уже нечего было терять, то ли он просто не понимал, что происходит.
– Ну же! – Дисмас изумленно всматривался в нарисованные лица. – Чем дольше мешкаем, тем дальше они уйдут. Ведь речь идет о Христе!
Вперед выступил сотник Лонгин, по-прежнему держащий копье на плече. Ни на кого не глядя, он подошел и встал рядом с Дисмасом. За ним последовал Иуда. Гестас и Мария, оставшись в меньшинстве, долго не продержались. Гестас махнул рукой:
– Ладно, идем. Хотя от постоянной болтовни этого сукина сына и болит голова.
Мария разрыдалась. Она обняла большой палец Создателя, прижала его к груди – кривой палец с грязным обломанным ногтем, твердый и холодный как могильная плита. Ей было страшно уходить от этих больших рук. Что может быть ужаснее, чем брести сквозь огромный ночной лес, брести самой по себе, без нитей, направляющих каждый шаг и каждую мысль! Что может быть ужаснее, чем не знать, какая судьба ожидает тебя через час, через минуту, через мгновение! Дисмас тоже чувствовал этот страх и не знал, как унять его, а потому просто терпеливо молчал.
Отплакав свое, Мария поцеловала ноготь Создателя и, все еще всхлипывая, присоединилась к остальным. В тишине и скорби, возглавляемые Сатаной, марионетки отправились на поиски Христа.
Поначалу казалось, что вся эта затея – одна гигантская ошибка, невыполнимая бредовая фантазия. Трава и корни деревьев были почти неодолимыми препятствиями. Однако стоило отчаяться, как Сатана вывел процессию на неширокую, но основательно протоптанную тропу, и идти стало не в пример легче.
Тропинка, усеянная желтой хвоей, вилась между высоченных сосен. Тут и там попадались упавшие шишки и следы звериных или птичьих лап. Сверху, из-под черных навесов крон, за шествием следили бледные холодные глаза, и каждая из марионеток чувствовала эти взгляды. Мария то и дело охала, при любом шорохе цеплялась за Гестаса. Сотник Лонгин пугал невидимых врагов копьем. Но никто не пикировал на маленьких деревянных человечков, никто не впивался загнутыми когтями в их головы и плечи, не утаскивал в кусты, не уносил в поднебесье – и вскоре путники стали понемногу успокаиваться.
– Ты и на тропе можешь различить следы убийц? – спросил Дисмас, поравнявшись с Сатаной.
– Нет. Но они точно прошли здесь.
– Откуда тебе это знать?
– Создатель был стар и болен… – вздохнул Сатана. – Он бы не стал продираться через бурелом, так?
– Наверное.
– Он тоже шел здесь. Эта тропа ведет в деревню, где была ярмарка. Девчонка видела наше представление – значит, она живет в деревне.
– Да, я вспомнил ее голос.
– Ну вот. Ничего сложного. Нужно добраться до деревни, а там отыщем ее жилье.
– Каким образом? В деревне много людей.
– У ее отца нет правой руки, и он готов зарезать первого встречного за несколько медяков. Думаешь, следует искать в зажиточных домах?
Эта фраза заставила Дисмаса задуматься. Он понимал, что Сатана имел в виду не совсем то, что произнес, но окончательный смысл уловить удалось не сразу. Насколько же проще было с Христом! Тот говорил: «Делай то», или «Не делай этого», или «Верующий в меня да не умрет», и никаких вопросов не возникало. Дисмас решил попросить Сатану впредь выражаться яснее, но едва он успел открыть рот, как сзади раздался крик:
– Ой! На меня что-то капнуло!
Процессия остановилась, все уставились на Иуду, который судорожно ощупывал свою макушку. На деревянных ладонях оставались черные пятна.
– Вода? – спросил Сатана. – С неба?
Иуда кивнул. Точно в подтверждение, еще одна большая капля упала на тропу у ног Гестаса и мгновенно впиталась в землю, оставив после себя мокрое пятно. Дисмас задрал голову. Звезд больше не было видно.
– Дело плохо, – сказал Сатана. – Нам нужно уйти с…
Дождь хлынул сплошной стеной. Увесистые капли забарабанили по палой хвое, по траве, по головам и спинам, по поднятым для защиты рукам. Марионетки бросились врассыпную – все, кроме Иоанна, который застыл на месте, подняв лицо. Единственный глаз его, быстро переполнившись влагой, пополз по щеке вниз. Иоанн разинул перекошенный рот и издал жуткий утробный вой, лишенный слов, но полный гнева и ненависти. Он проклинал небо. Через мгновение вода размыла и рот, превратила в вытянутую пасть, багровую рану, из которой теперь вырывался лишь протяжный хрип вроде того, что слышали они в последние секунды жизни Создателя.
Укрывшись среди корней ближайшей сосны, марионетки наблюдали, как растворяется в дожде любимый ученик Христа. Лицо его стекло на грудь, и то, что всего минуту назад было Иоанном, а до того – Авелем и безымянным ангелом, пошатнулось, рухнуло в мокрую хвою, затем поднялось на четвереньки и поплелось прочь, неспешно и бесцельно, словно червь или ручей.
– Надо ему помочь! – всхлипнула Мария и подалась вперед, но Гестас удержал ее на месте. Услышав этот всхлип, безликое существо на тропе вздрогнуло, повернулось и побрело к их укрытию. Мария зажмурилась. Упершись в корень, безликий поднялся на ноги. Покачиваясь из стороны в сторону, будто пьяный, он двинулся вдоль препятствия, слепо ощупывая пространство перед собой дрожащими руками.
– Видите?! – горячо прошептала Мария. – Видите? Он ищет нас!
Однако навстречу бывшему Иоанну она больше не рвалась. Вместо нее вперед шагнул сотник Лонгин. Выставив перед собой копье, он легко ткнул безликого в грудь. Тот пошатнулся, но устоял и уцепился за древко руками – неожиданно резко и цепко. Сотник попытался выдернуть оружие, однако безликий рванул древко на себя, едва не уронив старика лицом вниз. Неизвестно, чем могло закончиться это противостояние, если бы на помощь своему палачу не подоспели Дисмас и Гестас. Втроем им удалось вырвать копье из рук безликого. Тот, потеряв опору, опрокинулся навзничь, но в ту же секунду, не переворачиваясь, вновь пополз куда-то, оставляя за собой след на мокрой земле.
Лонгин, выругавшись, замахнулся копьем, однако пускать его в ход не пришлось. Удалившись на пару людских шагов, существо завязло в небольшой лужице, метнулось было обратно, но бессильно рухнуло в коричневую воду и замерло.
Почти минуту все молча смотрели, как оно неподвижно лежит под дождем.
– Царствие Небесное! – сказал тогда Сатана. – Мне нравился этот паренек.
– Молчи! – взвыла Мария, не глядя на него. – Ты нас сюда завел! Это твоя вина, твоя и Дисмаса.
Сатана засмеялся и хлопнул Дисмаса по плечу:
– Вот так, друг. А чего ты хотел? Позвал за собой, значит, теперь все – твоя вина. Что бы ни случилось.
– По-твоему, это повод для потехи? – сквозь зубы процедил Гестас. – Да?
– Да! – с вызовом ответил Сатана. – Мы все – лишь раскрашенные куски дерева. Не вижу беды в том, что один такой теперь валяется в луже. Мир ничего не потерял.
– Ах вот как! Почему бы тебе самому тогда туда не прилечь?! – С этими словами Гестас бросился на Сатану. Сцепившись, они повалились на влажную землю. Иуда и Дисмас кинулись разнимать. Прежде чем дерущихся удалось растащить, Гестас успел сломать Сатане правый рог, а сам получил копытом по лицу, отчего лишился доброй половины бороды.
– Надо же, – раздался над ними чужой голос, полный вкрадчивой злобы. – Такие маленькие люди, а ничем не отличаются от обычных.
Марионетки, тут же забыв о драке, уставились на гостя. Зверь смотрел на них из высокой травы, не обращая ни малейшего внимания на дождь. Никогда прежде не доводилось Дисмасу встречать подобных зверей. Грязно-рыжий и облезлый, он походил на собаку, но в узкой, изящной морде его и хитрых желтых глазах скользило что-то кошачье, что-то древнее, не знающее пощады.
– Ссоритесь, маленькие люди? – спросил зверь. – Может, я сумею рассудить вас?
– Мы не люди, – угрюмо сказал Гестас, поглаживая смазанную бороду. – И наши споры тебя не касаются.
– Хм… – Зверь наклонил голову в наигранной задумчивости. – А мне все-таки кажется, что люди. Ходите на двух ногах, шерсть не носите, не имеете хвостов. Пользуетесь тропой. Да, я давно за вами слежу. Настоящие люди, пусть и небольшого роста. Это хорошо, что вы такие маленькие.
– Почему?
– Потому что маленьких я смогу убить. Сами посудите, разве одолеть мне обычного человека? Он чересчур велик. Он расправляется с такими, как я, без всякого труда, счета и сожаления. Но на вас я отыграюсь.
Зверь атаковал резко и стремительно, еще до того, как стихло последнее произнесенное им слово. Никто из марионеток не успел даже моргнуть. Собачьи клыки сомкнулись на туловище Гестаса, стоявшего к чудовищу ближе остальных. Тот вскрикнул, рванулся, замолотил кулаками по серой морде, но эти удары не могли причинить хоть сколько-нибудь серьезного ущерба. Растолкав остальных, вперед выскочил сотник Лонгин. Подбежав вплотную к зверю, он несколько раз ткнул его копьем в шею и грудь. Острие не пробило шкуру, лишь бессильно скользило по влажной шерсти, но зверь отпрянул, будто напуганный одним только видом копья. Однако страх тут же погас в его желтых глазах. Припав к земле, он стиснул челюсти, перекусив Гестаса пополам, и ринулся на следующего противника. Огромная лапа сбила Лонгина с ног. Копье откатилось прочь. Зверь навис над сотником, клыками схватил его за голову в украшенном плюмажем шлеме и принялся яростно трясти из стороны в сторону, словно наказывая за попытку сопротивления. Конечности Лонгина болтались безвольно и жалко.
Сбросив с себя оцепенение, Дисмас подобрал с земли копье. Предполагал ли он когда-нибудь, наблюдая с креста за этим оружием, что однажды сам станет держать его в руках? Но жизнь оказалась изобретательнее любой библейской истории.
Обогнув зверя по широкой дуге, он подобрался на расстояние удара. Первый выпад не достиг цели. Но в следующую секунду что-то громко треснуло в стиснутых клыках чудовища, и обезглавленное тело Лонгина отлетело к сосне. Ударившись о ствол дерева, оно рухнуло наземь и застыло среди корней с неестественно раскинутыми руками. Зверь удовлетворенно рыкнул, выплюнул изжеванную голову сотника и замер, выбирая следующую жертву. В этот самый момент Дисмас размахнулся и обеими руками вогнал острие копья в желтый глаз.
Зверь взвизгнул и высоко подпрыгнул, вырвав древко из пальцев Дисмаса. Извернувшись в воздухе, плюхнулся на бок, перевернулся на живот, попытался подняться, но передние лапы подломились, и он ткнулся носом в хвою. Копье выскользнуло из раны, оставляя на серой шерсти кровавый след. Зверь замотал головой, как если бы пытался отогнать назойливую муху. Дисмас потянулся было к копью, но вынужден был отскочить от жутких челюстей, клацнувших прямо возле лица.
– Добивай! – заорал где-то за спиной Сатана. – Чур второй глаз мой!
Зверь оскалился и попятился. Его шатало. Крови на морде становилось все больше. Дисмас шагнул к нему, занес над головой кулак. Скуля и подвывая, зверь отшатнулся, юркнул в траву и скрылся из виду.
– Счастливо сдохнуть! – крикнул Сатана. – Как тебе маленькие люди, тварь?!
Дисмас обернулся. Он едва держался на ногах от пережитого страха. Иуда и Мария уже хлопотали возле Гестаса. Тот отмахивался, слабо бормоча что-то нечленораздельное. Оказалось, дождь уже заканчивался, только с древесных ветвей тут и там падали редкие капли. Сатана поднял с земли голову Лонгина в измятом жестяном шлеме, очистил от грязи и звериной слюны. От лица сотника почти ничего не осталось, клыки превратили его в неприглядное месиво, в котором никак не могла бы уцелеть Божья искра.
Гестасу повезло больше. Несмотря на то что тело его разломилось на две половины чуть ниже середины груди, он оставался в сознании, хотя и в расстроенных чувствах. Никакой речи о продолжении пути для него, разумеется, не шло. Иуда и Мария прислонили бедолагу к выступающему из земли сосновому корню, подперли у основания его же ногами.
– Может, удастся как-то склеить тебя… – бормотал Иуда, стараясь не смотреть Гестасу в глаза. – Или связать пенькой.
– К дьяволу пеньку! – скрипел в ответ Гестас. – Просто оставьте меня здесь, и все. На обратном пути заберете.
– Зверь может вернуться…
– Это вряд ли. Оставьте меня и ступайте, не теряйте времени. Я дождусь.
– Верно, – сказал Сатана. – Другого выхода нет.
– Я останусь с ним, – сказала Мария. В глазах ее, больших и чуть неровно нарисованных, сверкала такая ослепительная решимость, что никто не осмелился вымолвить и слова против. Дисмас даже почувствовал нечто вроде облегчения: после того как Мария обвинила его в случившемся с Иоанном, оставаться рядом с ней не хотелось.
Поэтому он не стал прощаться, а просто вышел на тропу, держа окровавленное копье на плече – так же, как делал сотник. Сатана с Иудой поспешно присоединились. Иуда боязливо поглядывал на небо и постоянно ощупывал ладонями макушку, на которой успела появиться заметная проплешина. Троица двинулась дальше, с осторожностью ступая по скользкой хвое. Позади Гестас и Мария говорили о чем-то, и Дисмас прибавил шагу, чтобы как можно скорее перестать слышать их голоса.
– Я вот думаю… – прокряхтел Сатана, с трудом поравнявшись с разбойником. – Может, бог с ним, с Христом, а?
– В каком смысле?
– В прямом, милый мой Дисмас. На черта он нам сдался? Ведь, по сути, все эти неприятности случились по его вине. Сам посуди: девчонка на ярмарке разволновалась из-за него, поэтому ее папаша и обратил внимание на Создателя, поэтому и пошел за ним, чтобы ограбить. Затем девчонка потребовала не кого-нибудь, а именно Христа, а мы, конечно, не смогли его бросить и ввязались в столь опасное предприятие…
– Ввязались? – с усмешкой переспросил Дисмас. – Ты же сам говорил о том, чтобы найти собственный путь.
– В точку! Собственный, а не тот же, каким шли прежде. По старому пути не пройти – большие ноги нужны, человечьи. Нас по нему в ящике таскали. Христос – это старый путь. Мы его еще найти не успели, а уже гибнем один за другим.
– Ясно. Что предлагаешь?
– Забраться в первое попавшееся дупло и там ночь переждать. Утром, как люди по тропе начнут ходить, станем присматриваться и выбирать. Кто понравится, тому прыгнем в заплечный мешок или на шляпу и поедем куда глаза глядят. Мир посмотрим, найдем место безопасное, без зверья и с крышей над головой.
– А Христа бросим?
– Предоставим собственной судьбе.
– И Гестаса с Марией?
– Там ничем не помочь. Ты и без меня это прекрасно понимаешь.
– Нет. – Дисмас остановился. – Не понимаю. – Он поднял копье Лонгина, уткнул багровое острие в грудь собеседнику и сказал, давясь гневом: – Я пошел спасать. Не себя. Другого. Так положено. Отойди от меня, Сатана.
Тот, воздев примирительно руки, отступил на шаг:
– Вижу, тебя не переубедить. Что ж, больше не стану приставать с разговорами.
Слово свое Сатана сдержал. Они пошли дальше в полной тишине. Время от времени Дисмас оборачивался, каждый раз ожидая увидеть пустую тропу, – но нет, оба его спутника продолжали угрюмо ковылять позади, то и дело стряхивая со ступней прилипшие иголки и тревожно озираясь по сторонам. До самого рассвета никто больше не проронил ни слова.
А на рассвете, когда солнце еще не выползло из-за горизонта, но уже затопило лес влажным мутным светом, они вышли к деревне. Тропа, струясь между деревьями, сбегала в низину, где, надежно укрытые от ветров окружающими холмами, жались друг к другу домики под красными черепичными крышами. Дисмас, прежде путешествовавший лишь в сундуке, ни за что бы не смог с уверенностью сказать, та ли это деревня, в которой прошлым вечером Создатель давал представление. На счастье, раздумывать долго не пришлось – Сатана осторожно коснулся его плеча и указал в сторону от тропы, на старый деревянный домишко, прилепившийся к склону холма:
– Взгляни на ворота.
Домишко был окружен покосившейся, а местами провалившейся изгородью, но ворота, собранные из трех могучих бревен, стояли ровно и крепко. А на воротах висел на загнутом ржавом гвозде фонарь. Тот самый фонарь, который ночью держал в единственной руке убийца, рассматривая содержимое сундука. Дисмас узнал его с первого взгляда.
– Какой у нас план? – спросил Иуда. – Кто-то ведь должен остаться снаружи, на всякий случай, так?
Дисмас пожал плечами:
– Наверное. Было бы здорово отвлечь собаку, если она там есть. Справишься?
– Попробую. А ты?
– А я – разбойник. Вот и займусь своим делом – проберусь внутрь, найду Христа и украду его. А то всю жизнь на кресте за воровство провисел, хотя ни одной кражи до сих пор не совершил. Обидно.
Сатана оскалил в ухмылке желтые клыки:
– Отлично. Я с тобой.
На то, чтобы добраться до дома, ушло почти полчаса. Большую часть этого времени они перелезали через огромное поваленное дерево, а потом еще пришлось обходить муравейник и вытаскивать Иуду из промоины, которую он не сумел перепрыгнуть. У ворот остановились и прислушались. Из-за них не доносилось ни звука. Дисмас просунул голову в зазор между жердями изгороди, но не смог ничего рассмотреть, потому что двор густо зарос крапивой.
Только протиснувшись в щель между створками ворот, он понял, что опасения оказались напрасны: собачья цепь, прикованная к кольцу у крыльца, проржавела, а сквозь звенья пробивалась наглая, давно не тревоженная трава. Путь был свободен.
Короткими перебежками – от ворот к лежащей на боку кадке, от кадки к пыльному мешку, от мешка к плетеной корзине – марионетки пересекли двор и по бревенчатой стене, цепляясь за торчащие тут и там пучки пакли, взобрались к окну, ставень которого был приоткрыт. Один за другим они пролезли внутрь и замерли на подоконнике в растерянности.
Прямо под ними на широкой лавке спал убийца Спасителя. В той же одежде, в тех же дырявых сапогах. Даже запекшаяся кровь еще виднелась на пальцах его левой руки, отставленной в сторону и повисшей над полом. Обмотанная тряпьем культя правой покоилась на груди. Убийца дышал ровно и спокойно, и лицо его казалось мягким, как у ребенка, несмотря на клочковатую бороду и длинный острый нос.
Сатана чуть не подпрыгнул от восторга и принялся ожесточенно жестикулировать, указывая сперва на копье Лонгина, потом на шею спящего и живописно проводя пальцем по собственному горлу. Дисмас покачал головой и прошептал:
– Сначала отыщем Христа.
– Но ты же сам этого хотел! – послышался злой шепот в ответ. – Лучше шанса не представится.
– Сначала отыщем Христа.
Нахмурившись, Сатана схватился за древко копья. Дисмас вырвал оружие и погрозил ему кулаком, но дожидаться ответной реакции не стал, а просто прыгнул вниз. Он мягко приземлился меж широко расставленных колен убийцы, на цыпочках прошел до торца лавки и по рукаву брошенного там камзола спустился на пол. Иуда, постоянно жмурясь и втягивая голову в плечи, последовал его примеру. Сатана же, сложив руки на груди, остался стоять на подоконнике.
Дисмаса это не волновало. Вместе с Иудой отправился он дальше, благо что в домике было всего две комнаты. Во второй, возле печки, сложенной из закопченных кирпичей, спала девочка, отвернувшись к стене и укрывшись с головой шерстяным одеялом. На столике возле ее изголовья, среди свечных огарков и яблочных огрызков, стоял Христос. Увидев товарищей по труппе, он вынужден был зажать себе рот руками, чтобы сдержать возглас удивления. Когда шок миновал, Сын Божий спросил сердитым шепотом:
– Вы зачем явились? Кто позволил?
– Мы за тобой, – в тон ему ответил Дисмас. – Хотим помочь вернуться.
– Вернуться? Куда?
– К нам.
– В сундук? В своем ли ты уме? Создатель умер. Что я там делать буду, на полянке гнить? Нет, разбойник, истинно говорю тебе: отныне место мое здесь.
– Постой… – Дисмас никак не мог поверить в то, что услышал. – Они же… убили его. Они!
– Ну и что? – Христос устало махнул рукой. – Это несчастные люди. Мать умерла уже давно. Отец потерял руку из-за несправедливого обвинения в воровстве. Он больше не может работать и потому губит свою бессмертную душу, промышляя разбоем, чтобы прокормить дитя. Разве не видишь, как сильно нуждается во мне сей дом?
– Я… – Слова вдруг подвели Дисмаса, оставили один на один с разверзшейся под ногами пустотой. – Но ведь ты – один из нас…
– Уже нет. Уходите. Вам нельзя оставаться.
– Поздно… – пробормотал Иуда, с ужасом глядя в соседнюю комнату, где заскрипели протяжно и отчаянно половицы. – Радуйся, отче…
– Какого дьявола?.. – раздался над ними сонный голос.
Тяжелыми, слегка нетвердыми шагами убийца вышел из спальни. Он тер ладонью лоб и зевал. На левом плече его, уцепившись за одежду, висел Сатана с торжествующей ухмылкой во все свое багровое лицо. Дисмас, не успев толком испугаться, хотел закричать, хотел ринуться в бой, бросить вызов новому зверю, пустить в ход оружие – но удар носком сапога швырнул его через всю комнату, к входной двери, и сломал древко копья.
– Какого дьявола?! – заорал во всю глотку убийца. – Совсем рехнулась, сучье отродье?!
Он обращался к девочке. Та, разбуженная воплем, села на кровати, еще не понимая, что происходит, – и тут же получила пощечину, от которой голова ее едва не оторвалась. Ловким, отработанным движением убийца стянул с себя ремень, замахнулся, ударил с оттягом. Девочка, застонав сквозь зубы, скатилась на пол и забилась под кровать.
– Что я тебе сказал, мерзавка?! – продолжал кричать убийца, остервенело хлеща ремнем по кровати. – Нельзя тащить сюда этих кукол! Нельзя!
Он сбил со стола Христа и стал топтать его обеими ногами, самозабвенно, со звериным наслаждением. Подкованные подошвы расправились с Сыном Божиим куда быстрее Понтия Пилата. Иуду ждала та же участь. Он лишь хрустнул жалобно, раскалываясь пополам, от промежности до макушки.
– Иди сюда, паскуда! – оттоптавшись на марионетках, зарычал убийца и нагнулся, чтобы, ухватив дочь за волосы, выволочь ее из-под кровати. От этого резкого движения Сатана сорвался с его плеча и растянулся на полу рядом с изувеченным Христом.
– Что я тебе ночью сказал, а? – Еще одна пощечина, оглушительно-звонкая. – Помнишь?!
– Только… одну… куклу… – задыхаясь, ответила девочка. Она не смотрела на отца.
– Вот именно! А ты сколько притащила? У, крыса! – Он толкнул ее, и девочка упала. – Вся в мать, упрямая да безмозглая!
Дисмас наблюдал за происходящим безучастно, ничем не выдавая гнева и страха. Он видел, как медленно поднимается на четвереньки Сатана, отвергая извечные законы всех марионеток и кукол. С багровой морды по-прежнему скалилась злобная улыбка того, кто побеждает любой ценой. Чего он хотел? Сбежать? Напасть на человека? Заговорить с ним?
– Чертова девчонка! На виселицу меня задумала отправить?
Убийца привстал, одной рукой сгреб с пола Сатану вместе с останками Иуды и Христа и, не разбирая, швырнул эту пеструю кучу в печку. Кинул сверху пару поленьев, щедро насыпал древесной стружки из ведра. Когда он, вытащив из кармана камзола огниво, начал высекать искру, девочка поднялась и побрела к выходу. На полу у двери она заметила Дисмаса, торопливо подхватила его и, не оглядываясь, выскочила наружу.
Здесь было уже совсем светло. Меж деревьев еще лежала легкая полупрозрачная дымка, и, стряхивая ее, лес пританцовывал под пение бесчисленных птиц. Из деревни доносился заливистый собачий лай. Мычали коровы, которых гнал на пастбище пастух. Девочка обогнула дом, перебралась через поваленный плетень и по дорожке, протоптанной в гуще бурьяна, вышла на небольшую полянку, где под навесом были свалены в кучу дрова – осиновые, березовые, сосновые. Непросто, должно быть, нарубить столько одной рукой, отрешенно подумал Дисмас.
Дочь убийцы уселась на чурбак, прижала марионетку к груди, погладила по голове:
– Не бойся, я тебя спрячу, а он через два дня все забудет. Он всегда забывает.
Дисмас молчал. Отсюда ему было прекрасно видно поросшую мхом крышу дома и торчащую над ней кирпичную трубу. Из трубы поползли клубы бледного дыма.
– А потом я тебя переодену, – продолжала девочка, баюкая Дисмаса. – Оторву кусочек от маминого платья, которое в подвале спрятала. Оно белое-белое, как раз для Христа подойдет. И волосы подрисую до плеч. Станешь у меня настоящим Христом, чистым и красивым. Все будет хорошо…
Дисмас качался на руках дочери убийцы, как на речных волнах, и не отрываясь смотрел на дым, что поднимался из трубы к светлому утреннему небу. Он жаждал вознесения.
Черные сказки
Ах, ах, глупый несчастный ребенок! Неужели тебе все еще мало? Или ты совсем не ведаешь страха? А ведь все, все предыдущие сказки говорили лишь об одном – не ходи в черный лес, не заглядывай под кровать, не отворяй дверцу старого шкафа! Знай меру, умей вовремя остановиться… Но ты не слушал! И будешь наказан – ибо поздно, уже слишком поздно нырять под одеялко и делать вид, что сладко спишь. Они уже здесь, на пороге твоей крохотной спаленки, – самые черствые, самые страшные, самые ЧЕРНЫЕ сказки!Станислав Пожарский. Моровая изба
 Любой васнянец, входивший в Дом Блага, будь то отрок, мужчина или старик, кланялся и произносил такие слова: «Избавь, Васняна Честивая». Что происходило внутри, Юра не знал, но говорили, будто возвращаешься оттуда другим человеком. Чистым, как свежевыстиранное белье. Обновленным, подобно дереву, пробуждающемуся от зимнего сна.
Обычно юноши заходили внутрь с опаской, взрослые – с нетерпением, а деды – со знанием дела. Все они, по словам сердцеведца Мирона, приносили с собой груз тягостных чувств и оставляли его в храме.
Снедаемые любопытством, братья Юрка и Тишка каждый раз мчались к Дому Блага и, укрывшись в гуще васнянки позади него, следили за прихожанами. За пять лет, что минули с тех пор, как отец отнес туда бездыханное тело матери, они бывали на своем посту даже чаще, чем на учебных занятиях.
В любой сказке, где есть запертая дверь, героя мучает желание отворить ее, хотя делать этого ни в коем случае нельзя. Для чего ему это? Возможно, чтобы поглазеть на спрятанный от посторонних ужас или увидеть, что его попросту обманывают. Это тоже некогда сказал Мирон на одном из своих занятий, где обычно учил младшее поколение «Лепте» Васняны.
Вообще он умный, Мирон. Не зря прозвали его сердцеведцем: ведал он сокровенные движения людского сердца, потому наверняка был ближе к Васняне, чем другие. Ребята его боялись и, когда выслеживали у Дома Блага, старались ему не попадаться, чтобы не гневить.
Вот и сейчас они прятались в зарослях, наблюдая, как двое мужиков покидают храм и растворяются в жарком мареве.
– Видел их лица? – спросил Тишка.
– Довольные.
– Ага.
В тот же миг позади ребят зашевелились кусты, а затем кто-то крикнул:
– Попались!
Юра так испугался, что даже приготовился распрощаться с жизнью. Но это была всего лишь Настя – рыжая девочка с усыпанным веснушками лицом. Про таких людей в народе говорили, что они поцелованы солнцем. Юре очень нравилось это слово – «поцелованы», особенно нравилось применять его к Насте.
– Совсем сдурела?! – шепотом поругался Тишка. – А ну, замолчи!
Подруга только посмеялась и легла на траву между мальчишками.
Августовский день был удушливым. Само лето в этом году выдалось не в меру жгучим. Оно иссушило и мумифицировало растительность, это тропическое лето в Ради́вах. Несколько недель горели леса. Горячий ветер переносил с места на место пыль увядших цветов. Одной лишь васнянке все нипочем – трава эта, усыпанная мелкими пестрыми розочками, цвела так пышно, будто питалась силами погибающих сородичей.
Под Юрой была нагретая земля, а рядом – Настино разгоряченное тело, он чувствовал его пыл, отчего сердце замирало. Прежде с ним такого не случалось, однако с приближением четырнадцатого дня рождения влечение к девочке усиливалось. Тишка вроде бы ничего подобного не ощущал.
– Через два дня вам обоим по четырнадцать стукнет, – понизив голос, сказала Настя. – И вы узнаете, что там внутри. А вот я никогда туда не попаду.
В самом деле, женщины Радив по какой-то причине Дом Блага не посещали. Юра как-то интересовался у отца почему, но тот отмахнулся: мол, зачем тебе знать?
Пока Настя говорила, он не сводил взгляда с ее губ цвета вызревающей малины. В уголок рта попал волос, который можно было бы убрать… своими губами, например.
– Мы тебе расскажем, – откликнулся Тишка.
Его лицо – точная копия Юриного: такие же ямочки на щеках, тот же нос с горбинкой, серо-зеленые глаза. И роста мальчики были одинакового. Немногие в Радивах могли их различить, но Настя умела, так как знала, что отличаются они отнюдь не внешностью.
Дом Блага хранил безмолвие. По виду он представлял собой крепко скроенное деревянное здание с размещенной наверху прямоугольной звонницей, обгаженной птицами. Колокол звучал на Юриной памяти лишь однажды – в день Явления, оповещая Радивы о приходе моровой избы. Но это было десять лет назад, и мальчик мало что помнил из того дня. Только крики людей, Тишкин плач и ужас на лице отца, произнесшего: «Спаси нас, Васняна. Оно идет».
– Где будете встречать Явление? – Настя повернулась к Юре и заглянула ему в лицо синими глазами, похожими на два пруда, отражающих небо. Какое же поэтическое красноречие вызывала она у него!
– В подвале, наверное, – сказал он, потупив взор и чувствуя, как краснеют щеки.
На Настином лице мелькнуло недоумение: то ли она разочаровалась ответом, то ли заметила краску, залившую лицо друга. Она сказала:
– Как скучно.
Так сложилось, что время перед днем рождения близнецов совпало с томительным ожиданием Явления. Этим словом обозначали чудотворное событие, вызывавшее восторг и пугавшее одновременно. Диво, в которое невозможно поверить, пока не увидишь собственными глазами.
Раз в десятилетие в Радивы приходила древняя изба. Шаг за шагом ступала она по главной улице на курьих ножках, кряхтя, словно старуха, еле вставшая с кровати, и скрывалась из виду. Никто не мог с уверенностью сказать, что это – божественное провидение или проделки темных сил.
– Я бы хотела на нее взглянуть.
– Это же опасно! – переполошился Юра.
По слухам, избу населяли старые духи, которые могли схватить любого, кто оказывался на пути. Взгляд глаз-окон нес мор, поэтому ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы изба повернулась в твою сторону. Листья и ветви, выпавшие на дорогу, сжигали, а саму дорогу окуривали дымом. Одни говорили, что в избе похоронена Васняна, потому и звали ее моровой, а другие отвечали, что это чушь собачья. Но все сходились во мнении, что изба приоткрывает дверь в мир мертвых.
Изба никогда не останавливалась. Она проходила по деревне, спускалась в лощину и терялась среди деревьев. Мирон рассказывал, что та миновала леса и степи, болота и топи, двигалась вдоль рек и озер, пока, наконец, сделав круг, не возвращалась к деревне. Весь путь составлял ровно десять лет. Встреча с ней наградила его хромотой до конца дней.
Настя мечтательно произнесла:
– Вот бы попасть внутрь…
– С ума сошла? – Тишка покрутил пальцем у виска. – Сразу умрешь.
Глаза ее вдруг сверкнули, точно в них поселились молнии. Это завораживало.
– Лучше умереть, чем жить с этой ведьмой!
Настина мать покинула мир, давая ей жизнь, поэтому девочка жила у тетки, которая порола ее по любому поводу.
– Не говори так, – прошептал Юра.
Внезапно распахнулась задняя дверь Дома Блага, и ребята, как по команде, пригнулись к земле. Из благочестивой тьмы, хромая на одну ногу, вышел Мирон – дебелый мужчина средних лет, которого невозможно спутать с кем-либо.
Мирон не был священником, но носил длинную черную рясу. Едва завидев его шагающим по улице, васнянцы кричали приветствия. Он – не глава деревни, но уважаем каждым ее жителем. Голосу его доверяли, на мнение полагались, а совета ждали, как манны небесной. Ведал он то, что не всем известно.
В обеих руках Мирон нес мешки, в которые засунули нечто такое, что оставило бурые потеки. Ноша, видать, была нелегкой: мужчина весь аж сгорбился от тяжести. Он бросил мешки у низенького забора и вернулся в храм.
– За мной! – скомандовал Юра и кинулся вперед, не дав никому опомниться.
– Юрка, стой! – Брат, как всегда, опасался беды.
Ребята пролезли сквозь бурьян, ловко перемахнули через забор. В тот момент, когда Тишка, протестуя, подбегал ближе, Юра развернул один из мешков.
Оттуда тянуло смертью. Это был особый запах, который запросто въедается в память. Как-то раз Юра присутствовал при забое коровы. Она тоскливо мычала, поскальзываясь на крови. Говорят, коровы понимают, что их ведут на бойню, и начинают плакать. Тогда плакал только Юра, да и то лишь потому, что был совсем маленьким. Так вот, пахло там, как из этого мешка: убийством, насилием, кровопролитием. Горьким отчаянием и изнывающей безысходностью. Настя даже зажала нос.
В мешке находились окровавленные дымящиеся останки. Красная мясистая плоть лоснилась на солнце, отражая свет.
– О Васняна, что же это?.. – произнес Юра, отметив, что подкатившая к горлу тошнота готова явить съеденный завтрак.
Куски тела некого зверя переплелись между собой в чарующий узор, который хоть и вызывал рвотные спазмы, но не позволял отвести глаз. Вот осколок белой кости, выступающий из месива, как сломанная стрела. Вот цепочка кишок, похожих на крупные рубины, искрящиеся пурпуром в отсветах кострища. А вот чья-то отсеченная рука, растопырившая пальцы…
– Что это вы тут делаете? – спросил суровый голос за спиной.
Юрино сердце ухнуло вниз, он медленно оглянулся и увидел Мирона. Мгновение они изучали друг друга, а потом мальчик вдруг сорвался с места. Он понесся прочь, раздвигая руками высокую траву. Ребята тоже бросились наутек.
Глянув через плечо, он увидел, как Настя на секунду затормозила и, смеясь, непристойно задрала юбку. Эх, и получат же они сегодня! Особенно Настя, чья тетка только и ждала от нее очередного проступка, чтобы вновь как следует выпороть. Мирон частенько повторял: «Кто не наказывает своих детей, будет наказан сам», а Васняна в «Лепте» назидала: «Боль отворотит от скверных замышлений».
Юра спрятался у себя во дворе и время от времени выглядывал за ворота, проверяя, не гонится ли Мирон за ним.
До Явления оставалось четыре дня. Васнянцы готовились к этому как могли: одни доделывали погреба, где можно укрыться, другие читали заговоры, третьи вывешивали на заборах гобелены с обережной вышивкой. Кто-то, опасаясь проклятия, собирал урожай, пусть тот и не поспел, а кто-то возводил стены на загонах для скотины, чтобы моровая изба не навлекла поветрие. В эти темные деньки васнянцы, все с одинаково хмурыми лицами, выглядели так, будто болели.
Мирон однажды поведал, что в древности пращуры ставили над местом погребения небольшие домики, в которые клали еду и вещи для покойников. Но мертвецы не могли дотянуться до них из-под земли. Тогда подобные дома стали делать просторнее, а усопших – размещать в них. Сами же избушки приподнимали и устанавливали на сваи или пеньки, чтобы те не касались земли: народ веровал, что стоять на земле должны лишь дома, построенные для живых.
В такой же избе была похоронена Васняна.
Такая же изба однажды решила пойти. Юре страсть как хотелось увидеть это диво воочию, но было страшно: мало ли что моровая изба с ним сделает?
Как ни странно, вечером отец вернулся из Дома Блага и не завел разговора о случившемся. Значит, Мирон не выдал их. Это радовало, но все же человечья рука, лежавшая в мешке среди других останков, не покидала Юрины мысли. Он даже подумывал сам рассказать о ней, однако терпеливо молчал, ведь если бы отец узнал, что мальчишки самовольно проникли во двор храма, мигом высек бы обоих.
Тишка не видел никакой руки. По его словам, Мирон выбросил испортившееся мясо какой-то скотины. Но ведь оно не пахло гнилью и выглядело свежим…
Брат вдруг спросил:
– Почему мы называемся васнянцами, хотя должны бы зваться ради́вцами?
Это отвлекло Юру от мрачных размышлений:
– Ты же веришь в Васняну?
– Да.
– Значит, ты васнянец. Это как те, кто верует во Христа, зовутся христовцами.
– Христианами, – поправил отец.
После посещения храма он сама благопристойность. Степенный, уравновешенный, чинный. Точно ручей, который легко обходит препятствия, плавно спускается с пологих склонов и не спеша продолжает путь.
Как правило, отец наведывался в Дом Блага раз в пару недель. Однако если расстраивался или слишком уж засматривался на Настину тетку, то мог ходить и чаще. У тетки Гальки были большущие груди, которые, стоило ей пошевелиться, тоже приходили в движение. Когда в летнюю пору она копалась в огороде, а ее груди висели, точно зрелые плоды, отец посещал Дом Блага два раза в неделю. Если же платье намокало от пота и просвечивали соски – темные, словно спелая вишня, то отец бегал в Дом Блага чуть ли не каждый день. Мама таких форм не имела.
Отец работал в пекарне и гордился своей бородой, которую не сбривал с юности. В остальном же ничем примечательным он не выделялся и был обычным васнянцем, как и все. Чересчур боязливым, быть может.
В день рождения братьев с самого утра каркала ворона. По народной примете, это к несчастью. Отец освободил их от работы по дому, поэтому они с Настей опять прятались за валуном, выслеживая Мирона у храма. Девочка раздала всем печенье, которое стащила у тетки, зная, что получит по первое число.
Она сообщила, что когда-то в Радивах было кладбище. Вчера ей удалось подслушать разговор тетки Гальки с соседкой. На месте кладбища теперь росла пшеница.
– Мы едим хлеб, выросший на мертвецах, – сказала Настя.
Ветер трепал ее рыжие волосы, надувал подол цветастого платья, и от вида белоснежной кожи выше колен Юра ощущал приятное возбуждение внизу живота.
Повертев в руках печенье, она добавила:
– Каждый колос пшеницы вобрал в себя частичку души покойника. А может, и его сгнившую плоть.
Тела умерших никто не хоронил, их приносили в Дом Блага. Так сказала тетка Галька, которая собственноручно омывала там трупы.
– А я думал, женщинам туда нельзя, – удивился Юра.
Настя поведала, что тела служили для каких-то целей.
– Для тайных обрядов, в которых участвуют только мужчины. – Она надкусила печенье и стала задумчиво жевать, словно смаковала частичку души мертвеца. – Вы сами узнаете все завтра.
До Явления оставалось два дня.
Следующим утром Юра битый час прождал Настю у ее дома, но она так и не вышла. Тетка Галька копошилась в огороде. Груди свисали чуть ли не до земли, как две здоровенные груши. Заметив его, она сказала:
– Иди отсюда.
Погода сегодня – ржаная каша, сожженная до черноты. Взбрызнутая кипящей водой и опаленная жарким дыханием печи. Небо, режущее глаза синевой, будто само выпило все осадки и теперь проявляло к васнянцам обжигающее безразличие.
В полдень отец сказал братьям, что пора идти. Мирон встречал их у храма, одетый в ту же просторную черную рясу, которая пахла затхлостью. Приблизившись к нему, Юра весь сжался, точно собака, ждущая удара. Липкий пот, перемешанный с прахом растений, который разносил горячий ветер, спекся в корку на коже. Сердцеведец, однако, не стал поминать прошлое.
– Ну же, смелее. Никто вас не укусит. – Приглашающим жестом он указал на распахнутую дверь.
Впервые переступая порог святыни, Юра чувствовал смесь возбуждения и страха. Торжественное ликование от того, что этот момент, наконец, настал. Но воспоминание о руке, лежащей в мешке, и Настин рассказ о ритуалах вызывали леденящий ужас, который сковывал все тело стальными цепями.
Юра произнес:
– Избавь, Васняна Честивая.
Внутри их встретила праведная тишь. Приятно холодила разгоряченные тела проповедная тьма. Создавалось впечатление, будто храм утопал в вечно длящейся ночи, но стоило глазам отдохнуть от яркого света, как они начали видеть.
Сам зал был небольшим. По обеим сторонам от прохода стояли деревянные стулья, именно здесь восседали старожилы Радив на сборах. К стенам примыкали кандила, напоминающие скелеты. Свечи погасили. Светлый участок был лишь в дальнем конце помещения – там, где под окнами расположился длинный стол. К нему Мирон и вел свою паству.
На столе лежало мертвое нагое тело.
Юра остолбенел. В лучах солнца, проникающих в окошки, гладкая бледная кожа будто светилась, рыжие волосы рассыпались по поверхности, маленькие груди торчали вверх, точно лисьи носики. Лицо покойной было все в веснушках.
Осознание пришло неожиданно и болезненно. Такое чувство, что на Юру с потолка обрушились камни. На столе находилась Настя, и она была мертва! Руки вытянуты вдоль тела. Лицо хмурое, словно девочка злилась, что мальчишки вот так смеют глазеть на нее, раздетую.
Комната опрокинулась на Юру – со всеми стульями, подсвечниками, с преподобной темнотой, скопившейся по углам. Он будто летел в пропасть, но стоило моргнуть, как пришедшая в движение комната вновь встала на свое место.
Какая ирония. Недавно Настя говорила, что никогда не попадет в Дом Блага. Как же судьба любит порой выставить напоказ нашу неправоту, подумал Юра и удивился этой стариковской мысли.
Настя была по-прежнему неотразима. Он впервые видел ее голой – такой униженной, оскверненной, но чарующей. Внезапно на него навалилась ярость, настолько безграничная, что душа закипела.
– Как вы могли убить ее?! – выкрикнул он, готовый броситься на Мирона, схватить за горло и душить, душить, душить.
Шея Насти имела жуткий синюшный цвет.
Суровый взгляд Мирона из-под кустистых бровей пригвоздил мальчика к месту. Он ответил таким ледяным тоном, что почудилось, будто в самой комнате наступили холода:
– Есть такая штука – долг судьбе. Вот она его отдала.
Юра ощутил, как со всех сторон повеяло ошеломляющим духом тоскливой безнадеги. Он безропотно опустил голову. Рядом всхлипывал Тишка, не в силах вымолвить хоть слово. В лучах света игриво танцевали пылинки.
Из-под стола Мирон достал длинные кнуты, какими обычно погоняли лошадей, и передал их мальчикам, третий хлыст оставил себе. Обходя стол по часовой стрелке, онпохлопывал кожаным ремешком по ладони.
– В каждом из вас сидят пороки: в одном – трусость, в другом – гнев.
Половицы постанывали от тяжелых шагов. Крупной фигурой Мирон на мгновение затмевал свет и восставал над братьями темным силуэтом. От него пахло потом и бесцеремонной властью.
– Любому человеку необходима эмоциональная разрядка. Если чувства переполняют его и вот-вот выплеснутся через край, это не сулит ничего хорошего.
Затем он сказал:
– Когда мальчик желает девочку, но не может ее заполучить, он ощущает неудовлетворенность. – Мирон встал в изголовье стола. – В нем рождается боль.
Он резко ударил кнутом по животу покойницы, а братья вздрогнули. Из Юриных глаз покатились слезы, заливая лицо, но даже сквозь них он видел длинную ярко-красную полосу, оставленную на коже ремнем.
– Эту боль нужно выпустить наружу, – закончил Мирон.
Его тучное тело проплыло мимо ребят подобно черному судну.
– Если дела мужчины идут из рук вон плохо, дохнет скотина, ломается телега или происходит черт знает что еще… – Голос набирал силу. – Если жена отказывает в утехах, а мужчину переполняет злость на соседа, в нем возникает боль.
Описывая полукруг, кнут взлетел ввысь и с жужжанием опустился меж грудей девочки, еще не до конца созревших. Удар рассек кожу, и по сторонам разлетелись брызги крови, похожие на мелких мошек.
– Эту боль нужно выпустить наружу.
Юра готов был лишиться чувств. Где-то в горле, глубоко в грудной клетке, появилась ужасная опухоль, почти камень, который нельзя ни проглотить, ни выплакать вместе со слезами. Мирон продолжил:
– Когда старик чует приближение смерти, слышит ее поступь и сетует на то, что не успел завершить дела… – Раскатами грома голос разносился по залу. – В нем возникает боль.
Наставник огрел труп несколько раз, и все это время воздух гудел от рассекающего его кнута. Кровоточащие раны чавкали и причмокивали. Юра обнаружил, что окна тут заляпаны багряными точками, под столом пол покрывали засохшие красные разводы. Мухи, напившиеся крови, радостно бились о стекла.
Мирон в неистовстве наносил один удар за другим, пока Настина левая рука не отделилась от тела чуть выше локтя. Сознание Юры помутилось. Помещение стало теснее, чем обычно, словно пространство вокруг сузилось.
– Мужчинам нужна возможность сбросить напряжение.
Сбросить напряжение, выпустить пар, дать волю злости, эмоционально разрядиться.
– Им сложнее себя сдерживать, разве нет? – От усилий Мирон громко сопел. – Им нужно нечто такое, во что можно направить всю свою спесь. Всю душевную боль.
«Коли нет во мне боли, то я жесткое серебро», – сказала Васняна. Объясняя эти слова, Мирон поучал, что в каждом человеке гнездится боль, которая и делает его человеком, но в то же время это недуг, способный затмить разум, подтолкнуть к низким поступкам.
Указав кнутом на Тишку, он изрек:
– Трусость – это такой же недуг. – Кончик хлыста уставился на Юру. – Гнев – тоже недуг. Как и от любой боли, от них нужно избавиться, пока не стало поздно.
Мирон подошел к дрожащим детям, склонился над ними и проговорил:
– Ведь коли нет во мне боли, то я жесткое серебро.
Своими большими руками он подтолкнул их к столу.
– Бейте.
Но ребята не двигались.
– БЕЙТЕ!
Переглядываясь и постанывая, братья поочередно начали кромсать хлыстами тело, которое корчилось и извивалось под градом ударов. Юра вкладывал в руки всю силу, какую имел, всю свою свирепость. Он словно обратился в пристанище страстей, а они разбухали в его нутре, пока, наконец, не излились наружу, точно кипящая лава из жерла вулкана. Досада, отчаяние, вязкая горечь и клокочущая злость завладели его существом, и мальчик уже не контролировал себя.
У Насти отпала нога. Окровавленное тело хлюпало, живот раскрылся, вывалив на стол внутренности. Теперь Юра понял, почему в Радивах нет кладбища: как и говорила подруга, все покойники попадали сюда, чтобы служить одной-единственной цели.
Настино тело разваливалось на части. Так и Юрина душа рвалась в лохмотья, так и его мечты разбивались вдребезги.
Ближе к вечеру братья брели домой опустошенные. Блики солнечного света еще лежали на улице, но уже потихоньку начинали исчезать, подобно рыжей лисице, медленно уползающей с прогретой лесной тропы. Вплоть до нынешнего дня это была самая обыкновенная улица, где, взрослея, они предавались детским забавам, воровали груши, сливы и яблоки, следили за Домом Блага. Теперь же ничего не радовало.
Дома Тишка забрался под одеяло с головой, а Юра сообщил отцу о смерти Насти. Без дрожи в голосе, слез и сожаления – вообще без чувств.
Почесывая бороду, отец сказал:
– Тетка сама ее отдала. Теперь ей легче будет прокормить весь свой выводок. Все-таки матери дети милы не оттого, что красивы, а потому, что свои, правда?
Правда в том, что бренна не только плоть, но и обстоятельства. Мечты и чувства тоже подвержены тлену. После жуткого ритуала к Юре пришло не спокойствие, а какое-то отупение. Его абсолютно не волновало происходящее: ни слова отца, ни скулеж пса, просящего еды, ни то, что Тишка обмочился в постели. Сидя на крыльце, он отстраненно наблюдал, как куры щиплют васнянку.
Завтра моровая изба пройдет по деревне, и жизнь вновь вольется в привычное русло. Жизнь без Насти. Только сейчас он признался себе, что без памяти влюблен в нее. Удивительно, но иногда нужно пережить потрясение, чтобы узнать о себе нечто новое.
Правда в том, что Настя заставляла Юрино сердце биться чаще, а ее собственное остановилось навсегда. Смириться с потерей было невыносимо трудно. Говорили, что моровая изба приоткрывает дверь в мир мертвых, вспомнилось Юре. Что, если, войдя в нее, он найдет Настю на другой стороне?
Всю ночь он не сомкнул глаз и оттачивал эту идею в голове, а под утро, как только уснул, его разбудил Тишка:
– Нас тоже убьют?
– Нет, дурачок, – сказал Юра, но сомнение в его голосе было настолько велико, что брат опять зашмыгал носом.
Утро не принесло облегчения. В Радивах было безлюдно, по дороге неупокоенным призраком летала пыль, смешанная с прахом погибших цветов. Однако деревня отнюдь не вымерла: васнянцы занимались последними приготовлениями к Явлению. Они занавешивали окна, затворяли ставни, запирали сараи, погреба и хлева, проверяли на прочность замки на входных дверях, будто изба могла войти к ним в дома. К полудню в воздухе повисла молчаливая тревога. Выглядывая в окно, Юра переминался с ноги на ногу в тревожном ожидании.
– По расчетам Мирона, изба прибудет после обеда, – сказал отец, прибивая к стене покрывало, завесившее окно. Руки и лицо у него были темными, огрубевшими от ветра и солнца, в бороде виднелась седина. Какой же он старый, подумал Юра. Случись что с отцом, заботиться о них не станет никто.
Вечером колокольный звон разбил задубевшее безмолвие, и Юра вдруг осознал, что находится на грани помешательства. Свет на улице померк, стал искаженным, словно глядишь через горлышко стеклянной бутылки. А может, это просто вечерело. Позади дома беспокойно закудахтали куры, запертые в сарае, где-то тоскливо мычала корова, пес скреб когтями по полу, надеясь выкопать себе укрытие или могилу.
– Она идет, – произнес отец, и слова эти тяжелым камнем легли на Юру, который вдруг понял, что не сможет совершить задуманное. Слишком страшно.
Окна выходили прямо на дорогу, которая, петляя меж домов, убегала в лощину. Там, вдали, двигалось что-то крупное – оно пряталось за деревьями и возникало снова. Юра ощущал, как кровь пульсирует в висках. Внезапно дома стало слишком душно, захотелось выйти на улицу и убежать куда-нибудь сломя голову. Меж оконных рам среди комков пыли и трупов мух он заметил монетку, поблескивающую на солнце, но никак не мог понять, какой стороной она лежит.
Может, стоит подбросить монетку и таким способом решить свою судьбу?
Из-за пригорка выступила моровая изба.
– Немедленно отойди от окна! – скомандовал отец где-то не здесь. В другом мире.
Но Юра не мог этого сделать. Он просто не был способен оторвать взгляда от завораживающего зрелища, ведь самая настоящая изба с двускатной крышей, окнами, порогом и дверью шагала по деревне. Она была такой ветхой, что оставляла позади себя толстый слой трухи, осыпающейся из днища. Покачиваясь и неуклюже переставляя ноги, хижина вышла на главную улицу.
Инородное пятно на застывшем августовском полотне.
У Юры закружилась голова. Перед глазами оживала легенда, которую он слышал всю жизнь, и никто не мог помешать ее воскрешению. Изба была скроена из цельных бревен, опорой ей служили обрубки деревьев, их ветви проросли сквозь пол и стены, переплелись между собой. Длиннющие корни, вытащенные из земли, волочились по дороге, точно переломанные птичьи пальцы, и издавали неприятный, выворачивающий душу звук. Покосившаяся дверь со скрипом болталась на петлях: то открывалась, демонстрируя зловещий мрак и приглашая войти, то вновь захлопывалась.
Как только изба приблизилась, Юра понял, что не может больше выносить дикого биения сердца. Если не сейчас, то никогда. Пока Тишка прятал лицо в подушку, а отец, стоя на коленях, молил Васняну отвести беду, Юра подбежал к двери, отодвинул засов и нырнул в тусклый свет угасающего дня.
За спиной отец крикнул:
– Сынок, остановись!
Он кинулся следом, но дальше порога пойти не осмелился – так и прятался в сенях, словно упырь, боящийся солнечных лучей. А Юра бежал навстречу избе. Не такая уж она и большая, какой ему представлялась. Взрослый человек войдет в дверь, только если низко пригнется, в остальном же это был самый обыкновенный дом, который разве что умел передвигаться.
Изба ковыляла к Юре, раскачивалась и трещала. Она смотрела на него, изучала. И вот в чем дело – под ее безотрадным взглядом Юра не умер.
Как же в нее забраться? По словам отца, васнянец крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. С этой мыслью Юра подбежал к чудовищу, подождал, когда оно сделает очередной шаг, подпрыгнул и ухватился за доску перед входом. За свою жизнь он не раз совершал безумные поступки: скатывался на санях со стога сена, заглядывал в окно спальни молодоженов. А однажды, проследив за Мироном, выносящим мусор, обнаружил в мешке человеческие останки. Но в сравнении с тем, что он делал сейчас, все это было просто детскими шалостями.
Чудище переваливалось с ноги на ногу, и Юру мотало в разные стороны, хлопающая дверь так и норовила стукнуть ему по голове. Но он держался довольно крепко, а в следующий миг подтянулся и взобрался на порог. Затем же, когда избушка снова накренилась, кубарем закатился внутрь.
Изба состояла из одной комнаты. Вырезанные в стенах окна не имели стекол и больше походили на продолговатые бойницы. Дощатый пол застилали пожухлые листья, перемешанные с сухими ветками, травой, тушками мелких зверей и птичьим пометом. С потолка клочьями свисала паутина. Над окном примостился большой осиный улей, а в углу под потолком было свито птичье гнездо.
Воздух тут был не затхлый и вовсе не напоминал удушливую застойную атмосферу чердака. Напротив, он словно жил. Не такой свежий, конечно, как снаружи: пахло в избе пылью и древностью. Однако неуловимые энергии рассекали пространство, заставляя воздух суетиться и елозить.
Тут, внутри, что-то было. Оно спало долгие годы, а сейчас, с появлением нежданного гостя, начало просыпаться. Глаза выхватили из темноты в углу очертания тела, которое лежало на полу, укрытое пологом гниющих листьев, убаюканное застарелым мраком.
В окошке виднелся искалеченный закат, чьи оранжево-пунцовые блики мерцали и, словно масляные капли, стекали с неба – не простого желтого оттенка с налетом жгучей охры, а цвета жженого каштана, тлеющего среди углей. Вечерний свет будто проходил сквозь несколько слоев воды и в конце концов изливался на Радивы меркнущей краснотой.
Тело на полу шевелилось. Вот из темноты показалась высохшая рука, с которой свисали лохмотья одежды. Или это истлевающая плоть? А вот мелькнула нога, обглоданная насекомыми до кости. Неужели это правда и хижина действительно Васнянин склеп?
– О Васняна, спаси…
Воздух превратился в кисель и пульсировал гармонией звуков: шагая вперед, изба ухала и дребезжала, листья шуршали, осыпаясь с покойницы, встающей на ноги, и это было похоже на звуки от скребущихся за стенами крыс.
Юру охватил панический страх, какой бывает, когда ребенок вдруг перестает чувствовать тепло материнской руки. Стены давили на него. Он боялся оказаться здесь взаперти, как один из усопших, которых встарь оставляли в моровых избах. Через плечо он бросил взгляд на дверь, открывающуюся в привычный мир. Она хлопнула, со скрипом отворилась и вновь захлопнулась.
Спустя миг мертвая Васняна выступила из тьмы, протягивая к Юре иссохшие руки. От внезапности он не удержал равновесия и с криком упал. Ее тело, как у мумии, было обернуто тряпками, которые со временем порвались и теперь распадались от каждого движения. Лицо наполовину пропало, плоть давно истлела, обнажив кое-где кость. На мгновение в гниющем месиве мелькнул провал беззубого рта. У Васняны не было глаз: на их месте находились светящиеся дыры – прямо-таки ямы, наполненные живыми углями, и они гудели, потрескивали, будто огонь, забравшийся внутрь тела, выжигал все, что там осталось.
Снаружи сгущались тени, в избе же они набухали, как губка, вбирающая черную воду. Когда божество – такое скорченное, изувеченное смертью – склонилось, Юра ощутил, как в него стал вливаться мрак. Он словно всасывал в себя темную бездну. Каждая его клетка, каждая пора от этого задышала по-новому.
Тьма волновалась, создавая причудливые яркие линии. Со временем рисунок становился более сложным, образы принимали форму, превращаясь в картины, подобия которым мальчик никогда не встречал прежде. Его захлестнули чувства – острые и пронзительные, они не шли ни в какое сравнение с тем, что ему доводилось переживать. Он будто скинул кожу, подставив под вихрь светящихся полос обнаженные мышцы и кости.
За линиями проступало какое-то изображение. Казалось, он смотрит на огромный гобелен, а взгляд то и дело выхватывает мелкие детали. Вот появились пышные кроны деревьев, кусок ночного неба, лик луны, плывущей по поверхности воды. А затем открылось безграничное пространство под усеявшими небо звездами. Юра наблюдал, как ветер шевелит траву, как плещутся в тине змеи, а стаи летучих мышей проносятся над головой и скрываются в переплетении веток. Местность неожиданно поменялась, будто кто-то перевернул страницу ожившей книги.
Теперь перед Юрой лежало поле колоссальных масштабов, где олени неспешно жевали траву и поднимали взоры к небу, наслаждаясь его величием. Однако олени тут были не одни: десяток хищников следили за ними из-за высокой травы. Безмятежность нарушил звучный рык, и волки, как по команде, помчались вперед. Юра смотрел, как хищники хватают добычу, вгрызаются ей в шею, вспарывают живот, вытаскивают потроха. Он одновременно испытывал ощущения, захлестнувшие оба лагеря. Опустошение и боль. Возбуждение и торжество победы.
Творящееся безрассудство сменилось новым видением: на берегу широкой реки с искрящейся водой стояла деревянная пристань, дощатый настил которой сплошь покрывала мохнатая зелень. Туман стелился по воде, на волнах покачивалась лодка – воплощение умиротворенности, олицетворение покоя. Юра ощутил приятную прохладу, а затем обратил внимание на огромную тень, двигавшуюся под водой. Неимоверных размеров чудовище, раскинув щупальца, выпрыгнуло на поверхность, схватило лодку и утащило на глубину.
Он миновал и эту местность тоже, продолжая путь по неизведанным землям. Картины сменялись перед глазами, одна изощреннее другой, – все, что когда-либо видела Васняна из окна своего ходячего гроба.
Наконец мальчик достиг цели. За иллюзорными баррикадами, выстроенными на пути, его ожидала Настя. Он не знал, что это – видение или реальность. Создала ли это Васняна? А может, Васняна сама – всего лишь его творение? Мысль, рожденная с целью придать всему смысл. Так или иначе Юра был несказанно рад встрече с подругой.
Он видел Настю, но видел также природу из окна избы, которая уже дошла до края деревни и начала спускаться с пригорка. Каким-то образом он находился в обоих местах одновременно. С вершины кедры и сосны казались кривым рядом клыков, достаточно острых и крупных, чтобы проглотить пространство. Деревья пронзали ночь, подпирали небо, нанизывая звезды на свои макушки.
Нечто инородное овладело Юриным рассудком. Васняна копалась в его голове, перебирала идеи, грезы, надежды, откидывала их в сторону, извлекала со дна души самые сокровенные мысли. Теперь она знала, что произошло в Радивах за время ее отсутствия. Теперь она знала о Доме Блага и, по всей видимости, пребывала в ярости.
Настино лицо было безжизненно-бледным, веснушки походили на маленькие дыры, ведущие в пропасть. Она лежала на столе в Доме Блага, нагая, покинутая всеми, окровавленная. В поле Юриного зрения попал Мирон, который, стоя у окна, провожал моровую избу. Тусклый свет от горящих свечей удлинял тени, корчащиеся, словно демоны, на полу и стенах. Дрожащими руками сердцеведец смахнул пот, заливающий глаза. Он еще не прибрал здесь, ведь труп мог пригодиться другим мужчинам, которым нужно было выпустить пар и изгнать из себя боль.
«Коли нет во мне боли, то я жесткое серебро», – так сказала Васняна в «Лепте».
В Юре была такая боль, она гнездилась в сердце, и обряд в Доме Блага не вылечил ее, а, наоборот, только усугубил. Коренилась такая боль и в Насте – она прямо-таки рвалась на волю, разнузданная и оголтелая, невзирая на то что девочка была мертва.
Дом Блага был построен из дерева. Сейчас нагретое здание остывало, издавая тихие постанывающие звуки, отчего Мирону казалось, что он тут не один. Что рядом есть кто-то еще.
Васняна сказала свое слово.
Изба повернула назад, держа курс к Дому Блага. Мертвая Настя села на столе.
Резкий поворот кинул Юру прямо в объятия восставшей мумии, и та схватила его – да так крепко, что не вырваться. Глядя в ее пылающие глаза, он вдруг понял: ничего на свете не делается произвольно и любая случайность имеет свой повод. Планеты выстраиваются в ряд, звезды гаснут, зажигаются вновь и складываются в созвездия, времена года сменяют друг друга – все эти явления происходят неспроста, на то есть веские причины, хотя мы их и не понимаем. Даже олени из видения были посланы в мир с определенной целью – послужить кормом волкам, которые впоследствии продолжат свой род.
Теперь Юра сообразил, почему попал в избу. Откровение посетило его мгновенно. Вероятно, именно так к пророкам нисходила мудрость. Вспомнилось, что однажды Васняна уже пыталась избавиться от Мирона: тогда дверной проем моровой избы превратился в пасть и чудище схватило его за ногу. Сердцеведец болтался из стороны в сторону, вопя во все горло и размахивая руками, пока изба поедала его конечность.
Вроде бы таких подробностей Юра никогда не знал. Означало ли это, что богиня показала ему прошлое?
Не был Мирон наперсником Васняны, все это ложь. Пыль, пущенная в глаза васнянцам, которые, похоже, не совсем дальновидны, раз доверились такому подлому человеку, творившему жуткие дела у них перед носом. До Юры дошло: Настя должна была умереть, чтобы он забрался в избу. Чтобы от него Васняна узнала обо всем, что учинил Мирон в поселении, в котором она сама жила когда-то.
Настя спустилась на пол и встала на единственную целую ногу.
Краем глаза Мирон заметил движение и обомлел. Он заставил себя оглянуться, хотя это далось нелегко. Веки покойницы были опущены, но она все равно смотрела на него сквозь них. Из распоротой раны на животе до самых колен свисали внутренности. Кровавые раны и порезы на теле походили на стигматы. Длинная искореженная тень черным духом восставала над мертвецом, тянулась по потолку, как будто желая добраться до Мирона.
Настя подобрала хлыст. Второй руки у девочки не было, на ее месте зияла страшная рана. Оголенная лоснящаяся плоть напоминала кошмарный цветок, из бутона которого торчал кусок кости. Мирон понесся наутек, но налетел на стулья и неуклюже упал в проходе, своим дородным телом разломав пару штук.
Но покойница каким-то непостижимым образом в три прыжка нагнала жертву и встала над ней, точно палач, исполняющий приговор. Она желала выпустить боль.
Снаружи послышались крики васнянцев, заметивших возвращающуюся избу. А Настя вознесла хлыст над головой и резко опустила – он с визгом рассек воздух и оставил на лице Мирона красную полосу, которая протянулась от подбородка до лба. Глаз от удара лопнул и вытек из глазницы, в храме раздался вопль, такой громкий, что задребезжали стекла.
Коли нет во мне боли, то я жесткое серебро.
Последовал второй удар, третий, четвертый, и все это время плеть, описывая дугу в воздухе, издавала короткий, но громкий хлопок, за которым следовал мучительный крик. Мирон утирал кровь и слезы с разбитого лица, а Настя и не думала останавливаться.
Мертвая девочка лупила мужчину кнутом, изба спешила к месту событий, Васняна вопила мытарским гласом – все это отражалось на Юре и даже внутри него, словно он стал зеркалом.
Когда изба приблизилась к храму, в дымящихся останках уже невозможно было опознать Мирона. Дом Блага напоминал помещение бойни, которую однажды посещал Юра и видел, как забивали корову. Он вылез из избы. Осторожно ступая по красному липкому полу, обходя мертвецов, он добрался до стены и опрокинул подсвечники с горящими свечами. Огонь тут же напал на стулья, начал быстро разбегаться по сторонам. Настя закончила миссию и навсегда оставила свою оболочку: ее тело упало рядом с окровавленной массой, бывшей когда-то человеком.
Юре до сих пор не верилось, что это происходит на самом деле. Возможно, если он сосредоточится на том, чтобы вернуться в реальность, мираж исчезнет? Но этого не случилось.
Он увидел, как Васняна в последний раз показалась в дверном проеме своего склепа. Почерневшая, гнилостная мумия, в ней проступало нечто нечеловеческое. Живыми глазами, наполненными огнем, который теперь бушевал вокруг, она взглянула на мальчика, а тот сумел выдержать взгляд и не сломаться.
Изменится ли что-то в Радивах? Как сложится судьба деревни? Вот что хотелось спросить Юре, но язык у него отнялся. Искореженная фигура скрылась во тьме. Моровая изба покачнулась и пошла привычным путем – в сторону леса. Она ковыляла по деревне, грохоча и хрупая. Двигалась вперед под яркими звездами, чтобы через десять лет возвратиться вновь.
Любой васнянец, входивший в Дом Блага, будь то отрок, мужчина или старик, кланялся и произносил такие слова: «Избавь, Васняна Честивая». Что происходило внутри, Юра не знал, но говорили, будто возвращаешься оттуда другим человеком. Чистым, как свежевыстиранное белье. Обновленным, подобно дереву, пробуждающемуся от зимнего сна.
Обычно юноши заходили внутрь с опаской, взрослые – с нетерпением, а деды – со знанием дела. Все они, по словам сердцеведца Мирона, приносили с собой груз тягостных чувств и оставляли его в храме.
Снедаемые любопытством, братья Юрка и Тишка каждый раз мчались к Дому Блага и, укрывшись в гуще васнянки позади него, следили за прихожанами. За пять лет, что минули с тех пор, как отец отнес туда бездыханное тело матери, они бывали на своем посту даже чаще, чем на учебных занятиях.
В любой сказке, где есть запертая дверь, героя мучает желание отворить ее, хотя делать этого ни в коем случае нельзя. Для чего ему это? Возможно, чтобы поглазеть на спрятанный от посторонних ужас или увидеть, что его попросту обманывают. Это тоже некогда сказал Мирон на одном из своих занятий, где обычно учил младшее поколение «Лепте» Васняны.
Вообще он умный, Мирон. Не зря прозвали его сердцеведцем: ведал он сокровенные движения людского сердца, потому наверняка был ближе к Васняне, чем другие. Ребята его боялись и, когда выслеживали у Дома Блага, старались ему не попадаться, чтобы не гневить.
Вот и сейчас они прятались в зарослях, наблюдая, как двое мужиков покидают храм и растворяются в жарком мареве.
– Видел их лица? – спросил Тишка.
– Довольные.
– Ага.
В тот же миг позади ребят зашевелились кусты, а затем кто-то крикнул:
– Попались!
Юра так испугался, что даже приготовился распрощаться с жизнью. Но это была всего лишь Настя – рыжая девочка с усыпанным веснушками лицом. Про таких людей в народе говорили, что они поцелованы солнцем. Юре очень нравилось это слово – «поцелованы», особенно нравилось применять его к Насте.
– Совсем сдурела?! – шепотом поругался Тишка. – А ну, замолчи!
Подруга только посмеялась и легла на траву между мальчишками.
Августовский день был удушливым. Само лето в этом году выдалось не в меру жгучим. Оно иссушило и мумифицировало растительность, это тропическое лето в Ради́вах. Несколько недель горели леса. Горячий ветер переносил с места на место пыль увядших цветов. Одной лишь васнянке все нипочем – трава эта, усыпанная мелкими пестрыми розочками, цвела так пышно, будто питалась силами погибающих сородичей.
Под Юрой была нагретая земля, а рядом – Настино разгоряченное тело, он чувствовал его пыл, отчего сердце замирало. Прежде с ним такого не случалось, однако с приближением четырнадцатого дня рождения влечение к девочке усиливалось. Тишка вроде бы ничего подобного не ощущал.
– Через два дня вам обоим по четырнадцать стукнет, – понизив голос, сказала Настя. – И вы узнаете, что там внутри. А вот я никогда туда не попаду.
В самом деле, женщины Радив по какой-то причине Дом Блага не посещали. Юра как-то интересовался у отца почему, но тот отмахнулся: мол, зачем тебе знать?
Пока Настя говорила, он не сводил взгляда с ее губ цвета вызревающей малины. В уголок рта попал волос, который можно было бы убрать… своими губами, например.
– Мы тебе расскажем, – откликнулся Тишка.
Его лицо – точная копия Юриного: такие же ямочки на щеках, тот же нос с горбинкой, серо-зеленые глаза. И роста мальчики были одинакового. Немногие в Радивах могли их различить, но Настя умела, так как знала, что отличаются они отнюдь не внешностью.
Дом Блага хранил безмолвие. По виду он представлял собой крепко скроенное деревянное здание с размещенной наверху прямоугольной звонницей, обгаженной птицами. Колокол звучал на Юриной памяти лишь однажды – в день Явления, оповещая Радивы о приходе моровой избы. Но это было десять лет назад, и мальчик мало что помнил из того дня. Только крики людей, Тишкин плач и ужас на лице отца, произнесшего: «Спаси нас, Васняна. Оно идет».
– Где будете встречать Явление? – Настя повернулась к Юре и заглянула ему в лицо синими глазами, похожими на два пруда, отражающих небо. Какое же поэтическое красноречие вызывала она у него!
– В подвале, наверное, – сказал он, потупив взор и чувствуя, как краснеют щеки.
На Настином лице мелькнуло недоумение: то ли она разочаровалась ответом, то ли заметила краску, залившую лицо друга. Она сказала:
– Как скучно.
Так сложилось, что время перед днем рождения близнецов совпало с томительным ожиданием Явления. Этим словом обозначали чудотворное событие, вызывавшее восторг и пугавшее одновременно. Диво, в которое невозможно поверить, пока не увидишь собственными глазами.
Раз в десятилетие в Радивы приходила древняя изба. Шаг за шагом ступала она по главной улице на курьих ножках, кряхтя, словно старуха, еле вставшая с кровати, и скрывалась из виду. Никто не мог с уверенностью сказать, что это – божественное провидение или проделки темных сил.
– Я бы хотела на нее взглянуть.
– Это же опасно! – переполошился Юра.
По слухам, избу населяли старые духи, которые могли схватить любого, кто оказывался на пути. Взгляд глаз-окон нес мор, поэтому ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы изба повернулась в твою сторону. Листья и ветви, выпавшие на дорогу, сжигали, а саму дорогу окуривали дымом. Одни говорили, что в избе похоронена Васняна, потому и звали ее моровой, а другие отвечали, что это чушь собачья. Но все сходились во мнении, что изба приоткрывает дверь в мир мертвых.
Изба никогда не останавливалась. Она проходила по деревне, спускалась в лощину и терялась среди деревьев. Мирон рассказывал, что та миновала леса и степи, болота и топи, двигалась вдоль рек и озер, пока, наконец, сделав круг, не возвращалась к деревне. Весь путь составлял ровно десять лет. Встреча с ней наградила его хромотой до конца дней.
Настя мечтательно произнесла:
– Вот бы попасть внутрь…
– С ума сошла? – Тишка покрутил пальцем у виска. – Сразу умрешь.
Глаза ее вдруг сверкнули, точно в них поселились молнии. Это завораживало.
– Лучше умереть, чем жить с этой ведьмой!
Настина мать покинула мир, давая ей жизнь, поэтому девочка жила у тетки, которая порола ее по любому поводу.
– Не говори так, – прошептал Юра.
Внезапно распахнулась задняя дверь Дома Блага, и ребята, как по команде, пригнулись к земле. Из благочестивой тьмы, хромая на одну ногу, вышел Мирон – дебелый мужчина средних лет, которого невозможно спутать с кем-либо.
Мирон не был священником, но носил длинную черную рясу. Едва завидев его шагающим по улице, васнянцы кричали приветствия. Он – не глава деревни, но уважаем каждым ее жителем. Голосу его доверяли, на мнение полагались, а совета ждали, как манны небесной. Ведал он то, что не всем известно.
В обеих руках Мирон нес мешки, в которые засунули нечто такое, что оставило бурые потеки. Ноша, видать, была нелегкой: мужчина весь аж сгорбился от тяжести. Он бросил мешки у низенького забора и вернулся в храм.
– За мной! – скомандовал Юра и кинулся вперед, не дав никому опомниться.
– Юрка, стой! – Брат, как всегда, опасался беды.
Ребята пролезли сквозь бурьян, ловко перемахнули через забор. В тот момент, когда Тишка, протестуя, подбегал ближе, Юра развернул один из мешков.
Оттуда тянуло смертью. Это был особый запах, который запросто въедается в память. Как-то раз Юра присутствовал при забое коровы. Она тоскливо мычала, поскальзываясь на крови. Говорят, коровы понимают, что их ведут на бойню, и начинают плакать. Тогда плакал только Юра, да и то лишь потому, что был совсем маленьким. Так вот, пахло там, как из этого мешка: убийством, насилием, кровопролитием. Горьким отчаянием и изнывающей безысходностью. Настя даже зажала нос.
В мешке находились окровавленные дымящиеся останки. Красная мясистая плоть лоснилась на солнце, отражая свет.
– О Васняна, что же это?.. – произнес Юра, отметив, что подкатившая к горлу тошнота готова явить съеденный завтрак.
Куски тела некого зверя переплелись между собой в чарующий узор, который хоть и вызывал рвотные спазмы, но не позволял отвести глаз. Вот осколок белой кости, выступающий из месива, как сломанная стрела. Вот цепочка кишок, похожих на крупные рубины, искрящиеся пурпуром в отсветах кострища. А вот чья-то отсеченная рука, растопырившая пальцы…
– Что это вы тут делаете? – спросил суровый голос за спиной.
Юрино сердце ухнуло вниз, он медленно оглянулся и увидел Мирона. Мгновение они изучали друг друга, а потом мальчик вдруг сорвался с места. Он понесся прочь, раздвигая руками высокую траву. Ребята тоже бросились наутек.
Глянув через плечо, он увидел, как Настя на секунду затормозила и, смеясь, непристойно задрала юбку. Эх, и получат же они сегодня! Особенно Настя, чья тетка только и ждала от нее очередного проступка, чтобы вновь как следует выпороть. Мирон частенько повторял: «Кто не наказывает своих детей, будет наказан сам», а Васняна в «Лепте» назидала: «Боль отворотит от скверных замышлений».
Юра спрятался у себя во дворе и время от времени выглядывал за ворота, проверяя, не гонится ли Мирон за ним.
До Явления оставалось четыре дня. Васнянцы готовились к этому как могли: одни доделывали погреба, где можно укрыться, другие читали заговоры, третьи вывешивали на заборах гобелены с обережной вышивкой. Кто-то, опасаясь проклятия, собирал урожай, пусть тот и не поспел, а кто-то возводил стены на загонах для скотины, чтобы моровая изба не навлекла поветрие. В эти темные деньки васнянцы, все с одинаково хмурыми лицами, выглядели так, будто болели.
Мирон однажды поведал, что в древности пращуры ставили над местом погребения небольшие домики, в которые клали еду и вещи для покойников. Но мертвецы не могли дотянуться до них из-под земли. Тогда подобные дома стали делать просторнее, а усопших – размещать в них. Сами же избушки приподнимали и устанавливали на сваи или пеньки, чтобы те не касались земли: народ веровал, что стоять на земле должны лишь дома, построенные для живых.
В такой же избе была похоронена Васняна.
Такая же изба однажды решила пойти. Юре страсть как хотелось увидеть это диво воочию, но было страшно: мало ли что моровая изба с ним сделает?
Как ни странно, вечером отец вернулся из Дома Блага и не завел разговора о случившемся. Значит, Мирон не выдал их. Это радовало, но все же человечья рука, лежавшая в мешке среди других останков, не покидала Юрины мысли. Он даже подумывал сам рассказать о ней, однако терпеливо молчал, ведь если бы отец узнал, что мальчишки самовольно проникли во двор храма, мигом высек бы обоих.
Тишка не видел никакой руки. По его словам, Мирон выбросил испортившееся мясо какой-то скотины. Но ведь оно не пахло гнилью и выглядело свежим…
Брат вдруг спросил:
– Почему мы называемся васнянцами, хотя должны бы зваться ради́вцами?
Это отвлекло Юру от мрачных размышлений:
– Ты же веришь в Васняну?
– Да.
– Значит, ты васнянец. Это как те, кто верует во Христа, зовутся христовцами.
– Христианами, – поправил отец.
После посещения храма он сама благопристойность. Степенный, уравновешенный, чинный. Точно ручей, который легко обходит препятствия, плавно спускается с пологих склонов и не спеша продолжает путь.
Как правило, отец наведывался в Дом Блага раз в пару недель. Однако если расстраивался или слишком уж засматривался на Настину тетку, то мог ходить и чаще. У тетки Гальки были большущие груди, которые, стоило ей пошевелиться, тоже приходили в движение. Когда в летнюю пору она копалась в огороде, а ее груди висели, точно зрелые плоды, отец посещал Дом Блага два раза в неделю. Если же платье намокало от пота и просвечивали соски – темные, словно спелая вишня, то отец бегал в Дом Блага чуть ли не каждый день. Мама таких форм не имела.
Отец работал в пекарне и гордился своей бородой, которую не сбривал с юности. В остальном же ничем примечательным он не выделялся и был обычным васнянцем, как и все. Чересчур боязливым, быть может.
В день рождения братьев с самого утра каркала ворона. По народной примете, это к несчастью. Отец освободил их от работы по дому, поэтому они с Настей опять прятались за валуном, выслеживая Мирона у храма. Девочка раздала всем печенье, которое стащила у тетки, зная, что получит по первое число.
Она сообщила, что когда-то в Радивах было кладбище. Вчера ей удалось подслушать разговор тетки Гальки с соседкой. На месте кладбища теперь росла пшеница.
– Мы едим хлеб, выросший на мертвецах, – сказала Настя.
Ветер трепал ее рыжие волосы, надувал подол цветастого платья, и от вида белоснежной кожи выше колен Юра ощущал приятное возбуждение внизу живота.
Повертев в руках печенье, она добавила:
– Каждый колос пшеницы вобрал в себя частичку души покойника. А может, и его сгнившую плоть.
Тела умерших никто не хоронил, их приносили в Дом Блага. Так сказала тетка Галька, которая собственноручно омывала там трупы.
– А я думал, женщинам туда нельзя, – удивился Юра.
Настя поведала, что тела служили для каких-то целей.
– Для тайных обрядов, в которых участвуют только мужчины. – Она надкусила печенье и стала задумчиво жевать, словно смаковала частичку души мертвеца. – Вы сами узнаете все завтра.
До Явления оставалось два дня.
Следующим утром Юра битый час прождал Настю у ее дома, но она так и не вышла. Тетка Галька копошилась в огороде. Груди свисали чуть ли не до земли, как две здоровенные груши. Заметив его, она сказала:
– Иди отсюда.
Погода сегодня – ржаная каша, сожженная до черноты. Взбрызнутая кипящей водой и опаленная жарким дыханием печи. Небо, режущее глаза синевой, будто само выпило все осадки и теперь проявляло к васнянцам обжигающее безразличие.
В полдень отец сказал братьям, что пора идти. Мирон встречал их у храма, одетый в ту же просторную черную рясу, которая пахла затхлостью. Приблизившись к нему, Юра весь сжался, точно собака, ждущая удара. Липкий пот, перемешанный с прахом растений, который разносил горячий ветер, спекся в корку на коже. Сердцеведец, однако, не стал поминать прошлое.
– Ну же, смелее. Никто вас не укусит. – Приглашающим жестом он указал на распахнутую дверь.
Впервые переступая порог святыни, Юра чувствовал смесь возбуждения и страха. Торжественное ликование от того, что этот момент, наконец, настал. Но воспоминание о руке, лежащей в мешке, и Настин рассказ о ритуалах вызывали леденящий ужас, который сковывал все тело стальными цепями.
Юра произнес:
– Избавь, Васняна Честивая.
Внутри их встретила праведная тишь. Приятно холодила разгоряченные тела проповедная тьма. Создавалось впечатление, будто храм утопал в вечно длящейся ночи, но стоило глазам отдохнуть от яркого света, как они начали видеть.
Сам зал был небольшим. По обеим сторонам от прохода стояли деревянные стулья, именно здесь восседали старожилы Радив на сборах. К стенам примыкали кандила, напоминающие скелеты. Свечи погасили. Светлый участок был лишь в дальнем конце помещения – там, где под окнами расположился длинный стол. К нему Мирон и вел свою паству.
На столе лежало мертвое нагое тело.
Юра остолбенел. В лучах солнца, проникающих в окошки, гладкая бледная кожа будто светилась, рыжие волосы рассыпались по поверхности, маленькие груди торчали вверх, точно лисьи носики. Лицо покойной было все в веснушках.
Осознание пришло неожиданно и болезненно. Такое чувство, что на Юру с потолка обрушились камни. На столе находилась Настя, и она была мертва! Руки вытянуты вдоль тела. Лицо хмурое, словно девочка злилась, что мальчишки вот так смеют глазеть на нее, раздетую.
Комната опрокинулась на Юру – со всеми стульями, подсвечниками, с преподобной темнотой, скопившейся по углам. Он будто летел в пропасть, но стоило моргнуть, как пришедшая в движение комната вновь встала на свое место.
Какая ирония. Недавно Настя говорила, что никогда не попадет в Дом Блага. Как же судьба любит порой выставить напоказ нашу неправоту, подумал Юра и удивился этой стариковской мысли.
Настя была по-прежнему неотразима. Он впервые видел ее голой – такой униженной, оскверненной, но чарующей. Внезапно на него навалилась ярость, настолько безграничная, что душа закипела.
– Как вы могли убить ее?! – выкрикнул он, готовый броситься на Мирона, схватить за горло и душить, душить, душить.
Шея Насти имела жуткий синюшный цвет.
Суровый взгляд Мирона из-под кустистых бровей пригвоздил мальчика к месту. Он ответил таким ледяным тоном, что почудилось, будто в самой комнате наступили холода:
– Есть такая штука – долг судьбе. Вот она его отдала.
Юра ощутил, как со всех сторон повеяло ошеломляющим духом тоскливой безнадеги. Он безропотно опустил голову. Рядом всхлипывал Тишка, не в силах вымолвить хоть слово. В лучах света игриво танцевали пылинки.
Из-под стола Мирон достал длинные кнуты, какими обычно погоняли лошадей, и передал их мальчикам, третий хлыст оставил себе. Обходя стол по часовой стрелке, онпохлопывал кожаным ремешком по ладони.
– В каждом из вас сидят пороки: в одном – трусость, в другом – гнев.
Половицы постанывали от тяжелых шагов. Крупной фигурой Мирон на мгновение затмевал свет и восставал над братьями темным силуэтом. От него пахло потом и бесцеремонной властью.
– Любому человеку необходима эмоциональная разрядка. Если чувства переполняют его и вот-вот выплеснутся через край, это не сулит ничего хорошего.
Затем он сказал:
– Когда мальчик желает девочку, но не может ее заполучить, он ощущает неудовлетворенность. – Мирон встал в изголовье стола. – В нем рождается боль.
Он резко ударил кнутом по животу покойницы, а братья вздрогнули. Из Юриных глаз покатились слезы, заливая лицо, но даже сквозь них он видел длинную ярко-красную полосу, оставленную на коже ремнем.
– Эту боль нужно выпустить наружу, – закончил Мирон.
Его тучное тело проплыло мимо ребят подобно черному судну.
– Если дела мужчины идут из рук вон плохо, дохнет скотина, ломается телега или происходит черт знает что еще… – Голос набирал силу. – Если жена отказывает в утехах, а мужчину переполняет злость на соседа, в нем возникает боль.
Описывая полукруг, кнут взлетел ввысь и с жужжанием опустился меж грудей девочки, еще не до конца созревших. Удар рассек кожу, и по сторонам разлетелись брызги крови, похожие на мелких мошек.
– Эту боль нужно выпустить наружу.
Юра готов был лишиться чувств. Где-то в горле, глубоко в грудной клетке, появилась ужасная опухоль, почти камень, который нельзя ни проглотить, ни выплакать вместе со слезами. Мирон продолжил:
– Когда старик чует приближение смерти, слышит ее поступь и сетует на то, что не успел завершить дела… – Раскатами грома голос разносился по залу. – В нем возникает боль.
Наставник огрел труп несколько раз, и все это время воздух гудел от рассекающего его кнута. Кровоточащие раны чавкали и причмокивали. Юра обнаружил, что окна тут заляпаны багряными точками, под столом пол покрывали засохшие красные разводы. Мухи, напившиеся крови, радостно бились о стекла.
Мирон в неистовстве наносил один удар за другим, пока Настина левая рука не отделилась от тела чуть выше локтя. Сознание Юры помутилось. Помещение стало теснее, чем обычно, словно пространство вокруг сузилось.
– Мужчинам нужна возможность сбросить напряжение.
Сбросить напряжение, выпустить пар, дать волю злости, эмоционально разрядиться.
– Им сложнее себя сдерживать, разве нет? – От усилий Мирон громко сопел. – Им нужно нечто такое, во что можно направить всю свою спесь. Всю душевную боль.
«Коли нет во мне боли, то я жесткое серебро», – сказала Васняна. Объясняя эти слова, Мирон поучал, что в каждом человеке гнездится боль, которая и делает его человеком, но в то же время это недуг, способный затмить разум, подтолкнуть к низким поступкам.
Указав кнутом на Тишку, он изрек:
– Трусость – это такой же недуг. – Кончик хлыста уставился на Юру. – Гнев – тоже недуг. Как и от любой боли, от них нужно избавиться, пока не стало поздно.
Мирон подошел к дрожащим детям, склонился над ними и проговорил:
– Ведь коли нет во мне боли, то я жесткое серебро.
Своими большими руками он подтолкнул их к столу.
– Бейте.
Но ребята не двигались.
– БЕЙТЕ!
Переглядываясь и постанывая, братья поочередно начали кромсать хлыстами тело, которое корчилось и извивалось под градом ударов. Юра вкладывал в руки всю силу, какую имел, всю свою свирепость. Он словно обратился в пристанище страстей, а они разбухали в его нутре, пока, наконец, не излились наружу, точно кипящая лава из жерла вулкана. Досада, отчаяние, вязкая горечь и клокочущая злость завладели его существом, и мальчик уже не контролировал себя.
У Насти отпала нога. Окровавленное тело хлюпало, живот раскрылся, вывалив на стол внутренности. Теперь Юра понял, почему в Радивах нет кладбища: как и говорила подруга, все покойники попадали сюда, чтобы служить одной-единственной цели.
Настино тело разваливалось на части. Так и Юрина душа рвалась в лохмотья, так и его мечты разбивались вдребезги.
Ближе к вечеру братья брели домой опустошенные. Блики солнечного света еще лежали на улице, но уже потихоньку начинали исчезать, подобно рыжей лисице, медленно уползающей с прогретой лесной тропы. Вплоть до нынешнего дня это была самая обыкновенная улица, где, взрослея, они предавались детским забавам, воровали груши, сливы и яблоки, следили за Домом Блага. Теперь же ничего не радовало.
Дома Тишка забрался под одеяло с головой, а Юра сообщил отцу о смерти Насти. Без дрожи в голосе, слез и сожаления – вообще без чувств.
Почесывая бороду, отец сказал:
– Тетка сама ее отдала. Теперь ей легче будет прокормить весь свой выводок. Все-таки матери дети милы не оттого, что красивы, а потому, что свои, правда?
Правда в том, что бренна не только плоть, но и обстоятельства. Мечты и чувства тоже подвержены тлену. После жуткого ритуала к Юре пришло не спокойствие, а какое-то отупение. Его абсолютно не волновало происходящее: ни слова отца, ни скулеж пса, просящего еды, ни то, что Тишка обмочился в постели. Сидя на крыльце, он отстраненно наблюдал, как куры щиплют васнянку.
Завтра моровая изба пройдет по деревне, и жизнь вновь вольется в привычное русло. Жизнь без Насти. Только сейчас он признался себе, что без памяти влюблен в нее. Удивительно, но иногда нужно пережить потрясение, чтобы узнать о себе нечто новое.
Правда в том, что Настя заставляла Юрино сердце биться чаще, а ее собственное остановилось навсегда. Смириться с потерей было невыносимо трудно. Говорили, что моровая изба приоткрывает дверь в мир мертвых, вспомнилось Юре. Что, если, войдя в нее, он найдет Настю на другой стороне?
Всю ночь он не сомкнул глаз и оттачивал эту идею в голове, а под утро, как только уснул, его разбудил Тишка:
– Нас тоже убьют?
– Нет, дурачок, – сказал Юра, но сомнение в его голосе было настолько велико, что брат опять зашмыгал носом.
Утро не принесло облегчения. В Радивах было безлюдно, по дороге неупокоенным призраком летала пыль, смешанная с прахом погибших цветов. Однако деревня отнюдь не вымерла: васнянцы занимались последними приготовлениями к Явлению. Они занавешивали окна, затворяли ставни, запирали сараи, погреба и хлева, проверяли на прочность замки на входных дверях, будто изба могла войти к ним в дома. К полудню в воздухе повисла молчаливая тревога. Выглядывая в окно, Юра переминался с ноги на ногу в тревожном ожидании.
– По расчетам Мирона, изба прибудет после обеда, – сказал отец, прибивая к стене покрывало, завесившее окно. Руки и лицо у него были темными, огрубевшими от ветра и солнца, в бороде виднелась седина. Какой же он старый, подумал Юра. Случись что с отцом, заботиться о них не станет никто.
Вечером колокольный звон разбил задубевшее безмолвие, и Юра вдруг осознал, что находится на грани помешательства. Свет на улице померк, стал искаженным, словно глядишь через горлышко стеклянной бутылки. А может, это просто вечерело. Позади дома беспокойно закудахтали куры, запертые в сарае, где-то тоскливо мычала корова, пес скреб когтями по полу, надеясь выкопать себе укрытие или могилу.
– Она идет, – произнес отец, и слова эти тяжелым камнем легли на Юру, который вдруг понял, что не сможет совершить задуманное. Слишком страшно.
Окна выходили прямо на дорогу, которая, петляя меж домов, убегала в лощину. Там, вдали, двигалось что-то крупное – оно пряталось за деревьями и возникало снова. Юра ощущал, как кровь пульсирует в висках. Внезапно дома стало слишком душно, захотелось выйти на улицу и убежать куда-нибудь сломя голову. Меж оконных рам среди комков пыли и трупов мух он заметил монетку, поблескивающую на солнце, но никак не мог понять, какой стороной она лежит.
Может, стоит подбросить монетку и таким способом решить свою судьбу?
Из-за пригорка выступила моровая изба.
– Немедленно отойди от окна! – скомандовал отец где-то не здесь. В другом мире.
Но Юра не мог этого сделать. Он просто не был способен оторвать взгляда от завораживающего зрелища, ведь самая настоящая изба с двускатной крышей, окнами, порогом и дверью шагала по деревне. Она была такой ветхой, что оставляла позади себя толстый слой трухи, осыпающейся из днища. Покачиваясь и неуклюже переставляя ноги, хижина вышла на главную улицу.
Инородное пятно на застывшем августовском полотне.
У Юры закружилась голова. Перед глазами оживала легенда, которую он слышал всю жизнь, и никто не мог помешать ее воскрешению. Изба была скроена из цельных бревен, опорой ей служили обрубки деревьев, их ветви проросли сквозь пол и стены, переплелись между собой. Длиннющие корни, вытащенные из земли, волочились по дороге, точно переломанные птичьи пальцы, и издавали неприятный, выворачивающий душу звук. Покосившаяся дверь со скрипом болталась на петлях: то открывалась, демонстрируя зловещий мрак и приглашая войти, то вновь захлопывалась.
Как только изба приблизилась, Юра понял, что не может больше выносить дикого биения сердца. Если не сейчас, то никогда. Пока Тишка прятал лицо в подушку, а отец, стоя на коленях, молил Васняну отвести беду, Юра подбежал к двери, отодвинул засов и нырнул в тусклый свет угасающего дня.
За спиной отец крикнул:
– Сынок, остановись!
Он кинулся следом, но дальше порога пойти не осмелился – так и прятался в сенях, словно упырь, боящийся солнечных лучей. А Юра бежал навстречу избе. Не такая уж она и большая, какой ему представлялась. Взрослый человек войдет в дверь, только если низко пригнется, в остальном же это был самый обыкновенный дом, который разве что умел передвигаться.
Изба ковыляла к Юре, раскачивалась и трещала. Она смотрела на него, изучала. И вот в чем дело – под ее безотрадным взглядом Юра не умер.
Как же в нее забраться? По словам отца, васнянец крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. С этой мыслью Юра подбежал к чудовищу, подождал, когда оно сделает очередной шаг, подпрыгнул и ухватился за доску перед входом. За свою жизнь он не раз совершал безумные поступки: скатывался на санях со стога сена, заглядывал в окно спальни молодоженов. А однажды, проследив за Мироном, выносящим мусор, обнаружил в мешке человеческие останки. Но в сравнении с тем, что он делал сейчас, все это было просто детскими шалостями.
Чудище переваливалось с ноги на ногу, и Юру мотало в разные стороны, хлопающая дверь так и норовила стукнуть ему по голове. Но он держался довольно крепко, а в следующий миг подтянулся и взобрался на порог. Затем же, когда избушка снова накренилась, кубарем закатился внутрь.
Изба состояла из одной комнаты. Вырезанные в стенах окна не имели стекол и больше походили на продолговатые бойницы. Дощатый пол застилали пожухлые листья, перемешанные с сухими ветками, травой, тушками мелких зверей и птичьим пометом. С потолка клочьями свисала паутина. Над окном примостился большой осиный улей, а в углу под потолком было свито птичье гнездо.
Воздух тут был не затхлый и вовсе не напоминал удушливую застойную атмосферу чердака. Напротив, он словно жил. Не такой свежий, конечно, как снаружи: пахло в избе пылью и древностью. Однако неуловимые энергии рассекали пространство, заставляя воздух суетиться и елозить.
Тут, внутри, что-то было. Оно спало долгие годы, а сейчас, с появлением нежданного гостя, начало просыпаться. Глаза выхватили из темноты в углу очертания тела, которое лежало на полу, укрытое пологом гниющих листьев, убаюканное застарелым мраком.
В окошке виднелся искалеченный закат, чьи оранжево-пунцовые блики мерцали и, словно масляные капли, стекали с неба – не простого желтого оттенка с налетом жгучей охры, а цвета жженого каштана, тлеющего среди углей. Вечерний свет будто проходил сквозь несколько слоев воды и в конце концов изливался на Радивы меркнущей краснотой.
Тело на полу шевелилось. Вот из темноты показалась высохшая рука, с которой свисали лохмотья одежды. Или это истлевающая плоть? А вот мелькнула нога, обглоданная насекомыми до кости. Неужели это правда и хижина действительно Васнянин склеп?
– О Васняна, спаси…
Воздух превратился в кисель и пульсировал гармонией звуков: шагая вперед, изба ухала и дребезжала, листья шуршали, осыпаясь с покойницы, встающей на ноги, и это было похоже на звуки от скребущихся за стенами крыс.
Юру охватил панический страх, какой бывает, когда ребенок вдруг перестает чувствовать тепло материнской руки. Стены давили на него. Он боялся оказаться здесь взаперти, как один из усопших, которых встарь оставляли в моровых избах. Через плечо он бросил взгляд на дверь, открывающуюся в привычный мир. Она хлопнула, со скрипом отворилась и вновь захлопнулась.
Спустя миг мертвая Васняна выступила из тьмы, протягивая к Юре иссохшие руки. От внезапности он не удержал равновесия и с криком упал. Ее тело, как у мумии, было обернуто тряпками, которые со временем порвались и теперь распадались от каждого движения. Лицо наполовину пропало, плоть давно истлела, обнажив кое-где кость. На мгновение в гниющем месиве мелькнул провал беззубого рта. У Васняны не было глаз: на их месте находились светящиеся дыры – прямо-таки ямы, наполненные живыми углями, и они гудели, потрескивали, будто огонь, забравшийся внутрь тела, выжигал все, что там осталось.
Снаружи сгущались тени, в избе же они набухали, как губка, вбирающая черную воду. Когда божество – такое скорченное, изувеченное смертью – склонилось, Юра ощутил, как в него стал вливаться мрак. Он словно всасывал в себя темную бездну. Каждая его клетка, каждая пора от этого задышала по-новому.
Тьма волновалась, создавая причудливые яркие линии. Со временем рисунок становился более сложным, образы принимали форму, превращаясь в картины, подобия которым мальчик никогда не встречал прежде. Его захлестнули чувства – острые и пронзительные, они не шли ни в какое сравнение с тем, что ему доводилось переживать. Он будто скинул кожу, подставив под вихрь светящихся полос обнаженные мышцы и кости.
За линиями проступало какое-то изображение. Казалось, он смотрит на огромный гобелен, а взгляд то и дело выхватывает мелкие детали. Вот появились пышные кроны деревьев, кусок ночного неба, лик луны, плывущей по поверхности воды. А затем открылось безграничное пространство под усеявшими небо звездами. Юра наблюдал, как ветер шевелит траву, как плещутся в тине змеи, а стаи летучих мышей проносятся над головой и скрываются в переплетении веток. Местность неожиданно поменялась, будто кто-то перевернул страницу ожившей книги.
Теперь перед Юрой лежало поле колоссальных масштабов, где олени неспешно жевали траву и поднимали взоры к небу, наслаждаясь его величием. Однако олени тут были не одни: десяток хищников следили за ними из-за высокой травы. Безмятежность нарушил звучный рык, и волки, как по команде, помчались вперед. Юра смотрел, как хищники хватают добычу, вгрызаются ей в шею, вспарывают живот, вытаскивают потроха. Он одновременно испытывал ощущения, захлестнувшие оба лагеря. Опустошение и боль. Возбуждение и торжество победы.
Творящееся безрассудство сменилось новым видением: на берегу широкой реки с искрящейся водой стояла деревянная пристань, дощатый настил которой сплошь покрывала мохнатая зелень. Туман стелился по воде, на волнах покачивалась лодка – воплощение умиротворенности, олицетворение покоя. Юра ощутил приятную прохладу, а затем обратил внимание на огромную тень, двигавшуюся под водой. Неимоверных размеров чудовище, раскинув щупальца, выпрыгнуло на поверхность, схватило лодку и утащило на глубину.
Он миновал и эту местность тоже, продолжая путь по неизведанным землям. Картины сменялись перед глазами, одна изощреннее другой, – все, что когда-либо видела Васняна из окна своего ходячего гроба.
Наконец мальчик достиг цели. За иллюзорными баррикадами, выстроенными на пути, его ожидала Настя. Он не знал, что это – видение или реальность. Создала ли это Васняна? А может, Васняна сама – всего лишь его творение? Мысль, рожденная с целью придать всему смысл. Так или иначе Юра был несказанно рад встрече с подругой.
Он видел Настю, но видел также природу из окна избы, которая уже дошла до края деревни и начала спускаться с пригорка. Каким-то образом он находился в обоих местах одновременно. С вершины кедры и сосны казались кривым рядом клыков, достаточно острых и крупных, чтобы проглотить пространство. Деревья пронзали ночь, подпирали небо, нанизывая звезды на свои макушки.
Нечто инородное овладело Юриным рассудком. Васняна копалась в его голове, перебирала идеи, грезы, надежды, откидывала их в сторону, извлекала со дна души самые сокровенные мысли. Теперь она знала, что произошло в Радивах за время ее отсутствия. Теперь она знала о Доме Блага и, по всей видимости, пребывала в ярости.
Настино лицо было безжизненно-бледным, веснушки походили на маленькие дыры, ведущие в пропасть. Она лежала на столе в Доме Блага, нагая, покинутая всеми, окровавленная. В поле Юриного зрения попал Мирон, который, стоя у окна, провожал моровую избу. Тусклый свет от горящих свечей удлинял тени, корчащиеся, словно демоны, на полу и стенах. Дрожащими руками сердцеведец смахнул пот, заливающий глаза. Он еще не прибрал здесь, ведь труп мог пригодиться другим мужчинам, которым нужно было выпустить пар и изгнать из себя боль.
«Коли нет во мне боли, то я жесткое серебро», – так сказала Васняна в «Лепте».
В Юре была такая боль, она гнездилась в сердце, и обряд в Доме Блага не вылечил ее, а, наоборот, только усугубил. Коренилась такая боль и в Насте – она прямо-таки рвалась на волю, разнузданная и оголтелая, невзирая на то что девочка была мертва.
Дом Блага был построен из дерева. Сейчас нагретое здание остывало, издавая тихие постанывающие звуки, отчего Мирону казалось, что он тут не один. Что рядом есть кто-то еще.
Васняна сказала свое слово.
Изба повернула назад, держа курс к Дому Блага. Мертвая Настя села на столе.
Резкий поворот кинул Юру прямо в объятия восставшей мумии, и та схватила его – да так крепко, что не вырваться. Глядя в ее пылающие глаза, он вдруг понял: ничего на свете не делается произвольно и любая случайность имеет свой повод. Планеты выстраиваются в ряд, звезды гаснут, зажигаются вновь и складываются в созвездия, времена года сменяют друг друга – все эти явления происходят неспроста, на то есть веские причины, хотя мы их и не понимаем. Даже олени из видения были посланы в мир с определенной целью – послужить кормом волкам, которые впоследствии продолжат свой род.
Теперь Юра сообразил, почему попал в избу. Откровение посетило его мгновенно. Вероятно, именно так к пророкам нисходила мудрость. Вспомнилось, что однажды Васняна уже пыталась избавиться от Мирона: тогда дверной проем моровой избы превратился в пасть и чудище схватило его за ногу. Сердцеведец болтался из стороны в сторону, вопя во все горло и размахивая руками, пока изба поедала его конечность.
Вроде бы таких подробностей Юра никогда не знал. Означало ли это, что богиня показала ему прошлое?
Не был Мирон наперсником Васняны, все это ложь. Пыль, пущенная в глаза васнянцам, которые, похоже, не совсем дальновидны, раз доверились такому подлому человеку, творившему жуткие дела у них перед носом. До Юры дошло: Настя должна была умереть, чтобы он забрался в избу. Чтобы от него Васняна узнала обо всем, что учинил Мирон в поселении, в котором она сама жила когда-то.
Настя спустилась на пол и встала на единственную целую ногу.
Краем глаза Мирон заметил движение и обомлел. Он заставил себя оглянуться, хотя это далось нелегко. Веки покойницы были опущены, но она все равно смотрела на него сквозь них. Из распоротой раны на животе до самых колен свисали внутренности. Кровавые раны и порезы на теле походили на стигматы. Длинная искореженная тень черным духом восставала над мертвецом, тянулась по потолку, как будто желая добраться до Мирона.
Настя подобрала хлыст. Второй руки у девочки не было, на ее месте зияла страшная рана. Оголенная лоснящаяся плоть напоминала кошмарный цветок, из бутона которого торчал кусок кости. Мирон понесся наутек, но налетел на стулья и неуклюже упал в проходе, своим дородным телом разломав пару штук.
Но покойница каким-то непостижимым образом в три прыжка нагнала жертву и встала над ней, точно палач, исполняющий приговор. Она желала выпустить боль.
Снаружи послышались крики васнянцев, заметивших возвращающуюся избу. А Настя вознесла хлыст над головой и резко опустила – он с визгом рассек воздух и оставил на лице Мирона красную полосу, которая протянулась от подбородка до лба. Глаз от удара лопнул и вытек из глазницы, в храме раздался вопль, такой громкий, что задребезжали стекла.
Коли нет во мне боли, то я жесткое серебро.
Последовал второй удар, третий, четвертый, и все это время плеть, описывая дугу в воздухе, издавала короткий, но громкий хлопок, за которым следовал мучительный крик. Мирон утирал кровь и слезы с разбитого лица, а Настя и не думала останавливаться.
Мертвая девочка лупила мужчину кнутом, изба спешила к месту событий, Васняна вопила мытарским гласом – все это отражалось на Юре и даже внутри него, словно он стал зеркалом.
Когда изба приблизилась к храму, в дымящихся останках уже невозможно было опознать Мирона. Дом Блага напоминал помещение бойни, которую однажды посещал Юра и видел, как забивали корову. Он вылез из избы. Осторожно ступая по красному липкому полу, обходя мертвецов, он добрался до стены и опрокинул подсвечники с горящими свечами. Огонь тут же напал на стулья, начал быстро разбегаться по сторонам. Настя закончила миссию и навсегда оставила свою оболочку: ее тело упало рядом с окровавленной массой, бывшей когда-то человеком.
Юре до сих пор не верилось, что это происходит на самом деле. Возможно, если он сосредоточится на том, чтобы вернуться в реальность, мираж исчезнет? Но этого не случилось.
Он увидел, как Васняна в последний раз показалась в дверном проеме своего склепа. Почерневшая, гнилостная мумия, в ней проступало нечто нечеловеческое. Живыми глазами, наполненными огнем, который теперь бушевал вокруг, она взглянула на мальчика, а тот сумел выдержать взгляд и не сломаться.
Изменится ли что-то в Радивах? Как сложится судьба деревни? Вот что хотелось спросить Юре, но язык у него отнялся. Искореженная фигура скрылась во тьме. Моровая изба покачнулась и пошла привычным путем – в сторону леса. Она ковыляла по деревне, грохоча и хрупая. Двигалась вперед под яркими звездами, чтобы через десять лет возвратиться вновь.
Богдан Гонтарь, Дмитрий Тихонов. О Чугае и царствии небесном
 У Ивана Демьяновича Чугая, первого токаря на заводе и главного балагура в городе, мать померла весной на исходе марта. Полезла в подпол за соленьями да и ухнула вниз с лестницы – артриты ее окончательно скрутили. Три дня там пролежала, пока сосед-пропойца не пришел мелочь шкулять. Крысы к тому времени все лицо ей до кости сглодали – в закрытом гробу хоронить пришлось.
На девятый день после похорон безутешного Ивана Демьяновича, враз сбросившего балагурскую личину и пившего запоем горькую, выдернул из кабацкого чада друг его закадычный, участковый Сашка Соловей. Вывел на улицу под руку, оглядел с ног до головы добрыми серыми глазами и сказал ласково:
– Вань, иди домой, спать ложись. Христом Богом тебя прошу, набедокуришь ведь. А мне потом тебя в каталажку тащить.
Осоловелый Чугай, за девять дней пьянства оборотившийся облезлым медведем-шатуном, оценивающе зыркнул на участкового, примериваясь зарядить ему в подбородок, да признал старого товарища и разом обмяк. Сашка Соловей, горестно вздохнув, повел осунувшегося Ивана Демьяновича переулками к материнскому дому, куда Чугай перебрался из заводского общежития.
Дома Чугай скинул рабочие шмотки, прошагал на кухню, отмерил полстакана сливовой настойки для спокойного сна, опрокинул и неожиданно для себя самого затрясся в рыданиях.
Тогда-то и раздался из погреба голос матери-покойницы.
– Ванятка! – позвала она его. – Не горюй, Ванятка. Смерть не есть горе и скорбь. Смерть есть возвращение в бытие, бытие радостное и благое. Порадуйся, сыночек, за меня взамест того, чтоб слезы лить.
И Чугай порадовался. От радости даже испугаться забыл. Загоготал, заухал филином, выкатился на улицу – и давай цыганочку вычеканивать по всему двору! Соседи поглядывали из окон, как он скачет да бородой трясет, но никто и слова не сказал – горе ведь у человека. Может, он так его в землю втаптывает, избавляется.
Мать говорила с ним каждый день, и Чугай уверился разом, что позовет его к себе. Уже и веревку заготовил попрочнее, салом натер, петлю навел надежную. Балку в сарае под потолком сменил – старую трухлявую выкинул и новый крепкий брус приладил. У табуретки ножки расшатал, чтобы легче было из-под себя выбрасывать. Радостный стал, лицом порозовел и словно бы даже светился изнутри. Товарищи с завода, доселе переживавшие, расслабились, глядя на него, улыбаться начали: отпустило человека. А Чугай все ждал заветных материнских слов: «Иди ко мне, Ванятка, обниму».
Но мать не позвала. Даже намека не было. Так и общалась с ним. Голос ее лишь со временем истончился, налился еле осязаемой потусторонней силой и уверенностью.
– Ты помирать не спеши, – доносилось томными вечерами из распахнутого погреба. – На тебе миссия еще имеется. Космического масштабу, а то и больше.
Чугай слушал вдумчиво и иногда от излишней вдумчивости начинал по-ребячески крутить смоляные вихры на висках.
– Вот вы, люди, верите, что после смерти – ад и удушливое серное зловоние. Ведь мозгом-то лень раскинуть, все вглядываетесь в бытие свое под ногами, а шире взор и не объемлет.
– А как это – шире? – округлял глаза Чугай.
– А так, – отвечал погреб. – Вот восстал Сатанаил против Бога, и Бог его изгнал из царствия своего. А потом Адам с Евой плода запретного вкусили, и их Бог тоже изгнал. Откуда, скажи-ка?
Иван Демьянович озадаченно чесал бороду и отвечал:
– Из Эдему?
– Верно. Из райского, стало быть, саду. А чтобы власти над людьми не терять, начал он их пугать муками посмертными, коли не по его заповедям жить станут. И прельщать тоже стал – но уже райскими кущами. А для чего?
– Для чего? – глухо повторял Чугай, подозревая, что путается все больше.
– Для того, чтобы Сатанаилу в его же землях не найти было соратников.
– То есть как это – в его же землях?
– А так… – вздыхала темнота, – так, что вы уже в аду. Бояться нечего. Вы пришли сюда из вечного посмертия и, отбыв в аду свой срок, покинете эту серую юдоль и в посмертие вернетесь. Жизнь – есть лишь вспышка мучений и боли в бескрайнем течении вечности. Вот такая вот космогония, Ванятка.
– Да уж, – кряхтел Чугай, засмоливая папироску. – Дак а миссия-то моя – она в чем тогда заключается?
– А в том, – тихо переливался голос, – чтобы сыну жизнь дать. И сын твой будет самим Сатанаилом. Явится он на землю, наберется сил и пойдет штурмом на райские врата. А за ним все люди пойдут, со всех концов света. Мертвые из могил подымутся и встанут в авангард, а за ними – живые, от детей до самых дряхлых стариков. И мужики, и бабы. Ядерными грибами небеса усеются, рокот артиллерии твердь расколет, бактериологическое оружие ангельские сонмы в зловонный тлен обратит. Свергнет Сатанаил Бога и сядет на костяной его трон пировать. И апостолы, в кандалы о девяти печатях закованные, будут ему яства подносить да ноги целовать.
– А мы как же? Люди-то?
– А вам прок самый наибольший. После победы бытие больше не будет исключительной скорбью и страданием. После победы вы станете врываться из посмертия в дивный райский мир и предаваться благостям с Сатанаилом рука об руку, как братья, как равные. Не будет больше страхов, несправедливости и мучений. Лишь радость и райский нектар.
– Етить твою… – тянул Чугай. – И действительно – космогония.
– Это уже эсхатология, – хмыкала в сырой темноте мать, – но не суть важно.
И каждый вечер, когда Иван Демьянович засыпал крепким пролетарским сном, мать настрого наказывала ему:
– Никогда, Ванятка, никогда не называй настоящего имени сына своего вслух. Слово оброненное – оно ведь не просто звук, оно незримую плоть обретает и живет по своим законам. Скажешь раз – и услышат его все спящие последователи Есусовы, шпионы и соглядатаи. Услышат, пробудятся ото сна и загонят тебя, как волка-людоеда. И тогда ни тебе, ни сыну, ни всему роду человеческому рая не видать во веки веков. А теперь спи.
У Ивана Демьяновича Чугая, первого токаря на заводе и главного балагура в городе, мать померла весной на исходе марта. Полезла в подпол за соленьями да и ухнула вниз с лестницы – артриты ее окончательно скрутили. Три дня там пролежала, пока сосед-пропойца не пришел мелочь шкулять. Крысы к тому времени все лицо ей до кости сглодали – в закрытом гробу хоронить пришлось.
На девятый день после похорон безутешного Ивана Демьяновича, враз сбросившего балагурскую личину и пившего запоем горькую, выдернул из кабацкого чада друг его закадычный, участковый Сашка Соловей. Вывел на улицу под руку, оглядел с ног до головы добрыми серыми глазами и сказал ласково:
– Вань, иди домой, спать ложись. Христом Богом тебя прошу, набедокуришь ведь. А мне потом тебя в каталажку тащить.
Осоловелый Чугай, за девять дней пьянства оборотившийся облезлым медведем-шатуном, оценивающе зыркнул на участкового, примериваясь зарядить ему в подбородок, да признал старого товарища и разом обмяк. Сашка Соловей, горестно вздохнув, повел осунувшегося Ивана Демьяновича переулками к материнскому дому, куда Чугай перебрался из заводского общежития.
Дома Чугай скинул рабочие шмотки, прошагал на кухню, отмерил полстакана сливовой настойки для спокойного сна, опрокинул и неожиданно для себя самого затрясся в рыданиях.
Тогда-то и раздался из погреба голос матери-покойницы.
– Ванятка! – позвала она его. – Не горюй, Ванятка. Смерть не есть горе и скорбь. Смерть есть возвращение в бытие, бытие радостное и благое. Порадуйся, сыночек, за меня взамест того, чтоб слезы лить.
И Чугай порадовался. От радости даже испугаться забыл. Загоготал, заухал филином, выкатился на улицу – и давай цыганочку вычеканивать по всему двору! Соседи поглядывали из окон, как он скачет да бородой трясет, но никто и слова не сказал – горе ведь у человека. Может, он так его в землю втаптывает, избавляется.
Мать говорила с ним каждый день, и Чугай уверился разом, что позовет его к себе. Уже и веревку заготовил попрочнее, салом натер, петлю навел надежную. Балку в сарае под потолком сменил – старую трухлявую выкинул и новый крепкий брус приладил. У табуретки ножки расшатал, чтобы легче было из-под себя выбрасывать. Радостный стал, лицом порозовел и словно бы даже светился изнутри. Товарищи с завода, доселе переживавшие, расслабились, глядя на него, улыбаться начали: отпустило человека. А Чугай все ждал заветных материнских слов: «Иди ко мне, Ванятка, обниму».
Но мать не позвала. Даже намека не было. Так и общалась с ним. Голос ее лишь со временем истончился, налился еле осязаемой потусторонней силой и уверенностью.
– Ты помирать не спеши, – доносилось томными вечерами из распахнутого погреба. – На тебе миссия еще имеется. Космического масштабу, а то и больше.
Чугай слушал вдумчиво и иногда от излишней вдумчивости начинал по-ребячески крутить смоляные вихры на висках.
– Вот вы, люди, верите, что после смерти – ад и удушливое серное зловоние. Ведь мозгом-то лень раскинуть, все вглядываетесь в бытие свое под ногами, а шире взор и не объемлет.
– А как это – шире? – округлял глаза Чугай.
– А так, – отвечал погреб. – Вот восстал Сатанаил против Бога, и Бог его изгнал из царствия своего. А потом Адам с Евой плода запретного вкусили, и их Бог тоже изгнал. Откуда, скажи-ка?
Иван Демьянович озадаченно чесал бороду и отвечал:
– Из Эдему?
– Верно. Из райского, стало быть, саду. А чтобы власти над людьми не терять, начал он их пугать муками посмертными, коли не по его заповедям жить станут. И прельщать тоже стал – но уже райскими кущами. А для чего?
– Для чего? – глухо повторял Чугай, подозревая, что путается все больше.
– Для того, чтобы Сатанаилу в его же землях не найти было соратников.
– То есть как это – в его же землях?
– А так… – вздыхала темнота, – так, что вы уже в аду. Бояться нечего. Вы пришли сюда из вечного посмертия и, отбыв в аду свой срок, покинете эту серую юдоль и в посмертие вернетесь. Жизнь – есть лишь вспышка мучений и боли в бескрайнем течении вечности. Вот такая вот космогония, Ванятка.
– Да уж, – кряхтел Чугай, засмоливая папироску. – Дак а миссия-то моя – она в чем тогда заключается?
– А в том, – тихо переливался голос, – чтобы сыну жизнь дать. И сын твой будет самим Сатанаилом. Явится он на землю, наберется сил и пойдет штурмом на райские врата. А за ним все люди пойдут, со всех концов света. Мертвые из могил подымутся и встанут в авангард, а за ними – живые, от детей до самых дряхлых стариков. И мужики, и бабы. Ядерными грибами небеса усеются, рокот артиллерии твердь расколет, бактериологическое оружие ангельские сонмы в зловонный тлен обратит. Свергнет Сатанаил Бога и сядет на костяной его трон пировать. И апостолы, в кандалы о девяти печатях закованные, будут ему яства подносить да ноги целовать.
– А мы как же? Люди-то?
– А вам прок самый наибольший. После победы бытие больше не будет исключительной скорбью и страданием. После победы вы станете врываться из посмертия в дивный райский мир и предаваться благостям с Сатанаилом рука об руку, как братья, как равные. Не будет больше страхов, несправедливости и мучений. Лишь радость и райский нектар.
– Етить твою… – тянул Чугай. – И действительно – космогония.
– Это уже эсхатология, – хмыкала в сырой темноте мать, – но не суть важно.
И каждый вечер, когда Иван Демьянович засыпал крепким пролетарским сном, мать настрого наказывала ему:
– Никогда, Ванятка, никогда не называй настоящего имени сына своего вслух. Слово оброненное – оно ведь не просто звук, оно незримую плоть обретает и живет по своим законам. Скажешь раз – и услышат его все спящие последователи Есусовы, шпионы и соглядатаи. Услышат, пробудятся ото сна и загонят тебя, как волка-людоеда. И тогда ни тебе, ни сыну, ни всему роду человеческому рая не видать во веки веков. А теперь спи.
Чтоб сына-то зародить – оно ведь бабу надобно. И не просто бабу, а блудницу – мать так сказала, какие-то у ней свои соображения по этому поводу имелись. В жаркий июльский день взял Чугай у Тараса-механика «копейку» цвета мореного дуба на предмет порыбачить съездить, а сам на этой «копейке» на трассу помчал. Сто пятьдесят километров отмахал, глядит – стоит лярва у обочины. Взгляд пустой, губы напомажены жирно, куртка на ней дутая с чужого плеча, из-под юбчонки коленки стертые виднеются. Села к Чугаю в машину, даже не спросила ничего. Чугай, покручивая от волнения ус, исподволь поинтересовался ейной биографией, а Лярва сказала лишь, что уже год как сбегла из дому от мамки с папкой. Вывез Иван Демьянович Лярву в лес, приложил свинцовой чушкой по темечку, замотал в отрез поролона, чтобы крики не слышно было, когда очнется, и повез к себе домой. Дома посадил Лярву на цепь в спальне, кинул на пол избавленный по такому случаю от клопов матрас, кляп ей смастерил. Чтобы заразу какую не подхватить, Иван Демьянович по наущению матери пяток пауков отловил, заговор секретный над ними прочел, растер в ладонях в кашицу, кашицей этой уд смазал и заелдонил Лярве, пока та от потрясения отходила. После кляп вынул, чаю ей крепкого заварил с сахаром и пряник тульский дал. Так стала Лярва у него жить и дите Чугаево вынашивать. Сатанаила то есть. Оно, конечно, надобно было настоящую блудницу забрюхатить – да только где ж ты блудницу-то нынче сыщешь, мил человек? Радуйся и Лярве теперь. Так Чугай матери и сказал. А рыбы свежей он на следующее утро на рынке купил и Тарасу-механику вместе с «копейкой» отдал. Поперву за Лярвой глаз да глаз нужен был. То окно выбьет и голосить начнет среди ночи – тогда Чугай отбрехался, что собаку свою, Жучку, ненароком дверью зашиб, – то полоснет себя чем острым по рукам или по горлу – тут уж суетись, спасай дурную девичью жизнь. Волком на Чугая смотрела, куснуть норовила, проклинала на чем свет стоит. Потом, видать, умишком раскидывать начала и принялась увещевать, благости всяческие обещала в обмен на свободу. Но что Ивану Демьяновичу те благости, когда на нем миссия? Потом угрожать взялась ментами да дружками-бандитами, но тут Чугай и так понял, что раз до сих пор ее не нашли, то и не ищут особо. Когда терпеть Лярвины причитания уже никаких сил не осталось, подала голос мать: – Спусти мне ее сюда, Ванятка, на часок, а? Авось присмиреет, – сказала она из подпола. Лярва испуганно заголосила, засучила ногами, силясь отползти подальше от черного зева, натянула цепь, но под хмурым взглядом Чугая обмякла, и Иван Демьянович, ощущая смутное волнение, спустил ее в темноту. Сам долго лежал, приложив ухо к половицам, но не услышал толком ничего, кроме глухих всхлипываний и неразборчивого шепота, похожего скорее на шуршание прелой листвы. После этой экзекуции Лярва притихла, лишь гремела цепью, переползая от матраса к ведру, да глядела на Чугая с опаской. И теперь щемило у Ивана Демьяновича сердце, когда смотрел он на присмиревшую осунувшуюся бабу. Не мог выразить словами, но чувствовал, что сам, своими грубыми руками сломал в ней какой-то механизм. И не починить его уже, потому как механизм этот глазу не виден и не нащупать его никак даже и без глаз. Плакал тогда Чугай. Долго плакал. Едва ли не больше, чем по матери. Мать, она же – раз! – и отмучилась. А Лярве теперь такой поломанной до конца своей вспышки лямку тянуть. И ему заодно этот крест нести. Иван Демьянович с тех пор ласковее с ней стал. То сладостей купит побаловать, то сядет рядышком и по голове гладит. А раз в неделю достанет из комода гребень, расчешет спутанные Лярвины волосы и в косы заплетет, криво и неумело. Зато с любовью. А Лярва глядит на него, как Жучка, – ни слова не молвит, а в глазах слезы, как картечины.
Истончился летний жар, отшумела листвой плакальщица-осень, завыли собаками метели, и рухнул на землю тяжелый степенный мороз. Иван Демьянович к Новому году изготовился, елочку в подлеске срубил, украсил расписными шарами и звезду сверху приладил. Баньку запущенную откопал, сор из нее вымел да топил ее несколько дней кряду, чтобы вся сырость вышла, а после Лярву туда повел париться и намываться – в Новый год надобно чистым ходить. Лярва-то к этому времени отяжелела солидно: пузо налилось огромное, круглое, как паучье брюхо, кожа натянулась и матово поблескивала, словно натертая воском. Сама Лярва уже идти не могла, и Иван Демьянович заботливо нес ее на руках, а та лишь тихо охала, хватаясь поминутно за живот. После бани Чугай Лярву обратно приковал, чистые простыни ей постелил на матрас и спать уложил, тихо напевая ласковую колыбельную. Распаренная Лярва уснула жарким сном, обхватив тоненькими руками широкую мясистую ладонь Чугая. Сам же Иван Демьянович намылился в кабак. Тут ведь тебе и канун Нового года, и получку в бухгалтерии выдали – повод к поводу, как ни крути. Полушубок овчинный накинул, унты на ногах затянул ремешками, шапку заломил на затылок и отправился в праздничный свой пилигримаж. Идет Чугай по улице франтом, бороду поглаживает, золотой фиксой бабам лихо посверкивает, дитям малым подмигивает да собакам кудлатым пендели раздает. Издалека видать по всем атрибутам – человек при деньгах и намерен кутить. Из соседнего проулка к нему выруливает участковый Сашка Соловей, важный да чинный в своей форме, и идут они уже в обнимку, гогоча заливисто на всю улицу. В кабак заходят, запуская густой морозный пар, машут руками, разгоняя дым папиросный, и двигаются к угловому столику, где солидным людям сидеть положено. К столу тут же шустрила летит: чего, мол, господа отведать желают? Иван Демьянович глянет на него презрительно, с ленцой, и шустрила, извиняясь за оплошность, мчится в подсобку, откуда несет на подносе две литровых кружки пива и запотевшую бутылку водки. Чугай с Сашкой Соловьем пива отхлебнут по четверти кружки, водке пробку свернут и льют ее, шальную, прям в пенное, чтобы душа замерзшая разговелась окончательно. Смеются заливисто, скабрезностями перекидываются, а когда из-за соседнего столика какой-то хмырь просит потише себя вести, Иван Демьянович и на него глядит с ленцой и презрительно. Цедит тихонько: – А ну повтори, подгнилок? И хмырь тут же извиняется и умолкает. Вот что значит авторитет. Когда под столом перекатывается уже вторая опорожненная бутылка водки, а фуражка на голове участкового Сашки Соловья разворачивается козырьком назад, – тут-то и начинается веселье. Иван Демьянович, багровый от яств и хмеля, уже подобрел окончательно. К их столу тянутся по одному местные завсегдатаи, как дети к папке. Чугай обводит их радушным взором, манит пальцем шустрилу, заявляет: – Неси всем по кружке еще! Деньги есть! – И утопает в подобострастном гуле, а Сашка Соловей – тот и вовсе аплодирует да свистит по-разбойничьи. За окном темнеет, а Иван Демьянович отхлебывает уже пятого ерша, под ногами бутылки звенят, а вокруг него самые стойкие забулдыги сидят, кого жена еще домой за шкварник не утянула да кто не уснул мордой на неструганом столе. Участковый Сашка Соловей грозится позакрывать всех тунеядцев, кружкой размахивает, а другой рукой синепалого интеллигентишку обнимает в хмельном угаре. И не забулдыги с участковым-пропойцей это уже, а как есть – апостолы вокруг Иисуса собрались, чтобы мудростям небесным внимать. А Иван Демьянович вещает, зычно и величаво: – …ну, я и говорю ему – фраер ты с гондонной фабрики, а не начальник! Меня еще учить будешь! У меня стажу – тридцать лет, и мне твои нравоучения – что говно на штиблетах! – И подытоживает степенно: – Вот так вот. Тут кто-то из апостолов спрашивает, забывшись: – А начальник тебя за такое не штрафит? Сашка Соловей шипит змеей из-под чугаевского локтя, а сам Иван Демьянович глядит на апостола по-особенному грустно, кладет ладонь ему, нерадивому, на затылок – да как жахнет рылом об столешницу! Бедолага под стол сползает, Соловей ему презрительно вслед плюет, а Иван Демьянович уже стоит, полушубок запахивает и бросает апостолам на стол оранжевую: – Кто ж меня оштрафит, когда я токарь? Балбес! Ладно, гуляйте, племя дурное, а я домой пойду. Апостолы тянутся к нему неверными пальцами, по щекам катятся слезы, но Иван Демьянович уже выныривает из сизого дыма в морозную мглу, и им остается лишь пропивать последнее да ждать следующего пришествия. С сизого неба крапит снежок, дома вокруг лукаво поблескивают белым опушком, рдеют заиндевелыми окнами. Чугай расхристывает душный полушубок, прикуривает папироску, и тяжелый дым ворошит его нутро. Морозец холонит голову, и сквозь шальные мысли накатывает вечная тревога: а как быть дальше? Вот родит Лярва, и что делать? Как растить в доме самого Сатанаила? Воспитывать как? Последнее особенно волновало Ивана Демьяновича, потому как вершиной педагогического его таланта была дрессировка Жучки, не особо-то и удавшаяся. Но даже не эти вещи, близкие и неотвратимые, так тревожили Чугая, как грядущая война. То, что мать ему расписывала с мечтательными интонациями в загробном голосе, самому Чугаю порой казалось чем-то жутким и противоречащим людской природе, навроде страшнейшего грехопадения. Мать, конечно, говорила, что так и должно казаться: ведь он, как остальные, родился и прожил всю жизнь во лжи, и теперь ложь эта – плоть от его плоти, неотделима, и жизнь без нее никак не вообразить, поэтому надобно от нее абсторгироваться. Но абсторгироваться не получалось – как только представлял Чугай покореженные врата райского сада, мертвых ангелочков, гниющих в пыли, да неизмеримое множество жертв среди людского населения, живого и восставшего из могил, так наливалось его мозолистое сердце болью и состраданием, едва ли не большим, чем сострадание к Лярве. А ведь все те люди погибнут тоже по его вине. Через его руки и деяния смерть им придет. Пусть и возродятся они во благости и счастье, так ведь до того сгинут страшной смертью. Думы эти веригами тянули Ивана Демьяновича к земле, и он все сильнее сутулил могучую спину. И вот когда гнет этих грузил стал невыносим, смешался с лихим хмельным настроем и распер изнутри ребра, Чугай задрал измученное терзаниями лицо к небу и прорычал: – Гори оно все синим пламенем! Сатанаил!
В гудевшей низким пьяным гомоном пивной воцарилась мертвая тишина.
Иван Демьянович скинул полушубок и унты, тихо прокрался к спящей Лярве, присел рядом и насколько мог ласково провел рукой по ее волосам. – Скоро все закончится, – сказал он. – Скоро ты будешь в безопасности. Есть наверняка специальные мастера. Они тебя починят, подлатают. Беспокойно зашуршала в погребе мертвая мать. – Ты меня прости за все… – шептал Чугай, глядя на Лярву. – Знаю – вряд ли простишь, да и не стою я прощения, но постарайся. Полюбил я тебя и вину свою в полной мере осознаю. Все у тебя будет хорошо и славно, к мамке с папкой вернешься – поди обыскались уже. В подполе упала и разбилась стеклянная банка. Чугай настороженно оглянулся. Лярва даже не шелохнулась во сне, лишь улыбнулась слегка. Шуршание из подпола и вновь звон разбитого стекла. Иван Демьянович на четвереньках подобрался к люку, глянул вниз, но, как и раньше, увидел лишь густой чернильный мрак. Прямо под ним снова раздался еле слышный шорох, будто крысы скребут коготками по дереву, и из сырой темноты послышался полный страха голос матери: – Что ты натворил, дурак?! Ты всех нас погубил. Они проснулись. Они видят тебя. – Голос дрожал, как потревоженная струна. – Они уже близко. Собирайся! Бери свою Лярву и мотай в леса! За ТЭЦ! Волки уведут вас в чащу и следы запутают! Бегите! Но Иван Демьянович лишь покачал головой и ответил нахмурившись: – Не хочу, мама. Пусть все идет как должно. Пусть люди живут и мучаются. Раз мучаются – значит, заслужили. Лярва свое отмучилась уже с лихом. Пусть ее домой отправят. Голос матери сорвался на визг: – Куда домой?! Идиот ты безмозглый! Никогда она дома не увидит! Тебя убьют, а у ней из чрева заживо ребенка вынут и на огне сожгут! А ее следом! За-ради этого она все терпела? Так ты ее любишь? Быстрее собирайся! Кольцо смыкается, но вы еще можете успеть. Я вижу тени волков на снегу. Вы можете успеть. За окном раздался знакомый разбойничий посвист, зашлась лаем Жучка. – Все пропало, – обронила мать. – Пропало. – Да тихо ты! – цыкнул Чугай. – Сашка Соловей пришел. Сиди тихо. – И захлопнул крышку погреба. Накинул на плечи непросохший полушубок, сунул в рукав ножичек-свинорез и выскользнул на мороз. Участковый отирался за калиткой, посматривал воровато по сторонам, шмыгая красным обвислым носом. – Тебе чего? – крикнул Чугай с порога. Соловей сморкнулся. – Вань, дико неудобно вышло, конечно, но это… Слышь… можно, я во двор зайду, а то что мы, значит, через забор перекрикиваемся? Кивнув, Чугай шагнул с порога навстречу участковому. Соловей скользнул в калитку, обогнул по широкой дуге глухо рыкнувшую Жучку и приблизился к Ивану Демьяновичу. – Там дело такое, значит, – ссуди еще косарик до получки, а? Такой там, значит, сабантуй пошел, а деньги у всех позакончились. Выручи, будь другом? – Соловей трещал скороговоркой, отводил глаза. Чугай осмотрел его с ног до головы и буркнул: – Ссужу. Здесь жди. Участковый поднял на него жалобный взгляд: – Демьяныч. Ну не зверей, пусти погреться, околел тут, значит, на морозе, пока до тебя шел. – Сказано – здесь жди. Чугай повернулся было ко входу, но участковый ловко махнул рукой и наставил на Чугая табельный пистолетик. Морда у Соловья окрысилась, заострилась, зашипел он сквозь зубы: – В дом пусти, сука! И бабу свою отцепляй. Я ее, значит, забирать буду. Иван Демьянович набычился, посмотрел на участковогоисподлобья: – Вот так, Сашка? Иудина ты кровь, а не товарищ! Соловей косо хмыкнул: – Ситуация наша, значит, не та вовсе, где такими категориями мыслить можно. И не я – иудина кровь, а ты – предатель роду человеческого! – И добавил, подумав: – Самый первостатейный, значит. Шагай! В доме участковый сразу оживился и зашипел: – Ишь, собака, перехитрить меня хотел? Я таких жуликов ловил, что твои хитрости мне – во! – И сплюнул прямо на пол. – Где баба? Иван Демьянович молча показал пальцем на комнату. – Ну давай, отцепляй ее! – Соловей аж пританцовывал от нетерпения. – Не могу, – равнодушно пожал плечами Чугай. – Чего это ты, значит, не можешь? – взвизгнул Сашка, брызжа слюной. – Я ее к цепи наручниками приковал. А ключ потерял. Участковый почесал пистолетом висок. – А, это, наручники-то какие? – Да обычные вроде, я их у ваших и купил за водку и сигареты «Мальборо». – В сторону! Сам ее отцеплю, уж такой ключик у меня, значит, имеется. Завидев проснувшуюся и растерянную Лярву, Соловей разве что не подпрыгнул от радости: – Вот ты где, моя хорошая! Сейчас дядя милиционер тебя спасет! Спасет и домой отведет. А за то ему премия полагается от начальства! Сейчас-сейчас, потерпи, кровиночка! Лишь на миг отвернулся он от Чугая, но и того мига хватило с избытком. Свинорез выпал из рукава, дубовые пальцы обхватили рукоять. Чугай скользнул к Соловью. Сашка не успел повернуться, так и замер вполоборота, когда Иван Демьянович одной рукой обхватил его в груди и с тихим хрустом всадил нож под ребра. Стукнул об пол выпавший из руки пистолет. Соловей весь выгнулся, распахнул рот, разя перегаром. Забился, завращал глазами и тихонько заскулил. Он дрыгал ногами, а Чугай все глубже вгонял нож, насаживал Сашку на лезвие. Участковый повернул голову к Ивану Демьяновичу, и глаза его как-то вмиг затухли, будто выключили в жалком тщедушном теле жизнь – раз, и все. Лярва смотрела на это в привычной своей позиции – забившись в угол и обхватив руками колени. Когда тело участкового рухнуло на залитый кровью пол, она лишь еле слышно взвизгнула. Чугай тут же присел рядом с ней и приобнял, гладя невыпачканной ладонью по голове. – Тихо-тихо, все хорошо. Он тебя не обидит, – приговаривал Иван Демьянович ласковым голосом. – Сейчас мы убежим, и никто тебя больше не обидит. Тихо-тихо, успокойся. Лярва вцепилась в него и прижалась к груди, содрогаясь в рыданиях. Иван Демьянович не услышал ни звука, ничего его не потревожило, пока угол табуретки не влетел ему в висок. Он выпустил Лярву, поднялся пошатываясь и неловко обернулся. Сашка Соловей нагло скалился ему в лицо. На голубой штатной рубашке расплывалось бордовое пятно. Участковый снова замахнулся табуреткой, и Чугай не успел увернуться. В голове полыхнуло белым, он осел на пол. Комната плыла, и вместе с ней плыл шагавший к нему оживший участковый. Соловей подцепил его за шкирку, оттащил к погребу легко, как тряпичную игрушку, и последнее, что увидел Чугай, – это черный непроглядный зев, пахнущий плесенью.
Он очнулся на холодном земляном полу. Голова болела нестерпимо, словно набили черепную коробку раскаленными углями. Лицо стянула широкая полоса запекшейся крови. Сверху, с полок, раздался голос покойной матери: – Вставай, Ванятка. Времени у тебя в обрез. Он Лярву твою утащил. Чугай с трудом приподнялся на локтях и, борясь с тошнотой, выпрямился в полный рост. – Подойди ко мне! – велела мать. – Спиной повернись. Слепо ощупывая пространство вокруг себя, Иван Демьянович шагнул к полкам, послушно развернулся спиной. Над головой у него зашуршало, заскрипело дерево, и он почувствовал, как что-то спрыгнуло ему на плечи, обхватило ногами и запустило длинные холодные пальцы в слипшиеся волосы. – А теперь вытащи то, что спрятано в земле, – шепнул ему на ухо голос матери, пахнув сырым могильным смрадом, и ее руки нагнули голову Чугая вниз. Пальцы проскребли по утоптанному полу, обхватили шершавую прохладную рукоять. – Она костяная, – сказала мать. – Из тех костей, что не гниют. Тяни, Ванятка. И Иван Демьянович, взявшись двумя руками, вытащил из мерзлого пола длинный, шириной в ладонь, тяжелый ржавый меч.
Городок припал к стылой земле, как лютый зверь, затаившийся перед прыжком. Невесть откуда взявшиеся посреди зимы грачи расселись по карнизам да проводам, наблюдали молчаливо, сверлили черными блестящими взглядами. Погрозил им Чугай кулаком, но грачи рассыпались гортанным смехом, и от птичьего смеха заскрипело что-то, заворошилось возле самого сердца. – Плюнь на них, – сказала мать, поглаживая ледяной ладонью его макушку. – Это твари небесные – у них разумения нет никакого, одна погань лживая в черепах. Иван Демьянович, кивнув ее словам, на грачей глазеть перестал. Двинулся по улице тяжелой развалистой поступью, отведя в сторону руку с мечом, – ни дать ни взять самурай из черно-белого японского кино. Снег скрипел под ногами, подбадривал и напутствовал, просил окропить его кровью, и с каждым шагом пухла в горле удушливая ярость. Мерцало утреннее небо, будто освещенное ярко вспыхнувшей путеводной звездой. Будто пролежал всю свою жизнь Чугай на печи под толстыми душными одеялами, а теперь вдруг, услышав «Встань и иди!», встал и впервые по-настоящему идет. Мать в кои-то веки не обременяла его. Она весила не больше пуда, и когти на ее тонких пальцах не царапали его кожу. Но пальцы те пахли силой, а когти – смертью. Он словно вновь стал ребенком, прибежавшим со двора жаловаться на соседских мальчишек, а мать обернулась грозным и непобедимым судией. Лишь одно беспокоило его, подтачивало исподволь и замедляло каждый шаг. – Неужто никого больше на нашей стороне? – спросил Иван Демьянович, свернув на улицу Буденного. – Неужели мы совсем одни? – А ну и пусть, – отвечала мать ласково, будто бы утешала малыша, размазывающего по лицу слезы и грязь. – Им потом виниться. Им прощение вымаливать. Им в нечистотах своих тонуть веки вечные. От этих слов улыбнулся Чугай, и сильнее сжались пальцы на костяной рукояти меча. Никогда прежде не доводилось подобного инструмента в руках держать, но чуял Иван Демьянович, что дело то нехитрое: знай себе руби да коли. Не сложнее топора или багра. Горотдел выстроили, поди, лет сто назад, а то и того раньше. Хмурое казенное здание людей не жаловало, щерилось на них коваными решетками и слепило щегольскими гербовыми табличками. Поднялся Иван Демьянович на крыльцо, потянул на себя дверную ручку, а та не поддалась. Заперлись изнутри, ироды, почуяли будущее, что нес он с собой. Замахнулся было Чугай мечом, но тут мать коснулась легонько плеча, удержала: – Обожди, Ванятка. Зря клинок не увечь. Он супротив плоти злой да голодный, а об дерево с железом только затупишь. – А как же нам тогда внутрь-то?! – рыкнул Иван Демьянович. – Наклонись к замочной скважине, я поговорю. Опустился Чугай на колени, на плечах завозилось, заелозило, и зашипели кипятком слова, которые только покойникам в гробах снятся, от которых они просыпаются в ужасе, в ледяном поту и скребут крошащимися ногтями сосновые крышки. Живому эти слова не выговорить и не разобрать никогда. Дверь сдалась быстро, коротким щелчком разомкнулся замок. Иван Демьянович шагнул вовнутрь, к выкрашенным синей краской стенам, желтому линолеуму и окошку дежурного. Не успел и пары шагов сделать, как в окошке мелькнула тень – и тотчас полыхнул выстрел, наполнив уши чугунным гулом. Пуля ударила в стену, выбив здоровенный кусок штукатурки. – Еще! – завопил кто-то невидимый. – Стреляй! Иван Демьянович метнулся вперед, миновал окно, рванул на себя белую фанерную дверь, ведущую в дежурку. В горло ему уставилось дуло табельного пистолета, черное, как грачиный глаз. Где-то далеко-далеко, на том конце света, за дулом нервически морщилось растерянное лицо молодого милиционера. – Стре!.. Но снова нажать на спусковой крючок молодой не успел. Замешкался на мгновение, засмотрелся на то, что поднималось всплывшим ночным кошмаром на плечах у вошедшего. Острие меча вонзилось милиционеру в солнечное сплетение, пробив форменную куртку, и прошило туловище насквозь. Парень подался назад, увлекая следом Ивана Демьяновича, застонал сквозь стиснутые зубы, задергался, пытаясь оттолкнуться от жадной стали. Сбоку, от заваленного бумагами стола, к ним кинулся второй, крепко сбитый прапор, замахиваясь резиновой дубинкой. Чугай отступил, двумя руками дернул на себя меч, разрывая куртку молодого, вязаный свитер, футболку и брюшину, выпуская наружу влажные мягкие внутренности. Освобожденный клинок метнулся навстречу дубинке, рассек ее пополам. Пока молодой хватал побелевшими губами воздух и оседал в стремительно растущую лужу крови, бледнея и не веря в собственную смерть, его обезоруженный товарищ пятился назад, выставив перед собой пустые ладони: – Подожди… Немного подожди… Ты ошибся, бывает. Со всеми случается, но ведь это же не повод… – Где Лярва? – спросил Иван Демьянович. – Кто? – Баба где? Беременная! – А… здесь, да. У нас. Тут, сам понимаешь… Условия, врачи… Где-то неподалеку в каменных кишках здания послышались топот, скрежет металла, раздалось несколько отрывистых неразборчивых команд, и тут же все стихло. – Где Лярва, сука?! – повторил Иван Демьянович. – Так ведь говорю же, здесь, – криво усмехнулся прапор. – Не горячись. Баба ж рожает. Подумай – ну куда ей сейчас такой стресс, подожди немного. Да? Усек? – Кончай его, Ванятка, – устало сказала мать. – В подвале она. Хмыкнув, Чугай взмахнул мечом. Прапор, похоже, того и ждал: юркнул гнидой под клинок и, обогнув противника по широкой дуге, кинулся к выходу. Ни за что бы Ивану Демьяновичу его не настичь, да только поскользнулся мент на крови своего товарища и грянулся об пол, вытянувшись во весь рост. Едва успел на спину перевернуться, как ржавое лезвие снесло ему половину черепа. Молодой, все никак не умиравший, увидев это, всхлипнул и заскулил. Тонко, на одной ноте, не смолкая, как готовящийся зарыдать ребенок. Клубок внутренностей в его руках мелко задрожал в такт судорогам. От ярко-красного, от запаха, от счастья закружилась у Ивана Демьяновича голова – и если б не мать, удержавшая его на ногах, он ткнулся бы лицом в багряную мешанину, принялся бы загребать ее ладонями, глотать жадно, пока не остыла. Но впились в ухо когти, протащили мимо – дальше, дальше, вглубь вражьего логова. Горотдел затаил дыхание в предвкушении, глядел глазами черно-белых фотороботов внимательно, с насмешливым прищуром. Ему, похоже, было все равно, кто победит. – Первая дверь налево, – сказала мать. – Они ждут тебя внизу, на лестнице. Позади, в дежурке, раздался выстрел, и смолкли крики. Получается, отмучился молодой. Прямо сейчас небось возносится на небо, в самую высшую инстанцию, а там его пальцем в грудь ткнут и спросят: – А вот ты, щегол, как помешал воцарению Сатанаила и падению райских врат? Какой твой вклад, а? А тот ничего не ответит, замрет опять с раскрытым ртом, как пойманный омуль. И не возьмешь ведь с него ничего, не вразумишь такую бестолочь. Только и останется предать его поруганию, забвению и вечному позору, а род его пресечь хворями и насильственными смертями, чтобы не плодились более такие бесполезные. Сплюнув, Иван Демьянович направился дальше по коридору. За первой дверью налево сбегали вниз в полумрак бетонные ступени, и спуск этот дышал жарко и подло, пах западней. Но Чугай не стал раздумывать, ведомый гневом и смутно ощутимой волей вкусившего крови меча. – Держись крепче… – прошептал матери и, перемахнув через перила, ухнул вниз. Едва приземлившись, могучим ударом снес голову очутившемуся ближе других человеку в гражданском – голова отлетела к противоположной стене, отскочила от нее и покатилась под ноги прочим, оставляя красный след. Тело рухнуло на пол, мгновенно обмякшее, похожее на сломанное ветром пугало, – словно, лишившись привычной формы, оно тут же лишилось и всякого содержания. Стоявшие чуть позади двое промедлили лишь на секунду. Застрекотали штатные автоматы, наполняя узкий коридор пороховой гарью. Иван Демьянович инстинктивно повернулся к ним боком, вскинул руку для защиты, но лишь одна пуля, чиркнув по ржавчине меча, отрикошетила в залитую кровью стену. Остальные снопом раскаленных искр прошили его тело, вонзились ему в плечо, в бедро, в ребра, в шею. Каждое попадание било тяжелым молотом, жалило раскаленным тавром, и взревел Чугай от боли и страха, как накрытый охотниками медведь. Набитый горячим, палящим изнутри свинцом, он все-таки сумел размахнуться и обрушить клинок на одного из стрелков. Тот подставил автомат, но лезвие выбило оружие из его рук и пропахало не успевшее даже зажмуриться лицо. Милиционер с визгом завалился на спину. Руки его, изжелта-белые, судорожно шарили по распадающейся надвое роже, но оттуда, изнутри, пер сплошным потоком багрянец, и никак нельзя было его удержать, и визг захлебывался, оборачиваясь нелепым клокотанием. Последний противник бросил автомат, рванул мимо Чугая наверх, матерясь непотребно. Иван Демьянович не стал преследовать беглеца. Свежие раны горели огнем, от каждого движения хотелось выть в голос. – Потерпи, сынок, – прошептала мать, поцеловала его в темя сухими холодными губами. – Заверши дело, а уж там отдохнем. – Больно, матушка… – жалобно простонал он. – Очень. – Знаю, хороший мой. Все пройдет. Но сперва – дите. Чугай наступил на горло все еще бившегося в агонии милиционера, упокоил его и зашагал дальше, стиснув до скрежета зубы. Тут, в подвале, плутать было особо негде – короткий коридор упирался в двойную дверь, возле которой висели пожелтевшие инструкции для сотрудников. Распахнув ее, Иван Демьянович ввалился в изолятор временного содержания, полный теплого света, пения и липкого запаха ладана. В камерах по обе стороны продола за синими облезлыми решетками застыли в раболепных позах местные завсегдатаи – бомжи с алкашами. Оплывшие, разукрашенные ссадинами лица их были серьезны, руки молитвенно сложены, взгляды устремлены сквозь потолок прямо к клубящимся небесам. Из осипших глоток лились слова Символа веры. – Вот ведь разгорелся, сволота… – пробормотала мать. – Прям в глаза бьет. Здесь не работала ни одна лампа, но золотистое свечение заливало все уголки, не оставляя ни единого пятнышка тени. И свет этот источал участковый Сашка Соловей, стоявший в конце продола, обнаженный и величественный. Бледная кожа его лучилась изнутри, отросшие волосы падали на плечи и грудь, глаза сверкали подобно звездам. Рана от ножа в подреберье затянулась и поблескивала сизым рубцом. Огромные крылья, развернувшиеся у Соловья за спиной, не помещались в сложенном для людской мрази подвале, упирались в стены и потолок, перекрывая весь коридор подобно занавесу из бронзовых перьев. Увидев гостя, участковый архангел раззявил рот в беззвучном приветствии. Из-за нижней губы выкатилась на подбородок кровавая струйка. Тотчас, не меняя мотива, певчие в клетках заголосили совсем другие слова: – Уходи! Ступай прочь и беги от людских жилищ навсегда, коли жить хочешь! – Сейчас побегу. – Чугай медленно хромал по продолу, волоча за собой меч. – Только бабу верни. – Поздно, исчадие! – взвыли певчие. – Она рожает! До срока выкинет выблядка… Архангел отступил в сторону, сложил крыло. За ним, на обычном казенном столе, прямо на стопках подшитых дел, окруженная чадящими свечами, лежала Лярва. Тонкие бледные запястья скручены скотчем, лицо искажено мукой, на лбу испарина. – Плоть отторгает зло! – пропели в клетках, и окровавленный рот небесного эмиссара Сашки Соловья изогнулся в торжествующей усмешке. – Душа спасается… Чугай глухо зарычал. Ни гнева, ни страха, ни жажды мести не чувствовал он в этот момент – лишь боль, безжалостную, слепящую сильнее архангелова тела. Боль предательства, боль утраты, боль многочисленных смертельных ран. И когда Соловей, по-прежнему усмехаясь, вытянул из крыльев своих два пера, обернувшихся остро заточенными серпами, Иван Демьянович только прибавил шагу. Меч заскрежетал по бетону и взметнулся к потолку. Клинки встретились с протяжным звоном. С первых же мгновений схватки Чугай сник под натиском врага. Архангел напирал, он двигался быстрее, мерцал перед Чугаем одной сплошной золотой вспышкой. Звон серпов слился с пением и поглотил голос вопящей на ухо матери. Хор завел победную песнь. Иван Демьянович пропустил бы этот удар. У него иссякли последние силы, и руки, налитые чугуном, повисли бессильными плетьми. Соловей, оскалив алые зубы, взмахнул над его головой серпом. Чугай почувствовал, как мать оттолкнулась от плеч, и увидел краем глаза серую тень, метнувшуюся навстречу изогнутому лезвию. И когда серп пропорол то, что когда-то было его матерью, и остановился, завязнув в призрачной плоти, из ран Ивана Демьяновича потянулись черные дымные струйки, пахнущие свинцом и жженой плотью. Пахнущие серой. Они становились все плотнее, повисли в воздухе, изгибаясь при каждом движении, точно водоросли, а затем обвили запястья архангела, сдавили их, вывернули. С оглушительным лязгом упали на пол серпы. Распахнул Соловей бездонную сияющую пасть, заверещали в ужасе певчие в камерах, задрожали, полезли на стены. Клинок вспыхнул зловещим бледно-синим пламенем. Архангел дернулся изо всех сил, забил крыльями. Но дорога к небесному триумфу под его ногами уже обернулась кривой тупиковой тропкой. – Я токарь, сука… – проскрипел Чугай и вогнал меч в грудь Соловью по самую рукоять. – Кто ж меня оштрафит?! Рассеялись дымные петли, и архангел отпрянул, утягивая клинок из рук Ивана Демьяновича. В агонии, трепеща всем телом, метнулся к алтарю, но упал, запутавшись в опавших крыльях. За решетками хрипели, захлебываясь кровью, бомжи и пьянчуги. Сияние стремительно угасало, бронза перьев мутнела, покрывалась тонкими трещинами. Все величие исчезло, как тонкий лампадный дымок, – на полу корчилось, безуспешно силясь подняться, жалкое и нелепое создание, похожее на сбитую камнем чудовищную птицу. Сашка Соловей второй раз за день испустил дух, на сей раз опроставшись, – обильно, не по-архангеловски. Подвал погрузился во мрак. Но Чугай во мраке видел куда больше, чем при свете Божьем. Фрески на стенах, изображающие Святую Троицу. Почерневшие от времени иконы, с которых оскорбленно смотрели святые лики. Застывшую на алтаре Лярву. Пошатываясь, он подошел вплотную, бросил быстрый взгляд на бледное окаменевшее лицо. Лярва не дышала, глаза ее потускнели, как запотевшее стекло. На другом краю стола, меж широко раздвинутых, перемазанных кровавой слизью бедер, в мутной луже лежал неподвижно скрюченный комочек плоти, не успевший стать самим Сатанаилом. Чугай не без труда перегрыз сизую веревку пуповины, взял свое дитя в руки. Круглая лысая голова, тонкие, словно карандаши, ручки и ножки, бесформенное туловище с проступающими ребрами – все это полностью помещалось в его широких рабочих ладонях. Одного взгляда хватило, чтобы понять: ребенок оказался девочкой. – Что делать-то, матушка? – спросил шепотом Иван Демьянович. – Что теперь делать-то? Ответа не последовало. Никто больше не сидел у него на плечах, не цеплялся острыми когтями за волосы. Никто больше не оберегал, не вел сквозь мороз и кровавые сполохи к великой цели. – Что делать-то? – повторил Чугай и замер, оглушенный, посреди темного тихого подвала. Один на один с поражением. Три женщины, что были его жизнью, исчезли из нее разом и саму жизнь утянули за собой в небытие: мать, Лярва и дочь, которой он даже имени не придумал. Дымящиеся раны вновь запульсировали тяжелой болью. Наверху раздался топот множества ног, донеслись приглушенные крики. И тотчас вздрогнуло дитя в ладонях Чугая, зашевелилось, разлепило веки. У девочки были Лярвины глаза. – Идут, святоши, – сказало дитя голосом матери Чугая. – Ну-ка, выпусти меня… Иван Демьянович, опустившись на колени, бережно поставил ребенка на пол. Девочка покачнулась на тонких ножках, но устояла и сделала несколько неуверенных шагов в сторону мертвого архангела. – Знатно ты его… – одобрительно процедила дочь. – Меч хороший. Не забудь потом. Топот приближался. Среди криков слышались молитвы, матерная ругань и истеричный хохот. – Подмога, – сказал Сатанаил устами его дочери. – Весь город сюда бежит. С ружьями, с топорами и вилами – кто с чем. Нас убивать будут. Лукавые глаза оценивающе сверкнули: – Готов повергнуть Царствие Небесное? Волки в лесах уже поют об этом песни. За дверью грохотнул выстрел. Загремел раскатистый поповский бас, призывая детей Божьих не убояться зла и единой стеной встать на пути диавола. Шум толпы нарастал, разносился по изолятору звучным эхом. Сатанаил развел ручки в стороны, потом обернулся: – Бать, ты это… закрой глаза. Я позову. Чугай послушно зажмурился. Внутри, наполняя все тело необычайной легкостью, росло новое, огромное, неведомое прежде чувство. И когда лицо его обдало нестерпимым жаром, когда слезы, ползшие по щекам, испарились, а ресницы и волосы обуглились, когда мир вокруг стал белым от воплей сгоравших заживо друзей, соседей и собутыльников – тогда Иван Демьянович понял, что это за чувство. Отцовская любовь.
Евгений Шиков. Куриная голова

1
Каждый roma с самого детства знает: если позади кто-то шепчет – то лучше не слушать, не отвечать и тем более не дай-то бог тебе повернуться. Особенно когда декабрь холодит зубы, а глаза запали от голода. Поэтому Марианна не обернулась, выходя из леса, – хотя и слышала, как кто-то зовет ее из самой чащи, а может ищет… Мало ли кто там, в лесу, ее узнал? Цыгане с кем только знакомств не водят… Свежий снег тихонько, почти нежно поскрипывал под ее ногами. Марианне к холоду было не привыкать – она с самого раньшества жила в его холодном дыхании. Еще когда лошади были огромными, небо – бесконечным, а лето каждый год целовало ее щеки в желтые пятнышки. Но раньше терпеть было как-то полегче – пока все зубы были во рту, сейчас иссохшем и жадно хватающем стылый воздух, пока все соки были в теле, сейчас слабом и покачивающемся при ходьбе, пока молоко было в грудях, сейчас таких вытянутых, высушенных и потемневших от жизни в пыльной времянке. – Пошла! – замахнулся на нее мужик с телеги, груженной промерзлыми дровами, и Марианна, словно кошка, отпрыгнула от свистлявого удара. Обернувшись, метнула ему в спину страшную рожицу – это она умела и любила. Мать с детства ненавидела ее кривляния. Марианна умела кривить тысячу лиц и морд, по три на каждый день в году, и доводила старуху своим баловством до слез. Мать давно уже слегла в могилу стылой польской осенью, но Марианна обнаружила, что морды она готова корчить и просто так, ради своего удовольствия или выгоды. Сейчас, в голодное тревожное время, морды стали выпрыгивать иногда и сами по себе, что сильно пугало ее маленьких. Впереди, в надвигающихся сумерках, виднелись последние «необхоженные» дома, крайние – у самого леса. Через обгорелую стену того, что справа, виднелось черное нутро бревенчатого сруба, наследие прошлогоднего пожара. Тот, что слева, был ниже, беднее, дешевле – но целый. Ни птицы, ни скотины во дворах не виднелось, зато дров было много. Марианна не торопилась. Она тщательно привела себя в порядок, прочла молитву, трижды покрутилась на месте – и, выбрав для лица самую печальную и безобидную морду, постучалась в первую дверь. – Кто?! – крикнули из глубины дома. – Хозяева, добрые и благородные! – запричитала Марианна высоким голосом, в котором звенела выдрессированная жалоба. – Умираем с детьми, от голоду… жилья нет, еды… – Пош-шла! – Дверь распахнулась, и на крыльцо вышел молодой совсем парень, лет пятнадцати, но уже с по-стариковски злым обветренным лицом. – Надо было летом думать! – Летом не можно было… Летом все путь да старания… – Какие старания у тебя?.. – сощурился он. – Да ты цыганка! Марианна заискивающе улыбнулась, а сама уже приготовилась бежать. Прошло то время, когда она могла одним движением полных бедер стирать злобу с мужских лиц. Теперь бедра высохли, а ноги отекли и опухли – но бегать она все еще умела. Бегать от ног да кулаков цыганам не привыкать. – Немного крови цыганской, немного полячьей, немного и русской… Всякого натекло под телегу, а потом я оттуда на свет вылезла. С тех пор и хожу… – заискивающе пробормотала Марианна. Парень улыбнулся – одними губами, и его глаза блеснули, будто он придумал что-то забавное. – Жди здесь, сейчас… вынесу… – Очень благодарна, очень… Парень ушел в дом, откуда так вкусно и тепло пахнуло супным бульоном, – и вскоре вынес сырую отрубленную куриную голову, бросил ее в ноги Марианне. – Держи. Только жри при мне. Прямо с пола. – Благодарствую! – Марианна подхватила с крыльца куриную голову, сжала ее в морщинистом кулачке: никому не отдаст теперь! – У меня зубов-то мало нынче стало, не разгрызу! Я лучше дома сварю да помну… – Жри здесь, сказал! – шагнул он вперед, и Марианна осеклась. – Я слыхал, цыгане сырое мясо жрут, а от вареного да жареного носы воротят. Ну так жри прямо здесь! – Так то молодые цыгане. – Марианна стала пятиться назад. – У них и зубы острые, и челюсти что псиные, и глотки что гусиные… – Тогда давай обратно! – Парень протянул пухлую, но крепкую ладонь. – Я тогда лучше Джинке скормлю, она всякие головы страсть как грызет. Марианна помялась для виду, но потом-таки протянула кулак. – Вот, держи, – разжала она пальцы. – Я тогда пойду где-нибудь еще поищу. Добрыми людями земля нынче богата. Обернувшись, она спрыгнула с крыльца и, скоренько перебирая ногами, отправилась обратно. – Э-эй! – закричал облапошенный парень, роняя в снег мокрый кусок глины из разжавшегося кулака. – Ах ты, тварь цыганская, и тут дурить вздумала?! Еще раз придешь – с порога самого с Джинкой говорить будешь! Марианна не слушала – она изо всех ног бежала в лес, сжимая в руке куриную голову, а в спину ей бил жадный собачий лай.2
Лишь когда перестала слышать собачий лай позади, остановилась перевести дух. Пришлось присесть прямо на заснеженный пенек, а то ноги стали дрожать да в глазах потемнело. Отдышалась не сразу, пришлось попыхтеть. Разжав пальцы, посмотрела на улов. Одна куриная голова на пять ртов. К такому цыганам привыкать не получалось. Те, кто привыкали, скоро в яму спать ложились да землей стылой укрывались. Опять зашептало, завозилось за плечами, но Марианна не обернулась. – Стефан, – сказала она негромко, – ты ль ко мне вернулся? Ты ль ко мне пришел? Неужели выпустили тебя? Лес промолчал. Марианна вздохнула. Арестованный неделю назад муж умел добывать еду даже тогда, когда местные напрочь отказывались подавать цыганам. За то его и заперли. С тех пор ей едва-едва удавалось найти достаточно еды, чтобы не сдохнуть с голоду, – да и это становилось все труднее с каждым новым коротким днем. Правила были простенькие: чесать все дома по кругу, но с разными представлениями. Поначалу она ходила улыбаясь, как будто по-соседски, – пока еще не совсем холодно было и люди еще не удивлялись, что она лишь в платье да куртейке бродит по округе. Потом стала брать с собой детей – сначала маленькую на руках таскала, потом и старшего водила, чтобы молчал да из-за юбки голодными глазами смотрел. Когда и с детьми перестали подавать – вновь обошла все дома и с ходу валилась хозяевам в ноги. Ревела, заламывала руки. Люди давали неохотно, хотя давать-то им было чего. Она видела, что хуторок жирный, нетронутый болезнями и голодом. Не зажиточный, нет, но своих нищих в деревне не было. Отучились подавать, разучились помогать. Давно уж никто у них ничего не просил. Ну а цыганам просить не привыкать. Вздохнув, Марианна поднялась на ноги, сделала пару шагов – да тут ноги у нее и подкосились. Охнув, повалилась в снег, ладонь разжалась, выронив куриную голову. Застонав, кинулась ее искать, да куда уж. Глаза в темноте ничего не различали, она вытягивала из снега то шишку, то кусок стылой земли. К горлу подкатило – того гляди разревется. – Обернись, – услышала она, и даже подумать не успела, как обернулась. Она была на том же пеньке, куда минутой раньше присела Марианна. Клюв был широко распахнут, а бледные глаза смотрели прямо в темное небо. – Марианна, – сказала голова. – Погляди же на себя. Марианна осторожно встала на ноги. Сердце ее колотилось, но она не отводила взгляд от куриных глаз. Раз уж хватило ума обернуться на шепот – так уж надо глядеть. А иначе – земля. – Ты мучаешь своих детей. Истязаешь себя. И всех, кто вокруг. Ты не можешь прокормить даже свое собственное нутро. Мать без молока – куст без ягод. – Отдай, – попросила Марианна. – Всяко еда. Мы ее отварим – и до завтра проночуем, будем бульончик хлебать да друг о дружку греться… – Декабрь начался, – произнесла голова. На ее клюве были меленькие острые заусенцы, как будто бы зубы. – А впереди январь, месяц метелей… – Сдюжим, – сказала Марианна. – Потом февраль. – Курица выплюнула на пень кусок снега, в котором ворочались сонные жуки. – До деревни не дойдешь. Провалишься. У местных в подвалах еда закончится, куры отощают… – Врешь! – крикнула Марианна. – В феврале у них в подполе гнить все потихоньку начнет. Морковка, картошка, свекла… В феврале, наоборот, охотнее делятся – гнильем-то! – Если доживешь. – Куриный клюв несколько раз клацнул. – А если нет? Что будет с детьми, если ты сегодня не выйдешь из лесу? – Табор вытянет… – Как мужа твоего вытянул? А где сейчас твой табор? Все разбежались, каждый свое пузо греет. Сверху, из темноты, начали опускаться огромные белые снежинки, которые одинаково равнодушно опускались и на волосы цыганки, и на стылую куриную кожу. Марианна тяжело выпрямилась. – Ничего не поделаешь, – сказала она. – Поэтому я возьму тебя с собой, отварю и съем. А завтра – опять пойду. – Зачем куда-то ходить? – спросила голова и подмигнула правым бельмом. – Когда можно позвать – и сами к тебе выйдут? – Кто выйдет? – Звери вкусные. – Курица вдруг облизнула клюв тонким синюшным язычком. – Жирненькие, молоденькие – лучшее мясо. Пока еще не отощали от зимы. Птица, копытца, заяц, лисица. Каждый наестся. Каждый наспится… Марианна, сама того не желая, тоже облизнулась. – Откуда придут? И куда? – Из лесу, вестимо. Прямо к тебе выйдут. – И… что взамен? – Эта голова. – Курица потрясла клювом, стрясая с него налипший снег. – А еще – истории из твоей головы. – Какие еще истории? – Марианна сглотнула. – Нет у меня никаких историй. – Есть. – Голова медленно закрыла глаза. – Каждому зверю – своя история. Ты знаешь их. Не помнишь, но знаешь. Слышала в детстве от костра остывшего, от звезд голодных, от ночей неживых. Слышала, да не понимала, для кого они звучат. А теперь поймешь. Марианна осмотрелась по сторонам, только сейчас поняв, что ночь уже здесь, расположилась в лесу, как пан на крыльце, скинула темноту на заснеженную землю, будто мерзлую рубаху на дощатый пол. А из еды – только эта куриная голова, которая еще и болтает без умолку. «Впрочем, – подумала Марианна, – цыганам к такому не привыкать». – Что делать? – спросила она. – Погорячи меня. – Куриная голова клацнула клювом. – Напои меня из себя… – Так? – Марианна подошла к пню, протянула руку, показывая вены на зашрамленном запястье. – Не-ет! – Голова жадно вытянула язык. – Дай то, чем когда-то детей кормила. Марианна дрожащими пальцами вытянула небольшую грудь, сморщенную от мороза, встала перед пнем на колени и подалась вперед. Когда острый клюв схватил сосок, она вздрогнула, прикусив губу от боли. Через несколько секунд боль в груди исчезла. Марианна посмотрела вниз, на свою грудь с отметинами зубов вокруг соска – настоящих острых зубов. Из отметин еле-еле сочилась кровь, набухала бусинками на бледной коже. Куриная голова исчезла, лишь на пне, в самом его центре, где полностью сошел снег, видно было рыхлое влажное дерево, в котором еле заметно что-то копошилось. Марианна, покачиваясь и держась рукой за пень, встала на ноги и побрела по темноте обратно к своей хибаре.3
Дети встречать не вышли. Сидели во времянке, в завешенном углу с самодельными сенными кроватями, шептались да косились на холод. Лишь когда она высыпала перед ними несколько маленьких сморщенных яблочек, собранных по дороге, старший, Стефан, толкнул малышей, и они быстро похватали смуглыми пальчиками угощение. Дети ее в последнее время побаивались. Марианна после исчезновения мужа была словно сама не своя. Могла наругать, отлупить тяжелой рукой – и тут же разреветься, начать утешать и целовать, чем совершенно их смущала. Марианна подтащила к печке собранные старшими детьми палки, успевшие слегка уже подсушиться, встала на четвереньки, поднеся раскрытое лицо к углям, и раздула огонь. – Как Зофья? – спросила она не оборачиваясь. – Не кричала? Стефан, названный так в честь отца и очень на него похожий, помотал кудрявой головой: – Нет. Спала больше… только в обед проснулась и слегка похныкала, но я дал ей воды, и она вскоре успокоилась. – Вскоре наедимся. Марианна оглянулась через плечо и улыбнулась. Поймав взгляд Антонийки, подмигнула ей и сама же вздрогнула: вспомнилась вдруг отрубленная куриная голова… – Дае! – позвала маму старшая дочь. – Манге нашука, дае! – Ту миро миленько! – Марианна подползла к дочери по грязному полу. – Обними же меня. Я тоже хочу кушать. Не надо плакать. Шунэсе? Слышишь? Это чуреклы за окном кричат. Мы их поймаем, перья повыдергиваем – и будет нам вкусный мас. Все наедимся досыта, и ты, моя чай, вырастешь первой красавицей. Все ромы и гаджо будут с подарками ходить, а ты ручкой в них махать будешь. – Не хочу я подарков, – нахмурилась девочка. – Хочу стать шувани, как и ты. Вздрогнула тут Марианна, будто по спине холодной тряпкой провели: – Кто же тебе такое наврал? Будто мать твоя – ведьма? – Но ведь это так? – подняла глаза девочка. – Ты шувани… – Это вы сказали? – Марианна вскочила на ноги, и заснувший было Бронислав вновь открыл глаза, с испугом разглядывая мать. Стефан лишь угрюмо отвернулся к печи. – Я тебя спрашиваю! – Это джюкел нам рассказал. – Девочка зевнула. – Он пришел, как стемнело, и с тех пор все говорил, не прекращая. – Какой джюкел? – Марианна обернулась к дверному проему, завешенному грязными тряпками, куда показала Антонийка тонким чумазым пальчиком. – Он все еще там? – Там, – кивнула девочка. – Он сказал, что тебя ждет. Марианна выпрямилась, не отрывая взгляда от дверного проема. Поверить, что дети разговаривали с каким-то джюкелом, пока ее не было, было не просто. Но не сложнее, чем поверить в цыганку, разговаривающую с отрубленной куриной головой. Она слышала истории и постраннее, и пострашнее. – Ложитесь спать, – сказала она. – Завтра мы хорошо поедим! Будем пировать, как никогда! – Мы съедим джюкела? – спросила девочка, поморщившись. – Мы поедим свежий мас на углях. – Марианна поцеловала дочь в лобик, затем склонилась над коробом, провела ладонью по головке младшенькой, Зофьи. Та родилась в июне – румяная, полная жизни и крика, а теперь будто усохла, стала совсем прозрачная и тихая. – Мы поедим хорошо. Мы теперь всегда будем есть хорошо. Оставив детей, Марианна сунула в карман толстый моток бечевы, оттянула в сторону ткань со двери – и вышла под звездное морозное небо, в первый момент даже слегка ослепившее ее. Затем она увидела две маленькие звездочки на снегу, те поднялись в воздух, моргнули – и она разглядела за ними мелкого, грязного лиса. – Так ты и есть тот самый джюкел! – рассмеялась Марианна. – Я уж думала, и правда пес какой прибился… – Все мы псы, когда темно, – сказал лис, приближаясь к ней. – Ты готова идти? – А не обманешь? Гляди, если цапнуть попытаешься… – Джюкел джюклес на хала, – произнес лис и повторил по-польски: – Пес пса не укусит. Пошли. Скоро полночь. Марианна завернулась в платок и зашагала в лес за хвостатым болтуном. Когда они уже подходили к деревьям, цыганка поняла, что ее смущало: у ее провожатого совершенно не было тени.4
– Это оно. – Лис подбежал к дереву, свернулся клубком под ним, сверкнул снизу вверх глазами. – Здесь слушать буду. Садись рядом. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся Марианна посмотрела вверх – туда, где на фоне звезд раскинулась сухая корявая крона. – Вот ведь местечко себе выбрал! – Она оглянулась, прищурилась. – Дома моего почти и не видно… – Значит, никто нам не помешает, – осклабился лис. – Теперь говори! – Мне обещали, что будет больше… – Потом! – тявкнул лис. – Все потом! А пока садись и рассказывай! Марианна осторожно притоптала снег, вздохнула – и опустилась на корточки. Посмотрела вниз – туда, где над клыкастой пастью светились два жадных любопытных огонька. Затем вздохнула, нащупала в кармане бечеву и принялась говорить.История для лиса: песий язык
Мать моя мне то говорила, а ей – бабка ее. Что был такой рома, что песий язык понимал. Как тявкнет джюкел какой – а он уже знает, чей это джюкел и что он сегодня жрал. Другие ромы его за это уважали очень – он мог любого, пусть и самого опасного, зверя заговорить, успокоить, даже усыпить. Да только прознали об этом гаджо из хуторка, рядом с которым табор стоял. То ли рома тот вина налакался и пьяный стал с псами сельскими разговаривать, то ли на охоте собак куда надо направил, а местные и приметили… В общем – прознали гаджо да побежали к своему попу жаловаться. Тогда попы были не то, что сейчас. Тогда у них власть была. Ежели ткнет в кого эдакий поп своим распятием, то и смерть тому настанет. Так и в тот раз случилось. Взяли того рому, связали да палками стали бить и спрашивать, как он на песьем языке разговаривать научился. Пытались заставить признаться, что дьявол его надоумил. Но рома тот им так ничего и не сказал. А перед смертью взвыл не по-людски, да так громко и страшно, что палачи свои палки покидали и на улицу выбегли. А когда вернулись – не было уже ромы, а только цепи, кровью да кишками измазанные, на досках валялись. С тех пор в том хуторке людей истерзанных стали находить. И все-то они были к той расправе причастные. То палача одного с глоткой порватой найдут, то охотника, который на рому донес, в лесу без брюха обнаружат. Тогда местные всех собак своих решили вывести. Забили до смерти, сложили в кучу, святой водой облили, хворостом обложили да подожгли. Поп тот самый над костром молитву читал. Говорят – дохлые псы от молитв вскочили в костре и грызться друг с дружкой начали, пока их огонь палил. Да только людей подранных все равно продолжали находить, и теперь даже чаще, чем до того. Бывало и по двое, и даже по трое зараз. Поп этот почти с ума сошел. Весь крестами обвешался да взаперти сидел. У него в то время жена на сносях ходила, очень он за нее боялся. Да только не помогло. Однажды услышали крики из его дома, выломали дверь – а там поп лежит в своей постели, а женка ему кишки выедает. Схватили ту женку – а она и не понимает ничего, говорит со всеми таким тоном, будто селяне к ней в палату во время ее чинной трапезы ввалились. Ее связали да в другую комнату утащили – там она и рожать начала. Страшные то роды были. Вылезло из нее шесть то ли щенят, то ли волчат – и все с человечьими ручками. И глаза у всех серебряные были. Так и узнали местные, что попадья с ромой тем гуляла и он ей собачат понаделал, которые мяса человечьего из ее утробы просили. Всех их, конечно, закопали живьем, а попадью хотели в монастырь отправить. Да только она ночью в окно сиганула да на поломанных ногах доползла до леса. Нашли ее по кровавому следу – много из ее утробы понавытекло. А нашли под большим деревом, с распахнутой грудью и задранной юбкой. И вот какая беда – вся грудь ее, вокруг сосков, была искусана зубами, а с ног да ляжек вся кровь будто слизана. Кого она покормить успела и куда он делся, не понял никто. Но хоронили ее за оградой, да перед тем, как землей засыпать, голову ей, конечно, отрубили. А табор тот укатил дальше, и где потом оказался, никто не знает. Цыганам в ночь спешить не привыкать.5
Бечевка затянулась, спрятавшись в кудрявой от грязи шерсти, лис закрыл глаза, поводил пастью – и затих. Марианна деловито подвесила его на сук, руками потрогала за пузо. Тощий, подлец. – Виси спокойно, – сказала она. – Сказок у меня навалом… – Это хорошо, – раздался голос из кроны, и, гремя крыльями, оттуда выпорхнула тетерка. Марианна вздрогнула, когда та обернула к ней свою голову – настолько ее взгляд был похож на взгляд куриной головы. – Полночь близится, так поторопись. Хочу свою историю. – Конечно, – сказала Марианна, наматывая в кармане бечевку на начавшие околевать пальцы. – А ты пока подойди поближе да присядь на колено… – Сначала расскажи историю. – Тетерка раскрыла крылья, угрожающе ими поводила из стороны в сторону. – И чтобы страшная была, да про любовь! Очень я люблю про любовь! – Будет тебе история! – улыбнулась Марианна. – И про любовь там тоже есть…История для тетерки: свеча мертвеца
Иногда бывает и так: полюбит рома девушку из хуторка – и останется с ней жить. Отстанет от табора своего. И в жизни такой забывает иногда и жизнь свою прошлую. Ремесло только свое не бросает, ведь цыган, забывший свое родовое ремесло, и не цыган больше. А род того цыгана лошадьми занимался. Где-то разводил, где-то подковывал, а где-то и воровал. Вернулся однажды тот цыган из города, куда лошадей продавать сгонял, глядь, а в доме его огонек горит. Он помрачнел да пошел сначала в конюшню лошадь свою привязать. Кому ж понравится, когда его жена с кем-то другим у окошка разговаривает? Цыган тогда лошадь не стал распрягать, а взял из яслей топор да засунул сзади за пояс. Цыгане – народгорячий, да только наш про себя дал обещание: обухом, если что, полюбовника бить, а не лезвием. Входит в дом – а там его отец родной сидит, с женой его мило беседует. Ну, тут наш цыган обрадовался да обниматься полез! Где, говорит, табор наш и как здесь вновь оказались? А отец ему отвечает: а табор-то ушел далече. Я один отстал, ногу повредил. И показывает ему лодыжку свою, совсем уже черную. Ну, тут стали они водку пить. И цыгану все кажется, что отец чего-то недоговаривает. Он его по-всякому расспросить пытался: может с матерью что случилось, или табор развалился, или, глядишь, братко младший в тюрьму угодил. Но отец все головой мотает да на свечу косится. И водку пьет – как не в себя. Цыган тогда полез рукой в подпол, там у него еще одна бутылка крепкой бравинты была припрятана, щупает – а там нога чья-то. Присмотрелся – женская. И нащупал он туфлю, которую жене своей сам привозил. Да только жена-то его тут сидит вместе с ними и тоже на свечу поглядывает. И тут стало понятно роме нашему, чего с ними не так: что отец, что жена, когда водку пьют, не морщатся и даже не выдыхают. А свеча все это время горит совсем ровно, даже когда они говорят, смеются или кричат, хотя они свои лица совсем рядом с огоньком держат. Только от самого цыгана дрожит, только от его дыхания, будто никто больше в доме и не дышит. Догадался тогда цыган тот, кто в дом к нему пришел. И понял, что когда свеча догорит, тогда и смерть ему. Сами они затушить ее не смогут – дыхания нет, и слюна их горючая, словно масло. Но и поджечь от нее, чтоб светло стало, больше нечего: как на грех, ни лучины, ни другой свечи поблизости. А тут топор из-за пазухи выпал да об пол стукнулся. Мертвецы сразу смеяться перестали, от железа взгляда не отрывают. Цыган тут же вскочил, говорит, забыл его убрать, сейчас вернется. А сам топор схватил – и в конюшню. Слава богу, что торопился, не успел коня расседлать. Он его вывел, в седло прыгнул – и прочь со двора. Сзади завизжали, закричали, да стекло зазвенело. Оборачивается – отец в окно лезет, а жена ему на закорки запрыгнула и рукой, как лошадь, подгоняет. Цыган лошадь свою подстегнул, перекрестился, и вперед. Пока скакал через лес, то отец, то жена за подпругу да за ноги хватались, оба сапога с себя сбросил. Жена все причитала да завлекала его полными грудями, стонала да обещала, ночнушку порвала на себе да на болоте бросила. Отец вообще не разговаривал, только мычал да подвывал, как пес под крыльцом. Лошадь уж пеной покрылась, шаг начала сбавлять, но только светало уж, и мертвецы совсем отстали. Оторвался все-таки от них тот цыган. С первыми петухами въехал в город, а там уж и трактир нашелся. На следующий день поехал обратно, с народом уже. Зашли в дом: все, как он и рассказывал, но ни жены, ни отца нет, а только свеча перевернутая да окно разбитое. Ни трупов, ни живых. Горевал ту ночь рома шибко сильно. А назавтра поехал свой табор нагонять. В таборе его встретила мать, которая сказала, что отец его ногу сломал и обратился подлечиться к какой-то лесной ведьме, которая его влюбила, подманила, все из него вытянула, отравила и в могилу свела. И что лежит он под Псковом, в холодной русской землице. Тогда цыган тот в Псков поскакал. Больше месяца он ту могилу искал. А когда разрыл, увидел отца, совсем гнилью нетронутого, и жену свою голую да бледную рядом с ним. Оба лицом вниз лежат, ступни, как кулаки, сжаты, а вокруг – вещей уйма, и детских, и взрослых, и сапоги его тоже здесь же лежат. Тогда вогнал он осиновый кол в грудь отцу, а потом и жене, молитву прочел – и засыпал обратно могилу. А затем вернулся в табор и меньше чем за год испился до смерти. Рома похоронили его под ясенем, вместе с его топором, и отправились кочевать дальше. Цыганам не привыкать за спиной могилы оставлять.6
Тетерка так и издохла – с раскрытым до груди клювом, будто зевая. Марианна повесила ее рядом с лисом, а сама стала прыгать на ногах, стараясь разогреть пальцы, закоченевшие в сапогах. Было морозно. Лица своего она уже почти не ощущала: оно застыло, отмерло, превратившись в чужую, не по ее размеру маску. Руки слушались совсем плохо, ладони в кулак полностью уже не сжимались. – Выходи! – крикнула она в темноту. – Нечего прятаться, обжора! – Я и не прячусь, – с обидой сказал кабанчик, выходя под лунный свет. – Просто у тебя глаза голодные, а под снегом – уйма желудей. – Уж я-то знаю! – засмеялась Марианна. – Сама только ими и питаюсь. – Мне нужна правдивая история. – Полосы на спине кабанчика были все в царапинах, словно он продирался через заросли. – Только не торопись. Я быстро не люблю. – Я и не тороплюсь. – Она засунула руку в карман. – До полуночи успею…История для кабана: свинорылая невеста
Давно это случилось, когда еще небо другого цвета было. Тогда таборы часто с цирками кочевали, а в тех цирках такие диковины показывали! И рому, что мечи глотает, и мужчину с волосатыми ладонями, и ребенка с двойным языком, словно у аспида. Была в одном таборе и свиномордая женщина. Говорили, что она из подземного народа и что ромы ее обменяли на восемь человеческих девочек, одна другой краше. Другие говорили, что родилась она у обычной женщины-славянки, которая за новую обувку и красное платье согласилась лечь под черта. Кто-то шептался, что это вообще мужчина, а под платьем у него спрятан такой хвост – любой рома позавидует! Надо сказать, женщина была и правда ужасна. Тело бело-розовое, рыхлое и сальное, все в мелких волосах. Пальцы на руках тонкие и как будто со спущенной кожей. Лицо вытянутое, похожее больше на крысиное, чем на свиное, без всякого пятачка, но глаза и волосы – вполне человечьи. Волосы вообще были у нее самым красивым: густые, темные, словно воронье крыло, спадающие на покатые узкие плечи. Она сильно румянилась и подводила глаза да губы, но никакие белила и никакая краска не могли скрыть грубой кожи и мерзких примитивных черт лица. И вот повадился в табор из близлежащего городка местный дубильщик. Сам он был ужас какой страшный – в детстве лицо обезобразила оспа, потом кислота разъела руки, а тяжелая работа с годами окончательно загрубила его облик. Кожа его была светло-желтого оттенка, будто алыча, а руки слегка тряслись от постоянного пьянства. Говорят, он еще и спятил, что неудивительно: на его работе смерть из корыт проникала сквозь кожу прямо в кровь да била в голову. С девушками ему, понятное дело, не везло. Даже за деньги не всякая соглашалась с ним лечь, потому как кожа с него порой сыпалась целыми лохмотьями, а запах от волос был, как порыв ветра с мясницкого двора. И вот бегает тот дубильщик по табору да рассказывает всем, что свинорылая женщина влюбилась в его силу мужскую да облобызала прямо в лицо. Рассказывает, что когда зашел он в шатер и приблизился к ней, то Агафья (так ее звали) наклонилась к нему во тьме – и поцеловала несколько раз. Надо сказать, что Агафья была постоянно пьяна. Несколько раз ее даже рвало на стоящих рядом людей, а большую часть времени она либо спала, сидя на своем кресле и сотрясая храпом стены шатра, либо находилась в полудреме, что-то бормоча себе под нос и раскачиваясь взад-вперед. Понятно, что его подняли на смех. Спросили, не перепутала ли она его рожу с ведром отрубей или гнилыми яблоками. Разозлился тот дубильщик и хотел вернуться в шатер, доказать, что свинорылка и вправду его полюбила, да только цыгане ему этого сделать не дали. Сказали, что Агафья совсем упилась и бухнулась спать. Посмеялись – и забыли все. Но не дубильщик – тот затаил злобу и желание доказать, что не соврал. Той же ночью, прихватив бутылку крепенькой да пару кислых яблок, полез он в шатер к своей любимой. Как он пробрался мимо рома – загадка, но его никто не остановил. Зайдя в шатер, он увидел пустое кресло, а за ним – закрытый полог, из-за которого раздавался храп. Он осторожно отодвинул его в сторону и ахнул: одетая в то же платье, женщина лежала в своих нечистотах, а на лице ее был застегнут намордник. То ли лунный свет сквозь отдушину шатра сделал свое дело, то ли крепенькая в его крови взыграла, но только дубильщик снял с нее намордник и, повторяя, как он ею восхищен, спустил свои штаны да попытался задрать ей платье. Вначале Агафья вроде даже заинтересовалась, но потом хрюкнула, приподняла голову и вдруг, взрыкнув, открыла пасть. Дубильщик только успел увидеть зубы и почувствовать запах падали, а в следующий момент невеста схватила его за лицо – и сорвала кожу, как шелуху с лука, вместе с носом и верхней губой. Заорал дубильщик, вскочил на ноги – а невеста приподнялась, встряхнула головой так, что парик наземь улетел, вгрызлась ему меж ног и откусила разом и причинное место, и кусок живота до пупа, а потом швырнула бедолагу через половину шатра прямо в тяжелое кресло, переломав ему спину. Пополз дубильщик на улицу на одних руках, а за ним его внутренности разматывались. И успел вылезти под лунный свет, и увидели его подбежавшие рома – да так и застыли, когда высветили из мрака лицо со спущенной кожей, плачущее, зовущее, умоляющее. А потом свинорылая невеста потянула его за кишки, затащила своего любовника обратно в шатер, и он изнутри вскрикнул особенно страшно, а после уже и примолк. Кинулись рома внутрь, стали его оттаскивать да забили Агафью топорами насмерть. Вот только она успела знатно своим женихом отобедать, тот даже и не шевелился, а вскоре и дышать перестал. Поднялся тогда табор, да к утру уже и след его простыл. Остались только два тела, укрытые окровавленной тканью. Дождались местные доктора да солдат – уж очень страшно им самим было заглядывать. И, когда ефрейтор старый ткань с трупов стащил, все ахнули. При свете дня, в сбившемся на пузе платье, свинорылая женщина была еще страшнее, чем в темном шатре, и выглядела точь-в-точь, как огромная, жирная крыса. Но врач, который осмотрел ее зубы, а потом и под платье заглянул, заявил, что это обритый наголо русский медведь, и ничего более того. Хотели местные табор тот догнать, да куда уж. Того и след простыл. Цыганам не привыкать от местных деру-то давать.7
Кабанчик мучился дольше всех. Марианна натягивала бечеву, оборачивала дважды, однако в итоге пришлось приподнять его на веревке и повесить на ветку еще живого, продолжая рассказывать историю. От таких усилий она даже вспотела лицом, и теперь мороз изо всех сил кусал ее за кожу. Тонкая бечева разрезала ее пальцы, и с них текла кровь – она заметила это не сразу, а лишь когда пальцы стало покалывать от тепла разлившейся крови. – Вот и все, – сказала она наконец, когда кабанчик перестал дергаться и повис вместе с остальной дичью. – Здесь уж надолго хватит. – А как же я? – раздался тонкий голосок позади. Марианна обернулась и глянула на зайчонка, что сидел прямо в пятне лунного света. Белый и совершенно пушистый, но с желтыми не моргающими глазами и желтыми же зубами. Лицо у зверька было напряженное, словно он чего-то очень ждал. – Ну иди сюда, малыш, – Марианна осторожно подняла его и прижала к себе окровавленными руками, подумав, что для зайчонка ей и веревка не понадобится, такой он был маленький и худенький. – Тебе какую историю подавай? – Самую вечную, – простучал зубками зайчонок, выпучив глаза. Раскрыл пасть, измазанную в земле, и показал ее нутро царице Луне. – И самую печальную. Марианна утерла рукой пот, осмотрелась по сторонам. – Уж скоро полночь, – сказала она. – Историю! – застучал желтыми зубами зайчонок. – Я замерзла. И устала. И нету у меня больше россказней никаких. – Значит – все! – дернулся заяц в ее руках, и звери на дереве тоже забились, раскрывая мертвые рты. – Нет истории – нет и договора! – Хорошо, – согласилась Марианна, нащупав под шерстью хрупкую, тонкую шею. – Вот тебе история про цыганку, которая куриную голову обманула. И одним сильным движением она свернула зайчонку шею. Хрустнуло – и все в лесу замерло. Висели неподвижно звери, светила безразлично луна. Зверек в ее руках выгнулся, испражнился на снег – и стал медленно коченеть. Марианна негнущимися пальцами достала бечеву, подцепила его за шею и подвесила на дерево рядом с другими, где их никто не достанет, потом зажала руки под мышками и бросилась к дому. Надо было разбудить старших, унять кровь да отогреться – и принести зверей в дом, пока не рассвело и их никто не утащил. Снег хрустел под ее ногами, словно зверь какой храпел. Луну заволокло облаками, а тьма вокруг зашевелилась, закудахтала. – Вернись, – велел уже знакомый ей голос. – Расскажи обещанное. – Невмоготу! – выплюнула Марианна. – Мысли замерзли. Слова к губам приморозило. Тьфу на тебя! Она плюнула во тьму, и луна вновь вышла из-за облаков, осветив чистый снег. – Тогда я тебе историю расскажу, – раздалось уже сверху. Марианна подняла голову и увидела, что луна превратилась в затянутый бельмом куриный глаз. – Про девочку, что морды показывала. И себе, и матери, и даже луне. Не любил девочку вольный народ. В лицо ей плевал. Потому что дрянь то была, а не девочка. И морды у нее были страшные. – Заткнись! – простучала зубами Марианна. – Ничего ты не знаешь! – Знаю я и то, что старуха, которая девочку боялась, не была ее матерью. А вот сестра старшая, которая так рано померла, – она-то девочку и родила. От мужчины злобного, бородатого, что отцом ее звался… Девочка хорошо его помнит, хотя и не признается. Его дыхание. Его руки на своих ногах. Его живот толстый, волосами поросший… – Прочь уйди, я тебя не слушаю! – Марианна перешла на бег, быстро передвигая околевшими ногами. – Все в тебе ложь, ничего не правда. – Так говорила одна морда девочки. А другая морда все помнила. А третья… Той, третьей, втайне даже нравилось, что отец с ней делает… – НЕПРАВДА! – заорала Марианна, сорвавшись на крик. – Ничего не правда! Все ты про меня врешь! – И тогда появилась еще одна морда, слепленная из трех предыдущих, из той, что не помнит, той, что знает, и той, которой все это нравилось. И эта новая страшная морда беззвездной ночью отца своего напоила, да к лошадям увела, и положила его меж двух стоящих жеребцов, и сверху легла, и улыбалась ему в глаза, и ублажила его вразную. А потом лежала в стылой темноте, и пот с ее кожи испарялся к звездам, и ждала та морда молча и не шевелясь, пока тот заснет, а потом оделась, взяла хворостину, в псином дерьме да в сучьей крови измазанную, да стала их по глазам стегать, так что они на дыбы поднялись и стали скакать по спящему отцу, копытами его как тесто меся. Вот такая история. Вот такая правда. Вот такая девочка с разными мордами. Марианна завращала головой и, плечом ударившись о дверь, забежала в дом, застучала ногами, почти целиком засунула кулаки в печь и, кинув взгляд на спящих детей, громко крикнула. – Стефан! Просыпайся и остальных буди! Пойдем за дичью! Там заяц, там птица! Теперь всегда сыты будем! Стефан молчал. Тогда Марианна, передвигая околевшие колени, подползла к спящим детям, приподняла одеяла – и вскрикнула. В ворохе перьев и пуха темнели лишь окровавленные свиные копыта да лежал на подушке рыжий облезлый лисий хвост. – Беги, снимай своих цыплят с веточки! – заклокотало из печи, и Марианна увидела куриную голову в огне, обугливающуюся, пузырящуюся, злорадствующую. – Уж теперь они всегда будут сыты… Голова лопнула и вспыхнула на углях, а Марианна, вскочив на ноги, бросилась на улицу, крича по именам своих детей. Только сейчас она заметила, что на снегу, рядом с ее следами, видны следы маленьких ног, которые ведут только туда, но не оттуда. Подлая луна высвечивала их, подносила к ее глазам, заставляла смотреть. Ночь изломалась на куски, волочилась по бокам от бегущей женщины, как волосы утопленницы по течению. Снег хохотал под ногами старушечьим тонким смехом, мороз нещадно стегал по глазам. У дерева Марианна изломилась, будто кто ее за поводок невидимый дернул, – и рухнула на снег, и дальше ползла на отнявшихся ногах, воздев голые руки к дереву, к свисающим маленьким ножкам, к склоненным в разные стороны головкам с выпавшими синими язычками, к оледеневшим слезам на по-лунному бледных лицах. – Верни, верни мне их… Все отдам! Только их мне верни! Не забирай всех! Тогда младшая, Зофья, приподняла головку на сломанной шейке, раскрыла красные от натекшей крови глаза и голосом зайчонка вымолвила: – Вот и твоя история, матушка. Как я и говорила – самая вечная да самая печальная. А потом уронила головку вниз, закрыла глаза и более уже их не открывала. И выла, и выла в лесу цыганка, и рвала руками волосы и лес ночной, и выцарапывала ногтями слезы с щек и звезды с неба, и кусала снег, и проклинала тьму, и извивалась на земле, как жаба на вилах. И летел этот вой над хуторком, и бились на цепи собаки, и просыпались от кошмаров жадные гаджо, и заходились криком их толстые дети, и выблевывали мертвых мышей их сытые коты. И даже рома вздрагивали в своих постелях и шептали молитвы ночному небу. К такому даже им привыкать не хотелось.Выдержка из Википедии, свободной энциклопедии Марианна Долинская – цыганка из табора, находившегося поблизости от деревни Антоновка близ Радома. В ночь с 11 по 12 декабря 1923 года, находясь в отчаянии от голода, переживая арест мужа и пребывая в состоянии помешательства, она повесила на дереве четверых своих детей: Софию (6 месяцев), Антонию (3 года), Бронислава (5 лет) и Стефана (7 лет). На следующий день около 13 часов Долинская пришла в полицейский участок в Радоме и призналась в убийстве. Она умерла в 1928 году в психиатрической больнице в г. Tворки и была похоронена на больничном кладбище. Фотографии повешенных детей позднее приобрели популярность и ошибочно использовались как свидетельство о преступлениях УПА на территории Польши.
Сборник Черный Новый год
© Авторы, текст, 2021 © Парфенов М. С., Олег Кожин, составление, 2021 © Валерий Петелин, обложка, 2021 © ООО «Издательство АСТ», 2021Старый Новый год
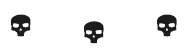
В этой части, милый друг, мы собрали для тебя несколько уже не совсем новых, но премилых историй, опубликованных в тех или иных наших книгах в прошлые годы. Пусть эти истории послужат затравкой, закуской перед основным блюдом. Считай их лишь присказкой, а по-настоящему волшебные сказки ждут тебя впереди!
Александр Подольский. Мешок без подарков

Если долго вглядываться в Деда Мороза, Дед Мороз начнет вглядываться в тебя. У Ницше было чуть-чуть по-другому, но ему не доводилось оказаться в Великом Устюге перед самым Новым годом. Город наводняли седовласые бородачи всех мастей и возрастов, однако такого подозрительного за свою недолгую карьеру Снегурочки Кира еще не видела. Маленький и сморщенный, точно соленый огурец, в дырявой шубе наизнанку, вместо шапки – серебристый колтун, перетекающий в бороду из сомнительного реквизита. Страшилище росло из сугроба у обочины, а на вылепленном из грязного снега лице сверкали отблески лунного света. Даже в темноте чудилось, что невидимые глазки наблюдают за ползущими по дороге санями. Словно в ледяную корку был замурован бродяга, который вот-вот поднимет руку и попросит подвезти. Санями управлял Марк, самый странный Дед Мороз из тех, что доставались Кире в напарники. Энергичный и веселый во время выступлений, любимец детей и лучший друг родителей, за порогом он превращался в угрюмого молчуна. Сгорбленный на своем сиденье, Марк больше походил на Харона в лодке с мертвецами, чем на волшебного старичка с полными санями подарков. – Мне так-то за хорошее настроение не доплачивают, – жаловался он с утра, едва не подпалив накладную бороду сигаретой, – поэтому и веселюсь я в строго оговоренное время, после предоплаты. Вот и сейчас он был отключен от внешнего мира. Гнал вперед болезного вида кобылу и мотал головой под звон многочисленных колокольчиков. Идея с санями и лошадью принадлежала начальству. Клиенты довольны, в городе встречают целыми дворами, заказов полно, значит, и цену поднять не грех. А что кому-то в этой повозке мерзнуть весь день, так это дело житейское, бывает. Зато платили очень прилично, особенно по меркам студентки великоустюжского меда, которая только начинала самостоятельную жизнь. Кира куталась в пледы и всматривалась в огоньки впереди. Новогодняя ночь выдалась безоблачной, спокойной. В ногах, как любимый кот, урчал переносной генератор, раскрашивая повозку во все цвета электрической радуги. Свет редких фонарей вдоль трассы выедал в темноте оранжевые треугольники, точно куличики из песка. За спиной в городе громыхали первые фейерверки. Машин практически не было. Они проехали взятый в плен шеренгами елок участок дороги и миновали деревню Журавлево. Прямо по курсу лежал последний пункт назначения – Коробейниково. Последний, но самый важный, потому что этот визит Кира оплатила из своего кармана. – Как мальчишку зовут? – спросил Марк. – Коля. Ты только по стишкам его не гоняй долго, не любит он их. И не пей с отцом, а то тому лишь бы повод. Марк хмыкнул. – С тем не пей, с этим… Так и околеть недолго. – Успеешь еще, десятый час только, – сказала Кира, проверяя мобильник. В общаге все сейчас провожали год шампанским, а ее от одного вида застолий выворачивало. За неделю насмотрелась на годы вперед. – Ну-ну, – пробурчал Марк, и сани покатили к деревне. Их встретили на улице большой компанией, но предложить Деду Морозу рюмку никто не догадался. Марк распрямил горб, расправил плечи и фирменным басом принялся расписывать свои приключения на пути сюда. Кира с улыбкой смотрела на довольного Кольку. Он носился по снегу, запрыгивал в сани, пытался читать стихи, прятался за взрослых, а потом выныривал в маске медвежонка, на которого и впрямь был похож в своей лохматой шубе, ушанке и рукавицах. – Вот это Топтыгин! – воскликнул Дед Мороз. – Ну и егоза! – А как зовут вашу лошадь? – поинтересовался Колька, мастер нескончаемых вопросов на любую тему. – А почему она одна? Должно же быть три! Марк на секунду завис, а потом вспомнил про мешок. – Давай-ка мы лучше посмотрим на подарочки! Только пара цветастых коробок смогла угомонить Кольку, который собирался кормить лошадь конфетами. Пока брат раздирал упаковку прямо в санях и под чутким наблюдением Марка изучал игрушки, отец бубнил Кире на ухо. Рассказывал, как ходил за елкой и как сильно-сильно соскучился по своей доченьке любимой, Снегурочке-красавице. Хвастался другом, который в очередной раз обещал устроить на работу. Но Кире было неинтересно слушать заплетающийся язык, неинтересно смотреть на залитых по самые веки папиных гостей. Интересовал ее только снеговик у соседнего дома, схоронившийся в тени крыльца. Снеговик, сделанный под Деда Мороза. Шуба наизнанку, борода, грязный снег вместо лица – все то же самое, только у этого был посох в виде громадной сосульки. – Ну, а чего губы надула-то? Чего такого-то? – говорил отец, по-своему расценив молчание Киры. – Ну, посидели. Ну, выпили, да, выпили. Так ведь праздник, все как полагается. Что ж нам, плакать тут, что ли? – Мама и в Новый год в больнице дежурит, – с трудом сдерживаясь, произнесла Кира, – а ты тут чего устроил? Дружки отца помалкивали, запихнув руки в карманы и переминаясь с ноги на ногу. Эта компания черных истуканов напоминала Кире колядующих времен язычества, которые изображали духов. Вместо масок – проспиртованные пластиковые лица, вместо «деда», самого страшного и молчаливого духа, жуткий «снегомороз» с ледяным посохом. Оставалось вывернуть тулупы и пойти колядовать по деревне. – Мама твоя, знаешь, мама – она еще ого-го как со своими там отметит, нам всем и не снилось. Вспомнила маму, ишь. Вспомни еще, где и с кем она там в городе ночует, пока мы с Колькой тут вдвоем, сами по себе. Колька вовсю хозяйничал в санях. Дергал за поводья, гремел колокольчиками и пытался раздобыть еще подарков. Кира хотела подойти к снеговику поближе, рассмотреть это странное чучело, но отец взял ее под руку и зашептал, точно заговорщик: – Кир, понимаешь, ну… тут ведь случай какой. Возьмите Кольку на часок, а? Покатайте там, туда-обратно, красота ведь кругом какая. Зима, чудеса. Тепло ж на улице, а Кольке как раз нужно шубу новую выгуливать. Мне сходить там надо, ну, по делу одному. – К Кате этой, что ли? Или как там ее? Может, вам еще и постелить в моей комнате? Отец поморщился и опустил голову, разглядывая следы на снегу. Нервно пожал плечами, как виноватый школьник. Он был жалок и сам это понимал. – Зря ты так, я ж ведь… Казалось, холод чуточку прояснил сознание, прочистил мозги, но вернувшаяся на лицо ухмылка разрушила иллюзию. – А, ладно. Колька! – крикнул он, повернувшись к саням. – Поедешь с Дед Морозом кататься, а? Салюты в городе смотреть поедешь? С лошадкой на санках! После такой подлянки загнать ребенка домой не было ни единого шанса. Их ждали на пересечении Гледенской и Песчаной улиц, километрах в пяти от деревни. Марк, отключивший режим доброго Деда Мороза, просто взбесился, узнав о новом пассажире. Видимо решил, что обратно везти Колю именно ему, и второй ходки не избежать. – А ваша шуба теплей, чем моя? Марк убедительно прикидывался глухонемым, но Колька не сдавался. – А вы когда-нибудь залезали в дом через трубу? Кира усмехнулась, похлопала Марка по плечу, но тот наотрез отказывался развлекать ребенка. – А из чего делают бороду Деду Морозу? – Коля, видишь, дедушка устал, старенький он, так что лучше к нему не приставай, – сказала Кира, заворачивая брата в плед. – Да я знаю, что он ненастоящий Дед Мороз. И даже не дедушка никакой. – Господь всемогущий, – притворно изумился Марк, на развилке уводя сани вправо, – нас раскрыли! Колька захохотал, и ребяческий голос эхом зашагал по пустынной дороге. Греться под пледом оказалось слишком скучно. Кольке не сиделось на месте, он вылавливал крупные снежинки, теребил светоотражатели и лампочки, криком «ура!» встречал любой распускающийся в небе цветок фейерверка и привычно сыпал вопросами. С какой скоростью едут санки? Сколько осталось до Нового года? Когда приедет мама? Почему второй Дед Мороз такой маленький? И тут Кира увидела его сама. Это был не снеговик. Знакомый коротышка стоял посреди дороги, выглядывал из шубы-кокона, а с его лица сыпались льдинки, точно лоскуты мертвой кожи. Оттаявшая борода походила на собачью шкуру, в черном провале пасти кривым частоколом наползали друг на друга челюсти. – Привет, Дед Мороз! – закричал Колька. Старик повернул голову к мальчишке, вдохнул и со свистом выпустил воздух. Лошадь заржала и дернулась вперед. Чертыхнулся Марк. Ледяной вихрь ударил в сани, окутывая их серым крошевом. Кира повалилась на пол и прикрыла собой Кольку. В спину вонзились холодные колючки, мороз сдавил кости. Стало нечем дышать. – Пошла! Пошла! – орал Марк в молочном тумане. В небе вспыхнул огненный шар и развалился на тысячи искорок. Вторая волна фейерверков смела с неба темноту, и облако снежинок над санями рухнуло в дорожную кашу. Все затихло. – Вот это круто! – рассмеялся сквозь кашель Колька. Кира высунула голову и посмотрела назад. Старик зарывался в снег у деревьев, утаскивая с собой здоровенную палку, похожую на замороженный сталактит. Чертов посох… – Кир, а это ж он был, да? Ну, Злой Мороз? Помнишь, ты рассказывала? Если я буду плохо себя вести, придет вот он, страшный такой. Бог язычный. Кира помнила. Дернул ее черт попугать любопытного братишку, хотя кто в Устюге не знает историю Деда Мороза? Вот она и рассказала о не самой популярной его личине. – Не говори глупостей, я же шутила. – Значит, детей он не ворует? – с недоверием спросил Колька. – Никого он не ворует, успокойся. Просто дедушка много выпил, вот и все. – Как наш папа? – Нет, наш папа гораздо лучше. Ого, смотри, какой салют! До города оставалось совсем чуть-чуть. Дорога тянулась сквозь лесной коридор, который сторожили заснеженные ели-великаны. В обычные дни машин тут хватало, но не сейчас. Марк дозвонился до начальства, и теперь их должны были встретить еще раньше – у поворота на железнодорожный вокзал. Черноту неба все чаще прорывали разноцветные вспышки, лошадь перестала дергаться, а чокнутый старик сгинул в сугробе за спиной. Больше никаких причин для волнений не было. Кира попыталась улыбнуться брату, но лицо все еще не отошло от прикосновения мороза. Деда Мороза… Прежде чем согласиться на подработку Снегурочкой, Кира перелопатила кучу сайтов в поисках информации о новогодних традициях и героях. Она решила изучить образ Деда Мороза поглубже, раз уж собралась стать его помощницей. Тогда-то и выяснилось кое-что интересное. Добряком Дед Мороз был далеко не всегда. В стародавние времена его считали жестоким языческим богом, сыном Мары-смерти. Он собирал человеческие жертвоприношения и замораживал не только леса с реками. Повелевая пургой, губил урожаи, убивал животных и даже людей. Неспроста ведь в поэме Некрасова «Мороз, Красный нос» встреча с Морозом-воеводой для героини закончилась плачевно. В памяти всплыли строчки оттуда, после которых Колька отказался заучивать даже отрывок:
Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.
Дмитрий Тихонов. Ряженый
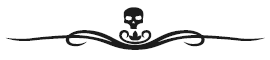
– Христос рождается! Славите! Ледяной ветер обжигает щеки, бросает в лицо колючую снежную крупу, уносит дыхание, вырывающееся изо рта белым паром. Снег звонко хрустит под торопливыми шагами, и от этого хруста кажется, будто следом, совсем рядом, идет еще кто-то, большой и тяжелый. – Христос на земле – встречайте! Серебряный, морозный лунный свет залил все вокруг, вычертив на снегу четкие тени – такие же иссиня-черные, как бездонная пропасть неба вверху. Снег и небо, свет и тьма, а между ними только деревня, да смех, доносящийся из-за домов, да звучная, плавная песня. – Христос с небес – возноситеся! Глеб спешил. Просторный и светлый, но уже покосившийся от времени дом, в котором его отец, сельский учитель, жил вместе со всей своей немногочисленной семьей, стоял на самом отшибе, рядом с ветхой школой. Чтобы оттуда добраться до околицы, где сегодня начались святочные гулянья, ему даже летом потребовалось бы немало времени. А уж теперь и подавно: закутанный в тулупчик, доставшийся от старшего брата, в валенках не по ноге, в свалявшемся отцовском треухе, неуклюже вышагивал он по главной деревенской улице, потея и тяжело отдуваясь. Голоса становились все громче, отчетливее. Впереди показалась вереница огоньков – это уже шли по деревне колядовщики, от дома к дому, от крыльца к крыльцу. Где-то среди них был и брат, нарушивший вчерашнее обещание взять его с собой. Глеб скрипнул зубами от досады и побежал. Валенки терли ноги, треух то и дело съезжал на глаза, по спине лился пот, но он бежал, потому что хотел быть среди этой веселящейся толпы, хотел смеяться и петь вместе с ними, славить и колядовать. Хотел увидеть ряженых. Процессию, как полагалось, возглавлял мехоноша. Глеб узнал его, это был Никита, сын кузнеца и лучший друг брата. Высокий, плечистый, он закинул за спину огромный холщовый мешок, пока еще наполненный едва ли на четверть. Следом за ним шли парни и девушки, несшие фонари в виде берестяных домиков со свечами внутри и бумажные звезды на высоких шестах. Когда Глеб наконец подбежал к ним, они как раз поднимались на очередное крыльцо. Чуть позади колядовщиков двигались ряженые. У них не было фонарей, и здесь, между светом и тьмой, они выглядели сумрачно и жутко. Массивные, бесформенные силуэты с бледными уродливыми мордами, в которых было совсем мало человеческого. У Глеба захватило дух. Он вдруг вспомнил, как два года назад бабушка рассказывала им с братом о том, что во времена ее молодости ряженые изображали вернувшихся из-за гроба мертвецов, которые стремились к своим родным в канун Рождества. Глебу тогда было всего семь, и он мало что понял, но сейчас готов был поверить, что перед ним не живые люди, а выходцы с того света. Бабушка умерла еще весной, и, может, она тоже стояла среди них. Но вот кто-то в толпе ряженых, несмотря на мороз, пробежал по струнам балалайки, кто-то – в мохнатой медвежьей маске – звонко и гулко ударил в бубен, и наваждение исчезло, пропало без следа. Нет и не было никаких покойников, лишь веселые гуляки в вывернутых мехом наружу тулупах и с закрытыми лицами. Остановившись, тяжело дыша, во все глаза смотрел Глеб на маски: тут и козел, и медведь, и волк, и свинья, и черт. Некоторые мужики, не мудрствуя лукаво, повязали на головы бабьи платки или просто вымазали щеки сажей, некоторые нацепили берестяные личины с нарисованными на них смешными рожами. Никого не узнать. Хотя нет, вон у одного из-под бараньей морды свисает густая сивая борода. Это наверняка дед Семен, первейший деревенский балагур. А вон тот, с большим бумажным клювом на носу, похож на пастуха Ваську. Глеб наконец-то отдышался и успокоился. Все-таки он успел на самую веселую часть праздника. Мехоноша Никита тем временем громко постучал в дверь, закричал низким, раскатистым басом: – Эй, хозяева! Его спутники и спутницы грянули дружным хором: – А мы к вам пришли! Поклон принесли! Дверь открылась, выглянул хозяин – коренастый, лысый, в вязаной телогрейке. Густая борода не могла скрыть широкую довольную улыбку. – Чего расшумелись? – притворно рассердился он. – А ну ступайте прочь! – Коль не дашь пирога – ни кола ни двора! – ответили колядовщики. Начался неспешный, обстоятельный шутовской торг по заведенному испокон веков обычаю. Гости угрожали, умоляли, льстили, а хозяин отнекивался и бранился, но мало-помалу уступал. Глеб знал, что в конце концов он вынесет и пирога, и других сластей, а к полночи, когда процессия обойдет всю деревню, мешок будет набит угощениями до самого верха. Тогда уж начнется пир горой. Ряженые тоже не скучали без дела. Двое из них, петух и свинья, сошлись посреди улицы в потешном поединке под размеренное позвякивание бубна, бренчание балалайки и одобрительные выкрики товарищей. Петух вертел головой, хлопал себя руками по бедрам, а свинья уморительно хрюкала. Вот они сшиблись, свинье удалось подмять противника под себя, но тот, изловчившись, тюкнул ее клювом в самое темя. Взвизгнув, свинья отпрянула, и петух тут же налетел на нее, пронзительно крича победное «ку-ка-ре-ку». Все вокруг сгибались пополам от хохота. Неожиданно сзади раздалось: – Эй, Глебка! Глеб обернулся и тут же получил по лицу жестким снежком. Мимо промчался Афонька, его одногодок, главный заводила среди всех деревенских детей. Смеясь, он крикнул: – Рот не разевай! – и скрылся в толпе. Отплевываясь, Глеб бросился вслед, на ходу выдернув из сугроба пригоршню снега. Обидчику предстояло поплатиться. Шло время, неумолимо исчезая в пустоте, и стрелки на часах ползли своей обычной дорогой. Но для тех, кто пел и плясал на улице, эта волшебная ночь растянулась надолго, и казалось, не будет ей ни конца ни края – только вечный, бесшабашный праздник, полный уютного счастья, слегка захмелевший от свежесваренной браги. Колядовщики стучались в каждую дверь, везде неизменно получая гостинцы. Мешок на плече у Никиты заметно раздулся, и вздыхал мехоноша тяжело, устало. Но улыбка не сползала с его довольного лица. Такая уж это была ночь. Ряженые пели частушки и колядки, ревели звериными голосами, мутузили друг друга и разыгрывали смешные сцены. Носилась вокруг мелюзга, перебрасываясь снежками. Глеб, не обращая внимания на остальных мальчишек, преследовал Афоньку. Тот оказался чересчур ловок и постоянно уворачивался от его снежков, дразнясь и обзываясь. Первоначальная обида на него прошла, остался лишь азарт, горячий азарт настоящего охотника. Вот она, дичь – высовывает розовый язык, поскальзывается на бегу. Сейчас, сейчас! Опять не попал! Снежок пролетел чуть-чуть мимо цели. А Афонька, вконец расшалившись, кинулся к безоружному Глебу и, сорвав с его головы треух, побежал прочь. – Эге! – гневно закричал Глеб. – Отдай! Не тут-то было. Торжествующе потрясая трофейной шапкой, обидчик скрылся за углом ближайшего забора. Вот ведь гадина! Глеб чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Отпуская на гулянье, мама строго-настрого велела ему не снимать треух. Особенно после бега, как бы жарко в нем ни было. И вот. А если он так и не получит его обратно? Предрождественский мороз уже высушивал капельки пота на висках, пока это еще приятно, но ничего хорошего ждать, понятное дело, не приходилось. Ни один из гуляк не обратил внимания на его беду. Колядовщики как раз подошли к дому старосты, и никому вокруг не было дела до девятилетнего мальчика, потерявшего свою шапку. Проглотив слезы, Глеб двинулся по афонькиным следам. Повернув заугол, оказался он в узком проходе меж двух дворов. Проход этот вел к старому колодцу, за которым начиналось поле. Летом они любили прятаться около него, очень уж удобное и неприметное было место. Колодец давно пересох, а площадка вокруг заросла малиной и жимолостью. Пока прячешься, можно ягод наесться до отвала. Сейчас же здесь все было покрыто толстым белым одеялом, и на нем отчетливо отпечатались следы афонькиных валенок. Они уходили вперед, скрываясь в темноте. – Афо-о-онь! – крикнул Глеб. – Хватит! Верни шапку! Тишина. Мороз больно щипал уши. Подняв повыше воротник тулупа, Глеб пошел по проходу. Над покосившимися заборами с обеих сторон нависали черные ветви, голоса и музыка позади теперь звучали глухо, будто доносились издалека, но он все равно разбирал слова колядки. – Коляда, коляда! Ты подай пирога! Заборы закончились, и впереди показался занесенный снегом сруб колодца. Следы огибали его. В свежем смерзшемся воздухе вдруг почудился какой-то странный запах, сладковатый, но неприятный. Идти дальше совсем расхотелось. – Или хлеба ломтину, или денег полтину! Еще звуки. Странный хруст, возня и будто бы тяжелое, с присвистом дыхание. И еще что-то. Песня мешала, колядовщики слишком старательно уговаривали старосту. – Или куру с петушком! Или браги с калачом! Обогнув колодец, Глеб чуть не наступил на свою шапку. Рядом с ней валялась серая варежка. Подобрав их, он поднял голову, и увидел. – Отворяйте сундучки, доставайте пятачки! Чуть в стороне, между кустов жимолости, на потемневшем снегу лежал, раскинув руки, Афонька, а над ним нависала огромная фигура в тулупе, вывернутом мехом наружу. С длинных когтистых пальцев падали черные в лунном свете капли. Падали и прожигали снег. Задранная кверху рогатая маска козла бессмысленно пялилась в сияющее звездами небо. А от того, что было под маской, уже готовый вырваться крик застрял у Глеба в горле. Судорожно хватая ртом воздух, он развернулся и бросился бежать, краем глаза успев заметить движение позади себя. Ужас подстегивал его, сердце бешено колотилось, а ноги, уже немало потрудившиеся в эту ночь, изо всех сил несли вперед, мимо заборов, на главную улицу, туда, где горели окна и свечи в берестяных фонарях, где звенели веселые песни и под масками скрывались улыбающиеся человеческие лица. Хриплое, утробное дыхание за спиной становилось все ближе. Догоняет! Еще немного! Еще! Слетел с правой ноги валенок, Глеб испуганно всхлипнул и в следующее мгновенье, потеряв равновесие, упал лицом вниз, в белую ледяную мглу.
* * *
Он стоял на большой поляне, окруженной со всех сторон густым, сумрачным лесом. На правой ноге не было валенка, но холода он не чувствовал. Только страх. Там, за деревьями, что-то двигалось. Хрустели ветки, шелестели кусты, облетал с крон снег. Везде только черное и белое. Вот раздвинулись на опушке тесные заросли можжевельника, и на поляну один за другим вышли трое ряженых, высокие, сгорбленные, в шубах наизнанку. Маски у них были разные: у первого – медведь, у второго – кабан, у последнего – волк. Вышли и остановились, застыли, словно не решаясь идти дальше, словно охраняя невидимую границу леса, замерли на ней неподвижными истуканами. Чуть не плача от ужаса, Глеб направился к ним. Медленно, осторожно, напряженно. Сам себе удивляясь. Что-то вело его, придавало отчаянной смелости. Встал перед первым, потянулся рукой, бережно приподнял маску. Под ней было лицо его отца. Бледное, худощавое, с аккуратно постриженной бородкой. – Все будет хорошо, сын! – сказал отец ласково. – Ты только вернись. Кивнул ему Глеб, немного отлегло у него от сердца. Шагнул ко второму, сдвинул уродливое кабанье рыло, а за ним – бабушкины лучистые глаза. Живые, добрые, вокруг – сеточка морщинок. Как если бы и не умирала, не оставляла их. – Нельзя тебе, Глебушка, в лес, – бабушка улыбнулась, отчего морщинки заметней стали. – Холодно там. Улыбнулся Глеб в ответ, и ей кивнул. Потянулся к третьей маске. Оскалилась волчья морда, ощерила клыкастую пасть, зарычала сердито. Отдернул мальчишка руку, отступил на шаг. Не испугался, удивился только. Тут сзади вдруг донеслось: – Эй, я здесь! Обернулся он, а с другой стороны на поляну как раз выходит Афонька. Целый и невредимый, будто бы и не рвали страшные кривые когти ему грудь и живот, будто бы не плавился вокруг него снег, пропитанный горячей кровью. Стоит себе, ухмыляется, рукой машет. Обрадовался Глеб, побежал навстречу. Но видит тут – что-то не так с Афонькой. Он вроде как и ростом выше стал, и толще, массивней. И вместо улыбки застыла у него на лице жуткая гримаса. И хочет Глеб остановиться, а не может уже, ноги опять подводят, сами несут его навстречу тому, что совсем недавно было веселым дурашливым мальчонкой, а теперь лишь притворяется им. Бывший Афонька раздувается до невероятной степени, и одежда его трещит по швам, и рвется, и сквозь дыры лезет наружу черный свалявшийся мех вывернутого тулупа. Лицо расползается, разлетается клочьями, обнажая выцветшую рогатую маску козла. – Кто ты? – кричит Глеб на бегу. – Кто ты такой?! – Я никто! – насмешливо ревет чудовище в ответ. Оно огромно, закрывает собой уже половину неба, но все продолжает расти. – Я никто! Я могу надеть любую личину! И свет меркнет.* * *
– Он что-то сказал. Ты слышал, он что-то сказал! – Да, кажется, приходит в себя. Глеб открыл глаза. Тьму рассеивала стоящая рядом свеча. Он лежал в своей кровати, укутанный до самого подбородка одеялом. В доме было жарко натоплено, и он весь взмок. – Видишь, я же говорил, что все будет хорошо. Отец. Родной, знакомый голос. Прохладная влажная рука легла ему на лоб. – Жара нет. – Глебушка мой! Это мама. Она сидела рядом, и даже в таком тусклом, неровном свете было хорошо заметно, какие у нее красные, заплаканные глаза. Теперь в них зажглась радость. Она обняла, поцеловала его. Глеб приподнялся на локтях. За окном продолжалась иссиня-черная ночь, и в небе одиноко висела бледная луна. – Давно я сплю? – спросил он, зевнув. Отец, поправив очки, пожал плечами: – Часа четыре. Тебя принесли незадолго до полуночи. Сразу побежали за Авдотьей… – он тронул маму за плечо. – Пойду, разогрею питье. Она кивнула, не сводя глаз с сына. Потом стала ему объяснять: – Авдотья осмотрела тебя, сказала, чтобы не переживали. Да как тут… мы, конечно, и за доктором послали, только раньше утра он все равно не приедет. Да и то еще непонятно, Рождество ведь. Глеб кивал. Авдотья была деревенской повивальной бабкой, и он уже несколько месяцев назад узнал, что это означает. Она же являлась и костоправом, и травницей, и к ней обращались с куда большей охотой, чем к доктору, жившему в соседнем селе. Вошел отец, неся чашку с ароматной горячей жидкостью. – У тебя голова не кружится? – спросил он. – Нет. – А горло не болит? – Нет. – А нос не заложен? – Не заложен. Он снова положил руку сыну на лоб. – Никакого жара. Слава богу, все обошлось. Выпей вот это. Глеб осторожно взял чашку. – Тот мальчик… – сказал вдруг отец, и мама как-то странно на него посмотрела. – Скажи… это ведь был волк? Глеб удивился: – Что? Какой волк? Тут неожиданно он понял, о чем идет речь. Губы его задрожали, из глаз сами собой хлынули слезы. Мама едва успела забрать у него из пальцев чашку, иначе он бы выронил ее. Уткнув лицо в ладони, мальчик разрыдался. Мама обняла его судорожно вздрагивающие плечи, отец успокаивающе гладил по волосам, приговаривая: – Ну, ну, будет тебе, будет. Потом слезы кончились. Все еще всхлипывая, Глеб сел на кровати и большими глотками выпил все, что было в чашке. – Вот молодец. А теперь тебе надо поспать. Утро вечера мудренее, встанешь завтра, и все покажется просто плохим сном. Спи. Глеб кивнул, опустился на подушку, закрыв глаза. Мама поцеловала его в щеку, задула свечу, они с отцом вышли за занавеску, отделявшую его закуток от большой комнаты, и теперь мальчик мог лишь слышать их приглушенный шепот. – Тебе тоже надо лечь. Вымоталась вся. – Нет, Авдотья велела проведать ее, как только Глебушка в сознанье придет. Я сейчас к ней быстренько сбегаю. – Вот не спится старухе. Ну хорошо, пошли. Я обещал Матвею помочь… у колодца. Урядник сказал, нельзя ничего трогать до приезда пристава. А они с доктором только с утра появятся. До тех пор надо охранять. Может, зверя-то выследим. – Царица небесная, от кого охранять? – От волков. Да и от людей тоже, незачем им глазеть. – А Глебушке придется с приставом говорить? – Ничего не поделаешь. Он единственный, кому довелось хоть что-то увидеть. Ума не приложу, что им там понадобилось. – Ох, горе-то какое. А кто этот бедняжка? – Говорят, сынишка Федора Сипатого. Самого Федора добудиться не могут никак, пьян мертвецки еще с полудня. – Боже ты мой! Ведь в Рождество… Закрылась дверь, шаги прошумели в сенях, и наступила тишина. Глеб остался в доме один. Он не спал, и вовсе не хотел спать. Кусая губы, лежал в темноте и думал о том, как хотелось ему прервать отца, вскочить с кровати и крикнуть, что это был вовсе не волк, не волк, не волк! Что волк совсем не плохой, он только рычал, потому что не хотел пропускать его в лес, а Афоньку по правде убил ряженый в маске козла, который на самом деле… Кто же он на самом деле? Покойник, жадный до человеческой крови? Пастух Васька, бывало, рассказывал им про таких. Выбрался мертвяк из могилы и закрылся личиной, затерялся среди других ряженых, выжидая удобного момента. Или это лесной житель, болотный дух, оголодавший за лютую зиму, притворившийся человеком? Бабушка, наверное, знала бы ответ. Глеб перевернулся на другой бок, посмотрел в окно. Теперь он все хорошо вспомнил, и перед глазами стояли тяжелые капли, срывающиеся с острых изогнутых когтей. У покойников могут быть такие когти. Кажется, один из друзей говорил ему, что у мертвецов ногти и волосы растут и после смерти. Да может быть, это пустая брехня. Чу! За окном что-то промелькнуло. Показалось, будто на мгновенье черная тень загородила собой луну. Сердце вновь бешено забилось в груди, как тогда, у колодца. Прислушался. Тишина. Мерно тикают старые настенные часы с кукушкой в большой комнате, да вроде бы скребется мышь под полом. И все. Наверное, моргнул просто. Тихий, еле уловимый шорох раздался в сенях. Ветер? И вот опять – слабое шуршание. Там кто-то был. Мальчик не спеша сел на кровати, облизал пересохшие губы. Потянулся рукой к свече, но в этот момент услышал, как открывается дверь в большой комнате. Поток холодного воздуха ворвался в дом, зашелестел занавеской. От ужаса Глеб не мог пошевелить даже пальцем. Мысли лихорадочно забились в голове. Мать вернулась? И крадется по дому, чтобы не разбудить его? Окликнуть? Спросить? Язык словно бы прирос к нёбу и отказывался повиноваться. Где же брат, почему его нет? Он напряженно вслушивался во тьму, но различал только стук своего сердца. Может, вправду почудилось. Примерещилось с перепугу. А дверь ветром открыло. Конечно, так и есть. Осторожно выдохнув, Глеб спустил на пол босые ноги. И тут скрипнули в комнате половицы. И еще раз. И еще. Скрипели сильно, протяжно, не как под обычным человеком. Кто-то большой и тяжелый медленно шел сейчас по ним, стараясь ступать как можно тише. Чтобы не потревожить, не спугнуть раньше времени. Глеб понял, что дрожит. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не стучали. Ни звука. Черное зловещее безмолвие. И в самом его центре – ряженый. Прямо здесь, за занавеской. Протяни руку и дотронешься. Во мраке он не мог видеть, но ясно представил себе его. Громоздкий заиндевевший тулуп мехом наружу, длинные серые пальцы, когти, изогнутые как серпы, нелепая козлиная маска с витыми рогами, под которой ничего нет. Чудовище стояло за занавеской, а на кровати маленький мальчик, по рукам и ногам скованный страхом, не дыша, смотрел в сгустившуюся темноту и ждал, когда оно войдет. Он боялся не смерти, не боли и не крови. Совсем другого. – Я могу надеть любую личину! – сказало оно ему там, во сне, на заснеженной лесной опушке, на извечной границе света и тени. И сейчас Глеб боялся, что когда его родители вернутся, они не заметят подмены.Парфенов М. С. Подарок
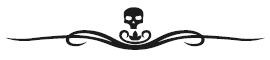
Дело было в ночь перед Новым годом. За окнами падал, медленно кружа, сказочный снег. Со двора доносились пьяный смех, звон стекла и бренчание гитары, а из телевизора в гостиной – праздничная музыка, тосты. Сергей Иванович Квашнин, подхватив с блюда бутерброд, оставил кухонные дела жене и дочке, а сам заглянул в комнату к сыну. Втихую от супруги Сергей Иваныч чуть раньше уже сподобился тяпнуть рюмашку и теперь весь пропитался новогодним настроением. Веселья, однако, поубавилось, когда взгляд его, пошарив в сумраке, уперся в черные тени глаз на бледном, недовольно скривившемся лице. Влад по обыкновению куковал у монитора. В слабом мерцании экрана кожа у него была белой, как у трупа, длинные волосы топорщились во все стороны, массивные наушники дугой обнимали череп. – Мм? – Сергей протянул вперед руку с бутербродом. Влад покачал головой и сосредоточился на игре. Там, в мониторе, шла война. Настоящая бойня, судя по брызгам цифровой крови, заляпавшим объектив игровой камеры. – Нам всем иногда надо что-то кушать, – заметил Сергей. – А? – Бэ! Есть. Пить. Общаться с семьей. Эх, – махнув рукой, он прикрыл дверь и ушел в гостиную. С сыном было сложно найти общий язык. Влад в последнее время стал как неродной. Отдалился от семьи, оценки снизились – не критично, но заметно. Переходный возраст, черт побери! Все интересы юноши сосредоточились внутри его комнаты: кровавые игры, кровавые фильмы, тяжелая громкая музыка, от которой кровь могла пойти и из ушей. Сергей понимал: наверное, с этим надо что-то делать. Вот и Галя о том же зудела едва ли не всякий раз, когда они оставались вдвоем. Он как отец обязан предпринять какие-то шаги. Но не сейчас, не в эту ведь ночь! Не то чтобы Сергей был нынче занят, как раз таки наоборот – хотел насладиться сладким ничегонеделанием. Устроившись на любимом диванчике с ПДУ в одной руке и надкусанным бутербродом в другой, он собрался было понаблюдать за весельем замшелых экранных знаменитостей, да вдруг заметил, что рядом с миниатюрными фигурками Деда Мороза и Снегурочки под пластиковыми лапами искусственной елки появилось несколько весьма симпатичных на вид маленьких свертков. Коробчонки радовали глаз. Они были бережно упакованы в подарочную бумагу с блестками, любовно обвязаны праздничными лентами, обсыпаны разноцветными конфетти. Сергей поневоле улыбнулся, глядя на них, но затем призадумался: кто эти аккуратные кубики с бантиками наверху сюда подложил и что же находится там, внутри? Он отметил, что подарков – а это несомненно были подарки – всего три. В семье же четыре человека: он, жена, Влад и Иришка. Новый год они традиционно праздновали вместе, дома, никого из знакомых или друзей к себе не звали. Для Сергея это всегда был особый вечер и особая ночь. Праздник настоящего семейного единения. Да и выходных дней вполне достаточно, чтобы наведаться до или после знаменательной ночи к кому только пожелаешь. У Иришки впереди прогулки с подругами, сам он с женой нагрянет к соседям сверху, а потом еще в офисе корпоратив на старый Новый год… Только Влад в лучшем случае останется высиживать мозоль на заднице перед компьютером, а в худшем – затусит с такими же, как он, раздолбаями. Но все это – потом, потом, а сегодня, сейчас – семейный ужин, «Голубой огонек» и старина оливье. Но, раз подарочков под елью ровным счетом три штуки, а в семье Квашниных четыре человека, значит, кто-то из родственников решил таким милым образом одарить остальных. Вот только кто бы это мог быть?.. Жена. В ее духе. Благоверная и в юности такой была, как воздушный шарик, наполненный фантазиями. Он сравнивал ее тогда с Ассоль, и это сравнение не казалось ему банальным или пошлым, ведь то, что правильно, никогда не бывает оригинально. Правильно встречать Новый год у себя дома, кушая правильный салат и правильную селедку под шубой, запивая правильным шампанским. Галина и в зрелые годы, несмотря на то что прибавила в весе и все чаще жаловалась на мигрень, оставалась романтичной натурой. Ее стараниями дети лет до десяти верили в сказки о Деде Морозе. Сергей подобное воспитание не очень одобрял, но с характером Гали-Ассоль давно смирился. В былые годы даже помогал ей запрятать подарочки с вечера, чтобы утром, когда Влад и Иришка встанут, сонные, предъявить им. «Откуда, откуда?» – спрашивали детки, а мать отвечала: «Пока вы спали, дедушка в красном тулупе зашел, велел вам передать да наказал, чтоб хорошо себя вели в новом году». «Неправда! – однажды крикнул маленький Владик. – Я всю ночь его ждал, не было у нас никого!» И тогда на помощь жене пришел Сергей: «В этот раз Дед Мороз ко мне на работу заглядывал, подарки передать. Ты же не думаешь, что он только по домам и квартирам ходит? У него столько дел в Новый год, что порой надо спешить, чтобы все успеть». Да, если бы они с Галей еще неделю назад не обсуждали, что подарят сыну и дочке, и если бы он сам этим утром уже не пользовался новым бритвенным станком, то мог бы твердо сказать, чьих рук дело эти маленькие презенты. Однако набор косметики для дочуры и диск с одним из тех ужасных американских фильмов, которые так нравятся Владу, уже были припрятаны в укромном местечке на антресоли, на гладко выбритом подбородке Сергея не осталось ни одной мало-мальской щетинки, а значит, вариант с женой отпадал. Дети? Сговорились на пару порадовать стариков? Было бы здорово. Но, во-первых, подарочков три, а не два. А во-вторых, Влад с Иришкой не очень-то ладили меж собой. Да, с Владом им всем непросто. Вчера дотемна где-то шлялся, а на упреки родных по этому поводу упорно отмалчивался. Вот и теперь, пока сестра с мамкой орудовали у плиты, сынуля заперся у себя и кромсал очередных монстров в очередном побоище. Ох, не доведут эти его увлечения до добра… Ирка, маленькая Иришка, она! На сердце у отца потеплело. Вся в мать пошла, чудо светловолосое… Добрая, отзывчивая – золото, а не дочь! Красавица, отличница, надежда и отрада родителей. Вот только откуда у нее деньги на подарки? Конечно, Сергей что-то подбрасывал своей любимице на карманные расходы, но был уверен, что та все тратит на колечки и болтовню по мобильнику. Или все-таки Влад? Может, наш парень хоть к Новому году позабыл о своих подростковых проблемах, бросил строить из себя взрослого мужика (что ты, не подступись!) и решил вспомнить детство? Верилось с трудом. Эх-эх-эх… Так ничего и не решив, отец семейства задремал, убаюканный льющейся с экрана песней из старой новогодней комедии. Ближе к полуночи между диваном и телевизором девчонки накрыли праздничный стол. Оживившийся Сергей Иваныч резво откупорил бутылку «Советского» (другого не признавал) и разлил по бокалам. Принарядившиеся по такому случаю жена и дочка с умилением следили за процессом, и только Влад, бледный компьютерный Влад с темными кругами вокруг глаз сидел с безразличным видом чуть в стороне от всех и ритмично постукивал лезвием ножа по краю стола. – Ну что, семья. – Отец поднял бокал. – Пора проводить старый год! Пусть все плохое, что было, уйдет вместе с ним… Владик, ты не мог бы перестать? Сын взглянул на него исподлобья, не выпуская нож из руки. – Действительно, – нахмурившись, сказала Галина. – Если уж не помогал накрывать, так хоть веди себя нормально. – Зачем стол-то портить? Что он тебе сделал? – возмутилась Иришка. Влад скривил тонкие губы. Когда он заговорил, в голосе его Сергею послышались насмешка и презрение. – Я бы хотел срезать этим ножом ваши самодовольные лица, – сказал Влад. – Срезать и сорвать их, как маски, чтобы увидеть звериные морды, которые вы под ними прячете. И, взглянув на свое отражение в лезвии, отложил нож. Пока вся семья, онемев, таращилась на него, Влад медленно встал из-за стола. Неужто опять за старое взялся, с нарастающим ужасом и изумлением думал Сергей. Переходный возраст или что другое, но от Влада сейчас можно было ждать чего угодно. На той неделе они изрядно поцапались с сестрой по какому-то поводу, та даже влепила братцу пощечину, а мать вступилась за дочь. Пришлось и главе семейства сказать веское слово: мол, что ж ты, мужчина, с бабами в перепалки вступаешь… В знак протеста Влад тогда молча оделся и ушел на улицу, к дружкам. Может, даже к тем самым, которые сейчас во дворе с гитарой и пивом веселятся. – Ты… ты куда? – Сергей опустил бокал и быстро переглянулся с супругой. Они успели обменяться мнениями по поводу подарков, обнаруженных под елкой, и пришли к выводу, что оставила их там все-таки Ира. Но сейчас именно сын доставал коробочки и принялся раскладывать их на столе. С бледного, может даже чуть бледнее, чем обычно, лица не сходила вялая полуулыбка, вызывавшая скорее беспокойство, чем радость. – Это тебе, ма, – отодвинув миску с оливье, Влад положил на стол подарок в обертке салатового цвета с золотыми крапинками. – Ты так часто в этом году, да и в прошлом, злилась из-за соседского щенка сверху. Ох и доставал же он тебя своей возней и тявканьем… Заметила, что-то давно его не слыхать? – Что… Ты не мог, только не это! – Женщина было привстала, но тут же тяжело рухнула обратно на свое место. Стул тоскливо скрипнул. – Сестренка, – Влад повернулся к ней, протягивая завернутую в синее коробочку. – Думаю, ты уже никогда не станешь завидовать глазкам своей подружки из соседнего подъезда. Ах, какие они красивые, зеленые до умопомрачения! Ах, почему у тебя нет таких же изумрудов… Одна из этих драгоценностей достается тебе, теперь-то уж точно. С Новым годом! Он замолчал, наблюдая за реакцией родных. За спиной у Влада на фоне Кремлевской стены начал свою речь президент. Голос гаранта был негромким, звучал сухо и по-деловому. Влад хихикнул. Ира испуганно взвизгнула, отшвырнула подарок. Коробочка полетела на пол и покатилась, переваливаясь с одной грани на другую. При этом внутри что-то еле слышно шуршало и билось о стенки. Как показалось Сергею, что-то маленькое. – Да как ты… – начал было отец, но Влад уже положил перед ним последний презент – завернутый в темно-красную, как клубничное варенье, бумагу. – Папа, – глаза мальчишки сияли, – ты ведь больше уже не будешь злиться на своего начальника? Всего лишь пара несильных ударов вот сюда, – он коснулся рукой горла, – и никаких проблем на работе не осталось. Больше – нет. Сергей тихо ахнул. «Запретить, – крутилось у него в голове. – Давно надо было уже запретить все эти жуткие кровавые игрушки. Вон у Малахова в передаче что ни день – обсуждают, один случай ужасней другого, и все про свихнувшихся на играх геймеров. А Брейвик? Он же на приставках игровых тренировался, в шутерах этих. Или тот парень, ровесник Влада, что в школе стрельбу устроил, он ведь тоже играл во что-то…» В динамиках раздался торжественный бой курантов. В ушах Сергея он сейчас гремел тревожным набатом. Воображение мигом нарисовало картину – шокирующую, но такую живую, такую… правильную? Боммм… Влад дежурит у входа в офис, пряча под полой зимней куртки нож, этот вот большой столовый нож с широким блестящим лезвием. Боммм… Темнеет, улица перед входом в здание пуста, фонари не работают. Боммм… Дверь открывается, и на пороге возникает грузная фигура директора фирмы. Ему не дойти до своей машины, припаркованной в нескольких метрах, потому что сзади крадется юноша с бледным решительным лицом и черными пятнами вместо глаз. Боммм… Боммм… Боммм… – Что там? – тихо спросил Сергей, не глядя на сына – взгляд приковала к себе коробка с «подарком». – Что ты… взял у него? – Кусочек. – Улыбка Влада стала шире. – Маленький сувенир на память. Для тебя. Сергей услышал тихий стон и краем глаза увидел, как жена схватилась за грудь. Тяжелые удары гремели над башнями Кремля и одновременно в гостиной, как гром. За окном, подхватив эстафету, раздались взрывы петард. Отсветы новогоднего фейерверка – зеленые, синие, красные, как упаковка проклятых коробок, – падали, сменяя друг друга, на спокойное и гордое лицо юноши. – Боже мой, – выдохнул отец. Отброшенный одним резким движением бокал ударился о стену и взорвался брызгами стекла и шампанского («Боммм…» – отозвались куранты). Иришка опять закричала. Сергей схватил свой подарок и принялся остервенело рвать ленточки и обертку. – Не надо… – простонала жена, отворачиваясь. Мужчина добрался до картона, вскрыл его трясущимися пальцами – и слезы потекли по белым как снег, белее, чем у сына, щекам. Пусто. Пусто?.. ПУСТО! Ничего, кроме ваты. Совсем ничего. Сверху донесся звонкий лай, и Галя рухнула в обморок. Иришка, уронив стул, кинулась в ванную, ладонями зажимая рот, чтобы удержать рвоту. – Не все так плохо, – улыбался Влад, разглядывая собственное отражение в лезвии. – И даже резать не пришлось. Разве это плохой подарок, па? – Ты еще спрашиваешь. – Дрожащей рукой Сергей Иванович Квашнин вытер мокрый от пота лоб. – Да это… это… На глаза ему попался белый клочок, будто вырванный из бороды Деда Мороза. – Спасибо тебе, сынок, – сказал Сергей Иваныч и нервно икнул. – Спасибо. Это лучший подарок за всю мою чертову жизнь.
Новый Новый год

Итак, дружочек, ты уже готов сунуть руку в мешок с подарками? Как ты сможешь убедиться, здесь мы припрятали сплошь сюрпризы – ну очень необычные, подчас смешные, но в то же время жуткие истории на тему Нового года и Рождества. Праздник начинается!
Максим Кабир. Предновогодние хлопоты

Восемнадцатого ноября всем работникам склада выдали новую форму. Женщинам – бело-голубые полушубки и платьица с зимним узором. Мужчинам – красные отороченные мехом костюмы и длинные шапки. Начальник отдела кадров проинструктировал подчиненных и завершил собрание традиционной корпоративной молитвой. Саша Сибирцева потянула вниз подол платья, но упрямый атлас отказывался скрывать бедра. Из зеркала на нее смотрела огромными беспокойными глазами худая угловатая девчонка. Олененок Рудольф в наряде Снегурочки. Саша покосилась по сторонам, ожидая насмешливых ухмылок, но внимание сотрудников приковала диспетчер Полозова. Ослепительная платиновая блондинка в струящейся ткани вдохновила бы Васнецова. Диспетчер была всеобщей любимицей, даже звали ее красиво: Злата. Полозова подмигнула Сибирцевой, и та смущенно потупилась. Зависть – тяжкий грех, твердила себе Саша. Завистливые дети не найдут подарки утром. Вооружившись длинным списком товаров, она вышла из служебной комнаты. В коллективных молитвах склад упоминался под ласкательным прозвищем Сокровищница. Помещение занимало территорию трех крупных гипермаркетов. Оно и внешне смахивало на гипермаркет, только без покупателей. Гигантский зал, устремляющиеся вдаль торговые ряды. Внушающие трепет лабиринты, в которых можно бродить часами, не встречая коллег. Здесь царил полумрак, а тени вытворяли такие фокусы, что впору было поверить в жутковатые байки, пересказываемые менеджерами и кладовщиками. В истории о заблудившихся бедолагах. О голосах в вентиляционной шахте. О плачущем почтальоне. За девять месяцев на складе Саша Сибирцева не привыкла к утробному эху, и в угрюмых туннелях чувствовала себя потерявшимся ребенком. Она задрала голову к далекому, как звезды, потолку. Небосвод склада змеился вплавленными во мглу трубами, поблескивал изоляцией. Ночью кто-то украсил его новогодним дождиком и гирляндами. Воображение Саши нарисовало великана, тролля, решившего подготовить свое жилище к празднику. Из динамиков заиграла стимулирующая музыка. Порядком надоевшая песенка «Last Christmas» группы Wham! Толкая тележку, Саша пошла по лабиринту. Первым в списке значился отдел спортивного инвентаря. Уютный закоулок возле центра расшифровки почерка. И, по меркам Сокровищницы, всегда людный. Пара переводчиков, заскочивший поболтать компьютерщик… Но сегодня отдел пустовал. Дробился стук каблуков, болезненно пищали колеса тележки. Саша встала на цыпочки, и платье оголило бедра. Все-таки хорошо, что поблизости никого нет. Вряд ли местным мужчинам было бы приятно созерцать ее плоские, испещренные шрамами ягодицы. Она сняла с полки коробку. Провела подушечкой пальца по штрихкоду, и перед внутренним взором возникла размытая картинка. Словно домашнее видео в царапинах изношенной пленки. Упитанный мальчик разворачивает посылку, радостно кричит. Подбрасывает замечательный кожаный мяч. Подарок ударяется о люстру, и папа беззлобно велит не играть в квартире. Чудесная семья. Чудесный подарок славному ребенку. Саша улыбнулась. В подобные моменты она забывала бояться, и досужие сплетни коллег утрачивали над ней власть. Болтливых детей лишают десерта. Из динамиков ABBA поздравляла с Новым годом. Размышляя о доме, в котором папа не наказывает за шалости, Саша продолжила путь. Отдел электроники также изменился за ночь. Между стендами водрузили искусственные елки, чрезмерно увешанные игрушками. Имбирные человечки, снегири, ангелы, зайцы и ежики. Аромат хвойного дезодоранта. В спелых кругляшах отразился искаженный Сашин профиль. Она щелкнула ногтем по свинке-копилке. Попыталась вспомнить символ грядущего года. Змея? Дракон? Ответ утонул в помехах. Она почесала лоб. Спеша отвоевать праздничное настроение, схватила нужную посылку. Игровая приставка для кучерявого мальчика. У него нет папы, но мама красивая и пахнет живыми фруктами и цветами. Саша с минуту держала палец на штрихкоде, наслаждаясь картинкой, запахом, счастливым визгом. Ежедневные гимны в служебной комнате приобретали смысл и вес. Приставка легла в кузов тележки. Саша замедлила шаг у телевизионных мониторов с разными диагоналями. На экранах шла голливудская комедия. Находчивый герой в исполнении юного Маколея Калкина мастерил хитрые ловушки. Саша смотрела фильм тысячу лет назад. Ностальгия защекотала в груди. Вероятно, показывали режиссерскую версию: сцена на кухне была ей не знакома. Калкин опрыскивает грабителя бензином. Подпаливает его при помощи петарды. Плохиш смешно дергается, его волосы пылают, потом загорается лицо. В памяти всплыло имя актера, Джо Пеши. Грабитель Пеши корчит дурацкие гримасы, а кожа его горит и трескается, мешочки человеческого масла – жировые клетки – вытекают и шипят, как яичница. Закипают белки в глазницах. Улыбка сползла с губ Саши. Ей не нравилась эта версия фильма. Она ассоциировалась с матерью, со смрадом, который та источала после смерти. Саша заторопилась. Если она не справится до обеда, получит выговор. Склад заканчивался секцией мягких игрушек. Саша впервые пришла сюда сама. Раскачивалась, будто висельник, лампочка на проводе. Отблески света метались по потолку. Плюшевые звери обзавелись гадкими тенями и нехорошими мыслями. Саша сглотнула кислый комок. Осторожно переступила через детскую железную дорогу. Рельсы ручейком оплетали стенды и убегали к распахнутым дверям в стене. Надпись над входом гласила: «Упаковочный цех». Она слышала про этот отдел. И посещала его в одном из кошмаров, а кошмары были неотъемлемыми спутниками Саши на протяжении всей жизни. Саша поежилась. На задворках склада температура не поднималась выше нуля. Холод проникал под платье ледяными пальцами. Она выдохнула облачко пара. Тяжелые пластиковые шторы, прикрывавшие вход в цех, шевелились от порывов промозглого ветра. Снежная крупа, выплюнутая сквозняком, покатилась к Саше. Снежинки приземлилось на сапоги, и она брезгливо стряхнула их, точно насекомых. Откуда-то сзади доносилась музыкальная тема «Простоквашино». Саша повернулась к цеху спиной, взяла с полки плюшевую панду. Не проверила даже, кому она предназначена. Хотелось быстрее уйти из секции. Она оглянулась. За пластиком кто-то был. Похожая на клинок тень падала к ногам Саши Сибирцевой, и пол затягивался инеем, очерчивая границы тени. В недрах громадного морозильника раздался шум. Звук, какой производили бы крысы, роющиеся в коробках с конфетти. Онемевшая Саша попятилась от темной фигуры за занавеской. Чуть не споткнулась о железную дорогу. Пошла, толкая тележку. Зубы ее стучали в такт с бешено колотящимся сердцем. Колокольчики прозвенели мелодию пятнадцатиминутного перерыва. Саша скользнула в боковой проход и покинула Сокровищницу.
* * *
На улице завывал ветер, и карликовые торнадо гуляли по припорошенному асфальту. Ледяная соль шуршала под подошвами. Саша пересекла парковку. Пунктирная линия следов казалась цепью, пристегнувшей ее к гранитной глыбе склада. Справа от здания росла одинокая ель, метров тридцать в высоту, древнее реликтовое дерево с пушистыми лапами. Саша миновала ее и подошла к беседке с двускатной крышей. Зажгла сигарету. Из ста пятидесяти работников Сокровищницы курило пятеро. Дирекция взимала с курильщиков «никотиновый» процент и награждала премией за отказ от табака. Дети с вредными привычками ложатся спать на голодный желудок. Все так, но дым в легких напоминал Саше о мире вне склада. Три сигареты в день, вот что мешало ей превратиться из человека в шестеренку, деталь отлаженного механизма. Три кратких мига «как прежде». Развеялся туман, полгода облеплявший склад. Еще вчера за беседкой вздувалась плотная пелена, а теперь занавес пал, и кругозор разомкнулся. Там ничего не было. Ничего, кроме бескрайней пустоши до горизонта. Мерзлая земля, редкие пучки сухой травы. Сливаясь с пепельным небом, пейзаж образовывал шар, и взгляд напрасно бился о его вогнутую поверхность. Склад, ель, парковка и Сашина беседка будто плавали в невесомости. А вдруг те счастливые дети – фантазия? Вдруг посылки уходят в космос, вертятся по орбите Сокровищницы астероидным кольцом? Она стиснула в пальцах окурок. Скрипнули задние двери, и Саша ссутулилась, словно нашкодивший ребенок. Заведующий Котельников, одетый в костюм Санты, как и простые кладовщики, держал в руках фарфоровое блюдце. Он поставил свою ношу на порог и, если бы в этой вселенной обитали животные, Саша решила бы, что он подкармливает кошек. Котельников улыбнулся ей приветливо: – Кадите, Александра Дмитриевна? Травитесь, миленькая? От его отеческого заботливого тона у Саши засосало под ложечкой. Улыбка заведующего была фальшивой, зубы гнилыми от сладостей, а сам он походил на постаревшего и спившегося Маколея Калкина. – Я всего две в день выкуриваю, – стушевалась Саша и погасила окурок о дно кофейной банки. – Три, голубушка, три, – сказал Котельников и сделал несколько приседаний. – Денек-то сегодня – эх! Шикарный денек! Саша подошла к нему, мельком заглянув в блюдце. Кисель – его подавали на завтрак по будням. По выходным служащих потчевали кутьей. Коллеги шептались, что на кисель директора̀ приманивают земляных дедов. Саше доводилось находить на пороге склада посуду с полусъеденными лакомствами. Котельников причмокнул, озирая пейзаж. – Говорят, в этом году Хозяин прилетит пораньше. – Здорово, – произнесла Саша. Заведующий похлопал ее по плечу. – Волнуетесь, Александра Дмитриевна? Это нормально. В предпраздничные дни мы все волнуемся. Кабы чего не случилось, кабы карапузики были с подарочками. – Демьян Романович… Саша уставилась на свои сапоги. – Да, радость моя? – Демьян Романович, а если я захочу уволиться? Его лицо удивленно вытянулось. – Зачем вам увольняться, воробушек? Куда вам идти-то, Сашенька? Здесь вы пользу приносите, на благо людям трудитесь. Вы ж, душечка моя, сами письмишки писали, просились, пташечка, примите. Маменька моя, цветочек, пьяненькая уснула да закоптилась вся, папенька мой умалишенный повесился на елочке. Возьмите меня, люди добрые! Возьмите! Котельников захныкал и потер щеки костяшками. Саша прикусила всхлип. Безжалостные глаза заведующего буравили ее переносицу. – Идите работать, Александра Дмитриевна. Всерьез надумаете увольняться, спуститесь в мой кабинет, и мы с вами пораскинем мозгами, что да как. Она быстро кивнула и вошла в Сокровищницу.* * *
На ужин были винегрет и холодец. Хотя бы не оливье. Саша чувствовала, что ее вырвет при одном виде перемазанного жирным майонезом салата. В комнате отдыха крутили «Иронию судьбы». Когда-то она любила этот фильм. Его показывали в маленьком телевизоре на кухне, и мама подпевала Никитину, засовывая в духовку курицу. Мама оставалась почти трезвой до президентской речи, до боя курантов. Но смотреть кино сейчас было невыносимо. Неистовый хохот кладовщиков пульсировал в ушах, пока она поднималась по металлической лестнице на чердак. Под крышей дирекция оборудовала комнаты для персонала. Каморы на двух человек, разбитые фанерными перегородками. Комнатка Саши вмещала пару коек, пару гардеробов, тумбу и картонный камин с встроенным обогревателем. Стены пестрели детскими рисунками на рождественскую тематику, их развесили еще до заселения сотрудников. Саша едва успела переодеться, как в комнату вбежала раскрасневшаяся Полозова. – Сашуль! – соседка обняла ее и закружила в танце. Саша озадаченно заморгала: – Ты чего, пьяная? – Бокал шампанского, всего-то! Демьян угостил. Советское, молдавского разлива. Ты когда последний раз пила шампанское? Саша равнодушно отмахнулась. Рот наполнился винной терпкостью. – Оно так выстрелило! – Злата Полозова замлела от удовольствия, поправила свои роскошные волосы. – Уже проверяла носочки? Саша отрицательно мотнула головой и села на кушетку. К поддельному камину были пришпилены два зеленых гольфа. – Можно, можно я проверю твой? – Валяй. Полозова по очереди ощупала гольфы. – У тебя ничего, – с сожалением констатировала она и тут же охнула: – У меня конфета! Она извлекла фигурку Дедушки Мороза, счистила фольгу. Жадно хрустнула шоколадом. – Представляешь, Демьян сказал, что у меня стратегическое мышление. Что я мыслю категориями развития склада. Он сказал, что я лабильная. Саша вспомнила ухмылку Котельникова, вязкую, как кисель, которым он приманивал предков. – Я подозреваю, что меня повысят, – Злата вручила Саше половинку шоколадной фигурки. – Угощайся. – Переведут в отдел логистики? – присвистнула Саша. – Круче, – Полозова доверительно понизила голос, – Демьян сказал, что моя кандидатура рассматривается на роль Снегурочки. – А мы разве не Снегурочки? – Нет, глупенькая. Это только униформа. Настоящую Снегурочку Хозяин заберет с собой во внешний мир. «Внешний мир», – посмаковала Саша заветные слова. Слова взрывались праздничным фейерверком, были слаще шоколада и пьянили лучше любого шампанского. – Но… тебе ведь нравится в Сокровищнице? Злата фыркнула: – Всем нравится. Но надо расти. И я с детства мечтала прокатиться на оленях. Завистливые дети получат по шее, – предостерегла себя Саша. И зажмурилась, когда Злата вновь обняла ее. Ночью Саше снилась елочка, увешанная частями человеческих тел. На гирляндах внутренностей крепились отсеченные кисти, ступни, носы и белокурые скальпы. Елочка кровоточила, и кровь капала в сугроб. А вокруг водили хоровод серые снеговики, щелкунчики с медвежьими капканами челюстей и облезлые, поеденные клещами белки. Саша проснулась в поту, до утра лежала, пялясь на разноцветные каракули. Пришла зима, и снег занес беседку по крышу. Саша выкурила дневную сигарету, нервно вертя список. В нем значилась мягкая игрушка для Алены Арсеньевой. Саше опять придется побывать возле упаковочного цеха. Она гадливо поморщилась. Колокольчики предупредили, что перерыв заканчивается, и двери автоматически закрываются. Как в метро, – подумала Саша. До слез хотелось ощутить специфический аромат подземки. Бесцельно ездить от станции к станции в толпе обычных пассажиров. Она потушила окурок и побрела в полутьму величественной Сокровищницы. Начальство не восторгалось Сашиной работой. На неделе ее отругали за пассивность во время молитвы, а каминный носок пустовал с октября. Секретарша как-то поведала ей о наказании для провинившихся сотрудников. Намекнула, зачем начальник охраны носит с собой березовые розги. Злата сказала, что это чушь, но розги долго преследовали Сашу в кошмарах. Из бокового коридора вышла, соря снежком, пожилая женщина. Старшие должностные лица имели универсальные ключи, а женщина была главным товароведом. Ее звали Римма Липольц, милая, как бабушки с открыток, она неоднократно заступалась за коллег. Товаровед заперла дверь и спрятала в карман шубки магнитную карточку. Саша догнала ее у макета мельницы. – Здравствуйте, Римма Михайловна! – Здравствуй, доченька. Видала, что на улице творится? Метель, буран. Студенец к нам раньше срока летит. Ты в отдел игрушек? И я туда же. Железную дорогу инспектировать. Загадали ее у нас. Саша с облегчением присоединилась к женщине. – Забот нынче непочатый край, – жаловалась Липольц. – Накануне всегда так. Писем – океан и маленькая речушка. Из одного Устюга тридцать тысяч. А есть еще Архангельск, Мурманск, Чунозеро, Лапландский филиал. И это не считая электронной почты. Ясно, что без Снегурочки Хозяин не справится, околеет в пути. Саша вежливо поддакнула товароведу. Чем ближе они подходили к задней стене склада, тем холоднее становилось, и Boney M пели «Mary’s Boy Child» будто из-под толщи снега. Кусочек льда откололся от потолка, упал на вертеп, прямо в колыбель с младенцем Иисусом. – Ну-с, – Липольц склонилась над железной дорогой, – как здоровье, товарищ Чухчух? Стараясь не обращать внимания на вход в цех, Саша подошла к стендам. Улыбнулась, сняв коробку. Ослик Иа был ее любимым персонажем. Такой же грустный и одинокий, как она сама. Игрушечный поезд двинулся по рельсам, набираяскорость. Вспыхнули семафоры. Ожили шлагбаумы. Саша прикоснулась к штрихкоду. В кинотеатре ее мозга зажужжал проектор. Она увидела крошечную девочку, прижимающую к себе ослика, потому что у всех на свете должны быть друзья. Она увидела, как крошечная девочка посасывает пуговичку глазика. И пуговичка, вот незадача, отрывается. Ерунда, – подумала Саша, – мама пришьет ее обратно. Она не сомневалась, что у крошечной девочки славная мама. Где-то стучат колеса поезда, бормочет старушка… Крошечная девочка (стой! – мысленно закричала Саша, – прекрати!) глотает пуговицу. Мордашка крошечной девочки стремительно краснеет, а потом синеет. Она издает ужасный свистящий звук и тянет ручки к горлу. Крошечная девочка у… Ми… Саша выронила коробку. – Что с тобой, доченька? – нахмурилась Римма Михайловна. – Ты белая, как пломбир! – Малышка… задохнулась… то есть задохнется. – А-а-а, – смекнула старушка. – Подарок-то меченый! – Что? – Саша поддела посылку ногой. – Угольный крестик, не заметила, что ли? Угольным крестиком помечают плохих детей. – Как она может быть плохой? – завелась Саша. – Ей четыре года от силы! – Ну, – Липольц, потеряв интерес к беседе, изучала рельсы перед замершим поездом, – может, родителям наврала, что котлету съела, а сама ее собачке скормила. Или обои фломастером изрисовала, как негодная девчонка. Или… сотня вариантов, а правду знают лишь земляные деды. Они в норах сидят, прислушиваются. Кто хороший, а кто нет, им судить! – Господи, – Саша сдавила ладонями виски. Она взирала на штабеля коробок, помеченных углем. – Так нельзя! Это зверство! – Александра, – раздраженно начала Римма Михайловна. Договорить не дал поезд, резко тронувшийся с места и отрезавший старушке четыре пальца. Липольц изумленно посмотрела на обрубки и завыла. – Больно! Доченька, больно! Пальчики мои! Уволят! На пенсию, доченька, отправят! – Я сейчас, – вскрикнула перепуганная Саша, – я мигом! – Куда?.. Старуха баюкала изуродованную руку и заливалась слезами. – За помощью! Саша побежала по коридору. – Кто-нибудь! Склад вымер. Только отплясывали фантастические тени и полыхали гирлянды под сводами. У секции велосипедов Саша чуть не напоролась на вилочные захваты автопогрузчика. Затормозила, упершись в полку. Водитель, пухлый добряк по имени Алик, глядел на нее с беспокойством: – Ты чего носишься как угорелая? – Там… Римме… пальцы… Алик был сообразительным парнем. Буркнув что-то в рацию, он соскочил с погрузчика и поспешил за Сашей. – Терпите, Римма Михайловна, терпите… Саша споткнулась, и Алик налетел на нее. Липольц тихонько скулила в углу. У железнодорожной развязки сгорбилось худое обнаженное существо. Ребенок, странный, непропорциональный, больной. У здоровых детей не бывает пролежней, вздувшихся пузырей с темными сгустками. Тень здоровых детей не покрывает пол изморозью. Мальчик повел костлявыми плечами. И Саша догадалась, что он делает. Высунув синюшный язык, он лакал с рельсов кровь старушки. – Эй ты! – воскликнул Алик. – Паршивец! Мальчик повернул к людям лицо в фиолетовых пятнах омертвевшей ткани. Кровь стекала по подбородку, очень яркая на фоне мерзлой плоти. Зрачки в катаракте инея слепо обшаривали пустоту. – Вон! – рявкнул Алик с неожиданной для его комплекции твердостью. – Вали в свой морозильник! Он топнул ботинком. Мертвый мальчик оскалился ледышками клыков. Саше показалось, что он прыгнет, сцепит на ее шее промороженные до костей клешни. Но мальчик засеменил к упаковочному цеху, зло рыча. В кулачке он держал трофей – мизинец Риммы Михайловны. Мальчик юркнул за пластиковую занавеску и исчез. Саша успела разглядеть выползшие к нему навстречу фигуры. Одни маленькие, как он. Другие размером с взрослого мужчину. Третьи… Она запретила себе думать о третьих. – К-кто это? – прошептала Саша. – Упаковщики, мать их, – лаконично ответил водитель и добавил, кивая в проход: – Служба безопасности, наконец-то. Охранники перебинтовывали товароведу раны. Алик помогал им. Мрачная Саша смотрела, как испаряется отпечаток морозной тени на полу, словно втягивается в распахнутое чрево цеха. Когда он убрался с железной дороги, Саша быстро подошла к рельсам и подняла магнитную карту Липольц. Карта была холоднее льда. Голос из динамиков пригласил кого-то в кабинет заведующего. Саша не сразу вспомнила свою фамилию.* * *
Демьян Романович восседал за дубовым столом, уставленным многочисленными фотографиями в рамках. Люди на фото, родители, бабушки и дедушки, малышня, – Саша была уверена в этом – не имели к заведующему никакого отношения. – Римма Михайловна в порядке? – Саша поерзала на стуле. – В полнейшем порядке! – промурлыкал Котельников. – Подлатаем, будет как новенькая. Он подался вперед, расталкивая локтями снимки. – Милая моя Александра Дмитриевна. А вы молодец, да. Реакция у вас – ого-го! Горжусь вами, все вами гордятся. Кабы не вы, бог весть, что бы начудил тот сумасшедший пацаненок. – Сумасшедший? – переспросила Саша. – Естественно. Сынок нашего грузчика. Бедный ребенок. Малахольный. Ну а что мы, не выгонять же его? Мы же семья. Заведующий ухмыльнулся, точно вылил на подчиненную стакан сиропа. – Вы, пчелка моя, надеюсь, понимаете, что об инциденте лучше не распространяться. Во избежание, так сказать. Саша понимала. Болтливые дети найдут в камине своих запеченных мамок. Болтливые дети найдут на елочке своих подвешенных папок. – Положитесь на меня. – С удовольствием положусь, – хмыкнул Котельников, и Саша почувствовала себя сырой варежкой, в которой стыло и неуютно. – Да, и главное, – он улыбнулся еще слаще, – мы с начальством пощебетали и решили наградить вас за проявленную бдительность. А награду вы выберете сами. Ну же, смелее. Представьте, что я золотая рыбка и исполню любой ваш каприз. Любой подарок на ваш вкус. – Любой? У Саши перехватило дыхание. В голове зажглись неоновые буквы: «Внешний мир», «Свобода», «Снегурочка». Улыбка стерлась с губ Котельникова. Он предупреждающе кашлянул: – Любой подарок со склада. Буквы погасли. – Хотите платье Снежной королевы? Их выдадут сотрудникам в следующем году, а у вас платье будет уже в этом. Или сигареты? Скопился целый мешок. Бывшие курильщики обменивали на леденцы. Но я бы порекомендовал… – Я хочу игрушку, – проговорила Саша тихо. – Плюшевого ослика Иа. Левое веко Демьяна Романовича дернулось. Брови выгнулись домиком. – Но… любушка моя, гм, ягодка, это ослик другой девочки. Саше потребовалось усилие, чтобы вымолвить: – Обойдется. – Гм, – Котельников разочарованно пожевал губу, – гм… ладно. Ослик так ослик. А теперь идите работать. Скоро прибудет Хозяин. Иа ждал Сашу в ее комнатушке. И это был волшебный Иа. Обнимая его во сне, она не видела кошмаров. А однажды ей приснилось окно, мама и папа в гостиной, и она смотрела на них, пока морозные узоры не заштриховали стекла. В декабре склад работал ударными темпами, и за три дня до прилета Хозяина все было готово. Дирекция назначила выходной. Сотрудники повалили из Сокровищницы. На асфальтированном пяточке посреди великой пустоши они перебрасывались снежками, лепили баб, хохотали в пепельное небо. Саша курила у беседки, наблюдая за Полозовой. Блондинка втиснула в детские санки свой соблазнительный зад. Хипстер-сисадмин и парень, который сменил пропавшую Липольц, катали ее по парковке. Санки перевернулись, вышвырнули смеющуюся Злату в сугроб. Она лежала, разведя руки, рисуя на снегу ангела. Эффектная, как пинаповские девушки. Накануне вывесили список лучших работников года. Саша была удивлена, обнаружив себя в числе прочих. Злату провозгласили Снегурочкой, и она съехала из комнаты под крышей. – Кому холодненького? – крикнул заведующий и метнул снежок в затылок начальнику охраны. Тот дружелюбно погрозил Котельникову березовыми розгами. Саша докурила и вошла в Сокровищницу. Телевизоры транслировали «Голубой огонек». Лариса Долина пела зимнюю песенку. Саша сняла с елки стеклянную игрушку-сосульку и спрятала ее в рукав. Остаток дня Саша провела с осликом, и в иной компании она не нуждалась.* * *
– Началось! Началось! Коллеги пихали Сашу, стремясь первыми увидеть гостей. На ходу надевали шубки. Саша за ними не пошла. Она воспользовалась запасной лестницей, ведущей к транспортникам, а из их отдела вышла на балкон. Здесь собралось десятка два служащих. Они весело гудели и делились драже M&M’s. Балкон опоясывал внутреннюю стену склада, с его пятиметровой высоты открывался замечательный вид. Температура в зале упала. Мороз покусывал Сашины ноги. С холодом пришел свет. Раз в году поднимались гигантские створки ворот, и тьма пасовала перед льющимся из них яростным сиянием. Гости прибыли. По расчищенному проходу двигались вереницей Деды Морозы. Их тулупы были синими, а бороды серебристыми. Они тащили коробки к воротам, туда, где клубилось белое облако, и погрузочный пандус исчезал в его мягкой снежной пелене. Возвращались и снова хватали ящики, деловитые, как муравьи. Инженер по стандартизации, знаток советского кино, сказал, тыча пальцем в гостей: – Вон тот Морозко похож на актера Александра Хвылю! А тот – на Романа Филиппова. Вон Петр Никашин и Игорь Ефимов, а с фиолетовой коробкой – это же Евгений Леонов! Коллеги его проигнорировали. Сашино внимание приковали не седобородые старички. Единственным черным пятном внизу был костюм стройного молодого человека, командующего погрузкой. Незнакомец перемещался вдоль шеренги, зорко следя за работой Морозов. – Кто это? – поинтересовалась Саша. – Брюнет в костюме? – Погонщик, – объяснила маркетолог-аналитик Юля, – он управляет оленями и общается с нашими директорами. Что, согласись, практически одно и то же. – А Хозяин? Он никогда не заходит в Сокровищницу? – Никогда. – А его хоть кто-нибудь видел? – Только Снегурочки, – вздохнула Юля. – Новенькая Снегурочка уже ждет его на улице, но он обычно спит в санях до темноты. Саша перегнулась через перила, забыв про короткий подол. Впрочем, желающих уделить минуту ее ножкам не было. Сотрудники завороженно любовались гостями. К вечеру гипермаркет превратился в пустой полигон. Оголились неприглядные стены, обнажили каркас полки и стенды. На бетонном полу валялись хвосты новогоднего дождика, мишура, растоптанная омела. Морозы закончили трудиться и внесли в Сокровищницу с десяток ящиков. Затем растаяли в белой мгле. Створки опустились. – Шампанское, – зашушукали менеджеры. Ожил громкоговоритель: – Просьба лучшим работникам явиться в конференц-зал. Избранные, перешучиваясь, потекли по лестнице. Саша замыкала шествие. Из-за плеч коллег она видела директоров, окруживших брюнета в черном костюме. – А это, – сказал исполнительный директор, приторно улыбаясь, – наши звездочки, цвет коллектива, его, как говорится, мотор! Погонщик был моложе, чем казалось Саше с балкона. Лет восемнадцати-девятнадцати. Лицо жестокое, бескровное и красивое до непристойности. Он напоминал юного Алена Делона, но намного красивее, совершеннее. Директора вручали работникам коробочки, а Погонщик молча одаривал рукопожатием. Дошла очередь и до Саши. Мраморное запястье нежно прикоснулось к ее руке. От Погонщика пахло мандаринами. Вместо зрачков у него были завитки бенгальских огней, колючие оранжевые черточки света. Он склонил набок голову и вдруг провел холеной пятерней по щеке Саши. Ласково, утешающе. – Не делай этого, детка, – произнес он. И удалился за почтительно шаркающими директорами. Саша дотронулась до своей похолодевшей щеки. Она подумала о переливчатых колокольчиках на дуге оленьей упряжки, о санях, бороздящих звездное небо, о солнце и луне. Она представила себя рядом с дедушкой, рядом с Хозяином. Хозяин опирается на посох и раскатисто смеется, а впереди – узкая стройная спина Погонщика. Иногда Погонщик поворачивается, чтобы подмигнуть Снегурочке… Она знала, что получают непослушные дети: горох и розги, маму-алкоголичку с угольным крестом на лбу и пуговицу в глотку. Жри, не подавись, поганка. Но скоро сани улетят. На завтрак подадут кисель. Склад наполнится полутьмой. В комнате с каракулями – то ли детей, то ли приговоренных к смерти шизофреников, – она наспех переоделась. Поцеловала ослика в печальный пуговичный глаз: – Прощай, Иа. Прости, что не могу взять тебя с собой. Служащие праздно шатались по цеху, пили шампанское из одноразовых стаканчиков, поздравляли друг друга с удачным годом. Саша прошла мимо, шмыгнула в коридор. – Александра Дмитриевна? Ее колени затряслись от страха. Магнитный ключ норовил выпасть из занемевших пальцев. Саша оглянулась. К ней навстречу рысцой приближался Котельников. За ним вразвалку шагал начальник охраны. – Мне нужно побеседовать с вами, лапуля моя. Саша отчаянно заскоблила карточкой по замку. – Да не спешите вы, Демьян Романович, – лениво посоветовал начальник охраны, – у вас ишемия, а эта идиотка никуда не… Дверь распахнулась, и Сашу обдало игольчатым ветром. – Кисонька, – Котельников потянулся, чтобы поймать беглянку за шиворот. Она развернулась и всадила сосульку в его горло. Основание игрушки лопнуло при ударе, но острие пронзило артерию. Из стеклянной трубки плеснула струя. Заведующий забулькал. Улыбка обратилась в жалкий обмылок. Саша переступила порог и хлопнула дверьми, отсекая крики охраны. Успеть бы, мамочка… Вьюга кидалась на нее свирепым зверем, но она брела, уставившись под ноги, глотая ледяной песок. Как матрос, сражающийся с бурей. В штормовом хаосе темнела высокая мачта. Реликтовая ель. Саша остановилась у ее корней. Там, под ветками, что-то висело, что-то белое… Саша сощурилась. Снегурочка была примотана к дереву строительным скотчем. Абсолютно голая, с вызывающе выпяченной грудью, она походила на ростральную статую, но не деревянную, а изо льда и мяса. Мертвое заиндевевшее лицо с прорубью рта, слипшиеся в сосульки волосы. Ледяная скульптура. Замороженная еда, чтобы Хозяин питался в дороге. Саша закричала и побежала прочь от Златы, но ветер подсек ее и бросил в сугроб. Она заметила боковым зрением грандиозную фигуру, подпирающую собой небосвод. – Тебя не существует! – прохрипела Саша. – Мама говорила, тебя нет! Слезы твердели, скатываясь по щекам. Ломались хрупкие ресницы. Саша смотрела и видела его. Великого Старца Севера. Холодного владыку. Повелителя пурги. Рогатого Трескуна. Глазные яблоки Саши взорвались и брызнули ледяным крошевом, словно их выдули из черепа. И когда через час Сашу подобрали коллеги, из ее глазниц сыпался снег.* * *
Саша шла в темноте, ставшей для нее привычной. Каблуки стучали по граниту. Далеко-далеко хор детишек пел рождественский гимн «Ночь тиха, ночь свята». Запахи Сокровищницы успокаивали. – Куда вы меня ведете? – спросила она у рук, что поддерживали ее под локти с обеих сторон. – Не волнуйся, Сашенька, – ответил голос справа. Она узнала Алика, оператора погрузочной машины. После случая с Липольц начальник охраны забрал его к себе. – Вас… – он откашлялся. – Вас перевели в новый отдел. – Здорово, – улыбнулась Саша и попыталась снять с глаз повязку, но Алик помешал ей: – Не надо, пожалуйста. – Извини. Чешется… – Потерпи, мы почти на месте. Вот сюда. Да, отлично. – Алик… – Что, милая? – Я не курила… довольно давно. Ты не в курсе, где мои сигареты? – Сожалею, – проговорил парень искренне, – тебе запретили курить. – Это плохо, – она грустно покачала головой. – Я кое-что принес тебе из твоей бывшей комнаты. Вот. Саша нащупала мягкий короткий мех. – Иа… Боже, спасибо… Она уткнулась носом в игрушку. – Что вы возитесь? – раздался низкий скрипящий голос. – Простите, Демьян Романович, – буркнул Алик и сочувственно погладил Сашу по спине. – Тебе пора. Иди вперед и ничего не бойся. Она кивнула. Сделала шаг, второй. Что-то подсказывало, что вскоре никотиновый голод исчезнет сам по себе. Прижимая к груди ослика, будто младенца, Саша сделала третий шаг и толкнула плечами пластиковые занавески.Дмитрий Золов. Поджелудочная

За неделю до Нового года Артем съел подозрительный гамбургер, как следует всандалил пива по случаю пятницы, а после скрючился в приступе панкреатита. До четырех часов утра он терпел и надеялся на анальгин, но потом сдался и первый раз в жизни вызвал скорую. В больнице его три дня морили голодом, ставили капельницы с соленой водичкой и пугали панкреонекрозом. За это время Артем узнал про поджелудочную железу такие вещи, о которых человеку лучше и не задумываться. Оказывается, эта приютившаяся в животе хреновина, лишь только дашь слабину, может в любой момент переварить саму себя и отправить весь организм вместе с душой, духом и что там еще есть в наличии навстречу неизвестности. Артем начал бояться смерти и до потери сознания пил полученный от медсестры регидрон. На четвертый день ему выдали длинный список того, что ни в коем случае нельзя есть, и отправили домой. Телесно Артем чувствовал себя не очень хорошо, зато духом за время поста воспарил до самых высот и прикидывал, что на такой вынужденной голодовке можно неплохо сэкономить и погасить ипотеку немного раньше намеченного двадцатилетнего срока. Но темная сторона его личности недоумевала: как жить без пива и подозрительных гамбургеров? Артем вернулся в свою маленькую квартиру и решил не отмечать Новый год. Да и зачем его отмечать, если все равно ни есть, ни пить толком нельзя? Сославшись на болезнь, он отклонил приглашения друзей и впал в аскезу. Сидел на больничном, ел только овсянку, листал новостные ленты и с презрением смотрел в окно на людей, несущих елки. В новостях писали какую-то дичь: будто бы шестьдесят два процента россиян готовы к Новому году, диетологи рекомендуют избегать майонеза, а буквально в трех остановках отсюда бродячие собаки загрызли молодую, полную сил женщину. Артему казалось, будто бы каждый год он читает одно и то же. Наутро тридцать первого декабря запасы овсянки закончились и пришлось идти в магазин. У входа в «Пятерочку» сидели четыре угрюмых мопса, привязанные к урне. Один из них грыз кость, а другие смотрели на него и облизывались. Мимо проходила мамаша с ребенком. – Ав! – сказал ребенок. – Да, собачки! – согласилась мамаша. – Смотри, какие хорошие, послушные собачки! Ждут своего хозяина! Мопсы посмотрели на мамашу с сожалением. Двое из них зевнули, третий вздохнул, а четвертый оставил кость и кашлянул почти по-человечески. Таких странных собак, пожалуй, не каждый день встретишь. Артем долго бродил вдоль стеллажей и никак не мог подобрать подходящее пропитание. Он разглядывал продукты, сверялся с выданным в больнице списком, и получалось, что есть ему вообще ничего нельзя, кроме овсянки и обезжиренного кефира. В итоге Артем решил, что от куска отварной курятины скорее всего не умрет, и пошел на кассу. Первым в очереди был толстый седой дед в драной шубе. Пахло от него так, что доходило даже до Артема, хотя тот и стоял через три человека. Дед достал из корзинки пакет с какой-то коричневатой дрянью и шлепнул его на ленту кассового транспортера. Артем подумал, что вот так, наверное, выглядит поджелудочная железа. – Что это такое? – спросила кассирша, указывая на пакет. – Я, дочка, у тебя то же самое хотел спросить, – ласково сказал дед. – В смысле? – не поняла кассирша. – Ты тут продавец – вот и скажи, что это за штука. – Вы сами не знаете, что покупаете? – А ты, выходит, не знаешь, что продаешь. Кассирша брезгливо подняла пакет двумя пальцами. Несколько бурых капель упали на ленту транспортера. Артему показалось, что коричневатое месиво в пакете зашевелилось. – Вы где это взяли? – поморщившись, спросила кассирша. – Там, в углу. Дед неопределенно махнул в сторону холодильников с йогуртами. – А почему не взвесили? Видите же, что это весовой товар. – Как же я взвешу, если не знаю, что это такое? Недовольная заминкой очередь начала выказывать раздражение. – А я что должна сделать?! – воскликнула кассирша в ответ на возмущенные возгласы. – Видите же, с товаром никак не разберемся. Очередь поспешила ей на помощь. – Кажется, это вымя… Соевый творог… Сыр с плесенью… Просрочка какая-то, – посыпались подсказки. – Да что я, вымени, по-вашему, не видела, – беспомощно вздохнула кассирша. – А вы развяжите пакет и понюхайте, – посоветовал интеллигентного вида мужчина. – Не буду я это нюхать! – замотала головой кассирша, а потом обратилась к деду: – Извините, но я это пробить не могу. Оставьте товар на кассе. – Нет, дочка. Так не пойдет. Раз уж тут магазин, ты мне должна товар отпустить. Иначе я на тебя жаловаться буду, – заупрямился дед. – Так жалуйтесь! Пусть меня уволят! Вы думаете, мне эта работа нравится? Вы сейчас по домам пойдете оливье резать, а мне тут до десяти сидеть! У проблемной кассы возникла строгая женщина с надписью «администратор» на бейджике. – Что случилось? – спросила она. Кассирша тут же сникла и виноватым голосом поведала о злосчастном пакете. Администратор склонила голову набок, задумчиво посмотрела на коричневатое месиво, как художник на натурщицу, изрекла: «Пробей как рыбные палочки», – и удалилась деловой походкой. Дед расплатился, спрятал чек в карман и направился к выходу, оставляя за собой дорожку из бурых капель, срывавшихся с гадкого пакета. Кассирша тщательно вытерла лужицу с транспортера, и очередь, наконец-то, двинулась с места. Когда Артему пробивали курятину, к кассирше подошел охранник и тихо сказал: – Я посмотрел по камерам – дед уже с пакетом к нам зашел. Так что эта фигня не из нашего магазина. – И почему все сумасшедшие у нас отовариваются, как будто «Магнита» через дорогу нет? – посетовала кассирша. Когда Артем вышел из магазина, ни деда, ни мопсов на улице не было.
* * *
Артем поставил кастрюлю с курицей на плиту и подумал о холодном пиве. Он потыкал пальцем в левый бок, пытаясь отыскать предавшую его поджелудочную железу. Жизнь впереди намечалась безрадостная. Перед едой Артем принял ферменты, после еды проверил, нет ли в моче ацетона. Тест-полоска слегка окрасилась, и Артем принялся разводить регидрон. До вечера он монтировал новый ролик. В последнее время из-за болезни Артем спал беспокойно, бормотал во сне какую-то дичь, поэтому материал набирался быстро и число просмотров росло. Сегодняшняя запись порадовала. Особенно то место, где он стонал и что-то просил у Деда Мороза. Очень по-новогоднему вышло – как раз ко времени. Конечно, народу лучше заходили моменты с пикантными снами, но в ближайшее время расстроенный организм вряд ли на них расщедрится. Всего ночной возни набралось на полных пятнадцать минут. В половине одиннадцатого Артем выложил ролик в сеть и, не дожидаясь отзывов, начал готовиться ко сну. Он включил камеру, настроил освещение и забрался под одеяло. Когда все вокруг предвкушали веселье и с любовью посматривали на запасы фейерверков, один Артем собирался спать. В этом ему виделось что-то лермонтовское, некий протест и вызов обществу. Завтрашний ролик обещал быть наполненным скрытым смыслом, разглядеть который сможет не каждый. Артем понимал, что занимается ерундой, но и ерунду он стремился делать с подтекстом. К тому моменту, когда пьяные люди высыпали на улицу и по городу прокатилась праздничная канонада, Артем уже успел достичь фазы быстрого сна. Пробудился он полным сил. Ацетон в моче отсутствовал, и бодрость била через край. Вот только пахло в квартире нехорошо – похоже, с канализацией непорядок. Артем открыл окно. Зима была хлипкая, почти без снега и морозов. Артем некоторое время смотрел на пустую улицу и со злорадством думал, что сейчас все эти салютчики, должно быть, спят без задних ног и скоро будут мучиться похмельем. Наверное, он один во всем городе в шесть утра был похож на человека. От таких мыслей Артему захотелось немедленно действовать и чего-то добиваться. Он включил компьютер, зашел на страничку со вчерашним роликом. Просмотров было мало, а комментарии, в основном, носили оскорбительный характер. По опыту Артем знал, что это хорошо. Если ругаются, значит зацепило. А просмотры позже наберутся, когда народ продерет глаза после пьянки. Не откладывая дело в долгий ящик, Артем принялся просматривать сегодняшнюю запись. Первые полтора часа были вялыми. Потом за окном начали бухать фейерверки. На первом взрыве Артем на мониторе проснулся, сел на кровати, отчетливо произнес: «Севастополь не сдастся без боя!» – и снова завалился на подушку. Годный кусок. Политически подкованные граждане в комментариях на говно изойдут. Артем с любовью вырезал фрагмент и двинулся дальше. Долго не происходило ничего интересного. Артем на мониторе лежал, как покойник, и не шевелился. Это печалило. Ролик с Севастополем хотелось выложить поскорее, а для этого надо добрать материала хотя бы минут на десять. Артем прокручивал видео и уговаривал своего экранного двойника хотя бы пернуть во сне. Но разве тут пернешь, если строго придерживаешься стола номер пять по Певзнеру? Вот в прежние времена, когда пиво не было под запретом… С горькой ухмылкой Артем припомнил, сколько лайков собрал благодаря двум особенно протяжным трелям. Да. Вот тогда был подтекст так подтекст! Он отвлекся от изображения на мониторе, размышляя о роли пищеварения в искусстве. Вдруг прозвучал щелчок открывающегося замка. Артем вздрогнул. Ключей от его квартиры ни у кого не было. Он бросился было в коридор, но тут понял, что звук идет вовсе не оттуда, а из динамиков компьютера. Артем уставился на монитор, вытаращив глаза. «Пум-пум-пум. Пум-пум-пум», – доносилось из динамиков. Раздались шаркающие шаги, и в комнате на экране появился толстый дед, тот самый, которого Артем видел в магазине. Только теперь у старика была длинная белая борода, а в руках он держал мешок. Следом за ним, тяжело дыша, плелись четыре знакомых мопса. Дед подал собакам знак, подняв палец кверху, – те тотчас уселись. Старик протопал на середину комнаты и принялся разглядывать спящего Артема. «Пум-пум-пум», – сказал дед, положил мешок на пол и достал оттуда маленький сверток. Он подошел к Артему, пальцем приподнял веко спящему, взял щепотку порошка из свертка и насыпал прямо в глаз. Артем фыркнул, промычал что-то, но не проснулся. Дед проделал то же со вторым глазом, после чего уселся на стул, достал из кармана пластмассовый будильник и принялся смотреть на стрелки. Ровно через полчаса он встал, вынул из мешка филейный нож, сбросил с Артема одеяло, задрал на нем майку и начал приглядываться к животу. «Пум-пум-пум», – сказал дед и сделал длинный надрез чуть ниже ребер. Мопсы повеселели и принялись облизываться. Артем на мониторе даже не пошевелился, а тот Артем, что смотрел на все это, охнул и схватился за живот. Потом поднял майку и уставился на место, куда на записи вошел нож. На коже не было ни царапины. Тем временем дед достал из мешка знакомый пакет, повозился в коричневатом месиве и вытащил нечто, похожее на червяка длиной со спичечный коробок. Червяк вяло подергивал хвостиком. Дед поплевал на него, как перед рыбалкой, и засунул Артему в живот, запустив в разрез руку по запястье. Старик покопался в кишках, вытащил оттуда какой-то ошметок и небрежно швырнул на пол, где его тотчас подобрал самый проворный мопс. Дед вытер ладонь о полу шубы и принялся ковыряться в носу. Отыскав что-то в ноздре, помазал этим рану на животе Артема, и та немедленно стала затягиваться. Старикан полюбовался на результаты своего труда, сложил в мешок нож и пакет и собрался было уходить, но тут остановился и снова посмотрел на спящего Артема. «Вот так напасть! Уф-уф-уф!» – выдохнул дед, почесывая в паху. Он снял накладную бороду, вернулся к кровати и перевернул Артема на живот, потом задрал полы шубы и принялся развязывать веревочку, на которой держались штаны, похрюкивая при этом, как одышливый боров. Мопсы пришли в волнение, начали перебирать лапками. Дед справился с веревочкой и погрозил собакам. Мопсы послушно отвернулись. Артем предпочел не смотреть, что произошло дальше. Он перемотал запись до того места, где дед заботливо укрыл его одеялом, поцеловал в губы и, весело напевая «Пам-пам-пам», покинул квартиру. Мопсы удалились за ним. Артем впал в ступор и сидел, не шевелясь, минут десять. Потом он произнес: «Вот тебе и Севастополь!» – несколько раз сплюнул прямо на пол и пошел в душ. Через полчаса к Артему вернулась способность соображать. Он тщательно изучил дверной замок на предмет взлома, осмотрел пол, нашел что-то похожее на собачьи следы и решил звонить в полицию, однако тут же передумал. Все-таки есть вещи, о которых лучше никому не рассказывать и забыть их как страшный сон. С этой мыслью Артем удалил запись, не пожалев даже фрагмента про Севастополь. Однако вскоре он понял, что совсем все забыть не получится, поскольку сумасшедший дед запихал ему в брюхо какого-то червяка, и это нельзя пускать на самотек. Мало ли что из червяка вырастет! Артем второй раз в жизни вызвал скорую. Врачам он наплел про очередной приступ панкреатита. Медики смотрели на него с осуждением: мол, что ж ты, раздолбай, не мог хотя бы неделю на диете посидеть. Понятно, что Новый год, но здоровье-то потом не вернешь. Все же в больницу Артема отвезли. По случаю праздников врача ультразвуковой диагностики не месте не оказалось, и на УЗИ Артема отправили только на четвертый день, а до этого морили голодом и ставили капельницы с соленой водичкой. Артем терпел. О засунутом в живот червяке он решил не заикаться – слишком уж странным выглядело бы такое утверждение. Пусть врачи сами увидят и назначат лечение. – Шикарно! – сказал доктор, закончив водить по животу трансдьюсером. Артем не разделял его радости. – Вашу поджелудочную можно показывать на выставке, – продолжал доктор. – Кто, интересно, поставил вам хронический панкреатит? – А кроме поджелудочной вы ничего там странного не видите? – осторожно спросил Артем. – Что, например? Артем собрался с духом и проговорил: – Червяка. – Вы гельминтов имеете в виду? – спросил доктор. – Нет, я ничего похожего не обнаружил. Но, если есть сомнения, лучше сдать анализ кала. – Это не такой червяк, – прошептал Артем. – Он сантиметров пять в длину. Его засунули прямо в живот. Вы должны были его увидеть. – Прямо в живот, – повторил доктор, потирая переносицу. – И как же его засунули? – Разрезали вот здесь, – Артем провел ладонью под ребрами, – и запихали. Доктор посмотрел на гладкую кожу на животе пациента и нахмурился. – Давно это случилось? – Четыре дня назад. – Хорошо, – кивнул доктор. – Вы пока вытирайте гель и посидите в коридоре, а я приглашу специалиста по червям. Специалист по червям с двумя санитарами прибыл часа через три. Он побеседовал с врачом ультразвуковой диагностики за закрытой дверью, а потом приступился к Артему с расспросами: как вдруг червь оказался в животе и не было ли до этого у пациента травм головы. Артем сразу понял, что имеет дело с психиатром. Этого он и опасался. Но теперь отступать было уже некуда. Вопросики с подковыркой вывели Артема из себя. Он заявил, что ни в грош не ставит современную медицину, которая не способна разглядеть в животе червяка. Сказал, что, если никто не собирается ничего делать, он сам при помощи ножа и пинцета достанет долбаного паразита и потом не будет платить налоги, раз на них содержат тупоголовых профанов. После этих слов санитары по знаку доктора взяли Артема под руки и проводили к специальной машине. Кажется, высказывания относительно налогов окончательно убедили психиатра в необходимости таких мер. Артем кричал, что он всем докажет свою правоту, что стертый файл легко восстановить, но его не слушали.* * *
В лечебнице Артема держали долго и выпустили за неделю до Нового года. Все это время у него и намека не было на проблемы с поджелудочной железой. Артем сдружился с персоналом и пациентами и перед выпиской прощался со всеми, как с родными. Он решил, что в психиатрической клинике не так уж и плохо, особенно когда колют реланиум. Жаль только, что ему не разрешали снимать, как он спит, и не давали доступа к Интернету. Это были бы бомбические ролики. А теперь, конечно, канал заглох, и немногочисленные подписчики разбежались. Стоило ли начинать это дело заново? Артем пока не решил. Нельзя сказать, что червяк его больше не волновал. Однако Артем приучил себя не тыкать постоянно пальцами в живот, пытаясь нащупать паразита, потому что врачи такое поведение не одобряли. Впрочем, нащупать все равно ничего не удавалось, а организм работал отменно. В этом году зима выдалась суровой. Артем зазяб, пока ждал маршрутку. Дома он первым делом перевел деньги за Интернет и убедился, что на канале не осталось ни одного подписчика. Погрустив немного о печальной судьбе своего детища, Артем принялся листать новостные ленты. Писали там какую-то дичь: будто бы спрос на отдых в Абхазии вырос в два раза, шпроты полны канцерогенов, а в пяти кварталах отсюда бродячие собаки загрызли кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука. Артему показалось, будто бы он каждый год читает одно и то же. Из любопытства он полез в подборки новостей предыдущих лет. Заметки конца декабря в общем-то не сильно отличались друг от друга, но одна повторялась с подозрительной регулярностью. Из года в год в городе в одно и то же время бродячие собаки непременно грызли кого-нибудь насмерть. Артем полазил по сайтам и отыскал фотографии пострадавших. У всех животы были выпотрошены и вывернуты чуть ли не наизнанку. Странное совпадение, над которым следовало бы поразмыслить. Однако Артем проголодался. Дома есть было нечего, и пришлось идти в магазин. По дороге Артем снова встретил вонючего деда с мопсами. Тот шел к магазину с пакетиком в одной руке и с четырьмя поводками в другой. Артем догнал его и схватил за рукав. – А ну стой, сволочь! Рассказывай, что за дрянь ты мне подсадил! Дед, кажется, не сильно удивился такому нападению. Мопсы тоже восприняли его спокойно. – Не подсадил, а подарил, – сказал дед. – И не дрянь, а новую поджелудочную железу, как ты, сынок, и просил. Ты ведь хорошо себя вел в том году. По крайней мере, в последнюю неделю. Водку не пил, по бабам не шлялся – вот и заслужил. Кто хорошо себя ведет, тому я приношу подарки, а плохишей наказываю. – Хорошенький подарок! – закричал Артем, но потом испугался, как бы не услышали санитары, и заговорил шепотом. – Ты где вообще взял поджелудочную железу? Артем посмотрел на мопсов. Ему показалось, что курносые морды собак испачканы в чем-то буром, и тут его посетила страшная догадка. – Ты где взял железу?! – тихо повторил Артем. – Где ты берешь свои подарки? Шавки из людей выдирают? Мопсы в недоумении переглянулись. – Как где беру? – удивился дед. – Покупаю, конечно. Вот на твою железу у меня и чек есть. Он достал из кармана толстую пачку чеков, отыскал среди них нужный, с рыбными палочками, и предъявил Артему. Тот понял коварство старика. Но не это его волновало больше всего. – Ладно, поджелудочная. А потом что такое было?! Кто разрешал со мной это делать?! – спросил Артем, едва удерживаясь от крика. Мопсы заволновались, а дед смущенно кашлянул в кулак и проговорил: – Об этом, сынок, не надо никому рассказывать. Могут быть у старика свои слабости. Кстати, в этом году ты вел себя еще лучше. Вот я и думаю, что бы такое тебе подарить. – Пошел на хер, старый хрыч! – завопил Артем, позабыв про санитаров. – Близко к моей двери не подходи, пидарюга! Я спать не буду! С ножом буду караулить, понял?! – Как же не спать? Конечно, надо спать, – засмеялся дед. – А если не спится, так и песок специальный для этого есть. Артем не сдержался. Он врезал по этой мерзкой хохочущей морде. Дед упал, и Артем начал пинать его, целясь в левый бок, а мопсы радостно прыгали вокруг. – Вот тебе поджелудочная! – повторял Артем. Кто-то поднял крик. Приехали полицейские и оттащили Артема от старика. – Его держите! – вопил Артем в исступлении. – Это он мне червяка подсадил! Он на людей собак травит! Еще он меня трахнул, пока я спал! Посмотрите, что у него в пакете! Там поджелудочная железа! В пакете у деда оказалась бутылка кефира. Скоро приехала санитарная машина и забрала Артема. – Уф-уф-уф, – вздыхал дед, разговаривая с врачами. – Да. У него и раньше срывы бывали, и вот – опять. А в какую больницу вы его повезете? Ведь скоро Новый год. Хорошо бы навестить бедолагу на праздник. – Не говорите! Не говорите ему! – кричал Артем, но на него никто не обращал внимания. Дед достал карандаш, записал адрес больницы на оборотной стороне чека за рыбные палочки и пошел к магазину, напевая: «Пум-пум-пум. Пум-пум-пум». Мопсы вразвалку бежали следом и похрюкивали в предвкушении праздника.Сергей Королев. Темный мрачный бес моей души

Ведунья сказала Коваржу, что он не доживет до Нового года. Именно так. Он ее, добрая душа, пожалел, в мороз на дороге подобрал, пообещал до города подбросить, денег не просить, натурой не брать. А она? Сука плюгавая, все настроение испортила. Дотронулась до его руки, побелела, чуть на ходу из кабины не выскочила, прокричала, что «не дожить Коваржу и до полуночи», а через секунду уже улепетывала по сугробам, дура… Последний день уходящего две тысячи девятнадцатого растворялся быстрее, чем шипучка в стакане. Черный костлявый лес вгонял в тоску, откуда не удавалось вынырнуть. Коварж заглушал ее громкой музыкой, выкуривал едким запахом сигарет. Не получалось. То и дело чудилось, что по черному зимнему лесу бежит такая же черная смерть, выглядывает из-за деревьев, только и ждет, когда он отвлечется, тогда нападет… Груженная кондиционерами фура, кряхтя, добрых пять минут забиралась в горку. Всем своим скрипом и скрежетом как бы давала понять, что «ты, мил водитель, и к ночи не доберешься до места разгрузки, будешь встречать Новый год на дороге, если доживешь до него, конечно, а-ха-ха». – Да ну ползи ты уже, кобыла старая, – ругнулся Коварж, газуя. Старенький, времен Ельцина, КамАЗ таки одолел долгий подъем. Фыркнул, как уставший конь, веселее покатил с горки. Лес кончился, сменился бескрайними полями, укрытыми таким же бескрайним снежным покрывалом, девственно-чистым, белым. Ни деревень, ни заправок, ни кафешек, что вырастают пульсирующими нарывами на обочинах дорог, границе дикого, какого-то мистического мира, который тысячелетиями существует параллельно цивилизации, где яркий электрический свет отгоняет тьму, а теплые батареи и обогреватели отгоняют зверский холод. И до жути, до боли в зубах не хотелось встречать праздник там, где правят тьма и холод, где бродят неведомые твари, ищут, кого бы утащить в свои вековые норы… Коварж включил рацию. Поморщился, услышав неприятный треск. Сбавив скорость, спросил: – Ну че, народ, кто где праздник встречает? Есть поблизости теремочки? Рация ответила шипением, точно пыталась говорить с ним на змеином языке. Коварж краем глаза зацепился за дорожный указатель с названием какой-то деревеньки, уже затормозил, но тут ожила рация: – Здоров будь, путник! Че, не с кем встречать? Подваливай! Мы на семисотом километре! Кафе «Транзит». Будешь нашим королем! Коварж улыбнулся. Тоска, давившая на затылок, отступила в первый раз за день. Даже легче дышать стало. – Принял, земеля! Добро! Ждите через полчасика Деда Мороза! – Со Снегурочкой? – поинтересовался из рации хриплый голос. – Если на дороге встречу, то Снегурочку привезу, – хохотнул Коварж, и тоска окончательно отступила. Деревенька, которую он проехал, звалась, кажется, Болячка. Дорога туда была совсем заметена. Поваленные заборы да редкие сараи не вызывали желания ночевать в Болячке. Нет, лучше уж с дальнобоями ночь провести, под шум старых радиоприемников, запах дешевой водки и вкус мороженых мандаринов. Дорожная романтика, мать ее. – Кафе «Транзит», кафе «Транзит», – повторил Коварж, словно пробуя название на вкус. – Примет, накормит, усыпит. Кафе… «Транзит»… для дальнобойщиков магнит. Бывал он там, ночевал пару раз. В лихие девяностые в «Транзите» обитала какая-то бандитская группировка, забивала там стрелки, разбивала головы. В нулевые в «Транзите» стали подавать самые вкусные чебуреки и самый крепкий кофе. Еще там была большая стоянка и большая коллекция компакт-дисков, привет из прошлого десятилетия, когда сам Коварж еще был женат и литр бензина стоил десять рублей с копейками… Решено. Новый год встречать в «Транзите». Дорогу туда Коварж помнил, хоть и смутно. Съехать с трассы вправо, метров пятьсот по убитой фурами дороге. А там кафе. Пока добрался до нужного поворота, уже стемнело. Лес, и днем не особо живописный, сейчас стал вовсе жутким. Чахлые деревья в сумерках напоминали похоронную процессию, что погребала старый год, готовилась умереть вместе с ним же. Изредка мелькали старые памятники: черные кресты, ржавые оградки. Тут разбился тот-то, здесь замерз такой-то. Вновь тоска шевельнулась внутри, поскреблась противно в животе. Коварж заглушил ее музыкой, залил сладким чаем и поторопился в «Транзит», где чебуреки, кофе, стоянка, шумная компания. Только раз за всю дорогу ему попалась навстречу старенькая иномарка. «Тойота», наверное. Значка на капоте не успел разглядеть. Иномарка моргнула фарами, Коварж моргнул в ответ. – И тебя с Новым годом, – сказал он, провожая иномарку в заднее зеркало, – и тебя… «Транзит», спрятавшийся от шума и пыли федеральной трассы, в самомделе напоминал сказочный теремок, двухэтажный за́мок из бревен, украшенный наличниками, с огромным крыльцом, здесь днем и ночью пили кофе и курили сонные водители. Окна кафе светились разноцветными огоньками, на пятачке перед крыльцом даже стояла наряженная елка. Только Деда Мороза не хватало. На стоянке чуть сбоку Коварж насчитал три фуры, два брата КамАЗа и один «рено», отчего-то навевавший мысли о фильмах про трансформеров. Паренек в оранжевом жилете спустился с крыльца, показал на свободное место между КамАЗом и «рено». Паркуйся, мол. – Спасибо тебе, мил человек, – ухмыльнулся Коварж. Припарковался. Пошарил в спальнике, достал кулек с шоколадными конфетами, бутылку коньяка, подаренную кем-то из заказчиков. Вздохнул, добавил в «гуманитарный пакет» два «Доширака». На полноценные подарки это все, конечно, не тянуло, но если с юмором преподнести, то народ оценит. Хотел еще старенькие солнцезащитные очки к «подаркам» добавить, но не стал, лучше старьем не позориться. На улице было свежо и ветрено, пахло жженой резиной и костром. От последнего рот наполнился слюной, в животе заурчало. – С наступающим, повелитель стоянок! – крикнул Коварж парню в оранжевом жилете, который оказался молоденьким якутом. – Сколько ночь у вас стоит, напомни? Тот сверкнул золотым зубом, отмахнулся. – Бесплатный сегодня, хозяин так велел. Но если кофием угостишь, буду сильно доволен. – Угощу, – хмыкнул Коварж. – И кофием, и коньячком. Поднялся на крыльцо. Отсалютовал двум лобастым богатырям, курившим у дверей. – Здравствуйте, детишки! Хорошо себя вели? А я к вам с пода… Морозов, бляха, ты? – Целиком из говноты, – ответил первый богатырь с подбитым глазом, дыхнув перегаром, полез обниматься. – Ты хулио тут забыл, Редиска? Коварж, которого Редиской звали исключительно близкие друзья, недовольно крякнул. – Радик Назимович, попрошу. Под Челнами в метель попал, пробку длиной с эти самые Челны выстоял. Полдня коту под хвост. Думал, к ночи успею, но на трассе еще в один пробарь попал. Вот и встречаю Новый год у того самого кота под хвостом. – Ссаться-не перессаться, – был ответ Морозова, после чего последовало знакомство со вторым богатырем. – Димыч, – скромно представился тот, пожал руку Коваржу. – Имел удовольствие общаться с вами по рации. Сам при этом смотрел не в глаза, а куда-то в сторону. Прямо нерешительный студент на первом свидании. – Ну, весело-весело с вами, – поддел их Морозов. – Оборжешься. Внутрь пошли, что ли, проводим старый подлый год. Якутенок, идешь с нами? Молодчик в оранжевом жилете обещал подойти позже. – Много народу здесь? – поинтересовался Коварж. – Не, – Морозов загасил окурок, открыл дверь в маленькие сени. – Хозяин с женой. Зовут Олег. Жену, бляха, не помню… – Ирка, – подсказал Димыч и тут же покраснел, будто при родителях выругался. – Верняк, – кивнул Морозов. – Еще один КамАЗист, Рыков. Баба с ним какая-то. И мы, три богатыря, у каждого по пол ху… Вот, казалось бы, много в стране дорог. А дураков еще больше. Но так сложилось, что за недолгую карьеру дальнобойщика Коварж почти в каждом рейсе пересекался с весельчаком Морозовым. В кафе, на стоянках, на дорогах, даже в больших городах. Морозов при встрече часто шутил, что у него много клонов, хороших и не очень. Главное, не встречаться с ними в полночь, предупреждал весельчак, начиная при этом подвывать… Внутри кафе было жарко, даже душновато. Небольшая плазма на стене показывала приключения Шурика, из-за помех на экране комичный персонаж походил на привидение. Рядом, за стойкой, суетилась та самая Ирка, немолодая, некрасивая, с какими-то мужскими чертами лица и серыми усиками над губой. – С наступающим, – соблюдая приличия, улыбнулся ей Коварж. – И вас, – улыбнулась она. – Всем гостям сегодня небольшой подарок… – Чебурек? – обрадовался Коварж. Та виновато развела руками. – Чебуреков нет, мясо кончилось. Сосиска в тесте и кофе. – И на том спасибо. Пока лучший подарок за сегодня. А это вам… Выложил на стойку конфеты. Заглянул в зал, где за столиком в углу сидел, видимо, КамАЗист Рыков, а с ним… – Да ну нахер, – выругался Коварж, узнав плюгавую суку. Ведунья, мать ее. «Ты до полуночи не доживешь, я с тобой не поеду…» – Ты чего? – насторожился Морозов, а стоящий рядом Димыч опять покраснел. – Девка, – пробормотал Коварж, – днем подвозил. Ущербная… заявила, что сдохну сегодня… – Кто? – хохотнул Морозов. – Экстрасекша? Не смеши! Идем, заново, по всем приличиям, с ней познакомлю! И, не дав опомниться, потянул Коваржа к столу. – Дамы и господа! – пробасил Морозов, шутливо раскланиваясь. – Действие второе! Те же и Радик Назимович Коварж! Так же шутливо захлопал сам себе. Обратился к ведунье: – Слышал, что вы уже знакомы. Это замечательно! Та вскочила на ноги, загородилась стулом. – Преследуешь меня, урод? Сказала же, что не хочу с тобой… Настроение, как стрелка спидометра, упало до нуля. И злость, и досада – за долю секунды это все перемешалось у Коваржа внутри, а теперь грозилось вырваться наружу. И только Морозов, замахавший руками, остановил извержение внутреннего «вулкана». – Так, стоп-стоп-стоп. Это не дело, это неправильно! Радик, скажи мне… Радик, эй! Слышишь меня? – Чего? – Коварж не отрывал взгляда от напуганной ведуньи. – Радик! Ты умирать собираешься сегодня? – Чего? – не понял Коварж. – Вот же заладил, как попугай, просто скажи «нет». Не собираюсь сегодня умирать. Скажи… – Нет, – сказал Коварж, – не собираюсь сегодня умирать. – И убивать никого не собираюсь, – продолжил Морозов. – И убивать никого, – повторил Коварж, – не собираюсь. Плюгавая сука, похожая на испуганную крысу, так и стояла, прикрывалась стулом. По лицу ее, сплошь покрытому прыщами, пробегало то недоумение, то злоба, то страх. Прямо «охота на ведьм, наши дни». – Так, – повертелся на месте Морозов, взял со стола салфетку, замахал ею, как белым флагом. – Вас, душа моя, как по паспорту… – Не ваше дело, – прошипела ведунья. Но КамАЗист Рыков, равнодушно наблюдавший за драматичной сценой, громко икнул и выдал ведунью: – Зинаида она, как у Шурика в кине. Ведунья уронила стул, за несколько метров обошла Коваржа и Морозова. Последний пошутил: – Мы так-то не кусаемся. Но Зинаида шутки не оценила. Ткнула в Коваржа пальцем: – Чтобы не подходил ко мне. Я знаю, что ты семью свою убил… А Коваржа как по голове ударили. Ноги сделались ватными, и где-то глубоко-глубоко будто бы раскрылась старая рана, а оттуда потекло нечто мерзкое, дурно пахнущее… – Сука, – прохрипел он. – Сука-а-а… никого я не убивал… зимой гололед… а там фура… вот и разбился… их насмерть, а мусора, твари… Голос предательски дрогнул, так же предательски зародилась под глазом одинокая слеза. – Старик, – заботливо усадил его Морозов, – старик, выкинь ее из головы. Она с какого-то тэвэшного проекта вылетела, домой перлась без денег, попутками. Там ее, на проекте, помоями облили, вот она и… отыгрывается. На нас. Забей, говорю тебе. Рыков, еба, наливай! Рыков хрюкнул, разлил по стопкам коньяк. – О-от так, – одобрил Морозов. – Я не ведун, но чувствую, что коросту у тебя в душе сковырнули. Надо про… дезинфици-ро-вать, именно так. – Мне утром за руль, – запротестовал Коварж, свою стопку отодвинул. – До обеда эти сраные кондеи должны быть на складе. – Будут, – успокоил его Морозов. – Я тебя напиваться не заставляю. Прими как лекарство, для успокоения нервов. Димыч, еба, не маячь, сядь с нами уже. Димыч что-то пробормотал про «полночь» и «дожить». Видимо, слова поддержки выразил. Похлопал Коваржа по плечу. Рядом сел. В уголке ненавязчиво играла магнитолка, из колонок лился «Тихий огонек моей души». Морозов сказал тост за уходящий, звонко чокнулись, выпили. – Легче стало? – поинтересовался Рыков. – Немного, – соврал Коварж. У самого мысли крутились вокруг обледенелой трассы, холодной ночи, старенькой «десятки», огромной фуры, удара и боли-боли-боли, долгой, нескончаемой. Такая не уходит, остается в тебе неизлечимой опухолью и мучает долгими зимними вечерами, душными бессонными ночами. Не хотел он смерти жены. Тем более сына. Если бы мог, отмотал годы, оставил родных, но убил себя. Только нельзя… – Вторую наливай, – велел заклевавшему носом Рыкову Морозов. – Хорошего лекарства много не бывает. – Не спи, – улыбнулся Димыч, опять же покраснев, – уснешь и будешь лунатить. При этом похлопал Рыкова по руке, чтобы много не наливал. Тут и хозяин подоспел, запыхавшийся щекастый Олег. Лысый, как тот физрук из сериала, бровастый, как генсек времен застоя. Увидел, что пьют без него, как будто расстроился, велел жене принести еще коньяка, запеченной картошки, фирменного оливье. – Вы про ведунью Зину даже не вспоминайте, – сказал Коваржу хозяин Олег. – Мы определили ее на второй этаж, пусть там свой Новый год встречает. Ни вас, ни нас не потревожит. Коварж хотел ответить, что никто его и не тревожит. Но решил не оправдываться, не любил он это дело. Вторую выпили уже за подступающий две тысячи двадцатый. Тост говорил Димыч, раза три при этом запнулся, столько же раз покраснел, задвинул Морозову про злость, его «эмоциональную переменчивость». Видимо, тоже что-то пожелать пытался, но до конца мысль не сформулировал, хлопнул Морозова по спине, чокнулся со всеми, половину своей стопки разлил, совсем чуток отпил. – Ай, хорошо, – выпив, крякнул Морозов, наложил себе картошки. – Я, чесгря, третий или четвертый год подряд в дороге встречаю. Традиция, эбать! – Бежите от кого-то? – пошутил хозяин Олег. – Кто? Я? – возмутился здоровяк. – Это жизнь от меня бежит, а я упорно догоняю, беру от нее, так сказать, полный пакет со всеми бонусами и казбеками… фу ты, заговариваюсь, с кэшбэками, во! – Хорошо это, хорошо, – одобрил хозяин, еще коньяка разлил. Но Морозов предпочел не спешить. – Душно тут у вас, надо бы проветриться, – поднялся, легонько пихнул Коваржа, – пошли, Редиска, покурим. А то совсем в тепле раскис. – А пошли. Оставаться с незнакомой компанией не хотелось. Окосевший Рыков смотрел на Коваржа с подозрением. Хозяин Олег, напротив, как-то с хитрецой поглядывал, точно обмануть хотел… На улице уже хозяйничала ночь. Большой горстью рассыпала по небу бриллиантовых крошек, спрятала за черной бархатной занавеской и лес, и дорогу, и весь мир. – Не люблю Новый год, – признался Коварж. – Это ты зря, – вздохнул Морозов, угощая его сигаретой. – Я знаю, что у тебя с домашними, того, случилось. – Херня случилась, – буркнул Коварж. Не хотел он про нее говорить. – Никому такой херни не пожелаю, – продолжил упертый Морозов. – Но вот что скажу тебе, Радька. Если ты жив остался, если ходишь по земле-матушке, значит, это неспроста. Я вот в богов всяких и чертей не верю, считаю, что опиум для народа, все дела… я верю во Вселенную, которая энергией и жизнью заправляет, просто так ее, жизнь эту, никому не дает. – Ты это к чему? – не выдержал Коварж. – Покороче давай. – Легко. Если ты живой остался, значит, это кому-нибудь нужно. – И? Что с того? – Докажи, что не зря остался землю топтать. Не мне, не Вселенной, себе докажи. Твори добро, как завещал товарищ Шура. – Зарплату сиротам отдавать, что ли? – ехидно спросил Коварж. – Лечить котят и собачат? – Как угодно, – ничуть не обиделся Морозов. – Главное, не кисни, как трудовик после запоя… тихо! Слышишь, кто-то едет сюда. Кто-то и вправду ехал. Свет фар разрезал темноту, высветил дорогу, неказистую вывеску. Через секунду возле кафе появилась легковушка. Та самая иномарка, что по пути сюда моргала фарами Коваржу. – Еще гости? – удивился Морозов. – Совсем тесно в теремочке будет. – Ставлю десятку, что заблудились, – заверил Коварж. И не ошибся. «Тойота» (теперь он разглядел марку) припарковалась у крыльца, из машины выбрался молодой паренек, бородатый и очкастый. – Мужики, с наступающим, – чуть смущенно улыбнулся он. – Подскажите, тут должен быть поселок. Коттеджный. Новый совсем. Час уже ищем, а найти не можем… – Я только деревню по дороге сюда видел, – напряг память Коварж. – А поселка… нового… не видел. – На навигаторах его нет, – развел руками бородатый паренек. – Болячку эту проезжали. Блин, времени уже… – Слушай, – спохватился Морозов, – а там же за Болячкой что-то строилось. Коттеджи наверняка. Да-да, вспомнил! Мужики говорили, что там шишки местные дачи себе выстраивали… Из машины выскочил маленький совсем мальчонка, следом за ним девушка, даже в огромном пуховике стройная, красивая. Что-то прошептала на ухо бородатому парню, по дальнобойщикам едва мазнула взглядом. – Мужики, тут же есть туалет? – спросил бородатый. – Внутри, – показал на двери Морозов. – За стойкой спросите, вам покажут. Девушка взяла мальчонку за руку, повела в кафе. Когда она проходила мимо Коваржа, тот зачем-то буркнул «здрасьте», девушка улыбнулась в ответ, поздравила с наступающим. От одной ее улыбки, доброй и настоящей, словно затянулись все раны, поднялось настроение, захотелось сесть за руль и ехать день, два, даже три без остановки… А еще от нее пахло чем-то шоколадным, вкусным. – Якутенок! – позвал Морозов снующего между машинами парня в жилете. – Подь сюды! Ты че там, по кабинам шастаешь? – Обижаешь, э, – оскорбился якутенок, – шайтана от ваших машин отгоняю, чтобы праздник вам не портил. – Молодец, – похвалил Морозов. – Ты же местный, якутенок. Где здесь коттеджный поселок? Рядом с Болячкой должен быть, новый совсем… – Не видал таких, – виновато сказал парень в жилете, – не бывал, не слыхал. На крыльцо вышел Димыч, осмотрел присутствующих, задержался взглядом на бородатом водителе «Тойоты». – Ишь ты, – хмыкнул он. Отчего-то не нравился Коваржу этот Димыч. Странный, будто ненастоящий. Не верилось, что пару часов назад именно он разговаривал с Коваржем по рации, там был скорее простодушный весельчак, а тут… хитрый опасный лис. – Димыч, – опомнился Морозов, – знаешь, где здесь коттеджный поселок? – Знаю, – сразу отозвался Димыч. – А что такое? – Семья вот молодая ищет, найти не может. – Так там хитрость есть, – оживился Димыч, – надо секретную дорогу знать, чтобы попасть. – Расскажете? – спросил у него бородатый парень. – Лучше покажу! Все веселее, чем тут… Димыч глянул на Коваржа. – …киснуть. А парни меня потом заберут. Добро? Он хлопнул Морозова по плечу. – Добро, – вяло отозвался здоровяк. – Но за деньги. Димыч хихикнул, предложил ехать сразу. Тут и девушка с мальчонкой вернулась, страшно обрадовалась хорошим новостям, поспешила вернуться в машину, помогла мальчонке забраться на заднее сиденье. Димыч наблюдал за ними с каким-то священным трепетом, приоткрыв рот. Зачем-то подмигнул мальчонке, а тот совсем смутился, спрятался за мамой. – Спасибо вам, мужики! – сказал на прощание бородатый парень. – Хорошо отметить. И это… – Ни гвоздя ни жезла? – подсказал Морозов. – Да, – улыбнулся парень. – Еще раз спасибо. У Коваржа засосало под ложечкой. Он глядел, как в машину забирается странный Димыч, и страшно захотелось забрать девушку, забрать мальчонку, посадить их к себе, отвезти в тот поселок. А странного Димыча запереть в машине, заварить двери, саму машину утопить в реке или в яме похоронить, как у Стивена Кинга… – Уехали, – проводил «Тойоту» взглядом Морозов. – Неправильно это все, – сказал Коварж. – Ревнуешь, что ли? Брось. Пошли внутрь, коньяк ждет. Якутенок! Ты с нами? Харэ булки морозить! Якутенок обещал подойти через пять минут. – Слушай, – вспомнил вдруг Коварж. – А кто за Димычем поедет? У него вообще есть наши телефоны? – Есть, – отрезал Морозов. – Мальчик большой, не пропадет. И потерял всякий интерес к Димычу, словно того и не существовало. В уютном кафе непутевый Шурик пытался вырваться из лап доблестной милиции и плена телевизионных помех, некрасивая Ирка клевала носом за стойкой, в зале допивали бутылку хозяин Олег и совсем осоловевший Рыков. В углу бубнила магнитола, играл там, как ни странно, все еще Високосный год, но теперь Коваржу слышались совсем другие слова. «Темный мрачный бес… моей души…» – А где у вас, кстати, коллекция компакт-дисков? – осмотрелся он. – Большая такая была… – Выкинули, – пробурчал хозяин. – Только место занимали… хлам. – Зря, – честно сказал Коварж. – Плюс двести к уюту добавляли. – Да хоть триста. Все одно мусор, нельзя его копить, иначе сам станешь мусором. Ирка! – Тут я! – отозвалась жена. – Не ори! – Принеси выпить еще! – Три часа еще до Нового года, нажретесь же! – Мы до Нового года три раза протрезветь успеем, неси уже… Коварж вспомнил про свой трофейный пузырь. Достал из пакета, предложил распечатать. – Хороша, – крякнул Морозов, когда выпили по одной. – Прямо ух! Кишками чувствую, как через организм прошла! Блин, где часы мои? В машине, чо ли, оставил… Рыков выпил и крякнул, а Морозов, разлив еще, подмигнул Коваржу. – Такими темпами захочется с ведуньей Зинаидой тесное знакомство заиметь… Коварж только фыркнул. – Слухай, Радька, а чего она тебе там наговорила-то, что ты киснешь весь вечер? – Мороз, смени пластинку, – велел Коварж. – Да не, серьезно! Скажи, старик? Я ведь тоже плядун… ха, плядун говорю! Ведун! Если она тя заколдовала, то я расколдую… – Она днем за городом на остановке голосовала, – нехотя вспомнил Коварж. – Думал дело доброе сделать перед праздником. Остановился… Он замолк, увидев, что к ним подсаживается некрасивая Ирка. – Ну и че, и че? – потребовал продолжения Морозов. – Ну и все. Остановился, сказал, куда еду. Обещал бесплатно до города довезти. Как джентльмен, руку подал из кабины, чтобы забралась… та, как руку взяла, побелела, испугалась чего-то, не поеду, грит, с тобой, ты до Нового года, грит, не доживешь, а я с тобой не хочу помирать… Коварж прервался, опрокинул в себя очередную стопку. Закусил не спеша. Надеялся, что публика захочет сменить тему. Зря надеялся. Все сидели с открытыми ртами, даже задремавший Рыков подался вперед. – Я, значит, засмеялся, – нехотя продолжил Коварж. – Спрашиваю, ей-то откуда знать, уже и тронул машину с места, а она давай муть нести про то, что ведунья и все-то знает и чувствует, на ходу выскочила и деру от меня… – Да-а-а, – протянул хозяин Олег. – Дела-а-а… – Да брехня, – отозвался Морозов. – Просто не понравился ты Зинаиде или того… увидела своими чакрами, как ты ее в спальнике заднепроходной магией заряжаешь, вот и дернула… Ирка недовольно шикнула на Морозова, а хозяин Олег загоготал. – Вот не смешно, – обиделся Коварж, – вас бы так же загодя к смерти приговорили, вот бы весело было… – Еще раз говорю тебе, что брехня, – упрямо повторил Морозов. – Просто ехать не захотела… – Да почему же брехня, – удивилась некрасивая Ирка, – у нас вот в деревне жила бабка слепая, до кого дотронется, всю жизнь его потом пересказать может. У нее даже имя было Пророчиха. Могла и смерть предсказать, просто за руку подержав. – Таки смерть? – усмехнулся Коварж. – В подробностях? – Без подробностей, просто говорила человеку, что вот через месяц у него одна темнота… ни света, ничего. А человек и вправду через месяц погибал. От болезни, от драки, на войне в Чечне… – И никак нельзя эту смерть было обмануть? – оживился Морозов. – Обмануть? Смерть? – Ирка задумалась, пожала плечами. – Может, другого кого подсунуть… Закончить она не успела. Хлопнула дверь, в зал влетел якутенок. – На улице… там… я… не хотел, но… такого не может… я… Глаза у якутенка были по пять копеек, зубы выстукивали морзянку. – Чего там на улице? – нахмурился хозяин Олег. – Случилось что-то? – Сами… вам надо… смотреть самим… – продолжал нести околесицу якутенок. – Не знаю… сказать как, не знаю… Из несвязного рассказа стало понятно, что с фурами чего-то не то. Испуганному парню дали выпить, но связности в его словах не добавилось. Все, кто был в кафе, высыпали на крыльцо. – Там, – показал якутенок в сторону грузовика «рено». – Что там? – разозлился хозяин Олег. – Призрак? Мертвец? Демон? Дед Мороз без трусов? Кто напугал тебя? Скажи уже внятно, балбес… Якутенок развел руками, показал что-то длинное, широкое. – Слова не… не знаю на вашем. Но страшное… беда… Морозов тихо выругался. Хозяин Олег велел жене принести с кухни обрез. – Чья реноха-то? – спросил Олег. – Твоя, Рыков? – Не, – отозвался тот. – Димыча или как там его… Все вместе спустились с крыльца. Вместе же пересекли маленький дворик. Впереди шел хозяин с обрезом. За ним якутенок, дальше троица дальнобоев, замыкала Ирка. Боковым зрением Коварж уловил движение на крыльце. Никак плюгавая Зинаида тоже решила выглянуть на праздник? – С разных сторон заходим, – велел хозяин Олег. – Я со своими слева, парни справа. Никто на них из темноты не напал, даже не попугал. Никак привиделось парню страшное? Но простые шорохи и тени так не пугают… – Какого хера будка у ренохи открытая? – спросил хозяин у якутенка. – Ты опять рылся в чужом? Я же предупреждал… – Э, – вскинулся Морозов, – в каком смысле рылся? Воровством занимае… Якутенок вскрикнул, увидев что-то в будке, попятился. Морозов схватил его за руку, остановил. Хозяин Олег достал старенький телефон, включил фонарик. Присвистнул. – Я один это вижу? – Нет, – ответил Коварж, чувствуя, как в животе бунтует кишечник, – я тоже… вижу. Посреди будки стоял гроб. Большой, высокий, из черного дерева. В таком не человека, в таком медведя хоронить надо… – Гроб и гроб, – хмыкнул пьяный Морозов. – Хули от этого орать? А, якутенок? Парень в жилете дернулся, но Морозов держал крепко, не отпустил. – Я уходил, он закрытый был, – пробормотал якутенок. – А сейчас открытый… – Сука-а-а, – протянул Рыков. – Делать-то что с ним? – запричитала Ирка. – Что делать-то? – Не истери, – успокоил ее хозяин Олег. – Может, гробешник пустой. Проверим. Вместе. Это… парни… – Радик, – напомнил свое имя Коварж. – Радик, Мороз, надо лезть. Иначе что мы тут с ним… Ирка не унималась: – Может, хозяина подождать? Сам все объяснит, расскажет все. Может, это памятник или мощи… – Фуещи, – передразнил Морозов. – Памятники сами себя не открывают. Пошли уже, а то как девки… Забрались в будку, где пахло противно. Шерстью мокрой, гнилыми овощами, еще чем-то металлическим. – Свети, – велел хозяин Олег Коваржу, передал телефон. Сам, выставив перед собой обрез, медленно двинулся вперед. – Ну? – не успокаивалась Ирка. – Чего там? Кто там? Пусто? Рыков, какой-то ко всему равнодушный, держал якутенка. Сам якутенок напоминал лунатика. Глаза закрыты, рот открыт. Хоть священника вызывай… – Не тряси фонариком, – прошептал хозяин Олег, словно боялся кого-то разбудить. – Свети нормально. Коварж посветил вперед. И ахнул. В гробу лежал Димыч. Тот самый, что полчаса назад уехал на «Тойоте». Тот самый, что стоял с ними на крыльце, пил коньяк и говорил неудачные тосты. Тот самый, только… – …мертвый, – выдохнул Морозов. Снаружи закричала Ирка, взвизгнув, начал вырываться якутенок. Ударил Рыкова, рванул в сторону кафе, но споткнулся, растянулся на земле. Морозов и Коварж одновременно сиганули из будки, столкнулись, тоже упали на землю. – Ах ты, жопа, Новый год, – простонал Морозов, поднимаясь, – кажись, ногу подвернул… стоп! Якутенок! Парень в жилете хотел дать деру, но здоровяк оказался проворнее. Схватил якутенка за шиворот, тряхнул с такой силой, что у того шея хрустнула. – Якутенок, а якутенок! – прорычал Морозов. – Тебе кто разрешал лезть ко мне в кабину? Он поднял с земли старенькие часы. Пошарил по карманам оранжевой жилетки. Нашел кольцо, пачку денег и дешевые старые очки, те самые, которые лежали в машине у Коваржа. – Ах ты, сучий якутенок! – выругался Морозов, бросил на землю и часы, и кольцо, и все остальное. – Ты знаешь, что перед армией эти часы мне отец дал? Последний, сука, от него подарок! А ты их, мразота, упереть хотел… Что-то неладное творилось с Морозовым. Никогда не видел Коварж здоровяка таким злым, бесконтрольным и… опасным. – Мороз, не придуши парня, отпусти. Но здоровяк не услышал. Рявкнул: – Часы! Подарок! От бати! Тварь! Тварь! ТВАРЬ! И сломал шею бедному якутенку. Коваржа словно в ледяную прорубь окунули. Где-то далеко заверещала Ирка, зло и громко выругался хозяин Олег, завыла сигнализация в чьей-то машине, что-то кричал, кого-то звал Рыков, страх, как яд, убил все мысли, вымарал все планы спасения, отступления, а потом… А потом Морозов обратил внимание на них. – Убью, – прохрипел он и ринулся вперед. Грянул выстрел. Коварж, оглушенный, отпрянул в сторону, споткнулся обо что-то, упал. Морозов, вопя от боли, рванулся в сторону стрелявшего Олега. – Нет! – завопила Ирка. – Олег! Прячься! Скорее! Оле-е-е-… Но хозяин не успел спрятаться, не успел перезарядить, вообще ничего не успел. Морозов сбил его и принялся топтать. И снова все потонуло в криках, визге, хрусте костей. Свихнувшийся здоровяк, казалось, не успокоился, пока не сломал все кости хозяину. Устало вздохнув, прислонился к колесу КамАЗа. – Вот же глядь, ранили… Стараясь не шуметь, Коварж поднялся, начал отступать к «Теремку». Некрасивая Ирка опередила его, сиганула на крыльцо. – Что вы встали! – рыдая, закричала она застывшей в дверях ведунье. – Звоните в скорую! Звоните! Он их убил! Уби-и-ил! Оттолкнув ведунью, залетела внутрь, хлопнула дверью. – Радька, – пробормотал едва живой Морозов. Он сполз на землю, обеими руками зажимая правый бок. По снегу растекалось темное пятно. Все же достал его хозяин… – Радька, – повторил Морозов, – это не я… это он… Показал пальцем в сторону «рено», в сторону будки, где стоял большой гроб, где лежал мертвый дальнобой. Коварж боялся приближаться к умирающему Морозову. – Что… это, он, что… – слова давались с трудом, мысли распадались на атомы. – Как это оно с тобой… сделало? Здоровяк завалился на бок и затих. Позади него, в сугробе, кто-то шевельнулся. – Рыков, – прохрипел Коварж, – телефон есть? Звони в скорую, ментам звони… – Нахер иди, – бросил Рыков, – я уматываю. С завидной скоростью забрался в свой КамАЗ, запустил двигатель. – Что там? – окликнули Коваржа со спины. – А? Он обернулся, увидел ведунью. Та, бледная, стояла в пяти шагах. – Что в будке? – Гроб. – А в гробу? Кто? – Дальнобой. Дима. Димыч… КамАЗ Рыкова рванул с места, чуть не сбил ведунью. Та в последний миг отскочила, даже не посмотрела на грузовик. – Что за гроб? – спросила она у Коваржа. Вот так просто, словно не было рядом трех мертвых людей, словно час назад она не просила держаться от нее подальше. – Мне надо посмотреть, – сказала ведунья. – Возьмите… что там, обрез? – Надо скорую вызывать, полицию, – запротестовал Коварж. – Люди погибли. – Связи нет, – отрезала ведунья. – Мертвым плевать, кого ты там вызовешь. А живым еще можно помочь. – Чего? Ведунья достала из кармана пуховика телефон, включила фонарик. – Ты со мной или к трупам желаешь присоединиться? От такой дерзости Коварж на секунду растерялся. Проводил ведунью взглядом. Опомнился, подобрал чудом уцелевший обрез. В глаза мертвому хозяину старался не смотреть. Но не удержался, покосился. И понял, что глаз у бедного хозяина не осталось. – Мне кажется… это, кажется, плохая идея… – начал он, глядя, как ведунья забирается в будку. – Все плохое, что могло, уже произошло, – горько усмехнулась ведунья. И исчезла в чреве будки. Коварж сжал зубы, до хруста, до боли в деснах. Запоздало вспомнил, что обрез разряжен, а возвращаться за патронами к мертвому хозяину не хотелось. Хотелось, как Рыков, заскочить к себе в КамАЗ и свалить… В будке послышался стук, изумленный возглас. – Эй? – позвал Коварж. – Что там? Мысленно отругал себя за глупый вопрос. – А сами как думаете? – съязвила ведунья. – Вы забирайтесь, тут вас никто… уже никто не тронет. Коварж заглянул в будку. В темноте едва различил маленький силуэт, открытый гроб. Носом уловил запах гнили. – Мы увидели там того… водителя. Побежали все… – Испугались, – добавила ведунья. – Как дети. – Прекрати, – разозлился Коварж, – мы побежали, а Морозыч вдруг как с цепи, увидел, что якутенок по кабинам рылся, шею ему сломал, потом на хозяина, даже рана его не остановила… сначала, а потом успокоился, но поздно… сказал, что этот его, из будки, но я ничего не понимаю… Голос его предательски дрогнул. Навалилось ощущение безысходности, страх, усталость, все вместе давило на виски, шею, скручивало внутренности. – Я, наверное, тоже поеду, – сказал он, – за помощью. Мертвых только надо в тепло… – Коварж, – обратилась к нему ведунья. – Ты веришь в Деда Мороза? – Чего? – не сразу понял он. – В деда… – В Деда Мороза. Раздает подарки хорошим детям. Господи, Коварж, ну не тупи ты, как ребенок. Веришь? – Не верю! – А в плохого Деда Мороза? – Какого? – Такого. Плохой волшебник. И подарки раздает плохие. Нехорошая догадка шевельнулась в голове. – Вы хотите сказать… – Хочу. И скажу. Этот Димыч что-то вам говорил? Трогал вас? – Не помню… – Вспоминай. На стоянке шумел ветер, гонял под ногами ледяные крупицы, чего-то нашептывал. И казалось, что мертвые просто спят, вот-вот они встанут и отправятся в кафе, снова пить, снова кутить и встречать Новый… – Тронул! – вспомнил Коварж. – Вспомнил! Он тронул… и сказал… сказал, что… не… бляха, как же сказал… ну… сказал, не доживешь до Нового года. Бляха… Ведунья молчала. Смотрела на него, как на приговоренного. – Бред какой-то, – тихо сказал Коварж. – Херня. – Открой свою будку. – Зачем? Думаешь, что и у меня… – Открой. – Ты мне скажи, какого черта… – Откроешь, скажу. Ну? Хочешь жить? Он чертыхнулся, но подчинился. Сознание, все мысли каким-то чудом балансировали на грани здравого смысла, он пытался найти всему происходящему рациональное объяснение. Но какое-то непонятное чувство, древнее, как мир, подсказывало, что все происходящее уже давно находится за гранью нормальной, объяснимой физическими законами, реальности. И ведунья, проклятая девчонка, будто бы сама была из другой реальности, другого мира, где другие законы. Потому-то он и подчинился ей, в надежде, что она все объяснит и поможет выбраться из дерьма, в которое превратился этот еще не наступивший Новый год. – Вот, – Коварж распахнул будку. – Видишь, кондеи. Нет у меня гробов. И мертвецов нет… – Не радуйся этому, – сказала ведунья, глянула на мертвого здоровяка. – Этот, как его, Морозов, ему ваш Димыч что-то говорил? Трогал? – Трогал, – на удивление быстро вспомнил Коварж. Потому что Димыч так же быстро вызвал у него неприязнь. – А что сказал? – Э-э-э, про злость чего-то. Эмоции. Кажется, разозлишься – пожалеешь. Это он что, он так… – Подарками вас наградил. – Твою мать, – выдохнул Коварж, – получается… – Получается, – кивнула ведунья. – Не доживешь до полуночи. Мысль эта не сразу сформировалась в голове, смысл фразы ускользал от Коваржа. Он заметил под ногами старенькие часы, те самые, что Морозову подарил отец, поднял. Без двадцати одиннадцать. – Сука, – простонал он, – это все из-за тебя, из-за тебя… Ведунья среагировала быстрее, чем он успел поднять обрез. С завидной силой толкнула его в грудь, повалила. Схватила оружие, прицелилась. – Он не заряжен, – пробормотал Коварж. – Но голову легко пробьет. – Попробуй, рискни, – пропыхтел Коварж и получил прикладом по животу. Он охнул от боли. Застонал. – Куда этот ваш Димыч свалил? – нависла над ним ведунья. – Ну! – С семьей какой-то на машине… обещал дорогу показать… – Куда? Знаешь? – Я… примерно… да, наверное. Знаю. Там поселок рядом с деревней. – Заводи машину, надо успеть до полуночи. – А если нет? Ведунья, глядя ему в глаза, нажала на курок. Послышался щелчок. И был он страшнее, чем хруст костей, чем визг тормозов, чем смерть близких и боль, которая много лет его не покидала… – Стой, – скомандовала ведунья. – Хозяйку заберем. Не оставлять же одну… Побежала в кафе, Коварж даже ничего ответить не успел. Показалось, что за спиной шевельнулся кто-то. – Морозыч… Тот лежал в луже крови. Мертвее всех мертвых. Коварж не выдержал, выблевал свой ужин. Вытер губы, взял снега, растер его по лицу. – Морозыч… ты меня… того… да сука… Не за что было извиняться ему перед другом, не мог он найти слов, чтобы сказать хорошее. Пробормотал: – Я найду его, обещаю. Кости переломаю. Задавлю суку. – Сначала найди, – прервала его жалкую панихиду ведунья, которая вернулась почему-то одна. – Хозяйка не поедет? Где она? Ведунья поджала губы. – Ей ваш Димыч говорил что-нибудь? – Не знаю. Что с ней? – Глаза себе выцарапала. – Блин… – И руку отхерачила. – Сука-а-а… – Видимо, пока вторую пыталась отхерачить, загнулась. Коварж едва сдержал рвотный позыв, отвернулся. – Мы не можем уехать, тут четыре человека, надо вызвать кого-то, ноль два, ноль три… Ведунья покачала головой. – Ты умрешь раньше, чем сюда приедут. И никто тебе не поможет. Хочешь жить, поехали. Сейчас! Он так и стоял, так и смотрел на нее. – Ты же видела что-то, ты же, млять, сама сказала. Что я не доживу до полуночи. Зачем ехать, куда ехать, если я не доживу… Она приблизилась, заглянула ему в глаза. Взяла за руку. – И? – спросил Коварж. – Если поедешь, тогда скажу. – Значит, не доживу. Ведунья вздохнула. – Все ты доживешь. И тех, которые в машине, спасешь. Если успеешь. Поехали уже… Непонятное чувство, то ли радость, то ли облегчение, накрыло с головой, отбросило все сомнения на задворки сознания. Коварж забрался в кабину, завел КамАЗ. Спохватился, открыл дверь ведунье. – Ты хоть дорогу помнишь? – засомневалась она. – Я все помню. Слушай… Он посмотрел на «Рено». – Может, сжечь эту штуку? – Мы только время потеряем. Поехали! Он кивнул, включил фары. Яркий свет разрезал тьму, высветил присыпанную снегом дорогу, следы шин. В переплетении веток маячила луна, словно муха, угодившая в паутину. – Этот… эта тварь, – Коварж старался не смотреть на ведунью, только на дорогу, – откуда она вылезла, это вампир какой-то, оборотень? – Может, вампир, может, оборотень, – вяло отозвалась плюгавая. – Много ублюдства на белом свете. Откуда, по-твоему, пошли сказки про деда, который на санях по всему свету с подарками катается? – Откуда? – переспросил Коварж. – От верблюда, – огрызнулась ведунья. – Оттуда и пошли, что вот такие, как твой Димыч… – Он не мой, – огрызнулся в ответ Коварж. – Такие, как эта тварь, давным-давно по деревням разъезжали, всех нехорошими подарками награждали. Они как вампиры, только те каждую ночь на охоту поднимаются, а эти раз в год из спячки выбираются, одаривают всех, кого встретят, потом снова в спячку. – То есть этот… Димыч, – предположил Коварж, – перевозил его. Может, сам того не зная… – Может, вез куда-то… в большой город, – кивнула ведунья. – Где много детей, да просто людей… Коваржа пробил озноб. – Но так получилось, – продолжала ведунья, – что тварь проснулась по дороге, подействовала на парня, заставила его залезть в долбаную будку, открыть долбаный гроб. – А потом? – А потом убила парня и в него обратилась. И пошла подарки раздавать. Чем больше раздаст, тем для нее лучше. – Блин, жопа. Но ведь саму-то ее можно убить? – Коварж вырулил на трассу, прибавил скорости. – Но как? Нагоним мы ее, и дальше что? Ведунья не ответила, поэтому Коварж повторил свой вопрос. – Слышу я, не глухая. Про убить не знаю, наверное, можно. Как и всю нечисть, святой водой, распятием, молитвой. – Ты их знаешь? Молитвы? – Нет. – Ты же ведунья! Как так? – Жопой об косяк! С каких пор ведьмы молитвы читают? Сам понял, что сказал? Молитвы… – Извини, – буркнул Коварж, – у меня где-то был крестик, книжка, вроде про Иисуса, от старого хозяина фуры… – Вот ею и будешь отбиваться от твари, – хмыкнула ведунья. – Я бы ее просто машиной пере-ехала. Он фыркнул. – Теперь понимаю, почему тебя выгнали с этого дурацкого проекта. – Выгнали? – вскинулась ведунья. – Понимаешь? Пошел нахер, и ты, и вы, и все! Понимает он, сука-а-а, меня из-за того и выперли, что одна я только из них… сборище жуликов и съемки по сценарию… что видите, что чувствуете… да не видит никто, отсебятину все несут, а я сказала главному, что он не доживет до весны, что у него рак, меня на первом же кастинге за это и слили… Коварж молчал. Он всегда молчал, когда при нем изливали душу. Никогда не встревал, ждал, пока иссякнет поток слов, а потом советовал скинуть груз, забыть. И сейчас уже чувствовал, что «поток» почти все, что пора дать самый верный совет, но… Впереди замаячила фура. – Это Рыков, что ли? – Коварж напряг зрение. Да, КамАЗ Рыкова стоял на обочине, мигал аварийкой. Двери распахнуты, внутри никого. – Не останавливайся, – велела ведунья. – Проезжай, быстро! – А если помощь нужна? – запротестовал Коварж. – Тогда и нам помощь понадобится! Гони! Он вжал педаль в пол. Машина подскочила на кочке, понеслась вперед. Через пару секунд пустой КамАЗ остался позади, укоризненно мигая аварийкой. Интересно, какой «подарочек» достался бедняге Рыкову? – Это и есть Болячка? – ведунья показала туда, где маячили заборы и сараи. – Да, она. Где-то должен быть поворот. По следам смотри. Поворот нашелся через минуту, стоило миновать деревню. След от машины уходил в поле, немного петлял, терялся среди высоких сосен. – Едем, что ли? – Коварж быстро перекрестился, сделал вид, что не заметил, как ведунья закатила глаза. Дорога, если она вообще была под снегом, оказалась на удивление ровной, только пару раз КамАЗ подпрыгнул на кочках. Добравшись до сосен, Коварж затормозил, высунулся из кабины. – Не понял, они свернули, похоже? В деревню. Зачем? – Какая разница? – проворчала ведунья. – Поезжай скорее. – А ты куда торопишься? – удивился Коварж. – За меня переживаешь? – Размечтался… – Подожди-ка, а тебе что эта тварь подарила? Не могла же тебя оставить без подарка… – Ничего не дарила, – буркнула ведунья. – Поехали, время… – Никуда не поеду я, – разозлился Коварж. – Пока не скажешь, что она… он… да сука, плевать, что подарил тебе этот урод? Она не отвечала. Отвернулась к своему окну, смотрела в темноту, туда, где гасли и падали звезды. Коварж, не дождавшись ответа, глянул на часы, свернул в сторону деревни, уже сосредоточился на дороге, когда ведунья вдруг сказала: – Он у стойки меня поймал. Сказал, если найду его до полуночи, тогда все будет хорошо. Я… откуда мне знать, думала, переспать предлагает, чуть не влепила ему, даже не подумала, что все так… закончится так. – Ты же ведунья, – хмыкнул Коварж. – За руку его тронула. И ничего? – Ничего. Не увидела. Не почувствовала. Я тогда о тебе думала, козел, как от тебя подальше уйти… – Ты мне тоже сразу понравилась, – ничуть не обиделся Коварж. – Скажи… когда ты… того… на остановке меня за руку… что там было? Что ты увидела? – Не увидела. Почувствовала. Страх, обиду, отчаяние. Огромное желание что-то вернуть, изменить. Боль, вину, что кого-то убил. Два призрака, две тени, которые тебя преследуют. Не можешь их отпустить, не хочешь… – Темный мрачный бес моей души, – вспомнил Коварж. – Точнее, два беса. Я не хотел, не убивал их. – Но убил, пусть и не хотел. – А как поняла, там, на дороге, что до полуночи не доживу? – Да никак, – вздохнула ведьма, – соврала. Испугалась тебя. Вдруг и меня убьешь, я же не знала, от чего погибли твои. Вот и сбежала… Она умолкла, как только КамАЗ поравнялся с первыми избами. В них, судя по забитым окнам и прохудившимся крышам, давно никто не жил. Даже не избы, а скелеты, оставшиеся от умершей деревни. – Веселое место, – усмехнулся Коварж. – Тут только и впадать в спячку… – Смотри! – встрепенулась ведунья. – Там идет кто-то! Между сараем мелькнула тень. Пропала. Через секунду вынырнула прямо перед КамАЗом. – Рыков, тля… – изумился Коварж. – Он спит, что ли? Дальнобой брел с закрытыми глазами, натуральный лунатик. Уткнулся в кабину, молча обошел ее, побрел дальше, так и не открыв глаз. – Куда он почапал-то? – Коварж потянулся к двери, но ведунья его остановила. – Стой, не надо! Пусть идет! – Замерзнет же… – Он, похоже, все, – она сжала губы, – вкусил подарочек. Рыков исчез в темноте, будто и не было. Как привидение, призрачный образ, растворившийся в череде бесконечных кошмаров. – Не спи, – вспомнил Коварж, – так Димыч сказал Рыкову! Не спи, залунатишь… Коварж включил дальний свет, высветил следы от машины, которые упирались в конец улицы, терялись в нехитром лабиринте деревянных строений. – Там конный двор, похоже, – пробормотал он. – У бабушки моей был такой в деревне. – Надеюсь, там лошадей не осталось, – поежилась ведунья. – Ненавижу их. Машину заглушили возле конюшни с надписью «Бесы». Никак вандалы постарались, рядом еще черта лохматого подрисовали. – Прямо как две капли воды на меня похож, – пошутил невесело Коварж, пошарил в спальнике, нащупал монтировку. – Если увидишь тварь, – тихо наставляла ведунья, – бей по башке. Насмерть. Не дай к тебе притронуться, сразу бей. В глаза не смотри, не говори с ним, не давай себя заболтать. Понял? – Пошли уже… Под навесом он различил иномарку. Знакомый значок «Тойоты». Двери распахнуты. Заднее стекло разбито. От одного вида машины у Коваржа заныло сердце, пальцы крепче сжалимонтировку. – С ними же ребенок был, – прошептал он. – Маленький совсем… – Тихо, – перебила его ведунья. – Слышишь, кто-то стучит? Он напряг слух. И в самом деле. Кто-то бил по дереву, с какой-то тупой неумолимостью. Так больной старый дятел в далеком детстве стучал на чердаке в старом доме, не давал спать, сводил с ума ночами, пока дед не забрался наверх, не свернул птице шею. Коварж пошел на звук. По пути заглянул в салон иномарки, задержался взглядом на разбросанных по сиденью игрушках. Трупов нет, крови нет. Уже легче… – Смотри, – шепнула ведунья, как только они нырнули в темноту заброшенной конюшни. – Бьется дятел… Даже в темноте он узнал бородатого очкастого водителя иномарки. Тот, похожий на робота, с какой-то жуткой неумолимостью колотил ржавым топором в толстую стену. И при этом… тихо напевал. – Если с сыном вышел в путь, если с мамой вышел в путь, – хрипло бубнил он, не переставая бить по стене, – то убей их как-нибудь, покалечить не забудь… Одна эта песня вызывала дрожь в руках, неодолимое желание подойти и проломить ему череп, забить, чтобы он не повторял эти строчки, перестал колотить… – Я слева зайду, ты справа, – велел Коварж, – вырублю его. Если не смогу, стреляй. Давай… Стараясь не ступать на скрипучие доски, он подобрался ближе, перехватил монтировку, примерился… Выстрел грянул быстрее, чем он ударил. – Ты дура! – прошипел Коварж. – На хрена? – Чтобы наверняка… От выстрела заложило в ушах, в глазах заплясал целый хоровод белых пятен. Коварж наклонился, заглянул в лицо бородатому. Счастливое, довольное лицо, попробуй пойми, наградили его подарком или нет… – Смотри, – позвала ведунья. – Тут дверь. Запертая. Видимо, там его семейка… Коварж вспомнил улыбку девушки, добрую, красивую. – Эй, – он постучал, прислушался. – Все хорошо! Все… прошло! Мы помочь приехали, вы в безопасности! Не бойтесь. За стеной что-то шевельнулось, упало. Дверь приоткрылась. – Боже, – всхлипнули в темноте, – Андрюша, он с ума сошел… он просто набросился на нас… Девушка сидела с ребенком на руках, такая же красивая, милая. Хотелось обнять ее, забрать к себе, увезти далеко-далеко из этого проклятого места, защищать, оберегать. Спасти, как он не смог с семьей, а сейчас, с другой семьей, была возможность, оставалось еще время, мог успеть… – Все хорошо, – успокоил Коварж. – Мы поможем… – Вы убили его? – всхлипнула девушка. – Нет, – соврал Коварж. – Оглушили… – Убили, – вмешалась ведунья, – иначе он убил бы вас. Коварж пихнул ее. Девушка заплакала, спрятала лицо. – Ну зачем? – сквозь зубы прошипел Коварж. – Тварь, которая ехала с вами, – не унималась ведунья. – Где она? Или он? Куда свалил? Девушка не расслышала. Или не хотела отвечать, что-то тихо говорила ребенку. Коварж подошел ближе, чтобы помочь ей, уже подал руку. И замер. Ребенок был мертв. – Твою мать, – выдохнул он, попятился. Нет. Он и здесь не смог. Не смог помочь, когда помощь была нужна… Ведунья схватила девушку за плечи, потрясла. – Где тот тип, что ехал с вами? Куда он пропал? – Все так быстро, – всхлипнула девушка. – Он тронул Андрюшу, сказал ему… я не слышала… Андрюша… он с ума сошел, схватил Кира, ударил… я убежала вместе с Киром, а он за нами… – Этот урод, – ведунья тряхнула девушку сильнее, – он куда ушел? Где он? – Прекрати, – разозлился Коварж. – Дай мне… Он присел, взял ее за руку. Увидел слезы, увидел тушь, размазанную по щекам. В голове сама собой снова всплыла злополучная ночь. Зима, гололед, разбитая машина, всюду кровь-кровь-кровь, такая же размазанная тушь, такое же испуганное лицо. Только мертвое. – Мы найдем его, – сказал Коварж, стараясь не смотреть на мертвого мальчика. – Найдем и накажем. И все вернется обратно, ничего этого не будет… Ведунья за спиной тихо выругалась. Но на девушку подействовало. Она перестала плакать, посмотрела куда-то мимо Коваржа. – И Андрюша, и Кир, они будут живы? – спросила она тихо-тихо. – Будут, – соврал Коварж. Мысленно проклял и себя, и ведунью, и тварь, которая погубила кучу народа, а сейчас пряталась где-то рядом. – Он попросил его высадить, – девушка вытерла слезы, – сказал, что все… почти все подарки раздал и может уходить… – Где вы его высадили? – вмешалась ведунья. Девушка прижала к себе мальчика, что-то ему прошептала. – Где? – потребовала ответа ведунья. – Тут колодец рядом… и домик, нет, не домик, беседка. Он туда ушел. – Мы вернемся, – пообещал Коварж, глядя на часы. Они показывали без десяти двенадцать. Где-то там, в больших городах, будто бы в другом мире, миллионы людей сидят у телевизоров, готовятся слушать речь президента, разливают шампанское, накладывают салаты, они счастливы и все у них хорошо… Почему, ну почему проклятые неведомые твари могут дарить только плохое, то, что убивает, а не делает счастливее, почему он не может быть сейчас там, у телевизора, счастливый и молодой, с семьей и друзьями… – Мы вернемся, – повторил Коварж девушке, представляя ее счастливой и нарядной, рядом с ним, у телевизора. – Заберем тебя, вас… пошли. Ведунья не сдвинулась с места, смотрела на девушку. – Тебе он ничего не дарил? Не трогал тебя? – Нет, – ответила девушка. – Только отнял. И снова заплакала. Они увидели беседку издалека. И колодец тоже. Яркая луна выбралась из паутины веток и освещала им дорогу. Они пробирались через сугробы, падали и поднимались, торопились. Коварж не смотрел на часы, только на колодец, молил, чтобы тварь была там, чтобы все закончилось и… он… они остались живы. – Как увидишь, сразу стреляй, – пропыхтел он, приблизился к колодцу, заглянул. – Какого хера… Внизу оказалось неглубоко, метра два. Внизу лежал скелет. В одежде Димыча. Скелет пустыми глазницами смотрел куда-то в небо, скалился и был мертвее всех мертвых. – Он что, он умер? – не сразу сообразил Коварж. – Сам подох… А как только сообразил, стало поздно. В спину уперлось дуло обреза. – Он раздал все подарки и умер, – сказала ведунья. В уставшем мозгу шевельнулась спасительная мысль. – Если он умер, – пробормотал Коварж, – то и подарки его… – Действуют. Ты же видел психа, который стену долбил. Посмотри. Туда… Вдалеке брел Рыков. Дойдя до забора, он ткнулся в закрытую калитку, как слепой щенок. Как лунатик, который не может проснуться. – Он сказал, что я не доживу до полуночи, – вспомнил Коварж, – а уже почти… – Ты не доживешь, – оборвала его ведунья, точно вынесла смертный приговор. – Ты че творишь? – разозлился Коварж, и страх, и усталость, и ярость, а еще желание жить – все смешалось внутри, а вот как выжить, как спастись, выбраться из западни, он не знал, не понимал. – Ты же сказала, если найдешь его до полуночи, то… – Прости, – ответила ведунья. – Он сказал, если тебя до полуночи убью, тогда спасусь… – Ты еще там, у кафе, могла убить… – Могла, но не хотела. Думала, найдем его, убьем и вместе спасемся… – А теперь только ты… – Только я. В кармане запиликали часы Морозова. Начали отсчитывать двенадцать ударов. Два удара, три удара… Толкнуть ее, прыгнуть в яму, прикрыться скелетом, переждать удары, а потом… – Я спасу девушку, – пообещала вдруг ведунья. – Она тебе понравилась, я же вижу, помогу ей выбраться и сделаю все, чтобы она не забыла нашу… твою помощь. Пять ударов, шесть ударов… – Сука ты, – ответил Коварж. – Плюгавая. Если обманешь, с того света достану. Стреляй уже! Не хочу… Восемь ударов… За спиной щелкнуло. Девять… Он закрыл глаза. Вспомнил лицо жены, сына, Морозова, хозяина Олега, красивой счастливой девушки, ее мальчика, всех. Десять, одиннадцать… Двенадцатый удар заглушил выстрел.
Михаил Павлов. Долгая новогодняя ночь

Глаза Семена были закрыты, но он видел елку. Калейдоскоп тонких веточек, россыпь гибких изумрудных иголок, искристость мишуры, игрушки, золотые, алые, поблескивающие, несколько старых, слегка облупившихся, от родителей остались, из детства. Семен всегда любил Новый год. Подумал о Машке, она же сейчас должна вовсю вареную колбасу с картошкой крошить на оливье. Антоха и Тишка, наверное, носятся по прибранной комнате, норовя свернуть накрытый праздничной скатертью стол и ту самую елку. Хотелось думать, что Машка не сэкономила и притащила с рынка живую. Без умолку поет и хохочет телевизор. Семену нравилось сидеть во главе стола, кряхтеть, протягивая руку за бутылкой «Советского шампанского», нравилось, как дети выглядывают из-за своих тарелок с сияющими озорными глазами в ожидании подарков, нравилось, как Машка наряжалась в лучшее свое выходное платье, просто чтобы посидеть рядом. Как-то все это примиряло, дарило надежду. И вдруг оказалось настолько далеко, будто и не существовало никогда. Семен с трудом разлепил веки и, борясь с накатывающей потливой слабостью, вновь поднес часы к глазам. В холодной дышащей металлом тьме тускло высветился прямоугольник дисплея. В уголке окошко календаря. Тридцать первое декабря. Значит, операция уже завершена. Или провалилась. С тех пор как Семен очнулся, в голове не прекращался болезненный давящий гул. Сознание держалось хлипко, то и дело ухая куда-то вниз, в теплые иллюзорные образы, в бред воспоминаний. Но что же случилось? Где весь экипаж? Цепляясь за ребристую выгибающуюся стену коридора, Семен поднялся на ноги. Комбинезон с треском отлепился от титановой переборки, отсыревшая ткань неприятно скользнула по спине. Что это? Кровь? По позвонкам вниз, будто пальцы пианиста, пробежал холодок. Семен вздрогнул и выпрямился. Ныли мышцы и ребра, в желудке елозили давние ошметки пищи, тело покрывали ушибы, но ран посерьезнее Семен не отыскал. Посмотреть бы на себя при свете… Наконец он сделал первый шаг. Второй. Третий. Идти по трубе коридора было неудобно и непривычно. Почему непривычно? Когда до него дошло, пришлось остановиться, тяжело привалившись к стенке. Гравитация! Твою мать, откуда здесь гравитация! Звездолет приземлился? Упал? Но где? – Эй! – сипло позвал Семен, прокашлялся и повторил: – Эй! Кто-нибудь! Мрак промолчал в ответ. Не оставалось ничего, кроме как понемногу двигаться дальше. Пальцы натыкались на ледяные трубы, на приборные панели, предназначение которых оставалось непонятным. Перед полетом их, простых десантников, погоняли на тренажерах, нагрузили инструкциями, но полезного в этих знаниях оказалось маловато, да и забылось многое почти сразу. Семен даже не мог сообразить, в какой части корабля сейчас находится. С собой ни средств связи, ни оружия. А ведь оно было, Семен это знал, они все были вооружены в те последние минуты, что остались в памяти. В мозгу взорвалось многоголосье боя: вокруг кричали, кто-то в панике, кто-то в ярости, кто-то – пытаясь переорать других, пытаясь заставить их выполнять приказы. Все потонуло во вспышках светошумовых гранат. С новой силой разболелась голова. Семен постоял немного, прижавшись пульсирующим виском к прохладному металлу. Почудилось, будто «Шаталов» – так назывался корабль – мелко вибрирует. Отвечает на пульс в черепе Семена своим глубинным пульсом. Надо было идти. Семен выпрямился и побрел дальше. Странно все это. Чудовищно странно. Их ведь предупреждали о тяготах реабилитации после полета, и Семен действительно чувствовал себя отвратно, но все-таки мог переставлять ноги, не бухаясь в обморок после каждого шага. Где обещанная атрофия мышц? Он посматривал на часы, но не запоминал время. Просто тащил себя по трубе, долго, пока не нащупал преграду. Дверь. Электричества, судя по всему, нет, так что открывать придется вручную. Ладонь скользнула по холодным изгибам, нашла приборную панель; тыкать по кнопкам не было смысла, но он все равно ткнул. Лицо лизнуло дуновением воздуха – дверь с шипением распахнулась. Не двигаясь с места, Семен понял, что слышит что-то позади. Слышит давно, только звук такой далекий и привычный, что его не замечаешь. Гул реактора. Точнее, компрессоров и насосов, или что там у них гудит… Работает, значит. Семен хмыкнул и сделал два осторожных шага вперед, после чего закрыл за собой дверь. Гул стал чуточку тише. По крайней мере, теперь Семен знал, что удаляется от двигателей, расположенных в хвосте, направляясь в сторону носовой части корабля. Только что его там ждет? Те же безлюдные коридоры? Он перебирал в голове имена, звания и лица сослуживцев. Никто толком не понимал, зачем их забрасывают к черту на кулички, на окраину Солнечной системы. Семен тоже тогда гадал, что за работенка для него, опытного подрывника, приготовлена посреди космоса. Инструкторы объясняли: они тут для подстраховки. Расправиться с противником должны были старые добрые термоядерные ракеты. И ведь получилось как будто. Семен тогда торчал в отсеке со своими ребятами, потел от волнения и тошнотворной невесомости, к которой так и не смог привыкнуть. Наконец пришла весточка: боги войны поразили цель. Раз – и все, и отлегло сразу. Значит, скоро домой. К семье, с хорошими деньгами за месяцы изнурительного ожидания в этой болтанке, о которой и рассказать никому нельзя. Смешно, говорят ведь, что даже технологий для таких полетов сейчас нет, а они вон взяли и слетали туда-обратно. Может, потом медальку какую-нибудь дадут секретным указом. Но главное – свалить отсюда, из этого колоссального цинкового гроба, плывущего сквозь пустоту. Они не космонавты, для них это чересчур. Поэтому, услышав, что инопланетный корабль уничтожили без них, десантники хлопали друг друга по плечам, гоготали, матерились, шутили, что надо бы выпить, уже и елочку искусственную достали, Новый год же скоро… Потом взвыла тревога. Семен замер, вжавшись в стенку коридора. Навалилась слабость, тишина мертвого звездолета вдруг стала невыносимой. Многие из роты погибли, это точно. Возможно, даже все. Пилоты, инженеры – тоже. Возможно, в брюхе этого титанового левиафана больше нет никого живого. Но где тела? На минимуме мощности пашет двигатель. Может быть, члены экипажа сбежали, посадив терпящее бедствие судно? А про Семена просто забыли? Вперед. Нужно двигаться. Понемногу, шаг за шагом. Куда мог сесть корабль? Гравитация как будто земная, но до Земли месяцы полета. Неужели Семен провалялся в беспамятстве так долго? Часы идут, а календарь показывает… Семен нахмурился, сопоставляя числа в голове. Выходило, что тот самый бой случился девять дней назад. Его события ярко отпечатались в памяти. Даже слишком. Будто кислотой выжгло. Но чем все закончилось? Что было дальше? Если Семена ранили, то кто-то должен был за ним все это время ухаживать. Почему же он пришел в себя, брошенный посреди пустого тоннеля? Изо рта вырвался стон. Вопросы изматывали разум, все больше пугала тотальная неизвестность. – Сержант? В первое мгновение Семен не поверил себе. Он и вправду услышал этот голос впереди? Бросило в пот, пробрало дрожью, дыхание затаилось, как зверь в норе. – Сержант, патроны есть? – с усмешкой сипло спросили из тьмы, и Семен узнал голос. Халилов, вредный болтливый прапор, Семен никогда его не любил, но сейчас был счастлив встрече. От облегчения закружилась голова. – Хал? Ты где тут? – хрипло позвал Семен, во рту пересохло. Улыбаясь, он сделал еще несколько шагов, пока не нащупал слева провал. Боковая дверь, открытая. Значит, здесь прапор и прятался. – Хал? За поворотом никого не оказалось. – Хал, не молчи! – выкрикнул Семен, уже догадываясь, что сослуживец не отзовется. Может, его здесь и не было никогда. Семен опустился на корточки, пытаясь в слабом свете от дисплея наручных часов разглядеть какие-нибудь следы. На металлические ребра коридора налипла вязкая темная грязь, тянущаяся в обе стороны. Словно русло пересохшей речки под ногами. Семен исползал все вокруг, убеждая себя: не послышалось же. Наконец и впрямь кое-что нашлось: на полу валялись пакеты с корабельным пайком и водой. Справа что-то шумно завозилось. Семен вздрогнул, несмело протянул руку, тускло сияющим щитом выставив часы. Ничего. Звук шел из-за переборки. Затем переполз вверх, влажно хлюпая, огибая трубу тоннеля, пока не скатился вниз, оказавшись справа. Теперь шум удалялся, двигаясь вдоль коридора, и Семен последовал за ним. За стенкой гулко чавкнуло, натужно заскрипел титан, будто нечто рвалось наружу. В груди екнуло, Семен отступил на несколько шагов. Но больше ничего не произошло. Шум удалялся, погружаясь в механическое нутро корабля. Семен провел ладонью по лицу, чтобы стянуть пленку ледяного пота с кожи, и нервно усмехнулся. Вспомнил о своей находке и поспешил назад. Провизия оставалась там, где и была. Уже неплохо. Вода показалась страшно, живительно вкусной, студеным языком коснулась его языка, горячего и сухого, прокатилась по глотке, булькнула в желудке. Следом Семен вскрыл один из пайков и выжал в рот сочное нечто, смешавшее в себе вкусы мяса и злаков. Остальные находки рассовал по карманам. Кто-то оставил это для него. Оставил и спрятался? Может, приманка? Что ж, ладно. Семен двинулся вглубь нового коридора, надеясь, что тот окажется короче предыдущего и выведет в жилые отсеки или в центр управления. Он вновь потерял счет времени, хотя то и дело поглядывал на часы. Иногда пытался осветить стены и натыкался на загадочные аббревиатуры с цифрами. Понял только, что находится на четвертом уровне. А сколько их всего? «Шаталов» конструировался в условиях абсолютной секретности. Впрочем, китайцы и американцы о нем, конечно, знали. Последние тоже готовились рвануть к задворкам системы. Что-то они там разглядели, эти астрономы, какие-то кристаллы в поясе за Нептуном. ИАО-9, так это называлось в служебных документах, которые одним глазком видел Семен. Говорили, что из этой штуки можно делать самое безопасное топливо. И бомбы. Короче, все зависело от того, кто первым доберется. Время и так поджимало, а когда среди льдов и планетоидов заметили приближающийся инопланетный корабль, в руководстве и вовсе началась паника. По телевизору в это время трепались об окотившихся уссурийских тиграх и фашистах в Европе. Семен вновь подумал о семье. В их двухкомнатной квартире в Курске телек бормотал почти постоянно, пусть толком никто и не слушал. Малышня замирала рядом, только когда шли мультики, да и то ненадолго. Семен, бывало, в шутку боролся с Тишкой и Антохой, валяясь на ковре, между делом прислушиваясь к спортивному каналу. Надо было проводить с сыновьями побольше времени, с сожалением понял он. Наверно, так рано или поздно думают все отцы. Силы покидали его. Тревога и тоска клубились в груди, ладони цеплялись за стены в поисках опоры, с каждым пройденным метром все труднее становилось переставлять ноги. Чудилось, маячит бледный огонек где-то вдалеке. Колени подгибались, тело стало непосильной ношей. А коридор выгибался дугой, заворачивал вправо. Такого быть не могло. Впрочем, таких длинных коридоров на корабле – тоже. Из-за поворота все явственнее, все гуще сочился дрожащий серебристый свет. Жужжали флуоресцентные лампы. Шероховатая сталь под ладонями сменилась гладким кафелем, стена незаметно выпрямилась, в нос ужалил запах лекарств. Впереди обозначился человеческий силуэт, Семен остановился, прищурившись, пытаясь разглядеть, где оказался и с кем. Женщина. В белом медицинском халате. Каре темно-русых волос. Стоит спиной к Семену, в руках шприц. Тонкая прозрачная струйка с препаратом взмывает над иглой и опадает. Сейчас женщина обернется, чтобы сделать укол. Семен, кажется, знает ее. Нужно увидеть лицо, чтобы убедиться. Только она медлит, не оборачивается, чувствует его взгляд. У Семена кружится голова, рвота медлительным слизнем ползет к горлу. Он продолжает вглядываться, старается подобраться ближе, скользя плечом по белой керамической плитке, замечая краем глаза больничную койку без матраса, но лица женщины не видит. Должен увидеть, с этого ракурса точно, хотя бы нос и, может быть, щеку, губы, только ничего этого нет. И Семен останавливается. К черту. Не хочет он знать, что там скрывается за прядями волос. Холод, страшный, черный. Веет прямо оттуда. Семен пятится, глаза полны ужаса, распахнуты во всю ширь, свет режет. Медсестра вот-вот обернется. Напряженная, она стоит все в той же позе, но будто изготовилась к прыжку. Нужно закричать. Только нет сил. Семен почувствовал что-то влажное, коснувшееся руки. По стене струилась прозрачная жижица. Кафель под ладонью утратил твердость и теперь расползался студенистыми соплями. Семен отшатнулся, стараясь скорее стереть жидкость с руки. Заметил, что женская фигура рядом тоже стремительно отекает, тает, как восковая свеча. Лампы над головой предсмертно заморгали и погасли. Несколько секунд – или минут? – Семен не знал, что делать дальше, а потом просто ломанулся вперед, не разбирая дороги, сквозь сочащуюся и капающую тьму. Кажется, он терял сознание. Потом вставал и пер дальше. Под ботинками чавкало. Наконец, выбравшись на сухое, Семен почувствовал, что пришел в себя. Уселся на пол, вытянул пакет с водой и жадно ополовинил. – Сержант? – шепнули сверху. Семен встрепенулся. Запечатав и убрав пакет, помахал вокруг часами с загоревшимся дисплеем. Никого. – Сержант, патроны есть? – вновь спросил Хал. Семен вскочил. Едва отступившая тревога тотчас вернулась, сграбастала кишки в животе, скрутила, как клоун крутит воздушные шарики для детей. Боже, я же свихнулся. Эта мысль все объясняла. Он коротко хохотнул, хотя хотелось заплакать. Гулкие отголоски собственного смеха немного испугали. Семен поднял руки. Голос Хала шел откуда-то сверху, так? Пальцы нащупали приборную панель, шикнула дверь. Зацепиться за край овального проема, подтянуться, втащить себя внутрь. Он уже не надеялся увидеть кого-то живого – сразу стал ощупывать пол вокруг. Где-то неподалеку шумела, распахиваясь и закрываясь, заевшая дверь. Семен не сразу заметил, что здесь чуточку светлее. Вот на секунду можно разглядеть собственные руки, но шипит, клацает дверь, и вновь становится непроглядно темно. Что же там, в той стороне? Он уже хотел было подняться на ноги и идти на поиски источника этого слабого света, когда руки наткнулись на знакомый рельеф пластика, пальцы дрогнули, пробежали по цевью до ствола из хроммолибденовой стали, скользнули обратно, нашли магазин и рукоятку. Родной проверенный временем АК-12М. Семен подсветил часами, чтобы проверить количество патронов. Улыбка, едва расцветшая на лице, тотчас увяла. Пусто. Какая-то глупая шутка? Семен стиснул зубы. Тем не менее с оружием в руках он почувствовал себя увереннее. Поднялся и осторожно, держа автомат наизготовку, двинулся по коридору. Под стволом крепился фонарь, но зажигать его Семен не спешил. Алюминиевое дверное полотно впереди продолжало с шумом ездить туда-сюда. Указательный палец лег на спусковой крючок, и в голове тотчас откликнулось эхо стрельбы. Командир приказал раздать автоматы, несмотря на все запреты техники безопасности. Эту тварь ничто не брало. И даже пули она обратила против самих стрелявших. Солдаты палили из всех стволов, палили прицельно, пусть и разглядеть пришельца толком не удавалось. Выстрелы гремели долгими ликующими аплодисментами, которые обязаны были завершить эту космическую оперу, но свинец слепыми мушиными роями возвращался назад, и люди один за другим вскрикивали, корчились, а в воздухе пузырилась кровь и плыли трупы. Там был и Хал, перезаряжался рядом с Семеном… Может, меня тогда убили? Семен вздохнул, эти чертовы бесконечные коридоры вызывали в нем приступы клаустрофобии, которой он никогда прежде не страдал. Может быть, таков его ад? Вокруг становилось все светлее, мгла сменилась полумглой, иссера-синей и зябкой. Все громче шипела и лязгала неисправная дверь. Вспомнилась медсестра. Угрожающая игла шприца. Что если полет свел Семена с ума? Что если он вернулся на Землю и, обколотый транквилизаторами, заперт сейчас в маленькой палате в дурдоме? А значит, этот ад он воздвиг себе сам, спрятав где-то в закоулках покалеченного мозга. Дверной проход оказался прямо перед Семеном. Пару секунд тот выжидал, а потом, улучив момент, проскочил в круглую пасть, пока ее челюсти не успели сомкнуться. Очутившись по ту сторону, тотчас почувствовал, как стены тоннеля наконец расступились, перестав давить на плечи. Это помещение было просторным, а впереди… Впереди сквозь широкие иллюминаторы сочился звездный свет. Опустив автомат, Семен медленно подошел ближе. За слоями прозрачного акрилового пластика раскинулся космос, безграничный, немой, усеянный далекими серебристыми огнями. Чудилось, подстегни их детской фантазией и благоговением, и те послушно сложатся в фигуры рыб, гидр и скорпионов. Только вот не складывались. Закружилась голова, Семен оперся о край одного из огромных прямоугольных (все углы сглажены) иллюминаторов. Если корабль не вернулся на Землю, то откуда гравитация? Что здесь творится? Сон, кома, галлюцинация, смерть? Семен отказывался в это верить. Он был в гребаном космосе, на гребаном звездолете, и знал только одно: здесь есть кто-то еще. За спиной шевельнулось. Семен порывисто обернулся, вскинув бесполезный «калаш». Дверной рот все так же щелкал створками, но это было еще не все. Семен включил фонарь, и яркий плотный луч пробил полутьму. Полотно двери в очередной раз ехало вправо, заслоняя проход, но на секунду по ту сторону мелькнуло нечто большое, бледно-серое, в прожилках, блеснувшее слизью. Семен стиснул рукоять автомата, кожу вспорол мороз. Это было оно, чудовище из инопланетного челнока. Несколько раз вдохнув и протяжно выдохнув, Семен пересек отсек, остановился у выхода, еще немного выждал, стараясь успокоить разбушевавшийся пульс, и быстро выглянул наружу. Фонарь мазнул по переборкам. Семен отстранился, дверь вновь закрылась. Он понял две вещи. Первое – никто не поджидал его поблизости. Второе – оказывается, коридор, по которому он пришел, расходился прямо перед входом в обе стороны. Пришелец удалился направо. Семен не знал, что делать дальше. Бежать прочь? Но куда направляется эта гадина? Собравшись с духом, он вновь выглянул, а потом и выскочил наружу, направляя фонарь вдогонку удаляющемуся монстру. Луч будто канул в километровый колодец. На самом его дне копошился смутный червяк, опарыш, но, ужаленный светом, поспешно скрылся. Чувствуя, что совершает самоубийственную глупость, Семен осторожно двинулся следом. Самое раздражающее: он начал понимать, где находится, и все, что его сейчас интересовало – медблок, грузовые отсеки и боевая рубка, – находилось впереди. Поначалу, при первой встрече с вооруженными солдатами, пули явно не понравились пробравшемуся на корабль созданию. Показалось, его можно убить. Как же оно выглядело?.. Как это описать? Какие-то оголенные мышцы… Что-то шарообразное?.. Шквальный огонь смял непонятное чудовище, заставил остановиться, но потом свинец стал увязать в воздухе, ложась на новую траекторию, превращаясь в мириады спутников кровожадной живой планеты. Да, тварь очень трудно было разглядеть, она не только шевелилась сама, но и вокруг нее, не касаясь, роились предметы, обломки техники, куски тел, мешающие обзору. Семен зажмурился, скрипнул зубами. На службе он видел всякое, но такое… Это не умещалось в голове. Невесомые пронизывающие холодом объятия ужаса потихоньку сжимались, норовя сковать разум, и в попытке выскользнуть из них Семен стал думать о том, что осталось на Земле, вернулся мысленно домой. У них ведь там сейчас праздник. Тот самый, любимый с детства. День рождения – это здорово, тоже подарки и все для тебя, но настоящее волшебство, оно ведь только в Новый год, неуловимое, где-то в тихом перезвоне елочных игрушек прячется. Семен хмыкнул. Немного отпустило, и в уголках губ осталось ощущение улыбки. Тяжелые ботинки вновь месили растекшуюся вязкую жижу, в свете фонаря она казалась серой, с едва уловимым розоватым оттенком. Семен брел дальше, отгоняя мысли о железной глотке, наполняющейся слюной. О пищеводе какого-то грандиозного существа и волнах желудочного сока, медленно захлестывающих одинокую человеческую фигурку. Стали попадаться пустые выскобленные каюты – никаких признаков жизни. Семен заглянул в казарменный блок, свет пробежал по рядам спальных капсул, некоторые оказались разбиты. В углу валялась помятая голая пластиковая елка. Трупов не было. Пришелец не показывался. Образы родных, собравшихся у праздничного стола с селедкой под шубой и колбасными ромашками на тарелках, давно увяли. Клонило в дрему, мутило. Что это? Усталость? Стоило передохнуть, но что-то не позволяло ему остановиться. Упаковки с пайком ощутимо оттягивали карманы, при мысли о воде подкатывала тошнота. Ствол автомата стал неподъемным, луч фонаря путался под ногами. …Когда слева проплыла дверь отцовского кабинета, Семен даже не удивился. Не замедлил шаг, и без того медленный. В далеком-далеком уголке сознания слабо и сонно ворочалось понимание: снова что-то происходит. Что-то ненормальное. Что-то плохое. Кто-то шел впереди. Семен с трудом приподнял автомат, чтобы осветить спину в белом халате. Медсестра двигалась неспешно, руки согнуты в локтях – значит, что-то несет. Блики от фонаря змеились по зеленоватой плитке, превращая тоннель в усеянную самоцветами пещеру. Коридор вновь изогнулся, блеснули ряды ампул на подносе медсестры. Опять показался вход в папин кабинет, теперь справа, плеснул желтоватым сиянием лампы, и Семен повернул голову. Отец, показавшийся вдруг очень большим, сидел за великанским столом, низко склонившись над листком бумаги, и что-то писал. Издалека донеслось эхо курантов, вспомнился старенький «Самсунг» на микросветодиодах, пульт с полустертыми значками на кнопках. Отец не поднял головы на звук. Картина эта выглядела знакомой, притягивала и в то же время отталкивала. Как и с медсестрой, за привычной оболочкой тут крылось нечто пугающее, чужеродное. Семен еле волочил ноги, а распахнутые двери с отцом и длинношеей лампой на столе плыли и плыли к нему то слева, то справа. Скрипя зубами и потея, Семен перевел взгляд на фигуру медсестры и тотчас пожалел об этом: та стала расти, надвигаться, расстояние между ними сокращалось. Он вскрикнул и приказал себе остановиться, приказал бежать прочь, только ноги не слушались. Он зарычал, замахал руками, уши заложило страшным давлением. А потом наступила темнота. Несколько долгих минут Семен стоял без движения, зажмурившись, заслонившись автоматом. Вокруг было тихо. Коленки норовили подогнуться. Чужой тяжелый сковывающий взор скользил по телу. Изучал? Ждал, когда Семен шевельнется? Семен заставил себя вдохнуть спертый корабельный воздух, тихо выдохнул, снова вдохнул, глубже. Никого там нет. Никого там не было. Галлюцинации. Он уже приготовился разлепить веки, когда во мраке влажно заворочалось, хлюпнуло и поползло. Звук удалялся. Семен без сил повалился на пол. В чувство привел промозглый холод. Разлитый повсюду кисель, поначалу утробно теплый, пропитал собой ткань комбинезона и остыл. Семен со стоном потянулся и сел. Стараясь унять дрожь, проверил оружие, включил погасший фонарь и осмотрелся. Блеснула размазанная по стенам жижа, на полу ее уровень доставал до щиколотки. Может, дело в этой склизкой гадости? Может, в ней галлюциноген? Семен макнул палец и осторожно поднес к носу: пахло болотом и сырым мясом. Он скривился и встал, осветив шахту, уходящую вдаль. И вдруг понял, что умрет здесь. Шансов вернуться на Землю попросту нет. Он сглотнул набежавший к горлу комок и, загребая ботинками густеющую кашу, побрел во мрак. Коридор ветвился, будто нора грызуна-великана. К счастью, на стенах время от времени встречались более или менее понятные указатели. Семен останавливался глотнуть воды, прислушивался, иногда возвращался, чтобы выбрать другое ответвление. Порой он видел узорчатые следы подошв, смазанные отпечатки рук, еще реже – брошенные вещи. Скомканную перчатку. Оборванную цепочку с потемневшим православным крестиком. Потом был пищеблок с грудами выжатой и порванной в клочья упаковки, тут и там красовались разноцветные брызги, бывшие когда-то едой. На глаза попалась совершенно неуместная фарфоровая кружка, белая с алым сердечком и надписью «Папа». Семен подумал об Антохе и Тишке, которых, скорее всего, больше никогда не увидит. Никогда. Семен вернулся в коридор. Казалось, он уже сотни лет блуждает по здешним лабиринтам. Оглянулся назад, всмотрелся вглубь колодца. Где-то там остались фантомы отцовского кабинета и медсестры. Говорят, спелеологи, заблудившиеся в пещерах без света, тоже рано или поздно начинают видеть всякое. Так что, может, и не нужен никакой галлюциноген? Может, и пришельца давно нет? Может, Семен несчастной контуженой сомнамбулой плутает здесь все девять дней, то приходя в себя, то вновь теряя связь с реальностью? Никогда в жизни он так не мучил себя сомнениями. Путь продолжался. Семен отыскал грузовые отсеки и разглядывал работающие сенсорные панели у дверей. Некоторые оказались заблокированы. На одной отпечатались папиллярные завитки чьих-то окровавленных пальцев. Что-то там было за двумя листами прочного титана. Индикаторы путались в недоумении. Что за груз: неизвестно. Объем: неизвестно. Температура: под сорок. Вес: больше тонны. Неожиданно на короткий миг в коридоре врубились встроенные светодиоды. Перед глазами зарябило, Семен поморщился. Спустя несколько секунд снова ослепительно вспыхнуло, поморгало и угасло. – Ладно, – буркнул Семен, ткнул пальцем в чужой отпечаток на панели и тотчас отступил, вцепившись в автомат. Мощные двери разъехались в стороны. Ничего. Тьма в отсеке была непроницаемо плотной. Она молчала, ждала, пока Семен тоже молчал и ждал с ощетинившимся мурашками загривком, а затем сипло и жарко вздохнула. Что-то заскреблось неподалеку, потом завозилось в глубине. Задышало справа, хрустнуло суставом слева. Семен было сделал шажок к проходу, но, вслушавшись, отошел еще на два. Свет фонаря скакнул в проем, запрыгал по каким-то синюшным змеям. Выхватил из мрака человеческое лицо, искаженное мукой. Раскрылись глаза, стеклянные радужки, точки зрачков, рот медленно вытянулся в большую черную букву «о», в бездне которой затерялся крик. Отсек озарился до боли яркой зарницей, освещение помигало и заработало в полную силу. Семен выматерился. В желудке мерзко бултыхнулись остатки пайка. Казалось, все помещение шевелится. То тут, то там бледными лилиями распускались кисти рук. Куски туловищ дрейфовали по стенам, по потолку. На полу изгибалась гусеница кишечника, рядом из бугра плоти, жадно хватая горячий воздух, выпирали губы. Пульсировали сердца, топорщились соски, вращались глазные яблоки. Десятки органов и конечностей налипли на паутину алых жил и синих вен, покрывшую собой всю внутреннюю поверхность просторного грузового отсека. Обнаруживая знакомые лица, Семен зажимал себе рот ладонью. Он крутил головой, опасливо ступая меж раскинувшихся мышц. С кем-то из этих людей он был едва знаком, с другими прошел не одну горячую точку на Земле. Когда-то они могли угостить сигаретой, могли поржать над тупой шуткой, могли выпить, могли прикрыть, а теперь только пыхтели и пускали слюну, провожая безумными взглядами. Вряд ли в них осталась хоть толика рассудка, хоть толика личности, но они продолжали чувствовать, Семен был в этом уверен. Они страдали. Спустя несколько минут Семен отыскал нечто, напоминающее Хала. Они никогда не были друзьями. Почему же именно его голос звучал в темных коридорах корабля? Сейчас прапорщик не в силах был вымолвить ни слова. Знакомые татарские черты свалились в монструозную потливую груду, всхлипывали и кривлялись. Семен отправился дальше. Он щурился. Едкий жар пытался стереть слизистую оболочку с глаз, сдавливал череп в тисках. Автомат как будто стал тяжелее. И не было чертовых патронов, чтобы помочь кому-нибудь… чтобы прекратить все это… Не бить же их прикладом!.. Семен размазал соленую влагу, выступившую на лбу, сбегающую по вискам и переносице вниз. Споткнулся. Нога увязла в тугом хитросплетении кишок, ладони угодили в мягкое, под левой, кажется, растекалась распаренная мошонка с редкими волосками, под правой лопнул скользкий пузырь желудка, расплескав янтарный пищеварительный сок. Семен запаниковал, забарахтался. Показалось: если сейчас не встанет, трясина из мяса уже не отпустит, сожрет и растащит по кусочкам. – Святый Боже… – зашептал Семен прерывисто, стараясь подняться. – Я вернусь… Обязательно… Я вас тут не оставляю… Честно… Господи… Он не знал точно, к кому обращается, и пытался вообще не смотреть подолгу в эти физиономии, обезображенные, хлопающие рыбьими ртами, пучащие бессмысленные буркалы. Наконец сумел-таки встать и, подхватив выроненный «калаш», поспешил обратно. Под подошвами ботинок все разъезжалось, скользило, но Семену удалось сохранить равновесие. Добравшись до выхода, он оглянулся. Хотел было еще раз сказать, что вернется, но не стал. Стукнул по сенсорной панели, запечатывая дверь. Наступила тьма. Патроны. Гранаты. Что там еще было? Как насчет огнемета? Нужно найти все. Пули эту дрянь не берут, но все лучше, чем пустой автомат. Сейчас Семен был бы рад даже простому армейскому ножу. Он почти бежал, не замечая, с какой силой сжимает рукоятку АК-12М, не замечая дрожи во всем теле. Сердце раздвоилось и стучало теперь не только в груди, но и в голове, колотилось в висках, грозя проломить тесную черепную коробку. Он продолжал изучать индикаторы на панелях у грузовых отсеков, но от пережитого потрясения плохо понимал, что там высвечивалось. Понемногу мысли стали приходить в порядок, теперь он испугался, что вновь заблудился или пропустил нужный отсек. Хотел было вернуться, но не стал, не решился. Оставил автомат стоять прислоненным к стене, а сам достал воду. Ее оставалось всего ничего. Промочив горло, постоял немного, глядя назад. Конечно, этот бурлящий суп из людей не преследовал его, но все равно оставался там, позади, противоестественный, неправильный. Нельзя человеку видеть такие вещи. Таких вещей вообще не должно существовать. Нигде, ни в одной точке вселенной. Спину под комбинезоном лизнул холодок, будто взглядом кто-то коснулся. Кожу осыпало мурашками. Семен поежился и оглянулся вокруг. Нельзя стоять на месте. Он подхватил автомат, осторожно сделал шаг, потом другой, и поспешил прочь. Когда слева что-то тяжело заелозило за переборкой, Семен пошел еще быстрее. Металл выгибался, грохотал под огромным весом. Прогремело над головой, сползло вправо. Это уже было! Значит, оно всегда где-то рядом держится… Так чего же не сожрет? Чего не бросит в это свое варево? Он выскочил на перекресток. Можно было пойти направо или налево: в обе стороны убегали ряды сенсорных огоньков. Впереди тоже горел один, горел красным. Значит, отсек за ним забит под завязку. Возможно, чем-то опасным. Семен хотел было шагнуть ближе, но, услышав шум справа, отступил. Едва успел выключить фонарик, имело это смысл или нет. Накатила вонь, смесь железа и чего-то гнилого, мокрый от внезапного пота лоб обдавало волнами горячего смрадного воздуха. Сияющие окошки экранов на противоположной стене то исчезали, то загорались вновь. Нечто двигалось в темноте – руку протяни и коснешься. Громко перекатывалось, чвакало. Семен стискивал зубы, борясь с приступами паники и тошноты. В каких-то сантиметрах от него по тоннелю несся поезд из мяса. Беззвучно ударила молния – включились светодиоды на стенах. Видит бог, Семен не хотел смотреть, но и зажмуриться не посмел. Блестящая влажная плоть текла по коридору. Освещение заморгало, атакуя взор Семена слепяще-яркими черно-белыми снимками. Увитое паутиной сосудов тесто сбивалось в трепещущие судорогой комки, разжималось, выплевывая себя вперед, и непрестанно, отвратительно менялось. Всплывали наружу пульсирующие мешки каких-то органов, проплывали мимо толстые слоновьи ребра, выпирающие из требухи воинственными рогами, будто та просто не удержалась на них и сползла вниз. На сколько метров растянулось это чудище? Сначала кости стали ниже, затем тело сузилось и наконец оборвалось. Световые панели продолжали мигать, засеивая бликами размазанную повсюду слизь. На ватных ногах Семен прошлепал до алеющего индикатора, привалился к титановым листам запертой двери. Несколько минут потребовалось, чтобы уяснить, что там высвечивалось на экране. Казалось бы, ничего сложного, только мозг Семена висел и никак не перезагружался. ИАО-9? Откуда это здесь? Они ведь не успели ничего собрать. Да еще так много… Семен потыкал в панель, двери разъехались в стороны. Врубилось освещение грузового отсека. Вернулся ужас, безотчетный, сокрушительный. Вдаль ускользали ряды громадных контейнеров, каждый с красным предупреждающим глазком. Полные. Опасные. Семен зажмурился. В голове будто переключилось что-то. Семен оставил автомат прямо здесь, у выхода из грузового отсека, чтобы не мешал, а сам бросился по коридору направо. Он успел заметить отсеки с боеприпасами, но сейчас стало не до них. Потом была шахта. Семен потел и карабкался вверх, проклиная свое измученное тело и гравитацию. Он ненавидел невесомость и не понимал, даже не верил тем, кто находил кайф в этой противоестественной легкости. Его то крутило тогда, то переворачивало вверх тормашками, и невозможно было убедить себя, будто все это только чудится. Башку раздувало от давления, а в полостях туловища причудливыми морскими жителями ползали, свиваясь, путаясь, внутренние органы и корабельная еда. Он ни с того ни с сего вдруг проваливался в бездну, барахтаясь и стараясь ухватиться за что-нибудь, найти опору, ненавидя паническое чувство своей абсолютной глупой беспомощности, ненавидя невесомость. И вот теперь Семен с сожалением вспомнил о том времени, когда мог просто оттолкнуться от стены и пролететь по этому коридору до самого первого уровня. В своей неожиданной решимости он остался без фонаря. Впрочем, может, и к лучшему? Кое-где мерцали огоньки, которых хватало, чтобы ухватиться за очередную вмонтированную скобу, а мгла скрадывала головокружительную глубину шахты. Добравшись до первого уровня, Семен присел на краю, чтобы отдышаться, и попытался вглядеться вглубь темного колодца. Ни единого звука. Откуда тогда это назойливое ощущение чужого взгляда? В десятке метров ждала боевая рубка. Семен боялся увидеть ее уничтоженной, выведенной из строя, однако двериуслужливо распахнулись, и гостя встретило уютное золотистое сияние мониторов. Основное освещение не работало, но и россыпи огромных плоских экранов вполне хватало. На некоторых из них бежали столбцы цифр, плясали диаграммы, выстраивались звездные карты, на других же расцветало нечто оранжевое, неоднородное, будто кипящий апельсиновый сок, превращающийся в газ. Попытки разобраться в показаниях приборов не увенчались успехом. Потратив на них полчаса, Семен бухнулся в кресло, уставившись в один из мониторов. Сначала внимание привлекли подсохшие разводы и брызги слизи на поверхности экрана, потом само изображение. Мандариновые облака бурлили, сталкивались и расползались, приоткрывая едва различимую узорчатую сетку… Семен подался вперед. Строения. Возможно, дороги. Возможно, что-то еще. Он поискал экран с изображением покрупнее. Словно под микроскопом, в густом оранжевом тумане угадывались смутные силуэты амеб. Только это были не одноклеточные, это были существа вроде того, что ползало сейчас по звездолету. Накатила тошнота, Семен отстранился от приборных панелей, скривившись, сглотнул кислую слюну. Это была планета. Их планета. Этих уродливых тварей. Он опустил голову, закрыв лицо ладонями. Значит, пришелец не терял времени даром. Он изучал чужие технологии, разбирался, как работает термоядерный двигатель, как направить захваченное судно к своему дому. Но разве можно добраться до другой звездной системы за какие-то девять дней? Нет, конечно, только никто ведь так и не понял, как неизвестный корабль оказался вдруг в поясе Койпера. Что-то они знали, эти существа, о путешествиях в космосе, что-то такое, чего земляне еще не поняли. И вот «Шаталов» уже нависает над оранжевой планетой, а на борту такая масса ИАО-9, что можно потом вернуться и без труда снести Землю к чертям собачьим. Оставшиеся где-то немыслимо далеко-далеко Тишка и Антон сейчас мешают маме накрывать на стол и, даже испорченные телевизором и Интернетом, все равно с азартом ждут курантов, в звоне которых всегда прячутся обещания чего-то таинственного и сказочного. Чего-то, заставляющего поверить: вот прямо здесь и сейчас все возможно, любая мечта может исполниться, а впереди – загадочное и яркое бескрайнее будущее. Разве может быть так, что это будущее совсем не наступит? Никогда-никогда? Семен всхлипнул, оторвал ладони от лица и протяжно выдохнул. Пошло оно все. Он поднялся и поковылял к выходу. Что теперь делать? План, простой, грубый и бескомпромиссный, сам собой оформился в голове. Наверное, можно было покумекать и родить что-то получше, только Семен боялся долго раздумывать. Решился – делай, и пошло оно все. Он громко сморкнулся, сплюнул и утер слезы, угнездившиеся в морщинках, что расползались от уголков глаз. Пошло. Оно. Все. Вновь оказавшись в коридоре, Семен свернул было налево к шахте, но тотчас остановился. Ни единого проблеска впереди. За спиной с шелестом закрылась дверь в боевую рубку. Семен пересилил себя, сделав пару шагов, и тогда впереди, метрах в семи, отрывисто перемигнулись световые панели. Монстр. Он был там. Свернулся грудой серого мяса с белыми иглами костей, торчащими вверх. Блики скакнули по влажным сгусткам мышц, скользнули по остриям ребер и угасли так же внезапно, как и появились. Вернулся непроглядный мрак. Все-таки пришла за мной, сука, подумал Семен. Так долго ползала где-то рядом. Делала вид, будто не замечает. Играла, что ли? Впереди завозилось. Семен осторожно отступил. Неисправные светодиоды вновь подали признаки жизни: по коридору прошлась короткая ломаная волна вспышек. Чудовище выжидало. Не просто наблюдало – готовилось к прыжку. Семен почувствовал себя слабым тонконогим детенышем какой-нибудь антилопы, поднявшим голову над ручьем и заметившим вдруг желтые хищные глаза смерти в высоких сухих зарослях неподалеку. Пусть и не было в этом месиве никаких глаз. И снова припадок стробоскопа. Зверь прыгнул. Живая масса хлынула по тоннелю, стремительно преодолевая расстояние, отделяющее ее от неуклюже пятящейся жертвы. Удар. Пришельцу оставалось еще несколько метров, но Семен заранее почувствовал, как тот врезается в него, сминая слабое конвульсирующее сознание. …Семену вновь восемь. За спиной в сумеречной глубине квартиры мама гремит праздничным фарфором, а старенький «Самсунг» фонтанирует пресными тостами и яркими конфетти. Семен крадется к приоткрытой двери в отцовский кабинет. Осторожно заглянув внутрь, видит папу, восседающего за мглистой скалой письменного стола. Голова низко опущена, шариковая ручка скрипит, будто вот-вот расколется от нажима. Папа, преподаватель в институте, скромный ретроград, почти не пользуется компьютером и много пишет от руки. А еще очень не любит, когда ему мешают, не ругает – наоборот, молчит, укоризненно, разочарованно. Поэтому Семен не решается подать голос, стоит, вцепившись в дверной косяк. Издалека доносится голос мамы, тихий и интеллигентный, как она сама. Отец будто не замечает ничего, только слышно, как он вздыхает и, кажется, даже как хмурится. В голове Семена часы отстукивают последние минуты, а потом «Самсунг» взрывается раскатами кремлевских курантов. Только тогда папа поднимает голову, и восьмилетний Семен становится вдруг еще меньше, сжимается от ужаса, потому что вместо лица у отца беспросветно черный провал. Семен кричит и хочет убежать, но… Вал сокращающихся жил и кишок докатился, опрокинул и впечатал в пол. Из легких вытряхнуло воздух, ребра взвыли, Семен скорчился от боли. Попытался взбрыкнуть и перекатиться в сторону, но текучая липкая сила тотчас приложила затылком о металл. В голове разлился давящий свинцовый гул, несущий с собой минутное забытье и голоса. …Мягким хлопкам салюта отвечает раскатистое многоголосое «ура», ночь за окном окрашивается сиреневым, потом зеленым и алым. Семен крепче хватается за гладкие бедра Рамили под задранным медицинским халатом, вновь глубоко вколачивая себя в ее жаркое влажное нутро. Снаружи доносятся приглушенные взвизги петард, свист и хохот, пока они с Рамилей прячутся в одном из кабинетов госпиталя, не зажигая свет, чтобы не спалиться. Письменный стол с заваливающейся стопкой медкарт сотрясается от ритмичных движений. То тут, то там едва заметно поблескивает мишура. Семен тянется, чтобы поцеловать Рамилю, но не находит ее губ в темноте. Только веет вдруг сырой червивой землей и гнилью. За окном полыхает серебром, и Семен видит перед собой Рамилю с черной ямой на месте лица. Она так близко, что можно различить комочки почвы по краям. Голоса на улице стихли. Семен кривится, вагина Рамили уже не кажется горячей, но остановиться он отчего-то не может. Только скрипит зубами, стараясь отстраниться от пропасти перед глазами… Бороться нет сил и смысла. Инопланетная тварь нависла над распластанным телом Семена, прижав руки и ноги к полу. Откуда-то справа сполохами проникал электрический свет. Видно было, как потроха монстра змеятся в десятке сантиметров от лица. Что-то склизкое коснулось щеки, двинулось к глазу, еще что-то скользнуло по подбородку… Семен зажмурился, дернулся влево, вправо – бесполезно. Дюжина длинных слюнявых языков сошлась на лбу, стала щекотать, вылизывать кожу и волосы так старательно, будто пыталась разъять плоть и кость, докопаться до самого мозга. Семен уже не увидел, но ощутил, как туша над ним задрожала, судорожно вздуваясь, будто вот-вот взорвется. …Оглушительным каскадом рвутся светошумовые гранаты. Понятно, что взрывной волны не будет, но пальцы все равно впиваются в обшивку консоли, за которой укрылся Семен. – Сержант? Семен дергается. Встретившись с ним взглядом, Халилов ловко, прижимаясь к полу, плывет ближе. Скалится хищно: – Сержант, патроны есть? Будто оглушенный, не задумываясь, Семен хлопает по карманам, вытягивает из подсумка магазин и передает Халу. Запоздало доходит: последний. В автомате пусто. Только какая теперь разница? В исследовательском отсеке еще раздаются отрывистые очереди, но главным, все подавляющим звуком становится хор, сотканный из криков боли. Семен еще не понимает, что, отдав последний магазин, подписал Халу смертный приговор. Зато себе, наоборот, продлил жизнь. Его трясет. Не в силах вымолвить ни слова, он пялится на сослуживца. Тот уже перезарядился, в глазах пусто, лицо перекошено от сардонической острозубой улыбки. Кожа на переносице раскрывается, бескровная ранка растет, чернеет кариозным дуплом. Лицо Хала медленно проваливается внутрь себя, в бесконечную непроглядную могилу, и Семен чувствует притяжение, чувствует, как его засасывает туда. Массивное чудовище отпрыгнуло, откатилось, словно от удара. Рванулось вправо, дернулось влево, зацепив потолок. Кто-то невидимый продолжал дубасить гадину, отгоняя все дальше. Семен разомкнул веки, но так и лежал, не пытаясь подняться. Только тело само едва заметно воспарило над полом от слабого толчка, порожденного дыханием. Свет бился в лихорадке. Вернулась невесомость. Когда Семен полностью очнется, о пришельце будут напоминать только пузыри жижи, витающие тут и там. Плыть по коридору будет до жути странно. Движения покажутся неправдоподобно легкими. И это удивительное неуютное ощущение в голове… Будто снесло верхушку черепа, и теперь в открытой костяной чаше с обнаженным, выложенным мясной чувствительной подкладкой нутром гуляет ветер. Хорошо, что план действий он наметил заранее. Теперь оставалось только перемещаться на автопилоте от пункта «А» к пункту «Б». Нужно было спешить, но Семен не мог заставить себя двигаться и мыслить быстрее. Он спустился по шахте, подобрал автомат с фонарем и вновь обыскал грузовые отсеки. Оружие, патроны, взрывчатка – все было здесь. Затем он вернулся еще дальше, в казарменный блок, где дожидалось брошенное перекати-поле искусственной елки. Нашлась-таки работа для подрывника. К счастью, выполнять ее тоже можно было на автопилоте. Скрепляя заряды, Семен почти радовался: пальцы сами все делали. Иногда из глубины звездолета слышались гулкие отзвуки ударов и скрежет. Монстр продолжал буйствовать. Семен настороженно прислушивался, а когда эхо стихало, снова брался за дело. Выщелкивая лишние патроны из магазина, он думал об отце. Тот всегда существовал как-то отдельно, за прозрачной стеной, в коконе своего тесного кабинета. Таинственный каменный идол в золотистом ореоле настольной лампы. Лет в двенадцать Семен забрался-таки в святая святых и заглянул в отцовские бумаги. Оказалось, тот не писал книгу, не вел дневник. Он оставлял предсмертные записки. Редактировал, переписывал их по многу раз, годами, и никак не решался поставить точку. Идол пал. Спустя десять лет, после похорон матери, Семен перестал заходить домой, бросив старика наедине с его письменным столом. Как же осточертели эти прожорливые металлические глотки тоннелей! Скоро он вырвется… вырвется отсюда… От этой мысли Семен нервно хихикнул. Магазин с единственным патроном внутри с хрустом вошел в окошко ствольной коробки АК-12М. Больше-то и не надо. Он всегда любил Новый год. Спасибо маме, конечно. И в семью верил только благодаря ее терпеливым тихим стараниям. Новый год – это обязательно в кругу семьи, за одним столом. Так он считал и неизменно старался в конце декабря побыстрее попасть домой к Машке и сыновьям. Бывало, что не получалось. Как в тот раз, когда после учений очутился в госпитале. Ну, обожгло чуть-чуть ногу по глупости, замяли же, можно было б и на гражданку отпустить, но не отпустили. А тут Рамиля. Никакая не медсестра, конечно, а вполне себе докторша. Как все получилось? В январе он от нее уезжал, будто летел, невесомый, улыбчивый. Только через год услышал разговоры: бывший муж, тоже военный, вывез в лес и зарубил. Ревновал, говорили. Семен тогда изо всех сил делал вид, будто его это все не касается. Да и впрямь разве касалось? Семен в последний раз взлетел по шахте, когда внизу во тьме почудилось движение. Он напрягся, вглядываясь и вслушиваясь, как мог, а потом голова вдруг качнулась назад, как от увесистого тычка. Боль. Она наполнила череп, хлынула по хребту, кипящими ручейками прыснула по плечам, пропитав собой все до самых кончиков пальцев. Стиснутые зубы едва не хрустнули от давления. Семен слабо оттолкнулся от пола и после нескольких минут дрейфа со смеженными веками облегченно выдохнул. Его неторопливо несло к командному пункту. Он отчего-то даже не сомневался: это была не атака. Это было похоже на крик. Оно страдало. Вспомнилось вдруг, как Семен висел в воздухе в разгромленном исследовательском отсеке, а вокруг тихо циркулировали изрешеченные собственными пулями тела солдат. Совсем недавно братья по оружию. Должно быть, в этом все дело – в оружии. Инопланетное создание пощадило Семена, потому что он был безоружен. Усыпило, оставив на потом. Вот кто заботился о нем все это время! Колдовал над телом, чтобы привести в порядок после мышечной атрофии. Не давал умереть от жажды и голода. Да, пришелец не терял времени даром. Изучал чужие технологии, разбирался, как работает термоядерный двигатель… Разбирался, как работают люди. В буквальном смысле. Разбирал их на части. Затем пришел черед понять, насколько они разумны. Как мыслят. Способны ли на контакт. Может быть, сначала в ход пошел кто-то из экипажа? Наверняка ведь нашелся кто-нибудь еще, не оказавший сопротивления. А может, Семен был единственным, кого пощадили. В любом случае, пришел его час. Словно лабораторная крыса, он носился по стеклянным лабиринтам, подбирая разложенные кусочки сыра. Тварь даже воспользовалась своими причудливыми способностями, чтобы создать для него комфортное ощущение гравитации, несмотря на то, как это сказалось на ней самой. Вряд ли вылезшие наружу кости – это нормально. Не обращая внимания на неудобства, тварь запускала щупы в его разум. Зацепила что-то в мутной воде воспоминаний, выудила из шкафа один скелет, другой, и продолжала тянуть все сильнее, пока не вывернула сознание наизнанку, не окунулась в омут чужой личности. И это ей не понравилось. Не понравилось намного больше, чем пули и гранаты. Измотанный, нервный, Семен пристегнул себя к одному из кресел в центре управления. Поерзал, вытянул ноги. Впереди на возвышении среди экранов пристроилась невысокая искусственная елочка, кое-как украшенная парой найденных игрушек и электрической гирляндой. Интересно, чудище уже понимает, насколько особенная сегодня ночь? Управление строением собственного тела, манипуляция силой притяжения, телепатия – эти амебы с оранжевой планеты умели делать невозможные вещи. Но понять мышление настолько непохожих на них существ, увидеть вселенную чужими глазами и, самое странное, увидеть чужими глазами себя, все то, что ты совершил… Кажется, даже для таких совершенных существ это могло быть чересчур. Семен чувствовал пришельца, его замешательство, чувствовал, где тот находится. Будто расстояния между ними теперь не стало. Руку протяни – коснешься. Только он не хотел протягивать руки. Не хотел, чтобы с ним случилось то же самое, не хотел захлебываться в чужом мировосприятии. Боялся, что поймет эту тварь и передумает. Под елкой вместо коробок с подарками мерцал крошечный дисплей его наручных часов, а на нем цифры таймера, ведущего обратный отсчет. Час и двадцать шесть минут до полуночи. Губы Семена тронула кривая улыбка. Может, глупо, но впервые за всю службу подрывником захотелось вот так, как в кино, с дурацким таймером на детонаторе. Да и для кого ему было раньше оставлять такие прибамбасы? Для противника, которого приказано ликвидировать? Чтобы тот, если вдруг найдет заложенную взрывчатку, сразу узнал, сколько ему осталось? Очень мило, конечно. Семен хихикнул, раз, другой… да так и застыл, осклабившись. Челюсти сжались, будто судорогой свело. В горле клокотало, рвалось сквозь зубы что-то нечленораздельное, то ли рыдание, то ли хохот. В тысячный раз Семен подумал о родных, представил себя сидящим во главе праздничного стола. Представил, как лица жены и детей исчезают, разъеденные отметиной смерти, словно в тех видениях. Нет уж. Нет. Не будет этого. Пошло оно все, так ведь? Взмокшие пальцы поудобнее обхватили автомат, прижатый к груди. Семен не знал, чего хотят пришельцы, и знать не хотел. Ничего хорошего, это точно. Во всем разобраться пытаются, все понять. Контакт наладить? Им же дороже выйдет. Корабль вот-вот начнет падение на их планету. Можно было бы довериться гравитации – с таким грузом на борту больше ничего и не потребуется. Только они ведь помешать попытаются небось. Поэтому надо наверняка. А если тварюга внизу или кто-то еще полезет в разум Семена, чтобы узнать, что он задумал… Ствол автомата уперся в натянутую платизму на стыке между подбородком и горлом. Большой палец правой руки погладил скользкий спусковой крючок. Семен прикрыл веки, дав отдых усталым глазам. Какая же долгая новогодняя ночь… Незримый груз мягко опустился на грудь, будто кошка легла. Руки понемногу вжимались в подлокотники. Где-то там в титановых внутренностях судна снова забеспокоилось инопланетное существо. Хотя какое же оно инопланетное, раз его планета тут, совсем рядом? Оно потянулось к командному центру, слишком медленно, чтобы успеть. Подушечка пальца все сильнее вдавливалась в пластинку спускового крючка, противостоять этому становилось все сложнее. Глаза Семена были закрыты, но он видел елку. Сияние гирлянды сочилось сквозь тонкую кожу век, остальное дорисовывала фантазия. Калейдоскоп тонких веточек, россыпь гибких изумрудных иголок, искристость мишуры, игрушки, золотые, алые, поблескивающие, несколько старых, слегка облупившихся, от родителей остались, из детства. И не было сомнений, здесь и сейчас все возможно, любая мечта может исполниться. Семен загадал: пусть они все умрут. И не надо разбираться, кто первым начал, кто больше виноват, кто больше чудовище. Пусть умрут. Пожалуйста. Семен всегда любил Новый год.
Александр Дедов. Шайтанам не будет праздника

I. Подарочек
Он до сих пор помнил, как пахли волосы дочери: пшеница и жимолость. Спустя столько лет запах почти не изменился. Голова Лейлы лежала у него на коленях. Отрезанная голова… Расул запустил трясущиеся пальцы в волнистые темно-каштановые локоны. Лицо дочери было удивленным и таким взрослым; он помнил ее еще совсем малышкой. В ногах лежала подарочная коробка в новогодней зелено-красной расцветке. На самом дне, завернутый в полиэтилен, покоился новый мобильный телефон – дорогущий с виду. – Не надо, Расул! – чуть поодаль стояла зареванная мама, невысокая полная женщина. Она безуспешно пыталась стереть с лица бесконечный поток слез. – Не надо! Аллах не простит… Он посмотрел на мать строго; его взгляд обжег холодом, и несчастная женщина как рак попятилась к дверям. – Аллах не простит! Не смей! Аллах не простит! – Мама уже не плакала – выла. Расул громко зашипел; мать замолчала, тихонечко всхлипывая где-то на кухне. – Дай силы, Эштр! Помоги! – Расул прерывисто выдохнул и приложил растопыренную пятерню к затылку Лейлы. Голова дочери дернулась. Беззвучно раскрылся рот, ресницы запорхали как крылья бабочки, большие орехово-зеленые глаза уставились на отца. – Папа! – синюшные губы шептали едва слышно. – Шайтаны забрали маму, шайтаны забрали Айшат! Они… Велели передать. Ты… Им нужен… Папа, забери мое тело… Забе… – Голова что-то прохрипела напоследок и затихла. Вывалился набок синюшный язык, закатились глаза. Благословение Эштра без крови всегда было коротким. Пытаясь унять дрожь, Расул достал из коробки мобильник, затем положил в нее голову дочери и убрал в морозилку. Мать, провожающая убитым взглядом каждое движение сына, болезненно дергалась, пока Расул шумно пристраивал «подарок» в одну из ледяных камер. – Мы сейчас идем в мечеть, и ни за что – слышишь? – не выходи оттуда, пока я не вернусь! Мать запричитала по-ингушски. В ее глазах плескалось горе. Они шли по неровным, но оттого живописным улицам родного аула. Казалось, что окруженный древними ингушскими башнями Галаш-юрт застрял во времени: немногочисленные каменные дома, уютные дорожки, пересыпанные щебнем, горы и бесконечная белизна заснеженных склонов! Только здание мечети из красного кирпича не вписывалось в общую картину. Когда-то Расул построил эту мечеть на свои деньги, и теперь местные молились у себя дома, а не ездили на праздники в Джейрах. – Ас-саляму алейкум, Расул! Вижу, что-то стряслось. На Марьям лица нет. – Имам встретил их на пороге мечети. – Ва-алейкум ас-салам, Ибрагим-хазрет. Долго рассказывать… Да и не хочу, старая жизнь… Вот что, – Расул протянул имаму тугую пачку пятитысячных банкнот, – здесь хватит на все про все. Нужно присмотреть за мамой. Я должен уехать ненадолго… Не могу всего рассказать, но я прошу вас, Ибрагим-хазрет, разрешите моей маме это время пожить в мечети. Они… Не посмеют зайти в святое место! – Убери деньги, Расул. Ты и так нам очень помог с мечетью! Сколько надо, столько и присмотрю за Марьям. Что за загадки? Каким злым людям ты умудрился насолить, кого мы должны опасаться? – Если бы это были люди, Ибрагим-хазрет… Прошу вас, не выходите из мечети! Я привезу продуктов и воды.II. Старые знакомые
Закончив с продуктами для имама и матери, Расул прыгнул за руль своего старенького УАЗа «буханки». Трясущейся рукой достал из кармана «подаренный» мобильный телефон, включил. Залез в список контактов, где оказался один-единственный номер. Набрал его. – Ну, салам тебе, Расул, – раздался с той стороны противный скрипучий голос. – Вот уж не думал, что спустя столько лет тебя услышу. Руки, кстати, до сих пор болят… – Шейфутдинов, шакал ваххабитский! Когда мы виделись крайний раз, ты лежал на дне ущелья с простреленной башкой. – Все так, Расул, все так, дорогой! Но Визирь посчитал, что моя миссия на этом свете не завершена. Ты помнишь, какие у меня были руки? Красивые, белые руки! Помнишь, как ты наживую отпилил их лобзиком? Я вот отлично помню… Уж давно новые отросли, а я все забыть не могу. – Надо было тебе еще и хер с яйцами оторвать… – Кончай ерничать. Я тебе сейчас скину геолокацию, и ты непременно приедешь. А не приедешь, мы тебе еще подарочков пришлем: головы жены и младшей дочери прекрасно дополнят твою коллекцию. Мобильник пиликнул, на экране сам собой открылся GPS-навигатор: до цели три с половиной километра. Проехать на машине удалось лишь половину пути: слишком много снега! Дальше пришлось идти пешком, пробираясь сквозь полуметровые сугробы. Расул был уже не молод, но опыт и выдержка помогали преодолеть это препятствие пусть и нелегко, но уверенно. GPS пропел «Конец пути». Впереди, уютно расположившись промеж двух разлапистых сосен, стояла армейская палатка. Вокруг – ни отпечатков ног, ни следов от лыж: ничего. Будто брезент сам собой вырос из снежной толщи. Расул отодвинул край полога и, пригнувшись, шагнул внутрь. Здесь горел электрический свет, пол и стены, облицованные голубой керамической плиткой, сияли чистотой. Столь просторное помещение явно не могло быть частью палатки размером полтора на три метра. Расул потрогал языком фальшивый зуб: в войну он очень боялся попасть в плен, поэтому пришлось разок смотаться в Швейцарию и заказать себе зубной протез с капсулой яда внутри. Всего один сильный укус – и до свидания! Ингуш прикидывал шансы попасть в руки врага; очень не хотелось соваться в логово шайтана, но ситуация диктовала свои условия. – Не топчись в сенях, дорогой, – раздался голос Шейфутдинова, – я тебя жду. Расул сглотнул, по привычке сунул руку за пазуху, чтобы потрогать рукоять «Стечкина»: на месте, родненький! – А вот стрелять я тебе не рекомендую, – словно прочитал его мысли ваххабит, – это место – мой дом, здесь убивать – харам. Убьешь меня – умрешь сам. Не сразу, конечно, но проклятие добьет за два-три дня. Хватит трястись, как рассерженный барсук! Заходи уже. Утомил. Расул прерывисто выдохнул, уверенно зашагав к единственной двери в конце сеней. Дернул за ручку… Внутри оказалась просторная комната без окон. Ковры на стенах и полу были расшиты серебряной арабской вязью: суры. В центре комнаты, сидя по-турецки, пил чай Шейфутдинов. Расул помнил его красивым поджарым татарином, но существо перед ним лишь отдаленно напоминало человека: кожа – словно потрескавшаяся бело-голубая мозаика, из трещин рвется наружу нездешний огонь. Правый глаз остался неизменным, но из левой глазницы вырывался слабенький язычок пламени. И руки… Похожие на лопаты уродливые отростки на удивление ловко обходились с крошечными пиалой и чайной ложечкой. – Я сам еще не привык. Визирь слепил меня заново, – сказал Шейфутдинов, пожав плечами. – Теперь я наполовину ифрит. Мог бы и целиком ифритом стать, но тогда эти ковры с цитатками из Корана и меня лишали бы сил. Мы здесь на равных: ты не сможешь колдовать – я не смогу колдовать. Садись, выпей чаю. – Мне некогда чаевничать с джиннами. Не тяни кота за яйца. – Расул, Расул… Не ценишь традиции! Ты мой гость, а я здесь хозяин. Таковы правила. Выпей чаю и выслушай. Уверен, мое предложение придется тебе по душе. Расул разулся и сел чуть поодаль от полуджинна, так и не притронувшись к предложенному чаю. – Скоро Новый год, – Шейфутдинов с удовольствием пригубил из пиалы, – грань между мирами истончится, и мы сможем ее разорвать! Я и мои люди: мы хотим вытащить Визиря. Но чертовы сирийцы, русские и американцы решили устроить нам темную. Еще куча наемников понаприезжала: за бабки готовы хоть с мамой родной воевать. Врать не буду, сейчас дела обстоят так себе. Не удалось нам сыграть на противоречиях: нашего брата теперь и правительственные войска щемят, и оппозиция. А ведь как все недурно начиналось! Собственное государство, государство мусульман! – Не имеющее к вере никакого отношения, шайтаново ты отродье. Шейфутдинов недовольно скривился. – Никакого отношения? Это мне говорит человек, который перешел в ислам, но продолжает во сне разговаривать со старыми богами? Ты никогда не станешь частью этого мира, Расул. Ты язычник, и хоть обвешайся полумесяцами и читай суры сутки напролет, язычником и останешься. А мы что? Мы обещаем и даем людям удовольствия в жизни этой, здесь и сейчас, а не гурий и вечный кайф в посмертии. И люди идут, а когда мы победим, они и не подумают, что все это время дрались во славу Иблиса. От тебя требуется не так много: воскрешай. Ты ведь это умеешь, верно? Поднимай наших павших бойцов и займешь место рядом с Визирем, когда мы его вытащим! А уж потом… – Не будет шайтанам праздника… Нет! – Подумай хорошо, Расул. У нас ведь козыри на руках! Оставишь жену и младшую дочь умирать? Расул попытался вспомнить лицо жены, но перед глазами всплывала картина старой обиды: он возвращается из командировки раньше срока и застает родного брата на собственной супруге. Тогда Расул едва сдержался, чтобы не убить обоих. Но брата избил так, что тот еще два года ездил по больницам. И Айшат… Три года он воспитывал ее, считая, что воспитывает свою дочь. Можно было догадаться и раньше: Айшат вся в брата – рыжая и веснушчатая. Однако жизнь вынудила Расула позаботиться и о ней: чтобы устроить старшенькой Лейле безопасную жизнь, пришлось выскрести все свои банковские счета, купить квартиру в Австрии и увезти туда проклятую изменницу с ее нагуленышем. Но шайтаны таки сумели забраться и в эти, казалось бы, далекие дали. Козыри… Не было у Визиря козырей. Последний лежит в подарочной коробке, в морозильнике двухкамерного «Стинола». – Да мне насрать… – сдавленно прохрипел Расул. – Пойдем, воздухом подышим. Матерый ингуш одним ловким движением встал на ноги и тут же, вложив в удар весь свой вес, ткнул Шейфутдинова ногой в грудь. Полуджинн крякнул от неожиданности и попытался встать, но тяжелый армейский ботинок крепко прижал его к полу. – Тхы… тх… – полуджинн кашлял. – Ты сейчас делаешь охрененную ошибку! Расул обеими руками схватил нечистого за волосы и потащил прочь из этого обманчивого уюта. Снаружи охранная сила сур уже не работала, и Шейфутдинов мог применить свое колдовство. Тело полуджинна вспыхнуло, очертив контур рыжими языками пламени. От жара снег начал таять. – Стреляй, Расул! Стреляй, дорогой! Адскому пламени свинец нипочем! Расул для пробы пару раз выстрелил: пули расплавились, не достигнув цели. Не соврал, тварь! Шейфутдинов довольно зашипел. – Руки, говоришь, болят? – Расул убрал пистолет в кобуру. – Это они у тебя еще не болели… Вот сейчас заболят! Расул закатал рукава, показались на свет старые татуировки: на левом предплечье – лестница, спускающаяся в яму, на правом – желтая сумка с черепом. Годы немного подпортили четкость краев, но рисунки на коже до сих пор выглядели чертовски реалистично. Расул прикоснулся к правому предплечью и открыл сумку, запустив в нее пальцы. Он неотрывно смотрел на Шейфутдинова, пока тот не заорал как резаный. Руки полуджинна, и без того бугристые, пошли волдырями. Уродливые пальцы вздулись и лопнули, как переваренные сосиски. Кожа и мясо лоскутами слезали с культей. Шейфутдинов с ужасом наблюдал, как его новые руки оплыли двумя горками искореженной плоти, превратились в огрызки, которые когда-то оставил Расул. – Сука! Как же больно! Сука! – Шейфутдинов кричал фальцетом. Огонь вокруг тела шайтана потух, нечестивец лежал в снегу и пытался обугленными культями обнять тощие колени. Ударом ноги Расул перевернул Шейфутдинова на спину. – Передавай Визирю привет! – ствол Стечкина глазницей покойника глядел на Шейфутдинова. – Скажи, чтобы обрадовал своих шакалов в Сирии: я еду. Короткий выстрел, и все закончилось. Куда-то делась вся выдержка, пальцы снова стали ватными. Трясущимися руками Расул выудил из кармана сигареты. Щелчком выбил из пачки «Союз Аполлон» одну штучку, наклонился над Шейфутдиновым и прикурил от тлеющей глазницы. Дым немного успокоил. Выбора не было: ехать действительно придется. Возможно, удастся отбить тело дочери, привезти его в Ингушетию, пришить голову… А потом спуститься в Эл и вымаливать у владыки Эштра прощение. Возможно, он смилостивится и простит своему жрецу отступничество. Возможно, разрешит оживить дочь… Хотелось на это надеяться. Шансы призрачные, но других вариантов нет. Стрельнув окурком в кусты, Расул бросил следом «подаренный» мобильник и достал из кармана старенькую «Нокию». Пальцы забегали по клавишам: он помнил эти цифры, даже когда напивался в хлам, даже когда сидел в яме у ваххабитов; этот номер он вспомнил бы после пыток и легко набрал бы с выбитыми зубами и сломанными пальцами. – Привет, Шимон, это Расул. Я слышал, ты сейчас в Сирии. Мне нужна работа…III. Дорога в Ад
Расул не любил шумные компании, а сейчас подобралась именно такая. Вагоны поезда на Москву были буквально забиты людьми со всего Кавказа, в основном молодежью. Пестрая палитра языков, наречий и диалектов придавала поезду атмосферу старинного базара. Декабрь едва начался, а целая прорва народу уже спешила к родственникам на зимние каникулы. Расул стоял в тамбуре и курил, безучастно провожая взглядом зимний пейзаж за окнами. Зашла проводница и попыталась сделать замечание, дескать, курить в тамбуре нельзя! Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы немолодая склочная баба поспешила убраться восвояси. – Доброго дня! Сигаретки не найдется? – В тамбуре появился невысокий плотный мужчина. На такого посмотришь, и сразу ясно – десантник. Красивое и по-мальчишески курносое лицо, редеющие светлые волосы и лучистые голубые глаза выдавали рязанскую кровь. Расул молча протянул пачку. – «Союз Аполлон»! Давненько их не видел. Что, тоже тошнит от этой кутерьмы? – Я у батюшки на исповеди? – съязвил Расул. – Да не кипятись, братан, – «десантник» поднял руки в примирительном жесте. – Я тебе в душу лезть не собираюсь. Просто хочется парой слов перекинуться с нормальным человеком, а не с этими, что Новый год в начале декабря отмечают. Ненавижу этот сраный праздник. Вечно какая-то херня происходит… – И не говори. Херня… Десантник пустил кольцо дыма в потолок и задумчиво глянул на кончик тлеющей сигареты. – Я последний раз в армии отмечал, – зачем-то сказал Расул. – И я в армии. Единственное приятное воспоминание: повар тогда не стал мясо для супа крысить. И оливье было! Обожрались все. Расул рассмеялся. Ему нравилось общество таких же, как и он. Шестое чувство подсказывало, что перед ним сейчас стоит не кадровый военный, а матерый пес войны, наемник, который сделал охоту на людей своим призванием. Кажется, и «десантник» чувствовал нечто похожее. – Валера, – десантник протянул руку. – Расул. Они крепко пожали руки и оба обратили внимание на татуировки. У Валеры на правом предплечье красовался знак, похожий на перевернутую куриную лапку: руна Чернобога. – А ты не так-то прост, Валера… «Десантник» размял уголек окурка пальцами. – Югославия, девяносто восьмой. Воевал на стороне сербов. – Чечня, две тысячи шестой. Я сам по себе, но работал напрямую с федералами. Что, тоже Шимон подсобил с работенкой? – Он, родимый. А кому мы еще нужны? Другие ЧВК[113] вся эта… сверхъестественная хренотень до седины пугает, а Шимон, ну, ты и сам знаешь. Свой человек, всегда рад нашему брату-колдуну. – Ты бы так не радовался, Валера-чернобожник. Это тебе не сотня шайтанов на стороне НАТО да парочка поехавших демонопоклонников у албанцев. Слышал я, как там у вас было. Ты лезешь в очень глубокое дерьмо! Там все серьезно. – Да насрать. Дети выросли, у них своя жизнь, с женой пять лет как в разводе. И так вышло, что без этого «дерьма» мне жизни нет! Ты знаешь, кем я работаю, Расул? Школьным физруком в Нальчике! За пятнадцать, мать их ети, тысяч рублей в месяц! У меня каждый день – день сурка. Что мне терять? Пристрелят? Да и хер с ним! Зарежут? Да и хер с ним! Заколдуют насмерть? Да и хер с ним! Хоть живым себя почувствую напоследок. Расул неодобрительно цокнул и потушил сигарету. Он уважал псов войны, бойцов «колдовского круга» уважал вдвойне, но его всегда раздражала эта порода «отчаявшихся», которые ездили на войну за смыслом жизни или воевали, чтобы красиво умереть. – Любая жизнь, Валера, даже самая херовая, всегда лучше красивой смерти. Я бывал на той стороне, там нет ничего прекрасного. Только скорбь и холод. Они выкурили еще по сигарете и разошлись по своим купе.* * *
Из Шереметьево был перелет до Стамбула, там наемников подобрали люди в форме с шевронами ЧВК «Лев». Шестерых добровольцев, включая Валеру и Расула, увезли на военный аэродром в тонированном микроавтобусе, там посадили на транспортник и спустя пару часов доставили на закрытую базу в двухстах километрах от Ракки. – Ба! Старые знакомые. – На взлетно-посадочной полосе добровольцев встречал сам Шимон Лев. За тринадцать лет, что они не виделись с Расулом, этот матерый наемник почти не изменился. Разве что фигура стала еще суше, а в бороде прибавилось седых волос. – А я уж думал и не увижу тебя больше, слуга Эштра! Живым, во всяком случае. Кто тут еще у нас? Валера «Сербский», Араик «Святоша» Гаврилян, остальных не знаю. Ну, ничего. Еще будет время познакомиться. Ну, пошли по чайку сообразим, что ли? Пошли-пошли! Чего как неродные? Лев вел их сквозь жилые и нежилые помещения базы, попутно рассказывая о нехитрых особенностях местного быта. – Вы-то не первоходы, – говорил Лев, – с вами проблем быть не должно. Просто делайте что говорят, не рыпайтесь почем зря. Домой вернетесь целые или почти целые – на это стопроцентную гарантию дать не могу, – но по бабкам не обижу, нормально выйдет. Одолев крутую лестницу, спустились под землю, пересекли длинный бетонный коридор и оказались в небольшой комнатушке, доверху уставленной консервами, пачками чая, макаронами и другой нехитрой снедью. – Опыт говорит: жратву нужно хранить там же, где боеприпасы. То есть в самом надежном месте. ЦАХАЛ плохому не научит… Ну? Черный – зеленый? – Чер… – хотел сказать Валера, но не успел. Наверху что-то знатно ухнуло, затряслись балки под потолком. – Стингеры, отвечаю… – буднично сказал Лев. – Три штуки, не меньше! Эти тупорылые фанатики из ПЗРК херачат по всему подряд. Дай им микроскопы – гвозди забивать будут. Ну, пошли. Поглядим, что там к чему. Пока поднимались наверх, прогремело три оглушительных выстрела; рация Льва пронзительно зашипела, и один из снайперов сообщил, что снял трех «бородатых». – Вот суки! Точно стингеры, – Шимон смотрел на истерзанное ракетами, но все еще целое здание. – У меня тут котельные по всей базе. Повезло: это мои ПЗРК, бракованные. Бородатым продал шлак, который и на тлеющую сигарету наведется. Невдалеке от кирпичного здания котельной, прижав колени к груди, с боку на бок перекатывался окровавленный человек. – Они… Я видел! Они стреляли по казармам, но ракеты по котельной ушатали… – Ну че, бывает, – Лев пожал плечами и потянулся за рацией. – Фельдшера к третьей котельной, живо! – Шимон выключил рацию и широко улыбнулся, похлопав по плечу Расула. – С возвращением домой!IV. Опыт не пропьешь
– Ну, Сербия, чего умеешь? – Шимон положил руку на плечо Валеры. – Слышал я, что жрецы Чернобога тьму посреди дня делать могут. – Не только. Эту тьму и фонарь не берет, и прожектор. Если нашепчу, то и сам смогу в темноте видеть, и товарищу это зрение передать. Но кровь нужна, жертва нужна. – Экий ты затратный! Ну, ничего. Этого добра здесь имеется. Сейчас поедем вам тест-драйв мутить. Готов, десантура? – Как пионер! Шимон что-то прокричал в рацию по-арабски, и через минуту к «Рендж Роверу» привели связанного человека с мешком на голове. – Этот козлик сгодится? – спросил Лев. – Да, – сглотнул Сербский. Как же давно ему не приходилось приносить людей в жертву! Это было целую вечность назад, но лица тех, кого он отдал Чернобогу, все еще стояли перед глазами; албанский мальчик, десятилетний щегол, которому едва хватало сил взвести затвор автомата, до сих пор приходил в кошмарах. Связанного араба затолкали в багажник, Шимон сел за руль, Расул и Валера удобно устроились на широком заднем сиденье. Про себя Сербский отметил, что ничего не чувствует. Вот прямо сейчас они едут на «тест-драйв», придется зарезать плененного террориста, скорее всего, устранить еще парочку в процессе. Но на душе у Валеры было пусто, а оттого почему-то неуютно. Джип петлял среди разоренных руин, огибал остовы военной техники, повинуясь свихнувшемуся наемнику. Сегодня ехали не на войну, сегодня ехали на бойню. Остановились в километре от полуразрушенного здания, которое еще совсем недавно было торговым центром. – Приехали, касатики. Мои разведосы тут немножко уже поковырялись. В подвале штук шесть отщепенцев: основной состав порешали русские бомбардировщики, а эти от сирийской армии ныкаются. Вот они нам и как раз! А еще здесь глинозем… Лев присел на корточки, достал из рюкзака саперную лопатку и наковырял себе немного глины. Его большие ладони, такие неуместные на тонких запястьях, споро работали, вылепливая бурых человечков. Всего получилось три. Далее он раздобыл несколько пивных бутылок, разбил их, с помощью осколков сделал своим истуканчикам руки-клинки. Лев уколол палец булавкой и сцедил юшки в ладонь. Аккуратно макая фалангу в багрянец, на каждой глиняной фигурке он вывел слово «אמט», «эмет» – истина. – Да будет человек, – негромко прошептал Лев. Истуканчики в его руках зашевелились. – А теперь идите и немножко попугайте этих шлимазлов! Маленькие големы послушно зашагали к зданию. – Ты бы лучше по гранате в каждого замуровал. КПД повысится, – пробурчал Расул. – Нет, – возразил Шимон. – Гранаты бабок стоят, а глина и мусор – бесплатные. Ну, Валера, пошли. Покажешь свою тьму. Расул сейчас помолится своей вайнахской богине болезней и увечий – там целая дискотека начнется. – У-Нане не надо молиться, – возмутился Расул. – Она всегда со мной.* * *
Гариб сосредоточенно загонял патроны в изогнутый магазин Калашникова. Это успокаивало. Щелк — и ты не думаешь о том, что приходится воевать плечом к плечу с низшими джиннами, щелк — и как-то сами собой на задворки сознания уходят мысли о том, что приехал в Сирию не ради веры, а ради прибыли. Тридцать щелчков – тридцать крамольных мыслей ушли. Невдалеке, шумно переругиваясь на фарси, дэвы жарили на костре свинью. Свинью! Гарибу ужасно хотелось есть, запах жареного мяса игриво щекотал ноздри. Помог второй магазин: щелк — не слышно грязной ругани двух здоровенных уродцев, покрытых рыжей шерстью, щелк — и появились силы игнорировать аромат харамного мяса, щелк… Посреди дня вдруг исчез свет, будто кто-то выключил солнце словно лампочку. Гариб выхватил фонарик из подсумка, щелкнул кнопкой: дрожащий луч терялся в темноте через два-три шага. Тьма будто бы затвердела, стала непроходимой для света. Гариб шагал бочком, сам не зная куда. Невдалеке тревожно завыли дэвы. – Заткнитесь, шакалы! Заткнитесь! – кричал Гариб нервно. – Лучше ищите выход. – Ты пожалеешь о своих словах! – басовито прорычал один из дэвов. – Выйдем отсюда, и я тебе покажу шакала. – Я перегрызу его глотка! – с сильным персидским акцентом выкрикнул второй. Гарибу было жутко, но не из-за угроз. Все дэвы видели в темноте, но, судя по грохоту и жалобному рыку, даже они сейчас не видели дальше собственного носа. Щелк! Шух-шух, шух-шух – кто-то мелкий засуетился в ногах. Вдалеке вскрикнули дэвы; должно быть, происходящее напугало и их. – Мохсен! – крикнул Гариб одному из дэвов. – Ты видишь что-нибудь? – Нет! – Мохсен ответил со смесью злобы и страха. – Ни хрена не вижу. Что-то больно впилось в ляжку, Гариб вскрикнул. Поочередно вскрикнули и оба дэва. Что-то мелкое, учуяв кровь, все быстрее и быстрее пробегало совсем рядом, раздирая штаны и царапая ноги. – Да сдохни ты уже! – Гариб наугад топнул ногой и, не веря своей удаче, почувствовал, как попал во что-то мягкое. В тяжелой темноте луч фонаряоставался кургузым. Гарибу пришлось наклониться, чтобы рассмотреть свою добычу: под сапогом чавкнула сырая глина. От вида собственных ног араб едва не вскрикнул: щиколотки были исчерчены неровными кровоточащими полосами. Громко топали дэвы, шлепая по бетону безразмерными ступнями. Их «охота» продолжалась еще некоторое время, а потом все стихло. Еще через минуту тьма начала рассеиваться, в рамах выбитых окон заструились робкие лучи вечернего солнца. Гариб протер глаза запястьями и вскрикнул: перед ним стоял бледный бородатый человек. Чуть поодаль, дергаясь в предсмертных конвульсиях, лежали дэвы. Алые ниточки их крови тянулись по воздуху к жуткому бородачу и исчезали в татуировке на его правой руке. Кровь утекала в сумку. – Отойди от меня, ради Аллаха! – вскрикнул Гариб, взводя затвор автомата. Но бородач выученным движением вырвал оружие из его рук. – Где офицеры Визиря? – сказал бородач на сносном арабском. – У тебя есть выбор: либо ты говоришь мне, где офицеры, либо У-Нана заберет всю твою кровь. Расскажешь – я тебя не трону. Бледный человек в чистом камуфляже повел пальцами, словно веером, и из ран Гариба алой пряжей потянулась к татуировке кровь. Араб чувствовал, как силы покидают тело. Капля за каплей, капля за каплей… – Я не знаю всех офицеров! – ответил Гариб слабеющим голосом. – Но наш командир, ифрит – Бен-Газиз… Его логово в десяти километрах к югу от Хасеке, на заброшенной скотобойне. Это все, что я знаю. – Молодец, – бородач потрепал Гариба за густые бакенбарды. – Хороший мальчик. – Пожалуйста! Я больше не хочу воевать, я хочу вернуться с Палестину… – Я дал слово, я тебя не трону! А вот он, насколько я могу судить, тебе ничего не обещал. Из-за бетонной колонны вышел невысокий светловолосый человек. Руки его были по локоть испачканы кровью. В правой ладони он сжимал длинный кривой нож. Гариб почему-то был уверен, что совсем недавно этот человек перерезал кому-то горло. – Я хочу домой! У меня в Газе четверо детей… Я… Гариб не успел договорить: тяжелая рукоятка ножа гулко ударила в затылок.V. Новый год к нам мчится
Всю обратную дорогу Валера молчал и много курил. Он безучастно смотрел в окно, провожая взглядом унылый пустынный пейзаж. Он вспомнил, каково это – убивать. И воспоминание оказалось не из приятных. – Не, нормально сработал, Сербия! – неугомонный экстраверт Шимон не мог молчать долго. – Я думал, гонишь, а оно вон как! За каким хером ты этого, из Газы который, с собой потащил? Я этих уродов враз по акценту вычисляю! Надо было ему кляп в рот засунуть… – Я у тебя взял «козлика», я тебе вернул «козлика», – грустно ответил Валера, стряхивая пепел в открытое окно. – Жил-был у бабушки-и-и-и с-е-е-е-ренький козлик! – пропел Лев и гадко засмеялся. – Шимон, лучше помолчи, – Расул, все это время смотревший куда-то за горизонт, вдруг заговорил. – Уши в трубочку… К удивлению Сербского, Лев заткнулся и молчал всю дорогу до базы.* * *
Ранние приготовления к Новому году раздражали Расула: территория базы очень скоро оделась в безвкусные украшения; за неимением елок гирляндами нарядили пальмы и кипарисы. Несмотря на предпраздничную суматоху, дисциплина царила железная. Пили только те, кто был на заслуженном выходном, и многие заливались вусмерть. Расул не спал. С широко открытыми глазами он лежал на верхнем ярусе койки, тихонько поскрипывая панцирной сеткой. – Чего не спишь? – Сербский сонно потянулся на нижней койке. – Все из-за этого сраного праздника? – Валера… Если б только в нем было дело… Расул крепко, до белых желваков, сжал челюсти: стоило лишь немного задремать, как перед глазами всплывала отрезанная голова Лейлы; Расул будто бы чувствовал ее вес у себя на коленях. Сколько было надежд на дочь: в ней была сила, Расул, пока Лейла была совсем крошкой, даже брал ее с собой в горы – на капище; старые боги слышали малютку и признавали своей. Левую руку ощутимо покалывало. Яма, вытатуированная на предплечье, светилась нездешним, зловещим светом. Расул укутался в одеяло, чтобы не пускать «солнечных зайчиков». – Что это у тебя с рукой? – У-Нана отдала Эштру его долю. Ее интересуют только боль, кровь и страдания, а Эштр любит грешные души. Яма заряжена. Если завалят, я заработал пропуск на ту сторону. Вернусь, короче. Но лучше тебе этого не видеть… Валера повидал в жизни множество бессмысленных убийств, жертвоприношений, но даже его пугал этот бледный и вечно угрюмый ингуш. Оба они были из «теневого кластера» колдунов, но каждый из них понимал мрак по-своему. – Этот Бен-Газиз… – сказал Расул после продолжительного молчания. – Он не всегда был ифритом. Я знаю его: конченый отморозок! Арабский наемник, воевал на стороне чеченцев. Так что тот парнишка-палестинец не врал… В начале нулевых Бен-Газиз был воинствующим муртадом, а теперь видишь – до джинна дорос! Он наверняка знает, где приближенные Визиря… Мне бы их за горло подержать самую малость… – Старые счеты, верно? – сказал Валера, протягивая Расулу зажженную сигарету. – Не знаю, что за херня там у тебя с этим генералом, но Лев просто так людей не даст. И я бы рыпаться не стал: месть – дело святое, но контракт есть контракт. – Мы тут не духи на срочной службе! – прошипел Расул. – Даст – не даст: я не собираюсь унижаться! Это дело чести, Сербия! С моей целью, – Расул сглотнул, вспомнив о голове Лейлы в морозилке, – Валера, меня связывает только эта ниточка. Нет времени искать другие. Я… Я прошу тебя пойти со мной. Нет, не нужно лезть в самое пекло. Просто сделай тьму вокруг машины, чтобы ни ПНВ, ни инфракрасная камера, ни датчик движения не засекли. Я выйду за километр до скотобойни, там мы с тобой и распрощаемся. Я отдам тебе свой аванс! Вот – держи карту, ПИН-код получишь на месте. Идет? Валера неохотно убрал карту за пазуху и тяжело вздохнул. Еще до поездки он горячо и убедительно доказывал себе, что больше не будет ввязываться во всякие сомнительные мероприятия. Но ведь помочь брату по оружию – дело правое? Быть может, так удастся хотя бы ненадолго усыпить чувство вины перед брошенными товарищами: тогда, в Югославии, его отряд попал в окружение. Валера струсил – зарезал одного из своих, чтобы задобрить Чернобога, и под пологом тьмы сбежал. Албанцы не пощадили никого… Дело чести… Как красиво называется! А есть ли она – честь – у наемника? Самое время проверить. – Да хер с тобой! Все равно подыхать здесь собрался. Только я это, без жертвы Чернобогу ничего не смогу. Кровь нужна. – Это не беда! У Льва есть, из чего выбрать…* * *
Под базой ЧВК находилась целая темница: здесь люди Льва держали заложников под выкуп, военнопленных и «подопытных кроликов» для сумасшедших ученых. Особой кастой заключенных были «козлы»: расходный материал для колдунов, которые работали на крови. Этим приходилось хуже всего: плохая кормежка, содержание в сырых казематах, побои и унижения. Для «козлов» жизнь здесь была хуже смерти, поэтому многие чуть ли не с радостью ложились под жертвенный клинок. – Че надо? – сонно зевнул охранник. – За козлом пришли, нам на дело, – сухо ответил Валера. – Номерок свой дай, – охранник принял у Валеры протянутый жетон и приложил его к сканеру. – На бюджетного заявки не вижу. Хотите побаловаться – башляйте. Две сотки зеленью. Если посвежее мясцо надо – две с половиной. – Держи две с половиной, – Расул достал из-за пазухи три смятые купюры. – Сами выберем. Если свежака не будет, полтинник верни, понял? – Ага… – Охранник недобро ухмыльнулся. Расул поискал глазами, заглянул в одну клетку, другую… Люди, по большей части арабы и персы, словно скот спали на соломе. Нестерпимо воняло мочой и немытыми телами. – Ага! Вот ты где, дорогой… Этого берем! – крикнул охраннику Расул. – Да и хер с ним, берите. Мне какая разница? Мясо и мясо. Щелкнул ключ, дверь камеры отворилась, и на свет голой лампочки вывели молодого пугливого араба. Он по-черепашьи втягивал шею, щурясь от непривычно яркого света. – Ну что, мальчик, хочешь вернуться в Палестину? – Расул протянул парнишке руку. – Идем с нами.VI. К праздничному столу
– Я правда никого не успел убить, – молоденького араба трясло, – да и этот Бен-Газиз… Не заплатил, шакал! Обещал по двадцать пять баксов за каждый небоевой день и по сотне за боевой. Я ни цента не видел. Что я дома скажу жене и детям? Помоги мне Аллах… – Ты же знал, что нанимаешься к шайтану? На джинна работал. Выходит, что ты муртад? – Расул с задумчивым видом пустил облачко дыма, стряхнув сигаретный пепел в окно. – Не муртад! Не муртад я! Обманул Бен-Газиз. Мне сказали, что я буду воевать с неверными, с теми, что мусульман убивают. А тут… Со всеми подряд. Я не знал, клянусь Аллахом! Но когда меня к дэвам подселили, уже поздно было. – Оправдание так себе… – вздохнул Расул. – Меня Гариб зовут, – зачем-то сказал араб. Расул вздрогнул: он терпеть не мог, когда такие вот «козлики» называли свои имена. До того как представился, человек – всего лишь расходный материал, говорящая и думающая игрушка, а после – начинаешь видеть личность. Для совести это большая разница! – Молчал бы ты лучше, Гариб… – Расул глянул на араба исподлобья, и в этот момент тот мог поклясться, что в салоне джипа стало заметно холоднее. Они неслись по пустыне, оставляя за собой облака рыжей пыли. Изредка на горизонте вырастали одинокие холмы, поросшие тощим кустарником. Темнело; жара шла на убыль. – Э, слышь, погоди… – крикнул Расул, но не успел: Валера, сидевший все это время рядом с Гарибом, ловко вспорол тому горло. Древнеславянская речь заструилась звонким потоком. Все вокруг объяла тьма. – Что? – Да ничего уже… Гариб его звали. Мгновение непроницаемой черноты, и Расул снова увидел дорогу. Навигатор показывал небольшой холм в полутора километрах от скотобойни, возле него-то и решили притормозить. – Ну все, дальше я один. Держи конверт с ПИН-ом, как и обещал. – Валера молча принял конверт от Расула. – Сорок четыре, двадцать два; легко запомнить. Бывай! Валера на секунду замешкался, но все же побрел следом за мрачным и бледным как смерть ингушом. – Да погоди, ну куда ты? Вроде как я темноту делаю, а не ты. Короче: я с тобой иду. Расул обернулся и удивленно посмотрел на товарища. – А у тебя есть принципы, Сербия. Вот уж не ожидал…* * *
Чернобожьей силы хватило с избытком: кокон непроницаемой тьмы надежно прикрывал двух крадущихся мужчин. Незамеченными они миновали сторожевые вышки, прошмыгнули мимо немногочисленных охранников-дэвов и спустились под землю. Впереди был узкий коридор, под потолком, усыпанная поржавевшими крюками, тянулась транспортерная лента. – Бывал я на таких бойнях, – едва слышно прошептал Расул. – Их арабы строили на случай войны, чтобы тушенку делать даже под непрерывным артобстрелом. Наши, советские инженеры проектировали. После этого коридора разделочный цех, дальше – сортировочный. Как раз от сортировочного должны идти коридоры к раздевалкам и душевым. Сначала там посмотрим. Ну? Пошли!* * *
В цеху стояла гробовая тишина; Валера «передавал» Расулу теневое зрение, и тот видел вокруг картину запустения: брошенные пилорамы и разделочные столы покрыл слой пыли, кое-где валялись иссушенные временем останки коровьих туш. В рабочих подсобках было столь же неуютно: лишь бетон и провода. За очередным поворотом Расул и Валера оказались в помещении с невысоким сводчатым потолком. Вдоль кирпичных стен здесь протянули новогодние гирлянды. В середине стоял стол, накрытый скатертью, а в углу, завернутый в белый саван, замер человек. Он что-то тихо бормотал, мерно покачиваясь из стороны в сторону, словно маятник. Наемники застыли невдалеке от незнакомца, затаив дыхание, они наблюдали за человеком-метрономом словно завороженные. – Бачу! – вскрикнул вдруг «метроном», скинув с плеч саван. В комнате мгновенно загорелся ослепительный свет; наемники зажмурились, а когда с трудом сумели разлепить веки, со всех сторон на них уже перла разномастная нечисть. Похожие на прямоходящих рыжих гиен дэвы, нервные полумертвецы гули и злобные джинны; целая толпа нечестивцев возникла вдруг из ниоткуда. Когда глаза перестали слезиться, Валера сумел разглядеть странного высокого человека: востроносое лицо, внимательные зеленые глаза, оселедец соломенного цвета и вислые рыжие усы; на воротнике его вышиванки алел до боли знакомый символ. – Белобожник… – тихо сказал Сербский. – БЕЛОБОЖНИК! – заорал он во всю глотку. Достав из сапога нож, Валера полоснул по шее дэву и сдавил края раны руками; тьма начала сгущаться, пока снова не поглотила убогий кирпичный каземат, увешанный новогодними гирляндами. Белобожник громко засмеялся, хлопнув в ладоши. – Свит! – громко прикрикнул он и свистнул. В каземате мгновенно стало светло. Прозревшая нечисть радостно зарычала при виде добычи. – Нам край, Расул, – констатировал Валера, – это колдун высшего ранга. Ему не нужны жертвоприношения, он напрямую с Белобогом… – Не ссы! – резко ответил Расул. Ингуш мысленно воззвал к богине смерти и болезней – Ун-Нане, и та ответила на его зов. Расул мгновенно ощутил слабые места нечестивцев, почувствовал вкус их болезней, синхронизировал свою силу с ритмом их боли, стоило лишь запустить пальцы в сумку. Первым взвыл дэв: уродец, многие недели подряд вливавший в себя пиво буквально ведрами, упал на пол, схватившись за печень. Многие из гулей поплатились за свою любовь к склепам и подземельям: грибок, что таился в их полуистлевших телах все это время, проснулся и стал неистово пожирать своих хозяев. Старые переломы, зубная боль и даже банальные занозы – все это стало смертельным оружием против врагов. Всесокрушающее древневайнахское колдовство подкосило и могучего колдуна! Белобожник закряхтел и опустился на пол, держась за колени. Раздались неуверенные выстрелы, но Расул четко различил голос того самого Бен-Газиза. Генерал приказывал не стрелять. В какой-то момент стало казаться, что Расул и Валера смогут выбраться из этой ловушки живыми. Нечестивцы потихоньку отступали, белобожник был слишком занят своими коленями; Валере удалось вспороть горло одному из пятящихся гулей, и каземат снова оделся в спасительную тьму. – Валим, валим! – Валера схватил Расула за руку и ойкнул: не ладонь – лед! – Не трогай меня. Иду я, иду. Они сорвались с места и юркнули в лабиринт коридоров заброшенной скотобойни. – Один только выход… – говорил Расул на бегу. – Подниматься наверх, в другую часть цеха. Здесь нас сцапают. – Ага… Валера едва поспевал за поджарым и жилистым ингушом, предательски давила одышка. Пока Расул успевал пробежать пяток шагов, Валера едва мог сделать и шаг. Расстояние между наемниками росло. – Валера! Валера, мать твою за ногу! – Расул обернулся, чтобы поискать взглядом своего товарища. Коротконогий и толстоватый Валера упал на колени, тяжело дыша. Потом собрал всю волю в кулак и напряг ноющие мышцы, чтобы просто встать. – Вали отсюда. Я свое дело сделал, а теперь и ты иди. Из-за угла появился гуль и грозно зашипел. Валера точным ударом свалил его с ног, прижал коленом к бетону и ловко вспорол горло. Тьма снова сгустилась. – Ты не герой, Расул. И я тоже. Я для себя это делаю, для совести. Так что вали. Сербский взвел затвор своего «Калаша», дав короткую очередь в темноту. – Свали отсюда, я тебе сказал! Не было времени на прощание. Вайнахский колдун понимающе кивнул, сорвавшись с места. Почему-то только сейчас он почувствовал себя полным кретином.* * *
Тьма таяла – Чернобожье благословение подходило к концу. Слабеющее теневое зрение помогло Расулу различить три коренастые фигуры. Колдун воззвал к богине смерти и болезней, но почувствовал пустоту. Никаких старых увечий, никаких болезней, никакой боли. Будто бы и не живые… – Ага! – раздался в темноте знакомый голос. – Вот ты и попался, сука. Расул прищурился, чтобы разглядеть говорившего. Подбоченившись, у люка возле дальней стены стоял Лев… – Было бы чему удивляться, – ингуш достал из-за пазухи верного «Стечкина», взвел затвор, прицелился и выстрелил. В темноте чиркнуло с кирпичным звуком: одна из коренастых теней, оказавшаяся големом, заслонила хозяина. В бетонном пенале загорелся свет, дверь за спиной Расула хлопнула, големы сделали еще несколько шагов. Скорее от отчаяния, чем от желания как-то защититься, Расул израсходовал остаток патронов, не причинив глиняным истуканам видимого вреда. Он попытался прорваться к Шимону, проскользнуть мимо его безмолвных глиняных слуг, но уж больно те оказались резвыми. Шершавые руки с толстыми пальцами легко скрутили ингуша, надо сказать, далеко не слабого человека. Завязали глаза грязной арафаткой. Спустя какие-то секунды шайтаны принесли изоленту, и Расул стал похожим на исполинскую черную куколку. Подергался немного – держит намертво! Крепко спеленали, твари. Словно игрушку, големы несли спеленатого колдуна подземными коридорами. С завязанными глазами почти невозможно ориентироваться в пространстве, но по старой привычке Расул считал повороты: один – налево, два – направо и опять направо, снова налево… Запахло сыростью; едва слышно капала вода. Это могло означать только одно: они все глубже спускаются под землю. – Ты извини, Расул, – сбивчиво говорил Лев, как если бы спускался по лестнице, – ты хороший мужик, солдат отличный. Но, понимаешь, эти ребята мне платят бабки, чтобы война не заканчивалась, а русские и пиндосы платят, чтобы я это все остановил. Шоколад сам в пасть плывет, понимаешь? Ничего личного, Расул, бабки есть бабки. Развязали глаза, кто-то из шайтанов вспорол изоленту, пока големы держали руки и ноги. Расула раздели и снова одели в чистые одежды, исписанные уродливыми кривыми знаками. Когда Расул привык к яркому свету, то смог понять, что знаки – язык демонов. Его приносили в жертву. – А говорили, что я нужен вам – ублюдков ваших воскрешать. Выходит, опять брехня? – Расул громко засмеялся. – Ты ведь знаешь, что шайтанам веры нет, так ведь? – пророкотал низкий голос. Казалось, что сейчас говорят сами стены. – Нет, Расул, не за этим ты мне нужен. – Визирь… – Он самый. Мне нужна твоя боль, Расул. Видишь ли, я заперт в тюрьме между мирами. Ключ к моей свободе – боль разумного существа, что по своей воле может путешествовать по разным реальностям. Кто, как не потомственный жрец Эштра, способный по своему желанию спускаться в Эл, подойдет для этой роли? Мне нужны твои страдания, Расул. Тогда ты сможешь увидеть меня воочию, и клянусь всем злом тысячи миров, я не дам тебе умереть – ты позавидуешь мертвым. Свет стал чуточку тусклее. Глаза перестали слезиться, и Расул смог разглядеть комнату: стены, выкрашенные в черный цвет, гирлянды под самым потолком, даже наряженная елка в углу. Посредине стоял широкий стол, уставленный разнообразными блюдами, вроде салатов оливье и сельди под шубой. Праздничная еда, привычная для человека из СНГ. Расул чуть ли не вскрикнул, когда увидел, как за стол садятся его жена и младшая дочь. По лицу Айшат текли слезы. Губами она беззвучно шептала «папа». Девочка всю жизнь любила Расула, хотя и знала, что он ей не отец. – Что ж. Скоро Новый год, – девочка и ее мать синхронно открывали рты, говоря голосом Визиря. – Начнем, пожалуй. К Расулу подошел человек, кто-то из подчиненных Льва, прикрепил какие-то провода к наручникам и кандалам, наклеил электроды на виски и шею, протянул провода к кустарного вида агрегату. Дальше – снова провода, на этот раз толще, и так до самой стены, на которой мелом нарисовали восьмиконечную звезду. – Передовые технологии сил тьмы! – вдохновенно проговорил Шимон, стоявший чуть поодаль. – Двадцать первый век на дворе, е-мое! Комок подступал к горлу, кишки будто кипятком обдало. Расул чувствовал, что страх вот-вот овладеет его разумом, и тогда он и в самом деле превратится в ключ к тюрьме Визиря. Он чувствовал, как от стены с рисунком исходит тепло. Казалось, что неровные линии, выведенные мелом, обрели объем. Едва хватило сил, чтобы взять себя в руки. – Ты крепкий орешек, ингуш, – сказал Визирь устами Айшат. – Но я прожил тысячи жизней и видел людей в тысячи раз крепче тебя! Многих из них я убил своими руками. Айшат продолжала шептать «папа», пока Визирь не говорил. Бывшая жена не решалась поднять взгляд. Никто не притронулся к еде, но Расул слышал, как из темноты принюхиваются голодные дэвы. – Что ж, хорошо. – Визирь снова заговорил чужими устами. – Усилим нагрузку. Шимон, веди! Послышалось неуверенное шлепанье босых ног. На резкий свет лампочек вывели обезглавленное голое тело: уже оформившиеся аккуратные груди, крутые бедра, волосы в промежности – все как у взрослой женщины. Без сомнения, это была Лейла; Расул узнал ее по маленькому родимому пятнышку у пупка. Бывшая жена тихонько завыла, Айшат еще неистовее зашептала «папа-папа-папа-папа»… Обе обливались слезами. Расул чувствовал, как теряет самообладание. Ему едва хватало сил, чтобы не разрыдаться самому. Он попытался было воззвать к У-Нане, но ритуальные одежды обожгли холодом. Рисунок на стене вспыхнул и закружился, заплясали письмена. – Великолепно! Просто великолепно! – стены гудели от голоса Визиря. – Вносите главное блюдо! Шимон кивнул, глядя на Айшат. Наемник хлопнул в ладоши и крикнул что-то по-арабски; на свет лампочек гули, морщась от прикосновений к враждебному для них металлу, внесли большое серебряное блюдо, а на нем… Расул громко закричал. Он ожидал увидеть что угодно, но только не Сербского, запеченного с картошкой. – А вот и гвоздь новогоднего стола. Кушайте, кушайте! Повинуясь воле демона, жена и младшая дочь трясущимися руками отрывали целые куски от все еще дымящейся туши. Обливаясь слезами, они глотали человеческое мясо. Даже Лейла, несчастная обезглавленная Лейла, пыталась проглотить кусочек. Расул поискал глазами колдуна-смертовода, и там, в тени среди толпы нечестивцев он встретился взглядом с белобожником. Ох! Как же сейчас хотелось вспороть горло этой ухмыляющейся твари. Вид обезглавленной дочери, пытающейся съесть кусочек его боевого товарища, стал контрольным выстрелом. Расул заорал во весь голос. Вся боль, весь гнев, весь страх сейчас рвались наружу. Шимон проверил датчики и присвистнул: Визирь должен вот-вот вырваться наружу. Из ожившего рисунка на стене показался кончик светящегося суставчатого отростка, затем еще один и еще. – Хозяин! – прокатился шепот по толпе шайтанов. – Наш господин! – Нет, суки! Не дождетесь. – Расула трясло, голос его сорвался и дал петуха. – Не будет шайтанам праздника! Насколько хватило длины цепи, Расул оттянул руку и что есть силы укусил кандалы, затем еще раз, снова и снова. Бутафорский зуб треснул, раскололась капсула с ядом. Отрава мгновенно впиталась в нёбо и язык; Расул почувствовал легкую горечь. Жизнь угасала, обрывки сознания доносили до ингуша истошные крики Визиря и его шайки джиннов. Колдун улыбнулся перед смертью.* * *
Воздух задрожал. Визирь, так и не сумевший покинуть своей тюрьмы, истошно орал, овладевая сознанием то одного, то другого нечестивца. Крики стихли, когда в комнате похолодало, и из щелей в дальнем углу комнаты-пенала возникла долговязая сутулая тень. Казалось, она была соткана из самой тьмы, и только желтая сумка через плечо, точь-в-точь как на татуировке Расула, придавала фигуре более-менее ясные очертания. – У-Нана… – испуганно выдохнул Шимон. У-Нана, великая темная мать, хозяйка болезней и богиня мучений. Она запустила длинные пальцы в свою сумку и осыпала толпу горсточкой черных зерен. Тотчас же многие попадали на пол, покрываясь гноящимися язвами. Еще горсть зерен, и нечестивцы зашлись в кашляющем хоре, харкая на бетон кровавой мокротой. Многие пытались бежать, но и их догнали безжалостные черные зерна. Она ненадолго остановилась возле матери и двух дочерей. У-Нана чувствовала родную кровь и пощадила несчастных. Норов богини был суров, и это было великим милосердием – отправить в Эл души матери и дочерей: прямо под их ногами раскрылась бездна; Эштр сгреб в охапку всех троих и лукаво улыбнулся в густую – до глаз – бороду. – Расула верни, – сказал он и исчез. Булькая и захлебываясь кровью, Лев пытался отдать приказ големам, но длинный ноготь У-Наны легко вспорол ему горло. Темная мать склонилась над телом своего слуги. Мертвый Расул улыбался, но даже после смерти в его глазах читались боль и тревога. – Шайтанам не будет праздника! – прошипела У-Нана, повторяя слова своего подопечного. Темная мать развернула левое предплечье трупа и запустила пальцы в яму. Она с силой потянула на себя, и тело Расула стало выворачиваться наизнанку. Кости, кожа, органы: все это сделало полный оборот и вернулось на свои места. Ингуш вскрикнул и тяжело задышал. Нежно, будто младенца, У-Нана подняла Расула на руки и зашагала прочь. Скуля и причитая, умирающие шайтаны пытались уползти с ее пути. – Мы идем домой, Расул…Оксана Ветловская. Хрупкое

Осколки Валера обнаружил, придя домой после зачета, за полторы недели до Нового года. Даже из коридора было видно, что на полу гостиной возле окна поблескивают несколько стеклянных чешуек. Валера подошел, нагнулся: осколки явно кто-то пытался убрать, неаккуратно и впопыхах, а самые мелкие были просто сметены под батарею. Он пошел на кухню – там тренькал и бормотал планшет, Маринка опять смотрела какую-то чушь по «Ютьюбу», очередную бьюти-блогершу, это было даже хуже, чем дурацкие однообразные девчачьи аниме, которыми она увлекалась еще недавно. По-рыбьи приоткрыв маленький бледный рот, механически помешивая в тарелке с молоком давно размокшие кукурузные хлопья и одновременно другой рукой успевая раздирать и без того порванную на углу клеенку, некрасивая щекастая Маринка завороженно глядела, как девица образцово-инстаграмной наружности наводит марафет. – Маринка, ты, что ли, игрушку кокнула? Та, разумеется, не ответила. Валера заглянул в мусорное ведро под умывальником. Игрушку он опознал сразу: самая крупная из самых старых, здоровенный золотистый лимон, расколотый на несколько частей. Как раз позавчера они всей семьей поставили елку. Сколько Валера себя помнил, елку всегда украшали заранее, за полмесяца до праздника, и это был целый ритуал: ель, большая, искусственная, позднесоветского производства, торжественно доставалась с антресолей, где в разобранном виде хранилась в коробке почти весь предшествующий год, и оттуда же с превеликой осторожностью доставалась другая коробка, с переложенными ватой елочными украшениями. Изрядная часть игрушек была очень старая, чуть ли не довоенного времени, из хрупчайшего звонкого стекла. Сталинский винтаж, напыщенные и простодушные семейные реликвии, изображавшие разные предметы: толстые кремлевские звезды, дирижабли с надписью «СССР», станции метро, животных, фрукты… Такие игрушки лежали в специальном гнезде из серой ваты и всегда все до последней вешались на елку. Были еще неубиваемые, из плотной фольги, абстрактные фонарики и шишки – игрушки раннеперестроечной эпохи, китайский елочный ширпотреб родом из девяностых или нулевых, и, наконец, наборы стильных, ярких, но безликих пластмассовых елочных шаров, надаренные родителям и сестре на корпоративах за последние несколько лет. Развешивать старые игрушки было привилегией исключительно взрослых членов семьи. Да что там – детям к довоенным стеклянным украшениям вообще запрещалось прикасаться. Как Валера помнил, пока была жива бабушка, к винтажным елочным стекляшкам не подпускали даже Лену, старшую сестру. Разница у Валеры с сестрой была чудовищная: восемнадцать лет. Они появились на свет буквально в разных тысячелетиях. Лена родилась случайно, по залету, когда родители были еще студентами. Валера же был поздним ребенком, спланированным, желанным, до которого родители, по выражению матери, «морально дозрели». Быть может, поэтому Валера получился, по жестокому, но меткому выражению кого-то из дальней родни, «более удачным»: складностью и поджаростью удался в материну родню, с отличием окончил школу, учился на дизайнера, увлекался прибыльным делом – 3D-моделированием. Лена же пошла в отцовскую породу: коротконогая, с длинным массивным туловищем и широким невыразительным лицом. Толком себя так ни в чем и не нашла, бросила на четвертом курсе институт, работала в мелких фирмах не пойми кем на убогой зарплате – то оператором ПК, то менеджером на микродолжности. И брак у нее не задался. Пока жили с мужем – «без конца собачились», как говорила Лена. В конце концов муж привел другую женщину, а ее просто выгнал вместе с ребенком. Маринке тогда было десять лет. С тех пор Лена с дочерью вот уже три года жила у родителей. Скромный пирог трехкомнатной малометражки пришлось спешно делить на большее количество частей: от гостиной осталось одно название, мебель там расставили так, что получилось неуклюжее зонирование на две спальни – Ленину и Маринкину. Но елку все равно ставили в гостиной, прочие комнаты и кухня были совсем крохотными. Племянницу Маринку Валера не любил. Пока сестра жила отдельно, Маринка была для Валеры просто приходящей в гости тихой девочкой, которая садилась в угол дивана и начинала методично расковыривать шов на мягком подлокотнике. Валера тогда ее почти и не замечал, разница в семь лет – не восемнадцать, конечно, но разговаривать ему со скучной «мелкой» было просто не о чем. Когда же Маринка перекочевала из разряда приходящей на часок-другой родни в категорию соседки по квартире, проявились некоторые особенности ее характера, доселе известные лишь понаслышке, по рассказам сестры. Маринка портила вещи. Не случайно – намеренно. С катастрофическим одержимым постоянством. Все ручки у нее были изжеваны в хлам, карандаши изгрызены в щепы, пенал так истерзан, будто побывал в эпицентре взрыва. Когда Маринка была младше, от нее приходилось прятать ножницы и ножи, потому что она втихую резала мебель, шторы, обои, отрезала пальцы и волосы куклам и вспарывала мягкие игрушки, даже резала провода. После переезда первым делом обстригла всю бахрому у тюля в гостиной. Это было, по-видимому, какое-то отклонение. Сестра долго водила Маринку сперва по неврологам, потом по психологам, даже психиатрам, и все повторяла дома разные умные термины вроде «скрытая агрессия» и «невроз навязчивых состояний», затем специалисты и выписанные ими таблетки были заброшены, потому что проку от них не было никакого, и тогда Валерин отец – Маринкин дед – внучку пару раз по старинке крепко выпорол, и это, в отличие от психологов, даже помогло, но, увы, ненадолго. Валера к тому времени просто поставил на дверь своей комнаты замок. Потому что однажды, вернувшись домой, обнаружил, что его компьютерное кресло из кожзама сплошь истыкано металлической пилкой для ногтей – и этой же пилкой Маринка скребла по деревянной дверце шкафа, высунув язык от усердия и наблюдая, как завивается тугими пружинами тоненькая стружка… Валера за шиворот выволок тяжелую, раздражающе упитанную девочку из своей комнаты, едва сдерживаясь, чтобы не отвесить ей затрещину. – Зачем ты это сделала?! – Не знаю, – пробормотала Маринка, отводя глаза. Она всегда только так и отвечала. – Сунешься еще в мою комнату – ногами тебя вышибу. Под жопу! Квартира превратилась в территорию военных действий. Маринка партизанила – тихо пакостила – и ее шумно и со скандалами наказывали, потому что сестра в психологию больше не верила, а родители вовсе считали сеансы у психолога шарлатанством и выкачиванием денег. На некоторое время все стихало, затем начиналось по новой. Валера племянницу либо шпынял, либо подчеркнуто игнорировал. Он, с детства аккуратист, испытывал к Маринке неприязненную брезгливость напополам с опаской, будто в доме поселилось большое невоспитанное животное – нет, кто-то хуже животного. – Я спрашиваю – ты игрушку грохнула? – повторил Валера скорее из принципа, ему, в общем, было плевать на старую безделушку, просто раздражало молчание в ответ. – Зачем хоть, можешь сказать? Маринка все так же молча ткнула пальцем в экран, пролистывая рекламу. Другой рукой она продолжала расковыривать дырку в клеенке. К Валере даже не повернулась. Он слегка хлопнул ее по руке, терзавшей клеенку. Маринка сделала звук громче и снова потянулась к разодранной клеенке на углу. И тут Валера не выдержал. Он вполне понимал, что это будет неэтично, непедагогично, недостойно, в конце концов, взрослого, двадцатилетнего уже, человека, но слова волной поднимались к горлу, будто тошнота, сдержаться было невозможно, и он выговорил, как выплюнул: – Какая же ты бесполезная тупая уродина. Один вред от тебя! Зачем ты живешь-то вообще? Лучше бы никогда не родилась! Как будто без тебя в мире дерьма мало! Сказал, взял совок и веник и пошел убирать оставшиеся осколки. Старыми игрушками родители, особенно мать, очень дорожили: должно быть, для нее эти стекляшки были памятью о ее матери – о бабушке, которая, как Валере помнилось, прямо-таки тряслась над этим барахлом, – и Валера понадеялся, что, если он тщательно подметет под елкой, пропажу стеклянного лимона, возможно, не заметят. И еще подумал: да, пора ему съезжать из родительского гнезда – теснотища, злополучное соседство с племянницей, частые скандалы – здешний быт жал уже нестерпимо, как обувь, из которой давно вырос. И тут в комнату вошла Маринка. Что-то в ее неуклюжей фигуре было такое, от чего Валера, подметавший под елкой, мгновенно выпрямился. Маринка шагнула вперед, ее напряженные руки со сжатыми кулаками были выпрямлены вдоль тела и чуть приподняты, будто она с трудом несла два невидимых тяжелых ведра, до краев наполненных обидой и яростью. – Я случайно, случайно!!! – пронзительно закричала она, вперившись в Валеру немигающим взглядом – глаза блестели, и светлые радужки были будто из стеклянного крошева. – Я случайно разбила эту дурацкую игрушку! Хотела ее на планшет сфоткать, задела, а она вдребезги! Конечно, мне никто не поверит! А я просто задела! Случайно! – Она шагнула еще и вдруг обеими руками дернула на себя пару старых елочных украшений – так резко, что елка чуть не упала, а стеклянные игрушки слетели с оставшихся на ветках креплений. Каждая игрушка грянулась на пол и разорвалась у ног Валеры с глухим хлопком, будто маленькая бомба. – Вот тебе! Получай! Сам урод! – Маринка с размаху швырнула на пол еще две стеклянные игрушки. И еще две. Валера замахнулся на нее, и Маринка убежала на кухню. – Дура! – растерянно крикнул Валера ей вслед. – Истеричка. До прихода родителей он успел убрать все осколки, даже самые мелкие: их пришлось нудно выковыривать из ворса ковра. Спрятал битое стекло на самое дно мусорного ведра, под пластиковые упаковки. А еще снял с веток и выбросил металлические усики – крепления разбитых игрушек – и перевесил прочие украшения на елке так, чтобы пропажа семи старинных игрушек не бросалась в глаза. Родители, кажется, ничего не заметили.
* * *
Первая открытка очутилась в почтовом ящике уже на следующий день. Ее обнаружил отец, позже всех вернувшийся домой с работы. – Ну и мороз на улице! Как в старые добрые времена, пока климат еще не испортили, – отец гулко прокашлялся в кулак и потопал ногами, как всегда, получив от матери замечание, что снег с ботинок надо стряхивать хотя бы в подъезде, а не в прихожей. – Гляньте-ка, привет из прошлого! Не думал, что кто-то еще открытки пишет. Тань, твоя, что ли, родня ленинградская прислала? И пока мать напоминала, что из тамошней родни у нее давно никого в живых нет, пока сестра снисходительно объясняла, что открытки сейчас вовсю рассылают те, кто увлекается посткроссингом и скрапбукингом («Чего-чего, а по-русски можно?» – переспрашивал отец), Валера с грустью подумал, что его родители ведь уже пенсионеры. Отец до сих пор говорил иногда по старой привычке «Ленинград» вместо «Петербург» и верил в какие-то мракобесные теории заговора и глобальное потепление. Мать все никак не хотела покупать микроволновку, опасаясь «вредного излучения». Хотя в целом они неплохо освоились в современности: во время ужина каждый смотрел в свой смартфон, хотя еще пару лет назад они ругали Валеру или сестру, если те утыкались за столом в мобильник. – Тыща девятьсот сорок один, – прочитал отец на лицевой стороне карточки. – Открытка-то старая! – Это репринт, – пояснила Лена. – Советская эстетика сейчас в моде. – А почему сорок первый, а не сорок пятый? Ну-ка, что нам пишут… – отец перевернул открытку. – Ничего не пойму, глупость какая-то… Идиотские шутки. Найти бы шутника и руки ему пообрывать! Тань, выброси ты это, – он протянул открытку матери: кухня выходила прямиком в прихожую, почти к самой входной двери. Мать глянула на открытку, переменилась в лице и поскорее бросила карточку в мусорное ведро. – Что там? – спросил Валера. – Ничего, ешь, просто балуется кто-то. Открытку Валера выудил из мусорного ведра поздно вечером, когда все домашние ушли спать. Это и впрямь был репринт с советской открытки, на редкость качественный, даже бумага была матовой, серо-коричневого оттенка, и выглядела очень старой, под стать дате на лицевой стороне. «1941». Желтые цифры красовались наверху нарисованного многоэтажного здания, новостройки, украшенной красными флагами. Здание частично заслоняла пышная ель с огнями на ветвях и звездой на макушке. На переднем плане белозубо улыбались люди – два парня и одна девушка. Яркая, позитивная открытка. Только от даты веяло холодком, который Валера на миг ощутил всем телом, особенно босыми ногами – или просто-напросто на кухне забыли закрыть окно, и в щель фрамуги задувал морозный ветер. Валера перевернул открытку и с усилием вчитался в острый частокол почерка. Бледные, будто выцветшие чернила. Слова наползали друг на друга, как кишащие насекомые. «Горестно „поздравляем“ с наступающим проклятым годом, желаем умереть медленно и в муках, от голода, холода, обморожений, цинги, тифа…» – Действительно, руки бы оторвать, – пробормотал Валера. – Дебилы. Он повертел открытку в руках – слишком дорого она выглядела для такого злобного и бездарного розыгрыша. Вернее, слишком… аутентично. В точности как настоящая открытка той эпохи. И ведь не жаль кому-то было переводить добро на такую ерунду. Валера еще раз всмотрелся в изображение и вдруг понял, что дом на заднем плане – вовсе не новостройка с еще не вставленными рамами, а здание, разрушенное взрывом, с трещинами на стенах и вылетевшими окнами. И улыбчивая троица перед домом – у них у всех глаза совершенно белые, без зрачков. Мертвые такие бельма. Хотя у мертвецов ведь зрачки видны?.. И если еще приглядеться, становилось понятно, что у девушки вовсе не тень от волос сбоку на лице, а висок пробит, и у товарища ее с темно-красным шарфом в глубоком вырезе пальто – вовсе не шарф, а развороченная грудная клетка… Валера швырнул открытку обратно в мусорное ведро. После нее захотелось вымыть руки, и он долго перекатывал в ладонях брусок хозяйственного мыла.* * *
Назавтра новую открытку из почтового ящика достала сестра. – Валера! – крикнула она уже с порога. – Это твои приятели так прикалываются? Или как там у вас это сейчас называется? Рофлить? Троллить? Еще не успев выйти из своей комнаты, Валера уже понял, о чем речь. Мысль о вчерашней открытке с мертвецами на фоне разрушенного дома и новогодним пожеланием «умереть медленно и в муках» то и дело проходила по сознанию зябким сквозняком. Хотя, казалось бы, чего такого – мало ли сумасшедших или просто придурков, каких-нибудь почтовых пранкеров… На сей раз изображение на ретрооткрытке даже при внимательном изучении выглядело вполне безобидно. Девочка в советской школьной форме – коричневое платье, белый праздничный фартук – вешала на елку гирлянду из красных флажков. Рядом висели обычные игрушки – разноцветные шары, примета времени – ярко-алая звезда. Кукольное лицо девочки было строгим, сосредоточенным, но вполне милым. Валера перевернул открытку. Там повторялась одна-единственная выведенная крупными буквами фраза: «Умерли все. Умерли все. Умерли все…» – Ну вот что, что это такое? – спрашивала сестра, сердито заталкивая валкие высокие сапоги на обувную полку; в прихожей, как и повсюду в квартире, вечно недоставало места. – Ты знаешь, кто мог это сделать? – Среди моих знакомых нет таких отбитых. – Может, у Марины в школе что-то опять не ладится? – понизила голос сестра. Валера пожал плечами. С позавчерашнего дня они с Маринкой не разговаривали. Впрочем, они и без того почти не общались, так что это не бросалось в глаза. Он слышал, что над племянницей в школе иногда издевались, но не слишком рьяно: Маринку побаивались, потому что однажды она ткнула кого-то ножницами. – Не, вряд ли… Школотроны до такого просто не додумаются. Мозгов не хватит. Валера понес открытку к мусорному ведру, и только когда открыл дверцу под умывальником, наконец заметил, держа карточку на отлете: изображение еловых ветвей, если на него посмотреть издали, превращалось в груду изломанных человеческих тел. Валера приблизил открытку к глазам – и гора тел обернулась подробно прорисованной хвоей. Наверняка эти открытки взяты из Интернета, подумал он. Больная фантазия какого-нибудь художника. А какой-то идиот-шутник их распечатал, написал зловещую чепуху на обороте и донес до почтового ящика. Только сейчас Валера сообразил, что на открытке – и на вчерашней, и на сегодняшней – не указан адрес и нет марок. То есть открытки принес не почтальон. Кто-то и вчера, и сегодня заходил в подъезд, чтобы подбросить их в ящик… – Жаль, в нашем подъезде камеры не установлены, – будто ответила на мысли Валеры сестра. – Вот в нормальных домах небось на каждом этаже стоят… «Нормальными домами», по определению Лены, были высотные новостройки-«свечки» на бывшемпустыре возле реки, узкими аристократическими башнями возвышающиеся над неуклюжими девятиэтажными коробками. «Свечки» считались элитным жильем, вернее жилкомплексом: там имелся собственный супермаркет, куда жители девятиэтажек любили ходить ради лоска новизны и чувства сопричастности красивой жизни, а еще автостоянка, спортзал, даже детсад и, главное, опрятные окошки консьержа в каждом подъезде. Кварталы панельных девятиэтажек, напротив, считались вотчиной неисправимой гопоты и алкашни, у двери подъезда вечно ломали доводчик, жгли кнопки домофона, пакостили на нижних этажах, курочили почтовые ящики из тонкого, хлипкого листового металла. Сейчас Валера взял отвертку и плоскогубцы, спустился к почтовым ящикам и снял дверцу с номером шестьдесят. Затем так выгнул дно плоскогубцами, что все содержимое незамедлительно вываливалось на пол – ящик как раз был нижним в секции. Пусть родители думают, что его «развандалили». Зато отправитель открыток, быть может, переключится на кого-нибудь другого – им-то карточки теперь в любом случае класть некуда. Дверцу Валера захватил с собой – потом привернет обратно. Пока ехал в лифте на свой шестой этаж, подумал, что если открыточный террорист почему-либо привязался не к случайному почтовому ящику, а к их семье, то открытку он может подбросить и к двери квартиры. Но Валера решил, что в таком случае обязательно подкараулит его в один из ближайших дней, даже если придется пропустить очередной зачет. За ужином сестра с возмущением рассказала о новой открытке, а мать вдруг произнесла: – Марина, ты игрушки не трогала? Старые, стеклянные?.. Все-таки пропажа нескольких украшений с елки не осталась незамеченной. И по напряженному тону матери было ясно, что Маринке может крепко влететь. Ради справедливости, Маринка часто рвала, царапала или резала разные вещи – но никогда ничего специально не била, тем более елочные игрушки. Никогда. До позавчерашнего дня. – Марина, – строго повторила сестра вслед за матерью. Маринка ниже склонилась над тарелкой, делая вид, будто нашла в разваренной гречке что-то интересное. – Она случайно разбила, – вдруг сказал Валера неожиданно для себя самого. Не то чтобы ему было жаль племянницу, просто очень не хотелось очередного семейного скандала на ночь глядя, да и все-таки совесть покусывала за давешние жестокие слова. На Валеру все посмотрели, даже Маринка подняла голову от тарелки. – Запнулась о край ковра, схватилась за елку и уронила ее, – добавил он. – Я сам видел. Несколько игрушек разбились. Она не специально. Ей было лень убирать осколки, мы из-за этого немного поругались, и я сам все убрал… Ложь получилась вполне правдоподобной. – Если случайно – то ладно, – сказала мать. – Мама моя… Бабушка… говорила, что если нарочно разбить, особенно под Новый год, то вроде как… что-то плохое случится. А если случайно разбить – то, наоборот, к счастью. – А откуда вообще эти игрушки? – спросил Валера. – Бабушка из Ленинграда привезла. – Ей от родителей достались? – Кто-то их ей подарил. Во время блокады, – мать помолчала. – Бабушка никогда не рассказывала в подробностях. Она вообще не любила блокаду вспоминать. Она тогда совсем еще девочкой была, возраста Марины. Тяжело ей пришлось. Маринка смотрела исподлобья, помешивая давно остывшую кашу. Валера исподтишка показал ей кулак. – А… что плохого может случиться? – как можно небрежнее поинтересовался он и подумал об открытках. Не мог не подумать – эту мысль будто кто-то втолкнул в его сознание, как леденящий ком снега за шиворот. – Да не воспринимай ты так серьезно, – вмешался отец, – бабушка очень суеверная была. – Ну, мне просто любопытно, – Валера растянул губы в улыбке. – Я же сам ни о чем ее не расспрашивал, мелкий был. А вырос – захотелось больше узнать про бабушку, а ее уже нет. – Да не знаю я, чего плохого, – с явной неохотой ответила мать. – Она не рассказывала. Просто просила каждый Новый год вешать на елку все старые игрушки и беречь их.* * *
На следующий день Валера, зайдя в подъезд, прежде всего поднялся на площадку с почтовыми ящиками, чтобы убедиться: новой открытки нет. Ее не было ни на полу, ни на радиаторе отопления, куда обычно почтальоны складывали письма для хозяев «развандаленных» ящиков. Не было открытки и под дверью квартиры. Почти успокоившись, Валера зашел в квартиру. Везде горел свет. В коридоре, на кухне, в гостиной, в дальних комнатах, даже в ванной и туалете. За кухонным окном серел легкий сумрак густого снегопада, но на улице все же было еще слишком светло для такой иллюминации. – Маринка! Ты дома? Валера повернулся, чтобы поставить ботинки на полку, и замер: обклеенная обоями стена возле двери была исцарапана. Четыре рваные полосы, настолько глубокие, что даже штукатурка выкрошилась. На уровне его лица. – Блин… Ну, Маринка, ты получишь! Он прошел по всем помещениям, везде погасил свет. Племянницы нигде не нашел. Напакостила и убежала? Куда? Подруг, насколько Валера знал, у нее не было, и гулять она не любила. Валера побродил по квартире, затем, пытаясь справиться с беспокойством, заварил чай и пошел в свою комнату, включил компьютер… Вдруг в тишине квартиры, оттеняемой лишь шорохом снега за окном, истошно заорал дверной звонок. Валера так дернулся, что пролил чай на клавиатуру. Звонок был длинным и настойчивым. Первой мыслью было проигнорировать его – ведь все домашние открывали дверь своими ключами, – но беспокойство погнало Валеру в прихожую. Быть может, пришел поговорить кто-то из соседей, тоже получивший жуткую открытку. А может, пришел тот, кто эти открытки разносит… Внезапно с треском распахнулся стенной шкаф в прихожей, и на Валеру вывалилось что-то темное, бесформенное. Он шарахнулся, ударившись плечом о косяк. Оказалось – Маринка, закутанная в старую Ленину куртку, из тех крепких, переживших свое время вещей, что десятилетиями висят в недрах шкафа, ожидая нашествия моли, чтобы наконец-то быть выброшенными. Лицо у Маринки было серо-белым, как штукатурка. – Валь, не открывай, – забормотала она неузнаваемым голосом, – пожалуйста, не открывай, не надо… Вот теперь Валера по-настоящему испугался, хотя постарался не подать виду. – Почему не надо? – Ва-аль… – Да я только в глазок посмотрю, ты чего, в самом деле? За дверью стояла женщина. На лестничной площадке еще не включили свет, и черты лица незнакомки скрадывал сумрак, но, в общем, это была самая обычная женщина невнятного возраста, в длинном пальто и по-старушечьи намотанном шерстяном платке. На руках женщина держала закутанного младенца. – Там всего-навсего какая-то тетка с мелким спиногрызом, – сказал Валера. – Это она тебя так напугала? Может, открыть, спросить, чего ей… – Не открывай, не открывай! – Маринка вцепилась ему в локоть. – Да отстань ты. Назло племяннице Валера приоткрыл дверь, не снимая цепочки, и громко спросил: – Здравствуйте, что вам нужно? Из щели тяжело и колюче дохнуло крепким морозом; видать, опять курильщики окно на площадке не закрыли. Сначала было тихо, Валера уже хотел захлопнуть дверь. И вдруг прозвучало сиплое, простуженное, безголосое: – Валера. Валера, это баба Зина. И дядя Рома. Мы вот в гости приехали… Подарки принесли. – Чего?.. Не было у Валеры в родне никаких «бабы Зины и дяди Ромы», и откуда вообще женщина могла знать его имя, и с чего вдруг подарки – ничего этого Валера сказать не успел. Он почти прижался лицом к двери, пытаясь рассмотреть незнакомку, но опасаясь снимать цепочку. А та подалась вперед, протягивая что-то в хозяйственной сумке. Лицо женщины, очень бледное, с прикрытыми глазами, все в каких-то темных брызгах и потеках, было неподвижно, зато завозился в одеяле ребенок; и так же отчетливо задергалось во все стороны, зашевелилось что-то в тряпичной сумке, будто там было полно маленьких живых существ. – Подарки принесли… С праздником вас… Вот, кушайте… – Закрывай! – истошно завизжала Маринка, но Валера уже со всей силы захлопнул дверь и судорожно проворачивал до упора оба замка.* * *
Часом раньше Маринка, посмотрев в глазок, тоже решила приоткрыть дверь на цепочке и спросить, что нужно женщине с младенцем. Женщина и тогда сказала, что «принесла подарки», и попыталась протолкнуть в щель между косяком и дверью жутко шевелящуюся сумку, а когда Маринка навалилась на дверь, чтобы захлопнуть, гостья успела каким-то образом пропихнуть в щель руку. Рука, как утверждала Маринка, была обглоданная, страшная, и оставила на стене борозды, разодрав обои длинными ногтями. Покуда племянница, заикаясь и путаясь в словах, рассказывала все это, Валера молча сидел на корточках в углу комнаты, глядя на елку. На которой не хватало семи игрушек. «Что-то плохое случится… – Что? – Бабушка не рассказывала…» В конце концов он пересилил себя и решился – подкрался к двери, посмотрел в глазок. За дверью никого не было. Что делать? В полицию звонить?.. Только теперь Валера обратил внимание, что набор елочных игрушек не был случайным, в нем явно прослеживалась какая-то логика: некоторые игрушки были парные, некоторые – одиночные. На всех, даже на фруктах, имелись штампики в виде звезды и каких-то треугольников – должно быть, символ фабрики. Наверняка к набору украшений полагалась фабричная коробка с каким-то перечнем, описанием. Валера полез искать коробку на антресолях, но найти ее не удалось. Маринка все это время переминалась рядом, не отходя ни на шаг и тяжело вздыхая. – Я же случайно, случайно… – Первую случайно, – буркнул Валера. – А остальные – специально. Вот представляешь, родители будут дома, и тут эта снова придет. А у папы, у деда твоего то есть, давление, между прочим. И он от сердца опять что-то пьет… – А если она там, в подъезде, караулит? Валера помолчал. – М-да… Слушай, извини, что тогда тебе гадостей наговорил. Из-за меня все… Он все-таки вышел на лестничную площадку – проверить. Вооружился перцовым баллончиком и топориком для разделки мяса. Глупо, конечно, – но с голыми руками выходить было совсем страшно. В подъезде уже включили свет. Сумрачно-желтое освещение нагнало теней по углам, но ничего угрожающего на площадке и в закутке возле мусоропровода не обнаружилось. Только холодно было очень, несмотря на закрытые окна и теплые батареи. Валера проверил площадки ниже и выше (Маринка стояла на пороге квартиры и начинала отчаянно звать его, едва он скрывался из виду), затем позвонил родителям и сестре и предупредил, что по подъезду, кажется, бродит опасная психопатка. Подумал и выдернул из розетки провод от дверного звонка. Когда что-то легко дотронулось до его локтя, он аж подпрыгнул, хотя сам только что запер дверь на два замка. Оказалось – Маринка. – Валь… А такие игрушки, ну, разбитые… можно еще купить? По сетевому запросу «старые советские елочные игрушки купить» перед Валерой открылся целый мир, о существовании которого он прежде не подозревал. Оказалось, за набор довольно неказистых украшений вроде тех, что Валера никогда толком и не замечал дома на елке, можно было выручить столько же, сколько стоит неплохой подержанный автомобиль. Обнаружилось множество групп в соцсетях, сайтов, форумов, где общались коллекционеры старых новогодних игрушек, а главное – Интернет-аукционы и различные площадки, где за кривовато расписанную фигурку из стекла кто-то готов был отдать несколько тысяч рублей, а в отдельных случаях – десятки тысяч. Довоенные советские игрушки очень ценились. Поначалу их делали из картона, покрытого слоем разноцветной фольги, или из прессованной ваты, причем подпольно, потому что советская власть отменила празднование Нового года, но спрос на игрушки все равно оставался. В середине тридцатых праздник официально вернули, и тогда появились фабрики, где выдували стеклянные игрушки. Совершенно особенными были елочные украшения военных лет: шары делали из раскрашенных лампочек без цоколя, прочие игрушки – из отходов военного производства: проволоки и металлической стружки. Но бабушкины относились именно к последним довоенным годам. Это был один из первых наборов советских стеклянных игрушек, и от стоимости полного такого набора Валера лишь тихо выругался. Цена была неподъемной, даже если правдами и неправдами выпросить деньги у родителей. Хотя, возможно, на сбережения от летних подработок получилось бы купить несколько отдельных украшений на замену разбитым… Валера написал продавцу – проживавшему где-то в Калининградской области, страшно было подумать, как оттуда почтой поедут хрупкие игрушки – и спросил, можно ли купить семь штук из набора. Ответили ему быстро и коротко: «Нет». «Мне очень надо», «Ну пожалуйста», «Прошу вас», – набирал Валера в окне личных сообщений уже без надежды на ответ. Когда дюжина сообщений канула в пустоту, продавец игрушек вдруг откликнулся: «Родственники, что ли, пришли?» Валера вцепился в смартфон похолодевшими пальцами. Бросилась в глаза аватарка продавца: на ней была новогодняя игрушка, кустарно расписанный стеклянный снеговичок с широкой, перекошенной, совершенно сумасшедшей улыбкой. Панически захотелось закрыть переписку, но… но что тогда? И Валера, пересиливая себя, написал: «Откуда вы знаете?» Если верить продавцу с безумным снеговиком на аватарке, историю про игрушки-обереги знали многие коллекционеры новогодних украшений. Якобы с началом массовых репрессий в 1937 году по правительственному распоряжению некоторые фабрики елочных игрушек стали выпускать особые наборы елочных украшений. Наборов таких было выпущено очень ограниченное количество, по слухам – для правительственных чинов. Обереги из этих наборов должны были защитить живых от мертвых. «Смена года – прореха в привычном порядке вещей. Через нее могут явиться те, кому обычно путь сюда закрыт. Почему на Новый год люди желания загадывают? Потому что приходят те, кто может исполнить. Почему мертвецов стараются задабривать? Чтобы навестили и хорошее принесли. Дед Мороз – значит буквально дед, чей-то предок. И Пер-Ноэль какой-нибудь, и тот же Санта. А когда сын доносит на отца и брат на брата, какое тут добро. Стали приходить те, кого запытали до смерти, к родне, которая их предала. Массово начали приходить…» «Подождите, то есть эта баба Зина – мертвая?» «А вы только сейчас поняли?» «Моя бабушка никого не предавала. Она тогда еще в школе училась. И репрессии моей семьи не коснулись», – Валера набрал ответ скорее машинально, плавая в несколько бредовом чувстве нереальности происходящего. «Вы уверены? – спросил стеклянный снеговичок. – Читали бабушкины записки? Чтобы обереги работали, нужно, чтобы человек рассказал о своем преступлении и раскаялся. Поищите. Обычно исповедь записывали и в коробке с оберегами прятали. Когда все обереги сами собой случайно перебьются – значит, отстала мертвая родня. Может, простила. Но если специально обереги разбить – тогда плохо дело. Чем больше разбить – тем хуже». «Чего этим родичам вообще надо?» «Считается, что они подарки вручить хотят. Беды всякие: болезни, несчастья. Приходят чаще всего к самым молодым членам семьи – у тех жизни впереди больше. Поквитаться им охота. Не пускайте их на порог и ни в коем случае не притрагивайтесь к тому, что дают. Держите двери на запоре. Обычно выходцы с той стороны не могут войти в дом без приглашения». Валеру затошнило от страха. «Что теперь делать?» «Я откуда знаю. Поищите записки». «Почему вы свои елочные игрушки продаете, если это обереги?» – спросил Валера, чтобы хоть что-нибудь написать, слишком страшно ему было прерывать диалог и оставаться в зловещей тишине квартиры, с хныкающей от страха Маринкой и тем, что, возможно, до сих пор таилось за дверью. «К моей семье они отношения не имеют. Просто дубликат в коллекции оказался. Вам они все равно не помогут», – показалось, будто снеговик на аватарке лыбится шире прежнего. Значок «онлайн» рядом с именем собеседника пропал. И сколько Валера ни скидывал сообщение за сообщением, ему больше не отвечали. – Фабричная коробка от игрушек, надо ее найти, – сказал Валера Маринке, которая все это время стояла рядом, немилосердно дергая и обгрызая кончик тощей косы. – Я даже не знаю, как она выглядит… Про коробку он спросил у матери за ужином. Родители, да и сестра, заметили, что Валера и Маринка сидят какие-то пришибленные. Валера то почти решался рассказать им все как есть, то в последний момент прикусывал язык, представив, как все это прозвучит, и окончательно решил молчать, когда отец, жаловавшийся на какие-то неприятности на работе, прямо во время ужина полез в аптечку за валидолом. За окном мела пурга. – Зачем тебе эта коробка? – рассеянно спросила мать, думая о чем-то своем. – Ну, меня заинтересовала семейная легенда, – нарочито бодро ответил Валера. – Хочется вот на коробку посмотреть. – Да что на нее смотреть, обычная картонная коробка, – сказал отец. – В гараже, наверное, валяется. Я в нее мелочь всякую складывал, удобно, много ячеек. А может, выбросил давно, старье такое. Валера поспешил сменить тему – подспудно прислушиваясь к невнятным шумам в подъезде: то ли соседи, то ли… Звонок был выключен, и Валере все казалось, будто кто-то тихо стучится в дверь. И даже больше самого стука он боялся, что родители услышат и пойдут смотреть, кто там, а тем более откроют. Этой ночью Валера так и не смог заснуть. За окном все мело, в комнате почему-то было очень холодно, невзирая на отопление, и едва он начинал задремывать, как в шуме ветра слышалось: «Кушайте… кушайте… кушайте…»* * *
– Как думаешь, они еще люди? – тихо спросила Маринка, когда Валера вкратце пересказал ей то, что узнал от коллекционера. К счастью, родители и сестра уходили на работу раньше, чем Валера на учебу, так что можно было, всякий раз переводя дух, проследить из окна, как отец, мать, Лена благополучно выходят из подъезда и шагают по своим делам. Маринка сказалась больной и осталась дома, но когда Валера взял отцовские ключи от гаража и собрался выходить, Маринка увязалась за ним. Валера не возражал: дома сейчас было страшнее, чем на улице. – Не знаю, – Валера судорожно оглядывался. И он, и Маринка единодушно решили спускаться пешком, а не на лифте (вдруг призрак, или мертвец, или кто она там, эта родственница, умеет не только слать открытки, но и останавливать лифты?) – и впервые путешествие с шестого этажа до первого показалось таким чудовищно долгим. – Я про призраков в Интернете почитал. Может, у них вообще нет личности в нашем понимании. – А как они открытки тогда сделали? – не унималась Маринка. – Да без понятия вообще. Может, открытки, ну… как бы их часть, типа такая разведка… На первом этаже опять кто-то выкрутил или разбил лампочку. В утреннем сумраке темнели двери квартир, а лестница, ведущая к выходу, спускалась в глухую черноту. Валера включил фонарик на смартфоне. Толкнул первую дверь, деревянную, за которой был тамбур. И вот тогда увидел. Она ждала во мраке тамбура – та самая женщина с ребенком. Бескровное лицо, глаза закрыты. Крошечный сверток на ее руках шевелился, и теперь, в резком белом свете фонарика, было видно, что там даже не ребенок – недоношенный плод с выпуклыми недоразвитыми глазами, разевающий крохотный черный рот. И неясно было, кто из них, женщина или ребенок, издал свистящее сипение: – Куш-ш-ш-шайте… Женщина снова совала тряпичную сумку, держа ее за одну ручку – свет фонарика метнулся по чему-то окровавленному внутри, сумка была до краев наполнена завернутой в газеты убоиной, и эти куски мяса шевелились, – но Валера уже вдавил кнопку домофона и прямо-таки вывалился в пасмурную белизну улицы, на заснеженное крыльцо, утаскивая за собой Маринку. Он обернулся к закрывающейся двери – кажется, в тамбуре уже никого не было. Держась за руки, Валера с Маринкой побежали через двор, молча, изо всех сил меся ногами снег на нерасчищенной дорожке. Валера то и дело оборачивался, но двор был совершенно пуст. Тонули в снегу детские турники и покосившаяся горка. Низкое небо было цвета панельных девятиэтажек. От мороза перехватывало дыхание. Только когда обогнули хоккейный корт и выбежали к дороге, Валера с трудом выговорил: – Ты ничего не… ничего не трогала? Не касалась этого… в сумке? Маринка, зажмурившись, замотала головой. К гаражам шли не через пустынный сквер, хотя так было быстрее, а через квартал новостроек. Среди ярких стен, многоцветно светящихся витрин и неторопливых прохожих ощущение вплеснувшегося в реальность ночного кошмара приотпустило. Но тут в кармане куртки зажужжал и зазвонил телефон, Валера достал его закоченевшими пальцами и услышал нарочито спокойный голос матери, словно бы рывками пробивающийся сквозь запредельную тишину: – Валь, ты только не пугайся… папу в больницу увезли, я к нему поеду… вы там с Леной приготовьте что-нибудь, в морозилке курица есть… Валера выронил телефон в снег, поднял, уже не чувствуя рук, поспешно обтер шарфом. Динамик нового смартфона был громким; Маринка, стоявшая рядом, все прекрасно расслышала и заревела.* * *
Ничего похожего на коробку из-под елочных игрушек в гараже не нашлось. Валера обшарил все полки по периметру бетонного помещения, все старые пыльные тумбочки у дальней стены и даже зачем-то заглянул под автомобиль. Маринка стояла возле распахнутых ворот и выглядывала на улицу. В гаражном поселке сегодня было ужасающе пусто, хотя обычно в любое время года жизнь тут кипела вовсю; лишь слышно было, как посвистывает ветер в проводах, и в этом свисте Валере навязчиво мерещилось «куш-шайте…» Он подошел к Маринке и молча развел руками. – Может, в подполе еще посмотреть? – тоскливо спросила та. По правде говоря, про «подпол» Валера совершенно забыл. «Подполом» называли глубокую бетонированную яму, выкопанную когда-то для хранения картофеля. Валера не раз слышал от сестры, что в девяностые годы, до его рождения, семья порой выживала только благодаря запасам картофеля в этой яме, выращенного на огородах, под которые перекопали всю дачу. Теперь «подпол» пустовал. Вряд ли в нем что-то было, но все же Валера приподнял дощатый настил по сторонам от машины и скоро нашел железный люк. С трудом открыл. Квадрат кромешной черноты слепо вытаращился на него. Валера опасливо посветил в люк фонариком на смартфоне, затем взял большой и более мощный фонарь, лежавший на тумбочке. Батарейки в нем давно не меняли, луч света нервирующе мигал, но сумел достать до дна ямы и высветил высокие бетонные стены. – Ну реально бомбоубежище, – пробормотал Валера. Бывшее картофелехранилище не совсем пустовало: по углам валялись какие-то коробки, вдоль одной из стен зачем-то стояли здоровенные пенопластовые плиты – интересно, как отец затащил их туда? Вниз вела узкая, поглоданная ржавчиной лестница. Валера закрыл ворота гаража изнутри на черенок лопаты, всучил Маринке фонарь: – Держи крепко, – и полез в яму. Там пахло затхлостью и плесенью. Под высоким потолком висела лампа в паутине, но в отличие от ламп наверху, она не горела – Валера без толку пощелкал рубильником на стене. – Валь, – в казавшемся отсюда очень маленьком светлом проеме Маринка нагнулась и неуклюже спустила вниз полную ногу в меховом ботинке. – Я боюсь тут одна оставаться! Можно, я к тебе спущусь? – Блин… Ну ладно, кидай мне фонарь. И смотри не навернись. Маринка, пыхтя и оскальзываясь, кое-как спустилась по лестнице. – Вон, смотри, – Валера указал ей на большущие листы пенопласта. – Забрать для тебя домой, что ли, чтобы ты на них душу отводила. Режь – не хочу. – А я и не хочу, – откликнулась Маринка. И пока Валера, повернувшись к ней спиной, перебирал хлам по углам, она добавила – с паузами, с трудом подбирая слова: – Я вообще не хочу ничего резать. Просто не могу… по-другому. Я же знаю, что я тупая уродина. В придачу толстая. Когда папа с нами жил, то обзывал маму толстозадой коровой. Говорил, что такую же родила. Что он хочет пацана, а не жирную девчонку. А мама вообще сначала хотела аборт делать. Потому что хотела родить позже и… не меня. Она мне сама так сказала, когда я три «пары» за день получила. А почему меня не спросили, хочу ли я вообще родиться? Тупой жирной уродиной? Я хочу быть как моя одноклассница Илона. Худой, с длинными ногами, и хорошо говорить по-английски. А вырасту и буду такой же, как мама. Мама сама говорит, что у нее все в жизни через жопу. – Ну, знаешь, я беру свои слова назад, ты точно не тупая, – Валера поворошил ногой картонки, лежавшие под пустыми холщовыми мешками. – Гораздо умнее своих психологов, если уж на то пошло… Гляди, нашел. Валера поднял сплющенную пыльную картонку. Едва различимы на ней были остатки ободранной картинки – верхушка схематичной елки, хоровод безголовых детей, надпись: «Ел…ые ук…ния». Внутри были смятые ячейки из-под игрушек. И ничего больше. Обычная старая коробка. Только на помойку ее. Валера разочарованно ругнулся, швырнул картонку обратно в угол, постоял, пытаясь собраться с мыслями: ну что теперь-то делать, не в полицию же, в самом деле, идти, хотя – куда еще?.. И как там отец – может, ему уже успели вручить «подарок», а может, ему плохо стало, когда он увидел эту чертову бабу с дитем… Маринка подняла брошенную коробку, тоже внимательно ее осмотрела. – Да нет там ничего, – зло сказал Валера. Страх все сильнее пробирал до костей, вместе с холодом, не таким ледяным, как наверху, но особенно пронизывающим, могильным. – Тут крышка странная, – сказала Маринка. – Похоже, снизу что-то приклеено… Крышка коробки оказалась двухслойной, с картонным карманом, в котором обнаружились мелко исписанные тетрадные листки. Бумага была пожелтевшей, а чернила – поблекшими и кое-где расплывшимися от сырости, но слова еще можно было разобрать. Валера уселся на перевернутый деревянный ящик, подвинулся, чтобы рядом пристроилась Маринка с фонарем. Осторожно развернул сложенные пополам листки. «Зиночка, если сможешь, прости меня…»* * *
В 1941 году Гале исполнилось тринадцать лет. Дети соседей росли, как дворовая трава, – так про них говорили досужие старухи, выглядывавшие летом из открытых окон многолюдной коммуналки. Хотя на самом деле ни травинки не росло во дворе большого четырехэтажного дома на 5-й линии Васильевского острова. Двор был унылый и серый, как большинство ленинградских дворов, с глухими стенами домов напротив, в которых лишь кое-где виднелись разномастные окошки, прорезанные с логикой горячечного сновидения. Однако детворе и такой двор годился, благо просторный – можно было играть в прятки в подворотнях или наблюдать, как многочисленные подвальные кошки охотятся на не менее многочисленных чердачных голубей – причем мальчишки радовались охотничьим успехам кошек, а девочки, наоборот, жалели голубей и кошек гоняли. Галя чуралась дворовых развлечений, она была тихой девочкой, хорошо училась и очень старалась, чтобы у мамы не было лишних поводов укорить ее. Мама, миниатюрная, взбалмошная, безалаберная, как стрекоза из басни, была актрисой в театре – пусть не в совсем настоящем взрослом театре, а в ТЮЗе, и пусть на вторых ролях, но все же творческая профессия объясняла мамин непредсказуемый нрав. То она была доброй и ласковой, то грубо бранила Галю за оставленную невымытую тарелку, то сама разводила невероятный беспорядок в комнате, то вовсе не слышала, что Галя говорит. Настроение мамы зависело от того, насколько ладилась ее жизнь с молодым мужем, Галиным отчимом, и потому Галя старалась, чтобы отчиму тоже было нечем ее укорить. Отчим же, младше матери лет на десять, недурной собой, но какой-то засаленный мужчина, с жирными черными волосами, относился к Гале вроде бы неплохо, хотя видел в ней кого-то вроде прислуги. Звали отчима Геннадий, «дядя Гена». Он был человеком неопределенных занятий, порой целый день лежал в комнате на тахте и посылал Галю то за хлебом, то за квасом. Галя откладывала уроки и шла выполнять поручение, и если видела во дворе распотрошенные кошками голубиные тушки в ореоле лежавших рядом сизо-белых перьев, то обходила их подальше – вид сырого мяса вызывал в ней отвращение на грани страха. Кроме мамы и отчима была у Гали старшая сестра Зина – та родилась еще в самом первом мамином браке, не в том, от которого осталась Галя, а еще раньше. Зина была уже совсем взрослой, девятнадцатилетней, и работала на заводе. У нее был ухажер, симпатичный парень по имени Роман, она несколько раз приводила его в гости и очень хвасталась им перед соседями и перед Галей. Не сказать, что Галя с Зиной жили дружно – и ссорились, и дулись друг на друга, а еще однажды Галя, когда была помладше, изрисовала чернилами почтовые карточки, которые Зина коллекционировала – так Зина ее даже отлупила за это. Но в общем, они, кажется, любили друг друга – а как иначе, когда у тебя на свете так мало близких людей, ведь кроме мамы и друг друга больше никакой родни у них не было. Самое начало войны Гале как-то не запомнилось. Разговоры взрослых о настоящей войне стали естественным продолжением школьных рассказов о том, как красные побеждали белых, о врагах-капиталистах, а еще – учебных воздушных тревог, и фильмов про войну, и суровых песен – «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет…». «Завтра» будто накликали, но заметила это Галя, только когда ввели карточки. Но это еще было ничего: кругом говорили, что война скоро закончится и все станет, как прежде. И воздушные тревоги пока еще казались учебными, понарошку. Все шло своим чередом, мама ходила работать в ТЮЗ, у Гали начался учебный год; ребят в классе было мало. Зина стала бойцом МПВО – Местной противовоздушной обороны – и теперь жила где-то в Выборгском районе, в переоборудованной под казарму школе, как она сама рассказывала во время редких визитов домой. Закрыли продуктовые магазины. В длинном коммунальном коридоре стало тише – многих мужчин забрали в армию. А вот мамин муж, даром что молодой и здоровый, каким-то образом отвертелся. Все так же лежал на тахте, только теперь стал пропадать куда-то чаще. За хлебом Галя теперь ходила не одна, а с мамой – у той были карточки. Однажды вышли на улицу и в очень высоком, чистом, розоватом небе – будто кровавой водой умытом, это сравнение Гале на ум будет приходить уже позже, – увидели немецкие самолеты. Маленькие аккуратные черные кресты в вышине. С того дня война началась настоящая: во время налетов гремели взрывы, дом дрожал, повылетали все оконные стекла, вместо них дворник вставил фанеру, и в комнате теперь было всегда темно и как-то дико. Едва начинали выть сирены, Галя с мамой спускались в бомбоубежище. Дядя Гена в это время всегда был дома и спускался вместе с ними. В бомбоубежище он порой шутил, старался, видать, заглушить страх, но шутки у него выходили глупые, порой отталкивающие. Однажды сказал ухоженной старушке Эльзе Францевне со второго этажа, которая всегда приносила в бомбоубежище в корзине свою старую разжиревшую болонку и круглого кота, – мол, если нормы продовольствия еще сократят, придется питомцев Эльзы Францевны пустить на котлеты. Старушка демонстративно отодвинулась от дяди Гены и больше с ним не здоровалась. А нормы выдачи продуктов снизили в середине сентября, потом в октябре… В ноябре мысли о еде уже напрочь затмевали все остальное. Галя жила будто в сером коконе, все кругом было вроде рядом, а вроде и где-то далеко, зато мучительно острыми, до боли, были воспоминания о тарелке горохового супа, который Галя не доела летом, вылила в унитаз – ну как так можно было, суп – и в унитаз?! Или о куске хлеба, который она однажды, сидя у открытого окна, от нечего делать скормила голубям. Думала даже о картофельных очистках – столько еды, помыть да отварить, зачем выбрасывали?.. Галя теперь ходила в школу исключительно из-за тарелки супа: теплая водица с щепоткой муки. Увы, мама совсем не умела делать запасы. Еще в начале октября, когда семья не голодала по-настоящему – так, подголадывала, мама где-то обменяла все свои золотые украшения на сумку консервов, и на несколько дней наступила сытая, почти довоенная жизнь, а потом все стало хуже прежнего. Дядя Гена иногда приносил еду – то крупу, то сахар. Как оказалось, он обворовывал запертые квартиры эвакуированных: в ноябре Галя сама увидела, как он вскрыл комнату Эльзы Францевны – старушку, кажется, забрали к себе родственники. Галя ему ничего не сказала. Отчасти потому, что не умела возражать взрослым. Но не только поэтому. Утром она видела, как мальчишки, в больших рукавицах, с мешками, с рюкзаками, пошли охотиться на бродячих кошек. С невольным тошным любопытством задержавшись у окна подвала, Галя слышала истошные кошачьи вопли и для себя решила: честное слово, лучше она воровать будет, чем вот так. – Мам, ты не сразу все ешь, ты по частям, – тихо уговаривала Галя и пыталась спрятать остатки хлеба в тумбочку. Но мама ее не слушала – как всегда. Отбирала весь свой хлеб и съедала за раз, а потом целый день сидела голодная. Домой вдруг вернулась Зина. Почему, как, отчего? Оказалось – беременная. Живот уже был заметен, вообще же Зину было не узнать – исхудавшая, с распухшими ногами, с серым лицом, очень молчаливая, она не хотела отвечать ни на какие вопросы, легла лицом к стене да так и лежала сутками. Жених Роман погиб на фронте, а ее из-за беременности комиссовали – это все, что удалось выяснить. Через неделю оказалось, что мама каким-то образом исхитрилась забрать по карточкам хлеб «вперед» и в одиночку его весь съела. Узнав об этом, дядя Гена назвал ее пустоголовой мартышкой, замахнулся, как для удара, но не ударил и ушел куда-то прочь из квартиры. Мама заплакала, собрала самую лучшую свою одежду – меховые сапоги, пальто с лисьим воротником – и побрела на черный рынок, попытаться выменять хоть немного еды. Галя пошла в школу – только и думая о том, как в школьном подвале, где теперь проходили занятия, будет хлебать жиденький мучной суп, – но оказалось, что школьное здание разбито вчерашним авианалетом. Галя отправилась обратно. Несколько раз видела трупы, последний – лошадиный, вокруг него собрались люди, они лопатами, топорами, ножами выдирали из туши куски мяса, кровь мешалась с грязью. Прежде от такой картины Галю бы, наверное, вырвало – но теперь мысль была лишь одна: мясо. Надо достать хоть кусочек. Хоть голыми руками. Как обрадуются мама и сестра, если Галя принесет мясо. Она робко попыталась протиснуться к туше, но ее оттолкнули. Галя пошла домой. Мама выменяла пальто с лисьим воротником на хлеб из опилок. Лишь ближе к вечеру она вспомнила, что в кармане пальто остались все, все продуктовые карточки. Дяди Гены дома не было; мама сказала, что пойдет обратно на рынок, а Гале велела оставаться дома, и снова Галя пыталась робко возражать, и снова ее будто не слышали. Обычно немцы бомбили по вечерам, с начала девятого до полуночи. Мама должна была успеть вернуться. Но она не вернулась – ни вечером, ни утром. Не вернулась вообще. Зато пришел дядя Гена, принес откуда-то немного крупы и жмыха. Галя сказала ему, что мама не вернулась и что теперь у них нет карточек. Отчим посмотрел на нее как-то оценивающе, помолчал. Наконец сказал: – Ничего, мышонок, будешь меня слушаться – проживем. А не будешь – пеняй на себя. И Галя слушалась. Сначала они вдвоем ходили по квартирам во время налетов, когда те жильцы, у кого были силы, спускались в бомбоубежища. Какие-то квартиры дядя Гена вскрывал, а в какие-то Галя пробиралась через выбитые окна: дядя Гена подсаживал ее с улицы, и очень маленькая для своих лет, худенькая Галя запросто пролезала даже в совсем небольшое окно. Брали все съестное, что находили. Поначалу Галю мучила совесть, но не сильно – все мысли о том, что она, пионерка, занимается воровством, затмевал тот миг, когда она клала в рот кусок украденного сахара. Сахарницу нашла в буфете у лежащей тут же мертвой старухи – которой этот сахар все равно уже не нужен! А потом дядя Гена рассказал ей, как воруют управдомы, и даже показал, как в одном из соседних домов управдомша устроила пиршество с танцами – они смотрели из окна пустой, вскрытой квартиры в доме напротив. После этого Галина совесть замолчала почти вовсе. Обычно дядя Гена не разрешал брать ценные вещи – только еду. Говорил, что из-за ценностей милиция будет искать, а еда – «да кто его разберет, кто сожрал». Но изредка выносили дорогую посуду, статуэтки, часы и прочее из тех квартир, про которые дядя Гена откуда-то точно знал, что жильцы уехали в эвакуацию или умерли. Такие вещи дядя Гена обменивал на еду на черном рынке. Так Галя с дядей Геной стали почти друзьями. Подельниками. И все было почти неплохо, пока в декабре не оказалось, что воровать уже нечего. Кругом царил такой холод, что дух вымораживало, – и на улице, и в коммунальной квартире, почти опустевшей, с пустыми же комнатами, откуда немногочисленные оставшиеся жильцы вынесли все, что могло гореть в печках-буржуйках. Холод мучил даже больше голода: казалось, шел изнутри, из пустого желудка. Дни теперь проходили в тягостном отупении. Перед внутренним взором неспешно проплывали блюда, торжественно, будто суда по Неве, – тарелки размером с баржи, полные ненавистной в довоенное время манной каши, или пироги высотой с Адмиралтейство – непременно мясные. Галя уже несколько месяцев не ела мяса. Зина была совсем слабая, вставала только для того, чтобы дойти до ведра в коридоре. Исхудавшее лицо ее казалось совсем маленьким, руки – обтянутые кожей кости, зато живот был большим и круглым, будто вобравшим в себя все жизненные соки изможденного тела. От голода у нее тоже мутилось сознание, только грезила она не о еде, а о том, что вернется с фронта ее давно погибший жених. «Такую свадьбу справим», – восклицала она, тяжко переворачиваясь на кровати, и Гале становилось жутко. Еще Зина говорила о сыне, почему-то она была твердо уверена, что у нее будет сын. «Ромой назову, как папу». Надо сказать, если бы не дядя Гена, то Галя и Зина, наверное, уже бы умерли. Где-то отчим умудрился найти, или украсть, или выменять целую лошадиную голову, и они с Галей вместе сходили к Неве набрать воды, чтобы эту голову сварить – вдвоем было легче нести тяжелое ведро. Люди спускались к замерзшей реке, к проруби, по заледеневшим ступеням. Какая-то женщина поскользнулась, упала и уже не могла подняться. К ней никто не подошел. Галя тоже головы не повернула. Во дворах теперь не было ни голубей, ни воробьев, ни кошек, ни собак, ни крыс. Всех съели. Не было и тех соседских мальчишек, которые охотились на кошек. Единственная на весь коммунальный коридор еще живая соседка, баба Нюра (в которой страсть к сплетням словно поддерживала остатки сил) рассказала, что мать мальчишек сошла с ума, убила младшего и скормила своему любимцу – старшему. Баба Нюра вообще много чего подобного рассказывала. Говорила, будто на черном рынке продаются пирожки с человечиной. Говорила, что в городе появились банды людоедов, которых легко определить по сытому, здоровому румянцу, и потому они выходят охотиться на людей, когда темнеет. Рассказывала и такое: якобы на Съездовской зачем-то приземлился немецкий парашютист, так его людоеды поймали, затащили в узкий двор-колодец и там по частям зажарили и съели – когда немец еще жив был, ему уже ноги над костром пекли, и все жители окрестных домов слышали жуткие вопли. Эта история Галю особенно впечатлила, хотя была очевидным вымыслом. Дядя Гена усмехался, мол, истории про банды людоедов – преувеличение, но в то же время велел Гале не ходить в одиночку по подворотням, а то, что с валявшихся на улицах трупов начали срезать мясо – Галя и сама видела. И это даже не показалось ей слишком отвратительным: ничто уже не пробивало ледяную корку голодного отупения. Только подумалось: кто-то поел мяса. Хоть какого, но мяса. Как хотелось мяса!.. Мысли Гали словно были услышаны. Ближе к концу декабря дядя Гена принес небольшой кусок мяса, уже с легким душком, но вроде еще годный к употреблению. Сказал, что выменял на черном рынке. Галя, как и Зина, последние дни почти не поднималась с кровати, из-под горы одеял, которые все равно не грели – само тело уже не производило тепла. Долго не лежать – это было важное правило, и Галя вставала, шаркала до окна (ноги не поднимались) и шла обратно. Но уже один только запах вареного мяса придал силы встать на ноги. Мясо было непонятным, белым, по вкусу напоминало курицу, но со странным горьковатым привкусом. – Что это? – спросила Зина. – Собачатина, – сказал дядя Гена. Его худое лицо было темным от голода, глаза ввалились: он смотрел будто из двух глубоких ям, и, возможно, потому взгляд казался первобытным, одичалым. – Фу, – для порядка сказала Галя и добавила: – Но вкусно. В конце декабря, под наступающий Новый год, Зина, давно ко всему безучастная, кроме еды, вдруг начала искать что-то в ящиках большого комода, который пока еще миновала участь быть разбитым топором и сожженным в буржуйке. Все соседи умерли, даже сплетница баба Нюра – она погибла от опухания, потому что с голоду слишком много пила подсоленного кипятка. Тишину вымершей коммунальной квартиры нарушали только грохот бомбежек и артобстрелов, да хлопанье входной двери, когда возвращался дядя Гена, ходивший куда-то по своим темным делам. – Чего тебе? – безучастно спросила Галя. Каждое слово вылетало в тишину облачком пара – буржуйка не прогревала большую комнату, по углам призрачно белела изморозь, а на улице стоял такой мороз, что перебивало дыхание. – Открытки, где мои открытки? – Зина, кряхтя, выпрямилась, посмотрела на Галю совершенно безумными огромными глазами. – Я Роме хотела написать… С наступающим поздравить. – Зин, твой Рома погиб давно, – отчетливо и безжалостно сказала Галя; сестра ее по-настоящему напугала. – На фронте. – Да, да, – Зина опустила руки и истерически засмеялась, потом заплакала – почти без звука, совсем без слез. Ее огромный круглый живот трясся. – А где открытки? – Не знаю. Наверняка на растопку пошли, – Галя почему-то тоже захихикала, хотя ей вовсе не было смешно. Нижний, самый большой ящик комода остался открытым. Что-то там лежало, завернутое в грязные, в разводах, газеты. Зина запустила туда руку, достала то, что лежало сверху, развернула. Это оказалосьчеловеческое – детское – бедро. Сизовато-бледная кожа, торчащая обрубленная кость. Зина, всплеснув руками, бросила его на пол. В ящике оказалось еще несколько кусков детских тел – части рук и ног. – Галь, Галь, – забормотала сестра. – Это что делается-то… В милицию надо… Галя все сразу поняла. «Собачатина». Так вот что они недавно ели. Вспомнилось, как дядя Гена уходил куда-то с пилой. Галя подумала, что ее сейчас вырвет, должно вырвать. Она склонилась вперед, но рвоты не было. Пустой желудок настойчиво требовал еды. Все равно какой. Все равно. Зина с трудом поднялась со стула, придерживая живот. – Пошли в милицию. Прямо сейчас, пока он не вернулся. – Нет, – уперлась Галя. – Если дядю Гену арестуют, нам есть нечего будет, пропадем! Ты, что ли, будешь еду добывать, со своим пузом? Когда и до ведра дойти не можешь! – Ты с ума сошла? Он же убийца! – Да никого он не убивал! Он трупы распиливал, а трупам все равно! – Это тоже преступление! – Но не убийство! – Ты так говоришь, потому что воруешь вместе с ним! Стыд какой! А еще пионерка! – Дура! Сама ведь за двоих ешь ворованное! – с обидой и злостью выкрикнула Галя. Все это время ей казалось, что они с Зиной невыносимо громко кричат друг на друга, хотя на самом деле они из последних сил едва сипели в промерзшей комнате. Зина несколько раз порывалась выйти из квартиры, но Галя ее удерживала: – Никуда не пойдешь! Сиди тихо! Делай вид, что ничего не знаешь!.. (Много-много лет потом Галя себя спрашивала, что было бы, если б она послушала старшую сестру, если бы они тогда успели вдвоем выйти в остервеневший декабрьский мороз, сумели бы дойти до отделения милиции, все бы рассказали… Если б они после ареста отчима остались одни – умерли бы они обе? Или все-таки обе выжили бы?..) Тут в коридоре ухнула входная дверь – пришел дядя Гена. Больше было некому, больше в их огромной коммунальной квартире никого в живых не осталось. Зина еще что-то договаривала про милицию и уголовщину, Галя зажала ей рот, затем попыталась забросить кусок тела обратно в ящик, но выронила из закоченевших и опухших пальцев. Дядя Гена вошел в комнату, когда ящик еще оставался открыт, а на полу лежал детский окорок. Он уставился на сестер. – Кто сказал «милиция»? В сумерках чудилось, будто вместо глаз у отчима – провалы в темноту, словно лицо его было маской, под которой – лишь бездонная пустота. И глядя в чернейшую эту пустоту, Галя, едва раскрывая обметанный ледяным ужасом рот, произнесла в совершенной тишине: – Это не я. Это Зина. Мне вообще все равно, не мое это дело… Отчим схватил Зину за плечо и молча потащил из комнаты. И Зина еще успела обернуться, взглянуть на Галю и отчетливо сказать: – Что, сестричка, кушать хочешь? Ну вот убьет он меня теперь – так на, кушай! Галя слышала, как отчим протащил Зину по коридору и запер в давно не действующем туалете. Слышно было, как Зина из последних сил пару раз стукнула в дверь, что-то прокричала… На пороге снова появился отчим. Ничего не сказал, просто захлопнул и запер дверь комнаты. Теперь настала очередь Гали кричать и колотить в дверь – впрочем, ее сил хватило лишь на несколько слабых ударов, а голоса – лишь на тихий хрип. – Дядь Ген, я же помогала тебе, я же всегда слушалась!.. Когда силы окончательно иссякли, Галя опустилась на пол возле двери и впала в бездумное оцепенение. Сквозь щели между кусками фанеры на окне просачивался серый свет. Даже если выбить фанеру – третий этаж… Сколько она просидела? Очнулась, когда поняла, что почти не может пошевелиться от холода. Поднялась, растопила буржуйку остатками книг. Вместе со слабым теплом, разливавшимся от рук по телу, пришло понимание, что же она наделала. Проявила малодушие и трусость, не достойные советского человека, не достойные человека вообще… Галя снова провалилась в безмыслие, граничащее с помешательством. В какой-то миг поняла, что сидит напротив печки, раскачивается из стороны в сторону и смотрит на дотлевающие уголья. И на ведро с остатками воды у печки. И тогда посреди ее сознания, пустого, как вымерший дом, зазвенела одна мысль. Небольшой план. Она долго не могла решиться. Слушала, как дядя Гена ходил туда-сюда в коридоре, гремел то ли тазами, то ли кастрюлями. В конце концов вылила из ведра остатки воды, насухо вытерла его. Выгребла весь уголь и золу из буржуйки в ведро, растопила печку снова выломанными досками полуразобранного паркета, стала сбрасывать в ведро тлеющие угольки. Они посвистывали и щелкали с крошечным эхом, отражавшимся от жестяных стенок. Галя подождала, пока в ведре, по ее расчетам, не наберется достаточно золы и тлеющих угольев, и с этим ведром и с жестяной кружкой подошла к двери. Привалилась плечом к косяку и начала бить по двери кружкой. – Дядя Гена, мне в туалет надо! Переводила дыхание и начинала колотить снова. Жестяной стук в пустой квартире был особенно раздражающим, так что скоро дверь открыли. – Да я тебя пришибу… Топор в руке отчима. Большой окровавленный топор. Это Галя заметила мгновением позже – когда уже со всем отчаянием сыпанула уголья и золу из ведра невысокому отчиму в лицо. Тот закашлялся, схватился за глаза – на какие-то несколько секунд, и этого хватило, чтобы Галя успела выбежать в коридор. И успела увидеть. В сумрачном освещении, идущем из кухни, где фанеры на окнах не было, дверь в ванную стояла распахнутая, и оттуда шел густой, липкий, теплый запах крови. В расставленных тазах лежали огромные бордовые куски мяса. В отдельной миске – или это уже позже дорисовало Галино воображение? – лежал мертвый окровавленный младенец. Всего миг, когда темный багрянец ударил по глазам и в ноздри, – и Галя уже бежала к входной двери. Она успела открыть замок. Успела выбежать на лестницу. И все время не переставала истошно кричать – «Помогите! Людоеды!..» Все последние силы она вложила в крик. Возможно, это ее и спасло. На первом этаже открылась дверь – были, были еще люди, оставались еще те, кто не побоялся, не сделал вид, будто не слышит, не убедил себя, что, мол, не его дело… Галя уже очутилась на улице. Здесь силы ее оставили окончательно, и она, едва не падая, сухо рыдая, кое-как доплелась до соседней парадной. И совершенно точно – это было второе, что ее спасло. Возможно, отчима задержали те, кто выглянул из квартиры на первом этаже. Возможно, он подумал, что Галя убежала на улицу. В соседней парадной он так и не появился. Галя обнаружила квартиру с незапертой дверью, вошла в ледяную комнату, где на кровати лежал кто-то, с головой укрытый пальто и одеялами, с деревянно торчащими из-под гор тряпья тощими ногами в валенках, по-видимому, давным-давно умерший. Там она залезла под стол с длинной скатертью и сидела полчаса, час, вечность. Потом выползла на четвереньках и тихо завыла. Она с Зиной могла бы уйти раньше. Могла бы, могла… Галя выла и выла, глядя в закопченный потолок, и вдруг гора одеял с покойником зашевелилась. Из-под одеял вылез закутанный до носа очень серьезный мальчик лет трех-четырех. Он подковылял к Гале, потрогал ее за плечо: – Теть, не плачь, не плачь, теть… – Ты кто? – безголосо спросила Галя. – Я Тема. Я тут живу. А там моя мамка. Она мертвая. Галя невольно подумала, что запросто могла бы убить и съесть этого мальчика, и никто бы не узнал, – вон нож, вон печка, а вон спички на столе – и снова завыла, вцепившись в спутанные волосы под сползшим платком. Собственно, Тема ее и спас. На столе, накрытом скатертью, рядом со спичками обнаружилась записка: «Если я умру, отведите Тему по адресу: Волынский переулок, дом 8, квартира №…». Галя дождалась утра, взяла стоявшие в коридоре детские санки (на таких ленинградцы теперь чаще возили по улицам трупы, нежели детей) и вместе с Темой вышла в мертвенно-холодное, окровавленное зарей утро. Она торопилась уйти со своего двора, из своего квартала, но надо было беречь силы, она и так едва переставляла ноги, волоча их по свежевыпавшему снегу. Идти было неблизко – по набережной, по Республиканскому мосту, мимо заметенных мертвых трамваев… Иногда Галя оборачивалась к Теме, неподвижным кулем сидевшему на санках: – Ты там еще живой? И он тихонько отвечал: – Да. В доме на Волынском переулке их встретил запах лепешек из жмыха – не мяса, не мяса – и какая-то женщина, обнявшая мальчика. Оказалось – тетка, сестра Теминой матери. Наталья Викторовна. Она приютила и молчаливую Галю. Та теперь почти не разговаривала, часами могла смотреть в одну точку, но жила, жила – бездумно, отупело, растительно, как зелень на огородах, появившихся к лету по всему Ленинграду, и старательно окучивала картошку в Михайловском саду, чтобы от многих и многих людей отступило голодное помешательство. Сама же Галя, казалось, навсегда оставила чувство голода там, в коммунальном коридоре с окровавленными тазами. Она часто забывала поесть, порой до голодных обмороков, и, возможно, уморила бы себя, если бы не Наталья Викторовна, взявшая ее под свою опеку. Так, в безмыслии, почти без воспоминаний, Галя прожила весну, лето, осень 1942 года. А в декабре началось. Ближе к Новому году каждую, каждую ночь Галя просыпалась от того, что ей снилась Зина: сестра сидела в окровавленной ванной, по пояс в убоине, с огромным своим животом; она протягивала что-то красное, сочащееся, и говорила: «Кушай». Ничего уже Гале не надо было, ни победы, ни окончания войны, только бы перемотать время назад, вернуться в промерзшую комнату коммуналки и выйти оттуда вместе с сестрой. Вместе. До того, как вернется отчим. Наталья Викторовна, внимательно наблюдавшая за Галей, как-то раз сказала ей: – Вижу, мертвец за тобой следом ходит. Чем-то ты мертвеца крепко обидела. Не отвяжется. Галя даже не удивилась, лишь безучастно пожала плечами. – Ты спасла Тему, поэтому я тебе помогу, – добавила Наталья Викторовна. Именно она и подарила Гале набор елочных украшений. Велела под каждый Новый год вешать их на елку или просто развешивать в доме – и ни в коем случае не бить нарочно. Как оказалось, до войны Наталья Викторовна работала на фабрике елочных игрушек и знала некоторые тайны незамысловатых стеклянных вещиц, способных не только украшать, но и оберегать. После войны Галя уехала прочь из Ленинграда, с одной мыслью – куда угодно, лишь бы подальше от могильно-гранитных набережных, от мертвецки ледяных ветров. В Перми, тогда – Молотове, у Натальи Викторовны жили дальние родственники, к ним Галя и отправилась. Коробку елочных игрушек взяла с собой. И всю последующую жизнь училась главному – не вспоминать. Воспоминания были под запретом. Под прочным запором на двери сумрачной комнаты ленинградской коммуналки. А елочные украшения Галя берегла как зеницу ока, никому не позволяла до них дотрагиваться, потому что накрепко запомнила сказанные ей слова: «Если ты однажды увидишь своего мертвеца не во сне, а наяву – он не оставит тебя, пока не передаст то, с чем пришел».* * *
Валера поднялся с перевернутого ящика, свернул пожелтевшие исписанные листы. – Не понимаю, чем нам может помочь эта история. Хоть бы слово было написано о том, что теперь делать! Маринка так и сидела, теребя в руках все чаще мигающий фонарь. – А я бы сразу ушла, – сказала она. – Не стала бы ждать этого… который мертвечиной кормит… Валь, а ты бы ушел или остался? – Не знаю, – с досадой сказал Валера. – Идем отсюда, а? – Я не хочу домой, – откликнулась Маринка, нахохлившись на ящике. – Я вообще никуда не хочу. Страшно. – Ну а что теперь, так и будешь здесь сидеть? Еще немного поуговаривав племянницу, Валера разозлился: – Ну и сиди, – и первый полез наверх, понимая, что это не лучшая идея, что не следует оставлять неуклюжую Маринку одну лезть по узкой высокой лестнице – но пошло все, ему-то что теперь было делать, к кому обращаться, куда идти?.. В гаражном боксе он невольно огляделся – закупоренная в бетонной коробке тишина напополам с тусклым желтым светом казалась хоть каким-то убежищем, хотелось забиться в угол между стеной и старой кухонной тумбочкой и так сидеть, пока все не решится как-нибудь само – но нет, не решится, – и с этой мыслью Валера открыл ворота гаража. Внутрь ворвалась метель. – Маринка! Я сейчас уйду, ну в самом-то деле! – Подожди, – донеслось глухо из ямы. Валера остановился, глядя в череду запертых ворот напротив. Наискось летел снег. Раздраженно обернулся: – Ну, ты скоро там?.. В яме что-то громко бряцнуло о лестницу. И сразу – что-то тяжело, глухо упало. Фонарь, подумал Валера, – надо же быть таким идиотом, он ведь не забрал у Маринки большой фонарь! А она, небось, додумалась лезть по лестнице, держа его в и без того неуклюжих руках… – Маринка! Блин, Маринка! В яме было черно и тихо. Трясущимися руками Валера достал телефон, включил фонарик, едва не выронив гаджет в яму. Нагнулся, посветил. Племянница лежала на полу у лестницы. – Маринка… – Валь, у меня с ногой что-то, – глухо донеслось снизу. – Ногу согнуть не могу. Ругаясь, Валера снова полез в картофелехранилище. Вот что стоило ему просто подождать, пока Маринка сама соберется вылезти, и подстраховать ее снизу? Он кое-как помог племяннице подняться на ноги, изнывая от мысли, как будет объяснять все произошедшее родителям и сестре. – Ну чего ты не держишься как следует, рохля?! Маринка тихо шипела сквозь зубы. В яме, казалось, стало особенно холодно: это был мертвый, перехватывающий дыхание сухой мороз, будто с необитаемой планеты. Смартфон, не державший долго заряд на холоде, мигнул красным огоньком, предсмертно пискнул и вырубился, фонарик погас. Осталось тускло-желтое окошко люка наверху, совсем не рассеивающее темноты. – Достань телефон, – сказал Валера. – Щас, – Маринка зашуршала курткой, вжикнула молния. Ледянисто-белый круг света метнулся по лестнице (на стену скакнула ее огромная тень), скользнул под ноги, заметался вокруг. – Валь, там кто-то есть! Валера выхватил у Маринки телефон, снова направил на лестницу. Женщина стояла рядом, буквально в двух шагах. Одной рукой прижимала к себе младенца, другой – протягивала битком набитую сумку. Маринка взвизгнула, попыталась отскочить за Валеру и снова свалилась на пол. «Ворота», – в оцепенении подумал Валера. Он оставил открытыми ворота. И люк. – Куш-шайте… В сумке лежала человеческая убоина. Части тела, полузавернутые в газеты. Протяни руку – дотронешься. Женщина сделала шаг вперед и попыталась всучить Валере сумку. Тот в последний миг дернулся назад, но все же на долю секунды дотронулся пальцами до грубой, заскорузлой, совершенно настоящей на ощупь ткани, под которой бугрилось сочащееся кровью содержимое. И это прикосновение будто током его ударило: ведь то, что выглядело как сумка с нарубленной человечиной, на самом деле являлось уплотнившимся до зримости и осязаемости сгустком боли, обиды, ужаса, беспомощности – тугое, созревшее, готовое взойти семя несчастий, бед, обездоленностей, которое прорастет сквозь всю его жизнь, пронизав ее незримыми цепкими ростками – если только он возьмет «подарок» в руки. И тут Валера подумал, что еще успеет подскочить к лестнице и быстро взобраться наверх. И пусть мертвая родственница вручает свой жуткий подарок Маринке. У племянницы повреждена нога, так что не убежит. И пусть сквозь ее будущую жизнь прорастает семя концентрированного ужаса. В любом случае, в жизни бестолковой Маринке едва ли светило что-то по-настоящему хорошее – образование «на отвали», обрыдлая работа, неуклюжий роман, развод, тусклые будни. Ни любимого дела, ни увлечений, ни цели в жизни. А Валера так хотел создать собственную игровую студию. Ему-то есть зачем жить. И его жизнь обязана быть хорошей. Валера уже схватился за лестницу. Будет ли так хороша, как мечтается, его жизнь, если он сейчас оставит здесь племянницу наедине с воплощенной обидой и местью преданной родственницы? Он отпрыгнул к Маринке, вздернул ее, тяжелую, за подмышки, понимая уже, что не успеет. Повлек к лестнице. От страха и боли Маринка валилась, как кукла. Какое-то мгновение – и женщина оказалась вплотную. Протянула руку и почти вручила окровавленную сумку зажмурившейся Маринке. И еще не осознавая толком, что делает, Валера перехватил сумку. Крепко сжал ручки. Луч фонарика на Маринкином телефоне, который он по-прежнему сжимал в сведенной холодом руке, высвечивал мертвенно-бледное лицо родственницы. И глядя в ее закрытые глаза, Валера сказал: – Простите нас. (За то, что живы? За то, что не живем во времена испытаний? За то, что у нас все впереди?) – Простите. Женщина подняла серые веки – в глазах была непроницаемая чернота. Она ничего не сказала, лишь снова закрыла глаза, прижала к себе младенца, отступила назад и исчезла. Одновременно с тем Валера ощутил, как его руку, державшую сумку, пронзило иглистой болью, и все будто провалилось в ледяную яму. Фонарик погас.* * *
Очнулся он на полу картофелехранилища, зажмурился от того, что рыдающая Маринка светила ему прямо в глаза. – Валь! Валь, я думала, она тебя убила… Сумки со страшным подарком нигде не было – ни рядом с ним, ни на полу бетонного помещения. Но то ли в желудке, то ли в солнечном сплетении ощущался гнет настолько невыносимой тошнотворной холодной тяжести, словно он только что съел всю убоину сырой и в один присест. – В общем, так, Марин. Вздумаешь без толку просирать свою жизнь, я тебя… ну не знаю. Я тебя крепко отлуплю, серьезно. Обещай, что ли, что не просрешь. – Обеща… Зазвонил Маринкин телефон – на экране было: «бабушка», а для Валеры – мама. Валера поднес телефон к уху. – Мам, это я. – Валера? Почему у тебя телефон не отвечает? Мы с папой едем домой. У него все в порядке. Просто приступ межреберной невралгии. Откуда-то Валера точно знал, что все старинные елочные игрушки лежат разбитые. Может, распахнулась плохо закрытая фрамуга окна, и ветер повалил елку. Может, еще что. Но в оберегах их семья больше не нуждалась. Валера точно знал, что Зина с младенцем Романом больше никогда не придет. А еще он в свои двадцать лет знал, что впереди его теперь ждет сложная, тяжелая, полная испытаний жизнь. На которую он вызвался сам. Мог бы и не вызваться – и проходить всю жизнь с грузом на совести, не таким уж тяжелым, в сущности; бабушка ведь смогла? – Валь, ты ведь меня спас, по-настоящему спас, ты самый-самый лучший, ну вдруг она тебя все-таки простила? Я бы точно простила! – Не знаю, – Валера вздохнул и осторожно подумал: а собственно, почему нет?.. – Посмотрим.Черный Новый год

Что ж, милый ребенок, ты сделал это. Докопался до сути, позабыв старую истину о кошке, которую сгубило излишнее любопытство. Да, у нашего мешка с подарками есть второе дно, и вот тут-то, внизу, в этой черной-пречерной дыре и таятся все самые страшные истории Нового года…
Александр Матюхин. Дрема

За день до Нового года Бурцев заболел. От жара, накатывающего ленивыми волнами, бросало то в зябкую дрожь, то, наоборот, в духоту преисподней – хотелось провалиться окончательно в сон или хотя бы найти такое положение, место под тяжелым ватным одеялом, пахнущим почему-то сыростью и кошками, чтобы замереть и не двигаться, пока болезнь не отступит. Бурцев ворочался, вытягивался, обнажая ноги в шерстяных носках, в которые пару часов назад засыпал сухой горчицы – как учила мама, – но, когда становилось особенно холодно, заползал обратно под складки одеяла, как в берлогу. Тяжело было, в глубине горла скопилась влажная слякоть, в ноздрях набухло что-то мерзкое, влажное. А еще стучало сердце, вообще везде – от пяток до висков. Болезненно и неприятно. В горячечной полудреме Бурцеву вспомнился тот Новый год, который он в последний раз отмечал вместе с родителями. Бурцеву было восемь или девять лет. Он вот так же лежал на кровати, укрывшись одеялом с головой. Одеяло было новое, ватное, зеленого цвета, и от него ничем дурным не пахло, а кровать казалась огромной – даже вытянувшись в струнку, все равно не удавалось коснуться пальцами ног фанерной спинки с рисунком поросят и соломенного домика. В комнате – вспоминал Бурцев – было серо, потому что за окнами наступила блеклая зимняя ночь, а из-под двери скользила полоска теплого лампового света. Свет этот, смешиваясь с ночью, очерчивал удивительные линии и тени, растянувшиеся по полу. Бурцев наблюдал за тенями от книжного шкафа, от колыхающихся занавесок, от стола и стула, от полок, занимающих всю стену напротив, – и ждал, когда же одна из теней обретет плоть и обернется Дедом Морозом с мешком подарков. Он тогда еще верил в Деда Мороза, хоть и начинал подумывать о странных совпадениях, происходящих с его появлением: папа исчезал незадолго до того, как кто-то стучал в дверь; очки у Деда Мороза подозрительно походили на папины, были такие же большие, круглые, с толстой оправой синего цвета; пахло от Деда так же, как обычно в праздники пахло от папы – чем-то кислым и острым одновременно. Но в восемь лет, как ни странно, все еще хотелось верить в чудо, и Бурцев где-то на подсознательном уровне отталкивал от себя скверную мысль о ненастоящести Деда Мороза. Такого просто не могло быть, и все. Перед новогодней ночью они всей семьей спали до десяти часов вечера. Мама готовила заранее: чистила, резала, варила, жарила, запекала, раскладывала по хрустальным глубоким тарелкам – все-все делала, разве что не сервировала стол. Этим обычно занимались папа с сыном перед самым Новым годом. В десять где-то за стеной гремел папин будильник, квартира оживала, загорался свет, кто-то ходил по коридору (мама, конечно же), включался телевизор, а папа деловито говорил кому-то в телефонную трубку: «Значит, в час ждите! Ага. Мы со своим холодцом. С вас, значит, наливочка, с нас – закусочка». Расписание у папы было составлено на всю ночь. Бурцев очень любил эти шумные прогулки по шумному же ночному городу. От одной квартиры к другой, на машине или пешком, в дома, набитые радостными и счастливыми людьми. В квартирах щипало глаза от сигаретного дыма, пахло – как от папы – кислым и острым, людей было много, и люди эти дарили Бурцеву конфеты и зеленые мандаринки. Папа обнимался со всеми подряд, поздравлял с праздником, тут же на пороге выпивал поднесенную рюмку и требовал продолжения банкета. В жаре квартир папа краснел, потел, волосы его становились мокрыми, он оттягивал кольца тяжелого синего шарфа и расстегивал верхнюю пуговицу пальто: правда, только затем, чтобы, вынырнув через несколько минут на лестничный пролет, тут же плотно застегнуться, закутаться, поправить на Бурцеве шапку-ушанку и отправиться в следующие гости на другой конец города. Но сначала всегда была встреча Нового года дома, с мамой, непосредственно за праздничным столом, перед новеньким черно-белым телевизором. И наступал едва уловимый момент праздника, который Бурцев любил больше всего. На выпуклом экране телевизора появлялась чья-то голова и начинала что-то торжественно говорить. Папа разливал по бокалам шампанское. Бурцеву в граненый стакан наливали минералку с пузырьками. Все трое вставали из-за стола и слушали, как голова рассказывает про жизнь, которая несомненно будет лучше, чем в прошедшем году, и всем будет счастье, и все будут счастливы. Бурцев пропитывался торжественностью момента, как торт пропитывается медом. Ему нравилось смотреть на маму и папу. Мама в красивом платье, надевшая бусы и кольца, намазавшая губы красным, и с какой-то яркой, завивающейся прической. Папа в пиджаке поверх рубашки, с приглаженными и еще не намокшими от пота волосами, не раскрасневшийся, непривычно молчаливый. У обоих в глазах мелькают черно-белые пятнышки. Оба улыбаются, будто голова из телевизора обращается именно к ним. Все ведь хотят быть счастливыми, верно? Нечто неуловимое и трогательное было во всем этом. То, что Бурцев любил до безумия и о чем вспоминал часто после развода родителей, исчезновения Деда Мороза, прекращения бесконечных прогулок по друзьям в ночном шумном городе. Это был момент, когда казалось, что в квартире пахнет настоящим волшебством.
* * *
В болезненном бреду мысли ворочались тяжело и казались скользкими и влажными, будто огромные гусеницы. Бурцев то жалел, что родители развелись и лишили его настоящего Нового года, то радовался, что теперь стал взрослым и сам может устраивать своим детям нормальный праздник, с Дедом Морозом, прогулками по городу, с друзьями, пьянками, весельем и всем тем, что вообще положено в Новый год. Ему привиделась старшая дочка Лена – пухленькая, розовощекая, в мать – которая открыла дверь комнаты, впуская свет из коридора, и позвала помогать на кухне. Бурцев умел шинковать картошку, а еще резать лук и готовить запеканку – это все в семье знали. Бурцеву показалось, что он выпорхнул из-под одеяла, будто был восьмилетним мальчиком, и что температура спала. На лбу выступили крупные капли пота, сердце трепетало, но в общем Бурцев был здоров для своих шестидесяти семи лет, полон сил и предвкушения праздника. Он не мог сообразить, есть ли в происходящем что-то от болезненного бреда. Его сознание словно раздвоилось: где-то на кровати под одеялом кутался простуженный старик, выпивший сразу три таблетки давно просроченного аспирина, но в то же время этот же старик вышел в коридор следом за Леной, пошутил про ее длинные косы и веганство, ущипнул чуть ниже пояса, пригрозил любовно какой-то палкой, зажатой в руке, и отправился на кухню, предвкушая веселье. Сомнительно было, что давно повзрослевшие дочери, обе рано выскочившие замуж и разъехавшиеся по крупным городам, вообще приехали в его старую однушку и решили отпраздновать Новый год «как раньше». Скорее всего, это разгоряченное сознание подкидывало иллюзию праздника, выдавало желаемое за действительное. Осознав это, Бурцев даже слегка расслабился. Если сознание решило отправить его в отпуск таким вот приятным и неожиданным образом, пока организм борется с болезнью, тем лучше. В животе громко заурчало, потому что отовсюду накинулись запахи, какие появляются непосредственно перед наступлением праздника и исчезают едва ли не сразу после боя курантов. Пахло вареной картошкой, жарящейся курицей, малосольными огурцами; пахло открытой бутылкой то ли вина, то ли шампанского, а еще пахло порохом от хлопушек и бенгальских огней. В кухне оказалось три человека: младшая дочь Галя, внучка Мариночка и муж Гали – Владимир. Все, как и положено в бреду, неуловимо другие, нежели в жизни. Галя, например, всегда носила короткую стрижку, каре, а тут у нее оказались волосы до плеч, да еще и не каштановые, а покрашенные в темно-бордовый, с фиолетовым отливом, как у мамы в далеких семидесятых. Мариночка, которой осенью исполнилось десять, крутилась на табуретке, укладывая в стеклянную миску только что вымытые мандарины. Мариночка была толстенькой, того неприятного сложения, когда в глаза особенно бросаются складки под подбородком, складки на изгибах локтей и выпуклый рыхловатый живот, которого у детей вообще не должно быть. Бурцев переживал за полноту Мариночки, но Галя и Владимир наперебой утверждали, что она пройдет, это возрастное, да и в современном мире никто на полноту внимания не обращает. Главное, что Мариночка была девочкой подвижной, открытой миру и доброй. – Что где порезать и нашинковать? – бодро спросил Бурцев, заходя на кухню следом за Леной. В одной руке у него оказался кухонный нож, а в другой все та же короткая толстая палка, почему-то холодная на ощупь, будто из металла. Галя ткнула пальцем в картошку, сваленную в раковине. Картошка была сплошь перемерзлая, в бурых пятнах и черных точках. Из такой пюре получается невкусное, пресное. – Ну кто такую берет? – участливо поинтересовался Бурцев. – Вы бы спросили, что ли. Тут магазин есть недалеко, хороший, продуктовый. Все виновато молчали, но Бурцев никого, конечно же, не винил. Ему было приятно, что кухня наполнена людьми, что нет давно надоевшей тишины. Если честно, Бурцев уже несколько лет волком выл от одиночества. Ладно бы ему было за семьдесят, когда людям положено замыкаться в себе, когда мир сужается до коротких шагов, которые можно пересчитать без труда, – но в его-то возрасте наступает почти осязаемая вторая молодость, а с нею приходит желание общаться, делиться опытом, вклиниваться в разговоры и по-житейски так, с высоты прожитых лет вещать о чем-то умном. Однако же на работе было не до разговоров – Бурцев десять (а то и двенадцать) часов в день устанавливал входные и межкомнатные двери у совершенно незнакомых людей. Среди них попадались, конечно, болтливые и участливые. Кое-кто предлагал выпить чаю, кто-то лез каждую секунду в работу, пытаясь разобраться в тонкостях установки, калибровки, толщины петель и прочем. Были у Бурцева два помощника, молодых и молчаливых. Их главное развлечение – сидеть на сайтах знакомств и поливать грязью фотографии одиноких девушек, которые не ответили на их запросы. Так что разговоров тоже как-то не получалось. Дома его никто не ждал. Дочери почти не звонили, но он их и не винил. У детей были свои жизни, почти не пересекающиеся с его. Мир стал маленьким раньше времени. Может быть, поэтому Бурцеву так остро не хватало какого-то чуда, какого-то милого новогоднего волшебства. Из-за этого проклятого желания он постоянно заболевал, причем как раз перед праздниками, и валялся в постели с температурой, в носках, с прилипающей к ногам горчицей, выпивая литрами теплую воду и принимая гомеопатию, которую постоянно рекламируют по телевизору. Надеялся сдохнуть быстрее, но выздоравливал, тоска по волшебству проходила, а стало быть, снова можно было жить. …Бурцев быстро почистил и нарубил картошку, велел Лене забросить ее в кастрюлю, приговаривая: «Тебе вон пару сырых картофелин приберег, не благодари». Почему больше никто ничего не режет? Ножи потеряли, что ли? Из гостиной комнаты доносился бубнеж телевизора. Бурцев знал, что там никого сейчас нет, все на кухне, а по телевизору идет какая-то советская предновогодняя комедия. Наверняка с Абдуловым, Караченцовым, Леоновым или Мироновым. Занимаясь нарезкой овощей, он краем уха выхватывал долетающие фразы, узнавал их, улыбался, погружаясь в ностальгические воспоминания тех времен, когда смотрел все эти комедии по черно-белому телевизору. В кухне много лет назад пахло точно так же: солеными огурцами, зеленым горошком, тушеным и жарящимся мясом. От кастрюли поднимался влажный картофельный пар, который, по слухам, прочищал горло и убивал микробы в носу. Между делом Бурцев вспомнил, что неплохо бы полечиться чем-то кроме бесполезных таблеток, но то была мысль старого Бурцева, а молодой и здоровый ловко орудовал ножом, кромсая оливье в алюминиевую кастрюльку. Родственники расселись, кто где. Лена и Галя заняли стулья у холодильника. Перед ними на столе стояла миска с вареными яйцами, а еще в пиале лежали сырые и неразделанные селедки, рядом примостилась банка оливкового майонеза с белыми пятнышками на боку, возле нее валялись два батона свежего хлеба. Лена чистила яйца, ногти у нее были длинные, ухоженные, с темно-красным лаком. Хозяйничать с такими ногтями неудобно, и Бурцев отпустил пару шуток про красоту, которая требует жертв, и про совсем не домашний маникюр. У Гали же, наоборот, ноготки были короткие, но ухоженные – видно, что она мать, а не, прости господи, бабка базарная. Галя заправляла салат, похожий на селедку под шубой. Ложка звонко стучала по стеклянному краю глубокой миски. – Можно в туалет? – спросила Мариночка, слезая со стула. Владимир подхватил ее под локоть, помог спуститься. – А кто же запрещает? – удивился Бурцев, дорезая соленые огурцы. – Беги, конечно. Не в трусики же дуть! Мариночка исчезла в коридоре, а следом за ней Владимир. Бурцев же, обнаружив, что резать больше нечего, вытер руки о брюки, огляделся, сообразил, что чего-то не хватает. – Спиртное где, барышни? – оживился он. – Покупали же вроде! Горячечное сознание подсказало, что он действительно покупал и принес две бутылки водки, бутылку шампанского и пакет сока, мультивитамин, для Мариночки. Все это забылось то ли в коридоре, то ли в комнате. Он вышел в коридор и увидел, что у входной же двери топчется Владимир, одетый в пальто, но босой, суетливо выворачивающий ящички стоящего у туалета комода. Там жена обычно хранила ключи. Рядом стояла Мариночка. На нее не налезла мохнатая черная шуба с белым пояском и варежками, торчащими из рукавов. – Вы куда это? – взмахнул руками Бурцев, и где-то в глубине сознания промелькнула тревога, какая бывает перед скорым пробуждением. Он не хотел просыпаться, потому что из реальности повеяло старым одеялом и пустой квартирой. – За соком, – буркнул Владимир. – Сок забыли. Сбегаем быстро, тут через дорогу. – Да зачем же! Пакет был, я помню, приносил. Должен быть! Бурцев засуетился, ощупывая взглядом коридор, оттеснил Владимира и Мариночку от двери, запустил руки в горы одежды на вешалке, осмотрел тумбочку с обувью и под шапками действительно обнаружил шуршащий пакет с водкой, шампанским и соком. – Вот, видите! Он похлопал себя по карману, где звенели связки ключей. Этот праздник ничто не могло испортить!* * *
Он прекрасно помнил ощущения от Нового года, с волшебством и искорками какого-то неподдельного счастья. Бурцев скучал по этим ощущениям. Он давно забыл о многих вещах из жизни, детали стирались из его памяти, целые годы будто попадали в шредер и превращались в бессмысленные изрезанные лоскутки, из которых уже никогда не получилось бы цельной картинки. Он забыл, как звали его прабабушку, которая два года жила у них в квартире, потому что сломала шейку бедра, готовилась умереть, но отказывалась ложиться в больницу, пока однажды не упала ночью с кровати, чтобы больше не подняться. Он не помнил, как увлекался в школе боксом, а потом ушу и карате, но однажды столкнулся в темной арке с тремя широкоплечими пацанами из соседнего района. Они без проблем отразили все удары, вышибли Бурцева из стойки, уронили лицом на землю и долго били, пока им не надоело. Боль от ударов по голове, по спине, по почкам Бурцев помнил, а вот увлечения – нет. Из памяти выветрился отец – после того как ушел из семьи. Бурцев встречался с ним, сначала раз в неделю, потом раз в месяц, а где-то с седьмого или восьмого класса перестал видеться совсем, потому что отец с новой семьей переехал в другой город. Бурцев же успешно его забыл, оставив в памяти лишь образ молодого бородатого мужчины, одетого в футболку песочного цвета, курящего, с раскрасневшимися щеками – отца из Нового года, того самого, последнего. А дальше – не было его. Вырезали хирургическим путем. Отец как бы оказался вплетен в ощущение праздника, который Бурцев ждал каждый год и в котором неизменно разочаровывался, потому что невозможно было повторить то, что уже однажды было. Сейчас же, понимая всю нереальность происходящего, выдумку, родившуюся в пустой квартире, он надеялся, что волшебные ощущения каким-то образом вернутся. В больной полудреме еще и не такое может вернуться. Где-то тянуло сквозняком, но Бурцев не находил в себе сил подняться с кровати. Он продолжил воображать, и его сознание, перепрыгнув через ряд незначимых эпизодов, ворвалось в комнату, где уже был накрыт праздничный стол, где за столом собрались родственники, работал телевизор – не толстый черно-белый, а большой, плоский и цветной. – Где Владимир? – спрашивал Бурцев, осматриваясь. Действительно, справа сидела Лена, а слева – Мариночка и Галя. Еще два стула были свободные. Сам Бурцев почему-то стоял, сжимая в руке хрустальный бокал, наполненный шампанским. Пузырьки бесновались в золотистой жидкости. Бурцеву казалось, что квартира та же самая, что в его детстве. Как-то все смешалось в этой фантазии. В углу стояла искусственная елка, обмотанная мигающими гирляндами, и на ее мохнатых ветках висели старенькие советские игрушки. Разные там ежики, деды-морозы, стеклянные шарики и звезды. На макушке у елки тоже была звезда, которая вроде бы горела, а вроде бы и нет. Бурцев смотрел на нее и замечал, как внутри под пластмассой вспыхивают лампочки, звезда на секунду становится красной, а потом снова гаснет. Это мигание что-то напоминало Бурцеву, но он никак не мог вспомнить, что именно. – Где же Владимир? – снова спросил он у присутствующих. – Без него не начинаем. Взгляд блуждал по столу, по салатам, по каким-то сырным и колбасным нарезкам, кускам мяса на блюде, по богатому разнообразию, которое в детстве Бурцеву и не снилось. Из коридора донесся приглушенный звонок, и Бурцев сообразил, что происходит. Владимир вышел, чтобы вернуться в образе Деда Мороза! Нашел-таки ключи, чертяка! На нем будет борода из ваты, огромные очки в роговой оправе синего цвета, красный тулуп, красная же шапка! От него будет пахнуть чем-то кислым. Он будет говорить голосом отца, шутить шутками отца, посадит Бурцева на колено и попросит рассказать стишок, который тот учил вместе с отцом, а потом вытащит из бездонного мешка набор оловянных солдатиков – советских военных времен Второй мировой, шесть штук – и после этого уйдет, потому что хороших детей много, а времени мало. Звонок повторился, и Бурцев, поставив хрустальный бокал, воскликнул: – Я открою! Он заторопился, но время – как это бывает в снах – внезапно замедлило свой бег. Бурцев успел увидеть лица сидящих за столом – все они были встревоженные и какие-то напряженные, даже у Мариночки. Еще он заметил, что на столе нет приборов. Руками, что ли, есть? А по телевизору показали ту самую голову, из прошлого, которая поздравляла всех с Новым годом перед тем, как папа ушел из семьи. На большом телевизоре голова была неестественно растянута, застыла с раскрытым ртом, вперилась взглядом в Бурцева, будто специально решила дождаться его возвращения из коридора. Нереальность происходящего снова накрыла Бурцева, он с горечью вспомнил, что даже плоского телевизора у него дома нет, потому что зарплаты едва хватает на еду; и таких красивых занавесок тоже нет, и вообще мебель в квартире не его – она новенькая, дорогая, такая, какую он хотел купить, но не мог себе позволить. «Сейчас я увижу Деда Мороза, и все станет на свои места» – подумал Бурцев, отгоняя горечь. Он почти молился, чтобы за дверью оказался отец и чтобы его можно было потянуть за накладную бороду и увидеть бородатое лицо. Чтобы отец тут же полез обниматься, а потом взялся бы за телефон и принялся обзванивать друзей по своему ночному расписанию… Ну или хотя бы пусть это будет Владимир, зять, но очень похожий на отца. Бурцев согласен был на этот визуальный обман, он хотел очнуться в пустой квартире, с пересохшим ртом, с раскрасневшимися глазами, с вспотевшими ногами и болью в висках – но чтобы с улыбкой на губах и с ощущением утраченного чувства праздника. Хотя бы на минутку, а? Дверь в ванную была приоткрыта, и оттуда тянулся по полу яично-желтый, теплый свет. Дверь была знакомая, будто именно Бурцев ее устанавливал. Точно, ламинат, орех, наружные петли. Он замешкался в коридоре, что-то вспоминая. Потом перевел взгляд на входную дверь и снова вспомнил, что уже был здесь, сбивал, значит, старую коробку, сверлил новые дырки в бетоне… Звонок повторился, и Бурцев рванулся вперед в боязни растерять остатки волшебной дремы, выудил из кармана ключ, провернул, распахнул дверь и увидел на пороге не Деда Мороза, а женщину лет сорока пяти, черноволосую, худенькую, с острым раскрасневшимся носом и тонкими губами. Это была его бывшая жена, Оксана. Мир рухнул в глубокую беспросветную пропасть. Все всегда заканчивалось дурно, если появлялась Оксана. Бурцев схватил ее за плечо, ощущая под пальто что-то тонкое и хрупкое, затащил в коридор, захлопнул дверь. Прижал Оксану к стене и сбивчиво забормотал прямо в лицо. – Зачем ты пришла? Кто тебя пригласил? Мне здесь тебя не надо… Явилась, видите ли… Как же так? А где Дед Мороз? Оксана открывала и закрывала рот, будто рыба, и пялилась большими карими глазами на Бурцева. – Не надо мне тут! – продолжал он, чувствуя, как гнев накатывает большими болезненными шарами. – Я не тебя ждал, поняла? Думаешь, если дети здесь, то я сдерживаться буду? Нет, моя дорогая! Не буду! Никогда не сдерживался и тут не собираюсь! Обиднее всего, конечно, было, что не появился Дед Мороз. Бурцев снова метнулся к двери, выглянул – лестничный пролет оказался пуст. Бурцев вернулся к Оксане и втолкнул ее в комнату, не давая ни разуться, ни снять пальто. – Вот вам ваша мама и бабушка. Звали? – мрачно произнес он. Ощущение праздника стремительно испарялось. Голова в телевизоре, все еще застывшая с открытым ртом, теперь вызывала раздражение. Своим безмолвием она напоминала о том, что все вокруг ненастоящее, что это – фантомная боль подсознания. Лена вскочила, с грохотом роняя стул, подбежала к Оксане, обхватила ее за плечи и повела к столу. Дочери всегда больше любили Оксану. После развода Лена и Галя переехали жить к маме, и именно тогда мир начал сужаться в проклятые сорок квадратов одиночества. Оксана отговаривала дочерей общаться с отцом. Называла его трутнем, алкашом, эгоистом – кем только не называла – а он считал себя слишком гордым, чтобы что-то кому-то доказывать и опровергать. Бурцев тяжело сглотнул. Горло саднило. Из носа потекли сопли. Болезнь просочилась из реального мира в дрему. Не так все должно было произойти, ох, совсем не так. Что же это за жизнь такая, если даже во сне ничего нельзя изменить? Он чувствовал, что вот-вот придет в себя под тяжелым ватным одеялом, больной и глубоко несчастный. Где-то за окном будут грохотать фейерверки, соседи, все как один, выползут из квартир и примутся шумно поздравлять друг друга на лестничной клетке, сотовая сеть перегрузится и начнет сбоить, а вот Бурцеву никто не позвонит. Он вышел из комнаты, остановился в коридоре, отчаянно желая оказаться в реальности, но никак не мог вынырнуть из липких объятий странного бреда. Колко и гулко застучало в висках. На тумбочке у туалета стояла плетеная корзинка, наполненная почему-то разбитыми мобильными телефонами. По ним, похоже, остервенело колотили чем-тотяжелым. – Испорчен праздник, – бормотал Бурцев, направляясь в кухню, в объятия еще не рассеявшихся запахов жареного мяса и вареной картошки. Хоть бы напиться, что ли. Он отодрал крышечку от бутылки с водкой, сделал из горлышка несколько больших глотков. По горлу будто пронеслись черти с раскаленными трезубцами, где-то под подбородком все болезненно сжалось, перехватило дыхание, а потом легкие расширились, и Бурцев выдохнул, вместе со слезами, с соплями, с гулкой горячей отрыжкой. В одной руке оказался кухонный нож с налипшим на лезвие квадратиком вареной колбасы. В другой – та самая металлическая палка. Бурцев стряхнул слезы и понял, что это не палка вовсе, а пистолет. Он вспомнил, как много лет назад увидел этот пистолет в одной из квартир, где устанавливал двери. Тогда же впервые припрятал ключ от входной двери и вернулся через несколько дней, отыскал пистолет, прихватил его, немного деньжат и ноутбук. Точно. В реальной жизни этот пистолет лежал у Бурцева под матрасом. А здесь появился в руке – как предзнаменование, как жирный такой намек. Волшебства не будет. Сказочная дрема превращалась в кошмар. Дед Мороз и в детстве был ненастоящим, и сейчас оказался точно таким же. Семья тоже – одни воспоминания. В реальности к нему давно никто не приезжал. Лет пять точно. От осознания этого сделалось еще горше. Бурцев вышел из кухни, увидел, что в коридоре у двери стоит Оксана, дергает за ручку, открывает… Мелькнуло в голове: он забыл запереть дверь! Оксана повернулась, и взгляд у нее был полон страха; нечеловеческий, затравленный взгляд. Бурцев отметил, что она совсем не похожа на Оксану, в сущности, это вообще какая-то чужая женщина, совершенно ему незнакомая. Видимо, как только он перестал ждать праздника, все вокруг сделалось чужим, как это бывает в дурных снах. А потом он бросился к ней, схватил, потащил обратно в квартиру. Затрещал рукав пальто, щеку обожгло чем-то горячим – это незнакомка оцарапала Бурцева ногтями. Тогда уж Бурцев не сдержался, швырнул женщину на пол, навалился сверху и принялся бить то ножом, то рукоятью пистолета. Лицо ее, с расплывшейся тушью, с искривленным безобразным ртом, с морщинками вокруг ярких губ, то становилось лицом Оксаны, то становилось незнакомым, то вообще преображалось в какую-то карнавальную маску вроде тех, что Бурцев видел в детстве на маме во время одной из школьных новогодних елок. Он надеялся, что сон оборвется, а женщина под ним либо исчезнет вовсе, либо превратится, наконец, хотя бы в Деда Мороза или в отца – вот уж кого хотелось задушить в юности! – но этого не происходило. Даже наоборот, незнакомка как-то очень реалистично кривила рот с размазанной по губам помадой, и из ее горла вырывался сдавленный сиплый стон, какой нарочно во сне не придумаешь. Кто-то ударил его сзади. Бурцев отмахнулся рукой с ножом и заметил, что лезвие покрыто густой темной кровью. Его ударили снова, по голове, больно, и он упал на бок, упершись плечом в стенку. На него налетела Галя, сжимающая в руках бутылку шампанского. Бурцев едва успел подставить руку, и рука хрустнула от удара, где-то внутри что-то сместилось, боль взлетела к зубам, к вискам, вырвалась протяжным хрипом. – Галя! Галечка! – заорал он. – Прости дурака! Что я тебе сделал? А потом: – Я не хочу больше здесь оставаться! Это не праздник, а черт-те что! Он почти заплакал – от боли и отчаяния. Дрема не выпускала его, из этого кошмара нельзя было выбраться. У ног дергалась и хрипела незнакомка, под ее дорогим пальто растекалась по линолеуму лужа крови. Бурцев поднялся, слепо размахивая ножом. Вторая рука безвольно болталась. Из дверного проема на него снова бросилась Галя, но это была уже не Галя, а какая-то еще молодая женщина, и Бурцев понял, что дрема уносит его прочь из этой квартиры в другую, где он был год назад, и где тоже была какая-то женщина, которая могла бы быть его младшей дочерью, но на самом деле не была. Все это наслоилось в голове, будто размазалось маслом по хрустящей корке хлеба. Бурцев уклонился от удара, полоснул лезвием женщину по запястью, потом, уже не сдерживаясь, пнул ее ногой, вталкивая обратно в комнату. Скрипнула дверь в ванную. Она уже давно была открыта. Бурцев посмотрел внутрь и в бледном полумраке царства кафеля разглядел то, что привело в ужас Оксану-незнакомку. В ванной лежал мертвый Владимир с рваной старой подушкой на груди. Во лбу у него темнела аккуратная дырочка, а вот кафель на стене за головой был в крови и в каких-то желтых ошметках. Там вообще было слишком много крови. Бурцев перевел взгляд на комнату. Женщины жались в углу между телевизором и старой «стенкой», за стеклянными дверцами которой блестели хрустальные бокалы. Девочка пряталась за ними, громко всхлипывая. Люди были не родные, незнакомые. В квартире не осталось ничего праздничного, и вообще это был ужасный праздник, потому что Бурцев в него больше не верил. Голова в телевизоре оставалась без движения, на паузе. Это была запись. Точно. Иллюзия Нового года. Еще один обман. – Какой-то кошмар, – пробормотал Бурцев. – Дайте мне из него выбраться.* * *
Он действительно выбрался через какое-то время. Наверное, когда отступила самая яростная волна болезни. Кровавая дрема сменилась умиротворенным тихим сновидением, в котором Бурцев шел по заснеженной Москве, и было очень тихо, только-только начинался рассвет, вокруг кляксами чернели остатки новогодних фейерверков, сугробы усыпали конфетти и использованные бенгальские огни, но понятно было, что праздник уже закончился, люди спят, наступил тот самый короткий промежуток времени, когда даже коммунальщики не выходят на работу и мир как будто застывает, наслаждаясь наступившим новым годом. С бледного серого неба посыпала мелкая крупа. Бурцев подставлял под нее разгоряченное лицо, ловил языком колючие снежинки. В этом сне он был спокоен и мудр. Он ощущал себя почти восьмилетним мальчишкой, которому для счастья нужен был только ломкий снег под ногами.* * *
Очнулся Бурцев уже утром, потный, отяжелевший и какой-то уставший. Но болезнь вроде бы отступила. Он отбросил тяжелое одеяло, стащил носки и побрел в душ, где минут двадцать откисал под струями теплой воды. К пяткам прилипли куски светло-желтой горчицы. К этой желтизне примешивалось что-то красное, стекающее с лица Бурцева и с его запястий. Бурцев прислушивался к себе, как в детстве, когда ему представлялось, что он может почувствовать и посмотреть работу каждого органа внутри тела. Вот равномерно трепещет сердце, вот сокращается желудок, вот распахиваются, будто два крыла, легкие. Все работало ровно, без проблем. Выбравшись из-под душа, Бурцев, по обыкновению, заварил кофе и сделал манную кашу. Проверил телефон – шевельнулась надежда, что пропустил звонок кого-нибудь из родни, – но никто ему в новогоднюю ночь не позвонил. Повзрослевшие дочери давно не занимались подобной ерундой, да и общались они с отцом едва ли чаще раза в полгода. За завтраком он пролистал новостную ленту, остановился на заметке, где сообщалось о массовом убийстве на западе города. Кто-то убил целую семью вместе с гостями прямо в новогоднюю ночь. В прошлом году, говорилось в статье, такое же массовое убийство произошло на западе, в двух километрах от конечной станции метро зеленой ветки. Тогда были убиты две женщины средних лет и шестилетняя девочка. Бурцев покачал головой. Он всегда расстраивался, читая подобные новости. Для кого-то новый год так и не наступил. Так же, как для него праздник закончился много лет назад. Все хорошее в жизни когда-нибудь заканчивается. Даже жизнь. Он бегло дочитал новости и засобирался в аптеку. Чувствовалась какая-то слабость, а еще ужасно болела левая рука – в районе локтя она распухла и посинела. Видно, в горячечной дреме Бурцев как-то неудачно поранил сам себя. Перед выходом от посмотрелся в зеркало, отметил царапины на щеке, седую небритость, мешки под глазами. Из него бы вышел ужасный Дед Мороз. Просто чудовищный.Юрий Погуляй. Тепло родного дома

Они нарядили елку. Степан только закончил с уборкой дома, когда увидел игрушки на запорошенной снегом ели. Собрал мешки с мусором из позанесенного сарая, потащил их к своей старенькой «Ниве» и вот тут-то и обнаружил «подарок» от предыдущих жильцов. Поправил шапку (очень чесался лоб). Шмыгнул носом. А что, это ведь даже хорошо. Новый год послезавтра. Сегодня из Питера должны подъехать ребята, им наверняка понравится. Степан бросил мешки на заднее сиденье, обернулся на коттедж. Первый этаж кирпичный, надежный. Держит тепло даже в лютые морозы. Второй он использовал как большой чулан. Гигантский чердак. Собирался потом переделать, конечно. Утеплить. Мечтал, как будет сидеть перед телеком внизу и слышать детский топот внучат на втором этаже. Наблюдать за тем, как новые люди познают этот неуютный, но по-своему прекрасный мир. Ворчал на сына, который не спешил жениться. Тот будто и вовсе женщинами не интересовался. Все отшучивался, говорил, что ему нравится покой одиночества. Шутил, что, мол, он – серийный убийца. Что таким, как он, жены не нужны, да и вообще на том свете его будет ждать аж двадцать жен, если он отправит их к дьяволу заранее. Степан ругал его за эти шутки, а Сашка отводил глаза и улыбался как-то смущенно, виновато. Как же недоставало этой улыбки. Три года назад Сашка умер на этом чертовом чердаке. Остановилось сердце. Двадцати пяти лет не было. Сын не пил, не курил. Даже на здоровье не жаловался. Когда Степан его нашел – Саша лежал на полу в пустом доме уже неделю, облепленный жирными зелеными мухами. Он похоронил его рядом с матерью. И только через год выбрался из горя, привел дом в порядок и решил его сдавать. Сам ютился в квартирке девятиэтажного панельного чудища в Пушгорах. Сначала думал продать коттедж, но… Едва представил, что в жизни больше не останется ничего из прошлого, – чуть сам не помер. Жить под крышей дома, где умерла твоя последняя надежда на идеальную старость – это, конечно, слишком. Однако… Если не будет этого дома, то получится, что не было и части Сашки. Степан закашлялся. В ветвях пушистой ели прыгала птица. Тишина звенела в ушах. За последнюю неделю снегом завалило знатно. Дорогу пришлось раскатывать, потому как кто знает, на чем приедут из Питера. Застрянут еще – потом средний балл на Букинге отзывами испортят. Этот дом нельзя ругать. Степан залез в машину, завелся. Подул на ладони, отогреваясь. Опять посмотрел на елку. Игрушки-то как нашли? Он даже отсюда узнал стеклянные красные шары, с белыми снежинками, которые они с сыном когда-то вешали на эту же елку. Степан прищурился задумчиво. Они разве уцелели после ремонта? По телу прошла волна колючего тепла. Пробрала до костей, как называется. На лбу даже испарина выступила. Степан обернулся. Рядом с машиной, у водительской двери, как будто кто-то стоял. Будто заглядывал в окно машины и смотрел прямо на него. Степан поморгал, избавляясь от морока. Дернул за ручку передач и развернулся. Переутомился, наверное. Последнюю неделю спал плохо. А предыдущие жильцы еще и мусора оставили порядочно. Но что-то его смущало. Что-то кроме этого странного ощущения присутствия. Степан хмурился, размышляя, пока проезжал сквозь мертвую деревню. Заброшенные дома в белом саване снега сливались с окружающей ослепительностью, невероятно яркие на черном фоне леса. Раньше тут народу хватало, но все тянутся в город. В деревне теперь предпочитают отдыхать, а не жить. Чтобы попробовать экзотику сельской жизни. Когда «Нива» выползла на очищенную грейдером дорогу, Степан вдруг понял, что его так растревожило. Там снега по пояс, у елки. Как они ее нарядили? И следов вроде не было вокруг? Зазвенел телефон. Питерцы. Степан смел в сторону зеленый кружок на экране смартфона: – Да? – кивнул. – Да, конечно. Дал указатель поворота. Реле защелкало. – Конечно. Да, прямо туда и подъезжайте. Вы у нас уже были? Я дверь не закрыл. Нет, связи так и нет. «Нива» выкатилась на шоссе. – Хорошо. Приятного отдыха! Я приеду второго января. Он сбросил звонок и обо всем забыл.
* * *
Дорогу к дому Эдик нашел по памяти. Все-таки отдыхал тут осенью. – Почти! – сказал он, когда проехал указатель «Носово». Свернул на первый же отворот со свежими (относительно) следами. «Форестер» вел себя на снежной дороге так, словно под колесами был сухой асфальт, поэтому Эдик покручивал руль, балуясь и дразня идущего позади Дениса. Тот был за рулем «супер Б», никак не предназначенного для бездорожья. Когда на холме показался дом, Вероника сказала: – Ой, красиво как! Она сидела справа, на королевском месте пассажира. Стас, Юра и Кола теснились позади, потому что были друзьями, а не возлюбленными. О чем Эдик не уставал напоминать всю дорогу. Заснеженный дом стоял на небольшом возвышении посреди белоснежного поля, окруженного черным-черным лесом. Рядом с коттеджем приютился сарайчик, хозяин попросил скинуть туда мусорные пакеты перед отъездом. Метрах в двадцати от дома росла наряженная пушистая ель. Надо будет добавить ей красоты! Обязательно! «Форестер» вскарабкался по колее на холм, затем пропахал борозду в стороне от очищенной площадки, чтобы хватила место для машины Дениса. – Все, приехали! – Эдик протянул руку назад, демонстративно сжал-разжал пальцы. – Че тебе надо, обезьяна? – ответил Кола. – Ты знаешь – что. Давай. Время пришло в гости отправиться. Ждет меня старинный друг! Бутылка легла ему в руку, Эдик подмигнул Веронике и вывалился в холод. Осмотрелся, отворачивая пробку. Втянул носом головокружительный воздух и лихо запрокинул бутылку с коньяком, сделав могучий глоток. – Все, я в домике алкоголизма! До новых встреч. Друзья выбрались из машины. Юра и Кола сразу взялись за сигареты – в машине курить им не давали. – Нормалды, – вынес вердикт Кола, оглядев коттедж. Сплюнул в снег, набычившись, обошел машину. Крепкий, вечно хмурый, порою агрессивный и уверенный в себе учитель биологии. Ученики за глаза звали его «ботаном», коллеги держали за глубоко интеллектуального человека, в очках и с тихой речью, но среди друзей Николай Михайлович всегда был Колой. Жестким, грубым, хамоватым. «Супер Б» Дениса проехал ближе к крыльцу коттеджа, мигнули стоп-огни. – Давай сюда, бро, – протянул руку Юра. Глотнул коньяка. – Затек весь. Обратно на Денчике поеду. В жопу твой тарантас. – Сам ты тарантас, – беззлобно отреагировал Эдик. Какая же тут тишина! Кроме голосов – ничего лишнего. Двигатели стихли, и посреди бескрайней зимы остались лишь семь крошечных человечков. – Ну конечно, не «пузотерка» ж, бро, – фыркнул Юра. Стас уже добрался до дома, потянул дверь на себя. – Все ок! Открыта! – крикнул друзьям. Отряхнул ноги и исчез внутри. – Че, пакеты не для благородных господ? Пакеты для быдла? – прокомментировал это Кола. Он буквально высосал сигарету, пряча ее в кулаке, будто матерый вояка, а затем полез в багажник. – Ниче, я не гордый.* * *
До того как в две тысячи четырнадцатом упал рубль, они ездили в Финку. Снимали коттедж на Сайме, в тихом месте, и встречали Новый год там. Теперь развивали, как говорил Эдик, внутренний туризм. Этот домик он разыскал на Букинге, когда хотел встретить золотую осень в Пушкинских Горах. И не пожалел. Окна в пол, внутри все чисто, опрятно, по-скандинавски просторно. Несколько комнат. Прекрасный санузел. Даже джакузи! Осенью с ним увязался Юра, лучший друг детства. Он как раз уволился с очередной работы, с выходным пособием, и поездка вышла особенно душевной, наполненной планами и надеждами. Так что, когда зашла речь о совместной встрече Нового года, – Эдик позвал друзей сюда. И сейчас ходил, горделиво, слушал похвалы, будто о его личном доме говорили. Вероника и жена Дениса, Алина, сразу включили хозяек, распотрошив под десяток пакетов. Зашумел чайник. Загудела микроволновка. На столе появилась бутылка вина, два бокала. – Понеслась, смотрю, – прокомментировал это Эдик. Получил в руку бутылку коньяка. – Пей и не гунди, – посоветовал Кола. – Неплохо, Эдуард, – отметил Денис, поправил очки. – Я, признаюсь, думал, что ты притащишь нас в бомжатник. Неожиданно для рашкинского сервиса. Юра закатил на это глаза, но смолчал. – Надо быть немного патриотичнее, мой белоленточный друг, – подмигнул Денису Эдик. Сделал хороший глоток. Сжевал заботливо протянутый Колой кусочек лимона. Однако все же прошло не очень хорошо. Аж до слез. – Русь, она не в пабликах «Лепры», – сдавленно просипел Эдик. – Сука, не туда попало. Денис улыбнулся в ответ, но ничего не сказал. Политические убеждения у них отличались, но поводом для ссор не становились никогда. Вот Кола да, Кола мог и взъесться, но сейчас не обратил внимания на «рашку». – Пойду елку наряжать! У меня целый мешок гирлянд из Питера. Будет красота! – сказал Эдик. – Помогу, – поставил перед фактом Кола. – А я помогу нашим дамам! – нашел себе занятие Денис. Стас, заглотив свою порцию коньяка, показал всем найденный пульт и молча потопал в гостиную, к огромному телевизору. Кола осклабился. – Сука неизменчивая, – прокомментировал он выбор лентяя. Стас в ответ показал средний палец и вяло бросил: – Я приехал отдыхать. Юра с ухмылкой развел руками, коньяк опять оказался у него. – Помогу Стасу, бро, – сказал он, глядя на Эдика. Говорил он растянуто, подражая растаманам, – ты же справишься с гирляндой без меня, бро? По ушам громыхнул звук включенного спортивного канала.* * *
– Там на крыльце розетка есть. Оттуда и кинем провод, – сказал Эдик, протаптывая дорожку к елке. Давно ее нарядили. Следов вообще никаких. Снега по колено натащило, а игрушки висят. Кто-то праздновал Новый год превентивно. – Мож лопатой? – Кола опять курил, наблюдая за тем, как Эдик уминает снег, держа в руках пакет с гирляндами. – Да потом! Лень. Кола принялся топтаться рядом, иногда поглядывая на темнеющее небо. – Охрененно тихо тут. Просто восторг, – поделился он. Снег скрипел под ботинками. Забивался под штанины. Эдик даже вспотел немного, прежде чем дотоптал проходимую дорожку до ели. Встал под ней. Задрал голову, чтобы посмотреть на верхушку. Три метра минимум, так, значит, нужна стремянка… У сарая была. Он посмотрел на игрушки. Блеклые дешевые шары разных размеров. Бюджетный пластик, взятый где-нибудь по уценке. В целом покатит. Предполагалось, что тут вообще ничего нет. Эдик взял с собой коробку личных украшений, но, пожалуй, ее можно оставить в машине. Гирлянд должно хватить. Эдик уставился на висящий на ветке брелок с заплесневевшей плюшевой коалой. Знакомый. До боли знакомый. В груди ухнуло. – Это че? – спросил Кола. Он присел на корточки, вытащил из колючих ветвей черный чехол от документов. Через дырочку в уголке была протянута красная проволока. – Ну, такое себе украшение, скажу, – натянуто хмыкнул Эдик, не отводя глаз от брелока. Внутри что-то тревожно дернулось. В голове прострелила болезненная иголка. – Какой шуткопердун тут отдыхал, – Кола присел на корточки. Вытащил из зарослей черный чехол от документов. – Это паспорт. На, глянь. – Первухина Мария Олеговна, девяносто шестой год рождения, – прочитал Эдик, раскрыв документ. Полистал отсыревшие страницы. Когда увидел фотографию, то под шапкой сами собой выступили колючие мурашки. Он прищурился, отыскивая другие остроумные презенты, однако уже смеркалось, и темная хвоя да пластиковые игрушки прятали от взгляда лишнее. Следов вокруг ели не было. Тогда откуда это здесь? – Завтра надо будет с утра все обыскать, а то девчонки херню какую придумают, – сказал он. Кола кивнул, но через паузу. Затем приподнялся, оглядывая сумрачные поля: – Разумеется. Но это какая-то стремная лажа. – Почему лажа? Кто-то потерял паспорт. Кто-то нашел. Кто-то охренительный шутник. Я за стремянкой. Когда Эдик закончил развешивать гирлянды, совсем стемнело. Над крыльцом горел фонарь, теплый свет превращал мир внутри коттеджа в райское место. Там шуткам Дениса смеялись девчонки, там смотрел телевизор Стас. Паспорт Марии Первухиной не шел из головы. Как он тут оказался?! Юра так пошутил? В его духе. Идиот. Тревога выворачивала жилы. Но Эдик улыбался грубым шуткам Колы, не показывая испуга. Когда штекер вошел в розетку – елка вспыхнула огнями, синие-красные-белые-зеленые лампочки в разных режимах поскакали по пушистым лапам красавицы. Он обошел новогоднее древо кругом, выглядывая в цветовой вакханалии еще приветы от неведомого остряка (Юра это, кто еще, он ж себе ее взял, Эдик даже… ни разу… или…) – Ништяк, – поделился впечатлениями Кола. Вновь закурил. Дверь из коттеджа распахнулась, наружу вывалились девчонки во главе с Денисом. Ника захлопала в ладоши. Эдик двинулся к дому, стараясь не оборачиваться на елку. – Общее фото! Общее фото! – потребовала Вероника. – У тебя камера хорошая, давай на твой. Друзья собрались за его спиной, сурово нахмурился Кола, расплылся в елейной улыбке Денис, Стас показал козу. Ника вытянула губки. Эдуард щелкнул общую «себяшку» несколько раз, на всякий случай, и сунул телефон в карман. Паспорт. Паспорт. Он вытягивал из памяти что-то смутное. Будто засохшая в носу козявка, тянущая из недр организма мерзкую слизь. Эдик улыбался шуткам, глотал крепкий алкоголь, то и дело целовался с Никой, но из головы не шло – паспорт. Как он оказался тут? Сумочку выбрасывал Юра, но следов вокруг елки ж не было. Друг хохотал громче всех, сыпал тостами и на вопросительные взгляды Эдуарда реагировал лишь недоуменно вздернутыми бровями, что тебе, мол, надо, бро. Черт, что еще найдется на паршивой елке? Хозяин, может, откопал? И почему это так страшно? Почему он думает о поганом документе, а не о том, что они сделали?! Перед сном Эдик поставил будильник на пораньше. Завалился в кровать, пьяный, уставший, передергавшийся из-за паспорта, но, на удивление, уснул сразу же. Сказался долгий переезд, почти шесть часов за рулем. Алкоголь, свежий воздух и тяжелая рабочая неделя. Он провалился в теплые лапы сна без сновидений и дрых так, как давно не получалось в городе. Лишь на рассвете вздрогнул от хлопнувшей двери, поднял веки, тяжеленные, как контейнеровоз, но не выдержал их веса, перевернулся на другой бок и уснул, обняв Нику. Будильник он тоже проспал. Вырубил на автомате, забыв все тревожные мысли, которые терзали его накануне. И лишь когда дом ожил после бурного веселья, пожалел о слабости. На глазах у всех такие вещи не проверяют. В груди трепетал ужас. Как только хватило ума вернуться сюда после такого? Как он вообще мог просто выбросить из головы то, что случилось? Гостиная пропахла перегаром, поэтому утром окна распахнулись, невзирая на зиму. Кола вставать отказался, лишь завернулся в одеяло. Стас же поднялся бодрячком, будто и не пил наравне с товарищами почти до утра. Включил телевизор и теперь тянул кофе, слушая какие-то местные пушкиногорские новости. За окном зарядил снег. Крупные хлопья неторопливо падали, погребая под белым одеялом окружающий мир. Скукоживая мир до небольшой избушки в позабытой деревне. – Опять все завалит, Эдуард, – сказал Денис. С шумом прихлебнул кофе. Он не пил алкоголь уже второй год. В молодости квасил так, что с ним и пить-то опасались, а теперь все. Чистый, правильный. Алина сделала из него человека. И благодаря ей он стал приверженцем секты свидетелей Навального. – Что, думаешь, не выберется твоя дорогая тачка? – через силу ухмыльнулся Эдик. – Боишься, буржуй? – Не боюсь. Она хорошо по каше чешет. Не завидуй. Так, какие у нас планы? Я думаю на лыжах после завтрака. Или, может, смотаемся куда посмотреть? Что в этих краях есть достойное, европейского уровня? Без духовных скреп. – Савкину горку можно глянуть, из того что имеет смысл вообще посещать зимой, – пожал плечами Эдик. Голова немного болела, привет шейному остеохондрозу и местным подушкам. В бардачке был цитрамон, но до него предстояло добраться. – Зимние пейзажи отличаются однообразием. Прозвучало уныло. Разве ради этого он вытащил друзей сюда? Ведь их поездка с Юрой была ой как хороша. Они столько видели! Эдик поперхнулся. Черт. Сдавленно продолжил: – Но горка дивная. Еще в Тригорское имеет смысл заехать, на скамью Онегина посмотреть. Тут все рядышком. Если не зарядит плотно, то, может, и мы съездим. Должно быть красиво. Там такой вид на поля! Культура, Денис. Русская. Тот скривился со скепсисом. – Мальчики, а где Юра? – спросила вошедшая на кухню Алина. Эдик нахмурился, вспомнил утренний стук и произнес: – Пожалуй и я пройдусь.* * *
Он выбрался на улицу, подошел к елке. Снег неторопливо оседал на земле кусками пепла с крупного пожара. Эдуард обошел новогоднее дерево. Увидел ридикюль. Чехол от мобильного телефона с розовым котенком. Черт. Юра. Точно Юра! Содрав все «подарки», он посмотрел на лес. И на цепочку следов сквозь поле, уводящую в рощу. Да что он делает?! Эдик торопливо зашагал по проторенной Юрой дорожке. Это не может быть совпадением. Не может! Он старался попадать ногой в пробитую броню снега, чтобы не ломиться по пояс. Юра утром встал, выбрался на улицу и двинул бульдозером туда, куда ходить и не стоило. А на поганой елке висели вещи той сучки. Они же договаривались. Эдик, правда, не мог вспомнить самого разговора, но был уверен, что обсуждал судьбу шмоток! – Спокойно, Эдуард, спокойно, – непонятная тревога душила, колола под языком. Стрельнула боль в затылке. – Юра, твою мамашу, куда тебя понесло, придурок? Когда над головой сомкнулся бесшумный лес – Эдик уже вспотел. Расстегнул пуховик, остановился. Тишина. Абсолютная тишина, в которой его дыхание казалось оглушительным. Громогласным. Однако несмотря на тревожную ситуацию, охотник в душе Эдика пробудился. Походка изменилась, стала мягче. Он даже пригибаться начал, преследуя друга. Юра одержимо шел по прямой. Он ломился сквозь заросли, спрыгивал в овраги, карабкался на их склоны, будто никак не мог свернуть с проведенной кем-то линии. Направление приятель выбрал верное. Что на него нашло?! Склон. Прогалина болота. Перелесок облетевших берез, сквозь черные скрученные ветви-пальцы падал снег. Овраг. Куда шел Юра, было ясно. Непонятно только, что за муха его укусила. Когда Эдик пробился к отвалу сквозь бурелом, то увидел приятеля внизу. Река делала поворот, огибая небольшой мыс и создавая естественный затон, хорошо скрытый от любопытных глаз. С крутыми сходами к воде, поросшими густыми зарослями осин. Само чутье вывело их тогда к этому месту. Друг лежал среди зарослей, раскинув руки и глядя в небо. Эдик осторожно спустился, подошел ближе. Юра судорожно дышал, как после бега. С сипом. Остекленевшие глаза не мигали. – Ты что сделал, дурак? – спросил Эдик, косясь на пролом во льду. Юра голыми руками разодрал голубую броню реки, вскрыв тайник. Растаскал камни, ветки, бутылки и нанесенную с дороги полиэтиленовую дрянь, вытащив со дна затончика тело. Но едва голова покойницы показалась над водой – силы Юру, видимо, оставили. – Зачем… – сказал Эдик. – Зачем?! – Я должен был, – прохрипел Юра. – Должен был. Это важнее всего. Важнее всего, бро. Эдик присел на корточки, обхватил голову руками. Черт. – Нахера ты сюда полез?! – Зачем я это сделал? – вдруг ясным голосом спросил лежащий. – Зачем? Эдик? Это ты? Зачем мы это сделали? Зачем мы убили ее? Эдик пожал плечами. Так случилось. Хотели просто развлечься. Причем хотел именно Юра, с серьезными отношениями не дружащий. Это он взял себе девочку у Острова. Снял придорожную шлюху на сутки. Эдик поворчал, но разрешил. Сам отказался наотрез, измены Нике в его хобби не входили. Сюда приехали и… Что-то нашло на них. Что-то будто пришло извне, обняло теплом, и все, что осталось в памяти – невероятное наслаждение от терзаемой мертвой плоти. Он трахал ту шлюху из Острова даже после того, как убил ее. Эдик похолодел. Этого не могло быть. Этого просто не могло быть. Сорвало какой-то блок в памяти, и теперь она глумливо подкидывала кровавые воспоминания. Которые вообще никак нельзя было забыть, но Эдик смог. – Зачем ты вытащил ее, Юра? – Я не могу, бро. Я не могу. Я должен был. Проверить, – прошептал друг. О, как он визгливо смеялся, когда кромсал грудь этой сучки. Черт, они были животными в тот день. Однако от воспоминаний в паху Эдика стало тесно. Он облизнулся. – Мы не должны были возвращаться, – плаксиво сказал Юра. Тот самый отважный Юра, который вышел против пятерых бухих скинов, когда те докопались до Эдика в ночном клубе. Вышел, чтобы отправиться потом в больницу на три недели. – Зачем мы вернулись? Как мы ЗАБЫЛИ это, Эд?! – Не знаю. Сейчас он помнил все. Но готов был поклясться: когда подъезжал к Носово, помнил только, как они три дня бухали вместе с Юрой, катаясь по окрестностям. Сучку из Острова он вспомнил, лишь когда нашелся ее паспорт. А что с ней сделал, в деталях, – лишь сейчас. Раньше тревога была. Непонятная, неосознанная. Но теперь-то… – Не понимаю… – Я надеялся, что мне показалось, бро. Надеялся, что показалось, – пробормотал Юра. – Но я пришел сюда и… Нашел. Как это случилось, бро?! Мы должны рассказать об этом. Тепло окутало Эдика. Плечи расправились, в паху стало совсем тесно. Он поднялся, взял из осенней могилы камень (осенью они таскали булыжники несколько часов, забрасывая труп в неглубоком, по пояс, затоне) и подошел к другу. Юра его не видел. Пустые глаза кровоточили, губы почернели. Камень в руках будто нагрелся. – Это не мы, – жалобно всхлипнул Юра. Эдик вспомнил, как в общаге его друга бросила невеста. Он тогда единственный раз видел Юру плачущим. – Это были не мы. – Ты жалок, – сказал Эдик. И улыбнулся. Ему давно не было так хорошо, как сейчас, в этих роскошных объятьях. Это было почти как тогда, когда девку для секс-выходных захотелось убить. Когда пришло то тепло, словно из детства. Момент гармонии тела, духа и мира. Он посмотрел на раскуроченную могилу. Вода была черной, как нефть, и из нее жирным пузырем торчала голова сучки, затянутая пищевой пленкой. Все вокруг в крови Юры. Следы не замести. Если кто-то пойдет по ним от коттеджа – то здесь Эдика и застукает. Тепло вдруг схлынуло. Камень упал на лед. – Помоги мне… – сказал Юра. Заворочался, встал, пошатываясь. Навис над сидящим другом. – О, как тепло. Как тепло. Да… Я должен. Должен ее трахнуть. Эдик изумленно уставился на приятеля. Лицо того искривилось в уродливой гримасе. – Должен трахнуть твою сучку. Должен ее трахнуть! Она будет двадцатой! Из носа Юры показалась черная капля крови, лениво повисла темной соплей. Изуродованные ладони с белеющими костяшками пальцев сжались в кулаки. – Ты привез ее, чтобы мы все могли ее трахнуть! Это был не Юра. Черт, а кем был сам Эдик минуту назад? Стало страшно. Захотелось бежать прочь, по льду, без оглядки. Пусть его возьмет полиция за убийство – это ерунда. Это действительно ерунда по сравнению с тем, что… Тепло вновь окутало его. Рука сама взяла нагретый камень. Эдик поднялся навстречу ошеломленному Юре. – Это… Это… Не я… – пролепетал тот. Булыжник врезался Юре в висок. Тот вскрикнул, упал на лед, закрываясь руками. А Эдик грохнулся на колени рядом и бил камнем до тех пор, пока холодный булыжник не стал чавкать в жуткой смеси кости и мозгов. Удары наполняли сердце восторгом. Счастьем. Чужим счастьем. Когда кровь на лице стала остывать – Эдик сел рядом с мертвецом и потерянно посмотрел на цепочку следов, ведущую наверх, к коттеджу. – Твою мать… – провыл он, вздрагивая всем телом. – Твою ма-а-а-ать… Было холодно. Чертовски холодно. Но голова горела, как кислотой облитая. Он вытер лицо снегом и стряхнул розовые хлопья. Посмотрел на дрожащие окровавленные пальцы. Облизал их, тщательно, один за другим. – Ника… – вскинулся он. – Ника! Встал, содрогаясь от крупной дрожи. С трудом сделал первый шаг, замерзший, ослабший. Затем второй. – Ника… Он пошел назад, к коттеджу. Это тепло… Это тепло могло взять любого из его друзей. Ему невозможно сопротивляться. Ведь это почти материнские объятья. Мягкий кокон долгожданного сна, наделяющий жаждой крови. Эдик тяжело встал и побрел обратно к дому. В голове все спуталось. Он знал и не знал. Он думал о друзьях и незнакомцах. Лица будто таяли, смывались. С памятью творилось что-то странное. Эдика вырвало. Он карабкался по склону, цепляясь за тонкие, холодные ветви. Мозги выкручивало. – Ника, – повторял он. – Я убил Юру. Надо уезжать. Это тепло. Это тепло! Эдик боялся забыть и это. Он уже не был уверен, что Юра вообще приехал с ними. Что-то вымарывало из головы воспоминания о друге. Оставалось лишь желание прыгнуть за руль автомобиля и мчаться прочь, подальше. – Я убил Юру, – пыхтел он себе под нос, теряя смысл фразы. – Надо уезжать. В лесу взвизгнули. Эдик остановился, как олень, заслышавший хруст под сапогом охотника. Повернулся. Среди заснеженных березок, в двухстах метрах от окровавленного Эдика – Денис повалил на снег свою жену. Красную куртку сложно было перепутать с чем-то еще. Тепло взяло его. Тепло нашло лыжников в начале маршрута. Надо спешить. Пока оно занято – надо спешить. Алина завизжала, как раненый зверек, но вопль тут же умолк. Красная куртка Дениса плюхнулась поверх распластанного тела. Эдик побежал прочь, к полю. – Надо уезжать… – всхлипнул он. – Это тепло!* * *
У самого дома Эдик остановился, мокрый от пота, ничего не соображающий, задыхающийся. Взгляд упал на машину. – Я убил Юру… – выдохнул он. – Надо… Бред. Юра ж отказался ехать. То ли приболел, то ли… Мысли ворочались неохотно. Где-то на полпути они спотыкались о невидимый блок и летели кувырком. Эдик посмотрел на свои окровавленные руки с изумлением. Что это? Дверь коттеджа распахнулась, и на улице появился Кола. Он пьяно вывалился на крыльцо. Спущенные штаны цеплялись за щиколотки. На лице друга расплылась счастливая улыбка, а рот был красным от крови, будто он рвал сырое мясо зубами. – Надо уезжать… – прошептал Эдик. Он никак не мог вспомнить, зачем пришел сюда. Откуда. Почему так болят пальцы. Почему его друг перемазан кровью. И где Денис? Они ведь приехали сюда втроем. – Двадцать, – сказал Кола. В сердце выло, стенало, ревело чувство неправильности всего происходящего. Колючие лапы копошились в воспаленном мозгу в поисках ответа, но лишь ранили память, не в силах отыскать его под теплым саваном чуждости. Эдика снова вырвало. Когда волна тепла вернулась, он заплакал, отпрянул. Но уже через пару секунд выпрямился, расправил плечи и встретил понимающую улыбку себя. Он увидел себя в себе. Он был на пороге и нет. Он шел по лесу и стоял со спущенными штанами. Он был приятно опустошен. Ему было достаточно. Саша вошел в дом, переступив через труп мужчины с расколотым черепом. Он пытался помешать. Он отказался подчиняться, как тот, у реки, и его пришлось убить. Защитничек. В гостиной на кровати лежала сломанная женская фигурка. Двадцатая. Договор исполнен. Нужно прибраться. Нужно хорошо прибраться. Папа не должен узнать. Когда хлопнула дверь – Саша обернулся на себя в красной куртке. Взгляды пересеклись, усилились, взорвали окружающий мир взаимопониманием.* * *
Ехали они в молчании. Обычно говорливый Кола сейчас тишину не нарушал. За Островом Эдик остановил машину. Вышел из нее, попросил у Колы сигарету. Дым, вонючий с непривычки, ворвался в легкие. Голова кружилась. Он все пытался понять, куда пропал день. Перепил? Да вроде бы и не увлекался. Но чувство неправильности не оставляло. В прошлый раз, когда он ездил в Носово с Юрой – вернулся обновленным, счастливым. А сейчас… Позади на обочину выкатился «супер Б» Дениса. Замигала аварийка. Эдик курил, чувствуя себя разбитым на миллион осколков и неправильно собранным. Ника не отвечала на звонки, и даже это казалось чудовищно неправильным. Он будто бы и знал, что подруга не ответит, но не понимал, куда она запропастилась. Душу крутило. Денис вышел из машины, сунул руки в карманы красной куртки. Подошел к нему, молча встал рядом. – Не отвечает? – спросил его Эдик. Друг никак не мог дозвониться до жены. Кола не мог связаться ни со Стасом, ни с Юрой. Они куда-то вместе учесали? Но как так вышло-то? Обычно же всей компанией празднуют. В Носово ж собирались! Почему, в итоге, они уехали в другое место?! В голове висел туман. – Какой-то херовый выдался Новый год, да? – попытался пошутить Денис. – Как-то все не так, как планировалось, да? Эдик затянулся еще раз, глядя на черную грязь трассы, налипшую на белизну окружающих полей. – Мне тревожно, Эдуард, – покачал головой Денис. – Мне ужас как тревожно. Что-то не так, понимаешь? – Не ссы, – Эдик выплюнул сигарету. Подошел к другу, обнял его за плечо. Вытащил из кармана телефон. – Дружеская «себяшка». Привычное движение пальцем. Хлоп, хлоп. Вылезает камера. Денис улыбается натянуто, в глазах страх. Щелк-щелк. Машинальная проверка кадра. Движение пальца. Семь лиц с елкой на фоне. Семь оздоровляющих уколов в память. – Твою мать… – тихо сказал побелевший Денис. Телефон вывалился из онемевших рук Эдика и грохнулся на дорогу. – Твою…* * *
Когда «Нива» выехала к полю – Степан нажал на тормоз. Минуту сидел недвижимо, глядя на коттедж и вцепившись обеими руками в руль. Что-то изменилось. Дом не встречал его, как родного. Он стоял среди снегов, опустевший, чужой. Всего лишь одно из строений заброшенного поселка. Будто жившая в нем частичка Саши окончательно ушла. Степан вышел из машины, растер лицо снегом. Вновь глянул на коттедж, хищником затаившийся последи поля. Поправил шапку. От чувства утраты ныло сердце. Он потер грудь ладонью. Затем влез в автомобиль, развернулся и уехал.Владимир Чубуков. По течению обратного года

Глава первая. Чудовища уже здесь
Во второй половине дня на улицах чувствовалось особенное оживление, восторженная суета, приятный предпраздничный зуд, но загустевали сумерки – и проступала тревога. Она ползла из каких-то микроскопических щелей обыденности, словно случилось нечто еще неосознанное, но уже непоправимое. Как будто капельки яда упали в чашу праздничного напитка, и дымчатые нити отравы растекаются в ней. Дрюня, тридцатипятилетний дурачок, светлая душа, лучший друг всех городских существ, что статусом ниже человека, но выше насекомых, шел по улице Чайковского, с улыбкой разглядывая дома и людей, попадавшихся навстречу. Любил он этот предновогодний день, последний в декабре, любил и улицы, вроде Чайковского, что начинались едва ли не в самом центре города или даже прямо в нем и уходили в диковатую западную окраину, гористую, лесистую и таинственную. Кроме Чайковского такими улицами были еще Октябрьская, Грибоедова, Рубина и Новороссийской Республики, переходящая в улицу Красных Военморов. Каждая из них предлагала почти волшебное путешествие для всякого, кто решит пройти их от начала до конца. Особенно любил Дрюня, когда очарование улиц сочеталось с другим очарованием – предновогодним, и одно волшебство намазывалось поверх другого, как джем на сливочное масло; вот тогда и рождалась неповторимая атмосфера, окунуться в которую можно лишь раз в году. Но сейчас Дрюня чувствовал в атмосфере непонятный изъян – темную червоточину, которая ширилась и углублялась, внушая беспокойство, впрочем, пока еще легкое. Дрюня уже миновал предпоследние дома и проходил мимо последних, за которыми улица превращалась в горное ущелье: там смыкались кроны высоких деревьев, чьи голые ветви казались снизу трещинами, покрывшими небо, до сих пор светлое в этот час. Навстречу шла женщина. Она выходила из ущелья, которое, чем дальше от последних домов, тем становилось все более непролазным. Дрюне отчего-то сделалось жутковато – отчего, он и сам не понял. Обычно он не заговаривал с незнакомыми прохожими, но сейчас заговорил в каком-то смущении, разогретом на легком огоньке страха. – Здравствуйте! С наступающим вас! – сказал он женщине, сдобрив натужное приветствие лживой улыбкой. Та молча прошла мимо. Дрюня испуганно шел вперед, его несла инерция, и он уже понял, чем же был встревожен, какова причина внезапной жути, налипшей на сердце. В необычных ситуациях Дрюня с задержкой анализировал факты и сопоставлял детали. Вот и сейчас он запоздало складывал, одна к одной, все странности этой мимо прошедшей женщины. Во-первых, она голая. И пусть день необычайно теплый по меркам декабря, плюс семь или восемь градусов Цельсия, но не настолько же, чтоб разгуливать голышом по улице. Во-вторых, женщина без головы. Над плечами у нее возвышался обрубок шеи, покрытый коркой спекшейся крови, выше только пустота. В-третьих, свою голову она несла в прозрачном целлофановом пакете, свисавшем из ее левой руки. В-четвертых, голова – Дрюня твердо был в этом уверен – смотрела на него сквозь пленку мутными, но все ж таки внимательными глазами, зрачки которых двигались. Дрюня трусливо оглянулся и увидел безголовую со спины; она удалялась по улице. Пришел настоящий страх и какая-то совсем уж нелепая обида – на то, как подло поступила с ним жизнь, подбросив ему страшное и ни с чем несообразное явление в виде этой женщины с головой в пакете. Дрюня расплакался, пустив скудные, малодушные слезы. Шел вперед и с подвыванием плакал и от страха, и потому, что идет сейчас вглубь ущелья, а развернуться и пойти назад боязно, ведь там – она! И что если ущелье выпустит ему навстречу еще что-нибудь не менее страшное? Или затянет в себя и не отпустит, присвоив его себе, как безвольную вещь? Кое-как оценив страхи и риски с обеих сторон, он все-таки нашел силы развернуться и торопливо двинулся в обратный путь. Он уже миновал несколько пар домов, стоявших слева и справа, и прошел через легкую излучину улицы, когда впереди показалась давешняя безголовая женщина. Она отворила калитку, видимо не запертую, и вошла в один из дворов. Дрюня видел, как идет онапо двору, как подходит к дому и, открывши входную дверь, исчезает внутри. Дрюня замедлил шаг. Проходя мимо дома, куда вошла безголовая, он смотрел не на дорогу перед собой, а на дом. В окнах мигали новогодние цветные огоньки, слышалась негромкая музыка, приятный легкий джаз. И когда Дрюня уже прошел мимо, раздался крик – вопль ужаса. Непонятно: мужской, женский или детский. Кричали в доме. Дрюня тут же остановился и развернулся к дому. В этот миг оборвалась музыка, и окна потемнели. Ослепшие, они косились на Дрюню с угрозой. Дом, только что живой, теплый, наполненный прелестью близкого праздника, стал мертв и холоден. Входная дверь приоткрылась, но не вышел никто на порог. В движении этой двери почудилась Дрюне злая усмешка чудовища, которое отчасти утолило голод, но было не прочь сожрать кого-нибудь еще. Дрюня развернулся и во весь дух побежал прочь, перейдя на шаг лишь когда достиг людного места – автовокзала почти в самом начале улицы. Пройдя автовокзал, он вышел на улицу Сипягина, свернул на Бирюзова, оттуда на Советов – центральную в городе. Можно было выбрать маршрут и покороче, но он старался идти там, где больше людей. Пока добирался домой, много странностей встретилось по пути. Разум его теперь не притормаживал с осознанием зловещего абсурда, но схватывал все на лету, словно бы, после безголовой женщины, перед ним открылась какая-то новая дверь восприятия. Сквозь проем этой двери наблюдал Дрюня жутковатые явления, попадавшиеся навстречу. Мужчина в плаще и шляпе, у которого лицо было на затылке, а затылок, заросший волосами, – на месте лица. Девочка с птичьим клювом телесного цвета вместо носа и рта. Белая кошка с жабьей головой, покрытой редкой шерстью, из-под которой просвечивала зеленая кожа рептилии; гибрид проводил Дрюню холодным злобным взглядом, сидя на подоконнике в окне первого этажа дома, мимо которого шел Дрюня. Тварь, перелетевшая с рекламного щита на дерево, похожая на медузу с пучком прозрачных щупалец, колыхнувшихся под ней, и с кожистыми крыльями летучей мыши. Толстая женщина в собачьем ошейнике, с затравленным взглядом и двумя большими сумками, откуда торчали кости с остатками мяса; за ремешок, прикрепленный к ошейнику, вел толстуху шагавший впереди карлик со сморщенным лицом старца, ростом с пятилетнего ребенка. Дрюня, проходя мимо, завороженно смотрел на все эти нелепости. Сердце отчаянно колотилось. Он старался внешне ничем не выдать, что видит все это, где-то в глубине себя понимая: видеть такое нельзя, и всякий, кто видит, находится в опасности. И все-таки не спешил сесть в автобус или троллейбус на ближайшей остановке, а продолжал идти пешком, ожидая новых зрелищ. Огромный жирный человек, стоя у припаркованного у тротуара черного минивэна с тонированными стеклами, сделал Дрюне глазами едва заметный знак – давай, мол, ко мне! – и оскалил в улыбке широченный рот с мелькнувшими меж губ настоящими звериными клыками. Мурашки поползли по коже, когда Дрюня увидел эти клыки. Сумерки, собираясь на земле, в самых темных нишах и углах, перетекали вверх, словно сажа над зловонным костром, и уже почернело небо, закопченное землистыми тенями. Повсюду загорались огни. Веселые, яркие, цветные – они рассеивали тревогу, но лишь отчасти. А в некоторых праздничных огоньках Дрюне чудились горящие глаза выжидающих неведомых тварей – голодных сумеречных охотников. На автобусной остановке «Улица Серова» стояли сиамские близнецы: единые до пояса, выше они разветвлялись на двух человек, словно буква Y. Дрюня, слегка уставший, тоже встал на остановке, раздумывая – не дождаться ли ему транспорта? Или все-таки пойти дальше пешком? Он очень любил долгие пешие прогулки. Пока решение не пришло, посматривал на близнецов. Прислонив к уступу, ограждавшему остановку, обе свои трости, неловко, всеми четырьмя руками, мешавшими одна другой, близнецы пытались расстегнуть ширинку на брюках. Вскоре они одолели все пуговицы, чуть приспустили штаны и начали ковыряться у себя в паху. Наконец из расстегнутых брюк вывалилась какая-то безобразная опухоль. Присмотревшись, Дрюня понял: то не опухоль – а человеческое лицо, щеки и подобие подбородка покрыты редкими и длинными волосами, завившимися в мерзкие кольца. Глядя перед собой выпученными полоумными глазами, оно распахнуло рот и начало блевать на асфальт под ноги близнецам. Вся фигура стояла, неловко покачиваясь, расставив чуть согнутые в коленях ноги, напоминая уже X, а не Y, пока изо рта меж ног выплескивались белесые сгустки рвоты, в которых, показалось Дрюне, извиваются длинные темные черви. Когда подъехал автобус, близнецы не сдвинулись с места, Дрюня же вошел в украшенный праздничными гирляндами салон. Дома Дрюня решил пока никому ничего не рассказывать про то необычное, что увидел сегодня. Он жил с мамой, отчимом и младшим братом, которому в ноябре стукнуло двадцать четыре. Своих близких Дрюня очень любил и не хотел их ничем огорчать, а такие известия – что по улицам бродят чудовища – несомненно, расстроили бы всякого.* * *
Зато дома – с облегчением и удовольствием почувствовал Дрюня – предновогодняя атмосфера не имела никаких изъянов. Елки, правда, не было, зато мохнатые и блестящие гирлянды вместе с цветными лампочками, стеклянные елочные украшения разных форм и сосновые веточки висели в доме повсюду. Пес Морфей, здоровенный, как теленок, с блестящей гирляндой вместо ошейника, возбужденный и радостный, прыгал вокруг Дрюни; лапы, скользя, разъезжались по плитке пола. Мама, Элеонора Юрьевна, хлопотала на кухне, поцеловала Дрюню в щеку, сунула ему на пробу ложку не пойми чего, он послушно поглотил – вкусно-то как! А меж тем в бессмертных советских аудиоколонках S-90, установленных в смежной с кухней гостиной, пел чей-то тоже советский, позабытый ныне голос. Мама у Дрюни была фанаткой качественного звука и старых советских песен, собирала редких, по нынешним временам, исполнителей, вроде Юрия Хочинского, Гелены Великановой, Леонида Кострицы, Сергея Мамырева, Галины Фотеевой, Ирины Бржевской, чьих имен не ведал уже почти никто. Из кухни Дрюня прошел в коридор, соединявший три комнаты, в которых обитала семья: сам Дрюня, отчим Стас с мамой и брат Сергей. С братом с недавних пор жила его девушка Женя, милая, но слишком уж переменчивая: временами порывисто-восторженная, временами заторможенная и отстраненная. Из комнаты брата сквозь дверь сочился старый добрый Black Sabbath. Над липким торфяным болотом засасывающей музыки туманом вился плаксиво-инфернальный голос Оззи Осборна. Дрюня хард-рок не жаловал, у Black Sabbath ему нравились только клавишные инструменты – синтезатор, фортепьяно и меллотрон, – а мрачная жесткая электрогитара раздражала его. Дрюня был сторонник мягкой таинственной музыки с тягучими, как мед, гитарными соло. В комнату к брату Дрюня заходить не решился: вдруг Сергей и Женя делают что-то такое, чего посторонним видеть не следует, а дверь, как всегда, не заперли. Они в этом смысле жутко беспечны. Как-то раз Дрюня заглянул к Сергею и увидел нечто такое, что можно представить только в непристойных фантазиях. Женя голышом, в одних едва заметных трусиках, сидела на полу, в позе лотоса, прислонясь к стене, тело застыло в судороге, одна грудь словно бы втянута внутрь себя, другая – напротив – вздернута вверх, руки неестественно вывернуты, лицо запрокинуто, глаза открыты, зрачки закатились под верхние веки. Это страшное, каталептически застывшее тело в безумном исступлении осыпал поцелуями Сергей, стоя перед Женей на коленях. Его пальцы блуждали по ней, как по антропоморфному музыкальному инструменту. Она, похоже, полностью отключилась в медитации, а Сергея именно это и возбуждало. Застыв на пороге, Дрюня с оторопью наблюдал жутковатое зрелище. Сергей вскоре заметил брата, но его руки и губы так и продолжали свое дело, не в силах остановиться. Потом Сергей говорил Дрюне: «Женя, она почти святая, у нее высокие состояния, а я профан, я в йоге на самых низших ступенях, но через Женю могу ведь и к высшим приобщиться. Когда она входит в транс, я, так сказать, сбоку подкатываю и снимаю сливки с ее состояния. Безумно люблю ее, черт возьми, а через любовь прикасаюсь к ее духовным вершинам, вот этими руками прикасаюсь, губами, ну, и так далее. Да, я, конечно, как тот насекомый паразит, что приобщается к человечности, когда кровь сосет из людей, но что ж поделать, и паразитам надо как-то возвышаться». С тех пор Дрюня старался пореже заходить к Сергею в комнату, а если уж необходимо было, то ждал, пока в ответ на стук из-за двери не прозвучит разрешение входить. Сейчас Дрюня, миновав комнату брата, прошел к себе. Закрыл дверь на шпингалет. Следовало разобраться в том, что довелось увидеть на улицах города. И понять, что все это значит. В такие моменты – когда Дрюню мучили вопросы – он знал способ, которым разрешались сомнения, но побаивался его. Впрочем, боязнь была не настолько велика, чтобы остановить Дрюню. Он достал из ящика стола фотографию в тонкой металлической рамке. На фото был его родной отец. Погиб он так давно, что Дрюне приходилось напрягаться, чтобы назвать точное число лет, прошедших со дня его смерти. Сейчас этих лет скопилось уже целых двадцать восемь. Отец работал в небольшой фирме, которая снабжала питьевой водой офисы разных учреждений. В тот день он доставил воду в офис компании «Интертранс Логистик». И когда в кабинете на первом этаже установил последнюю девятнадцатилитровую тубу с водой, уютное помещение вдруг превратилось в ад. Взорвался газ, скопившийся в туннеле подземной коммуникации, по которому к зданию компании были проложены всякие разные кабели. Само здание не было газифицировано, утечка произошла из трубы, проходившей под землей и доставлявшей газ к совсем другому зданию. Просочившись в коммуникационный туннель, газ скопился под офисом. Огненная волна взрыва взломала пол в кабинете на первом этаже. Отец стоял возле кулера, дальше всех от входной двери, потому и получил самые сильные ожоги. Даже легкие обожгло изнутри, когда он вдохнул раскаленный воздух. Он и еще две женщины, работавшие в том злополучном кабинете, были доставлены в больницу с ожогами разной степени. Самая сильная степень – у отца. В тот же день всех пострадавших перевезли в лучшую больницу края, в Краснодар. Женщины выжили, а отец пролежал в коме одиннадцать дней и скончался, не приходя в сознание. Мама не рассказывала семилетнему Дрюне никаких подробностей о смерти отца, но какой-то незнакомый человек подошел к мальчику на улице, склонился и стал шептать на ухо, и в этом шепоте влилась в Дрюню вся правда о его отце, после которой начались у него кошмары. Незнакомец красочно расписывал, как мучился отец в огненных челюстях чудовища из подземелья, как переродился в них и перестал быть похож на человека, как долго умирал потом в больнице. И когда шептун ушел, Дрюня остался один на один с ужасом правды, которая принялась пожирать его изнутри. Кошмары мучили наяву, наползая вместе с припадками, во время которых Дрюня корчился в конвульсиях, подобных эпилептическим, и кричал в сильнейшем ужасе, а иногда дико хохотал. Дрюне виделись в галлюцинациях человекообразные чудовища, иногда огненные, иногда, напротив, холодные и скользкие, как слизни. Когда чудовища были огненные, они нападали на Дрюню и других людей. Когда были холодными, нападали только на людей вокруг Дрюни, его самого не трогая. В этих последних кошмарах бессильный помочь Дрюня наблюдал, как скользкие твари терзают и убивают людей, и при этом испытывал подлую радость от того, что жертва – не он, что он в стороне. Во время таких-то стояний в сторонке бившийся в конвульсиях мальчик и начинал хохотать. Этот бесчеловечный хохот казался его матери страшнее, чем крики ужаса во время тех припадков, когда Дрюне мерещились огненные твари. Через два года припадки усилились, сделались чаще и продолжительней, и после них мальчик уже не приходил в себя так быстро, а подолгу пребывал в подавленном сумеречном состоянии, словно не мог отряхнуться ото сна. Наконец он и вовсе перестал возвращаться в нормальное состояние: муторный полусон сменялся припадком, после чего вновь наступал полусон, просветов между ними уже не оставалось. А потом все внезапно кончилось: припадки с галлюцинациями прекратились, сон наяву рассеялся, Дрюня больше не вопил от ужаса и не хохотал так безумно, взгляд его прояснился, лицо вновь озарилось чистой детской улыбкой, но умственные способности мальчика понизились. Разум его застыл на уровне развития ребенка четырех или пяти лет. Мама, у которой после смерти мужа и непонятной болезни сына пробились первые седые пряди (а ей ведь тогда и тридцати не было), все-таки пришла в себя, вновь ощутила радость жизни, второй раз вышла замуж, родила второго сына и была счастлива, несмотря даже на то, что старший сын рос дурачком. Главное для нее, что Дрюня больше не мучается от кошмарных припадков, а что интеллект не развит – не беда. Дрюня прекрасно понимал мамино состояние: он чувствовал, что она не стыдится его, не испытывает к нему отвращения и заботится о нем не из-за того, что долг обязывает, а просто потому, что сердце переполнено материнской любовью. Но при этом мама кое-чего не знала о своем сыне. Не знала, что иногда он умнеет. Это Дрюня от нее скрывал. Он сам не мог разобраться, что именно с ним происходит, как это объяснить и оценить. Знал одно: когда он начинал разговаривать с умершим отцом и чувствовал, что тот его слышит, разум у Дрюни на короткое время прояснялся, становился вполне взрослым, способным анализировать и рассуждать, даже философствовать. Когда эти моменты ясности заканчивались, Дрюня начинал дремать, потом просыпался и не мог вспомнить, что происходило с ним – о чем он думал и что чувствовал, поэтому, пока ясность рассудка его не покинула, делал записи в толстую общую тетрадь. Он верил, что мертвый отец прикасается к его разуму с той стороны смерти, правда, не говорит напрямую, но внушает мысли, которые как бы сами возникают в голове в ответ на Дрюнины вопросы. Записавши в тетрадь эти мысли, Дрюня потом читал и перечитывал свои записи, но почти ничего в них не понимал. Слова-то были ясны, если брать по отдельности, а во что они складывались, их общий смысл – то была загадка. О своем общении с умершим отцом Дрюня около трех лет назад рассказал Сергею, дал ему свою тетрадь, просил помочь разобраться в записях, только умолял родителям ничего не говорить. Сергей, впервые познакомившись с этой тетрадью, был ошарашен. Брат-дурачок вдруг открылся для него с неожиданной и невероятной стороны, на Сергея даже повеяло легкой жутью. И сейчас, придя домой с прогулки, взволнованный Дрюня решил спросить отца о тех пугающих явлениях, которые наблюдал на улицах. Он поставил фотографию отца на пол, прислонив к ножке стула, чтобы не упала, сам лег тоже на пол, на живот, лицом к фотографии, руки вытянуты вдоль тела. Такая поза казалась ему правильной. Отец на фото был запечатлен в полный рост. На фоне его маленькой двухмерной фигурки в десяток сантиметров высотой Дрюня казался выброшенным на берег морским чудищем, кашалотом, покорно легшим перед человеком. Дрюня помнил историю, которую в детстве рассказал ему отец – как самый первый человек на земле давал имена животным, а те специально приходили к нему за этим, выстраивались в длинные очереди, и каждое животное, сгорая от нетерпения, ждало, какое же имя ему достанется. Таким вот животным, причудливым и непонятным, пришедшим к человеку за именем, чувствовал себя Дрюня, лежа перед фотографией отца – молодого, в военной форме. Тот с улыбкой на лице стоял на краю горного плато, руки в боки, пилотка заткнута за ремень, ворот гимнастерки широко расстегнут, шею подковой облегает белоснежный подворотничок, подшитый к вороту изнутри, за спиной облака и горы. Снято было во время армейских учений где-то на Кавказе. – Папа… – прошептал Дрюня и, как всегда, не смог сдержать слезы.* * *
Когда Дрюня пришел в себя, то обнаружил, что сидит за столом, перед черным монитором компьютера. Клавиатура была сдвинута под самый монитор, на столе перед ней лежала закрытая тетрадь, рядом – шариковая ручка. Дрюню тошнило. Но не физически, то была психологическая тошнота. Его пронзило сильнейшее отвращение к самому себе. Так бывало всегда после моментов прояснения ума, и всякий раз он не мог понять причину такого чувства. Почему он так отвратителен самому себе, словно весь он – какая-то сплошная мерзость? Почему так стыдно за себя? Неужели в момент прояснения Дрюня успел сделать что-то гадкое и недопустимое? Он ничего не помнил. Да и что бы он мог натворить за это короткое время, запертый в стенах маленькой комнаты? Дрюня осмотрелся вокруг: вроде бы все на местах, везде порядок… Нет, здесь явно не случилось ничего из ряда вон выходящего. Но как же тошно на душе! Это непонятное послевкусие тошноты было причиной, по которой он старался как можно реже обращаться с вопросами к отцу. За прикосновение к миру мертвых и за прояснение ума приходилось платить, эта плата была мучительна и постыдна, но в чем она заключалась – этого Дрюня разгадать не мог. Он нашел свежую запись в тетради, прочел ее три раза подряд, однако смысл прочитанного так до него и не дошел. С тетрадью Дрюня отправился к Сергею. Долго и путано объяснял брату и Жене, зачем он сегодня обращался к отцу – чтобы понять, что значили все те странные явления, с которыми столкнулся на прогулке. Рассказывать об этих нелепых явлениях было мучительно сложно. Но Дрюня знал, что ни Сергей, ни Женя не поднимут его на смех и не отмахнутся от его рассказа, как от глупости. Они внимательно выслушают, постараются вникнуть и понять. Женя уже знала про его общение с мертвым отцом и про тетрадь. Как и на Сергея, на нее Дрюнины записи произвели неизгладимое впечатление. До знакомства с тетрадью она относилась к Дрюне приветливо и доброжелательно, после – стала смотреть на него с примесью какого-то священного восхищения. Когда с мучительным предисловием было покончено, Дрюня протянул Сергею тетрадь. Тот нашел в ней последнюю запись и зачитал вслух: – «Это все признаки. Эхо, прозвучавшее раньше самого звука. Они пришли, потому что бытие приготовлено на заклание. Никакой власти не имели бы явиться, если б не близость черты, за которой начинается Обратный Год. Этот год авансом дал им власть быть, дал им форму, цвет и вес, чтобы они засвидетельствовали его наступление. Время – Великий Притворщик, оно долго вводило всех нас в заблуждение, сумело уверить в том, что оно – слепая сила природы, элементарное состояние материи, а когда все поверили, Притворщик решил нанести удар. Вот-вот время покажет свою оборотную сторону, и начнется Год-Оборотень, страшнейший год всех времен, у которого будет начало, но не будет конца, у которого кости из страха, хрящи из ужаса, плоть из кошмара. В этот год время собьется с пути и потечет вспять, извратится суть всех вещей, и голод произведет из себя пищу, а мертвый безголосый прах родит слово из никогда не существовавших и не сочетаемых букв-песчинок, скрипящих на зубах». Закончив читать, Сергей оторвал взгляд от страницы, посмотрел на Дрюню и Женю и пробормотал: – Вообще, охренеть что такое! – А я, кажется, знаю… – произнесла Женя и пересела с дивана за стол, к ноутбуку; глаза у нее светились возбуждением. Она запустила браузер, вписала что-то в строку поисковика, нашла нужное видео на «Ютьюбе» и нажала кнопку просмотра. На экране бородатый толстяк с наглым надменным взглядом и ехидной блуждающей улыбочкой приветствовал зрителей своего канала. – Сегодня, – говорил толстяк, – как я и обещал, расскажу вам про безумного араба Абдула Альхазреда и его запретную книгу «Некрономикон»… Ой! – притворно спохватился. – Херню сморозил, простите! Я, конечно же, имел в виду безумного монаха Прокопия Тенетникова и его запрещенные цензурой пророчества. Не буду вас грузить биографическими сведениями – когда он там родился и все такое. Но, так сказать, минуя булку, сразу перейдем к изюминкам. Прославился Прокопий Тенетников во второй половине девятнадцатого века, многие почитали его за святого, он выдавал пророчества одно за другим, и под дверью его монашеской кельи выстраивались очереди, любопытно ведь узнать свое будущее. Но вот досада: наш святой пророк вдруг возьми да и сойди с ума. Да еще так нехорошо сошел, с душком этаким гадким. Испражнялся и тут же говнецо свое поедал на глазах охреневших почитателей. Девиц молодых за сиськи лапал. Свой, как тогда благочестиво выражались, срамной уд прилюдно демонстрировал. В общем, бесчинствовал мужик по полной. При этом продолжал пророчествовать. А пророчества-то сбывались! И пошла о Прокопии новая слава – что он, дескать, не просто святой, а блаженный, Христа ради юродивый. Ну, вроде знаменитого Василия Блаженного, в честь которого собор на Красной площади стоит. Но были и недоброжелатели, которые святость его не признавали. В частности, небезызвестный в то время авторитет в запутанных церковных вопросах, архимандрит Ипатий Бирчанинов. Этот архимандрит, Прокопия знавший лично, говорил, что тот одержим бесами и пророческий дар имеет от них. Бесы же и внушили Прокопию мысль притвориться безумным, как бы с благочестивой целью – чтобы, дескать, оградить себя от гордости и тщеславия, которыми искушаются все знаменитости, прославляемые людьми, но на самом деле все это самообман был. Прокопий думал притвориться безумным, чтобы святости через то достичь, а сам не заметил, как и действительно съехал с ума, добровольно расшатав собственную психику. Вот тогда и выдал Прокопий самое загадочное свое пророчество про так называемый Оборотный Год. Цитирую: «Грядет на вселенную Оборотный Год, исполненный ужаса и мрака. Год, когда река времен потечет вспять, и воды ее станут горьки, и всякая душа, тех вод испившая, зачнет и родит живую смерть. И будет мир полон человеков, заживо поглощенных смертью, плывущих вспять по реке времен – из грядущего в минувшее». На экране возникла страница рукописи, в которой не позволял ни слова разобрать неудобочитаемый почерк. – Что значит «Оборотный Год»? – продолжал толстяк. – Прокопий также называл его Обратным Годом и Годом-Оборотнем. Объясняя собственное пророчество, говорил, что в этот год обернется время, а с ним вместе обернутся законы природы, поскольку время не существует отдельно от бытия, и обернется сущность человеческая, так что все вокруг из несомненного станет мнимым и призрачным, из благого – злым, из безопасного – опасным, из Божьего – дьявольским. Когда случится все это, Прокопий не знал – может, скоро, а может, нет. Стоял на том, что, рано или поздно, но час роковой пробьет. Говорил… цитирую: «Придет, допустим, тыща осемьсот девяносто девятый год, но потечет не к девятисотому, а вспять – к девяносто осьмому, а там – еще далее вспять – к девяносто седьмому, и так, с каждым годом, все углубляясь прочь от истины в морок дней минувших. Несчастный люд, сносимый течением, встретит минувшие дни как заброшенные деревни, где покинуты дома, и огороды бурьяном поросли, где мох, и плесень, и сколопендры, и пауки, и мерзость запустения». Про девяносто девятый год – это он только для примера говорил. На самом деле на стыке девятнадцатого и двадцатого веков ничего подобного, как мы знаем, не случилось. Толстяк достал пластиковую бутылку с водой, отхлебнул из горлышка, причмокнул и произнес: – Восхитительно мерзкую водицу продают у нас всюду под видом горной родниковой! С таким ярко выраженным водопроводно-техническим букетом, что прямо хочется черту продать душу после глотка этой воды. Всем рекомендую! Если будете этой субстанцией смывать в унитазе, ваш унитаз прямо на глазах возвысится в своем экзистенциальном статусе. А теперь, друзья, у меня для вас сюрприз. Пророчество Прокопия Тенетникова про Оборотный Год я знал уже давно, но вот чего не знал – так это того, что обратное время уже возникает в отдельных локальных проявлениях. Год-Оборотень, предсказанный Прокопием, должен стать тотальным проявлением обратного времени, но локально-то оно уже здесь, среди нас! Сейчас в гостях у меня один прелюбопытнейший человек, специалист по разным странным феноменам, в том числе, и по обратному времени, Геннадий Германович Причислович… Толстяк произнес его фамилию с ударением на второе «и», но гость, едва возник в кадре, перво-наперво заявил: – Только, умоляю вас, ни в коем случае не Причи`слович, а Причисло`вич. Вообще, фамилия моя писалась до революции как Притчеслович, в ней два корня: «притча» и «слово». А потом, по какому-то недоразумению, трансформировалась в Причислович, словно бы тут корень «число» и приставка «при». Фонетика, как всегда, сыграла свою подлую роль. – Ну, вы уж меня простите, Геннадий Германович, – повинился толстяк, положа ладонь на сердце. – Ладно-ладно, проехали! – кисло улыбнулся Причислович. – Короче… то, что предсказал Тенетников, оно произойдет в свое время, будьте уверены, и довольно скоро, но пока не началась масштабная атака обратного времени, оно атакует выборочно, индивидуально. Есть состояния, в которых люди становятся легкой добычей, и обратное время нападает на них, потому что, ну, скажем так… хе-хе!.. не может удержаться, видя настолько привлекательную добычу… – Погодите! – вмешался толстяк. – Вы говорите про обратное время как-то прям слишком персонифицированно, словно это чуть ли не живое существо. Это метафора такая или как? – Метафора, не метафора – неважно! – отвечал Причислович, снисходительно глядя на толстяка. – Главное, вот что поймите. Идет человек по улице – самый обыкновенный, только разум его слегка сдвинут. И вдруг нет его! Как птица склюнула зернышко. А потом, спустя несколько месяцев, а может лет, возвращается, но совершенно невменяемый. Побывать там, на обратной стороне хода вещей, невозможно ведь без вреда для психики. Но есть люди, которые намеренно проникали туда – проникали подготовленными – и возвращались в своем уме. В определенных кругах их отчеты о проникновении хорошо известны. Поэтому кое-кто уже готов встретить Год-Оборотень и не сойти с ума от ужаса, когда начнется тотальная атака… В этот момент Женя остановила просмотр видео и с тревогой уставилась на Дрюню, на его побледневшее лицо, на котором дрожали кривящиеся губы – дрожали от страха и крайнего напряжения. – Андрейка, милый, да что с тобой?! – воскликнула она, бросаясь к нему и обнимая с материнской нежностью. – Что, что такое?! Дрюня дрожащими пальцами вцепился в ее блузку, сминая ткань на узкой и хрупкой Жениной спине. Судорожно глотая воздух, постепенно приходил в себя. Женя ласково гладила его волосы, шептала на ухо: – Тихо, тихо, родненький! Все хорошо, хорошо! Мы с тобой, не бойся! Когда Дрюня успокоился, он так и не заговорил о причине своего испуга. Об этом не хотелось откровенничать ни с кем, даже с близкими людьми. О таких вещах не говорят – но стараются быстрее вытряхнуть их из сознания, как стряхивают с себя опасное ядовитое насекомое. Пока длилась видеозапись, найденная Женей, Дрюня мало что понимал из сказанного, но внимательно смотрел в лицо Причисловичу, мучительно пытаясь понять, откуда ему знакомо это невзрачное – почти до полной абстрактности – лицо. И когда понял, наконец, ему стало так страшно, что едва не закричал от удушливой жути. Причислович – это же он! Тот самый незнакомец, который в Дрюнином детстве, после смерти отца, подошел к нему, семилетнему, наклонился и нашептал на ухо всю страшную правду об отце. Двадцать восемь лет назад. Как же давно это было! Но память вспыхнула, высвобождая образы прошлого. На этом видео Причисловичу где-то за шестьдесят, может под семьдесят, а тогда… Дрюне трудно было понять, на сколько лет выглядел незнакомец в тот далекий день, но это был именно Причислович, никто иной. Сергей с Женей решили, что Дрюню испугали слова, произнесенные в этом видеоролике, но слова почти и не дошли до его сознания. В дверь постучали. – Открыто, ага! – крикнул Сергей. На пороге возник Стас – Станислав Леонидович – родной отец Сергея, Дрюнин отчим. Высокий, худой, улыбающийся, когда-то рыжебородый, но теперь почти седой, зато с молодым блеском глаз. – Опа! Вся банда в сборе! – весело воскликнул он. – А я вам тут, любезные мои, подарков подогнал. Ну-с, дамы и господа, направим-ка стопы свои в гостиную – акт приема оформлять!* * *
В двенадцать ночи вся семья подняла бокалы с шампанским, сидя за столом в гостиной. Черное небо за окном расцветало огнями фейерверков. Испуганный взрывавшимися на улице петардами, Морфей залез под стол, жался там к ногам человеческим, тихонько подвывал и благодарно лизал руки, опускавшиеся под стол, чтобы погладить его, подкормить, успокоить и ободрить в трудный момент его иногда такой нелегкой собачьей жизни. Секундная стрелка настенных часов описывала круг за кругом: первый день нового года обрастал пылинками времен. И с ними вместе у Сергея, бросавшего взгляды на циферблат, росла тревога. Но не происходило ничего необычного. Мелькали вилки и ложки над закусками, дождавшимися своего часа. Стас, нацелив пульт на телевизор, искал канал с какой-нибудь более-менее приличной передачей, чтоб не вызывала тошноты и скуки. Телевизор плевался сгустками цветов и звуков. Элеонора и Женя обсуждали что-то женское, недоступное разумению мужской половины семьи. Дрюня не думал ни о чем, его сознание радостно растворялось в празднике, голова была блаженно пуста, ни единой мысли не витало в ней. О Причисловиче, его напугавшем, он уж и забыл. Один Сергей был почему-то встревожен, но постепенно его тревога таяла. И когда он совсем успокоился, за стеной раздался истошный крик.* * *
Дом, в котором они жили, имел три входа, был поделен на три квартиры: А, Б и В. Им принадлежала бо`льшая часть, полдома – квартира А. Другую половину делили две пожилые женщины: тетя Света, уже в летах, но довольно-таки моложавая, и совсем старенькая и немощная – за восемьдесят лет – баба Рая, Раиса Филипповна. Кричала сейчас как раз она. Не так давно баба Рая, маленькая и юркая, похожая одновременно на большеглазого птенца и на лягушку, бодро шастала по двору, бегала по магазинам, устраивала развеселые попойки с дочерью, двумя ее сыновьями и одним дружком-старичком, на которого имела виды. Напивалась до белой горячки и галлюцинаций, видела чертей и мертвецов, разговаривала с ними, бывало, и кричала во весь голос, прочь гоня выходцев с того света. Короче, весело жила. Но потом все поползло в какую-то яму. Оба внука сидели по тюрьмам, дочь умерла. Баба Рая незадолго до ее смерти ходила уже с трудом, а после слегла окончательно. За ней ухаживала Клава, жена ее младшего внука. Она привела к бабе Рае нотариуса, и старушка подписала доверенность, по которой Клава распоряжалась ее пенсией, покупала для нее продукты и оплачивала счета. Раз или два на дню Клава навещала бабу Раю – убирала в доме, стирала, готовила, кормила старушку, которая стала настолько немощна, что уже не могла ни сесть на постели самостоятельно, ни повернуться на бок, ни, тем более, на ноги встать. Тут уж поневоле пришлось бабе Рае завязать с пьянством. Клава принципиально не давала ей ни капли спиртного. Но галлюцинации продолжали посещать старушку без всякого алкоголя. Мозг ее работал, как фабрика по производству галлюциногенных биохимических веществ. Черти и покойники являлись средь бела дня. Не раз она доводила Клаву до испуга, когда в ее присутствии разговаривала с невидимыми для нее «гостями», удивляясь, как та не замечает их, когда вот же они, стоят у нее прямо за спиной! В отсутствие Клавы баба Рая часто звала на помощь соседей. Часами могла орать свое «спасите-помогите», пока кто-нибудь не заглянет – выяснить, в чем дело. Вопли ее были слышны не только через стену, но и в двух соседних домах, чьи окна под разными углами смотрели к бабе Рае во двор. Соседи договорились с Клавой, чтобы та оставляла им ключ в тайнике, и наведывались к старушке: то поднять ее, упавшую с кровати на пол, то повернуть на бок, то воды подать, а то чтоб услышать от нее, как ей скучно, почему и зовет к себе хоть кого-нибудь. Вскоре соседи по характеру крика научились распознавать – от скуки кричит баба Рая или действительно нуждается в помощи. Вот и сейчас, в новогоднюю ночь, старушка подала голос, и это был настоящий крик о помощи, а не тот «праздный» крик без чувства и надрыва, когда ей не хватало развлечений. Стас, Элеонора, Сергей, Женя, Дрюня – все прислушались к воплям из-за стены. – Упала, что ли? – предположил Стас. – Женечка, возьми мальчиков. Сходите, гляньте, что там с ней, – попросила Элеонора. Женя кивнула и вышла из-за стола вместе с Сергеем и Дрюней. Мужская сила требовалась в том случае, если баба Рая свалилась на пол и следовало ее поднять. В остальных случаях Женя справлялась сама. Обычно она первая входила в комнату к бабе Рае, которая любила лежать на кровати голышом, все с себя сбросив, и часто падала на пол в таком же непотребном виде. Тогда Женя, вошедшая первой, укрывала ее простыней или одеялом и сообщала мужчинам, что им можно заходить или что, наоборот, их помощь не требуется – если баба Рая не упала. Чтобы попасть к бабе Рае, надо было выйти со двора на улицу, обогнуть дом – он был угловым, последним по четной стороне – и с другой стороны дома войти в калитку, которая вела к бабе Рае во двор. Эта калитка никогда не закрывалась, всегда была полуоткрыта или распахнута настежь. На этот раз Сергей и Женя вышли первыми, а Дрюня замешкался и оказался на улице, когда те уже поворачивали за угол. Необъяснимая тревога кольнула вдруг Дрюню, и он, дойдя до угла, остановился, чувствуя, как по спине меж лопаток ползает змейка нарастающего страха. Дрюня обернулся и увидел, как по улице движется, приближаясь, странно знакомая фигура. Повеяло жутью. Только Дрюня никак не мог вспомнить, где же видел ее? И когда? Кажется, совсем недавно. Дрюня всматривался в эту фигуру, чувствуя, что все в ней какое-то неправильное и поэтому пугающее. На всякий случай Дрюня спрятался за угол, образованный забором из металлопрофиля, и выглядывал из-за него, следя за фигурой. Та остановилась напротив их калитки, которую Дрюня оставил приоткрытой, выйдя на улицу. Толкнула рукой дверь и вошла во двор. В то мгновение, когда фигура исчезала во дворе, Дрюня вспомнил ее и весь покрылся липкой испариной ужаса. Это была та самая голая безголовая женщина, которую накануне днем он встретил на Чайковского. И отрезанная голова так же покоилась в целлофановом пакете, в руке у нее. И сейчас эта страшная женщина вошла к ним во двор. Дрюня побежал вслед Жене и Сергею, которые уже вошли в дом к бабе Рае. Надо рассказать им о том, что он увидел! Ворвавшись в жилище бабы Раи, пройдя через темную прихожую и кухню, Дрюня остановился перед открытой дверью в комнату. Там, у стены слева лежала на кровати баба Рая, а у стены справа Сергей и Женя что-то делали, сидя на полу. Что – Дрюня не понял. Оба они были испачканы кровью. Все внимание Дрюни приковал к себе человек, стоявший в глубине комнаты. Этот человек был страшнее той безголовой женщины, которая, возможно, лишь померещилась. Взгляд его обжигал и притягивал. И был он не совсем человек, но… Дрюня не знал, как подумать о нем, об этом чудовище в человеческом облике. Понял одно: это опасное, нечеловечески злое существо, которое способно делать с людьми самое страшное, самое чудовищное, что только можно вообразить. И надо бежать со всех ног от него прочь.Глава вторая. Погружение в Майю
Вместе с Тимом я служил в Ростове-на-Дону, в батальоне охраны и обслуживания штаба Северо-Кавказского военного округа, в чертежном отделении стрелковой роты. Вся наша рота, за исключением чертежного отделения, занималась охраной штаба СКВО, а мы, чертежники, в этом штабе работали, в конторе со смешным названием ЧБОУ (Чертежное бюро Оперативного управления). Через наши руки проходили документы трех степеней секретности: «Секретно», «Совершенно секретно» и – вершина всего – «Особой важности». Карты, планы, схемы. Точнее, не то чтобы они проходили через нас – чертежное бюро и создавало их по заданию разных отделов нашего управления. Мы с Тимом – Тимофеем Лирченковым – стали лучшими друзьями, хотя он по призыву и был на полгода меня старше. Дедовщины среди чертежников не было, точнее, она проступала в самой интеллигентной форме, вроде как в монастыре, где молодые послушники благоговеют перед седобородыми старцами. К тому же специфика нашей работы не позволяла развиться дедовщине в ее классическом гнусном виде. Наше начальство завело такой порядок, что вся наиболее сложная и ответственная работа делалась старослужащими, как самыми опытными и виртуозными спецами, молодым же доставалась работа полегче и попроще. Поэтому молодые у нас и уважали дедов, а вовсе не из постыдного страха перед наглой тиранией старших. И, конечно, играло роль, что все чертежники были людьми искусства, выпускниками художественных училищ Краснодара и Астрахани; никакого армейского жлобства среди таких юношей возникнуть не могло. Мы больше походили на персонажей классической литературы девятнадцатого века – всех этих «русских мальчиков» из Достоевского, – чем на ровесников наших, с которыми спали в одной казарме, маршировали на одном плацу. С Тимом меня сблизили общие вкусы в литературе, музыке, кинематографе и живописи. Мы одинаково зачитывались Томасом Бернхардом и Павлом Вежиновым, Хулио Кортасаром и Ярославом Ивашкевичем, наслаждались музыкой Кетиля Бьернстада и Модеста Мусоргского, Майлза Дэвиса и Кшиштофа Пендерецки, смотрели фильмы Ингмара Бергмана и Райнера Фассбиндера, Дэвида Линча и Белы Тарра, замирали перед картинами Питера Брейгеля-старшего и Эндрю Уайетта, Павла Филонова и Фрэнсиса Бэкона. Когда Тим, еще плохо зная меня, спрашивал – а читал ли я то и это, скажем, «На взгляд Запада» Джозефа Конрада или «Время собираться» Филипа Дика, а смотрел ли вон тот фильм, к примеру, «Звери и хозяин заставы» Майкла Ди Джакомо, слышал ли такой-то диск, ну хотя бы, кантату Альфреда Шнитке «История доктора Иоганна Фауста», – то потом удивлялся: как это я умудрился прочесть, посмотреть и услышать все то, что читал, смотрел и слушал он?! Нет, не все, конечно, – это я утрирую, но значительная часть книг, музыки и фильмов, нами проглоченных еще в доармейский период, совпадала. Надо сказать, была в характере Тима одна неприятная черта, которой я начисто был лишен. Иногда Тим впадал в оцепенение, в котором он все прекрасно слышал и видел, но в то же время все игнорировал. В таком состоянии Тиму хотелось послать весь мир к черту – нарушить любые обещания, наплевать на долг, совесть, дружбу, на весь род людской. Он словно бы отступал внутрь какой-то персональной черной дыры и, стоя на пороге бездны, распахнувшей пасть прямо за его спиной, с «улыбкой Джоконды», проступавшей на губах, готов был наблюдать, как в агонии рушится все. К счастью, из такого ступора он всегда благополучно выходил. А еще у него была сестра. Майя. На полтора года младше Тима, она родилась в день смерти Тимова деда по матери, человека мрачного, тяжелого, страдавшего шизофренией в легкой форме, что, впрочем, не мешало ему работать фармацевтом. Мать Тима, от которой старались скрыть факт смерти ее отца, лежавшая тогда в роддоме, узнала об этом весьма неожиданным способом: умерший отец явился перед ней в галлюцинации – страшный, с дьявольским блеском глаз и плотоядной улыбкой. Он стоял над дочерью во время родов и, как ей казалось, хотел убить рождавшуюся внучку, чтобы забрать ее душу с собой. Роды были отягощены тяжелейшим психозом, а тут еще и отец Тима подливал масло в огонь тем, что подозревал жену в измене самого худшего типа. Предполагал, будто она зачала ребенка от собственного отца, практиковавшего оккультные ритуалы и якобы домогавшегося дочери, с которой он мечтал совершить инцест в темных магических целях. Мать Тима клялась и божилась, что не изменяла мужу, но тот не верил, считал, что отец овладел ею в бессознательном состоянии, после того как ввел в транс с помощью каких-то химических препаратов. Пищу для подозрений давал сам тесть, изводя нелюбимого зятя скользкими туманными намеками. После рождения Майи отец Тима отдалился от жены, хотя и не настаивал на обвинениях, снисходя к супруге, которая, по его мнению, была жертвой своего коварного отца, участвуя в измене бессознательно. Он замыкался в себе и мрачно тянул лямку семейных обязанностей. Между супругами тогда пролегла трещина, и жили они годами по разным ее сторонам, пока наконец не разошлись за год до того, как Тим ушел в армию. Отец завел себе любовницу – некрасивую, толстую, но добрую и отзывчивую женщину, а у матери началось странное сумеречное состояние – оно не было безумием, но и нормальным такое не назовешь, – началось и уже не прекращалось. Похоже, по наследству от отца ей передались психические отклонения, которые после развода впервые дали о себе знать. Тим настолько доверял мне, что в подробностях рассказывал о трагедии своей семьи. Когда он показал фотографию сестры, я почувствовал, как сердце мое проваливается куда-то и летит, будто астероид, вошедший в атмосферу Земли, уже объятый пламенем и готовый взорваться при столкновении с планетой. Майя была настолько красива, что, казалось, сошла с картины какого-нибудь средневекового гения – Леонардо, Мемлинга, Рафаэля, Тициана. Даже на фото чудилось, будто ее контуры окружает легкий ореол, словно ее красота сочилась невидимыми, но ощутимыми флюидами. Тим заметил, какое впечатление Майя произвела на меня, и дал мне прочесть три ее письма к нему. Вот тогда-то я и влюбился в эту девушку, читая ее длинные письма – умные, ироничные и полные какой-то особенной доверчивой нежности, с которой она относилась к брату. Понимая мое состояние и видя, как письма Майи подействовали на меня, Тим начал вдруг расписывать мне, насколько его сестра плоха – и с той, и с другой, и с третьей стороны. Глаза его при этом мерцали каким-то потусторонне-злобным блеском, так показалось мне. – Ты в профиль ее только видел, с правой стороны, – говорил он, – а слева у нее родимое пятно на пол-лица. Когда увидишь ее вживую, самому жестыдно будет. Стыдно признаться ей, что она стала тебе отвратительна, когда рассмотрел со всех сторон. И это не все, это только цветочек. А ягодка в том, что она – немая. С рождения не говорит. – Как немая?! – удивился я. – Да вот так, в буквальном смысле, друг мой! Глаза Тима хищно блестели, в улыбке, исказившей лицо, сквозило что-то нечеловеческое. И тут, на него глядя, вдруг я осознал: как же любит он свою сестру! Просто до безумия. И готов зверем завыть над этим ее пятном, над ее немотой, над каждым унижением, которое пришлось ей испытать из-за своих изъянов. Готов вгрызться в глотку всякому, кто позволит себе хотя бы тень усмешки в сторону Майи. Вскоре Тим убедился, что для меня не имеют значения ни немота, ни родимое пятно, что я действительно влюблен в Майю, а не просто очарован мимолетным впечатлением от удачного ракурса фотоснимка. Тогда он познакомил меня с Майей заочно: рассказал ей в письме про своего лучшего армейского друга, послал ей наше с ним совместное фото и даже переписал для нее мои стихи. Не подумайте только, что я сочинял сентиментальную лирику, как выразился классик, «половой истекая истомою» по далекой девушке-мечте. Нет, не такой я был человек, чтобы опускаться до сантиментов лишь по той причине, что влюблен и полон нежных чувств! Даже в самых возвышенных и просветленных состояниях я сочинял ядовито-мрачные вирши с налетом абсурдизма. Но то стихотворение, которое Тим отправил Майе, было даже по моим меркам слишком маргинальным: тошнотворный порнографический опус, повествующий о совокуплении двух влюбленных кошмарных монстров, уединившихся на кладбище под доносящийся с луны вой мертвецов. Я не знал, что Тим собирается отсылать Майе именно эти стихи, он ничего не сказал мне и разрешения у меня не спросил, но Майя потом, вместе с письмом к Тиму, вложила в конверт отдельное письмо для меня, автора того «восхитительного поэтического опуса», который так ей понравился. Читая ее письмо, я горел от стыда, смешанного с восторгом. Мое сердце грохало, словно бубен в руках разгулявшегося шамана. Тим посмеивался, глядя на меня. Так мы с Майей вступили в переписку. Все делалось через Тима: ее письма ко мне вкладывались в один конверт с письмами к нему; мои к ней – в один конверт с его письмами домой. А когда Тим дембельнулся, Майя, наконец, прислала письмо, адресованное лично мне. В этом письме, первом неподцензурном Тиму (а он читал всю нашу прежнюю переписку), Майя сообщила, что увлеклась колдовством, начитавшись дедушкиных книг, и хочет проверить на мне свои способности начинающей ведьмы, а именно – сделать мне любовный приворот. В шутливом тоне она спрашивала разрешения провести эксперимент, избрав меня в качестве подопытного кролика, и попытаться колдовским методом влюбить в нее. При этом обещала, что в случае удачного завершения эксперимента «я тут же все быстренько верну на круги своя, сделаю реверс и заставлю тебя разлюбить меня, конечно, если ты сам этого захочешь». Прочитав это, я был восхищен тем, в какой необычной форме она призналась мне в любви. В самом деле, ну кто еще получал от девушки такое письмо! Черт возьми, да я уже почувствовал ее приворотные чары, и меня, по уши влюбленного, еще глубже окунуло в омут восторга. В ответ я написал, что на эксперимент согласен без колебаний, «при этом спешу предупредить, что ни на какую отмену установок никоим образом не рассчитываю и не желаю рассчитывать». А вот это было уже мое признание в любви, выраженное в словесном реверансе. В следующем письме Майя сообщала, что эксперимент начинается, и если я вдруг все-таки пожелаю отменить его, то должен прочесть следующее заклинание… Дальнейшая часть письма была заклеена небольшим кусочком бумаги. Ниже Майя приписала, что заклинание возврата скрыто под наклеенной бумажкой, что клей из некачественного клеевого карандаша и довольно-таки слаб: потяни бумажку – оторвется без труда. «Твое спасение, о утопающий, – шутливо прибавляла, – в твоих руках». В ту же ночь мне приснился сон, в котором я увидел Майю – увидел ее лицо с той стороны, которая никогда еще не открывалась мне на фотографиях. Почти во всю левую половину лица темнело родимое пятно, которое было не просто пигментом на коже – оно лежало безобразной бугристой массой, словно бы в Майю впилась какая-то аморфная тварь, сдохла и уже почти разложилась, намертво прилипнув к лицу. Но меня это жуткое пятно не оттолкнуло – напротив, показалось возбуждающим. В следующее мгновение сна мы стояли друг перед другом полностью обнаженные. Я увидел, что на левой груди у Майи два соска разного цвета, размера и формы, расположенные через небольшой промежуток друг от друга: тот, что больше, был более темен, слегка продавлен внутрь себя, словно кратер; второй, поменьше диаметром и светлее, соблазнительно торчал своим заостренным кончиком немного вверх. Точно такой же соблазнительный сосок возвышался и на правой груди. За исключением аномалии лишнего соска, фигура у Майи была совершенна. Это я мог оценить не только как мужчина, ослепленный желанием, но и как художник, наметанным глазом определявший достоинства и недостатки всех пропорций женского тела. Еще одна деталь приковала мое внимание: Майин лобок был тщательно выбрит и разрисован. Майя, как и Тим, была с художественными способностями, только, в отличие от брата, не получила даже начального художественного образования. Круглый желтый глаз вроде змеиного оказался довольно неплохо нарисован, на лобке даже выведен был небольшой аккуратный блик, придающий глазу блеск и сферический объем. Кожа вокруг этого глаза подкрашена зеленым и коричневым – чтобы напоминала кожу рептилии. Самой завораживающей деталью было то, как вписались в рисунок створки половых губ, подведенные по краям черной краской: они играли роль вертикального зрачка. Какая-то немыслимая смесь разврата и робкого целомудрия излучалась от этой девушки. Она рассматривала меня с тем детским восхищением, с каким малолетняя невинная сладкоежка могла бы смотреть на огромный торт. Приблизившись, я поцеловал ее сначала в губы, затем – в родимое пятно, далее – по порядку и слева направо – в каждый из сосков, наконец – в змеиный зрачок. Последний поцелуй был самым страстным и глубоким. Я с жадным упоением словно высасывал взгляд из этого зрачка, тогда как Майя стонала и содрогалась всем телом, едва удерживаясь на ногах. Ее пальцы больно впивались в мою шевелюру. А после мы занимались любовью раз за разом, почти без передышек, не желая останавливаться. И благо, что я спал не в батальонной казарме, а в нашем штабном кабинете, на груде старых шинелей внутри чертежного стола, чья конструкция походила на чемодан: поднял крышку – и двое могут улечься валетом во внутреннюю емкость, предназначенную для хранения чертежных принадлежностей, вроде реек, рейсшин, рулонов ватмана, кальки и прочего. Вскоре от Майи пришло письмо, в котором она подробно описала мой сон, словно видела его моими глазами. Письмо переполняла нежность, местами взмывавшая до пафоса и приближавшаяся к легкому помешательству. Но как она узнала все это, недоумевал я. Как?! Неужели ее слова про колдовство – это не ироничная игра, и приворот, который она хотела опробовать на мне, – не фигура речи, не просто красивая словесная обертка для признания в любви? Может быть, Майя действительно вошла в область сверхъестественного и втащила меня следом? А если это не колдовство, то что тогда? Какие-то особые способности разума? В одном из последующих писем она писала мне (шутливо, но теперь я чувствовал под иронией второе дно нижнего, смертельно серьезного слоя), чтобы я даже не думал изменять ей ни наяву, ни во сне – ни с кем, в том числе и с самим собой. «Ой, смотри, лубофф моя, – иронизировала она, – все, что задумаешь от меня утаить, потом выдаст мне сполна твое тело, едва только прикоснусь к нему. Тогда-то оно и скажет мне все-все о том, что с ним творилось в мое отсутствие». Эта ирония возбуждала меня и в то же время пугала. И когда рука моя сама, как оно бывает, тянулась, чтобы сорвать плод возбуждения, ее останавливал страх, который я, стесняясь собственных чувств, пытался объяснить благородной установкой на воздержание. Иронизируя над самим собой, воображал смешные сценки, в которых разъяренная невеста-ведьма мстит с помощью колдовских сил своему невоздержному жениху за нарушение запрета. Мне трудно было признаться самому себе, что я просто боюсь Майю. Ее письма с описаниями наших с ней оргий во снах все больше и больше пугали меня. Наконец, она прислала письмо, в котором с поразительной точностью описала и этот мой страх. «Ты, лубофф моя, – писала она, – боишься, что вдруг не удержишься на краю, сорвешься в пропасть постыдного порока и собственноручно снимешь сливки с той части тела, которая принадлежит твоей Майе. И тогда, предчувствуешь ты трусливо, твоя милая Майя, приревновав одну твою часть тела к другой, воздаст тебе по делам твоим и спустит на тебя силы ада, которые держит на цепи. О нет, не бойся так, лубофф моя. Бойся не так – бойся иначе, сильней, тошнотворней, безумней! Пожирайся страхом и подыхай от него, как от любви. Потому что я точно не прощу тебе позорную слабость, если только посмеешь ее допустить. Ты – мой, а не свой. Мой! Каждая часть твоего тела – моя собственность. Ты понял это, милый? Считай, что ты только арендуешь себя у меня на жестких условиях, согласно которым плата безмерна, зато свобода арендатора крайне ограничена». Здесь была уже не просто ирония – здесь шевелил змеиным языком настоящий злой сарказм. Ее постоянное выражение «лубофф моя» (ни разу ведь не написала: «любимый мой», ни разу!) уже не казалось милым и шуточным, оно начинало раздражать, из-под него проглядывало неприятное высокомерное ехидство. Но самое худшее, почудилось мне – то, что Майя, похоже, сочиняла письмо вместе с братом. Почему-то, когда я читал его, мне все мерещилась коварная улыбка Тима. Какие-то характерные для него интонации уловил я в том письме. Тим ушел на дембель весной, в апреле, а я дембельнулся в том же году, в ноябре. Дома, на «гражданке», мне опять приснился эротический сон, в котором, как мне показалось, Майя словно просила у меня прощения за то саркастичное и высокомерное письмо. Выражение мольбы проступило на ее лице. Она осыпала поцелуями все мое тело, спускаясь ниже и ниже, пока не коснулась губами пальцев на моих ногах. Я почувствовал, как по ступням течет влага, и когда Майя, сидя на коленях предо мной, подняла лицо, увидел на нем слезы. Тут же я поднял ее, начал поцелуями собирать влагу с ее лица, и сам растрогался до слез. Весь этот сон пронизывала необыкновенная нежность. И после пробуждения он оставил щемящее послевкусие. А потом от Майи пришло письмо, в котором она впервые назвала меня любимым. Но содержание письма было чудовищно. Впрочем, точно ли оно пришло? Не галлюцинацией ли было то письмо? Я уже ни в чем не был уверен. Почва реальности под моими ногами непрочна, будто песок. Но прежде на этом песке я мог стоять, а затем начал проваливаться в зыбучий омут. Но все по порядку. Вот что я в том письме прочел: «Володенька, любимый мой, милый, прости меня за злые слова! Я злая – знаю, я сама себе противна, но что же делать! А тут еще это колдовство проклятое, сама уже не рада, что занялась им. И ведь главное – нет обратной дороги, ну, по крайней мере, для меня ее нет, это я хорошо чувствую. Я давно хотела тебе рассказать, как получаются эти сны, в которых мы можем соединяться и любить друг друга. Давно хотела объяснить их технологию. Колдовство – это ведь технология, знаешь? Чтобы добиться успеха, нужна схема, которая будет эффективно действовать. И вот какую схему я взяла для этих снов. Необходим идол, который бы замещал тебя рядом со мной. А что такое идол? Близкое изображение далекого божества, его заместитель перед почитателями. А ты и есть мое божество, а я – твоя почитательница, разве не так? И я сделала себе такой идол, через который могу передавать тебе свою любовь, идол, с помощью которого могу чувствовать и твою любовь ко мне. Этот идол стал посредником между нами, приемником и передатчиком нашего общения. Через него ты, далекий, воплощался для меня и касался моего тела. Принцип несложен, главное – найти удачный материал для изготовления идола, чтобы он мог воплотить в себе твои свойства, ну, те, что необходимы для любви. Короче, идол я сделала из Тимофея, братца своего. И занялась с ним тем, чем хотела заняться с тобой. Надеюсь, ты меня не будешь ревновать к нему? Тем более, он ничего и знать не знает, я ведь втемную использовала его, пока он спал, как младенец. Идольские функции он выполнял сомнамбулически. Ты только не волнуйся. Тимоша ничего не подозревает, он вслепую послужил для нас коммуникативным посредником, когда я вручила тебе управление его телом. Ты был как древний бог, вселившийся в свою статую и действующий через нее. Все прошло наилучшим образом. Да ты и сам это знаешь. Приезжай быстрее, чтобы мы смогли, наконец, соединиться непосредственно, уже без всяких идолов». Потрясенный этим письмом, я уставился в стену и просидел так, глядя в нее, около часа. Рассуждая логически, Майя либо обманывала меня, либо говорила правду, либо обманывалась сама. Какой из вариантов предпочесть, я не знал, но понимал, что все они плохи. Худшим из них была правда, но и два других казались нехороши. Они означали, что рассудок Майи поврежден – в большей или меньшей степени. Но, учитывая ее увлечение колдовством, все это могло быть правдой, и тогда ее состояние – это не психическая болезнь, а нечто худшее, какое-то глубокое извращение сознания и всех его нравственных установок. У Майи были странности. Она не желала пользоваться никакими современными средствами связи – ни компьютером, ни мобильным телефоном. Понятно, что, будучи немой, говорить по телефону она не могла, но могла бы отправлять текстовые сообщения, видео и фото, однако даже и притронуться не желала ни к каким мобильным устройствам. Но подобная странность меркла перед ее признанием в том, что сотворила она с братом. Тим был выпускником краснодарского худграфа КубГУ, только жил не в Краснодаре, а в Новороссийске, и я собирался отправиться туда, чтобы увидеть, наконец, Майю лицом к лицу и увезти ее к себе, в Астрахань. Однако после этого чудовищного письма решил повременить с поездкой. Я был растерян и не знал, что делать. Мне требовалось время, чтобы все обдумать. И вот еще какая странность: это письмо пропало. Я прочел его один раз, положил в ящик стола, где хранил ее письма, а вечером того же дня захотел перечитать, но не смог найти. Вот почему и подумал: возможно, это письмо… галлюцинация? Родители, с которыми я жил в двухкомнатной квартире, не могли его взять, это исключалось, никогда не рылись они в моих вещах, даже просто не заходили без меня в мою комнату. Единственное рациональное объяснение заключалось в том, что письма не существовало вовсе. Хотя полной уверенности, что оно мне только померещилось, тоже не было. Туман омерзительной двойственности заполз в душу и окутал чувства. Я написал Майе, что приеду позже, а пока возможности нет. Не буду пересказывать вранье, которым наполнил письмо; мне было стыдно уже во время его написания. Отправив письмо, я ждал со смесью страха и отвращения, когда Майя снова посетит меня во сне. После самого первого подобного сна у меня начались странные психологические реакции, которым я не уделял особого внимания, но теперь стал догадываться – что именно они значили. Общаясь с некоторыми людьми, я иногда чувствовал к ним одновременно симпатию и отвращение. Оба чувства текли во мне, словно две разные мелодии, наложившиеся друг на друга и звучавшие одновременно. Подобная раздвоенность не раз возникала у меня как реакция на людей, на произведения искусства, на ситуации. Безразличие и тут же раздражение, удовольствие и тут же недовольство, интерес и тут же скука. Все это казалось мне чем-то вроде легкой и безобидной формы безумия. Ведь семена безумия, рассуждал я, вложены в каждого без исключения, но прорастают лишь у немногих. Теперь же я пришел к выводу, что раздвоенность реакций была побочным эффектом моих снов. Если Майя действительно использовала Тима в лунатическом состоянии для своей сексуальной магии, то в моем подсознании могли остаться его психические отпечатки, ведь мы с Тимом вступали в противоестественную и слишком тесную связь, соприкасались друг с другом самой изнанкой существа. Отсюда, сделал я вывод, и раздвоенность моих реакций, поскольку часть из них принадлежала Тиму, его психике, сознанию и нервной системе. Наверное, и Тим испытывал те же чувства. Последствием этих снов был еще вдобавок и лунатизм. Я начал ходить во сне. Сам-то я во время сомнамбулических похождений ничего не знал и не чувствовал, но родители увидели меня ходящим ночью и рассказали мне об этом. После Майиного письма я решил, что «заразился» сомнамбулизмом от Тима, которого Майя сделала лунатиком с помощью своей магии. Вскоре она опять пришла в мой сон. Касаясь ее тела, я понимал, что касаюсь его вместе с Тимом, что мои руки «вдеты» в его руки, как в перчатки, что я воплощен в нем, и мое возбуждение – это и его возбуждение. Но то, что пугало меня и вызывало отвращение наяву, во сне вдруг показалось забавным. Я был словно не я и оценивал вещи непривычным для меня образом. Мне доставляло удовольствие сознавать, что я – как бы демон, захвативший Тима, делаю с ним, что хочу, распоряжаюсь его телом. Особенное наслаждение доставляло сознание того, насколько происходящее развратно. Мы с Майей заставляем Тима совокупляться с ней, его родной сестрой, он наша жертва, наш подопытный кролик, беспомощная тварь в руках богов, а эти боги – я и Майя. Все это было так забавно, так смешно, что во время оргазма я расхохотался, представляя, как такой же оргазм сейчас испытывает спящий Тим, вливающий свое семя в сестру. Мой хохот внезапно треснул, будто лед, взломанный снизу, и я почувствовал, как из-под смеха полыхнуло черным пламенем ужаса и ярости. Я выдернул себя из Майи, вскочил и с силой ударил ее, лежащую, ногой. Майя завизжала от боли. Затем я ударил ее кулаком в лицо. Мое тело действовало самостоятельно. Я силился остановить себя, но не мог: сознание меркло от ярости, тело не подчинялось мне. Казалось, оно душит меня, смыкается на мне, словно челюсти хищника, вцепившиеся в добычу. Я вынырнул из этого кошмара и проснулся, не понимая, что произошло. В магической схеме, которую создала Майя, произошел какой-то сбой, что-то пошло наперекосяк. У меня мелькнула догадка о том, что же именно случилось в ту ночь, но она требовала подтверждения, а подтверждение можно было получить только там, встретившись с Майей и Тимом. Я, однако, страшился этой встречи, старался отсрочить ее как можно дольше. Мне не хотелось никуда ехать, я даже надеялся – и это была подлая, постыдная надежда, – что Майя сама напишет, чтобы я не приезжал, и тем самым снимет с меня всякие обязательства. Надо сказать, что Тим, вернувшись из армии, послал мне из Новороссийска одно письмо на электронную почту, а с ним фотографию, где он снят вместе с Майей на берегу моря, за спиной бухта и горы на дальнем ее берегу. В письме он кратко написал, что они с Майей ждут меня в гости. Это письмо я получил в конце ноября, тогда же и ответил на него, что обязательно, мол, приеду к вам. Но это я писал уже после того, как Майя рассказала мне о своей колдовской схеме, в которой использовала Тима, и в моем ответе на приглашение не было искренности. Теперь же я просто затаился, не писал никаких писем: ни бумажных – для Майи, ни электронных – для Тима. Ждал, что кто-нибудь из них сам напишет мне. Ждал также, увижу ли я Майю во сне еще раз, и каким будет этот сон? Наконец в середине декабря Майя приснилась мне. Она выглядела не как обычно: исхудавшая, бледная, глаза, обрамленные тенями, болезненно блестят, грязные спутанные волосы падают на лицо. Бросившись ко мне, она лихорадочно целовала меня потрескавшимися губами, по ее телу пробегала дрожь, и это была не только дрожь желания; мне показалось, что она дрожит еще от чего-то, не имеющего отношения ко мне. Наше совокупление было коротким и торопливым, каким-то звериным, но наслаждение, которое испытал я в этот раз, оказалось сильнее обычного. В нем чувствовалось что-то ядовитое и смертельно опасное, что придавало ощущениям особую остроту. После этого сна ко мне приходили мысли о самоубийстве. Навалилась какая-то жуткая тоска, словно бы небо превратилось в каменную плиту, прильнуло к земле, и меня сдавило меж двух гигантских плит. Я чувствовал себя заживо похороненным, доживающим последние дни или даже часы на бескрайнем кладбище, в которое превратилась вся поверхность планеты. Живой мертвец, я ходил среди мертвецов, совершал бессмысленные действия без причины и цели. Вся так называемая жизнь была бредом, который мерещился моему омертвелому разуму; видения жизни ползали в нем, будто черви в гниющем мясе. Я увидел недалеко от своего дома, как дети хоронят под деревом мертвую собаку. Следующие три дня меня тянуло на эту собачью могилу. Я останавливался над ней и стоял, ни о чем не думая, просто чувствуя собаку, лежащую там, под землей, совсем неглубоко, неподвижную и мертвую. Когда минула ночь после третьего дня, проснувшись утром, я обнаружил, что лежу в обнимку с мертвой псиной. Я сразу же все понял: ночью опять ходил во сне, только на этот раз вышел из квартиры, спустился во двор, выкопал из земли собачий труп и притащил его в постель. Что ж, подумал я, глядя на оскаленную пасть мертвой твари, как сказал поэт, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»; то же и с мертвыми собаками – если их откапывают и тащат в постель, значит, это тоже кому-нибудь нужно. Человек существо такое – нужды его могут принять самую замысловатую форму. Я сильнее прижался к трупу, погрузил лицо в его длинную грязную шерсть, вдохнул запах разложения и вновь погрузился в сон. Последнее время спал я куда дольше обычного. Родители устроили страшный скандал, почувствовав запах дохлятины, а потом увидев этот лохматый ужас в моей постели. Я с философским спокойствием перенес всю бурю эмоций. Не хотелось ни спорить, ни ссориться, ни оправдываться. Равнодушно отнес я собаку на место, бросил в неглубокую ямку, откуда ночью ее доставал, не стал даже забрасывать землей, пусть лежит на виду, и вернулся к себе. Отец с матерью смотрели на меня как на сумасшедшего, но мне плевать – кем угодно согласен выглядеть в чужих глазах. Только где-то в глубине, под пластами спокойствия, шевелился страх. Там, в какой-то дальней камере моего сознания, сверлила мучительная мысль, что со мной происходит что-то недопустимое, что я в ловушке и мне нужно из нее выбираться. Писем от Майи не приходило, зато пришло электронное письмо от Тима: «Чувак, ну ты где? Приезжай хоть на праздники. Вместе встретим Новый год, посидим, выпьем, как люди. Я уж тебя заждался. Да и поговорить нам есть о чем». С этим письмом в меня словно запала искра жизни. Я как будто вдохнул воздуха после удушья. И решил: надо ехать во что бы то ни стало! Если я так и буду сидеть в своей норе, в этом муторном омертвении, то однажды убью себя – шагну из окна, повешусь, наглотаюсь отравы, обольюсь горючей жидкостью и подожгу себя… А встреча с Тимом – брезжило предчувствие – вернет меня в нормальное человеческое состояние.* * *
Тридцать первого декабря, во второй половине дня, я был уже в Новороссийске. Снега здесь ни клочка, мороза тоже нет, этот южный городишко встретил меня досадным для такой поры теплом. Я не сообщал Тиму, когда именно собираюсь приехать. Не сделал этого из суеверного опасения, что если что-то пообещаю заранее, то, как пить дать, ничего у меня не выйдет – возникнут препятствия из ниоткуда, а я не смогу их преодолеть и нарушу обещание. У меня уже бывали подобные ситуации. Поэтому сначала я решил добраться до Новороссийска, а потом уж позвонить Тиму – обрадовать: вот, дескать, и я! Выйдя из автобуса на автовокзале, я достал мобильник и послал вызов Тиму. Но вместо соединения с ним вклинился в чужой разговор. Два мужских голоса переговаривались друг с другом, и я хотел уже отключиться, но что-то меня остановило, что-то в их разговоре показалось странным, тревожным до холодного зуда где-то в желудке. Сначала сообразить не мог, почему этот разговор незнакомцев так меня притягивает, но понял потом: они говорили обо мне. – Он уже приехал? – спросил один. – Да, должен быть уже здесь, – отвечал другой. – Сейчас начнет звонить Тимофею. Или уже звонит. Тот еще не знает, что он приехал. Так вы будете его покупать? – Еще не знаю. – Берите. Товар хороший, подготовленный, как положено. Майя постаралась, сделала больше, чем я рассчитывал. Сначала синхронизировала его с Тимофеем, а потом с этим мертвецом, которого поднимала. Он после этого, представь, с дохлой собакой спал. Выкопал ее, домой принес и к себе под одеяло положил. Обнимал дохлятину, как бабу. После этого ты еще сомневаешься! – Я не сомневаюсь. Говорю тебе, я не знаю. Наши будут решать. Как решат, сообщу. Разговор оборвался. Взглянув на телефон, я увидел, что сенсорный экран мертв. Разрядился аккумулятор? Но этого не могло быть. Я взял в поездку внешний аккумулятор на десять тысяч миллиампер, и он, почти под завязку заряженный, был сейчас подключен к моему телефону. Чертовщина какая-то! – подумал я и вдруг вспомнил того придурочного, с которым столкнулся, когда вышел из автобуса. Перед тем как звонить Тиму, я прошел за ограду автовокзала на тротуар, и там в меня врезался мужичок лет за тридцать. В дурацкой шапочке с помпоном, с лицом испуганного ребенка, явно умственно отсталый, он торопливо шел, почти бежал по тротуару, оглядываясь назад, словно его преследовали. Я в это время открыл в телефоне адресную книгу и выделил имя и фамилию Тима. Придурок – так получилось – почти уткнулся носом в мой телефон, и я заметил, как в глазах его сверкнул интерес: он вчитался в буквы на экране. Лукавая ухмылка изобразилась на его лице. «Эй, полегче!» – раздраженно воскликнул я. Дурачок не извинился, ни слова не произнес и пошел своей дорогой. Я тут же выбросил его из головы. Но теперь мне вдруг показалось, что он как-то связан с происходящим. Столкнувшись со мной, он словно передал мне какой-то импульс, после чего и начались странности: попадание в чужой разговор и полное угасание телефона. Да нет, не может быть! Я коротко потряс головой. Бред все это, бред! Нельзя думать в таком направлении – это же паранойя какая-то! Но как же все-таки объяснить разговор, который я случайно подслушал? Столько совпадений – имена Тимофея и Майи, упоминание дохлой собаки, с которой обсуждаемое лицо спало в постели, – все это ясно указывало, что речь шла обо мне, ни о ком другом. Но что, в таком случае, весь этот разговор значил? Кто-то кому-то предлагал меня как товар? Или это все-таки просто набор совпадений? Разум, судорожно вцепившийся в принципы рационализма, лишь бы не сорваться в безумие, настаивал на совпадениях. Плевать, что совпадения слишком необыкновенные, – для разума главное сохранить свои позиции в этом мире, где все неординарное обязано быть прозрачным для него. Ладно, подумал я, адрес мне известен, гугловскую карту города я уже смотрел; спрошу теперь у местных, на чем доехать – подскажут.* * *
Через полчаса я стучался в калитку дома на улице Глухова, где жил Тим с матерью и сестрой. Открыв калитку, Тим, казалось, ничуть не удивился моему появлению. – А, это ты, Вован! Заваливай. Рукопожатие и мужское объятие были вялыми. Тим, вышедший во двор в спортивных штанах и майке с короткими рукавами, сначала показался мне сонным, а потом я понял, что он пьян. – Ты молодец, что приехал. Мне как раз не хватало кого-нибудь вроде тебя, – произнес он, когда мы вошли в дом. – Я тут пожинаю плоды удачного эксперимента. Купил дешевый белорусский виски, за… не помню – за триста с чем-то рублей, что ли, короче, самую дешевку. Вкус соответствующий – пить невозможно, хотя лучше нашей водки, конечно. И я настоял его на скорлупе… этого… орех такой, как его, блин! Из Австралии. С ванильным запахом который. Ну, «король орехов» его называют. У нас весь город им завалили. Круглый такой, и там щель еще в скорлупе, как искусственная, а она, сука, природная! Вставляешь в нее такой ключик, поворачиваешь и раскалываешь. – Макадамия, – подсказал я. – Да-да, вот! Короче, я на скорлупе виски настоял. И я тебе скажу, классно получилось. Коньяк тоже настаивал, но он слишком какой-то ароматный выходит, парфюмный такой, аж перебор. А вот виски с этим орехом – прямо то что надо. Как доктор прописал. Мы сидели с ним за столом на кухне, пили виски с нехитрой закуской, Тим рассказывал, а я слушал, чувствуя, как все тяжелеет камень, давящий мою душу. Тим рассказал, что в ту ночь, когда я во сне начал избивать Майю, он проснулся и с ужасом увидел, что происходит нечто чудовищное, что он, точно марионетка, совокупляется со своей сестрой. Сначала пробудившееся сознание не могло овладеть собственным телом, которое действовало самостоятельно, независимо от разума. Тим пытался закричать, но не смог – ему не подчинялся даже голос. Творился кошмар, а Тим был не в силах остановить его, словно между волей и телом пролегла пустота, где исчезали все волевые импульсы. При этом Тим чувствовал, что непонятная сила, которая овладела им, наслаждается его беспомощностью, он даже как будто слышал смех, звучавший где-то у него за спиной. И Майя!.. Она была в сговоре с этой силой, в ее глазах мерцало нечеловечески мерзкое сладострастие и упоение властью над жалкой куклой, на роль которой она выбрала своего брата. В момент оргазма Тиму показалось, что чужая воля, принуждавшая его, ослабла, он напрягся и вдруг почувствовал, что снова владеет своим телом. Тогда он отпрянул от Майи, вскочил и в дикой ярости, переполнявшей его, начал избивать эту похотливую мерзавку, эту бессовестную суку, эту ведьму, эту тварь. На Майины вопли и визги в комнату вбежала мать, попыталась оттащить разъяренного Тима от сестры, и тут он совершил страшную ошибку, сделал то, чего не может себе простить. Он ударил мать. Она упала, сбитая с ног, и лишь тогда Тим опомнился. – Это так безобразно было, что дальше некуда, – сокрушенно говорил он мне. – Майю-то, лярву эту, не жалко, хер с ней, но мать… Как я мог! Но я просто обезумел. Хорошо еще, что под рукой палки не было или ножа. Ты видишь, Вован, какая дрянь случилась, какая несусветная дрянь! Мать теперь со мной не разговаривает, хотя я на коленях перед ней стоял, умолял простить. Сидит у себя в комнате, не выходит. А Майя из дома ушла. Я ведь по голове ее бил. Сильно. Мне кажется, у нее крыша поехала от этих ударов. Дай бог, если это просто шок был, если прошел быстро. Но вдруг это настоящая шизня? Эти глаза ее безумные… Ох, Вован, как же тошно мне! Не знаю, где сейчас Майя, знаю только, что приходит домой тайком, когда меня нет. Возвращался однажды и видел издали, как она – раз! – на улицу со двора, и бежать. Погнался было, да фиг вам! Не догнал. Короче, за спиной у меня с матерью контачит. У матери спросил про Майю, но та только одно сказала: не твое, мол, собачье дело, и все. Я уж и в церковь, представляешь, ходил, свечку там толстенную купил, поставил, зажег – пусть Бог видит, я зла не хотел, я бы теперь… Лишь бы выправить! А то, может, не знаю, может мне повеситься, что ли? Взгляд его затравленно блуждал по кухне. Я не стал утешать его и отговаривать не стал – дескать, не вешайся, друг, не надо, жисть прекрасна!.. Мне вдруг стала глубоко безразлична его судьба. Вскоре Тим был уже пьян настолько, что заснул, перебравшись на стоявший в кухне диванчик. Он храпел, а я вышел из-за стола и направился в комнату. Здесь не было коридора, соединявшего комнаты, все они были сквозными. Дверь из кухни вела в одну комнату – как я понял, она принадлежала Тиму, – в дальнем ее конце была еще дверь, за которой смежная комната, очевидно – Майина. Пройдя ее, я подошел к новой двери – в третью комнату. Здесь должна обитать мать. Постучался. Ответа не было. Тогда я осторожно толкнул дверь и вошел. На большой двуспальной кровати, застеленной покрывалом, неподвижно лежала женщина в домашнем халате. Лежала на спине, голову скрывала подушка. Не шевелилась. Не дышала. Она была мертва. Я осторожно приподнял подушку и увидел застывшее страшное лицо. Дупло рта, налитое мертвенной тьмой. И выпученные в ужасе глаза. Подушка легла на место. Что же ты наделал, Тим, друг мой! Я подошел к окну, стоял и смотрел во двор. Над забором виднелась полоска улицы, соседские заборы на противоположной стороне. И ведь он совсем недавно ее убил, понял я, трупного запаха еще не было. Задушил, а потом начал пить. Потому и был уже вдрызг к моему приходу. Возможно, когда я только сошел с автобуса, она была еще жива. Быть может, он опустил подушку на ее лицо в тот самый момент, когда я пытался ему дозвониться, но попал в тот странный чужой разговор… Я вздрогнул, почувствовав, как вибрирует в кармане телефон. Рука дрожала, когда лезла в карман. Мой умерший телефон ожил, экран горел, но каким-то странным фосфорическим светом. Не было звука, только зуд вибрации. На экране – ничего, лишь желтовато-зеленоватое световое пятно, в котором темнела фигура непонятного замысловатого символа, вроде оккультного. Я неуверенно ткнул пальцем в символ и поднес телефон к уху. Наверное, сейчас треть моей головы осветилась его гнилостно-лунным светом. – Ну что, пацан, – раздался из динамика голос, один из тех, что я уже слышал, когда подключился к чужому разговору, – Майю мою хочешь увидеть? – Что?! – опешил я. – А… вы кто? – Да какого черта ты тут вопросы задаешь?! – рявкнуло из трубки; собеседник внезапно дико разозлился, просто пришел в ярость. – Ты, щенок, зачем сюда приехал?! К Майе или к кому?! Ты увидеть ее хочешь?! – Да… да… хочу, – пробормотал я и глупо выдавил фальшивым тоном: – Извините. – Вот так лучше, – собеседник был доволен и стал спокойнее. – К полуночи приходи. Выйдешь на улицу со двора, пройдешь до конца улицы, тут рядом совсем. Там, где улица кончается, пятиэтажки стоят, между ними мусорка, перед ней площадка, где жильцы машины паркуют. Вот там, перед мусоркой, и стой. Майя тебя сама найдет. Есть там рядом одна хата, где она от Тимошки-придурка прячется. А теперь подушку сними с тела… – Что? – не понял я. – Я говорю, подушку с тела сними, – собеседник начал закипать, но еще сдерживал свою злость. – У тебя там, в комнате, тело на кровати, на нем подушка. Сними ее. Собеседник явно видел меня, знал, где я нахожусь. Я снял подушку с лица мертвой женщины. – Хорошо, – произнес голос. – Теперь поцелуй ее за меня. В щеку. – Как? – опешил я. – Слушай, пацан, я же тебя по-человечески прошу, – в голосе собеседника прорезалась глубокая душевная боль. – Она ведь дочь моя. Родная. А этот негодяй убил ее. Тоже ведь… родственничек! Я прийти не могу, коснуться не могу, ничего не могу! Только и могу что говорить. Наклонись культурно и поцелуй в щеку. Будто родную мать целуешь. А я через тебя почувствую. Какой-то еле слышный звон или комариный писк окружил меня, когда я склонялся над покойницей, приближал лицо к ее страшному лицу, к провалу рта, который завораживал своей тьмой, и, робко вытянув губы, целовал холодную щеку, держа в правой руке фосфорически горящий телефон. – Да. Вот так, – донеслось из динамика. Когда я осторожно возвращал подушку на лицо покойницы, телефон погас. Выходит, я сейчас разговаривал с дедом Майи и Тима, отцом их матери. А этот дед, как мне помнилось, умер в тот самый день, когда родилась Майя. Фармацевт, шизофреник, оккультист. Тим говорил, что он был одержим идеей инцеста с дочерью в каких-то магических целях, что, возможно, даже и совершил его, после чего и родилась Майя, и, выходит, она – дочь своего деда… Мерзость какая! Эта семья, словно паутина, словно болото, яма-ловушка, полная клея для крыс, куда если влипнет живое существо, то уже не спасется. Может быть, Тим не так уж и не прав был, когда убивал свою мать? Жестоко, конечно, так думать, но если ты вдруг очнулся среди змей, то ведь невольно начнешь с ужасом и отвращением топтать скользкие тела. Не хотел бы я оказаться на месте Тима и вдруг узнать, что моя мать – любовница моего деда, а сестра мне только по матери сестра, по отцу же она мне черт знает кто такая. Этот голос из телефона! Как это он говорил: «Моя Майя», – с какой влажной и липкой интонацией. Если она ему одновременно и внучка и дочь, если линия их родства сплелась в такую петлю, то, конечно, у него будет к ней особое отношение! Тим для него – «родственничек», сын нелюбимого зятя, а она – «моя Майя». И тут совсем уж безобразная мысль пришла на ум. Ведь что мне сказал голос в телефоне, когда я собирался поцеловать покойницу? «Я через тебя почувствую». Вот оно как! Он может чувствовать через меня. Почему? Да черт знает – почему! Майя чувствовала меня через Тима, когда совокуплялась с ним, а ее дед – он же отец – каким-то образом чувствует через меня. В этом паучьем клубке все возможно. Отец-колдун затащил в постель – а может, даже на какой-нибудь алтарь – свою дочь и зачал себе внучку, которая одновременно вторая дочь ему, а по отцу, выходит, стала сестрой для собственной матери. Потом эта девочка, зачатая таким чудовищным способом, подросла и затащила в постель спящего старшего брата, безвольную сомнамбулу, чтобы через него совокупиться с его другом. А теперь ее чертов мертвый дед-отец хочет совокупиться с ней через меня. Поэтому звонит мне из могилы, подталкивает, направляет. Сейчас, когда я целовал покойницу, он проверил, сможет ли почувствовать через мой поцелуй холод ее неподвижного тела. И, видимо, проба удалась, он остался доволен. Теперь он точно знает, что, когда я лягу с Майей, через меня войдет в нее он – как я входил в Майю через Тима. Этот паук для того и вступил в связь с дочерью, чтобы с одной ступени извращения перейти на другую, более низкую: зачать с дочерью еще одну дочь, чтобы затем овладеть и ею. Одного падения ему мало, ему нужно провалиться еще глубже. От этих мыслей во мне словно шипела кислота, разъедающая душу. Но вот что странно: я даже не помышлял о бегстве. Я хотел увидеть Майю. Наконец увидеть ее въяве, коснуться ее кожи, волос, почувствовать дыхание, заглянуть в глаза. До сих пор Майя была для меня только фантомом – картинкой на бумаге, фантазией во сне. А сейчас она вот-вот станет реальностью. Я вернулся на кухню, где Тим продолжал спать, скорчившись на узком диванчике, сел за стол и плеснул себе виски. Бедный Тим, подумал я, глядя на него, тоже попал в паутину, как и я, тоже муха, и она затрепетала крылышками, паутину слегка разорвав, но разве теперь взлетит несчастное это насекомое! Вечер стекал на город, словно на небе гигантская рука выжимала губку, полную космической тьмы. Светлячки праздничных новогодних огней пронизывали сумрак, я видел их из окна. Здесь, кстати, тоже были электрические гирлянды, висели под кухонным потолком. Я нашел вилку от гирлянд, свисавшую вдоль стены, и воткнул ее в розетку. Кухня озарилась мерцающими разноцветными огнями. Атмосфера праздника расползлась под потолком. Убаюканный мерцанием огней, я не заметил, как заснул, сидя на стуле.* * *
Проснулся в темноте, слегка разбавленной светом уличных огней, проникавших в окно. И не мог понять, где лежу. Это была не кухня. И лежал я на кровати. Что-то холодное под моей левой рукой и под сердцем. Перевернулся на спину. Приподнялся, чтобы оглядеться. Я лежал на кровати с покойницей. Только что обнимал ее левой рукой, в которую въелся холод ее тела. Но – вот неожиданность – спокойствие не покинуло меня. Рядом с мертвой женщиной я оказался, видимо потому, что ходил во сне. Как еще это объяснить? Ну, а ходил – так что ж! Лунатику положено ходить в подлунном мире. Я встал и осторожно, стараясь ничего в темноте не задеть, вышел из комнаты. На кухне все было без изменений, если не считать позы спящего Тима, который лежал на спине, вытянув ноги, с дивана свесившиеся на пол. Я взглянул на циферблат настенных часов: стрелки показывали без двадцати пяти минут полночь. Быстро забежав в санузел, я облегчился, умылся и вышел из дома. До конца улицы было рукой подать. Вместо последнего дома по нечетной, самой длинной, стороне был пустырь, обнесенный забором. На этом месте когда-то стоял дом, теперь здесь, видимо, собрались что-то строить. Обогнув забор пустыря, я вышел к той самой площадке перед мусорными контейнерами, где голос из телефона велел ждать Майю. Ожидая, я прогуливался туда-сюда, осматривался. Улица Глухова, на которой стоял дом Тима, в паре с улицей Алексеева, состоявшей из таких же частных домиков, врезалась в старый, советской застройки, микрорайон. Две эти улицы, шедшие параллельно, дружно обрывались перед территорией, примыкавшей к трем пятиэтажкам. На последнем участке по улице Алексеева, расположенном бок о бок с пустырем, замыкавшим улицу Глухова, стояли два дома. К одному из них вела калитка, на которой краской было написано: «Алексеева, 74Б». Сразу за калиткой стоял покосившийся деревянный сортир. Некогда приличный и аккуратный, с двускатной крышей, теперь он сильно накренился и почти полностью перекрыл вход. Чтобы оказаться во дворе, пришлось бы согнуться пополам и пролезть в треугольную щель между диагонально нависшей стеной и соседским забором, которого сортир почти касался крышей. Из этого проема под сортиром и выскользнула Майя. Я узнал ее мгновенно, еще даже не успев рассмотреть лицо. Игла уколола сердце, когда я увидел эту изящную фигурку, выпорхнувшую на улицу. Она тоже узнала меня. Подбежав, бросилась мне на шею, обвила руками и покрыла лицо поцелуями. Когда я целовал ее в ответ, губы почувствовали влагу: Майя плакала от радости. Она потащила меня за руку к калитке, из которой вышла. Вслед за ней, согнувшись пополам, я протиснулся в лаз под сортиром и оказался во дворе. Там стояла беседка: три лавочки вокруг стола под крышей на четырех опорах. Майя усадила меня на лавочку, сама села напротив и, внимательно глядя в мои глаза, начала жестикулировать. Она общалась со мной жестами, на языке немых, который я не понимал. Раз за разом повторяла одну и ту же комбинацию жестов, ее взгляд вливался в меня, тек по коридорам разума, проникал все глубже, и,наконец, жесты делались понятными. Не знаю, что тут было – гипноз или колдовство, – но Майя заставила меня «слышать» ее. Глядя на фигуры, которые выписывали ее руки, я словно слышал ее голос у себя в голове. И вот что узнал от нее. Когда Тим ее избил, она убежала из дома и сперва не знала, куда податься, провела одну ночь на улице, но потом, когда на следующий день пробралась домой, пока брат отсутствовал, мать, накормив ее, посоветовала ночевать в доме 74Б на соседней улице Алексеева, здесь, в этом доме, у которого мы сейчас сидим. Тут живет одинокая старушка Раиса Филипповна или просто баба Рая. Родившаяся еще до Отечественной войны, баба Рая от старческой немощи уже не встает с постели. За ней ухаживает какая-то родственница. Приходит один, изредка два раза в день. И сегодня она уже заглядывала ближе к вечеру, так что больше не придет, поэтому квартира сейчас в нашем распоряжении. Там две комнаты: в одной баба Рая, другая пустует – ее и займем. Ключ от входной двери родственница эта специально оставляет в тайнике, о котором знают все соседи; они, в случае чего, к бабушке заглядывают. А я этим ключом пользуюсь, чтобы ночевать у нее. Вреда ведь нет от этого, правда? Наоборот, даже польза. Я ведь и поднять могу бабушку, если упадет, и на бок повернуть, и воды ей дать, и еды. А та даже не спрашивает, кто я такая, откуда взялась. Майя встала и потянула меня за собой. Открывая не запертую на замок дверь, указала рукой на груду хлама в чугунной ванне около крыльца и жестами объяснила: в этом хламе прячут ключ. Прихожая соединялась с кухней, как в доме Тима и Майи, только все здесь оказалось более ветхим и бедным. Было тепло, даже жарко, и пахло плохо. Когда мы прошли из кухни в комнату, «плохо» переросло в «мерзко». Комната, где обитала старушка, пропахла мочой и еще какой-то дрянью. Сама баба Рая лежала на кровати слева от входа, полностью обнаженная, сбросив одеяло на пол. Майя послала мне лукавый масленый взгляд и кивнула на старуху, словно спрашивала: «Ну, как она тебе? Правда, хороша?» Я отвел глаза от безобразного зрелища. На нас баба Рая взглянула только раз и больше не обращала внимания. С улицы донеслись первые взрывы праздничных петард – значит, уже наступила полночь, один год сдал смену другому. Мы пересекли комнату и через дверь в дальнем ее конце вошли в следующую, смежную. Воздух там был получше – тоже, впрочем, плохой, но не настолько мерзкий, как в первой комнате. Когда дверь за нами закрылась и Майя включила свет, мне вдруг стало жутко, как будто я попал в непроглядную тьму. Свет в этой комнате вызывал непривычную реакцию, словно только казался светом, а по сути был глубокой тьмой – мрачной, бездонной, зловещей. Слабость разлилась у меня по телу. Голова закружилась, пол поплыл из-под ног. Я прислонился к стене и сполз по ней вниз. Я в ловушке. Это чувство было подобно тонкой проволоке, которая внутри тела оплетала мои кости. Я не заметил, когда Майя успела раздеться, но она была уже обнаженной, сброшенная одежда валялась на полу, и теперь ее руки раздевали меня. Сопротивляться не хотелось. Меня несло каким-то течением. Раздев меня и сев передо мной на колени, она что-то рассказывала мне жестами. Не сразу до меня дошло, о чем этот рассказ. Наконец я стал понимать. Она говорила, что, после того как брат ее избил, она поняла, что лучше не использовать живых людей как идолов-посредников для соединения со мной. Живой может очнуться и прийти в ярость, всегда есть такая опасность. Поэтому она решила, что лучше использовать мертвеца. Есть колдовская техника, которая позволяет условно оживлять мертвых на короткое время – для исполнения каких-то конкретных и простых задач, в том числе сексуальных. Этой техникой она и решила воспользоваться. Поэтому привела сюда, в эту комнату, бомжа, которого встретила на улице. Парализовала ему волю гипнозом, а потом убила, прочитав заклинание, повергающее в сильнейший ужас, вызывающий сердечный приступ и смерть. Примерно в течение часа после смерти трупом можно было воспользоваться в сексуальных целях, потом он становился ни на что не годен. Не теряя времени, она условно оживила труп и сделала из него идол для соединения со мной. А потом приказала ему пойти к сортиру во дворе и утопиться в выгребной яме. Все равно ведь тем сортиром никто не пользуется, он же вот-вот завалится. Знаю, что у меня получилось, говорила она, все получилось, ведь тебе было хорошо, правда? – Хорошо, да, но потом стало плохо, – едва шевеля губами, прошептал я. Дальше я уже только думал, но она, кажется, читала мои мысли: «Ты заживо похоронила меня, накормила меня смертью, напоила прахом…» «Прости, милый! – взволнованно отвечала она жестами. – Я знаю, как все исправить. Я сейчас не могу быть с тобой, потому что чем-то заразилась от мертвеца, мне надо выздороветь, иначе и тебя заражу. Но я знаю способ. Дедушка подсказал. Он разбирается в таких вопросах. Я вызвала его, спросила, и он рассказал, как лучше всего соединиться с любимым без всякого человеческого посредничества, от которого всегда жди беды, в котором всегда опасность какая-то. Есть чистый метод, поистине ангельский. В качестве идолов можно использовать ангелов, небесных духов, их тонкое тело чисто и свято. Настолько чисто, что не только нет никакой заразы на нем, но более того – оно очищает от скверны всякого, с кем вступает в связь. Ангелы – посредники любви, те, кто соединяют любящие сердца, и, если попросить их особым образом, если произнести необходимые заклинания, они соединят и тела влюбленных. Сейчас ангелы здесь, в этой комнате, собрались ради нас и готовы нам помочь…» Я озирался по сторонам, и чье-то незримое присутствие чудилось мне, и сердце сдавливали пальцы холода. Те, кого я чувствовал, невидимые фигуры в комнате – их словно бы видела моя мысль, хотя глаза не различали скрытого, – они источали угрозу. Эти существа, эти… ангелы были опасны. Мне хотелось закричать и вырваться из кошмара, но я понимал, что крик бесполезен. Губы Майи беззвучно двигались: она мысленно читала заклинания. Лицо ее запрокинулось к потолку, дыхание участилось, руки, поднятые вверх, дрожали от напряжения. Ее поза могла бы показаться пафосной и вызвать ухмылку, если бы не жуть, которая налипла на сердце холодной мокрой простыней. Мне показалось, что родимое пятно Майи начало менять форму и двигаться по коже. Я присмотрелся: оно и впрямь двигалось, ползло, будто амеба. Неужели я галлюцинирую? Схожу с ума? Или с ума сходит сама реальность? С лица пятно сползло на шею, затем на грудь, проползло по левой груди, захватив третий сосок, который пополз по телу вместе с пятном. Это зрелище завораживало. Пятно и сосок, торчащий в нем, будто маленький кратер или глаз, переползли с груди на живот, спустились к лобку и начали заползать внутрь Майи меж ее раздвинутых ног. Майя при этом так сильно выгнулась, что завалилась на спину. Ее тело дрожало в судорогах. Я почувствовал ледяное прикосновение к коже и увидел родимое пятно – ее пятно! – у себя на груди. Оно ползло по коже вверх, к моему горлу. Я чувствовал его, словно холодного слизня. Это не могло быть правдой! Это бред! Абсурд! Я мотал головой, моргал, пытаясь прогнать наваждение, но тщетно. Я хватал руками это омерзительное пятно, пытался соскрести с себя – не получалось. Когда мои пальцы задевали сосок, перемещавшийся вместе с пятном, Майя вскрикивала от пронзительного наслаждения. Пятно заползло мне на горло, на подбородок и полезло в рот. Бесполезно было стискивать зубы, и губы бесполезно сжимать – пятно перетекало по поверхности кожи, легко просочилось в щель меж губами, я уже чувствовал его ледяное скольжение по внутренней поверхности щек. Пятно ползало внутри моей ротовой полости, я ощутил сосок Майи у себя на языке, словно вздувшийся волдырь. Майя вскрикивала от наслаждения. А потом пространство комнаты словно взорвалось формами, явившимися из пустоты. Теперь мы с Майей были не одни: вся комната наполнилась извивающимися бледными телами – мужскими, женскими, двуполыми, толстыми, тонкими, огромными, миниатюрными, детскими, юношескими, взрослыми, старческими. Все это месиво кишело в оргии, напоминая бурлящую мутную воду. Кто-то совокуплялся с Майей, кто-то – со мной. Входя в чужую плоть, я чувствовал, что вхожу в Майю, словно мы были с ней наедине. Наслаждение и ужас глубоко вонзали когти в меня, разрывая сознание в клочья. Пропало чувство собственных границ, и уже не понять, где кончается мое тело, где начинается чужое. Источником моего зрения стало множество глаз, я видел происходящее с разных сторон и ракурсов. Я видел самого себя со стороны – заваленного, словно грудой мусора, жирными телесами огромной старухи, чья маленькая птичья головка с крючковатым носом возвышалась над складками студенисто колыхавшейся плоти. Ее худые руки и ноги, торчавшие из жирного тела, словно ветки, вставленные в снеговика, напоминали паучьи лапы, и было их много, этих тощих конечностей, слишком много. Глаза старухи, лишенные зрачков, светились мертвенным белесым светом. В сладострастно приоткрытом рту виднелись острые звериные зубы. Вислые груди, ниспадая, как по ступенькам, по складкам жира, ложились на меня, доставали мне до плеч, колыхались возле моего лица. Это я видел со стороны чьими-то чужими – не моими – глазами. Одновременно своими собственными глазами я видел нечто другое – со мной совокуплялась худая полупрозрачная фигура. Ее лицо меняло формы, превращаясь в лица женщин, мужчин, детей, стариков. Посреди этой калейдоскопической смены лиц то и дело мелькало лицо Майи. В этом ангельском месиве, кроме нас с Майей, был еще некто, не принадлежавший к ангелам. Высокий старик, похожий на мумию. Высохшая потемневшая кожа обтягивала его кости, которые, казалось, вот-вот прорвут ее и покажутся на свет. Старик не прикасался ко мне, но я ощущал связь с ним, как и с Майей. Когда мне казалось, что я вхожу в Майю, то одновременно казалось, что вместе со мною это делает и старик, чье тело словно совмещается с моим, проникает в меня, как рука в перчатку, подмешивается ко мне, будто один вид жидкости – к другому. Совмещение с этим стариком обостряло мои чувства, делало наслаждение более едким, даже ядовитым, и более глубоким. Что-то необыкновенно порочное было в том совмещении. Майя, понимал я, тоже чувствует этот яд и жадно впитывает его всем существом. Я догадался, кем был старик, совмещение с ним принесло понимание. Покойный дед Майи, он же ее отец. Он сам без слов дал мне это знание и захохотал, когда почувствовал, что я все понял. Старик схватил маленького ангелочка – такими обычно изображают купидончиков: пухленький щекастый мальчик с крылышками и шапкой курчавых волос на голове. Держа его руками за ноги, старик сильным движением разорвал его тело почти напополам, от паха до горла, открыв красновато-розовое ангельское нутро. Там не было кишечника, прочих органов и костей – только нежное мясо, подобное рыбьему, блестящее, склизкое. Глядя мне в глаза, старик впился в эту плоть, и я тут же почувствовал, как сам впиваюсь в тошнотворное и в то же время такое соблазнительное угощенье. Ангелочек, разорванный стариком, все еще живой, счастливо визжал, брызжа слюной, словно его не пожирали, а развлекали щекоткой. Вкусив устами старика ангельской плоти, я внезапно оказался в абсолютной тьме. Бездонная чернота окружала меня. В ней не было ни проблеска света, ни звука, ни дуновения, ни движения, ни одного предмета или существа – ни вблизи меня, ни вдали. Это была пустота, не заполненная ничем. Сколько длилось погружение в пустоту – секунды, часы, дни или годы – сказать невозможно, там не было ощущения времени. А без такого ощущения можно за мгновение состариться, помолодеть и состариться вновь. Когда я выпал из тьмы и пустоты обратно, в мир форм, цветов и звуков, то был уже другим. Каким – я еще не знал. Но знал точно: отныне я – другой. Ангелов в комнате больше не было, они сгинули, как остатки сна из пробужденного сознания. Темного старика тоже не было. Остались только я и Майя. В смежной комнате истошно кричала старуха, баба Рая. Звала на помощь. И кричала она уже давно. Я вспомнил, что этот крик вился на периферии моего слуха с тех самых пор, как я начал видеть ангелов. К ее крику добавился еще звук: какая-то женщина вошла в комнату к бабе Рае и что-то спросила у нее. Крик тут же оборвался, и баба Рая ответила на обращенный к ней вопрос, который я не расслышал: – Там они, там! Да сама посмотри! – Никого там нет, баба Рая, что вы, в самом деле! – произнес звонкий женский голос. Тут же мужской голос произнес негромко: – Опять галюники? – Да они там! Там они! Посмотри! – выкрикнула баба Рая. – Сейчас я посмотрю, и мы убедимся, что никого там нет, – с расстановкой говорила женщина на ходу, приближаясь к двери, за которой были мы с Майей. Я сам распахнул дверь и вышел из комнаты. Женщина, подходившая к двери, застыла на месте, испуганно глядя на меня. Она была молода, почти моя ровесница, может, чуть старше. Такой же молодой, в дальнем конце комнаты, стоял мужчина. Соседи, пришедшие на крик бабы Раи. Сейчас та была под одеялом. Видно, соседка, войдя в комнату, подняла одеяло с пола и укрыла старуху. Я сразу понял, на что я могу рассчитывать, на что способны эти двое. Их глаза сказали мне все. Сказали и то, что противиться мне они не в силах. Поэтому я отдал им приказание на безмолвном ангельском языке. Какой-то частью себя при этом удивлялся: что я делаю? И еще удивлялся: кто я такой? Кто я теперь? Носитель неизвестного вируса, инфицированный ангелами? Эти двое, пронзенные ангельской иглой моей воли, начали делать то, к чему были предназначены. К чему готовились всю жизнь, которая наконец достигла кульминации. Женщина сбросила с себя одежду и села в позе лотоса у стены, мгновенно погрузившись в транс. Хрупкое тело застыло, обезобразилось буграми проступивших под кожей одеревенелых мышц. Мужчина опустился перед ней на колени, склонился, словно хотел совершить поклонение, распахнул жадный рот и впился зубами в ее ногу. Я велел ему сожрать ее целиком, до костей. Он будет давиться, блевать, испражняться, но выполнит мою ангельскую волю, которая в точности соответствует его предназначению. Я бы не повелел ему того, на что он не способен. Из дверного проема, ведущего в кухню, смотрел на меня еще кто-то. Я не сразу заметил его. Мужчина тридцати-сорока лет. Он вошел в дом позже этих двух и не решался переступить порог комнаты. Явился он уже испуганным, и теперь его страх усилился, когда наши глаза встретились. Страх на его лице был смешан с откровенной глупостью великовозрастного недоумка. Да это тот самый придурок, что врезался в меня рядом с автовокзалом, когда я собирался звонить Тиму! Петля совпадений затягивалась. Я мысленно шепнул ему подойти ко мне, но он не подчинился. Его лицо исказила мучительная гримаса, немного комичная. Он отшатнулся и бросился прочь. Хлопнула входная дверь. За окном послышались его торопливые шаркающие шаги. Что ж. Я послал ему вслед свое мысленное благословение.Глава третья. Призрачное дуновение
Дрюня выбежал из дома, спасаясь от чудовища, от его гипнотических глаз, которые чуть не сожрали всю его волю. Приближаясь к выходу со двора, он привычно пригнулся, чтобы прошмыгнуть под покосившимся сортиром, но пришлось застыть на месте. Сортир лежал на боку, перекрыв подход к калитке. Быстро опомнившись, Дрюня полез через сортир. Забираясь по дощатым стенам, он почувствовал, что в спину, меж лопаток, словно впилось что-то жгучее – то ли искра, то ли крупное злое насекомое, вонзившее жало. И тут же понял, что это жгучее было послано им – чудовищем, от которого он спасался бегством. Показалось, что вот-вот яд разольется от ожога, и тело онемеет в параличе, и тогда случится самое страшное, как только чудовище настигнет его, беспомощного, павшего наземь. И Дрюня взмолился. – Папочка! Папа! – шептал он судорожно. – Спаси меня! Защити меня от… Помоги, папочка! Ведь я же тебе сын! В последней фразе – «Ведь я же тебе сын!» – прозвучал какой-то не свойственный Дрюне взрослый упрек. И в лихорадке страха, истекавшего каплями пота на лицо, карабкаясь по ветхим доскам, трещавшим и ломавшимся под его весом, злобно вонзавшим занозы ему в ладони, Дрюня вдруг ощутил, как проясняется его ум, как из него испаряется глупость, оставляя сухую и недетскую логику – будто кость проглядывает из-под сгнившего мяса. Доска под Дрюней треснула, и левая нога провалилась внутрь. Пытаясь вытащить ногу, Дрюня почувствовал, как там, внутри кабинки сортира, в ногу вцепились чьи-то пальцы. Он дергал ногой, стараясь освободиться и боясь, что вот-вот полностью провалится внутрь, а изнутри кто-то тянул его к себе. Может быть, какой-то пьяный прохожий забрел с улицы в этот сортир, как в ловушку, прислонился внутри к стене, и кабинка рухнула; теперь он барахтается в ней, не способный ни выбраться, ни позвать на помощь? Но почему его пальцы на голой коже – там, где штанина задралась почти до колена, – казались Дрюне пальцами какой-то рептилии? Эта холодная жабья кожа вызывала дрожь омерзения. Или это существо выползло из-под земли через выгребную сортирную яму и попало в деревянную кабинку снизу? В панике Дрюня задергал ногой и наконец почувствовал, что она освободилась от чужой хватки. Выдергивая ногу из дыры, он рванулся и в скрипе и треске досок рухнул на землю по ту сторону преграды. На коже, ниже задранной штанины, темнели следы; в том месте болело, как от ожога. Хромая, Дрюня с трудом выбрался на улицу и остановился. Напротив калитки, около мусорных контейнеров, освещенная уличным фонарем, стояла голая страшная фигура мужчины с отрубленными руками, которые висели у него на шее, будто хомут или ожерелье: правая рука вцепилась пальцами в основание левой, левая вцепилась в основание правой. От шеи до паха шел через все туловище грубый шов. В животе под этим швом что-то шевелилось, натягивая бескровную кожу изнутри, словно туда засунули некое живое существо. Лицо этой фигуры тонуло в вертикальном разломе, как от удара топором. Внутри разлома виднелись два глаза, ушедшие внутрь и смотревшие друг на друга. Фигура источала злобу и властную угрозу. Казалось, она здесь в своих законных владениях, где имеет право на все. Отрубленные руки на шее шевельнулись, их пальцы разжались, и ромбовидная фигура, ими образованная, распалась, руки же повисли в воздухе, медленно вращаясь. Они неторопливо поплыли по воздуху в сторону Дрюни. Пальцы шевелились, будто щупальца подводных существ. Дрюня застыл на месте. Эти медленно плывущие к нему руки завораживали его. В шевелении пальцев чудился какой-то зловещий смысл; возможно, пальцы «произносили» заклинания на языке магических жестов. Когда руки приблизились, Дрюня ощутил тошнотворный запах дохлятины и еще чего-то невыносимо сладковатого. Руки подплыли еще ближе, и своими холодными пальцами начали ощупывать Дрюнино лицо. Вспомнилось, как цыганки не раз гадали ему по руке, пальцем водя по ладони – Дрюня очень любил совать руку гадалкам, – и сейчас ему показалось, что эти мертвенные пальцы занимаются гаданием, но не по руке, а по лицу. Страх накатывал волнами, пульсировал, и на пиках его Дрюня едва сдерживался, чтобы не сорваться с места и не броситься наутек. Он откуда-то знал, что бежать ни в коем случае нельзя. Именно сейчас надо стоять не шелохнувшись. Эти холодные пальцы были опаснее зубов бешеной собаки. Неверное движение – и они вцепятся в тебя, беспощадно сдирая кожу и разрывая мышцы, вскапывая плоть, как землю, чтобы добраться до самых корней твоей жизни. Безрукая фигура неподвижно стояла на месте, метрах в шести или семи от Дрюни. Ему вдруг вспомнилась одна избитая мысль, что призраки, дескать, не должны отбрасывать тени; но безрукого освещал фонарь, и тень у него была. Наконец отрубленные руки отпрянули от Дрюниного лица, взмыли над его головой, неощутимым течением их понесло назад, к хозяину. Все еще сдерживая дыхание, напряженный, как струна Дрюня поковылял домой, опасливо косясь на неподвижную фигуру с ожерельем из отрубленных рук, вновь обвившихся вокруг шеи. Болела левая нога. На спине, меж лопаток, тоже болело и пекло. Заведя руку за спину, Дрюня тщетно пытался нащупать источник боли. Приближаясь к калитке, Дрюня удивился было, почему она нараспашку, но тут же вспомнил, что давеча сам ее и не закрыл. Он вошел во двор, оглянулся – за спиной почудилось какое-то движение. По фасаду недавно достроенной восемнадцатиэтажки, стоявшей напротив их дома, многометровой пиявкой ползла извилистая тень. Дрюня отвернулся. Когда он оказался в гостиной, его сердце оборвалось в какую-то свистящую глубину. Праздничный стол был опрокинут набок. На том месте, где он прежде стоял, лежали два изуродованных окровавленных тела. Мама и Стас. Над ними черным хищником возвышался Морфей, склонивший голову и лакавший пролитую на пол кровь. Тут же, в крови, лежала гирлянда, что прежде висела на шее у пса. Рядом с Морфеем, положив ему руку на спину, поглаживая пальцами холку, сидел на корточках человек в военной форме, которого Дрюня сразу узнал. Отец выглядел в точности как на том фото – такой же молодой и с той же улыбкой. И, как на фото, бледный, монохромный. Кожа и форма одного и того же серого цвета, оттенки только разные. Морфей поднял морду, и на Дрюню уставились два хищных людоедских глаза. Зверь оскалил зубы, раздался низкий утробный рык, и Дрюня впервые увидел, какие жуткие у Морфея клыки. Отец поднялся, потрепал пса по спине, как бы останавливая, не разрешая нападать до особого сигнала, и приблизился к застывшему в ужасе Дрюне. Распахнув руки, заключил сына в объятия, прижал к груди, и ледяной холод полился в Дрюню из серого призрака. Что-то нащупав на спине у сына, отец оторвал это – Дрюня вздрогнул от боли, словно вырвали клок волос, – и бросил на пол; там пискнуло и завозилось. Отец отстранил Дрюню, шагнул вперед и раздавил сапогом копошащуюся тварь. Затем посмотрел сыну в лицо. – Наконец ты смог, – шевельнулись его губы, и Дрюня увидел, что движение губ не совсем совпадает со словами, будто это фильм, где звук немного не синхронизирован с изображением. – Теперь я хоть на минутку вырвался оттуда. Все ждал, когда же, когда ты сможешь… А то все только бла-бла да бла-бла! Но ты вытянул меня – хватило мозгов. Ай, молодца́, Андрюха, молодца́! Перехватив Дрюнин взгляд, направленный на изуродованные тела, отец подмигнул Дрюне – весело и в то же время жутко – и спросил: – А? – точнее, и не спросил даже, а бросил сыну в лицо осколок звука, словно брызнул ядом. – Зачем ты?.. – прошептал Дрюня. – Я?! – искренне, но все же и с лукавством удивился отец. – Разве это я, сынок? Это все ты. Не помнишь, что ли? Ты ж посмотри на себя… И только сейчас Дрюня заметил кровь на своих руках. На рубашке тоже были пятна, возможно – и на брюках, но на темной ткани трудно что-то разглядеть. Дрюня поднял с пола испачканный в крови небольшой топор, которым Стас и Сергей рубили дрова для мангала, стоявшего во дворе под навесом. Дрюне этот топор перестали доверять с тех пор, как он однажды поранил себе лезвием палец. Взвесив топор в руке, Дрюня вспомнил то, что происходило всего несколько минут назад. Возвращаясь домой, он боялся, что где-то здесь та безголовая женщина, что явилась во двор, когда он сам шел за братом и Женей. Осторожно взяв под навесом топор – сейчас он будет аккуратен и постарается не пораниться, – Дрюня вошел в дом. И увидел в гостиной безобразную сцену. Мама, Стас и эта безголовая сплелись в тошнотворный клубок. Казалось, вместе с ними в клубке извиваются огромные змеи. Вся эта масса шевелилась, как… как пальцы тех отрубленных рук, что недавно ощупывали его лицо. Дрюня заорал от невыносимой душевной боли – от омерзения, гнева, ненависти – и начал рубить этот змеиный клубок топором. Исступленно наносил удары, бил и кромсал, пока наконец не понял, что нет никакой безголовой, что она ему только мерещилась, что мама просто сидела на коленях у Стаса, лаская и целуя его, а Стас отвечал своими ласками и поцелуями. Эту пожилую парочку все еще влюбленных друг в друга людей иногда кружило в таких страстных водоворотах, когда нежность, как в юности, лилась через край. А где-то на краю зрения стоял у стены отец, с улыбкой смотрел на это яростное священнодействие смерти, поглаживая рукой прижавшегося к нему Морфея. – Почему я забыл? – пробормотал Дрюня, растерянно глядя на топор в своей руке. Отец отобрал у него топор, положил на пол и с улыбкой произнес: – Такое бывает, сынок, особенно если время пошло вспять. Мозги-то не сразу приспосабливаются к обратному ходу. Видишь, – он указал на часы на стене, – даже они никак не впишутся… Секундная стрелка на циферблате дергалась в небольшом интервале, отсчитывая по нескольку секунд то вперед, то назад. Угрюмо взглянув на эту стрелку, Дрюня подумал, что батарейка в часах, наверное, села, отец же – хитрец! – не преминул этим воспользоваться в своих целях. Морфей меж тем смотрел на Дрюню, продолжая скалить зубы. Эти зубы что-то мучительно напоминали ему. Ну конечно! Он понял. Оскаленные страшные зубы напоминали его собственные мысли в момент прояснения ума. Ясное четкое движение логики походило на оскаленную пасть, острыми зубами терзавшую поверженную плоть. Сейчас, когда ум снова прояснился, Дрюня осознал наконец, почему был так мерзок самому себе всякий раз после прояснения. Когда Дрюня, призывая умершего отца, вдруг взрослел, отряхиваясь от морока глупости, он переставал любить своих родных. Маму. Стаса. Брата. Все эти дорогие сердцу милые люди становились ему неприятны. Воспоминания о них отзывались холодом. Таким же могильным холодом, какой сейчас источал отец. Глядя в его веселое и холодное лицо, Дрюня словно заглядывал в бездну собственного пробудившегося разума. – Возвращаться пора, – сказал тот, обнимая Дрюню за плечи правой рукой. – Тебе со мной надо. Там у нас много таких, которые заживо спустились. А то сидишь один в темноте, а тут хоть родная душа рядом… Здесь лучше не оставаться. Сейчас такое начнется, что живые позавидуют мертвым. Ты же призвал меня, сынок, вот я и пришел тебя спасти. А это, – отец кивнул в сторону трупов, – необходимо, это плата за твой проход. Чтобы живому войти к нам и поселиться, где захочется, надо платить. Если просто умираешь, тебя забрасывает не пойми куда, и лежишь там потом один, скорчившись, как эмбрион, ешь и пьешь свое одиночество, собственный ужас обгладываешь. Но когда цена уплачена, и ты еще не мертв, ты можешь быть с тем, с кем хочешь. Вместе. Вот как мы с тобой. За это платить надо, так уж заведено. Дрюня молчал, пока отец увлекал его за собой – через кухню – в темный коридор, который вел вглубь дома. Морфею отец подал легкий знак левой рукой, и тот медленно двинулся за ними следом, напрягшийся, как перед прыжком, все продолжая скалить зубы и отрезая Дрюне путь к бегству. Они вошли в коридор, но там не было привычных дверей в комнаты. И сам коридор стал другим: он расширялся, уходя в глубокую чернильную тьму, которая была не просто тьмой, а плотью ужаса, поднявшегося из неведомой пропасти. Однако Дрюня в том ужасе чувствовал нечто приятное, по крайней мере притягательное. Продрогший от холода, он молча шел, увлекаемый мертвецом, обнимавшим его за плечи. Дрюня почти не чувствовал своего тела, которое растворялось во тьме, как в кислоте. Зато чувствовал свой разум, работавший ясно и точно, будто прочищенный и смазанный механизм. Чем холоднее становилось ему рядом с отцом, тем сильнее прояснялся разум. Они всегда выходили из глубин смерти, думал Дрюня, чтобы найти кого-то живого и увести с собой. Если тот захочет, конечно. А ведь многие пожелают уйти. Или, по крайней мере, не откажутся. Не надо даже выражать согласие, достаточно просто не отказаться. У многих найдутся причины, чтобы оставить все и уйти в неведомую глубину. Иногда вся жизнь, которой ты жил, просто выталкивает тебя вон. А теперь механизм жизни сломался и начал работать в обратную сторону. Жизнь уже никогда не станет прежней. Началась какая-то новая страшная фаза. Дрюня вспомнил записанное в своей тетради: «И начнется Год-Оборотень, у которого будет начало, но не будет конца, у которого кости из страха, хрящи из ужаса, плоть из кошмара». Скоро привычный уютный мир станет адом, уже начал становиться. Дрюня вспомнил страшное существо в человеческом облике, которое увидел в комнате соседки. Его гипнотический взгляд обжег даже в простом воспоминании. Вспомнил второе существо, с отрубленными руками. Мир начал делиться на чудовищ и их жертвы, начал выворачиваться своей кошмарной изнанкой и скоро вывернется окончательно. Дрюня оглянулся и встретился взглядом с горящими глазами Морфея, шедшего поодаль. – Пап, – спросил тихо, – зачем он за нами идет? – Пусть идет, – ответил отец. – Все одно, веселей будет. За него ведь тоже заплачено. Эта – за тебя, тот — за него. – А что там, вообще, где ты… живешь? – спросил Дрюня. Он смутился от сказанного «живешь», слово показалось ему неуместным. Но не знал, как еще спросить об этом, какие использовать выражения. Отец долго молчал. Наконец произнес: – Там полная тьма. Дрюня еще раз оглянулся. Угольки собачьих глаз тлели во тьме, казалось – плыли по воздуху, сам пес сливался с темнотой. Дверь, ведущая в коридор, уже не видна. Ни проблеска света позади них. Со всех сторон их окружала тьма, густая, как черная жижа. Да и коридор ли это? Отец уверенно шел вперед – его, наверное, вело чутье, которым смерть награждает мертвецов, чтобы, ведомые им, они ползали внутри ее бездонного чрева, безошибочно отыскивая вечные норы свои. Сошла улыбка с его лица – обострившегося, постаревшего, почти чужого. Уже не обнимала сыновние плечи его рука, в этом не было больше смысла. Дрюня чувствовал дуновение ветерка, тонкого, как паутинка, призрачного, почти неотличимого от неподвижной пустоты; на это дуновение, пронзавшее насквозь, нанизывалось его сердце. Шли молча – шли или плыли в океане тьмы – плыли или падали на дно – кто мог сказать точно? Три ничтожные искорки в бесконечно разлитой по всем направлениям черноте.Александр Подольский, Надежда Гамильнот. Без чудес

Влад вышел из подъезда и достал сигарету. Ледяной ветер облизал лицо, швырнул горсть снежинок за воротник. Под подошвой хрустнул обломок сосульки. Ноги в старых башмаках, будто два уличных термометра, безошибочно определили: к праздникам в город нагрянули настоящие морозы. Пошарив по карманам, зажигалку Влад не нашел. Он машинально поднял голову к родному окну на девятом этаже. Свет не горел, у соседей тоже было темно. На фоне черного неба всюду кружили белые хлопья. Дома Влад старался не курить, да и вообще пытался бросить, хотя выходило пока так себе. Особенно по утрам. Но возвращаться он не стал, чтобы не разбудить Женьку – у нее уже начались каникулы, пусть отсыпается. Натерпелась его первоклашка в этом году. Он запихнул сигарету обратно в пачку и двинулся по тротуару вдоль дома. За ночь город замело. Водители очищали машины, в конце улицы суетились дворники, трое мужиков толкали застрявшую на дороге «Газель». Сквозь шум ветра издалека прорывался рев сигнализации. Влад шагал по снежной каше, то и дело проваливаясь и увязая. К счастью, до работы было рукой подать. Его мастерская располагалась в подвальном помещении обычной пятиэтажки, и соседство здесь было что надо: слева – небольшой продуктовый магазин, справа – парикмахерская, а у него – надгробия и оградки. Поел, постригся и умер. Гудящая лампа брызгала болезненным желтым светом на вывеску «Памятники». Влад достал ключ, но замер у ступенек, рассматривая многочисленные следы вокруг. Недавно тут кто-то побывал. Снег не чистили, поэтому перемещения неизвестного визитера были особенно заметны. Тот не просто топтался у лестницы, но и несколько раз спускался к двери. Влад посмотрел на часы: до открытия оставалось еще сорок минут. Кого могло принести в такую рань? Он огляделся. По двору скользили редкие тени спешащих на работу людей, у мусорных контейнеров в конце улицы возились собаки. С детской площадки за происходящим грустно наблюдали засыпанные снегом Гена и Чебурашка. Все как всегда. Он отпер замок и под привычное звяканье колокольчика на двери вошел в мастерскую. Зажег свет, проверил едва теплые батареи и вздохнул. Казалось, здесь даже холоднее, чем снаружи. Будто в могиле. Помещение было небольшим, но Владу места хватало. Вдоль стены условной офисной зоны стояли кресты и плиты – гранит, мрамор, искусственный камень. Демонстрационный Иванов Иван Иванович смотрел с надгробия недовольно, будто знал, что его фотографию позаимствовали у кого-то в Интернете. Влад включил калорифер и компьютер, сгреб документы со стола приемки и поставил кипятиться чайник. Полил цветы, ткнул в кнопку музыкального центра, пробуждая радио. Сразу стало как-то поживее. В новостях говорили, что автомобилистам лучше воздержаться от поездок: коммунальные службы не справляются со снегопадом. Влад ухмыльнулся. В России зима опять наступила неожиданно. Основное рабочее пространство располагалось в другом конце помещения – в царстве инструментов, заготовок и пыли. Здесь Влад и проводил почти каждый день. Выбивал на памятниках и надгробиях имена и лица мертвецов. Он быстро переоделся и отыскал в рабочем бушлате аж две зажигалки. Оставив чай завариваться в кружке, вышел на улицу. Сделал долгожданную затяжку, выпуская в морозный воздух дым. И закашлялся, услышав тихий голос рядом: – Он умер. Слева от него стояла невысокая женщина в длинной синей куртке. Она смотрела не на Влада, а в темноту двора. Туда, где между заснеженных лавок и качелей кто-то ходил. Похоже, дети. – Что, простите? – Он умер. Дед. Даже его срок вышел. – Примите мои соболезнования. – Влад сделал пару затяжек и затушил сигарету в сугробе. – Это вы приходили утром? Хотите что-то заказать? Женщина молчала. На голове ее был капюшон с меховой оторочкой, поэтому Влад не мог как следует рассмотреть лицо. В пятно света попадали локон белокурых волос, аккуратный подбородок и растрескавшиеся губы. С одинаковым успехом ей могло быть и тридцать, и пятьдесят лет. – Вы ведь гравировщик? – наконец спросила она. – Да. – Тогда я хочу сделать заказ. – Давайте пройдем внутрь, я вам чаю налью. Заодно все оформим, обсудим. Женщина покачала головой. – Нет смысла. Он же умер, понимаете? Больше ничего не будет. – Она на мгновение подняла голову к Владу. Электрический свет мазнул по красивому лицу, блеснули стоящие в уголках глаз слезы. Теперь Влад дал бы гостье не больше двадцати пяти. – Просто нужно сделать что-то на память. Чтобы помнили, пока еще могут. Она перевела взгляд обратно на двор. Дом позади него потихоньку просыпался, загорались окна. Под светом фар и уличных фонарей отступала темнота. Дети у качелей лепили что-то большое и бесформенное. Родителей рядом не было. – Не отказывайтесь, – сказал Влад, отрываясь от странной картины, – давайте продолжим в мастерской. Я все понимаю, вам сейчас нелегко, но… – Возьмите. – Женщина вложила ему в руки пачку мятых купюр. – Этого должно хватить. Я знаю, вы хороший человек. Вы все сделаете как надо. Влад хотел было возмутиться, но тут разглядел едва торчавшие из рукавов пальцы женщины. Скрюченные, морщинистые, в пигментных пятнах. И без единого ногтя. В мастерской зазвонил телефон. Влад на секунду отвлекся на звук, а когда обернулся, женщина уже уходила. – Эй! Постойте! Она миновала конус фонарного света и застыла на месте. Еле-еле различимая фигура в вихре снежинок. – Он на самом деле умер, представляете? – повернув голову к Владу, крикнула женщина. – Мне на кладбище нужно. Простите. И она ушла, растворившись в темноте морозного утра. Кладбище было недалеко – в паре километров отсюда. Старая его часть давно срослась с ельником. Могилы укрывали тяжелые хвойные лапы, ветки царапали почерневшие кресты, тропинки усеивали зеленые иголки. А вот в новой части все было иначе, по-деловому, – с отдельным входом, беседками и ритуальными услугами на любой вкус и кошелек. Влад знал это не только в силу профессии: в начале года он похоронил там жену. Опаздывая на последний автобус, она решила срезать путь до остановки и попала под машину. Все из-за чертовой метели. Из-за снега, падавшего сплошной стеной. Будь проклята белая мгла вокруг, когда не видно ни людей, ни светофоров, ни приближающихся машин; когда рев ветра заглушает шум мотора и визг тормозов, а ты для водителя – всего лишь темное пятно, появившееся на дороге в последний момент. С тех пор метель у Влада ассоциировалась не с новогодним чудом, а с опасностью и смертью. Он отогнал воспоминания. Пересчитал деньги: их хватило бы на любой памятник. Среди купюр нашлась старая пожелтевшая фотография. Дед. На обороте прямо так и написали. А еще ниже написали: «Мороз». Ветер принес запах выхлопных газов. В мастерской зазвонил и тут же затих телефон. Дети у качелей слепили снежного голема. Влад понял, что одной сигареты ему будет мало.
* * *
Настроение было испорчено на весь день. Вот уже три часа Влад корпел над буквой «М», орудуя молотком и скарпелем. Взгляд то и дело возвращался к брошенной на столе фотографии. И неважно, что заказ по Митрофанову нужно сдать через неделю. Произошедшее выбило из колеи, накрепко засело в подсознании. Инструменты валились из рук, а радио, обычно помогающее настроиться на рабочий лад, только раздражало. Что за женщина приходила с утра? Местная сумасшедшая? Может, это чья-то скверная шутка? Влад ненавидел попадать в подобные истории, особенно когда речь заходила о деньгах. Деньги-то были настоящими – мятыми, в каких-то пятнах, но настоящими. Влад их взял, а значит, должен отработать. Крякнув, он разогнул спину и шагнул к музыкальному центру. Палец замер над кнопкой выключения, а сердце пропустило пару ударов. Диктор с печальной торжественностью говорил: – Это огромная трагедия! Столько лет он жил бок о бок с нами, дарил подарки, украшал мир. Но теперь чудеса закончились. После его смерти не будет ничего. Желающие уже могут вскрыть себе вены. Мороз крепчает. Похороны будут в пятницу. Держитесь, друзья. С вами был Буратинов Алексей! Всем хороших праздников, хотя какие теперь, к черту… Палец надавил на кнопку, и радио смолкло. Влад утер пот со лба. «Слишком много работаю, – сказал сам себе, – вот и чудится всякая ерунда». Взвизгнул отодвигаемый стул. Влад отхлебнул остывшего чаю и поморщился. Посмотрел на ладони – загрубевшие, покрытые мраморной пылью. Дотронулся до подбородка. Когда он в последний раз брился? Вчера? Три дня назад? Со смертью жены все поменялось. Раньше она приходила сюда, в мастерскую. Приносила обеды, смех и такое уютное тепло. Но важным было даже не это. Ее присутствие наполняло жизнь смыслом. Оно было правильным и незыблемым, как восход солнца. «Наивный дурак», – обругал Влад сам себя. Пора бы уже понять, что смерть приходит за каждым. Дочка все глаза выплакала после трагедии. Он же… Друзья говорили – замкнулся в себе. Правда была проще. Внутри у Влада будто вышел из строя какой-то важный механизм. Мир из красочного превратился в черно-белый. Единственное, что удерживало на плаву, – смешливая Женька, так похожая на мать. За спиной едва слышно звякнул колокольчик. Словно кто-то потянул ручку двери, но быстро передумал. Испугался звука. Влад поднялся со стула и зашагал к выходу. Он очень надеялся, что утренняя посетительница вернется. Скажет, что произошло недоразумение, и попросит деньги обратно. Это был бы идеальный вариант. Да и вообще единственно правильный. В конце концов, не поганить же настоящую плиту надписями о смерти Деда Мороза?.. «И какую ставить дату рождения?» – промелькнуло в голове у Влада, когда колокольчик звякнул вновь. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров и с грохотом захлопнулась. Пробравшиеся в помещение снежинки мягко опустились на пол и растаяли. Снаружи кто-то закашлял. Влад стоял прямо перед дверью и ловил себя на мысли, что не хочет знать, кто находится по ту сторону. Кто дергает за ручку, хрипит и кашляет. И почему этот кто-то не заходит. Влад вдруг отчетливо понял, что в такой странный день снаружи не может оказаться очередной клиент или заблудившийся прохожий, решивший спросить дорогу. Нет, это слишком просто. Там будет кто-то другой. В лучшем случае, женщина без возраста и без ногтей. А в худшем… На столе приемки зазвонил телефон, и Влад вздрогнул. Выдохнул шумно, покачал головой. И почему он сегодня такой нервный? Ничего ведь необычного не произошло. Почти. – Слушаю, – сказал он, сняв трубку. – Алло, Влад, здарова. Что у тебя с мобилой? – Сань, ты? – Нет, мля, Дед Мороз. Я, конечно. Говорю, что с мобилой-то? Еле нашел этот твой рабочий. – Не знаю. Может, батарейка села. Влад похлопал по карманам и понял, что телефон с утра так и остался в куртке. Тем временем Саня продолжал: – В общем, в городе черт знает что творится, на дорогах мрак, так что сегодня мы тебе материалы никак не привезем, извиняй. Влад посмотрел на часы: время приближалось к обеду. Раз не надо ждать машину, можно уйти домой пораньше. Все равно не работается. И к черту этот день. – Ну, что поделать. Только завтра уж постарайтесь, у меня сроки. – Добро, – сказал Саня. – Не вопрос. Если что, на связи. Влад повесил трубку и обернулся к двери. К знакомой до боли двери, за которой никто не кашлял и ручку которой никто не дергал. По крайней мере сейчас. А если бы и дергал, что такого? Мало ли кто мог ошибиться адресом. Это ж надо было себе напридумывать… Все из-за переутомления, вот что. Да и погода принесла с собой горькие воспоминания. Плюс тетка эта странная до кучи… Влад открыл дверь и выглянул на лестницу. Снаружи никого не было, только снег активно заметал ступеньки. Город исчез, растворился в непроглядной белизне, словно на всю округу осталась лишь эта пятиэтажка с мастерской в подвале. И усталый человек, всматривающийся в ничто в попытке найти там контуры привычного мира. Влад поежился и шагнул обратно вмастерскую. Нашел в куртке уснувший мобильник и поставил его на зарядку. Тут же полетели сообщения о непринятых вызовах: Саня, пара незнакомых номеров, Митрофанова… Влад вздохнул. Нет, недоделанная буква «М» на могильной плите его так просто не отпустит. Он включил радио и вернулся к работе. По счастью, дело пошло, сдвинулось, наконец, с мертвой точки. Руки с инструментами вновь стали единым целым, и никакие странные голоса по радио больше не нарушали рабочий процесс. Через пару часов, наскоро отобедав, Влад решил почистить снег у входа и перекурить заодно. Он искал лопату, когда услышал колокольчик. А вслед за ним и нервный стук трости по кафелю. В мастерскую вместе с визитером проник мороз, уничтожая с трудом созданное тепло. – Вот только тебя здесь не хватало, – прошептал Влад, безошибочно определив вошедшую. Не то чтобы он не любил тещу. Влад был благодарен за то, что она сидит с Женькой, покупает смешные раскраски, привносит в их мир толику сплетен и новостей. Но любому терпению приходит конец. Слезливое сочувствие, полные скорби взгляды, театральные аханья и вздохи давно набили оскомину. Когда черный берет показался среди надгробий, Влад тяжело вздохнул. Теща принесла с собой запах советского одеколона, хриплую сердечную одышку и кислое амбре старости. Вот она, уже стоит напротив, высокая и оплывающая, как свеча. В руках кожаная сумка, под глазами мешки, щеки алеют нездоровым потным блеском. И говорит всегда на разрыв, приправляя речь всепоглощающей фальшью. – Ох, сыно-о-о-о-чек! Что делается-то! Началось. Влад подошел к столу и залпом допил чай, совсем не почувствовав вкуса. Поднял с пола оброненный фантик от конфеты, скрипнув весь, как старые ножницы. – Рад видеть, Майя Павловна. Теща плюхнулась в кресло для клиентов, положила сумку на стол. Произнесла сквозь тяжелые хрипы: – Сколько раз повторять, для тебя – мама. Ох, тяжело мне, Владушка, хоть в гроб ложись. Такое горе, уж и не знаю, что делать. Дожила на старости лет! Всех пережила. Все выплакала. Ничего-то для себя, ничего не оставила! Теща зарыдала, уткнувшись в кружевной платок. Влад подошел ближе, ощущая, как внутри нарастает злость. – Что стряслось? – А ты и не знаешь ничего? Совсем пылью покрылся в подвале своем. Но нет, я тебя не виню, – соловьем заливалась теща, и голос ее становился все пронзительней. – Ты всегда таким был. Уж и не знаю, как Людочка с тобой жила. Но какая трагедия! Весь город на ушах. Теперь все будет по-другому, помяни мое слово. Я, старая, никогда не ошибаюсь. – Майя Павловна, – сказал Влад, бросив на тещу рассерженный взгляд. Та по-рыбьи глотала ртом воздух, огромная и нелепая в его царстве последних почестей, – вы можете нормально объяснить, что случилось? С Женькой все хорошо? – Да при чем тут Женька! Дед умер! Понимаешь? Дед! По спине у Влада побежал холодок. – Какой еще Дед? – Знамо какой! Тот самый! Майя Павловна пошамкала губами, утерла вспотевшее лицо, открыла и тут же закрыла рот. Владу на миг даже стало жаль ее – такую карикатурную, комичную и трагичную, несчастную и раздражающую одновременно. Восемь лет назад от рака скончался ее муж, в прошлом году умерла сестра, и вот совсем недавно погибла единственная дочь. Майя Павловна переехала к Владу с Женькой, но своей в их доме так и не стала. – Я, Владушка, деньги на похороны собираю. По нашему дому, кто сколько может, как заведено. Дай сколько-нибудь, бога ради. Чтобы все как у людей, правильно было. Дед нам подарки дарил, а мы ему что-нибудь соберем – в последний путь. Такое горе… У Влада пересохло во рту. – Вы скажете, наконец, что за Дед? Поднявшись на дрожащих ногах, теща подхватила трость и прогрохотала: – Я и так тебе уже все сказала! Как тебе не стыдно?! Мне и без того тяжело, а ты еще пытать меня удумал! Слушаешь, слушаешь, а не слышишь ничего. Вот и Людочка говорила ведь, машина нужна, трудно ей. Это тебе до работы два шага, а ей ездить на другой конец города и с Женькой еще по больницам и секциям мотаться. А ты… Влад понял, что начинает закипать. В этом была вся Майя Павловна – прийти и обвинять, тыкать артритными пальцами в больные места, беспардонно ковыряться в кровоточащих ранах. С трудом взяв себя в руки, Влад сказал: – Вы что, тоже про Деда Мороза?.. Это шутка такая? Теща запихнула платок в карман пальто, взяла сумку со стола и пробормотала: – Чуяло мое сердце, не надо было приходить. И Нина, соседка, отговаривала: чегой-то ты пойдешь к нему, он у тебя сухарь сухарем, что ему до Деда? Она отвернулась и медленно поплыла к выходу. Трость била по кафелю с такой силой, будто хотела его уничтожить и добраться до центра Земли. Влад смотрел вслед теще, а потом вдруг крикнул: – Майя Павловна, постойте! Вы… как себя чувствуете? Она поудобней перехватила трость и обернулась, поправив съехавший на глаза берет. Только сейчас Влад заметил, что норковое пальто ее грязное, шарф завязан кое-как, а брошка в виде черепахи еле-еле держится: еще немного – и скользнет под ноги. Странно, насколько он помнил, теща никогда не позволяла себе выглядеть небрежно. – Уж получше некоторых, – с вызовом сказала она. – Вернусь-ка я лучше к Женьке, утешу ее. Кроме меня-то и некому… А ты телевизор включи, если мне не веришь. По всем каналам крутят, даже губернатор с речью выступил. Поймав полный удивления взгляд Влада, теща торжествующе улыбнулась. В этой улыбке было что-то невероятно жуткое, неправильное. Потом Майя Павловна цокнула языком и произнесла: – За кого же Людочка замуж пошла… Ох, горе мне, старой. Толкнула дверь и в последний раз обернулась к Владу. Она качала головой и смотрела прямо ему в глаза, прямо в душу. Смотрела на него, как на ненормального. – Умер он. Столько лет жил с нами, а теперь умер. Через пару мгновений о теще напоминал только впущенный в мастерскую холод. Влад стоял у двери и слушал завывания стихии снаружи. В окна под потолком стучались снежинки. По радио пели «Кабы не было зимы». Нужно было возвращаться к работе.* * *
Когда будильник прозвенел три раза, Влад разогнул уставшую спину, сполоснул натруженные ладони в старом рукомойнике и стал собираться. Педантично отполировал и убрал инструменты в нижний ящик шкафа, отметив про себя, что петли дверей на ладан дышат. Завтра нужно прийти пораньше и разобраться. Сегодня на это уже не осталось ни сил, ни времени. Хотелось просто рухнуть в постель и забыться тяжелым сном, в котором никогда не бывает мертвых Дедов Морозов. Влад накинул куртку, повязал шарф, сунул пальцы в старые перчатки – те самые, что когда-то подарила жена, – и шагнул в простирающуюся за порогом снежную ночь. Повернул ключ в замке, дернул ручку, проверив, надежно ли запер мастерскую, и поспешил прочь, надвинув капюшон по самые брови. Голова раскалывалась, будто бы кто-то сверлил ее изнутри дрелью. За то время, пока он работал в мастерской, метель только усилилась. Свет фонарей едва пробивался через снежное марево. Влад вытянул шею, пытаясь что-то рассмотреть, напряг слух. Быстрым шагом преодолел дорогу между домами, миновал заметенные лавочки и вдруг налетел на старика, закутанного в телогрейку. Тот на четвереньках ползал по тротуару и что-то бормотал себе под нос. – Простите, бога ради! – Влад ухватил незнакомца, придавая ему вертикальное положение. – С вами все в порядке? Чертова метель, ни хрена не видать. Покрасневшие глаза старика вспыхнули безумной надеждой. На непокрытой голове его блестел снег, а уши отливали синим. Дрожащие пальцы ухватили Влада за перчатку. Их прикосновение было ледяным. Длинные ногти царапнули по ткани. – П-п-помоги мне, – дребезжащий голос был еле слышен. – Надо с-с-сложить с-слово. От волнения старик заикался. – Вы о чем? Идите домой. Вас, наверное, потеряли уже. Старик разрыдался, отшатываясь. – Потеряли? П-п-потеряли?! Меня так и не смогли н-н-найти! – закричал он в лицо Владу. – Она д-д-олжна была п-п-прийти! Д-д-должна! Я ж-ж-ждал ее молодым! – Кадык его судорожно дернулся. – А вдруг она уже ум-м-мерла? Владу резко расхотелось помогать старику и разбираться, не пьяный ли тот. – С-с-лово. Надо сложить. П-приказ Королевы. На мокром от слез лице старика таял снег. Утершись рукавом, он опустился на четвереньки и стал перемещать осколки сосулек на тротуаре, совмещать их в буквы, раскидывать и выть по-звериному. – Я з-забыл с-слово. Забыл! П-помоги! Влад стал медленно отступать. Старик закричал, расцарапывая желтыми ногтями лоб, а потом поднялся и бросился прочь, скрывшись в плотной снежной завесе. Влад стоял, словно приклеенный. Чувствовал, как шевелятся волосы на затылке. Взяв себя в руки, он достал из кармана пачку сигарет, чиркнул зажигалкой. И, закуривая на ходу, направился в сторону дома. Главное, ни о чем не думать. Надо просто пережить этот безумный день… «Желающие уже могут вскрыть себе вены». Влад пересек детскую площадку и вскоре оказался под козырьком собственного подъезда. Он потопал ногами, стряхнул снег с куртки и штанов. Снял перчатки и, дыхнув на задубевшие пальцы, выудил магнитный ключ. За спиной раздался детский смех. Влад повернул голову и уставился на высокого человека метрах в десяти поодаль. Тот неподвижно стоял между двумя заметенными снегом машинами, обращая к Владу свое ненастоящее, неправильное, с вытянутым носом лицо. Маску. Влад огляделся: никаких детей рядом не было. В этот час и в такую погоду здесь не было вообще никого. Кроме него и странного типа в маске… снеговика? Из-за темноты она просматривалась не очень хорошо, хотя Владу и не хотелось ее разглядывать, не хотелось знать, что скрывается за чернотой на пластиковом лице. А еще больше не хотелось, чтобы на него таращился этот человек. Влад развернулся и приложил ключ к панели домофона. Дверь запиликала, пропуская его внутрь.* * *
– Женя. – Он в очередной раз постучался к дочери. Проблемы, начавшиеся с самого утра, и не думали заканчиваться. Вот уже десять минут Влад находился дома и не мог увидеть собственную дочь. Убедиться, что с ней все хорошо. С кухни доносился хор нестройных голосов. – За тобою бе-е-егала, Де-е-ед Моро-о-оз, – тянула песню теща под хлопки гостей. – Пролила нема-а-ало я го-о-орьких сле-е-ез… – А ну-ка, да-вай-ка пля-сать вы-ы-ыходи! – весело подхватил Степаныч, сосед из квартиры напротив. Послышался звон бьющейся посуды, одна из тещиных подруг взвизгнула и заголосила: – Степаныч, идиот ты криворукий! Влад стиснул зубы. Произнес терпеливо: – Женя, пожалуйста, открой. – Зачем? – всхлипнула она. – Не хочу никого видеть. – Нам надо поговорить. Я волнуюсь. – Я не хочу ни с кем говорить! – Всего лишь на минуту. Влад протер глаза, но лучше не стало. Мир за один день превратился в хоровод безумных событий. Ему начинало казаться, что он просто спит и видит затянувшийся кошмар. Но стоит открыть глаза, как наступит утро, а Женька улыбнется, кидаясь ему на шею. «Папа, папочка проснулся! А ты приготовишь мне тосты с вареньем?» Конечно, дорогая. Они позавтракают, мило поболтают, а потом он пойдет на работу, и никто на всем белом свете ни разу не заикнется про смерть чертового Деда. – Женя… – устало начал он в бог знает какой раз. Дверь распахнулась. Женька, зареванная и несчастная, прижимала к груди плюшевого кота Матроскина. Волосы растрепались, а футболка была в чем-то изгваздана. Влад опустился на колени, крепко обнимая дочь. – Он умер, – шепнула она ему в ухо, – просто так взял и умер. Па, что с нами теперь будет? Мне страшно. – Женя. – Влад внимательно посмотрел ей в глаза. – Постарайся успокоиться. То, что наговорила бабушка, – чушь полная. Дед Мороз не может умереть. Потому что он… – Влад прикусил язык, чуть не сказав «сказочный». – Потому что он что? – Потому что он бессмертен! Откуда она вообще это взяла? Женька тяжело вздохнула. – Ба сказала, что ты упрямый. А все остальные смирились. Скоро будут похороны, и она возьмет меня с собой. Па, а Деда будут хоронить с посохом? – Не будет никаких похорон. – Будут, будут! – Она затопала ногами. – Если Деда не похоронить, он начнет вонять! И ба сказала, мы тогда все от вони задохнемся! Влад почувствовал, как внутри нарастает гнев. Теща возомнила, что имеет право запугивать его дочь? Если надо, он эту полоумную старуху в клинику сдаст. Может, все, что произошло сегодня, ее рук дело? – Ерунда. Бабушка не понимает, что говорит. Иди спать, милая. – Не хочу спать, – заупрямилась Женька. – Если заснуть, начнутся кошмары. – Это тоже бабушка сказала? – Да. А еще она сказала, что новый год никогда не наступит. – Ну вот что, зайка. – Влад обнял дочку за плечи. – Давай ты сейчас ляжешь спать, а завтра я приду с работы пораньше, и мы пойдем кататься на коньках? Договорились? Женька задумалась и сунула в рот палец. А Влад в который раз неприятно похолодел, увидев на тыльной стороне запястья дочери рваный белый шрам. Чудо еще, что бульдог всю руку ей тогда не оттяпал. Влад до сих пор не мог отделаться от ужасных воспоминаний – огромная массивная челюсть, сжимающая руку дочери, его беспомощные попытки разжать палкой пасть молчаливого зверя и крики хозяев, бегущих на помощь. «Не уследил… Что ж ты за отец такой?» – раздался в голове голос тещи, и Влад поморщился. Женька, как ни странно, относилась к шраму спокойно. «Словно улыбка Чеширского кота», – смеялась она. И, в отличие от отца, воспринимала увечье как нечто обыденное. – Договорились? – повторил Влад. – Купим сахарной ваты, а потом зайдем в детский, посмотрим тебе новую куклу. Слезы на щеках успели высохнуть, а во взгляде загорелся интерес. – Па, я тебя обожаю! – Женька чмокнула его в щеку. – Беги в кроватку, егоза. И не бойся никаких кошмаров. Влад подождал, пока дочка закроет дверь, и пружинистой походкой ринулся на кухню. Теща устроила в его доме черт знает что! Нет уж, с него хватит. Похоже, настало время поговорить всерьез. Когда он влетел на кухню, теща покачивала бокалом и произносила речь. Рядом с ней сидели соседки Нина, Алла и Света. Степаныч наполнял рюмки, братья Сизовы налегали на салат. Лида, крестная Женьки, безутешно рыдала. Влад успел заметить прикорнувшего в углу Серегу, водопроводчика из пятой квартиры. А еще кто-то стоял к нему спиной и смотрел в окно. Но в следующий миг в мире не осталось никого, кроме него и тещи. – Что вы тут устроили? Майя Павловна икнула и ответила: – Присаживайся с нами, Владушка. Помянем Деда. – Достали со своим Дедом уже! Вы зачем Женьку испугали? Лицо тещи пошло красными пятнами. Она схватилась за стоящую рядом трость и сжала ее. Все остальные смотрели на Влада с осуждением. Ему на миг показалось, что на него вылупились не люди, а выцветшие фотографии. «Что они делают? Черт возьми, почему они подыгрывают этой ненормальной?» – Я никого не пугала! – В голосе проскользнули истерические нотки. – Посмотрите-ка на него! Врывается, совсем одуревший, кричит, и никакой скорби. Ох, помяни мое слово, добром это не кончится. – Убирайтесь, – сказал Влад. – Вы все, пошли вон! Да-да, не надо на меня так смотреть, Нина Васильевна. Помянули – и по домам. – Ну ты и… – Степаныч махнул на Влада и, поцеловав ручку тещи, пробормотал: – Крепись, Майя. Он вышел из кухни, намеренно задев Влада плечом. Вслед за Степанычем потянулись остальные гости. На Влада они старались не смотреть. Будто бы он сделал что-то неприличное. То, что навсегда уронило его в глазах общества. Когда квартира опустела, теща с привычными ахами и вздохами обругала Влада, в очередной раз назвала сухарем и закрылась в комнате. А Влад еще долго сидел на кухне в одиночестве, глядя на пустую посуду и бутылки под столом, на остатки еды и на испачканную скатерть. На прильнувшую к окну ночь. Сон приходил болезненно, вспышками кошмаров. Влад ворочался на диване в гостиной, а в гудящей голове роились странные образы. Снежный голем. Нечто, стучащее в дверь мастерской. Безумный старик на улице и безумная старуха на кухне. И метель, стирающая привычный слой реальности, обнажающая иное, жуткое.* * *
– Здарова, Влад! Ну, принимай добро, пока у меня машина не заглохла. Эй, братва, вносите. Влад пожал ладонь старому товарищу. Порывисто обнялись. Саня не менялся – синий рабочий комбез, курчавая борода в пол-лица, запах перегара и заразительная белозубая улыбка. – Опять накидывешь на работе? – Святое дело, – рассмеялся тот. – По такой погоде дуба дашь, ежели не подзаправиться. Железного коня я ж заправляю? Заправляю. И себя, стал быть, не обижу. – Главное, за руль не лезь. А то мало ли что. – Обижаешь! У меня ж специально обученный человек для этого. Хотя я и сам ого-го, у меня даже штрафов никогда не было. Я этот, как его, Шумархер… – Шумахер гонщиком был. – Ну! Я как Шумархер, только, мля, наоборот, не превышающий, – заржал Саня. И, кивнув на пару работяг, спросил: – Куда ставить-то? – Вон в тот угол несите. Вместе с Саней Влад подошел к дальней части мастерской. Здесь хранились нераспакованные материалы, пылились необходимые для замены инструменты, банки с краской и важная мелочевка. Рабочие поспешно ставили коробки, Влад кивал утвердительно и пересчитывал товар. – На, подмахни. – Саня протянул накладные. Поставив подпись, Влад с удовлетворением огляделся. – Похоже, все. – Ща главное припрут. Обожди. – Что главное? Я пересчитал уже. Все в порядке. Саня передернул плечами. Кивнул на вновь звякнувшую дверь. – Во, несут уже. Красотища. Влад посмотрел на двух грузчиков, и у него отвисла челюсть. В мастерскую осторожно вносили памятник, который он не заказывал. Настоящее произведение искусства. Огромный, из белого мрамора, с выступающим из породы лицом. Бородатым лицом. Когда безумно дорогую вещь поставили перед Владом, сердце его сжалось и после забилось, как сумасшедшее. Под бородой располагалась вставка из черного гранита для надписи. На выпирающей из мрамора голове была шапка. Губы портрета кривила страшная и неправильная улыбка, а глаза были огромными, как луны. Владу показалось, что эти глаза следят за ним, смотрят и запоминают. Он уже встречал такой взгляд – в детских подзабытых кошмарах, на лице умирающей от болезни бабушки. Словно бы сама смерть проникла в его мастерскую вместе с памятником. – Я не заказывал, – сглотнул Влад. Хорошее настроение как ветром сдуло. – Сань, уносите его обратно. Я не… – Ну, нет уж. – Саня помахал перед его носом накладными. – Сам подписал, слышь? Мне проблемы не нужны, мля. Все уже в курсе, что ты согласился. Я еще своим брехался – такая честь нашему Владику выпала. А ты щас че, заднюю включаешь? – Да ты хоть понимаешь, кому этот памятник?! – гаркнул, не выдержав, Влад. Повернул к товарищу разгоряченное лицо и прохрипел: – Послушай, Сань. Я думаю, моя теща окончательно… того. Не знаю уж, как она это все провернула… Даже стыдно говорить, ей-богу! Представляешь, она… Про смерть Деда Мороза Женьке рассказывает. И мне уже все уши прожужжала. Про смерть гребаного Деда Мороза, Сань! Взрослая женщина, а вот ведь, принесла беду нелегкая… – Ты не святотатствуй тут. – Саня брезгливо сжал губы и отступил на шаг. – Тебе такой шанс выпал. В историю войдешь. Если не испоганишь все. У Влада закружилась голова, и он схватился за одну из коробок, чтобы не упасть. – О чем ты? – спросил беспомощно. – О том самом! – сплюнул Саня. – Такую возможность просрать хочешь. Но ниче, никуда не денешься. – Ты перебрал, что ли? Или это она тебя подкупила? Сань, мы ж столько лет общаемся. Ну скажи ты мне, в самом деле. Зачем вы ей все подыгрываете? – Да пошел ты! – Саня разгневанно зашагал прочь из мастерской, махнув своим, чтобы поторапливались. Перед самым выходом обернулся и крикнул: – Подкупили меня, мля… А я еще другом тебя называл! Влад шагнул вперед. Он хотел все исправить: остановить, понять, задать необходимые и такие важные вопросы. Но тут заметил, что на стоящих позади Сани рабочих маски снеговиков. Они ведь заходили нормальными? С нормальными человеческими лицами?.. Дурнота накатила с новой силой, и Влад согнулся, слепо хватаясь руками за что попало. Когда он, дрожа, опустился на стул, а в голове прояснилось, мастерская уже опустела. Только мраморные глаза следили за ним, пробуждали старые страхи и отвратительные воспоминания. Влад на негнущихся ногах приблизился к памятнику и встал напротив. Вспомнил женщину без ногтей, поминки, старика, перебирающего ледышки. – Никогда в жизни я не сделаю этого, ясно? – сказал с вызовом, плохо соображая, что происходит. Безумие билось рядом, накатывало волнами, старалось поглотить. Пальцы предательски задрожали, но усилием воли Влад заставил себя успокоиться. – Кто бы тебя ни прислал… Я никогда не выбью эту чертову надпись! Он уже кричал, не в силах сдерживать напряжение: – Пусть весь мир подавится, понял, ты, чудик?! Ты – сказка! Ложь! Выдумка! Тебя не было и никогда не будет! Влад отвернулся и, прижавшись лбом к стене, разрыдался. Всхлипывая, он ненавидел себя за внезапную слабость, но остановиться не мог. Затрещало и, словно по волшебству, включилось радио. – С вами снова я, Буратинов Алексей! Семеро уже вскрыли вены, трое повесились, один спрыгнул с крыши. Его жена полоснула лезвием по горлу пятилетнего сына, включила газ и погрузилась в вечный сон. Спящая красавица, не иначе. Ха-ха-ха. Тринадцать, отличный результат! Давайте похлопаем нашим героям. И это – попрошу заметить! – за пару дней до похорон. А метель продолжается. Очень скоро снег занесет все дороги и движение замрет. Автомобилисты перестанут беспокоиться о пробках. Потому что беспокоиться вообще больше не… Влад вскочил, пересек комнату, схватил музыкальный центр и с силой запустил в стену. Голос диктора взвизгнул, и все затихло. На полу раскинулась паутина проводов. – Вот, значит, как, – пробормотал Влад себе под нос. – Вот, значит, как… Поспешно одевшись, он цапнул ключи и кинулся прочь из мастерской. На столике остался разрываться от звонков рабочий телефон. И перчатки, что дарила жена, застыли рядом с кружкой недопитого чая.* * *
Мир сошел с ума. А если не мир, то отдельно взятый город уж точно. Несколько часов Влад провел в движении. Он катался на общественном транспорте, заходил в кафе и торговые центры, слушал, о чем разговаривают люди. Ловил каждое подозрительное слово. И чем чаще он слышал про похороны Деда, тем мрачнее становился. Теща не врала. И Саня не врал. Они рехнулись, как и все вокруг. Влад чувствовал себя утопающим в этом море безумия, крик которого никто и никогда не услышит. Он напивался в баре, наблюдая за тем, как за окном беснуется метель. В ней сновали темные силуэты – скорбящие. Несмотря на непогоду, на улицах их было полно. Кто-то рыдал что есть сил, кто-то смеялся и кричал о новых временах, кто-то прикладывался к бутылке и угощал прохожих. Безумцев тянуло на свежий воздух. Влад махнул очередную рюмку, окинул взглядом пустой графинчик и повертел головой в поисках официантки. Та обслуживала большую компанию в углу зала: двенадцать мужиков разных возрастов, совсем еще пацаны сидели рядом с седобородыми старцами. Посреди стола они сделали что-то вроде костра из свечей. На полу рядом стояла корзинка с цветами. Влад даже не сомневался в том, кого именно пришли поминать эти ребята. Рядом всхлипнули. Влад обернулся и уставился на сидящего напротив человека в маске снеговика. Тот всхлипнул вновь, положил на стол фотографию и подвинул ее к Владу. Руки незнакомца почернели от грязи. Он был прилично одет, но смердел так, будто давным-давно умер. – Пшел нахер отсюда, – с трудом проговорил Влад, чувствуя, как к горлу подступает комок. На фото, разумеется, был Дед Мороз. Снеговик покачал головой, а потом вскочил и перевернул стол. Загремела посуда, заскользили по полу ботинки. Влад пытался встать, но Снеговик с невероятной силой вдавил его в стул. Быстрым движением он поднял фотографию, запихнул ее Владу в карман, склонился над ухом. Запахло гнилью. – Па, что с нами теперь будет? Мне страшно, – сказало существо голосом Женьки, и Влад будто в тряпичную куклу превратился. Вот только что он собирался оттолкнуть этого психа, врезать в пластиковую морду, при необходимости поднять с пола нож… Но теперь он как парализованный сидел на стуле и вглядывался в прорези маски. В черноту, где не было никаких глаз. – Я еще своим брехался – такая честь нашему Владику выпала, – продолжило существо голосом Сани. – А ты щас че, заднюю включаешь? Влад тяжело сглотнул и посмотрел по сторонам. Никому в баре не было дела до этой сцены. Никому она не казалась странной. Этот мир было уже не спасти. Измазанные землей пальцы сжали Владу плечи так, что чуть не хрустнули кости. Край маски царапнул лицо. Влад пытался расслышать за ней дыхание, хоть что-то человеческое, но безуспешно. Снеговик закончил голосом Майи Павловны: – Ох, помяни мое слово, добром это не кончится. В бар ввалилась толпа – с шумом, криками, скорбными речами. У кого-то была с собой надувная ростовая кукла Деда Мороза. Зареванная женщина в пальто Снегурочки держала в руках несколько бутафорских белокурых кос, словно чьи-то скальпы. Мужики тащили под руки обмотанного гирляндами толстяка. Тот был либо чертовски пьян, либо чертовски мертв. Казалось, лампочки на лице и шее проступают прямо сквозь посиневшую кожу. Заговорили про похоронные костры, про погребальный фейерверк, про гостей отовсюду. Людей становилось все больше, они смеялись и плакали, ругались друг с другом и обнимались. Звенела посуда, из колонок лились новогодние песни. Влад даже не понял, куда в этом шабаше пропал Снеговик, но тело до сих пор ощущало его прикосновение. Этот могильный холод. «Маленькой елочке холодно зимой». Влад с трудом поднялся на ноги и шагнул в сторону выхода, стараясь не смотреть в окружающие лица, не видеть, как безумие пожирает такой знакомый и понятный до недавнего времени мир. «Из лесу елочку взяли мы домой». Домой… Влада вдруг осенило: Женька! Вспомнился вчерашний разговор, данное обещание, каток и сахарная вата. А еще голос дочери, который украло чудовище. И конкретные слова. «Мне страшно». Влад выскочил из бара и бросился прочь, падая, спотыкаясь и молясь всем богам, чтобы не опоздать.* * *
Комната Женьки была пуста. Через настежь открытые окна проникал снег, на ковре можно было различить следы чужих башмаков. На подоконнике стояла большая банка из-под варенья. – Он всегда обещал вернуться, – сказала Майя Павловна из-за спины, – но теперь, Владушка, все по-другому. Без Деда-то. Морозный воздух резал легкие, глаза щипало. – Как… – Влад запнулся. – Почему вы ничего не сделали? – Зачем? Влад сжал кулаки, процедил сквозь зубы: – Она ведь ребенок. Внучка ваша. Как вы могли прос… – А ты старших уму-разуму не учи! Ишь, нашелся учитель тут! Ты сам-то где был, а? Майя Павловна пробурчала что-то себе под нос, вздохнула и продолжила более разборчиво: – Да и Женька теперь сама по себе. Как и остальные. Изменения, их же невооруженным глазом видать. Дети, Владушка, в чудеса верят, в волшебство. Живут этим. А когда чудеса умирают, какое ж это детство? Без Деда все сломалось, поменялось все. Никаких больше чудес. – Что ты несешь, дура старая?! – Влад обернулся к теще. По щекам потекли слезы. – Да я тебя сейчас в это самое окно выброшу! В комнату вошли Степаныч и братья Сизовы. За ними еще кто-то из соседей – Влад уже не разбирал, у него все плыло перед глазами. Ясно заметил только одно: среди визитеров были Снеговики. – Так ты и не смирился, Владушка. Не поверил. Ох, за что мне все это на старости лет-то… Ну ничего, поверишь, когда Деда проводим и сами в землю уйдем. Влад зверем рванулся вперед и повалил тещу на пол. – Где Женька?! Что ты наделала, сука полоумная?! – Пальцы сдавили морщинистую шею. – Что ты… Его ударили, потом еще и еще, выбили воздух. Что-то хрустнуло, комната стала вращаться, пол с потолком поменялись местами. Влада схватили под руки и вытащили на лестничную площадку. Вышвырнули из собственного дома, как приблудившегося пса. Влад попытался встать, но в боку закололо. Руки дрожали, губы не хотели выплевывать слова. Было очень холодно. На ступеньках лежал слой снега, с потолка свисали сосульки. Пахло хвоей, мандаринками и разлитым алкоголем. Этажом ниже пели «Ой, мороз, мороз». – Это же бред какой-то… – наконец сказал Влад, вытирая кровь с лица. – Что происходит? – Мороз крепчает, – ответил Степаныч. – Так что не дури, сосед. Делом займись. Он сплюнул на пол и вернулся в квартиру. За ним последовали и другие. Влад остался один. Зима продолжала пожирать подъезд, от соседей доносились рыдания и песнопения. Влад с трудом поднялся и заковылял в сторону лифта. Обернулся к двери в последний раз. Глазок не светился, а значит, из квартиры за Владом наблюдали. Он вышел из подъезда и тут же попал под обстрел снежками. Местная детвора со смехом бросилась врассыпную. Один из мальчишек подволакивал ногу, двое других были без курток и шапок. Из взрослых рядом Влад заметил только старика на качелях – тот раскачивался что есть сил и хрипло хохотал. «Это все понарошку, не по-настоящему», – билась в голове спасительная мысль, но Влад понимал, что происходящее реальнее некуда. И Женька действительно пропала. В полиции с ним даже разговаривать не стали. Сказали только, чтоб не тянул с гравировкой, а то похороны скоро. Деда надо уважить. Похоже, о Владе и его миссии в городе знали все. Будто в трансе, он блуждал по улицам, не понимая, что делать дальше. Иногда среди толп скорбящих он встречал ребятишек, на которых теперь всем было плевать. А еще полубезумных стариков, не выпускающих из рук детские игрушки. И, конечно, всюду были Снеговики. Когда ноги сами принесли Влада к родному подъезду, у него созрела идея. Он ухмыльнулся, подумал пару секунд, а потом отпер дверь магнитным ключом. Пока лифт поднимал его на последний этаж, по телу электрическими разрядами бежали мурашки. Влад принял окружающее безумие, но теперь ему было плевать. Логово того, кто живет на крыше, было построено из коробок. Внутри на лежанке из газет Влад нашел все те же трехлитровые банки с остатками варенья, фантики от конфет и гору мягких игрушек. Откопав в ней плюшевого кота Матроскина, он прижал его к груди, как старого доброго друга. Как последнее связующее звено с дочерью. Снаружи раздались взрывы фейерверков, и Влад выбрался на воздух. Всюду кружили хороводы снежинок, над головой завывал ветер, и в вое этом чудился звук работающего пропеллера. Влад смотрел в накрывшую город черноту, в пробивающиеся сквозь нее вспышки света, в снежную рябь, похожую на рой насекомых, и чувствовал, как подступает истерика. Он подошел к краю крыши. Раскинувшаяся внизу темнота манила, словно засасывала, поглощала без остатка. Ноги подкашивались. В голове крутились безумные мысли в духе того, что происходило вокруг. Если спрыгнуть, может ли метель унести его прямо к дочери, где бы та ни была? Или все закончится замерзающим у подъезда трупом, до которого никому нет дела? Со всех сторон грохотали салюты. В доме звенели стекла. Внизу кричали – не то от боли, не то от горя, не то от радости. Город упивался сумасшествием. Влад поднял голову к небу. Туда, где снежные вихри обретали контуры исполинского лица, жуткой бородатой морды с неправильной улыбкой и выпученными глазами. – Верни ее, – сказал он, и слова унесла метель. – Я все сделаю. Наверху послышался искаженный смех. Ветер в одно мгновение стер жуткий лик с неба – будто кто-то крошки со стола смахнул. Видение (видение?) растаяло. Влад вернулся в домик на крыше, без сил упал на лежанку и как мог завернулся в газеты. Дыхание выходило облачками пара, кончики пальцев почти не ощущались. В голове шумело. – Потолок ледяной… дверь скрипучая… – едва слышно пропел Влад. Он дрожал всем телом, а вместе с ним дрожало и его картонное жилище. – За шершавой стеной… тьма колючая… Влад закрыл глаза. Наружу просился то ли плач, то ли нервный смешок. Холод обволакивал, темнота укрывала, ветер пел колыбельную. Влад встречал тревожные сны, а по крыше кто-то ходил.* * *
Кладбище было огромным. Влад пробирался вперед, стараясь смотреть только под ноги. Потому что если бросить заинтересованный взгляд на надгробия и памятники… Отовсюду смотрела сказка. Мертвый Шарик с разрезанным горлом ухмылялся окровавленной пастью. Лиса Алиса была изображена задушенной, с выколупанными глазами. Снежная королева скалилась с надгробия беззубым ртом, а срезанная верхушка черепа обнажала покрытый льдом мозг. Освежеванного волка из «Ну, погоди!» опознать можно было лишь по выбитой снизу надписи. Но больше всего ужасало то, что все изображения были цветными. Кровь же и вовсе выглядела настоящей, свежей – будто памятники только что ею измазали. Снег испещряли следы: большие, маленькие, нечеловеческие. Всюду мелькали неясные силуэты, от надгробий отделялись тени. Царство мертвых просыпалось. Влад слышал, что за ним идут, но оборачиваться он и не думал. Впереди открывалась поляна с елью исполинских размеров. Именно туда со всего кладбища стекались люди и нелюди. Пятеро горбатых коротышек с двумя тяжелыми черными мешками. Музыканты в капюшонах, оставляющие на снегу отпечатки копыт и птичьих лап. Облезлый лев, ржавый робот, рассыпающееся на глазах соломенное пугало. Болезненные, неправильные, будто перерисованные сумасшедшим художником, к поляне шли сказочные персонажи – те, кого еще не успели похоронить. А вместе с ними шли дети. Влад пытался найти Женьку, бегал от одного ребенка к другому, но все тщетно. Дети не обращали на него никакого внимания и как завороженные шагали вперед, не сводя глаз с ели. Вокруг нее собиралась толпа, что-то происходило. И тогда Влад наконец увидел. Вместо игрушек ель украшали висельники. Мертвецы болтались на толстых ветках и пошатывались на ветру, а новогоднее чудо-дерево росло и росло, точно бобовый стебель. Тянулось макушкой к черному небу и выдергивало из мерзлой земли новые и новые хвойные лапы. Оно готовило место для следующих жертв. Внизу орудовали Снеговики с веревками. Затягивали петли на шеях и вешали на ветках детей, взрослых и сказочных героев. Ель принимала всех. Кто-то еще подергивался, судорожно бил ногами в воздухе, а кто-то уже испустил дух. Вон висит в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. И с десяток ребятишек болтаются на том же суку. Увидев посиневшую, измазанную вареньем физиономию, Влад похолодел. Женька… Она ведь была с ним! Влад бросился к дереву, расталкивая всех на своем пути, стараясь рассмотреть уносящиеся к небу детские лица и в то же время боясь узнать одно из них. Он споткнулся, рухнул в снег. Закричал, глядя на ель с мертвецами, позвал дочь. Но в следующее мгновение все скрыл снегопад, а в рот набилось что-то холодное и мерзкое. В нос ударила тошнотворная вонь. Запах скорби. Запах умирающей сказки. Теперь здесь не было ни кладбища, ни его обитателей. Только пожирающая пространство метель. Влад, отплевывался, вслепую шагал вперед, повторяя имя дочери, точно какое-то заклинание: – Женька, Женька, Женька, Женькаженькаженькаженькаженькажень… Навстречу прошла женщина, слегка задев Влада плечом. Бросила короткое «Извините» и поспешила дальше. Едва дыша, проталкивая ком в горло, Влад обернулся. Он глядел женщине вслед и не мог произнести ни слова. Ему было не по силам предотвратить то, что должно случиться. Из темноты вылетела машина и на всем ходу врезалась в женщину. Но та не отлетела в сторону, а разбилась на множество осколков, будто была сделана из стекла. Или изо льда. На негнущихся ногах Влад подошел к месту трагедии. Упал на колени и заплакал, собирая ледышки в кучу. Они приняли форму букв: М, О, Р, О. Владу оставалось сложить последнюю. Слезы замерзали на лице, холод парализовывал, но Влад собирал из осколков злосчастную букву. Слово. Имя, ставшее проклятием. Влад продолжал, пока не понял, что нет никакой заснеженной дороги и он ворочает обломки музыкального центра на полу мастерской. Дверь хлопала на ветру, звенел колокольчик, в помещение валил снег. Жуткая бородатая морда из мрамора с интересом наблюдала за Владом. На рабочем столе лежал плюшевый Матроскин. Влад с трудом поднялся, разминая затекшие конечности. Как он сюда попал? Не очередной ли это сон?.. Впрочем, явь давно перемешалась с кошмаром, чего ж теперь удивляться. И все началось со смерти гребаного Деда. Он повернулся к памятнику. Вставка из черного гранита ждала только его. Влад вздохнул и пошел за инструментами. Он обещал, что все сделает, и должен сдержать слово. В этом был его единственный шанс. Влад сосредоточился на работе, стараясь не думать больше ни о чем. Ни о заглядывающих в окна Снеговиках, ни о криках снаружи, ни о гигантском дереве с висельниками. Он думал только о буквах и цифрах. И чья-то невидимая рука вела его инструменты, когда Влад выбивал дату рождения. Закончив с цифрами, Влад стал подправлять изображение, то и дело сверяясь с фотографией. Летящие вниз крошки мрамора превращались в снежинки, и пол становился мокрым. Ботинки скользили, но Влад запретил себе обращать внимание на что-либо; он с головой ушел в работу. Пришло внутреннее чувство спокойствия. Если он все сделает как надо, Женька вернется домой. Он отвезет ее на каток, как обещал. Угостит сахарной ватой и никогда больше от себя не отпустит. Время текло незаметно: Влад не понимал, сколько уже работает. Один час? Один день? Что осталось в этом мире потерянного времени, кроме бородатого, выпирающего из породы лица?.. Мастерскую потихоньку заполняли скорбящие. Влад видел их периферийным зрением, слышал их разговоры. Они пришли за представлением и получили его. Едва Влад закончил надпись, толпа стиснула его, обхватила ледяными пальцами. Он не сопротивлялся, лишь тихонько бубнил: – Пусть знают все кругом… Как здорово, как здорово служить снеговиком… Пусть знают… все… кругом… Памятник подняли и вынесли на руках прямо в заснеженную ночь. Город загудел, встречая мраморного Деда. Похороны официально начались.* * *
Метель накрывала все вокруг белым саваном. От стоящих рядом людей было не продохнуть. Казалось, весь город явился на старое кладбище, чтобы отдать Деду последние почести. Ярко горели погребальные костры. Повсюду были развешаны и раскиданы елочные украшения: шары, шишки, конфетти и звезды… Гирлянды опутывали деревья, ограды и памятники. Вспыхивали то зеленым, то красным, то синим, то желтым светом. Откуда-то лилась новогодняя мелодия. На плечах у людей вместо воротников застыла мишура. На Влада тоже накинули одну такую, превратив его в забавную игрушку, потеху для умирающего праздника. Там, за границей света, метались тени, пела и шебуршала сказка. Порой Владу казалось, что он разбирает очертания того или иного сказочного персонажа (не Винни Пух ли показался вон там, за разбитой могилой?), но стоило посмотреть на тень в упор, и она таяла, становилась лишь мокрым снегом, летящим из небесных утроб. К Владу подходили люди. Обнимали, хлопали по плечу, говорили о том, как он важен для города. Губернатор долго тряс его руку, а Влад все никак не мог оторвать взгляда от лишенных ногтей пальцев, покрытых пигментными пятнами. В голове пронеслось, что губернатору можно дать и тридцать, и пятьдесят лет. История повторялась, а горожане становились… иными. Потом Влад внимательно разглядывал свою ладонь – но выглядела она нормально. Пока еще нормально. Лица людей были похожи: бесконечные ряды копий. Торжественные, бледные, ждущие. И у каждого в глазах застыло одно и то же выражение, которое Влад все никак не мог разгадать. «Я сделал это ради Женьки», – сказал он сам себе, когда памятник водрузили рядом с громадной могилой. Небеса вспыхнули огнем фейерверков, горожане захлопали и заголосили. На плечо легла чья-то ладонь, и Влад вздрогнул, оборачиваясь. Теща стояла в одной ночной рубашке и судорожно всхлипывала. Седые неубранные волосы запорошил снег. – Дожили, ох, дожили на старости лет… – А где, – Влад сам не узнал свой хриплый, каркающий голос. – Где… В ночи раздался отчетливый перезвон колокольчиков. Толпа поспешно расступилась, и Влад увидел трех оленей, запряженных в сани. Звери были худые, морды их пугающе выпирали вперед, с почерневших губ капала слюна. С трудом передвигаясь, приблизились они к разрытой могиле. Тут же Снеговики вытащили из саней нечеловеческих размеров красный гроб и в торжественной тишине опустили его в мерзлую, заметенную снегом землю. Гроб был пустой. – Где… – Тихо! – шикнула теща, толкая его в спину. Влад всмотрелся в ее посеревшее лицо, в черноту широко распахнутых глаз – и решил промолчать. Он перевел взгляд на памятник и почувствовал, как подкашиваются ноги. Бородатое изображение подернулось рябью. Мраморная голова задвигалась из стороны в сторону, рот скривился. Существо вытянуло посиневшие ручищи из памятника, ухватилось за края мраморной плиты и полезло наружу. – Дед! Дед! Дед! – скандировала толпа. Снеговики собрались почетным караулом вокруг могилы. А существо уже стояло рядом, и метель взвизгнула, и земля содрогнулась от его присутствия. Влад видел, как растет, изламываясь, держащая посох фигура. Она становилась все выше и выше, как ель из кошмаров. Краснота одеяний ослепляла. Сказка и явь слились воедино, и Влад отчетливо понял: больше ничего не будет. Ни-че-го. Влад упал на колени и начал молиться вместе с остальными, и плакать, и выдавливать из себя скорбные песни. Он протягивал покрытые мраморной пылью пальцы к Деду и думал лишь об умирающей сказке. Даже образ любимой дочери отошел на второй план. На щеках слезы мешались с тающим снегом. Дед обвел мир сияющим взглядом, стукнул посохом, и олени исчезли, словно растворились в усилившейся метели. Мороз спустился в могилу и лег в гроб. Влад увидел, как заострились черты с детства знакомого лица. Как печать смерти легла на сказочный лоб, как почернела белая борода. Да и костюм изменился: старая, изъеденная молью шуба; дырявая, ни на что не годная шапка… Разве этоДедушка Мороз, герой легенд и сказаний? Древнее, как сам мир, существо испускало дух внутри позолоченного гроба. А вместо посоха артритные пальцы сжимали обыкновенную еловую ветку. Стоило дыханию замереть, а глазам Деда закрыться навеки, как все костры и гирлянды погасли, и тьма воцарилась над миром. Снеговики водрузили и приладили крышку гроба, а потом взялись за руки. От вида этого скорбного хоровода внутри разрытой могилы Влада забила дрожь. Приподнявшись, он приставил ладонь козырьком, прищурился, привыкая к темноте… В следующий миг гроб лопнул изнутри, разметав Снеговиков во все стороны. Вспыхнуло красным, в земле образовался разлом. Влад увидел в нем верхушку ели и взвизгнул от ужаса. Тело Деда вместе с обломками гроба рухнуло на ветки и стало падать, падать, падать… Мир взорвался криками и звоном. Тени рванулись вперед; двенадцать месяцев – юноши и седовласые старцы – первыми кинулись в разлом. За ними последовала остальная сказка. Все те, кто еще не успел умереть, прыгали, словно на горку, на ветви огромной ели, под которой чернела бездна. Хвойные лапы оплетали шеи, сучья протыкали тела. Ель обрастала мертвецами. А когда сказка исчерпала себя, вниз ринулись люди. Соседи, друзья, незнакомцы… Разлом расширялся, поглощая всех. Толпа смяла Влада так, что хрустнули кости. Людской поток понес его вперед. В последний миг Влад будто очнулся, схватил тещу за ночную рубашку и закричал: – Майя Павловна, не надо! Уходим! Майя Павловна! – Как шагнешь за порог… – крикнула она, обернувшись. – Всюду иней! А из окон парок синий-синий! Расхохотавшись, Майя Павловна бросилась в разлом. Влада словно обухом по голове ударили. Толпа наседала, и сопротивляться ей не было сил. Влад упал, почувствовал, как съезжает в яму – туда, где, как ему казалось теперь, светились со всех елочных ветвей глаза игрушечного кота Матроскина… Разлом манил, но Влад мотал головой, зажмуривался, отгоняя наваждение. Он полез обратно, на голову и руки наступали бегущие люди, и Влад орал от боли. В висок ударил чей-то ботинок. Кто-то запнулся и чуть не свернул ему шею. Рот наполнился кровью, но Влад продолжал упорно лезть вперед, повторяя про себя свое главное заклинание: «Женька, Женька, Женька, Женькаженькаженькаженькаженькажень…» Наконец он выбрался из исполинской дыры, куда проваливалась сама реальность, занырнул под лес ног и, еле-еле выпрямившись, побежал прочь, беспощадно орудуя локтями и кулаками. Прочь из этого дьявольского места.* * *
Огромные могильные плиты простирались вокруг, подпирая небо. Раньше на их месте были дома, но после смерти Деда все поменялось. Такова новая реальность – и Влад давно смирился с ней, приняв царящие здесь правила. Каждый день он собирал инструменты, выходил из мастерской и делал свою работу. Конечно, он не успевал, не справлялся один, но теперь его никто не торопил. Влад скрупулезно выбивал имена, даты рождения и смерти на огромных, уходящих к облакам надгробиях. Возвращаясь в мастерскую, с упорством безумца заполнял самодельный настенный календарь: сорок второе декабря, сорок третье… Влад знал, что его никогда не оставят в покое. Сначала он похоронил Деда, а теперь должен проводить в последний путь остальных. И только потом он умрет в заметенном снегом городе, под конец самого долгого года в истории человечества. Но прежде… Прежде он дождется собственную дочь. Однажды Женька вернется – и это будет последнее новогоднее чудо. Когда Влад сидел после похорон в мастерской и зализывал раны, радио на полу заработало и сказало знакомым голосом: «С вами снова я, Буратинов Алексей! Похороны были что надо, большая часть города повеселилась и повесилась! Ха-ха-ха. Как они смешно дрыгали ножками, как забавно кричали. А все благодаря нашему Гравировщику! Он прекрасно справился с работой. И – по секрету! – Дед обещал, что его новогодний подарок уже бежит домой. Вы спросите, что за подарок? Соберите из ледяных осколков! Итак, наши буквы: „Ж“, „Е“, „Н“ и…». Тогда Влад выбежал из мастерской и орал от боли, устремив взгляд к падающим с небес хлопьям. Нынче же… Влад жил только надеждой. Он уже забыл, сколько знакомых имен выбил собственной рукой: братья Сизовы, Степаныч, соседка Алла… Воспоминания умирали, как и все вокруг. Оставалось утешаться лишь тем, что мертвецы остались бы довольны его работой, и продолжать остервенело трудиться для Деда. Потому что наступит день, когда ожидание Влада будет вознаграждено. Женька вернется, и вдвоем они точно что-нибудь придумают. Пусть даже к тому моменту в мире не останется никого, кроме них. Покачав головой, Влад всмотрелся вперед, где вместо родного дома маячило надгробие. Он приходил сюда каждый день, полагая, что Женька в первую очередь будет искать его здесь. Влад осторожно приблизился и провел руками по черному мрамору. Могильный холод и больше ничего. Прислонившись спиной к надгробию, Влад закурил, пуская в воздух колечки дыма. Эта метель никогда не закончится. Однажды земной шар превратится в гигантский снежный ком, в голову чудовищного снеговика. Возможно, тогда все и обретут покой. В пятно фонарного света скользнула женщина в куртке с большим капюшоном. Черт знает почему, но в этом мире еще работало электричество. – Что вы хотели? – крикнул Влад, перебивая вой пурги. Женщина нерешительно шагнула вперед. – Говорите, – вздохнул Влад. – У меня много работы. – Я хотела… сделать заказ. Голос древней старухи, но что-то в нем показалось Владу знакомым. Уж не та ли это заказчица, с которой все началось? Хорошо бы, если так. Влад давно хотел посмотреть ей в глаза и высказать все, что накипело. – Мы встречались? Подойдите, хочу на вас посмотреть. – Заказ, – повторила незнакомка, вынимая из кармана мятый листок бумаги. – Мой срок… он вышел. Она приблизилась, подставляя свету морщинистое лицо с затянутыми бельмами глазами. Выпростала из одежек костлявую руку и протянула Владу записку. Сколько таких он получил в последнее время? Имена, фамилии, годы жизни. Перечеркнутые смертью Деда человеческие судьбы. – Я все сделаю, не пережи… Влад уже забрал листок, когда заметил кое-что такое, от чего сердце превратилось в лед. Схватив старуху за запястье, он резко закатал рукав куртки. Белесый шрам приветствовал его такой знакомой улыбкой Чеширского кота. В голове промелькнуло все, что теща говорила о детях. Все, что он видел сам. «Никаких больше чудес». А раз нет чудес, значит и детей… С неба продолжал валить снег. В ушах свистел ветер. А Влад как завороженный смотрел на шрам, не в силах поднять взгляд на родное, постаревшее лицо. Не в силах развернуть предсмертную записку.Антология Чертова дюжина
© Авторы, текст, 2021 © М. С. Парфенов, составление, 2021 © ООО «Издательство АСТ», 2021Герман Шендеров Лучший погонщик
Перед входом во дворец Амрит поправил бинты на лице. Ткань, влажная от сукровицы, липла к коже, вызывая невыносимый зуд. Дворец раджи гнездился в мангровых зарослях, окруженный несколькими очищенными каналами. В их истоках стояли фильтрующие дамбы, превращавшие грязную болотную воду в прозрачные ручейки, однако не избавлявшие от тягучей вони разложения. Амрит зря беспокоился – у открытых настежь ворот стражников не оказалось, так что можно было немного ослабить бинты и дать раздраженной коже подышать. Ткань же на спине пришлось оставить – перед грядущим походом нужно было позволить целебной мази впитаться. Внутри дворца ослепительно-белый камень и позолота фасада сменились буровато-серыми корнями, увивавшими коридоры так, что не было видно даже стен. Погонщик, ненадолго остановившись глотнуть воздуха и перевести дух, оперся на один особенно толстый корень и тут же отдернул руку – тот шевельнулся и застенчиво спрятался. То, что Амрит поначалу принял за корень, оказалось серой, покрытой засохшей грязью рукой. Стало понятно, почему у ворот не было охраны. Раджа – толстый параноик – не доверял живым, предпочитая держать подле себя целые армии лааш под контролем нескольких кшатриев, что приходились ему дальними родственниками. Только сейчас погонщик, привыкший к вони от собственных гниющих и мокнущих ран, заметил, что дворец прямо-таки смердит медленно разлагающейся плотью, к миазмам которой примешивался слабый аромат мирры. Амрит и раньше слышал от заезжих купцов о «тоннеле прикосновений» – рассказывали, что гневливый раджа нередко играл с жертвой, благодушно позволяя ей уйти с миром. Незадачливый проситель узнавал о том, что провинился перед раджой, лишь когда стены смыкались, поглощая несчастного. Коридор вывел погонщика во внутренний двор, и тот зажмурился, ослепленный солнцем, бьющим в глаза – светило не загораживали ни листья, ни кроны деревьев, а мрамор под ногами казался раскаленным добела. – Вот он, повелитель, лучший погонщик во всем Каяматпуре… Шипение, раздавшееся будто бы отовсюду, заполнило легкие, вытеснило воздух, превратило свет во тьму. Голова закружилась, и Амрит едва удержался на ногах, вцепившись в какое-то каменное возвышение перед собой. – Осторожнее, погонщик! – раздалось надменное. – Я сам решу, когда мне кормить крокодила. Когда головокружение отступило, а глаза привыкли к яркому свету, Амрит отшатнулся от бортика бассейна, в котором среди лилий и кувшинок в мутной воде нарезала круги бревноподобная туша. Пустые глазницы пялились в небо, а вода бурлила меж ребер, когда мертвая рептилия размером с лодку лениво переворачивалась, подставляя солнцу выпотрошенное брюхо. – Достался мне от отца. Он велел лааш вытащить тварюгу из воды и держать на весу, пока тот не сдох от жажды, – пояснил раджа, закидывая в рот виноградину. – Подойди, не бойся. Амрит, почтительно наклонившись, обогнул бассейн и подошел к ступенькам, ведущим к крытой беседке, где на подушках развалился раджа Хатияра, а рядом… – Подними глаза, погонщик, дай мне рассмотреть тебя! – воскликнул властитель. – Как твое имя? – Амрит, повелитель! – Чего же ты не смотришь на меня, Амрит? Тебя пугает мой визирь? Визирь был действительно страшен и одновременно великолепен. Ракшас отличался редким черно-белым окрасом, многочисленные руки его бугрились мышцами, поблескивали золоченые черепа на ожерелье, а взгляд голубых – не кошачьих, а человеческих – глаз был немилосердным, твердым и резал, точно джамбия. Даже золотые оковы, исписанные защитной литанией и подчинявшие чудовище хозяину, придавали демону вид еще более царственный и свирепый. Тонкий поводок, намотанный на запястье раджи, выглядел игрушечным на фоне его жирной руки. Правитель был до предела тучен. Голое брюхо, унизанное иглами и кольцами, расплывалось на коленях. Лысый, с выбритыми бровями и мягкими чертами лица, раджа походил на чудовищного младенца. – Да, повелитель. Мне не приходилось видеть асуров так близко, – соврал Амрит, старательно избегая взгляда визиря. – Для погонщика ты на редкость труслив. Может, тебя пугают и мои слуги? Раджа вытянул руку – ногти были такими длинными, что загибались едва не до запястья – и безрукий лааш тут же наклонился, подставляя свою ополовиненную голову. В углублении черепной коробки покоился лопавшийся от спелости красный виноград, напоминавший груду насосавшихся клещей. – Нет, повелитель, лааш меня не пугают. – Вишва, – Хатияра с усмешкой повернулся к визирю, – ты уверен, что он – лучший? – О да, повелитель! – тигриная морда ощерилась, обнажив крупные человеческие зубы. Цепи загремели, когда ракшас попытался продемонстрировать полупоклон. – В его распоряжении больше тридцати лааш, и управляется он с ними как с собственными пальцами. – Это правда, погонщик? Подумай. Твой предшественник утопил заказ от паши Далала… Раджа щелкнул ногтями, и лааш за его спиной, вытянувшись по струнке, застыл и повернулся к Амриту. Труп был совсем свежий, с аккуратно пробитой головой и серыми, точно речные голыши, глазами. – Выяснилось, что опахало он держит лучше, чем плеть. – Во всем Каяматпуре, от Ачери и до самых пустынных земель, не найдется никого, чья плеть справилась бы лучше! – с гордостью ответил Амрит. – А эти бинты… Почему ты скрываешь лицо? – Бесхозные, повелитель. В один из походов я наткнулся на большую толпу. Груз я вывел, но мне объели губы и нос. – Объели лицо, но ты вывел груз? Достойно. Хорошо, Амрит, работа твоя. Готовь лааш, выступаем завтра на рассвете! – Ваше желание – закон, великий раджа Хатияра! Поклонившись в пол, Амрит принялся медленно отступать, подавляя желание оглянуться – бортик бассейна с мертвым крокодилом был совсем близко, но к радже, как и к тиграм, нельзя поворачиваться спиной.* * *
– Это твои гребцы? – раджа лениво прохаживался мимо выстроившихся в ряд лааш. Раб с опахалом то и дело замирал, продолжая обмахивать пустое место, и Хатияра был вынужден дергать себя за кольцо в соске, чтобы тот шел дальше. В облаке мух поодаль переминались мертвецы с паланкином. Под ними скопилась небольшая горка пепла от благовоний, призванных заглушить гнилостный смрад. – Да, повелитель. Обработаны и накормлены на несколько дней вперед. – Почему они тоже в масках? – Зач-ч-чем великому радже лицезреть застывшие на лицах предсмертные корчи? – прошипел визирь, вышагивавший рядом на тонком поводке, точно послушная собачка – единственное разумное существо в свите Хатияра. Даже в шерсти обезьянки, что сидела на смуглом плече раджи, можно было увидеть хаотичное шевеление трупных паразитов. Глазки животного, видимо, кто-то выклевал, и теперь их заменяли драгоценные каменья. – Пожалуй. Амрит? – Да, повелитель? – погонщик поклонился, отчего незаживавшие раны на спине разошлись, по бинтам стекло несколько струек крови. Насекомые тут же облепили его плечи, но тот не смел пошевелиться под взглядом раджи. – Сколько ты их водишь? Они крепкие, свежие и почти не пахнут! – изумленный, Хатияра даже не побрезговал прикоснуться к надутому, тугому как барабан, животу одной из лааш. Беременная даже не шелохнулась. Раджа бесцеремонно запустил руку под погребальное сари и пошарил в паху у мертвой. – Мягкая! Как живая! – Они мертвы вот уже одиннадцать лет, но держу я их лишь для особых заказчиков, о повелитель. Раджа покачал головой: – Одиннадцать лет? Ха! Каждые два года мои бальзаматоры сшивают из десятка бойцов одного целого, а каждые пять лет мне приходится скармливать их друг другу. Ты лжешь мне, погонщик… – Эти лааш не дышат очень давно, повелитель. Но они столь послушны и дороги мне, что я обращаюсь с ними бережно. Я немного разбираюсь в бальзамировании. Кедровое масло и обработка щелоком позволяют избавиться от присущим мертвой плоти миазмов. И я храню их в наглухо закрытых бочках… – Вот как? Знай же, Амрит, если ты справишься с заданием, а твои лааш продержатся до конца маршрута – клянусь, я жалую тебе должность придворного погонщика и бальзаматора, и пусть Яма сгрызет мои кости, если я лгу! – Вы столь же великодушны, сколь и мудры, повелитель! – Амрит согнулся в глубоком поклоне. По спине сбежало еще несколько кровавых ручейков. – Хорошо! Я доволен гребцами, погонщик. Можешь загружать траппагу! Наконец Амрит выпрямился, расправил плечи и принялся сдергивать с тела бинты, распугивая назойливых насекомых. Обнажились рубцы, прорезавшие спину едва ли не до кости. Работа погонщика – тяжелый и болезненный труд. Открытые раны в джунглях – верный способ умереть долгой и мучительной смертью. Черви, паразиты, насекомые, грязь и болезни проникали в тело беспрепятственно, и вскоре погонщик начинал опрастываться из всех отверстий, потеть кровью и в итоге умирал в страшных муках. Но тем и отличался хороший погонщик от плохого – умением отдать приказ, нанеся себе как можно меньше ударов. Раздался свист плети, звякнули грузики. На спине Амрита расползлась бурая полоса. Набухнув, она лопнула, выступило несколько капель крови. В ту же секунду лааш встрепенулись, помотали забинтованными головами и ринулись укладывать груз на траппагу. Бочки с вином и мешки с сухофруктами быстро перекочевали с пирса на широкое плоскодонное судно, увенчанное большим шатром на корме. Амрит следил за ними с плетью в руке, готовый повторить приказ. Мертвецы лишены воли, но не имеют и сознания. Их не заманишь изысканными яствами, развратными женщинами или звонкой рупией. Что лааш понимали по-настоящему хорошо – это боль. Но что толку стегать мертвую задубевшую плоть? А потому приходилось стегать живую. Раджа предпочел не забираться на борт самостоятельно. Вынув длинную иглу из-под кожи на животе, он долго решался, потом ткнул себя в палец. Лааш бросили паланкин и зашагали к хозяину, но на полпути разбрелись в стороны и застыли. Раздался рыкающий смешок. – Великий раджа, – промурлыкал визирь, – для властвующего над мертвыми ты слишком боишься боли. Твой отец, да не истлеет плоть его, вел в бой целые армии лааш… – Да. А еще он лишился руки и был зарезан шлюхой-наложницей! Не ставь мне его в пример! – отрезал Хатияра. – Руку старый раджа потерял, когда пытался пленить меня в первый раз. Я помню, какова его плоть на вкус… – Вишва! – раджа с силой дернул цепь, и громадная фигура многорукого тигра свалилась на каменные плиты, точно придавленная чудовищным весом. – Тебе лучше помнить, что теперь твой хозяин – я. И следить за языком. – Да, повелитель! – Мы готовы к отплытию! – возвестил Амрит. – Отлично! – повернувшись к гвардии, раджа махнул рукой. Стоящий поодаль офицер-кшатрий кивнул и с силой потянул себя за кольцо в носу, да так, что юшка брызнула на золоченую кирасу. Тут же отряд из шести закованных в броню лааш двинулся к трапу, сопровождаемый жужжанием мошкары. – Галакат – мой телохранитель и будет сопровождать нас! – заявил Хатияра. – Но, повелитель, нам придется проследовать через висячие болота Тикатик и обойти ямы Браштахара. Каждый живой на борту – невероятный риск. Бесхозные слышат человеческое дыхание за много акров, как и стаи плотоядных ос. – А если на нас нападут мандрилы – ты отбиваться будешь своей плетью? Нет! Тем более, нужен кто-то, кто будет охранять плату паше Далалу от твоих грязных ручонок, – раджа небрежно ткнул в инкрустированный рубинами сундучок в руках слуги-лааш. Амрит невольно сглотнул – за одну только крышку на подпольных рынках Ачери можно было бы выручить достаточно, чтобы скупить всех лааш Каяматпура вместе с бочками и миррой. – К тому же, с нами визирь, что носит мои цепи. Так что, трусливый погонщик, считай, что со мной ты в безопасности. – Ваше слово – закон, о, повелитель! – поклонился в ответ Амрит.* * *
Поначалу дорога была легкой. Проточные воды разбавляли эту часть болот, так что лааш гребли беспрепятственно, лишь оседали на веслах зловонные отходы, которыми жители Каяматпура щедро удобряли реку. Тупой нос траппаги тыкался в пятна пепла на воде – редкие богачи могли позволить себе кремировать усопших. Большинство предпочитали продавать умерших родственников на рынке невольников. Ходили слухи, что старикам нередко «помогали» поскорее освободить тело – за дряхлый труп давали невысокую цену. Чем дальше от города, тем гуще становилось болото. Вода прекращала свое течение, закручивалась в водовороты, сгребая землю, осоку и кувшинки в бесформенные комья. Мангровые заросли склоняли свои ветви низко над проплывавшим под ними судном, наставив свои семена-дротики на непрошеных гостей. Вскоре пришлось перейти с весел на бамбуковые шесты, которыми лааш усердно толкали траппагу вперед. Раджа с визирем сидели под просторным шатром и о чем-то негромко переговаривались, Галакат же, лишенный опахальщика, был вынужден отгонять от себя бесконечные рои насекомых, размахивая руками, точно танцор-кастрат. Амрит, как мог, оттягивал время до нового приказа – до очередного удара. Он почти видел, как крупная муха, угнездившаяся у него на лопатке, упорно проталкивает в ранку яйца. Вылупившись, эти твари начнут прогрызать себе путь наружу, подъедая мягкую, тронутую разложением плоть. Неопытные погонщики расковыривают свои раны, пытаясь извлечь личинок, чем делают только хуже, истекают кровью и гниют заживо. Амрит твердо выучил уроки родной деревни – мухи едят лишь то, что уже не спасти. Некстати вспомнилась масала, которую он пил с матерью в их последнее утро. Молоко в их доме было настоящей роскошью: в деревнях изгоев торговцы не появлялись, приходилось идти через каналы по шею в густой, точно нефть, грязи, взбираться на скалу Кобара, где обитали жуткие медноголовые монахи, и надеяться, что караван не застрянет или не сменит маршрут из-за толпы бесхозных. Амрит усмехнулся, когда вспомнил, как забрался на скалу с полным мешочком кардамона, чтобы купить натх для своей Сидиси. Он прождал торговца два дня под проливным дождем, стараясь не попадаться на глаза монахам, выползавшим ночью шипеть свои молитвы в звездное небо. Когда, наконец, натх – дешевый, медный, с крошечным изумрудом – оказался в руках Сидиси, она долго не могла поверить своим глазам. В деревне изгоев украшение, что цепляется за крыло носа – злая насмешка и непозволительная роскошь. В ту ночь она подарила ему любовь. А он ей – дитя… – Эй, погонщик! – ткнул его кулаком в спину Галакат, выдернув из воспоминаний. – Так и будешь стоять, пока твои немощные дно ищут? У паши Далала нужно быть до заката грядущего дня, пока не полили первые дожди. Если по твоей милости мы застрянем в его гаремах, я лично раскрою тебе брюхо и зашью туда дикую кошку! – Простите, досточтимый кшатрий, я задумался, – раболепно ответствовал Амрит, поклонившись. – Придется пустить лааш пешим ходом – шесты не справляются, болото слишком густое, пора закреплять цепи. – Так закрепляй, сучье отродье, да побыстрее – великий раджа ждать не любит! Сам Хатияра безмятежно храпел, растекшись по подушкам. По лицу его были щедро размазаны остатки фиников, которыми лакомились крупные черные осы. Лааш-опахальщик – предшественник Амрита – оставшись без внимания хозяина, усердно обмахивал блюдо с фруктами. Рядом на цепи дремал ракшас, оба хвоста беспокойно хлестали воздух. Будто почувствовав на себе взгляд погонщика, асур открыл один глаз, моргнул – сначала прозрачным веком, потом обычным – и вновь погрузился в дрему. Лааш разматывали тягловые цепи, крепили их одним концом за крюки на бортах траппаги, другим – на кольца ошейников, после чего бесстрашно шагали в вязкие мутные воды Гандаги, чей ил кишел голодной ордой червей, болотных пиявок, рачков и слепых рыб-падальщиков. Для человека такое погружение было смертельным – зловонные омуты поглощали все, даже крики несчастных. Старый раджа – отец Хатияры – казнил своих подданных, просто изгоняя их в болота. Сам же Хатияра слишком опасался мести, поэтому всех своих недоброжелателей превращал в самоходную мебель. Теперь движение стало не таким плавным – лааш то и дело застревали в кустах, спотыкались о корни или просто ухали с головой в какой-нибудь омут, и теперь товарищам приходилось тащить их вместе с судном. Цепи шлепали по воде, натягивались и провисали. Именно в таких местах погонщик проходил проверку на пригодность – он должен был различать, когда идти быстрее было просто невозможно, а когда мертвецы теряли направление или забывали приказ, и тут уж не стоило жалеть сил, и Амрит не жалел – стегал себя так, что кровь брызгала на палубу. Впрочем, тому, кто привык расставаться с плотью, бояться ран не пристало. На ночь было решено остановиться в тихой заводи, где поменьше мошкары и от воды не так воняет гнилью. Галакат сошел на берег – влажное сплетение корней, – чтобы удостовериться, что место безопасно. Развесив меж деревьями цепи с колокольчиками, он развел дымный костер из влажных веток и благовоний, чтобы отпугнуть насекомых. Лааш-воинов, вооруженных прибитыми к запястьям катарами, он расставил по разные стороны берега. С мертвецами кшатрий управлялся отменно, похоже, учился с детства – несколько поворотов кольца в носу, и часовые, приняв приказ, встали на дозор. Амрит вывел лааш на край палубы, чтобы с них стекла грязь, и принялся за осмотр. В целом, все было в порядке, только один сломал ногу, а другой где-то потерял целую кисть, благо тральщикам руки были ни к чему. Самых вымокших стоило заменить на свежих – если несколько дней подряд вести судно тралом, не меняя мертвецов, то по приезде их можно будет сразу продавать на корм. Мудрый погонщик всегда чередует лааш, не давая мацерации испортить подопечных. Он уже начал снимать цепи с покрытых илом и водорослями трупов, когда за спиной гаркнул Галакат: – Эй, погонщик! Тебя хочет видеть раджа! Амрит кротко кивнул и поспешил в ярко освещенный шатер на корме. Раздвинув полог, он смиренно опустился на колени, ожидая, пока к нему обратятся. – Повелитель, на следующем ходу этот слон лишит тебя двух колесниц, – мурлыкал ракшас, поглаживая фигурку из темного золота. Та изображала свирепого зверя с целой башней лучников на спине. – Не смей подсказывать, я знаю! – обиженно ответил Хатияра. На доске для чатуранги оставалось совсем немного фигур благородного серебряного оттенка. Раджа трепал висячий подбородок, хмурил сбритые брови и тяжело сопел. Будто невзначай он потянул натх, соединявший ноздрю и мочку уха. В ту же секунду мертвая обезьянка спрыгнула на доску, разбросав фигурки, и попыталась стянуть слона прямо из руки асура. Тот расхохотался. – Мой повелитель, раз уж надумал мухлевать, тебе стоит научиться лучше контролировать слуг. Если бы бедняки знали, что тебе придется исхлестать себя с ног до головы, лишь бы заставить лааш вступить в бой, они бы уже поставили тебе… Шах… – ракшас подтолкнул когтем неприметную пешку в углу доски, зажав миниатюрного человечка на троне меж двух колесниц. – И мат! – Как так? Ты говорил, слон… – Тебе ли не знать, мой дорогой раджа, что не стоит доверять словам демона? – прошипел визирь, после чего кинул взгляд жутких, слишком голубых и чистых глаз на Амрита. – Погонщик здесь, повелитель. – Уже? Хорошо. Игра мне наскучила. Скажи, погонщик, ты знаешь, куда мы едем? – К паше Далалу, повелитель. – Верно. А знаешь ли ты, чем занимается паша Далал? – Он – искусный укротитель асуров, повелитель, – услышав эти слова, визирь фыркнул, точно Амрит сказал что-то смешное. – Все, что он сделал – это скупил всех моих собратьев, до которых смог дотянуться, уже закованными в цепи. Это они воплотили его пороки и грязные страсти в реальность… – Вишвасагхаат говорит правду, – кивнул раджа. – Лааш – их изобретение, и без тайной власти асуров мертвое бы оставалось мертвым. Но паша Далал – отменный бальзаматор. По-твоему, почему у меня – самого богатого раджи от Ачери до Брахматала – нет своего гарема? Вопрос застал Амрита врасплох. После долгого дня работы с плетью он не рассчитывал на светские беседы. К счастью, раджа не ждал ответа. – Я нечасто подпускаю к себе живых людей. Моего отца зарезала наложница, против дяди взбунтовалась стража, и даже моего старшего брата отравили еще до того, как он получил цепь раджи. Никому нельзя доверять. Кроме лааш. У них нет тайных мыслей, скрытых мотивов и алчных желаний, – мечтательно разглагольствовал раджа, делая вид, что не замечает, как ракшас морщится от омерзения. – Паша Далал достиг невиданных успехов в деле бальзамирования. Он научился сохранять ткани мягкими, глаза – живыми, а кожу – теплой… – Без нас не обошлось! – рыкнул визирь. – Это неважно. Теперь у меня есть возможность обзавестись гаремом, как и положено достойному радже. Завтра на закате паша Далал предложит мне на выбор двести девственниц. К утру из тех, кто приглянется мне, он сотворит превосходных, неотличимых от живых лааш. Говорят, он может снабдить им заветное место язычками или сшить шестирукую наложницу… Пристрастия раджи не были новостью для Амрита – он прекрасно знал, кто скупает трупы девушек из бедных кварталов. – Ты не понимаешь, к чему я веду этот разговор? – Нет, повелитель. – Забудь. Лучше скажи, та, брюхатая из твоих, была сегодня в цепях? – Да, повелитель… Ей надо высохнуть… – Посмотри мне в глаза! – вдруг рыкнул визирь, и Амрит машинально вперился в холодно поблескивающие алмазы на тигриной морде. Ракшас моргнул и прошипел злорадно: – Он лжет, повелитель. – Вот как? – ноздри раджи на секунду яростно раздулись, после чего он благодушно откинулся на подушки. – Небось сам хотел провести с ней вечер? Признавайся! – Нет, повелитель, – сжатые кулаки Амрита дрожали, пришлось спрятать их за спину. – Давай же, ответь. Ты уже возлежал с ней? – Нет, повелитель. – Ложь, – раздалось шипение. Раджа расхохотался. – Дважды! Дважды ты соврал мне! – происходящее явно веселило Хатияру. – Знаешь, не будь ты единственным погонщиком на судне – я бы уже заковал тебя в цепи к остальным, но сегодня, Амрит, считай, что я дарую тебе вторую жизнь. Не гневи меня больше – ступай и приведи ее. – Не возражаешь, повелитель, если и я выйду на воздух? – с просящей интонацией промурлыкал асур. – А что? Тебе не нравятся такие зрелища? Я слышал, при дворе Ямы, у тебя на родине, мертвые совокупляются с мертвыми, пока асуры поедают их плоть и отрыгивают, чтобы пожрать снова… – Те, кто перешел грань бытия и попал в наши охотничьи угодья, сами выбрали такую судьбу, погрязнув в излишествах и грехе. Те же, кто заперт в телах лааш, ничего не выбирали – они заключены в гниющие тела против воли, лишенные сознания, но способные чувствовать все. Когда ты, повелитель, развлекаешься с ними, я слышу безмолвные крики их душ… Раджа вдруг посерьезнел и натянул цепь так, что демон был вынужден улечься у ног раджи, словно домашняя кошка. Ошейник и кандалы на ракшасе налились багровым светом, запахло паленой шерстью. – Ты понимаешь, что в моей власти заставить тебя смотреть? – Все в твоей власти, повелитель! – задушено прохрипел асур. – Тогда ты будешь смотреть. И не смей на меня рычать – помни, что из живущих лишь я могу снять твои цепи! Погонщик, ты еще здесь? Я жду! Амрит поклонился и, пятясь, вышел из шатра. С тяжелым сердцем он открыл бочку с беременной лааш, которой уже никогда не суждено разродиться. Погонщик привычно осмотрел труп – ни повреждений, ни признаков разложения, – она казалась почти живой. Поправив ей маску, Амрит взял девушку за локоть и повел к шатру. Увидев раскрасневшегося от вожделения раджу, что в окружении чадящих ароматических палочек теребил свои вялые гениталии, погонщик едва сдержал тошноту. – Только не снимайте маску. Вам… не понравится. – Я сам решу… Ну-ка, иди сюда! Вопреки сказанному, раджа вскочил сам и принялся наминать полные груди трупа, перебирая свои яички другой рукой. Амрит был уже на выходе, когда Хатияра бросил: – Погонщик! Ничего не забыл? Со вздохом Амрит снял с пояса плеть и расплел один из хвостов, достал крошечный изумруд и протянул радже. – Так-то лучше. А то вдруг эта тварь по твоему приказу задушит меня во сне! – с усмешкой принял Хатияра «сердце» лааш – предмет, что позволял владельцу диктовать свою волю мертвецу. – И помни: завтра на закате мы должны быть у паши Далала. – Да, повелитель.* * *
Утренний туман стелился над болотами Тикатик, скрывая густую жижу от глаз погонщика. Здесь полегло много людей. Государи окрестных земель делили эти воды, обильно наполняя их кровью солдат и плотью лааш, разбойники устраивали засады, подкарауливали караваны, деревенские отправляли сюда детей, которых не могли прокормить, а медноголовые монахи приходили в эти земли за свежими человеческими глазами, чтобы читать священные скрижали. Но сегодня воды Тикатик были спокойны. Лишь звон мошкары и скрип траппаги нарушали тишину. Из шатра вышел раджа, голый, весь покрытый хитрой вязью игл, колец и цепей – атрибутами власти. Он что-то зевающе скомандовал Галакату, тот кивнул и дернул себя за кольцо в носу. Воины-лааш устремились в шатер. Донеслось возмущенное: – Не здесь! Шестеро гвардейцев вытащили из шатра растерзанный труп – живот разошелся надвое, высушенные кишки разметались по доскам палубы, что-то откатилось в сторону с гулким стуком и распалось на куски. Одним мощным ударом раджа раздавил младенческую голову. – Надеюсь, лааш паши Далала будут покрепче! – усмехнулся Хатияра, выразительно взглянув на телохранителя. Тот пожал плечами, после чего скомандовал: – Можно! Дважды уговаривать не пришлось. Гвардейцы как дикие звери набросились на труп и принялись откусывать от него, как от куска хлеба. Амрит отвернулся и, пожалуй, в первый раз в жизни порадовался, что вынужден скрывать лицо бинтами. Покинув заводь, судно ускорилось – здесь Гандага расширялась, на пути тральщиков встречалось меньше препятствий. Траппага прилично разогналась, и Амрит всматривался в горизонт, теребя хвосты плети. Неожиданно впереди началось какое-то бурление, пошли круги, на которых лениво покачивались ряска и кувшинки. Всплыл один череп, поодаль – второй. Следом вся поверхность покрылась торчащими из воды головами. Пустые глазницы слепо пялились в сторону траппаги. Погонщик наотмашь рубанул себя плетью по плечу, и послушные лааш встали, как вкопанные, уперлись руками в борта посудины. Та затормозила так резко, что нос накренился, и по доскам палубы побежали тонкие ручейки. От послеобеденного сна очнулся раджа, закряхтел, точно гигантский младенец. – Ты что вытворяешь? Почему мы остановились? – незамедлительно последовала пощечина. Рука Галаката запуталась в бинтах на лице погонщика, и он брезгливо стряхнул их. Амрит поспешил закрыть лицо, но кшатрий успел увидеть щеку и место, где когда-то был нос. – Мерзость! – В чем дело, погонщик? Ты разбудил меня! – капризно укорял раджа. – Тоже захотел сменить плеть на опахало? – Бесхозные, повелитель, – сообщил Амрит. – Здесь их сотни. Нам повезло вовремя заметить. – Должно быть, слуги вашего покойного дяди, раджи Пури из Дангай, – предположил визирь. – Они шли выше по течению, но, похоже, в сезон дождей их снесло сюда. – Бедный дядя Пури… Его собственный народ взбунтовался против него. Какая низость! – возмущенно воскликнул Хатияра. – Вот почему доверять можно только мертвым. – Возможно, он сейчас среди них, – оживился ракшас. – Знаешь, как он умер? Его заколотили в две лодки, чтобы только голова торчала наружу, а после – накормили смесью из меда и молока, чтобы он опростался из всех отверстий, и спустили вниз по реке. В его кишках набухали и росли черви, насекомые подтачивали его кожу изо дня в день своими маленькими челюстями, мухи откладывали яйца в его уши, птицы клевали его глаза… А стоило всего лишь не отбирать последние запасы у крестьян для ежегодного пиршества. – Вишва! Я не нуждаюсь сейчас в твоих нотациях! Лучше скажи, что нам делать дальше. – Прости, раджа, я лишь скромный визирь и забочусь о тебе и твоих подданных… – Не ходи вокруг да около! Ты можешь подчинить их мне? – Сотни бесхозных? – тигриная морда ухмыльнулась. – Один из моих братьев когда-то воскресил всех этих лааш и подарил их волю твоему дяде… Я могу передать ее тебе, но ты не выдержишь – они разорвут твой разум на мелкие клочки, а чтобы направить их, тебе придется снять с себя кожу и облиться кипятком… – Прекрати! – плаксиво пискнул раджа. – Что нам делать дальше? – Повелитель, – позволил себе вмешаться Амрит, видя, как выпучились глаза кшатрия – он нарушал все рамки этикета. – Если позволите… Есть другой путь. Он дольше, но поможет обойти толпу. Надо свернуть у запруды, выйти к каналу, что ведет мимо скалы Кобара, а там рукой подать до Браштахара. – Ты спятил, погонщик! – задохнулся от возмущения телохранитель. – Если тебе жизнь не дорога – прыгай в воду сам! Повелитель, послушай! Стоит подобраться к бесхозным, как они снимутся с места и будут преследовать нас до самого дворца! Лучше вернуться и нанять укротителей… – Он говорит правду, – прошипел ракшас. – Однако… Как близко этот канал, погонщик? Если недалеко, ровно настолько, чтобы вы, живые, сдерживали дыхание, я мог бы отвлечь лааш. Если, конечно, повелитель согласится. – Всего три караммы, раджа! – Амрит не обращал внимания ни на визиря, ни Галаката, а смотрел лишь на Хатияру. Распаленная вчерашним вечером похоть в сердце раджи боролась с презренным шакальим страхом. Задумавшись, он капризно выпячивал нижнюю губу и натужно кряхтел. Наконец раджа сделал выбор. – Хорошо, погонщик. Я хочу быть у паши до заката. Риск не так уж велик, верно, Вишва? – Лааш не угрожают тебе, мой повелитель! – мурлыкнул асур, расправляя плечи и становясь во весь рост. Руки бугрились мышцами, сквозь густую шерсть на груди просвечивали черные шрамы, хвосты яростно хлестали по палубе в предвкушении схватки. – Это безумие! – пучил глаза Галакат, но спорить с раджой не решался. – Все вы, – бросил за спину ракшас, встав на киль траппаги. – Когда я сойду с носа – задержите дыхание и не вздумайте пошевелиться, пока не свернете в канал. Погонщик! – Да, мудрый визирь? – Хлестни себя изо всех сил… и постарайся не заорать. Размахнувшись, Амрит направил плеть высоко вверх, после чего увел ее вбок и вниз. Свистнули утяжеленные бусинами хвосты, а следом сознание погонщика наполнила боль. Мир потерял краски, разделился на черное и белое, распался на тридцать осколков – по одному на каждый глаз лааш, что стояли по шею в болотной воде. Приказ был прост и безрассуден – на прорыв к каналу, изо всех сил. В ушах звенело, спина сочилась кровью. За пеленой слез Амрит видел ракшаса – тот спрыгнул с киля и, едва коснувшись хвостами воды, перемахнул на кочку, с нее – на торчащий корень, а потом на крошечный, с поднос размером, островок. За ним от руки Хатияры тянулась бесконечно длинная цепь – звенья возникали будто из воздуха. Из воды вслед за черно-белой молнией тянулись серые тонкие руки, похожие издалека на скопления трупных червей. Погонщик набрал полные легкие воздуха, оглянулся – раджа уже стоял красный как киноварь, глаза выпучены от натуги: долго не протянет. Тральщики привели судно в движение, траппага лениво набирала скорость. Ракшас тем временем отражал натиск бесхозных. Те наступали волнами – покрытые илом и тиной, с выеденными глазами и распахнутыми пастями, они накатывали по десять-пятнадцать тел, заставляя визиря пятиться. На спину ему запрыгнула серая тень – обвисшие груди, длинные волосы, черный пучок между ног. Мертвая рабыня вцепилась зубами в мягкое ухо ракшаса, тот взревел и принялся с еще большим остервенением размахивать всеми пятью руками, вспарывая животы, проламывая головы и расшвыривая напирающих лааш, но безуспешно – визирь скрылся под неровной серой массой. Траппага медленно подбиралась к повороту, скрытому от глаз зарослями. Лааш старательно тянули судно, первый из них уже плюхнулся в чистый поток за толстым бревном, как вдруг островок под ракшасом сперва накренился, а после – ухнул под воду вместе с грудой мертвецов и визирем. – Вишвасагхаат, ты куда? – глупо выкрикнул раджа, точно не верил в уязвимость своего слуги. Лишь мгновение спустя он запоздало заметил, как орды лааш, пробиравшиеся к добыче, вдруг замерли и медленно повернулись на голос. Осознав, что натворил, Хатияра истошно завизжал: – Гони, гони! Выдернув из рук погонщика плеть, он сам свесился с киля и принялся стегать лааш. – Шевелитесь, твари ленивые! – Плеть, повелитель! Они слушаются меня, а не вас! – опомнившись, Амрит протянул руку за инструментом, но побоялся притронуться к радже, а на корму уже лезли мертвецы. – Галакат! – взвизгнул раджа, пятясь к борту. Телохранитель среагировал быстро – перво-наперво дернул кольцо, уже покрытое запекшейся кровавой коркой. Мгновение назад стоявшие безучастно воины выстроились в ряд, отгородив живых от голодной орды, что подобно болотной воде хлынула на палубу. Катары свистели в воздухе, отсекая конечности бесхозных, из-за спин солдат хлестал уруми кшатрия – плеть из тонких листов стали снимала пласты гниющей плоти. Траппага нехотя ползла к безопасным водам, но было уже поздно – бесхозные напирали, ползли по висящим над водой корням деревьев, шли по дну, падали с ветвей на палубу, точно перезрелые фрукты. – Повелитель, по воде не уйти! – прошептал Амрит, наклонившись к уху раджи. – И что делать? – обезумев от страха, раджа едва ли был способен соображать. – Повелитель, я снарядил ваш паланкин моими самыми быстроногими лааш. По берегу мы сможем оторваться! – Нет, я не могу… – Хатияра недоверчиво оглянулся – туда, где Галакат из последних сил сдерживал напор черно-серой зловонной массы. – Ты знаешь, сколько лежит в сундуке? – Вряд ли больше, чем стоит ваша жизнь, повелитель, – заметил Амрит, чьи лааш уже перебросили трап на узкую травяную косу, ведущую к берегу. Хатияра колебался недолго. Едва он взгромоздился на подушки, как свистнула плеть, и носильщики проворно понесли тушу раджи в густые заросли. – Раджа! Не оставляйте меня! – Галакат не вовремя оглянулся на уходящий паланкин, и это стало его ошибкой – один из лааш перевалился через плечи солдат и вонзил лишенные плоти пальцы в глазницы кшатрия. Сначала раздалось чавканье, а следом – дикий нечеловеческий визг. – Не смотрите, повелитель! – Амрит бежал рядом с паланкином, то и дело подхлестывая себя и задавая направление носильщикам. – Это его долг. Оставив позади траппагу с мертвецами, погонщик и раджа поспешили затеряться в джунглях.* * *
– Долго еще идти, погонщик? – капризно вопрошал раджа. – Я устал, голоден, а эти слепни скоро съедят меня живьем. Толстяк и правда весь был покрыт красными пятнами от укусов. Путь через густой, увитый лианами и наполненный жужжащими насекомыми лес давался ему тяжко. Амрит же наоборот будто воспрянул духом, шагал легко и непринужденно, даже что-то насвистывал. – Уже недалеко, повелитель! Разве ты не узнаешь эти места? – Что ты несешь, откуда? – Неудивительно, что ты не помнишь, раджа, – теперь в речи погонщика появились странные, наглые и злобные нотки, отчего Хатияре стало не по себе. – Прошло одиннадцать лет, любой мог забыть. Разве стоит деревенька изгоев внимания великихправителей, таких как ты и твой отец? – Как смеешь ты хамить мне? Останови паланкин сейчас же! – раджа беспокойно заерзал. – Я хочу есть и пить! – Осталось совсем немного, повелитель. Позволь мне развлечь тебя историей. – Я не хочу никакой истории, я хочу вина и сластей! Останови их сейчас же! – Хатияра попытался спустить ногу с паланкина, но ближайший лааш хищно щелкнул зубами совсем рядом с пяткой. – Что происходит? – Я вырос в маленькой деревеньке, – ровно начал погонщик, словно не заметив возражений. – Многие из нас были друг другу родней, и за это боги нас покарали – наши тела гнили заживо, совсем как у лааш, – Амрит с наслаждением разматывал бинты на лице, демонстрируя уродливые наросты и розовую дырку на месте носа. – Ты – неприкасаемый! – с суеверным ужасом прошептал Хатияра. – Изгой! Я разговаривал с тобой! Ходил с тобой на одном судне! Какая мерзость! – Не волнуйтесь, повелитель, я не заразен. Кто-то сказал бы, что наша жизнь хуже смерти, но и в ней мы находили свое счастье. Когда-то я тоже нашел свое. Ее звали Сидиси. Она была особенная… Нашего сына мы хотели назвать Сундар. – Иди ты под хвост к Яме! – вскричал раджа. – Я слезаю! Тонко взвизгнула плеть, оставив длинный багровый рубец на лице правителя Каяматпура, и тот, заскулив, постарался забиться как можно глубже в подушки. – Мы выбрали имя Сундар, – как ни в чем не бывало продолжил погонщик, – но судьба распорядилась иначе. В нашу деревню явился ракшас. Он был изранен, ослаблен. Капли его черной крови падали и превращались в ядовитых змей. А следом явилась охота во главе с твоим отцом. Ты тоже был там – этакий бурдюк на лошади. Я тогда подумал, что никогда не видел таких толстых людей. Раджа что-то обиженно хрюкнул, но побоялся ответить – след от плети до сих пор горел огнем. – Ракшас рассказал мне, как все будет. Неожиданно деревья расступились, и перед путниками раскинулась узкая заболоченная долина. Опустевшие хижины с провалившимися крышами медленно сползали во влажный овраг, раскинувшийся посередине. – Он знал, что загнал себя в ловушку – эта долина окружена неприступными скалами. Ракшас понимал, что его схватят, поэтому поведал мне будущее. Как, заковав его в цепи, вельможи и укротители будут праздновать победу над асуром. Как будут пытать изгоев и издеваться над ними. Как молодой раджа возжелает молодую неприкасаемую и натравит лааш на всех, кто попытается вмешаться. И ракшас предложил мне сделку. Все, что я мог делать тогда – это стоять и смотреть, как сначала ты, повелитель, а потом и каждый солдат из свиты твоего отца надругались над беременной Сидиси… Вы порвали ей нутро, она истекла кровью еще до заката. Но ракшас обещал, что я стану лучшим погонщиком Каяматпура. Обещал, что мои лааш будут самыми послушными и крепкими от Ачери до пустынных земель. Что я смогу оплатить наложницу-убийцу для твоего отца, подкупить поваров, что отравят еду твоего брата. Лишь ты, оградившись толпами мертвецов, оставался недосягаемым. Но ракшас обещал, что однажды ты, раджа, обратишься ко мне с заказом… Ракшас обещал мне месть. Последние несколько шагов мертвецы преодолели едва ли не бегом, резко затормозив у самой лужи в центре покинутого селения. Лааш наклонили паланкин вперед, швырнули груз в грязный овраг, и правитель Каяматпура шлепнулся в черную затхлую воду. Почти синхронно мертвецы размотали бинты на лицах – под маской каждого прятались наросты, поглотившие надбровные дуги, губы и нос – точно такие же как у Амрита. – Они… изгои! – хрипел раджа, отплевываясь. – Да, раджа, они тоже. Я забальзамировал свою семью, а ракшас научил меня, как их воскресить. Всех, кто погиб от твоей руки. Я хранил их тела ради этого дня – чтобы они тоже увидели, чем все кончится. Сидиси… По твоей милости она присутствовать не смогла. – Что? Что изгой мог предложить ракшасу? – Свободу, – промурлыкало откуда-то сверху. Асур изящно спрыгнул со скалы, приземлившись в шаге от края оврага. – Ты! – удивленно ткнул пальцем раджа. – Где твои цепи? Ты не мог сам… Тебя утащили бесхозные! – Бесхозные? Ошибаешься, раджа, – ухмыльнулся Амрит, демонстрируя пузырящиеся десна. – У них был хозяин. Тот самый, что приказал перегородить дорогу, снять цепи с ракшаса и убить твоего телохранителя. – Но как ты… – Злая насмешка мироздания – ракшасы обладают бесконечным могуществом, но сами им воспользоваться неспособны. Я не врал, повелитель! Он действительно лучший погонщик! – расхохотался Вишва. – Я не понима… Голос раджи превратился в натужное сипение. Хвосты плети врезались под висячий подбородок – куда-то, где должна была находиться шея. Глаза Хатияры лезли из орбит, он пытался ухватиться за удавку, но сознание покидало его. Лицо посинело, язык вывалился, плеть прорезала кожу, проступили рубиновые капли. Убедившись, что раджа мертв, Амрит отпустил концы плети, и туша тяжело плюхнулась в лужу. – И это была твоя месть, изгой? – поинтересовался ракшас. – Как неизобретательно. – Еще нет. Я слышал, у воскрешенных душа остается внутри тела и гниет вместе с ним. Это так, ракшас? – А я тебя недооценил… Глаза асура сверкнули, на мгновение его тело стало прозрачным, похожим на клочок утреннего тумана, запахло дождем и серой – ракшас погрузился в загробный мир за душой Хатияры. А потом все стало прежним. Вишва почти нежно коснулся затылка бывшего хозяина, и тот завозился, захрипел в луже как большой жук. Труп встал на ноги, его глаза разъезжались в разные стороны. Амрит мстительно вырвал кольцо из соска раджи и наскоро повязал его на плеть. – Теперь все? – спросил ракшас, облизываясь. – Вот теперь – все! – кивнул погонщик, усаживаясь на широкие плечи бывшего правителя Каяматпура. Привычно свистнула плеть.Максим Кабир Полуденные тени
сейчас Деревня была заброшена. Не обязательно заглядывать в каждое крошечное незастекленное окно, чтобы понять: жители давно покинули дома, оставили имущество ящерицам и скорпионам, запоздало осознали, каким глупым было решение поселиться в пустыне. От приземистых зданий веяло запустением. Улицы сужались и ветвились. Всего десять минут назад обвешанные амуницией солдаты нарушили покой мертвой деревни, но казалось, они вечность бродят под присмотром зорких бойниц и суетливых теней. Солнце припекало загривки, в пересохших глотках скребло. Но хуже пекла было ощущение чужого присутствия. И, резко обернувшись, молодой боец обнаружил, что его соратник, замыкающий шествие, пропал. – Репен? – неуверенно позвал солдат. Ему ответил тихий гул, зарождающийся в сердцевине деревни. – Мон лейтенант… – солдат повернулся к офицеру, но тот то ли скрылся за углом, то ли был поглощен тьмой, схоронившейся в глинобитной хибаре. Солдат остался один под палящим солнцем. Гудение нарастало.раньше Повстанец засел на территории золотого прииска, укрылся за насыпью и оттуда вел огонь. Стрелял он вслепую, и свинец улетал в бескрайнее африканское небо. Полногрудые райские гурии, обещанные Кораном, ерзали, нетерпеливо ожидая повстанца на том свете. Скоро правоверный возляжет с ними – к гадалке не ходи. Кристиан Линард привстал на одно колено в тени легкобронированной машины. Два автомобиля припарковались, подмяв кустарник. Команда разведки 1REC[114] состояла из пятерых бойцов под руководством лейтенанта Бессо. Компанию им составляли солдаты регулярных войск во главе с чернокожим гигантом Диаррой. – По-моему, он слепой, – пожурил врага Эрик Лякомб. Лякомб закатал рукава камуфляжной куртки, бравируя татуировкой на предплечье: «Legio Patria Nostra» – «Легион – наша Отчизна». – Отставить комментарии, – шикнул Бессо, выпускник Сен-Сира и афганский ветеран. – Не сопротивляйтесь, – пробасил сержант Диарра в громкоговоритель. – Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Приказ возымел обратное действие: боевик прекратил палить в молоко и стал целиться. Пули свистели в знойном мареве. Лейтенант подал Кристиану знак: – Сними его. Кристиан выпрямился и вскинул штурмовую винтовку. Навел дуло на насыпь. Нейтрализуя врага, он представлял себя проходящим «Spec Ops», «Tom Clancy's» или другой тактический шутер. Тюрбан качнулся над насыпью, всплыли брови… Ствол «фамаса» исторг струю пара и свинцовую горошину в три с половиной грамма. Вправо улетела стальная гильза. Голова исчезла, окутанная розовым облаком. – Есть, – отчитался стрелок. По команде легионеры двинулись к мутной луже. В таких болотцах туземки промывали измельченные камни. Страна занимала третье место на континенте по добыче золота, но была одной из беднейших в мире. Джихадист остекленевшими глазами наблюдал за врагом. Пуля угодила точно в лоб, расшвыряв по округе мозги, пропесоченные Кораном. Скоро прилетит вертушка, труп спеленают и похоронят, согласно мусульманским обычаям, головой в направлении Мекки. Сержант Диарра присел возле земляка, пальцами опустил веки. Они были похожи внешне, Диарра и безвестный джихадист, но первый выбрал сторону президента и конституции, а второй встал на путь священной борьбы с кафирами. Кристиан не чувствовал раскаяния или гнева. Внутри было пусто, как в небе: ни облачка. Вдруг зыбкая тень скользнула у его ног, словно туча мух или диких пчел зависла над прииском. Кристиан поднял глаза, но наверху не было насекомых, и роистая тень пропала. Только ветер заметал площадку пылью, и впитывалась в почву кровь повстанца.
сейчас – Мон лейтенант? Цепкий взгляд Кристиана хватался за нагромождение углов. Пыль и раскалившийся камень – все, чем было это место, ну еще тьма, тьма под солнцем. В голову лезли непрошенные образы: застреленный джихадист, мухи, отсеченные головы животных. Кристиан обогнул баобаб, выросший посреди переулка. От сердца отлегло, он распознал перекресток, на котором разведчики разминулись. «А ты думал, уровни видоизменяются по мере прохождения игры?» Кристиан выглянул в арку, ожидая увидеть снаружи припарковавшийся бронетранспортер. Мурашки побежали по коже. Вместо пустыни, откуда легионеры пришли, за аркой тянулись однотипные ряды зданий. Деревня впустила чужестранцев и захлопнулась, как створки раковины.
раньше В школе у Кристиана Линарда был учитель по фамилии Мали. Месье Мали любил повторять: профаны в географии не видят дальше своего носа. Много лет спустя Кристиан узнал о существовании Мали, забытого Аллахом государства в Западной Африке. Страну раздирали политические распри. Кристиан поступал в университет, а в это время в Мали свирепствовали боевики Аль-Каиды. Военный переворот привел к анархии, отряды ополчения захватили северные районы и провозгласили Независимое Государство Азавад. Ополченцев выбили радикальные исламисты – их действия, в частности, уничтожение исторических памятников, ООН назвала преступлением. И тогда на арену вышел Иностранный Легион. За пять месяцев французские добровольцы освободили свою бывшую колонию от радикалов. Лякомб, участвовавший во взятии города Тимбукту, говорил: «Это было горячее дерьмо». Пока Кристиан прогуливал лекции, слонялся по Парижским клубам, власти Мали восстановили контроль над территорией. Через два года после операции в стране оставался французский контингент, все еще случались стычки между мирными мусульманами-суннитами и группировками экстремистов, чтущих законы Шариата. Вылетев из университета, Кристиан поехал на вербовочный пункт Легиона в Обань. С апреля он следил за порядком в стране, чье название впервые услышал зимой, в процессе четырехмесячной подготовки рекрутов.
сейчас В мертвых африканских деревнях не бывает по-настоящему тихо. Здесь все время что-то шуршит. Это сыплется песок, рушится кирпич, термиты облагораживают отнятое у людей жилье. Помимо шорохов, Кристиан отчетливо слышал гул. Так жужжат сотни тысяч мерзких мух. Гудело на соседних улицах, но, как только он сворачивал за угол, шум отдалялся в следующий проход. Рация не работала. Гарнитура стала раздражающим придатком – хотелось сорвать и растоптать. Кристиан набрал в легкие воздух, а когда выдохнул, увидел спину Эрика Лякомба. И мух, звенящих вокруг легионера, словно его шлем намазали чем-то притягательным – дерьмом или кровью. Много странных мух, они будто растворялись в мареве и формировались снова, бестелесные как… «Как тени», – вздрогнул Кристиан. – Эрик, – он облизал сухие губы. – Ты видел Бессо? Лякомб повернулся всем телом разом, точно стоял на движущейся платформе. Он улыбался. Мухи роились у лица, закрывали собой глаза легионера. И такой неправильной показалась Кристиану улыбка соратника, что желудок болезненно сжался. Не шевеля губами, Эрик Лякомб изрек, как заправский чревовещатель: – Бессо больше нет. Тень упала на Кристиана, загородив от солнца. Он оглянулся, вскинув «фамас». Там никого не было – ни в закоулке, ни сверху, между домами, которые можно было длинноного перешагнуть, с крыши на крышу. Лякомб тоже пропал.
раньше По возвращении на базу Кристиан и Бессо посетили с отчетом командира секциона, после чего Кристиана отпустили чистить оружие. Пока он добрался до столовой, весь режимент знал о ликвидации террориста. На родине обед легионеров длился полчаса: нужно было успеть на уборку и построение. Сузофицеры придумывали занятия для бойцов – не только изнуряющие тренировки и отработка тактики, но и бесконечная глажка, уроки французской грамматики или курсы автовождения. В миссии можно было расслабиться. Легионеры поделились по национальностям. Кристиан подсел за франкоговорящий столик. Лионец Карим Лофти, легионер первого класса – то есть отслуживший год – жонглировал титановым когтем, зажатым между пальцами. Халид Шабаки, сосед Кристиана по комнате, ел спагетти. Кристиан и Халид вместе подавали заявки, их выбрали из сотни претендентов, проведя через медосмотры и многодневные марш-броски. Халиду на момент поступления было семнадцать, он приносил письменное согласие родителей. – Ты, говорят, опять отличился. – По мелочи, – буркнул Кристиан. Карим царапнул когтем воздух: – На что похожи человеческие мозги? – Раскрои себе череп и посмотри. – У него нет мозгов, – осклабился Халид. Кристиан ловил на себе завистливые взгляды сослуживцев. Те из них, кто участвовал в освобождении президентского дворца, вновь жаждали настоящего боя. Новички же мечтали испытать свои навыки на практике. – Покажи ему, – сказал Халид. Нанизав коготь на средний палец, Карим передал Кристиану мобильник. На экране царил полумрак, луч фонаря шарил по грудам хлама. Снимали ночью, в какой-то подворотне. – Что это? – Окраины Тимбукту, – Карим пояснил, что взял вчера La Permission – увольнительную. – И ты потратил ее, слоняясь по трущобам? В стране действовали три враждующих группировки исламистов, племена туарегов еще лелеяли сепаратистские грезы. Ошиваться окраинами было не самой умной затеей. – Тихо, – встрял Халид. – Сейчас. – Какого черта, малышка? – это Карим вопрошал из телефона. – Что за хрень? Луч выхватил кирпичную стену и… хрень. Булыжники, сложенные пирамидой, торчащая вертикально рогатина со скругленными полумесяцем концами. У подножья пирамиды покоилась отсеченная крокодилья башка. В свете фонаря башка скалила зубы. Кристиан остановил ролик, чтобы получше рассмотреть конструкцию. На рынках Мали продавались черепа обезьян, уродливые в пергаментной шкуре мумифицированные головешки. Их предлагалось использовать в магических ритуалах. Сознание Кристиана подкинуло картинку: обнаженная Валери поджигает черные свечи и манит его в начерченный на полу круг… – Так что ты там делал? – спросил Кристиан. – Пытался потрахаться, – ответил за товарища Халид. – Я познакомился в баре с красоткой, – сказал Карим. – С красоткой за тридцать баксов, – вставил Халид. – Мы искали уединенное место… Кристиан запустил ролик. Луч, поерзав по странному алтарю, метнулся в сторону. – Малышка? – улица была пуста, слышались утробный гул и тяжелое дыхание Карима. – Сбежала, как ошпаренная, – прокомментировал Карим видео. – Вот здесь! – воскликнул Халид. На мониторе Карим, лишившийся женской ласки, резко увел фонарь вправо. Луч озарил узкий проход меж домами. Там, в тупике, стоял ребенок. Камера не запечатлела подробностей, только абрис, словно кто-то потрудился в фотошопе, изъяв из картинки кусок в форме щуплого мальчика. Большеголовая тень замерла, поглощая свет. По тому, как луч дернулся, Кристиан понял, что Карим нервничает. Он и сам почему-то занервничал, глядя на экран. – Эй! – ветер заглушал голос оператора. – Не бойся, я военный. Грохот – будто одно из ветхих зданий обвалилось – заставил Карима подпрыгнуть. Замельтешило, Карим крутнулся, выискивая источник шума. В объектив вновь попал алтарь. Крокодилья голова исчезла, оставив темную кляксу. На последних секундах ролика луч вернулся в проход, но мальчик растворился во мраке. – Круто? – ухмылялся Халид. Карим тоже улыбался, но в улыбке скользила фальшь. Ему не было весело там, в зловонной клоаке Тимбукту. Если бы темнота скрывала мятежника, он запросто воткнул бы нож в спину легкомысленного отпускника. – А вдруг это был призрак? – распалялся Халид. Прежде чем отдать телефон владельцу, Кристиан переместил бегунок к центру и несколько секунд рассматривал замершую тень. Луч выуживал из тьмы трещины на стене, но почему-то не рассеивал черную пелену вокруг скособоченного мальчика.
сейчас «Призраки», – думал Кристиан, шагая по брошенному поселку. Валери, любовь, оставшаяся в прошлом, верила в загробное бытие. Каждый третий фильм, просмотренный вместе, учил, что призраки не появляются днем. Но именно среди бела дня, под неистовым солнцем, Кристиан допустил существование привидений. А вдруг и Лякомб был гостем с того света? «Потому что нас всех убили, вот он – ад, не котлы и вилы, а змеящиеся улицы, баобабы, пальмы». Бессо больше нет. Лякомба, Карима, Халида больше нет. Разве это не объяснило бы, почему сдохла рация? Кристиан свернул в очередной проход. Хибары были обмазаны раствором, состоящим из муки, рисовой мякины, соломы и затвердевшего сока акации. Стены напоминали шкуру ящеров. По дороге сюда легионеры объезжали глиняный карьер. А может могильник, полный гниющих трупов. Здесь все было не тем, чем притворялось. И крошечная – если смотреть снаружи – деревушка оказывалась дьявольским лабиринтом без конца и края. – Одно движение, – сказал голос из темных недр мазанки, – и я отстрелю твою башку.
раньше Перед сном Кристиан размышлял о тенях, таких своенравных в этой части света. На соседней койке Халид уткнулся в ноутбук, из наушников доносился похотливый стон. Халид сунул пятерню под одеяло, и Кристиан намеревался сказать, чтоб он дрочил в туалете, но язык не повиновался, веки отяжелели. Ему приснился тренировочный лагерь. «Белое кепи» – назывался сорока восьмичасовой марш-бросок. Кристиан бежал, обливаясь потом, и слышал позади размеренную поступь, мягкие шлепки подошв. И так пугал его во сне этот незримый компаньон, что Кристиан мечтал об учебной тревоге, которая вырвала бы противным сигналом из лап кошмара, потому что земля засасывала ступни бегуна, и Кристиан знал: повернувшись, он обнаружит за спиной не человека, а гробовую тень.
сейчас Но это был человек. Халид Шабаки вышел из дверного проема и будто вынес за собой клейкие частички тьмы: они налипли на впалых щеках и в глазницах. Утром Халид весил килограммов на пятнадцать больше. – Стой смирно. Он целился в Кристиана из винтовки. Он был испуган до чертиков. – Эй! – Кристиан поднял руку примирительно. – Это же я. – Откуда я знаю, что ты – это ты? Я считал, что Бессо – это Бессо. Карим – это Карим. Логика Халида ускользала от Кристиана, как ускользали от прямого взгляда тени, копошащиеся в проулках. – Остынь, чувак. Где все? – Возможно, мертвы. – Мы бы услышали выстрелы, так? – Идиот, – Халид поморщился. – Ты ни черта не понял. – Так объясни. И перестать тыкать в меня стволом! Халид перевел взор в проход между домами. – Ты видел детей? – Детей? – Сраных детей! – завопил Халид. – Ты оглох? Ты видел черных детей, как на видео Карима? Короткостриженые волосы Кристиана вздыбились под каской. Словом «черные» его сосед окрестил вовсе не цвет кожи. Он подразумевал суть. – Здесь нет детей, – тихо возразил Кристиан. – Да, – согласился Халид. – Наверное, они не дети. Наверное, они твари, демоны. – Он сфокусировал взгляд на Кристиане и изможденное смуглое лицо вытянулось. – Муха! – ахнул Халид. – У тебя на лице чертова муха! Кристиан обмахнул ладонью щеки и лоб. Муха, если и была, упорхнула. – Дерьмо! – истерический взвизг надломил голос Халида. Он дернул спусковой крючок – одиночный выстрел, как учили в Обани. Пуля шлепнула Кристиана в левую сторону груди.
раньше В четверг был выходной. Кристиан отчитался перед дежурным капрал-шефом, сверился с листом приказа и отправился в Бамако. Столица производила удручающее впечатление, хотя выигрывала в сравнении с прочими дырами Мали. Здесь хотя бы имелись сносные дороги и основательные колониальные здания. В пробке скапливались чумазые маршрутки и бесчисленные мопеды. Двухколесный транспорт перевозил двоих, а то и троих наездников. Умельцы модернизировали автобусы, убирая стекла и расширяя окна, на крыше крепились тюки, а на закорках катили безбилетники. Справа и слева от асфальтной полосы раскинулось болото; пешеходы, коровы, ослы месили рыжую глину. В клубах пыли на пустыре подростки гоняли мяч. Их дранные майки рекламировали «Фанту», «Сникерс» и прочие западные бренды. Кристиан приструнил желание сфотографировать футболистов. Некому хвастаться колоритом Мали: соцсетей Кристиан избегал, и на родине никто не ждал от него весточки. С матерью он разругался. Сокурсники считали Кристиана диковатым. В лагере у кандидатов отбирали телефоны. Пройдя четырехмесячную дрессуру и заново обретя средство связи, Кристиан понял, что ему больше некуда звонить. Валери жила новой жизнью, отдавалась на пентаграммах новому счастливчику. Лучший стрелок в наборе, Кристиан присягнул Легиону, и Легион стал его другом, его Валери. На обочинах разместился стихийный рынок, источник сладковатой вони. Торговцы предлагали ковры, бензин в пластиковых бутылках, китайские кроссовки, сушеных хамелеонов, шкуры енотов, заколдованные ножи. Мухи погребли под серой массой сырую баранину. Мясной ряд вызывал тошноту. Валери была вегетарианкой. Вообразить ее здесь, в Бамако, никак не удавалось. Чтобы отговорить Кристиана, Валери зачитывала воспоминания дезертиров и показала фильм про Легион. Там молодого Тома Харди закапывали заживо в могилу: вот, что творится в твоем Легионе, говорила ликующая гримаса Валери. Единственная армия, которую она признавала, была армия Люцифера, в дни страшного суда противостоящая небесному спецназу. Романтичная Валери, конечно, вставала на сторону демонов-радикалов. Кристиан так и не успел поведать ей, что в гарнизоне не было ни избиений, ни, тем паче, закапываний. Только оплеухи, козни капралов, нудная муштра, отработка маневров на грузовиках, добывание пищи в экстремальных условиях. Валери, дочь финансового инспектора, крестная дочь Сатаны, в отличие от Кристиана никогда не голодала. Красно-желто-зеленый флаг Мали развевался над площадью, но было и тщательно замалеванное, проступающее сквозь краску, черно-белое знамя Джихада на фасаде здания, память о подавленном восстании. Посольства помечались мотками колючей проволоки, мелькали в толпе голубые каски бангладешских миротворцев. Спокойствие было хрупким, как косточки Валери. В магазине Кристиан приобрел упаковку экспортного пива, обогнул рынок скутеров и горы покрышек у шиномонтажной мастерской. Нужный дом затесался среди манговых деревьев. Фасадная стена вытягивалась над плоской крышей зооморфными рожками. Кристиан постучал. Даже сняв форму, сержант Диарра был вылитым солдафоном. Под линялой футболкой перекатывались мускулы, дополнительной мышцей казался наметившийся пивной живот. Выпученные глаза посмотрели на гостя холодно, но через миг улыбка тронула мясистые губы. – Бонжур!
сейчас «Бонжур. Меня застрелили. Позовите святого Антония, он считается покровителем Легиона. Пусть замолвит словечко. Как удачно: на время командировки моя страховка удвоилась». Кристиан открыл глаза. Ребра саднило. Он потрогал грудь и горячую пулю, увязшую в слоях бронежилета. Ощущение было такое, словно его долбанули тараном. Кристиан сел, готовый разразиться проклятиями в адрес стрелка. В грудь будто пнули повторно. Халид болтался на ветке баобаба, удавленный собственным ремнем. Сколько времени понадобилось ему – если это был суицид – или убийцам – если суицида не было? Двадцать секунд? Сорок? Невозможно повеситься за сорок секунд! За сорок секунд невозможно начать разлагаться. Кристиан отползал, пачкаясь в пыли, таращась на потемневшее лицо Халида. Кое-где кожа полопалась, выпустив струйки гноя. Труп покачивался то против часовой стрелки, то по часовой, глаза обвиняюще взирали из-под полуприкрытых век. В этом не было никакого смысла. Кристиан вскочил, затанцевал, целясь вокруг себя, тщетно покричал в рацию. У Халида в Париже осталась подружка, он показывал сослуживцем снимок, сделанный в Jardin des Plantes, ботаническом саду. Он хотел сделать ей предложение и уговорить на секс втроем. Кристиан отринул дурацкие мысли, как назойливую муху. Муха… что за околесицу нес Халид? Всплыло в памяти лицо Лякомба, облепленное насекомыми. Кристиан подхватил винтовку Халида и посеменил по проулку, а удавленник смотрел ему вслед. Он знал о Кристиане Линарде то, чего не знали психологи, соратники, Валери. Знал про мертвеца на унитазе.
раньше Кристиан и Диарра неоднократно сталкивались на патрулировании, даже номерами телефонов обменялись. После стычки с террористом сержант предложил французу поужинать вместе. Кристиан согласился. Они устроились на заднем дворе в тени развесистого дерева, которое вроде называлось тамаре. Хотя в столовой легионеров сносно кормили, у Кристиана при виде домашних блюд потекли слюнки. Курица в подливе с луком, политый арахисовым соусом рис. – Вы живете один? – С матерью. Она недомогает. Ваши родители живы? Кристиан не был уверен, но кивнул. – Если не секрет, почему вы решили пойти в спецназ? В Обани не спрашивали о мотивациях ангаже волонтеров. Прошли времена, когда Легион становился приютом для бегущих от тюрьмы преступников. Личности соискателей пробивались через Интерпол, а основной причиной, по которой парни мечтали заполучить карт-милитер, были банальные деньги. Тридцать тысяч евро за полгода в Африке. – Проблемы с законом, – сказал Кристиан честно. – Ничего серьезного… – в голове мелькнула картинка: залитый неоновым светом туалет, тощий темнокожий студент сидит на унитазе, его рот распахнут, жгут перехватил предплечье, Кристиан протягивает дрожащую руку, чтобы потрогать пульс. – Травка, – добавил Кристиан. Диарра понимающе хмыкнул. Того студента звали Малик. Он подсел на иглу недавно. Сам Кристиан не употреблял наркотики, но приторговывал марихуаной, чтобы водить Валери по клубам. Осенью он расширил ассортимент, прибавив к траве амфетамины и героин. Героин оказался некачественным, а запястье Малика – холодным, как замороженная рыба. И тщетно Кристиан нащупывал пульс. Малик умер в общественном сортире. Кристиан плакал, спеша по ночному Парижу. За забором горланили козы. Диарра спрашивал о Франции, Кристиан – о Мали. – Мы заслуживаем лучшей жизни, – сказал Диарра. – Никто не должен жить вот так. Но у сержанта был крепкий дом и задний двор, и мясо на столе, а большинство его сограждан жили в норах. Они купались в грязных водах Нигера, ели из мусорных контейнеров и ждали очередного переворота. Мочевой пузырь переполнился кислым пивом. Хозяин подсказал маршрут, и Кристиан вошел в дом. Туалет был узким пеналом с дырой в полу. Кристиан помочился, смыл за собой, используя ведро. В коридоре его позвали по имени. Он узнал этот голос, доносящийся из глубины дома в безобразном городе, в безобразной стране. Голос принадлежал Валери.
сейчас Валери… Он отдал бы все, лишь бы очутиться в ее прохладной студии, в пяти минутах ходьбы от Сакре-Кер. Он бы сказал: ты права, за колышущейся холстиной реальности воет бездна, ад похож на африканскую деревню. Он бы обнял Валери, утопил лицо в ее волосах и закричал. Квадратные домики из навоза и глины отбрасывали длинные тени. В полдень солдаты пересекли границу деревни, и полдень показывали часы Кристиана сейчас. Секундная стрелка испуганно трепетала в рамках двух черточек. Время остановилось. В аду всегда двенадцать, но это не полночь. Кристиан не мог сказать, как долго мечется по проклятым улочкам, врезаясь в тупики. Он воображал, что за углом поджидают, скаля зубы, мертвецы. Джихадисты с вытекшими мозгами. Малик, который при жизни так робко и белозубо улыбался, но в посмертии наверняка отрастил длинные клыки. Лякомб сошел с ума. Халид сошел с ума и повесился. А Бессо? Репен? Карим? Компас сломался. Ориентация на местности не приносила плодов. Кристиан перевел дух и двинулся вперед. К источнику навязчивого гула.
раньше …навстречу голосу Валери. Кристиан представил девушку с волнистыми каштановыми волосами, она стоит у окна в футболке, надетой на голое тело. И все это было сном: учебка, присяга, Мали, мертвые повстанцы и мертвый Малик на фаянсовом унитазе. Кристиан не покидал Париж, он просто задремал в ванной, сейчас они с Валери будут смотреть какой-нибудь фильм, один из ее любимых ужастиков, «Ребенка Розмари» или «Омен». Валери планировала назвать будущего сына Демьяном, купить для него черную коляску. Словно все муравьи Африки вскарабкались на спину Кристиана и устроили парад. Он шел, как по тонкому льду, боясь провалиться в пучину безумия. Этого не могло быть… и этого не было. Как только он свернул за угол, стало очевидно, что слух обманул его. Голос, дребезжащий, надломленный, не имел ничего общего с голосом Валери. Кристиан переступил порог комнаты, обильно увешанной коврами. На кровати сидела женщина, старуха, с головой укутавшаяся в одеяло. Наружу торчала морщинистая мордочка, приплюснутый нос. Белая дымка катаракты залила круглые глаза. Слепая старуха выпутала из-под ткани руку, скрюченный палец указал точно на визитера. – Кристиан! – каркнула женщина. – Что с твоей тенью, Кристиан? Твоя тень больше тебе не принадлежит? Периферийным зрением Кристиан уловил движение справа. Будто облако мух кружилось в полумраке. Он сместил взор. Мухи были, но не рой, как ему представилось, а всего-то три сонных экземпляра. Они носились вокруг пирамидки, сложенной из булыжников, водруженной на стол. Булыжники удерживали разветвляющуюся палку, концы которой сворачивались внутрь рожками. У подножия пирамиды гнила отсеченная голова сервала. Пасть дикой кошки жутковато скалилась. Муха ползала по зрачку. – Мама, почему ты не спишь? – это Диарра подкрался сзади. Кристиан все таращился на алтарь, на оскаленное жертвоприношение. Мордочка старухи утонула в складках одеяла, спеленатая фигурка качнулась из стороны в сторону, а с ней качнулась по настенному ковру бесформенная тень. Лицо Кристиана размораживалось, как вынутый из холодильника ломоть баранины. На заднем дворе он залпом опустошил бутылку и сказал: – Она позвала меня по имени. Диарра произнес, как ни в чем не бывало: – Я говорил ей, что ко мне придет друг. И упоминал ваше имя. – Та пирамида с рогатиной… Я уже видел такую в Тимбукту. Диарра улыбнулся, но его навыкате глаза с красноватыми белками оставались суровыми, неулыбчивыми. – Девяносто процентов малийцев исповедуют ислам. Девяносто – не сто. – Вы – язычник? – Я чту предков и их традиции. Можете считать меня дикарем. – То есть, кошка – это подношение богам? – Своеобразная защита от теней. Вы не замечали, что тени здесь ведут себя своенравно? Кристиан отрицательно мотнул головой. – Друг мой, – выпученные глаза сканировали гостя. – Не сталкивались ли вы с чем-то, что официальная наука не в силах объяснить?
сейчас В тени эпинара легионер первого класса Карим Лофти потрошил легионера второго класса Люку Репена. Он вскрыл ему брюхо и ковырялся в кишках, вынимая бурые вонючие грозди. Все это было буднично, будто тренировка в лагере, когда один из волонтеров исполняет роль трупа. Просто Репен, худой и лопоухий бельгиец, слишком вжился в роль. Кристиан застыл, потрясенный вонью экскрементов, обилием красного и коричневого. Карим будто услышал бешеное биение его сердца. Повернулся и вытерся предплечьем, размазал кровавую помаду по ухмыляющимся губам. Словно пчелы вокруг улья, вокруг головы Карима летали мухи. Странные черные точки. – Зачем? – в этом слове сконцентрировалась уйма вопросов. Зачем ты вытащил требуху из бедного Репена, зачем ты так смотришь на меня, зачем мы здесь, и где это – здесь? Карим неторопливо слез с трупа и запел: – В далекой пустыне был найден мертвым мой легионер… «Это песня Эдит Пиаф», – узнал Кристиан. Титановый коготь, орудие убийства, скользил между пальцев Карима. Мягко, на цыпочках, как балерина, ступал Карим и пританцовывал, поднимая вверх окровавленные руки. – Его синие глаза были широко раскрыты на мир… – Стой! – Кристиан вскинул «фамас». – Молодой, стройный, красивый, он зарыт в пустыне… – мухи рисовали невидимые спирали, облетая голову Карима. – Остановись! Ни шагу! – С ярким лучом в волосах под горячим песком! На последней строке Карим выбросил в сторону Кристиана кулак с когтем. Раздался выстрел. Пуля угодила безумцу в лицо, разорвала щеку и оплескала мозгами глиняную стену. Карим упал подле своей жертвы. Голубые глаза уставились в небосвод, а мухи исчезли, потеряв интерес к простреленной голове. Шокированный Кристиан уставился на Диарру, невесть откуда взявшемуся в поселке. Одетый в шорты и безразмерную футболку, великан опирался на метровый посох, раздваивающийся подобием гаечного ключа. В правой руке сержант сжимал пистолет. – Идем, – сказал он, опуская оружие. – Я кое-что тебе покажу. Строчки Эдит контуженным эхом звучали в ушах. Кристиан мог сколько угодно искать разумное объяснение происходящему (наркотики, малярийный бред, военный эксперимент), но он принял – еще не осознал этого, но подспудно принял – самую иррациональную из версий. В пустыне взвод столкнулся…
раньше …с чем-то, что официальная наука не в силах объяснить? Диарра смотрел испытывающе. – Нет, – сказал Кристиан. «Да», – подумал он, мысленно телепортировавшись в квартиру-студию Валери. Раннее утро, за окнами дождь скрипит карнизом. Обнаженная Валери посапывает, свернувшись клубочком. Огарки черных свечей и пентаграммы – следы вчерашнего ритуала, дурацкой блажи, которой Кристиан вынужден подыгрывать. Она хотела призвать демона, будто второго мужчину пригласить в постель, неровен час, Кристиан начнет ревновать подружку к обитателям ада. Он трет глаза, пытаясь понять, что именно его разбудило, и чувствует на себе пристальный взгляд. Чувствует постороннее присутствие. Он оборачивается так резко, что позвонки хрустят. У гардероба, напичканного дорогими шмотками, сгорбилась тень. Нет ничего, что могло бы ее отбрасывать, но сама тень есть. Она шевелится. Она смотрит на глупых людей, которые вызвали ее. Кристиан зажмуривается и считает до десяти. – Нет, – пробурчал он, борясь с внезапной изжогой. «Нет, так нет», – читалось в понимающей улыбка сержанта. – Что не так с тенями? – Кристиан постарался придать вопросу шуточный, легковесный тон. – Они не то, чем кажутся, – ответил Диарра.
сейчас Площадь притаилась сразу за углом. Дома кольцом обступали широкую проплешину. Посредине лежала каменная плита, поверженный обелиск в человеческий рост. – У нас мало времени, – сказал Диарра, останавливаясь. – Они близко. – Они? Плита треснула пополам, рассыпалась, как печенье. Диарра провел ладонью по серому камню, по высеченной арабской вязи. Толстый палец указал на лунку, в которой прежде гнездился обелиск. Дыра напоминала скважину почтового ящика. – Они пришли из-под земли. Мы называем их кашта брути – полуденные тени. В исламе их именуют «гули». Кристиан замер над дырой. Она казалась бездонной: брошенный вниз камушек канул в изначальный мрак. У Кристиана заныло в висках. – Как вы узнали про это место? – Ты привел меня сюда, – Диарра скинул с плеч рюкзак и высыпал на землю круглые булыжники. – Нет, это вашу машину мы обнаружили у деревни! Сержант снял бейсболку и протер пятерней бритую макушку. Как огромный ребенок, возящийся на пляже с песком, принялся складывать из булыжников пирамиду. – Полуденные тени, – говорил он, – рыскают по Мали. Мы, колдуны, пытались их прогнать. Мы делали алтари там, где люди встречали кашта брути. И мы искали источник, лоно, которое их породило. Кристиану померещилось, дыра щурится, как глаз. Он испугался, что площадь провалится и воронка засосет живых в преисподнюю. – Нужен был человек, отмеченный темными силами. Тот, кто носит на себе печать смерти, тот, кто видел тьму в любом проявлении. – Мы просто играли! – выдохнул Кристиан. – Мы вызывали дьявола, это была шутка. Диарра мрачно усмехнулся. Пирамида росла. – Я понял, как только тебя увидел. Твоя тень не повиновалась тебе. Кристиан уставился на плоское черное пятно, пролившееся от его ног к плите. Пятно притворялось солдатом, увешенным винтовками. – Я решил использовать тебя, как компас. Я всюду следовал за вашей группой, потому что тьма притягивает тьму, и рано или поздно ты пришел бы к источнику. Но их становилось все больше. Они вселялись в моих братьев и сестер. Кристиан подумал о Кариме, изгваздавшемся в крови бельгийца. – Я позвал тебя в гости, – Диарра всунул посох в груду булыжников, укрепил стоймя. – Я взял пивную бутылку, из которой ты пил. Отколол горлышко и бросил его на карту страны. Горлышко падало в одну и ту же точку в пустыне, всегда в одну и ту же. Диарра отстранился, оценивая результат стараний. Тень скругленных рожек ложилась точно на скважину. Голос в голове инструктировал тоном учителя географии месье Мали: в Африке водятся гепарды, гиены, шакалы, бегемоты, призраки… – Я приехал сюда в надежде запереть кашта брути. Но заперли меня. Коза, которую необходимо было принести в жертву, пропала, когда я отвлекся на миг. Деревня изменилась. Мышеловка захлопнулась, и из нее не выйти. – Чего они хотят? – спросил Кристиан. – Играть нами, как куклами. Быть нами, – Диарра кивнул на обелиск. – Давным-давно колдуны заманили кашта брути в ловушку и запечатали внизу. Они построили деревню, чтобы следить за темницей, но и плененные, кашта брути добрались до своих стражей и свели с ума. Джихадисты рушили памятники, они разрушили обелиск и позволили легиону теней выйти на свободу. Диарра задрал подол футболки, оголяя висящие на поясе ножны, вынул устрашающий клинок. Кристиан отреагировал, вскинув винтовку. – Нам нужна голова, – сказал сержант. – Человеческая тоже подойдет.
раньше Около девяти Кристиан покинул дом Диарры, дом, где изумрудная муха ползала по зрачку сервала. Площадь была забита мотороллерами, напоминающими железных кузнечиков. Эрик Лякомб рассказывал про аджюдан-шефа, который прошел ряд горячих точек, но пытался вскрыть себе вены, узнав об измене подружки. Кристиан был рад, что Валери бросила его до отъезда в Африку. Он сходил с ума, если она пропадала на несколько дней. Он ненавидел дискотеки, но исправно плелся за возлюбленной по клубам. Потакал ей, изумляясь, как богатая, начитанная, изумительно красивая девушка могла выбрать неотесанного мужлана, коим он был, бастардом парижского банлье. Валери окружали высоколобые ботаники, философствующие о смерти, рано или поздно он бы убил одного из них. Выяснилось, что он хорош в этом деле: убивать. Пулей или плохим героином. В последний раз Кристиан видел Валери в их любимом ресторане на конечной «Монмартробюса». Он не стал подходить, смотрел издалека, стиснув кулаки в карманах, как она щебечет о чем-то со стильным брюнетом: о Папюсе ли, Лавее, Полански. Ее дьявол был игрушечным, пошленьким и фальшивым, Валери не заслужила блага быть задушенной в подворотне ревнивым любовником. Кристиан выскользнул из ресторана и растворился в красном свете фонарей. В трех с половиной тысячах километров от Парижа он остановился, разглядывая свою тень. Эфемерный двойник, призрачный спутник, распростерся на глине. Повинуясь порыву, Кристиан поднял правую руку, затем левую, похлопал ладонями. Выдрессированная тень повторила его телодвижения.
сейчас «Помешай ему, – приказывал внутренний голос. – Не дай надругаться над трупами». Но Кристиан молча шел за Диаррой. Спотыкался, но шел. Потому что солнце стояло в зените последние несколько часов. Потому что за хибарами гудел хаос. И только Бастилией для демонов могло являться это место, ничем иным. Затем Кристиан увидел тела. Они лежали в тех же позах, вот только ни у Репена, ни у Лофти не было головы. Мухи вились над пеньками шей. – Нет! – отшатнулся Диарра. Заметался по проулку, панически соображая, уставился на легионера. Их разделяло два метра, и Кристиан различил муху, которая выбралась из-под правого века Диарры, проползла по глазному яблоку и пропала в слизистой. – Вот черт! – Кристиан направил ствол в грудь сержанта. – Нет-нет-нет, – тот выхватил пистолет. Тыча оружием в хибары, закричал: – Меня зовут Сулейман Диарра! Мою тень зовут Сулейман Диарра! Меня зовут… Грудь сержанта взорвалась лоскутьями ткани и кожи. Пули изрешетили туловище, отбросили Диарру к глиняной стене. Ошарашенный Кристиан направил винтовку в проулок.Ему навстречу беззаботно шагал Бессо. На ходу Бессо докладывал в шлемофон: – База, у нас четыре трупа. Боевик устранен. Ждем вертолет. Бессо приблизился, тень соскользнула с него, как черный шелк. Мухи облепили лицо лейтенанта, они пировали, собирая влагу из пор. Глазницы закупорили две серые жужжащие кучки. – Убей его, – просипел Диарра. Кровь текла по подбородку сержанта. Простреленные легкие свистели. Бессо посмотрел мушиными глазами на «фамас» в руках подчиненного. Вскинул удивленно брови: – Легионер второго класса Линард! Немедленно… Договорить помешала пуля, раздробившая лейтенанту лоб. Кристиан опустил штурмовую винтовку и разрыдался.
раньше На утреннем брифинге раздали задачи и сформировали боевые группы. Бронетранспортер ехал мимо ржавых дорожных щитов и расстрелянных рекламных баннеров. Дохлый варан пометил кровью дорогу. Эрик Лякомб черкал ручкой в блокноте, шевелил губами, сочиняя рифмы и панчи. Карим Лофти поигрывал титановым когтем. «ВАБом», совместным детищем «Рено» и «Савье», управлял Люка Репен. Он получил сигнал с базы: дрон засек в пустыне подозрительный автомобиль. – Меняем курс, – сказал Бессо. Тринадцатитонная махина покатила по бездорожью. Автомобиль – пикап Тойота – стоял у деревушки, напоминающей маленькую крепость. Высокие древние стены оберегали дома от посторонних глаз. Легионеры спешились. Ветер сыпал песчинками в раскрытые дверцы пикапа. Бессо продиктовал по рации номера Тойоты. С «фамасами» наготове бойцы двинулись к арочным воротам. Плотно скученные дома источали жар. Тьма в распахнутых настежь дверях словно бы закипала. Кристиан подумал, что уже бывал в этой деревне – проходил точно такой же уровень в каком-то шутере, только там по улицам носились куры, а здесь не было ни кур, ни людей. Он мысленно размял пальцы над умозрительной клавиатурой и шагнул в проулок.
сейчас По традиции, вероятно, берущей начало в Алжире, офицеры легиона отдавали часть приказов на арабском. И у Кристиана, идущего под яростным солнцем, звучали в голове арабские слова: «Шуф мешта!» – «Наблюдай за домами». Мрак в хибарах был материальным, плотным и алчным. Он поедал глупых ящериц и тек вслед за чужестранцем ручейками теней. «Шуф мешта». Кристиана клонило в сон. От теплового удара поднялась температура. Губы растрескались и кровоточили, но он был жив, в отличие от товарищей, от Диарры. Возможно, его ждет трибунал, военная прокуратура решит, легионер сошел с ума и перестрелял сослуживцев. Его запрут в клетку, какое счастье: охраняемая клетка реального мира. Кристиан отшвырнул каску, сбросил бесполезный бронежилет. На перекрестке восседал обезглавленный труп, татуировки помогли идентифицировать Эрика Лякомба. «Я остался один», – подумал Кристиан. Зашипела рация, внушая ложную надежду. Прорезалась музыка, что-то электронное, и далекий голос: – Алло! Это Малик! Ты куда пропал, брат? Прикинь, я вырубился на толчке. И теперь не могу выйти из туалета! Спустись ко мне, тут чертовски жарко, спустись ко мне в ад, я тебя жду! Кристиан метнул рацию в оконце хижины и продолжил путь. В полдень он добрался до площади. Он подумал, что парижские сады пылают сейчас осенним огнем, прохлада обдувает лица пешеходов, а по утрам туман окуривает башню Монпарнас. На террасе кафе Валери улыбается, внимая пространным речам друзей, и вдруг замирает. Вянет улыбка. Она представляет Африку, что-то подсмотренное в экзотических фильмах. Интересно, та тварь, навестившая Кристиана в предрассветных сумерках, она пометила и Валери? Чтобы не упасть, Кристиан ухватился за рогатину. Пошатываясь, встал у алтаря. Поднял взор к раскаленному желтку в зените. Он улыбнулся, воображая собственные похороны: траурный кортеж, гробы накрыты флагами, все шестеро бойцов посмертно становятся кавалерами ордена Почетного легиона. Президент Макрон выступает перед Hôtel des Invalides. Жгучая слеза прокатилась по щеке Кристиана. Он увидел детей: черные силуэты в тени хибар. Некоторые стояли на четвереньках, гребли пальцами песок. Точно псы, готовые атаковать. Кристиан вытряхнул рюкзак. Головы застучали о землю, как тыквы. Он перестраховался, обезглавил и Диарру, и лейтенанта. Кристиан расположил головы у алтаря и сел рядом. Деревня гудела хищно. Черные дети кружились вдоль растрескавшихся стен. – Меня зовут Кристиан Линард, – язык еле ворочался во рту. Жирные мухи заполняли его тень, каждый сантиметр, образовывали человеческий силуэт на бесплодной земле. Кристиан стиснул рукоять ножа, судорожно вдохнул воздух, отравленный зловонными миазмами. Муха щекотала лапками его загривок. – Мою тень зовут… Кристиан забыл имя своей тени. Он нес вахту в пустом поселке в стране Мали. И тысячу лет длился полдень.
Елена Щетинина Вустричный бог
Был святочный вечер, и шел снег, и сверкали звезды на ясном, чистом небе. Мишке казалось, что там, в вышине, прошлись небесные дворники – и расчистили даже самые махонькие клочки туч. Он закидывал голову, чтобы пересчитать звезды и, как обычно, сбиться на третьем десятке – и мелкие, как мука, снежинки падали ему в раскрытый рот. Мишка глотал их, представляя, что это и есть мука и что она наполняет его живот, смешивается с выпитой водой – и превращается в тесто, сытное, плотное тесто, которое набьет ему желудок и утолит голод. Но голова его кружилась, а ноги подгибались – и кишки сворачивались в тугой болезненный комок. Не было даже сил попрошайничать – кидаться в ноги важным господам в богатых шубах и тянуть жалостливое «Подааааайте». Мишка кутался в лохмотья, оборачивая дважды вокруг худого тельца пальто Грихи Рябого, умершего третьего дня от чахотки, ноги зябли в калошах на босу ногу – и тоже слишком больших, чужих, Марка-скрипача, помершего от пьянства в прошлом месяце. – Подаааайте, – прохрипел он в небо. Звезды, конечно же, молчали. – Что тебе подать? – раздался над ухом вкрадчивый голос. Мишка вздрогнул и отшатнулся. Двое господ – словно одного лица: молодые, с щегольскими бородками клинышком и в золоченых пенсне – стояли и улыбались. – Копееечку, – сипло сказал Мишка, осторожно пятясь. Рассказывал, рассказывал старый Марк-скрипач о таких молодых господах, что уводили с улиц нищих детей и творили с ними непотребное! И ведь не разбирали, кто перед ними: девчонки, али мальчишки, тьфу! – Копеечку на хлебушек. Ради праздника. Подайте… – Ты голодный, что ли? – прищурился правый господин. Левый усмехнулся, обнажив крупные, как у лошади, белые зубы. – Голодный, барин, – признался Мишка, судорожно размышляя – разговаривать ли с этими странными господами или бежать прочь, пока есть силы? – Со вчерашнего дня крошки во рту не было! – Ну что же, Иван Викентьевич, – повернулся правый господин к левому. – Голодный мальчик. Все, как вы заказывали! – Однако, однако, Владимир Христофорович, – закачал головой левый господин. – Истинно, в праздник все наши желания исполняются. – Ну так что, Иван Викентьевич, готовы исполнить сказанное? – Я от своих слов, Владимир Христофорович, не отказываюсь! Мишка сделал еще шаг назад, вспоминая – там, за спиной, есть арка, в которую он может нырнуть – и потом бежать, бежать, бежать не оглядываясь, от этих странных и жутких господ с бородками клинышком и в золоченых пенсне. Но стоптанная, не по размеру калоша скользит, выворачивается – и Мишка падает навзничь, глухо ударяясь затылком.Как две тусклые луны над ним появляются лица молодых господ. – Очень голодный мальчик, – замечает правый господин. – Великолепно голодный мальчик, – поддакивает господин левый. Мишка смотрит в ясное, заботливо вычищенное небесными дворниками небо, в невероятно белые звезды, которые, наверное, эти же дворники начистили мелом – чтобы ярче сверкали – и молчит. – Мальчик, ты хочешь вкусно поесть? – спрашивает правый господин. «Господи Исусе Христе, – думает Мишка. – Пусть они ничего дурного со мной не сотворят». – Бесплатно, – уточняет левый господин. – И еще полтинник получишь. «Господи Исусе Христе, помилуй мя грешного, в такой-то святой праздник – такое искушение». – Да ладно полтинник, – подхватывает правый. – Рубль. Рубль хочешь сверху? «В руки твои препоручаю себя, Господи…» – Хочу! – говорит Мишка и резко садится. От боли в затылке начинает мутить, перед глазами пляшут разноцветные мушки – но он хочет этот рубль, хочет есть, хочет! – Вот и прекрасно, – хором смеются молодые господа и поднимают Мишку подмышки.
* * *
В трактире тепло, и Мишка тотчас же соловеет. Он медленно скользит взглядом по висячим лампам, по деревянным столикам, по картинкам на стене – как они называются, оле… оли… олигра…? – и чувствует, как его веки наливаются свинцовой тяжестью. Он пытается не клевать носом – и вслушивается в то, что ему объясняют молодые господа. – Мы, брат, поспорили, – постукивает пальцами по столешнице правый. – Ты ничего такого не подумай, спор серьезный и даже я бы сказал, научный. – Естественно-научный! – поднимает палец левый, изучая меню. Мишка кивает, облизывая пересохшие губы. Снег в галошах растаял и ему кажется, что его ноги опущены в холодные лужи. – Так вот, – продолжает правый, тыкая левому в меню на какую-то строчку. – Остендские, думаю. Ты, как мы понимаем, человек в разносолах не искушенный, корку хлеба за деликатес почитаешь, так? Мишка опять кивает, не сильно заботясь, о чем идет речь. Его обещали покормить и за это дать рубль – больше его ничего не интересует. – Вот мы и поспорили, сможет ли человек неопытный оценить незнакомое лакомство – и съесть его с таким же удовольствием и столько же, сколько человек знающий. Мишка снова кивает. Еда и рубль, рубль и еда – вот и все, что ему надо. – И ежели такое произойдет, то будет означать, что человек благородный и человек самого низкого происхождения в кулинарных науках суть одно и то же. Кивок, кивок, кивок. – Но рубль! – уточняет правый. – Только в том случае, если съешь все. Так как это исключительно моей волей тебе вознаграждение. А полтинник – от Ивана Викентьевича, если сдашься. Усвоил? Кивок, кивок, кивок. Рубль, конечно же, лучше полтинника. Мишка сделает все, чтобы получить рубль. – Чудесно, – левый машет рукой, подзывая полового. – Тогда и начнем, пожалуй.* * *
Мишка пытается прижать к небу упругий комок – но тот никак не поддается, словно специально ускользая от языка. Тогда он зажмуривается – и судорожно дергая челюстью, пытается проглотить. Это получается лишь с третьей попытки – комок на мгновение застревает у Мишки в горле, заставляя хрипло застонать, – а потом проскальзывает в живот. Во рту стоит вкус тины, глины – и почему-то мокрых тряпок. Мишку чуть не выворачивает наизнанку – но перед глазами заманчиво маячит рубль, и поэтому он лишь сцепляет зубы и остервенело шмыгает носом. Господи Исусе Христе, помоги. Это был только первый комок – а во льду лежит еще дюжина без одного: словно загустевшие на морозе чахоточные харчки Грихи Рябого. Мишку снова передергивает. – Да, брат, – ухмыляется правый господин. – Это тебе не кислые щи. – Запить бы… – сипит Мишка. – Запить – хорошее дело, – соглашается господин. – Как там дорогой моему сердцу Антоша говорил? «От водки пожжет, подерет тебе в горле, а как проглотишь устрицу, в горле чувствуешь сладострастие»? – Именно! – кивает левый. – Да, Иван Викентьевич, сла-до-страсти-е! – Однако же, Владимир Христофорович, ежели мне память не изменяет, на питье мы не договаривались! И так поиздержались изрядно! – Ай, шалун, Иван Викентьевич, – грозит правый пальцем левому. – Чуете, что проигрываете! Ничего, не разорит вас этот маленький спор. Но так и быть, уговор есть уговор – про питье речи не было. Мальчик, кушай так. Вот, из раковинки отпей, живее пойдет. Мишка запрокидывает голову и вливает из пузатой раковины, в которой когда-то лежал злополучный комок, в рот тягучую прозрачную, отдающую плесенью, жидкость. Становится только хуже. Горло обволакивает болотистой жижей, запах тины начинает щекотать ноздри изнутри. Он зажмуривается, стараясь не думать, что же он ест – такое скользкое, омерзительное, странно трепещущее, когда касается языка. И продолжает вкладывать в рот, дергать челюстью и глотать. Вкладывать в рот, дергать челюстью и глотать. Вкладывать, дергать – и глотать. Наконец он доедает – если это можно вообще назвать едой – последнее. Правый господин заразительно смеется, левый кривится. Мишке суют в руку рубль – и выпроваживают из-за стола.* * *
– Что я ел? – Мишка хватает шустрого полового за рукав. Тот оборачивается. Это мальчишка чуть постарше Мишки, черноглазый, востроносый, с обильно напомаженными курчавыми волосами. – Дык вустрицы ж! – хихикает, глядя на Мишку. – Не признал, что ли? Мишка мотает головой, прислушиваясь к своему брюху. – Ну брат! – половой откровенно смеется над глупым оборванцем, который и сам не понял, что сожрал. – Вустрицы, брат, это такое блюдо, которое не всем дается! – Так что это? – тихо спрашивает Мишка, чувствуя, как по спине начинают скрести коготки страха. – Постное али скоромное? Мясо, рыба, фрукт какой? – Ой, брат! – половой всплескивает руками и оглядывается – не требуется ли он сейчас кому – а потом гордо возвещает: – Вустрица – это не мясо, не рыба и не фрукт! – А что? – упавшим голосом шепчет Мишка. – Неужели… человечина? – Хуже, – хихикает половой. – Это гад такой морской. И едят его… – смуглое лицо с вострым носиком приближается вплотную к Мишкиной веснушчатой роже. – … живьем! – Что? – Мишка отшатывается и хватается руками за брюхо. Теперь он понимает, что же такое билось и дрожало у него во рту! Безбожное дело – есть кого-то живьем! Половой мстительно усмехается: этот уличный оборванец налопался дорогущих деликатесов, на которые сам половой может только облизываться, – ну ничего, теперь эти вустрицы оборвышу горлом встанут! – А еще… – половой понижает голос до шепота. – Они пищат, когда их ешь! Богу своему вустричному молятся, чтобы тот когда-нибудь покарал тех, кто его деток малых живьем лопает. Таких, как ты! Мишка кричит в ужасе и, зажимая уши руками, бежит прочь. Половой заливисто хохочет ему вслед – пока не получает подзатыльник от хозяина. И никто не замечает, что за их разговором наблюдает еще один – третий – молодой человек с бородкой – пусть и не настолько щегольской – и в пенсне – пусть и не позолоченном.* * *
Мишка плетется по заснеженной улице. Рубль, зажатый в кулаке, жжет как уголек из костра. – Вустричный бог, – шепчет Мишка. – Вустричный бог, вустричный бог. Он готов прямо сейчас, тут, посреди улицы, пасть на колени и начать молиться – но он не знает такой молитвы, которая пришлась бы по вкусу вустричному богу. И нет, нет, как он вообще посмел сейчас заговорить о вкусе – он, который только что сожрал деток малых, деток невинных, деток пищащих! Мишке кажется, что все было именно так – и трепетали вустрицы у него на языке, и пищали, и даже кричали что-то человеческим голосом – а он, одурманенный мечтой о рубле, под сверканием золоченых пенсне, не слышал этих воплей, глух был и ушами и сердцем. – Господи Исусе Христе, – бормочет Мишка. – Помоги. Помоги чаду своему глупому, неразумному. Ты же знаешь, наверное, вустричного бога. Ты же всех знаешь. Скажи ему, что не специально я. Не хотел я. Не желал. Уговорили меня. Совратили. Искусили, как истинные демоны. Но Иисус Христос не слышит его – Мишка ощущает это всем сердцем. Сейчас, здесь, царствует вустричный бог – и он придет. И покарает. Мишка судорожно оглядывается. Ему кажется – или небо больше не такое ясное и чистое? И звезды потускнели – словно их затянула сизая плесень? Верно то проделки вустричного бога! Он идет за ним! Он идет карать – и не миловать! Мишка съеживается. Вода в галошах снова начинает леденеть – и он уже почти не чувствует ног. Но все равно, оступаясь и поскальзываясь, бежит в подворотню, где скукоживается в три погибели и сует пальцы в рот. Он же не жевал их! Не жевал! Он глотал их живьем – и может быть, сейчас сможет выблевать все! Живыми, как есть! А потом соберет их – и вернет вустричному богу! Мишкино тельце содрогается в спазмах – и выходит первая вустрица. Она лежит на снежке, жалкая и сморщенная, как кусок языка мертвеца. Еще один мучительный спазм – и выходит вторая. Потом третья и четвертая. За Мишкиной спиной что-то начинает шевелиться и ворочаться. В нос ударяет тиной и болотной жижей, по спине скользит мокрое и липкое. Мишка тихо ахает – но продолжает извергать из себя вустриц, остервенело тыча пальцами в горло. Под ногтями у него кровь, кровь на языке и губах – но выходят уже пятая и шестая. Седьмая и восьмая идут тяжело, с желчью, грудь раздирает кашель, брюхо крутит в агонии. Вустричный бог ползает за Мишкиной спиной, тяжело и зловеще вздыхая. Он ждет, ждет, ждет, когда Мишка вернет ему его детей – всех, до единого – и тогда, может быть, и простит глупого, неразумного мальчишку! Девятая и десятая. Мишка содрогается в приступах безудержной пустой рвоты слизью и слюнями, цепляется за стену в попытках не упасть. Вустричный бог замирает за спиной – ему не нравится, что возврат так затягивается. Одиннадцатая. – Сейчас, – шепчет виновато Мишка. – Сейчас, сейчас… Двенадцатой нет. Мишке кажется, что он уже весь вывернулся наизнанку, как старая рваная рукавица – но двенадцатой нет! Она пропала. Мишкино брюхо, голодное и жадное, успело пожрать ее! – Нет… – тихо шепчет Мишка, упираясь горячим лбом в холодную стену. Он боится оглянуться. Боится сказать в лицо отцу миллионов, миллиардов вустриц, что одно его дитя все-таки сожрано. Вустричный бог все понимает – и ярится. Он хлещет по стенам, шипит и плюется Мишке в затылок холодной и едкой слюной, выкручивает ему суставы жестокой ломотой, вытягивает нервы через давным-давно онемевшие пятки. «Господи вустричный бог, – бормочет Мишка, цепляясь за стену из последних сил, так и не решаясь оглянуться. – Помилуй мя, грешного. Ибо не ведал я, что творил. Ибо…»А потом Мишка поскальзывается и падает – на этот раз ударяясь затылком неожиданно громко и хрустко. И звезд не видно – над головой лишь каменный свод подворотни, слепой и безучастный.
– Однако, Владимир Христофорович, – вдруг пробивается в угасающее Мишкино сознание. – Кажется, это тот мальчик, который только что участвовал в нашем споре. – Да, вы правы, Иван Викентьевич. – Кажется он совсем плох, верно? Ох, и метель же началась, даже сюда заносит! Мокрая, жуть! – Если совсем не умер. Странно, свежайшие же были. – А что это означает? – Что? – Что кажется, я выиграл! – Отчего ж, Иван Викентьевич? – Ну так впрок мальчику не пошло – значит, выигрыш за мной. – В ваших словах есть логика, конечно, Иван Викентьевич, но давайте ее обсудим за стопочкой смирновки. – Во льду? – Естественно! – Ах, умеете вы, Владимир Христофорович, настоять на своем. Идем же!
И опускается тяжелая, плотная, твердая темнота – словно вустричный бог закрывает створки всего и вся.
Из письма А.П. Чехова Н.Н. Оболонскому 5 ноября 1892 г. Петербург. …Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Николай Николаевич! Я хожу в Милютин ряд и ем там устриц. Мне положительно нечего делать, и я думаю только о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи…
Олег Савощик Черный человек
За такие деньги коктейль должен быть повкуснее. Морщусь от горечи во рту и ставлю стакан на место. Полумрак зала едва вмещает двадцать человек. На полках лежат игровые приставки, на стенах висят огромные плазмы. Сейчас по ним беззвучно крутят ролики с «красивой» жизнью: солнечные пляжи, белоснежные яхты и танцующие девочки в купальниках. Вечерами здесь собирается «полабать в плейстейшн» и покурить кальян золотая молодежь, но днем по будням, дважды в неделю, помещение занимают студенты, которые даже не могут позволить себе выпивку из бара, престарелые франты в потертых пиджаках, да прочая недобитая интеллигенция. «Поэтический круг» – так они себя называют. Выходят из-за столов с зажатыми в потных ладошках смартфонами или читают срывающимся голосом по памяти свою «томную, дохлую лирику», как выразился бы классик. Сплошь любовные излияния или жизнеутверждающие, до пошлости пропитанные детской наивностью, неуместным сарказмом… Вот скачет и кривляется, со скрипом пытаясь выдавить несуществующую артистичность, девочка с косичками. Колечко в ее носу при тусклом освещении похоже на соплю. А вот парнишка в растянутом свитере бренчит по струнам, даже не стараясь попадать в ноты. Долго, наверное, подбирал два аккорда под свои вирши. А вот эта, с волосами ниже поясницы, вроде ничего. «Кто-то играет со смертью,
Кого-то она пугает,
Кто-то ей молится с детства,
Кто-то же проклинает…»
* * *
Я никогда не забуду ту ночь. Все началось со звонка, который меня разбудил. Это повторилось в третий раз за последние полгода. Всего одна цифра рознит номер круглосуточной психологической поддержки с моим. Какая ирония: доведенному до отчаяния так легко промахнуться дрожащим пальцем мимо нужной кнопки. Раньше я их просто посылал куда подальше, говорил, чтобы разули глаза, и набрали правильно. Но в ту ночь пьяный мужской голос из трубки не дал вставить мне ни слова. Звенел в моей сонной черепушке, как чайная ложечка в граненом стакане. Дзынь-дзынь-дзынь… Он все ныл и ныл, что-то о своей жене, о детях, о деньгах, конечно. Среди всхлипов и не разобрать было, а я даже не старался вникать. Взрослый мужик, судя по баритону, плакался мне в трубку, как мальчишка. Возможно, будь на линии девчонка с дипломом какого-нибудь гуманитарного говно-ВУЗа, она бы смогла подобрать слова. Остановить этот нескончаемый поток. Но в ту ночь мужик ошибся всего одной кнопкой и попал на меня. – Господи, да всем насрать, – сказал я устало и удовлетворенно отметил тишину в трубке. Как отрезало. – Как твоя баба терпела все эти сопли, а? Эй, маленькая сучка? Открой окно, душнила, и проветри. И лучше реши это по-быстрому, не донимай людей. Несколько мгновений я вслушивался в тишину на линии. Следом донеслось шорканье, похожее на неуклюжие шаги и стеклянный звон, будто упала бутылка со стола. Мое терпение кончилось, и я нажал на кнопку сброса. Заснул с улыбкой на губах.…О мужике, выпрыгнувшем в окно, написали в утренней сводке новостей. Бизнесмен, некий Борис, разорился во время пандемии, жена ушла и забрала детей. Пока я читал новость, холод медленно касался пальцев, будто пробуя меня на вкус. Он? А что если выйдут на меня? Посмотрят последние вызовы, запросят запись разговора у оператора… Они могут? Даже если нет, вопросов не избежать. Пока мысли набивали голову колючей стекловатой, холод поднимался выше по рукам, обвил локти, коснулся плеч. Но ни через неделю, ни через месяц, меня никто не спросил. Похоже, на мужика даже после смерти было всем насрать. Я лишь озвучил общее мнение. Холод отпустил. С тех пор его сменило непривычной тепло под самой грудиной, так похожее на голод.
* * *
Старая кляча вместо чтения стихов неуклюже начинает рекламировать свои сборники. Перепутала, видимо, творческий вечер с презентацией. Прокуренным голосом зачитывает содержание каждой книженции в мягком переплете, водит пожелтевшим ногтем по пестрым обложкам и рассказывает, как долго она добивалась именно такой цветопередачи и именно таких, вырвиглазных шрифтов. Народ начинает зевать, а я напоминаю себе, почему торчу здесь вместо покера в каком-нибудь «Золотом Лисе». Поглядываю через плечо на девочку в майке с «Риком и Морти», она сняла капюшон, и выцветшие розовое волосы рассыпались по хрупким плечам. Дрыщ не убедил ее уйти. Хорошо. – Извиняюсь, а вы не пробовали обратиться в издательство, а не в типографию? – Я поднимаю руку и сразу же добавляю на удивленный взгляд. – Не поймите неправильно, я слышал, что крошечные тиражи за свой счет лишь тешат самолюбие автора, а потом пылятся аккуратными стопочками на балконе или в гараже. Вы, как опытная, уважаемая поэтесса, пробовали издаться по-настоящему? Старуха дергается и кривит губы, будто оса ужалила ее в лицо. В яблочко! Она бормочет что-то невнятное про современных жадных издателей, и про то, что искусство не измеряется деньгами, и еще какую-то скукоту, спешно запихивая сборники себе в сумку. До меня доносится неодобрительное шипение той самой девчонки с соплей под носом. Но я лишь улыбаюсь короткому смешку за спиной.… Горькая дрянь из стакана допита, и я уже думаю, что в очередной раз уйду ни с чем. А потом выходит она. Розоволосая подруга дрыща. И с первых строк внутренний жар сжигает остатки кислорода в легких. Я не шарю в поэзии, во всех этих ямбах и хореях. У меня нет чувства ритма, я не знаю, за что ругают отглагольные рифмы. Но я слышу интонации и слова, которые впиваются в меня раскаленными жалами. Никто из этих щенков не может написать про любовь по-настоящему, ведь для этого нужно выбраться из детского, отравленного гормонами мирка, уничтожить в себе половую истому. Все обрести и все потерять. Мало кому доступно писать про смерть, избегая пошлости. Лишь тем, кого она коснулась, приобняла за плечи. Тем, кто не может забыть об этой встрече, грезит ею, одновременно обливаясь холодным потом. Девочка в мультяшной майке может. Еще как.
… Я жду ее около гардероба. – С меня коктейль, – говорю, заглядывая в глаза. – Как и обещал. Ее полурослик топчется в паре шагов позади. Делает вид, что разговаривает по телефону. Она долго не может решиться. Но не отказывает сразу, а значит – попалась. Я продолжаю нахваливать ее стихи. Чтобы ни говорили, а похвала – самый надежный путь к молодым сердцам. Сравниваю с творчеством ранней Ахматовой. Не знаю, почему ранней, звучит солидней. Добавляю пару крылатых фраз Вольтера, на языке оригинала, естественно. Девочка все чаще поднимает глаза от своих кислотно-желтых кед, искорки интереса подсвечивают ее зрачки. Она соглашается на коктейль. От дохлика отделываемся быстро, он мямлит что-то, опустив голову. Давай домой, к мамке!
Девушку зовут Катей. Разговор за барной стойкой плавно переходит от искусства к путешествиям. Сыплю интересностями из своих поездок по Азии и Европе, делюсь планами заскочить в Штаты, как снимут с границ карантин. Стаканы с коктейлями пустеют и сменяются новыми. Иногда девушки действительно любят слушать больше, чем пиздеть. Если знать, что говорить и как. Главное, не забыть потом выслушать в ответ. Тепло не отпускает меня, концентрируется в одной точке, превращаясь в изжогу. Я пользуюсь моментом, когда Катя выходит в уборную, и поворачиваюсь к бармену. – Ну что, каково оно в тысяча девятьсот четырнадцатом-то? Император, поди, здравствует? Парнишка в белоснежной рубашке с закатанными рукавами непонимающе пялится на меня. – Я спрашиваю, у нас снова сраный сухой закон? – Улыбка застывает на моем лице оскалом. – Еще раз разбавишь мое бухло или не дольешь не дай бог, я позову твоего менеджера, и мы вместе поищем тебе новую работу. Не дожидаясь реакции, поворачиваюсь к вернувшейся Кате, улыбаюсь. Изжога неохотно затухает. Ненадолго, знаю я. Мы переходим к шотам. Деньги трачу легко, но стараюсь не придавать этому помпезности. В таких вещах подкупает небрежность. Алкоголь развязывает Кате язык, теперь ее очередь распинаться. Я узнаю про отчима – распускающего руки мудака, про отчисление из меда, переезд в столицу без поддержки и с дохлыми сбережениями, что остались от подработки официанткой и дедушкиного подарка на совершеннолетие. Банальная фабула, да и чему удивляться, если все дорожки к смерти уже давно протоптаны. Рукав Катиной майки задирается чуть выше, и я замечаю несколько выпуклых полосок на запястьях. Улыбаюсь своим мыслям. В принципе, на сегодня мне достаточно, леску нельзя натягивать слишком резко. Но Кате впервые за вечер по-настоящему весело, она смеется невпопад и чуть не проливает последний шот себе на колени. Я предлагаю поехать ко мне. В голове слегка гудит после выпитого, и лучше бы вызвать такси, но щегольнуть тачкой сейчас – значит закрепить эффект. Благо, ехать совсем близко. В просторном салоне Катя, кажется, даже на миг трезвеет и восхищенно осматривается. Да, милая, запах новенького «Лексуса» запоминается надолго.
… Темная фигура отлепляется от придорожных кустов буквально в сотне метров от моего дома и бросается под колеса. Бью по тормозам, одновременно выкручивая руль, в ключицу впивается ремень. Хваленые японские тормоза заставляют машину замереть практически сразу, повезло еще с пустой дорогой. Мои руки вцепились в руль до побледневших костяшек, на миг даже показалось, что не смогу разжать похолодевшие пальцы без посторонней помощи. Тело бросило в жар. Рядом, щурясь, испуганно озирается Катя – похоже, она успела прикорнуть на теплом сидении. – Все нормально. Дебил какой-то влез… – отвечаю на ее вопрос, поглядывая в зеркало заднего вида. Туда, где никого нет.
* * *
Второй у меня была Надя из Гродно. Или Гомеля? Вечно путаю. Я нашел ее на сайте для анонимных неудачников под ником «GhostWriter». Не знаю почему, но сразу понял – с ней все получится. То ли по тому, как она тянулась к адекватному общению, вдали от залитых помоями общих чатов, словно побитая собака к ласковой руке. То ли после ее стихов: корявых четверостиший без претензий на глубину, но порой с настолько меткими, колючими строчками, что поневоле перечитываешь по несколько раз. Надя не умела писать стихи, но умела говорить о смерти. Впрочем, за несколько месяцев общения мы перескакивали с темы на тему, как те парочки, что часами могут ворковать о чем угодно, пока не сядут батарейки. Я никогда не видел Надю, она так и не решилась отправить мне фото, стеснялась. Но засиживаясь до утра перед экраном, я и так узнал о ней достаточно. О проблемах с семьей, панических атаках и курсе антидепрессантов тоже знал. С каждым днем она раскрывалась мне все больше. А я, даже давая напиться жаждущему, всегда помнил, что стакан остается в моей руке. И когда однажды Надя написала «я тебя люблю», безо всяких вступлений, не добавив ни одного смайла, я, улыбаясь, почувствовал, как в ладони хрустнуло невидимое стекло. Я не стал отвечать и пошел варить себе кофе. Постоял на балконе, покурил. Мне нравилось представлять Надю в тот момент, как она мечется по комнате, каждые несколько секунд подскакивает к компьютеру, чтобы обновить страницу, капельки пота блестят на кнопках мыши… Выждав минут двадцать, я вернулся к клавиатуре. «Сорян, но мне сейчас не до чьих-то бед с башкой. Девушки со справкой такое себе. Сама понимаешь». Дожидаться ответа не стал, сразу удалил свой аккаунт и всю переписку. Вернулся лишь через две недели, чтобы убедиться: Надя больше не выходила в сеть, и никто из общих знакомых по чату не знал, куда она пропала. Мне нравилось фантазировать, что она с собой сделала. Тепло внутри будоражило, кипятило кровь, опускалось волнами приятной дрожи к паху, растекалось по ногам. Иногда мне снится, как Надя стоит на пустом перекрестке, смотрит навстречу приближающейся фуре, и тяжелый гул, все нарастая, лупит по ушам… После таких ночей я просыпаюсь особенно отдохнувшим.* * *
Хожу между столами, пряча руки в карманы брюк. Менеджеры поворачиваются на офисных стульях, ловят каждое слово, каждое движение мускула на моем лице. Вот они, мои цепные псы, мои акулы! Не все, конечно… Нависаю над стажером. – Почему ты положил трубку, Вадим? Он вжимает голову в плечи, растягивает слова, будто сожрал пачку жвачки зараз. – Что? – Прикладываю ладонь к уху. – Громче, Вадик! Ты с клиентами тоже так мямлить собираешься? Ме-ме-ме… Что говоришь? Клиент сказал, ему не интересно? Надо же. А ты спросил, что именно ему не интересно? Дополнительный доход? Стажер мотает головой. – А что ему интересно тогда, спросил? Впахивать на дядю интересно? Считать копейки, унижаться перед банками за издевательские кредиты интересно? Это спросил? Вадик опускает глаза. Я поворачиваюсь ко всем. – Не бойтесь разговаривать с клиентом. Больше вопросов! Достаньте уже головы из задницы и не бойтесь быть жесткими там, где нужно. Говорит, нет денег? Пиздит! Гляньте, какие тачки ездят в центре, и каждый скажет, что у него нет для вас денег. Хотите такую же тачку? Вам всего-то и нужно, что достать бабло из его кармана и положить в свой. Нищеброд живет на пенсию бабушки? Хорошо, это тоже заберите! Вы брокеры, мать вашу! Мы имеем процент всегда, в наваре наш клиент или рынок его поимел. Так пользуйтесь этим! Еще раз услышу, что кто-то кладет трубку раньше клиента – вылетите нахрен из моего офиса! Не умеете с людьми общаться, марш разгружать коробки. Все ясно? Команда отзывается единым гулом. Я удовлетворенно смотрю на часы: из пятнадцати минут перерыва десять забрал, а за оставшиеся пять невозможно спуститься с двадцать седьмого этажа, покурить и вернуться обратно. Хорошо, значит, меня запомнят. Выхожу из офиса, вспоминая Катю. Скучный секс и пробуждение под звон посуды на кухне. Ненавижу, когда кто-то копается в моих вещах или открывает мой холодильник. Но она приготовила завтрак, а это хороший знак. Я подметил, что омлет подгорел, и не притронулся к тарелке. Объяснил, как добраться до ближайшего метро прежде, чем успел натянуть штаны. Но прошло уже два дня, пора напомнить о себе. Качнул в одну сторону – качни в другую. Уже держу телефон в руках, когда замечаю через окно мужика на балконе противоположного здания. Он перелезает через перила и замирает, глядя вниз, а я замираю вместе с ним. Мужик поднимает голову и, кажется, смотрит в мою сторону, хоть с такого расстояния меня нельзя заметить. За минутой течет минута, пока в голове складывается правдоподобная, убедительная картинка. Легкие начинает щипать от недостатка кислорода. – Давай, – выдыхаю едва слышно. Мужик делает шаг и летит вниз. Парковка внизу забита машинами, грязно-белый фургон мешает разглядеть место приземления, но выжить с такой высоты нереально. Я колочу по кнопке лифта. Быстрее, ну! Обычно мне нравится ехать в переполненной кабине. Нравится думать, что стоящие так близко даже не подозревают, кто рядом с ними. Кому они придерживают двери, с кем обмениваются дежурными приветствиями, кого случайно толкают плечом или наступают на ногу. Они едут, погруженные в свои мысли и заботы, а я могу разрушить их жизнь в любой момент, просто начав разговор. Мне это под силу. Ведь если человек силен настолько, насколько сильна его темная сторона, то я самый страшный ублюдок в этом лифте. Но сейчас я с нетерпением расталкиваю медлительные туши и выскакиваю в холл, а затем и на улицу, чтобы увидеть. Пока зеваки не вызвали скорую, пока кровь не смыли растворителем и разбитое об асфальт тело не накрыли черным мешком. Должен!* * *
Были у меня и послушные, и на все готовые. Всегда поражался таким бабам. Топчи их, бей, душу вымотай и сотри, как грубый ластик стирает грифельные следы – лишь добавки попросят. Роль жертвы, клеймо мученицы, все это как приправа: придает их жизни вкус. Пускай сами они никогда в этом не признаются даже себе. Поначалу с такими даже забавно. Потом скучно. Они не вписываются в мой замысел, их чаша терпения кажется бездонной, им никогда не пройти через уготованную им дверь, даже если я возьму их за шкирку и ткну в нее носом. Нет, я ищу других. Чья чаша давно треснула, кто смотрел через замочную скважину и знает, что на той стороне. У меня есть для них ключ. Я ищу их по надрыву голоса, по стихам, от чьих строк веет холодом могилы, по опустошенным взглядам в толпе. Ищу свои трофеи офлайн, чаты и звонки меня больше не устроят. И нахожу Катю.* * *
Спрыгнувший с соседнего здания мужик не выходит из головы. Нужно к кому-то обратиться. К психологу? Или сразу к нормальному врачу? Я точно видел его, точно знаю, что не мог перепутать летящего камнем вниз человека с птицей или еще какой-нибудь фигней. Впервые тепло внутри меня не будоражило, как раньше, лишь обвивало липкой змеей диафрагму, мешая набрать полные легкие.… Ключ проворачивается в замке раз и не собирается двигаться дальше. Моя дверь всегда закрыта на два поворота. Догадка бьет по темечку ледяными каплями, как в китайской пытке водой, пока я осторожно захожу в свою квартиру и разуваюсь. – Ну нет, только не сегодня, – бормочу. Он стоит в моей кухне, даже не сняв пальто. Жрет колбасу перед открытым холодильником, свободной рукой шарит по полкам. Достает длинными пальцами пару маслин и закидывает в рот. Его выбритый подбородок блестит от жира, его седые волосы зачесаны назад, а на шее по-щегольски повязан изумрудный шарф из тонкого шелка. Перстни его отражают свет, как зеркала Архимеда. Он спрашивает, продолжая жевать, почему я не брал трубку. Почему не поехал забирать его в аэропорт. Видимо, очередная старушка выставила за дверь очередной лазурной виллы. Как там звали последнюю? Франческа? Беатриче? Летиция? Нет, Летиция, эта высушеннаявобла с прической под мальчика и любовью к огромным, как дверные ручки, серьгам, вроде предыдущая. Рано или поздно все они понимают – этот престарелый франт только и может, что тянуть с них деньги. А мне давно пора забрать у него ключи… – Я не слышал звонка, потому что ты в черном списке, – отвечаю я. – Очевидно же. Altre domande? Он впервые поворачивается ко мне, подходит вплотную. Его цепкие пальцы хватают мой пах, сдавливают, и я со свистом втягиваю воздух. Старик смотрит на меня в упор, от его рта несет колбасой, от его глаз – разложением. Он что-то говорит о маленьких яичках, которые забыли об уважении, но я не вслушиваюсь. Слезы текут по моим щекам, в бедра вокруг паха словно вгоняют сверла на малых оборотах. Я мог бы поднять этого костлявого старикашку над головой и уронить головой о плитку, мог бы загнать его острые скулы ему прямо в мозг одним ударом. Но я лишь крепче сжимаю зубы и цежу: – Здравствуй. Папа.
* * *
Я трижды бросал курить, и каждый раз давался сложнее предыдущего. Чем больше барахтаешься, тем сильнее вляпаешься, и если уж не вырвался сразу, резко, с болью, будь готов опуститься еще глубже. Для Кати я стану той же зависимостью: болезненной, фатальной. Заменю ей воздух так, что она не заметит яда в легких. Буду ее раковой клеткой. Прокачу на качелях: оттолкну и поймаю, снова и снова, и с каждым возвращением мой поводок будет становиться все короче. – …Курсы дизайна? – говорю я с кривой ухмылкой. – Разве ты умеешь рисовать? Она смущенно бормочет про свои успехи в художественной школе, перечисляет какие-то дипломы. – Бумажки сейчас ничего не значат, их выдают направо и налево, – перебиваю со снисходительным тоном, который ее так раздражает. – И уж точно не помогут, если нет таланта. Загнать человека в угол порой очень просто: привяжи его, обесцень и обезличь его прошлое и настоящее, закрой дорогу к будущему. Я снял Кате квартиру, оплачиваю все ее хотелки. Ее друзья остались за границей «до»: рядом с мечтами о художественном и поэтическими посиделками два раза в неделю. Все ее стихи теперь посвящены мне. Моя господская рука толкает качели.… Я делаю вид, что бешусь по пустякам, провоцирую на ссору, несколько дней не выхожу на связь… Качели вверх.
… Прижимаю ее к себе перед сном, шепчу то, что она хочет услышать, обещаю никогда не давать в обиду… Качели вниз.
…Она находит на якобы забытом ноутбуке переписку с другой бабой, смеюсь ей в лицо… Качели вверх.
… Новогодняя ночь превращается в сказку про Золушку в дорогом столичном ресторане: платье мечты, любимая музыка и восхищенные взгляды из-за соседних столиков…. С приходом весны улицы заливаются солнечным светом, но Катя тает, как мартовский снег. Ни дня без драмы, чаще срывы! Вот мой лозунг. Главное, быть непредсказуемым лабиринтом для растерянной девчонки, которая лабораторной мышкой бросается из угла в угол, даже не представляя, кто направляет ее электрическими разрядами в мозг, и куда. Я представляю. Внутри меня пожар, он мечется голодным монстром, обжигая нутро. Чувствует – осталось недолго. – Я тебя не люблю, – говорю однажды утром, одеваясь. – С тобой было весело трахаться, но… Ты стала какая-то скучная, что ли. Квартиру на следующий месяц я не оплатил, кстати, хозяин заскочит вечером. Отдашь ключи. Я знаю, что идти ей некуда, знаю, что в кармане ни копейки. Хочется посмотреть на ее реакцию, но одергиваю себя – не сейчас, нельзя! Нужно свалить прежде, чем начнется истерика, как можно раньше оставить наедине с собой. Себе мы лучшие палачи. Я спешно накидываю пиджак и направляюсь к выходу, но все идет не по плану, когда ножницы вонзаются мне в плечо.
* * *
Толстуха передо мной все никак не может определиться с сиропом к своему капучино. Кусает пухлые губы, мычит неразборчиво и пялится на вывеску позади бариста, в сотый раз пробегая поросячьим взглядом по ассортименту. Каштан, соленая карамель, мята… тьфу ты! – Надо же, какой сложный алгоритм, – говорю в пустоту, но так, чтобы меня слышала вся очередь. – Сначала выбираешь, потом подходишь к стойке. Действительно, сложно запомнить последовательность. Баба оборачивается, строит гримасу. Спрашивает, мол раз такой умный, что посоветую. – Без сиропа. И абонемент в спортзал. – Развожу руками. Толстуха огрызается. Никогда не понимал, почему кто-то вроде нее вообще смеет быть чем-то недовольным, высказывать мнение, высовываться. Им бы сидеть тихо, преисполненными благодарности, что здоровые люди не поднимают их на смех на каждом шагу и не гонят пинками. Так нет же. Знавал я, правда, одного художника, любителя внушительных объемов, но такие извращенцы скорее исключение… От перепалки с наглой бабой меня отвлекает появление Кати. Через стеклянную стену кофейни я вижу, как девушка входит в просторный холл, бегло осматривается и направляется к охраннику на пропускном пункте. Меня она пока не замечает. Плечо отзывается болью. Катя, эта больная сука, пырнула меня ножницами! Шрам еще не зажил. «Акела промахнулся, Акела промахнулся», – скулит шакал в моей голове голосом отца. Эта фраза преследовала меня все детство. Ненавижу Киплинга. Да, с Катей я промахнулся. Она редко говорила о своих родных, сбивалась на шепот и сильнее натягивала рукава, пряча шрамы на запястьях. Я знал лишь об отчиме, который поколачивал их с мамой в перерывах между футболом на диване и пивным горлышком, о том, как ее запихнули в ненавистный универ… Думал, порезы на руках следствие привычной подростковой драмы. Что они знак, метка для огненного монстра в моей груди. Холод лезвия на запястьях невозможно забыть, думал я, и если мне удастся провести ее за ручку по знакомой тропинке, то Катя сама примет нужное решение. Не знал я, что эта сумасшедшая всегда шла другой дорогой, не собиралась сводить счеты с жизнью. Не со своей. Когда Катю довели в прошлый раз, она попыталась убить отчима, зарезать «розочкой» из бутылки. Разлетевшиеся осколки оставили следы на худой руке. Естественно, я написал заявление. Тогда и узнал, что психованная уже почти год в розыске.… Можно, конечно, затаиться и вызвать ментов. Боль горячими крюками разрывает рану на плече, и я понимаю, что не готов. Не готов даже находиться с Катей в одном здании, не готов больше встречаться с тьмой в ее голове. Не сейчас. Толстуха наконец получает свой капучино и готовится надеть пластиковую крышечку, когда два моих обслюнявленных пальца ныряют в ее стаканчик. Да-да, пирожочек, я о тебе не забыл. Жаль, некогда наслаждаться реакцией, и второй выход забегаловки провожает меня под пасмурное небо. Заворачиваю за угол. В офис сегодня возвращаться точно не собираюсь, меня слегка колотит. Дрянь посмела прийти ко мне на работу! Бреду, не разбирая дороги. Свежесть весеннего воздуха помогает проветрить голову. За спиной резко визжат тормоза, рев клаксона бьет по барабанным перепонкам, и я инстинктивно отскакиваю в сторону прежде, чем успеваю обернуться. Узкая улочка пуста, лишь пара машин припаркована у обочины. Мне все чаще кажется, что они меня преследуют: незнакомый мужчина, чье лицо мне никогда не удается разглядеть, и девушка в майке с голыми плечами при любой погоде. Иногда я вижу их отражения в зеркалах заднего вида или витринах. Иногда их расплывчатые силуэты маячат на границе периферического зрения как назойливые мухи, и растворяются в воздухе, стоит к ним повернуться. Мужик всегда наверху, стоит на парапетах крыш и балконов или сидит на подоконниках верхних этажей, болтает ногами как ребенок. Девчонка вечно норовит угодить под машину, шагает вдоль обочины, покачиваясь в опасной близости от пролетающих мимо лихачей, но никто из них не сбавляет скорости, не сигналит дурехе. Я так и не решил, что с этим делать. Списал на разыгравшуюся от интрижки с Катей фантазию, игнорировал протекающий чердак, пока в ботинках не захлюпало.
…Сам не замечаю, как ноги выносят меня к знакомым улицам. До бара, где собираются поэты, меньше десяти минут пешком, сегодня среда, а значит, я снова могу попытать счастья в старых охотничьих угодьях. Возможно, там появились новые лица. От этих мыслей тепло внутри мечется пойманной птицей. Оно больше не напоминает сладостное предвкушение, скорее шаровая молния оставляет ожоги на моих внутренностях. Монстров нужно кормить, иначе они разорвут тебя изнутри. В десяти шагах от входа полурослик тягает сигаретный дым, не прерываясь на кислород. Я не узнаю его сразу: заросшего жиденькой бороденкой, в нормальных штанах и без девчачьей сумки. Курит только, как и прежде, не затягиваясь. Заметив меня, он выпучивает глаза и преграждает дорогу. Хочется отмахнуться от него, как от бродячей псины, но полурослик начинает орать что-то про Катю, про то, как я ее, мудила такой, довел, и я замираю. Теперь ясно, где психованная была все это время: скрывалась у своего дружка-куколда. Но не выдержала, сорвалась и поехала караулить у моей работы, оставила послушного «друга» одного. Я молча пытаюсь обойти истеричного юношу по широкой дуге, чтобы не зашибить ненароком, но оказываюсь слишком близко к дороге, и какой-то дятел на кредитном ведре забрызгивает из лужи мои брюки и пальто. – Оно стоит дороже, чем твоя жизнь, – цежу я, тщетно пытаясь отыскать в карманах хоть какую-нибудь салфетку. Дрыщ меняется в лице, губы его подрагивают. Это даже забавно… – Давай, поплачь. Он налетает на меня, толкает в грудь, но я остаюсь на месте. Смеюсь уже в открытую. Размышляю, не заставить ли его чистить одежду языком… Улыбка сходит с моего лица, когда за спиной полурослика появляется широкоплечий мужик. Я никогда раньше не видел этих застывших, как на фотографии, глаз так близко, но сразу его узнаю. Он делает шаг, прямо сквозь пацана, и толкает меня. Получается куда ощутимей, я отступаю на шаг и теряю равновесие, чувствую, как меня хватают сзади, тянут, вижу девичьи пальцы на своем плече. Мужик, не меняя выражения лица, толкает меня вновь, и вот я уже спотыкаюсь о бордюр и лечу спиной в ту самую лужу, из которой меня окатили минуту назад. В правое ухо бьет клаксон, на этот раз настоящий, и удар отбрасывает меня во тьму.
* * *
Он моет меня, кормит и переодевает. Терпит запах моего дерьма. Не знаю, зачем он согласился на опекунство. Был ли у него выбор? Если бы у дьявола отказало его черное сердце, и потребовалась пересадка, мой отец стал бы отличным донором, его орган уж точно прижился бы, как родной. Поэтому каждый новый день я начинаю с вопроса: – Зачем тебе это? Он не отвечает. Больше не реагирует на мои выпады. Занимается мной с той пресной безучастностью на лице, с которой кормят давно надоевших рыбок, которых только привычка не позволяет смыть в унитаз. Полгода реабилитации, и я теперь могу поднести сигарету ко рту. Впрочем, ее можно затушить о любой участок тела ниже пояса и ничего не почувствовать. По официальной версии во всем виноват тот дрыщ, хоть он и пытался доказывать следствию причастность «невидимой силы», потянувшей меня на дорогу. Я дал все показания, и щенок получит по полной: суд состоится уже на следующей неделе. Попасть из реанимации сразу в дурку не хотелось, поэтому версию о мстительных самоубийцах я оставил при себе. Катю до сих пор так никто и не нашел, наверное, опять присосалась к какому-нибудь обеспеченному любителю дохлятины в стихах, а вот Борис и Надя… Теперь я видел их регулярно. Больше они не таились, не заигрывали. Приходили в больничную палату, стояли надо мной или садились на соседнюю койку. Плавно, синхронно, чуть ли за ручки не держась. Бормотали что-то бледными губами, но до меня не долетало ни слова. При жизни я ни разу не услышал их по-настоящему, с чего бы мне слышать их сейчас? Я успел привыкнуть к безмолвным гостям, принять их, как принял собранный по кускам позвоночник. – Это такой новый вид пытки, скукой? – спрашивал я. – Добейте или проваливайте. Неподвижные силуэты едва заметно выделялись во тьме, когда в палате выключали свет. – Знаете, в чем ваша ошибка? Вы позволили себе нуждаться в ком-то, кроме себя. Вот только не я сделал за вас этот выбор, слышите? Не я сделал вас слабыми, вы уже были никчемными кусками дерьма! Не я вас убил, гребаные вы неудачники, не я! Я хрипел, не в силах вытереть слюнявый подбородок, пока на шум не прибегала медсестра. Полгода невыносимой боли, лечебной физкультуры и въевшегося в кожу больничного запаха. Я держался, смеялся вечерами, глядя в лицо мертвым лузерам. – Вы настолько бездарны, что даже после смерти не можете довести дело до конца! Я дома. Мои пальцы еще слабы, но могут печатать, пусть и медленно. Отец принес мне ноутбук, нужна лишь гарнитура, и я смогу работать. Мой голос со мной, мой разум. Никаким призракам этого не отнять. В последние дни я все чаще слышу слабое тепло под ребрами. Оно растекается по телу сливочным маслом, касается ног. Я чувствую ноги! Призраки тоже здесь, стоят, наблюдают за моим отцом. – Дел у вас больше нету на том свете… – я тоже слежу за метаниями старика по комнате. Он открывает шкафы, скидывает что-то из шмоток в черную сумку, что-то прямо на пол, гремит ящиками и достает документы, пересчитывает деньги стянутые резинкой. Мои деньги. – Куда-то собрался? Он отвечает не сразу. Татьяна позвала его обратно, все простила, соскучилась… Точно, последнюю звали Татьяна! Русская эмигрантка, трижды удачно вышедшая замуж и трижды не менее удачно овдовевшая в солнечной Италии. – И как ты собираешься меня здесь оставить? Одного? Я даже не злюсь. Меня веселит этот разговор, будто я узнал знакомого в человеке, который последние двадцать дней был чужим. Ха, его хватило на двадцать дней, даже трех недель не прошло! Значит, все в порядке, его не подменили. Его фотография все еще на доске почета в преисподней. Старик путанно объясняет про мою бывшую, которая так удачно объявилась и согласилась приглядывать за немощным. Выдает сальную шутку о моем вкусе, но я не слушаю. Бывшая? Из прихожей доносится звонок, старик подхватывает сумку и идет открывать. Язык прилипает к небу, пальцы начинает покалывать. – Эй, погоди, – бормочу, запинаясь. – Не надо… пап! Впервые за все время я вижу улыбку на лицах призраков. Когда хлопает дверь, понимаю, что мы остались в квартире с Катей одни. Она осторожно проходит в комнату, даже обувь сняла. Надо же, какая вежливость. Мы молчим и пялимся друг на друга, потом Катя спрашивает, не хочу ли я поздороваться. – Может еще чечетку станцевать? Она замечает, что я не изменился. – Что общего между мной и офисным работником? Я овощ только наполовину. Она улыбается и подходит ближе. Ступает осторожно, будто боится, что калека-монстр вдруг схватит ее и утащит в темное логово под кроватью. Я ждал этого, опасался этого, но она начинает говорить. Несет какую-то чушь о том, что мы могли бы попробовать снова, и все в прошлом, и бла-бла-бла… – Стерва, ты воткнула в меня ножницы. Она делает вид, что тупая, или правда воспринимает это за шутку? Извиняется. Просит забыть, просит… Я перевожу взгляд на призраков за ее плечами. Они смотрят с интересом, ждут. Мужик, в один вечер потерявший все, и девочка, не имевшая ничего. Я могу подозвать Катю ближе, взять ее руку в свои. Сказать что-нибудь ласковое, сказать, что все прощаю, и теперь у нас все будет хорошо. Но меня мутит от этих рож, от застывшего на них смирения. Если я скажу, что Катя хочет услышать, я стану таким же. – Я просто поражаюсь, как можно быть такой тупой! На что ты рассчитывала, придя сюда? На свадьбу, кучу детишек и семейный минивэн? Ты маленькая, злобная, бесполезная сучка, как тебе в голову вообще могло прийти, что такая как ты может быть хоть кому-то нужна? Достань уже голову из жопы и оглянись: тебя никто! Никогда! Не любил… Мои руки еще слишком слабы и медлительны, я не успеваю прикрыться, когда Катя вырывает подушку у меня из-под ног и накидывает мне на лицо, наваливается тощим тельцем. Я поворачиваю голову, и шея отдается болью, но дышать можно. Это не кино, милая, здесь не будет так легко. Мои пальцы нащупывают Катины волосы, и я дергаю, что есть мочи, она визжит, но подушку не отпускает. Продолжаю наматывать шевелюру на руку. Мне хватит сил задушить тебя и в таком состоянии, сучка, только бы нащупать горло. Я пытаюсь приподняться на одном локте – по телу словно пускают электрический разряд, но подушка съезжает, и можно вдохнуть полной грудью. Вижу комнату через появившийся просвет. И как мертвецы подходят к кровати. Меня вдавливают в матрас, на подушку ложится еще две пары рук, просвет пропадает, а вместе с ним и воздух. Вяло барахтаюсь, все меньше чувствуя тело. Во тьме расплываются разноцветные круги. Вспоминаю длинноволосую девушку с поэтического вечера: «Кого-то затянут черти,
Кого-то ангелы встретят,
Кого-то развеет ветер.
Зависит, во что кто верит…»
В тексте использованы строки из стихотворения Дарьи Маджары «Кого-то убьет сосулькой…»
Андрей Волохович Конфетный король
На лестнице между восьмым и девятым этажами скучно. Когда ждешь, время всегда растягивается жевательной резинкой. Валька ерзает на ступеньках. Холодный бетон медленно, но верно превращает задницу в спрессованный кусок льда, что совершенно не добавляет веселья. Хорошо хоть плеер не забыл. Плеер Валька нашел. Ну, как нашел? Пошукал на антресолях и обнаружил его за стопкой кастрюль. Немного стыдно, конечно – до Нового года еще неделя, а он уже пользуется будущим подарком. Впрочем, в его положении другого выхода не было. «Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день» – наставляет Виктор Цой. Валька нащупывает в кармане куртки пачку «Магны», поддевает ногтем крышку, убирает руку. Нет. Нужно беречь, и так уже потратился на батарейки к плееру. Может, конечно, Витя и прав. Может, все действительно не так плохо? – думается Вальке. В конце концов, он живой, не инвалид, не отсталый… Однако на этом положительные моменты заканчиваются, а дальше сплошняком наползают тяжелые, черные, как ожоги от спичек на потолке девятого этажа, проблемы. В общем-то, все укладывается в три слова. Идиот, уклонист, бездомный. И во всем он виноват сам. Сам скорешился с безбашенными придурками, начал прогуливать пары. Зачем? Черт его знает. Наверное, в качестве мести самому себе и матери за школьные годы, проведенные за учебниками – вместо тусовок и драк за район. Закономерно не сдал ни одного зачета, забрал документы. Следом нависла угроза весеннего призыва. «Какой здоровый парень, плечистый, вам хоть в десант!» говорила врачиха на медосмотре. В десант, как и в армию в целом, Валька не хотел принципиально. Чего там делать? Пусть дурачки деревенские служат, а он дальше будет рассекать по городу с гривой не хуже, чем у AC/DC каких-нибудь. И ни за что не сострижет. Поэтому остается только одно: бежать. Бросить мать с бабушкой, тайком собрать вещи, кассеты с музыкой, дождаться, пока все уйдут на работу, и… Песня закончилась, Валька отматывает к началу и аккуратно складывает плеер в рюкзак. Поднимается, разводит плечи до приятного хруста, несколько раз приседает. Глядит в окошко между этажами. Во дворе копошатся дети, разноцветные, как леденцы – лиц отсюда не видать, только яркие обертки-куртки мелькают среди похожих на творожные ломти сугробов. И вдруг – срываются, как по команде, бегут мимо украшенной на все лады елки к огромной снежной бабе, возле которой примостился пухлый, напоминающий перезревший киви в своем мохнатом полушубке, паренек лет четырнадцати. Они окружают его стайкой птиц-попрошаек, каждый старается протиснуться вперед, задние ряды напирают, кто-то подпрыгивает, пытаясь увидеть: на месте ли еще, не ушел ли? Валька знает, что происходит, наблюдал не раз: – Дай конфет, Конфетный Король! – И мне, и мне! – А мне для сестры еще… – Эй, не толкайтесь! – Я тоже конфет хочу! И паренек раздает конфеты и сладости. Выгребает их горстями из будто бы бездонных карманов полушубка, высыпает каждому в сложенные лодочками ладони. Карамельки, шоколад, мармелад, даже зефир. Сладкое счастье для всех, даром. Никто не уйдет обиженным. Детки довольны, пляшут от радости, смеются, благодарят, а он только кивает и улыбается. Он всегда улыбается. Иногда с уголка рта свисает тонкая нить слюны. Конфетный Король – дурачок. Отсталый. Его папа – вечно пропадающий на работе кондитер, а маму никто никогда не знал. О нем вообще мало что известно. В школу не ходит, тусуется в Валькином дворе, раздает детям конфеты. В праздники – Восьмое марта, Новый год и прочие – помогает отцу, доставляет подарочные наборы сладостей. Сладости, кстати, отличные, хоть и недешевые, Валькина мама изредка брала у них – очень вкусно. Вот и все. Даже имя свое ни разу не называл, видать, прозвище полностью устраивает. А может, и сам уже забыл. – Эй, там! Чего в окно вылупился? – раздается снизу. Валька застывает, сердце с размаху лупится о грудную клетку, а желудок проваливается куда-то в неведомые глубины организма. Неужели бабушка опять вернулась раньше и застукала его? Но спустя долю секунды приходит облегчение, и на лице появляется непрошенная улыбка. Голос-то другой! Перенервничал, придурок. Позади громыхают шаги, кто-то несется наверх, перепрыгивая через ступеньку. Валька оборачивается и видит знакомую лысину, покрасневшую на морозе, сырую от растаявшего снега. – Здорово, Митяй. – Ты б себя видел, Валек, – Митяй жмет протянутую руку и ухмыляется, нагло, как он это умеет. – Я уж подумал, кончишься прямо тут. Че ты там выглядываешь-то, Конфетного дебила не видел, шоль? – Жду, пока дети уйдут от него, а то, мало ли, запомнят. Думаю, лучше лишний раз не светиться. – Ну, хрен знает, как по мне – не должны срисовать… Лады, пускай мелюзга обедать свалит, и двинем. Главное самого дебила не упустить. Валька возвращается на ступеньки, раскуривает сигарету, пока Митяй ходит туда-сюда по лестничной площадке. Шаг его пружинист, глаза недобро поблескивают, а кулаки со сбитыми костяшками поочередно сжимаются и разжимаются. Вроде только пару дней назад, по слухам, гонял вместе со знакомыми скинхедами в Саратов, на стрелу с хачами, и уже готов к следующему «делу». Вот кого бы в армию, вместо Вальки. Энергии в нем – ковшом экскаваторным не вычерпать, да маловат еще, семнадцать только будет. – Че, Валек, стало быть, задолбался тут гнить, решил покорять столицу? Порадуешь нерезиновую своими многочисленными талантами? Митяй знает, как ткнуть, чтобы задеть, но удержаться на тонкой грани и не оскорбить. Вроде и хочется в морду двинуть, а толком не за что, начнешь кулаками махать – сам виноват окажешься. – А то, – в тон ему поддакивает Валька. – Чего тут время терять в институте, я лучше сразу туда махну. Бизнес построю, разбогатею и куплю на хрен всю эту дыру. – Би-и-изнес! Вы гляньте, какой воротила выискался! Небось, в этом, Макдональсе, будешь на кассе стоять, лыбиться как дурак и орать «Сва-а-абодная ка-а-асса!» Митяй щерится в глупой улыбке, демонстрируя два выбитых зуба, и заливается визгливым хохотом от собственной дурацкой шутки. Он напоминает щенка гиены. Затем, вдруг посерьезнев, спрашивает осторожно: – Как думаешь, сколько возьмем? – Да уж немало, наверное. По праздникам у них дела хорошо идут, я точно знаю. – Ага, ага… Дак ведь до нового года еще неделя. – Ну и что? Многие заранее берут, боятся, что иначе не хватит, хотя, вроде, такого ни разу не было. – Главное только, чтобы деньги в доме были, – нервничает Митяй. – Иначе я там, сука, все разнесу! – Вот поэтому я с тобой и пойду, чтобы не зашиб никого. Тихонько зайдем, посмотрим, а если нет ничего, просто уйдем. – Конечно, поэтому. И как-то чисто случайно мы делим все пополам. – Осади-ка! – поднимается Валька, которому уже порядком надоело слышать подколки в свой адрес. – Мне вообще-то в Москве надо будет на что-то жить. – Ты б в армейку лучше сгонял, а не бегал от нее, – фыркает Митяй. – А мне, как ни крути, эти деньги нужнее. Кто еще семье праздник устроит? Батя пропьет всю зэпэ, как обычно, а мамкиной дай бог на похавать хватает. Затарюсь подарками, едой вкусной, праздничной, может даже на новую косуху останется. Краем глаза Валька видит, как дети расходятся по домам. Видимо кого-то позвали есть, а остальных мамашки подхватили по инерции. Мамашки – они такие, как стайка голубей. Стоит одной что-то сделать, как другие кидаются повторять. Только Конфетный Король продолжает сидеть на снегу рядом со снежной бабой. Чего он ждет-то? Втюрился в нее, что ли? Валька хлопает в ладоши, прерывая ленивую перепалку. – Хорош, Митяй, все уже обговорено множество раз. Пойдем потихоньку, пока Конфетного Короля не упустили. – Да чтобы этого дебила упустить, надо быть еще большим дебилом. Двинули. Перед самым выходом из подъезда Митяй тормозит Вальку и, смущаясь, бормочет: – Слышь, это самое, я еще конфет наберу, лады? Для сеструхи младшей. А то она никогда и не пробовала таких.* * *
– Эй, Конфетный Король! Парень поднимает запакованную в ушанку голову. Одутловатое лицо расплывается в улыбке, становится повернутым на бок овалом. Ярко-зеленые глаза чисты от любых мыслей и эмоций. Валька откашливается. – Слушай, мы с другом, – пихает Митяя локтем в бок. – Хотим купить сладких подарков. Улыбка становится еще шире, верхняя губа приподнимается, приоткрывая большие выщербленные резцы, коричневые от сахара и кариеса. «Будто карамельки вместо зубов» думает Валька и чувствует, как по спине взбирается маленький ледяной паучок. Наконец толстяк отвечает: – Эта. Вы звоните. Все дадим. Завтра. Сегодня уже не понесу. И начинает подниматься, тяжело вздыхая. – Нет-нет, подожди, нам прямо сейчас нужно, – удерживает его Валька. Отчаянно старается перефразировать так, чтобы понял даже отсталый. – Спешим. Купить сейчас надо. Денег дам сразу. Для убедительности достает из внутреннего кармана куртки отложенные на билет купюры. Несколько секунд Конфетный Король напряженно думает, затем кивает: – Пойдем. Напоследок Митяй двумя ударами разваливает снежную бабу.* * *
Странное тянущее чувство растет у Вальки в груди, пока троица бредет по району. Неужели это – все? Сейчас они обчистят кондитера и разбегутся. Митяй пойдет к своим, а Валька… На вокзал? Уедет в Москву и больше никогда сюда не вернется? Они проходят под натянутой между столбов надписью «Здравствуй, XXI век!», задержавшейся уже почти на два года. Идут вдоль длиннющего забора, сплошняком обклеенного объявлениями. Среди обычных «Продам!», «Куплю!», «Сдам!», «Работа!», попадаются забавные, например, накарябанная от руки записка «Преют для жывотных. Адрес Борская 17. Телифо» – а дальше оборвано. Или страшное, висящее уже несколько месяцев «Пропал ребенок! Мария Баранова, одиннадцать лет. Ушла в школу и не вернулась. Была одета в розовую куртку и шапку, резиновые сапоги с рисунком. Особые приметы:… Любая информация… Вознаграждение…» Неужели он так и не узнает, что это за приют, найдется ли девочка, неужели больше не увидит этого забора и дурацкой надписи между столбами? Удивительно, больше всего обидно из-за таких мелочей. И, конечно же, жалко маму с бабушкой.* * *
Дом они видят сразу, едва только вывернув из-за угла цветочного магазина. Деревянный старый дом, такие сейчас массово сносят ближе к центру города, чтобы поставить на их месте очередную многоэтажку. А здесь на окраине их не трогают, но только пока. Впрочем, этот сильно отличается от большинства двухэтажных гнилушек, его, скорее всего, пожалеют. Розово-желтый, обнесенный высоким забором, по которому среди цветочных узоров пляшут расписные птицы, он кажется пряничным домиком, вывалившимся из полузабытой сказки посреди заснеженной улицы паршивого городка. Конфетный Король отпирает закрытые на здоровенный амбарный замок ворота, и гости проходят во дворик. Здесь ничего особенного: какие-то тюки, коробки, накрытые мешковиной, малиновая «Волга». И несколько пустых клеток виднеются с той стороны дома. Валька хочет спросить у толстяка, для чего эти клетки, но видит рядом с расписанной под хохлому входной дверью табличку: «ул. Борская д. 17». Все встает на свои места. Оказывается, они еще и питомник держат, как только отец успевает? Потому, должно быть, его и не видел никто – все время занят. То одним, то другим. Странно только, что в клетках нет собак, да и вообще, как-то здесь тихо, словно захлопнувшиеся позади ворота отрезали их от реальности, от шума машин, шелеста ветра. Валька неосознанно теребит в кармане «Магну». Значит все не так уж плохо на сегодняшний… Скрип двери приводит его в чувство. Конфетный Король топчется на пороге, отряхивает с шапки и плеч сахарную пудру снега. Неловко скидывает полушубок, уходит, копошится где-то внутри, затем возвращается и говорит: – Домой нельзя, тут стойте. Сейчас схожу. Принесу подарочки. «Подарочки» он произносит так нежно, что Валька едва удерживается от смеха. Митяй же настроен серьезно. – Не, слышь, так дела не делаются. Ну-ка, пусти! – Нет-нет-нет, – мотает головой, словно заводная игрушка, толстяк. – Нельзя, папа будет ругаться. Валька придерживает готового уже сорваться Митяя, осторожно подходит ближе к готовому в любой момент захлопнуть дверь дурачку и говорит как можно мягче: – Послушай… Папы же сейчас нет дома? – Ну, нет. – Можно, пожалуйста, мы зайдем ненадолго? Он не узнает. – Узнает, – с сомнением в голосе тянет он, но Валька чует слабину и продолжает давить. – Да точно тебе говорю, не узнает. Тут ужасно холодно, пусти погреться. Тем более, друг мой без шапки. Заболеет еще, родные ругаться будут. – Ладно, – сдается толстяк после непродолжительной борьбы.* * *
Внутри ощущение нереальности лишь усиливается. Разноцветные, изрисованные безглазыми тощими монстрами стены, пол, потолок. Видимо, над забором и дверью трудился отец, отдав на откуп сыну внутренности дома. Всюду стопки книг. Жюль Верн, Андерсен, Конан Дойл. Математика за первый класс, былины. Пахнет печеньем, корицей, яблоками. Рот наполняет слюна. Валька уже не помнит, зачем он пришел, ему хочется только одного: есть. Митяй больно пихает локтем под ребра, и говорит Конфетному Королю: – Слышь, где у тебя тут поссать можно? – А? – Да, точно, мой друг в туалет хочет, – спохватывается Валька. – Где он у вас? – А-а. Там, в коридоре. Слева. У лестницы в подвал. – Угу, – кивает Митяй и вразвалочку удаляется по указанному направлению. Теперь дело за Валькой. Он натягивает самую дружелюбную улыбку, на какую только способен, и как бы невзначай интересуется: – А ты марки не собираешь, часом? Чем вообще увлекаешься? Немного смутившись, Конфетный Король шепчет: – Пуговицы. – Что? – Пуговицы собираю. – Ух, здорово! Вполне достойно, чего ты. Некоторые, вон, пивные крышки коллекционируют вообще. Так что все в порядке. Валька замолкает. Некоторое время они стоят в тишине. Но это не простая тишина. Конфетный Король переминается с ноги на ногу, пыхтит, принимается вдруг грызть ногти и всячески демонстрирует, что очень хочет продолжить разговор. Помариновав его, Валька проявляет великодушие: – А что, может, покажешь свою коллекцию? – Конечно! Пошли ко мне! – Айда, – вполне искренне улыбается Валька. В комнате, среди изрисованных кривоватыми волнами стен, и свисающих с потолка кожаных ремешков, они садятся на пол, и Конфетный Король берет в руки небольшую деревянную шкатулку. Он держит ее бережно, словно мать – своего младенца. – Можно возьму? – интересуется Валька. Но в ответ получает категоричное: – Нет. – Ладно, дело твое. Крышка приподнимается, и толстые пальцы извлекают первую драгоценность: самую обычную серо-коричневую пуговицу. Должно быть, от пиджака, предполагает Валька. И тут же получает подтверждение: – Отец пиджак носил. – Долго? – Семь лет, – отчего-то произнесенная Конфетным Королем фраза звучит так гордо, словно это целиком и полностью его заслуга. Где-то по дому сейчас бродит Митяй, пытается найти тайник, заначку. Когда найдет – возьмет деньги и якобы вернется из туалета. Вернется же? Не прокрадется тихонько к выходу, подставив напарника? Ему ведь так нужны эти деньги. Им обоим… – А вот эту, – тускло блестит в дневном свете круглая латунная пуговица с чеканной звездой, внутри которой угадываются очертания серпа и молота. – Сам нашел. – Ого, быть не может, это ведь с кителя милицейского! И где же ты ее нашел? – На свалке… – Круто, ты настоящий коллекционер, который не боится трудностей! Конфетный Король заливается краской. Застывает на несколько секунд, а затем, будто решившись на отчаянный шаг, судорожно дергает головой и, запустив руку на самое дно шкатулки, выуживает оттуда маленькую розовую пуговичку. Овальную, похожую на таблетку. Явно от какой-то детской курточки. В затылок Вальке вонзается ледяная иголка. Он и сам не понимает, почему, но отчетливо ощущает, что с этой пуговицей что-то не так. – А эту мне дала одна девочка, – произносит Конфетный Король, сверля мгновенно вспотевшего Вальку ясным взглядом зеленых, как яблочный мармелад, глаз. Валька завороженно смотрит на розовый кусочек пластика, тонущий посреди пухлой ладони. «Пропал ребенок!» Горло болезненно сжимается, очень хочется кашлять, но что-то, какой-то сигнал изнутри, из подсознания, останавливает, приказывает замереть. «Мария Баранова, 11 лет» Взгляд цепляется за кожаные полоски, свисающие с потолка. Теперь Валька понимает: это собачьи ошейники. «Была одета в розовую куртку» Где-то в глубине дома раздается пронзительный вопль Митяя и обрывается на середине, оставляя звенящую тишину. Яблочно-коричный флер усиливается. – Папа вернулся, – хихикнув, сообщает Конфетный Король.* * *
Нужно что-то делать, как-то спасаться. Валька потихоньку подбирается, готовится к прыжку, одновременно гадая, понял ли что-нибудь Конфетный Король, уставившийся перед собой в пол. На губах его извечная улыбка, тело слегка покачивается, будто в такт какой-нибудь беззвучной музыке. Можно просто выскочить в окно и убежать. Если двигаться быстро, толстяк не успеет ничего сделать. Наверное. Да – без вещей, без ботинок, даже без куртки. Зато живой. Но… Где-то там Митяй. И, при всех своих недостатках, уж он бы Вальку точно не бросил, не в такой ситуации. Поэтому выбора нет. Резко, словно распрямившаяся пружина, Валька вскакивает, ударом ноги выбивает из жирных рук шкатулку и валит Конфетного Короля на пол, не давая опомниться. – Где Митяй? – Чего? Ответ неверный. Валька изо всех сил бьет толстяка в лицо. Тот вскрикивает от неожиданности, из свернутого на бок носа медленно течет что-то густое и темное. Слишком густое и темное для крови. По комнате разливается запах какао и шоколада. Это неправильно. Совсем неправильно. Так не бывает. Но у Вальки нет времени на размышления. – Где мой друг, сука? – В подвале, – бубнит толстяк, жадно слизывая текущую из носа жижу. – С папой играет. Валька пинает его под ребра и уходит.* * *
Вот и дверь в подвал. Приоткрыта. За ней – тишина. Что там происходит? Может, все-таки убежать? Нет, сжимает кулаки Валька, так не пойдет. Нащупывает в кармане «Магну». Значит все не так уж плохо… Посмотрим. С каждым шагом, с каждой ступенькой усиливается невыносимо-сладкий запах. От него в горле начинаются спазмы, и Валька заходится в кашле. Наконец последняя ступенька преодолена, и он застывает перед второй дверью… Полностью сделанной из овсяного печенья с вкраплениями шоколада. – Что за херня, – сам собой вырывается шепот, Валька трет глаза и наваждение исчезает. Обычная деревянная дверь, она отворяется со скрипом, и захлопывается за спиной. Щелкает замок, отставляя незваному гостю только один путь. Вперед. Здесь нет окон. Одиноко свисающая на проводе лампочка с трудом освещает просторное помещение без мебели. Пустая коробка. Пещера. В темных углах колышутся тени. Странно, здесь неоткуда взяться ветру, лампочка висит неподвижно, однако краем глаза Валька нет-нет да и зацепит какое-то шевеление, замирающее, стоит только повернуть голову. Смесь всевозможных запахов дурманит, заливается в голову через нос, уши, глаза, закупоривает все патокой, тягучей и приторной, оглушает Вальку, заставляет упереть руки в колени и около минуты тяжело, с хрипом глотать воздух ртом. Ему кажется, что с каждым вдохом легкие наполняются жидким сахаром, который потом затвердевает внутри, постепенно лишая возможности дышать. Он не сразу видит у дальней стены неподвижное тело в камуфляжных штанах и вязаном свитере. Знакомая лысина поблескивает от выступившего пота. «Наверняка его голова сладкая, как леденец» мелькает странная мысль, и Валька пугается ее. С потолка по стенам стекает мед, неспешно скользят вниз ветвящиеся желтые щупальца. Они манят, переливаются в скудном свете, и, кажется, будто светятся сами, изнутри, словно медузы. Так и хочется припасть к ним ртом и жадно, причмокивая, всасывать в себя сладкое золото… – Нет-нет, я тут не за этим, – трясет головой Валька, и медовые водопады становятся подтеками, темнеющими на бетонных стенах. Валька хрипло выдыхает. Теперь можно двигаться дальше. Он медленно подходит к товарищу, переворачивает его на спину и… С криком отшатывается. Лица нет. Совсем. Вместо лица теперь – розовая мягкая вмятина, пахнущая зефиром, и в этом месиве виднеются зубы. Зубы? Нет – лишь желтоватые половинки засахаренного арахиса. – Я сошел с ума? – шепотом спрашивает сам у себя Валька и глупо хихикает. Тело Митяя выскальзывает из ослабевших рук, плюхается в натекшую из ран лужу малинового варенья. За спиной слышится шорох, Валька резко оборачивается и вскрикивает от неожиданности и страха. Из спрятанного в стене прохода… Прямо из стены, меся ладонями тесто, из которого она состоит, вылезает, словно вылепляет сам себя, человек. Сердце пропускает удар. Живот заполняется мороженым, а ноги будто прирастают к полу. Дыхание становится частым и прерывистым. Неужели это и есть папа Конфетного Короля? Он высокий и очень худой, полная противоположность своего отпрыска. Сырая, блестящая кожа цвета бетона, макушка царапает потолок. Руки походят на иссохшие ветки дерева, они волочатся по полу, настолько длинные, что кажется, будто он может дотянуться до противоположного угла подвала. Движения его резкие и какие-то угловатые. Больше всего этот человек напоминает паука. Валька отступает назад, медленно пятится до тех пор, пока не упирается в стену. Все. Бежать некуда. Сейчас паук схватит его своими лапищами и убьет, как убил Митяя, проломит голову и будет пировать на костях. Больше всего хочется сжаться в комочек и рыдать от страха и безысходности. Через карман чувствуется твердый уголок «Магны». Значит все не так уж плохо… Нет! Нельзя сдаваться! Валька с криком бросается вперед. Врезается головой и плечом в твердый живот, сносит преграду, сам катится по полу, пребольно ударяясь спиной. Отлежаться бы, перевести дух, но времени нет, он, кряхтя, поднимается и бредет к темнеющему впереди прямоугольнику выхода. Позади, издавая сдавленный сип, корчится на полу паук, сучит своими жердями, словно в припадке, и Вальке хочется думать, что он так и останется лежать, не сможет подняться, как перевернутая на спину черепаха, но разум подсказывает, что это не так. Надо спешить. Вот и дверь. Ее поверхность бугриста, изрыта трещинами. Темнеют вкрапления шоколадной крошки. Ручка крошится под пальцами, аромат свежего овсяного печенья воскрешает в памяти картины беззаботного детства. Валька тянет дверь на себя, и она отворяется медленно и неохотно, ее будто придерживают с той стороны. Нет, это просто наваливается невыносимая усталость, накатывает волнами, играет на стороне паука, стараясь помешать двигаться, бороться. И все-таки дверь открыта. Свобода! Сейчас он наконец покинет это странное и страшное место, побежит скорее домой, а затем, вместе с мамой в милицию, и плевать, что придется объяснять, как именно они здесь оказались. Но тут проем перегораживает широкая, практически круглая фигура, из тени выплывает лицо Конфетного Короля, злое, сморщенное, точно печеное яблоко. – Помоги, – хрипит Валька, хватаясь слабеющими пальцами за пропитанную натекшим из разбитого носа шоколадом, скользкую от него, кофту. Конфетный Король не отвечает. Он огромен, с каждой секундой он раздувается, словно кулич в духовке, заполняет своим телом узкий проем, как приторный смрад заполняет сознание, вытесняя любые потуги размышлять здраво, пропитывает собой мышцы, лишая их сил, подавляет робкое сопротивление агонизирующего разума. – Пожалуйста, – шепчет Валька, чувствуя, как дрожат ослабшие вдруг ноги. По щекам катятся слезы, он слизывает их, вздрагивает, чувствуя вместо соли яблочный сок. Конфетный Король молчит. Губы, две мармеладные гусеницы, кривятся в счастливой улыбке. Позади нарастает хриплое дыхание паука. На плечи ложатся костлявые ладони, длинные черные ногти впиваются в плоть, но Валька не чувствует боли, он уже ничего не чувствует, кроме бесконечной усталости, кроме раскаяния в опрометчивом своем решении сбежать из дома, кроме желания попробовать уже все эти столь долго дразнящие ароматами сладости. Огромная, непреодолимая сила увлекает назад и вниз, и он подчиняется ее воле. Через мгновение он оказывается на полу и видит над собой маленькую, с редкими клочьями волос, голову паука. Веки его сомкнуты и перехвачены широкими стежками грубых ниток, безгубый рот приоткрыт, длинный, словно у рептилии, язык беспрестанно облизывает бурые десны. Но Вальке плевать на паука, он смотрит выше, на потолок, туда, где плещется, вопреки всем законам физики,медовое озеро, тянется вниз янтарными пальцами, и Валька тянется к нему навстречу, широко открыв рот, мечтая лишь только попробовать это переливающееся великолепие, ощутить это приторное торжество на вкус хотя бы кончиком языка, и в этот момент мир вокруг поглощает мягкая убаюкивающая темнота…* * *
Он дожидается, пока Папа возьмется за дело, и только после этого входит в подвал. Раньше нельзя – прогонит. Толстые шерстяные носки тихо чавкают по малиновому варенью из головы того парня, что сначала казался другом, а затем вдруг наорал и ударил. К счастью, Конфетный Король не чувствует боли, Папа об этом позаботился. Пухлые пальцы зачерпывают стекающий по стене мед и отправляются в жадно распахнутую розовую бездну рта. Язык проворным мокрым червем проходится по всем складочкам кожи, по ногтям, слизывая все до мельчайших капелек. Глаза закатываются от удовольствия. Вот уже почти четырнадцать лет Конфетный Король питается только сладостями, но это ему еще нисколько не приелось. Каждый раз вкусно, как в первый. И живот, вопреки заявлениям теток с соседнего двора, не болел ни разу. Как и зубы. Подобравшись поближе, он садится немного позади и сбоку от Папы, так, чтобы все видеть. Ему нравится наблюдать за Папиным трудом. Несколько легких, едва заметных надрезов – и бежевая, сахаристая, будто бы яблочная, кожица, поддетая ножом или ногтем, легко отделяется, обнажая тонкую прослойку желтого зефира, под которым скрывается густая, волокнистая, ярко-алая пастила. Оглушительный клюквенный запах перебивает все прочие ароматы, и Конфетный Король опять начинается захлебываться слюной. Чтобы не наброситься на это пиршество, приходится надкусить собственный палец и тихонько посасывать горячий шоколад, медленно вытекающий оттуда. Тем временем Папа аккуратно, как только он умеет, извлекает из глазниц паренька два больших, круглых, с черными точками внутри зеленых кружков, леденца и кладет их отдельно. Такие особенно ценны. Затем упирается в образовавшиеся розовые дыры большими пальцами и без видимых усилий разламывает голову пополам, словно шоколадное яйцо. Человеческое тело становится очень податливым, когда за него берется Папа. Внутри, за тонким слоем пастилы и твердой сахарной скорлупы, прячется сероватый комок спрессованной сладкой ваты. Неровности на ее поверхности образуют сетку извилистых морщин. После того, как все составные части разложены в соответствующие кучки, Папа запускает ладони в живот, раздвигает его в стороны, словно занавески, хрустят, крошатся сахарные ребрышки… Поздним вечером, наевшись до отвала, Конфетный Король сидит на подоконнике в своей комнате и слушает музыку на плеере, найденном среди вещей недавнего гостя. – Перемен требуют наши сердца… – поет в наушниках неизвестный, но буквально за пару минут ставший таким родным голос. Конфетный Король не понимает, о чем эта песня, как и все прочие на этой кассете, однако ему определенно нравится такая музыка, она заставляет ощущать что-то помимо голода и радости, заставляет думать. Кто такой Папа и почему он не выходит из подвала? Как он превращает все в сладости? Что будет, когда Папа умрет? Может ли он умереть? Хорошо ли они поступают со всеми этими людьми и животными? Множество вопросов роится в голове, не знавшей прежде и одного… А затем песня заканчивается, и мысли утекают через какую-то невидимую щель, а пустота наполняется привычным густым киселем. Конфетный Король встряхивается и топает спать. Завтра новый день, можно будет опять радовать лакомствами детишек во дворе, и, разумеется, есть самому. Простая и понятная жизнь, что еще нужно? Конфетный Король натягивает одеяло до подбородка, счастливо улыбается и закрывает глаза.Александр Матюхин Рутина
Рутина убивает часто. Двенадцать процентов самоубийств происходит из-за того, что людям стало скучно жить. Десять процентов семейных пар разводятся из-за обыденности (пассивная смерть из-за клинической депрессии, каково?). Четыре процента людей, совершивших убийство, делают это, чтобы разнообразить свою жизнь. То есть кто-то берет молоток и забивает до смерти случайного прохожего просто потому, что ему надоело из года в год вставать по будильнику, ходить на работу, обедать в одной и той же столовой, каждый день слушать своего начальника и засыпать сразу после быстрого перепихона. Когда у меня на работе внезапно исчезает сотрудник, я представляю, что он решил вырваться из липких переплетений рутины. Может быть, он снял двух проституток где-нибудь на Проспекте Просвещения, наглотался таблеток, запил их виски с колой, трахался до потери сознания и умер от сердечного приступа на балконе, когда его обнаженное и вспотевшее тело нежно ласкали лучи восходящего солнца. Смерть – лучшее средство от рутины. На самом деле в большинстве случаев сотрудники просто увольняются, болеют, берут отпуск или выходные. Ничего интересного не происходит. Я веду конспекты их жизней, поэтому знаю наверняка.Люди придумывают себе хобби, чтобы не сойти с ума от рутины. Кто-то собирает марки, кто-то учится рисовать или вязать морские узлы. Я знавал одного человека, который облизывал внутренние стороны фантиков от конфет и подробно записывал вкусовые ощущения. Отличный способ вырваться из серости будней. Хобби – это что-то вроде спасательного жилета под креслом в самолете. У всех есть, но не у всех хватает ума вытащить его, вцепиться зубами в клапан, потянуть, наполнить воздухом и спастись. Многие гибнут просто потому, что не догадались заглянуть под кресло. Первое мое хобби – наблюдать за людьми, которых засасывает рутина. Они приходят на работу, заспанные или бодрые, с наушниками или уткнувшись в газету, со стаканчиком кофе в руках или меланхолично поедающие банан – похожие на серые тени, заполняющие пространство офиса с наступлением рассвета. Я среди них. Будто мы сбегаем от солнца, прячемся за столами, мониторами, ноутбуками, за пыльными шкафами с папками, в переговорке или крохотной столовой. Будто если мы выйдем на улицу, солнце растворит нас, сотрет с лица земли. Ритуал неизменен. Я знаю, кто опоздает, а кто придет раньше всех, кто начнет рассказывать о своей собаке, а кто будет смотреть в телефон. И, конечно же, я вижу рутину. Рутина похожа на жвачку, растаявшую на солнце. Это вязкие пятна, застревающие в волосах, облепившие лицо, плечи, ладони, уши, глаза. Чем больше человек погрязает в рутине, тем больше на нем жвачки. Эти люди мне интересны больше всего. День изо дня я наблюдаю, как эта масса поглощает человека, сжирает его заживо, превращает в вязкий комок однообразных действий. Рутина высасывает мечты, желания, эмоции, мысли. Обгладывает до косточек, оставляет лишь скелет базовых инстинктов. В какой-то момент человека уже не спасти. Я пишу в записной книжке: «Этот экземпляр сломался, несите другой». Два года назад у нас работала Сонечка. Ей было двадцать восемь, она дважды расставалась, а потом сходилась с парнем, который ее бил. Сонечка по утрам размещала в социальных сетях выписки из гороскопа. Потом выгуливала собаку, готовила парню завтрак, ехала в метро, читала по дороге «Мастера и Маргариту», затем заваривала себе зеленый чай с мятой, открывала рабочий ноутбук и до обеда разбирала и проверяла договора. Обедала Сонечка с главным бухгалтером – полчаса в кафешке на первом этаже здания − здоровая пища, овощные салаты без майонеза, ничего мучного – возвращалась за рабочий стол и снова проверяла договора. После работы она выходила на улицу и ждала парня, который забирал ее на машине. Если парень не успевал, Сонечка бежала к метро, снова читала книгу, добиралась до дома, выгуливала собаку, готовила ужин, занималась с парнем любовью и ложилась спать. Рутина сожрала ее за два месяца. Я до сих пор думаю, что Сонечку можно было спасти. Тогда еще я просто наблюдал и вел статистику. Тогда у меня не было второго хобби. Сонечка превратилась в вязкий кокон за неделю до Нового года. На корпоративной вечеринке она была уже безжизненной пустышкой, улыбающейся по сигналу, с нелепым набором мыслей и инстинктов. Напротив имени Сонечки я написал: «Надо было избавиться от своего парня».
Каждый день я иду на работу новым маршрутом. Никогда не пью кофе в одно и тоже время. Готовлю разные завтраки. В течение дня составляю список дел так, чтобы они отличались от тех дел, которые были вчера или на минувшей неделе. Если в среду я плавал в бассейне, то в пятницу отправлюсь в боулинг. Если в понедельник покупал картофель, то в четверг забегу в кафе, чтобы поужинать там. И еще пью таблетки от депрессии. Это был наш ритуал с Маринкой. День за днем, много лет подряд. Они нужны мне, чтобы окончательно не сойти с ума. Особенно, когда захожу в спальную комнату.
Полгода назад я решил спасти первого человека, то есть сделать шаг по освобождению мира от рутины. Выбрал Олю с ресепшена. Она в чем-то походила на Сонечку. Оля отчаянно хотела влюбиться, а потому вечерами ходила в ночные клубы, напивалась до чертиков, просыпалась в чужих постелях и целый день на работе жаловалась на мигрень. У нее была своя рутина, с запахами дамских сигарет, дорогого алкоголя и мужского пота. Ее рутина походила на сперму – белая с желтоватым отливом, тягучая и клейкая. Оля представлялась мне дешевой проституткой, которую рано или поздно найдут с перерезанным горлом на помойке. Вряд ли бы она выжила, если бы однажды я не пригласил ее вечером в кино. Мы провели отличный вечер, я намекнул, что можно будет выпить вина и поболтать о жизни в уютной обстановке. Офисные интрижки заводили Олю – она любила о них сплетничать. Мы переспали с веселой курьезностью и задором, а потом Оля прижималась ко мне под душем и спрашивала, что я буду делать с женой и дочерью, неужели у меня так все плохо в браке? Пришлось врать, чтобы оставить каплю надежды. С Олей я встречался три недели, а потом показал ей таблетки от депрессии и скотч, с помощью которого хотел спасти ее от рутины. Согласно статистике, почти шестьдесят процентов людей в корне меняют свою жизнь после какого-нибудь сильного душевного потрясения. Я рассчитывал, что Оля поступит правильно – ради ее же блага. Она рычала мне в лицо, что я мудак. Она рыдала. Ее слезы смывали остатки рутины. Оля сбежала, грозясь вызвать полицию, если еще хоть раз я проделаю что-то подобное. Я не послушался. Иначе – как спасти?
Олю я обсуждал с Глебом – нашим логистом, – которого тоже решил спасти. Он был белым пятном в скучной жизни офиса. Глеб ни с кем не общался и не дружил. Работал от звонка до звонка, не поднимая головы и не отвлекаясь. Вне офиса он, кажется, просто бездельничал. Глеба не интересовали кинотеатры и клубы, проспекты и музеи, антикафе и тусовки. Он не читал книг, не слушал музыку, не играл в игры. У него не было аккаунтов в социальных сетях, он не переписывался ни с кем в мессенджерах, не сплетничал с коллегами, не встречался с девушками. Мне пришлось напрячься, чтобы выявить его интересы. Глеб был скучным типом. Такие люди наполняют города до краев, от них веет безнадежностью и однообразностью, из-за них города считают депрессивными местами, где трудно дышать и наслаждаться жизнью. Про Глеба я написал в блокноте: «Почти безнадежен». И тем не менее решил помочь. У каждого человека должен быть шанс, верно? В конце концов я нашел ниточку в его скучном полотне жизни: Глеб часто заходил на сайты с кулинарными рецептами. Особенно любил леденцы, карамели, шоколад. Поэтому я пригласил Глеба в ресторан, где повара предлагают желающим приготовить то или иное блюдо. Позже он признался, что даже не думал, что в городе можно найти подобные развлечения. Видели бы вы, с каким упоением он проделывал фокусы с жженым сахаром и глазурью. − Для этого всегда есть друзья, − улыбался я. − Дети будут в восторге! – отвечал Глеб. Мы встречались раз в неделю, готовили сладости, съедали их, трепались о работе, разгружали мозг. Рутина ссыпалась с его кожи мертвенно-бледным порошком. Глеб быстро научился делать леденцы на палочках, и я в шутку советовал ему открыть свой бизнес. Битву с рутиной я выиграл, но для окончательной победы нужна была самая малость: придумать развлечение поопаснее.
В самом первом блокноте самая первая запись посвящена моей жене. Если бы десять лет назад мне сказали, что любимая женщина, ненаглядная Маринка, вечно улыбающаяся, активная, любящая прогулки превратится в один миг в безжизненный сгусток рутины, я бы не поверил. Рутине неоткуда было взяться. Мы были счастливы: мотались на велосипедах по городу, посещали бесконечные мероприятия, смотрели ночи напролет фильмы в кинотеатрах… никогда не сидели на месте. Всего три процента населения в больших городах способны искренне радоваться жизни. Долгое время я относил себя к этим процентам. Жаль, что не заметил рутину вовремя. Первая причина: Марине стал надоедать активный отдых. В какой-то момент она променяла путешествия за город на уютные посиделки в кафе. Затем стала чатиться с подругами, не выходя из дома. Уют обыденности понравился ей больше, чем веселая неопределенность. Она выдохлась. Вторая причина: ребенок. Наша дочь, как и все дети на планете, не цветок жизни. Она паразит, который сжирает здоровье родителей, их свободное время, будни. Она заставляет оказаться в тесной квартирке один на один с миллионом проблем, а еще со стрессом, скукой, отчаянием и, конечно, рутиной. О, от рутины не избавиться, когда есть дети. Мы не знали этого, потому что думали, что рождение ребенка – радость. Нужно иметь детей, разве не так? Они – это еще один кирпичик в отношениях, опора при создании крепкой ячейки общества. Чушь. Я люблю дочь, но ее появление распахнуло дверь для рутины. Помню тот день, когда внес укутанный в одеяльце комочек через порог квартиры. Маринка зашла следом. А за нами – тогда невидимые, липкие, словно расплавленная жвачка, жгутики рутины. Она просочилась в нашу жизнь стремительно: вместе с часовыми прогулками, вечерней стиркой белья, глажкой пеленок, с монотонными песенками, многочасовыми укачиваниями и убаюкиваниями, с обрывками сна и неожиданно однотипными действиями, которые требуется совершать раз за разом изо дня в день, каждый месяц, год или даже вечность. Мы ложились спать в тот момент, когда дочь закрывала глаза, – чтобы сэкономить драгоценные минуты отдыха. Выходили на прогулки только с коляской, по выведанному тихому маршруту. Занимались сексом быстро и безэмоционально, лишь бы удовлетворить потребность. Марина перестала выходить в кафешки и общаться с подругами, у которых не было детей. Большую часть времени она проводила между кухней и комнатой, между кормлениями и готовкой, между сном и реальностью. Тогда же в нашей жизни появились таблетки от депрессии. Их посоветовал Маринке знакомый врач, без рецепта, просто для того, чтобы лучше спалось, а мир стал выглядеть иначе. Однажды я вернулся домой, когда дочь уже спала. В квартире было непривычно тихо. Маринка сидела на полу на кухне, прислонившись спиной к холодильнику. Она как будто дремала. Рот ее был приоткрыт, голова чуть склонена на бок. Рядом валялся пузырек из-под таблеток. Я осторожно сел рядом, не понимая, что происходит. Прислушался к ровному дыханию жены. Она сказал, не меняя позы (да и выражение лица ничуть не изменилось): – Рутина вокруг нас. Видишь? – Что? – Рутина. Она у нас в доме. Такая вязкая плотная штука. Везде тут. Свисает с люстры, со стульев и с подоконника. Весь диван в ней, видишь? И у меня на ногах. Я моргнул – и увидел. Будто прозрел от Маринкиных слов, хотя дело, наверное, было в таблетках. Рутина плотно путала ее обнаженные лодыжки. Паутина липких нитей расплелась по полу, соткала узоры на окнах и на обоях. В тот момент что-то внутри моей головы щелкнуло. – Надо избавиться! – я бросился к кухонному шкафу, достал спичечный коробок, салфетки. Спички ломались в дрожащих пальцах. Салфетки не хотели загораться. А когда загорелись – огонь ничего не смог сделать с рутиной. Он чах и умирал. – Что это вообще за дикость? Так не бывает! Перед глазами темнело от волнения и страха. – Бывает, – ответила Марина спокойно. – Я давно ее вижу. Когда-нибудь она превратит нас в коконы. Будем смотреть на мир сквозь белую плотную пелену. Ни на что не реагировать. Перестанем радоваться, чего-то хотеть. Превратимся в обывателей. Как большинство вокруг. Тоже, в принципе, неплохо. Это ее нелепое слово – «обыватели» – рассмешило меня. – У нас галлюцинации от усталости. Давай умотаем на пару недель в отпуск, а? Отдохнем, и больше не будет видеться всякое. Завезем Веронику к бабушке, она давно просила. Сделаем крюк, ну и что? Развеемся. Куда бы я ни посмотрел, рутина была повсюду. Марина грустно покачала головой и продолжила: – Мы не победим рутину. Если она поселилась в квартире, уже точно не победим. Я сопротивлялся несколько дней: рылся в Интернете, переписывался с невидимыми оппонентами на бесконечных форумах и чатах. Нашел только детские страшилки и крипипасты, от которых не было толку. Спасительного рецепта, как избавиться от рутины, не существовало. Разве что один совет врезался в память: постарайся не повторяться и разнообразь, черт возьми, свою жизнь! – Нам нужно разнообразить жизнь! – пересказывал я Маринке. – Мы или сойдем с ума, или победим. Маринка тихонько смеялась. Гугл выдает три миллиона статей, содержащих слово «рутина», но ни в одной из них ничего не сказано про смерть.
Через две недели Марина свесилась с балкона, провисела так пару минут и сорвалась. Мы жили на третьем этаже. Марина упала в кусты, росшие под окнами, но вывалилась из них и ударилась головой об ограду, получив сотрясение и рваную рану на шее. После звонка врачей я мчался в больницу, думая лишь о том, что это рутина вышвырнула Марину из окна. Злился, представлял всякое. Жена лежала на больничной койке и пила сок. Она была необычайно весела. – Я нашла способ! – пробормотала Маринка. – Смотри, Петь, я чистая с головы до ног! Действительно, вязкие локоны будто стряхнули с нее, не оставив следов. – Это все страх, адреналин, – сказала Маринка. – Ты же говорил про разнообразие! Я поняла. Рутина любит людей, которые смирились с жизнью и плывут по течению, да? Она пользуется тем, что большинство людей не испытывают резких эмоций. Не влюбляются, ничем не интересуются, не путешествуют в поисках ярких впечатлений. Понимаешь, к чему я клоню? Рутина – это падальщик. Ее жертвы и так уже почти эмоционально мертвы. И вот я решила провести эксперимент. Встряхнула себя эмоционально. Поставила перед страхом смерти. – Чуть не убилась! – Верно. Случайность. Не удержалась. Я хотела всего лишь напугать саму себя. До безумия, понимаешь? Чтобы почувствовать такой дикий, животный страх, чтобы рутина слетела с меня, как стервятники слетают с внезапно ожившего животного. – А такое бывает? Мне кажется, это что-то еще более безумное, чем рутина. – Но ведь помогает! – она снова показала чистые ноги. – Мы снова будем жить, Петь! Жить, как раньше!
Следующая запись в блокноте: «Проснулся ночью и обнаружил, как липкие щупальца медленно поднимаются по моим лодыжкам. Захотелось немедленно вскочить, стряхнуть, совершить что-то эдакое, что уничтожит рутину». Конечно, к тому времени мы с Мариной поняли, что рутина не исчезает надолго. Ее можно было лишь отогнать на время, как голодную дворнягу. Я осторожно поднялся с постели и вышел на кухню. Вялая мысль зародилась в голове. Взял кухонный нож, положил левую руку на деревянную доску, растопырив пальцы. Несколько лет назад Марина выжгла на доске персонажа из мультфильма «ВАЛЛ-И». Вот уж кто погряз в рутине, так это человекоподобный робот, собирающий мусор. Не позавидуешь. Затем я начал проделывать фокус с ножом – переставлял лезвие между большим и указательным пальцами, между указательным и средним, между средним и безымянным и так далее, возвращаясь, раз за разом ускоряя движения. Лезвие ножа оставляло в доске мелкие дырочки. Внутри меня что-то напряглось. Тут-тук-тук, и далее – туктуктуктуктук. Отрешенная мысль: одно неверное движение, и я могу лишиться пальца. Я отвлекся на долю секунды, бросив взгляд на ноги. Рутина осыпалась высохшими хлопьями и исчезала, едва коснувшись пола. Нож бесшумно распорол кожу на мизинце. Лезвие соскочило, срезало еще и ноготь, разбрызгивая темную кровь по лицу грустного ВАЛЛ-И. Выпил таблетки от депрессии. Три штуки, залпом. Закрыл глаза, облокотившись о стол. Чувствовал, как бешено пульсирует порез на пальце. Все будет хорошо, не так ли? Хотелось в это верить.
Запись в дневнике: «Наблюдение номер двенадцать. Мы должны бояться чего-то неожиданного. Один и тот же фокус не срабатывает. Проблема в том, что, играя с ножом еще раз, я буду ЗНАТЬ, какие эмоции испытаю. Даже новый порезанный палец не спасает ситуацию. Рутина в таком случае не исчезает».
Мы экспериментировали со страхом три с половиной года. Как только рутина появлялась в нашей жизни – уничтожали ее. Способы: перебегать оживленную трассу, нестись на велосипеде с горки, прыгать с мостов в реки, глотать острые предметы, дышать газом, ввязаться в драку с неадекватными пьянчугами, резать себя, воровать что-то и убегать, прыгать в лифте, совать конечности в огонь, играть в русскую рулетку с помощью травмата. Мы выдумали много чепухи разной степени дебильности. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что целыми днями ищу в Интернете способы нанести себе увечья или подвергнуть жизнь опасности. В моем блокноте сорок две страницы из ста были посвящены описанию способов вызвать страх. Я не был адреналиновым наркоманом, а Марина не хотела, для примера, спускаться вниз головой в вонючую дыру открытого канализационного люка. Нам просто это было необходимо, чтобы выжить, понимаете? Иначе никак. Сидя в офисе с девяти утра до шести вечера, я крутил в голове одну и ту же мысль: как с этим жить дальше? Почему мы видим рутину, а остальные нет? Что это – семейный психоз или уникальность? Сможем ли мы отбиться? Может быть, так и начинается апокалипсис? Когда другие заметят его, будет слишком поздно? А потом Маринка умерла. Наша пятилетняя Вероника сидела на кухне, кушала блины и смотрела мультфильмы, а Маринка лежала в ванной комнате с разъеденными химией внутренностями. Спасаясь от рутины, она запила таблетки жидкостью для очистки труб. Не знаю, какую дозу она выбрала, хотела ли просто испугать саму себя или специально ушла из жизни, чтобы больше не участвовать в этой игре. Я стоял на пороге ванной комнаты, разглядывал скрюченное тело и думал о том, что вокруг Маринки нет больше рутины. Липкие разводы ползли по стене, свисали с потолка и со стиральной машины, но на теле мертвой жены не было ничего. Почему-то я решил, что Маринка победила окончательно и бесповоротно. Она успокоилась, ей больше не придется выдумывать сто и один способ как победить рутину при помощи страха. Ее психоз завершился. Я обмыл тело, завернул в стрейч-пленку и перенес в спальную комнату. Уложил на кровать, лег, поглаживая мертвое Маринкино лицо. Ее больше не было, но осталась Вероника. Теперь только мы с дочерью – рыцари подступающего апокалипсиса. Квартира постепенно зарастала вязкими отростками, опутывала мебель, закрывала окна. С миром вокруг было не лучше – я видел рутину повсюду: на людях, в транспорте, в метро, в офисе, в магазинах и автомобилях, в чужих квартирах. Но моя мертвая Маринка, аккуратно завернутая в пленку, спрятанная на балконе среди рабочего хлама, оставалась чиста. Смерть – идеальный помощник в борьбе с рутиной. Примерно в это время я решил спасти мир.
– Только так можно увидеть рутину, – говорил я, предлагая Глебу зеленые круглые таблетки. – Поверь, я принимаю их уже четвертый год. Без них не выжить. Одна таблетка в день. Нужно, чтобы ты увидел рутину. Она повсюду. Если мы не спасем людей, то никто не спасет. Я обещал, что не буду настаивать, если он не увидит рутину. Обещал отстать навсегда. Глеб выпил одну сразу, а вторую в тот день, когда пришел ко мне в гости. Это был волнительный момент, переломный. Я знал, что рано или поздно кто-то станет моим помощником. Верил в Глеба. Ощущал себя Морфеусом – в сущности им и был. Я показал ему Тринити. Мы стояли в спальной комнате, которая плотно заросла вязкой и липкой паутиной рутины. В центре на кровати лежало тело Маринки. Я сделал из нее мумию. Не специально, так получилось. Не мог смириться с мыслью, что нужно будет уложить тело любимой жены в могилу и забросать землей. Рутина не трогала ее. Иногда казалось, что Маринка хочет заговорить со мной. Из ее иссохшего рта будто бы выползали слова. Я хранил тело на балконе, там, куда маленькая Вероника не могла бы добраться. А когда дочь отправлялась к бабушке – доставал, укладывал на кровать, спал рядышком, обнимал и гладил. Это была моя Маринка, мой символ борьбы. – Ты крут! – восхитился Глеб. – Как тебе удалось прятать тело? Никто не спохватился? – Я знаю все о ней. Имею доступ к телефону, ноутбуку, социальным сетям. Многие до сих пор думают, что Маринка жива. Повезло, что она не работала, а удаленное общение – это спасение. Мы ведь ведем замкнутый образ жизни с того момента, как родился ребенок. Многим друзьям до сих пор кажется, что мы повернулись на Веронике. А дочь за эти полгода и сама привыкла, что мамы нет. Я говорю, что Марина в путешествиях. До рождения Ники она любила мотаться по стране. – У тебя башка набекрень! – перебил Глеб, улыбаясь. – Это здорово. А где сейчас Вероника? Где-то в квартире? – У бабушки. Это двадцать километров от города, на даче. Я теперь часто ее туда вожу. Все счастливы. – Расскажи подробнее, – попросил Глеб. Он подошел к моей жене и осторожно погладил ладонью стрейч. – Что у тебя за цель? Я ответил: – Чтобы никто больше не оказался в коконе рутины. Как моя жена. Это все ради нее… И еще хочу спасти все человечество разом.
Я рассказал Глебу про то, как спасаю Ольгу. Ее крохотная квартира-студия на юге города насквозь пропахла сигаретным дымом, парами алкоголя и блевотины. Вязкая желтоватая рутина облепила окна, стены, чавкала под ногами, свисала с ламп и липла к ладоням. Я ведь не поверил, что она победит рутину. Расставание с ней было лишь небольшой встряской, рутина отступила, но не думала исчезать. Она все еще липла к роскошным Олиным волосам и блестела пятнами на ее одежде. Ольга не искала новую работу, не искала будущего мужа, не стремилась влюбиться или хотя бы как-то изменить жизнь. После увольнения Ольга поплыла по течению. Она спускала деньги на бары, ночные клубы, дорогие покупки. Бесконечно болтала с подругами или валялась дома на диване перед телевизором за просмотром сериалов. Нет в жизни ничего более питательного для рутины, чем сериалы. Пока Ольга не делала ничего, чтобы выбраться из рутины – вязкие щупальца окутывали сначала ее квартиру, а потом принялись за нее саму. В какой-то момент Ольга перестала выходить из квартиры. Она заказывала еду на дом, покупала вещи в Интернет-магазинах, даже нашла себе работу на удаленке. Ольга крепко врастала в диван. Еще немного, и она превратилась бы в кокон. Тогда-то я и решил действовать. Я пришел под видом курьера. Когда Ольга открыла, не сразу узнав меня, я ворвался внутрь. У меня не было хлороформа – да он и не действует так, как описывают в фильмах, – но зато были нейлоновые стяжки и скотч. Я повалил Ольгу на пол, потому что некогда было объяснять, связал, заклеил рот и оттащил в комнату. О, боги, какой же грязной и вонючей была эта комната. От запаха рутины меня чуть не стошнило. Но с Ольгой тоже было далеко не все в порядке. Она погибала, и я стал действовать решительно. Я спросил, хочет ли Ольга умереть быстро, или лучше сначала ее изнасиловать? Включил запись на телефоне, изображая форменного маньяка. Удалился, пританцовывая, на кухню и вернулся с ножом. Я коснулся ее шеи лезвием, провел до ложбинки между грудей и слегка надавил, едва разрезая кожу. Ольга стонала, корчилась и мычала. А рутина слетала с нее струпьями, как и было задумано. Тогда я великодушно пообещал, что не убью ее (и не собирался, в общем-то, Глеб, даже в мыслях не было), снова ушел на кухню и растолок три таблетки от депрессии. Заставил Ольгу выпить. Сказал, что приеду вечером, и мы продолжим. Ожидание страха смерти – лучшее средство от рутины, помните?
– И ты вернулся? – спросил Глеб. Мы перебрались на кухню. – Еще бы. Я стал приходить к ней каждый день. Кормлю, убираю, вожу в туалет. Она лежит на диване и ждет меня. – Давно? – Вторую неделю. Она первая в моем списке тех, кого надо спасти. – Я показал Глебу один из блокнотов. – А дальше пойдем по офису. Марьиванна из бухгалтерии, Катя и Коля из отдела продаж. Еще пятеро из логистики. Петрович из грузоперевозок. Все они погрязли в рутине. Дом, офис, дом, дети, жизнь от зарплаты до зарплаты, пятничные пьянки, субботнее похмелье, однообразные маршруты на работу и с работы. Надо избавляться. – И ты сам все это придумал? Про спасение человечества, про великую цель в жизни? – Глеб принялся возбужденно ходить кругами, запустив пальцы в волосы. – Мы с Маринкой. – Как же скучно я жил! – сказал Глеб. – Какие же мелкие у меня были желания… А я не решался, не думал расширить границы… – В том-то и суть! – подхватил я. – Всего-то нужно пугать людей! Всех, понемногу. Разнообразно. Заставить выйти из зоны комфорта! Глеб остановился у холодильника, разглядывая магнитики с фотографиями. – Господи, какая же милая у тебя дочь, – пробормотал Глеб хрипло. – Хочешь, я угощу ее леденцом на палочке? Вкусности для детей – это мое хобби! Что-то с его голосом было не так. Я развернулся – слишком медленно – и увидел, как взбудораженный, трясущийся от напряжения Глеб хватает со стола кружку и кидает в меня. Я увернулся, кружка со звоном разбилась о стену, но Глеб уже бросился через стол, ударил кулаком в нос – что-то сломалось будто внутри головы! Потом он цепко схватил меня за ворот, уронил на пол. Я пытался сопротивляться, но Глеб был явно сильнее. Он бил меня головой о пол, сев сверху. Удары сыпались один за другим. Кулак Глеба с хрустом выломал несколько моих зубов, рот наполнился кровью. Я потерял сознание.
Мне бы хотелось сказать, что все закончилось плохо. Например, что я пришел в себя в отделении полиции или на больничной койке, перетянутый вдоль и поперек ремнями. Что полицейские нашли Ольгу, и она дала на меня показания. А Глеб рассказал бы всем историю про мою жену и блокноты, в которых есть личные телефоны, адреса, привычки, расписания жизни почти двухсот человек. Это было бы очень плохо, не спорю. Я бы или сидел в тюрьме, или принудительно бы лечился. Я бы, возможно, перестал видеть рутину, потому что психологи что-нибудь сделали бы с моими мозгами. Я бы признал, что сошел с ума, а вернее – мы вместе с женой сошли, но она успела сбежать из этого мира, усугубив мое положение. Я бы стал тихим и послушным, прожив остаток жизни с твердым убеждением, что поступил неправильно. Плохо, безусловно. Но этого не произошло, потому что все оказалось еще хуже.
Я больше не могу вести записи, потому что плотно перемотан стрейч-пленкой, а для верности перетянут скотчем. Предварительно меня раздели, и я лежу без движения днями, неделями, месяцами – может быть, прошел всего час, но время разломилось в моей голове, как скорлупа сгнившего ореха, – и чувствую, как кожу разъедает полиэтилен. Могу только кричать (соседи не слышат). Моя ошибка: я знал, где живет Глеб, выяснил его увлечения и интересы, но никогда не был у него в квартире. А ведь квартира человека много говорит о нем. Стены панельной двушки Глеба были густо увешаны фотографиями маленьких девочек. Глеб уложил меня в комнате без мебели. Тут были заколочены окна, а стены, потолок и пол обшиты звукоизоляцией. Он заставил выпить стакан воды с растворившимися таблетками от депрессии. – В этой квартире можно кричать сколько угодно, – доверительно говорил Глеб, когда я наорался до боли в горле. – Спасибо тебе. Я понял, как надо жить и зачем. Очень, очень правильное решение. Ты мой кумир теперь. Образец для подражания. Его взгляд задумчиво скользил по стенам, где кнопками, скотчем и синей изолентой были развешаны черно-белые распечатки и фотографии детей. Девочки смеялись, хмурились, плакали, играли с игрушками, катались с горок. Кажется, Глеб украдкой фотографировал их. Чуть позже Глеб привез Ольгу и положил рядом. Мы кричали вдвоем. Умоляли. А Глеб поил нас водой с таблетками и иногда кормил вареными макаронами и пельменями. Он говорил, что не хочет разлучать нас. Ведь Ольга стала для меня тем, кто открыл дверь к достижению цели. Ольга нужна была, чтобы действовать на меня умиротворяюще. А я смотрел, как она умирает, и сходил с ума. Не знаю, сколько времени прошло. Мы не различали день и ночь, не видели света – кроме мельтешения болтающейся под потолком слабой лампочки. Рутины не было, но очень скоро я понял, что рутина – не самое страшное, что есть в этом мире. Мое тело постоянно чесалось, мышцы сводило судорогами, затекшие конечности болели так, что хотелось ползать по полу, словно червь, чтобы хоть как-то распрямить их, пошевелить. Я перестал спать и много времени просто смотрел в потолок, прокручивая в голове прошлую жизнь. Где-то я свернул не туда. Где-то влез не в свое дело и совершил много обидных ошибок. Теперь вот придется расплачиваться. Через миллиард лет или через пару дней умерла Ольга. Ее тошнило кровью. Глеб перестал приносить еду. Он появлялся только для того, чтобы залить в меня кислую серую воду. Не растворившиеся круглые таблетки плавали по ее поверхности.
Как-то он сказал: – Я никогда не убивал раньше и не приставал к детям. Только фотографировал, а потом разговаривал с фотографиями, как с живыми. Но мысли были… разные, не очень хорошие. Отвратительные даже. Видишь, подготовил комнату. Но не решался. А потом появился ты со своей рутиной и острым желанием меня спасти. Ты был одержим идеей, и эта идея захватила меня тоже. Я понял, что каждый человек должен идти к своей цели, несмотря ни на что. Даже если эта цель отвратительная или выдуманная. Всегда ведь есть люди, которые двигаются к горизонту, зная, что никогда его не достигнут. Поэтому, наверное, я держу тебя здесь. Ты мой пример. Прихожу посмотреть, зарядиться энергией. Я уже почти решился. Еще чуть-чуть. – Решился на что? – спросил я. Глеб снова не ответил, а лишь разглядывал фотографии на стенах. И так все было ясно. – Не трогай мою дочь, – попросил я. – Хотя бы дочь не трогай. Он вышел, а я попробовал кричать. Ничего не получилось.
Еще через какое-то время Глеб зашел в комнату, неся на плече небольшой сверток. Он положил его на пол. Сквозь целлофан и тряпки проступили очертания детского тела. – Я решился! – радостно сообщил Глеб. В его движениях чувствовалась одержимая суета. – Я раскрылся до конца! Теперь буду свободен и счастлив. Никакой рутины, никаких ограничений, только светлая цель впереди! Как у тебя с Маринкой и спасением человечества! Он достал канцелярский нож и резкими движениями содрал с меня стрейч-пленку. Я заскрипел от боли, раскрылся, как бабочка, выбирающаяся из кокона. – Ползи, ты мне больше не нужен, – сообщил Глеб и стал быстро сбрасывать с себя одежду. – Я не буду тебя трогать, друг. Ты много хорошего для меня сделал, открыл глаза на мир и все такое. Такие должны жить. Я не мог пошевелиться несколько минут. Боль пронзала тело от шеи до кончиков пальцев на ногах. Глеб же стащил трусы и остался только в носках – его худое, костлявое тело блестело от пота в тусклом свете лампочки. Член стоял торчком. Глебу не было до меня дела. Он склонился над свертком и стал разрывать его голыми руками. Я перевернулся на живот и медленно пополз в сторону открытой двери, с трудом перебирая руками и ногами. Встать я не мог. Сзади пыхтели и постанывали. Рвалась пленка. Я хотел убежать сразу, добраться до выхода, постучать к соседям, позвать на помощь, вызвать полицию. Но я полз очень медленно. Атрофированные конечности сопротивлялись, мозг не успевал получать правильные команды. В меня будто воткнули миллион мелких иголок. Перевалился через порог и замотал головой, пытаясь понять – куда ползти. Слева по коридору – входная дверь. Справа – кухня и вторая комната. За спиной вспорхнул к потолку и тут же затих тонкий детский вскрик. Девочка. Вероника. – Остановись! – закричал, или подумал, что закричал я. Глеб не ответил. Он радостно пыхтел и постанывал. В тот момент я понял, что сделаю с ним. Прикую к батарее и отдам рутине. Пусть она сожрет его, мне не жаль. Главное, добраться до кухни и схватить самый большой нож, который только найду. – Остановись, слышишь? – продолжал кричать я, очень медленно двигаясь по коридору. Ноги волочились, как две сухие ветки. Глеб не отвечал. Конечно, ему было не до этого. Я рывком вполз в кухню и понял, что она пуста. Стены, обшитые звукоизоляцией, были оклеены фотографиями и черно-белыми распечатками девочек. Ни столов, ни стульев, ни какой-либо посуды, ни ножей или вилок. В центре кухни лежала моя мертвая жена. Глеб притащил ее сюда, потому что знал, что я увижу. Раскрыл ее тоже, избавил от стрейч. О, он отлично понял суть страха. Мои зубы стукнули друг о дружку. Рутина начала осыпаться мертвыми хлопьями со стен и потолка. Рутина умирала – мой страх был столь силен, что не оставлял ей шанса. Возможно, в этот момент я спас весь мир. Но какой в этом толк? Из глубины квартиры закричали, и на изломе крика Глеб зажал жертве рот. Я развернулся, пытаясь совладать с телом. Начал ползти в обратном направлении. Больше не стояло выбора – комната или входная дверь. Апокалипсис уже наступил, и, хотя я был спасителем человечества, мне все равно нужно было добраться до цели. Чтобы вцепиться зубами в горло Глеба.
Оксана Ветловская Мать-гора
Склонившись над чертежами, Кайсаров невольно прислушивался к доносившемуся из отворенного окна чужому, непривычному говору. – …змей к нему, говорили, все летат да летат. Змей, грят, богатство таскат. А он и впрямь богато жил, а как помер – ничо в доме не нашли, одни стены голые… Было жарко, и вязкая, муторная эта жара была сродни редкой петербургской – будто дышишь сквозь горячую мокрую тряпку, и такая же тряпка облепляет все тело. Вообще, климат тут напоминал столичный: со своенравной, переменчивой погодой и холодными ветрами, но здешний лесной воздух отчего-то казался Кайсарову тяжелым, будто близость гор каким-то образом передавала воздуху плотность камня. Порой болела голова, тоже как-то непривычно тягостно, начиная с затылка. Инженер Остафьев говорил, что это все из-за постоянных перепадов атмосферного давления. Остафьев, старше Кайсарова на десяток c лишним лет, маялся тут головной болью почти беспрерывно, еще с тех пор, как зимой приехали сюда на изыскания. – …чо помер? Да рыба каменная ему в рот залетела. Зевал, и залетела. Каменную Девку он чем-то обидел, а кого она занелюбит, тому сделает чо-нибудь. Грят, под Мать-горой не то река, не то озеро, и там рыбы с каменными зубами. Таку рыбу пошлет, и та все потроха выест. После того человек быстро помират… Говорок принадлежал крестьянке Авдотье, которая каждое утро ходила на рынок мимо дома, что Кайсаров нанял под контору, а после полудня возвращалась, по дороге успевая громко переговорить со всеми встречными, и разговоры ее обычно сводились к диким небылицам про ее родню и соседей. Кайсаров давно утвердился во мнении, что Авдотья была просто-напросто кем-то вроде местной блаженной. При ней постоянно находился мальчик лет шести, тоненький, с большой круглой шелковисто-белой головой, похожий на одуванчик. Очень тихий, мальчишка этот иногда принимался так же тихо, но очень неприятно шалить: подбирал с дороги какой-нибудь мусор или конский навоз и кидал в окна ближайшего дома, особенно в раскрытые. Авдотья тогда давала ему подзатыльников и говорила: «Чо барагозишь?» Здесь, на Урале, можно было услышать всякий говор: то акающий среднерусский, то вдруг хохляцкий – здесь сначала беглые селились, а позже сюда стали привозить со всей России крестьян, проигранных помещиками уральским заводчикам. Но больше всего уже было своего, сложившегося, самобытного: очень быстрая, монотонная, неживая какая-то речь, с проглатыванием целых слогов и невыносимым «чоканьем». Местные говорили так, будто кашу во рту языком гоняли. Кайсарова это раздражало. Впрочем, в последнее время его раздражало все, куда ни глянь. С тоннелем дела шли совсем плохо. При изыскании, когда в любую погоду инженеры поднимались на окрестные склоны, Кайсаров разработал такой вариант, при котором строительство тоннеля сокращало железную дорогу аж на десять верст и давало экономию в миллион рублей. Своим вариантом Кайсаров гордился и долго его пробивал. Начальник железной дороги никак не желал принимать новый проект, стоял на том, что строительство пути в обход самого непреодолимого участка гор не только разумнее, но и безопаснее, однако истинная причина была в другом: чем дороже казне выходило строительство, тем больше можно было растащить казенных денег. Вообще, нажива да стяжательство при постройке всегда шли далеко впереди государственных интересов, и не принимавший подобных порядков Кайсаров, даром, что ему только тридцать лет исполнилось, уже успел нажить себе в Управлении железной дороги множество врагов. Однако находились у него и защитники. В конце концов, под его началом железная дорога строилась быстро и, действительно, выходила куда дешевле обычного, да еще славился Кайсаров среди инженеров тем, что умел провести железнодорожную ветку по самым, казалось бы, непроходимым местам. При изысканиях картина выглядела вполне обнадеживающей: геологи предупреждали, что весь горный хребет в окрестностях испещрен глубокими трещинами, но одна гора, Мать-гора, как ее называли местные жители, состояла из породы относительно однородной и потому пригодной для безопасного строительства. Однако на деле все оказалось по-иному. – …а ишшо другой мой сосед все жену бил да к вдове напротив хаживал, так жена Каменной Девке пожалобилась, и стал у мужа его нечестивый уд каменным, а вскоре помер он… – струился с улицымонотонный говорок крестьянки. Когда ж она умолкнет-то, поморщился Кайсаров. Окно, что ли, закрыть. Но духотища была нестерпимая, да накурено – не продохнуть. Троих инженеров, своих подчиненных, Кайсаров отпустил обедать, а сам все сидел над планами и профилями, ерошил волосы. Вот кому тут «уд каменный» будет вместо дальнейшей службы, так это ему, Кайсарову, если ветку все же придется вести южнее и получится перерасход. И надо же было такому случиться, когда тоннель почти пробит. Да, с самого начала работа шла негладко: внутренности горы оказались непредсказуемы – то на подземную реку рабочие наткнутся, то обвал случится. Воду отвели – устроили дренажную галерею, проходку после обвала повторили, установили дополнительную крепь. Каждый раз при авариях гибли рабочие, но вот людей-то, в отличие от денег, Кайсаров не считал. Люди – самый непрочный материал. Самый легко заменяемый. Тоннель пробивали с двух сторон, и когда уже почти насквозь прошли, то часть стены, казавшейся надежной, монолитной, обрушилась, и за ней открылся большой разлом, такой глубокий, что даже нельзя было сказать, как далеко он уходит в недра. Пока приняли решение наблюдать – если разлом не будет увеличиваться, то заделать его цементом и продолжить работы, а если трещина будет шириться, то убирать породу, пока состояние разлома не станет стабильным. Однако чутье подсказывало Кайсарову, что в проклятый этот разлом может рухнуть преизрядный участок тоннеля и пускать там поезда опасно. И как ни поверни теперь – что прокладка нового тоннеля, что постройка железной дороги в обход, – все выходило задержкой, перерасходом казны и немилостью начальства. – Каменная Девка – она в горе живет? – Кайсаров узнал живой, любопытствующий голос Елецкого, самого молодого своего инженера, недавно закончившего учебу. Елецкий, по его собственному признанию, «баловался литературкой» и, приехав в это богом забытое уральское село у подножия горы, с азартом принялся собирать здешние предания, легенды и былички. – А то, – охотно ответила Авдотья. – Каменна Девка – дочь, а гора – ейная мать. Тут в стекло распахнутой створки что-то звонко стукнуло, и по столу, по разложенным бумагам покатилось что-то небольшое, круглое – сухое конское яблоко? Кайсаров в бешенстве шагнул к окну, перегнулся через подоконник. – Пошла вон отсюда! – крикнул он Авдотье. – И щенка своего забери, и чтобы к этому дому близко не подходила, не то прикажу плетьми гнать! Белобрысый мальчик опустил поднятую было в замахе руку и спрятался за материн подол. Авдотья всмотрелась в Кайсарова белесыми своими глазами – бледные радужки и белые брови в сочетании с грубым, лошадиным лицом делали ее похожей на старуху – и сказала: – Ох, тяжко тебе, барин: сердце у тебя каменное. – Пошла!.. – Зачем вы так, Георгий Иванович? – осторожно сказал Елецкий, когда крестьянка удалилась. – Живая энциклопедия народного творчества, между прочим. – Вы зачем сюда приехали? Ради работы или ради народного творчества? – сухо сказал ему Кайсаров. – Займитесь делом. Елецкий пошел в дом. Подчиненные весьма уважали Кайсарова, но не сказать чтобы любили. Рабочие же его и вовсе боялись – если пройдет по готовому участку дороги и заметит что-нибудь неладное – кары воспоследуют самые суровые, начиная со штрафов. Высокий, худой, с копной темных волос и орлиным носом, Кайсаров выглядел неприступным и мрачным; при разговоре имел привычку слегка поворачивать голову из стороны в сторону, пристально глядя на собеседника поверх мелких очков; и оттого не раз коллеги отмечали – было в нем что-то от ворона, который высматривает, как бы в глаз клюнуть. Была у него еще одна примечательная особенность: хоть и молод, и недурен собой, но не был он женат и чурался общества женщин. Однажды он случайно подслушал, как Жеребьев тихо спросил у Елецкого (оба молодых инженера были из одного города и приятельствовали): не из этих ли Кайсаров. Из кого, не уточнил, но было ясно, что говорил он о грехе, порицаемом людьми и караемом государством. Тут Кайсаров зашел в комнату, и Жеребьев мигом стушевался под его тяжелым взглядом. Собственно, Кайсарова не интересовало ничего, кроме работы. Покрыть сетью железных дорог всю страну. Чтобы поезда неслись от Петербурга до Владивостока. Чтобы дикие, непроходимые, нескончаемые просторы прирученными, укрощенными верстами ложились под ноги, пронзенные надежной железной колеей – что сокращала время пути, приближала великолепие технически оснащенного будущего. А женщины – что женщины… Расходный материал природы для строительства последующих человеческих поколений. Не более того. Тут в комнату вошел как раз Жеребьев – еще прежде, чем отворилась дверь, Кайсаров узнал его по надсадному кашлю. Зимой на изысканиях Жеребьев сильно простудился, с тех пор так и кашлял – все глуше, все утробнее, с хрипами глотая воздух во время приступов. Остафьев, на правах старшего, не раз обращал внимание Кайсарова на это обстоятельство: «Сгорит ведь, дайте вы ему отпуск, Георгий Иванович», – но Кайсаров напоминал, что вместо обещанных восьми человек Управление направило ему лишь трех, и отпуск всем будет только тогда, когда закончат работы. Между тем, выглядел Жеребьев уже совсем измученным и нездоровым. Вместе с молодым инженером в комнату вошел бровастый, насупленный Гуров – начальник работ, а следом один из десятников – коротконогий мордатый малый с очень хитрым прищуром, из тех, что записывают за рабочими каждый прогул, а сами подворовывают по мелочи, – на такое даже Кайсаров закрывал глаза, потому что иначе пришлось бы разогнать вообще всех. – Георгий Иванович, у нас тут еще одна беда приключилась, – обреченно сказал Жеребьев и посмотрел на начальника работ. – Беда не беда, а дичь какая-то, – Гуров развел тяжелыми ручищами. – Ну, Семен, ты не тяни, говори сам, – это было сказано десятнику. Тот, аж приседая от подобострастия перед начальством, начал: – Ваш-благородие, вот как на духу, сам слыхал! В разломе девка поет. Тоненький такой голосок. Старатели говорят – где в горе девка поет, там самоцветы лежат или золото. Это у нас все знают… – И что дальше? – свирепо спросил Кайсаров. – Какой еще голосок в разломе, вы что там, очумели все, да еще чтобы мне такое рассказывать? – Ну, один из мужиков наших и полез проверить, прям в провал, – зачастил десятник, попятившись. – А дальше я и рассказать не умею, ваш-благородие. Это видеть надобно. Из провала он вылез еще живой, но говорить уже не мог, а потом… – К доктору его понесли, только донесли уже мертвым, – закончил Гуров. – В мертвецкой лежит. Вам, верно, лучше глянуть. Всякое у нас на проходке случалось, а такого еще не видал. – Прямо сейчас пошли, – резко сказал Кайсаров. Все равно работа не спорилась, а тут хоть пройтись, развеяться да посмотреть, в самом деле, что там у рабочих такое стряслось. Если бы кто в этот провал проклятый упал и голову бы себе насмерть разбил – ради такого сообщения к самому́ главному инженеру не пошли бы. Значит, и впрямь нечто из ряда вон. Уже выходя из комнаты, Кайсаров вспомнил: надо бы убрать ту дрянь, что ему крестьянский мальчишка в окно кинул. Наклонился под стол – кругляш лежал там, и оказался не конским яблоком, а округлым камешком с какими-то блестками. На миг Кайсарову почудилось, будто блестящие вкрапления – золотые крупицы. Поднял, хмыкнул: «золото дураков». В камешке были крохотные кубические кристаллы пирита. На улице жара навалилась разом, так, что через пару шагов взмокли виски. Небо было выгоревшее добела, и обычно темная громада горы тоже будто поблекла. Заросшая густым сосняком Мать-гора была видна отовсюду, село приткнулось как раз под ее тучным хвойным боком. На первый взгляд, Уральские горы вовсе не выглядели грозно. Сизо-зеленые, совсем вдали млечно-голубоватые, они плавными волнами уходили к горизонту, вкрадчиво касались неба опушенными лесом вершинами – никакого сравнения с хищными гигантскими зубцами Альп, на которые Кайсаров насмотрелся в годы учебы. Впрочем, месяцы изысканий и работ показали, что первое впечатление было обманчивым, горы могли показать крутой нрав, особенно для строителя: выветренные породы, трещины, провалы… Земская больница была совсем недалеко, через несколько домов, – такой же серый бревенчатый сруб, как прочие избы по соседству. Сам Кайсаров, отличавшийся завидным здоровьем, не заходил сюда еще ни разу, зато слышал от маявшегося кашлем Жеребьева, что больничка одна на сорок верст окрест, всего один врач и дочь его, фельдшерица, и десяток коек, которых, конечно, всегда не хватает. Врач, еще не старый, но сутулый и плешивый, встретил их и сразу, без предисловий повел в мертвецкую, что стояла на задах, – глубоко утопленный в землю сарай с погребом. По дороге договаривал о чем-то со своей дочерью, крупной высокой девицей с простонародным открытым лицом, та отвечала: – …потому как дурень он, и губа у него отвислая, а в голове только мухи гудят. – Твоя мать тоже не семи пядей во лбу, – отвечал врач, – а взял в жены, чтобы одному не остаться. Фельдшерица посторонилась, пропуская мужчин вперед, и в ее взгляде, случайно и равнодушно пойманным Кайсаровым, читалась вся усталость от этого тоскливого места, мелкотравчатого народа, собственной судьбы; ее поначалу очень интересовали приезжие специалисты, но все, кроме Кайсарова, уже были женаты. Именно мухи жирно гудели в погребе, где было прохладнее, чем на улице, но все же недостаточно холодно для того, чтобы приостановить разложение. Запах стоял ужасающий. Покойников было трое: высохший старик, какая-то баба и рабочий. Врач сдернул с лица последнего грубую холстину. Мухи от размашистого движения взбесились, замельтешили перед лицом, полезли в уши и за шиворот. Кайсаров невольно стиснул в ком прижатый к лицу платок. Он ожидал увидеть что угодно – размозженное камнями лицо, пробитую черепную кость, но чтобы такое… Разверстый рот покойника напоминал диковинный хрустальный цветок. Длинные крупные кристаллы, вроде кварца, росли под разными углами прямо изо рта, кристаллы поменьше блестящей сыпью усеяли губы. Неведомые образования были не прозрачными, а мутно-розовыми и багровыми, словно вобрали в себя кровь и прочие соки тела. То же творилось с глазами мертвеца: между вывернутых век торчали кварцевые друзы. Жеребьев мучительно закашлялся, затем со звуком тщетно подавляемой рвоты схватился за горло и выскочил из погреба. Кайсаров заставил себя спокойно смотреть. – Я не знаю, что это, – как можно ровнее сказал он наконец. – Я о таком не читал и не слышал. – Возможно, под горой в разломы выходят подземные газы, – начал медик, – и при их попадании на слизистые оболочки происходит неизвестный науке процесс… – А не заразна ли эта хворь? – прервал его Кайсаров. – Если это и болезнь, то она не передается от человека к человеку. Иначе бы тут уже все село вымерло. Прежде мне доводилось видеть подобное. Несколько лет тому назад привозили ко мне старателей с той стороны горы. У всех кристаллизировались ткани предплечий. Руки пришлось ампутировать. Один, правда, не дождался операции, сбежал через окно, не знаю, что с ним сталось. Ведь до сих пор среди народа ходят дремучие небылицы про докторов. Вот, пожалуйста, – врач указал на накрытую холстиной бабу, – если бы привезли ее раньше, так выжила бы и она, и младенец. Нет, двое суток ждали, а когда надумали на третьи привезти, она уж кровью истекла. Спрашиваю родню: ну отчего же так-то?! А те отвечают – да всем известно, что в лечебницах людей, видите ли, нарочно морят и потом делают из человечьего сала мази, а из костей порошки. Дикость, милостивый государь, дикость прямо-таки доисторическая! Кайсаров мельком глянул на тело в окровавленной рубахе под приподнятой врачом тряпкой и поскорее отвел взгляд. Ведь тут холод его продрал даже больший, чем при взгляде на рабочего, погубленного неведомой подгорной хворью, – нутряной холод, склизкий, брезгливый ужас. Окровавленный подол. Стоны, крики. «Вот, гляди, гляди, что с нами мужчины творят!..» – Слыхал еще такую историю, не знаю, правда или нет, – продолжал доктор, – давно случилось, еще при крепостничестве. Была у одного горнозаводчика жена, самая лютая помещица в округе, крестьянских детей в прорубь кидала ради потехи. Так местные сказывают, родила она в страшных муках каменную глыбу вместо младенца и вскоре скончалась. Народное предание, разумеется. Но кто знает, может, как-то связано… Кайсаров мотнул головой, не желая слушать далее. На плоском камне возле входа в покойницкую сидела на солнцепеке ящерица с нарядным медным узором вдоль гибкой спины. Посмотрела Кайсарову прямо в душу крохотными, но необыкновенно разумными глазами. Сельчане звали этих тварей ласково – «ящерки» – и старались не обижать. По рассказам охотно делившегося своими фольклорными находками Елецкого, ящерицы в местных преданиях были как-то связаны с духами окрестных гор, были вроде свиты или сестер Каменной Девки. Сознание местных жителей и впрямь изобиловало первобытными образами. Здесь строили церкви, но верили в огромного змея, живущего в озере, и в еще более огромного лося, поднимающего из-за гор на своих рогах солнце, и в Девку, которую боялись, но которую и любили, которую старатели почитали больше Богородицы… Тень Кайсарова упала на камень, и ящерица юркнула в выжженную июльским зноем траву. – Разлом заделать скорее, – сказал он вышедшему следом Гурову. – Так вся кладка туда рухнет, – ответил тот. – Разлом со вчерашнего еще расширился, черти бы его побрали. – Что ж, пошли смотреть, – сквозь зубы сказал Кайсаров. В сущности, было уже ясно, что тоннелю настал конец, а Кайсарову грозят серьезные неприятности в Управлении: все его недоброжелатели разом всколыхнутся и загудят, как те мухи в мертвецкой. Жерло тоннеля темнело за окраинными домами, выше по косогору, на который взбирались чахлые огороды. К тоннелю вела уже готовая мощная насыпь – клади рельсы да мчи на ту сторону Уральского хребта… Какую же невыразимую душную злобу испытывал сейчас Кайсаров, глядя на гранитные обрывы и дремучие хвойные склоны треклятой горы. От крутого подъема наверх по жаре чудилось, что в голове бил алый бубен в такт ударам сердца. Под сводами тоннеля стало легче, изнутри горы шла сухая каменная прохлада, сейчас очень освежающая. Света снаружи хватало, чтобы увидеть пролом в стене, напоминающий разомкнутый огромный рот, только расположенный не по горизонтали, а по вертикали. Возле разлома отчего-то толпились рабочие, все местные мужики – Кайсарову мельком подумалось, что они-то, должно быть, смыслят в происходящем куда больше него или Гурова. Расспросить бы их. Короткое эхо вдруг подхватило среди мужских голосов детский. Дети и бабы часто работали при расчистке участков под железнодорожное полотно, но среди копателей были обычно одни мужчины – труд был не только каторжно тяжелым, но и опасным: деревянный щит над головами рабочих не всегда спасал от завалов. Обходя бревна-крепи, Кайсаров приблизился к группе рабочих. – Не троньте! – кричал мальчик. – Мне тетя внизу золото дала! Сказала, проклянет всякого, кто отберет силой! Купцу золото продам. Моему тятьке ноги отняли, я один работник в семье… – Что здесь происходит? – громко спросил Кайсаров. Мужики расступились, открывая взорам пришедших всклокоченного мальчика лет десяти, что-то прижимающего к груди. – Мальцу золотой слиток дала. – А Петьке давеча рот камнем забила. – Ну дык ее воля, сама решат, кого озолотит… – Кто ей по нраву, того и одарит. А кто не по нраву, того в камень обратит. – Разойтись! – приказал Кайсаров, вдвойне озлившись от всей этой чертовщины. К его металлическому голосу прибавился гулкий, как из бочки, бас Гурова, рявкнувшего: – А ну, все на выход! Мужики отошли, мальчишка во весь дух припустил прочь. – Видать, там, внизу, золотая жила, – озвучил Гуров уже очевидное. Кайсаров подошел ближе к разлому, невольно вглядываясь во тьму таинственных недр. Удивительное дело – темнота в проломе отнюдь не была кромешной, откуда-то снизу шел сумеречный свет. Впрочем, ничего сверхъестественного: среди скальных массивов встречаются ничем не заполненные щели, в практике Кайсарова уже бывало такое, что по щели разлома можно было пройти на сорок с лишком саженей в сторону от тоннеля и выйти к горной речке в открытой глубокой расщелине. Открытие богатого месторождения спасло бы дело, раздумывал Кайсаров, всматриваясь в серое свечение внизу. Был бы повод с честью выйти из поганой ситуации и проложить тоннель в другом месте, или вовсе пустить дорогу в обход. Вот только что там, внизу, за считанные часы превращает глаза и язык человека в алые кристаллы? – Мальчишка-то чистый, – сказал рядом Жеребьев. После подъема к тоннелю он был очень бледен и непрестанно откашливал мокроту. – Да мы его толком и не рассмотрели, – ответил Кайсаров, отстраняясь от разлома: еще неведомо, что тут может вынести сквозняком, какой там воздух внизу – вполне может статься, и впрямь гиблый, отравленный. Опустилась тишина, лишь чуть нарушаемая шелестом эха от шагов рабочих, уже вышедших из арки тоннеля. И вот в этой монолитной тиши Кайсаров вдруг расслышал пение. Далекий голос, мелодичный, девичий, выводил народную мелодию, вроде грустную, а вроде и радостную. Слов было не разобрать. – Во, слышите, ваш-благородие: поет! – прошептал десятник. – Значит, разлом в ущелье выходит, туда местные девки забредают, они и поют, – заключил Кайсаров. Шагнул обратно к провалу, вновь вгляделся, хоть и понимал, что ничего не увидит. – Так нет в Мать-горе ущелий… – добавил десятник. Пение прекратилось. Кайсаров подождал еще немного, пожал плечами и уже хотел было отойти, как что-то зашевелилось в глубине трещины. Перед пятном смутного света возникла темная человеческая фигура, она резво полезла наверх, цепляясь за камни, и что-то в ней было диковинное, настораживающее: то ли очень быстрые движения странно вывернутых рук и ног, то ли волнообразные извивы слишком гибкого туловища – а может, померещилось, далеко было, глубоко, сумрачно, не разобрать толком. – Туда еще кто-то забрался, – сказал Кайсаров, и тут в проеме прямо перед ним вынырнула девка. Обычная деревенская девка, чумазая, с длиннющей, иссиня-лоснящейся черной косой, в бесформенном сарафане, босоногая. Кайсаров, отшатнувшись просто от неожиданности, как-то сразу охватил взглядом ее небольшую ладную фигурку и выдохнул – надо же, ведь напугала, мерзавка. А девка пристально, свободно, нагло уставилась ему в глаза – крестьяне так не смотрят. – О, какой барин! – воскликнула весело. – Взгляд ястребиный, нрав стальной, сердце каменное. А душа – кутенок шуганный. Копай, копай свою нору для зверей железных, не тронем. А хочешь, камушков подарю? – и ткнула под нос остолбеневшему от такого нахальства Кайсарову грязную ладонь с кучкой каких-то шершаво-зеленых камней. Прямо перед собой Кайсаров увидел смуглое тонкое запястье – кожа сплошь была испещрена мелкими зеленоватыми кристалликами, расположенными не хаотично, как на давешнем мертвеце, а даже каким-то узором, вроде чешуи. И вокруг бесстыжих зеленых глаз девки, от самых ресниц, тоже расходилась по коже россыпь мелких кристаллов. Девка была больна. Той самой подгорной хворью – или чем еще являлась эта омерзительная чертовщина, вдруг все же заразная?.. От этой мысли Кайсарова прямо-таки перетряхнуло в приступе тошной брезгливости. А ну как еще заразится он от этой дуры! В придачу ему настойчиво почудился, вызванный неугомонной памятью, характерный запах нездорового женского тела, знакомый с детства, с неизбывным металлическим кровавым привкусом – хотя ничем кругом не пахло, кроме каменной пыли… Чернавка же все совала ему камни, и вдруг – какая гадость! – дотронулась до его руки своей чумазой лапкой, шершавой от кристаллической сыпи. – Пошла вон! – в страхе, в брезгливости, в ярости Кайсаров оттолкнул ее сильнее, чем следовало. Так сильно, что девка повалилась назад, рассыпав свои камушки, – и тюкнулась головой об острый каменный выступ стены. И в тот миг, когда Кайсаров, как во сне, уже вполне понял, что наделал, но еще не до конца поверил в происходящее – и когда еще сумел бы удержать девку на краю провала, если бы не побрезговал схватить, – та пошатнулась раз, другой, взмахнула руками и полетела спиной в расщелину. Слышно было, как пару раз ударилось о камни тонкое легкое тело. И – тишина. Господи, в каком-то бредовом отупении подумал Кайсаров, да я ж только что человека убил. Было пока не страшно, нет, а еще более тошно, нестерпимо, до выворачивания нутра. Кайсаров, как заведенный, вытирал и вытирал руку платком, сглатывая и дико глядя в безмолвный провал. – Что же вы наделали, – выдохнул рядом Жеребьев. – Дурак ты, ваш-благородие, – припечатал десятник. – Ох, дурак, м-мать твою через тульский самовар. Ты ж ей понравился. Одарить тебя хотела! Дур-рачина… – Кому – ей? – прошептал Кайсаров. – Девке Каменной. Десятник вдруг всплеснул руками и кинулся подбирать оброненные чернавкой камешки, тем же занялся Гуров. – Как наиграетесь с этими цацками – провал закрыть наглухо, чем угодно, для начала хотя бы досками, чтобы никто больше туда не лез! – приказал им Кайсаров. – Завтра проверю! И пошел из тоннеля, не чуя под собой ног, не понимая, что с ним происходит. Ну, свалилась в яму девка. Да сколько народу на стройке гибнет – никогда он не считал, не вникал. Какое ему дело? В самом-то деле – какое?.. Вечернее солнце плеснуло в глаза кровавым золотом от дальних лесов. Воздух еще был горяч, но уже поднималась от мелких болотцев у горы, по ту сторону насыпи, прохлада, мешаясь со смоляным духом нагретых сосновых стволов. И так же стыл, густел едкими смолистыми каплями на душе страх. Человека убил. Женщину. Да и черт с ней, рассердился на себя Кайсаров, довольно уже! – Георгий Иванович… – догнал его покашливающий Жеребьев. – О том, что видел – молчи, – сказал ему Кайсаров. – Еще нам пересудов не хватало. Девка сама в провал свалилась. Да и не моя вина, что она ко мне полезла. Поднятая внезапным порывом ветра с насыпи, зернисто заскрипела на зубах пыль, словно тысячи мелких кристаллов. Против воли Кайсаров то и дело оглядывался назад, будто кто-то мог погнаться за ним, и впервые ему пришло в голову, что жерло тоннеля похоже на разверстую женскую утробу, и ему снова сделалось непереносимо тошно. Возвращаясь в контору, он обратил внимание на старика, сидевшего на завалинке избы по соседству. Собственно, старик всегда там сидел, будто не человек, а чучело набитое, но Кайсаров только теперь обратил на него внимание, и то лишь потому, что по всему кругом метался его беспокойный взгляд. В душе свербело, и так хотелось отвлечься, хоть на что, хоть на полосатого кота, вышедшего в сиреневый сумрак палисадника, хоть на старика этого… Старик встретил взгляд Кайсарова, цыкнул зубом, и вдруг Кайсаров понял, что это не старик, а совершенно седой молодой мужчина, и пятна на его лице – не старческие, а бугристая, угловатая, словно каменная сыпь. Мужчина поправил накинутый на плечи армяк, и Кайсарову бросилось в глаза что-то неладное с его правой рукой – будто не человеческая конечность, а двупалая толстая клешня в наростах. Будто грубая каменная заготовка. Мужчина осторожно подтянул к себе тяжелую, окаменевшую руку и снова цыкнул. Кайсаров не стал дальше приглядываться – померещилось? – и направился к крыльцу конторы. Обычно работали допоздна – надо же было решать, что делать с треклятым тоннелем, – но сегодня Кайсаров был молчалив, рассеян, ловил тревожные взгляды исправно помалкивающего Жеребьева и в конце концов отпустил всех раньше обычного, ссылаясь на головную боль от духоты. – Да, тяжелая погода, – согласился Остафьев. – Гроза идет, – добавил он, прислушиваясь. Где-то далеко и впрямь загудел гром. – Что-то вы плохо выглядите, голубчик, – обратился он к Кайсарову. – Слышал я уже про подгорную хворь, смотрите, не тяните, если что – к врачу. Кайсаров мельком посмотрел на свои руки, как бы невзначай провел ладонью по лицу – кристаллы эти… они же должны как-то ощущаться? Ладонь утерла холодный, несмотря на жару, пот. Спал он этой ночью прескверно. Барахтался в мокрых от пота простынях, тонул в духоте комнаты, где воздух из открытого окна не давал облегчения, лишь доносил отзвуки грозы с горизонта. И снились Кайсарову вовсе не кристаллы, прорастающие сквозь человеческую плоть, – нет, мучили его давние, с детства, кошмары. Вот его отец, мелкий самарский помещик: игрок, пьяница, дебошир. Вот мать, сирота, бесприданница. Моложе мужа лет на пятнадцать, она тосковала по лучшей участи, в отчаянии прятала деньги, прятала водку, и однажды муж крепко ее, беременную, за это избил. Кайсарову тогда было шесть лет – тихий впечатлительный мальчик, темные волосы пышной шапкой, темные грустные глаза, – он обожал красавицу-мать и не любил вечно воняющего кислятиной отца. А тот замахивается на мать раз, другой, таскает за волосы, швыряет об угол комода. Мать падает на колени, охает, не может подняться, и под ней ширится алая лужа, пятная светлый подол летнего платья. Кайсаров рядом, ошарашенно смотрит, его так никто и не увел, даже когда пришел доктор, просто всем было не до него, может, просто не заметили стоящего за дверью. Столько крови и ужасный багровый шматок, будто выпавшая внутренность – недоношенный мертвый младенец. Мать после того едва оправилась и не до конца – всякая беременность для нее теперь заканчивалась выкидышем, и всякий раз Кайсаров становился тому свидетелем, – у матери в придачу сделалось что-то с головой, всех мужчин на свете она считала повинными в своих бедах, даже любимого сына. «Вот, гляди, что с нами мужчины-то творят», – и совала ему под нос окровавленную тряпку. Каждый выкидыш мать переживала тяжело, каждый раз Кайсаров обмирал от ужаса, что она может вовсе не подняться, так и умрет, истекая кровью из тех загадочных, пугающих женских недр, откуда на землю приходят все люди. Кайсаров ненавидел отца, который по-прежнему регулярно захаживал к матери в спальню, и ненавидел себя за то, что ничего не мог со всем этим поделать. Страх точил и точил его, как вода камень, и в отрочество он вышел с нерушимым убеждением, что мужское прикосновение непременно несет женщине боль и, возможно, смерть – к тому времени как раз умерла первыми родами его девятнадцатилетняя старшая сестра. Женщина и сама, по натуре своей, – боль и неразрывно связанная с жизнью смерть, расходный материал природы. К такому нельзя было прикасаться. Такое нельзя было желать. Кайсаров, очнувшись от рваного, расползающегося, как ветошь, сна, смотрел в темный потолок, терзая простынь, – все-таки принес смерть, одним лишь прикосновением, подумать только, как ни избегал женщин, а все-таки женщину убил, – и вновь погружался в неспокойное забытье. И снилась ему теперь не стонущая мать в окровавленном платье, а юная дева. Незнакомая, и в то же время где-то уже виданная. Ее иссиня-черные волосы ливнем струились по тонким обнаженные плечам, по ударившей по глазам наготе бедер до самой земли. Дева была прекрасна – острой, как алмазная грань, красотой: хрупкие ключицы под смуглой кожей, тяжелая округлая грудь, острые сосцы, черный омут волосяного треугольника внизу живота. Ее взор с пониманием и насмешкой встретился с алчущим взглядом Кайсарова, но зеленые глаза оставались жестокими, холодными: не радужки – граненые самоцветы. Кожа ее сплошь была в мелких зеленых кристаллах, легших затейливым узором, вроде чешуи, но так и манила прикоснуться – ощутить разом и стылость камня, и жар налитой плоти в ладонях. Кайсаров проснулся в таком исступлении сладострастия, будто его мужское естество и впрямь обратилось в камень. Между тем, в дверь дома стучали, сонный слуга пошел отпирать; скоро забарабанили в дверь спальни. – Георгий Иванович, откройте, беда великая! Георгий Иванович!.. Кайсаров в полнейшем одурении сидел на краю разворошенной постели. За окном занималось ранее утро, и первые лучи солнца, проникнув в комнату, уже давили жаром, словно вместе с солнцем в небо поднималась вся преисподняя. Кое-как он поднялся, чувствуя себя пьяным, разбитым, никчемным, грешным. Начал одеваться, не попадая в рукава и штанины. За дверью, кажется, были все – и Остафьев, и молодые инженеры, и Гуров, и кто-то еще, множество искаженных ужасом лиц, и все от Кайсарова немедленно чего-то хотели, когда как он сам желал лишь одного – чтобы все происходящее было сном, а еще лучше – чтобы сегодня он вообще не проснулся. – Что же делать будем, Георгий Иванович? В Петербург телеграфировать – так не поверят! Пошатываясь, Кайсаров вышел, ошалело щурясь на солнце. По всему селу стояла ужасающая тишина, тяжелая, как гранитное надгробье, даже петухи не пели. Ноги сами понесли Кайсарова по пустынным улицам на окраину села, к тоннелю – впрочем, именно туда, как ему объяснили, и следовало идти. Еще на подходе к арке тоннеля, взбираясь по насыпи, Кайсаров услышал словно бы многоголосый стон. Перед глазами плыли изумрудно-зеленые, хлесткие солнечные пятна, и потому не сразу он сумел понять, что же видит перед собой в полутьме. В тоннеле собрались рабочие, везшие на тачках камень для заделки провала. Но они никуда не двигались, будто приросли к месту – хотя нет, не будто, а буквально приросли, став единым целым с каменным массивом под их ногами. Тела их еще не совсем окаменели – серые гранитные жилы проросли вдоль рук, шеи, бугрились на щеках. Люди уже не могли двигаться, не могли толком открыть рот, но еще дышали, еще не потеряли физической возможности издавать ужасающий немой стон. – Боже правый, – прошелестел Кайсаров. – Это только здесь так? Или по всему селу?.. – Пока только здесь, – ответил Гуров. – Предлагаю взорвать тоннель. Динамита достаточно. Породы наверху тоже – завалит все намертво, и то, что засело там, внизу, уже не выберется наружу. Взорвать тоннель. Пусть каменные глыбы не только закроют опаснейший провал, но и похоронят всю эту трижды проклятую затею. Такая мысль и Кайсарову первой пришла в голову. – Но… взорвать вместе с людьми? – в воображении Кайсарова в воздух взлетели обломки камней, вросших в ошметки окровавленной плоти. – Да с каких пор вы стали печься о людях? Им все равно уже ничем не помочь. А телеграфировать обо всем этом начальству – сами понимаете… – Верно, – мертвым тоном сказал Кайсаров. – Готовьте динамит. Спотыкаясь на камнях, как слепой, Кайсаров, не слушая более никого, побрел вниз от тоннеля по насыпи. Ноги все задевали за что-то, несколько раз Кайсаров чуть не полетел вперед под откос, прежде чем, наконец, заметил: пробивавшаяся из насыпи молодая трава местами была живой, а местами – торчала жесткими окаменелыми иглами. – Что же я наделал, – пробормотал он, бессмысленно озираясь. У подножия насыпи лежал человек – вернее, то, что еще недавно было человеком – грубая каменная статуя, скорее просто груда гранита в форме человеческого тела, в разодранной одежде; лишь простертая рука еще шевелилась, судорожно скребла пальцами каменное крошево, и на костяшках виднелись гранитные наросты, подобные чудовищной опухоли. Рабочий попытался убежать, но неведомая хворь – нет, злое проклятье! – настигло его и здесь. Кайсаров не мог отвести взгляда. Сколько он повидал на стройках изувеченных тел и всегда равнодушно проходил мимо. Однако именно теперь он глядел с острейшим ужасом – казалось, за грудиной враз содрали окаменевшую корку, обнажая уязвимое, кровоточащее, то, что он с отрочества так тщательно прятал от самого себя. Прямо впереди на белой от пыли, выутюженной солнцем дороге маячила светлая фигура. Не зная зачем, Кайсаров подошел ближе. Это была крестьянка Авдотья, в обычном своем выгоревшем до белизны тряпье, в белом платке, она придерживала за плечо белоголового своего мальчишку, как всегда, шалившего – пинавшего на дороге мелкие камешки, отчего вздымалась тонкая, как мука, пыль. – Ох, рассерчала она из-за тебя, барин, – сказала Авдотья. – Ты глянь, чо кругом творисся! Она повела рукой, и Кайсаров огляделся: придорожные кусты, трава, запыленные головы клевера и тысячелистника – все обращалось в камень, в безупречно выточенное, тончайшее каменное кружево, изображавшее листья и цветы, – ни одному скульптору не по силам было бы создать подобное. – Она к тебе с добром, а ты ее обидел. Замучит она тебя, ежели прощения не попросишь. Для каждого она кару сыщет, всех насквозь видит. Своей смерти ты не боисся, так она все кругом тебя терзать будет, это тебе во сто крат страшнее. Не ждал такого? Тяжко жить с каменным сердцем, а с живым ох как больно, верно, барин? – Ты-то откуда все это знаешь? – глухо спросил Кайсаров. – От ейной матери знаю, – Авдотья указала на исполинский лесистый горб горы. – Мужики у Девки золото просят, а бабе-то к чему золото – бабе дите нужно. Бог мне не давал детей, так я у горы пошла попросила, гора мне сказала, из какого родника попить, и вот, родила я мальчонку. Иди прощения проси. Не Девка, так мать ейная пожалеет. – Боже правый, дичь какая… – Кайсаров схватился за голову, которую немилосердно пекло солнце, аж в ушах звенело. На дорогу перед ним упала птица. Мелкая пичуга, малиновка – одно крыло у нее еще билось о землю, а другое, окаменевшее, лежало в пыли. Топорщили каменные иглы сосны у дороги, стояла брошенная телега у поворота, еще силилась подняться лошадь с окаменевшим крупом, человек уже лежал недвижим. Все так же сжимая виски, Кайсаров помотал головой, повернулся и пошел обратно к тоннелю. Туда уже тащили ящики с динамитом. – Стойте! – хрипло выкрикнул он. – Назад! Ничего здесь не трогать, пока я не вернусь! Если вообще вернусь, закончил он про себя. – Да вы с ума сошли! – Гуров схватил его за плечо, попытался задержать, Кайсаров вывернулся. – Погибните зазря! Завалить все к черту, и дело с концом! Кайсаров уставился ему в глаза своим обычным тяжелым взглядом, и даже теперь начальник работ, очевидно посчитавший, что главный инженер либо свихнулся от всего происходящего, либо солнечный удар получил, – даже теперь Гуров опустил голову. – Если к закату не вернусь – взрывайте, – сказал Кайсаров и шагнул в сизую тень тоннеля. Его одинокие шаги будили в глубине гавкающее эхо. Рабочие уже почти полностью обратились в камень, лишь у двух человек посреди гранитных наростов еще светились болью и ужасом, еще жили вытаращенные от муки глаза. Да, никогда прежде Кайсаров не обращал внимания на рабочих – платят им исправно, и ладно, – никогда его не трогало, что люди гибли под завалами, ведь люди самый дешевый расходный материал, – но вот теперь его пробирало так, словно его собственные ноги, быстро шагающие по камню, начинали в этот самый камень обращаться. Вот и провал. Кайсаров подобрал оброненное кем-то из рабочих кайло и разнес деревянное ограждение, построенное, чтобы никто больше в разлом в поисках дармового золота не лазил. Открылась бархатная чернота и тишь каменных недр. Там по-прежнему было все же не совсем черно, пробивался откуда-то в глубине призрачно-серебристый свет, и на него-то Кайсаров и пошел, когда сделал шаг вниз, в исполинскую каменную утробу, открывшую ему самое свое нутро. Спускаться оказалось, против ожиданий, не слишком трудно – торчавшие кругом скальные обломки служили ступенями. Из-под каблуков крошились мелкие камешки, со звонким эхом улетая в неведомую глубину, но большие камни сидели прочно, и если Кайсаров пару раз оступился, чуть не полетев вниз, то лишь из-за собственной оплошности. Долго он спускался, очень долго – чудилось, прошел и час, и два, а каменная лестница все не кончалась, и бледный свет не становился ближе. Из недр дул сквозняк. Где-то текла и капала вода. Откуда-то сверху донесся тяжеловесный скрежет – на миг Кайсарову почудилось, что свод пещеры рухнет ему на голову: сверху шевелились и перемещались огромные массы камней. Он пригляделся – нет, то были не камни, а исполинские многочленистые каменные твари вроде гигантских мокриц. Дальше он спускался по возможности тихо, чтобы не потревожить их, напряженно вглядываясь вверх. Наконец лестница закончилась. Перед Кайсаровым открылась длинная пещера с теряющимся в полумраке огромным сводом, с гроздьями серых, будто сахаристых от какого-то налета, сталактитов и сталагмитов, напоминавших колонны готического собора. Откуда-то сбоку – тоже будто в соборе – падали тонкие лучи пепельного света. Здесь были большие округлые камни, медленно перекатывающиеся по полу, разевающие вдруг хищные пасти, сплошь утыканные гранитными обломками, и кварцевые кристаллы, внезапно начинающие расти прямо под ногами с такой скоростью, какая могла привидеться лишь в горячечном сне. Еще из-под ног то и дело прыскали ящерицы, Кайсаров ступал очень осторожно, ему сейчас почему-то казалось крайне важным не наступить ненароком ни на одну из них. Ящерицы скрывались среди хаотичных россыпей камней, в которых Кайсаров с содроганием опознал окаменевшие части человеческих тел. Отколотые каменные руки и ноги. Разбитые туловища в истлевшем тряпье. Отдельно – головы, почти полностью поросшие мутно-багровыми кристаллами с ладонь длиной. Почему эти люди оказались здесь – тоже пришли сами, тоже искали прощения? И главное – что она с ними сделала и почему? Играла? Издевалась? Или же в какой-то миг они ей просто наскучили?.. «Скоро я сам все узнаю». Кайсаров непрестанно сухо сглатывал, словно в тщетной попытке проглотить ужас, подобный слишком крупной гранитно-холодной пилюле. Впереди гулко заскрежетало и посыпалось. То, что поначалу показалось Кайсарову особенно крупной каменной колонной, начало поворачиваться. Теперь она была в своем первоначальном, нечеловеческом обличье. Царевна этих мест, где над всем властвовала огромная гора. Тело царевны, высотой в три человеческих роста, было сплошь из гранита, как и у ее величественной матери-горы. С длинными конечностями и ребристой грудной клеткой оно напоминало окаменевший остов не то человека-великана, не то гигантской ящерицы, и с грохотом забил по полу зубчатый, гребнистый хвост. С ног до головы царевна была облачена в чешую из крупных светло-зеленых кристаллов хризолита, и носила венец из аметистов. Глаза, огромные, изнутри мерцающие изумруды, уставились на Кайсарова – и каким-то ранее незнакомым чувством тот ощутил острый интерес этого существа, если не вечного, то, во всяком случае, рожденного очень давно, к мимолетным людским страстям, ярким, завораживающим, как пляска огня. Совершенно человеческим – вернее, перенятым у людей жестом – существо склонило коронованную голову к ощетинившемуся кристаллами плечу. У Кайсарова онемели ноги, каждый шаг давался с трудом – то ли слабая, смертная суть невольно обмирала перед нечеловеческим всесилием, то ли тело уже начинало обращаться в камень… Существо, любопытствуя, склонилось к нему, протянуло чудовищную длань с острейшими когтями-сталактитами. Кайсаров ощутил, как острие каменного когтя касается подбородка, чуть приподнимая и – возможно, ненароком – раня: по кадыку заскользили горячие капли крови. И глядя в холодные кристаллические глаза подгорной царевны, уже почти не боясь, Кайсаров искал самые верные слова, пока ему еще не запечатали навечно рот драгоценной друзой, пока ему еще позволяли говорить. Царевна медленно провела когтем по его скуле, – играючи? с хищным наслаждением? или всего лишь с грубой великанской нежностью? – оставляя на коже глубокую алую дорожку. Склонилась еще ниже. Мол, что же ты медлишь? Говори.Юрий Погуляй Уткоробот и Злобные Свиньи
Красный Уткоробот преодолел море лавы и вышел прямиком к порталу. Стальные ноги дымились от жара, но Уткоробот не боялся. Он встал напротив Злобной Свиньи и поднял раструбы огнеметов. – Сдавайся, злодей! – прокричал Уткоробот. – Нет. Ахахаха! Я порабощу эту планету! – Я не дам тебе это сделать! – Ахахаха! Тогда ты познаешь мой гнев! – последнюю фразу увлекшийся Миша произнес вслух. Замер. Красный карандаш застыл над листком бумаги. Шея сама втянулась в плечи. – Придурок! – немедленно отреагировали сзади. Кулак больно ткнул в спину. – Кто обзывается, тот сам так называется! – буркнул Миша, не оборачиваясь. Весь класс смотрел на него. Учительница вышла, оставив первый «Б» рисовать. Она часто так делала, а когда возвращалась, от нее неприятно пахло. От папы так пахло, когда приезжал дядя Олег, и они на весь вечер запирались в кабинете и смотрели взрослые фильмы, а потом выносили оттуда пустые бутылки. – Факт! Факт! – сидящий на последней парте Гаврила вытянул средний палец. – Это плохо! – сказал Миша. Недавно он спросил у родителей, что значит средний палец и слово «факт», и пока папа странно улыбался, поглощая суп, мама напряженно объясняла, что так делают только плохо воспитанные мальчики. Что это неприлично. – Мишенька-писенька, – продолжил Гаврила. – Перестань! – возмутился Миша. – Это некрасиво! Одноклассники зашумели, переключившись на новое развлечение. Карандаши легли на столы. Кто-то засмеялся противно, издевательски. Миша угрюмо прикрыл лицо руками, чтобы не видеть смеющихся над ним лиц. Только Глеб смотрел понимающе, но не вмешивался. Папа говорил, что, если задирают – нужно не реагировать. Если же ударили – то бить. Бить и не бояться, что ударят сильнее. Миша же все равно боялся. Он посмотрел на свой рисунок. Красный Уткоробот стоял напротив Злобной Свиньи и не ведал страха. Из рук героя бил огонь. Зажигалка в кармане словно нагрелась. Хотелось взять ее, щелкнуть кнопкой и увидеть, как гудит острое пламя, которое даже на ветру не гасло. Его талисман, тайно взятый из ящичка на кухне. Вот бы сжечь Гаврилу, как Злобную Свинью в третьем эпизоде второго сезона его любимого комикса «Красный Уткоробот». Который Миша придумал сам! В спину опять ткнули. От обиды захотелось плакать. Но снова вспомнился голос папы: «Мужики не плачут» Что он понимает. Он большой, сильный… а Миша маленький. Опять тычок, уже болезненный. – Отстань от меня! – крикнул он, обернувшись. Гаврила выставил перед собой два кулака с выставленными средними пальцами и водил их перед лицом Миши, одновременно показывая язык. Глаза его были как у жабы. Выпученные и глупые. – А то что? Расплачешься,Мишенька-писенька? – проквакал Гаврила. Миша схватил со стола учебник и бросил обидчику в лицо. В ответ тот нелепо взмахнул руками, защищаясь, класс взвыл от веселья, но шум-гам прервал властный голос Марии Петровны. – Это что за бардак?! – рявкнула она с порога. – Мария Петровна, Погостин хулиганит! Он в меня книгу кинул! – запричитал Гаврила. – Погостин, это правда? Учительница прошла к ним, забрала «Азбуку» со стола Гаврилы и нависла над Мишей. Книжка шлепнулась на стол. – Он первый начал! – попытался защититься Миша, но взгляд Марии Петровны не сулил ничего хорошего. – Еще одно замечание, Погостин! – отрезала та. Вернулась к себе, села на стул и взяла в руки телефон. Глянула на класс поверх очков и сказала: – Рисуйте. А затем погрузилась в экран. Нечестно. У детей на время занятий телефоны и умные часы забирали, а она половину урока проводила за смартфоном. Миша посмотрел исподлобья на коробку, куда складывали все «гаджеты», как говорил папа. Сундук с сокровищами, отобранными перед уроком у всех ребят. У всех, кроме Миши. Потому что мама и папа сказали, что ему рано. Что они хотят, чтобы у него было детство. Чтобы он бегал и играл. Как может телефон с играми помешать детству – Миша не понимал. И это тоже обижало. Даже часы, которые подарила тетя Мила, лежали у отца в кабинете, потому что «зачем они тебе, ты всегда с нами, а в школе они тебя только отвлекать будут». Жизнь несправедлива! Миша взял карандаш, но рисовать уже не хотелось. Особенно скучное задание, которое выдала Мария Петровна. Нарисуйте домик и дерево. Зачем ему рисовать домик и дерево? У всех есть домик и две сосны рядом. А Красного Уткоробота нет ни у кого! – Тебе пиздец, – прошептал позади Гаврила. – Мария Петровна, Соколов говорит плохие слова! – пожаловался Миша, но учительница лишь шикнула на него, только на миг оторвавшись от телефона. Прервала властным жестом детский гомон. Миша уткнулся в рисунок. Отложил карандаш в сторону и посмотрел на Глеба. Его лучший друг, высунув язык от усердия, рисовал домик с печной трубой. Словно почуяв взгляд, мальчик поднял голову и широко улыбнулся. Украдкой показал большой палец, мол, все отлично. От этого на душе стало полегче.На динамической паузе Гаврила нашел Мишу в коридоре. Сбил с ног, будто играя. Ударил ботинком по коленке. – Придурочная ябеда, – сказал обидчик. Миша поднялся, отряхнулся. Скрепыши, которых он показывал Глебу, рассыпались по полу. И тот, что был в виде осьминога, оказался под кедами Гаврилы. – Я не ябеда! – крикнул Миша. – Не ябеда. Отдай, это мое! Жабоглазый издевательски передразнил его и толкнул в плечо. – Ябеда! «Надо уметь постоять за себя. Даже если тебе страшно – надо. Лучше пасть в бою, чем прослыть трусом» – зазвучал в голове голос папы. Но что если Гаврила разозлится еще больше? – Что молчишь, ябеда? – Гаврила ударил его в плечо. – Что молчишь, придурочный? Товарищи Гаврилы стояли за его спиной и смеялись. И тогда Миша ударил, как мог. Но не попал. Одноклассник увернулся от нелепого и слабого тычка и в ответ врезал в глаз. От боли вся смелость исчезла в один миг. Миша схватился за лицо и громко заплакал. – Что это такое? – послышался голос Елены Павловны, учительницы математики. – Что такое? Соколов?! Опять ты?! – Он первый меня ударил! – завопил тот. Миша плакал, растирая слезы по лицу. Он ненавидел школу. Здесь его постоянно обижали. А когда мама приходила разговаривать с учительницей, та рассказывала, что все в порядке. Что это дети. Что это солицизация. Или как-то по-другому. – Погостин? Покажи, что у тебя, – теплые руки Елены Павловны отняли ладони Миши от лица. – Ох-ох. Пойдем, пойдем со мной. Холод приложим. Глеб украдкой собрал скрепышей и протянул другу. Зажав в кулаке резиновые фигурки, Миша потопал с математичкой в кабинет к медсестре. Глаз болел и опух. Слезы текли не останавливаясь. Миша всхлипывал, шмыгал носом. Но когда к лицу приложили что-то холодное – стало чуточку полегче. – Это Соколов тебя ударил? – спросила Елена Павловна. – Да. Он меня все время обзывает и обижает. – Драться нехорошо. Если бы ты его не ударил, он бы тебя не обидел. – Обидел бы! – вспыхнул Миша. Посмотрел на учительницу здоровым глазом. Какие же взрослые ку-ку, все время говорят разное. То драться нехорошо, то драться надо. Миша хотел, чтобы его просто никто не трогал. Чтобы можно было целыми днями смотреть мультики, рисовать, играть в «Лего Майнкрафт», и может быть, когда он станет взрослым, купить себе игровую приставку и играть в настоящий «Майнкрафт»! Чтобы не было школы, не было Гаврилы Соколова. Была только мама, папа и Глеб. Он снова всхлипнул. – Позвоню твоему папе, – сказала Елена Павловна. – Подержи пока. Миша послушно прижал к лицу что-то холодное и твердое. Папа будет ругаться. Какой плохой день. Папа, услышав имя Гаврилы, вечно стискивал зубы и цедил неразборчиво. Взгляд его сразу менялся, в нем появлялось нехорошее. Но мама подходила к нему, обнимала и шептала что-то на ухо, отчего папа оттаивал. – Не надо, – жалобно пискнул Миша. – Не переживай. Все будет хорошо!
С урока правописания его отпустили, потому что приехал папа. Елена Павловна проводила Мишу до выхода. Потрепала волосы на прощание, развернулась и ушла. А Миша остался у двери, чувствуя на себе взгляд охранника. Тот смотрел на него отстраненно, с задумчивой улыбкой, и словно смеялся в пышные усы. Все над ним смеялись. Школа плохая. В детском садике было лучше. Он тяжело вздохнул и вышел из школы. Папа стоял у машины напротив калитки. Большой, широкоплечий, в камуфляжных штанах и теплой куртке. Махнул рукой, приветствуя, и Миша потопал ему на встречу, опустив голову. С деревьев падали желтые листочки. Моросил дождик. Накинув капюшон, Миша зашагал быстрее, таща в правой руке сменку. Рюкзак с динозавриком бил по спине. – Что стряслось, боец? – спросил папа. Вместо ответа Миша поднял лицо. Глаз опух, отчего смотреть приходилось через щелочку. Было очень стыдно. – Кто? – ледяным голосом произнес папа. – Никто, – буркнул Миша, вывернулся из-под тяжелой руки и полез в машину. Сел в кресло, застегнулся. Посмотрел на улицу. Папа все еще стоял, глядя на школу. Затем он залез в карман, вытащил пачку сигарет, резким жестом выдернул одну и закурил. Выпустил клуб дыма, не сводя взора с желтого дома за забором. Разозлился. Точно разозлился. Миша вытащил из кармана скрепышей. Разноцветные фигурки его успокаивали. Разглядывая их, он ждал, когда папа докурит и думал, что сказать. Наконец открылась дверь. Папа сел на место водителя. Пахнуло сигаретным дымом, и Миша поморщился. Запах ему не нравился. Ключ повернулся в замке зажигания. Машина завелась, пиликнула. Проснулось радио. – Соколов? – спросил папа. Миша шмыгнул носом. Кивнул. – Ты ответил ему? Миша кивнул еще раз, краснея от того, что обманывает. – Хорошо. Лучше умереть, чем дать себя унизить, – сказал папа. Машина тронулась с места. Миша смотрел, как удаляется школа, как пролетают мимо пятиэтажки, проступающие сквозь осеннюю листву. Дома он попросит мультики. Папа включал ему иногда «Черного плаща» и «Мишек Гамми», потому что считал современные мультики барахлом. «Они ничему не учат, ужимки да возгласы, а тут настоящие герои, характеры» – говорил он. Миша любил «Бубу», но ему не давали его смотреть. «Черный плащ» тоже хороший, вот только «Буба» гораздо смешнее. – А где мама? – В городе, – сказал папа. Он был какой-то необычный. Холодный и собранный. Машина выкатилась на трассу, понеслась мимо частного сектора. Их дом находился в двух деревнях от школы. Пятнадцать минут езды. Чаще всего Мишу забирала мама, но иногда у нее не получалось, и тогда приезжал папа. Как сегодня. А значит за мороженным они не поедут. Папа не любил магазины. Но несмотря на это в душу возвращался покой. О неприятности с Гаврилой напоминал только заплывший глаз. Школа – гадкое место. Хорошо, что занятия идут только четыре часа, их можно перетерпеть. – Папа, мы проехали наш поворот! – сказал он, когда автомобиль двинулся дальше по трассе. – Знаю. – Почему? – Надо поговорить с папой твоего Соколова. – Не надо! Страшно представить, что будет потом в школе. Гаврила от него совсем никогда не отстанет. – Пожалуйста, папа, не надо. – Я должен показать тебе, как ведет себя настоящий мужчина. Если в школе сделать ничего не могут – это сделаю я. Давно пора было. Нельзя терпеть такое. – Папа! – Тихо! – повысил голос он. Миша притих испуганно. Посмотрел на скрепышей, украдкой бросил взгляд на папу, потому что хотелось достать зажигалку. Тот держался за руль двумя руками, и пальцы его почему-то были белыми. Но взор почувствовал, глянул в зеркало заднего вида. – Все будет хорошо.
Соколов жил с отцом на отшибе Серебрянки. К его дому вела через поле дорожка и заканчивалась во дворе. Забора у них не было. Зато были две собаки. Об этом рассказывали ребята из школы. Они же говорили, что мама Соколова умерла год назад. Миша жалел Гаврилу. Он не мог себе представить, что такое, когда мама умирает. Он боялся смерти и не мог сдержать слез при мысли, что родителей когда-нибудь не станет. Папа всегда на это говорил, что не стоит переживать. Что когда придет время уходить – жизнь уже настолько будет не в радость, что смерть встретишь с облегчением. Миша делал вид, что понимает. Рядом с темным домом был пристроен сарай. «Приора» Соколовых стояла чуть в стороне, на брошенных на землю досках. Машина остановилась между ней и сараем. Папа отстегнул ремень безопасности, повернулся к Мише. – Сиди тут. Не выходи. Я быстро. – Па-а-ап… Отец наклонился к нему, взъерошил волосы с улыбкой. – Все будет отлично. И вышел. Из двух будок, разматывая цепи, выбрались псы. Забрехали хрипло. Папа только глянул на них, и собаки притихли, как по мановению палочки. Самая здоровая изумленно наклонила голову набок, а та, что поменьше – юркнула обратно в будку и обстреляла незнакомца настороженным лаем. Дверь отворилась, на улицу вышел Соколов старший. Очень худой, такой же лупоглазый, как и Гаврила. Почти лысый. Миша знал, что у него черные зубы. Видел в школе, когда за Соколовым приезжала ржавая приора. Папа что-то сказал ему. Указал на машину пальцем. Выпученный взгляд уткнулся в Мишу. Рот раскрылся в кривой ухмылке. По спине пробежали мурашки, и Миша отвернулся. Дотронулся до зажигалки. Красный Уткоробот выдержал бы этот взгляд! Встретил бы его смело! Миша зажмурился, сжал кулачки, а затем резко поднял голову и повернулся к взрослым. И как раз в этот момент папа ударил отца Гаврилы в лицо. Тот упал на землю, злобно ощерился и ловко вскочил на ноги. Папа был больше, тяжелее. Как медведь. Он что-то проорал неразборчивое, указал на машину опять, затем на дом. Из будки выскочила собака, осмелев, но с визгом остановилась, когда закончилась цепь. Ее старший товарищ был осторожнее, но и он не смог дотянуться до людей. – Сожгу… – послышалось Мише сквозь лай. Голос папы так изменился… Соколов старший улыбался гнилыми зубами, щерясь. Что-то плюнул в лицо папе. Скрепыши в потных ладонях Миши слиплись в один неразъемный комок. Кожу головы закололо сразу во многих местах. То, что происходило на улице, было неправильно. Еще один удар, но Соколов увернулся и врезал папе ногой между ног, от чего несокрушимый великан согнулся пополам, и в следующий миг в руке гнилозубого откуда-то появился молоток. Голова папы мотнулась в сторону, и он грохнулся на землю без движения. Соколов старший молча обрушил еще один удар. Миша онемел от ужаса. Все показалось ему ненастоящим. Абсолютно все. И утренние хлопья за столом с мамой и папой. И «Черный плащ», которого так хотелось посмотреть. И даже ненависть к школе. Все померкло. Остался только лежащий на земле отец и стоящий над ним гнилозубый лысый монстр. Который медленно распрямился, отер кровь с лица и посмотрел на Мишу. Снова огляделся, почесал затылок и пошел к машине. Миша отстегнул ремень безопасности и дернулся вперед, чтобы нажать кнопку блокировки дверей. Щелкнули замки. Отец Гаврилы приблизился. Потянул за ручку. Оскалился черными зубами и вернулся к лежащему папе. – Пап, вставай! – сквозь слезы прошептал Миша. – Пап! Пожалуйста! Соколов старший перевернул тело, обыскал карманы и вытащил брелок с ключами. Встал, показал их Мише, а затем подхватил папу за ноги и с трудом поволок к сараю. Руки отца безвольно волочились по земле. Гнилозубый протащил тело мимо машины, заглядывая в стекла и зло улыбаясь. Затащил папу в сарай и закрыл дверь. Вновь огляделся. Миша трясся в кресле, вцепившись в ручку двери. Слезы заливали лицо, но он не смел стереть их. Он боялся даже на миг закрыть глаза. Сколов старший постучал в стекло и поболтал перед ним брелоком. Нажал кнопку, и замок снова щелкнул. Миша с криком надавил на блокировку. Клац. Соколов дернул за ручку, яростно скривился. Клац. Дверь распахнулась. – Не надо, пожалуйста. Не надо. Я не играю. Я так не играю! – завопил Миша. – Я не играю! Соколов старший выволок его из машины, заткнул рот вонючей ладонью, оглядываясь, и потащил в дом. Едва захлопнулась железная входная дверь, он ударил Мишу по лицу и бросил на пол. Запер засов. – Не надо. Не надо, – всхлипывал Миша. Внутри пахло сыростью, перегаром, грязным бельем. Над дверью висела лампочка без плафона, на одиноком проводе. Папа говорил, что так нельзя делать… Папа… – Что с папой?! – сквозь рыдания выдавил он. – Пизда ему, ублюдок, – сказал Соколов. – И тебе пизда. С молотка в руке мужчины капала кровь. Он положил его на полочку рядом с дверью. Замер, разглядывая добычу. А затем шагнул к нему. – Пожалуйста, не надо! – заголосил Миша. Худые, но сильные руки подхватили его за куртку, как щенка. Он брыкнулся, отбиваясь, но получил такую затрещину, что потемнело в глазах. Соколов отволок его к двери в подвал. Распахнул ее и швырнул Мишу вниз по лестнице. В плече стрельнуло болью, затем ожгло затылок. Упав на сырой бетон, Миша заверещал от боли. – Заткнись, блядь, – сказал голос в пятне света, и наступила темнота. Вонючая, сырая, скрывающая во мраке невиданных чудовищ. Захлебываясь слезами, Миша пополз по ступенькам наверх, забарабанил в дверь. Сопли текли рекой, голова болела. От едких запахов тошнило. – Выпустите! Выпустите! – завизжал Миша. Ручка нашлась, но сколько он ни дергал дверь – та не шевелилась. Что-то хлопнуло, лязгнуло металлом. Во дворе едва слышно завелась папина машина. – Папа! Папа-а-а-а-а! Мам-а-а-а-а! Наступила тишина. Миша прижался спиной к двери, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Темноты он боялся и до сих пор спал с ночником. Папа говорил, что это нелепо, что монстров не существует. Что если кто и может навредить, так это другие люди, а не темнота, но мама всегда заботливо включала в розетку лампочку в виде машинки, и Миша засыпал, держась взглядом за огонек. Здесь царила кромешная тьма. Внизу что-то пошевелилось. Пробежались по полу маленькие лапки. Миша полез в карман, вытащил зажигалку. Щелкнул. Маленький огонек осветил только руки, а тьма стала лишь гуще. Что-то вновь прошуршало внизу. Что-то страшное. – Выпустите меня, – проскулил Миша. Голова болела, кружилась. – Я хочу домой… Зажигалка нагрелась, и он отпустил кнопку. Папа говорил, что огонь – не игрушки. Что в его детстве соседский мальчик играл со спичками и спалил дом. Дом, который его родители строили много лет. «Ты же не хочешь спалить наш домик?» – улыбался он. Перед глазами встал окровавленный молоток. Затем лежащий на земле папа. Несокрушимый, смелый, почти как Красный Уткоробот. Миша сжался в комочек, пристально глядя во тьму. Скорчился на ступеньке, уткнувшись лбом в холодный бетон. Зубы клацали. Руки тряслись. И почему-то страшно клонило в сон.
Его разбудил стук двери. И голос: – Что, блядь, мудак, довыебывался? Я тебе сученышу сколько раз говорил – сиди, блядь, и не отсвечивай. – Он первый начал! – послышался виноватый голос Гаврилы. – Хуервый! Говнюк мелкий. Пидор. Послышался звук затрещины. Гаврила всхлипнул. – Пасть закрой! Не пацан что ли, ныть будет тут?! – Выпустите! – крикнул Миша. – Па… – севшим голосом сказал Гаврила. – Кто это? – Твое домашнее задание, блядь! – гаркнул Соколов старший. – Ща ты у меня его отработаешь по красоте, сученок. По двери, за которой сжался Миша, ударил кулак. – Заткни рот, говнюк, а то к папаше отправишься! – Па… Это… Погостин? – тихо и испуганно произнес Гаврила. – Хуестин. Довыебывался, сука? Папку еще подставил. – Как он здесь… – Каком кверху, завались! – еще одна затрещина. – Сука, говорил не отсвечивать, дебил! Хуле ты лезешь ко всем?! Миша дрожал на ступеньке. Темнота в подвале пугала его меньше голосов снаружи. – Пиздуй на кухню! Жри. И пасть не разевай, мне побалакать надо. Послышались шаги, осторожные, детские. Гаврила остановился у двери. – Сука, бегом! – рявкнул гнилозубый. А затем голос его изменился. Стал вкрадчивым, спокойным: – Здравствуйте! Светлана Ивановна? Это папа Соколова… – Мама! – завизжал испуганный Миша, но входная дверь захлопнулась, оборвав его вопль. – Мамочка! Светлана Ивановна – это мама! Он звонил маме! И если кричать громко – она услышит. Миша забарабанил по двери, вопя так, что заболело в груди. Он бился о металл, как птица о стекло, бросаясь на него всем телом. Потом упал, тяжело дыша. Зачем он звонит маме?! – Ты что тут делаешь, Погостин? – тихо спросил оказавшийся за железной преградой Гаврила. – Гаврила, открой, пожалуйста. Открой! Я тебе всех скрепышей отдам! У меня много! Дома еще есть. Открой, Гаврила! Он звонит маме! Тот не ответил. Стоял за дверью, молча. – Гаврила?! Торопливые шаги растворились в доме. И входная дверь снова открылась. Мимо протопал Соколов старший. Ушел куда-то в дом. Оттуда послышался разговор на повышенных тонах. Затем вскрикнул Гаврила. Тьма вновь пошевелилась. От воздуха подвала кружилась голова. Резкие запахи разъедали горло.
Миша вдруг понял, что по-прежнему сжимает в левой руке скрепышей. Разжал ладонь, бросая их во тьму. Подумал о папе, о том, что он обещал взять Мишу на рыбалку на выходных. Что не будет больше выходных. И папы не будет. Вой вырвался из груди. Звериный, тягучий. Миша обрушился на дверь, барабаня кулаками. – Ненавижу! Ненавижу! – орал он. – Ненавижу! Быстрые шаги из глубины дома добрались до входа в подвал. Лязгнул засов. На пороге показался взбешенный Соколов старший. Вверх взметнулась рука, и от удара по голове у Миши потемнело в глазах. Осев, он потерял равновесие и снова скатился с лестницы. В пятне света рядом с фигурой гнилозубого появилась его крошечная копия. Гаврила. – Па… Еще одна затрещина, и в проеме остался только Соколов старший. – Любишь лезть ко всем, говнюк? – сказал тот упавшему сыну. – Мужика играешь? Щелкнул выключатель. Лампочка выхватила из темноты подвала стеллажи с барахлом. Коробки. Канистры. Банки. Большие пузатые бутылки с мутной жидкостью. – Пиздуй! Соколов старший столкнул вниз Гаврилу. – Лезешь в драку, будь готов убить! – гаркнул ему вослед гнилозубый. Мальчишка упал рядом с Мишей, ошеломленно глядя наверх. – Иначе нехуй лезть! – Па! Соколов старший неожиданно спокойно отвернулся, исчез из проема, но вскоре вернулся назад с молотком. Положил его на верхнюю ступеньку. – Его папашу я успокоил. Будет честно, если ты сделаешь тоже самое с его ублюдком. Ты начал – ты и закончишь. – Па! – крикнул, сев, Гаврила. Бросил быстрый взгляд на Мишу. – Папа! Дверь в подвал захлопнулась. Миша торопливо отполз от одноклассника подальше. Уткнулся плечом в канистру. Гаврила же смотрел на выход, будто не верил, что его заперли. Встал, хромая, поднялся наверх и стукнул по металлу. – Я не буду! – гаркнул он. – Я не буду этого делать! Никогда! Гаврила пнул дверь. Уселся на ступеньку, на которой Миша провел несколько часов. Нахмурившись, посмотрел на собрата по заточению. Оттолкнул ногой молоток. – Не буду! – сказал он. Миша молчал. Он очень сильно устал. Из тела словно выкачали всю жидкость, глаза пересохли. – Я случайно, – сказал Гаврила. – Я не хотел так. Миша не ответил. Мальчик наверху лестницы был гостем из другого мира. Из враждебного мира Злобных Свиней. Но в подвале не было Красного Уткоробота, чтобы победить врага. Был только маленький Миша. От пола веяло холодом, черные пятна потеков масла блестели от света лампы. Канистра рядом пахла очень противно. Он встал, нашел какую-то грязную тряпку, забился в угол подальше от канистр и укрылся ею, настороженно наблюдая за Гаврилой. Тот демонстративно уставился в другую сторону.
Так прошло не меньше часа. В доме царила тишина. Потом со двора послышался собачий лай, едва заметный. Звук просочился из узкого окошка под самым потолком подвала. Миша вздрогнул, посмотрел туда. Гаврила повернулся, насупившись. Хлопнула входная дверь. Тяжелые шаги остановились у подвала. Лязгнул засов. – Сидишь, блядь? – рыкнул Соколов. На лице алело две царапины. – Пить хочу, – угрюмо сказал отцу Гаврила. – Ты отсюда не выйдешь, пока не закончишь, – процедил гнилозубый. Посмотрел на Мишу. – А ты, щегол, смотри, кого я принес. Он исчез из проема, а затем, пыхтя, перекинул через порог большой сверток. Отодвинул ногой сына, крякнул, дергая ношу на себя, и сбросил ее с лестницы. Гаврила завопил. А Миша без движения смотрел на то, как по ступеням падает тело мамы. Внутри все умерло. Слез не было. Не осталось ничего. Злобные Свиньи победили. Одноклассник плакал наверху, что-то вопил, а Миша смотрел на неестественно вывернутую шею того, кто еще день назад читал ему сказку про Дракончика Тишку. – Че, блядь, заебись денек, да? – Соколов старший отвесил подзатыльник сыну. – Хуйню бы в школе не делал – нормально бы было. Ты, блядь, лезешь, а мне разруливай! Сука. Гаврила ревел в голос. – Хорош верещать, – смягчился отец. – Добей мелкого пидора, и все будет ровно. Никто не хватится их. Сели они, блядь, в богатенькую тачку и умотали отдыхать на ебанный Алтай какой-нибудь. Шито-крыто. Давай, ебашь! Соколов старший захлопнул дверь. Миша встал. Подошел на дрожащих ногах к телу матери. Коснулся ее щеки пальцем. – Мам? – чужим голосом сказал он. Нажал чуть сильнее, продавливая холодную кожу. Гаврила наверху завозился, закричал: – Это все из-за тебя! Миша лег рядом с мамой, прижавшись к грязному пуховику. Закрыл глаза. В груди было больно, но слезы не приходили. – Это из-за тебя! Из-за тебя! – вопил Гаврила. Миша молчал. Папы нет. Мамы нет. Остались только Злобные Свиньи. Одноклассник заплакал, по-звериному, в смеси ужаса и отчаянья. А затем утих и пошел вниз, повторяя: – Это ты виноват. Ты виноват. Ты! Ты! Миша повернулся на спину. Гаврила спускался, зажав в руках окровавленный молоток. Медленно, словно продирался через сливочное масло. Лицо залито слезами. Глаза красные. Злобная Свинья. Он медленно поднялся ему навстречу. Молча. Без страха. Как Уткоробот. Когда одноклассник ударил молотком, Миша, инстинктивно, словно защищаясь от подзатыльника отца, вскинул руку. Вскрикнул от боли в предплечье. Тяжелый молоток вылетел из пальцев Гаврилы, грохнулся о бетонный пол, и мальчики сцепились. Миша никогда не дрался. Только если в шутку, когда надо показать удар, а не ударить. Но сейчас он словно понимал, что нужно делать. Вцепился Гавриле в волосы, пока тот барабанил его по спине. Попытался оттянуть голову мальчика от себя. Одноклассник извернулся, перекинув через себя Мишу. На пол упала канистра, что-то забулькало. Завоняло едко, противно, как на заправке. Одежда намокла. Встав на ноги, мальчики уставились друг на друга. Гаврила с ненавистью, Миша с пустотой. Он уже не видел перед собой человека. Перед ним хрюкала толстая, грязная свинья. С мерзким рылом, пародирующим лицо человека. И Красный Уткоробот готов был вступить в схватку. Свинья хрюкнула, потопала вперед, выставив перед собой руки-копытца. Завизжала. Миша попытался отмахнуться, но враг был сильнее. За спиной оказалось еще что-то твердое, железное. Снова опрокинулось. Свинья забралась на мальчика, схватив за голову, ударила об пол. Сильнее, еще сильнее. Миша вспомнил, как упал папа, и пнул врага коленом между ног. Оттолкнул хрюкающую тварь. Прошлепал по мокрому полу к лежащему молотку. Наклонился. Свинья еще каталась в луже, визжа. Миша подошел ближе, глядя на жирную тварь, запихнутую в детскую одежду. Сальная кожа выпирала из рукавов, из-под воротника футболки, образовывая десятки подбородков. Глупые глазки моргали. Он поднял руку с молотком, и тут свинья пнула его в колено. Миша упал, но оружие не выронил. Уткоробот никогда не выпускает оружие. Что-то снова грохнулось. На тело мамы повалился стеллаж, засыпав ее банками. Огромные пузатые бутылки разбились о пол с глухими хлопками. Завоняло еще сильнее. Хрюкая, гадкая свинья попыталась убежать, забравшись на упавший стеллаж, но Уткоробот нагнал ее. Молоток опустился на складки головы раз, другой. Третий. Лицо потеплело от брызг.
Дверь из подвала отворилась. В проеме стоял хряк. Лысая, сморщенная голова с висящими ушами повернулась, вынюхивая. Свин хрюкнул и пошел вниз. Огромный. Гораздо больше Уткоробота. Герою нипочем не дотянуться до жирного врага. Поэтому Уткоробот попятился Хрюкая, чудовище спустилось. Переползло через стеллаж, поскользнулось, упав на пол и перепачкавшись в вонючей жидкости, а затем склонилось над телом убитой свиньи. – Уиииии! – завизжало оно. – Уииииии!!! Уткоробот нащупал в кармане зажигалку. – Уииииии! – хряк поднялся на ноги, в копыте влажно блеснул молоток. – Уиииииии! – Сдавайся, злодей! – прокричал Уткоробот и поднял раструбы огнеметов. – Уиииииии! В подвале, залитом бензином и самогоном, щелкнул пьезоэлемент.
Евгений Абрамович Дефекты
Придя домой, Олег увидел в прихожей завернутого в простыню человечка, который растопырил перед ним руки, будто красуясь. – Ого, – улыбнулся Олег, – ты кто у нас, привидение? Человечек опустил руки и пробубнил обиженно: – Я цыпленок… – Ух ты! И правда, цыпленок, а я-то и не понял сразу. И действительно, на лице у «привидения» красовались два больших прорезанных отверстия для глаз и нарисованный фломастером треугольник, который, как понял Олег, изображал маленький клюв. Простыня стянулась через голову, перед Олегом стоял Никита, шестилетний сын Лизы. – Правда похож? – недоверчиво спросил он. – Конечно, – Олег взъерошил мальчику и без того растрепанную соломенную шевелюру. Обрадованный, Никита улыбнулся и принялся складывать простыню. – Это и будет твой костюм? – Не… то есть да. То есть он не готов еще. Я только начал, мама сказала, что поможет. – Хорошая у тебя мама. Никита хихикнул и ускользнул в комнату, где через секунду загремела музыка из вступительной заставки популярного сейчас мультсериала. – Олеж, ты? – послышался Лизин голос с кухни. – Ага. Лиза возилась с пельменями. Испачканные мукой руки порхали над столом, лепили и раскатывали. Олег на цыпочках подошел сзади и легонько ущипнул Лизу за ягодицу. – Ой! – в притворном испуге она прикрыла рот белой ладонью. – Молодой человек, вы так меня напугали. Что вы себе позволяете? Я же приличная женщина! – А как насчет того, чтобы стать неприличной? Он обнял ее сзади за талию, прижал к себе, поцеловал во вкусно пахнущую шею. Руки поползли вверх, к груди. Лиза со смехом высвободилась и замахала на него руками. – Потом-потом. У меня пельмени! Олег улыбнулся и сел за стол. – Как на работе, Олеж? – Нормально. Как обычно. – А что там во дворе за шум? По дороге домой Олег видел машину скорой помощи и толпу людей у соседнего подъезда. – Не знаю. Скорая стояла. Может, случилось чего? Что случилось, они узнали уже вечером, после ужина, когда к ним в гости пришла Тамара Федоровна, толстая сердобольная соседка сверху. Одинокая пожилая женщина, схоронившая мужа и живущая со сворой крикливых котов. Слишком навязчивая и надоедливая, по мнению Олега. – Ой, Лизочка, – причитала она, громко прихлебывая чай на кухне, – такой страх. Викторович со второго подъезда помер. – Да вы что? – тонкие брови Лизы поползли вверх. Тамара Федоровна, похоже, знала всех жильцов в доме. Лиза же, скорее всего, понятия не имела ни о каком Викторовиче. Олег молча слушал женщин, потягивая чай. Никита все возился в своей комнате с мультиками и простыней. – Оказалось, что уже с месяц как, а не знал никто. Страх какой, то-то я его давно не видела, думала на дачу съехал или еще куда. А соседи вонь почуяли из квартиры, пожарных вызвали. Те дверь сломали, а он там лежит. Сухой, как эта… как ее… – Мумия? – подсказал Олег. – Во, она. – Ужас, – проговорила Лиза. – Хороший мужик был, здоровался всегда. Поболтав немного о своих болячках, пенсии и президенте, Тамара Федоровна попрощалась и ушла к себе. Вечером Олег, выйдя из ванны, невольно услышал Лизин голос из комнаты Никиты. Он разобрал только последние слова. – …а не то все узнают, и он будет сердиться. Ты понял меня? – Да, мам, – покорно ответил мальчик. – Кто будет сердиться? – Олег вошел в комнату. Лиза повернулась на голос и подняла детскую книжку в яркой обложке. – Урфин Джюс. – Ух ты, с деревянными солдатами? – С щелкунами, – ответил за Лизу Никита. Мальчик лежал готовый ко сну, одетый в цветастую пижаму и укрытый по грудь одеялом. Олег не понял, о чем он, но переспрашивать не стал. Лиза вернулась к книге и стала громко читать, отрезая все дальнейшие разговоры. Уложив Никиту, они вышли из комнаты, прикрыв за собой дверь. Тихо работал телевизор. Олег уселся на диван и притянул к себе Лизу, поцеловал в щеку. Ее рука проворно скользнула ему в пах, оттянула резинку шорт. – Так что ты там говорил насчет неприличных женщин?Уже три месяца, с начала мая, как они жили вместе. Точнее Олег жил у Лизы с Никитой. Познакомились они больше года назад банально на сайте знакомств. Олег нажал сердечко под фотографией эффектной голубоглазой блондинки, а она написала ему короткое «Привет». Они договорились встретиться, начался конфетно-букетный период в новых отношениях. Через пару месяцев Лиза познакомила Олега с Никитой, сыном от первого брака, с которым тот быстро подружился и нашел общий язык. Они сошлись на общих увлечениях – «Симпсоны», трансформеры, модельки машин и компьютерные игры. Про бывшего мужа Лиза почти не рассказывала, однажды обмолвилась только, что он умер. Сам Олег не спрашивал ни о чем. Он, убежденный холостяк за тридцать, был очарован Лизой. Наверное, впервые в жизни он мог сказать, что влюбился по-настоящему. Весной у Олега начались проблемы с жильем. Хозяин съемной квартиры решил ее продать, известив жильца, чтобы тот съехал в течение недели. Найти что-то по такой же цене и за такой срок было нереально и тут Лиза предложила Олегу жить у них. Недолго думая, он согласился и почти сразу осознал все прелести и удовольствия семейной жизни, почти не находя в ней минусов. У Лизы давно никого не было и, как сама призналась, она изголодалась по мужчине, что чувствовалось. Она набрасывалась на Олега с каким-то почти животным нетерпением и делала в постели такие вещи, которых он никак не ждал от скромной бухгалтерши. Вот и сейчас он лежал без сна в темноте и улыбался после всего, что было. Уставший, выжатый, опустошенный, счастливый. Рядом похрапывала Лиза, прижавшись к его боку голой спиной и ягодицами. Из комнаты Никиты послышалось тихое бормотание и короткий вскрик. Бывало, мальчик разговаривал во сне. Потом за стенкой зашевелилось, пошлепало по полу босыми ногами, раздался новый вскрик, уже громче. Глухой удар, что-то упало на пол. Олег приподнялся на локте, прислушиваясь. Никита у себя в комнате тихо бубнил что-то. Лиза перевернулась на другой бок, засопела. Сон ее был крепок и сладок, Олег не хотел его нарушать. Он натянул лежащие возле дивана трусы и в темноте прокрался в детскую комнату. Никита стоял, отвернувшись к стене, монотонно мычал, не двигаясь с места. В незашторенное окно лилось желтовато-оранжевое сияние фонаря во дворе, расцвечивая пижаму мальчика мертвенным светом. Длинные тени ползли по стенам, в них терялась голова Никиты, словно ее не было вовсе, только эта пижама и бубнение, идущее прямо из безголового тела. Олег вздрогнул, просыпаясь от наваждения, осторожно, стараясь не шуметь, подошел в Никите сзади. Лиза рассказывала, что сын иногда ходит во сне, но сейчас Олег впервые видел это своими глазами. Он знал, что нельзя будить лунатиков, поэтому ласково взял мальчика за худенькие плечи, легонько потянул на себя. – Эй, – шептал Олег, – здоровяк, ты чего?.. Никита уперся лбом в стену, будто слушал что-то. Бубнеж его прекратился. – Сердиться, – четко и громко сказал мальчик, – будет… Урфин Джюс… – Ш-ш-ш, – Олег погладил его по голове. Отвел к кровати, уложил и накрыл одеялом. – Вот и все. Сердце его наполнилось неосознанной, почти иррациональной нежностью к ребенку. Олег наклонился и поцеловал Никиту в лоб. – Щелкуны, – на прощание пробормотал мальчик сквозь сон и отвернулся к стенке. – Я знаю. Спи дальше. Собираясь уже пойти к себе, Олег вернулся к тому месту, где стоял Никита. Из-за стены действительно доносился какой-то шум. Возня, стуки, чьи-то голоса. Тихо-тихо, муха пролетит, и все исчезнет. Наверное, соседи не выключили телевизор. Словно прочитав его мысли, перед лицом прожужжала невидимая в темноте муха. Олег машинально отмахнулся и вышел из комнаты, прикрыв дверь. Юркнул под одеяло к теплой, вкусно пахнущей Лизе. Он сходил с ума от этой женщины, от нее будто электричество исходило. Как же ему повезло. Олег быстро уснул с хорошими мыслями и не чувствовал, как невесть откуда взявшиеся мухи жужжали и шуршали под потолком, тыкались в стены и окна. Садились ему на лицо, заползали в уши и ноздри. Высунув хоботки, щекотали закрытые веки, ища соленые слезы.
Перед уходом на работу Олег ел со сковороды подставленный Лизой омлет, запивая его горячим кофе. Никита мог еще понежиться лишние полчаса в постели перед садиком. – Как спалось? – Лиза погладила его руку. – Так, не очень. Фигня какая-то снилась… – Какая? Олег не мог вспомнить подробности сна, только отдельные образы. Там он сидел и не мог пошевелиться, в комнате, полной обнаженных женщин, среди которых была сама Лиза и почему-то соседка сверху, Тамара Федоровна. – Эротическая, – сказал Олег. – Значит, не такой уж и плохой сон. – Наверное, – он пожал плечами и засунул в рот последний кусок омлета. – Никита ходил во сне. – Когда? – в голосе Лизы проскочила тревога. – Ночью, ты спала. – Почему меня не разбудил? Давно с ним такого не было, его же нельзя… – Я знаю, Лиз. Отвел его в постель, он заснул. Все нормально. – Все равно, буди меня в следующий раз, если что. – Хорошо, как скажешь. Ну все, мне пора. Он поцеловал Лизу в щеку. – Пока. Уже пять лет Олег, инженер-энергетик по образованию, работал фотографом. С тех пор, как хобби окончательно превратилось в основное занятие. «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни» – гласила приписываемая Конфуцию и растиражированная в соцсетях фраза. С этим Олег был согласен лишь отчасти. Ему нравилось то, чем он занимался, но работа эта была сезонной и непостоянной. Бывало, заказы сами текли в руки рекой, приходилось даже отказываться – свадьбы, выпускные, корпоративы и фотосессии. Бывало же, что приходилось самому искать клиентов через рекламу в Интернете, страничку в Инстраграме и объявления у подъездов. Да и о конкурентах забывать не приходилось, даже в их маленьком городке и его окрестностях таких свободных фотографов оказалось навалом. Именно поэтому Олег устроился штатным фотографом в городское фотоателье. Стабильная, хоть и небольшая, зарплата, которая все равно была хорошим подспорьем к основному заработку, спокойное рабочее место и личный компьютер с фотошопом. Ателье приютилось на первом этаже приземистого дореволюционного здания. Из окон его была видна центральная площадь с Лениным и неоготическим костелом за ним. Здесь Олег в основном занимался фотографиями на документы. Второй основной сферой деятельности для ателье была цифровая реставрация старых фотоснимков. Это занятие пробудило в Олеге давнюю страсть. Его хобби началось давно, еще с фотокружка в школе, именно там он увлекся историей фотографии. Фотоискусство Викторианской Англии с жутковатыми практиками Пост Мортема, безголового портрета и «невидимой матери», сюрреализм Филиппа Халсмана, суровый реализм Роберта Капы, довоенный берлинский гламур Карла Шенкера. В перерывах между приемом клиентов Олег собирался спокойно закончить предыдущий заказ на свадьбу. Все снимки были отсняты, осталось только поработать на компьютере, добавить блеска и теней, где надо, убрать прыщики и родинки с лиц молодоженов и гостей, красные глаза, капли пота и солнечные блики. Сегодня же можно будет отправить фото заказчикам. А заодно разобраться с горой бумаг, найденных после ремонта ателье прошлым летом. До этого все никак не доходили руки, а залежи так и пылились в углу. Приходили люди со срочными фото, с заказами на реставрацию, звонили потенциальные клиенты, которым порекомендовал Олега кто-то из бывших. Другие интересовались рамками для фотографий, принтами на майки и кружки. Обработав и пересмотрев все свадебные фото, Олег облегченно выдохнул и с чувством выполненного долга принялся рыться в бумагах. Как он и предполагал, в стопках были старинные фото. Ателье работало здесь уже больше ста лет, с самой постройки здания. Основал его предприниматель Прокопьев, богатейший когда-то человек в городе, после Революции оно было национализировано. Архивы его заполнялись копиями, пробниками, забытыми и бракованными фото. Олег листал и перебирал снимки с ощущением, как будто открыл сундук с сокровищами. На почти выцветших, черно-белых снимках, потрепанных настолько, что к ним страшно было прикоснуться из опасения, что они разлетятся в прах, Олег узнавал город. Вот железнодорожный вокзал, вот рыночные ряды возле ратуши, вот костел на площади, вот сама площадь еще без Ленина. А вот уже с ним. Олег раскладывал на столе, сортировал и держал в руках историю. С удивлением он узнал на одном из фото дом, в котором жил сейчас, дом Лизы и Никиты. Сначала не поверил, но точно. Лиза рассказывала, что здание старое, помнило еще две немецких оккупации. Да, два подъезда, три этажа, двенадцать квартир. Вот даже флигель сбоку, который сейчас стоит с заложенными кирпичом окнами и дверьми. Надо же, если присмотреться можно даже увидеть окна Лизиной квартиры. Вот пожалуйста – выходят во двор. На фотографии, как понял Олег, запечатлели какой-то праздник. Снимок был не подписан и точную дату определить было сложно, но судя по одежде моделей, Олег прикинул первую половину двадцатого века. Может, двадцатые годы, может, раньше. Женщины в закрытых платьях стояли во дворе дома, мужчины в старомодных пиджаках и брюках сидели в ряд на длинной лавке. Тут и там стояли дети, лиц которых, однако, было невозможно рассмотреть. Они были размыты, будто кто-то пытался оттереть их с фотографии ластиком, что создавало немного жутковатый эффект. На самом деле ничего удивительного, отметил про себя Олег, у старых фотоаппаратов была долгая выдержка и для удачного снимка моделям приходилось сидеть неподвижно по полминуты. Порой этим пользовались шутники того времени – перебегали с места на место, меняли положение, пока камера фиксировала изображение, из-за чего на получившемся снимке появлялись размытые человеческие силуэты, что давало повод для спекуляций о запечатленных на них «призраках». А уж с непоседливыми детьми было еще сложнее. Скорее всего, ребята просто слишком активно крутили головами во время съемки, что дало эффект размытости лиц. Неудивительно, что такой испорченный дефектный снимок отправился в архив. Что еще показалось Олегу странным – костюмы детей. Они напоминали карнавальные или клоунские. Мешковатые, сшитые из цельного куска ткани, с чем-то наподобие воротников-жабо. Лица взрослых также настораживали, женщины на снимке улыбались, мужчины выглядели отрешенными и как будто подавленными чем-то. Следующее фото изображало двоих детей в тех же самых мешковатых костюмах. Только теперь уже вместо лиц у них были маски животных, собаки и козла. Очень реалистичные маски, отметил про себя Олег. Дальше шли новые снимки детей в масках и костюмах. На тех фотографиях, где дети стояли без масок, лица их были размыты, как на первой групповой фотографии. Фото детей разбавляли парные изображения – улыбающиеся женщины в компании мужчин, похожих на сомнамбул. Присмотревшись внимательней, Олег понял, что мужчины на снимках выглядят уставшими, будто сонными, и худыми, почти изможденными, больными. От последней фотографии в стопке по телу побежали мурашки. Там высокая старуха в черном платье, с пучком седых волос на макушке, стояла, положив высохшую кисть на плечо сидящему на стуле мужчине в костюме-тройке. При виде этой пары на ум пришел тот самый Пост Мортем – викторианский обычай фотографировать умерших родственников. Сидящий субъект выглядел настоящим мертвецом, выставил перед собой руки, словно они не сгибались в трупном окоченении. Бельма глаз без зрачков отрешенно уставились в никуда. Кожа лица натянулась глубокими морщинами, обнажив огромные лошадиные зубы в жутком подобии улыбки. Снимок был дефектным, слишком зернистым, будто испещренным маленькими черными точками. Такими же были и фотографии в следующих стопках, люди на них стояли будто посреди облака из черных точек или телевизионных помех. На десятке снимков вообще было сложно что-то разобрать, только смутные фигуры, очертания и контуры тел. Сюжеты тех, где что-то было более-менее видно, повторялись – женщины и мужчины, вездесущие дети в костюмах и масках. Дети с размытыми лицами. Олег подумалбыло, что это интересная находка. Можно будет даже собрать дефектные фотографии в кучу и сделать своеобразную выставку. Кто знает, может, это и не дефекты вовсе, вдруг он открыл забытое направление в фотоискусстве? Поразмыслив над этим, Олег почти сразу отказался от идеи с выставкой. Ему не нравились эти фотографии, от них веяло какой-то неясной подспудной жутью. Наоборот, хотелось засунуть их подальше с глаз и забыть. Он так увлекся, что даже не заметил, как на улице стало темнеть.
Ночью Олег снова проснулся от стуков и шорохов из комнаты Никиты. Пошарив рукой под боком, обнаружил, что лежит в кровати один, Лизы рядом не было. На полу лежала ее ночнушка и белые трусики, из-за открытой двери детской доносился тихий Лизин голос, она что-то шептала невидимому собеседнику. Никите, конечно, одернул себя Олег, кому же еще? Но неужели она пошла в комнату сына голой? Олег поднялся и на цыпочках прокрался в темный проем. Никита спал, отвернувшись к стене и тихо посапывая, одеяло мирно поднималось и опускалось от его дыхания. Лиза стояла в чем мать родила на том же месте, где прошлой ночью Олег нашел Никиту. Точно так же прислонившись лбом к стене. Он видел ее стройные ноги, ягодицы и белую спину. Голое тело казалось мертвенно-бледным в свете фонаря из окна. Голова ее тонула в темноте, словно Лиза заглянула через дыру в другое измерение и теперь разговаривала с кем-то. Слов ее нельзя было разобрать, тихий шепот растворялся в мерном гуле, источник которого не определить, он мог находиться как за стеной, так и прямо в комнате. – Лиз? – слова больно продирались через пересушенное от страха горло. Она оторвалась от стены и медленно повернулась на голос. Олег не видел в темноте ее лица, но почувствовал на себе прямой тяжелый взгляд, от которого попятился обратно к двери. На миг ему показалось, что зашевелилась тьма под потолком. Загудела громче, зажужжала. Что-то защекотало нос и глаза, Олег машинально отмахнулся от назойливых мух. Из ступора его вывела Лиза. Ее рука монотонно и механически орудовала в паху. Не прекращая мастурбировать, она подошла к нему вплотную. – Хочу тебя, – зашептала ему на ухо, дыхание обожгло шею и щеку. Настойчиво толкнула Олега прочь из комнаты. Он не мог сопротивляться.
Утром на кухне Олег сидел разбитый и не выспавшийся, с тяжелой и больной головой. – Что это было ночью? – Ты о чем? – встрепенулась крутящаяся рядом Лиза. – Что значит, о чем? Ты что, тоже лунатик? – А вот сейчас советую тебе помолчать, – впервые с момента их знакомства Олег услышал в ее голосе незнакомые прежде стальные нотки. – Мы что, ссоримся? – Нет, – сказала Лиза, как отрезала. – Я просто хочу знать. Ночью я проснулся, а ты стояла голышом в комнате Никиты… Она покраснела и опустила глаза. – Я услышала шум у него и пошла посмотреть. Он опять ходил. – Пошла голая? – Я испугалась, Олеж. Он кричал во сне, спросонья я не стала искать ночнушку. Было темно, что бы он там увидел? Тем более, он спал, – она отхлебнула кофе из чашки. – Слишком часто это повторяется. Надо бы опять сводить его к психологу, в прошлый раз помогло. – А ты… – Олег замялся, – ты ни с кем не разговаривала? – Что? – ее брови поднялись вверх. – Олеж, теперь уже я за тебя волнуюсь. С кем я могла там разговаривать? Он пожал плечами. Закончив есть, Олег вернулся в комнату собрать вещи на работу. На диване был разложен наполовину готовый костюм Никиты. Он перестал быть просто старой простыней, приобрел формы, рукава и штанины. Тут же лежала тряпичная маска с пришитым клювом, набитым ватой. В ней и правда было что-то птичье, цыплячье. Олег замер, рассматривая костюм, даже вздрогнул, когда Лиза подошла сзади и тронула его за плечо. – Так а к чему этот костюм? – спросил он. – Ты вроде говорила, а я что-то не запомнил. – Да в садике у них праздник какой-то. Я сама толком не вникала, в конце каждого лета отмечают. Традиция какая-то из местных. Олег вспомнил детей на старых фотографиях. – Давняя традиция? – Да, наверное, – Лиза пожала плечами, – я тоже в детстве наряжалась. Тебе не пора? Олег взглянул на часы – Да, точно. Все, иду. – А я буду Никитку будить.
Посетителей было мало, и Олег снова отдался изучению старинных фотографий, найденных в архиве ателье. В них было все больше странного, неправильного, уродливого, гротескного. На одном снимке выстроились уже знакомые улыбающиеся женщины, болезненные мужчины и дети в мешковатых костюмах с головами животных. Дети с размытыми лицами, мужчины, в глазах которых читались боль и ужас. Пространство фотографии было искажено роем черных точек, в облаке которых стояли запечатленные на нем люди. Олег взял со стола лупу и присмотрелся внимательнее. Ничего толком не разобрав, он, однако, пришел к выводу, что черными точками были мухи. Люди находились в комнате, полной насекомых. Взяв в руки следующее фото, Олег с трудом подавил желание отбросить его прочь. На нем улыбающаяся женщина в темном платье держала не коленях тряпичное тельце куклы и, глядя прямо в объектив, пришивала к игрушке черную собачью голову с раскрытой пастью и вывалившимся набок языком. Кукла была большой, размером с пятилетнего ребенка. Она безвольно расселась на руках у женщины, раскидав в стороны руки и ноги. Кукла, это точно было кукла. Как же иначе. Один из снимков запечатлел группу полуголых мужчин. Они сидели в ряд на длинной лавке у стены, безразлично и исступленно глядя в камеру. При взгляде на них Олег вспомнил военные фотографии, на которых корреспонденты снимали освобожденных узников нацистских концлагерей. Тонкая, почти прозрачная кожа, выступающие ребра, худые длинные конечности, острые скулы. Лица и губы мужчин как будто усохли, скукожились, превратившись в растянутые подобия ухмыляющихся гримас. Оскаленные зубы наводили на мысль о жутких улыбках истуканов-щелкунчиков. По телам мужчин, по лицам, по стене за ними ползали черные точки. Дальше на фотографиях были только дети. Олег уже разубедился в том, что на снимках запечатлен какой-то праздник. Скорее это напоминало некий ритуал, религиозный обряд. Дети в масках животных держались за руки, водили хороводы, играли в чехарду, перепрыгивая друг через друга. Дети стояли на коленях, сложив руки в молитве и, подняв звериные мордочки, внимательно слушали проповедь «священника» – мальчика лет семи в длинной черной рясе и маске грача с длинным увесистым клювом. Эти маски. Даже на старых, выцветших, порванных и дефектных снимках можно было оценить, насколько искусно они сделаны. Животные личины на самом деле даже не казались масками, ощущение было, что на снимках действительно изображены звери в детской одежде. Кое-где можно было даже различить блеск глаз, свалявшуюся или лоснящуюся от жира шерсть, торчащие в стороны перья. На фотографиях из последней стопки дети были не одни, а в компании того, кого Олег про себя назвал Привидением. Привидение, скорее всего, было просто высоким человеком, на которого накинули длинную белую простыню с прорезями для глаз, в них виднелись только темные провалы. Тем не менее, Олег неприятно поежился, вглядываясь в их пустоту. Казалось, что кто-то смотрит прямо на него, в самую душу. Такой эффект бывает при рассматривании икон, когда кажется, что взгляды святых не отпускают тебя ни на миг. Похоже, что для детей на снимках Привидение и было кем-то вроде божества или любимого родителя, что в общем-то одно и тоже. Они стояли перед ним в молитвенных позах, подобострастно тянулись руками и мордами к полам простыни будто хотели поцеловать. Озорно выглядывали из-под нее – то ли прятались от зрителя, то ли наоборот, звали к себе. Приглашали приподнять занавес и заглянуть, что скрывается под ним. Белую ткань оболочки Привидения пачкали темные точки, которые можно было принять за дефекты снимка. С каждой новой фотографией их становилось все больше. Постепенно рой заволакивал все пространство изображения. Само Привидение и детей вокруг него, их звериные лица. Последние снимки и вовсе оказались бракованными. Слишком темными или, наоборот, пересвеченными. Нагромождение линий и рытвин, словно от грязного или треснувшего объектива, лишало возможности рассмотреть хоть что-то. Только кое-где на фоне общей серости и черно-белой ряби можно было различить тощие силуэты сидящих мужчин.
Тем вечером спать Никиту укладывал Олег. Он сам проявил инициативу, выждав момент, пока Лиза была в ванной. Хотелось побыть с мальчиком наедине. На кресле в углу лежал, раскинувшись, костюм. Полый и пустой, он напоминал сдутую оболочку. Сброшенную змеей кожу. Олег наклонился к лежащему в кровати Никите. – Давай поговорим серьезно, – спросил он шепотом, – как взрослые? Никита кивнул. – Твоя мама говорила, зачем тебе этот костюм? – На праздник, – так же тихо ответил мальчик. – А она рассказывала, что это за праздник? Никита пожал плечами. – Сказала, что будет весело. Все мои друзья тоже будут в костюмах. – У тебя много друзей? – Очень! – Никита оживился, заулыбался, сел в кровати. – И что вы делаете вместе? – Мы играем, – Никита подсел ближе к Олегу и сказал тихо, будто доверял секрет, – в зверей. – Играете в зверей? И в чем суть игры? – Ну… просто играть. Все как обычно, только мы… ну… звери. – Ага. Олег рассеяно полистал книжку, которую собирался читать Никите перед сном. – Слушай, Ник, а твоя мама рассказывала что-то про твоего папу? Кто он? – Его нет, но он все равно с нами. – И все? – Ну да. – Что это значит? Никита пожал плечами. – А мама никогда не бывает странной? Никита хихикнул. – Как это? Олег вспомнил улыбающихся женщин на фотографиях. Голую Лизу в детской комнате. – Ну, например, она никогда не заставляла тебя делать того, что тебе не хотелось бы? – Типа как мыться? Ходить к врачу? Есть манку? – Нет, что-то такое, ну, чего ты никогда не делал бы в жизни? Никита надолго задумался, видимо, не поняв вопроса. – А вы давно живете в этом доме? – Всегда! Никита плюхнулся в кровать и накрылся с головой. Приподнялся, став похожим на привидение. Олег, поежившись, вспомнил долговязого типа в простыне со старых снимков. – Ник, а вы с друзьями, когда играете… эээ… в зверей, вы играете одни? – Да. – С вами нет взрослых? – Почти нет. – Почти? Никита только развел руками, скорее всего не зная, как объяснить свою мысль. Олег снова посмотрел на раскинувшийся в кресле костюм. Пустые глазницы на плоском лице внимательно уставились на него в упор. К макушке был пришит красный стоячий гребень, топорщился кривой вязанный клюв. Надев его, Никита действительно будет похожим на большого получеловека-полуцыпленка. – … честно говоря, боюсь. Олег отвлекся и не услышал, о чем говорил мальчик. – А? Прожужжала муха, большой черной родинкой села Никите на кончик носа. Он ее не отогнал, как будто вообще на заметил. – Я немного боюсь. – Чего? – Олег сел ближе. Никита натянул одеяло до самых глаз. Муха, перебирая лапками, скрылась в густых русых волосах мальчика. – Щелкунов. – Кто они? – Они шумят и злятся. И живут за стенами. – Ваши соседи? Никита пожал плечами. Сколько здесь жил, Олег не мог вспомнить проблем с шумными соседями. – Почему они злятся? – Их не выпускают. Они говорили теперь тихо-тихо, едва слыша друг друга. Будто кто-то мог подслушать их разговор. Пустой костюм в кресле, люди за стенами, мухи и белые простыни. – Кто их не выпускает? Никита подался вперед, собираясь сказать что-то Олегу на ухо. – О чем шепчетесь? Олег подскочил на месте от испуга. Обернувшись на голос, он увидел стоящую в дверях детской Лизу. Она улыбалась, но глаза ее были холодными и внимательными. – Об Урфин Джюсе, – он показал Лизе книгу, которую все еще держал в руках. Олег начал читать с первой открытой страницы, сам не понимая смысла написанного. Спиной чувствуя холодный тяжелый взгляд Лизы. Перед сном он долго сидел на кухне, просматривая фотографии, сделанные на камеру, принесенную с работы. На дисплее мелькали кадры, глядя на которые Олегу хотелось отбросить аппарат в сторону, закрыть глаза и считать до ста в надежде, что они изменятся. Но каждый раз, возвращаясь к ним, он видел одно и то же. Не заходя домой, он сделал несколько снимков снаружи. Двор, детская площадка, фасад дома. На получившихся кадрах все казалось нормальным, обычным, вот только флигель с заложенными кирпичом окнами выглядел новеньким, будто только что построенным. В окнах его виднелись маленькие фигурки. Олег до боли напрягал глаза, пытаясь рассмотреть их, и покрывался холодным потом, убеждаясь, что видит там существ со звериными головами. Силуэты в несуществующих окнах заброшенного флигеля ничуть не смущали женщин и детей, игравших и гулявших во дворе. Они высыпали на улицу, наслаждаясь приятной прохладой летнего вечера, не замечая ничего странного вокруг. Только женщины и дети, это Олег заметил уже давно. Мужчин здесь не было, только несколько молчаливых и нелюдимых стариков, как несчастный Викторович, высушенный труп которого пару дней назад забрала скорая. Лизы дома еще не было и, забрав Никиту из садика, Олег несколько раз быстро щелкнул его в упор. – Эй, – хихикнул мальчик, – ты зачем? – Да так, – соврал Олег, – камеру проверяю. Снимки Никиты он счел бы бракованными и дефектными, если бы уже не видел такого раньше. Лица мальчика было не разглядеть, оно казалось размытым и затертым, как пелена или клякса. Как шутка или розыгрыш, странный и непонятный фотоэффект.
Олег проснулся среди ночи, не чувствуя рядом Лизу. Пошарил рукой по ее половине дивана. Простыня была прохладной, остатки человеческого тепла выветрились, исчезли. Он сел, опустив ноги на пол, прислушался к звукам из соседней комнаты. Там явно было больше двух человек. Топали и цокали шаги, слышался смех и голоса. Они пробивались сквозь равномерный монотонный гул, рассерженное жужжание потревоженного улья. Поверх него четко и громко раздавались ритмичные щелчки, похожие на звуки кастаньет. Они ускорялись, набирали силу, словно невидимые танцовщики входили в раж, распаляя себя стуком. Лизина ночнушка снова комом лежала на полу. Она снова голая? С кем? Что она там делает? В голове пульсировали вопросы, на которые, как быстро признался себе Олег, он не хотел бы знать ответов. Тело дрожало и покрывалось холодным потом, разум подсказывал бежать. Олег поднялся, диван под ним тихо скрипнул, а звуки из детской тут же умолкли, будто их спугнули. Дверь в комнату Никиты была приоткрыта, Олег толкнул ее. Щель раскрылась, как разрез, и он сделал шаг вперед, на миг потеряв равновесие. Словно споткнулся обо что-то и, выставив руки перед собой, полетел прямо в темноту. Внутренности поднялись к горлу, тело стало легким и невесомым от ощущения несуществующего полета. Кое-как справившись с головокружением, он огляделся по сторонам. Комната тонула в темноте, Олег даже не понял сразу, что именно его насторожило. Больше не было ни длинных теней на стенах, ни желтого света фонаря за окном, ни самого окна, ни даже его силуэта на противоположной стене. Все пространство вокруг проглотила темнота. Будто, войдя в комнату, он оказался в другом измерении. За стеной, где живут невидимые, шумные и злые соседи, которых не выпускают отсюда. Только в центре возвышался неподвижный призрак. Высокая фигура, никак не детская, укрытая белой простыней, стояла на кровати в полный рост. Олег не видел ее ног, силуэт словно парил в воздухе. Самой кровати он тоже не видел, только предполагал то место, где она стояла раньше. Олег медленно пошел к призраку, выставив перед собой руку. Пол под ним был твердым, шершавым и холодным. От него стыли и немели босые ноги. Прожужжала над головой невидимая муха, другая слепо ткнулась в щеку. Третья защекотала в ухе, еще одна приземлилась на веко, противно засучила лапками в уголке глаза. Олег согнал ее, почти не обратив внимания. Он был полностью сосредоточен на белой фигуре впереди. Голова ее чуть заметно склонилась на бок. Простыня спадала на длинную шею и узкие плечи, под ней едва просматривались черты лица – скулы, лоб, длинный нос и тонкий подбородок. Олег подошел к «привидению» на расстояние вытянутой руки и, дрожа, потянул за кончик простыни. Он ожидал чего угодно. Что кто-то схватил его из темноты, закричит, ударит, набросится сзади. Но вместо этого простыня с тихим шорохом съехала в сторону. Под ней не было ничего, только с новой силой зажужжали потревоженные, невидимые в темноте мухи. Они облепили Олегу руки и лицо, закопошились в волосах на голове и груди. Неприятно и настойчиво лезли в нос и глаза. Отмахиваясь и отплевываясь, Олег попятился назад. Он не видел насекомых, только слышал и чувствовал копошение маленьких лапок. Их становилось больше, гул вокруг нарастал. Олег в панике закричал, и волна мух рванула ему в раскрытый рот. Щекотала язык и небо, вызывая рвоту, норовила проникнуть дальше, в глотку и пищевод. Олег бросился бежать, не разбирая дороги, споткнулся обо что-то и покатился по полу, сбивая с себя вездесущих и навязчивых насекомых. Мухи лишали его сил, словно они были единым живым организмом, который навалился сверху на человека, прижав к полу. Свинцовым панцирем они ползали по нему, не давая двигаться. Тело стало тяжелым, неповоротливым, безвольным. Олег мог только лежать на спине и, скуля от страха, ждать, что будет дальше. Привыкнув к темноте, он смог что-то в ней разглядеть. Сначала совсем чуть-чуть, но потом все четче. Контуры и линии, углы, стены и высокий потолок. Просторное помещение без окон, в котором кружился и жужжал рой насекомых. Кромешная темнота уступила место монохромным оттенкам, тусклой бесцветной сепии. В ней Олег рассмотрел обнаженные женские фигуры. Он узнал их всех, своих недавних соседей. Одинокая мамаша двух непоседливых близнецов с первого этажа, беременная брюнетка с каре. Тряслась сморщенными обвисшими складками Тамара Федоровна, соседка сверху. Женские тела толстым слоем покрывали мухи. Женщины стонали и вскрикивали от удовольствия, пускали слюни и в экстазе облизывались, закрыв глаза. – О да, – шептала и дрожала Лиза. Мухи ползали у нее между ног, по плоскому животу и высокой груди. Заползали в раскрытый рот, перебирали лапками и трепетали крыльями, облепив пухлый и мокрый, высунутый от удовольствия язык. Олег с трудом отвернулся, не в силах смотреть. С другой стороны, у самой стены, стояли тощие мужские фигуры, похожие на высушенные древние мумии. Тонкие кривые конечности, впалые животы и торчащие ребра. Туго натянутая на черепа прозрачная кожа и громадные оскаленные зубы, которые без остановки щелкали, выдавая ритмичную костяную дробь. Щелкуны, бывшие мужчины, прежние жители этого дома. Казалось, что они были полыми внутри, из них доносилось глухое гудение, как из пустых глиняных сосудов. Их челюсти работали без остановки, отстукивая ритм. Насекомые облепили лица мумий, как живые жужжащие бороды. Эти мужчины не выдержали конкуренции с тем, кто был настоящим хозяином дома. Кому принадлежали местные женщины и кто являлся настоящим отцом их детям. Высушенные без остатка, лишенные жизни и воли, теперь щелкуны служили всего лишь сосудами, вместилищем его тела. Распростертая на полу простыня шевельнулась, вновь обретая форму. Надулась, будто распираемая изнутри воздухом. Повисла в метре над полом. Теперь у нее были нарисованные темные глаза и большой, глуповато приоткрытый рот. Олег уже видел это лицо на старых фотографиях. Теперь оно с интересом смотрело на него в упор. Из-под простыни вылезали дети, как будто они прятались там все это время. Олег узнал их всех, часто видел во дворе, играющими в песочнице и на детской площадке. Все они были в одинаковых бесформенных комбинезонах, похожих на клоунские. Дети, мальчики и девочки, стягивали с себя человеческие лица, обнажая уродливые звериные личины. Рога и вислые уши, внимательные немигающие глаза, шерсть, клювы, перья и торчащие желтые клыки. Детские лица грудой остались лежать на полу, как фарфоровые кукольные маски. Дети кольцом обступили распростертого на полу человека. Над ними возвышался их отец, глядя сверху вниз пустыми черными глазами. Под простыней гудело и жужжало, оттуда вылетали мухи и маленькими темными тучками кружились над головами детей. Копошились в ноздрях и уголках глаз. Играли, ласкали. Щелкуны отлепились от стены и медленно пошли вперед, приветствуя нового брата. Олег узнал мальчика, который, сделав шаг, отделился от остальных и склонился над лежащим, опустившись на колено. Лиза закончила костюм, теперь Никита выглядел настоящим цыпленком, помесью детеныша птицы и человеческого ребенка. Он выворачивал шею и дергано вертел головой, глядя на Олега то одним, то другим глазом. – Ник… Олег с трудом поднял руку, облепившие ее мухи казались теперь стальными гирями. Из последних сил вцепился пальцами в клюв существу над ним. Хотел сорвать с него маску, но не мог.
Иван Белов, Кирилл Малеев Знамения и чудеса
И всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен;Андрей, инок Андроникова монастыря, стоял на коленях перед образом святой Троицы и молился вполголоса. Икона, им же написанная и вставленная в деревянный киот, тускло блестела при свете лампадки, отчего казалось, будто она сама источала свет подобно маленькому солнышку. Не так давно перед иконой молилась целая артель: друг и сподвижник Даниил, их ученики с подмастерьями, – но теперь Андрей остался один. Всех остальных забрала черная смерть. Положив земной поклон, Андрей поднялся, покряхтывая и опираясь на мраморный пол. Дожив с Божьей помощью до шестого десятка, он никогда не чувствовал груза прожитых лет, но с недавних пор годы навалились на него всем скопом, едва не пригнув своей тяжестью. Андрей приоткрыл плотно запертые на ночь двери собора и глянул на улицу. Октябрь в этом году выдался на диво погожим: безбрежное небо сверкало лазуритовой синевой; деревья оделись в киноварь и сусальное золото, а каменные стены собора блестели сахарной белизной, будто твердыни небесного града. Инок вдохнул прохладный осенний воздух и перекрестился. Со стороны города вновь потянуло гарью. …Мор пришел в Москву на исходе весны. Страшная напасть давно ходила по Руси, вспыхивая тот тут, то там, а теперь добралась и до стольного града. Зараза просочилась с торговыми возами, расползлась, раскинула щупальца по слободам и подворьям, поражая старых и малых, грешных и праведных. Большой, многолюдный город пропитался ядом, и сам будто превратился в сочащийся гноем нарыв. Те, кого коснулась моровая язва, покрывались коростой и черными пятнами, бесновались и умирали прямо на улицах. Обезумевший люд искал спасения в церквях, запирался в домах, в панике бежал из города, но везде находил только смерть. Пришла хворь и в Андроников монастырь. Братия молилась денно и нощно, но мор и не думал отступать. Каждый день монахи относили на кладбище двоих-троих иноков: черные и страшные от вздувшихся желваков, они лежали в долбленых гробах-колодах и глядели залитыми кровью глазами в безмолвное небо, словно вопрошая о чем-то. Одного за другим Андрей похоронил всех учеников, с которыми расписывал собор; работа, прерванная мором, так и осталась неоконченной. «Кара! Кара Господня!» – шептались в кельях оставшиеся в живых иноки, ожидая конца света – кто со страхом, а кто с надеждой на избавленье от мук. Андрей молился вместе со всеми, прося у Господа ниспослать милость свою и избавить людей от напасти. В одну из бессонных ночей было ему видение: ангел белокрылый спустился с небес и сказал: «Хочешь спасти Русь – заверши труд. Распишешь собор – и отступит дьявольский мор». С рассветом Андрей рассказал о чуде игумену и покинул кельи, захватив с собой краски и маленькую икону. Минула с той поры неделя, а может, и месяц. Андрей давно потерял счет однообразным, измотавшим тело и душу, изглоданным моровым поветрием дням. Он трудился над фресками с рассвета до заката, а спал тут же, на полу, подложив под голову рясу. Несмотря на запах гари, Андрей оставил резные двери распахнутыми, чтобы впустить больше света. Яркие солнечные лучи вливались сквозь двери, пробивались через узкие стрельчатые окна, освещая покрытые фресками стены. По весне, еще до чумы, Андрей с помощниками расписал оконные откосы кругами с травяным орнаментом. На каждой стене он изобразил сцены из Евангелия: Притчу о блудном сыне, Христа и самарянку, Тайную вечерю и Благую весть. Склоны арок заняли святые, простенки между окнами – ангелы и архангелы. Незанятым остался лишь купол. Вначале Андрей хотел нарисовать на нем Преображение Господне, но во сне ангел явил ему другую картину: Христос в окружении адского пламени вызволяет праведников из преисподней, попирая ногами чертей. То было Сошествие Христа в Ад из «Деяний святых апостолов». – Дай Бог закончить! – бормотал он, с трудом карабкаясь по скрипучим лесам на самый верх. – Дай Бог сил и терпения… Кисти, горшочки с красками и вода для промывки ждали его наверху. Взобравшись на помост, Андрей осмотрел вчерашнюю роспись. Он начал картину с фигуры Христа: Господь стоял на разбитых воротах Ада; под воротами, придавленный тяжестью створок, лежал рогатый и крылатый черт. Христос протягивал руки к благообразному старцу – праотцу Адаму. Следом за ним должен был стоять Авель с агнцем в руках; вчера Андрей успел нарисовать только агнца и часть держащих его рук. Окунув кисть в краску, Андрей сделал осторожный мазок, потом еще один, и вскоре фигура Авеля обрела контуры и искрящийся нимб над головой. Работа началась, и Андрей привычно нырнул в нее, как в омут, – забыв обо всем на свете. Солнце уже садилось, а он все трудился: измученный, голодный… Праведники проступали на фреске один за другим: Авраам, Моисей, Исайя… «Торопиться надо, торопиться, – подгонял он себя, – не жалея себя гнать проклятый мор с русской земли!» – Дядька! Дядька Андрей! Тоненький голосок, донесшийся откуда-то снизу, заставил его вздрогнуть. Опустив голову, Андрей разглядел знакомую девичью фигурку. – Аленка? – Я, дядька Андрей. – Вот ужо я тебе!.. – он потряс кулаком в притворной угрозе и нехотя отложил кисть. Аленка, девка годков тринадцати, единственная живая душа, посещавшая его все эти дни. Пронырливая и бойкая, она жила с матерью Прасковьей в слободе неподалеку от монастыря. С началом мора повадилась Аленка ходить в монастырь, а как увидала, чем занят Андрей, привязалась лисьим хвостом. Представлялся ей Андрей сказочным чародеем, под рукой которого оживают на белых стенах картины невиданной красы. Он поначалу дичился, на вопросы не отвечал, гнать пытался, а потом ничего, пообвык. Боле того, понял – без Аленки не справиться. За работой он забывал о сне, еде и воде, и так бы, наверно, и сгинул, если б не Аленка. Добрая душа взяла на себя мирскую заботу: подкармливала, подкладывала солому под бок, отгоняла жирных, раскормившихся на мертвечине назойливых мух. Где она умудрялась добывать снедь в эту страшную осень, он не задумывался, не до того было. – Не грози! – озорно крикнула девка. – Сейчас поднимусь! – Подожди… – Андрей осекся. Аленка ловко карабкалась вверх. Вскоре за крайнюю перекладину уцепилась дочерна загоревшая рука, на доски брякнулся узелок, девка перевалилась к монаху, ожгла улыбкой и заправила под платок выбившуюся белокурую прядь. – Быстрая я? – Быстрая, – подтвердил он. – Как кошка? – Как две кошки и с ними лиса. Аленкины щеки едва заметно покраснели, она довольно захлопала ресницами и поспешно натянула подол задравшегося сарафана, скрывая левую ногу – иссохшую и кривую, обтянутую коричневой, шелушащейся кожей. Такой родилась, ничего не поделаешь. Увечье ее ничуть не смущало, а Андрей внимания не обращал. Люди – те всякое говорили, да что с людей взять? Аленка развязала тугой узел, в чистой тряпице лежала пареная репа и ломоть рыхлого хлеба. – Откушай, дядька Андрей. Чем Бог послал. Андрей только сейчас понял, насколько оголодал. Ввалившийся, как у приблудного пса, живот требовательно урчал, в голове помутилось. Он взял репу и надкусил, кожура лопнула, брызнул тягучий, отдающий землей и деревом сок. Хлеб, водянистый и похожий на сырую глину, показался слаще княжеских яств. – С лебедой хлебушек, – повинилась она. – Муки в нем и нет почитай. – Ничего, вкусно, – проворчал Андрей. – Многие и того не видят. Он не лукавил. Вместе с хворью явился ее вечный спутник – голод. Окрестные крестьяне разбежались или повымерли, некому стало пахать, поля заросли сорной травой, огороды забил бурьян. К осени за меру ржи родители продавали детей. – Правда вкусно? – обрадовалась Аленка. – Правда, – Андрей подвинул к ней хлеб. – Попробуй. – Я с утра объеденная, – беспечно отмахнулась Аленка, пряча голодный отблеск в глазах. – Ты про себя думай: не будешь есть – кто красоту нарисует? – Кроме меня некому, – сказал Андрей. – А мать где? Прасковья, Аленкина мать, лекарка-травница, первое время приходила вместе с дочерью: тихая, робкая женщина, еще не растерявшая былой красоты. Смотрела на образа, крестилась и охала, сраженная чистой, божественной святостью, струящейся со сводов нового храма. – С больными она, – отозвалась Аленка. – Немощных ныне страсть развелось: кровью черной харкают, кашлем исходят, ором орут. Вчера соседи умерли, Анна и Федор, хорошие были, добрые… Троих детей схоронили и сами померли. На нашей улице в каждом доме мертвяк, а хоронить некому – люди заразы боятся. Один Никишка юродивый умерцев в яму таскал, божья душа, да и того больше нет. Упал в обнимку с мертвецом, так теперь и лежат у ворот. Я ворон гоняла с него, только отвернулась, а они, каркалы драные, уже глаза склевали… Страшно, дядька Андрей. – Страшно, – согласился Андрей, дожевывая хлеб. – Только Бог не оставит, верить надобно и терпеть. Верою и терпеньем спасемся. – Так и матушка говорит, – Аленка поежилась. – А я терпеть не люблю, не умею. Батюшка меня Невтерпежей за это прозвал. Она вдруг примолкла, став похожей на птенчика, выпавшего из гнезда. Аленка всегда замыкалась, когда упоминала отца, давно пропавшего без вести. Сгинул тот и концов не нашли, а она все верила, что отец однажды вернется, ждала, когда скрипнет калитка и затрещит рассохшееся без мужского присмотра крыльцо… Аленка молчала, молчал и Андрей, перетирая загрубевшими пальцами известковый раствор. И в молчании этом сути было больше, чем в ином разговоре. – Пойду я, – опомнилась Аленка. – Делов куча и матушке надо помочь. А ты рисуй, не отлынивай, я проверю. Андрей проводил ее взглядом. Тонкая фигурка заскользила по лесам, спрыгнула на мраморный пол и, едва заметно приволакивая левую ногу, направилась к раскрытым дверям. Обернулась, махнула рукой и крикнула, прежде чем уйти за порог: – Не буду терпеть! Слышишь? Не буду и все!Второзаконие 28:61
Тьма заполнила землю и небеса черным, удушающим облаком, и Андрей увяз в ней, словно в смрадном болоте. Тьма стонала, тьма выла, тьма причитала на разные голоса, и голоса эти были похожи на шуршание палой листвы: бесплотные, жухлые, лишенные всякой жизни и божьей искры. Обрывки молитв и страшные богохульства смешивались и переплетались между собой, приходя из ничего и уходя в никуда. Порой тьма подсвечивалась далекими грязно-желтыми вспышками. Андрей не понимал, тонет он или парит, ослеп или зряч, оглох или слышит, падает в Ад или возносится в Рай. Тьма смеялась, тьма причитала, тьма скулила щенящейся сукой. И в этой темноте что-то пряталось. Что-то жуткое и бестелесное, ненасытное и голодное, разорванное на куски и сращенное заново, полное ненависти, злобы и лютой тоски. Древнее, словно звезды, и такое же ледяное. Андрей чувствовал исходящую из тьмы вонь старых пожарищ и раскопанных братских могил. А потом в темноте распахнулись два огромных багровеющих ока, видящих Андрея насквозь. Он задергался, сорвался на крик, но крика не было. Была только боль. И было пламя, в котором миру суждено сгореть без следа… …Андрей очнулся рывком, вырвался из кошмара и едва не сверзился из-под купола вниз, вовремя почувствовав под рукой пустоту. Откинулся на шершавые доски и попытался вздохнуть, втянуть в себя раскаленный адовым пламенем воздух. Сердце прыгало, руки ныли, голова налилась киселем. Андрей лежал, бессмысленно вглядываясь в кромешную тьму, втягивая пресный запах сырой штукатурки и чувствуя нарастающий страх. Здесь, в зловещей, слепой темноте спящего храма он был не один. – Кто тут? – прошептал он, нащупав под рубахой нательный крест. – Покажись! Тьма не ответила. Горячий ветер пронесся над куполом, взъерошил волосы. Он услышал, как хлопнула дверная створка и зашуршали ветви деревьев. Затем наступила тишина. Андрей долго вслушивался в темноту, пытаясь различить посторонние звуки, но все было тихо; лишь бронзовый крестик нагрелся и жег кожу, будто огнем. Он хотел крикнуть, но из горла вырвался только сдавленный сип. Задыхаясь, он рванул на груди рубаху и без сил повалился на скрипучие доски.
Когда он проснулся, уже рассвело. Андрей стряхнул со лба проступившую испарину, огляделся по сторонам. Собор был пуст. Он попытался вспомнить, что произошло с ним ночью, но мысли в голове путались, словно мухи в паучьих тенетах. Глянув вниз, Андрей почувствовал тошноту, хотя отродясь не боялся высоты. «И как угораздило заснуть прямо здесь?!» – подумал он. Почувствовав жажду, он осторожно спустился по деревянным перекладинам. В висках будто стучали два молотка, оттого Андрей часто останавливался, чтобы перевести дух. Спустившись, он на минуту присел возле лестницы, прислушиваясь к биению сердца, потом встал, опираясь на леса, и вышел за порог, прихватив с собой узловатую палку. Осенний воздух освежил его, и Андрей пошел по тропинке в сторону колодца. Увенчанный двускатной крышей деревянный сруб одиноко чернел среди потерявших листья кустов бузины. На полдороге Андрей замедлил шаг, разглядев жирного ворона, сидящего на деревянном коньке. Птица повернула голову и посмотрела на него с ленивым интересом. – Кыш! Кыш отсюда! – прикрикнул Андрей. Ворон захлопал крыльями, но остался на месте. Черные угольки глаз буравили Андрея, словно ножи. – Ах ты… Он замахнулся палкой, и ворон, громко каркнув, тяжело поднялся в воздух. Из клюва птицы выпало что-то похожее на жирного белого червяка и упало в колодец. Андрей, наклонившись, вгляделся в темный провал. Внизу, на глубине трех саженей, едва касаясь краев полусгнившего сруба, плавало чуть притопленное деревянное ведро. Андрей торопливо закрутил ворот. Когда ведро показалось над срубом, Андрей заглянул в него и тут же отпрянул, осенив себя крестом. На дне ведра лежала выроненная птицей добыча – отрубленный палец. Тут же всплыли в голове страшные рассказы о людях, потерявших из-за чумы и голода человеческий облик и решившихся на страшный грех человекоядства. Андрей бросил ведро обратно в колодец – пить все равно расхотелось. Он собрался вернуться в собор и продолжить работу над фресками, но что-то влекло его в другую сторону. С минуту он постоял в нерешительности, а потом ноги сами понесли его в сторону Аленкиного дома. Ремесленная слобода, в которой жили Аленка с матерью, вплотную примыкала к монастырским землям. Дорога занимала всего две версты, но для ослабевшего от голода и тяжелого труда Андрея она показалась впятеро длинней. Добравшись до крайних посадских изб, Андрей остановился. Прежде, до мора, он не раз бывал здесь: заказывал у мастеровых кисти, краски и все остальное, потребное для монастыря. Теперь многие избы стояли брошенными, разбитыми, а то и сгоревшими. Вокруг были разбросаны обрывки одежды и запачканные кровью льняные тряпки. По земле, оглашая воздух противными криками, вразвалку ходили сытые вороны; вторя им за стенами домов подвывали больные и немощные люди. Мертвецов Андрей увидел раньше, чем живых. Один лежал возле покосившегося забора, вцепившись скрюченными пальцами в засохшую грязь. Другой распластался прямо посреди улицы, уставившись выклеванными глазами в хмурое небо. Третий… Андрей готов был поклясться, что третий умер не от чумы. Голова несчастного была изувечена так, что лица не разобрать; из разорванной груди торчали осколки ребер. Приблизившись, Андрей увидел, что нутро мертвеца было выедено, и от этого зрелища его замутило. Разорвавший тишину испуганный крик заставил его встрепенуться. Андрей перехватил палку поудобнее и завертел головой, силясь угадать, откуда кричали. Крик повторился, – громче, отчаяннее. Следом послышалась матерная брань и звуки ударов. – Люди-и! Помогите, миленькие! Убивают!!! Андрей бросился на крик. Сквозь пелену тумана он разглядел троих тощих грязных мужиков, остервенело колотивших четвертого, лежащего на земле. Жертва прикрыла голову ладонями и тихонько подвывала в ответ на пинки и удары. Вокруг них носилась невысокая простоволосая женщина, пытавшаяся вцепиться то в одну, то в другую фигуру из этой троицы, но те отшвыривали ее в сторону, как надоедливую шавку. Андрей вздрогнул, узнав в бесстрашной женщине травницу-Прасковью – Аленкину мать. – Стойте! – крикнул Андрей. – Остановитесь! – Иди куда шел, монах! – отозвался хмурый, диковатого вида мужик. – За дело лупим, вора споймали. К Мефодию в избу пробрался, щей горшок пытался украсть, а силенок нет, опрокинул, паскуда, и с пола лакал. Там и нашли. Иди монах, сами решим. – Не судите, православные! – Андрей пошел на слободских мужиков, попросив Бога придать ему сил и решимости. Знал, чем рискует, а по-другому не мог. Нет страшней преступленья, чем в голодный год последнюю снедь воровать: убьют мужики парня и не моргнут. За горшок пустых щей, за хлеба корку, за помоев ведро – ведь у каждого семья, у каждого дети… – Оставьте его, Христом-Богом прошу. Явился Сатана, тела и души изъязвил, а вы, люди добрые, отриньте рогатого, не возьмите смертного греха. Тем и спасетесь. Мужики молчали. Андрей повалился на колени и прикрыл вора собой, смиренно ожидая ударов. Но ударов не было. – Пущай живет, неча руки марать, свое получил, – злобно бросил один из них. Услышав удаляющиеся шаги, Андрей открыл глаза и мысленно поблагодарил Всевышнего за спасение. «Знать, не все людское потеряно в них», – подумал он, осенив себя широким крестом. Человек под ним заворочался и застонал. Андрей приподнялся. Спасенный оказался парнем лет шестнадцати с бледным, залитым кровью лицом. Криво остриженные светлые волосы торчали вороньим гнездом, нос уехал на щеку, в ссадину на лбу набилась соломенная труха. В прорехах рубахи виднелось грязное тело, ребра едва не рвали тонкую кожу. От парня воняло потом, кислятиной и мочой. – Живой? – спросил Андрей. – Ж-живой, – просипел несчастный. – Ой, как они меня, ой… – Звери, истинные звери, – рядом на колени присела Прасковья и легонько дотронулась воришке до головы. Тот зашипел от боли и засучил босыми ногами. – Спасибо, отец Андрей, не иначе Господь тебя сюда и привел. – Все в мире от Бога, – ответил Андрей. И правда – задержись он немного, парнишку втоптали бы в осеннюю грязь. А так живую душу спас. Да что душу, разом четыре души: и мальца сберег, и мужиков от греха смертоубийства сдержал. Андрей встал, отряхнул рясу и спросил: – Тебя как зовут? – Яшка я, Яшка Багоня, – хлюпнул разбитым носом парнишка. – Из Москвы проклятой спасаюсь, хотел до святого места дойти, а оно вона как… – Воровать грех. – Ты монах, тебе легко говорить, – огрызнулся Яшка. – В каменных хоромах сидите, от пуза едите. – Да, так и есть, – невесело усмехнулся Андрей. Перед глазами возникли братья-монахи родного монастыря. Не живые – мертвые. Опухшие от голода, с гнилыми желваками, надутыми мором. Игумен Александр, мастер Данила, подмастерья Фома, Тимоша и Михаил… И прочих без счета. Господь в этот год не разбирал – святой ты старец или последняя шваль… – Идти сможешь? – Прасковья помогла Яшке встать. – С-смогу, – парень неуверенно кивнул. – Что, худо на Москве? – поинтересовался Андрей, заранее зная ответ. – Совсем худо, – Яшкины тощие плечи мелко тряслись. – Народишку страсть померло, жрать нечего: куда ни глянь – одни мертвяки. Князь Василий в Кремле заперся, пережидает с боярами и родичами черную смерть. А нас бросил, отныне каждый сам себе князь. Давеча собралась толпа у Никольских ворот, хлеба просили ради Христа. А в ответ стрелами вдарили, людей много побили, иных даже до смерти. Вот я и решил убежать. – А есть ли куда бежать? – вздохнул Андрей и перевел взгляд на Прасковью. Сам попросить не посмел, разве можно такое просить? Но лекарка поняла все сама. Обняла Яшку и тихо сказала: – Я тебя к себе заберу, пойдешь? – Пойду, – не поверил в свое счастье Яшка и тут же смешался. – Только ведь я, тетенька, вор. – А у нас нечего воровать, – мягко улыбнулась Прасковья и повела парнишку к избе.
То ли от того, что Яшку спасли, то ли от того, что с Аленкой перемолвился словом, но полегчало у Андрея на душе. И ведь поговорили они самую чуть, а все одно полегчало. Прасковья с дочерью хлопотали над Яшкой, промывали и перевязывали, накладывали на раны и ссадины противную вонючую мазь. Не до Андрея им было, и он, решив не путаться под ногами, тихонечко встал и ушел. Не дай Бог позовут на обед, а сколько можно добрых людей объедать? Тем более лишний рот завели… Ноги, еще утром сведенные судорогой, теперь несли Андрея легко. Он словно сбросил четыре десятка годков, снова став подвижным и быстрым в движениях отроком, за усердие и ниспосланный Богом дар иконописца выбранный в ученики самим Феофаном Греком. Помнил Андрей, как стоял, раскрыв рот, и смотрел на свежие фрески Архангельского собора, чувствуя, как Спаситель, в лучах ослепительно-белого света, спускается из-под купола прямо к нему. Не мог тогда представить Андрей, что уже через шесть лет вместе с Феофаном распишет Благовещенский храм. Было это только началом пути, приведшим Андрея сюда, в Андроников монастырь, чтобы, потеряв все и все отдав, спасти Русь не огнем и мечом, а делом богоугодным и благостным. Ноги несли Андрея закончить работу всей его жизни. Успеть, толькоуспеть. Господи, помоги…
В соборе Андрей трудился дотемна, силясь наверстать упущенное. С Божьей помощью он осилил две трети задуманного: Христос, осиянный божественным светом, стоял на поверженных адских вратах; святые праведники выстроились один за другим, ожидая вызволения из преисподней и водворения в Рай; рогатые черти в бессильной ярости наблюдали за происходящим, но не решались вмешаться, устрашась силы Христовой. Утомившись, Андрей опустил кисть и отступил на шаг, чтобы взглянуть на сделанное. В неярком свете свечных огарков картина казалась живой: вот рука Христа чуть шевельнулась в призывном жесте; вот коленопреклоненная Ева обронила благодарную слезу; вот Иоанн Креститель, последний в череде святых пророков, оглянулся на прячущихся за камнями чертей. А за ними праведников без счета: цари, святые угодники и люди простые, освобожденные из заточения Сатаны… Андрей вздрогнул, увидев, что один из бесов на фреске уставился на него. Глаза нечистого пылали желтым пламенем, с клыков капала ядовитая слюна. Андрей моргнул и протер глаза. Изображение преисподней смешалось и поплыло, адское пламя полыхнуло настоящим огнем, обдало жаром. Андрей отшатнулся и упал на колени, а черти на картине драли глотки в неистовом хохоте и тянули к нему когтистые лапы.
Андрей проспал остаток ночи, но сон был тревожным и больше походил на горячечный бред. Он видел пораженную черной смертью Москву, в которой не осталось живых – только мертвяки. Андрей бродил среди раздувшихся тел, заглядывая в лица, но болезнь исказила черты, обезобразив покойников до неузнаваемости. Потом зазвенели колокола, как на великий церковный праздник, – и мертвецы стали оживать. Один за другим они поднимались, будто пробуждаясь ото сна, и брели, пошатываясь и наталкиваясь друг на друга. Под колокольный звон мертвецы истово крестились и бормотали молитвы, раскачиваясь из стороны в сторону. Андрей вскрикнул. Заметив его, мертвецы обернулись; гнилые лица искривились ухмылками. Один из них подошел ближе, протянул руку. – Спасибо, отец Андрей, освободил нас, – пробулькал мертвец. – Даровал жизнь вечную. Ныне, и присно, и во веки веков. – Спасибо! – раздавалось со всех сторон. – Спасибо, отче! Андрей в ужасе побежал прочь, но мертвецы окружили его плотным кольцом, не давая вырваться. Они протягивали к нему изъеденные гнилью пальцы, силясь прикоснуться. Тысячи рук оплели его плотной сетью, схватили за горло, вцепились в бока, и там, где пальцы мертвецов касались оголенной кожи, тут же проступала трупная чернота.
Когда он открыл глаза, было уже светло. В узких купольных окошках виднелось мутноватое осеннее небо. Спасский собор тонул в пустой тишине, фигуры на фресках не двигались, свечи прогорели и потухли. Он попытался подняться и едва не упал, руки и ноги сковали слабость и ломота. Поворот головы отозвался резкой болью в шее. Андрей коснулся больного места и тут же почувствовал, как сердце на миг остановилось, а потом забилось с утроенной силой: гулко, тревожно, неровно. Измученное тело покрылось горячей испариной, а пустой желудок сжался в комок. Он убрал руку, потом ощупал шею еще раз, осторожно касаясь подушечками пальцев. Нет, не ошибся – на шее, сразу под челюстью, где во сне его хватали руки хохочущих мертвецов, вздулся бубон. Андрей осторожно сел и прикрыл глаза. В голову прокрались нехорошие мысли о том, что все напрасно, и осталось только ждать смерти, но он прогнал их. Он, Андрей – не монашек младой, только постриг принявший, а мастер, обладающий Божьим даром. И он должен закончить то, что задумал. От черной смерти никто не умирал мгновенно, у него в запасе еще было время. Работы осталось от силы на день-два, а потом… Потом будь что будет. Андрей спустился с лесов и побрел к иконе святой Троицы. Зажег свечки перед киотом и привычно опустился на колени. Эту икону он написал три десятка лет назад, после принятия пострига, и с тех пор никогда с ней не расставался. За эти годы Господь, единый в трех лицах, слышал немало молитв и прошений, но никогда еще Андрей не просил за себя. – Господи, помилуй нас, очисти грехи наши… Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради… Он просил не потому, что боялся смерти. Всяк монах для мирской жизни и так все равно что мертв. Он просил дать ему время, чтобы закончить роспись. Слова молитвы легко срывались с его губ, но Господь молчал. – Пошли мне знак, Господи! – горячо прошептал он. – Дай знать, что слышишь меня! В соборе воцарилась тишина. Потом раздался тихий скрип, и стало чуть светлее. – Дядька! Дядька Андрей! – позвал знакомый голос. Андрей вздрогнул. Не такого знака он ждал. – Не подходи! Не подходи, слышишь! Прервав молитву, Андрей выставил руки перед собой, словно защищаясь. Аленка, державшая в руках узелок, на миг замешкалась, потом сделала неуверенный шаг. Андрей отпрянул. – Уходи! Уходи – Христом-Богом прошу! – Дядька, ты чего? – Черная хворь у меня! – выкрикнул он. – Мор проклятый добрался. Уйди – не дай Бог на тебя перекинется! Аленка остановилась. Андрей заплакал, прикрыв лицо ладонями, пропахшими потом и краской. По мраморному полу раздались тихие шаги, затем на плечо осторожно легла девичья ладошка. – Глупый. Я чумных и так почитай каждый день вижу. Иных и трогаю даже. Андрей почувствовал, как от Аленкиного прикосновения на душе стало легко и покойно. Словно ангел спустился с небес и коснулся крылом, ниспослав Господню благодать. – Ты говорил, что картинами людей исцелить хочешь. Говорил, видение было тебе. Андрей кивнул, убрав ладони от лица. – Я тоже людей исцелить хочу, только по-своему. Торопливыми пальцами Аленка развязала узелок. Подняв голову, Андрей увидел горку засушенных трав: зверобой, мяту, календулу вперемешку с другими, названий которых не знал. Пряный аромат защекотал ноздри. Склонившись, девчонка зашептала ему в ухо: – Мы с мамкой приметили, травяной отвар больным помогает, но не все его пьют – в слободе люди темные, боятся всего. Я решила лекарство в колодец лить – с него все воду берут. Все, кто живой остался. Будут пить – и спасутся. Тебе тоже оставлю. Завари и пей, я б заварила, да не успела. Андрей молча взял щепотку снадобья, растер между пальцами. Зеленая труха посыпалась на пол. Смешная девчонка, видано ли, черную смерть сушеной травой победить? Тут ведь только чудо может помочь. – Как Яшка? – спросил наконец. – Ничего, оправился. По хозяйству помогает, рубит дрова. Только странный он какой-то. В сенях на каждый угол крестится, будто к нехристям попал. – Обвыкнется. Андрей замолчал, глядя в сторону и пытаясь разобраться в том, что творилось с ним сейчас. Казалось, внутри его истерзанной болезнью и смертями души теплился робкий огонек, который разгорался все сильнее и ярче. Наверное, так чувствует себя потерявший стаю дикий зверь-подранок, обреченный на гибель, но спасенный добрыми людьми. Аленка тоже умолкла, в смущении теребя подол и разглядывая свежие фрески. – Дядька Андрей. – А? – очнулся он. – Вот этот, тощенький, вылитый ты. Андрей поднял глаза. Аленка указывала на рисованного праведника, идущего за Иисусом в толпе остальных. Он и правда неуловимо походил обликом на Андрея: худое лицо, запавшие щеки, клинышек бороды, монашеская скуфья на голове. Как же так вышло? И сам не заметил. – На деда Кузьму, соседа вашего, сильнее похож, – отшутился он. – Не-не, на тебя, дядька Андрей, – погрозила пальцем Аленка. – Я сразу узнала. – Узнала она, – передразнил он. – Больно глазастая. – Уж какая есть, – подмигнула Аленка и тут же спохватилась, торопливо завязав узелок. – Побегу я, делов много. – Спасибо тебе, – сказал Андрей. – Спасибо за все. – Не на чем, дядька Андрей. Ты только рисуй, ладно? И обещай, что исцелишься и других исцелишь! Махнув на прощанье рукой, Аленка побежала к дверям, едва заметно прихрамывая на левую ногу. Андрей остался в золотистой полутьме и долго смотрел на нарисованного себя, бредущего среди праведников из полыхавшего Ада.
Он умирал. Аленкин отвар поддерживал остаток сил, но не мог побороть страшную хворь, поедавшую его изнутри. Желвак под челюстью поднялся горбом, воспалился и потемнел; чуть ниже надулся другой. Черные, мягкие узлы появились в паху и под мышками. Его лихорадило; в бреду приходили то черти, то ангелы, то ожившие мертвецы – и все норовили утащить за собой. Он продолжал рисовать наперегонки со смертью – а ну как безносая раньше успеет? Второпях он ошибался и портил работу: мазки шли вкривь и вкось, одежды святых пятнали жирные кляксы и полосы, лики праведников приобретали распутные, дьявольские черты. Андрей ругал себя за неловкость, соскабливал испорченные участки и рисовал заново. «Не иначе Сатана под руку толкает!» – в отчаянии думал он. Но работа двигалась. Все фигуры на росписи обрели положенные каноном облики и формы, осталось добавить несколько последних штрихов. От напряжения дрожали руки и ломило в висках, но он упорно водил кистью. Скрипнула дверь. В собор дохнуло холодом. Андрей радостно обернулся и обмер. Вместо тоненькой девичьей фигурки в дверях показалась невысокая изможденная женщина в небрежно наброшенном на голову платке. – Прасковья? – прохрипел он так, будто слова царапали горло. – А… где Аленка? Прасковья, сутулясь, будто под ношей, подошла к лесам и положила узелок возле лестницы. – Слегла она, батюшка, чернотой налилась, – сказала она, не поднимая глаз. – Вот, просила гостинец передать. Андрей онемел от ужаса, а Прасковья молча перекрестилась и вышла за дверь. «Аленка, как же так, Аленка…» Его затрясло, кисть выпала из руки. За что, Господи, за какие грехи? Иисус из-под купола смотрел равнодушно, словно не замечал. «Не иначе в наказание мне!» – понял Андрей. За неспешность, за страсти дурные. Иль за гордыню? Разве может обычный монах всех людей на свете спасти, встав ровней с Христом? Не много ли взял на себя, высокомерный инок Андрей? А если не по Божьей воле делаешь? Вдруг враг рода человеческого нашептал, а ты и уши развесил? Что тогда? «Нет, не может этого быть!» – Андрей встряхнулся и заставил себя встать на ноги. Поднял упавшую кисть, сделал неуверенный неровный мазок, и все остановилось, замерло, перестало казаться важным и значимым. Все, кроме фрески. Исчезла слабость, умерло время, истаяли крамольные мысли. Андрей творил быстро, лихорадочно и самозабвенно, успевая столько, будто умершие товарищи вновь стояли рука об руку с ним. Мокрые сумерки сменились тревожной ночной темнотой, и в притихшем храме засияла одиноко помаргивающая свеча. Андрей рисовал, не замечая, как кашляет кровавыми брызгами, пачкая свежую краску. Закончил, едва народился туманный и серый рассвет, оставив в самом темном углу скромную подпись, и повалился, сломленный слабостью, утомлением и болезнью. Из тела словно выдернули все косточки, в голове помутнело, святые под куполом кружили безудержный хоровод, превращаясь в искрящиеся разноцветные полосы. Где-то высоко, будто бы в небе, гулко ударил колокол, три размеренных, протяжных удара, затем молчание и новые удары с одинаковым промежутком. Неужто благовест? Звон оборвался на самой высокой ноте, и Андрей чуть не завыл от обрушившейся на него тишины. Перестали кружиться пылинки в воздухе, капелька краски, ползущая по стене, остановилась и замерла. Странное ощущение длилось не дольше мгновения. Андрей выгнулся дугой и закричал, сердце бешено рвалось из груди, к горлу подступил кислый рвотный комок. Он бился на ледяном мраморном полу, и вдруг боль ушла; сквозь стрельчатые окна, обращенные на восток, в храм пролился ослепляющий свет. Андрей, от боли свернувшийся калачиком, застонал и потянулся к нему. Луч света был плотным, трепещущим и осязаемым, словно живым, напоминающим ласковые касания матери. А может, не матери, а жены, которой у Андрея никогда не было. Или дочери, которую не родил. Мягкое тепло пробежало по пальцам и разлилось по сведенному немощью телу. Господь коснулся Андрея или Андрей дотянулся до Господа – то было не важно. Он понял, что у него получилось. Андрей с трудом сел, не сознавая, кто он, где оказался и как сюда угодил. Память возвращалась урывками. Фрески, видения, черная смерть… Андрей схватился за горло и нащупал чистую кожу. Гноящиеся бубоны исчезли, не оставив следа. Чудо, чудо свершилось великое чудо! Господь всеблагой! Андрей рассмеялся громко и радостно, и смех его эхом взметнулся под купол, заставив вспорхнуть стаю угнездившихся на подоконниках голубей. «Аленка!» – новое воспоминание опалило кнутом. Аленка… Господи, неужели успел, второй день только девка болеет, а черная смерть человека так быстро не жрет… Андрей встал, хватаясь за леса, и пошатываясь вышел из храма. За его спиной вставало осеннее, ликующе-нежное солнце. Рассвет пришел как обновление, как очищение, как новое начало, отныне и вовеки не имеющее конца. С каждым шагом походка становилась уверенней, слабость пропала, разум светлел. Инок Андрей в муках родился заново, неся миру спасение и покой. До слободки долетел как на крыльях. В воздухе висел смрад гниющего мяса. На околице паршивый, покрытый коростами пес поднял окровавленную морду от разодранного трупа и хромая убрался в кусты, волоча требуху за собой. Мертвецы валялись повсюду и не было им числа. Из бурьяна скалились голые черепа, улицу мостили сломанные ребра и позвонки, кости с ошметками плоти выстилали обочины. Но мор отступил. То тут, то там из домов выползали исцеленные божьим промыслом люди. Рыдали, крестились, тянули к небу слабые руки. На крыльце крайней избы сидел голый, покрытый грязью и кровавыми разводами седовласый мужик и орал, раззявив черный, с голыми деснами рот: – Живой я, живой! Живой! Слышите, люди, – живо-о-ой!!! И крик его, восторженный и громкий, несся по слободе незримым доказательством попрания смерти. Андрей свернул на перекрестке и растерянно замер. На месте старенькой, покосившейся избенки, где жили Прасковья с Аленкой, чернело свежее пепелище. Обвалившиеся стропила еще тлели, выпуская дымные завитки, налетавший ветер бросал в лицо облачка теплого серого пепла. «Как же это? Как?» Андрей пошатнулся, сделал шаг, нога подломилась, он упал на колени в осеннюю грязь и полз к пожарищу, сотрясаясь в беззвучных рыданиях, моля Господа об одном, чтобы Прасковьи с Аленкой не оказалось внутри. – Мил человек, а мил человек, – тихонечко позвали из-за спины. Андрей обернулся и увидел крохотную, горбатую старушку с морщинистым, темным лицом. – Чего убиваешься? – спросила она. – Жили тут, – выдохнул Андрей. – Прасковья-лекарка и дочка Аленка при ней. – Жили, а теперича не живут, – старуха скривила рот. – Вчерась приживалец ихний – Яшка, подглядел, как младшая ведьма подсыпала в колодец зелье бесовское. Дьяволу, значица, продались и хворь черную по Руси святой разносили, губили неповинных людей. И Яшку видать хотели на то дело подбить. А он не спужался, соседям все как на духу рассказал. Мужики-благодетели собрались и скрутили обеих. Покуражились, конечно, никто не осудит, а им поделом, привыкли задницами перед Сатаною крутить. Девку то свою Прасковья от Дьявола прижила, нога у нее костяная была, сатанинская метка. Ох и выла бесовка, когда лупили ее мужики! И опосля выла, когда в избе их бросили и пустили красного петуха. Огонь первое средство от ведьм, ты, вродь монах, сам должон знать. – Зачем? Зачем? – прошептал Андрей, не отводя глаз от пепелища. – Как зачем? – удивилась старуха. – Ты в своем ли уме? Кругом оглянись – как отродий нечистых спалили, так и кончился мор. Силу адову попрали делом благим. – Попрали, – сказал невпопад Андрей и тяжело поднялся с колен. Мысли кружились словно в бреду. Спешил, а все одно не успел. Спас тысячи и себя грешного спас, а две невинные души не сберег. Неравная цена, но представ пред Богом, что скажешь, какие подыщешь слова? Он повернулся и пошел прочь от пожарища, опустошенный и сломленный. Старуха проводила странного монаха взглядом, пожала плечами и поплелась домой, пристукивая сучковатой клюкой. Блаженных за долгую жизнь она навидалась порядком. На улицах слободы стало шумно и многолюдно, выжившие праздновали избавление от мора. Ослабевшие, нечесанные, ряженые в завшивевшие лохмотья люди валялись в грязи и славили Господа. На углу собралась небольшая толпа. Андрей подошел ближе и увидел промеж слободских баб и мужиков Яшку Багоню. Парень размахивал руками и смеялся. Слова долетали обрывками: – Вижу, к колодцу крадется, а с нею рогатая тень… я следом… узелок достала, а из узелка свечение ядовитое полилось, я далече стоял, а в голове все одно помутнело… в колодец высыпала, подол задрала и тут же с диаволом согрешила… а я огородами… Бабы охали и качали головами, мужики хлопали героя по спине и плечам, орали весело. Яшка, довольный и гордый, вышагивал гоголем. Одиноко стоявшего инока не замечал. Андрей хотел подойти, в глаза иудины заглянуть, да передумал. Пускай Бог будет обвинителем и судией. От вида радующихся людей воротило, как от помойной бадьи. Ночью так же радовались, бесчинствуя и сжигая живьем. Господи, помоги… Андрей схватился за голову и убежал, не разбирая дороги. …Очнулся уже под сводами храма. Христос из-под купола смотрел сурово и испытующе. В глазах сына Божьего притаилась печаль. «Тебе решать» – говорили эти глаза. И Андрей решил. Была у него надежда, да рассыпалась в прах, в напоминании о былом остался лишь пепел, зажатый в побелевшие кулаки. Господь дал человеку свободу воли, и свобода эта стала худшим наказанием для потомков Адама и Евы. Сущим проклятием. Он подхватил киянку, подступил к стене и в два удара снес с фрески праведника, похожего на себя. Может и был праведник, да весь вышел, от себя не уйти. Из Преисподней выхода нет, ибо Ад всегда был здесь, на земле. Свежая фреска сочилась подтеками краски, словно рыдала, капли сбегали вниз, оставляя кровавые полосы. Мир вокруг застонал, послышался рокочущий гром. Тяжкий груз свалился с души, Андрей сполз спиной по стене, ощущая себя умиротворенным и легким, чувствуя, как вновь наливаются на шее гнойные желваки. Труд всей его жизни остался незавершенным, и вернулась Черная смерть, волею божией неся очищение от людского греха. Напоследок он наклонился и ударом деревянного молотка сбил скромную подпись в самом темном углу: «Андрей Иванов сын Рублев», стирая всякую память об иноке, в гордыне своей захотевшем творить чудеса.
Елена Щетинина Мальчик-Обжора
Мы называли его Голодным Мальчиком. Голоднюком. Обжорой. Утробой. Прорвой. Да как мы только его ни называли! Перемигиваясь, криво усмехаясь, делая пальцами тайные знаки. Когда в первый раз мы заговорили о нем? То был июль. Полдень. Солнце маячило белым раскаленным блином. Жаркое марево висело в воздухе. Асфальт пропекал ноги через сандалии. Нам было по девять. – Пусть Он сожрет это, – вдруг сказал Мишка, глядя на порванную кепку. Его родители бережно относились к вещам – и того же требовали от сына, но он не оправдывал их ожидания. Как он порвал эту кепку – кто знает? Может быть, швырнул под колеса наших велосипедов, может быть, зацепился за низкую разлапистую ветку, а может быть, просто неуклюже сдернул – очень часто самое плохое в нашей жизни случается от того, что кто-то что-то где-то «неуклюже». Кепка была дорогой, привезенной Мишкиным отцом из-за границы, – и приятелю бы точно влетело. – Кто – он? – осторожно спросил пухлый Толик, украдкой ковыряя в носу. – Мальчик-Обжора, – хмыкнул Мишка. У него загорелись глаза. – Мальчик-Обжора, который ест все плохое, все испорченное, все ненужное… в общем, все то, что нужно сожрать. – О! – мы живо заинтересовались этой темой. – А что еще он может сожрать? Манную кашу? Щавелевый суп? Макароны? – Конечно! – горделиво кивнул Мишка. Было видно, как он раздувается от важности, ведь именно он придумал Мальчика-Обжору. – Любую невкусную еду съесть – ему раз плюнуть. Но он может есть вообще все, что угодно! Дневник с двойкой! – О-о-о! – пока мы получали двойки только по поведению, но и за это нам влетало будь здоров. – Порванную одежду! Что-то сломанное! Что-то… что-то… – фантазия Мишки иссякала, но глаза у него горели – и мы уже додумывали сами. – Он может съесть тот гвоздь в заборе, о который я порвал футболку! – захихикал Толик. – И те битые бутылки, которые валяются на футбольной площадке! – подхватил я. – И вечно горящую и воняющую урну около подъезда, – продолжил Серега. Мы фантазировали, перебирали в памяти, что же можно скормить Мальчику-Обжоре – и сами удивлялись тому, как много в мире вещей, которые нам мешают. – Ну, хорошо, – Мишка хлопнул в ладоши, кажется, раздосадованный тем, что Мальчик-Обжора начинает принадлежать не только ему. – Давайте скормим кепку! – Кепку? – Серега присвистнул через щербинку в зубах. – А тебе не влетит? Ты же только что ныл, что батя тебя убьет? – Ну-у-у… – Мишка скривился. – Я скажу, что ее у меня украли. Что какой-то взрослый пацан подскочил, сорвал ее с меня – и убежал. – Ты ж на велике, – резонно возразил Серега. – Ну-у… – Мишка почесал облупленный кончик носа. – Он убежал за гаражи. Точнее, он сказал «за Гаражи». С придыханием, в котором явно слышалась Заглавная Буква. Гаражи были для нас святым местом, недосягаемой мечтой, сродни киносеансу «детям до шестнадцати». Нас не пускали туда по простой причине «нельзя». Почему нельзя? На этот вопрос оказывалось так много ответов. Машина задавит. В яму провалитесь. На арматуру напоретесь. Собаки нападут. Цыгане украдут. Просто нельзя, не мешай. Конечно, мы пытались туда пробраться – тайком, украдкой, незаметно. Но каждый раз натыкались на какого-нибудь автолюбителя, который гнал нас прочь промасленной тряпкой. Словно все хозяева Гаражей условились: «детям сюда нельзя». Рано утром, до школы, в обед, на переменках, после школы, в будни и выходные – всегда, всегда, всегда, словно несли в Гаражах невидимую вахту, лишь бы не пустить нас туда. Толик говорил, что нам это кажется. Что Гаражей слишком много – и, конечно же, там всегда будут копаться в двигателях, пить пиво, жарить шашлыки или слушать радио. Каждый день, каждый час. И мы тут ни при чем. Кому мы нужны? Но какая разница, почему? Нас не пускали туда – и точка. Мы с завистью смотрели, как старшие пацаны выкатывают из Гаражей старые покрышки – а потом поджигают их в овраге, затягивая ближайшие дворы жирным, черным дымом. Как они фехтуют на ржавой арматуре, выкрикивая слова, Которые Нам Нельзя Было Произносить. Как несут что-то в Гаражи, оглядываясь по сторонам: прятать, закапывать в битый шифер, кирпичи и куски бетонных блоков. Но нам было туда нельзя. Так что довод Мишки должен был умилить и растрогать родителей: даже под страхом потери ценной кепки он не осмелился нарушить запрет. – А может быть, того… – засомневался Толик, разглядывая зеленовато-желтое содержимое своего носа. – Может быть, просто и закинуть ее в гаражи? – Эй! – Серега отвесил ему подзатыльник. – Я хочу на Мальчика-Обжору посмотреть! – Ну да, Толян, – я пихнул его в бок. – Если самому сыкотно, ну так отвернись или домой беги. – Да не, чо… – Толик вытер пальцы о шорты. – Я ничо… – Если кепку просто выкинуть в гаражи, – важно ответил Мишка, – то ее могут найти. А если ее съест Мальчик-Обжора – то тогда никто никогда ее больше не увидит. Она исчезнет. Пуффф! – Пуффф! – завороженно повторил за ним Серега. – Ну давай, давай, вызывай его! Что для этого нужно? Заклинание какое-то? Я поежился. «Ты, милай-то, смотри, супротив божьей воли не ходи-то», – вдруг вспомнились мне слова прабабки по отцу. Как ее звали – Нина, Зина, Глаша? – я не мог припомнить. Я и видел-то ее лишь раз в жизни, кажется, в шесть лет, когда маму положили в больницу, а отец решил «вывезти ребенка на свежий воздух». Мы сутки тряслись в плацкартном вагоне, в котором пахло прокисшей вареной картошкой и жареной три дня назад курицей, потом подпрыгивали на ухабах в раздолбанном ПАЗике, затем шли еще полчаса – и все для того, чтобы встретиться с суховатой, всей какой-то желтой, старухой. – Саша? – недовольно проскрипела она, встретив нас на пороге. На ней была ветхая, пожелтевшая от времени ночнушка в мелкий василек, поверх которой крест-накрест был повязан шерстяной платок. – Тот, кто Аньку попортил? Подле-е-ец… – Я Глеб, – поправил отец. – И Аню я… э-э-э… в общем, это не я. Старуха скривилась. – Все равно подлец, – махнула рукой. – А это Дима, – отец хотел подтолкнуть меня вперед, как всегда это делают взрослые, но в последний момент удержал. Кажется, потому, что в лице бабки промелькнуло что-то хищное. Крючковатый нос загнулся, как клюв – и как острый клюв же вытянулись трубочкой тонкие серые губы. – Ми-и-итенька, – умильно пропела она. – Имечко-то хорошее, мученики-страстотерпцы-святые-преподобные носили… Малец-то крещеный али демонам отдадите? – Так, – отец сделал шаг вперед. – Бабуля. Вы меня помните? Я Глеб, ваш внук, сын Александра. – Са-а-ашенька, – захихикала бабка. – Аньку попортил, Анька утопилась, Анька прокляла! Всех-всех прокляла до седьмого колена. – Ясно, – отец вздохнул и поглядел на часы. – Ладно, к обеду на станции будем, билет поменяем. Отдохнули, блин. – Глее-ебушка, – старуха продолжала хихикать. – Княжеское имя, святых-благоверных! – Да-да, – согласился отец. – Мне оно тоже нравится. – Ну, что стоите-то, – внезапно серьезно и спокойно спросила бабка. Ее лицо смягчилось. Казалось, даже морщины разгладились, словно кто-то невидимый протер их огромной ладонью. – Пришли, встали на пороге и молчите. – Что? – не понял отец. – Вы чего хотели, молодой человек? – голос бабки был тверд и властен. – Иконы я не продаю, а то много вас тут ходит. Денег у меня не водится, так что и покупать ничего не буду. И ребеночка вашего в первый раз вижу и не живет такой в деревне у нас. – Я Глеб, – медленно сказал отец. – Ваш внук. Это Дима, ваш правнук. – Глебушка? – всплеснула руками бабка. – Это Сашкин сын-то? А я-то думала, на кого так похож! А это Димочка? Глазки-то какие ясные! А вы с дороги небось? Проходите, проходите, я-то ужо расстараюсь, я-то для вас сгоношу чего-нибудь! А то стоите тут, как неприкаянные! Я не понимал половину из того, что говорила бабка. Обычные слова, привычные фразы вдруг оборачивались каким-то ворожейным бормотанием, неразборчивым бульканьем, из которого я улавливал лишь жалкие обрывки – и то, странно исковерканные, искореженные, прожеванные и выплюнутые. Вот она, накладывая из огромной миски душисто пахнущую картошку с укропом, справляется, как там с работой у отца – а вот хихикает, стуча деревянной ложкой по столу, и требует не кормить чертика. Вот она сообщает о том, что стало с какими-то отцовскими приятелями, с которыми он и виделся-то лишь в далеком детстве, – а вот шлепает меня по зевающему рту и требует закрывать его, а то «демоны залетят». Отец морщится и шепчет мне, что «бабуля болеет». И я верю ему.Ночью бабка приходит ко мне в кровать, ложится рядом под одеяло, прижимается дряблым телом, закидывает мне на плечо свою обвислую грудь – и шепчет, шепчет, шепчет что-то в ухо. Я разбираю только «демоны», «унутрях», «сидят», «накликаете», «память». От бабки пахнет травой и кислым молоком, ее ступни, которые елозят по моим ногам, – холодные, жутко холодные, будто меня гладят две ледышки. Но я молчу. И мне не страшно. Потому что я не знаю – нужно ли мне бояться. Может быть, именно так и ведут себя прабабки со всеми правнуками? Может быть, именно так и надо? И если я закричу, заплачу или хотя бы просто испугаюсь – а она это поймет, – то я буду глупо выглядеть? Бабка продолжает шептать – жарко, с одышкой, капельки слюны стекают по моему затылку. Иногда что-то влажное касается его – и я понимаю: кажется, это ее язык. «Не выпускай, не соглашайся, не слепни… – бормочет бабка. – Не иди на поводу, не морочься…» А потом она со стуком падает на пол и уползает к своей кровати. А я еще долго лежу без сна и смотрю на иконы, висящие в углу. Закопченные лики святых пялятся на меня белыми, старательно протертыми тряпкой глазами – и мне кажется, что они шевелят черными губами и шепчут какие-то черные слова. И эта чернота опускается на меня, вползает в меня, втекает через уши, рот, глаза – я погружаюсь в нее и засыпаю. – Ты, милай-то, смотри, супротив божьей воли не ходи-то, – через неделю говорит бабка мне на пороге, прощаясь и строго грозя пальцем. – Демоническими делами не балуйся, заклинания и чернокниженье гони, аки гнус лесной. Я молча киваю. Из всего этого я понимаю только одно: колдовство – это плохо. – Так, еду взяли? – неожиданно спокойно обращается она к отцу. – Картошка в ссобойке, в мешочке сушеные ягоды. – Взяли, – кивает отец. – Спасибо. Бабка резко разворачивается и уходит в дом. Больше я ее не видел. И, кажется, даже и не вспоминал о ней – до этого момента.
– Колдовство – это плохо, – хрипло сказал я ребятам. – Эй, трусишь, что ли? – Серега хотел залепить подзатыльник и мне, но я отпихнул его и погрозил кулаком. – Я не трушу, – я пожал плечами. – Просто мне говорили, что колдовать – это плохо. Опасно в смысле. Я не мог понять, что вообще меня дернуло об этом сказать ребятам. Разве мы не подглядывали за девчонками, когда они тайком гадали в домике на детской площадке? И разве не кричали хором в самый ответственный и жуткий момент этого гадания – отчего кое-кто из девчонок от неожиданности даже писался и получал на целый год кличку «Оксанка-зассанка»? Почему я тогда не говорил, что колдовство – это плохо? Или не заявлял это, когда зимними вечерами, спрятавшись в вырытой в огромном сугробе пещере, мы рассказывали друг другу страшные сказки и даже пытались вызвать гномика-матершинника. Гномик не приходил – видимо, предпочитая появляться в теплых домах, а не в снежной куче. – Опасно, – упрямо и уныло повторил я, осознавая собственную глупость. – Так никто и не собирается колдовать, – пожал плечами Мишка. – А как он тогда появится? – пискнул Толик. От напряжения он засунул в нос сразу два пальца. – Его нужно просто позвать, – ответил Мишка. – Вот и все. И он придет. И съест все, что нам надо. Я снова поежился. Мы сидели в тени под грибком, в старой полупустой песочнице. Кроме нас никого не было – ни во дворе, ни в переулках, – безжалостный жар палящего солнца изгнал всех в квартиры, в прохладу под защитой бетонных стен – и распахнутые окна домов казались глазами, следящими за нами пустым, изучающим взглядом. – Зови, – решительно сказал Серега. – Ага, – прогудел в нос Толик. – Ну, а ты? – Мишка повернулся ко мне. – Димыч, ты что, правда струсил? – Да нет, – я пожал плечами. Капельки пота ползли у меня по спине, словно там, между лопатками извивался огромный жирный червяк. – Давай. – Ну ладно, – Мишка потер ладони. – Эй ты, Мальчик-Обжора, приходи сюда, у нас есть для тебя еда!
И он пришел. В мареве дрожащего воздуха. В водоворотах песка под его ногами. В игре света и тени. Пришел и сел рядом с нами. Сколько я потом ни спрашивал ребят – какой он, Мальчик-Обжора? – так никто и не ответил мне. Все вспоминали неуловимые очертания, выхватывали какие-то детали: Серега говорил, что у Мальчика-Обжоры на губах скапливалась слюна, Толик отвечал, что тот пухлый, Мишка упоминал небрежный полубокс. Я знаю лишь, что Мальчик-Обжора был рыжеват. Это запомнилось мне только потому, что рыжеват был и я. Мальчик-Обжора сидел рядом с нами – со слюной на губах, пухлый, с рыжеватым полубоксом – и молчал. А потом Мишка протянул ему кепку. – Ешь, – сказал. Мальчик-Обжора ничего не ответил. Он даже не пошевелился. – Ешь, – повторил Мишка уже просительно. – Это вкусно. Это надо съесть. Мальчик-Обжора вздохнул. Потом кивнул. И указал пальцем в сторону Гаражей. – Ты будешь есть там? – уточнил Мишка. Мальчик-Обжора снова кивнул.
Мишка не соврал. Мальчик-Обжора действительно съел его кепку. Он рвал ее на части крепкими, белыми, остро заточенными зубами, а потом тщательно пережевывал и глотал. И снова пережевывал – и снова глотал. «Надо бы ему дать запить», – отчего-то подумал я. Мальчик-Обжора стоял между Гаражами – а мы подглядывали за ним в щель. И нам казалось, что так аккуратно и тщательно рвет, пережевывает и глотает он для нас – потому что мы смотрим. Потому что без нас – он бы не поел. И, наверное, – и не появился бы. – Мы забыли пожелать ему приятного аппетита, – хрипло сказал Толик. – Ничего, – усмехнулся Серега. – Ему и так хорошо. Потом Мишка говорил, что Мальчик-Обжора всех нас поблагодарил и ушел, затерявшись в Гаражах. Серега спорил, что тот лишь небрежно махнул рукой на прощание. А Толик сообщал, что это мы сами ушли первыми, потому что услышали чьи-то шаги и решили, что нам сейчас влетит за то, что мы опять приблизились к Гаражам. А я ничего не говорил. Потому что я не помнил ничего. Вот Мальчик-Обжора рвет, пережевывает и глотает – а вот я уже сижу дома и ем суп, стряхивая хлебные крошки в тарелку.
* * *
Мишку не ругали за кепку. Даже пообещали купить новую. А мы позвали Мальчика-Обжору снова. Не скоро, но позвали. То был октябрь. Сырой, промозглый. На асфальте стояли черные лужи, остатки песка в песочнице превратились в вязкую жижу. Мы сидели, подстелив мешки из-под сменки, и разглядывали Толин дневник. Идея стереть двойку по математике ластиком была совершенно неудачной – теперь на странице красовалось огромное грязное пятно. – А если поскоблить лезвием? – предложил Серега, доставая обломок «Невы». Лезвие измохратило страницу и продрало дыру, зацепив предыдущую. Глаза Толика наполнились слезами. – Меня мамка убьет, – проныл он. – Она сказала – хоть одна тройка, и я об тебя ремень сотру! – Ну, она ж про тройку сказала это, – попытался пошутить Серега. – А тут двойка. Про нее и речи-то не было. Толик уткнулся в сложенные на коленях руки и завыл. – Ну, ладно, чо ты, чо ты, – растерялся Серега. – Я же пошутил. Ну, Толяныч! – Так пусть тогда его съедят, – вдруг предложил Мишка. – Кого? – не поняли мы. – Толика? – Нет, дневник. Пусть придет Мальчик-Обжора и съест дневник. Как тогда кепку! Помните? И мы вспомнили. Странное дело – но все эти месяцы, скормив Мальчику-Обжоре кепку, мы больше и не помышляли звать его. Так, вспоминали иногда в разговоре, шутя, как общую забавную тайну, перемигиваясь, давая ему смешные прозвища – но не более. Потом и эти воспоминания постепенно стерлись – как стирается летний рисунок мелом на асфальте под струями осенних дождей. Мальчик-Обжора ушел из нашей памяти вместе с летом – и вот Мишка снова сказал о нем. И мы вспомнили. – Да! – вскинулся Толик. – Да! Да! Конечно! Позови его, пожалуйста! И Мишка позвал его.Все было почти, как тогда. «Почти» – потому что не пекло солнце, а моросил мелкий противный дождь, и холодный, пронизывающий ветер дул в спины нам, подглядывающим между Гаражами. А Мальчик-Обжора рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Дома Толику, конечно, влетело – но, как он сказал, меньше, чем могло бы быть. Просто за потерянный дневник. За растяпистость. За то, что «все дети как дети, а тут одно наказание». В общем, как обычно. О двойке же мама узнала гораздо позже, встретив учительницу – и то в виде «надо же, а ваш Толя двойку исправил, молодец, всегда бы так», так что ругать было уже, вроде бы, особо и не за что. Так, чуть-чуть оттаскать за ухо – потому что врал. Больше о Мальчике-Обжоре мы не забывали. Часто скармливать ему дневники нам не удавалось – родители могли что-то заподозрить в такой нашей растяпистости. Поэтому в ход шли тетради, листочки с заданиями, порванные мешки со сменкой… Мальчик-Обжора рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал…
* * *
Скормить собаку Мальчику-Обжоре предложил Серега. Эта мелкая, пронырливая шавка доставала всех уже третий год. Особенно она недолюбливала детей – и особенно, если те были без взрослых. Пряталась рядом с подвалом – и выскакивала с заливистым лаем, норовя цапнуть за ногу. Рваные штаны, залитые йодом и зеленкой щиколотки, прокушенные кеды и сандалии – и постоянный рефрен «а нечего было ее дразнить». В этом году шавка ощенилась, и ей окончательно снесло крышу. – Крышу ей снесло, – так и сказал Серега, покусывая травинку. – Еле портфелем отбился. – У нее же щенки, – миролюбиво сообщил Толик, тем не менее, почесывая ногу там, где белели мелкие точки укусов. – И что? – Серега сплюнул через зубы зеленую слюну. – Мих, давай позовем Обжору, а? – Ты что? – вскинулся я. – Она же… она же живая. Как можно? Я не мог точно сказать, какой именно смысл вкладывал в это «как можно». Как можно отдать на съедение живое существо? Или можно ли кормить Мальчика-Обжору живыми существами? Мне смутно казалось, что сейчас происходит что-то неправильное, и мы вообще не должны обсуждать эту тему – и вообще, мне надо прямо сейчас встать и уйти, потому что произойдет что-то нехорошее, страшное, и это страшное уже сейчас пялится своими белыми зенками из тьмы… Но я не встал и не ушел. А Мишка позвал Мальчика-Обжору – и тот съел шавку. Все так же – в Гаражах. Все так же – рвал, пережевывал и глотал. И мы – все так же – смотрели на это через щель, не переступая через запретную черту. Кто-то – кажется, Толик – случайно толкнул меня, и я оцарапался щекой о ржавую заусеницу металла, ссадина воспалилась и болела целый месяц, то нарывая густо-багровым, то бледнея и уходя куда-то в глубину, разливаясь там жаром. А щенки умерли через неделю. От голода.* * *
После этого все стало как-то легко. Словно та съеденная шавка связала нас с Мальчиком-Обжорой незримыми тонкими нитями. И мы больше не думали – а стоит ли его просить что-то съесть? Нет, мы просто шли и отдавали ему это. И да, звать его тоже больше не приходилось. Он был теперь с нами всегда. Маячил смутной тенью за плечом. Дышал неуловимо сладковато-горьким, как перестоявшие в вазе цветы. Серега говорил о пузырящейся слюне, Толик о пухлости, Мишка об уже отрастающем полубоксе, а я видел, как рыжина сменялась обычным каштаном. С Мальчиком-Обжорой все было очень просто. Он съедал не только вещи – он жрал наши плохие мысли. Наши обиды и переживания, нашу злость, нашу ярость. Мы звали его, сервировав стол для него печалью и болью, завистью и ревностью – и он все съедал. Рвал, пережевывал и глотал, рвал, пережевывал и глотал. И на душе становилось легко, и мы шли домой, вприпрыжку, что-то напевая – и даже если на столе потом оказывалась манная каша и щавелевый суп, жизнь казалась не такой уж и плохой. Ведь все плохое всегда может съесть Мальчик-Обжора.* * *
Мы так и не ходили в Гаражи. Ни в третьем классе, ни в пятом, ни в девятом. Нам никто больше этого не запрещал – мы сами не хотели. Гаражи были столовой Мальчика-Обжоры – и туда нам не было хода. Мы так решили. Словно переступив ту невидимую запретную черту, мы накличем себе на головы беду – или лишимся Мальчика-Обжоры. А без него мы больше не могли. Да, последний год мы звали его уже не так часто. Может быть, потому что стали умнее и научились сами предупреждать возможные неприятности. Например, достаточно иметь два дневника – для хороших оценок и для плохих – и вот уже не надо просить Мальчика-Обжору жрать серую, с вкраплениями каких-то щепок, бумагу. Или после того, как покурил за домом, нужно зажевать хлеб, густо намазанный мятной зубной пастой – да, будет тошнить, и живот покрутит весь вечер, но зато родители не унюхают табачную вонь. Порванные брюки можно попросить зашить девчонок-одноклассниц за плитку шоколада, а за бутылочку вишневого коктейля они соврут твоим родителям, что ты пришел домой поздно лишь потому, что вместе с ними помогал снимать с дерева котенка. Но мы всегда помнили о Мальчике-Обжоре. Он объединял нас, будучи нашей самой важной, самой заветной тайной. Был нашим тузом в рукаве, был нашим спасением в случае беды. Мы верили в это так искренне и так сильно, что можно даже сказать, что Мальчик-Обжора был нашей религией – если бы мы вообще в те годы задумывались о религии.В тот вечер Серега был зол. Он кривил рот, слюна пузырилась у него на губах, глаза мелко и часто моргали. Он сидел на лавочке и ковырял носком кроссовка песок. Мы наблюдали за тем, как растет кривая ямка, – и молчали в ожидании. – Ирка беременна, – наконец процедил он. – Как? – ахнул Толик. – Как-как, – сплюнул Серега. – Ты что не зна… а, ты же у нас девственник. Ну, вот так, в общем! – Резинкой пользовались? – уточнил Мишка. – Какая резинка? Откуда у меня на нее деньги? Думали, что обойдется. – Обошлось? – саркастически спросил Мишка. – Ну, вот ты только не издевайся, а? – Серега снова сплюнул. – Это у тебя батя богатый, можешь из тумбочки стрелять на презики и на сигареты. А у меня откуда? – Ну, нет резинки – нет секса, – развел руками Мишка. – Как бы первое правило. Не маленький. – Слышь, ты! – прошипел Серега, вскакивая. – Богатый мальчик! Сам, небось, импотент – вот и рассуждать легко! – Что? – Мишка медленно встал, сжимая кулаки. – Что? Толик сжался в испуге, с надеждой поглядывая на меня. Я был на голову выше Мишки и чуть тяжелее жилистого Сереги – так что мне бы удалось их остановить, но… Что-то удерживало меня от того, чтобы тоже вскочить – и, упершись руками им в грудь, оттолкнуть приятелей в разные стороны. Мне казалось, что это «что-то» дышит в затылок травой и кислым молоком и что-то жарко шепчет – но я снова не мог разобрать, что же именно. Лишь «не морочься, не морочься, не морочься» – словно мелкая галька стучала у меня в голове. И я понимал это как «не заморачивайся, это их дело, пусть решают сами». Пусть решают сами – и я продолжал сидеть, вцепившись в лавочку до побелевших пальцев. – Ну, так пусть ее съест, – вдруг тихо предложил Толик, кажется, сам испугавшись этого предложения. Мишка и Серега обернулись на него, продолжая сжимать кулаки. – Ч-что? – Мальчик-Обжора, – прошептал Толик. – Пусть он съест Ирку. – Да! – взвизгнул Серега. – Да! Да! Да! – Но… – Мишка растерялся. – Она же… она же слишком большая. И ее могут начать искать… – И что? И что, и что… – зашептал Серега, обнимая Мишку. – Никто же ненашел наши дневники? И ту шавку? И твою кепку, помнишь? Никто! Хотя их и искали! Никто, никто, никто! – Ну… – Мишка мялся в растерянности. – Димыч, ты что скажешь? Я пожал плечами. «Не морочься, не морочься, не морочься». Не заморачивайся. Это их проблемы. – Ну нет, – неуверенно сказал Мишка. – Нет. Серега, это твои проблемы, правда. Мальчик-Обжора не может затирать за нами все косяки. Попробуй поговорить с Иркой. Не вы первые, не вы последние. Если надо денег на аборт – я попробую у родаков на что-нибудь попросить. Ну, Толик с Димычем карманные подкинут. Не дрейфь, правда. Серега скривился – и сплюнул на землю через щербину в зубах.
Ирка отказалась делать аборт. А еще пригрозила рассказать, что Серега ее на самом деле изнасиловал. Посидит пару-тройку лет в тюряге, где его будут чпокать во все дыры, – одумается, прибежит потом как миленький под крыло. Именно так она и заявила нам, презрительно фыркнув. Серега дрейфил. Он худел, бледнел, на скулах выступили желваки, плевки приобрели коричневый табачный оттенок. Какие сны снились Сереге – да и спал ли он вообще – мы и не решались спрашивать. Ситуация была в высшей степени поганой. Живот Иры вот-вот – и станет виден. А уж что будет потом – никто не мог и представить. Зато Ирка – вполне могла. – Я скажу, что это вы вчетвером меня изнасиловали, – хихикнула как-то она, уплетая шоколадный батончик. И без того коротковатая для нее юбка школьной формы задралась – и мы видели треугольник белых трусиков. Серега, который раньше ярился при хотя бы взгляде мельком на коленки его девушки – теперь уныло и обреченно молчал. – В смысле? – не понял Мишка. – Ну, я скажу, – терпеливо повторила она, – что это вы меня заманили в гаражи и там по очереди изнасиловали. Ну, или не по очереди. Толстяк, – она ткнула пальцем в Толика, – и молчун, – палец с обкусанным коротким ногтем уперся в меня. – Они держали. Ну, а вы насиловали. – Э-э-э… – внезапно охрипшим голосом переспросил Мишка. – А почему я-то насиловал? Я что, самый… – Самый богатый, – кивнула Ирка, отшвыривая смятый фантик в сторону. – Ты же сесть не хочешь? С папаши, – она мотнула головой в сторону Сереги, – много не возьмешь. Ну, а ты хоть чем-то поддержишь молодую мать, правда? В тюряжку-то не хочешь? – В колонию для несовершеннолетних, – пискнул Толик. – А, уже изучили вопрос? – хихикнула Ирка. – Ну, если вы считаете, что там курорт, пусть так и будет… – Нет-нет, – быстро ответил Мишка. – Погоди. Разберемся.
Мишка пытался разобраться. Тырил деньги из родительского кошелька, тащил в ломбард мамкины украшения – тамошний приемщик, мрачный и неразговорчивый цыган, брал их у него за сущие копейки – но хотя бы брал, остальные напрочь отказывались работать со школьниками. Ирка благосклонно принимала деньги «на еду будущему младенцу» – и уже вечером распивала алкогольные коктейли на лавочке с подружками. – Ты уверен, что она беременна? – как-то спросил я Серегу, глядя, как веселится поддатая Ирка. – Ведь если она собралась рожать, то ей нельзя пить. Урод же будет. – Хоть бы вообще сдох, – процедил тот. – Вместе с мамашей. – Пусть он ее съест, – твердо сказал Мишка. Под глазами у него были синяки от недосыпа. Кажется, Ирка, отцепившись от Сереги, крепко взялась на него, почуяв более питательную почву. – Ну, а что ты говорил, – поддразнил его Серега. – Мол, «не первые, не последние», «не может подтирать косяки»? – Это не косяки, – мрачно огрызнулся Мишка. – Это хитрая лживая тварь.
Мы привели Ирку в песочницу – ту самую, где когда-то в первый раз появился Мальчик-Обжора и подсел к нам. Мы сказали, что ее ждет сюрприз – не поясняя, какой. Ирка хихикала, зажмуривалась, прикрывала руками глаза – впрочем, все равно подглядывая через расставленные пальцы. Она думала, что ее ждет что-то необычное. Впрочем, так и произошло. Мальчик-Обжора появился в этот раз не из жаркого марева. И не из мелкой мороси дождя. И не из утреннего тумана, плотного, как марля. Он соткался из сизого дыма, что испускал Серегин окурок – выброшенный, но не затушенный. Мальчик-Обжора был тих и вкрадчив. Он загадочно и обольстительно улыбался. Он сулил что-то невероятное и невозможное, прекрасное и удивительное. Подарок. Сюрприз. Неудивительно, что Ирка покорно пошла за ним в Гаражи. Даже не допив свой любимый вишневый коктейль. Я не хотел смотреть, как Мальчик-Обжора будет есть Ирку. В этом не было ничего нового и интересного – как и десятки раз до этого, он будет просто рвать, пережевывать и глотать. Плохое и испорченное. Рвать, пережевывать и глотать. Я зажмурился, пока это все происходило. Но все равно слышал чавканье, чмоканье и хруст. А вечером, когда мама стала отбивать мясо на ужин, меня стошнило.
Ирку искали очень долго. Прочесывали дворы, спускались в каждый подвал, перевернули вверх дном Гаражи. Расклеили сотни, если не тысячи объявлений – и даже на другом конце города нас нет-нет да и встречала ее отксерокопированная, полинявшая от дождей и солнца фотография.
Разумеется, нас тоже опрашивали. Будь мы старше, к нам было, конечно, более пристальное внимание – но что могут рассказать девятиклассники? Да, гуляли вместе. Да, немного влюблены были. Да, выпивали иногда. Ну да, целовался. Да нет, ничего такого. Она говорила, что у нее какой-то парень по переписке есть. Кажется, в другом городе. Да нет, вроде сбегать не собиралась. Да сами в шоке, честно. Иркины подруги ничего не знали о беременности. Точнее, утверждали, что быть такого не могло – за день до пропажи Ирка стреляла у одной из них прокладки. От нас отцепились очень быстро – и перекинулись на родителей Ирки. Выяснили, что у ее матери есть любовник, а у отца – незаконнорожденная дочь, чуть старше Ирки. Любовник, недовольный излишним вниманием, быстро покинул город – а Иркина мать попыталась отравиться. Выпила уксус – и выбежала на балкон, оглашая двор истошными, душераздирающими волями боли. Несколько мучительно долгих минут метаний и воя – а потом она выпала вниз, с седьмого этажа. Обо всем этом нам рассказали бабки на лавочке – вернувшись из школы, мы увидели лишь тщательно перелопаченную клумбу под балконом да порванные веревки для сушки на третьем этаже. Они и спасли Иркину мать. Перелом позвоночника, разрывы всего внутреннего, что только можно, – но она выжила. Лежала пластом, в состоянии пошевелить лишь левым указательным пальцем – и всегда держала нараспашку дверь квартиры: если дочь вдруг вернется без ключей.
Конечно, Ирку не нашли. Мальчик-Обжора хорошо знал свое дело. Он не оставил ни клочка одежды, ни капельки крови. Даже бутылка с вишневым коктейлем, которую Ирка забыла в песочнице, тоже куда-то исчезла, словно ее и не существовало.
После Ирки мы долго не обращались к Мальчику-Обжоре. Мишка сказал, что тот налопался достаточно и пока не может смотреть на еду. Мы не спорили. Серега ответил, что по сравнению с Иркой вряд ли в его жизни что-то еще будет настолько плохое и испорченное. Толик просто нервно затряс головой. А я… я лишь пожал плечами. Серега ошибался. Нам снова пришлось позвать Мальчика-Обжору.
* * *
Это было спустя полгода после того, как пропала Ирка. – А я знаю, что вы сделали, – хитро усмехнулся пацан. Ему было лет десять. Порванные на кармане шорты, замызганная футболка, чумазое лицо. Из тех, кто как крыса, везде высматривает, вынюхивает, подглядывает. Он стоял рядом с песочницей, в которой сидели мы, согнавшие пузатую малышню – и покачивался туда-сюда, перекатываясь с пятки на носок. Мы переглянулись. – Что именно? – деланно лениво спросил Мишка. – Ну та девочка, которую все искали. Я видел, как она с вами была, – пацан осклабился. – Ну да, – кивнул Мишка. С его лица схлынул румянец и на висках проступили вены. – Мы с ней гуляли. Мы так-то вообще одноклассники были. – Мы с ней и сейчас одноклассники, – я пихнул Мишку локтем. – Она еще вернется – и снова пойдет в наш класс. – Она не вернется, – покачал головой пацан. – Я же все видел. Мы помолчали. – И кому ты еще об этом рассказал? – тихо спросил Серега. – Никому, – пожал плечами пацан. – Я что, дурак? У вас сигарет на всех тогда не хватит. – Тебе нужны сигареты? – Ага, – кивнул тот. – Будете мне пять пачек каждый день давать – я никому и не скажу. – У нас сейчас нет, – развел руками Мишка. – Честно. – Тогда гоните, что есть, – пацан вздохнул. – Завтра приду за долгом. Мы похлопали по карманам, ссыпали ему в протянутую горсть десяток помятых сигарет – он презрительно цыкнул зубом, взглянув на наше нехитрое богатство, и лениво, вразвалочку, ушел. – Девять с половинок пачек, – небрежно кинул на прощание. – Мы не ведем переговоры с шантажистами, – пробормотал Толик, глядя пацану в спину. – Что? – Вы что, не поняли? – так же тихо ответил он. – Это все так же, как и с Иркой. Он будет просить, просить, просить, брать, требовать, настаивать – а потом возьмет и сдаст нас. Ненасытная утроба! И мы поняли, как надо поступить. Запихнуть ненасытную утробу в другую ненасытную утробу.Пацана даже заманивать не пришлось. Он пришел, как и обещал, на следующий день, заранее заготовив сумку из грубой болоньи – такие, ядовито-зеленые, самосшитые, продавали бабки на рынке. – Ну, – цыкнул зубом, распахнув сумку. – Давайте. – Конечно, – расплылся в улыбке Мишка. – Сейчас. Кушать подано. – Что? – не понял пацан. Когда он увидел Мальчика-Обжору, его глаза расширились. Он заорал, завизжал – но тут же его рот был заткнут, а минуту спустя разорван, как разрывают раковину. И словно розовый жирный моллюск в этом кровавом месиве трепетал и пульсировал язык. В этот раз Мальчик-Обжора ел очень неаккуратно. Он рвал и чавкал, пережевывал и плевался, глотал и рыгал. Кровавая слюна долетала даже до нас – это мы поняли, когда все закончилось и мы посмотрели друг на друга и увидели, словно в зеркале: безумные белые глаза на темном от крови лице.
* * *
После школы я уехал поступать в институт, женился, родилась дочь. Обычная жизнь обычного человека – не лучше и не хуже других. В город детства меня не тянуло – хватало разговоров с родителями по телефону, да и вскоре удалось переманить их к себе, в центр. Продавать старую квартиру выпало мне – мол, я и опытнее уже в таких делах, да и тяжело старикам мотаться по риелторам да бюрократические вопросы решать. И я возвращаюсь туда, где не бывал уже пятнадцать лет.На антресолях в коридоре, в чемоданчике с замасленными отвертками и сверлами я нахожу старые, проржавевшие ключи. Один из них – от ригельного замка. Точь-в-точь такого, какие врезают в ворота гаражей. – Да, – отвечает отец по телефону. – Еще тестя гараж. – А почему я не знал? – Так и мы особо не вспоминали. Машины же не было. Какой-то хлам туда лет тридцать назад свалили – да и забыли. Сходи, глянь, вдруг приглянется что. И я иду.
Я долго стою перед этой запретной чертой, невидимой линией, которая отделяет меня от Гаражей. А потом делаю шаг. Я бы не удивился, если бы в то же самое мгновение, как я занес ногу и переступил черту – меня бы отшвырнуло силовое поле или я бы наткнулся на невидимую стену. Или случилось что-то другое – что-то, что не пустило бы меня в Гаражи. Но я сделал шаг – и ничего не произошло.
Я иду вдоль старых, покосившихся гаражей, с проржавевшими дверями, обклеенными объявлениями о продаже, исписанными «Сизый – лох», «Н + Е = Л», рожами котиков и тэгами граффитистов. Здесь пахнет жженой резиной, гнилой картошкой, перебродившим самогоном, бензином, машинным маслом, раскаленным железом. Один гараж открыт – и в его чреве копается какой-то мужик. – Где тут восемьдесят пятый? – кричу я. Мужик, не поднимая головы, машет рукой.
Странное дело, но мне кажется, что я на самом деле знаю, куда идти. Что я уже когда-то – и много-много раз уже ходил этим самым путем, поворачивал именно в эти самые закоулки. Мне кажется, что я уже не раз перешагивал через канаву у гаража с синей крышей, а вот тут должна торчать под углом арматурина, на которую так легко напороться – и да, вот он, спиленный ржавый пенек. И еще более странное дело – в своей памяти я словно вижу это… неполно. Словно через какую-то щель. Будто подглядываю. Или прикрываю глаза руками.
Вот и восемьдесят пятый. Я сжимаю ключ в руке – до боли от впившихся в ладонь бороздок. Мне кажется, что я слишком рано остановился. Что мне надо пройти еще. И я иду туда, куда ведет меня моя память.
Еще три поворота – и в нос мне шибает запах болота. Его так и не осушили за эти пятнадцать лет. Неудивительно – окраина города, непрестижная, никому не нужная земля. Год за годом стоки с Гаражей отравляли эту почву, разъедали ее, вымывали подземные воды – и смешивались, порождая что-то странное, вонючее, стоячее и неживое. То, где было место только мертвым.
Я иду по полузатопленными бетонным блокам, поскальзываясь, но удерживая равновесие, хватаясь за острые и жесткие стебли рогоза, кусая губы и шмыгая носом – совершенно по-детски, словно по какой-то старой, но забытой привычке. Я иду туда, в самую середину болота, в самое сердце Гаражей.
Там, под небольшим холмиком, поросшим сизым мхом, как лишаем, есть бетонная плита. Я знаю это. И знаю, как нужно извернуться, чтобы проскользнуть под плитой и кирпичной кладкой старого заброшенного подвала.
В подвале почти не пахнет. Не пахнет ничем другим, кроме болотной вони, которая пропитывает все кругом – пропитывает так, что уничтожает любые иные запахи. Здесь много сигаретных пачек. Окурков. Фантиков от конфет. Оберток шоколадок. Вырванных тетрадных листков. Пивных бутылок – среди которых завалялась одна от вишневого коктейля. Я щелкаю зажигалкой. Робкое размытое пятнышко света выхватывает грязную зеленую тряпку – ту, что пятнадцать лет назад была ядовито-зеленой болоньей. Я не смотрю туда, в дальний угол подвала. Я знаю, что там лежит.
И я падаю на колени и бормочу: – Нет, нет, нет, не может быть. И в ушах звучит голос прабабки – теперь-то я понимаю все слова! – звучит мягко и вкрадчиво, как колыбельная: – Демоны унутрях-то сидят, демоны. Не соглашайся с ними, не выпускай их. Заморочат, закружат, заведут в пустыню лютую… Не морочься, не поддавайся, не… не… не… Не становись демоном, Димитрий, не становись! И я прошу, прошу, прошу: – Съешь меня, Мальчик-Обжора, съешь! Потому что это я – плохое, потому что это мы были – испорченными. Потому что это мы – из подлого страха, из лютой ненависти, из дикой злобы – сотворили Мальчика-Обжору. Вылепили его из себя, поделили между собой и скукожились ничего не помнящими и не знающими – не желающими помнить и знать! – эмбриончиками. Творили все – его руками. Жрали всех – его зубами. И прятали нашу постыдную тайну – в его утробу. Я касаюсь пальцами шрама на щеке – и вспоминаю, как меня полоснула отчаявшаяся, почуявшая свою смерть собачка. И мне кажется, что кожу на моем лице снова стягивает запекшаяся кровь, которую мы выбивали – как выбивают пыль из старого ковра! – из этого все никак не желающего умирать пацана. Мы [МальчикОбжора] съели все. И не подавились. Мы [МальчикОбжора] съели даже нашу память. И вот сейчас она выходит из меня едкой отрыжкой, рвотой раскаяния, желчью осознания. И я кричу, корчась на полу, усеянном битым кирпичом, улитым чужими слезами и кровью, удобренном болью и отчаянием: – Съешь меня, Мальчик-Обжора, съешь!
И я слышу: – Хорошо. Произнесенное тремя голосами. Я не оглядываюсь – знаю и так, кто стоит там, за моей спиной. Кто сплевывает через щербинку в зубах, кто воняет прогорклым жирным потом и кто смахивает с глаз отросшую челку неопрятного полубокса. – Съешь меня, – молю я шепотом. Надеясь только на одно – что Мальчик-Обжора, помня нашу давнюю дружбу, сделает это не больно. И что-то рвет меня на части, и пережевывает – и глотает.
Олег Савощик Грация
66 килограммов Булочки с сосисками чуть теплые, а вот чай в стакане – кипяток. Попробуй, донеси до единственного свободного места в столовой, когда все вокруг шумят и толкаются. Сара опустилась на скамейку и приложила обожженные пальцы к губам, потянулась за булочкой. Тесто мягкое, тягучее, торчащие кончики сосисок слегка подрумянились и подсохли, но внутри остались сочными и нежными. Сара откусила дважды и аккуратно запила чаем. – Сало у Сары с ушей свисало! – Гриша словно из-под стола выскочил, смахнул челку с прыщавого лба. – Все жрешь? Это какая уже по счету? После тебя буфет пустой. Сара молча жевала. Такая ароматная еще несколько секунд назад сосиска в тесте обернулась безвкусным пластилином во рту… – Ладно, кушай. – Гриша поправил лямку портфеля и поставил перед одноклассницей свой поднос. На тарелке остывала нетронутая перловка. – И мое доешь. Эй, народ! Тут Сало голодное! Шутку оценили одноклассники и ребята постарше: все, кто обедает после третьего урока. Подходили и грохали о стол пластиковыми подносами. Размазанные по тарелке остатки каши, недоеденные котлеты, яблочные огрызки, пустые стаканы с бесцветными сухофруктами на дне, обертка из-под шоколада… Сара смотрела, как растет гора объедков, и пыталась проглотить пережеванную в тысячный раз сосисочно-мучную массу, но та застыла за щеками, не лезла в горло. – Хавай, Сало. – Приятного аппетита, Сало. – Жуй скорее, на матешу не успеешь. – Доешь за мной, Сало? – Может, тебе еще принести? – Уверен, ей этого будет мало. Сара заметила, что все еще сжимает в руке стакан с чаем. Сквозь слезы посмотрела на пальцы в красных волдырях.92 килограмма Под потолком скрипит пружина. Сара запрокидывает голову, когда Рубенс целует ее живот, кружит вокруг пупка. Теплые губы оставляют капельки слюны на бледной коже, спускаются к бедрам, и девушка сильнее сжимает пластиковый шарик во рту, сопит через узкую дырочку. – Как же я тебя люблю. В подвале прохладно, и горячее дыхание вызывает дрожь по телу. – Как же… люблю… люблю тебя.
72 килограмма Пока Сара ждала, засмотрелась на официанта. Тот принес к соседнему столику широкую доску с запеченными ребрами, пряный аромат коснулся носа, и рот мгновенно наполнился слюной. Похоже, не меньше килограмма сочного мяса на кости. Но подтянувший блюдо парень в оранжевой шапке не был похож на того, кто осилит столько в одиночку. – Привет! – Кирилл сел напротив. И Сара увидела, как в его глазах гаснет улыбка. Этап первый – фото. Легче простого: удачный ракурс чуть сверху, чтобы скрыть шею, а вырез блузки занимал пол кадра, благо есть, чем хвастать, и втянуть щеки до состояния «скулы Джоли». Для анкеты на сайте знакомств хватает. Этап второй – разочарование. Пока их взгляд на вырезе, они все еще улыбаются, но стоит им подняться выше, к подбородку, или скользнуть по округлым плечам к пухлым ладошкам… Сара как-то вычитала в модном блоге, что любуясь руками девушек, мужчины представляют эти руки на своем члене. Неспроста поэты и художники веками возносили хвалу изящным дамским пальчикам. Пальцы Сары легче было представить за лепкой пельменей. Мужчины еще подростками учатся отгадывать и фантазировать, что скрывается под одеждой у одноклассниц или молоденьких учительниц. Кириллу даже не пришлось смотреть ниже, на спрятанные под мешковатым платьем бока и сало на ляжках, хватило и увиденного над столом. Такому остроумному заботливому Кириллу, тому самому, что засыпал Сару пиксельными сердечками перед сном и будил ласковыми пожеланиями хорошего дня по телефону. Который мог «погибнуть, если ему откажут во встрече». Сконфузился, но не погиб. Сидел и листал меню, не вчитываясь, то и дело расстегивал и застегивал обратно пиджак. Даже не пытался выдавить из себя больше двух слов за раз. После третьего «угу» Сара допила воду из стакана и посмотрела в зал. Не стоило встречаться здесь, где в меню можно было спокойно найти цифры своей зарплаты, но Кирилл настоял на ресторане. А еще все вокруг ели. Уткнувшись в тарелки, хлебали ложками, накалывали вилками и резали ножами. Здесь было невозможно не есть. Запахи стояли такие, будто двери на кухню нарочно всегда оставались открытыми: Саре представлялся жаренный на масле чеснок, овощи на гриле и капающий жиром стейк. Даже на стенах красовалась нарисованная еда: в тарелках, казанах, горшочках – она казалась еще теплой в мягком свете настенных абажуров, почти настоящей. Только руку протяни. Сара отодвинула меню. Она передумала заказывать салат. Какой на хрен салат в храме чревоугодия? По дороге домой есть отличная шаурмичная… – Знаешь, я вспомнил… – Кирилл опередил ее, встал первым. – Там у меня по работе завал. Отчет надо писать. Босс убьет. Извини, ладно? Позвоню тебе. Сара выдавила улыбку. Пусть думает, что поверила. Парень в шапке не спеша обгладывал ребра. Смаковал каждую каплю, слизывая с пальцев жирный сок. – Вы уже определились? – Подошел официант. Тень сочувствия мелькнула в его глазах. – Вина, – заказала Сара, на вовремя опомнилась, вспомнив здешние цены на бутылки. – Нет, подождите. Ничего не надо, спасибо. Извините. Встала. Спину прямо, голову выше: уходить из ресторанов надо красиво, даже если и на голодный желудок. – Ребра сегодня отменные, – остановил Сару голос из-за соседнего столика. – Не сомневаюсь, – отозвалась она. К горлу подступила голодная тошнота. – Вот беда, одному это не осилить. – Незнакомец жестом пригласил присесть. Сара замерла, присмотрелась. Синий свитер, легкая щетина, средняя комплекция: сразу и не заподозришь в обжорстве, как, впрочем, и в любви к спорту. И почему-то никто не обращает внимания на такую неуместную в приличном заведении вязаную шапку. «Доешь, Сало». – Спасибо, откажусь. – Слабо улыбнулась. – Уходить из такого места голодным – кощунство. Голодные глаза никого не красят. Сара колебалась, поглядывая то на любителя ребер, то на выход. К черту! Раз вечер не задался, то почему бы, в самом деле, не поесть? Она осторожно опустилась на свободный стул, пошарила взглядом по скатерти в поисках приборов. – Руками вкуснее, – усмехнулся парень. Оторвал блестящими пальцами очередное ребро, макнул концом в густую горчицу. – Вот так. – Хорошо. – Сара потянулась к еще теплому мясу. – Но платим поровну! – О, деньги не понадобятся. Владелец – мой хороший друг. И я расписывал эти стены. – Правда? – Мясо на зубах мешало говорить внятно. – Вош-шхитительно! – Я бы подал вам руку, но сами понимаете. – Художник покрутил ладонью с налипшими специями. – Роман. Но друзья зовут меня Рубенс.
92 килограмма Бечевка плотно оплетает голые ляжки. Рубенс затягивает туже, и нога становится похожа на сервелат. Кровь встает в передавленных сосудах, под кожей начинает покалывать. Сара сопит, стараясь привлечь к себе внимание. В пластиковый шарик набралось слюны, на отверстии надуваются и сразу лопаются смешные пузырьки. Рубенс обходит связанную девушку и придирчиво осматривает: где бы еще подвязать, затянуть, чтобы торчало, топорщилось. Свисало. Сара мычит громче, пытается двигать конечностями, но лишь раскачивает стропы. Пружина под потолком скрипит все натужней. Рубенс любуется результатом, не обращая ни малейшего внимания на выражение лица Сары. Забавно шоркает спущенными до пола штанами. И его член оттопыривает длинный свитер тоже забавно. Саре не до смеха, ей хочется сильнее вцепиться зубами в скользкий шарик, раскусить чертову пластмассу, разжевать и выплюнуть вместе с ругательствами, чтобы в красках расписать, насколько ей не до смеха. Вот только увлеченный членом Рубенс вряд ли заметит. Вряд ли останется голодным.
70 килограммов – Я хочу тебя нарисовать. – Рома щекотал ее шею небритым подбородком. – М-м-м, тебе понадобится большой холст, – хихикнула Сара. – И цистерна краски! – Не говори так. Я хочу передать тебя как есть. Обнаженной. Она замерла, прислушиваясь к дыханию в темноте. – Ты серьезно? – спросила тихо. – Что скажешь? Сара почувствовала, как плечи покрылись мурашками: возбуждение испарялось с кожи подобно воде, оставляя после себя легкую дрожь. – Нет… – Поймала себя на смущенных нотах. – Не хочу. – Почему? – Рома вскочил, не дожидаясь ответа. – Я тебе кое-что покажу. – Не включай… Люстра вспышкой ударила по зрачкам, и Сара села, подтянув сползающую лямку лифчика, закрылась покрасневшими руками. Блузка осталась валяться в коридоре. Они ввалились сюда, целуясь, как подростки, и, не дотянувшись до выключателя, рухнули на диван. Пока глаза привыкали к свету, Сара ожидала увидеть творческий бардак из фильмов про художников: разбросанные кисти, недоделанные полотна, пятна краски на полу и стенах. Но светлая студия удивляла простотой и порядком, в первую секунду даже кольнула кривым шилом мерзкая мыслишка: а не прибирается ли тут женщина? Кольнула и тотчас ушла. Из мебели лишь огромный, на полкомнаты, диван и высокий табурет: так могут жить только одинокие мужчины. – Смотри. – Рома снял со стены одну из картин, поднес поближе. – Называется «Три грации». Не оригинал, конечно, но мне удалось достать хорошую копию. Сара наклонила голову. Кисть мастера на полотне придала наливным женским формам непривычную легкость, и эта странность, неуместная деталь, заставляла всматриваться в каждую черточку на рыхлых ягодицах натурщиц, вызывая смесь робости и восхищения. – Рембрандт, Тициан, все они воспевали ту чувственную телесность, что делала женщин того времени равными Богиням! И только Рубенс мог разглядеть нечто еще. Истинную грацию, присущую первородной красоте. – Вот откуда твое прозвище. – Сара слабо улыбнулась. Она подумала, что если целлюлит барышень так заметен на уменьшенной репродукции, то как же он бросается в глаза с оригинала. – Мы потеряли содержание в погоне за формой, – грустно добавил Рома. – Видим проблемы в бедрах, но не замечаем их в головах. Сара считала, что месяца достаточно. Месяца встреч, прогулок под первым снегом и пары теплых перчаток на двоих. Ей даже удалось отвоевать кусочек самолюбия и сбросить пару килограммов… Она знала, что художник верит в свои слова, что затеял этот разговор не обидной шутки ради. И месяца должно быть достаточно, чтобы поверить самой… но едва она задумывалась над этим, как перед глазами с легким щелчком пробегала ненавистная стрелка весов. – Я вижу эту грацию в тебе… – Рома, я толстая! – Сара не выдержала, мотнула головой. – С детства я ложилась на краю кровати и ждала, когда же, наконец, придет серый волк и откусит на хрен эти бока. И не надо говорить мне про принятие, ты ничего, слышишь, ничего не знаешь о том, каково это! Может, в пятнадцатом или каком там веке это… – Сара ткнула в картину. – …это считалось признаком благородства, достатка и плодовитости. Но сейчас это признак болезни. Со стен на нее взирали Богини ренессанса, и Саре стало неуютно из-за своих слов. Она съежилась, мелко подрагивая, и плотнее обхватила руками живот. Рома прислонил картину к дивану и опустился на корточки. Коснулся веснушчатого предплечья. – Позволь показать тебя моими глазами. Тебе не надо ничего принимать, не надо ни во что верить. Мои краски честнее всяких слов. Сара подняла голову, вытерла ладонью влажные щеки. – Ладно, Рубенс. Забери меня в Ренессанс.
92 килограмма Когда Рубенс достает из ее рта обслюнявленный кляп, Саре хочется цепануть за бледные пальцы, почувствовать, как хрустят фаланги на зубах. Она сдерживает крик и борется с желанием плюнуть в нависшую щетину. – Я опять увлекся, да? – Он по-прежнему избегает смотреть в глаза. Больше не выглядит таким уверенным. Уверенность ушла из него вместе с эрекцией. – Прости меня, ладно? Любимая моя… Сара тяжело дышит. Наблюдает, как Рубенс снимает шпагат с ее опухших, раскрасневшихся ног. Она ждет, когда снова сможет стать на твердый пол, растереть зудящую кожу. – Я думал, тебе понравится, – бормочет Рубенс. Он действительно слишком часто «увлекается»… Долгое время Саре удавалось списывать его фантазии в постели на темперамент творческой натуры. Все эти взбитые сливки на сосках и суши на животе… Она училась получать оргазм липкой и пропахшей рыбой, пока солоноватые запахи моря не сменились запахом лакированной кожи и металла на запястьях. Но даже тогда Рубенс не «увлекался». А в начале лета он отвез ее в тихий дачный домик, где годами творил в одиночестве, и который куда больше, чем городская квартира, напоминал рабочую студию, заваленную недописанными полотнами. Рубенс отпер неприметную дверь, окрашенную в тот же цвет, что и стены прихожей, повел за собой по узкой лестнице вниз. И подарил Саре подвал. Да, именно так и выразился: – Я дарю его тебе! Теперь это твое место. Место, где ты можешь быть собой. Просторный, с праздничными гирляндами на стенах, огромной кроватью, плазмой и забитым «Коммунаркой» и «Рошеном» холодильничком. В тот день Сара впервые задумалась о том, что Рубенс «увлекается», пока рассматривала прилагающиеся к подарку секс-качели. Поначалу ей было даже смешно представить себя среди этих строп и ремней, уж больно ненадежно выглядела свисающая с потолка конструкция. Но следующие месяцы они здорово повеселились с этой игрушкой, и все опасения Сары залегли на глубину, утрамбовались едой и хорошим сексом. Больше не нужно было тратить силы, чтобы ворочать собственную тушу на кровати, стропы позволяли почувствовать невиданную легкость, открывали путь к новым позициям и ощущениям. …Сара висит и ждет. Тело все еще болит от веревок. Ей не нравится медлительность Ромы, не нравятся мысли, что норовят залезть в голову. Но пока под ногами нет опоры, пока нельзя подняться из подвала и проветрить голову, затравленные в самое нутро догадки будут подкатывать жгучей тошнотой, сбивать дыхание. И после сегодняшнего их больше не выйдет игнорировать. – Ты же знаешь, как я тебя люблю. – Рубенс, наконец, подходит и заглядывает в глаза. – Как ты мне дорога. И веревки будут затягиваться все туже, пока однажды не порежут плоть. Ведь даже качели он купил в БДСМ версии, с надежной фиксацией щиколоток и запястий. – Когда я тебя вижу… твою красоту, – Рубенс гладит Сару по голове. – Я теряю рассудок. Без твоей красоты этот мир для меня ничто. Все это время им двигало нечто большее, чем скука или потребность в экспериментах. Только Сара. Словно каждый набранный ею килограмм подсыпал углей ему в штаны. – Ты совершенна. Я не могу себе позволить потерять тебя. Она все еще висит. Ремни все так же держат по рукам и ногам, фиксируя в нелепой позе, словно в гинекологическом кресле. – Развяжи. Меня. – Сара старается говорить как можно четче, но голос получается тише и мягче, чем ей хотелось бы. Рубенс улыбается и продолжает водить пальцами по ее волосам. – Рубенс… Рома, это уже совсем не прикольно! – Сара запрокидывает голову, чтобы лучше его видеть. – Давай развязывай, слышишь? Кровь приливает ко лбу, бьет по вискам. На миг кажется, что пол и потолок меняются местами, не разобрать где что. Скрип пружины больно врезается в уши. – Мне страшно. – Сара жмурится, стискивая зубы. – Развяжи меня… Развяжи, развяжи, развяжи!
80 килограммов – Ты почти ничего не съела. – Наелась, – соврала Сара и с сожалением посмотрела на отодвинутую тарелку. В желудке колыхнулась непривычная пустота. Горели свечи, но едко-приторную «лаванду» заглушал теплый запах ужина. – Невкусно? – Рома шкрябал вилкой, собирая густой соус. – Я старался. Паста в сливках с грибами и ветчиной, рядом целая миска тертого пармезана… Как может быть невкусно? – Знаю, милый, мне все очень понравилось, – осторожно начала Сара, потирая вспотевшие ладони. Тихонечко придвинулась к угрюмому художнику. – Но я не думаю, что мне стоит есть с тобой… так много. На кухне ты волшебник. Но по тебе вообще не видно! А я и так набрала за последние месяцы… Рома встал так резко, что чуть не опрокинул свою тарелку. Обошел стол, замаячил по комнате. – У меня не получается достучаться до тебя, Сара. У кого тогда получится? На кого ты хочешь равняться? – Художник не повышал голос, но от его интонаций, скрипучих и холодных, как промерзшие дверные петли, Сара ежилась, ей сразу хотелось спрятаться под пледом с головой и не показывать носа. – На этих инста-телок, что вливают в себя тонны дерьма, выдавая это за здоровый образ жизни? Чьих мозгов хватает только на подсчет калорий. Чей потолок – это бегать на дорожке и фоткаться в зеркалах, а потом внушать всем и каждому, что вот оно, совершенство, что только так и не иначе – норма. И слушают же их, несут им деньги. Сидят миллионы недотраханных, обиженных, озлобленных и слушают, смотрят, как на них выливают помои проданных и давно загаженных идеалов… – Мне неприятно… – Моей любви тебе мало. Моего восхищения. Чье еще нужно? Кто еще должен поставить штамп «одобрено», чтобы ты почувствовала свою полноценность? Цифры на одежде не решают за тебя… – Ты тоже. – Сара встала, в районе ляжек скрипнули новые джинсы. – Ты тоже не решаешь за меня. Мое тело… Он остановил ее в прихожей, обхватил за плечи, прижался губами к затылку. – Ну прости, – сказал тихо. По позвоночнику пробежал короткий разряд. – Ты права, конечно, ты права. Тебе решать. Для меня ты будешь прекрасна всегда. Слышишь? – Правда? – Сара повернулась. – Ты же знаешь, не люблю, когда пропадают продукты. Даже я не настолько больной ублюдок, чтобы разогревать макароны в микроволновке, – отшутился Рома. Лицо его расслабилось. – Давай так: мы съедим еще по капельке, пока не остыло. За маму, за папу. За нас. А потом хорошенько сгоним набранные калории на диване, если для тебя это так важно. Что скажешь? Сара притянула его к себе, взлохматила волосы. Желудок отозвался на предложение легким урчанием. – Ну если только по капельке.
92 килограмма С наступлением первых холодов дачный кооператив опустел, а значит, никто из соседей не услышит ее крики из подвала. Но Сара все равно кричала, пока не сорвала голос. В горло будто напихали колючей ваты. Рубенс несколько раз пытался ее накормить, размазывал жир с куриных ножек по губам, но девушка лишь мотала головой, отплевывалась и материлась. Умоляла и звала на помощь. Разозленный художник взбежал по лестнице и хлопнул дверью. Щеки горели от бегущих слез, которые некому было вытереть. В углу трещал электронагреватель, но лодыжки все равно подмерзли. Сара безуспешно попробовала дотянуться зубами до связанных кистей, затем ухватиться за петли на предплечьях, но едва достала до краешка кожаных ремней. В шее что-то больно щелкнуло. На Сару со стен смотрела она сама, выпятив наготу, забыв о стыде, демонстрируя то, что прятала годами под мешковатой одеждой и улыбкой скромницы. Рубенс тащил сюда самые откровенные свои работы. «Кушай, Сало», – говорили картины. – «Ты ведь голодная. Позови его и попроси еды». Сара трепыхалась, как жирная муха в паучьих сетях. Подвал закружился: Рубенс специально вешал качели на единственный крюк, чтобы они могли качаться не только взад-вперед, но и по кругу. Сара не могла понять, какие из цветных бликов принадлежали гирляндам, а какие появились из-за подступающей тошноты. – Не-е-ет, – хрипела она. Он не может держать человека, как подвешенный окорок в подвале. В понедельник ее хватятся на работе, потом ей не дозвонится мама, не сможет завалить вопросами и обвинить в редких встречах, как делает это каждую неделю. Тогда ее будут искать, обязательно будут, и когда найдут… Шаги на лестнице. Рубенс спускается с легкой улыбкой на лице и подносом в руках. – Останови, пожалуйста, – шепчет Сара. – Конечно, сейчас. – Он ставит поднос на пол и хватается за стропы, останавливая кружение. Качели не запутываются, пружина вращается вместе с ними. – Извини, это я не досмотрел. Рубенс возвращается к подносу. Снимает крышку с высокого стакана от блендера, крошит между пальцами какую-то таблетку в серую жижу. – Что это? – Курица, бульон, немного майонеза… – Таблетка. – Ты должна есть, Сара. – Рубенс серьезно смотрит на нее. – Ты мое произведение искусства. Моя Magnum opus, если хочешь. И я не позволю тебе это отнять. А это небольшая добавка для аппетита. – Что это? Усилитель вкуса? Гормональные? Давно ты мне их подсыпаешь? Рома вздыхает. Показывает тонкий шланг с воронкой на конце. – Послушай меня. Пожалуйста. Сейчас я вставлю эту трубку как можно глубже тебе… – Ты знаешь, что болен? Тебе к врачу нужно! – В Саре тошнота борется с приступом смеха. – Мы сможем, если вместе, Рома. Мы пройдем через это… Рубенс качает головой. Подходит и целует в мягкий живот. – Это не лечится, моя сладкая булочка. Ведь болен я тобой.
84 килограмма – Ты маньяк. – Сара посмотрела на коробку с пиццей у Ромы в руках и села на диван. Подтянула одеяло под самый подбородок. – Если чтобы накормить любимую женщину надо стать маньяком, я готов, – рассмеялся художник, и девушка тоже невольно улыбнулась. – Не одними же сладостями прогонять тоску. Он пнул пустую банку из-под шоколадной пасты на полу. Сара приложила к опухшим глазам краешек ночнушки, вытерла вновь набежавшие слезы. – Я к нему привязалась. – Знаю, милая. – Рома погладил по спине, второй рукой все еще удерживая коробку на весу. – Я тоже. Но в таком возрасте у них это часто бывает. Ретриверов раздавала коллега из бухгалтерии, уже привитых и по хорошей цене. Пушистый и желтенький, совсем как цыпленок, щенок в первый же вечер умудрился попасть лапами в тарелку с картошкой фри и вымазать мордаху в соусе, чем и заслужил себе кличку. – Мы будем с тобой гулять, Кетчуп, – ворковала Сара, прижимая шершавый собачий нос к своему. – Будем с тобой гулять, да? Будем гулять? Мы с тобой и бегать начнем! С горящими глазами она обошла все зоомагазины на районе, часами выбирала ошейник, миску, корм. Зачитывалась перед сном статьями о воспитании собак, почесывая за ухом нового друга. У Сары больше не хватало времени на долгие завтраки с Ромой. Перед работой она брала яблоко, бутылку воды, и они с Кетчупом шли гулять по залитым весенним воздухом улицам. Даже купила себе кроссовки для бега, такие удобные, с пружинистой подошвой, и уже присмотрела маршрут в парке. А одним утром обычно жизнерадостный и активный Кетчуп, удержать которого можно было лишь приклеив лапами к тротуару, вдруг стал сонным и норовил прилечь в каждую встреченную лужу. На дрожащих руках заплаканная Сара притащила его домой. К ветеринару они не успели. – В таком возрасте у них это часто бывает, – повторил Рома, наверное, в тысячный раз. – Инфекция или что-то в таком духе. Организм еще слабый… – Пахнет вкусно, – оборвала Сара резковато и заглянула в коробку. Художник, казалось, сам не замечал, как его поддержка порой превращалась в топтание по мозолям. Пицца была еще теплой. Тонкие кружочки пепперони блестели жирком, из-под плотной сырной шапки выглядывали красные и зеленые ломтики болгарского перца. – Твоя любимая. – Рома оторвал кусок, растянулись упругие ниточки моцареллы. – Кушай, набирайся сил. Я знаю, как поднять тебе настроение. К выходным обещали потепление, поедем ко мне на дачу. – А что там? – спросила Сара, принимая треугольничек пиццы. – Покажу тебе мою летнюю мастерскую. И еще – сюрприз. – Рома улыбнулся, наблюдая за жующей девушкой. – Я готовлю тебе подарок.
96 килограммов – Флешка тоже ты? – спрашивает Сара, не отводя взгляда от крюка над головой. – Я ту презентацию три недели готовила. Ты не представляешь, что я пережила в том конференц-зале, на глазах всего руководства… – Ты заедаешь стресс, – Рубенс ведет по ее боку влажной мочалкой. Вода стекает к ягодицам и капает на пол. – Я лишь всегда был рядом с тобой. Поддерживал, чтобы ни случилось. – И был причиной этого стресса по большей части. Ты, животное, отравил мою собаку! Самым унизительным оказалась не насильная кормежка через трубочку, иногда по шесть раз в сутки. Не то, что Сара висела тут в раскоряку и даже не то, что Рубенс брал ее, когда пожелает. Самым унизительным было ходить в таком положении под себя. Слышать, как бренчит, наполняясь, пластмассовый тазик. Ждала, когда останется одна, чувствовала, что если и это придется сделать перед Рубенсом, рассудок окончательно рассыплется, как песочное тесто между пальцев. Оставалось успокаивать себя, что она хотя бы не сидит прикованная наручниками к кровати в собственных испражнениях. Художник регулярно выносил тару, мыл пол и саму Сару. – Зачем ты так со мной? – спрашивает она, подрагивая от прикосновений теплой мочалки к холодной коже. – Ты не любишь свое тело, а значит, не заслуживаешь его. – Рубенс пожимает плечами и тянется за полотенцем. – Но я люблю. Оставаясь одна, Сара прислушивается к себе. Телу не хватает точек опоры, тело болит, оно больше не может обмануть гравитацию. В подвале никогда не гаснет свет, и Сару подташнивает от разноцветных сполохов, но она до боли в глазах всматривается в потолок. Кажется, с закрытыми глазами сможет вспомнить каждый сантиметр проклятых качелей. Крюк – статичный. Пружина – тугая, натягивается и крутится вокруг своей оси. Скрипит как сука. Четыре стропы заканчиваются кожаными петлями: две перехватывают ноги под коленями, еще две на предплечьях. Дополнительные ремни плотно стягивают кисти и лодыжки. Высота и натяжение подобраны так, что ни руки, ни ноги не свести. Такую надежность ценишь, пока «верхний» помнит твое «стоп-слово». Еще один ремень для шеи, голову можно свободно приподнять и размять. А вот за широкую кожаную ленту, поддерживающую поясницу, Сара готова была когда-то сказать производителям качелей спасибо, но сейчас спина в том месте зудит и ноет сильнее всего. Сара обхватывает стянувшие запястья ремни, напрягает ноги и пробует подтянуться. Давление на поясницу слабеет, похоже, действительно получилось. По ощущениям едва ли больше сантиметра, но этого хватает, чтобы насладиться расслабленной спиной. Сара держится сполминуты, пока руки не наливаются тяжестью, и вновь опускается на ремень. Вдох, выдох. Новая попытка. На этот раз руки слабеют быстрее, и Сара срывается слишком резко. Боль пронзает кожу и слой жира, кажется, вгрызается до самого позвоночника. Скрипит натянутая пружина. На губы с потолка оседает горькая бетонная пыль. – Время обеда, милая! – Рубенс возвращается с набитым до краев стаканом блендера. Сара облизывает губы, чувствует, как скрипят на зубах мелкие песчинки. – А есть нормальная еда? Он замирает, смотрит с недоверием. – Ты серьезно? – Хватит с меня этой бурды. Хочу чего-нибудь вкусненького. Лицо художника светлеет, будто это его обмотали гирляндами. Он подскакивает к Саре, целует в плечи, тянется к щекам. – Конечно, милая! Сейчас все будет! Минуту, сейчас! – Забыв про месиво, взбегает по лестнице. Сара смотрит на крюк. Она не видела инструкции, не знает, какая цифра стоит там напротив строчки «допустимый вес». Сто килограммов? Сто двадцать? И сколько надо вычесть до реальных показателей, если вешал качели художник, всего пару раз в жизни державший перфоратор? – Сколько? – спрашивает Сара у потолка. Она может это узнать. Надо только больше есть.
92 килограмма Холода в этом году пришли с первыми днями осени. Листья не успели пожелтеть, а уже покрылись морозными узорами. Сара следила за пролетающими мимо деревьями, откинувшись на сиденье с подогревом. Кроссовки она сняла, едва села в машину, и теперь плавно крутила отекшими ступнями. В последнее время вся обувь стала нестерпимо тесной, и ходьба напоминала средневековую пытку «испанским сапогом». Рома смотрел на дорогу, покачивая головой в такт очередной попсе с радио. Ему понадобилось что-то из принадлежностей в дачном домике, и он даже разбудил Сару в выходной раньше обычного. Он возил ее везде. Когда-то Сара прогуливалась пятнадцать минут до остановки, а в хорошую погоду могла и весь путь до работы проделать пешком, что хоть как-то компенсировало восьмичасовое сидение в офисе. Теперь ее отвозит и забирает просторный «мерин» с теплыми сидушками и такой удобной подставкой для стаканчика со сладким капучино. Сара бросила взгляд на Рому и почувствовала, как ей не хватает воздуха. Так бывает, когда нужно пройти по коридору, мимо бухгалтерии, кадровиков и конференц-зала, к единственному кулеру на этаже, и вернуться обратно. – Я буду худеть, – сказала Сара и задержала дыхание. Будто высунулась в осеннюю прохладу из нагретого салона. – Я так решила. Снова записалась к диетологу… и в зал. Рома молчал. Не сводил взгляда с влажного асфальта перед машиной. Руки его расслабленно лежали на руле. – Я не могу подняться по лестнице. У меня одышка. Спина болит, – Сара свела напряженные пальцы в замок, старалась контролировать интонации, но все равно звучала так, будто оправдывается. – Я буду худеть. Рома смотрел прямо. Лицо его не поменялось, лишь нечто непривычное закралось во взгляд. Этап второй – разочарование. Сара видела это у Кирилла и у всех, кто был до него. Будто зеленый лист, еще живой, еще мягкий, покрывается холодным инеем. Она все ждала, что Рома закатит глаза и выплюнет через сжатые губы очередную лекцию о «навязанных стереотипах общества». На всякий случай, посмотрела на спидометр, но стрелка не вышла за пределы допустимого. – Хорошо, – сказал Рома спокойно и, наконец, повернулся к Саре. Улыбнулся. – Если ты так хочешь.
100 килограммов Гриша, все такой же челкастый, как и в школе, лупит ее пластмассовым подносом по пузу. Пузо отдается приглушенным звуком, как натянутая барабанная мембрана. – Хочешь кушать, Сало? – кричит одноклассник. – Хочешь кушать? Доешь за мной, Сало! Сара визжит от ужаса, когда ее живот раздувается, как шарик в руках детского аниматора, и стропы качелей трещат от натуги. – Ребята, тут Сало голодное! С портретов на нее смотрят Сары. Толстухи хохочут во всю, тычут жирными пальцами: – Сало у Сары свисало, у Сары Сало свисало, свисало Сало у Сары… Живот разрастается до потолка, упирается пупком в пружину. – Сара! Сало! Она всегда была Салом. Никто и не пробовал воспринимать ее иначе. Этап третий – принятие.
104 килограмма Еда теряет вкус. Мясо в клюквенном соусе, паста с креветками или кремовое пирожное. Любое кулинарное ухищрение Рубенса, любая специя теперь во рту как пенопласт. Сара различает лишь едва уловимый запах чеснока от пальцев художника, когда он ее кормит, и кисловатый от собственного тела. Теперь она потеет чаще. Сара забыла о голоде. Как только замечает, что тяжесть в набитом брюхе идет на спад, вновь просит добавки. Невидимая сила вдавливает в ремни, и спина то горит огнем, то будто погружается в ледяную воду. За болью Сара не чувствует влажных поцелуев на груди, и как руки Рубенса шарят по ее бедрам. Не чувствует его внутри. Сара жует и смотрит в потолок.
107 килограмм Что он сделал? Что сказал ее начальству, родным? Полиции? Он всегда умел найти нужные слова, чтобы получить желаемое. Затащил ее в этот подвал с той же легкостью, как затаскивал в ресторан, где они познакомились, каждые выходные. Уговорил «пошалить напоследок», последний раз в сезоне покататься на качелях, прежде чем закрыть дачу до теплой поры. Сара не удивилась бы, узнай как он льет слезы в кабинете следователя, выдумывая новую байку. Может даже разок грохнулся в обморок, творческая же натура. И все-таки. Рубенс должен быть первым подозреваемым, почему его не затаскали по комитетам, прокуратурам или где там людей ищут? Чтобы найти, надо знать, где искать, а неприметную дверь в нише прихожей так легко заставить сервантом. Сара подрагивает от мысли, что полиция могла здесь быть. Прямо над ее головой. А она проспала или не услышала за скрипом пружины. Жевала, когда должна была кричать… Горячая волна поднимается к горлу, обжигает нос и Сара тянет подбородок к груди, чтобы не захлебнуться в собственной блевотине. С трудом сглатывает ком вонючей жижи. Хватает ртом воздух и пытается прикинуть, как давно ее перестали искать.
109 килограммов Рубенс все чаще остается с ней. Раньше он мог уехать почти на весь день, мотаясь в город по делам и за продуктами. Не забывая заранее накормить и поставить чистый таз. Теперь отлучается лишь в туалет, на кухню и встретить курьера. Спит на диване, смотрит телек, читает. Может часами кружить вокруг Сары, заложив руки за спину, любуясь. А потом садится рисовать. Хуже всего, когда он говорит. Обижается, если Сара не отвечает. Тогда она просит его приготовить что-нибудь вкусненькое, и окрыленный художник взлетает по лестнице, не забывая накрыть свою музу шерстяным пледом. Обогреватель не справляется с холодом подвала в последнее время. В моменты, когда она одна, Сара подтягивается. На сантиметр, может больше. Но не держится долго, резко отпускает руки. Пружина скрипит, от бетонной пыли режет глаза и хочется плакать. Но проклятый крюк, кажется, не отошел от потолка ни на волос. Сара смотрит на него, как поросенок на нож мясника, и сдерживается, чтобы не завизжать. «Будь там два крюка, у тебя не было бы шансов», – успокаивает она себя. – «Но он один». Спина разрывается болью с каждым толчком, локти сдавливают невидимые тиски. Руки теперь могут держать Сару гораздо дольше, чем в первый раз, но ставка не на длительность подъема, а на количество подходов. Жар разливается по плечам, и Сара пробует снова. Раз за разом.
111 килограммов – Что ты хочешь на Новый год? Я могу приготовить что-нибудь особенное, – Рубенс выдавливает из тюбика немного геля на палец. – Твое сердце. Я бы съела твое сердце. Художник ухмыляется. Он по очереди ослабляет ремни и смазывает разодранные запястья и воспаленные язвы на щиколотках. Разгоряченной кожи касается легкий холодок, и зуд отступает на несколько мгновений. Пахнет мятой и чем-то таким, что делает противными все мази. – Ты все обижаешься, – говорит Рубенс, стараясь не пропустить ни одного покрасневшего участка. – А ведь это лучшее, что я мог тебе дать. Твою грацию. – Спина, – напоминает Сара. Она не чувствует места, где поясницу поддерживает ремень. Возможно, там уже пролежни… – Да-да, конечно, моя хорошая. Сейчас. Он ложится на пол, как автомеханик подлезает под автомобиль на домкратах. – А над праздничным меню ты подумай. В запасе есть еще несколько дней. Запах мази усиливается, от него свербит в носу. – Слишком плотно впился ремень, – кряхтит Рубенс снизу. – Не могу посмотреть, что там. Нужно помочь. Подтянуться. Совсем чуть-чуть. – Так… попробую подлезть. Отпустить. Скрип пружины. – А-а… милая, пальцы! – Сдавленный крик. – Мне пальцы зажало! Подтянуться. Скрип. – Достал, все, достал… Отпустить. Удар такой неожиданный, что выбивает дух. Стук затылком о бетон, и гирлянды на стенах рассыпаются снопом искр, как бенгальские огни. Боль пронзает живот… Когда муть перед глазами вновь собирается в привычные очертания подвала, Сара видит стекающую по ее бокам кровь. Похоже, крюк сорвался с потолка и ударил чуть ниже пупка, разодрав кожу. Но отскочил от прослойки сала. Сара со свистом втягивает воздух и ощупывает обмякшие стропы, пробует сдвинуться. Между лопатками упирается что-то острое, костлявое… Лицо художника? Рубенс не пытается выбраться, не издает ни звука. Сара видит его левую руку, и как мелко подрагивают пальцы, словно по ним пропустили ток. Этап последний – освобождение. Сара лежит и думает об еще одном сложнейшем испытании – подъеме по лестнице. Представляет, как позвонит матери. И что скажет полиции. Размышляет и о том, как не сможет больше ходить мимо кондитерских и пиццерий. Забегаловок и ресторанов. Не сможет смотреть кулинарные шоу. После качелей бетонный пол и тело художника кажутся самой мягкой, самой удобной из перин. Кровь перестает течь, а значит, можно не торопиться. Пальцы Рубенса отбивают последние удары тика и замирают. Сара расслабленно шепчет: – Держи свою Грацию, Рома.
Максим Кабир Курьи ножки
Если бы Женю попросили рассказать, какие эмоции будила в нем та телепередача, он поведал бы о тревоге, возникавшей всякий раз, когда мультяшная изба выскакивала из-за условных елей. Рисованной была заставка, а дальше следовал десятиминутный балаганчик с куклами-перчатками. Миновало больше двадцати лет, а Женя помнил пучки прутиков на заднике – имитацию знахарских трав; помнил луну в оконце – намалеванный на бумажке полумесяц с глазом; даже музыку помнил, такую вроде бы шелестящую, подступающую к маленьким зрителям. Передача называлась «Курьи ножки», ее с девяносто шестого по девяносто девятый крутил местный канал «Альтаир». Ничего особенного, копеечное подражание «Спокойной ночи, малыши!», только вместо свиномедвежьего зоопарка там колобродили персонажи русского фольклора. Основными героями были Леший Леша, Баба Яга и Вий. Наведывались в избушку на курьих ножках гости: домовенок, кот, кикимора. Сюжет развивался по накатанной схеме. Всплывала некая научная или педагогическая проблема (почему нельзя лизать качели на морозе, почему в космосе невесомость, почему вода не горит), Баба Яга растолковывала, озорной Леший все перевирал. Оно как бы смешно должно быть, но Женя не смеялся, а губы поджимал. Пока взрослые люди, прятавшиеся под столом, говорили писклявыми голосами, Женя чувствовал себя неуютно и одиноко, как пес, бродящий в заоконном тумане, как последний вареник на тарелке, о котором мама говорила: не съешь – он плакать будет. Заканчивалась передача так: отчаявшаяся Яга привлекала к спору Вия. Тот сидел на стульчике у бревенчатой стены, «дремал», а в финале Яга поднимала его веко, и циклоп вступал в беседу, быстренько все разжевывал, подводил итоги. И никаких мультиков. Жене въелся в память выпуск, в котором веко Вия было поднято изначально, с первых кадров – забыли опустить. Сохранилось кислое, точно электрод, ощущение, что из лобастого «Панасоника» циклоп таращится прямо на Женю. Дети присылали в избушку письма – периодически их приносил Бабе Яге домовой; устраивали конкурс на лучший рисунок. Сомнительно, что кто-то, кроме Жени, ежился под одеялом при виде сказочной компании. Женя спал в гостиной напротив телевизора. Передача шла довольно поздно: в десять, что ли, после городских новостей. Мама смотрела новости, погоду на завтра, а «Ножки» оставляла, чтобы сын развивался. Воспитывала Женю однополая пара: мама с бабушкой. Семья была верующая. Не сектанты-затворники, а здоровое постсоветское православие, которому не мешает крупица астрологии, щепотка вульгарного буддизма про реинкарнации и всякие милые языческие ритуалы, вроде показывания монетки молодому месяцу, чтоб деньги водились. Бабушка учила внука креститься, подсовывала детскую Библию, а еще самую малость контролировала телевизионные вкусы внука. Показывали «Секретные материалы», или мультик про Дракулито Вампиреныша, или советский пластилиновый мультфильм про чертей – бабушка фыркала и отвоевывала пульт. «Бесы» – говорила. Даже роботов из «Острова ржавого генерала», заблуждаясь, бесами обозвала. Слово «черт» сама никогда не употребляла, то есть «хуй» сказать могла (на соседа: хуй конторский), но вместо «черт» бурчала виновато: «на букву "ч"». Будто, проговорись она, ляпни, рогатики полезут из стен. И Женя долго этого слова избегал, лет до пятнадцати. Неприятным оно было, ладно по-старому написанное: «чорт», но с этой вот рогатенькой «е» – царапучее, муторное. Однажды на день рождения Женя получил от ровесницы в подарок красиво оформленный сборник Пушкина, так он ножничками вырезал иллюстрацию с хвостатым адожителем. В другой раз склеил «ПВА» страницы «Древнегреческой мифологии», где были фавны. Еще в Сочи испугался ряженого: на ходулях, морда в ваксе, сзади веревка с кисточкой. Семилетний Женя едва маме под сарафан не кинулся. «Курьи ножки», в отличие от пластилиновых чертовников, легко проходили бабушкину цензуру. Наверное потому, что ч…й среди персонажей не было, да и выглядели куклы совсем уж невинно. Так почему же у Жени мурашки бежали по спине при звуках вступительной мелодии? «Альтаир» не только показывал, но и снимал передачу, потому за пределами города и прилегающих сел никто о Лешем Леше не слышал. Локальным мемом стала фраза «давайте, ребята, спросим у Вия», подходила она к любому случаю. «Где зарплата?» «Когда мы заживем нормально?» «Почему чиновники воруют?» Вий – эдакий Виктор Сиднев или Ровшан Аскеров от мира нечисти – ответы скрывал. А Женя вырос, повзрослел и выполол дурацкие страхи. Со страхами не то чтоб полностью ушла, но забилась под паркет вера в небесного бородача. Бабушка умерла в нулевых, под конец впала в маразм и разговаривала с Богом. Интернет о детской передаче из индустриальной Тмутаракани не ведал. По запросу выскакивал скрин ужасного качества: Ягу еще можно разглядеть, но Вий сливается с декорациями в пиксельной судороге. Студентом Женя погуглил, чтобы освежить память тогдашней своей подружке: мол, да ладно, все помнят этот трэш! «Ага, – вспомнила. – Детский сад вторая четверть! Они ж там пьяные передачу снимали, и кто-то выблевал в прямом эфире». Типичная городская легенда, понял Женя. Точнее, телевизионная. Такие байки циркулировали на форумах. «…Сам свидетель, в восьмидесятые жил в Украине, по киевскому каналу в прямом эфире шла «Вечерняя сказка», так ведущий, дед Панас, однажды вместо «На добранич» подытожил: «Отака чухня, малята», и его уволили…» Это, конечно, было выдумкой. В одном выпуске «Курьих ножек» Вию действительно забыли опустить веко, но про Панаса – чушь.В две тысячи девятнадцатом Женя по протекции знакомого журналиста устроился на «Альтаир». Холостяк, по-прежнему жил с мамой, тот же «Панасоник» пылился в гостиной, но Женя съехал в бабушкину комнату. Для старомодной мамы «Альтаир» звучало так же, как «Останкино». Работа была связана с Интернетом. Редактор сайта, Женя должен был переформатировать репортажи под всемирную паутину, сочинять кликабельные заголовки, иллюстрировать статьи эффектными фотками, местные новости разбавлять глобальными. «Альтаир», позднее дитя перестройки, располагался в двухэтажном здании, похожем на бывшую школу. Скрипучие паркеты, протекающая крыша, оглушительно бурлящие трубы. Пластик тщетно маскировал кирпично-рыжую суть здания: отовсюду перла ветхость. Но в сумрачных кабинетах кипела творческая атмосфера, техника была современной, сотрудники приятными. Отдел кадров отправил новенького в «Юлькино царство». Так именовался кабинет в техническом крыле, между рубкой звукорежиссера и аппаратно-студийным комплексом. По забавному совпадению, все три девушки, там работающие, носили красивое греческое имя Юлия. Бонусом к ним шел животастый молодой человек, эсэмэмщик Бурдик. – Юля! – представился Бурдик, сдавив Женину кисть. – Покорпишь с мое, сам станешь Юлей. – Борь, отвянь от парня, – ворчали Юли, выстроившиеся для смотра. – Шутка! – Бурдик хлопнул Женю по плечу. – Боб! Женя подумал, что «Бобом» Бурдик себя сам окрестил, а в школе его сто процентов дразнили «Бурдюком». Юли улыбались радушно, консультировали, снабдили печеньем к чаю. – Девочки, я ревную! – страдал Бурдик. Лишний вес он компенсировал балагурством. Травил анекдоты, звал поглядеть смешной видосик. Юль – для удобства – наградил подпольными кличками. – Только в лицо их так не называй, – интимно предупредил на перекуре. У неистово кучерявой Юли, графического дизайнера, прозвище было «Человечек». Она всех в разговоре уменьшала и ласкала: «Такой человечек мимишный!» «Ухтышка, мне человечек конфетки подарил!» Губастую и смазливую Юлю, специалиста по социальным сетям, звали Йоха. «В честь Йоханссон, актрисы». Женя догадался: Бурдик сердится, что Йоха замужем, а то нарек бы Скарлетточкой. Про маленькую пухлую Юлю, тоже редактора сайта, Бурдик сказал: – ТНТ! – Она на ТНТ работала? – Не-а. – И, выдержав паузу, произнес: – Ты – дух! Дослужишься до черпака – расшифрую. И начались телевизионные будни. Операторы волокли к служебным машинам камеры и штативы, журналисты носились по коридору, шурша бумажками, в студии на зеленом фоне творилось волшебство. В «Юлькином царстве» полсотни пальцев порхали по клавиатуре, принтер сплевывал распечатки, пахло кофе… – Ну как же, – удивился Женя, поворачиваясь с офисным креслом, чтобы видеть коллег. – «Курьи ножки», детская передача. – Впервые слышу, – сказала Йоха. – «Давайте, ребята, спросим у Вия». – Что-то знакомое. – ТНТ сморщила носик, изображая активную мозговую деятельность, но быстро капитулировала. – Прости. – А когда ее показывали? – поинтересовался Бурдик. – Да в девяносто шестом… – Хах! – тряхнула кудряшками Человечек. – Я в девяносто восьмом родилась. Выяснилось, что все Юли появились на свет в конце «лихих» и не застали Бабу Ягу с Лешим Лешей. Бурдик, девяносто третьего года рождения, помнил только «Зов джунглей» и «Утиные истории». Тридцатидвухлетний Женя был самым взрослым в кабинете. – Там такая жуть, – разоткровенничался он. – Куклы старые, декорации фиговые, от одной музыки волосы дыбом вставали. – Стопэ! – перебил Бурдик. – Тебе ж тогда восемь лет стукнуло. – Ну. – И ты в восемь боялся кукольной передачи? Жене не понравился тон эсэмэмщика. Он решил, что сболтнул лишнего. – Не боялся я. Просто рассказываю, кринжовая передача была. – Психологическая травма на всю жизнь! Куколофобия! – Педиофобия, – исправила ТНТ. – Боязнь кукол – педиофобия. И вообще, отстань от человека, Боб. Бурдик отстал, но в течение часа похрюкивал: – Леший Леша! Восемь лет! «Альтаир» находился в центре города, возле детского сада и сквера. В окрестностях Женя иногда замечал чудаковатого старика. Худющий, расхлябанный, брюки болтаются на костлявых бедрах, сорочка расстегнута настежь, демонстрируя впалую грудь. Вокруг лысины – венчик седых волос, длинных, тонких и каких-то крысиных. Старик был карикатурой на старика, словно телепортировался из мультика «PIXAR». Нос – картофельный клубень, подбородок торчком, уши огромные и мясистые, беззубый рот рубцеватыми складками. Он торчал у детского сада, просунув клубень между прутьями забора. На конкурсе «чуваков, напоминающих педофилов» он обошел бы героя «Милых костей». – Черт какой-то, – сказала Йоха брезгливо. – Просто старый человечек, – жалела сердобольная Человечек. Впрочем, и у Жени не было никаких доказательств, что старик так же гадок, как выглядит. Не было – до октября. В последние теплые деньки Женя и Юля ТНТ вышли в сквер. Осенью они разобщались, нашлись общие интересы. Не то чтоб Женя положил глаз, ТНТ на его вкус была полновата, ему Йоху подавай. Но, с другой стороны, Женя был одинок, а ТНТ – веселая, заботливая. Выпив капучино, обмыв косточки Бурдику, они возвращались на канал. Вдруг Юля переполошилась: – Телефон потеряла! Редакторы ринулись обратно по аллее. Солнце кануло за тучи, тень наползла на сквер, и ветер налетел. Ветви деревьев чиркали друг о друга, как натачиваемые ножи. На лавочке, которую телевизионщики покинули две минуты назад, сидел знакомый старикашка. В руке он сжимал Юлин «Самсунг». – Это наше! – сказал запыхавшийся Женя. – Наше, – писклявым эхом отозвался Черт. Продолговатое лицо избороздили морщины, в них застряли бородавки. Было прохладно, но клетчатую сорочку старик не застегнул. «Ей-богу, Черт», – подумал Женя, в детстве избегавший этого слова. Черт-педофил, насилующий сатаненышей. Повисла пауза. Мигрирующие вороны кричали в небе. Старик задрал подбородок, выставил кадык, словно оборонительное оружие. На «клубень» он насадил очки в толстой оправе. Бифокальные линзы были залиты чем-то мутным, вроде молока или спермы, глаз не видно за стеклами. А видит ли что-то старик? Театрально воздев свободную руку, Черт ткнул узловатыми пальцами в дисплей. Телефон ожил. Юля отшатнулась: как так? Старик угадал пароль? Черт наслаждался произведенным эффектом. Он мазнул пальцем по дисплею. Замелькали фотографии, словно картежник тасовал колоду. Юля смотрела, спрятавшись за Жениной спиной. – Опля! – Черт придавил пальцем нужную «карту». Принюхался. Ноздри, червоточины в картофелине носа, скрывали засохшие козявки. Черт повернул дисплей к зрителям. Фотография запечатлела полнотелую девушку без лифчика, одной рукой она сжимала телефон, другой удерживала груди. Женя не сразу сообразил, что это Юлино селфи, что это голая Юля ТНТ позирует у зеркала. – Отдай! – взвизгнула Юля. – А то что? – спросил Черт глумливо. Изо рта вывалился язык в белом налете. Черт размашисто облизал экран, Юля всхлипнула, словно это ее лизнул мерзкий язык. Женя очнулся от шока, вспомнил, что он тут мужик и надо действовать. – Отдайте телефон! В ответ старик прижал «Самсунг» к уху. Сорочка разъехалась, показался стариковский сосок, розовый, тошнотворно длинный, как дождевой червь, наполовину вылезший из плоти. – Алло, – манерно пропел Черт. – Это Леший Леша? Где тебя носит, дети уже собрались! Женя мгновенно продрог, как девочка со спичками из сказки. Черт покивал, слушая вымышленного собеседника. Кончик языка пошленько трогал воспаленные болячки в уголках губ. Взбеленившись от собственного бессилия, Женя схватил Черта за запястье и вырвал телефон. – До новых встреч, дети! – кривлялся старик. Редакторы шагали по аллее, отдуваясь. Юля вытерла экран салфетками, но все равно держала телефон брезгливо, как что-то дохлое. – Откуда он знал пароль? – Может, по отпечаткам… – Фу, какой он гнусный! И этот голос! – Это голос Бабы Яги, – сказал Женя рассеянно. Холод ушел, теперь его щеки пылали. – Кого? – Из передачи, «Курьи ножки», я рассказывал. – Женя вообразил сцену: девяностые, Черт сидит у телевизора. Ему сколько? Сорок? Сорок пять? Он смотрит «Альтаир» и повторяет разными голосами фразы кукольных персонажей. «Вий, объясни Леше, как разблокировать чужой мобильник». Сценка пестрела хронографическими ляпами и была противной, как стариковская слюна. У входа в «Юлькино царство» ТНТ прошептала доверительно: – Жень, я вообще-то стриптизом не балуюсь. Это я один раз, для себя, дурочка, сняла. Будет уроком. – Все нормально, – сказал Женя. – Ты красивая. – Ляпнул и испугался, что комплимент совсем неуместен, но Юля только улыбнулась. Описывая приключения коллегам, они цензурировали историю, убрав всю обнаженку. А ночью Жене приснился сон. Будто он снова ребенок, укрылся с головой одеялом. В гостиной работает телевизор, в прореху, под одеяло, натекает мельтешащий свет экрана. Маму он не видит, но уверен: мама сидит в кресле и отстранено внимает поучительной истории. – Леша, какой же ты глупый! Самый глупый леший в лесу! – И вовсе я не глупый! Меня дети чаще рисуют, чем тебя! – Ах так! – Так! – Получай! – Не ссорьтесь! Цыц! Разбудите Вия! – А его и так будить пора, чтобы он нас рассудил. Правда, кикимора? – Правда, Леша! – Ну хорошо, пойду будить! «Не надо, – думает Женя, закапываясь лицом в подушку. Наволочка пахнет потом. – Не будите его, он плохой». – Веко застряло… «Перестаньте!» – Подсоби! Женя сбрасывает одеяло, чтобы сказать маме, что хочет спать, что он уже не маленький и передача дурацкая. Но в кресле вместо мамы сидит Черт. В очках, заляпанных белой субстанцией, голый, с длинными эрегированными сосками, и ноги у него волосатые и заканчиваются копытами, и рожки на голове. – Твое письмо мы получили, – говорит Черт. Когтистая рука летит через комнату, разматываясь канатом. Будильник спас Женю от растопыренных пальцев.
Через месяц после инцидента с Чертом водитель «Альтаира» Руслан окликнул Женю на проходной: – Прыгай, подвезу. «Жигуль» Руслан украсил иконами и георгиевской лентой, из бардачка торчала, как язык из собачьей пасти, партийная газета ЛДПР. – Как тебе на телеке? Год уже отпахал? А, пятый месяц! Я-то? Не поверишь, Жек. Столько не живут. Я пожар застал. – Какой пожар? – спросил Женя, опасливо пристегиваясь. «Жигуль» заносило на поворотах. – Здание наше горело, не в курсе? В декабре девяносто девятого. Тебе сколько годков? Мне поменьше было, двадцать с хером. – А что, сильно горело? – Человек в уголь превратился. В подвале у нас студийку оборудовали. Тогда все было иначе, камеры громадные, пленки. На коленке делали материал. Там баба такая работала – Лизка! Если тебе тридцать два, ты «Курьи ножки» застал. – Застал, – аукнулся Женя. А в голове аукнулся гнусный голосок старикашки, так убедительно копировавший Бабу Ягу. И где-то на задворках памяти заиграла вступительная мелодия из передачи. – «Давайте спросим у Вия»! – пропищал Руслан, крутя баранку. – Это ж Лизка сценарии писала. Актрисуля. Умная баба, эффектная. Жопа, сиськи. Я ее возил – шишка дымилась. Сечешь? Женя фальшиво улыбнулся. – Мля, я б ее чпокнул, отвечаю. Но до меня слушок дошел, что у нее онко по бабской части. Рак – не триппер, не словишь. Но трахать и плакать – не мое, ни богу свечка, ни черту кочерга. И, короче, я ее бортанул. Она поняла, не дура. Едем мы с ней, она такая: «Русик, а ты в сорок шесть умрешь». И смотрит, сука, как прожигает лазером. Мля, гляди, мурашки пошли. Говорит: «Ты пьяный на машине епнешься», – Руслан впечатленно хмыкнул. – Вот каким пророчеством снабдила, на всю жизнь запомнил. Мне сорок шесть летом, но я умирать не собираюсь. И пьяный за руль не сажусь. – А что с пожаром? – Говорят, его Лизка и устроила. Я не прокурор, не знаю. В подвале курили и выпивали. Или закоротило, или уснули с сигаретой. Или в натуре Лизка бензином плеснула, горячая была девка. И короче. Декорации занялись, подвал прогорел, ну, там бетон, вверх не пошло, успели потушить. Еле опознали Лизку. Такой у сказочки конец. Женя представил избушку Бабы Яги, объятую огнем. Вот почему «Ножки» перестали выходить в эфир. А еще он подумал, что мог бы написать статью к годовщине трагедии – главный редактор похвалил бы… Но где брать информацию? Не у Руслана же с дымящейся шишкой. – А кто еще из наших тогда работал? – спросил Женя. – Мля, да никто. Все разъехались, один я, как на галерах. А, обожди. Беленков работал! Ну, Беленков, сторож. Без руки который. С ним перетри. Я тебя у светофора высажу, годится?
Сторожа работали посменно: сутки через трое. Беленков был угрюмым здоровяком средних лет. Правую руку всегда держал в кармане, неохотно подавал левую, и Женя здоровался с ним левой рукой, полагал, так проявляет уважение. Творческие планы разбились о досадную ошибку Руслана. – Ты путаешь, – сказал Беленков, отрываясь от детектива в мягкой обложке. – Я здесь с две тысячи десятого. – И нырнул безразличным взглядом назад в книжку. Женя сразу не поверил, навел справки в отделе кадров. Все верно, Беленков пришел в десятом по квоте на трудоустройство инвалидов. Конечно, при желании можно было отыскать бывших сотрудников «Альтаира». Но пыл иссяк. И потом эти сны… Сны выбили из колеи. В среду он ссутулился за компьютером, массировал виски, надавливая пальцами на пульсирующие венки. Раздражал Бурдик, никчемно пародирующий Горбачева. Раздражали слащавые «человечки» Человечка. Йоха тараторила по телефону, разжевывала мужу, где лежит паспорт – тоже бесила. Хотелось грохнуть кулаком об стол: заткнитесь все! Как писать в таком курятнике? В кабинет влетел главный редактор. Бурдик и Юли притихли. – Евгений! Что с сайтом? – Все нормально, – встревожился Женя. – Как нормально? Господи, ребята, не маленькие же! Мышка скользила в ладони. Заголовки материалов сошли с ума. «Ч..т кий план развития инфраструктуры…» «По ч. т ный гражданин города…» «В этот ч. т верг в театре имени…» «Ч..т вертый раз с концертной программой…» – Чорт, – прошептал Женя. – Сбой какой-то. Он всматривался в цензурированные и разъятые ссылки. В последнее время он отвратительно спал. Признался ТНТ, отношения с которой так и забуксовали на отметке «обед, идем кофе пить». ТНТ посоветовала записывать сны, чтобы структурировать сигналы подсознания. Вот что у него получилось: «Нахожусь в спальне, слышу мелодию из детской передачи. Страшно, но иду в гостиную, зову то маму, то бабушку. В гостиной включен телевизор. Стараюсь не смотреть на экран. Ищу пульт, он лежит на полу у кровати. Наклоняюсь, из-под кровати выскакивает рука, когтями обдирает мне пальцы до костей. В телевизоре смеются куклы». «У меня день рождения, на торте девять свечей. Пью «Фанту» и не могу напиться. Мама дарит коробку, распаковываю, в коробке земля. Смотрю в коробку, на маму не смотрю, боюсь, что увижу не маму, а кого-то чужого. Знаю, что в коробке кукла-перчатка». «В подвале «Альтаира» пытаюсь открыть обгоревшую дверь, она открывается снизу вверх. Понимаю, что это не дверь, а огромное веко, но не могу остановиться. Слышу мелодию из детской передачи…» Законспектированные сны испортили Жене выходные. Пасмурным утром в понедельник он дописал про мелодию, перечитал, психанул и порвал бумажки на мелкие клочки. Бредя по аллее, высматривал среди облысевших каштанов бугристую голову Черта. Он не встречал старикашку с октября и был этому рад. Надеялся, что Черт околел в распахнутой сорочке.
День телевидения отмечали в пятницу. Директор произнес речь, пригубили шампанское в конференц-зале и рассредоточились по зданию. Из операторской гремел хип-хоп, из бухгалтерии доносился женский смех, журналисты жарили шашлыки за гаражом. К труженикам виртуального фронта присоединились режиссеры монтажа и выпускающий редактор. Хозяйственные Юли распаковывали контейнеры с домашними вкусностями. Человечек испекла пирог, парни скинулись на вино и «Кэптан Морган». Бурдик хорохорился: – Где вы, бабоньки, такого, как я, найдете! Не живот это, а моя большая душа! Травил плоские анекдоты и анекдотами оправдывался за плоскость: – Рабинович, вам не смешно? Смешно, так и что, мне смеяться из-за этого? Человечек захмелела от глотка мадеры: – Как же я вас всех люблю! Какие же вы все… – Человечки! – закруглил фразу Бурдик. Он полез к Йохе, но был продинамлен, поэтому обратил внимание на ТНТ. – Юленька, радость, мы с тобой полтора года душа в душу… Женя попивал виски и думал благостно: «Все ведь хорошо, славный коллектив, мама мной гордится». ТНТ выскользнула из загребущих лап Бурдика, подплыла к Жене. В нарядном синем платье, в завитках, как барашек. От нее пахло духами и лаком для волос. – Вот скажи мне, Жень, чего мужикам надо? – Это смотря каким. Юля взяла со стола бутерброд, опомнилась: «Я же на диете, заметно?» – бутерброд опустила и выбрала оливку. Потрогала ее ртом, высасывая влагу, плеснула очами, тихим населенным омутом. – Ну тебе, тебе чего надо? – У меня все вроде есть. – Поделишься? – Юля сунула ему дольку мандарина. – Закусывай! И идем прогуляемся, душно тут. Они вышли под завистливым прищуром Бурдика. – Мужикам, – рассуждала пьяненькая ТНТ, – секс нужен. Допустим, он и мне нужен, но зачем так в лоб? Можно же лаской, интеллектом. А не вот это: сразу в постель. Женя соглашался, отхлебывая мелкими глотками из прихваченного стаканчика. В коридоре царил полумрак, снаружи монотонно гудел, заглушаемый стеклопакетами, ветер. В кабинетах гомонили телевизионщики, но Женя представил, что они с Юлей изолированы от окружающих в скрипучем, обожженном здании. – Ты классный, – говорила ТНТ. – Дай локоть, у меня шпильки. Ты надежный. А мы, бабы, не ценим. Ой, икаю. Ой, дура. Же-ень. – А? – рассеянно улыбнулся он, слушая спутницу вполуха. – Же-ень, а я тебе на той фотке как? Правда понравилась? – Очень понравилась. – Хочешь меня поцеловать? Через минуту от ее помады не осталось следа. Задыхаясь, как после кросса, Юля поманила пальчиком. В конце коридора отворила дверь. – Ее никогда не запирают. Что стоишь? Они ввалились в темноту, облизывая друг друга. Вспыхнула лампочка. Помещение дробили стеллажи с видеокассетами. – Что это? – Возбуждение схлынуло, точнее, сменилось взбудораженностью иного рода. – Архив, – объяснила Юля, стягивая платье к животу. В пыльном экране отразилось деформированное лицо Жени. На телевизоре примостились видеомагнитофон и DVD-проигрыватель. – Его отцифровывают потихоньку, но тут этих кассет!.. Целуясь, они втиснулись между стеллажей. Юля выгребла из бюстгальтера грудь, притянула Женю нетерпеливо. Зловредная память подбросила образ: расхристанный Черт, длинный стариковский сосок. Наметившаяся было эрекция дала заднюю. Почуяв неладное, Юля опустилась на колени, рванула молнию, заурчала. Он уперся руками в стеллаж и смотрел перед собой. Завхоз приклеила к полкам стикеры. «1996, июнь». «1996, июль». И на кассетах были приписки: «Город и люди», «К юбилею комбината», «Курьи ножки». В пластиковом корешке Женя будто увидел Бабу Ягу, Лешего Лешу и Вия, покуда дремлющего у бревенчатой стены. Стальной обруч сковал черепную коробку. Юля высвободила рот и посмотрела снизу вверх: – Что-то не так? – Все прекрасно. – Он поднял ее и целовал, надеясь высечь искру из предательских чресл, сказал, гладя по щеке: – Давай просто постоим. Глаза девушки недобро блеснули. – Ясно! – Она выпуталась из объятий, упаковалась в кружева и атлас. – Ну, Юль. – Я двадцать три года «Юль». – И вышмыгнула за дверь. В кабинете она подсела к режиссеру монтажа, льстиво подсмеивалась и, рассказывая о чем-то, интонационно выделила слова «на полшестого» – и еще зыркнула в сторону Жени мстительно. Он собирался написать ей в субботу, но смалодушничал. Волновался, размышляя про импотенцию, включил порно и облегченно выдохнул. Мама позвала обедать. У мамы из правой руки росла тряпичная кукла. Женя отшатнулся, до крови прикусил губу. – Что такое? – Мама посмотрела на руку, на кухонную перчатку с силиконовой вставкой. – Что, сынок? – Ничего. – Он выдавил улыбку, как последние капли кетчупа из тюбика. Теперь он переживал за свой разум, а не за член. И в понедельник переживания укрепились. День не заладился с утра. Одна из трех Юль, понятно какая, встретила сухим «привет» и уткнулась в монитор. Главный редактор обругал за халатность в рабочем чате. На перекуре Бурдик весь извивался ужонком. Высмоктал сигарету, вторую. – Ну что, Жек, ты у нас нынче черпак. Знаешь, как кличка ТНТ расшифровывается? «Телочка на троечку». Женя всячески избегал рукоприкладства. Но в тот день совпал ряд факторов: бессонница и желание постоять за честь подружки. Кулак сам собой полетел в физиономию Бурдика. В полете его траектория изменилась. Вместо полноценного хука получился смазанный тычок. Потому что на мгновение Жене померещилось, что его руку венчает кукла-перчатка. Женя ошарашенно разглядывал пятерню. Бурдик – Женю. Пусть удар был и слабым, он застал эсэмэмщика врасплох. – Придурок! Я заявление напишу! – Реплика адресовалась стоявшему на крыльце Беленкову. Сторож не отреагировал, пристально разглядывая Женю. В окне «Юлькиного царства» маячили головы Юль. «Приехали», – поник Женя, под конечным пунктом путешествия подразумевая и конфликт с коллегой, и галлюцинации. Вскоре его ожидала пара сюрпризов. Юля, которую Женя для себя благородно переименовал в ТНП, угостила тортиком: косой хук потрафил даме. Настроение Жени улучшилось, он игнорировал сердитое молчание Бурдика и почти не думал о куклах. Вернее, думал, но так: «Положим, у меня эта педиофобия, ничего, жить можно, боязнь открытых пространств или лифтов куда хуже». Вечером на проходной Женю подозвал Беленков. – Ты спрашивал про пожар? – Здоровой рукой сторож подал бумажку. – Тут мой адрес, заходи завтра. – И, пресекая расспросы, скрылся на КПП.
Что Беленков живет один, было понятно сразу. Холостяцкая нора, обшитая вагонкой, не чистая, не грязная, не уютная, не страшная – серединка на половинку. Книжный шкаф, старенький диван, телевизор накрыт черной тканью, как вдова в траурной вуали. – Водку будешь? – спросил сторож. – А придется. Я в одиночестве не пью. Он принес бутылку, хлеб и колбасу на блюдце. Орудовал левой рукой, правую прятал в кармане спортивок. Выпили, Беленков обновил рюмки. – Тебе кошмары снятся? Женя моргнул. – Я с этим двадцать лет живу. – Беленков сверлил взглядом. – Я своих выкупаю. – Своих? – Я в дерьмо упал с головой, а тебе так – штанину обрызгало. Но запашок-то я чую. Снятся или нет? Куклы, огонь, мертвецы? – Куклы снятся, – сипло сказал Женя. – Это будет наш базис. Фундамент задушевной беседы. – Беленков прожевал колбасный кругляш. – Я не соврал, я на «Альтаире» с десятого года. По трудовой. Раньше склад сторожил, а еще раньше работал в кукольном театре. Актером, вот как. Удивлен? Сейчас изображаю пугало на проходной, а тогда – зайчиков, Дедов Морозов. И не было у меня этих амбиций: «Вишневый сад», «Три сестры». Зайчики – так зайчики. Амбиции были у Лизы, нашей звезды. Ей все пророчили карьеру актерскую, она и сама знала, что прославится. В кино бы снималась, сложись все иначе. – Серая угрюмость Беленкова сделалась на оттенок серей, на регистр ниже. – В девяносто пятом Лизка уехала в Москву. Целое лето – ни слуху ни духу, а осенью вернулась. Не знаю, что там приключилось с ней, но что-то очень плохое. Обманули ее крепко, может, изнасиловали. Она поменялась. Другой человек, другие глаза. Про колдовство рассказывала, что она – ведьма и всем отомстит, всему миру. Вот такая в ней обида жила, жрала ее. Мы, ну, коллектив театральный, думали, она так защищается, фантазиями. Ты водку не грей. Выпили. – Вот ты представь: жизнь твоя по швам трещит, а тебе надо на сцену выходить и детей развлекать. Лизка выходила, развлекала, но дети что-то такое чувствовали, малыши плакали на спектаклях постоянно. Я Лизке говорю: нужна нам перезагрузка, давай вон на «Альтаире» передачу свою делать. Телек все-таки – не задрипанный театр. Она: нет, нет. Потом во время спектакля у нее кровь пошла. Врачи сказали: рак. Она две недели не появлялась, и – бац – такая улыбчивая, решительная, только глаза жуткие, горящие. Говорит: идемте на «Альтаир». Мы с нее пылинки сдували: Лизонька, когда операция, что доктора говорят? А она заявляет: не будет операций. Я так вылечусь! Ну как же – так? Это же рак, страшная вещь. Она улыбается. Вылечусь-вылечусь. И села программу сочинять. «Курьи ножки». Нас было трое. Я, Лизка и Андрюша Колпаков, он был нас старше. В штате мы не числились, только над «Ножками» работали. И так мне понравилось! Свежие идеи пошли. Снова-таки, Лизка расцвела, я думаю: чем черт не шутит, бывает же, что люди выздоравливали без медицинского вмешательства. Женя перебил, осененный догадкой: – Вы – Леший Леша? – Прошу любить и жаловать. – А Вием был этот… Колпаков? – Колпаков был Ягой. Вий – это Лизка. – Да ладно! – Женя мог поверить, что Ягу озвучивал мужчина, но чтоб женщина – Вия? – Я сам обалдел. У нее этот голос изнутри грянул. Как зверь из берлоги вышел. Спрашиваю: не напугаем ли мы зрителей? «Напугаете», – подумал Женя. – Лизка сказала, мы делаем передачу нового типа. Она вообще с детьми не заискивала. Придумала свои голоса для кота, кикиморы, домового. Колпаков смастерил задник, сочинил музыку. Заставку заказали у аниматоров. Кукол Лизка пошила. Долго у нее Вий не получался. Нам нравится, а она его ножницами – чик! Не то! Ты вообще знаешь, кто такой Вий? – Чудовище. – Женя читал повесть Гоголя, смотрел фильм с Куравлевым. – Дух, несущий смерть. У древних славян был бог Вей, а у иранцев – Вайя. Это все одна лавочка. Наши предки верили, что взгляд Вия испепеляет города. У него веки опущены до земли, но черти вилами их поднимают. Женя заерзал. – Я спрашивал Лизку: почему Вий? Дети его не знают, дети знают Кощея, Снегурочку. А она зациклилась. Говорит: глаз Вия – коридор. Вся взмыленная, приносит куклу. Ты помнишь ее? – В общих чертах. – Слабый лучик света выцепил из темного угла коротыша в тряпичных лохмотьях, вязаную голову, кармашек посреди лица – веко. – Ты не то помнишь. Ты одно видел, а там было другое, изнанка. Она ему ротсделала, а во рту были человеческие зубы, детские. Я решил, что она свихнулась совсем. Она так странно себя вела, все страннее. На кладбище ездила постоянно. От нее пахло сырой землей. Но кукла – это предел! Ты такое собираешься по телевизору показывать? И где ты зубы взяла? В мусорном баке за стоматологией? Говорит: зубы молочные, мои, их моя мама сохранила. И, мол, я рот зашью, зубы никто не увидит. Час от часу не легче! Если не увидят, зачем они? Улыбается: нужны. И тогда я подумал… – Беленков помассировал переносицу. – Как сформулировать-то? Подумал, что для нее вся эта возня – не просто съемки. Что-то гораздо большее. Ритуал. – Как вуду? – спросил Женя. Водка подействовала, фантазия швырялась образами: восковые куклы, куклы из веток, куклы из костей. Языческий шабаш в обертке детской передачи. Беленков, усталый и трезвый, произнес: – Русское вуду, хтоническое и беспощадное. Полагаю, Лизка думала, это изгонит ее болезнь. И на каком-то этапе она потеряла здравый смысл. Мы находили в студии перья, узелки. Меня тошнило от этого Вия с потайными зубами. Но там были не только зубы. Однажды я взял его и ощутил что-то твердое под одежкой. Это был металлический овал с двумя дырочками для саморезов, старый и истлевший. Табличка, такие цепляют на крест. Фотография какого-то давно усопшего мужчины. Женя поперхнулся слюной. – Она украла ее на кладбище и проволокой привязала к кукле, фотографией внутрь. Я спрашивать не стал, но прочел позже, это называется «настаивать на мертвяке». Таблички кладут в воду, и это мертвая вода. Прикладывают к зеркалу, получается мертвое зеркало. – И вы никому не сказали? – Мы были друзьями, – напомнил Беленков. – И, кроме того, я стал ее побаиваться. Колпаков – тот вообще… Мол, она ему доказательства предоставила. Он с ней повадился на кладбищах ночевать, в лесах. Втемяшил себе в башку, что они видели настоящего Вия. Связался с чертом – пеняй на себя. Женя думал про малышей в небогатых квартирах девяностых, доверчивых малышей у телеэкранов. И вместо сказки им показывают спектакль, срежиссированный чернокнижницей. – Последней каплей стали письма. На адрес «Альтаира» стопками приходили письма от зрителей. И вот захожу я в избу, мы так нашу студию подвальную называли – изба. А Лизка письма ест. – Как ест? – Ртом, – сухо ответил Беленков. – Рвет бумагу, на которой эти домики, мамы-папы, солнышко – ну, что дети рисуют. Комкает и жрет, глотка, как у удава, распухла. Увидела меня и говорит с набитым ртом: будешь? В них чистая энергия, говорит. И я ушел, дверью хлопнул. А в декабре Лизка сгорела. Менты сказали, замкнуло осветительный прибор. Но, по-моему, она доигралась. – С чем доигралась? – не понял Женя. – С мраком, разумеется. – Беленков встал из-за стола. – Это же как цепного пса дразнить. – Он снял с полки стопку фотографий, положил перед гостем. – Вот мы все, еще до телевидения. Я, Лизка и Андрюша. На снимке лохматый Беленков обнимал обеими руками женщину в шароварах, подтяжках, рыжем парике. Лизка была красивой и миниатюрной, ничего общего со злобной Малефисентой, смоделированной фантазией. Нарисованные веснушки на щеках – разве так выглядят ведьмы? Колпаков, высокий мужчина сорока с гаком лет, держал под мышкой поролоновую голову волка и широко улыбался. Женька не сразу узнал его без бородавок и грязных бифокальных очков. А узнал – охнул. С фотографии ухмылялся Черт. – Я его встречал! Он трется вокруг канала! – А ночами, когда моя смена, смотрит в окошко КПП. – Беленков подвигал губами, будто сжал и разжал эспандер. – После пожара он слетел с катушек. Погубила его Лизка, и себя погубила. Был Андрюша, стал юродивый. Женя оторопело переваривал информацию: могильные таблички, поедание рисунков, иранские божества. – Утомил ты меня, – резюмировал Беленков. – Ступай. Тебе на работу завтра. – Погодите! – растерялся Женя. – Вы упоминали сны. Что мне кошмары снятся. – Иди, – отмахнулся Беленков левой и как-то мигом опьянел, поплыл отечным лицом. – Занавес опущен. – Что с вашей рукой? – Без двухсот граммов Женя не решился бы спросить. – Много вопросов задавал, – ощерился Беленков. И аудиенция закончилась.
Два дня Женя противостоял соблазну. Дома, на продутых ветрами улицах, в кровати, полной кошмаров, в кабинете с насупленным Бурдиком и девчонками. Он покупал горячий шоколад Юле, которую теперь мысленно называл «моя Юля», отличая от тезок. Она смеялась и теребила его рукав, манерно посасывала соломинку или сигаретный фильтр. Женя думал о фотографии актеров: один стал инвалидом, второй – Чертом, третья сгорела заживо. «Они видели настоящего Вия». В четверг Женя попрощался с коллегами и двинулся по коридору мимо аппаратно-студийного комплекса и гримерки. Отворил дверь в тупике, переступил порог – будто шагнул наружу из мелового круга. Лампочка зажглась, Женя прикрыл дверь и прошел к полкам. «Одним глазком, и забуду навсегда». Он выбрал декабрь девяносто девятого. Кассета «FUJI» вмещала восемнадцать выпусков «Курьих ножек». Чтобы запереться и три часа любоваться куклами, сшитыми безумной умирающей женщиной. Непослушными пальцами Женя вытряс из коробки черный прямоугольник. Кассету не перемотали, досмотрев почти до конца. Комнатушка пахла землей, или Жене так казалось. Он понажимал кнопки, долго разбирался с настройкой. Магнитофон поглотил ВХСку, зашуршала магнитная лента, запустила цепочку ассоциаций: «Звездные войны», «101 далматинец», «Матрица» и прочие фильмы, которые мама приносила из проката. Стул, хромой, как доктор Хаус, проскрежетал ножками по половицам. Женя сел вплотную к телевизору. Мелодия сперва зазвучала в его голове, потом – в динамиках. Бесхитростный клавишный перебор в семь тактов, сыграл бы и ребенок. Из-за частокола елей выскочила зооморфная изба. «Не так страшен чорт, как его малюют», – даже мысленно Женя деактивировал плохое слово бубликом «о». В коридоре кто-то засмеялся. Женя ослабил хватку воротника. Заставка сменилась декорациями. Знакомый до дрожи профиль луны в окне, Баба Яга и Вий. Отсутствие в кадре Лешего Леши могло быть связано с дезертирством Беленкова. В наказание ковен уволил аватар предателя. – Добро пожаловать в нашу избушку, дети! Без вас тут совсем темно, и мы играем в темноте… Голос Черта разлился по коже холодком. Женя фиксировался на деталях, которые упускал в детстве: неряшливая картинка, затрапезный облик Яги, поскрипывание, выдающее суфлера-кукловода. «Под столом сидит Чорт». Женя поежился. – Спасибо за ваши письма, дети! Нам та-ак приятно! Без них мы бы умерли от скуки, правда, Вий? А, ты еще спишь! Позади Яги, как мумия короля на троне, восседал Вий. Женя покрылся испариной. Если верить Беленкову, вязаная голова прятала молочные зубы. Под лохмотьями лежала табличка, отковырянная с могильного креста. Неужто маленький Женя это чувствовал, улавливал эманации и оттого дрожал? Глаз Вия – коридор. Портал из подвала «Альтаира» в квартиры детей… – Сейчас я покажу вам мой самый любимый рисунок. А вы хлопайте, ладно? Понравится – хлопайте, нет – надуйтесь, как морские ежи! – Баба Яга хихикнула. – Вот и он! Экран заполнило детское художество. – Я слышу ваши аплодисменты! Посмотрите, как здорово нарисовал наш зритель маму! Это же мама, да? «Нет, – подумал Женя, остолбенев. – Это не мама, это Иисус». Женоподобного Христа Женя в меру таланта скопировал из детской Библии. Христос был подарком бабушке на день рождения. Двадцать два года Женя не видел рисунка, но безошибочно его узнал. – А кто же автор этой картины? Женечка! Какой ты, Женечка, талантливый мальчик! Мы приглашаем тебя в нашу избушку, приходи и познакомься с Вием! Одинокий зритель в душной комнатушке отрицательно мотнул головой. – Настало время разбудить Вия и показать ему Женечкину картину! На периферии зрения что-то мелькнуло. Тьма зашуршала между стеллажей. Там, где размагничивались никому не нужные кассеты и кружились потревоженные пылинки. Где настоящие ведьмы ползали по могилам и настоящие черти облизывали черные рты. – Ты видишь? Женя взвился, дернул штепсель, надеясь, что магнитофон зажует пленку.
Маму он застал у плиты. – Сынок, на тебе лица нет! Ты захворал? На работе все нормально? Женя убрал руку, тянущуюся к его лбу. – Ма, помнишь, была такая передача – «Курьи ножки»? Ты случайно никаких писем не посылала на канал? – Ой. – Мама улыбнулась виновато. – Представляешь, посылала. Женя поник. Сам не знал, отчего накатилась слабость. Ну посылала, и что? Столько лет прошло, какая к чорту разница, что его мазню, возможно, съела неадекватная женщина? Лизка съела Христа. – Хотела тебе сюрприз сделать. Каждый день включала эту передачу, ждала, что рисунок твой покажут. Но не показали почему-то, аж обидно. – Мама всплеснула руками: – «Курьи ножки», да. Ты так их любил. – Никогда не любил, – пробормотал Женя. – Терпеть не мог. – Да? Он вышел из кухни, а мама окликала: – Кушать садись! Я суп капустный сварила!
Убранство сторожки состояло из дивана, стула, стола, переносного радиатора. На крючках висели ключи от кабинетов – почти полный набор, сотрудники уже разбрелись по домам. Монитор транслировал зернистую картинку с наружной камеры. – Вы что-то скрыли, – атаковал Женя с порога сторожки. Беленков захлопнул книгу. – Стучаться не учили? – Вы говорили про кошмары. Мне куклы снятся. – Женя зашлепал ботинками по линолеуму, будто топтал подошвами отвратительные сны. – Объясните мне!
– Так и быть. – Сторож убрал книгу – по стечению обстоятельств это был томик фантаста Хайнлайна, «Кукловоды». – Я солгал. Я ушел не из-за писем. Письма не были последней каплей. Я сбежал из-за просьбы Лизки. – Беленков вынул из кармана руку. Женя заметил, что левый рукав его толстовки закатан манжетой, а правый свисает пустышкой, слоновьим хоботом. – Лизка сговорилась с нечистой силой. С чем-то в лесу или на кладбище. Она продала свою душу и души детей, которые присылали нам письма. Жене хотелось закричать, что это сказки, глупости, но рот пересох, язык прилип к небу. – Лизка просила, чтоб после ее смерти я держал куклу Вия у себя. Я отказался. Я уже верил ей, я уже видел… – Видели что? – Чертей. – Беленков посмотрел Жене в глаза. Пол под ногами качнулся, будто сторожка приподнялась и пошла на птичьих ножках. Это подогнулись Женины колени, но почему тогда ключи зазвякали на крючках? В смежном помещении, вероятно, туалете, забурчал унитазный бачок. И словно что-то промчалось на мониторе: то ли птица едва не задела камеру, то ли снежный вихрь. «Не слушай его, он пьяница, он допился до пластилиновых ч. тиков». Но Женя слушал. – Лизка сама устроила пожар. А может, ее заставили те покровители, которые дали ей лишние пару лет жизни. Она сожгла себя. Но нас – меня и Колпакова – она тоже уничтожила. Беленков закатал рукав. Культя напоминала вареное тесто, хинкали. Из собранной складками шкуры проглядывала начинка цвета сыра сулугуни – кость, эпифиз. Женя внутренне сжался. – Я видел куклу. Видел Вия на своей руке. Он требовал поднять его веко. Он сказал: дети рано или поздно придут в избушку. – Вы же не взаправду, – прошептал Женя. – Я избавился от руки. – Беленков подвигал обрубком. – Взял болгарку и… За окном хороводили тени, будто призраки собрались у ворот или что похуже на букву «ч». Бабушкина подруга хвасталась, что как-то в Прибалтике, в Каунасе, посещала музей, посвященный ч…м, а бабушка хмурилась и норовила сменить тему. Рассердилась: ну хватит, Ленка, «этих» поминать. Подруга и не поняла, кого – этих. Беленков потрогал культю, словно в пупок палец сунул. – Вы понимаете, – вспыхнул Женя, – что это бред? – Пытался понять. В психушке себя уговаривал: ты болен. Почти поверил. А потом сюда устроился. Думаешь, то, что ты здесь оказался – совпадение? Она нас запрограммировала! Попробуй бороться – черта с два! – Психушка! – воскликнул Женя в сердцах. – Все ясно! – И выбежал из сторожки за ворота. Расчищенная экскаваторами дорога таяла в дымчатой полутьме. По верхушкам сугробов гуляла поземка. Завибрировал телефон, звонила Юля, посол нормальности в лихорадочном мире зубастых кукол, отпиленных конечностей, сожженных ведьм. – Привет! – Женя лодочкой озябшей ладони загородил телефон от ветра, будто нес свечу. – Привет, дружок-пирожок, – проворковала Юля. – Ты на работе еще? Женя оглянулся на ворота: – А ты разве не ушла? – Куда ж я без тебя уйду. Я тебе сюрприз приготовила. Спускайся в подвал. И связь прервалась. Женя смотрел на экран так же, как смотрел бы пещерный человек, найди он под кустом мобильник, оброненный путешественником во времени. Женя приплясывал на промозглом ветру. Куда-то подевались пешеходы, автомобили проносились железными зверюгами. Камера бездушно наблюдала за танцами продрогшего человека. «Запрограммированы», – пиликнуло подсознание. Женя ругнулся и посеменил к воротам. В прозрачной будке сторожа застыл инвалид. Монитор озарял левую половину лица, правая половина обуглилась тьмой. Двор притих. В запертых кабинетах спали компьютеры, только выпускающий редактор контролировал эфир на втором этаже. Вход в подвал находился с торца здания. Женя неуверенно толкнул дверь. Проем был рассчитан на хоббитов. Понимая, что совершает роковую ошибку, Женя пригнулся. «Хватит бояться», – дискутировал он с маленьким мальчиком, который, как ч. ти ладана, страшился ч. тей, даже ч. тово колесо называл «колесом обозрения». В глубине подвала горел свет. Штукатурка осыпалась, пауки устроили зимовье в углах. Под потолком змеились, червились провода. – Юлька! – позвал и сам себя не услышал. Вбок уходило длинное помещение с земляным полом. Трубы, куски шифера, плесень. Вниз спускалась лесенка. Ч..това дюжина бетонных ступенек. Женя сказал себе, что не взвизгнет, когда Юля выскочит из темноты, как ч. тик из табакерки. Она же разыграть его решила, подшутить, а потом отдаться здесь, а он возьмет, еще как возьмет, реабилитируется… За углом была дверь. Женя скрипнул металлической створкой. То, что он увидел, буквально обесточило мозг. К закопченной кирпичной стене привалилась фанера с нарисованными бревнами, с фальшивым оконцем и знакомой луной. Черный потолок, голый пол, массивная камера SONY на треноге. Камера испытала на себе губительное воздействие высоких температур, оплавилась, застывшие сопли пластика оплели штатив. А вот светодиодная панель, освещающая задник и человека, стоящего на импровизированной сцене, была новенькая и целехонькая. Женя вспомнил, что такая панель пропала из операторской летом. Человеком перед сломанной камерой был Ч..т. Правую руку он спрятал за спину. Поверх сорочки накинул бушлат, но очки так и не протер. Говорят же: ч. т, во что ни нарядится, все ч. том останется. Морщинистое лицо лоснилось, с реденьких волос капало. К ароматам погреба и пепелища примешивался запашок горючего. Глядя в объектив, Ч. т мурлыкал голосом Бабы Яги: – И увидел Вий, что Лизавета Могиловна исполнила уговор, и забрал ее к себе в нору через огненные врата. Нынче она хозяюшка в доме его, с чертовой бабушкой оладушки ест, костный мозг сосет. Женя ошеломленно таращился на старика. Штука, называемая по-латински «рацио», требовала, чтобы он бежал прочь, но ноги приросли к бетону. – Как вы тут оказались? – спросил Женя. Лукавая улыбка исказила губы старика. – Просочился, голубчик. Оно ведь как? Черт и в пташку превращаться умеет, и в червя, и в мыша. Было бы болото, а черти будут. Слово на «ч» резало слух. – Где Юля? – А мне почем знать? Дома, наверное. Не в моей она юрисдикции. Женя одеревенел. Голос принадлежал Юльке, но доносился из беззубой пасти старика. Не отличишь от оригинала. – В такой вечер по подвалам только черти рыскают. Гуляйте, черти, пока бог спит! – на последней фразе старикашка вернулся к голосу Яги. И пояснил в камеру: – Юрисдикция, дети, это право производить суд. Женя давно зашвырнул на антресоль веру в создателя: немодный, пахнущий церковью, ладанкой, миррой бабушкин хлам. Но в тот миг траченная молью вера вновь пришлась ко двору. Женя увидел детей. Они теснились на грязном полу, где минуту назад было пусто и голо. Мальчики и девочки с бледными лицами и отрешенными глазами, маленькие зрители «Курьих ножек». Бетонные стены раздавались вширь, чтобы их вместить. Дети сидели, обхватив коленки руками, и неотрывно смотрели на сцену. Они мерцали. Трепыхались зыбко, как крылья мотыльков или картинки тауматропов. – А, – обрадовался Ч..т. – Увидел? Это души, миленький. Все, кто письма Вию писал, все, кроме одного. – Нет, – прошептал Женя. Ч..т хрюкнул. – Я тоже думал, он столько не съест. Съел, не подавился. По ребеночку в месяц. Строго-настрого. Несколько зрителей оторвались от Ч. та и скользнули по Жене безразличными взорами. Двадцать лет… каждый месяц… выходит, двести тридцать девять душ. Сначала крошки. Потом повзрослее. Ровесники Жени. Ч..т улыбнулся, озирая паству, как уходящий на пенсию учитель – выпускной класс. Заговорил, не голосом Яги, не голосом Ч. та, а усталым голосом Андрея Колпакова: – Вот и до тебя, последнего, добрались. Извини, что так долго, картинка твоя с Исусиком нам правда понравилась. Я сам утомился, работы непочатый край. Пора мне к Лизавете присоединиться, на червивых перинах возлечь у Виевых копыт. Уж подкормили мы его! – Старик щелкнул пальцами, чиркнуло, ноготь воспламенился. Синий газовый язычок. Колпаков осенил себя богохульным крестом, от пупка к плечам, коснулся лба горящим пальцем. Голова вспыхнула, как сера. Огонь объял волосы. Женя решил, это сон. Тень старика, тень изуверского Чиполлино, тряслась на стене. Сами собой полыхнули декорации. Пламенеголовый жестом фокусника выпростал правую руку. На кисть была нанизана кукла. Вий выглядел так, словно все эти годы провел в земле. В маленьком ротике белели плотно посаженные молочные зубы. – Давайте спросим у Вия! – закричал Ч. т, откидывая вязаное веко. Вместо глаза в морде куклы зияла дыра, и она устремлялась вглубь мироздания алой пульсирующей червоточиной, светилась, будто поезд приближался по тоннелю. Кольская сверхглубокая скважина, шахта русского ада, ненасытный зев. Жене показалось, что он – освежеванная свинья. Ледяной Плутон, бессмысленно вращающийся по орбите в миллиардах километров от солнца. Моча брызнула по ногам. Ч..т упал на колени. Лицо его булькало и пузырилось. Очки свалились с переносицы, открывая глаза – две заплесневелые лунки. Пламя объяло бушлат, но старик улыбался. Он сказал, обращаясь к дверному проему: – Лешка! Где ж ты пропадал, негодник! Беленков оттолкнул Женю. Пересек комнату; мерцающие дети исчезли, но Женя знал: они всегда будут здесь. Ч..т рухнул на бетон, стремительно прогорая. Перчатка слетела с руки и лежала, скаля зубы. Беленков пинком отфутболил куклу в огонь. Она ударилась о пылающий задник, брызнули искры. Сторож схватил Женю за локоть и потащил прочь.
Девятнадцатый год закончился. Наступил двадцатый. Горожане долго обсуждали самосожжение безумного Колпакова. Сотрудники «Альтаира», присматриваясь к свидетелю того кошмара, словно тщились разглядеть в нем непоправимые перемены. Человечек угощала пирогами, Йоха – пресными самодельными конфетами, третья Юлька увивалась вокруг, будто руно из заботы ткала. Беленкова Женя больше не встречал: сторожа уволили за халатность, дескать, в подвал запускал кого ни попадя. А вскоре и Женю уволили: он избил Бурдика на глазах Юль, за какую-то шпильку накинулся. Юли уговорили Бурдика заявление не писать. Но к Жене поостыли. Про увольнение мама узнала только в феврале. Целый месяц Женя уходил из дому утром, покупал баночное пиво и прятался в подъезде. Денежный запас мельчал, он перешел на пиво из пластиковых баклажек. Разнообразил досуг ежедневной чекушкой. Как Женя ни скоблил себя в ванной, от кожи отчетливо пахло сырой землей. Мама недоумевала, проветривала квартиру, заглядывала под кровать в поисках источника смрада. Как-то в парке Женя познакомился с компанией, его угостили водкой, смеялись: «Мужик лишь пиво заварил, а черт уже с ведром». Слово за слово, двинули к Жене в гости. Вернувшись с работы, мама обнаружила бесчувственного сына: его опоили клофелином, квартиру ограбили. Кое-что из техники мама нашла в ближайшем ломбарде, выкупила. Но летом Женя уже сам вынес компьютер и телевизор, мамины украшения, ковры. За сто пятьдесят рублей продал комнатную пальму. В августе Руслан, штатный водитель «Альтаира», разбился на своем «жигуле». Женя спал на лавочках, его били и грабили малолетки, он сам ограбил какого-то мужичка и схлопотал условный срок. Ночами мама рыдала за стенкой. Он резал себя ножом, но не чувствовал боли. Копающимся в мусорных баках его застали Юли: девочки выбежали из суши-бара, окатили шокированными взглядами. Юля, с которой он целовался в прошлой жизни, прикрыла лицо ладошками и прошмыгнула мимо. – Бедный человечек, – донеслось до ушей. Женя вынул из контейнера бутылку и вылил в рот пивную пену.
Троллейбус волочится заснеженным проспектом. Мигают гирлянды. Пассажиры, хорошенькая брюнетка и ее бойфренд, отклеились друг от друга, принюхиваются. Женя сидит в хвосте троллейбуса. Шапка набекрень, ватник в пятнах рвоты. Рука обмотана целлофановым пакетом. – Фу, давай пересядем, – кривится брюнетка. Они идут по салону, парень бросает брезгливо: «Какой-то черт». И Женя соглашается, шевелит пальцами, писклявым голосом одушевляет пакет: – Черррт! А бывает, Женя подходит к прохожим, присматривается, ищет таких же, как он. Понимает: из двухсот сорока многие пали в уличных драках, загнулись от наркотиков, выхаркали легочную ткань на нарах, на койках больниц и ночлежек. Но кто-то выжил, и по городу ходят рано постаревшие мужчины и женщины с помятыми лицами, с запахом земли и перегара. С такими пустыми глазами, будто у них изъяли какую-то очень важную часть. Будто их души навек заточены в подвале, в закопченной бетонной избе. Глядят, не мигая, на сцену. И маленький Женечка там, среди них. В темноте.
Владимир Чубуков Самая страшная книга. Прах и пепел
© Владимир Чубуков, текст, 2025 © Валерий Петелин, иллюстрация, 2025 © ООО «Издательство АСТ», 2025* * *

Предисловие

Horror [хоррор, ужас] – слово латинское, но шло оно к нам из латыни очень долго и окольными путями. Латынь уж давно умерла, а слово все ползло по горам, по оврагам, по океанскому дну. В XIX веке, в золотой полдень русской литературы, никто у нас никакого «хоррора» еще не знал, хотя латынь изучали с детства, и уже были написаны шедевры ужаса – «Вечер накануне Ивана Купала», «Вий» и «Страшная месть» Гоголя, «Семья вурдалака» и «Упырь» А. К. Толстого, «Сон» и «Рассказ отца Алексея» Тургенева и не только. Лишь в последние десятилетия слово, дав чудовищный крюк, доползло до нас, успев обрасти полипами коннотаций. Жанр ужаса, или хоррора, – явление не новое на Руси, в классическую литературу оно вошло вместе с Пушкиным и Гоголем, а прежде них встречалось и в церковной письменности, и в фольклоре, разве что имя свое получило недавно. Но верное имя найти – это лишь полдела, следует еще и фамилию определить, ведь при одинаковых именах фамилии могут различаться. Поэтому сейчас у нас не один хоррор, а целая толпа хорроров – все тезки с разными фамилиями. Есть хоррор, который уходит корнями в творчество Эдгара По и Амброза Бирса. Другой хоррор следует традиции Говарда Лавкрафта, Августа Дерлета, Кларка Эштона Смита. Третий хоррор уходит корнями в Стивена Кинга. Четвертый – в Клайва Баркера… Таких фамилий много, они то идут параллельно друг другу, то пересекаются в брачных связях. Поэтому, прежде чем начнете читать мои рассказы, хочу дать вам некоторое представление о том, что вас ждет. У моего хоррора русские корни: Пушкин, Гоголь, Одоевский, Достоевский, Тургенев, А. К. Толстой, Гаршин, Куприн, Сологуб, Андреев, Булгаков, Хармс, Платонов, Л. М. Леонов, Набоков, Мамлеев. Но отростки корня тянутся и в чужую почву – к Гофману, По, Блэквуду, Майринку, Конраду, Кафке, Лавкрафту, Сартру, Кортасару, Ф. К. Дику, Павичу, Лиготти. Не буду говорить про каждый рассказ сборника, лишь про некоторые из них скажу кое-что. Первый рассказ «Вечное возвращение» зародился на том самом зловещем пустыре, который в нем описан, когда я с тревогой озирался по сторонам, проходя эту пустошь. Концепция ницшеанского Ewige Wiederkunft – Вечного возвращения – как-то сама собой спроецировалась на библейско-эсхатологические представления о воскресении мертвых в телах с новыми свойствами, возможно чудовищными. «Тень моего брата» – выполз на свет из детских страхов перед гипнозом. В детстве я слышал полный ужаса рассказ человека, попавшего под гипнотическое воздействие, и часто представлял, а что же будет со мной, когда я сам попаду под власть гипнотизера? «Дыра» – плод чтения научных докладов академика Владимира Михайловича Бехтерева, чьи идеи я перенес в рассказ, правда, придав им кошмарный оттенок. «Секретарь» – плод чтения русской монашеской литературы XIX и начала XX веков: дневники, письма, биографические сочинения, монастырские летописи. Это целый культурный пласт, малоизведанный и залегающий рядом с пластом русской классики, но при этом едва-едва с ним соприкасающийся. «По течению Обратного года» – плод моей любви к Гоголю и Куприну, попытка скрестить мотивы двух классических шедевров – гоголевской «Страшной мести» и купринской «Олеси». «Дверь в восточной стене» – результат погружения в философию индуизма, в которой под ведическими завалами можно узреть кошмарные глубины, полные предвечного ужаса. «День открытых могил» – опыт соединения двух редких жанров некрофутуризма и некроапокалиптики. Последний рассказ «Имя» – родился из жутковатых историй о том, как в девяностые годы поступали в роддоме моего родного города с мертворожденными младенцами, если родители не требовали выдать им тело. Пока не поздно, пока вы не приступили к чтению, должен вас предупредить: в моих рассказах вы можете столкнуться не только с мистической жутью и загробным ужасом, но еще и с некоторыми крайне неприятными деталями, которые могут шокировать особо впечатлительных читателей. Надо знать, что понятие horror подразумевает не только жуткое, страшное и кошмарное, но еще и отвратительное. Horror – это не гладкая асфальтированная дорога, но петляющая по лесам и пустошам тропа, ездить по которой опасно: иногда так тряхнет, что желудок подступит к горлу и до крови прикусишь язык. Но ведь удовольствие заглянуть в лицо кошмарам стоит того, не так ли?
Вечное возвращение

На Взлетке, недалеко от заброшенного аэродрома, открылся гипермаркет «Лента». Ближайшие жилые дома, стоявшие на южной окраине 14-го микрорайона, отделял от «Ленты» обширный пустырь. Через него-то и ходили в гипермаркет и обратно местные жители, протоптавшие отчетливую тропу.

Багрянцеву пришло рекламное СМС-сообщение о том, что «Лента» на Взлетке начала работать по ночам, что в течение двух ночей, с нуля часов до шести утра, будет действовать двадцатипроцентная скидка на все товары, кроме тех, разумеется, что участвуют в других акциях. Он как раз собирался спать и раскладывал диван, когда мобильник тренькнул сигналом входящего сообщения. Прочитал новость; сонливость тут же выветрилась. До «Ленты» идти минут пятнадцать или чуть больше, полночь наступит через тридцать пять минут, значит, как раз пора выходить, – соображал Багрянцев, одеваясь второпях. Шел, как обычно, через пустырь. Можно было пойти длинным путем – по дороге, что размашистой дугой подходила к гипермаркету, но этот путь Багрянцеву не нравился. По одну сторону дороги длинный ряд гаражей, по другую – забор новостройки; никаких тротуаров, идти приходилось прямо по проезжей части, а там развели грязищу, которая в сухую погоду превращалась в толстый слой пыли. Дорога через пустырь и чище, и короче. Хотя в последнее время какое-то неприятное чувство посещало Багрянцева на пустыре, и он в этом чувстве никак не мог разобраться. С удивлением увидел, что с левой – по ходу движения – стороны от тропы возникло на пустыре прямо-таки болото. Откуда? Почва там каменистая. Даже после сильных дождей никогда в тех местах не скапливалась вода. Может, грунтовые воды пробились к поверхности? Впрочем, Багрянцев решил: болото – так болото, и черт с ним! С болота тянуло мерзостной сыростью. Казалось, восточный ветер, срывавшийся с гор, пролетавший над бухтой и коченевший в пути, попадал на болоте в лабиринт, где разбивался на тонкие злые потоки, под разными углами вырывавшиеся к тропе. Багрянцев шел, а его словно касались щупальца невидимых тварей, как будто он – живой товар, проходящий через ряд покупателей, что придирчиво примеряются к нему в раздумье: не взять ли нам его? Поеживаясь, дошагал до гипермаркета. И вот тебе раз! Путешествие, оказывается, было напрасным. Створки входной двери не раздвинулись перед Багрянцевым. «Лента» не то что не работала ночью, но даже закрылась на полчаса раньше обычного: бумажка с цифрами «23:30» залепила собой четыре нуля на объявлении о времени работы магазина. Перечитав еще раз эсэмэску, раздосадованный Багрянцев заматерился и двинулся в обратный путь. Не сразу он понял, что воздух на пустыре теперь неподвижен. И встал над болотом туман, которого не было там каких-то пару минут назад. Около «Ленты» вился пронизывающий ноябрьский ветер, а пустырь словно накрыло стеклянным колпаком. Воздух над пустырем был спокоен, как застоявшаяся вода. И не сыростью, не холодом тянуло с болота – чем-то другим. Худшим. Багрянцев остановился на тропе, развернулся в сторону болота. Всмотрелся в залитый лунным светом пейзаж, смазанный туманной дымкой. Даже принюхался, шумно втягивая ноздрями воздух. И понял, как назвать то, что так не нравилось ему здесь в последние дни. Сейчас оно усилилось, стало явственным, почти осязаемым, уже доступным для именования. Это был страх. Будто густой смрад, он выползал с болота на тропу, окутывал, обволакивал, просачивался сквозь поры под кожу, заползал в легкие, тошнотворной паутиной касался сердца. Вверх от ступней побежали судороги – такие частенько случались у Багрянцева от холода, – но сейчас, поднявшись до колен, судороги не остановились, как обычно, а поползли выше, добрались до самой шеи, которую тут же покосило набок, и перекинулись на лицевые мышцы. Багрянцев хотел сорваться с места и побежать, но подвели ноги, деревенеющие от спазмов. Он едва ковылял, чувствуя, как смыкаются челюсти страха. Когда Багрянцев почти добрел до конца тропы, в полусотне метров за его спиной выбралась из болота тень. Бесформенный темный сгусток зашевелился, поднимаясь и приобретая человекообразные очертания. Багрянцев не видел его, но меж лопаток скользнула ледяная змейка. Он застыл в дурном предчувствии. Обернулся, заметил шагающий к нему силуэт и лихорадочно заковылял прочь. Темная фигура шла медленно, как идут под водой, преодолевая сопротивление среды. Казалось, сами законы нашего мира желали исторгнуть прочь это чужеродное существо. Фигура конвульсивно подрагивала, кривилась, слегка расслаивалась на сегменты разной плотности, как бывает с телевизионным изображением при плохом сигнале. Через каждые пару-тройку шагов фигуру немного сносило назад, словно ее движение переключалось на реверс, но тут же, выправившись, продолжалось в прежнем направлении. Когда пустырь закончился, идти стало легче. Боль в ногах почти унялась, шаг ускорился. Багрянцев прошел через асфальтированную площадку, которую водители маршруток облюбовали для конечной остановки. Сейчас она была пуста. Прошел мимо закрытого продуктового магазина в нижнем этаже высотки, ближайшей к пустырю. И подивился: да что ж так темно?! Совсем недавно, когда он шел в сторону «Ленты», здесь горели уличные фонари, в домах светились окна, витрину закрытого продуктового магазина озаряли гирлянды мигающих зеленым и красным светодиодных лампочек, но теперь светила лишь луна, да в нескольких окнах ближайших домов болезненно теплился тусклый, явно не электрический, свет. Багрянцев прошел мимо кафе, в котором каких-то двадцать минут назад справляли свадьбу. Но сейчас кафе было закрыто, и даже автомобильная стоянка перед ним опустела. «Сволочи!» – с неожиданной злобой подумал Багрянцев и представил с мрачным удовольствием, как в разгар свадьбы отключается электричество, кафе, заполненное празднующими людьми, погружается во тьму, и те, гремя стульями, чертыхаясь и светя перед собой мобильниками, пробираются к выходу, чтобы рассесться по машинам и спешно разъехаться. Тут же заметил, что думает об этих незнакомых людях так, будто они в чем-то провинились перед ним. Приближаясь к своему дому, Багрянцев озирался – не маячит ли позади темный силуэт, – но никого не заметил. И отсутствие преследователя, вместо того чтобы успокоить, внушало тревогу, от которой слегка подташнивало, будто в желудке копошились чьи-то холодные пальцы. Вошел наконец в подъезд. Здесь тоже не было света. Пришлось подниматься темными лестничными пролетами на шестой этаж. На подходе к третьему началась одышка. Сердце колотилось. Да еще темень могильная. Поднимаешься по ступенькам, а кажется, будто мучительно выкапываешься из земли, из какой-то обвалившейся шахты. В мобильнике фонарика нет, экран маленький, света почти никакого, ноги приходится ставить наугад, идешь как по сгущенной темноте, в которую, того и гляди, вдруг провалишься, словно в трясину. Где-то в глубине и внизу, в непроглядной тьме, стукнула, захлопываясь, металлическая дверь подъезда. Кто-то вошел с улицы. Багрянцев замер. Прислушался. Было тихо, словно вошедший тоже замер и прислушивается. Ужас ползал у Багрянцева по коже, извивался, кишел, будто рой насекомых. Дьявол! Это ведь тот зашел, думал Багрянцев, тот самый! Сколько мне еще осталось: этаж, два? От волнения не мог сообразить, на каком этаже остановился. Шумно двинулся с места. Поднявшись на площадку перед квартирами, лихорадочно начал кромсать темноту гнилушным светом дешевого мобильника, пытался рассмотреть номер квартиры на ближайшей двери. Так… «пятнадцать»! Значит, еще этаж. Задыхаясь, Багрянцев поднимался, а из колодца, расчерченного ребрами лестничных пролетов, словно из глубокого нутра огромного чудовища, текли вверх ледяные испарения страха. Что-то шевелилось далеко внизу, шуршало, как наждачная бумага, электрически потрескивало, чуть слышно шипело. Нельзя было понять: раздаются ли те звуки с самого дна, приближаются ли вместе со своим источником? Впрочем, не важно, решил Багрянцев; еще есть фора в несколько этажей, он обязательно успеет. Дошел. Вот она, родимая! Дверь, массивная, металлическая, пусть некрасивая, даже уродливая, но зато прочная. Трясущимися пальцами вставлял ключ в скважину. Мучился, не получалось. Наконец открыл-таки. Ввалился внутрь, с грохотом захлопнул дверь. Плевать на соседей, не до них! Торопливо закрутил ручку замка, клацнул засовом. А ведь как хорошо, что поставил этот засов, просто здорово! И отправился, не разуваясь, искать свечку в темных недрах квартиры. Потом в грязно-маслянистом свете, со стеариновой свечой в руке вернулся в прихожую, прижался ухом к двери, застыл и настороженно слушал. Ничего. Тишина полная. Даже слишком полная. И плотная. Какое-то вязкое варево безмолвия. Странная мысль пришла: сейчас там, за дверью, настолько никого нет, никого и ничего, что нет даже… никого и ничего, совсем никого и ничего, лишь черная бесконечная пустота, и если открыть дверь и шагнуть наружу, то провалишься в эту пустоту и будешь падать вечно, уже не остановишься нигде, никогда, и это будет вечная смерть, дна которой никогда не достигнешь. Он стряхнул с себя оцепенение. Вновь прислушался к тишине. За дверью – точно! – кто-то был. Неслышимый, беззвучный, стоял на лестничной площадке, не дыша, не подавая признаков жизни, не тревожа тишины, как бы и вовсе не существуя. Только один признак, по которому можно было угадать его присутствие, – ужас, что сочился сквозь дверь. Не сразу ведь и заметишь, не сразу разгадаешь суть этих утонченных веяний, которые кажутся поначалу дуновениями тишины, легкими колебаниями в пустоте. И когда они уже обволокли, с запозданием понимаешь: это дыхание ужаса. Его флюиды. Призрачные пепельные лучи, сочащиеся меж атомов металла, из которого вылита дверь. Проходящие насквозь, впивающиеся, помрачающие душу. Багрянцев отступил от двери, задыхаясь в ужасе. Огонек свечи плясал в его дрожащей руке. В грузном шевелении теней чудились движения каких-то грандиозных челюстей, перемалывающих само бытие с его физикой и геометрией. Излучение ужаса, проникавшее сквозь дверь, казалось, состояло из рук или щупалец, и они шарили в пространстве, отыскивая человеческое сердце, беззащитное внутреннее «я». Багрянцев почувствовал на себе взгляд. Страшный, пристальный, проникающий сквозь металл, полный запредельной злобы, обжигающей ненависти, липкой людоедской похоти и странного безумия, в котором разум не угасал, но диким образом выворачивался наизнанку. От этого взгляда хотелось забиться в самый дальний угол, в тесную скважину, в глубокую трещину, затаиться там и слиться с небытием. От существа с таким взглядом, понял Багрянцев, ни за какой дверью не скрыться. И когда он это понял, то понял и то, что взгляд прочел его мысли. В ответ на них существо за дверью расхохоталось. Кошмарный хохот раздался в голове у Багрянцева. Вращался там, будто шестерни и лезвия пыточного механизма, кромсал разум изнутри, вызывая дрожь по всему телу. Немеющей рукой поставил Багрянцев свечу на тумбочку, обхватил голову ладонями, опустился на колени и стоял так перед входной дверью, дрожа от ужаса, настолько сильного, что он превратился в священный трепет и благоговение. Сходя с ума, Багрянцев согнулся скобой и поклонился лицом в пол тому существу, что стояло за дверью. И существо шагнуло вперед, легко прошло сквозь дверь, как сквозь галлюцинацию, и встало перед скрюченным в поклоне человеком. Свеча, упав с тумбочки, погасла. Но вошедшего можно было видеть и в темноте. Его тело не источало никакого свечения, наоборот, оно было соткано из тьмы, поглощавшей свет, из тьмы, настолько бездонно-черной, что, по контрасту с этой тьмой, обычная темнота казалась каким-то полусветом. Возможно, существо источало ментальные волны, которые Багрянцев воспринимал непосредственно мозгом, без помощи глаз. По крайней мере, он чувствовал, что неким неестественным образом одновременно и видит, и не видит вошедшего. Существо велело Багрянцеву встать. Велело без слов, одним шевелением воли. Он подчинился. Оно вошло в комнату, он – следом. Затем Багрянцев почувствовал безмолвное повеление лечь на пол. Лег. Существо уселось в кресло. Лунный свет проникал в комнату через окно, но, падая на тело существа, проваливался, словно в пропасть. Внешний вид существа непрестанно менялся, переливаясь из образа в образ. Фигура, в общем и целом, человеческая, но на деталях невозможно сфокусироваться. В них мешалось и людское, и звериное, и насекомое, и нечто совсем уж небывалое. Калейдоскоп сменявшихся подробностей одновременно завораживал и отталкивал. Общим знаменателем во всем этом хаосе было какое-то леденящее величие, смешанное с дикой злобой. Багрянцев безвольно лежал перед фигурой, сидящей в кресле, ожидая своей участи. Чудовище задумало совершить с ним что-то страшное и готовилось к этому, погрузившись в транс. Багрянцев попробовал шевельнуться, но не смог, его сковал паралич. Плоть чудовища застыла и омертвела, пляска деталей на ней прекратилась. Из чудовища выползало нечто невидимое, неуловимое, утонченное почти до небытия. Багрянцев ясно чувствовал, как эта живая пустота движется к нему. Паникой отзывалось каждое движение невидимки. Она склонилась над ним, и он почувствовал прикосновение чужой холодной мысли, словно щупальца. А потом невидимое нечто вдруг нырнуло в Багрянцева, как в прорубь, и благо, что паралич не позволял шевелиться, иначе Багрянцев начал бы метаться по комнате в припадке, круша все вокруг и калеча себя самого. Невидимая тварь выталкивала его за какую-то черту. Прежде он и не подозревал, что эта черта так близко, что она вообще существует, но теперь чувствовал ее и понимал, что переступать за нее нельзя, что за чертой его подстерегает страшная опасность. Он боялся этой черты, не хотел за нее, но не знал, как перед нею удержаться, во что и чем вцепиться, чтобы не вынесло прочь? Он уже понимал, в чем суть черты, и что лежит по одну ее сторону, что – по другую. Понимал, зачем невидимка толкает его туда. Она выгоняла его из собственного тела. Но разве тело не есть он сам? Прежде он так и считал, но теперь старые представления рушились. Его обнаженное «я» изгонялось прочь, в пугающую неизвестность. И вот уже Багрянцев смотрел на свое тело со стороны. Оно лежало на полу, пока еще скованное параличом, который отступал постепенно, на лице кривилась торжествующе-хищная улыбка той невидимой твари, что захватила его плоть. Пока Багрянцев стоял перед собственным телом – невидимый, обнаженный почти до пустоты, – над креслом поднималось черное чудовище. Оно видело бесплотную душу Багрянцева, изгнанную из тела, жадно ее рассматривало и приближалось к ней. Что же дальше? Черное чудовище, будто голодный зверь, кинулось на Багрянцева. Это было так нелогично, так абсурдно. Тело, лишенное души, напало на душу, лишенную тела. Багрянцев не понимал, что это за нелепость, как такое возможно? Но для удивления не осталось места, когда зубы черного телавпились в душу Багрянцева и начали кромсать ее на куски с той легкостью, с какой железные крючья могли бы кромсать студенистую плоть медузы. Объятое запредельным ужасом сознание Багрянцева разрывалось на части, ему казалось – или это действительно так было, – что зубы чудовища превращаются в змей, и каждая из них впивается в него иглами своих зубов. И вот что странно. Пожираемый, он чувствовал, что не уничтожается, а постепенно сам становится черным чудовищем, переливаясь в него, заполняя его собой. Наконец, уже не оно пожирает его душу, а сам он, Багрянцев, пожирает ее. Разорванное сознание видело себя одновременно и жертвой, и хищником. И ужас жертвы сплетался в нем с похотью и наслаждением чудовищной твари, которой он стал. Когда кошмар пожирания окончился, Багрянцев был заключен в это страшное, чуждое, но и родное, до наваждения, черное тело. Процесс воплощения был завершен. Душа Багрянцева сожрана без остатка и объединена с поглотившим ее телом в единое существо. Но какой же в происходящем смысл? Ради чего все? Багрянцев не понимал. Ему чудилось, что ответ где-то рядом, один поворот мысли, словно поворот винта, – и все станет ясно. Сознание проваливалось в странную дрему, в которой он увидел себя и свое новое тело со стороны в образе хищной птицы, зажавшей в когтях беспомощного зверька – его «я». Птица взмахнула крыльями, взмыла ввысь, взламывая потолок комнаты, все этажи над ней, крышу дома и ночное небо, срывая с всевышних креплений черную ткань космоса, с которой высохшими насекомыми посыпались мертвые звезды. В следующий миг тело стояло на пустыре, на тропе, стояло лицом к болоту, перед стеной тумана, еще более густого, чем прежде. За этот миг полета Багрянцев понял все. Чтобы мгновенно преодолеть трехмерное пространство, выйти из одной его точки и войти в другую, телу вместе с душой следовало превратиться в нечто вроде математического объекта, лишенного пространственной протяженности. И, пока длилась эта трансформация, происходившая вне всяких координат, на умозрительной плоскости бытия, слияние тела и души стало абсолютным, и все знания, которые тело хранило в своих глубинных доминантах, прежде недоступные для души, хлынули в нее, будто потоки воды, взломавшей плотину. Тот ужас, что Багрянцев испытывал перед своим преследователем, казался теперь просто смешным, нелепым и детским. Что лежало в его основе? Страх перед неизвестной угрозой, возможно, несущей боль или, максимум, смерть. Всего лишь! Примитивная боязнь за шкуру. Не того надлежало бояться. Подлинный страх и ужас открылись Багрянцеву в тех знаниях, которые он получил от своего нового тела. Эти знания затопили его, не оставив ни проблеска надежды, ошеломив новизной и той зловещей пропастью, что распахнулась перед разумом. Не все было ясно в этих знаниях. Некоторые аспекты оставались смутными, словно картинка, схваченная расфокусированной оптикой. Другие аспекты стали гораздо четче. Тут же Багрянцев понял: то были лишь оттиски знаний, сохраненные мозгом, более или менее отчетливые, а сами знания хранились в душе, в той невидимке, которая покинула черное тело, чтобы вселиться в тело Багрянцева и выгнать его душу вон. Теперь Багрянцев знал, кем было черное чудовище, заявившееся к нему. Оно было самим Багрянцевым, сбежавшим из будущего, из той грядущей вечной жизни, что стала для него вечным адом, где Багрянцев мучился, воскреснув из мертвых в обновленном преображенном теле. Материя этого тела перешла на какой-то сверхъестественный уровень, где плоть сравнялась по свойствам и энергиям с духом. В иерархии сущностей материя тела поднялась на уровень выше, чем материя души. Сверхтонкое духовное тело стало словно бы ангелом, но это был ангел-чудовище, злобное бесчеловечное существо, в котором внутренние уродства духа проявились зримым образом. Плоть больше не скрывала, как завесой, постыдные тайны духа, хранилища мерзости, но выворачивала их наизнанку, выносила на поверхность человеческого существа. Там, в будущем, намертво замурованный в самом себе, в чудовищном античеловеческом теле, он испытывал такое мучение, для описания которого и слов-то не подобрать ни в каком языке. Но почему будущая вечность обернулась таким кошмарным страданием? Все упиралось в некий фактор, неясный, но крайне важный. Что-то предельно страшное произошло в будущем, что изменило устройство мироздания. В знаниях, полученных Багрянцевым, это событие растворялось в какой-то черной пелене, сквозь которую не мог проникнуть рассудок. Ясно было только одно: там, в будущем, Багрянцев вынырнул из глубин смерти, воскрес в теле с какими-то ангельскими свойствами, бессмертном и неуничтожимом, и тут же попал в невыносимые условия внезапно изменившейся вселенной. В обновленном мироздании уже не было ни пищи, ни источников энергии, ни вакуума, ни воздуха, – была лишь какая-то страшная, словно живая, тьма, охватившая Багрянцева и других, подобных ему, как янтарная смола, что замуровывает в себе насекомых. В этой тьме и существовать было бы никак нельзя, если б не тело, которое Багрянцев получил, когда загробный мир отпустил на волю его душу. Его тело не нуждалось ни в пище, ни в воздухе, ни в чем-либо еще, без чего простым телам невозможно быть. Такое тело хоть залей навеки вулканической лавой – оно бы жило в ней, дожидаясь, когда время миллионами зубов своих лет разжует застывшую лаву в прах. Но тьма, которая объяла Багрянцева, была хуже любого вещества, потому что была вечна. Из этой тьмы не найти выхода. Ее не подточит никакая энтропия. И смерть уже невозможна. Потрясенный и подавленный разум Багрянцева, стоявшего на краю болота, всматривался в свое кошмарное будущее, из которого он-будущий явился к себе-прошлому. Какая-то неясная, грозная и крайне опасная сила подарила ему возможность бежать в прошлое, найти там себя, вселиться в собственное прошлое тело, а душу, изгнанную из него, переселить в тело, прибывшее из будущего. Короткое время было отпущено Багрянцеву на этот побег, теперь оно на исходе, пора возвращаться. Багрянцев поразился собственной подлости. Бежать в прошлое, оставить там свою душу, а себя-самого-прошлого запихнуть в это страшное тело, как в ловушку, в клетку, и отправить в будущее, в мучительную вечную тьму. Так поступить с самим собой! Это же… чудовищно. Багрянцев почувствовал, как в ответ на эту мысль его новое тело расплывается в злорадной улыбке. Он хотел развернуться и уйти прочь от болота, прочь с пустыря, домой, но тело не подчинилось. Оно было сильней его души, оно само знало, где следует быть, куда следует направляться. Душа Багрянцева застряла в этом теле, будто в карцере, стены которого сдавили ее со всех сторон. Нечто прямо-таки дьявольское почувствовал Багрянцев в этом плане побега в прошлое: подменить там душу и вернуться в будущее с другой душой, пусть собственной, но все-таки другой – более… невинной, что ли. Пришла на память вычитанная в какой-то фантастической книжке – названия не помнил – идея про путешественников во времени, извращенцев-педофилов, которые отправлялись в прошлое, чтобы найти там самих себя в детском возрасте, а найдя, изнасиловать. Чудовища из будущего набрасывались на свои собственные более ранние и невинные воплощения, чтобы отравить самих себя на корню, нанести себе неисцелимую душевную травму. Нечто подобное, только хуже, творилось с Багрянцевым. Он не был религиозен, не увлекался мистикой, не верил ни в Бога, ни в черта, ни в загробный мир, но с детства был любопытен. Наткнувшись в одной книжке на библейское выражение «тьма кромешная», он полез в этимологический словарь Фасмера и узнал оттуда, что «кроме» в Древней Руси означало «вне», «снаружи», и его производное «кромешный», стало быть, значит «внешний», «наружный». Там же был приведен греческий аналог старославянского слова «кромештьнъ» – «экзотерос». Кромешная тьма – экзотерическая тьма, внешняя тьма, наружная тьма. Почему она «внешняя» или «наружная», Багрянцев так и не понял. А теперь узнал, что эта экзотерическая тьма действительно настанет в будущем и в это беспросветно-черное будущее он вот-вот отправится, чтобы там окунуться в невыносимо страшный безвыходный вечный мрак. А его душа, сбежавшая из будущего, останется здесь, в его теле, будет жить его жизнью, смаковать каждую минуту той недолгой свободы, которую, неизвестно на каких условиях, она выторговала себе у неведомых сил. В свое время свобода закончится, тело умрет, душа, выпав из него, сгинет в загробном мире, чтобы потом вынырнуть оттуда, воскреснуть, соединиться с обновленным телом и отправиться в страшную мучительную кромешную тьму, которая пожрет вселенную. Далее петля замкнется, и эта подлая душа опять изберет проверенный метод бегства в прошлое, где вновь поменяется телом с более ранним проявлением себя, чтобы все повторилось, чтобы петля ложилась на петлю, чтобы круг бесконечно замыкался на самом себе. Омерзение, тошнота, бессильная ярость и ненависть захлестнули Багрянцева. Было в этой истории кое-что еще, неразгаданное и смущавшее своей откровенной нелогичностью. Если тело в одно мгновение перенеслось из его квартиры сюда, на пустырь, то почему оно с самого начала не использовало свои способности, чтобы так же мгновенно перенестись в квартиру к Багрянцеву? Зачем оно шло за ним, поднималось по лестнице, потом стояло под дверью, которую в итоге с такой легкостью прошло насквозь? Задавшись этим вопросом, Багрянцев тут же получил ответ, который, похоже, заранее хранился в готовом виде в какой-то ячейке мозга и теперь был выложен перед ним. Конечно, Багрянцеву-из-будущего не стоило никакого труда возникнуть перед собой-прошлым, где бы тот ни находился. Ночь, пустырь, преследование – все это просто спектакль, необходимый лишь для психологического эффекта. Чтобы подготовить Багрянцева к операции по обмену телами. Страх разрыхляет душу, как почву перед севом, делает ее восприимчивой к воздействиям извне. Поэтому и развернулось представление с фальшивым СМС-сообщением, среди ночи загнавшим на пустырь жадного до мелкой выгоды Багрянцева. «Ты послало мне эту чертову эсэмэску? – мысленно спросил Багрянцев собственное тело. – Как? С помощью чего?» И в глубине сознания услышал мысленный ответ: «Ты не знаешь всех моих способностей. Тебе и не снилась даже малая часть того, что я могу». «А не возвращаться в будущее, в эту проклятую кромешную тьму, ты можешь?» «Вот этого не могу, – был ответ. – Есть условия, которые выше меня». Багрянцев стоял лицом к болоту, всматриваясь в туман, в котором теперь чудилось что-то бездонное. И пронзительное одиночество, будто сверло, вгрызалось в сердцевину души. В тумане тонуло все – пейзаж, звуки, ветер. И скоро сам Багрянцев утонет в этом белесом небытии, утонут мысли, надежды, последняя тень его существа. Внезапно он понял – знание само всплыло на поверхность разума, – что там, в будущем, он не один, что страшная трансформация постигла многих и многих. Многих? Миллиарды воскресших людей всех времен и поколений? Но зачем ему знать об этом множестве? Он усмехнулся. По-настоящему он верил только в собственное существование, и сейчас, в новом теле, эта вера лишь углубилась до своего дна: другие люди для него теперь были не более реальны, чем галлюцинации. Одухотворение телесной материи вовсе не способствовало широте взгляда, напротив, сузило его до крайней точки – до собственного «я». Солипсизм вечной жизни был полон и окончателен. Энергии собственной души и собственного тела стали для Багрянцева координатной сеткой его вселенной. «Уже пора», – шепнуло внутри. Тело Багрянцева шагнуло в густой туман. Каждый миг был глотком ужаса, с каждым мигом близилась бездна кромешной и вечной тьмы, провал в которую был где-то рядом, здесь, в тумане, на болоте, до этого провала, возможно, всего шаг.

Андрей Андреевич Багрянцев – тридцать восемь лет, холостяк, дважды разведен, от каждого брака по ребенку, оба мальчики, первый умер в раннем детстве, и правильно сделал, а на второго плевать. Андрей Андреевич вышел из дома солнечным утром. Прищурился на прохладное ноябрьское солнце, зависшее над кромкой гор, обрамлявших город с востока. На работу сегодня, конечно, не идти. К чертям эту сраную работу! Отныне он свободный человек, никаких обязательств ни перед кем. Разумеется, кроме той силы, что устроила ему побег из бездны. С этой загадочной силой шутить нельзя. Природа ее неясна, но могущество вполне подтвердилось тем, что она смогла устроить побег из будущего, и не для одного Багрянцева, но еще для многих других, которых не счесть. Эта сила действовала с умопомрачительным размахом, продуманно, педантично и планомерно. Ее план охватывал все времена и народы. Беглецы из будущей бездны возвращались в бесчисленные точки на шкале времен, от глубокого прошлого до отдаленного будущего. Возвращались всегда. Не было такого года в истории человечества, чтобы не возвратился кто-нибудь, один или несколько человек, бежавших от будущей кромешной тьмы и вечного мучения в ней. Всегда происходили подмены, подобные той, что случилась с Багрянцевым. И все беглецы обязались расплачиваться за свое бегство, каждому были поставлены условия. Впрочем, условия такие, что исполнять их будет одно удовольствие. Те, кто ставил эти условия, знали, что и с кого можно потребовать. На какое безумие и на какой ужас каждый способен. Главное, не попасться в самом начале. Смертной казни здесь нет, и это хорошо. Но будет мучительно стыдно перед самим собой, если, прикончив и сожрав всего лишь одного человечишку, не рассчитаешь все как надо, сглупишь и позволишь себя поймать. Все равно что глотнуть какого-нибудь дорогущего коньяка или виски, над которым дегустаторы закатывают глаза в экстазе, и тут же все выплюнуть. Нет, попадаться на первой жертве никак нельзя, не дай бог! При мысли о «боге» Андрей Андреевич усмехнулся. Ничего, это только первая петля обратного времени таит в себе подвохи. Пройдя ее, он войдет во вторую петлю и снова вернется назад, и тогда уже, все помня, сможет повторить безопасные ходы, исправить недочеты, отточить действия. Вот так, виток за витком, он достигнет совершенства, подобно музыканту, хорошо разучившему партию своего инструмента, и каждый его шаг будет звучать как музыка, закольцованная в петлях вечного возвращения.
Выя

Священник Лев Филимонович Разговеев, настоятель Свято-Успенского храма в Нижнем Пороге, овдовел рано, тридцати двух лет, в 1911 году. Мало того что супруга его, Анастасия Игнатьевна, была бесплодна, на горе себе и мужу, так еще и скончалась от мудреного мозгового недуга, настрадавшись пред смертью болезненными припадками в сопровождении страшных галлюцинаций. Над телом ее отец Лев выл с горя по-звериному, едва не рычал. Дикий взгляд его, в обрамлении взлохмаченной гривы, был страшен. Белки глаз обжигали гнилостной белизной. Зрачки зияли, как провалы в загробный мрак. Губы червиво шевелились, когда нечеловеческие звуки полыхали меж них. Пальцы правой руки царапали ногтями, до кровавых полос, левое запястье, и обратно – левая рука немилосердно терзала правую. Родные – сестра с мужем, часто навещавшие отца Льва, – опасались за его рассудок, и не напрасны были опасения. Священник и впрямь помешался; благо, что временно. После почти трехнедельного помрачения он пришел в себя, однако некоторая как бы мистическая рассеянность занозой сидела на дне взгляда. И несвойственные прежде нетерпеливость с раздражительностью прозябли в его характере, наподобие сорных трав. Раз как-то своего прихожанина, долго повествовавшего на исповеди о своих согрешениях за прошедшие пару месяцев, отец Лев оборвал раздраженно на полуслове: – Да хватит уже! Утомили! Лучше скажите, что грешны и отовсюду недостойны – и с вас довольно. А то, право, неприятно слушать. Французский роман какой-то. Вскоре прихожане смекнули, что батюшка к длинным исповедям не расположен, посему старались не утруждать его словесами многими, но приносили покаяние пред ним в кратких речениях, часто сводившихся к одному только «грешен» или «грешна, о-ой, грешна». Проповеди отца Льва сделались скучны. Как сухие травы, мертво колыхались они, когда выходил на амвон священник, уста отверзая для поучения. Раз только пробежало некое оживление по звукам его проповеднической речи, то было в Великий Пяток тринадцатого года, после выноса плащаницы, стоя перед которой, батюшка сказал прихожанам: – Висел на кресте Христос да и прокричал: «Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси». Видите, стало быть, и его Бог оставил. Мрачно, наверное, страшно и пусто было у него на душе. И холодом веяло в ней. Так идешь, бывает, зимой чрез мертвое поле, а сверху давит ночь, и кругом ни огонька, ни следа человечьего. И – камнем, плитой могильной – одиночество на плечах твоих. Поневоле завыть хочется в ужасе и тоске. А как поползла по России трещина от войны, начавшейся в четырнадцатом году, и разинулась наконец в революцию, и царь отрекся от престола, то всклубилось нечто смутно-тревожное и радостно-мрачное внутри отца Льва. Чернота неба, просверленная блеском звезд, казалось, приникла сверху огромной звериной тушей, навалилась, объяла, и было жутко – что задавит, и тут же радостно – что можно сцапать рукой звезду и вобрать небесной тьмы полную грудь.

В апреле двадцатого года, когда ворожил цветущий мир, кадил ароматами, вышивал птичьими трелями по кисельному воздуху, когда от сладостных предчувствий ныло сердце всякой твари, – тогда пришел отец Лев к председателю Нижнепорожской ЧК товарищу Блящеву и сказал, положив на стол перед ним исписанную бумажку: – Примите заявление. Отрекаюсь от Бога и от поповской сущности. Блящев пробежал глазами написанное. И сказал отцу… нет, уж не отцу – товарищу! – товарищу Разговееву: – Садитесь. Вы приняли верное направление. Наконец-таки у вас прорезалось эпохальное чутье. Божественные предрассудки есть пережиток падающего мира. И я от лица рабоче-крестьянской совести поздравляю вас, – с этими словами Блящев встал, и сообразно ему встал едва присевший Разговеев, – и жму вашу сознательную руку. После этих слов между ними произвелось рукопожатие. Дальнейшую речь Блящев произносил стоя: – Вы шагнули в великий коллектив целенаправленных масс. Вы выдрали свое проклятое прошлое, как гнилой зуб из челюсти буржуазного мракобесия. Вы обменяли своего устаревшего бога на обновленное социальное бытие. Вы стали нотой в мощной глотке рабочего класса, поющего грандиозную песнь борьбы в бушующих временах. Вы отринули свое позорное клеймо, отломили свой социальный вывих, вывернули на прямую дорогу светлого пути из пропасти имперского разврата. Поздравляю вас, товарищ, и целую ваши ставшие социально родными губы. Блящев вышел из-за стола, подошел к Разговееву и, крепко обняв, еще более крепко припечатал его сухим и мощным поцелуем. Прогрессивный шаг бывшего попа Разговеева по достоинству был оценен в газете «Нижнепорожская правда». Сам Разговеев получил место в государственном учреждении с непроизносимым названием, среди устремленных в грядущее мужчин и женщин. В небе метались над ним ошалевшие птицы. Руку его, которую в прежнем бытии униженно лобызали, стали теперь крепко и равноправно пожимать. Одна застоявшаяся и чуть подпорченная щелочью времен девушка в учреждении повадилась зыркать на Разговеева глазками. Он же только невинно моргал в ее сторону, не проявляя никакого пристрастия. Приходила мысль: если Бога нет, и я не поп, то почему бы не завести человеческий роман с этой барышней? Но, несмотря на искристую рябь помыслов, Разговеев оставался целомудренно сдержан, и не потому, что какие-то остаточные корешки религиозности претили возможному счастью, но почтение к памяти покойной жены непроизвольно сдерживало от всех игривых поползновений. Так и жил Разговеев – гражданской единицей. Ходил на работу, читал газеты, посещал антирелигиозные лекции, на которых и сам выступал несколько раз с разоблачающими культ речами, смотрел в театре революционные пьесы, пока… Пока не оборвалось все это и не полетело в пропасть.

Морозной галлюцинаторно-параноидной ночью декабря двадцать первого года, когда корчилась в припадке вьюга над обмершей землей, и Разговеев, намаявшись бессонницей, начал было проскальзывать в игольное ушко сна, у кровати возникли две высокие черные фигуры. Чернота их была плотнее и чернее той прореженной темноты, что скопилась в комнате. Глубинной жутью веяло от фигур. С ног до головы облизал Разговеева клейкий язык невидимого чудовища, которое мы, люди, зовем страхом. – Вы кто? – спросил Разговеев, садясь на кровати. Комната наливалась кроваво-гнилостным полусветом, предметы напоминали в нем потроха и кости. Одеяло, которым до подбородка укрывался сидящий Разговеев, походило теперь на чью-то содранную кожу. Фигуры, стоявшие у кровати, приобрели объем. Бликами, полутенями и тенями обрисовались уродливые тела, над которыми висели мерзостные, патологично искаженные лица – два сгустка ужаса, вошедшего в мир с кошмарной изнанки. – Кто?.. – трепыхнулся обрывок фразы, бессмысленный лоскуток, прилипший к губе Разговеева. Одна из фигур шагнула, нагнулась над человеком, столь одиноким и беззащитным в утробе ночи, приблизила лицо, и каждый глаз на нем казался воронкой от взрыва артиллерийского снаряда, на дне которой гноились клочья мертвой плоти. – А то ты не знаешь, кто мы, – раздался голос, шипящий, как серная кислота, сжирающая медный пятак. – Вы… бесы? – неожиданно для самого себя противно и тонко, с блеющим вибрато, выдохнул Разговеев, отодвигаясь, подминая под себя подушку, вжимаясь в изголовье. Дальняя фигура механически засмеялась, негромко и мерно, с отзвуком ржавого металла в нутряном голосе. Это и впрямь были бесы. Разговеев даже разглядел у них перепончатые крылья, точнее, куски крыльев, хаотично торчавшие из разных мест организма, словно какое-то внутреннее крылатое существо пыталось разорвать каждого беса изнутри, но застыло в нем, как в янтаре, там и тут слегка просунувшись наружу. Не покидало ощущение, что вот-вот изнутри бесов вырвется нечто еще более кошмарное, чем они сами. Похоже, бесов это самих пугало, только они давно уж привыкли к вечному внутриутробному страху и даже находили в нем извращенное удовольствие. – Будешь работать по специальности, – сказали бесы. Некоторые фразы они произносили вместе, и голос одного подкрашивал эхом голос другого. «По какой еще специальности?!» – панически метнулась мысль Разговеева. – Грехи нам отпускать, – ответили на его непроизнесенную мысль. – Ты работу знаешь. – Грехи? Отпускать? – вслух поразился Разговеев. – Думал, так и будешь дурью маяться в своей конторе? Каждый отрекшийся поп у нас на учете. Все вы, отреченцы, наши кадры. Работы для вас бездна. – Но подождите, – возразил Разговеев, – я не поп уже! Я простой… гражданин! – Какой же простой, когда ты сложный! – Я не согласен! – возмущался Разговеев. – Не для того же отрекался от суеверий культа, чтобы культовые обязанности потом исполнять! Я заявление писал! Я… жаловаться стану! – совсем уж глупо, до форменного нонсенса, выкрикнул он. В глазах у одного из бесов заплясало что-то вроде смеха: будто закружились в пыльном вихре мертвые мотыльки. – Когда сдохнешь и в аду окажешься, тогда будешь жаловаться. А пока жив, будешь трудиться. Такой порядок. – Да как же, – не соглашался Разговеев, – стану я грехи отпускать, ежели сан снял? Отпущение будет недействительным. – Действительным, действительным, – хором пообещали бесы. – Ну нет! Алогизм какой-то, бардак! Лишившись сана – отпускать грехи! Это неестественно и… антиканонично, наконец! Страха у Разговеева уже не было; волной возмущения всякий страх вымыло напрочь. – Ладно, – сказали бесы, – сейчас позовем Йошнигаррутнагутанда и Жимодарасмегонта. Они тебе все объяснят. – Кого-кого? Йош… как? – Йошнигаррутнагутанд, наш профессор канонического права. Жимодарасмегонт, профессор догматической антропологии. – Имена у вас, однако… – отозвался Разговеев. – У нас-то имена, зато у вас, людишек, заместо имен мерзость сплошная: Лев, Иван, Алексей… Как вы сами суть гнусные твари, так и ваши имена гнусны. Вскоре явились бесы-специалисты. Живая груда какой-то зловонной мертвечины, в которой прорисовывалось угрюмое лицо. И что-то белесое, глистообразное ползало по этой груде. Грудой оказался Жимодарасмегонт, а белесая гадина на нем – Йошнигаррутнагутанд. Жимодарасмегонт, похоже, дремал. Йошнигаррутнагутанд был, напротив, бодр. – Каноны, – заговорил он, вывернув из складчатой кожи неожиданно женственное, красивое и злое лицо, – различают статус священника и мирянина при наложении тяжких прещений. За одинаковое каноническое преступление, выраженное, например, в совместных действиях священника и мирянина против епископа, первый, сиречь священник, согласно восьмому и восемнадцатому правилам четвертого Вселенского Собора, извергается из сана, однако не отлучается от церковного общения; второй же, сиречь мирянин, подпадает отлучению. Каноническое преступление, отлучающее мирянина от церковного общения, священника от него, однакоже, не отлучает. Двадцать пятое апостольское правило глаголет: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священнаго чина, но да не будет отлучен от общения церковнаго. Ибо писание гласит: „не отмстиши дважды за едино“». Промеж священника и мирянина, соделавших тождезначительное преступление, сохраняется известное различие в статусе. А значит, существует равноподобное различие между священником и мирянином, тождезначительно отрекшимися от Бога. Согласно доктрине епископа Феофана Говорова, грех, буде он удален от души, оставляет на ней след. Равноподобно и харизма священства, буде она удалена от души, оставляет на ней характерный след свой или отпечаток… – На языке глаголемого Макария Египетского, – проскрежетал очнувшийся Жимодарасмегонт, – это называется стезей. – Итак, след, или отпечаток, или стезя, – продолжил Йошнигаррутнагутанд, – или, выражаясь иначе, потенция священства, о коей рассуждает Никодим Святогорец в «Пидалионе», толкуя четвертое правило Антиохийского Собора. В оном толковании утверждается, что священник, изверженный из сана, лишается действования священства, но не лишается, однакоже, потенции его. Потенция, подобно некоему отпечатку, остается в душе… – Как в умственной, так и в психической сущности внутреннего человека, такожде и во внешнем, то бишь телеснообразном психическом слое, – добавил Жимодарасмегонт. – А раз она есть, – продолжил Йошнигаррутнагутанд, – купно с нею пребывает и отпечаток священнической харизмы, что дает отрекшемуся священнику закономерное право на отправление священнодействий, при определенном условии, сиречь ежели сии священнодействия будут носить автономно-циклический характер. Подавленный Разговеев молчал. – Автономно-циклический принцип священнодействий, – объяснял Йошнигаррутнагутанд, – означает произведение действий, замкнутых на оператора. Чтобы достичь сего в процессе отпущения грехов, следует прибегнуть к древнерусской разрешительной формуле. Современная формула: «Господь да простит ти, чадо, вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властию его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих», – здесь неприемлема, понеже апеллирует к Богу и отрицает принцип автономности. Посему целесообразно использовать древлюю формулу: «Грехи твои на вые моей, чадо», – что всецело соответствует указанному принципу. Переложение грехов на шею исповедующего есть то самое действие, замкнутое на оператора, о коем и речь. – Нам, – вмешались первые бесы, – нужен результат. К Богу обращаться – это нонсенс. А переложить грехи на чужую холку, а с ними вместе и все последствия – это рационально. – Значит, вы хотите, – произнес Разговеев, – чтобы я снимал с вас грехи и навешивал их на себя? – Точно, – проскрежетал Жимодарасмегонт.

Выхода у Разговеева, конечно же, не было. Согласия у него не спрашивали. И то была большая любезность со стороны бесов, что ему все разъяснили, вместо того чтобы просто грубо и нагло приказать. Бесы переместили Разговеева в хижину, невесть в каком лесу стоящую. Там ему отныне надлежало жить и принимать кошмарных посетителей. Для Разговеева наступила тяжелая пора. Отрекшихся священников на бесовские нужды не хватало. Бесы годами дожидались своей очереди на исповедь, и не было конца омерзительным исповедникам. Зато бесы обеспечивали Разговееву и здоровое питание, и тщательный медицинский контроль с оздоровительными процедурами. Своих духовников берегли. Периодически их собирали на заседания СОС (Синода отрекшихся священнослужителей), где духовники могли общаться друг с другом, обсуждать проблемы и делиться опытом. Допускалось это с целью психологической разрядки, необходимой, чтобы как можно дальше отодвинуть тот неизбежный момент, когда духовник сойдет с ума. Раньше бесы использовали французских епископов и кюре, отрекшихся в девяностых годах восемнадцатого века, во время французской революции, но все они, исключая троих, постепенно лишились рассудка. Этим трем бесы не давали умереть, добившись того, что тела их превратились в тела цветущих юношей, а не дряхлых старцев, как требовали законы естества. Но остановить процесс психического распада бесы были бессильны. Французские «юноши» отчасти уже обезумели. Их взгляды дико блуждали, а с языков частенько срывались зловеще-абсурдные фразы. И каждый из русских духовников недавнего призыва тоскливо прозревал в этих юных старцах свою собственную неотвратимую участь.

Бесовские грехи, которые приходилось отпускать Разговееву и его коллегам, заключались в проколах и промахах, допущенных бесами во время оперативной работы с людьми. Каждое упущение в работе строго фиксировалось генерал-контролерами – для последующего мучительного воздаяния. Генерал-контролеры, бесы одного из высших разрядов, сочетали в себе маниакальную садистичность с не менее маниакальной педантичностью. Бесы из низших разрядов испытывали перед ними парализующий животный ужас. Вообще, верхушка демонической иерархии, как понял Разговеев во время исповедальных бесед с бесами, представлялась для низших чинов какой-то недоступной, жуткой и цепенящей глубиной, населенной ужасающими чудовищами. Интеллектуальные, да и прочие способности высших бесов находились на уровне, непостижимом для низших, и низшие трепетали при мысли, что эта мрачная бездна вверху (или внизу – точно и не укажешь ее местоположение) следит за ними своим бесконечно злым взором, готовая выбросить вниз (вверх?) свое карающее щупальце, схватить и жестоко мучить пойманную жертву за ее должностные преступления. Однако преступление, исповеданное духовнику, возлагалось, согласно разрешительной формуле, на его человеческую выю, делая его, таким образом, заместителем исповедавшегося ему «чада» в зловещей перспективе грядущего воздаяния. Осуществление воздаяния слой за слоем налагалось на шею духовника, откладываясь до момента его смерти, с началом которой воздаяние вступит в силу и будет в полной мере применено к погрузившейся в глубины ада душе бывшего священника. Система эта поддерживалась генерал-контролерами, которые и сами иногда являлись на исповедь. Только, в отличие от низших чинов, они не рассказывали духовникам о своих промахах в работе, а в ледяном молчании преклоняли свои кошмарные головы под епитрахиль и выслушивали разрешительную формулу. И было неясно, в чем именно они виноваты и перед кем, какие грехи безмолвно перекладывают на шеи духовников, и какое воздаяние ожидает несчастных за эти неизреченные и непостижимые проступки. «Почему, – размышлял Разговеев, – низшие бесы не делают так же? Почему не приходят молча? Почему они, черт бы их побрал, открывают свои пасти и вынуждают меня выслушивать гадостные откровения?» С тоской вспоминал Разговеев, как ему приходилось исповедовать людей. И что за грехи несли они к его стопам! Съел скоромное в день постный. Ругался неподобными словами. Помыслил злое на соседа своего. Солгал по коммерческому расчету. Скверно взирал на чужую красоту. Бил супружницу по ланитам. Напился сверх обыкновения и буйствовал зело. Яростию был палим от зависти лютой и обиды злой. Песни похабные кричал во хмелю… То люди были, и грехи их были людскими. А теперь приходилось Разговееву окунать свою голову в ядовитые испарения грехов бесовских. Рассказывал, к примеру, ему один бес, как склонял отца надругаться над собственной малолетней дочерью, как внушал ему гипнотически ее образ, совмещая его с образом покойной жены, воздействуя при этом на его нервную систему, на мозговые клетки, регулируя движение крови, возбуждая силу кундалини. (Разговеев не понял, что это еще за «кундалини», – итальянское какое-то словечко, решил он, уточнять же не стал; любопытство постепенно вытравливалось из него вместе с волей к жизни.) Процесс шел нормально, однако при наступлении контактной фазы произошел непредвиденный сбой. Возбужденный отец подошел к дочери, сел рядом на постель, взял детскую ладошку в свои влажные руки, облизнул губы языком… И некая мысль мелькнула в его сознании. Что это была за мысль, установить не представлялось возможным; она принадлежала к классу НВП (неопознанных внезапных помыслов), которые, являясь в ментальной сфере реципиента, могли мгновенно сбить все настройки и нарушить нормальное течение процесса. После этой мысли отец содрогнулся, встал и, пошатываясь, вышел вон. – Генерал-контролер, – хмуро говорил Разговееву бес, – обвинил меня в халатности, выразившейся в непринятии профилактических мер против НВП, что привело к полной дестабилизации ситуации и нарушению процесса. Я, конечно, не согласен, я возмущен, ибо это абсурд: какая еще профилактика, когда НВП потому и НВП, что он внезапен! Но в моем личном деле уже сделана пометка, поэтому апеллировать поздно, так что другого выхода нет. Каюсь, отче! Прости мое согрешение! – Грехи твои на вые моей, чадо, – мрачно отозвался Разговеев, возлагая, через ткань епитрахили, руку на голову беса, гнусно и криво ухмылявшегося в тот момент.

Другой бес, курировавший красного командира товарища Солоуха, рассказывал, что его подопечный был направлен в Минусинскую котловину, что в Енисейской губернии, для борьбы с белым бандитизмом. Тамошний бандит, колчаковский хорунжий Камовский, после ухода Колчака в Китай обосновался с отрядом в тайге, откуда делал набеги на комиссаров и красноармейцев, мешая им осуществлять продразверстку. Довелось Камовскому обставить и Солоуха. Было дело, Солоух распорядился с вечера положить на озерный лед связанных заложников из числа местных кулаков, объявив, что, если те не выдадут ему расположение базы Камовского, утром он будет топить их в полынье. Ночью же к озеру явился Камовский со своими людьми, освободил заложников и увел с собой. Бес, курировавший Солоуха, был обвинен в должностном преступлении, поскольку идея положить заложников с вечера на лед принадлежала именно ему, Солоуху же пришла на ум через ДНД (дистанционное наложение дум). – Я же, – объяснял Разговееву бес, – имел в виду одну только пользу дела. Ведь есть же разница в том, чтобы провести ночь перед смертью в сарае или так – лежа на льду, рядом с полыньей, где скоро тебя будут топить. О, еще какая разница! Признайтесь, моя идея была хороша. А мне предъявили обвинения в том, что я необдуманно погнался за внешним эффектом и похерил все дело. Я, дескать, должен был взять в расчет возможность нападения этого белобандита! Но ведь он же вне моей юрисдикции, у него свой куратор, ему и надо предъявлять обвинения: почему не удержал подопечного, почему допустил? Еще сказали, что я должен был внушить Солоуху мысль выставить усиленную охрану. Но это же нонсенс! Охрану и так выставили, и не моя вина в том, что одного убили, а другого ранили. У них, в конце концов, свои кураторы – пусть и отвечали бы за это! И что значит – более усиленная охрана? Насколько более? А если и более усиленную охрану этот подлец Камовский перебил бы, тогда, получается, мне все равно предъявили бы обвинение в том, что охрана была недостаточна? К тому же, как стало мне известно из достоверного источника, куратору того мерзавца, что ранил одного из охранников, которых выставил мой Солоух, предъявили обвинения в том, что не внушил своему подопечному мысль добить раненого, так что мерзавец пожалел его, с простреленным плечом лежащего, и только лупанул прикладом в морду, вместо того чтоб добить окончательно. Ты видишь, что творится! Мне, значит, предъявляют обвинение в том, что не организовал усиленную охрану против бандитов, а другому – наоборот, что не склонил бандита убить охранника. Дурдом какой-то! И ведь не отмажешься – все! Выхода другого нет, кроме как вот это теперь… Прости мне, отче, мои согрешения! – Грехи твои на вые моей, чадо. Разговеева уже не удивляло, что эти холодные и, казалось бы, бесстрастные существа могли внезапно становиться мелочными, мятущимися, обиженными и бессильно озлобленными субъектами, готовыми для спасения своей шкуры на любую мелкую и крупную подлость в отношении себе подобных. И после этих метаний бесы так же внезапно становились углубленными в себя ноуменами, величественно вознесенными в ледяную внутреннюю высоту.

На одном из заседаний СОС поставили вопрос на обсуждение: что выгодней – покончить с собой или продлить свое духовническое служение? Товарищ Гедончук, сторонник суицида, говорил: – Чем дольше мы живем, тем большее воздаяние по взятым на себя грехам накапливаем. А умереть рано или поздно придется. Каждый из нас когда-нибудь свихнется и работать духовником будет уже не способен. Так пусть это произойдет раньше, чем позже, пока мера воздаяния не так велика. – Но, – возражал товарищ Стопудецкий, – если мы покончим с собой, то ведь отправимся в тот же самый ад, в ту же самую епархию. И наверняка с нас спросят за то, что свой пост оставили. По крайней мере, я бы на их месте спросил. Не исключено, что за отказничество они увеличат воздаяние до максимума. Уж я бы на их месте точно увеличил. Нет, товарищи, лучше никуда не спешить и необратимых решений не принимать. – Я думаю, – произнес товарищ Великосредов, – что предложение Гедончука – это провокация. Похоже, бесы специально подучили его сказать это, чтобы хоть кто-то из нас покончил с собой, а они бы применили к его душе максимальное воздаяние, чтоб потом вытаскивать ее временами из ада – всем в назидание. Смотрите, мол, и бойтесь… – Ну, знаете ли! – вскочил Гедончук. – Это клевета и подлый выпад с целью опорочить мое честное имя! За такое надо розгами сечь или хотя бы бить в морду… На том же заседании, когда страсти притихли, Разговеев спросил одного из троицы французских «юношей», бывшего кюре Роллана, о том, что давно мучило, чему не находилось ответа: – Мосье Поль, мосье… («Юноша», сидевший рядом, обратил к Разговееву прекрасное лицо, обрамленное золотыми кудрями.) Быть может, вы знаете, почему они исповедуются вслух, а генерал-контролеры молча? Зачем мы вынуждены выслушивать все это… все эти мерзости от низших чинов? Почему бы им, как и высшим, не приходить к нам молча? К чему весь этот… звук? Право, тошно же! Лучше бы им всем молчать. «Юноша» посмотрел на Разговеева голубыми глазами, в которых блики безумия и житейская мудрость перемешались в единый фарш, и ответил (его русский язык был неудовлетворителен, однако мысль оказалась понятна): – Да, не молчал. Это порядок. Заведен женераль-контроль. Цель его ясен. Цель сей – унизить низкий чин вынужденными глоссолалиями. Они хотят быть молча, но женераль-контроль издеваются над ним. Унижать низкий чин – здесь их верх привилегия. И нет избежания из ней. А многий иной демон не допущен до исповеданий никак. И они метаясь и молить женераль-контроль, извиваясь обещать им себя всю, лишь бы едва удостоен быть унизиться сам перед нашими лицом. А что допущен, те многая лета стоят в очередном ряду, поджидая свой час на конфессию, и промеж них еще творится торговля номеров очередного ряда. Кадровая политика женераль-контроль в манипулируй поощрений и наказаний, продвижений и задвижений.

Словно собака, гложущая кость, грызла и облизывала душу Разговеева тоска. Ветер пустынный гулял над бесплодным полем его сердца. Ни огонька в нем, и небо одиноко висит в своей вышине. Куда-то попадали звезды, будто сбитые ветром шелковицы. Лишь голое отвращение чувств, широкое и прозрачное, колеблется над миром, как вуаль. И с горя не запьешь, потому как бесы, блюдя здравие твое, не дают тебе чашу веселья. И трезвая голова твоя безнадежно возвышается над сущностью твоей, не имея куда скатиться, дабы обрести место покоя и там забыться хоть на миг. Так минуют месяцы и годы без проблеска отрады и покоя. «О, Господи, Господи!» – шептал иногда в сердце своем Разговеев. Безобразные, гадкие рожи исповедников текли перед ним нескончаемой вереницей. И бесовские имена змеями вползали в уши. О, что за имена! Что за мерзость!
Ожманщаматардан… Ицлипитекантлеардеркамп… Маржучилтьяр… Щьещегынзаккгатц… Бормотамерморд… Куилояйямаздофер… О Господи, Господи!

Пришел на исповедь к Разговееву бес, курировавший следователя ОГПУ, который вел дело профессора Казанской духовной академии Несмелова. С Несмеловым Разговеев был знаком – не лично, нет, а через его знаменитую книгу «Наука о человеке», которую Разговеев читал в свое время с немалым удовольствием. Наверное, поэтому и разговорился с этим бесом – как косвенно причастным к уважаемому мыслителю. – Скажи, – спросил Разговеев, – а ты Бога видел? – Я о Боге только слышал, – отвечал бес. – Никто никакого Бога никогда не видел. Ангелов приходилось видеть. Из феномена их явлений некоторые делают вывод, что, возможно, где-то существует и Бог. Но фактами это пока не подтверждается, по крайней мере, такими фактами, которые нельзя было бы интерпретировать как-то иначе. Собственно говоря, и само существование ангелов не есть доказанный факт. Я склоняюсь к тому, что ангелы – это наши галлюцинации, искры бреда. Мерещится всякое… – Но ведь… как? – удивился Разговеев. – Вы же сами – падшие ангелы. Вы что, не помните, кем вы были, где были? – Да, снился мне сон, что я как бы ангел. Стыдно вспоминать. Или не сон, а затмение какое-то нашло. Но это давно было. Прошло благополучно, без последствий. – А если Бога нет, то для чего это все? С кем же вы боретесь? – Не надо только диалектику тут разводить, батенька! У меня на этот счет такое мнение: нет ни Бога, ни дьявола, ни вас, людишек, ни демонов, ни ангелов, а только я один и есть. Я. И кроме меня – ничего, никого. Бог, дьявол, ты и прочее – все это бред моего ума. Хожу я по закоулкам воображения моего и наблюдаю всякие бредовые картинки. Такое уж я замысловатое существо. Миллионы веков хожу, брожу и буду так ходить еще миллионы. И если я сам себя спрашиваю: с кем я борюсь? – то сам себе и отвечаю: с собой. – А зачем же ты ко мне на исповедь явился, если нет ни меня, ни генерал-контролеров, ни вообще всего? – холодно спросил Разговеев. – Сам не знаю, – ответил бес, – бред какой-то! Я же говорю: брежу я. А в бреду странное всякое случается. Так и не понял Разговеев, правду ли говорил бес – убежден ли он в существовании единственно себя, или все это было бессовестным враньем, издевкой над вопрошающим? Бесов часто нелегко понять.

И вот какая мысль пришла на ум Разговееву. «В каждом бесовском грехе, который я беру на себя, – размышлял он, – заключено чье-то спасение, облегчение и отрада: исступленный отец, желавший надругаться над дочерью, остановился, и девочка была спасена; командир, собиравшийся топить заложников в проруби, лишился своей добычи; и многие, многие порочные желания так и не осуществились. Все эти петли, что накидываются мне на шею в течение стольких лет, все они что иное суть, если не отрада и благословение?» Исповедуя очередного беса и произнося разрешительную формулу, Разговеев неожиданно для самого себя присовокупил: – Бог тебя да благословит! Демон вздрогнул, услышав это, судорога пробежала по его существу, взгляд, чиркнувший по лицу Разговеева, был полон злобы, трусости, недоумения и ужаса.

В одну из ночей Разговеев проснулся и обнаружил, что губы его шепчут слова молитвы. Не сразу и понял он, что это за молитва, но когда произнес: «От сряща и беса полуденнаго», то вспомнил: псалом девяностый! Разговеев лежал на своей постели и ждал, пока губы дошепчут молитву до конца. Потом поднялся, оделся и вышел из дома. Звезды ли висели посреди космической тьмы, или то были отверстия в черном потолке вселенной, сквозь которые сочился за-космический свет, а может быть, это взирали глаза каких-то святых, проникшие во тьму мира, – не понимал Разговеев значения звезд, но его сердце, обращенное к высоте неба, чувствовало в этих огоньках нечто словно бы напутствующее: «Иди!» Разговеев пошел. Он двигался прочь от своего лесного жилища, от ненавистной избы-исповедальни, в которой жил словно за щекой заглотнувшего его чудовища – рядом с грязными острыми зубами и отвратительным мясистым языком, способным утащить в шахту прожорливой глотки. «А как же бесы? – вспомнил он, поднимая вопрошающее лицо к небу. – Что они сделают со мной?» Звезды отвечали ему покоем бездонного молчания, и мысль о бесах под этим вечным покоем теряла всякое значение. Он увидел их на поляне, которую пересек в своем шествии: бесы сидели полукругом, при появлении Разговеева некоторые из них повернули в его сторону головы – сонное, заторможенное движение, в глазах пустота, тоска и мучение. «Они меня не видят, – откуда-то понял Разговеев. – Чувствуют, как что-то ускользает от них, но не могут понять, что». Еще более чудное Разговеев увидел далее. Колючий куст – может быть, терновый – обхватил своими ветвями генерал-контролера и держал его цепко и безжалостно. Безумный взгляд чудовища бессильно проследил за проходящим мимо человеком. Никогда бы не подумал Разговеев, что растения имеют власть над бесами, тем более над генерал-контролерами. Но это, возможно, и не совсем растение. Проходя мимо, успел заметить, что ветви куста обвивало легкое, по большей части прозрачное, пламя, не вредившее растению, и от пламени потустороннее тело демона слегка дымилось. Разговеев шел, все более ускоряя шаг, не чувствуя усталости. Иногда ему казалось, что не идет он, а плывет по воздуху, проносясь мимо деревьев, едва ли не поднимаясь к их верхушкам. Когда дыхание встающего солнца опалило нижний край восточной стороны неба, Разговеев уже приближался к неизвестному городу. Он шел среди человеческих жилищ и пьянел от близкого присутствия людей – простых людей, а не этих загнанных, сходящих с ума призраков, одним из которых был и он сам. Здесь, на улицах города, Разговеев чувствовал, что почти перестал быть человеком и сам того не заметил, однако теперь человеческое возвращается к нему и заполняет до краев. Перед первым же встречным Разговеев упал на колени и склонился лицом до земли, почитая в безымянном прохожем само человеческое естество в его сути. Когда он поднял голову, прохожий уже таял, исчезая в сужавшейся перспективе улицы. Потом – солнце стояло высоко над миром, а Лев Филимонович каялся перед архиереем, умоляя простить и принять его, вернувшегося едва ли не из бездны. Архиерей слушал исповедь и помышлял, что если удастся навести справки об этом неожиданном человеке, и он окажется действительно бывшим священником Львом Филимоновичем Разговеевым, то стоит, пожалуй, восстановить его в сане и направить в село Волки…

Не знал Лев Филимонович, какое время стояло в пространстве, какая беда витала над страной. Да и могло ли время иметь смысл для того, кто пришел с изнанки мира? Ему возвращали сан, и он обливался слезами радости, принимая священное достоинство в свое истосковавшееся чувство. Все дальнейшее, что происходило с ним, отец Лев различал плохо – словно бы яркий солнечный свет залил архитектуру мироздания, и от его блеска изнемогали глаза. Отец Лев отправился в какое-то село – может быть, Волки, а может быть, другое, он не придавал этому значения, и вниманием своим не цеплялся за имя населенного пункта, – служил там литургии, панихиды, молебны, крестил, венчал, исповедовал, причащал, освящал, благословлял… Мир за пределами священнодействий растворялся в слепящей белизне, и из нее возникали люди, подходившие к нему за той или иной требой, которую он, священник, должен был для них совершить. Все прочее, что творилось вдали от священнодействий, что не соприкасалось с ними, казалось, не имело очертаний – развоплощалось и растворялось в слепящих лучах. Впервые за многие годы этот человек был счастлив. Он плохо понимал и даже не понимал вовсе, что идет война и он находится на оккупированной германскими захватчиками смоленской земле, попавшей под управление рейсхкомиссариата «Остланд». Не знал и не понимал, что принявший его покаяние и восстановивший его в сане иерея преосвященный Стефан, епископ Смоленский и Брянский, подчиняется оккупантам. Да и узнай он это – не понял бы ничего в политике церковных властей, молившихся – в зависимости от местонахождения – то о победе Красной Армии, то о победе вермахта. Служить в храме – это казалось ему так же естественно, как смотреть на небо в ясную погоду. Не придавал он значения тому, что его сельский храм, как и множество храмов в тех краях, был открыт вермахтом, коварно выправлявшим последствия антирелигиозной политики большевиков. И когда партизан Илья Пластонов, несущий, словно Прометей, огненный гнев и возмездие советского народа, убил отца Льва как предателя и фашистского прихвостня, тот, умирая с перерезанным горлом – так почудилось партизану, – улыбнулся и прошептал сквозь пузырящуюся на губах кровь что-то вроде «бул» или «блы»; разобрать это не представлялось возможным. Облака отражались в крови священника, и отражения птиц пролетели по ней. Пластонов стоял над издыхающим пособником оккупантов и пламенел невидимым святым огнем мщения за страдания своего народа. Последней каплей взгляда умирающий Разговеев увидел стоявшего над ним партизана с ножом в руке, окруженного огненным сиянием (святой огонь мщения стал явен утопающему в смерти глазу), и подумал: «Это же он… Илья пророк святой, с неба сошедший на колеснице огненной…» – Посмейся мне тут, мразь, посмейся! – в священном гневе произнес партизан и обрушил каблук сапога на умирающее лицо.
Тень моего брата

Честно скажу, не было у меня никаких чувств на похоронах брата. Равнодушие. Скука. Вот и все. Даже удивился собственному спокойствию. Да и то – удивился тоже как-то равнодушно. Мы были с ним близнецами. Впрочем, что там «были» – и теперь продолжали оставаться ими. Близнец живой, близнец мертвый. Одно лицо на двоих. В характерах никакого сходства, зато внешне нас не различить. Смотрю на него, в гробу лежащего, и вижу там себя самого. Жутковато – точнее, должно быть жутковато. Но я спокоен. Возможно, мое спокойствие – защитная реакция, маскировка, и под ней я спрятался от жути, которой надлежало меня охватить при взгляде на это мертвое точь-в-точь мое лицо. Одна из причин, по которой я сторонился Игоря, как раз в том, что слишком уж мы с ним похожи. Будь мы рядом, нас обязательно путали бы, а брат человек такой, что не преминул бы использовать это сходство для своей выгоды. Вечно затевал какие-то аферы, манипулировал окружающими, строил мутные планы, влипал в ситуации, из которых потом с трудом выкручивался, в общем, ходил по краю. Я с детства любил читать: сначала сказки, потом фантастику, потом мистику, ну, и классику, само собой, читал в свое время и даже раньше положенного, лет с пятнадцати зачитывался поэзией, особенно декадентами и символистами. Брат же не читал ничего, кроме справочников и руководств, да и тех прошло через его руки совсем немного. Особенно ценил здоровенный увесистый том медицинской энциклопедии, хотя призвания к медицине не чувствовал, энциклопедия увлекала его прежде всего описаниями всевозможных патологий. Когда я ушел в армию, брат отмазался от призыва, мастерски симулировав заковыристое нервное расстройство, симптомы которого вычитал в медицинской энциклопедии, а потом в точности воспроизвел перед врачами. Я родился на несколько минут раньше – был формально старший, и родители внушали нам, что старший – я, а младший – он. Усвойте и не забывайте. Простая схема, которая была для них так важна. Отец ведь любил все раскладывать по полочкам, строить всех по ранжиру. Иначе и не мог смотреть на мир, как только через сетку координат, в которой определял точные фокусные расстояния до всякого предмета и явления. Мать, конечно, во всем отца поддерживала. Но постепенно я, старший брат, осознал, что Игорь не потому вслед за мной явился на свет, что был младше. Нет, он пропустил меня вперед, до времени затаившись и выжидая. Как сильные и властные запускают в опасное пространство сперва более слабого и малоценного, кого не жалко. Такое ощущение подспудно вызревало у меня годами, проведенными с братом бок о бок. Вернувшись из армии и устроившись на работу в сюрвейерскую компанию, я тут же съехал от родителей, оставив их с Игорем в трехкомнатной квартире. Тогда, во второй половине девяностых, в сюрвейерских компаниях прилично зарабатывали даже простые тальмана. Так что жил безбедно, к тому же через несколько лет из тальмана стал инспектором, хотя не имел высшего образования. Отец меня искренне не понимал, ему казалось, это так непрактично – платить за съемное жилье, когда в родительском гнезде пустует твоя комната, отдельная, в которой можно, если что, и на ключ запереться, «мой дом – моя крепость». Отец все-таки плохо знал Игоря, поэтому не понимал моих мотивов. Уже с четырнадцати лет я мечтал сбежать подальше от брата – особенно после истории со стариком-инвалидом. Странная история. Жуткая. В такое вляпавшись, дорого захочешь заплатить, лишь бы вытравить все это из памяти. Мы тогда учились в восьмом классе. Игорь как-то рассказал мне про старика-инвалида, Гурия Глебыча, который жил в одном доме с парнем из нашего класса, Колей Увельцевым, этим угрюмым, себе на уме, толстяком. Кольян – так мы звали его – был в нашем классе новичком, его семья переехала из одного района города в другой, из квартиры в частный дом, и он поменял школу. Увельцев рассказал Игорю, что через подъезд от бывшей его квартиры живет на втором этаже одинокий старик, лежачий инвалид. С постели давно не встает, ходить не может, однако в дом престарелых не желает отправляться ни в какую. Ему и так хорошо. А все потому, что старик, рассказывал Кольян, бывший врач-психиатр, который занялся колдовством или чем-то вроде того и получил власть над людьми. Гипноз и магия заменили ему руки и ноги, почти отказавшие из-за паралича. Входная дверь в квартиру старика постоянно открыта, даже зимой, и кровать его так стоит, что из своей комнаты он видит, через прихожую, часть лестничной площадки, поэтому все, кто проходит по ней, спускаясь или поднимаясь, попадают в его поле зрения. А попавшись ему на глаза, попадают и под его власть. Пользуясь непонятной силой, старик заставляет свои жертвы оказывать ему всякие услуги. Так и живет – словно паук, раскинувший сети и собирающий мух вокруг себя. Пересказав, что поведал ему Кольян, Игорь уговорил меня отправиться к этому старику. Посмотреть на него – как на диковинного зверя в зоопарке. Мы поехали на другой конец города, нашли нужный дом и подъезд. Только вошли в него, как Игорь сказал мне, что надо провести эксперимент: пусть я сниму свой крестик и отдам ему, так чтобы на нем два креста висели, а на мне ни одного. Это, мол, для того, чтобы проверить и сравнить, как сильно магия с гипнозом будут действовать на человека без креста и на человека с двумя крестами. Научное, а скорее, псевдонаучное любопытство часто заводило Игоря в какие-то дебри. Короче, отдал я крестик, и начали мы подниматься. На втором этаже одна из дверей была открыта. Я шел первым и перед дверью оказался тоже первым. Замешкался. Но Игорь подтолкнул меня в спину, я переступил порог. Короткая прихожая сворачивала вправо, на кухню, а по прямой заканчивалась межкомнатной дверью, тоже открытой, как и входная. Из квартиры и впрямь можно было наблюдать за лестничной площадкой, если лежишь в комнате, на кровати, напротив открытой двери. Но лежал ли там кто-то, смотрел ли на нас, было не ясно. Дверной проем, ведущий в комнату, заполняла темнота. Видимо, там плотно зашторены окна, поэтому и темно. – Проходи, – Игорь шепнул мне в затылок, и я вошел в темноту. Когда глаза начали привыкать, то в сером сумраке, сочившемся из прихожей – пусть не свет, однако светлее той темени, что заполняла комнату, – я различил кровать, она стояла у стены напротив двери, но человек ли лежал на ней или только груда смятого белья, этого уже было не определить. Игорь, толкая в спину, дал мне понять, чтобы я шел направо вдоль стены, в дальнюю от кровати часть комнаты, где, вероятно, был выход на балкон. Мы осторожно двинулись туда, стараясь не шуметь. Я думал, сейчас дойдем до шторы, которой закрыты окно и балконная дверь, тогда штору можно будет отодвинуть, пропустив с улицы немного света. Но там, куда мы пришли, нас ждала глухая стена. И такого не должно было быть. Дом – обычная пятиэтажка, простая и понятная, и в той стене, к которой мы подобрались в темноте, обязательно полагалось быть выходу на балкон. Однако его не было. Неужели мы заблудились в простейшей квартирной планировке? Или выход на балкон замурован? – Ребятки, – раздался в темноте старческий голос, – как хорошо, что вы зашли! Уважили дедушку. А то скучно ему одному. Чуть дребезжащий, с хрипотцой, этот голос обволакивал, как клей, присасывался, будто множеством жадных присосок, поглощал внимание, впитывал его в себя, как впитывает воду песок. – Вы не стесняйтесь, вы же в гости пришли, а не для чего-нибудь дурного. Правильно же дедушка догадался? Правильно, правильно! Дедушка догадливый. Такие хорошие ребята, как вы, редко к нему заходят, поэтому для дедушки всегда праздник видеть молодых да юных. Вы не подумайте, что ежели темно, то дедушка вас и рассмотреть не может. Может, может! Он даже больше видит, чем вы при свете способны увидать. Дедушка-то у нас глазастый! Вы только не бойтесь, ребятки. Олежка, мальчик мой, ты чего дрожишь? В тот самый миг, как старик назвал меня по имени, я внезапно затрясся, словно бы в его вопросе «чего дрожишь?» заключался приказ, активирующий дрожь в моем теле. – Что ты, родненький, а? – продолжал старик. – Неужели тебе страх нравится? Ну, раз нравится, то дело хозяйское – бойся. Чего уж! От этих слов меня охватил страх. Избавиться от него, стряхнуть с себя, как налипшую паутину, не было никакой возможности. Какие-то мертвецки холодные губы присосались к сердцу. Я прислонился спиной к стене, ноги подогнулись, я сполз вниз, сел на пол и дрожащими руками обнял свои колени. Пришла мысль, что мы в ловушке. Точнее, не мы – про Игоря в тот момент я и не думал, – а я в ловушке, я. – А ты, мальчик, тебя-то как звать? – старик обращался уже не ко мне, к Игорю, и странно, что сам не смог назвать его имя, как назвал мое. – Олег. Я тоже Олег, – соврал Игорь; голос его звучал спокойно, без суеты, без паники. – Так-так-так, – произнес старик задумчиво. – Олег и Олег… Ну что ж, ребятки, Олежки мои, раз пришли дедушку проведать, то вот вам и задание. У дедушки живность всякая развелась. Наверное, что-то сдохло под кроватью. Пауки, сороконожки, тараканы, крысы и еще не пойми что. Вы уж поймайте, сколько сможете, а дедушка вам за это спасибо скажет. А чтоб вам сподручнее ловить было, дедушка вам разрешит в темноте видеть. Оп! И тут же, после «оп», я прозрел. Темнота не рассеялась, но сквозь нее стало видно все вокруг. Пустая комната: ни мебели, ни предметов, не было даже обоев на стенах. Лишь кровать, и на ней старик. Глянув в другую сторону, я увидел, что точно не было никаких окна и балконной двери там, где им полагалось быть, только голая ровная стена, зато в противоположной стене, возле которой стояла кровать, имелась дверь в смежную комнату, чуть приоткрытая. Мне показалось, что за той дверью кто-то стоит и наблюдает за нами из темноты, которая чернее и гуще, чем темнота здесь, в этой комнате. Оттуда, из-за двери, словно какой-то ядовитый газ, выползал страх. Я почти видел его дымчатые локоны, и это был совсем не тот страх, что заставил меня дрожать после слов старика о страхе. Мой страх был простой и человеческий, а из щели в смежную комнату выползал страх необъяснимый, более жуткий, более кошмарный, словно дыхание какого-то запредельного чудовища, парализующее всех и вся. Сразу я не придал значения тому, что увидел, но осознал задним числом: не было двери в прихожую, через которую мы вошли в комнату. Дверь исчезла, на ее месте была глухая стена. Единственный выход теперь вел в страшную смежную комнату. А на полу кишела живность. Бегало, ползало, шуршало, извивалось, жрало друг друга суетливое скопище мелких уродливых тварей. – Ну что ж вы, Олежки мои, смелее, – подбодрил старик. – Ловите подлецов, чтоб им неповадно было. На коленки встаньте, так сподручней будет, и ловите. Я послушно встал на четвереньки, пополз по полу. Противиться приказу не мог и не хотел. Оглянулся на Игоря – тот отделился от стены, губы чуть тронуты полуулыбкой, и двинулся к двери в смежную комнату. Приоткрыл ее пошире, скользнул в щель и пропал в густой смолистой тьме. Я тут же потерял к брату интерес, меня привлекала живность, метавшаяся по полу. Поймав здоровенную сороконожку, я вопросительно глянул на старика; тот молча улыбнулся, и я понял, что мне делать. Не задумываясь и не колеблясь, съел эту извивавшуюся тварь. Именно этого ждал от меня старик, и обмануть его ожидания было никак нельзя. Сороконожка, плохо прожеванная и проглоченная, продолжала извиваться внутри меня. Впервые в жизни я ел что-то живое, сопротивлявшееся пожиранию, и понял, как много потерял, не пробуя раньше глотать кого-то живьем. Было в этом странное волнующее удовольствие. Ползая по полу, я с мрачным азартом хищника хватал все, до чего мог дотянуться, и тут же впивался зубами в боровшиеся за жизнь мелкие существа. Они кусали и жалили меня в язык, в губы, в небо, в изнанку щек, но меня это только распаляло, ведь если пища сопротивляется едоку, то – пришла мысль – это словно бы изысканная приправа к блюду. Борьба, ярость, ужас и отчаяние жертвы – все это пряности и специи своего рода. Вспоминая об этом позднее, когда отрезвился от наваждения, я решил, что никакой живности на самом деле не было, что я ловил и глотал собственные галлюцинации, а все многочисленные ранки на губах, языке и в ротовой полости возникли вследствие гипнотического внушения, столь сильного, что из области психики оно сумело дать метастазы в соматику. Помнить об этом и думать, что я действительно хватал руками и запихивал в рот пауков, сороконожек, земляных тараканов, жуков, лягушек, слизней, крыс, – было бы невыносимо. Кроме того, одно из существ, пойманных мною в той комнате, уж точно не могло быть реальным. Это был маленький, полтора десятка сантиметров ростом, человечек. Я схватил его, обнаженного, испуганного, извивающегося, и поднес к лицу. Человечек смотрел на меня с ужасом. Я чувствовал, как под моим пальцем, прижавшим его грудную клетку, колотится его маленькое сердце. Присмотревшись, я понял, что держу в руке уменьшенную копию себя. О том, что человечек был похож не только на меня, но и на Игоря, я не подумал, о брате я тогда просто забыл. Ужас маленького существа передавался мне и возбуждал. Такое сладостное ощущение. Я оскалился. Безумный ужас мерцал в глазах человечка. Я впился ему в руку и отгрыз ее. Он закричал от боли. И я ощутил, как по моей руке, свободной в тот момент, ползет онемение, а тело раскаленной иглой пронзает жуть, такая осязаемая, нервно-кровяная, словно то был не психологический аффект, а чисто телесное явление, вроде жжения или зуда. Отгрызая человечку руки и ноги, я чувствовал, словно в меня самого впиваются какие-то огромные челюсти, выползшие из кромешной тьмы. У четвертованного, но еще живого тельца я отгрыз сперва нижнюю часть, под грудную клетку. Искалеченный обрубок человечка продолжал жить. Затем верхнюю половину его проглотил целиком, слыша, как слабый крик, скорее хрип, проваливается в глубину моего тела. Одновременно мне показалось, что пол уходит из-под ног, и я сам проваливаюсь в страшную глотку пустоты, словно бы измельчаемый в падении острыми зубцами и колесами разверстого ужаса. Тьма всасывала меня в себя, и чем глубже я осыпался в нее, измельченный, фрагментированный, но все еще мыслящий, тем черней она становилась, словно за крайней чернотой раскрываются более темные – глубинные – уровни тьмы. Как выбрался из квартиры старика, я не помнил. Было лишь ощущение, что квартира выплюнула меня, будто скорлупку от семечки. Кое-как я спустился по ступенькам, норовившим выскользнуть из-под ног, и пошатываясь вышел во двор. В небе разлился мрак позднего вечера. Когда вернулся домой, оказалось, Игорь давно уж там. Как ни в чем не бывало спросил, где я шлялся. Отвечать ему не стал. Мать разогрела мне остатки ужина. Но я смотреть не мог на еду, к горлу подкатывали рвотные спазмы. А недели две-три спустя Кольян открыл мне кое-что. Игорь ведь умолчал о тех инструкциях, которые получил от Кольяна. Откуда сам Кольян все это взял, я не спрашивал. Короче, Игорь, предложив что-то взамен, получил от Кольяна магический амулет, выточенный из дерева, который следовало повесить на шею перед тем, как входить в квартиру старика. Этот амулет был якобы проверенным средством, защищал от гипноза, а возможно, и от магии, если старик и впрямь ею пользовался; защита не позволяла чужой воле овладеть тем, кто носил амулет на себе. Только нательный крестик, если был, обязательно следовало снять и положить себе в обувь, под пятку. Похоже, Игорь сделал так не только со своим крестиком, но и с моим. Когда я поднимался по лестнице спиной к Игорю, у него была возможность незаметно вложить полученный от меня крестик себе в кроссовок. Могу представить, как поджаривался Игорь на жгучем желании проверить, что случится в страшной квартире с ним, защищенным с помощью амулета, и со мной, лишенным всякой защиты. Когда я припер брата к стене, потребовав честно рассказать, как все было, Игорь ответил, что ни в какую квартиру к старику мы не входили, – «Неужели не помнишь?» – но, поднявшись на этаж, увидели, что там заперты все двери. Тогда Игорь ушел на троллейбусную остановку, а я, дескать, сказал, что зачем-то задержусь. Говорил Игорь с такой искренностью, что хотелось ему верить, но я-то ведь помнил… Впрочем, сказанное Игорем звучало правдоподобно, мои же воспоминания были каким-то бредом. – Я видел, как ты входил в ту комнату, ну, во вторую комнату. Что там было? – допытывался я. – Дурак, что ли? Я тебе говорю, никуда я не входил. Какая, на фиг, вторая комната?! Я и в первой-то не был. У тебя, походу, крыша сдвинулась. В итоге я оставил Игоря в покое. Подумал, может, я и правда помню то, чего не было? Или же Игорь, войдя во вторую комнату, столкнулся там с чем-то таким, о чем настолько не желает говорить, что теперь отрицает даже и то, что вообще заходил в ту квартиру. Крестик я, кстати, потом нашел у себя в комнате на полу. После этого случая доверять Игорю я перестал. И сам Игорь как-то странно изменился: взгляд потяжелел, ухмылка стала более желчной, в общении часто затормаживался, словно думал о чем-то своем, невыносимо долго тянул с ответами, когда спрашивали, вообще стал как-то мрачно рассеян. В армии я почувствовал, как же это хорошо, когда нигде рядом не маячит даже тень моего брата. И потом, съехав на съемную квартиру, я вздохнул с таким облегчением, словно с головы моей сняли целлофановый мешок, в котором я задыхался годами. Пятнадцать лет дышал свободно. Успел и жениться, и развестись. Детей, правда, не завел. Сменил работу, из своей сюрвейерской компании ушел в другую компанию, занимающуюся контейнерными перевозками, где зарплата повыше. И вот позвонил отец, сказал, что Игорь мертв. Убили его, подумал я, или же он сам себя прикончил? Оказалось – второе. Меня это ничуть не удивило. Самоубийство Игорю шло. Такой патологический любитель экспериментов, как он, пожалуй, мог прикончить себя из любопытства, ради опыта. Игорь, когда впадал в экспериментаторский раж, делался просто одержимым. Хоронили его без церковного отпевания, свечей и молитв. Самоубийц ведь, даже крещенных, не отпевают. Есть, правда, какие-то исключения на этот счет, только к Игорю они не относились. Он вспорол себе живот остро заточенным кухонным тесаком. Не из самурайских соображений – японской культурой брат не увлекался, – а черт знает из какой прихоти. Его нашли уткнувшимся лицом в собственные изгрызенные кишки. Умирающий, он занимался самопожиранием. И делал это в бывшей моей комнате; родители всегда держали ее приготовленной к моему возможному возвращению, надеяться на которое не переставали. Когда отец рассказал мне все это, я сразу подумал, что Игорь вовсе не спятил, как решили родители, но наверняка совершал какой-то магический ритуал. В школе Игорь увлекся магией, читал распечатки с какими-то оккультными инструкциями, которые дал ему Увельцев, но потом пришел к убеждению, что магические ритуалы следует изобретать самому, с нуля, а не пользоваться чужими схемами. Не знаю, насколько продвинулся он в самопальной магии, на эту тему брат со мной не откровенничал. К тому же на отношениях наших как раз тогда и выступил иней. Но я почему-то был уверен, что вспоротый живот и пожирание собственных внутренностей – это ритуал или часть ритуала, изобретенного Игорем для только ему ведомых целей. Просто так, без расчета на результат, на отдачу, брат никогда ничего не делал. В гробу он лежал красавцем: спокойный, благообразный. Как раз про таких покойников и говорят: «Словно спит». До жути похожий на меня. Мама на похоронах пару раз назвала меня Игорем, не заметив ошибки. Быть может, в ее сознании что-то перевернулось и она сочла мертвым не того сына? Я переехал к родителям, чтобы поддержать их после похорон. Сказал себе, что переезжаю временно. Но подспудно шевельнулось предчувствие, что, скорей всего, больше не вырвусь. Выбирал, какую комнату занять – мою или брата? Впрочем, теперь обе комнаты стали его: в одной он жил, в другой устроил этот кошмарный суицидальный акт. И там и там оставил след, только след смертельный был, конечно, глубже. В итоге я перетащил мебель из одной комнаты в другую, и со своей старой мебелью обосновался в бывшей комнате брата.

Отец рассказал, что Игорь, жениться принципиально не желавший, за все эти годы, что мы жили врозь, сменил множество подружек, со счета можно сбиться, но последняя из них была особенной. Марина. Она единственная забеременела от Игоря. – Родила? – спросил я, взволновавшись; неужели, подумал, у меня теперь есть племянник или племянница… – Нет, – отец покачал головой, – аборт сделала. Закурил. Пальцы его, державшие сигарету, чиркающие спичкой о коробок, заметно подрагивали. – И, ты понимаешь, – процедил зло, – она ведь хотела родить, но Игорь… Этот говнюк заставил ее аборт сделать. Правильно, потому она и на похороны не пришла, возненавидела его. Младше Игоря на двенадцать… представь только, на двенадцать лет! И как же он этой девчонке сломал жизнь! Ты бы ее видел, эту Маринку. Мечтательница, фантазерка, глазищи на пол-лица, дюймовочка такая… Черт! Знал бы – прибил бы говнюка своими руками. Он мне потом сам все рассказал. Рассказывал и наслаждался эффектом. Я тогда еле сдержался, чтобы не врезать ему по наглой морде. А он видел, что я закипаю, и, представляешь, ухмылялся. Нравилось ему за нитки меня дергать. Сказал, что предложил Маринке повеситься. Вот как это?! Подталкивал ее, подлец. Слава богу, она удержалась. Ну и ну! Отцовский рассказ меня просто придавил, как бетонная плита. Обязательно, подумал я, встречусь с этой Мариной. Отец дал номер ее телефона. Я позвонил, объяснил, что я брат Игоря, что хочу встретиться и просто поговорить. Она согласилась. Договорились о встрече в кафе «Абрикос», я сказал, что узнать меня будет легко, потому что я вылитый Игорь, так что пусть заранее приготовится увидеть его лицо, только пугаться и смущаться не надо.

Она все-таки испугалась. Кожа на лице как-то вмиг потемнела, у глаз обозначились темные круги, которых не было за секунду до того. Удивительная перемена. Словно к 3D-модели применили какой-то компьютерный спецэффект. Хорошо хоть не убежала, но подошла к столику, за которым я сидел. Напряженная, как натянутая струна. Проведи по ней смычком, подумалось мне, и тут же по воздуху разольется тягучий, мрачный виолончельный скрип и стон, черный, будто нефтяное пятно, ползущее по воде. Поднялся ей навстречу. Стул для нее отодвинул. К ней самой не прикасался. Боялся, что она не перенесет прикосновения и выбежит вон. Марина не отказалась от вина, и это было хорошо, потому что вскоре от выпитого расслабилась, и мы спокойно поговорили. Я рассказывал про свои отношения с Игорем, она рассказывала про свои. Действительно, Игорь заставил ее сделать аборт. Надавил так, что сопротивляться было невозможно. Наговорил едких гадостей, в придачу сказал, что у такого подлеца, как он, и отпрыски будут подлецы, и, если она все-таки родит, он обязательно постарается, чтобы сын (почему-то был уверен, что именно сын) люто возненавидел свою мать. – Вы знаете, Олег, у меня было такое чувство, будто на моих глазах Игорь вдруг превратился в какое-то омерзительное существо, в подколодную гадину, в безобразное насекомое. Только что был человек – и вдруг что-то извивается, что-то кишит перед тобой, как тухлятина какая-то, полная червей. Это было неожиданно. И так противоестественно. Я еще подумала тогда, что ведь ношу в себе частицу вот этой самой мерзости, которая сейчас выворачивает себя наизнанку предо мною. Она и впрямь была дюймовочкой, как выразился отец. Только в глазах этой миниатюрной сказочной куколки застыла такая глубинная боль, что невольно становилось стыдно за собственное беспечное существование.

Ночью, после этой встречи, мне приснился сон, до того кошмарный, что, вырвавшись из его липкой трясины, я лежал, мокрый от пота, хватая воздух ртом, будто рыба на берегу. Снилось, что я – Игорь. Что мы с Мариной в каком-то незнакомом доме. Похоже, дача в поселке. И мы – любовники. Над нашей постелью окно с охристой шторой, цветок в горшке на подоконнике. Ласкаем друг друга, быстро впадая в неистовство. И когда я лихорадочно вхожу в Марину, когда лезвие острейшего наслаждения уже вспарывает меня, лицо Марины, обезображенное внезапным ужасом, словно бы проваливается вглубь, как в зыбучий песок, обезличивается, утрачивая характерные черты, и затем превращается в мое лицо, точнее, в лицо брата. Он облизывает губы, словно бы только что сожрал Марину и наслаждается послевкусием. Длинный, будто змеиный, язык, просунувшись наружу, медленным круговым движением облизывает его лицо, от подбородка до лба и снова до подбородка. Кожа, тонкая как папиросная бумага, липнет к языку, сползает, обнажая что-то черное, нечеловеческое, кошмарное. В этот миг я и проснулся, заметив – или то был последний обрывок сна? – как с моей кровати бесшумно вскакивает темная человеческая фигура и сливается с густой тенью у дальней стены комнаты. Лежал, тяжело дыша, всматриваясь в темноту, особенно плотную в том углу, где шкаф примыкает к стене, а рядом на крючках висят мои куртка и джинсы. Нет, конечно: мне померещилось, что там кто-то затаился. Сон, все сон. Мобильник на тумбочке рядом с кроватью завибрировал, его экран загорелся. Я успел нажать кнопку приема, пока не включилась мелодия вызова. Голос Марины – неуверенный, запинающийся – донесся из динамика: – Олег, только извини… Поздно, да? Но… Я тебя не разбудила? – Нет. У меня сон дурацкий был, страшный. Проснулся, и как раз ты звонишь. Зачем, спрашивается, я рассказываю про сон? Еще бы рассказал, что именно мне снилось! Я почему-то обиделся и разозлился на самого себя. Эмоции застигнутого врасплох человека бывают иногда очень нелепы. – Понимаешь, Олег, мне нужно тебе рассказать еще… кое-что. Я не могла глаза в глаза. Да и вообще, думала, лучше не рассказывать такое. Но… ты должен знать. Только давай договоримся. Расскажу, и после этого ты не будешь звонить, и встречаться мы не будем. Я просто не вынесу, если потом посмотрю тебе в глаза, зная, что тебе все это известно. И ты… ты, пожалуйста, никому об этом не говори, родителям своим не говори. Обещай мне. – Хорошо. – Нет, ты обещай. Я серьезно. – Обещаю. Так что там? – Когда… Игорь на аборт меня отвел… он договорился… чтобы ему отдали… остатки… останки… Каждая новая пауза в ее речи была мучительнее предыдущей, я почти слышал, как в паузах звенит напряженная тишина, и наконец что-то в той тишине лопнуло и оборвалось. Марина начала рыдать. Я не утешал ее, не говорил успокоительных банальностей. Да и что сказать? Пусть плачет. Глотать слезы для нее сейчас лучше, чем выслушивать фальшивые и необязательные слова. Все равно ведь настоящего сочувствия, которое могло бы облегчить душевную боль, у меня нет, и никак не выдавить из себя, а вежливость в таких ситуациях – плохое лекарство. Поэтому я просто молчал и ждал. Наконец она продолжила: – Мы поехали… после аборта… на дачу родителей моих, в Раевку. Игорь взял с собой останки. Я думала, он похоронить хочет. А он… сказал мне: «Давай съедим это». Тогда я поняла, что он безумен. Уговаривал меня, уверял, что это почему-то важно и нужно – съесть младенца. Я сказала, чтобы он ко мне даже не приближался… с этим. И тогда… он тогда съел… все это у меня на глазах. Прямо так, сырым. Как зверь. Это было страшно. Это было… как во сне. Он вгрызался, глаза блестели, текла кровь по подбородку, капала на грудь. И от него исходил такой ужас… То, как он смотрел… на останки… Это какое-то запредельное зверство, что-то совсем античеловеческое. Сумерки уже начинались. Мне мерещилось что-то страшное во дворе, словно лезло к нам, словно что-то заползало. Какие-то незаметные твари, туманные черные силуэты. Потом Игорь начал мне говорить, что в каждом предмете кроется страх, но не всякому дано познать страх предмета. Нужно найти свой предмет. Личный. Который откроется тебе, потому что для тебя он предназначен. А как найдешь, постарайся выделить его страх, извлечь, выманить наружу. Чтобы чувствовать, как потоки страха, вытекая из предмета, тебя накрывают, на тебя наползают. Как удушливое покрывало. И он сказал, что для него такой предмет – это я. Что я полна страха, скрытого, липкого, черного, ядовитого, горького, но сама об этом не знаю. И никто не знает. Этот страх дано познать и вывести только ему, потому что я существую в этом мире как его личный предмет. Его ключ от дверей, ведущих в глубины. И то, что мы с тобой убили ребенка, – он так и сказал: «мы с тобой», – это только поможет открыть дверь. Он заставил меня сидеть на полу, а сам ползал вокруг, будто огромное насекомое, алчно как-то рассматривал меня со всех сторон, бормотал и шептал себе под нос какие-то молитвы или заклинания. Слов не разобрать. Потом вдруг засмеялся. У меня от этого смеха мурашки поползли. Мне казалось, Игорь сейчас кинется на меня, вопьется в меня зубами. Кинется не как человек, а как насекомое, как паук огромный или клещ. Меня тогда парализовало от жути. Я… ну, я обмочилась. Извини, что про это говорю. А он лакал с пола мою мочу, вылизывал ее языком. Так мерзко! Потом оцепенел, глядя на меня. Застыл, стоя на четвереньках. Долго смотрел. Каким-то – не знаю – загробным взглядом. И его накрыл страх. Лицо исказилось, задрожали губы, зубы начали стучать, кожа побледнела, стала землистой. Он трясся, как в лихорадке, и отползал прочь от меня, но взгляда все не отрывал. Пятился, дрожал всем телом. А мне передавался его страх. Игорь отполз к стене, вжался в нее и так смотрел на меня… так… и глаза его округлились, а зрачки стали большими, и в них словно бездна, сплошной ужас. Потом он вскочил и начал метаться по комнате. В панике. И закричал от ужаса. Словно бы я превратилась в чудовище, которое убивало его одним своим присутствием. Не громко закричал, а как-то так тихо, тонко, с хрипом. Такой ужас был в этом крике, такая обреченность, такое отчаянье. Он боялся меня, но не мог убежать, словно его держало что-то, как на цепи. А я… знаешь, я сама начала бояться себя, будто я – посторонняя себе самой, злая, опасная, будто я какая-то хищная тварь. И, знаешь, мне правда хотелось кинуться на Игоря и растерзать его. Вгрызться ему в горло, напиться его крови. А он поймал мой взгляд, и я поняла: ужас его усилился настолько, что мышцы тела начали отказывать. Лежал на полу, уже не способный шевелить ногами и руками, смотрел на меня… на боку лежал… и бился головой об пол. Глаза не моргали, веки не закрывались. Полностью оцепеневший взгляд. На меня какая-то пелена наползла, я потеряла сознание. Наутро, когда очнулась, он сидел рядом, смотрел на меня и говорил, что я – его богиня ужаса. Уговаривал меня покончить с собой. Говорил: убей себя, хочу посмотреть на тебя мертвую, ты мертвая будешь прекрасней, чем живая, ты начнешь источать такой ужас, что можно будет умереть от него, и тогда мы вместе окажемся в аду, познаем весь его кошмар, заглянем в самую бездну, присосемся к океану страха и ужаса, бесконечно будем пить его тьму, его безумие, из вечности в вечность… Олег! Ты понимаешь?! Игорь был сумасшедший. Но это не простое сумасшествие… какое-то другое… не знаю, что за болезнь, что это вообще такое, как это назвать… Голос Марины, сочась из динамика телефона, звучал над ухом, будто комар, зависший возле головы, – этакий спутник над планетой, сорванной с орбиты, летящей сквозь космос, вдали от всяких солнц. Тишина вокруг этого голоса наливалась тяжестью. И сама темнота словно потяжелела. Мне почудилось, как что-то шевелится там, во тьме, густеющей у дальней стены. Что-то злобное, хищное, грозное. Или это шевелилась сама тьма, уплотняясь и обретая подобие животного существования? – Марина, скажи, – спросил я внезапно, – у тебя на даче какого цвета занавескина окнах? – Желтые, – ответила она. – Охра, точнее. Почему ты… – А цветок в горшке на подоконнике около кровати, – перебил я. – Что за цветок, такой темно-сиреневый? – Глоксиния, – и встрепенулась: – Подожди! Ты откуда знаешь? Игорь тебе сказал? – Это не Игорь, Марина. Он мне ничего не рассказывал. Мы же с ним давно не виделись. Да и когда виделись последний раз, ни о чем не говорили. Мне не о чем с ним говорить. Не знаю, это совпадение какое-то, что ли. Я видел… ну, тебя с Игорем во сне. (Язык не повернулся сказать правду – что видел ее и себя.) В каком-то сельском доме, там охристые такие занавески, цветок на подоконнике, над кроватью, кровать еще такая с высокой металлической спинкой, скрипучая… – Игорь… – она осеклась и поправилась: – Олег. Ты больше не звони мне. Пожалуйста. Я тоже не буду. Сотру твой номер. И ты мой сотри, хорошо? Прощай. Марина отключилась. Я тут же удалил ее номер из контактов. Отложил мобильник в сторону, поднялся с постели, пошел босиком в темноту. Туда, где мерещилось шевеление, в то сгущение тьмы, с которым слилась пригрезившаяся в миг пробуждения фигура. «Здесь кто-то есть?» – хотел спросить, приближаясь, но голос мне отказал. Темнота с каждым шагом не редела, а напротив – становилась плотнее, и мне не хватало воздуха в той тягучей тьме. Казалось, пора упереться в стену, казалось, справа должен быть шкаф, слева – одежда, повисшая на крючках, но темнота словно раздвигалась, вбирая меня в себя. Это была глотка, и она втягивала пищу. Оглянувшись назад, я не увидел ничего – ни кровати, ни пятна лунного света на стене. Только тьму. Где я оказался? Куда попал, попытавшись совершить путешествие к дальней стене комнаты? Я галлюцинировал? Спал на ходу? Или реальность вокруг меня проедена какой-то потусторонней молью, пожирающей саму сущность материального бытия, почему я и прошел сквозь брешь и вошел… только во что? Передо мной стоял Игорь, вынырнувший из тьмы, как из черной жидкости. Голый, с распоротым животом, из которого вываливались внутренности, свисая и прикрывая пах. В его распоротом чреве что-то шевелилось, ползали какие-то существа. Видел я это тем же изощрившимся в темноте зрением, что в детстве прорезалось у меня в комнате старика-инвалида. Приглядевшись, различил среди вскрытых внутренностей крысиную морду, мелькнувшую и тут же пропавшую. А затем – маленькие детские головку и ручки, гораздо меньшие, чем бывают у новорожденных. Миниатюрный ребенок взглянул на меня – он не был слеп, внимательные глаза блеснули бусинками. От этого взгляда мне стало не по себе, словно в меня, до самого сердца, вонзилась игла. Маленькое существо оскалилось, обнажая мелкие острые зубы, вроде рыбьих, и впилось ими в кишечную мякоть. По лицу Игоря пробежала судорога – боль и упоение. Вырвав из мякоти кусок, ребенок вновь взглянул на меня, прожевывая добычу. Теперь он смотрел не отрываясь, и его гипнотический взгляд лишал меня воли. – Братишка, – произнес Игорь, приближаясь на шаг. Не было сил стоять, я опустился на колени. Когда Игорь приблизился вплотную, его руки легли мне на плечи, мое лицо оказалось прямо напротив его распоротого живота. Меня душил ужас. Но вместе с тем непреодолимый порыв заставил меня вложить голову в распоротое чрево. Где-то внутри ужаса змеилось и серебрилось тонкое наслаждение – как проволочка, как волосок. Этот притягательный волосок не позволял отшатнуться и броситься прочь. Голова моя погрузилась в мягкое, скользкое, липкое, сводящее с ума трупным смрадом. Моей кожи, моих волос касались не то крысиные лапы, не то детские пальчики, по мне ползали черви и мухи. Я словно засунул голову в звериную пасть, которая или сомкнет зубы на мне, ломая кости и разрывая позвонки, или присосется так, что я не смогу удержаться – унесусь в это беспросветное жерло, будто перышко, увлекаемое потоком воды.
P. S. На следующий день Олега нашли в той самой комнате, что Игорь присвоил своим самоубийством. В комнате, запертой на ключ, который хранился у родителей. Плавки и цепочка с крестиком, принадлежавшие Олегу, валялись в соседней комнате у стены, общей для спален двух братьев. Сам же он, голый, голова в запекшейся крови, лежал на месте самоубийства Игоря. Странно, что родители, когда искали Олега, догадались открыть запертую комнату и заглянуть в нее. Когда он разомкнул веки, то ничего не понимал, не соображал. Думали, что его голова травмирована, но кровь отмыли и не нашли на коже повреждений, разве что несколько мелких свежих шрамов, но то были незначительные царапины. В больнице он пришел в себя и заговорил. На вопрос врача – «Как вас зовут, помните? Имя, фамилия?» – отвечал: – Да, помню, конечно. Олег Парамонов. Олег Алексеевич. Врача ответ удовлетворил, но, будь на его месте тот, кто хорошо знал Олега Парамонова, он бы понял, что этот человек лжет, называя свое имя, что в его голосе нет искренности. Какая-то несвойственная Олегу хищная целеустремленность проявилась в его взгляде, мимике, жестах. Двигаясь меж обыкновенных предметов, окружавших его повсюду, он был похож на огромную человекообразную летучую мышь, которая летит сквозь непроглядную тьму, сканируя ее ультразвуковыми сигналами. Выйдя из больницы, вечером того же дня, Олег подкараулил на улице Марину Бескраеву, бывшую девушку своего брата, шедшую с компьютерных курсов, где она осваивала векторные графические редакторы. Улица, по которой Марина шла к автобусной остановке, была пустынна, словно чья-то черная воля заведомо окутала все вокруг испарениями страха, побуждавшими прохожих избегать эти пространства, освещенные загробным дыханием фонарей-призраков. – Марочка моя, – произнесла темная фигура, выступившая перед Мариной из какой-то непонятной ниши в стене ветхого дореволюционного дома. Марина вздрогнула и замерла, холодея от ужаса. Морозцем покрылась ее кожа. Ледяным сквознячком потянуло где-то в желудке. Марочка – так называл ее только Игорь и больше никто. – Олег? – спросила она, разглядев залитые тенью знакомые черты. На миг Марине почудилось, будто лицо напротив все покрыто грудой извивавшихся пиявок, но иллюзия развеялась, когда фигура сделала еще один шаг и на лицо упал неживой свет фонаря. – Мы же договорились, что не будем ни встречаться… ни разговаривать… – Марочка, – перебил он, – да ты ж посмотри на меня: разве я Олег? Ну, в каком-то смысле, да, Олег. – И он гадостно захихикал. – Но ты посмотри на меня, внимательно посмотри: кого ты видишь? Хищный блеск его глаз, казалось, впился в нее, будто брызги расплавленного металла. Эти глаза не могли принадлежать Олегу, поняла она, такие глаза уничтожили бы его, простодушного, завладей он ими по какому-то волшебству. Только Игорь, никто другой, мог выдержать червоточины этих глаз на своей голове и не сойти с ума от кошмарности взгляда, одним концом вонзавшегося в собеседника, другим – вглубь самого Игоря. Глаза приблизились, и знакомые руки когда-то любимого, затем ненавистного человека коснулись ее – одна легла на спину, под шею, другая на талию. Еще бы секунда, и Марина упала на землю, ноги уже отказывали, но эти руки заключили ее в крепкий захват. Голос – до омерзения, до паники знакомый голос Игоря – зашептал над ухом: – Я был там, я видел, я видел все. Последние ограничения сняты. Двери открыты. Теперь я точно знаю, как надо извлекать ужас из-под пластов. Теперь, Марочка моя, ты увидишь настоящий ад на земле. Увидишь, как он сочится из тебя, как из каждой складки и тени твоей выползает тьма, как страх парализует и пожирает всякого, кто видит эту тьму. Каждый может стать источником ужаса и тьмы, но ты будешь первой, потому что ты – моя. Моя дверь, мое божество, мое сладкое проклятие. Мы сделаем то, о чем всякий мечтает в глубине своей души, не осмеливаясь только нырнуть в провал. А потом уж за нами пойдут другие… Он поцеловал ее в губы, и мертвенный холод разлился по ее телу от этого поцелуя.
Замещение

Почти середина апреля, но день холодный, как покойник, умерший еще в конце февраля: считай, полтора месяца пролежал в темноте морозильной камеры, и вот выложен на стол всеобщей действительности. Лежит, потихоньку размораживается, мокнет, омерзительно серый, с прожилками безжизненной синевы. Такой был день. Женя Самойлов пришел в школу сонный, с легким насморком. Угрюмое утро сырым дыханием сопровождало его всю дорогу до школы, а это минут пятнадцать ходьбы, и он тоже был угрюм. Сидел за партой рассеянно, оживился только на третьем уроке: Анна Борисовна не вышла на работу, и на урок литературы вместо нее явилась какая-то совсем незнакомая училка. Вошла в класс. Молодая, белобрысая, губы пухлые, словно воспаленные, почти красивая, только взгляд прожженный какой-то, как у старухи, которой давно уже опостылело все на свете. Представилась: я, дескать, Анжела Федоровна, бла-бла, сегодня у вас замещаю. Ну, посмотрим, какая ты… замещалка. Она как-то недобро, с ленивой скукой оглядела класс. Достала из сумки пачку новых тетрадок, раздала каждому и объявила: будем писать сочинение на тему – тут Женя еще больше оживился, когда услышал, какую странную тему предлагает она, – на тему «Моя новая фамилия». Пояснила: – Представьте, будто вам дают возможность прямо сейчас сменить фамилию. Какую бы новую фамилию выбрали вы себе и почему именно такую? А если бы, несмотря ни на что, старую оставили, то опять-таки почему? Темка, однако… Женя задумался. Ему не особо нравилась его фамилия. Самойлов – оно вроде бы и нормально, но раздражало слух гадкое «мойло» – почти что «пойло». Проглядывали там еще и «мойва», и «мойка», и даже «хайло». Хорошо было бы иметь какую-нибудь фамилию типа… Генералов – озарило Женю. Или Капитанов. Но, принявшись за сочинение, написал, что хочет сменить фамилию на Кораблев, потому что в этой фамилии море, и корабли, и дальние страны, и бла-бла-бла, а Самойлов – это как-то ни о чем. Замещалка в конце урока собрала тетради с сочинениями и ушла.

Второй раз она объявилась через неделю, когда не вышла их классная руководительница, она же химичка, Майя Григорьевна. И как-то странно, что первый раз Анжела Федоровна замещала по литературе, а второй – по химии. Виданное ли дело, чтобы одна и та же училка могла и химию, и литру преподавать? Впрочем, никакого урока замещалка опять не проводила. Достала пачку тетрадок – тех самых, в которых писали на прошлой неделе сочинения, – начала зачитывать оттуда отрывки и комментировать. Тайное становилось явным. Стало известно, кто какую новую фамилию себе нафантазировал. Было забавно все это слышать. В конце урока, после разбора полетов, тетрадки с оценками были розданы авторам. Женя получил четверку за грамотность и тройку за содержание, рядом с оценками было приписано красной пастой: «Искренности не хватает. Слишком надуманно». «Вот же сучка!» – процедил он мысленно, с досадой разглядывая трояк и эту приписку.

С двенадцати лет Женя, параллельно с общеобразовательной школой, обучался и в художественной школе, занятия там шли по вечерам, три раза в неделю. На второй год обучения в художке, в начале декабря, произошло вот что. Из-за эпидемии гриппа учеников в классе поубавилось, и учительница, Тамара Олеговна, тоже заразилась, выглядела болезненно на одном занятии, а на следующее уже не пришла, зато вместо нее явилась та самая замещалка, Анжела Федоровна. «Фигасе! – подумал Женя, увидев ее. – Она еще и в художке замещает! Во все дырки затычка». Зал, где занимался их класс, был в тот вечер почти пуст. Из учеников пришли только двое – Женя и Наташа, молчаливая застенчивая девочка со смешной фамилией Друзяка. Замещалка задумчиво просмотрела классный журнал, произнесла: – Могли бы и не приходить. Но раз пришли… – Сочинение писать будем? – ехидно подхватил Женя. – Нет, с натуры рисовать. Меня. Она поставила стул почти в центр зала, села на него и пальцем указала Жене с Наташей, куда ставить мольберты. Они заняли позиции. Прикнопили к мольбертам листы ватмана. Замещалка прикрыла глаза и неподвижно, спина прямая, застыла на стуле. Женя с Наташей принялись рисовать ее на ватмане простыми карандашами. «Не рановато ли для второго класса людей с натуры рисовать? – недовольно размышлял Женя. – Мы ведь анатомию еще не изучали». Но вслух ничего не высказал. Когда закончился первый час занятий (академический час – в сорок пять минут), звонок на перемену не прозвенел. Женя с запозданием глянул на часы в своем мобильнике и только сейчас понял, как тихо в школе. Дверь зала была открыта, из коридора не доносилось ни звука. Он отложил карандаш, встал и, тихо пройдя мимо замещалки, так и продолжавшей сидеть с закрытыми глазами, вышел из зала. В раздевалке, где обычно сидела гардеробщица, она же уборщица и сторожиха, включавшая звонок, никого не было. Только две куртки, Женина и Наташина, одинокие, застыли на крючках. С самого начала Женя не видел гардеробщицу, но думал, она где-то здесь и позже подойдет. Заглянул в соседний зал, там обычно шли занятия у старшего класса, но сейчас было пусто. Попробовал открыть дверь в кабинет истории искусств. Заперто. Вернулся обратно. Замещалка неподвижно сидела на стуле. – Анжела Федоровна, – позвал ее Женя, но та не отозвалась. Сидела с закрытыми глазами. Не шевелясь. – Анжела Федоровна! – еще раз и уже громче попробовал он. – Перемена… Вы меня вообще слышите? Эй! Она молча сидела, словно статуя или чучело. Наташа прекратила рисовать и настороженно смотрела на учительницу поверх мольберта. Женя приблизился к замещалке. Присмотрелся. Ему показалось, что она совсем не дышит. Тронул ее за плечо – не шелохнулась. – Спит, что ли? – предположил он, бросив взгляд на Наташу; та двинула бровями, изображая недоумение. Присев на корточки рядом с замещалкой, коснулся кисти ее руки и тут же отдернул пальцы – неожиданно холодной оказалась кожа. – Блин, она ледяная, как… жаба, – сообщил Наташе. – Ты сиди здесь, а я схожу, найду кого-нибудь. Быстро выйдя из зала, чуть не выбежав, он отправился обходить школу, заглянул во все открытые двери, подергал все закрытые. Нигде никого. Когда вернулся обратно, замещалка по-прежнему ровно сидела на стуле, а Наташа, скорчившись за мольбертом и обхватив себя руками за плечи, дрожала. Губы ее беззвучно тряслись, в глазах блестела влага. – Ты чего? – шепотом спросил Женя, подходя. Девочка попыталась ответить, но не смогла выдавить ни слова. Он заметил, как мышцы на ее горле дрогнули от спазма. Трясущейся рукой она схватила Женю за рукав и взглянула по-собачьи, снизу вверх, ища защиты от накатившего ужаса, который, как инфекция, тут же передался и Жене. Захотелось вырвать руку из ее пальцев и пуститься наутек, но он не побежал, заставил себя сдержаться. В нижней части живота клубился мерзостный холодок. Помог Наташе подняться с табурета. Ее ноги плохо слушались, и она едва не упала, вставая. Потащил ее в коридор. Когда проходили мимо Анжелы Федоровны, бросил взгляд на замещалку: похоже, и впрямь не дышит. Забрал куртки из гардеробной. Помог Наташе одеться. Самостоятельно та никак не справлялась, рука все не попадала в рукав. Они вышли на улицу, под темное небо, в потоки стылого ветра. Наташа, как клешнями, больно вцепилась Жене в руку. Страх отступал. Фонари на столбах, окна и витрины, фары автомобилей, светофор у перекрестка – всюду свет, привычный и человеческий, пусть и не живой. Звуки улицы – хотелось их пить, как воду во время жажды, радостно захлебываться ими, загребать горстями, плескать в лицо. Смешно было и подумать о чем-то неведомом и страшном в этих привычных складках обыденности. Он проводил Наташу до остановки на противоположной стороне улицы, посадил ее на автобус, сам отправился на свою остановку. Следовало вновь перейти дорогу на перекрестке, вернуться к школе и пройти мимо нее, там неподалеку и остановка. У школы замедлил шаг. Привстав на цыпочках, заглянул в высоко поднятое над тротуаром окно зала, где занимался их класс. Замещалка все так же сидела на стуле. «Надо бы вернуться и выключить свет в зале, – пришла мысль. – Пусть в темноте сидит». Женя завернул за угол здания, подошел к двери, взялся за ручку, и вдруг по телу его пробежала дрожь – словно ручка была под напряжением, только не под электрическим, а под черт знает каким. Казалось, стены школы были наполнены страхом, и, прикоснувшись к металлу ручки, Женя перевел этот страх на себя. Захотелось сорваться с места и бежать прочь, но мысль о том, чтобы выключить свет, вновь всплыла в уме, удерживая на месте и завлекая, затягивая внутрь школы. Каким-то краем сознания он понял, что эта мысль чужая, она вошла извне, овладевая им и подчиняя себе. «Черт! Черт! Черт! – нервозно думал Женя, открывая дверь и входя внутрь. – Это гипноз, что ли? Что за херня творится?» Крупные капли пота ползли по лицу. Сердце исступленно колотилось. Медленно поднимался Женя по ступенькам, ведущим от входной двери к уровню, на который был поднят над землей пол школьного коридора. Было такое чувство, что его затягивают внутрь на невидимом поводке. В голове скреблась мысль, что надо обязательно выключить свет в зале, а потом в коридоре, тогда можно и уходить. Он шел по коридору мимо выкрашенных белой эмалью дверей: слева – первый зал, справа – кабинет истории искусств, прямо по ходу – гардеробная, справа от нее – кабинет директора, слева – дверь в маленький внутренний коридорчик, из которого ближняя внутренняя дверь ведет во второй зал, а дальняя – в третий. Перед гардеробной свернул налево, прошел через внутренний коридорчик, вошел в приоткрытую дверь дальнего зала: там, внутри, слева от входа, на стене два выключателя… Замещалка неподвижно сидела на стуле. Глянув на нее, Женя подумал с какой-то необъяснимой, неожиданной для себя самого злобой: «Будешь, тварь, сидеть в темноте, во мраке, во тьме!» Повернулся к выключателям и, щелкнув обеими кнопками, погасил свет. Два высоких окна выходили на неосвещенную улицу, в них проникало слабое свечение фонаря, стоявшего вдалеке, на перпендикулярной улице. Женя застыл у стены, сам не зная, почему медлит. Стоял и смотрел на черный силуэт женщины, сидящей на стуле, обрисованный тусклым полусветом, что сочился сквозь стекла. Смотрел и видел, как та медленно поднимается, будто заводная кукла, и движется по залу. В нее словно был встроен фотоэлемент, отключавший механизм при свете и включавший во тьме. Анжела Федоровна прошлась по залу, чуть пошатываясь, но не так, как шатается больной или пьяный человек, а как шаталась бы кукла в человеческий рост… «Или как труп. Окоченевший труп», – мелькнуло в уме у Жени, и ноги его начали слабеть. Следом он подумал: «Может, она умерла, сидя на стуле, а теперь живет трупной жизнью?» Стараясь как можно тише дышать и не шевелиться, чтобы не выдать себя, Женя стоял у стены. Эта тварь не замечает его, потому что он замер у нее за спиной. Нужно было выбрать момент, чтобы тихо выскользнуть из зала. Глядя на силуэт замещалки, подошедшей к окну, Женя вдруг понял, что вовсе не спиной к нему стоит она, – по силуэту понять было трудно, но теперь он догадался, – нет, она к нему лицом и смотрит на него. Ее силуэт, словно вырезанный из ватмана, закрашенного черной гуашью, должен быть одинаков, что с тыльной, что с лицевой стороны, но Женя почувствовал на себе холодный хищный взгляд, и это означало, что тварь стоит к нему лицом. Внезапно Женя ощутил противоестественное, вроде занозы, желание – подойти к замещалке! Ноги его непроизвольно шевельнулись, он сделал шаг вперед, к черной фигуре. «Нет! Нет! Нет!» – мысль захлебывалась в каких-то неестественных потоках, затопивших его. Еще маленький шаг вперед. Еще. Женя не видел этого, но почувствовал, как внутри черноты, залившей силуэт замещалки, кривится на ее лице злая, самодовольная и презрительная ухмылка. Женя не понимал, что сейчас произойдет, но предчувствовал, что это будет что-то кошмарное. Предчувствие жадно присосалось к сердцу. Паника, охватившая Женю, его и спасла. Он в ужасе закричал, и звук собственного голоса вырвал его из оцепенения. Женя нелепо дернулся, развернулся, бросился к двери, ударился ногой обо что-то, чуть не упал и побежал прочь, думая, что вот сейчас его сердце подпрыгнет до самого горла и вылетит вместе с рвотой изо рта. Пока бежал, на задворках сознания крутился припев из какой-то дурацкой песни: «Капитан Паника не даст нас в обиду».

Прошло три с лишним месяца, и он встретил замещалку в четвертый раз. Мама собиралась в Германию. Это была командировка по обмену опытом между торговыми портами. Посылали группу начальников разных рангов, в том числе и маму; она была одним из замов начальника центрального района порта. И вышло так, что Женин день рождения, 16 марта, пришелся на эту командировку. Собираясь в поездку, мама сказала, что договорилась на работе с какой-то своей сотрудницей – назвала фамилию, Женя не запомнил, – чтобы сделать домашний торт на Женин праздник. – Помнишь, – спрашивала, – в прошлом году на твой день рождения торт у нас был? Обалденный такой, тебе еще понравился очень. Помнишь? – Помню, – отвечал. – Хороший был торт. – Ну вот, это ж я у нее и заказывала. Сестра ее торты на заказ делает. В общем, сестра эта к вам подъедет и торт завезет.

Торт прибыл, когда праздник был уже в разгаре. За окнами все помутнело из-за ливня. Белесая стена воды. Женщине с тортом открыл дверь дядя Леня, мамин младший брат, жуткий бабник. Спросил у пришедшей имя и тут же начал опутывать ее клейкой паутиной своего внимания. Она порывалась уйти, но дядя Леня не позволил. Затащил ее за праздничный стол, со всеми познакомил, налил вина, предложил какой-то двусмысленный тост, все выпили. И тут только Женя узнал в пришедшей Анжелу Федоровну. Замещалку. «Черт!» – мысленно ругнулся он. Похоже, замещалка его не узнавала. И он сделал вид, что не знает ее. Торт был огромен. Его искренне хвалили, когда дело дошло до чая. Дядя Леня по-кошачьи урчал над ухом у Анжелы: – Все-таки было бы опрометчиво отпустить вас прежде, чем попробуем, согласитесь. А вдруг он… того? Кому тогда претензии предъявлять, а? Или, напротив, кому аплодировать? – Божественный торт, – авторитетно сообщила бабушка Галя. А когда праздник естественным образом угас, и дождь почти прекратился, и все разошлись, замещалка растерянно сидела за столом с мобильником в руке и виновато говорила Жениному папе:

– Диспетчер сказал, что к нам на Балку никакой транспорт еще несколько часов ходить не будет, дороги затопило. Магистральная, Портовая и Мира – все затоплены. И через Мефодиевку не проедешь, тоже затоплено. Ждут, когда вода спадет. Пока заказы туда не принимают. Папа сказал, что она может переночевать здесь. – У Женьки в комнате ляжете, а Женька – со мною. Щас организуем. Лежа потом в темноте, рядом с храпящим отцом, на разобранном родительском диване, Женя рассматривал блики уличного света, упавшие на стену вперемежку с тенями от деревьев, и думал: «Получается, я еще в прошлом году ее торт ел. И через месяц после этого в школе с ней пересекся, когда она по литре замещала. А теперь она в моей постели спит. Подобралась, тварь, так близко, что… Даже не знаю – что». От этаких мыслей стало не по себе. Замер, прислушиваясь к безмолвию ночной квартиры – не донесется ли какой звук из его комнаты, где спала – или бодрствовала, кто ее знает! – эта женщина. Но было тихо. Только негромкий отцовский храп чуть портил тишину, образуя легкую рябь на ее поверхности. Женя заснул. Часа в три ночи проснулся, словно выдернутый из сна вонзившимся в него крючком на леске. Было неприятное чувство, что его пристально рассматривают. Двойная дверь в комнату родителей плохо закрывалась. И сейчас он видел сквозь щель что-то белесое, припавшее к створкам со стороны коридора. Это была она, замещалка. Стояла там и смотрела на него. Вдруг захотелось встать и выйти из комнаты, и Женя, покрывшись мурашками от ужаса, что еще немного – и не удержится, и встанет, дрожащими руками натянул одеяло на голову. – Нет, – вслух прошептал он сам себе, и стало легче; страх не отступил, но, по крайней мере, уже ничто не подталкивало встать. Как заснул второй раз, он уже не помнил. Утром, когда проснулся, оказалось, что дверь в его комнату открыта, и там никого нет. Папа на кухне разогревал мясное рагу, остатки вчерашнего пиршества, на вопрос – «А где эта?» – ответил: – Да час назад ушла. Ты спал еще.

Вечером того же дня, когда подошло время сна, Женя с сомнением лег в свою постель. Здесь прошлой ночью лежала замещалка и, казалось, оставила вмятину после себя. Свой след и метку. С виду поверхность постели ровная, но Жене все мнилось, будто он чувствует кожей рельеф чужого отпечатка. И словно лежит не на своем месте. В сонном мареве чудилось ему – то ли уже во сне, то ли еще перед ним, – что сквозь обивку вот-вот прорастут гибкие руки, начнут шарить по телу, потом обовьют, вцепятся мертвой хваткой и втащат вглубь дивана, который разверзнется, как трясина. Спать в собственной постели, помеченной замещалкой, стало неприятно. Сон сделался рваным, снилась теперь какая-то непривычная и смутная дрянь, часто страшная, от которой Женя просыпался по нескольку раз за ночь. Во сне постоянно взмокал от пота, майка холодной влажной тряпкой липла к телу. Ноги почти каждую ночь сводило судорогами, от которых он опять-таки просыпался – уже со стоном и, стиснув зубы, несколько минут корчился, массируя себе икры и ступни, пока не пройдет боль. Вдобавок часто стала болеть голова. Однажды, приняв душ, Женя выбрался из ванны и, обтершись полотенцем, встал перед зеркалом, разглядывая в нем свое нездоровое лицо. Глаза покрасневшие, под ними тени с прожелтью, кожа бледная. В глубине отражения шевельнулся халат на вешалке. Женя обернулся: да нет, нормально все, показалось. Когда повернулся к зеркалу, то увидел отражение женщины, замершей позади. Оглянулся еще раз: никого. Однако в зеркале за спиной продолжала стоять она. С первого взгляда Женя ее не узнал, а со второго понял: замещалка. «У меня глюки?!» – метнулась мысль. И тут же другая мысль, словно бы спокойно высказанная кем-то со стороны, возразила: «Да и похрен! Глюки – так глюки». То ли замещалка шептала ему вслух, то ли ментальным ветерком вдыхала в самый мозг, – так или иначе, он услышал вот что: – Теперь я буду замещать здесь. И знаешь кого? О, ты не знаешь! Но я тебе расскажу. Такие вещи надо знать. Каждый живет под присмотром своего демона. Говорят, что и ангелы тоже кое за кем присматривают, но это, по-моему, уже фантазии. Какие, к черту, ангелы! А вот демоны – факт. Норма бытия. У тебя тоже есть демон. Точнее, был. А теперь вместо него буду я. Договор подписала на замещение. Большая удача, должна сказать! Когда тебе доверяют людей замещать, это одна степень доверия, но когда – демонов… Тут доверие, которое так просто не заслужишь. И я теперь всегда буду с тобой. Незаметненько так – ни тени, ни отблеска, ни шороха, ни скрипа. Ты просто будешь знать, что я рядом. И я буду знать, что ты – знаешь. У Жени вдруг мучительно защекотало в носу, и он судорожно громко чихнул. – Видишь, – сказала замещалка, – захотелось мне, чтоб ты чихнул, и пожалуйста. Послушный мальчик сделал, как ему велено. Так и будем жить. Что сказать, о чем подумать, что сделать, где у тебя почешется, где засвербит, где потечет, где ойкнет – будешь все команды выполнять. Скажем, захочу, чтобы хвостик твой поросячий заторчал, – и заторчит. Женя почувствовал, как тепло прихлынуло к паху, опустил глаза и увидел неприлично напрягшийся свой отросток. Страх пополам со стыдом охватил его, и Женя нервозно и глупо прикрыл срамное место ладонью. – Меня можешь не стыдиться, – ядовито ухмыльнувшись, шепнула замещалка, и Женя увидел в зеркале, как она, приблизив губы к его правому уху, высовывает свой отвратительный, необыкновенно длинный язык, каких не бывает у людей, и тот, будто жирная улитка, лезет к нему в ушную раковину. И правое ухо почти полностью глохнет, будто его заткнули ватой.

С тех пор Женя постоянно чувствовал рядом с собой едва уловимое чье-то присутствие, словно бы легкий омерзительный запашок, только не носом обоняемый, а каким-то подспудным чувством. По ночам, когда лежал без сна, то почти видел рядом с собой в постели замещалку. Видел не глазами, а опять-таки чем-то подспудным – то ли мыслями, то ли еще чем. Иногда она молчала, иногда бормотала что-то неразборчивое, а иногда говорила с ним. От разговоров Женю тошнило почти физически, словно каждое слово ее было куском какой-то гнили, и ему приходилось эти куски, через отвращение, глотать. Замещалка иногда была стервозно раздраженной непонятно на что, иногда мрачной и смурной, а иногда игривой до похабщины. Бывало, сквозь игривость проступала у нее черная едкая злоба, оставлявшая словно бы ожог на самом сознании. Часто она что-то нашептывала Жене, когда он лежал, застыв на границе меж сном и бодрствованием, и слова ее не запоминались, но утром он вставал с тяжелой головой и ощущением, будто, как мешок, набит грязью и отбросами. Днем, когда шел по улицам или ехал в городском транспорте, и взгляд натыкался на случайных людей, которые чем-то привлекали внимание, какой-то мелочью в своем облике, то голос замещалки тут же начинал нашептывать ему про этих людей такие гадости, такие гнусные тайны, что хотелось немедленно прихлопнуть каждого из них, как мерзкое насекомое. Иногда замещалка пропадала куда-то на целый день, по крайней мере, ничем не выдавала своего присутствия, и тогда Женя чувствовал облегчение пополам с отупением, как после сильного приступа головной боли. А однажды замещалка, не побеспокоив Женю весь день и всю ночь, не объявилась и на другой день. Тогда, вернувшись из школы и пообедав, Женя отправился бродить по городу. Он намеренно заехал подальше от дома, в один из наиболее старых городских районов, который был ему плохо знаком, через который прежде только доводилось проезжать в автобусе, и плутал по незнакомым улочкам, рассматривая дома. Какой-никакой, но все-таки начинающий художник, Женя обращал внимание на необычные архитектурные элементы старых домов, на деревянные ставни, на чугунные узоры решеток перед домами и на балконах, на поросль мха в стыках кирпичной кладки, даже на лужи под ногами, если мусор в них образовывал композиции с какой-то своей эстетикой. «Она же не знает, где я сейчас, – думал Женя про замещалку. – И, пока не знает, я от нее свободен». Внезапное чувство свободы пьянило его. Уже в сумерках зашел в один небольшой безлюдный дворик двухэтажного дома, в котором не светилось ни одного окна. Дом явно дореволюционный: сложен из камня-дикаря, обнаженного на той стене, что смотрит во двор, единственной почему-то незаштукатуренной, окна высокие, и в целом эти два этажа не ниже обычного трехэтажного дома. Во дворе стояли качели с каркасом из некрашеного металла, сиденье у них – некрашеные серые дощечки. Женя сел и, покачиваясь вперед-назад, слушал скрип качелей и чувствовал, как сам становится един с этим тоскливым протяжным звуком, с этим темным металлом, с этими высушенными временем дощечками. Конструкция качелей словно превратилась в продолжение Жениного тела, в кости и суставы, выпирающие из него, будто он – уже не он, а какое-то диковинное существо, призрачный родственник гигантских пауков и летучих мышей. Ему только не хватает черных кожистых перепонок между металлическими костями качелей и прочной, как рыболовная сеть, паутины, поддерживающей его в ритмичных движениях маятника, вместе с которым раскачивалось измененное сознание, утратившее ощущение собственной человеческой сущности. Сумерки наливались ядовитой теменью. Уличный фонарь неподалеку сочился болезненно-желтым уриноподобным светом, в котором плескалась какая-то насекомая мелочь, привлеченная нездоровым свечением. В доме по-прежнему не горело ни одно окно, двор по-прежнему был безлюден, если не считать мальчика на качелях, но его и впрямь можно было не считать. Женя ощущал себя каким-то неопределенным существом и полностью отдался этому чувству, растворяясь в нем под тоскливый скрип, который выплескивался уже не столько из трущихся друг о друга металлических деталей, сколько из самого Жени, казалось, вобравшего в свое «я» всю конструкцию качелей. Взмахи маятника начали слабеть, качели замедлили ход и остановились. Женю охватило иррациональное предчувствие, что сейчас должно произойти что-то необыкновенно важное. Он по-звериному принюхался, втягивая воздух быстрыми носовыми вдохами. Какое-то существо прошмыгнуло мимо мелким неприметным бесом, полуреальное, окутанное серым туманом, и Женю кольнула иголка ужаса: в этом безмолвном существе почудилось ему что-то глубоко злое, даже дьявольское. Женя оцепенел на сиденье качелей, почти не дыша и желая раствориться в потемневшем воздухе, растечься по нему чернильным пятном, развеяться пеплом, исчезнуть. Вместе с Женей застыло и время. Когда во двор вошло еще одно существо, время не успело запустить шестеренки своих секунд. Существо приближалось, а время так и стояло на месте. Наконец новая тварь стала различима, выскользнув из глотки густых теней. Женя увидел, что это всего лишь девчонка. Почти его ровесница, может быть, чуть младше. – Привет! – поздоровалась она с Женей, приближаясь. – Ты тут котейку моего не видел? Он вроде как сюда забежал. Серый такой. Очень не понравился Жене этот смелый, до наглости, слегка развязный тон. Не понравились и глаза, и полуулыбка, которые он различил в сумерках на девичьем лице. Что-то развратное, не особо, правда, и порочное, но достаточно скверное чувствовалось в нем. – А если видел, то что? – ответил он вопросом. Девчонка смерила его взглядом, гадко улыбнулась и, растягивая слова, произнесла, словно выдавила из себя тошнотворно-клейкую массу: – Ну, если видел, так покажи. Под конец фразы она подошла еще ближе, и Женя кожей ощутил исходящую от нее волну не то угрозы, не то манящего желания. Он встал с качелей и направился к подъезду дома, бросив на ходу: – Пошли, он туда забежал. Девчонка пошла за ним. Женя уверенно вошел в темный подъезд, в котором прежде ни разу не был, быстро нащупал невесть каких давних времен выключатель на стене, как будто точно знал, где тот находится, повернул рычажок. Загорелась тусклая лампочка над входной дверью. Здесь каждая деталь была ему почему-то знакома, словно выплыла из каких-то далеких воспоминаний. Вот три двери в квартиры нижнего этажа. Вот массивная деревянная лестница на второй этаж. Под лестницей небольшая кладовка, запертая навесным замком. И рядом дверь в подвал. Дверь, которая не запирается. За нею загнутый, словно крюк, коридор, и в нем двери с замками, ведущие в личные кладовки жильцов, и тьма, густая тьма, затопившая эту маленькую искривленную преисподнюю. Потянув на себя дверь в подвал, Женя приоткрыл ее. – Сюда, наверное… – кивнул он в плотную, как машинное масло, тьму. – Какого он туда попрется? – пробормотала девчонка, с недоверием и опаской всматриваясь в черноту. – А куда еще? Здесь вон, видишь, одна доска снизу выломана. – Он ткнул носком ботинка рядом с щербиной в нижней части двери. – Как раз кошак пролезет. – Кисель! – крикнула девчонка в темноту. – Что? – спросил Женя. – Как ты его зовешь? – Кисель, – ответила. – Что, не нравится? Хорошее имя. – Да нет. Странное просто. – Ну, он такой… текучий, как кисель. Мягкий. Пластика у него особенная. Из подвала донесся какой-то неопределенный звук. – Кисель! – крикнула девчонка обрадованно. – А ну, иди сюда! Кисель! У вас тут свет включается? – повернулась она к Жене. – Нет, – ответил он, подумав: «За местного меня приняла»; добавил: – Мы сюда с фонариками ходим. Пошли, я тебе посвечу. Только смотри, ступеньки тут. Он переступил через порог, доставая мобильник и включая в нем фонарик, спустился вниз по четырем ступенькам, о существовании которых знать не мог, однако как-то ведь угадал их! Да еще был так уверен, что ступеньки тут есть. Странно это все, очень странно. Спустившись, оглянулся. Девчонка шла за ним. Свой мобильник она не достала и фонарик не включила. То ли нечего было включать, то ли доверяла незнакомому мальчишке, положившись на его яркий фонарик. Из глубины подвала опять донесся звук, словно бы в темноте задели что-то металлическое. Девчонка прикоснулась чем-то мягким – грудью, что ли? – к Жениной спине, снова позвала своего Киселя. «А вдруг там затаилась какая-то тварь?» – подумал Женя. Подумал не только со страхом, но и с внезапным жадным интересом. Он вспомнил, как в детстве, когда панически боялся темноты, им овладевало жгучее желание самому превратиться в чудовище, чтобы уже без страха сливаться с темнотой как с родной стихией, подкарауливая в ней жертвы. Единственная защита от ужаса тьмы, казалось ему, в том, чтобы овладеть тьмой изнутри, сродниться с нею, самому стать ее сердцем, ее ужасом, ее когтями, клыками, жалом, паутиной. Только тогда – мечтал маленький Женя – можно уже не бояться тьмы. И чудилось, будто тьма слышит его мысли и одобряет их, что именно она и внушила их, когда он, дрожа от страха, окунался в ее леденящую черноту. А теперь тьма сжималась вокруг отвратительно-белого света Жениного фонарика, как вокруг пожирающего ее червя, паразита, инородного в этом плотном черном теле, проедающего в нем дыры и туннели. Еще раз девчонка, почти наступавшая Жене на пятки, прикоснулась к его спине мягким, и Женю передернуло от омерзения. «Ах ты ж блядь!» – шепнула тьма. Или то была Женина мысль? «Останови ее», – сказал кто-то в Жениной голове. Или сказало что-то. Может быть, снова сама тьма? «Остановить?» – мысленно удивился Женя. «Остановить», – был ответ. Женя хотел мысленно спросить, как же остановить, в каком смысле, что это вообще значит – остановить? Но уже все понял сам. Остановить ее – значит остановить всякое движение в ней. Движение ног. Движение глаз. Движение мысли. Движение дыхания. Движение сердца. Пусть она замрет, и все в ней замрет. Но прежде надо остановить проклятый свет, пожирающий тьму, свет, которым он сам никогда бы не потревожил эту идеальную тьму, не будь рядом наглой сучки, касающейся его щупальцами своего желания. Это ведь ей нужен свет в подвале, не ему… Быстрым движением пальца Женя отключил фонарик. Челюсти тьмы сомкнулись, убивая последние фотоны, отрезанные от источника. Девчонка глупо взвизгнула. Так глупо, что Жене стало смешно и в то же время нестерпимо мерзко. «Вот же безмозглое насекомое!» – мелькнула мысль. Кажется, на этот раз его собственная, а не мысль тьмы. И Женя, развернувшись и схватив девчонку одной рукой за плечо, другой – за шею, припер ее к стене подвального коридора, с силой припечатав затылком о штукатурку. Ничего не видя в темноте, он действовал точно, будто видел все. Он сроднился с тьмой и уже не мог ошибаться в топографии ее непроглядного пространства. Тьма пустила свои дымчатые струи в него, и он, в ответ, пустил в нее свои – не то вены, не то нервы, не то ручейки мыслей. Породнившись с тьмой, пропитавшись ею и ее пропитав собой, он породнился и с той скорлупой, в которой здесь обитала тьма, – с этими каменными стенами, деревянными дверями, полом и потолком, с этим подвальным коридором, подобным чреву затаившегося хищника. Поэтому он не мог ошибаться, когда в глубине тьмы его рука-тьма и другая рука-тьма, вцепившись в девчонку, били ее головой о стену-тьму. Здесь тьма действовала во тьме через тьму и ради тьмы, разветвляясь в самой себе и возвращаясь к собственному истоку. И даже девчонка стала тьмой, только сопротивлялась поначалу, не желая породниться с черной стеной, по которой уже текла ее черная кровь, и с черным воздухом, что слизывал последние капли ее дыхания. Когда тело девочки-тьмы сползло вдоль стены на пол, мальчик-тьма опустился на колени, обшаривая руками безжизненное воплощение тьмы, как будто это была скульптура, изваянная им и требующая последних прикосновений мастера. Теперь девочка-тьма была прекрасна, почти как сама абсолютная изначальная тьма, она уже ничем не раздражала, изъяны, если и были в ней, то исчезли. Прикасаясь к ее голове, Женя коснулся чего-то – непонятного, холодного, как камень, но при этом мягкого. И живого. Раздался звук, происхождение которого было загадкой. Только что он все понимал во тьме, будучи ее органичным сегментом, и вдруг прикоснулся к чему-то непостижимому. К чему-то, что жило во тьме, но не поддавалось уразумению вместе с тьмой и всем, что сроднилось с нею. Стало страшно. Жить во тьме, слиться с ее клейкой плотью – это, оказывается, не значило спастись от страха. Во тьме обитало что-то еще более темное, чем сама тьма. Или же у тьмы имелись разные уровни, один темнее и страшнее другого, и кто ступил на первый из них, цепенел от страха перед тем, что ползало по паутине тьмы на другом, более загадочном уровне. Женя начал лихорадочно вытаскивать из кармана мобильник, некстати застрявший в проклятых жабрах складок, наконец вытащил, уронил, поднял с пола, с трудом справился с блокировкой экрана – дрожали руки – и включил фонарик. Черт с ней, с тьмой, с ее цельностью, пусть свет пожирает ее,пусть. Главное, сейчас увидеть… это. То, что Женя увидел, в первые секунды поразило его своей кошмарностью. Какое-то уродливое существо присосалось к ране на голове мертвой девчонки – если та и впрямь была мертва, если в ней еще не теплилась жизнь – и жадно пило кровь. Свет фонарика не отпугнул эту тварь. Ей, похоже, все одно – что свет, что тьма. Тварь оторвалась от жертвы и взглянула на Женю. Над окровавленным оскалом рта блестели глаза, полные такой запредельной злобы, смешанной с безумием, что Женю почти физически обожгло этим взглядом. Это не было животным, это – разумное существо, и даже более разумное, чем человек. В его безумии тлели угли разума, причастного к высшим знаниям и тайнам, к недоступной простому человеку мудрости. Так, по крайней мере, показалось Жене, заглянувшему в эти жуткие глаза. Он в ужасе отшатнулся, луч фонарика дрогнул, тени на лице существа сместились, образуя новые узоры, иначе обозначая лицевой рельеф, и мальчику внезапно показалось, что чудовищное существо с окровавленной пастью – это замещалка, Анжела Федоровна. Он развернулся и бросился прочь из подвала, разрывая тьму, как паутину, перед собой. И чем дальше убегал, тем сильнее крепло в нем убеждение, что чертова замещалка была в том подвале, сидела там во тьме, пряталась, поджидая, что это она втягивала его на невидимой нитке в ту преисподнюю тьму, а с ним вместе и девчонку, чью кровь пила потом взахлеб.

В ту ночь замещалка явилась ему во сне. Раньше такого не было, он видел ее только наяву или в полубреду, но ни разу – во сне. О чем был сон, он не вспомнил по пробуждении, зато застряли в памяти странные слова, которые произнесла во сне Анжела Федоровна: – Жаль, что тебе придется забыть все, что ты сделал. Бедный мальчик! Я бы сдохла, только б не расставаться с такими воспоминаниями. Но так надо. Так хотят они. А им видней. Женя не мог понять, что она имела в виду, что такого он сделал? И еще странную фразу произнесла: – Я уже другая. Я не живу и не умираю. Теперь можно все. Запреты сняты, и плоть пластичней духа. Теперь мои сны не внутри меня, а снаружи. А ты – спи. Твоей памяти место на дне. И Женя провалился внутри сна в другой, более глубокий, сон. Утром он уже ничего не помнил о том, что произошло накануне вечером в подвале старого дома. В памяти остался лишь сам дом, его темные окна, двор и тоскливо-потусторонний звук между скрипом и стоном, который издавали качели.

В день, когда Анжела Федоровна вновь оставила Женю в покое, в еще один день свободы и передышки, он остановился у плаката с рекламой телефона доверия. Давно уже этот плакат висел здесь, и никогда Женя не уделял ему внимания больше, чем требовалось равнодушному взгляду, чтобы скользнуть по ненужным буквам и цифрам. Но сейчас какой-то коготок скребнул внутри, и Женя решил позвонить – позвонить и все рассказать. Не важно, кто ему ответит, главное – высказаться перед кем-нибудь, перед кем угодно! Ответил Жене приятный мужской голос. Думаю, что не вру, называя его приятным. Это был мой голос. Без особых усилий я расположил мальчика к себе. Такой уж я человек, легко вызываю доверие у незнакомцев. Бедный пацан, он все выложил мне как на духу, ему давно уже надо было выговориться без стыда и опасения, что его исповедь осмеют и оплюют, и я был именно таким безопасным человеком, которому можно доверить даже самые постыдные тайны. Я выслушал мальчика, задавая участливые наводящие вопросы, вставляя временами сочувственные междометия. Моя интонация была так корректна и дружелюбна, и тембр голоса так мягок, что мальчик – я чувствовал это – проникся ко мне настоящим доверием. – Что мне делать? – потерянно спросил он. Что ж, пожалуй, можно сказать ему все. Кажется, он уже в том состоянии, когда правда не повредит ни в каком смысле. И я сказал: – Поверь мне, Женя, делать тебе ничего не надо. Потому что ты не сможешь ничего сделать. Это твоя жизнь, она такова, и другой у тебя не будет. Тебе остается просто жить. Можешь, конечно, покончить самоубийством, но это ничего не изменит. Убивающие себя в тупике не выходят из него – наоборот, остаются в нем навечно, тупик только слегка меняет форму. Тогда кошмары начинают жить не внутри сознания, а снаружи, вокруг него. Уж лучше пусть они живут внутри. Мой тебе искренний совет: смирись, и все. Ты идешь ко дну – ну так и иди к нему. Спокойно погружайся туда, куда и все. – Что ж это вы такое говорите, вы… вы… – еле выдавил Женя. – Я знаю, что говорю. У вас нет никаких шансов против нас. Как у животных, в целом и общем, нет шансов против человека, так и у вас нет шансов против нас. – Что значит «у вас против нас»? Вы кто такой, что говорите так? Откуда вы вообще все это… – Я, мальчик мой, в принципе, никто. Я лишь сижу здесь на телефоне, замещаю заболевшего сотрудника. И, поверь мне, я знаю, что говорю. Замещение – это старое искусство. Ты верно уловил вектор, который обозначился в твоем случае. Она подбиралась к тебе все ближе и ближе, и вот она уже, считай, в твоей голове, в твоей нервной системе, в твоих мышцах, в твоей крови. Это предпоследняя стадия замещения. Последняя наступит после твоей смерти. – Что… моей… – пролепетал Женя. – Твоей смерти, – повторил я. – Хочешь, умри сейчас, убей себя, могу подсказать лучший способ, и ты тут же увидишь все, что тебе уготовано. А хочешь – живи, и увидишь это позже. Если повезет, то увидишь через много лет, дожив до старости. А потом, дряхлым старикашкой, кувыркнешься в могилу. Мы можем и подождать. Живем-то мы дольше вас. У лучших из нас форма существования на порядок превосходит вашу. – И что там будет, после смерти? – наконец совладав с собой, внятно спросил он. – А ты подумай. Авось и поймешь, к чему все идет. Я умолк, и он молчал, нервно дыша в трубку. Бедный мальчик. Мне было его жаль, но, скажем так, не моральной, а эстетической жалостью. Если вы поняли, о чем я. Нарушив обоюдное молчание, я спросил: – Ну что? Все еще не понимаешь? – Нет. – В предпоследней фазе замещения она заместила демона, который тебя курировал, и кое в чем она замещает даже тебя самого – твои желания, мысли, рефлексы. В последней фазе замещения она заместит Бога, который после смерти должен тебя судить и решать твою участь на веки вечные. Когда умрешь – сейчас или позже, по своей воле или невольно, – то предстанешь на суд не перед Богом, а перед ней. Кто хорошо замещает вас в этом мире, тому доверят и последнее замещение там, по ту сторону. Женя выкрикнул грязное ругательство – его голос был похож на чавканье жидкой грязи, в которую кто-то, не удержавшись на ногах, упал лицом, – и отключился. Пацан даже немного меня рассмешил. Надеюсь, ты, Анжела, не будешь злиться на меня за то, что слишком уж многое объяснил я этому бедному затравленному мальчику.
Космос под кожей

Он хорошо знал: нельзя разговаривать на улице с незнакомцами. Тем более нельзя никуда с ними ходить. Но этому бледному мужчине с глубоко запавшими глазами и тонкогубым ртом рептилии не получилось отказать. Когда он уверенно и властно произнес: «Пошли со мной», – Эдик взял и пошел. Покорно и молча. Взгляд незнакомца, словно язык хамелеона, выстрелил в Эдика, прилип к нему и, сокращаясь, повлек за собой. «Вот и все, – обреченно подумал Эдик, – это конец». Но, вопреки ожиданиям, мужчина не завел ни в подворотню, ни в подъезд, и в салон автомобиля не втолкнул. А повел в людное место, в кафе на бульваре Черняховского. Вместе с Эдиком сел за столик на летней площадке, заказал себе чай со льдом, Эдику ничего не заказал и не предложил даже; сидел, само спокойствие, молча рассматривая перетрусившего двенадцатилетнего мальчишку. Музыка неслась из аудиоколонок под крышей кафе. И музыка была нелепа, неуместна в этот миг страха, оплетающего тело стремительными побегами, и название кафе казалось каким-то до безобразия абсурдным – «Казак и море». Эдику вдруг почудилось, что все вокруг – и кафе, и эта музыка, и само пространство, – все издевательски и злобно хохочет над ним, попавшим в ловушку посреди такой привычной, такой обыденной и безопасной жизни. Люди за соседними столиками говорили о чем-то своем, шутили, смеялись, от лавочек под каштанами доносились беспечные голоса, весело вскрикивали дети, резвясь под присмотром родителей, так смешно и остервенело тявкала маленькая собачка, злобная и одновременно милая. В этот июньский вечер, среди праздной толпы, заполнившей проспект, один только Эдик Голобоков чувствовал необъяснимый ужас, причиной которому был сидевший напротив незнакомец. – Представлюсь, – заговорил мужчина, неподвижно глядя Эдику в глаза. – Алексей Игоревич Озорнов. Мою фамилию легко запомнить. Озорнов – от слова «озорник». Кто-то из моих предков был очень беспокойным человеком. Наверное, большим шутником. Но разговор не обо мне, разговор о тебе, мальчик. Я даже не спрашиваю, как тебя зовут, меня это не интересует. Я встретился с тобой первый раз и, надеюсь, в последний. Сейчас мы разойдемся, каждый отправится восвояси. Ведь у каждого свое предназначение. Но встретиться сегодня нам пришлось, потому что тебя избрали. Ты избран, чтобы стать Невестой мертвых. Озорнов присосался к соломинке, торчавшей из высокого стакана. Помолчал и продолжил: – Мертвые выбирают себе Невест из числа живых. В принципе, все живые – одна большая коллективная Невеста, мертвые же – один великий коллективный Жених. Смерть – это мужское начало, жизнь – женское. Не буду объяснять, почему так, это сложно. Просто поверь, что так и есть. Мертвые могли бы вступить в брак со всеми живыми разом, учитывая, что мертвых гораздо больше, чем живых, так что никто из живых не ушел бы от своей участи, но мертвые этого не хотят, потому что это было бы… Ну, скажем так, слишком поспешно. Жизнь – это реки, питающие океан смерти, который вовсе не заинтересован в том, чтобы реки иссякли. Поэтому мертвые избирают себе Невест из числа живых, как бы снимают сливки с человечества. С этими избранниками мертвые вступают в мистический брак. Но не беспокойся. В этом браке нет ничего непристойного, это чистый целомудренный акт, который называется браком лишь по аналогии, аллегорически. Знаешь, что такое «по аналогии» и «аллегорически»? Вижу, что не знаешь. Плевать! В Невесту мертвые откладывают свои личинки. Это тоже образное, аллегорическое выражение. Личинки мертвых – вовсе не личинки каких-нибудь насекомых. О взаимоотношениях мира мертвых с миром живых приходится говорить в туманных приблизительных выражениях. Ведь даже сами понятия «мертвые» и «живые» – тоже приблизительны и туманны, это как бы… Не отводи от меня глаз! Эдик, в тот момент опустивший взгляд, вздрогнул и сжался, как от пощечины, и уставился прямо в глаза Озорнову, взгляд которого, доселе спокойный, стал внезапно грозным и жутким. Медленно, с расстановкой Озорнов произнес: – Ты не можешь отвести от меня глаз. Не можешь. И не хочешь. Эдик побледнел, его нижняя губа задрожала, испарина покрыла лоб, но глаза – с расползающимися вширь зрачками – смотрели на Озорнова не отрываясь. – Мертвые смотрят моими глазами на тебя, – произнес тот. – Они вступают с тобой в брак. Мистический, неземной, нечеловеческий. Отряхнувшись от оцепенения, Эдик вскочил, опрокинув стул, и бросился бежать. Озорнов и не шевельнулся. Сидя за столиком, он спокойно смотрел вслед убегавшему испуганному ребенку, чья маленькая худая фигурка наискосок пересекала мощенный цветной плиткой бульвар, нервно лавируя среди неторопливых прохожих. Выбежав на перпендикулярную улицу, на Суворовскую, фигурка затерялась в срезанной под острым углом перспективе. Озорнов оставил чай недопитым и покинул кафе. Прибежав домой, все еще содрогаясь от внезапных спазмов, Эдик все рассказал родителям. Подробно описал мужчину, назвавшегося Озорновым, подробно передал его слова, которые на удивление хорошо запомнил, и даже это незнакомое слово – «аллегорически» – не переврал. Отец пришел в ярость, рвал и метал, и слетело невольно дурное, матерное выражение с его уст, которое он от волнения не заметил и прощенья не попросил. Мама, обычно делавшая отцу замечания, когда тот заговаривался при сыне и позволял себе то двусмысленную шутку, то некрасивое словцо, на этот раз промолчала. Ситуация была настолько серьезна, что некоторые условности вполне можно было послать к черту. На следующий день родители ходили в полицию – сами, без Эдика, – написали там заявление и вернулись довольными: полиция, как ни странно, пошла навстречу, приняла участие, выказала расположение. – Не все там упыри, есть и люди, – пробормотал отец с оттенком удивления, когда потом сидели за ужином; взгляд у отца был такой, словно ему открылся некий поразительный закон природы.

Полиция быстро нашла Алексея Игоревича Озорнова, который ни от кого скрываться и не думал. Приход полицейских и последующий допрос принял невозмутимо, держал себя без робости и суеты, спокойно, с достоинством, на вопросы отвечал уверенно. И вот что сказал: – Я писатель. Пишу для детей и подростков. Мне нужно было опробовать на мальчике сюжет книги, который сейчас разрабатываю. Чтобы понаблюдать за реакцией. В моей новой книге, а это фантастическая повесть, главный герой – точно такой же мальчишка. По сюжету к нему подходит на улице человек и говорит те самые слова, которые я и сказал. Понимаете, мне просто нужно было увидеть реакцию. Так сказать, сделать зарисовку с натуры. Само собой, я не предупреждал мальчика, что буду ему цитировать текст из моей повести, чтобы его реакция была естественной, не наигранной, натуральной. Ну вот, и получил результат. Если бы мальчик не сбежал от меня, дал бы договорить, я бы все объяснил ему – что это эксперимент в рамках творческого литературного процесса. Но я просто не успел сказать. Конечно, я понимаю, как все выглядит, поэтому специально записал нашу беседу на диктофон. Мой монолог, точнее сказать, мальчик-то молчал. Запись я вам предоставлю, и вы сами убедитесь, что не было в моих словах даже и намека на что-то противозаконное. Диктофонную запись Озорнова полиция дала послушать родителям Эдика, и тут даже папа признал, что ничего страшного, в принципе, не случилось. Писатель, конечно, мрачненький, с причудами, но кто из них, писателей, без причуд? И вообще, все это даже интересно. Мама отыскала в интернете несколько книг Озорнова – они там были в свободном доступе, – почитала немного и заключила: – Ну что, в принципе, даже неплохо. Детские ужастики. Я и не знала, что в нашем городишке этакий талант цветет втихаря. Не Веркин, конечно, не Крапивин, но все-таки… – Сологуб уездного масштаба! – пошутил папа. Кончилось тем, что родители забрали заявление. Озорнов же, встретившись с ними в полицейском отделении, много извинялся и передал для Эдика свою недавно изданную книгу с автографом. Книга называлась «Мертвецы наблюдают с Луны». На обложке изображен мультяшный мальчишка: сгорбленно, как оплеванный, бредет он по темной аллее, опасливо косится назад и вверх – на огромную Луну, на фоне которой темнеют уродливые силуэты голых ветвей. Взяв книгу в руки и прочитав на внутренней стороне обложки написанное аккуратным почерком: «Эдику Голобокову от автора с признательностью и благодарностью за помощь при написании новой книги. Лучше дрейфовать, чем дрейфить, не правда ли? А. Озорнов», – Эдик задумчиво повторил про себя эту фразу: «Лучше дрейфовать, чем дрейфить». И на душе у него сделалось вдруг невыносимо тоскливо, словно выгнали его из дома в пустынную ночь, и он медленно бредет без цели и смысла, одинокий дрейфующий по течению тьмы отщепенец. А где-то на задворках памяти едва слышно звучит старая-старая песня, навевающая мертвящий покой, – про черную реку-ночь, длящуюся веками, по которой ты плывешь, скорчившись в лодке, потерявший весла, не видящий ни берега, ни огонька… Эдик часто вспоминал взгляд Озорнова, когда тот говорил, что мертвые смотрят на Эдика и вступают с ним в брак. Этот взгляд и слова про брак с мертвецами были настолько жуткими, что Эдик не мог поверить в их несерьезность, в их неискренность, в… неистинность. Да разве можно было с таким взглядом, с таким тоном шутить и говорить неправду? Может ли настолько густой и липкий мрак выйти из какой-то выдумки? Эдик явственно чувствовал, что прикоснулся тогда к правде, которая в голосе и взгляде Озорнова клубилась, как ядовитый черный дым, отравляющий всякого, кто вдохнет хоть клочок этой тьмы. Он часто брал книгу Озорнова в руки, рассматривал обложку, от которой, несмотря на всю мультяшную условность рисунка, тянуло промозглой могильной тоской, раскрывал книгу, словно какой-то капкан, читал завораживающие и непонятные слова посвящения: «Лучше дрейфовать, чем дрейфить», – и скользил, скользил куда-то в темную глубину, где нет ни опор, ни ориентиров. Проснувшись однажды посреди ночи, Эдик уставился во тьму перед собой, в которой угадывалось смутное роение абстрактных сгустков мрака, и обратил вдруг внимание, что простыня на его груди фосфоресцирует, словно испачкалась в каком-то растворе, излучающем в темноте тухлый полусвет. Он приподнял простыню, открывая голую щуплую грудь, и холодные губы ужаса присосались к сердцу. Вся грудь была покрыта… нет, не покрыта – она светилась какими-то подкожными огоньками, бледными, желтовато-зеленоватыми, движущимися. Словно бы под кожей ползали паразиты, мерцающие, будто светлячки. Личинки… Он вспомнил это выражение Озорнова: личинки мертвых. Гнилостные звезды подкожного космоса, они кишели в хаосе, что искривляет любые орбиты и рвет паутину астрономических координат. Эти огоньки завораживали, гипнотизировали, и Эдик, глядя на них, сначала почувствовал головокружение, а потом канул в глубокий сон без сновидений.

Он и при ярком свете видел эти подкожные огоньки. Не так ясно, как в темноте, – но все-таки видел. И убедился, что их никто больше не замечает. Ни мама, ни папа, никто из родственников, приятелей, посторонних. Он носил огоньки на себе – или в себе – как тайную болезнь, вводящую его в замкнутый круг не то проклятых, не то избранных, которых никому из посторонних не дано ни понять, ни даже отличить от обычных людей. Ночью свечение было таким сильным, что проходило сквозь майку и простыню. Днем одежда скрывала этот свет, хотя Эдику иногда казалось, что сквозь рубашку или майку он и при ярком солнце видит тусклые проблески. «Я стал Невестой мертвецов», – думал он, и поганый холод разливался в крови, и билась меж черепом и мозгом мошкара зыбкого страха. Иногда он открывал книгу Озорнова – в разных местах, наугад, – но, прочитав абзац-другой, поспешно захлопывал. Его начинал душить страх, хотя в прочитанном ничего страшного пока не попадалось. Книга казалась Эдику хищником, который подкарауливает разум: ты только открой ее, только начни вчитываться – и прыгнет на тебя из букв, как из густой листвы, неведомое нечто, поджидавшее жертву. Открыв книгу в очередной раз, Эдик наткнулся на слова, которые произносит кто-то из героев повести: «Но ведь есть же эволюция. Все от кого-то происходят. А почему от человека до сих пор ничего не произошло? Когда я об этом задумался, то и понял: от человека происходит труп. Это про курицу и яйцо непонятно – кто там первый был, а тут все понятно, яснее ясного. Сначала человек, а потом – труп. А тот, кто в ходе эволюции второй, тот выше первого. Эволюция, она же от простого к сложному идет, ну а труп сложнее человека. Он, во-первых, загадочнее, а потом, он же весь какой-то… он пугает. А ведь простое никого не пугает. Че простого-то бояться, правильно? Но от трупов всем не по себе, потому что они существа с секретом, с двойным дном, непростые твари». Рассуждения персонажа показались Эдику странными. Что это в самом деле за логика такая! Труп сложнее живого человека, потому что… загадочнее и страшнее? Такой вывод смахивал на бред. Хотя… Эдик вспомнил, как лет пять назад смотрел на своего двоюродного дядю Никанора, лежавшего в гробу, и неприятно – до мурашек по коже – поразился, насколько же стал дядя Никанор после смерти другим существом. Чуждым, с нечеловеческим выражением неподвижного лица, пугающим, даже опасным, словно бы от этого существа можно ждать чего угодно – вплоть до самой дикой выходки. Впрочем, в его лице выражалось столько бесстрастного презрения к окружающим людям, что становилось ясно: никогда не снизойдет холодное это существо ни до какой выходки на глазах всех этих ничтожеств. Что-то такое чудилось Эдику в тот день, когда смотрел он в лицо мертвецу. Он продолжил дочитывать абзац в книге: «Вот когда я это понял, то и подумал: хорошо, ладно, мертвые происходят от живых, они выше нас на лестнице эволюции стоят, а от мертвых-то кто происходит? После каждой ступени всегда идет другая, более высокая. Так кто там над мертвыми встал – на ступень выше?» Прочитав, Эдик вдруг понял смысл происходящего с ним. Его словно озарило. Части конструкции сложились и образовали фигуру, ясно нарисовавшуюся в уме. Не все, конечно, было понятно с той фигурой, но в целом выходила более-менее определенная схема. Выше людей по развитию стоят мертвецы. Не те пустые оболочки, что лежат в земле, а страшные загадочные существа, которые вылупились из этих оболочек, как бабочка из кокона, и роятся где-то на изнанке нашего мира. Но эти живые сгустки теней тоже порождают из себя кого-то – еще более загадочного и страшного, чем они сами. Поэтому и откладывают свои личинки в нас, людей. Ведь есть же какие-то осы, которые откладывают личинки в гусениц. Только из тех осиных личинок получаются все те же осы, а тут возникает нечто новое, необычайное, нечто высшее, для которого мертвецы – пройденный этап, а люди – так и вообще давно отработанный материал, пригодный лишь служить чем-то вроде маточного раствора, питательной среды. Эти мысли показались Эдику чрезвычайно важными, словно бы он наткнулся на некий научный принцип, который позволяет понять многие, доселе необъяснимые вещи. Само собой, поделиться этим открытием он не мог ни с кем. Ни с друзьями, ни тем более с родителями. С этим новым знанием он погружался в одиночество, как утопленник, один на один со своим камнем на шее, погружается в глубину.

Однажды на улице он увидел девочку, младше его на пару лет, идущую в сопровождении двух женщин. На девочке было платьице с глубоким вырезом. Эдик ясно увидел в открытой верхней части ее груди огоньки, что просвечивали сквозь смуглую от загара кожу. Медленно движущиеся звезды ее внутреннего космоса. Две взрослые женщины рядом с девочкой увлеченно болтали друг с дружкой, а девочка шла механически. В ее глазах застыл ужас, она словно бы видела впереди что-то чудовищное. Да она и впрямь видела это чудовищное – только не где-то перед собой, а внутри себя. В изумлении застыв, провожал он девочку взглядом. А она – неужели почувствовала взгляд, липнущий к ее спине? – оглянулась, озабоченно шаря глазами по прохожим, и, когда взгляды соприкоснулись, Эдик вздрогнул. Он сорвался с места, поспешил за девочкой. Та отвернулась и больше не оборачивалась, но Эдику показалось, что с его приближением ее спина все сильнее напрягается. Сам же он, пока сокращалось расстояние меж ними, чувствовал нарастающий страх, от которого дыбились волоски на руках. Наконец это чувство стало невыносимым, кожа покрылась липкой испариной, ослабевшие ноги грозили вот-вот подкоситься, и Эдик остановился, прекратил преследование. Он понял, что Невестам мертвых лучше не встречаться друг с другом: их близость не угасит ужас, который каждый носит в себе, а лишь сильнее разожжет. Сколько еще таких, как я, думал Эдик, одиноких, затравленных страшной тайной, навалившейся почти невыносимой тяжестью? Сколько нас, неспособных ни с кем поделиться своим страхом? Да и как поделишься – никто ведь не поймет и не поверит! Отныне он всегда, даже в самой шумной и многолюдной компании, чувствовал пронзительную тоску одиночества. Если б знать хотя бы, что ты можешь открыться кому-то подобному тебе, нанизанному вместе с тобой на вертел общей тайны, то уже не таким потерянным почувствуешь себя среди обычных людей. Но если с обычными людьми можно было общаться, пусть и не на всякую тему, то к себе подобным невозможно было даже приблизиться из-за парализующего страха, который отталкивал Невест мертвых друг от друга, принуждая каждую забиться в свою щель и не высовывать оттуда носа. Что ж это за проклятая штука – смерть, если приобщение к ней так разделяет и разъединяет!

Эдик заметил, что один из его подкожных огоньков сделался больше других, начал мерцать и даже изменил свой оттенок на красноватый. Вместе с тем в груди возникло муторное предощущение, как за секунду перед приступом тошноты, только эта секунда застыла и тянулась мучительно долго, все не кончаясь, все никак не выплескиваясь в рвотном спазме. Что-то произойдет, с замиранием думал Эдик, что-то скоро случится… Он был в продовольственном магазине, когда в тревоге, внезапно охватившей его, начал всматриваться в окружающих людей, словно бы отыскивая знакомое лицо, которое заметил краем глаза и тут же упустил. Его взгляд задержался на взрослом мужчине; возбужденный и тоже как будто кого-то высматривающий, тот нервно полосовал пространство обеспокоенным взглядом, и губы его шептали что-то беззвучное. Когда Эдик встретился с ним глазами, мужчина застыл на месте, будто окаменев, а Эдика затошнило, и он быстрее выбежал на улицу, где склонился над тротуаром, и его вырвало. В магазине меж тем раздались крики, началась паника. Сквозь витрину Эдик увидел: тот самый мужчина, поймавший его взгляд, набросился на какую-то женщину, прижал ее к полкам с продуктами и что-то делает с ней. Эдик немного переместился, чтобы выбрать угол обзора получше, и наконец рассмотрел: мужчина зубами вгрызся женщине в горло и взахлеб пьет ее кровь. Ничего сверх этого Эдик не видел, но у него возникло явственное чувство, будто он наблюдал нечто невидимое, присутствовавшее там же. Это было похоже на марево, висящее в горячем воздухе – смутная прозрачная фигура, охватившая убийцу. Фигура, которая слегка мерещится, но попробуй только всмотрись повнимательней – и нет ничего. Эдик расстегнул рубашку и бросил взгляд на свою грудь: самого большого светлого пятна под кожей уже не было. Какое-то глубинное чувство, вроде подводного течения, подсказывало ему, что одна из личинок в его груди вышла наружу, сформировавшись наконец во что-то… во что-то страшное и невидимое. И вышла она через взгляд, использовав подходящего человека. Эдик всего лишь встретился глазами с нервным мужчиной, а тот стал дверью для неведомой твари, которая вырвалась в мир через него. Когда пришло понимание – внезапное, словно бы вложенное в голову в готовом виде, – Эдик тут же побежал прочь, чтобы как можно дальше оказаться от места кошмарного происшествия. Ему не хотелось видеть, что будет делать одержимый. Больше всего Эдик боялся вновь встретиться с ним взглядом. Потом, придя в себя и успокоившись, Эдик начал думать. В фильмах ужасов показывают, что зараза живой смерти распространяется через слюну и кровь. Позволил себя укусить – и все, пропал! Но что было бы, если б зараза распространялась через взгляд? Глянул в мертвые зрачки, пересекся взглядом – и началось: трупные пятна уже покрыли тебя, и черви проползают сквозь твое сердце. Такой способ размножения мертвецов был бы куда эффектнее укусов. Озорнов через взгляд передал Эдику личинки мертвых, и Эдик через взгляд передал что-то тому человеку в магазине. Что-то жуткое, выросшее из личинки. Невидимое, живущее по каким-то иным законам, нежели обычные существа. «Сначала оно двигалось внутри меня в виде светового пятна, – размышлял Эдик. – Потом выросло, приготовилось к выходу, но почему же не вышло наружу просто так, почему перешло по взгляду, как по туннелю, в другого человека, и тогда уже вырвалось в мир? Каким законам подчиняются эти существа? Да и что они, вообще, такое?» В тот же день вечером Эдик прочел в интернете горячие новости о том, как маньяк-убийца в продовольственном магазине загрыз насмерть двух женщин и тяжело ранил подростка. Назвали и фамилию маньяка, сообщили, что прежде он привлекался за что-то к суду и лечился от какой-то психической болезни. Эдик из этого понял одно: то, что вызревает в нем, ждет своего часа у него под кожей, и не просто выходит через взгляд, а ищет себе подходящего человека, который мог бы послужить дверью. Эдик ведь много с кем пересекался взглядами, но, заглянув именно в те глаза, почувствовал приступ тошноты. Во всем этом была какая-то система, какие-то свои законы, действие которых Эдик уже начал чуть-чуть постигать. Может быть, даже сами личинки мертвых, обитающие в нем, как-то прикасались к его разуму и приоткрывали тайны. Эдик вдруг поймал себя на том, что охвачен нездоровым возбуждением, каким-то злым азартом, словно бы он уже не просто жертва неведомых сил, а их сторонник и соучастник. От этой мысли на душе стало так гадко, что захотелось побыстрее смыть с себя всю мерзость, всю грязь, всю эту трупную гниль, которая, казалось, облепила его с ног до головы. Да только как очистишься от грязи, которую не видишь?

Отца вызвали в полицию. Когда вернулся, рассказал, что писатель Озорнов найден убитым в своей квартире. Зверски убитым. Перед смертью ему выкололи глаза, затем вогнали в лоб, над переносицей, какой-то острый металлический предмет, – возможно, тот самый, которым выкалывали глаза. – Спрашивали, где я был вечером в день убийства. Подозревали меня, – рассказывал отец. – Хорошо, что у меня железное алиби. В тот вечер, когда был убит Озорнов, родители Эдика вместе со своими друзьями ходили на концерт в бывшем Доме культуры моряков. Там местный джаз-бэнд Сергея Корнеева выступал вместе с каким-то американским саксофонистом. Американские и европейские джазисты – не первосортные, конечно, – часто приезжали по приглашению Корнеева, чтобы отыграть концерт с его ансамблем. Супруги Голобоковы, завсегдатаи таких вечеров, были подписаны на СМС-рассылку с рекламой от организаторов, лично знали Корнеева и его друзей-музыкантов, приводили на их выступления знакомых. Эдик, услышав про убийство писателя, взволновался, но виду решил не подавать. Тревога наполнила его сердце. На четвертый день после этого известия Эдик проснулся под утро, еще в темноте, слегка разбавленной сумеречным полусветом, и увидел, что сразу несколько светлых пятен под кожей выросли в размерах. И двигались эти пятна быстрее остальных. Днем Эдик старался никому в глаза не смотреть, ходил в солнечных очках, уставившись в землю, и веки под очками держал полуприкрытыми. Даже вечером, когда солнце скрылось и воздух начал темнеть, Эдик все продолжал носить очки. Поэтому и не заметил человека, подошедшего к нему на почти безлюдной улице. Незнакомец надавил под ребро острием ножа и процедил у Эдика над ухом: – Будешь дергаться – прирежу. Идешь со мной. Тихо и послушно. Иначе ты труп. Понял? Если понял, головой кивнул. Эдик сделал судорожный кивок. Мужчина больно обхватил его руку выше локтя сильными пальцами, цепкими и твердыми. Повел Эдика какими-то улочками, потом впихнул в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки, сел за руль и повез – повез Эдика на западную окраину, где частные домишки терялись среди растительности, которая чем дальше, тем все больше превращалась в настоящий лес, подступавший к городу. Потом Эдик сидел в сарае, привязанный к стулу под тусклой электрической лампочкой, на лицо ему садился назойливый комар, а мужчина, сидя перед Эдиком на табурете, говорил: – Писатель этот сдал мне перед смертью тебя и еще кой-кого. Чертовы детки! Думал, я его в живых оставлю, если все расскажет. Нет, сука! Таких оставлять нельзя. Он тебе хоть объяснил, во что тебя втянул, во что ты влип, а? – Ну… – замялся Эдик. – Что он тебе говорил? Невеста мертвых, да? Личинки? А что из тех личинок выходит, рассказал? – Нет, не рассказал, – пробормотал Эдик. – А сам-то ты понял что-нибудь? – голос незнакомца, казалось, потеплел, что-то человеческое, сочувственное послышалось в нем. – Я… не очень понял, – отвечал Эдик. – Ну, я подумал, это новое что-то происходит из мертвых. Эволюция, ну… Из живых – мертвые, а из мертвых – новое… Не знаю, что. Что-то необычное. – Так ты не знаешь, что это? – уточнил незнакомец. То был крепкий коренастый мужчина лет за сорок, одетый в темные брюки и блеклую рубашку с короткими рукавами. Невзрачный, коротко стриженный, с невыразительными чертами лица, но с колючим пронзительным взглядом, в котором плясали обжигающие огоньки. Этот человек, чувствовал Эдик, не был безумцем, зато был опасен – опасен чрезвычайно. – Я тебе расскажу, – продолжал он. – Ты должен знать. Говоришь, эволюция? Можно и так сказать. Мертвые перерождаются, но не все. Те, кто способен к загробному перерождению, становятся ангелами. Но это очень тяжело, для этого слишком много сил нужно, и эти силы мертвые заимствуют из человеческого ужаса и крови. Они находят людей, способных проливать кровь и сеять ужас вокруг себя. Сами-то мертвецы поначалу бессильны, не могут никому причинить физического вреда, но зато могут расшатывать психику. Не у каждого – лишь у того, чей разум уже расшатан. Таких они сводят с ума и подчиняют себе. Подчиненный человек начинает убивать для них, а они получают силу от крови и ужаса. Ужас в душе – это все равно что кровь в теле. Когда охватывает ужас, это значит, что в тебе рана – невидимая рана, – и оттуда хлещет поток, темный, как венозная кровь. Не зря ведь кровь всегда связана со страхом и ужасом. Когда мертвые перерождаются в ангелов, они слабы, они бессильны, им нужна пища. А когда досыта напьюся чужого ужаса, то получают власть над людьми. Тогда они, бесплотные и потусторонние, начинают влиять уже не только на психику, но и на материю. В конце концов, они становятся способны делать с нашей плотью все что угодно: перенести человека мгновенно на большое расстояние, сделать его устойчивым к холоду или к огню, трансформировать его тело, превратить в другого человека, в зверя или во что-то вообще кошмарное. Но это только с особо избранными людьми такое могут вытворять – с теми, кто подчинился им до конца. И чем больше этих тварей над нами, тем все ближе наш конец. Потому что мы будем сходить с ума, звереть, убивать и мучить друг друга. И все для того, чтобы разливалась кровь, разливался ужас, и была пища у этих тварей, а значит, и власть над нами. Они постепенно загоняют нас в тупик, из которого уже не будет никакого выхода. Их становится все больше, скоро у нас совсем не останется шансов. Те, кто выживет под их властью, превратятся в чудовищ, нормальных людей не останется. Такие, как этот писатель, Озорнов, заключили договор: они выискивают детей, способных стать гнездами для этих тварей, вынашивать их в себе. На таких, как ты, эта нечисть учится контролировать людей, управлять разумом, подчинять себе людскую волю. А потом находят… как сказать? Надломленных. Понимаешь? Есть надломленные люди, с трещиной внутри, которых легко доломать и полностью подчинить своей воле. Сидя в тебе, мертвые всматриваются твоими глазами в окружающих и выискивают. Поэтому таких, как ты, оставлять нельзя… – Нельзя оставлять? – спросил Эдик; страх бежал по его коже муравьиными потоками. – Тебе надо было убить себя, – мрачно произнес незнакомец. – Только так ты мог бы это остановить. Есть и другой способ, но это еще хуже смерти. Самоубийство проще. А другой способ – это запечатать себя. Провести специальный ритуал и выколоть себе глаза. Тогда личинки этих тварей не смогут выйти из тебя никуда и начнут пожирать тебя изнутри. Не тело пожирать – нет. Будут пожирать психику, разум, память, волю, подсознание. Это будет ад на земле. Знаю одного, который сам так и сделал; совесть ему не позволяла совершить самоубийство. А других вариантов просто нет. Но люди-то за жизнь цепляются, за благополучие – по врожденной подлости своей. Каждому хочется, чтоб не он мучился, а другой кто-нибудь, не он подыхал, а посторонний. Вот и носят Невесты мертвых в себе отраву и отравляют других, вместо того чтоб погибнуть самому, но только бы остановить этих тварей. – Вы… убьете… меня? – с трудом спросил Эдик; он задыхался, и слова едва выходили наружу. Незнакомец покачал головой. – Ты уж прости, пацан, но тебя поздно убивать. Это раньше надо было делать. Теперь бесполезно. Личинки выросли настолько, что твоя смерть их уже не остановит. Они быстро найдут себе других носителей. Поэтому я запечатаю тебя. И отпущу. Они начнут пожирать тебя изнутри. Ты останешься жить, но сойдешь с ума, а они будут годами, десятилетиями все жрать и жрать твою душу. Так она и станет для них ловушкой. Они сроднятся с ней. Пустят корни, сплетутся намертво с твоим «я». И когда ты наконец умрешь, они уже не смогут покинуть тебя и перейти в кого-то другого. Ты умрешь, а они продолжат жрать тебя после смерти. Твоя душа пойдет на дно, в самую глубокую тьму, и они вместе с ней. Так ты уведешь их подальше от поверхности, от нашего мира, вглубь бездны. Канешь, будто камень. Это единственный выход. Просто все уже слишком далеко зашло. Если бы я нашел тебя раньше, хотя бы месяца полтора назад, в июле… Эдик расплакался. Он просил, умолял этого страшного человека не делать ему больно, не мучить его, пожалеть и отпустить, ведь он всего лишь мальчик, маленький, перепуганный, совсем еще ребенок, который ни в чем не виноват и никому ничего плохого не сделал… Но страшный человек подошел к нему, взял его левой рукой за подбородок, схватил крепкими, будто из дерева, пальцами. В правой его руке был четырехгранный инструмент из черного металла, острый на конце. То ли слишком длинный кованый гвоздь, то ли какая-то короткая пика. Этой пикой он чертил в воздухе над головой Эдика сложные фигуры и бормотал непонятные слова, от которых расползалась морозная жуть. Лицо незнакомца побледнело, глаза провалились в овраги теней под надбровными дугами, зрачки расширились, оскалились неровные зубы, безобразно скривился рот. И точным движением отяжелевшей руки, превратившейся в беспощадный механизм, страшный человек вонзил острие в один глаз Эдику, потом тут же – в другой. Эдик заорал от боли и, проваливаясь в черноту, смешанную с кровью, услышал над собой исступленный крик незнакомца: – Я запечатываю тебя! А из черноты, в которой он утопал, хищно смотрели на Эдика звезды, их голодный внутриутробный блеск отзывался в душе беспредельным ужасом.
Дыра

Часть первая
Почти две трети лета – примерно с середины июня до середины августа – он проводил у бабушки в Черноморске. Дома, в Багрянове, нет моря, и лето там жарче и удушливей, хотя Багрянов и ближе к северу на полторы сотни километров, чем Черноморск. Можно даже решить, что над Багряновым чуть ли не проклятие повисло: зима и лето злей, каждое по-своему; с какой стороны ни зайди – ущерб отовсюду. На этот раз Алеша приехал к бабушке поздновато, почти в конце июня, решал кое-какие дела. Чувствовал, что чем больше живешь на свете, тем больше у тебя «кое-каких дел», всасывающих твое время, словно губка влагу. Дальше будет, поди, только хуже. Отец вон бабушку три года уже не проведывал – все некогда и недосуг, лишь отделывался телефонными звонками. Бабушка жила в старом дореволюционном доме о трех этажах. Подъезд был один, но внутри не имелось привычной для старых домов общей лестницы, которая, поднимаясь по центру дома, связывала бы этажи. Из холла вели к квартирам три двери: одна – в коридор первого этажа, другая – на лестницу ко второму этажу, третья – на лестницу к третьему. Этажи были почему-то изолированы друг от друга; перемещаться с одного на другой невозможно, кроме как через холл. Потолки в доме низковаты для старой архитектуры, зато первый этаж высоко поднят над землей. Под ним, в нижней части дома, располагался обширный подвал с кладовками по числу квартир, и были в том подвале неожиданно высокие потолки. Вела в него внешняя дверь на торце дома, второй же, внутренний вход располагался под лестницей, поднимавшейся на третий этаж. Входя в подвал, ты словно погружаешься в миниатюрную преисподнюю. На Алешу, когда он был еще дошкольником, это вечно темное подполье, куда жильцы ходили с фонариками и свечками, навевало жуть, липшую к детскому сердцу, как омерзительно сырая, холодная простыня. Сейчас, в свои тринадцать лет, Алеша Зорницын уже вышел из-под власти детских страхов. Он повзрослел настолько, что даже начал сочувствовать старикам, над чьими немощами недавно лишь посмеивался равнодушно. Взглянув после долгого перерыва на бабушку Лиду, он впервые почти воочию увидел старость, наброшенную поверх нее, будто сеть из невидимых нитей, продавивших морщины на коже. Обнимая бабушку, обмениваясь поцелуями – она норовила поцеловать в губы, он же слегка уклонялся, и губы касались щек, – ощутил, что сжимает в объятиях нечто ветхое, готовое дрогнуть, как мираж, рассыпаться и улететь по воздуху. Из окна бабушкиной кухни, с высоты второго этажа, открывался вид на огромный старый тополь, раскинувший крону на добрую четверть двора. Когда Алеша проходил мимо этого монументального древа, то и внимания не обращал на одну странность, однако теперь, глянув из окна, вдруг увиделв толстенном стволе овальное, как широко разинутый рот, дупло, которого прежде не было. В такое взрослый человек войдет не пригибаясь. Алеша смотрел на дупло и вспоминал: да точно ли его не было раньше, не путает ли он? Не могла же такая дырища возникнуть всего за год. – Бабуль, слушай, – оторвался он от окна, – вот это дупло на дереве… не было же его раньше, правильно? Не было ведь? Бабушка, ворожившая над угощением для внука, бросила искру короткого взгляда за окно, пожала плечами, промолвила: – Почему не было? Всегда было. Он опять обратился к окну, всмотрелся внимательно. – Да не, бабуль, ну я же помню: не было его. Не было же! – Ох, Лешик, Лешик! – покачала она головой; продолжать не стала. – Да не может быть, чтобы я так все перепутал! – удивлялся он, глядя перед собой тем расфокусированным взглядом, с каким мучительно всматриваются в собственную память. – Да ты у мальчиков спроси. У Цветкова, у Тютюника. Ты ж с ними все дерево облазил. – Ну да, да… – задумчиво пробормотал Алеша. – Спрошу. После обеда он спустился во двор и подошел к дереву. Дупло начиналось примерно в полутора метрах над землей, может, чуть выше. В высоту достигало около двух метров, а в ширину – до метра. К стволу под дуплом был прибит небольшой деревянный брусок – вместо ступеньки: если поставишь на брусок ногу и схватишься рукой за нижний край дупла, то легко залезешь внутрь. Алеша хотел так и сделать, но почему-то остановился. Когда представил, как входит в дупло его голова, за ней – плечи, следом – все тело, то стало вдруг не по себе, словно дупло было жадной пастью хищника, одеревеневшего в ожидании жертвы. Темнота внутри дупла казалась холодной, хотя ни малейшего прохладного веяния от дупла не исходило; этот холод будто вливался через взгляд прямо в мозг, вместе с чернотой, как ее неотъемлемое качество. Алеше вдруг почудилось, что темнота в дупле… мыслящая. Это было так странно. Глядя в черное отверстие, он почувствовал ответный взгляд – грозный, внимательный и недобрый. Все это в смутных ощущениях растеклось внутри Алеши, будто облако ила, взметнувшегося со дна. Алеша тут же отдернул руку от края дупла, словно испугался, что оно сомкнет на пальцах жадные створки и засосет в темноту. Его друзей, Пашки Цветкова из второй квартиры и Женьки Тютюника из десятой, не было – куда-то умотали со двора, и Алеша отправился в одиночестве бродить по городу. Надо было посмотреть, где что изменилось за прошедший год, зайти на рынок, пройтись там меж прилавков, рассмотреть местные вкусности, которых не бывает в Багрянове, попробовать холодного квасу и лимонаду, завезенных из ближайших станиц – Варениковской, Динской, Староминской и других, заглянуть в магазины – продовольственные, книжные, видео-музыкальные, в общем, поздороваться с этим небольшим уютным городком, любимым и почти родным. Он шел по утопающим в зелени улочкам самой старой части города. Солнце жарило с неба, но не с той злобной бесчеловечностью, как последнюю неделю в Багрянове; в жару вплетались порывы южного ветра, который здесь называли «моряк», потому что дул с моря, со стороны Турции, принося в город приятную свежесть. Каждый раз, когда летом Алеша приезжал в Черноморск, в первый же день его посещало блаженное чувство освобождения: он словно вырывался из душной камеры, где неподвижный омертвелый воздух погружал в мучительное оцепенение, в котором хочется лечь, свернуться эмбрионом и застыть без мыслей и чувств.
Виталик Ямских, большеглазый, лопоухий, скуластый, с широким, по-жабьи, ртом рассказывал Алеше: – В прошлом году, в начале сентября, тут свадьба была. Из четвертой квартиры хлыщ какой-то женился. Тут его и не знал даже никто, все учился где-то годами, в Москве, что ли, а свадьбу здесь справлял. Так они знаешь что устроили, жених с невестой? Решили, что брачную ночь проведут в дупле. Белья постельного туда натащили, залезли в дупло, а потом всю ночь оттуда крики и стоны, всю ночь он ее жарил без передыха! Утром они на землю спустились: шатаются, как пьяные, глаза горят, чуть не бешеные. После той ночи я у них и родился… – Не понял, как это? – удивился Алеша. – А так. – Улыбка искривила Виталькины губы, тени, окаймлявшие глаза, стали гуще; или это только показалось? – Я же помер летом, не помнишь разве? С мола прыгнул и башкой в воде ударился о какую-то конструкцию-хренукцию. А они меня обратно из смерти родили, как пылесосом высосали, прикинь! У них там и свой ребеночек тоже был, на моллюска похожий, ко мне все лепился, уродец, – так я его сожрал. Я быстро сформировался. Это когда первый раз рождаешься, тормозишь с непривычки, а по второму разу все быстрее. Когда из мамки моей новой вылезал, все у нее порвал. Хотел сначала между ног, – голова прошла, но дальше чего-то стопорнулось. Тогда пошел другим путем. Пузо ей стал прогрызать. Выбрался, осмотрелся: пипец – что такое! Кровищи! Я плохо соображал тогда, не понимал даже, кто я такой – зверь не зверь, черт не черт!.. Потом очухался и вспомнил: себя самого и все вообще, а тогда как животное был. Даже на двух ногах не мог ходить, руками в землю упирался. Ну и давай тикать, куда придется, ползком да вприсядку. В подвал забежал. Темно, хорошо, тихо. Так и живу там, а по ночам наружу вылазки делаю. «Это сон, – подумал Алеша, – сон!» – Конечно, сон, – подтвердил его невысказанную мысль Виталик. – Все сон. Бог спит и видит сны, а мы все – ночные кошмары его. «Что будет, если проснусь?» – думал Алеша. – Не советую, – покачал головой Виталик; он снова угадал его мысль. – Лучше не будить спящего Бога. А то знаешь что будет? Не знаешь? Все дурные сны станут дурной явью. «Черт, да исчезни ты наконец!» – подумал Алеша. – Я-то исчезну, – осклабился Виталик, – но ведь ничто на самом деле не исчезает. Исчезновение – обман. Хочешь, чтоб я тебя обманул? Обману, нет проблем! Все исчезнувшее – оно все здесь. За углом стоит и ждет. Проснувшись среди ночи, Алеша лежал с колотящимся сердцем, смотрел в потолок. В этом сне было что-то неправильное. Что-то… не то. Сны ведь отражают реальность, пусть и перемешивают ее элементы, как стекляшки в калейдоскопе, но берут-то их из реального опыта – из увиденного, услышанного, прочитанного. Так объяснял Алеше отец, а уж он-то знал, что говорил. Алеша был книжный мальчик, в девять лет уже зачитывался Гоголем – «Диканькой» и «Миргородом», а в прошлом году прочел Голдинга – «Повелитель мух», Вежинова – «Барьер», Булгакова – «Дьяволиаду», «Мастера и Маргариту»; в последнем случае, правда, с трудом давались «ершалаимские» главы, на которых он откровенно скучал, но все прочее проглотил с жадностью. Сейчас Алеша читал «Вошедших в ковчег» Кобо Абэ. И конечно, прочитанные взрослые книги могли навеять странный сон, но только откуда взялись в нем эти разговоры про спящего Бога, которого лучше не будить, иначе кошмары его снов воплотятся в явь? А те кошмары – это, дескать, мы сами… Алеша немного увлекался психологией, да и трудно избежать такого увлечения, когда твой отец – профессиональный психотерапевт, но религией и философией Алеша совсем не интересовался. Про Бога понимал только одно – что его нет, не было и быть не может. Как-то раз это убедительно объяснил отец, и Алеша с ним полностью согласился. Поэтому внезапные рассуждения во сне про спящего Бога показались неуместными, совершенно чужеродными. К мыслям и образам, которые приходили на ум, Алеша относился с особенным вниманием. Еще в конце прошлого года он вдруг обнаружил, что некоторые мысли, сами всплывающие на поверхность сознания, сформулированы как-то уж слишком художественно и просятся – аж до зуда – быть записанными на бумагу. Алеша сделал несколько записей, показал их отцу, и тот очень серьезно сказал, что это первые ростки писательского таланта. Три года назад отец проводил с Алешей серию психотерапевтических сеансов, призванных разбудить в ребенке творческие способности. Методика тех сеансов была отцовской разработкой; отец, хоть и не склонный к самодовольству, откровенно гордился своими методиками, особенно когда те приносили плоды. А может, думал Алеша, сейчас пробуждается еще какой-нибудь талант, пока неопознанный, и его шевеление в глубинах организма порождает странные сны вроде сегодняшнего. Виталик Ямских был на пару лет младше Алеши; они не дружили – Алеша едва знал его. И вообще, этот низкорослый щуплый мальчишка, скользкий и суетливый, подлиза и обманщик, был Алеше неприятен, отталкивал даже своей внешностью. Поэтому, когда Ямских убился, прыгнувши в море с западного мола, Алеша нисколько не расстроился.

Утром, сидя за завтраком, Алеша внезапно для самого себя выложил бабушке все про свой сон – хотел посмотреть на ее реакцию. Но, как только рассказал, тут же и пожалел: все-таки не стоило вываливать на нее такое. Бабушка помрачнела, выслушав рассказ. Села за стол напротив Алеши, внимательно всмотрелась ему в лицо, словно спрашивая взглядом: «Не сочиняешь ли ты, чтобы надо мной посмеяться?» Алеша выдержал этот взгляд. – Даже не знаю, как это объяснить, – произнесла бабушка, – это все странно как-то: и твой этот сон, и то, что было на самом деле… И тут бабушка рассказала такое, от чего Алеше стало не по себе. – Действительно, да, была свадьба в прошлом году, в сентябре, у соседа из четвертой квартиры, у Ершова-младшего, Андрея. И в дупло он с невестой, Наташенькой, лазил, до утра они там пробыли. Стыд совсем потеряли. Эх, молодежь теперь! – Бабушка покачала головой. – Считай ведь, у всех на глазах. Никто, конечно, не видал ничего, но слышали-то… А потом, уже в этот год, в марте, когда ходила Наташенька с животом, то беда случилась, такая беда! Андрей, он с ума спятил, взял и Наташеньку свою убил. Живот ей ножом распорол, все искромсал, сыночка своего нерожденного – в куски, прямо в куски! Отец его пришел с работы и видит: сидит тот с ножом над нею, глаза безумные, бормочет что-то. Наташенька жива еще была, но не спасли бедную – скончалась в тот же день. Андрей в дурдоме сейчас. Говорят, совсем плохой, ничего не соображает. Алеша почувствовал внутри себя будто порыв сырого зябкого ветра. Все вокруг стало другим, приобрело какое-то новое качество, хотя с виду оставалось прежним. Словно бы предметы поменяли смысл и предназначение. Алеша растерянно осмотрелся вокруг, чувствуя, что все в кухне стало из привычного – потусторонним, необъяснимым. Но длилось это недолго, вскоре предметы вернулись в прежние смысловые ниши – как вывихнутые и вновь вправленные суставы. Бабушка, которая вообще не любила разносить дурные новости, после того как все рассказала внуку, почувствовала себя неловко, словно сделала что-то постыдное. Не помыв посуду, оставшуюся от завтрака, она все сложила в раковину и ушла к себе в комнату. Чем больше Алеша думал про свой сон, тем муторнее становилось у него на душе. Сон соприкасался с реальностью, но не как положено снам: в нем отразилось событие, о котором Алеша заранее ничего не знал. «Иногда нам снятся сны, – всплыла внезапная мысль, – которые рождаются прежде собственного зачатия. Дым таких снов поднимается еще до того, как огонь осознания зажжет факты действительности». Это была одна из тех мыслей, которые просились на бумагу и которые Алешин отец расценил как признаки пробуждающегося писательского таланта. Достав блокнот, Алеша записал туда мысль, словно стряхнул с кончиков пальцев на страницу что-то склизкое и раздражавшее кожу. Тем же утром, когда встретился наконец с Пашкой и Женькой и спросил их про убийство Ершовым беременной жены, подтвердилось все, что рассказала бабушка. Однако друзья добавили к истории одну деталь: спятивший Андрей Ершов упорно бормотал над умиравшей женой, что не убивал ее, а наоборот, пытался защитить, но от кого защитить – так толком и не сказал. Сходив с друзьями на пляж, поплавав с ними наперегонки между пирсами, лениво позагорав, распластавшись на гладкой прибрежной гальке, Алеша развеялся. Но дома, после ужина, вновь ощутил тревогу. Неотвязная мысль засела в голове у Алеши. Он пытался читать привезенный с собой томик Кобо Абэ, но был рассеян, постоянно отвлекался и, наконец, отложил книгу. Сказал бабушке, что пойдет проветриться перед сном. Прихватил фонарик, всегда лежавший в прихожей, и вышел из дома под сумеречное, темнеющее небо. Выйдя со двора, он прошелся вокруг квартала, затем вернулся во двор и сразу направился в подвал. Дверь, ведущая в него, никогда не запиралась на замок, да в ней, кажется, замок и вовсе не работал. Слегка приоткрытая, она приглашала в плотную вязкую смесь темноты, тишины, запаха пыли. Когда-то маленького Алешу страшила эта темнота. Она и манила в себя, и наполняла тошнотной жутью. Ему даже с фонариком страшно было вступать в подвальный коридор, до конца которого он ни разу так и не дошел. И вместе с друзьями, Пашкой и Женькой, почему-то никогда не ходил вглубь этого подвала, они доходили только до двери кладовки, принадлежавшей Пашкиной семье, второй двери от входа. Теперь-то Алеша не боялся темноты и вошел в нее без опаски, фонариком освещая путь. Он чувствовал, как где-то на периферии сознания слабо шевелятся прежние детские страхи, но волю им не давал: он был достаточно взрослым, чтобы держать себя в руках и не срываться в панику из-за ерунды. Он шел по коридору, равнодушно глядя на выплывающие из темноты двери в стене по левую руку, стена по правую руку была пуста. За каждой дверью находилась кладовка, принадлежавшая кому-то из жильцов. Зачем Алеша вошел в эту темноту, он и сам не знал. Точнее, не то чтобы не знал – просто не хотел об этом задумываться. Не хотел как-то слишком старательно… Словно бы червячок подтачивал сознание. И кстати, заметил Алеша, дверей здесь как-то многовато. Неужели тут лишние кладовки? Коридор свернул вправо. Теперь двери были уже в стене не по правую, а по левую руку. И темнота после поворота, кажется, стала плотнее, тишина же сделалась глубже. То ли фонарик потускнел, то ли глаза привыкли, но свет уже не казался таким ярким. Двери выныривали из темноты и снова ныряли в нее. К запаху пыли примешалось что-то еще, какой-то знакомый запах, который Алеша никак не мог определить. Когда коридор еще раз повернул, теперь уже налево, и запах усилился, Алеша понял: это же запах водорослей, гниющих на морском берегу. Алеше стало неуютно и тревожно. «Зачем я здесь?» – подумал он, в очередной раз сворачивая. Неприятное чувство шевельнулось глубоко внутри: Алеше казалось, что нескончаемый коридор всасывает его в себя, как макаронину, и он проскальзывает в чью-то жуткую утробу. Вдруг почудилось, что за каждой дверью кто-то стоит. Стоит и вслушивается, прижав ухо к внутренней стороне двери. Будто подвал населен тайными жильцами, о которых не знает ни одна живая душа. После очередного поворота фонарик в Алешиной руке конвульсивно замигал и погас. Тьма, затопившая все, походила на вязкую грязь. Плотная, тяжелая, облепляющая, душащая. Словно тебя зарыли заживо в общую могилу с безвестными мертвецами, отделенными непрочной черной завесой, гнилостной плотью тьмы. Где-то в сознании Алеши расширялась дыра, из которой, один за другим, выползали пауки страха – детского, подавляющего всякий здравый смысл, парализующего волю, – черные пауки, которых во тьме не разглядеть. Сгустками ужаса ползли они по контуру Алешиного сознания. Ползли по коже, по внутренностям – по нежным слизистым. Шорох маленьких лап напоминал шелест морской пены, лижущей мокрую кромку береговой полосы. Призраки гниющих водорослей колыхались во тьме, прикасались то к ноге, то к руке, то к лицу. Кто-то дотронулся до Алеши, взял его пальцами за левое запястье. Алеша закричал от испуга, но крик вышел жалким – тихое хриплое сипение, как будто выходил воздух из проколотой резиновой камеры. – Это я, – произнесла тьма или кто-то внутри тьмы, полностью слившийся с нею. «Ты?» – хотел произнести Алеша, но недостало сил выговорить даже краткое слово. – А ты правильно сделал, что пришел, – продолжал голос во тьме. – Иногда правильные поступки – самые гибельные. Бывает, человеку не хватает одного правильного шага, чтоб совсем погибнуть. Наконец Алеша узнал говорящего, и страх стал глубже. Внутри Алеши словно бы открывался провал, в котором роились мелкие и крупные страхи. Голос, обратившийся к Алеше во тьме, принадлежал погибшему Виталику Ямских. От пальцев, что сжимали Алешино запястье, по коже разливался холод. Другая рука, такая же холодная, шарила по телу, ощупывала грудь, плечи, шею, лицо. Алеша хотел вырваться и побежать, но куда же бежать в такой тьме? Не приведет ли бегство в окончательный тупик в самых дальних закоулках ловушки, где оказался он, дезориентированный и беспомощный? – Чтобы понять, – произнес Виталик, – тебе надо подняться и войти. Только так ты сможешь узнать все, что скрыли от тебя. Понимаешь, о чем я говорю? Подняться и войти. – Куда? – прошептал Алеша; он сумел наконец выговорить слово. – В дупло, – ответила тьма голосом мертвеца. Алеша не помнил, как вышел из подвала, как вернулся домой. Он, кажется, заглянул к бабушке в комнату – та смотрела телевизор, – пробормотал «спокойной ночи» и пошел восвояси. А может, ему это только представилось, и никуда он не заглядывал, но молча прошел к себе в комнату. Лег не раздеваясь в постель. Долго лежал и смотрел в темноту. То, что с ним произошло, не могло быть реальностью. Но это не было и сном. Вспоминая разговоры с отцом, посвящавшим в простейшие принципы психологии, Алеша решил, что пережил галлюцинацию. По словам отца, даже самые здоровые люди могут галлюцинировать во время реактивного психоза, вызванного стрессом или перенапряжением. Чем была вызвана эта галлюцинация – неясно. Но все неясное однажды найдет себе разумное объяснение, найдет обязательно. Иначе ведь и быть не может. С этими мыслями Алеша погрузился в сон.

Он был деревом – старым тополем во дворе. Дом, перед которым он рос, давно разрушен, двор превратился в пустырь. Листья на ветвях умерли, опали поздней осенью и зимой и не выросли уже по весне. Оцепеневшими змеями торчали голые ветви. Грязные, истощенные люди подходили к дереву, отрывали свои головы – те легко снимались с плеч – и бросали в дупло. Проглатывая приношения, дерево, взамен голов, наделяло людей прозрением, сгустки которого клубились теперь, как жаркое марево, над каждым безголовым телом. Увенчанные живым обнаженным прозрением, люди постигали суть вещей, суть самих себя и друг друга. Теперь они знали, кто для них друг, кто – враг. Враг – тот, кто снаружи. Друг – тот, кто внутри. Нападая, каждый на ближнего своего, они уничтожали врагов – всех вокруг себя, – чтобы защитить друзей – свое внутреннее «я». Их головы, пожранные деревом, выступали каплями смолы на ветках, набухали, увеличивались, уплотнялись. Страшными плодами свисали они с ветвей, равнодушно глядя на то, как извиваются внизу безголовые тела, нападая на себе подобных и защищаясь от них. В сущности, все происходящее было калейдоскопом сновидений, которые дерево видело посредством голов, совокупленных с ним в единое целое. Я сплю, думало дерево, я вижу сон, большой сон, вылепленный из малых снов. Я сплю, думал Алеша, и должен проснуться, чтобы узнать то, что от меня скрыли. Иначе реальность опередит меня и проснется, пока я буду спать. А этого нельзя допустить.

Этот день второй половины июля был жарок и неподвижен, как студень. Бывают изредка такие дни в Черноморске, когда ветер только меняет направление, но полностью не утихает. Морская бухта, которую город подковой окружил с трех сторон, и горная гряда на восточной ее стороне – лучшие условия для непрестанных ветров. Но в тот день воздух как оцепенел. Дым из труб двух цементных заводов поднимался вертикально. И висел над промзоной, раскинувшейся у подножия восточных гор, неподвижный слоистый белесый смог. В такой день не хотелось и выходить со двора. Сидеть бы, не шевелясь, в тени, лениво глядя меж полуприкрытых век, истлевая от скуки, но только бы не бродить по дну затопившего город горячего вязкого киселя. Алеша с Пашкой и Женькой сидели около тополя, в беседке, над которой покровительственно простиралась его крона. Засаленными старыми картами меланхолично играли в секу, болтали о всякой ерунде. – А знаешь, какое клевое свойство у дупла? – внезапно перескочив с темы на тему, спросил Женька Алешу, и тот едва заметно вздрогнул при слове «дупло». – Свой-ст-во, – с расстановкой пробормотал Пашка, ни к кому не обращаясь, рассеянно глядя перед собой. Алеша молчал. – Если залезть в дупло, – продолжал Женька, – то ты из дупла все будешь видеть четче, а тебя никто не увидит, даже если специально биноклем в дупло смотреть. – Да ну, фигня какая-то! – не поверил Алеша. – Не, не фигня, – вступился за свойство Пашка, – мы ж проверяли. Пойдем ко мне, – он положил руку Алеше на плечо, – из окна в бинокль позырим, а Жека в дупло слазит. Алешу охватила смутная тревога, когда шел вслед за Пашкой: ох, нехорошее что-то, подумалось ему, выйдет из этой затеи!.. Окно в Пашкиной комнате – лучший наблюдательный пункт за дуплом. Пашка протянул Алеше бинокль. Женька меж тем забрался в дупло, растворился в его темноте. Алеша навел бинокль на дерево, подрегулировал фокус, вращая колесико между окулярами, – и не увидел ничего. На древесной коре вокруг дупла без труда можно было рассмотреть все бороздки, но внутри дупла стоял непроглядный мрак. – Понял теперь? – улыбнулся Пашка и крикнул из окна: – Жек, а ну, покажись! Женька выглянул из дупла, затем вновь скрылся в нем. Алеша видел в бинокль, как Женькина голова выныривает из темноты, будто из жидкости, – зловещая улыбка кривится на губах, – и вот Женька опять пропадает в смолянистой тьме. Алеше стало жутко, потому что увидел невозможное: дупло было словно наполнено черной водой или нефтью, поверхность которой застыла перпендикулярно к земле, потому что чертова жидкость плевала на гравитацию, не желая проливаться вниз. Высунул Женька из дупла руку, и Алеша увидел в бинокль, как та выходит из плоскости тьмы: словно утопающий тянется над черной поверхностью пруда в надежде нащупать свое спасение. Сквозь поверхность совсем немного было видно, как продолжение руки, темнея, уходит вглубь и растворяется во мраке. Женька высунул руку по локоть, но уже плеча нельзя было рассмотреть, и тело, которому принадлежала рука, было полностью скрыто тьмой. – Когда у Ершовых свадьба была, – произнес Пашка над самым ухом у Алеши, – и ночью они в дупло полезли, и Ершов-младший невесту там чпокал вовсю, а она кричала на весь двор: «Ой, бля, как хорошо! Ой, бля, Андрейка, давай, давай!», – у нее «бля» через каждое слово было, – то я тогда бинокль взял и папиным фонарем – а фонарь охренеть какой пробойный, – прямо в дупло посветил. Думал: щас такую порнушку позырю!.. А ничего не увидел. Свет в дупло входит – и все, с концами, теряется, как в толще какой-то. По идее, должен все дупло, до задней стенки, просветить, но я там ничего не увидел. Вообще. Когда они с Пашкой вернулись во двор, Женька, выбравшись из дупла, подошел к Алеше, обнял за плечи и повлек к дереву. – Полезай, сам увидишь, каково оно – оттуда смотреть. Все какое-то… вот другое прям. И не объяснишь, это видеть надо. Алеша уперся и застыл на месте. По телу растекался страх. Казалось, этим страхом сочится Женькина рука, легшая на плечо; от нее струи страха, пропитывая майку, текли по коже и, проникая сквозь поры, достигали костей. – Что такое? – заглянул Женька в лицо испуганному Алеше; неожиданно жестокая ледяная улыбка проступила на Женькином лице. – Ты не хочешь туда? Как это – не хочешь? Что за дела! Пашкина ладонь легла Алеше на спину меж лопаток. – Надо, надо! Лепан, ты должен это увидеть, – жарко дохнуло в затылок. Алеша дернулся, но друзья крепко вцепились в него и поволокли к дереву. Они действовали как будто в шутку, но в то же время и с каким-то злым остервенением. С любым из них, один на один, Алеша, наверное, справился бы, но сразу с двумя совладать не мог. Как ни упирался, они подтаскивали его все ближе к дереву, распахнувшему пасть дупла, готовому пожрать приношение, которое вот-вот впихнут ему в глотку маленькие жрецы. Они боролись молча. Алеша извивался, стараясь вывернуться из рук опасных незнакомцев, которыми вдруг стали друзья. Бывшие друзья, чьи личности словно бы в один момент выветрились из их тел, которыми тут же завладела непонятная враждебная сила, вышедшая из каких-то мрачных глубин. Мелькнуло воспоминание о прочитанном недавно «Повелителе мух»; из предисловия к роману Алеша узнал, что его первое название было «Незнакомцы, явившиеся изнутри», а «Повелитель мух» – это придумал издатель, озабоченный тем, чтобы броским названием привлечь покупателей. Незнакомцы, всплывавшие изнутри детей, героев книги, словно безобразные утопленники – со дна глубокого пруда, подменяли этих мальчишек злобными маленькими чудовищами, готовыми убить того, с кем только что водили дружбу. Эти двое – Пашка и Женька – тоже вдруг превратились в незнакомцев, словно бы приобщились к той самой древней и страшной тайне, куда окунулись с головой герои жуткого романа. С каждым шагом, который приближал Алешу к дуплу, ему становилось труднее дышать. Воздух, казалось, раскалывался на пласты, и те пласты было никак не протолкнуть в горло. Дупло смотрело на Алешу, оно уже предвкушало, даже почудился тихий шепот, которым дупло призывало, втягивало в себя, словно гипнотической командой. «Гипноз!» – лихорадочная мысль забилась в Алешином сознании, как влипший в паутину мотылек. Года два назад Алеша задал отцу наивный вопрос: «А ты можешь меня загипнотизировать и под гипнозом приказать мне стать гипнотизером – чтобы я очнулся потом и уже сам мог бы гипнотизировать людей?» Отец, специалист по директивному гипнозу, рассмеялся тогда на этот детский вопрос, сказал, что нет, так нельзя, но потом задумался: какая-то мысль пришла ему на ум. И вскоре он попробовал провести с сыном сеанс гипноза для развития у мальчика гипнотических способностей. Однако опыт оказался неудачным: никаких способностей Алеша не приобрел, хотя и почувствовал в себе странное, трудноуловимое изменение, которое постарался подробно описать отцу. Тот заметил на это, что, возможно, в Алешиной нервно-психической области образовалась некая доминанта, но она еще окончательно не сформирована и пребывает в латентном состоянии. Сейчас, когда друзья тащили его к дуплу, Алеша, разъедаемый щелочью страха, задыхающийся, теряющий силы, беззвучно закричал внутри своего сознания, и, в ответ на истошный мысленный вопль, что-то грозное, еще более страшное, чем пожиравший его страх, шевельнулось внутри. Казалось, где-то в глубинах треснула и разорвалась некая ткань, и что-то чудовищное, мерзкое, кишащее наполнило Алешу, хлынуло горлом и выплеснулось наружу – невидимое и тошнотворное. Из Алешиной груди, разорвав майку, выросла сухая корявая ветвь. Это была галлюцинация, но ее видел не только Алеша – Женька с Пашкой тоже видели. Под ветвью, чуть ниже грудной клетки, на Алешином теле распахнулась черная дыра, нижним краем своим уходящая под спортивные трусы, к паху. Края дыры подрагивали, по ним волнами пробегали судороги. Дыра вела в глубокий темный провал; казалось, в Алешино тело вместился огромный объем пространства. Эту галлюцинацию тоже видели все трое. Ветвь, растущая из Алешиной груди, изогнулась, обхватила Женьку за плечи, пригнула к земле и потащила в провал на Алешином теле. Женька, стиснув зубы, молча дергался, пытаясь высвободиться, но уродливая ветвь держала крепко; ее тонкие отростки впились в тело, раздирая кожу до крови. Пашка отскочил в сторону и в ужасе наблюдал весь этот абсурд и кошмар. Алешина воля не позволяла ему броситься наутек, держала поодаль и заставляла смотреть. То, что Пашке пришлось увидеть, не поддавалось никакому пониманию. Он видел, как Алеша пожирал отчаянно упиравшегося Женьку, с помощью изгибавшейся ветви запихивая его в дыру на своем теле, отверстие которой расширялось и сужалось. Когда Женька полностью исчез в той дыре, ее створки сомкнулись и слиплись друг с другом, даже шва меж ними не осталось. Алеша стоял перед Пашкой как пьяный, пошатываясь, с ветвью, торчащей из груди. В какой-то момент Пашка моргнул, а когда веки разомкнулись, никакой ветви уже не было – видение исчезло. Вот только майка на Алеше была разорвана сверху донизу и лохмотьями висела, словно жилетка, открывая грудь и живот. – Иди, достань его, – приказал Алеша, мотнув головой в сторону дупла, и прибавил: – Он там. Пашка послушно полез на дерево, исчез в дупле и вскоре показался из него вместе с Женькой, обессиленным, плохо соображающим, мокрым, измазанным какой-то мерзкой слизью. Пашка помог ему спуститься и, поддерживая, чтоб не упал, растерянно спросил Алешу: – Как это? Что… – Никак! – с ненавистью отрезал Алеша, развернулся и пошел домой.

Лежа на диване в своей комнате, он пытался осмыслить случившееся. И не мог. Одна деталь не находила объяснения. Ветвь дерева, растущая из груди, и черная дыра под ней – все это можно списать на гипнотическое внушение и самовнушение, которое создало массовую, для трех человек, галлюцинацию. Но как объяснить то, что произошло с Женькой, который исчез внутри галлюцинаторной дыры и потом оказался в дупле тополя? И почему Алеша был так уверен, что Женька именно там? Откуда в тот момент взялась такая уверенность, он не понимал. Тогда он просто знал это – и все. Знал, потому что… да потому что иначе и быть не могло! Алеша чувствовал себя очень неуютно с проснувшимися в нем способностями, которые не поддавались осмыслению. Будь это просто способности к гипнозу – другое дело, но здесь, кроме гипноза, было что-то еще, непонятное, пугающее. Отвратительное чувство подкрадывающейся опасности пробирало Алешу. Чтобы отвлечься и развеяться, Алеша попробовал читать книгу, но не смог – текст рассыпался на мельчайшие фрагменты, страницы казались просто свалкой буквенных знаков. Алеша подумал, что сейчас лучше занять себя изображениями: разум воспринимает их в первый момент целиком, а затем заостряется на отдельных деталях, в отличие от текста, восприятие которого идет в обратном порядке – от частностей к целому. Он пошел в бабушкину комнату, открыл ящик серванта, где в альбомах и конвертах хранились фотографии, выгреб оттуда все, разложил на столе и начал смотреть. Это занятие действительно позволило отвлечься. Алеша с интересом рассматривал старые фотографии. Многие из них были знакомы, но некоторые он видел впервые. Особенно много неизвестных снимков хранилось в конвертах. Жаль, бабушки нет, она бы сейчас рассказала ему про каждый. Бабушка отправилась к кому-то с визитом, на третий этаж. Ничего, подумал Алеша, скоро вернется, и можно будет расспросить ее о самых непонятных фотографиях. В одном из конвертов отыскалось фото, снятое пять лет назад, в девяносто шестом году, когда Алеше было восемь и он окончил второй класс; дата снимка была записана на обороте. В тот год, когда в феврале скончался дедушка Федя, папа с мамой и Алешей приезжали к бабушке, чтобы все устроить с похоронами и поминками. Потом приезжали на сороковины. А летом папа приехал вместе с Алешей и прожил у бабушки две недели. Затем оставил Алешу почти до конца августа, вернулся, провел здесь еще два дня и вместе с Алешей уехал домой. В тот год папа больше всего времени пробыл у бабушки, на следующий он приехал лишь на полтора дня, на бабушкин день рождения, а после и вовсе не приезжал ни разу. На этом снимке Алеша, бабушка и папа стояли перед тополем, а рядом с папой стоял высокий старик с широкой, как веник, черной бородой. Кто-то из родственников? Или просто знакомый? Алеша совершенно не помнил его. Старик смотрел исподлобья, взгляд его так и сверлил, даже голова начинала побаливать, если долго, не отрываясь, смотреть в эти пронзительные глаза, обрамленные потемневшей кожей, засевшие глубоко под надбровными дугами на рельефном костистом лице. У Алеши в школе был один учитель – Иван Семенович, историк, – с такой же темной, прямо черной кожей вокруг глаз. Но Иван Семенович – низенький, толстый человечек, мстительный и злобный, при этом смешной и нелепый, и сама злоба его, часто бессильная, вызывала у школьников лишь смех. А этот старик на снимке внушал опасливое уважение. Алеша подумал, что такой человек, как этот дед, никогда не бывает смешон; печать какой-то мертвенной серьезности лежала на его лице. Но самым интересным на снимке был для Алеши не он – а тополь, тот самый старый тополь во дворе. Здесь у него не было дупла. У Алеши даже изменилось дыхание, когда он рассматривал этот снимок, стало более глубоким. Так значит, он все-таки прав, и память его не подводит. Когда он помнит, что тополь был без дупла, это не какое-то ложное воспоминание. Но откуда взялось дупло? И почему все местные помнят, что дупло было всегда? «Если воспоминания о тополе без дупла – это не ложная память, – пришла мысль, – то, выходит, нынешний тополь с дуплом – это ложная действительность, так?» Мысль о ложной действительности поразила Алешу. Каким образом действительность может быть ложной? Неужели она способна обманывать органы человеческих чувств, причем одновременно у многих людей, создавая что-то вроде устойчивых массовых галлюцинаций? Но это значит, что все люди погружены в подобие легкого гипнотического транса, когда ты можешь слышать окружающих, отвечать на их вопросы и вообще хорошо ориентируешься в окружающей обстановке, однако при этом подвержен внушениям, которые могут порождать у тебя галлюцинации, примешивая их к восприятию подлинной реальности. Алеша очнулся от этих размышлений в тот момент, как щелкнул замок входной двери: бабушка вернулась домой. Когда она вошла в комнату, Алеша молча протянул фотографию и внимательно наблюдал за реакцией. Взяв фотографию, нацепив на нос очки, висевшие на шее, на шнурке, бабушка застыла без движения. Остекленевшим взглядом она смотрела на снимок в своих руках. Алеша, наблюдавший за ней, вдруг понял, что она не дышит. Не было никаких признаков дыхания. Он тронул ее за локоть – она не шелохнулась. Это было какое-то чрезвычайно глубокое оцепенение, в котором, однако, тело не теряло равновесия, и бабушка продолжала стоять; руки ее были согнуты в локтях, а пальцы держали листок фотографии. Алеша не знал, что делать. Хотел было сбегать на кухню, принести воды и прыснуть бабушке в лицо, но передумал. Внезапно для самого себя, еще не успев толком ничего сообразить, он громко хлопнул в ладоши и скомандовал: – Просыпайся! Бабушка дернулась, но вместо того чтобы очнуться, она – с тем же остекленевшим взглядом – закружилась на месте. Казалось, ее кусало множество насекомых, от которых она пыталась избавиться, трясясь, дергаясь и срывая с себя одежду. Алеша попытался схватить бабушку за руки, чтобы остановить, но она вырвалась и продолжала бешеную пляску. Вскоре она была уже полностью голой; одежда вместе с нижним бельем лежала на полу. Алеша заметил на спине у бабушки странный черный шрам, протянувшийся вдоль позвоночника, от лопаток к пояснице. Пока бабушка кружилась на месте, шрам этот не удавалось рассмотреть, но когда она упала на пол и застыла, лежа на боку, Алеша наконец увидел: то, что ему показалось шрамом, было глубоким порезом, который расширялся на глазах, превращаясь в дыру. Не было ни крови, ни мышечной ткани меж расходившихся краев кожи – не было ничего, кроме черноты, словно бабушка была полой внутри, как манекен. Как сам Алеша во время недавней галлюцинации, когда увидел на своем теле ветвь и под ней дыру. Опустившись на колени, он склонил голову, заглядывая в черный провал на бабушкиной спине, но ничего в нем не разглядел. И когда из этого провала показались пальцы руки, Алеша в ужасе отшатнулся, отполз в сторону и сидел на полу, прислонясь спиной к дивану, наблюдая, как из бабушкиной спины, сквозь расширившуюся дыру, вытягивается чья-то рука. Вслед за ней появляется плечо, голова, вторая рука… Скрюченные пальцы цеплялись за линолеум, дрожали от напряжения, вытягивая все тело. Бабушка дергалась в конвульсиях, на полу из-под нее растекалась тошнотворная лужа жидких испражнений, смешанных с кровью. Наконец существо, которое выползало из бабушкиного тела, выбралось наружу полностью и, тяжело дыша, застыло на полу. Бабушка все еще содрогалась от конвульсий, ставших более редкими. Существо приподняло голову от пола и обратило к Алеше лицо. Лицо Виталика Ямских. Стараясь сдержать тяжелое дыхание, Виталик обратился к Алеше: – Я… за тобой… пришел… пойдем… Он мотнул головой, указывая на дыру, из которой выбрался. – Никуда я с тобой не пойду, – пролепетал Алеша; он хотел сказать это громко и четко, но голос подвел, сорвался, и получилось тихо, неразборчиво. – Ты должен… идти, – с трудом произнес Виталик. – Сейчас… немного отдохну… и мы пойдем… Алеша почувствовал слабость и озноб. Он хотел встать, но не подчинялись ни ноги, ни руки; бессильные и ватные, они лишь слабо шевелились. Где-то то ли над ухом, то ли внутри себя он услышал странный звук, легкое костяное постукивание, и не сразу понял, что это его собственные зубы стучат от страха, бьются друг о друга. Виталик подползал к нему, мертвенно, натужно улыбаясь. Его бледное голое тело источало холод и смрад гниющих водорослей. Алеша засучил ногами по полу, пытаясь сдвинуться с места, но ноги были слишком слабы. Виталик подполз к нему, и цепкая холодная рука схватила Алешу за щиколотку. Алеша хотел закричать, но голос пропал. Руки Виталика – неожиданно длинные, корявые, как выползшие из земли древесные корни, – уже цеплялись за Алешу, обхватывали его с какой-то материнской страстью, словно вырывали из смертельной опасности свое дитя. Когда Виталик потащил Алешу с собой, увлекая к дыре, ее края начали расширяться, как будто чуяли добычу. Тогда Алешин разум помутился, и сознание померкло.

Придя в себя, Алеша сразу понял, где находится. В дупле старого тополя. Там была полная темнота, и он не видел ни собственного тела, ни стенок дупла. Зато из дупла хорошо виден был дом, перед которым рос тополь. Снаружи начинались сумерки, но Алеша мог отчетливо рассмотреть каждую деталь на фасаде: трещины на штукатурке, пыль на оконных стеклах, облупившуюся краску на раме в окне второго этажа. Внезапно Алеша понял, что если напрячь внимание, то станет видно и то, что скрывают стены; взгляд легко проникнет сквозь них. «Так и есть, – раздался голос, мысленный голос внутри его головы. – Ты теперь много чего можешь – и это, и еще всякое». – Ты еще кто такой? – вслух спросил Алеша. «А ты что ж, по голосу не признал?» И тут же в Алешином сознании этот голос связался с изображением высокого сумрачного старика на фотографии. – Так, значит, это ты, – задумчиво произнес Алеша. «Я, родненький, я! – собеседник негромко засмеялся – неприятен был этот смех – и продолжил: – Ты напрягись немного и сразу поймешь, кто я такой. Ты теперь многое способен понимать, когда захочешь». Алеша задумался, представляя в уме лицо старика на фото, и тут же понимание влилось в него, словно отворили вентиль крана, и знание хлынуло струей. Старик на фотографии был совершенно неуместной фигурой, потому что в тот момент, когда делался снимок, ему давно уже положено было лежать в могиле. Никита Нилыч Зорницын, Алешин прадед, точнее сказать, прапрапрадед (аж целых три «пра»!), родившийся в середине девятнадцатого века, – его лицо видел Алеша на той фотографии, его голос звучал теперь в Алешином уме.
Часть вторая
Алешин папа, Родион Федорович, составлял свое генеалогическое древо, выскребывал отовсюду сведения о предках. Сам он, родившийся в 1954 году, как и большинство советских людей, толком не знал в своем роду никого дальше дедушек и бабушек; о прадедушках и прабабушках имел очень смутное представление, да и то не обо всех, что уж говорить про более далеких предков, терявшихся в сумраке былого! Но на пятом десятке лет своих он возжелал познания и начал копать вглубь. Каково же было его удивление, когда он узнал о своем прапрадеде по отцовской линии, Никите Нилыче Зорницыне, докторе медицины, профессоре, специалисте по нервным и психическим болезням. Профессиональный психотерапевт, Родион Федорович, оказывается, имел не таким уж и далеким предком коллегу – врача почти что своего профиля. Родившийся в 1847 году в купеческой семье, Никита Нилыч из упрямства, которое было характерной его чертой с детства, пошел не по отцовским стопам – в коммерцию, но поступил в Императорскую медико-хирургическую академию в Петербурге. Будучи чрезвычайно усердным студентом, в результате сильнейшего умственного и нервного перенапряжения он на втором курсе обучения попал в клинику нервных и психических болезней, к знаменитому профессору Ивану Михайловичу Балинскому, с диагнозом Hallucinationes Exaltati maniaca; впоследствии это заболевание назовут неврастенией. Его болезнь – вместе с опытом успешного излечения – подогрела в нем интерес к психиатрии, достаточно новому в ту пору медицинскому направлению. В 1871 году, после защиты диссертации, он получил степень доктора медицины, вскоре и звание приват-доцента, а также стал врачом той самой клиники,в которой лечился не так давно. Впоследствии он два года путешествовал за казенный счет по Европе, посещая в учебных целях клиники и лаборатории знаменитых неврологов, физиологов и психиатров – Шарко, Вундта, Флексига, Вестфаля, Гуддена, Мейнерта. Заведовал кафедрой психиатрии Казанского университета, затем – кафедрой душевных и нервных болезней Военно-медицинской академии, как стала после реформы 1881 года именоваться его альма-матер, бывшая Медико-хирургическая академия. А в 1892 году построил себе трехэтажный дом в Черноморске, большую часть помещений которого отдал под клинику нервных болезней и лабораторию экспериментальной психологии, которые сам же и возглавил. Этот странный акт – совместить свой дом с клиникой – вызвал разнообразные толки в тогдашней научной среде. Поступок отдавал чудачеством, впрочем, после некоторых своих статей и публичных выступлений Никита Нилыч уже имел репутацию эксцентрика, которая только лишний раз подтвердилась, когда он обосновался на южной окраине империи, в маленьком Черноморске. Одна из идей Никиты Нилыча, встретившая резкое неприятие у коллег, заключалась в том, что все люди без исключения психически больны, а так называемая «нормальность» – лишь одна из стадий всеобщего психического заболевания, которое только по недоразумению считается состоянием здоровым и естественным. Никита Нилыч считал, что человек, который излечится от мнимой «нормальности» и станет нормальным в подлинном смысле, будет чем-то вроде бога среди людей, никогда не знавших и не видевших, что оно такое – настоящее психическое здоровье. Во дворе своего дома-клиники Никита Нилыч собственноручно посадил тополь, который нарек символом истины, преодолевающей псевдонаучные заблуждения. И сказал, что когда тополь сей превратится в мощное древо с обширной кроной, то в ту пору отечественная психиатрия уже разовьется настолько, что будет по-настоящему излечивать людей, а не переводить их из одной стадии заболевания в другую. В те счастливые времена, предрекал он, так называемых «нормальных» людей будут госпитализировать и лечить, и пресловутая их «нормальность» начнет испаряться, как сырость, как наваждение, уступая место подлинному психическому здоровью, которое покуда неведомо человечеству. Первым пациентом, которого Никита Нилыч решил излечить от мнимой «нормальности», был десятилетний мальчик, Виталик Ямских, сирота, потерявший родителей. Никита Нилыч приютил этого ребенка и в своей экспериментальной лаборатории, находившейся в подвале дома-клиники, подвергал его специальной терапии, в которой свои собственные методики гипноза сочетал с методиками, заимствованными из оккультных практик. Даже самые непримиримые оппоненты Никиты Нилыча признавали, что в оккультных практиках, в сущности, проявлялись те же самые внушение и гипноз, которые впоследствии признала официальная медицина, внеся их в арсенал научных методов. Никита Нилыч утверждал, истинный ученый не должен брезговать даже оккультизмом, если методы его способны помочь в решении конкретных научных задач. Узнав об этом, Родион Федорович загорелся нетерпением выяснить все подробности теории, разработанной Никитой Нилычем, и применявшихся им методик. Но, увы, сведения, которыми Родион Федорович располагал, здесь и заканчивались. Монографий Никиты Нилыча найти не удалось, свидетельств о ходе его экспериментов – тоже. Смог ли он добиться желаемого результата, сумел ли излечить мальчика, и если да, то чем характеризовалось состояние маленького пациента по достижении подлинной нормальности, – всего этого Родион Федорович узнать не сумел. Удалось лишь найти свидетельство о том, что с мальчиком произошла какая-то трагедия, в результате которой он погиб, но подробности происшествия остались неизвестны. Поразителен был и тот факт, что дом, в котором вырос Родион Федорович, дом, куда его родители вселились через несколько лет после его рождения, в пятьдесят восьмом году, когда-то принадлежал его прапрадеду, о чем ни родители, ни сам он ничего не знали. Судьба Никиты Нилыча в двадцатом столетии была неизвестна, он словно растворился в туманной дымке: по одним сведениям, продолжал возглавлять свою клинику, по другим – передал ее своему ближайшему помощнику, доктору Степану Дмитриевичу Сальскому, сам же покинул Черноморск и вообще Россию. Дату и место смерти Никиты Нилыча установить не удалось. Его дети, две дочери и сын, прадед Родиона Федоровича, никогда не жили с Никитой Нилычем в Черноморске, их судьбы шли своими путями, один из которых привел-таки ветвь потомков профессора Зорницына в Черноморск, в тот самый дом, принадлежавший профессору и служивший местом его загадочных экспериментов. Другим поразительным откровением для Родиона Федоровича, убежденного атеиста и материалиста, стал факт обращения Никиты Нилыча к оккультизму. Впоследствии, читая труды профессора Владимира Михайловича Бехтерева, Родион Федорович натолкнулся на концепцию «скрытой энергии», которая является первопричиной всего ряда физических и психических явлений. Из этой концепции следовал вывод, что необъяснимые, с материалистической точки зрения, психические явления имеют в конечном счете ту же производящую причину, что и явления физические. Эта мысль послужила Родиону Федоровичу оправданием для использования мистических знаний в научных целях. Потому он и принял решение – оккультным методом войти в контакт с духом умершего Никиты Нилыча, – чтобы непосредственно от него перенять научный опыт. Непросто далось это решение Родиону Федоровичу, и он вовсе не был уверен, что столь сомнительный метод даст результат, но раз уж наука развивается опытным путем, а ученый предок не брезговал оккультными средствами, то и Родион Федорович решил рискнуть и провести экспериментальный спиритический сеанс с целью вызова покойного Никиты Нилыча. Технологию сеанса он позаимствовал из «Книги медиумов» Аллана Кардека. Это оккультное руководство, написанное в шестидесятых годах девятнадцатого века, Родион Федорович приобрел в современном российском издании. У Кардека он прочел, что для спиритического сеанса не имеет значения ритуальная форма, но важно настроение, в котором пребывает медиум: спокойствие, сосредоточенность, твердая воля и нерассеянное желание вступить в контакт. Прочитав, что для медиумов бывает полезно находиться под гипнотическим воздействием, Родион Федорович решил, что проведет сеанс под самогипнозом, дав себе установку не сомневаться и твердо верить в то, что он способен встретиться с умершим предком. В июне 2001 года Родион Федорович приступил к эксперименту.
Неожиданно легко удалось ему войти в контакт с умершим Никитой Нилычем, словно тот только и ждал, чтобы с ним вышли на связь. По кабинету с затемненными окнами, где сидел за столом, перед горящей свечой, погруженный в транс Родион Федорович, пронесся порыв холодного ветра, от которого пламя свечи едва не погасло. «Ну, здравствуй, Родя, здравствуй, родной!» – раздался голос из пустоты. При этом правая рука Родиона Федоровича, державшая карандаш над листом чистой бумаги, как положено на спиритических сеансах, сама начала выводить буквы и красивым каллиграфическим почерком написала: «Н. Н. З.». Голос продолжал: «Знал бы ты, как я рад, что хоть кто-то в потомстве моем за ум взялся. А то ведь толку от детей моих не было, никого наука не интересовала. С тобой же, Родя, как с умным человеком, и поговорить приятно. И есть мне что тебе сказать, ох, много чего есть! Только давай без всех этих спиритических штучек вроде автоматического письма. Это ведь смешно, право же! Дабы ты не сомневался – а ты, как настоящий ученый, должен сомневаться, должен! – мы с тобой вот как поступим. Жену и сына возьмешь, объяснишь им все, чтоб посодействовали, потому что их помощь потребуется. Загипнотизируешь их, в глубокий транс введешь, в третью стадию, а я тогда подойду к ним со своей стороны, инициативу перехвачу, задействую их речевой аппарат и буду через них с тобой говорить. Весь сеанс на камеру запишешь, понял? Чтоб было у тебя свидетельство и доказательство, чтоб ты не подумал, будто у тебя невроз с галлюцинациями». Голос умолк, но вскоре заговорил вновь: «Ба, да ты не веришь! По глазам вижу. Думаешь, поди, откуда я, такой ископаемый, – и про видеокамеру знаю? Что, Родя, прав я? Так ведь не только это, я много чего знаю, ты и представить не можешь – сколько всего! Ты что ж думаешь, я тут сижу в потусторонней тьме, как идиот, весь в прошлое погружен? Нет, не на таковского напал! В общем, действуй, родной, давай! Жену и сына подготовь, поговори с ними. Время потом удобное выберете для сеанса, а как в транс их введешь, так позови меня: Никита Нилыч, мол, мы уж готовы, милости просим!» Потрясенный услышанным, вышел из транса Родион Федорович, хотя некая тень научного сомнения все же кружилась на периферии ума: не самообман ли все, не иллюзия ли? Но ведь так оно и надо – рассудил он, – сомневаться, об этом и сам Никита Нилыч сказал; для того и нужно провести эксперимент с более сложными условиями, чтобы устранить последние предубеждения. Родион рассказал обо всем Юле, жене, и Алеше, сыну. Юля сразу загорелась идеей послужить медиумом в научных целях. Она была человеком увлекающимся, даже вступала с мужем в жаркие споры по поводу классического директивного гипноза и недирективного гипноза, эриксоновского. Юля была горячей сторонницей Милтона Эриксона и его психотерапевтических методов, говорила, что традиционный гипноз, которого придерживался Родион, напоминает ей своим авторитарным подходом какую-то злую магию, когда волшебник насилует окружающую реальность своими повелениями. Но, как только Родион предложил Юле комбинированный гипно-спиритический сеанс, она тут же согласилась с воодушевлением, даже раскраснелась от восторга и предвкушения. Да и у Алеши глаза блестели, словно заглядывал во что-то непристойное. На следующий день, вечером, решили Зорницыны провести эксперимент, который позволит им соприкоснуться с миром загробных тайн. Когда Родион погрузил в транс Юлю и Алешу и произнес: «Никита Нилыч, все уже готово, ждем вас!» – Юля вздрогнула, как от легкого удара током, и заговорила чужим, мужским голосом. Заговорила о себе в третьем лице: – Ты, Родя, должен знать, что супруга твоя, Юленька, блядь еще та! Не удивляйся только. Настоящий ученый не удивляться должен фактам, а правильно ими оперировать. Ты ж ее девочкой взял, молоденькой совсем. Очаровал, обаял и себе подчинил. Без гипноза не обошлось, хе-хе! А она, тварь такая, из-под власти твоей однажды выскользнула, отряхнулась и сама начала над тобой властвовать, вертеть тобой, пыль тебе в глаза пускать. И знаешь как рассуждала? Как ты со мной поступил, так и я теперь с тобой! Мстила тебе втихомолку. Ты думал, она без ума от тебя, думал, овечка покорная, а она тайком на сторону бегала. Нашла себе юношу, еще моложе себя, легла под него – и понесла. Ты думал, Алешка – твой, а он чужой сын, выблядок! И что ж ты хотел, когда девочку – на двенадцать лет младше тебя – в жены взял! Да и провериться тебе не мешало бы, ты ведь детей иметь не способен. Потому-то у тебя до Алешки четыре года ничего не получалось и после него – ничего. Соображать надо, Родя, соображать! Но ты не переживай. Есть способ все исправить. Ты должен теперь убить эту тварь и выблядку ее скормить. Пусть Алешка ее сожрет – и тогда все исправится. Родион с ужасом слушал, как Юля чужим голосом убеждает его убить ее и отдать на съедение сыну. И тут с ним заговорил сын. Из его уст раздался тот же чужой мужской голос: – Ты все понял, Родя, что я тебе сказал? Убей стерву и пацану скорми. Пусть суку пожрет ее щенок. В принципе, целиком поедать не обязательно. Достаточно, если он самые лакомые части съест: матку с влагалищем и молочные железы. Небольшие куски вырежи из них – там, где соски. Остальное пусть черви жрут. И не дрейфь! Я тебе подскажу, как лучше все обстряпать. Ты со мной не пропадешь! Когда мальчишка все сожрет, мы его с тобой вместе из транса выведем, потом еще в транс введем – в специфический. Я ему нужные установки дам, и все будет хорошо. Что стоишь? Давай действуй! На кухню сходи, нож там возьми, который побольше, и вперед! Родион хотел бежать из квартиры – все равно куда, только бы подальше от кошмара. Но жена и сын открыли свои глаза – глаза, закрытые с самого начала сеанса, – и уставились на Родиона такими взглядами, от которых воля его оборвалась. Он понимал – что происходит, и это понимание душило его своим ужасом. Юля и Алеша – погруженные в транс и ставшие медиумами для Никиты Нилыча – сами начали гипнотизировать Родиона. Но это же невозможно, думал он, чтобы гипнотик в трансе принялся подвергать гипнозу своего гипнотизера; такого не может быть! Однако он чувствовал воздействие воли, которая была сильней его собственной. Эта чужая неодолимая воля текла сейчас к нему из глаз жены и сына. Он видел в их глазах нечто страшное – признак невидимого существа, которое управляло людьми, как бессильными насекомыми, попавшими в ловушку. – Пойди, возьми нож, – велела Юля чужим голосом, – и прирежь ее. «Ее», – говорила она о себе самой! Душный ужас накрыл Родиона – как мешок набросили на голову. Не в силах противиться приказу, он пошел на кухню за ножом. Потом, когда Юля лежала мертвой, голос, отдававший ему приказы, зазвучал уже не из посторонних уст, а внутри его головы: «Вот теперь, Родя, получил я и к тебе доступ. И отныне мы с тобой заживем!» Когда все было исполнено, Родион вывел Алешу, наевшегося сырого мяса, из транса, тут же снова ввел его в транс и дал установки, которые сам не понимал, повторяя бессмысленные, на первый взгляд, фразы вслед за голосом в своей голове. Когда сеанс был окончен, Родион велел Алеше идти спать, сам же занялся останками Юли, от которых надлежало избавиться.

Примерно месяц спустя, когда Алеша сидел в дупле тополя, в этой вязкой внутренней тьме, голос Никиты Нилыча, извивавшийся в его сознании, будто червь в мякоти спелого фрукта, открывал ему тайну за тайной. И вот что узнал Алеша из тех червивых откровений. Когда Никита Нилыч взялся за излечение Виталика Ямских, то устраивал ему сенсорное голодание, запирая в подвальной темной комнате, куда не проникал не только свет, даже самый рассеянный, но и малейший звук. В этом склепе, зажатый в челюстях темноты и тишины, сидел Виталик без еды, воды и ощущения времени. Чтобы мальчик не умер от истощения и жажды, Никита Нилыч временами поил его и кормил, но делал это под гипнозом, погружая в глубокий транс, в котором Ямских не сознавал происходящего и не мог потом вспомнить ни о чем. Так что казалось ему, будто он и вовсе не ест и не пьет. Еда и питье – к такому выводу пришел Никита Нилыч – разрушают психическое здоровье человека самой своей концепцией, и путь к оздоровлению должен лежать через принципиальный отказ от идеи питания, которую следует сделать совершенно чуждой для сознания человеческого. По-настоящему здоровый человек, по убеждению Никиты Нилыча, способен питаться собственным воображением и делать это должен автоматически, не задумываясь. Активизировать воображение помогли тьма и тишина, в которые профессор погружал маленького пациента. Воображение должно было заменить ему не только пищу, питье и пространство с его визуальными образами, но и само время. В конце концов, время – категория мышления, и там, где нет объективного ощущения времени, воображение творит из себя собственное независимое время. Так профессор приучал мальчика обходиться без простейших физиологических потребностей, без пространства с его зримыми атрибутами и без времени с его объективными признаками. На втором этапе эксперимента Никита Нилыч погружал мальчика в гипнотическое ощущение смерти. Виталик, получивший специальные установки, был уверен, что умер и находится в загробной тьме, что собственное тело, которое он ощущает, вовсе не тело, а его иллюзорный отпечаток, оставшийся на душе, разлученной с телом в момент смерти. Истинно нормальный человек, считал Никита Нилыч, способен жить как внутри жизни, так и внутри смерти. Только психопаты ограничивают область своего бытия жизнью, к которой они столь патологически пристрастны, от которой им оторваться труднее, чем тяжелобольному встать с больничной койки. Но прежде чем приобрести способность обитать внутри смерти, к ней следует привыкнуть. Этому привыканию и был посвящен второй этап. На третьем этапе эксперимент зашел в область оккультизма. Руководствуясь французским изданием трактата Иоганна Вейера Pseudomonarchia Daemonum, Никита Нилыч вызывал демонов и вручал им, как игрушку, загипнотизированного мальчика, уверенного, что он находится в загробной тьме, из глубин которой к нему являются кошмарные адские создания. Рассказывая об этом Алеше, Никита Нилыч говорил: «Демоны, дьяволы, бесы, черти – все это категории не научные, и рядовой ученый не захочет иметь с ними ничего общего, но ты, Алешка, запомни одну вещь, запомни хорошо. Истинное знание вовсе не заключается в отыскании сущности вещей, а в разъяснении соотношений между теми и другими явлениями. Понимаешь? Поэтому для настоящего ученого не важно, с какой сущностью он столкнулся – с реальной или галлюцинаторной, с демонической или там космической или еще какой. Главное в том, как бы использовать это явление в своих целях. Умозрительное определение сущности вещей – это слабость тех, кто тратит жизнь на бесплодные занятия философией или, хуже того, богословием. Ученому не нужно знать сущность вещей и явлений. Он должен понимать, как они взаимодействуют друг с другом, и какую пользу можно из них извлечь. Поэтому человек науки не побрезгует и демонами, если только поймет, каким образом можно эффективно использовать их в своих целях». Но эксперимент над Виталиком Ямских не дал результатов, которых ждал профессор. Не хватало какого-то условия, одного элемента, который довершил бы картину. Раздосадованный Никита Нилыч пытался понять, чего не хватает в эксперименте, но не мог. «Да еще этот проклятый мальчишка! – говорил он Алеше. – Такой пронырливый гаденыш! Подлый, лживый, изворотливый. А после всех манипуляций так и вообще превратился в какое-то чудовище. Над животными издевался, двух моих кошек убил. У одной моей пациентки – она поступила к нам в клинику с истерическим неврозом – пил кровь. Присасывался, как чертов вампир какой-то, и пил. Хорошо еще, та принимала его не за человека, а за сверхъестественное явление, а то вышел бы такой скандал! Еще немного – он бы разрушил мою репутацию. Поэтому я решил от него избавиться. Загипнотизировал его и велел покончить с собой, прыгнувши в море с западного мола. Там было обо что разбить себе голову. Со второй попытки у него отлично получилось. А потом произошло то, чего я не планировал и не ожидал. Самоубийство – оно и оказалось тем недостающим элементом, который я все не мог найти. Это и был последний поворот ключа, которым отпиралась дверь. А за ней открылись такие перспективы, что дух захватывало. Вот так и стал Виталька первым психически нормальным человеком, способным обитать и внутри жизни, и внутри смерти. Человеком, не подчиненным всем этим нездоровым, болезнетворным условиям нашего ненормального существования – времени, пространству, форме, логике». – Но разве Виталик жил тогда? – удивился Алеша. – Ведь я же помню его… Помню, он убился прошлым летом… Старик рассмеялся. «Это он захотел, чтобы ты так помнил, когда он к тебе пришел. Нормальный человек, Алешка, может делать что хочет. Все, что хочет. Он же бог среди людей, понимаешь это? Бог! Для него реальность – как сон, а сон – как картинка, которую можно рисовать и дорисовывать. Нормальный человек, ежели захочет, может родиться заново – от любых родителей, которых сам себе выберет. Может войти в любого человека, как в комнату. Может любую дичь внушить кому угодно. Да ты сам скоро все поймешь, все ощутишь. Ты ведь уже начал исцеляться. Думаешь, зачем это все?» – Что «это все»? – спросил Алеша. «Да все, что я для тебя сделал! Я ведь Витальку этого как крысу лабораторную использовал, чтобы на нем проверить метод, все выверить, отточить, а потом уж применить к себе и к моим родным. Теперь я знаю то, чего раньше не понимал. Чтобы процесс шел успешнее, надо начать с жертвы. Без пролития крови не бывает настоящего оздоровления. Родьке… отцу твоему пришлось наврать, что ты не сын ему, что мать твоя гульнула на стороне, иначе я бы его не заставил убить ее, не смог бы. А так – смог. И ты должен был плоти материнской вкусить, чтобы перешагнуть черту, которой жизнь твоя очерчена. Вот и вырвался ты из проклятого круга и вышел на свободу. Ты уже одной ногой в нормальное состояние ступил. Ты же видишь, как реальность вокруг тебя раздваивается, слоится, трещит по швам! А это пробуждение твое, понимаешь ты? Я ведь тебя не тем путем повел, которым Витальку вел, а другим – кратчайшим и лучшим. Кто материнской плоти вкусил, тому не надо уже самоубийством кончать, он и так уже, по сути, заживо мертв, и в нем начинают признаки пробуждаться. Те признаки, что нас, нормальных людей, отличают от всех этих… от прочих. Тебе немного еще осталось. Последние шаги. Тогда ты станешь одним из нас». – Шаги? – спросил Алеша. «Да, шаги, шаги! – заторопился Никита Нилыч. – Ну, это образно говоря. Ты должен понять, ты же умный мальчик. Тебе осталось только пройти последнюю ступень – и все! Последняя ступень. Ты должен пережить загробный ужас, погрузиться в это состояние». – Хорошо, – произнес Алеша. Старик захохотал от восторга. «Я знал, знал! Я был в тебе уверен. Тебя не надо тащить насильно, как барана…» – Болтай поменьше, – холодно оборвал Алеша; его высокомерный тон полоснул, словно бритва. «Да, да, сейчас, сейчас!» – восторженно бормотал старик. Дыра, сквозь которую Алеша смотрел на дом, начала затягиваться. Дупло старого тополя исчезало. Алеша, сидящий в сердцевине дерева, погружался в абсолютную и страшную тьму. Как пресловутый древний пророк, проглоченный кашалотом. Он уже чувствовал ужас, охватывающий его, пронзительно едкий, бесконечно горький и в то же время пропитанный какой-то утонченной мертвенной сладостью. Что-то кошмарное, липкое, бесчеловечно злое наполняло Алешу, становясь кровью в его жилах, воздухом в его легких, мыслями в его уме. Сидящий неподвижно, Алеша чувствовал, как проваливается в распахнувшуюся бесконечную черную пропасть, где кружится микроскопическим проблеском его гаснущее «я».
Секретарь

Рассказ этот старца архимандрита Ферапонта, скитоначальника в Предтеченском скиту нашего Свято-Успенского Верхнераевского монастыря, записан с его слов мною, послушником и секретарем его или, как выражается старец, письмоводителем К. Л. Тенетниковым. – Лет этак тридцать, а то и поболе тому, – рассказывал мне отец Ферапонт, – приключилось со мною происшествие, после которого я и решил от мира отречься. Не сразу, впрочем, но поворотная точка тут обозначилась. Шел я раз зимним вечером по Петербургу к своей любовнице, вдовице одной весьма веселой. Я ж ведь грешник был оголтелый, посему, Костенька, не удивляйтесь тому, что слышите. Иду, значит. Извозчика не брал, потому как идти недалеко, да и любил я эти пешие прогулки, особенно в непогоду, когда улицы пустынны. Снежок вокруг мокрый на ветру мечется. И примечаю барышню впереди. Прилично одета, но уж как-то слишком легко, по-летнему прямо. Идет она, бедная, и дрожит от холода. Поравнялся с ней, гляжу сбоку: а барышня-то мила как ангел, только бледна, с просинью даже. Ну, ни слова не сказавши, снял я с себя шинель да на плечи барышне накинул. Молча пошел дальше, шаг ускорил. Оборачиваюсь на ходу, а она стоит на месте и шинель мою на себе руками за края пелерины придерживает. Так и ушел я, помышляя дорогой, что сотворить добро ближнему – это все равно как себя самого облагодетельствовать. Все мы, в сущности, части единого целого, капельки в океане бесконечном. Такие мысли вертелись у меня после чтения мистических книжек. Иду и вдруг понимаю с удивлением, что мне без шинели-то и не холодно ничуть и не мокро от снега, будто шинель так и продолжает сидеть на мне. Ощупываю себя: сюртучишко-то на мне легонький, а мне тепло и сухо, как в шинели. Эге, думаю, да это никак единство душ людских сказывается! Плоть – она ведь человеков разделяет, а души их меж тем незримо совокуплены, – так помышляю. Стало быть, в силу единства душ, свойства шинели, на одно тело надетой, вполне могут по сокровенным каналам душевным другому телу передаваться и согревать его так, как бы шинель сидела на нем самом. В таких мыслях и явился к любовнице своей. Ну, и как дело до самого срама дошло, разоблачился, значит, и чувствую: а ведь шинель-то невидимая так и сидит на мне, так и облегает. Я уж в чем мать родила, гол как сокол, а чувство такое, будто шинелью покрыт. В постель ложусь, под одеяло, и – как в шинели там лежу. Жарко стало, весь в испарине. Вдовица давай меня вытирать полотенцем – не помогает. А дальше постыдное началось, ну, вы понимаете, и тут уж я вовсе по́том истек. А когда, блудодейством насытившись, отвалились мы друг от дружки, то почувствовала моя вдовица, как обымает ее нечто теплое и душное. Она и так и сяк, а чувство не проходит. Поведала мне об этом, я же мыслю: вот так номер! Шинель моя, стало быть, и на нее распространилась – как зараза. С тех пор так и пребывали мы с нею в невидимых шинелях, и стали они проклятием нашим. Снять-то невозможно, а каково в такой шинели жить, особенно летом! Мучение одно. Я, конечно, рассказал вдовице про то, как барышню незнакомую на улице шинелью укрыл, после чего и ощутил на себе незримую шинель. А вдовица заревновала. Ты, кричала, ко мне шел и на первую встречную польстился, подонок! Милосердие в нем взыграло! Похоть это твоя жеребячья, а не милосердие! Кобель ты сатирический! Мерзавец! Так она честила меня, а сама по́том обливалась от невидимой шинели. Вот тебя и наказал Бог, кричала она, за твое скверное милосердие, а с тебя, выродка, наказание и на меня перекинулось! В общем, разругались мы вконец и расстались навсегда. Поехал я тогда к старцу Никифору, который здесь, в скиту, подвизался. Выслушал он исповедь мою и молвил: «В награду за милосердие твое к несчастной незнакомой барышне даровал тебе Бог незримый покров – небесную шинельку, посредством коей вывел тебя из порочного круга, где заживо пожирал тебя демон блуда и прелюбодеяния. Не проклятие покрыло тебя, а благословение Божие, малость стеснительное, но все ж таки благословение. И мнится мне, что пребудет на тебе шинелька сия незримая до той поры, пока не сменишь ты благословение на благословение: примешь постриг и облечешься в монашеский образ». Вот так и ушел я в монастырь. Пока послушником был, шинель на мне все сидела, токмо чуток полегче сделалась, а как постригся – то и отъялась от меня совсем. – А вдовица? – спросил я. – С нее шинель снялась? – Нет. Мыкалась она в ней, изнывала да и повесилась. Видите, Костенька, как получилось: вышли мы с нею из шинели, да только я – в монастырь, а она – в петлю. – А вы когда в монастырь поступили, молились о ней, о спасении души ее? – Пробовал. Только старец Никифор мне запретил. Сказал, что это не молитва, но тайный блуд под видом заботы о спасении чужой души. Открыл старец «Лествицу», Слово пятнадцатое, и показал мне там речение: «Не забывайся, юноша! Видал я, что от души молились некоторые о своих возлюбленных, будучи движимы духом блуда, а думали, что исполняют они долг памяти и закон любви». Выпиши это и заучи наизусть, велел, а о ней вовсе забудь. Я и забыл. А она мне потом, через несколько лет, явилась ночью во время молитвы. Страшная, посинелая, голая, с веревкой на шее. Говорит: «Ничего, святоша проклятый, ничего! Я тебя еще достану, всю твою душу высосу». Ну, я перекрестился и плюнул в нее трижды, она и пропала после третьего плевка. Видите, чем любовные-то восторги оборачиваются! Старец помолчал немного, вздохнул и продолжил: – Узнав, что любовница моя прежняя повесилась, а потом явилась мне в видении, старец Никифор сказал: «Мнится мне…» Это он завсегда так выражался, когда возвещал тайны, Богом ему открытые. Старец ведь прозорлив был, но, по смирению своему, никогда не говорил: «Бог открыл мне», а лишь: «Мнится мне». Так и в тот раз говорит: «Мнится мне, что барышня, которую ты шинелькой укрыл, шла в отчаянии своем топиться, на мост шла, но внезапная доброта прохожего человека, шинелькой ее одарившего, так ее, бедняжку, поразила, что согрелось оледеневшее сердце ее, и сатанинское желание, к погибели толкавшее, иссякло, посему барышня жива осталась. А вдовица распутная, напротив, отчаялась и в самопожирающей злобе своей себя погубила. Противоположные исходы, гляди-ка, а ведь одним условием вызваны – теплотою согревающей, от шинельки распространяемой на телесный состав. Видишь, как одно и то же условие выявляет различные движения свободной воли человеческой? Посему не думай, будто виновен ты в погибели вдовицы, иначе чрез таковые помыслы утянет она тебя к себе на дно адово, являться тебе будет и доведет до умственного помрачения. А помышляй лучше, что поспособствовал ты спасению души отчаявшейся барышни, которую шинелька твоя удержала на последней черте». – И что, – спросил я, – вдовица мертвая вам еще являлась после сего? – Являлась. И весьма часто, – ответил старец. – Молитвой от нее ограждался, почти не спал оттого ночами, а когда изнемогал от усталости и ложился спать, так она со мною на одр возлегала. Почему и старался больше сидя спать, на стульчике, к стенке прислонясь. Тяжко было! Когда б не те слова старца Никифора, то, пожалуй, и не выдержал бы посещений ее и ума лишился, а потом бы, чего доброго, руки на себя наложил. – А перекреститься и трижды плюнуть – уже не помогало? – Первый-то раз помогло, а потом – нет. Терпеть приходилось. А когда натерпелся, то Бог отвел от меня искушение.

Записал я рассказ старца, затем показал ему записки. Старец внес исправления в нескольких местах, прочее одобрил. Но наказал нигде не публиковать эту историю до его смерти. А я-то уж собирался отослать ее Виктору Ипатьевичу Аскоченскому, в «Домашнюю беседу». Мне же вот какая мысль пришла. Дай-ка, подумал, помолюсь я за упокой души несчастной той вдовицы-самоубийцы. Старец о ней не молился, потому что ему отец Никифор запретил, чтоб не искушался молодой тогда еще монах воспоминаниями о прежней своей любовнице. Так, выходит, никто и не помолился усердно за упокой души ее, и церковного поминовения о ней сотворить нельзя, ведь самоубийц не отпевают и не поминают в храмах Божиих. А я возьму да и помолюсь о ней. Мне-то, в отличие от отца Ферапонта, молиться о ней безопасно, ведь не моей же любовницей она была, и скверных воспоминаний молитва у меня не вызовет. Я человек посторонний, и ежели стану молиться о той несчастной, то не из скрытой похоти, но из одного лишь бескорыстного милосердия. Глядишь, и легче станет погибшей душе от молитвы моей. Пусть не освободится она из ада, но хоть какое-никакое почувствует облегчение посреди адских мучений своих. Буду молиться с усердием, и, Бог даст, посетит меня видение, в котором откроется мне участь ее, что, дескать, стало ей легче после моих молитв, а то и вовсе прекратились ее муки. Тогда-то и старцу все расскажу: так, мол, и так, молился за упокой души несчастной вдовицы, и помиловал ее Господь… Что-то старец на это скажет? Наверняка приятно будет ему такое услыхать. Он ведь, как Ангел Божий, всех жалеет, и даже такую озлобленную грешницу, как оная вдовица, ему жаль. Он бы и сам о ней молился, когда б не давнишний запрет отца Никифора, послушание которому старец и поныне хранит, исполняя все наказы почившего наставника своего. Но меня-то ведь никакой запрет не связывает. И даже такая мысль возникла: не для того ли поведал мне старец эту историю, чтоб подвигнуть меня на молитву об упокоении души злополучной самоубийцы? Просить меня прямо не стал, чтоб свободная воля моя сама проявилась, чтоб я самоохотно за дело взялся, а не из вежливости либо по принуждению, чтоб, следовательно, молитва моя была более искренняя и живая и, стало быть, более действенная. В общем, стал я поминать вдовицу за упокой. Поскольку не знал имени ее – старец ведь так и не назвал имя, – то молился таковым образом: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей, иже Ты веси, и аще возможно есть, прости ей согрешения вольные и невольные!» Каждый раз, как поминал я родных и близких, вписанных в мой синодик, молился заодно и этой молитвой, двенадцать раз кряду ее повторяя с двенадцатью земными поклонами.

Однажды сосед мой по келье, монах Софроний, расхворался и отправился в нашу монастырскую больницу. Я остался один. Дело было в канун Дмитровской субботы. В тот вечер я молился о вдове-самоубийце с особенным усердием и не двенадцать поклонов положил, как обычно, а гораздо более. Сколько именно – не считал, возможно, и за сотню. Как раз перед тем читал я взятую в скитской библиотеке книгу, «Слова подвижнические» аввы Исаака Сириянина, и вычитал там, что христианское милосердие до того простирается, что начинаешь слезно жалеть не только всех людей и животных, вплоть до самых мерзких, но даже и самих демонов. Удивительные слова эти выписал я себе в тетрадку, куда заношу все, что мне особенно ложится на сердце при чтении святоотеческих писаний. Слова же таковы: «И что есть сердце милостиво? И рече: жжение сердца о всякой твари, о человецех, и птицах, и животных, и бесовох, и о всяком создании, и от поминания их, и видения их, точат очи его слезы, от многия и зельныя милостыни, содержащия сердце. И от многаго терпения умиляется сердце его, и не может стерпети, или услышати, или увидети вред некий, или печаль малу, бывающую во твари. И сего ради и о безсловесных, и о вразех истины, и о вреждающих его на всяк час молитву со слезами приносит, о еже сохранитися им, и очиститися им; подобне и о естестве гадов от многия своея милостыни, движимыя в сердце его безмерне по подобию Божию» (Слово 48 аввы Исаака Сириянина, из книги его «Слова духовно-подвижнические», в переводе старца Паисия Величковского, издание Оптиной Пустыни 1854 года). Очень меня поразило это, что сердце горит жалостью и о «бесовох» – о бесах. И тут же подумалось: ну как в таком случае не болезновать о нераскаянных самоубийцах? Пусть они церковного поминовения лишены за свой страшный грех, но ведь не грешней же демонов эти несчастные! Так мне стало жаль ту вдовицу, что едва начал поминать ее, как возжглось в моем сердце прямо пламя какое-то, и слезы вдруг потекли из глаз, словно я молился о родной сестре либо матери, а не о посторонней особе, которую даже и не видел вовсе. И вот, после очередного земного поклона, лоб от пола отрывая, увидел я нечто, заставившее меня замереть в изумлении. Угол со святыми образами, пред которыми я молился, исчез. Стены, тот угол составлявшие, более не смыкались друг с другом, но выгибались таковым образом, что получался меж ними коридор, достаточно просторный, дабы двое прошли по нему бок о бок. Тот коридор уходил в кромешную темноту и выложен был из таких же досок, как и вся келлия, только доски в коридоре показались мне слишком ветхими. Я обонял запах гнили с примесью некоего сладковато-тошнотворного смрада. Застыл я на коленях, завороженный жутковатой и манящей темнотой, которая, чем далее вглубь, тем все гуще и плотнее становилась, так что чудилось, будто в самой глубине темнота вязкая, как деготь. И вдруг привиделось мне во тьме какое-то шевеление. Присмотревшись, различил я темную фигуру. Она выходила из сердцевины тьмы и приближалась, бесшумно ступая. Не звук доносился ко мне, но чувство гложущего ужаса, словно бы ужас подменил собой звук шагов. Фигура делала шаг, и сгусток ужаса летел по коридору в келлию и обволакивал хладной пеленой мое сердце. Оцепеневший, стоял я на коленях, не имея сил вскочить и бежать прочь, да и не желая того. «Как чучело зверя, – подумалось мне, – уж не боится человека, хотя бы тот приближался с намерением изничтожить его». Паника, охватившая меня, была мертвенной, застывшей, то был панический паралич. А ужас меж тем пронизывал мое нутро, ползал пауком по коже, клубился вокруг удушливым облаком. Фигура приближалась. Вот она вышла из темноты в область сумеречного полусвета, наполнявшего начало коридора. В этом сумраке она виделась не черной, как прежде, а серой. Теперь я мог рассмотреть ее. Это была женщина, обнаженная и отчасти схожая с неким насекомым. Словно бы изнутри ее тела пыталась вырваться наружу гигантская саранча или богомол. Казалось, эта внутренняя тварь скоро разорвет мышцы и кожу, сбросит с себя покров плоти, как тесное одеяние, но покуда чудовище кое-как было оплетено человеческой формой, будто саваном, который удерживал его внутри. Хотел я взмолиться к Богу о помощи, но не смог. Никак не складывались в уме слова молитвы. Само имя Божие не произносилось в мыслях, выскальзывало из них, будто проворная рыбешка из пальцев, онемевших в ледяной воде. В левой руке страшная фигура держала что-то, похоже, покрывало, которое доставало до пола и волочилось по нему. Приблизилась она, и покрывало в ее руке показалось мне почему-то до крайности отвратительным, хоть я и не мог понять – отчего же. А когда фигура заговорила, то первые слова ее были настолько неожиданны, что у меня от удивления даже прошел страх на несколько секунд. – Софью-то, поди, помнишь еще? – спросила она. – Софью? – пролепетал я. – Волоцкую. Софью Алексеевну. – Помню, – выдавил я тихо. Еще бы я не помнил ее, это хрупкое создание, на котором меня пытались женить, которое влюбилось в меня и голову потеряло от нежных чувств. В позапрошлом году я навсегда с Софьей распрощался, объяснив, что не люблю ее, а только искренне уважаю, да и не имею права любить, поскольку принял твердое решение во что бы то ни стало уйти из мира и постричься в монахи. Никогда не забуду ее глаз, в которых распахнулась такая глубина отчаяния, что у меня защемило сердце, и я чуть было не поколебался в своем решении от жалости к несчастной девушке, которая растерянно предо мной стояла и в то же время словно падала в пропасть с обрыва. И теперь вдруг жуткий призрак, явившийся мне, произносит ее имя. – Это тебе от нее. – Фигура взмахнула левой рукой и швырнула покрывало мне под ноги. Тошнотворным смрадом обдало меня, когда на пол предо мной упало… нет, не покрывало – теперь-то уж я разглядел! – а содранная кожа человеческая, снятая от макушки до стоп. Искаженное, но притом знакомое мне лицо лежало на полу, глядело на меня страшными пустыми глазницами. Складки, проходившие по лицу, придали ему выражение какого-то диавольского ехидства. Всматриваясь, я все больше убеждался, что лицо принадлежало Софье Волоцкой. Господи, как захотелось мне в тот миг закричать и проснуться. Нервы не выдержали, я закричал. Но крик не помог, не выдернул меня из кошмара, не перенес на твердую почву – лишь опустошил. – Думал, я тебя благодарить буду за молитвы? – произнесла фигура. Она стояла совсем близко, и мне было видно, как в ее промежности, в опрокинутом вершиной вниз треугольнике черных волос, ползают жирные белесые черви. – На благодарность рассчитывал? Так я тебя отблагодарю! Она нагнулась и, подхватив содранную кожу, ловким движением расстелила ее на полу. Села на нее и поманила меня к себе. Словно заколдованный, я опустился рядом с нею, сел на Софьину кожу. Привидение обвило меня холодными руками за шею, поцеловало в уста. Так страшен и сладостен, так холоден и в то же время жарок был поцелуй, что все мое тело пронзила дрожь. Не помню, чьи руки – мои или мертвеца – срывали с меня одежду. Я словно падал в омут и камнем шел ко дну. Раз за разом целовала она меня, и во время особо страстного поцелуя, когда язык ее извивался у меня во рту, будто щупальце спрута, почувствовал я, как в меня переползает из нее трупный червь – через рот в горло и оттуда в самое нутро. И вместе с этим червем словно бы вполз в меня диавол. Да оно так и было: диавол поистине проник в меня тогда. Чувствуя, как этот червь копошится у меня внутри, я обезумел. Казалось, я вспыхнул факелом. Все горело во мне. Схвативши вдовицу за плечи, я грубо прижал ее к покрывалу из кожи, навалился, будто зверь на добычу, и овладел ею. Самое кошмарное и мерзкое было в том, что плоть моя чувствовала, как внутри ее лона извиваются черви. Прикосновение к этим скользким червям доставляло мне неистовое наслаждение. Кожа покойницы покрывалась трупными пятнами, нагнаивалась и тлела. Всякая миловидность, бывшая в лице вдовицы и телесных формах, стремительно таяла, будто ветер сдувал ее. Но меня это не останавливало – напротив, сильнее распаляло. И, когда наслаждение достигло наивысшего пика, я увидел, что подо мной шевелится в сладострастных корчах омерзительный, почти разложившийся труп.

Скитский послушник Тенетников Константин Львович был обнаружен в своей келье в состоянии совершенно невменяемом. Скорчившись, он лежал на полу, обнаженный, закутавшись с головой в чудовищное покрывало из содранной человеческой кожи. Когда принялись эту кожу с него стаскивать, он цеплялся за нее руками, бормоча: – Софьюшка, прости меня, прости, ради Бога! Софьюшка, милая, прости! Было установлено, что кожа, как и утверждал обезумевший Тенетников, принадлежит девице Волоцкой, Софье Алексеевне, дочери генерал-лейтенанта Алексея Дмитриевича Волоцкого, скоропостижно скончавшейсяв родовом поместье, в селе Осанино Грязовецкого уезда Вологодской губернии. За семнадцать дней до происшествия с Тенетниковым она отошла ко Господу от последствий некогда с ней приключившегося сильнейшего нервного расстройства, перешедшего в паралич. Раскопав ее могилу на семейном кладбище, обнаружили, что останки Софьи Алексеевны почивают в гробу без кожи. Заподозрить в надругательстве над телом усопшей послушника Тенетникова, неотлучно пребывавшего в монастырском скиту, более чем в тысяче верстах от поместья генерала Волоцкого, не представлялось возможным. Тенетников даже и не знал о смерти девицы Волоцкой, о чем его никто не удосужился известить. Убитые горем родители почитали Тенетникова виновником нервного расстройства, поразившего их дочь после размолвки, и не сочли нужным извещать юношу о кончине Софьи. По словам самого Тенетникова, кожу с тела девицы Волоцкой сняла некая страшная мертвая вдова, имени которой он не знал. Не будучи извещен о смерти Софьи Алексеевны, Тенетников считал, что кожа была содрана с нее заживо. Это заблуждение, похоже, и явилось основной причиной его помешательства. Каким образом кожа попала к Тенетникову – кто на самом деле снял ее с тела, кто доставил в скит, – все это осталось загадкой, ответ на которую так и не был найден. Рассказы Тенетникова про мертвую вдову выглядели не иначе как болезненным бредом, плодом умственного расстройства. Эту вдову Тенетников называл блудницей и самоубийцей. Говорил, что бездна обвенчала его с ней. Также говорил, что вдова понесла и вот-вот родит от него; мертвые, дескать, вынашивают куда быстрее живых. А почившая Софья Алексеевна якобы обещалась быть восприемницей для их чада. Дитя воспитают по всей строгости законов загробной тьмы, что в свое время это дитя будет явлено миру. После чего весь мир сойдет с ума и добровольно отправится в бездну, врата которой откроются повсюду. Мертвецы восстанут из праха земного и займут опустевшие города, покинутые людьми. Но не смогут поместиться на Земле, не достанет места. Тогда мертвецы построят железные летательные машины и отправятся к Солнцу, заселят его, и Солнце, от обилия мертвецов на нем, почернеет. А раскаявшиеся из числа живых, сбежав из бездны, вернутся обратно, проклиная загробный мир, но на поверхности земной встретит их ледяная тьма, полная кошмарных существ, которые вышли из недр смерти, дабы наполнить Землю. Увидят беженцы из загробного мрака в черном небе черное Солнце с черной Луной. И уже никому не дано будет отличить мир земной от бездны преисподней.
По течению Обратного года

Глава первая Чудовища уже здесь
Во второй половине дня на улицах чувствовалось особенное оживление, восторженная суета, приятный предпраздничный зуд, но загустевали сумерки – и проступала тревога. Она ползла из каких-то микроскопических щелей обыденности, словно случилось нечто, еще неосознанное, но уже непоправимое. Как будто капельки яда упали в чашу праздничного напитка, и дымчатые нити отравы растекаются в ней. Дрюня, тридцатипятилетний дурачок, светлая душа, лучший друг всех городских существ, что статусом ниже человека, но выше насекомых, шел по улице Чайковского, с улыбкой разглядывая дома и людей, попадавшихся навстречу. Любил он этот предновогодний день, последний в декабре, любил и улицы вроде Чайковского, что начинались едва ли не в самом центре города или даже прямо в нем и уходили в диковатую западную окраину, гористую, лесистую и таинственную. Кроме Чайковского, такими улицами были еще Октябрьская, Грибоедова, Рубина и Новороссийской Республики, переходящая в улицу Красных Военморов. Каждая из них предлагала почти волшебное путешествие для всякого, кто решит пройти их от начала до конца. Особенно любил Дрюня, когда очарование улиц сочеталось с другим очарованием – предновогодним, и одно волшебство намазывалось поверх другого, как джем на сливочное масло; вот тогда и рождалась неповторимая атмосфера, окунуться в которую можно лишь раз в году. Но сейчас Дрюня чувствовал в атмосфере непонятный изъян – темную червоточину, которая ширилась и углублялась, внушая беспокойство, впрочем, пока еще легкое. Дрюня уже миновал предпоследние дома и проходил мимо последних, за которыми улица превращалась в горное ущелье: там смыкались кроны высоких деревьев, чьи голые ветви казались снизу трещинами, покрывшими небо, до сих пор светлое в этот час. Навстречу шла женщина. Она выходила из ущелья, которое, чем дальше от последних домов, тем становилось все более непролазным. Дрюне отчего-то сделалось жутковато – отчего, он и сам не понял. Обычно он не разговаривал с незнакомыми прохожими, но сейчас заговорил в каком-то смущении, разогретом на легком огоньке страха. – Здравствуйте! С наступающим вас! – сказал он женщине, сдобрив натужное приветствие лживой улыбкой. Та молча прошла мимо. Дрюня испуганно шел вперед, его несла инерция, и он уже понял, чем же был встревожен, какова причина внезапной жути, налипшей на сердце. В необычных ситуациях Дрюня с задержкой анализировал факты и сопоставлял детали. Вот и сейчас он запоздало складывал, одна к одной, все странности этой мимо прошедшей женщины. Во-первых, она голая. И пусть день необычайно теплый по меркам декабря, плюс семь или восемь градусов Цельсия, но не настолько же, чтоб разгуливать голышом по улице. Во-вторых, женщина без головы. Над плечами у нее возвышался обрубок шеи, покрытый коркой спекшейся крови, выше только пустота. В-третьих, свою голову она несла в прозрачном целлофановом пакете, свисавшем из ее левой руки. В-четвертых, голова – Дрюня твердо был в этом уверен – смотрела на него сквозь пленку мутными, но все ж таки внимательными глазами, зрачки которых двигались. Дрюня трусливо оглянулся и увидел безголовую со спины; она удалялась по улице. Пришел настоящий страх и какая-то совсем уж нелепая обида – на то, как подло поступила с ним жизнь, подбросив ему страшное и ни с чем несообразное явление в виде этой женщины с головой в пакете. Дрюня расплакался, пустив скудные малодушные слезы. Шел вперед и с подвыванием плакал и от страха, и потому, что идет сейчас вглубь ущелья, а развернуться и пойти назад боязно, ведь там – она! И что если ущелье выпустит ему навстречу еще что-нибудь не менее страшное? Или затянет в себя и не отпустит, присвоив его себе как безвольную вещь? Кое-как оценив страхи и риски с обеих сторон, он все-таки нашел силы развернуться и торопливо двинулся в обратный путь. Он уже миновал несколько пар домов, стоявших слева и справа, и прошел через легкую излучину улицы, когда впереди показалась давешняя безголовая женщина. Она отворила калитку, видимо, не запертую, и вошла в один из дворов. Дрюня видел, как идет она по двору, как подходит к дому и, открывши входную дверь, исчезает внутри. Дрюня замедлил шаг. Проходя мимо дома, куда вошла безголовая, он смотрел не на дорогу перед собой, а на дом. В окнах мигали новогодние цветные огоньки, слышалась негромкая музыка, приятный легкий джаз. И когда Дрюня уже прошел мимо, раздался крик – вопль ужаса. Непонятно: мужской, женский или детский. Кричали в доме. Дрюня тут же остановился и развернулся к дому. В этот миг оборвалась музыка, и окна потемнели. Ослепшие, они косились на Дрюню с угрозой. Дом, только что живой, теплый, наполненный прелестью близкого праздника, стал мертв и холоден. Входная дверь приоткрылась, но не вышел никто на порог. В движении этой двери почудилась Дрюне злая усмешка чудовища, которое отчасти утолило голод, но было не прочь сожрать кого-нибудь еще. Дрюня развернулся и во весь дух побежал прочь. Он перешел на шаг, лишь когда достиг людного места – автовокзала почти в самом начале улицы. Пройдя автовокзал, он вышел на улицу Сипягина, свернул на Бирюзова, оттуда на Советов – центральную в городе. Можно было выбрать маршрут и покороче, но он старался идти там, где больше людей. Пока добирался домой, много странностей встретилось по пути. Разум его теперь не притормаживал с осознанием зловещего абсурда, но схватывал все на лету, словно бы после безголовой женщины перед ним открылась новая дверь восприятия. Сквозь проем этой двери наблюдал Дрюня жутковатые явления, попадавшиеся навстречу. Мужчина в плаще и шляпе, у которого лицо было на затылке, а затылок, заросший волосами, – на месте лица. Девочка с птичьим клювом телесного цвета вместо носа и рта. Белая кошка с жабьей головой, покрытой редкой шерстью, из-под которой просвечивала зеленая кожа рептилии; гибрид проводил Дрюню холодным злобным взглядом, сидя на подоконнике в окне первого этажа дома, мимо которого шел Дрюня. Тварь, перелетевшая с рекламного щита на дерево, похожая на медузу с пучком прозрачных щупалец, колыхнувшихся под ней, и с кожистыми крыльями летучей мыши. Толстая женщина в собачьем ошейнике, с затравленным взглядом и двумя большими сумками, откуда торчали кости с остатками мяса; за ремешок, прикрепленный к ошейнику, вел толстуху шагавший впереди карлик со сморщенным лицом старца, ростом с пятилетнего ребенка. Дрюня, проходя мимо, завороженно смотрел на все эти нелепости. Сердце отчаянно колотилось. Он старался внешне ничем не выдать, что видит все это, где-то в глубине себя понимая: видеть такое нельзя, и всякий, кто видит, находится в опасности. И все-таки не спешил сесть в автобус или троллейбус на ближайшей остановке, а продолжал идти пешком, ожидая новых зрелищ. Огромный жирный человек, стоя у припаркованного к тротуару черного минивэна с тонированными стеклами, сделал Дрюне глазами едва заметный знак – давай, мол, ко мне! – и оскалил в улыбке широченный рот с мелькнувшими меж губ настоящими звериными клыками. Мурашки поползли по коже, когда Дрюня увидел эти клыки. Сумерки, собираясь на земле, в самых темных нишах и углах, перетекали вверх, словно сажа над зловонным костром, и уже почернело небо, закопченное землистыми тенями. Повсюду загорались огни. Веселые, яркие, цветные – они рассеивали тревогу, но лишь отчасти. А в некоторых праздничных огоньках Дрюне чудились горящие глаза выжидающих неведомых тварей – голодных сумеречных охотников. На автобусной остановке «Улица Серова» стояли сиамские близнецы: единые до пояса, выше они разветвлялись на двух человек, словно буква игрек. Дрюня, слегка уставший, тоже встал на остановке, раздумывая – не дождаться ли ему транспорта? Или все-таки пойти дальше пешком? Он очень любил долгие пешие прогулки. Пока решение не пришло, посматривал на близнецов. Прислонив к уступу, ограждавшему остановку, обе свои трости, неловко, всеми четырьмя руками, мешавшими одна другой, близнецы пытались расстегнуть ширинку на брюках. Вскоре они одолели все пуговицы, чуть приспустили штаны и начали ковыряться у себя в паху. Наконец из расстегнутых брюк вывалилась какая-то безобразная опухоль. Присмотревшись, Дрюня понял: то не опухоль – а человеческое лицо, щеки и подобие подбородка покрыты редкими и длинными волосами, завившимися в мерзкие кольца. Глядя перед собой выпученными полоумными глазами, оно распахнуло рот и начало блевать на асфальт под ноги близнецам. Вся фигура стояла, неловко покачиваясь, расставив чуть согнутые в коленях ноги, напоминая уже икс, а не игрек, пока изо рта меж ног выплескивались белесые сгустки рвоты, в которых, показалось Дрюне, извиваются длинные темные черви. Когда подъехал автобус, близнецы не сдвинулись с места, Дрюня же вошел в украшенный праздничными гирляндами салон. Дома Дрюня решил пока никому ничего не рассказывать про то необычное, что увидел сегодня. Он жил с мамой, отчимом и младшим братом, которому в ноябре стукнуло двадцать четыре. Своих близких Дрюня очень любил и не хотел их ничем огорчать, а такие известия – что по улицам бродят чудовища – несомненно, расстроили бы всякого.
Зато дома – с облегчением и удовольствием почувствовал Дрюня – предновогодняя атмо-сфера не имела никаких изъянов. Елки, правда, не было, зато мохнатые и блестящие гирлянды вместе с цветными лампочками, стеклянные елочные украшения разных форм и сосновые веточки висели в доме повсюду. Пес Морфей, здоровенный, как теленок, черной масти, с блестящей гирляндой вместо ошейника, возбужденный и радостный, прыгал вокруг Дрюни; лапы, скользя, разъезжались по плитке пола. Мама, Элеонора Юрьевна, хлопотала на кухне, поцеловала Дрюню в щеку, сунула ему на пробу ложку не пойми чего, он послушно проглотил – вкусно-то как! А меж тем, в бессмертных советских аудиоколонках S-90, установленных в смежной с кухней гостиной, пел чей-то тоже советский, позабытый ныне голос. Мама у Дрюни была фанатка качественного звука и старых советских песен, собирала редких, по нынешним временам, исполнителей вроде Юрия Хочинского, Гелены Великановой, Леонида Кострицы, Сергея Мамырева, Галины Фотеевой, Ирины Бржевской, чьих имен не ведал уже почти никто. Из кухни Дрюня прошел в коридор, соединявший три комнаты, в которых обитала семья: сам Дрюня, отчим Стас с мамой, и брат Сергей. С братом, с недавних пор, жила его девушка Женя, милая, но слишком уж переменчивая: временами порывисто-восторженная, временами заторможенная и отстраненная. Из комнаты брата сквозь дверь сочился старый добрый Black Sabbath. Над липким торфяным болотом засасывающей музыки туманом вился плаксиво-инфернальный голос Оззи Осборна. Дрюня хард-рок не жаловал, у Black Sabbath ему нравились только клавишные инструменты – синтезатор, фортепьяно и меллотрон, – а мрачная жесткая электрогитара раздражала его. Дрюня был сторонник мягкой таинственной музыки с тягучими, как мед, гитарными соло. В комнату к брату Дрюня заходить не решился: вдруг Сергей и Женя делают что-то такое, чего посторонним видеть не следует, а дверь, как всегда, не заперли. Они в этом смысле жутко беспечны. Как-то раз Дрюня заглянул к Сергею и увидел нечто такое, что можно представить только в непристойных фантазиях. Женя голышом, в одних едва заметных трусиках, сидела на полу, в позе лотоса, прислонясь к стене, тело застыло в судороге, одна грудь словно бы втянута внутрь себя, другая – напротив – вздернута вверх, руки неестественно вывернуты, лицо запрокинуто, глаза открыты, зрачки закатились под верхние веки. Это страшное, каталептически застывшее тело в безумном исступлении осыпал поцелуями Сергей, стоя перед Женей на коленях. Его пальцы блуждали по ней, как по антропоморфному музыкальному инструменту. Она, похоже, полностью отключилась в медитации, а Сергея именно это и возбуждало. Застыв на пороге, Дрюня с оторопью наблюдал жутковатое зрелище. Сергей вскоре заметил брата, но его руки и губы так и продолжали свое дело, не в силах остановиться. Потом Сергей говорил Дрюне: «Женя, она почти святая, у нее высокие состояния, а я профан, я в йоге на самых низших ступенях, но, через Женю, могу ведь и к высшим приобщиться. Когда она входит в транс, я, так сказать, сбоку подкатываю и снимаю сливки с ее состояния. Безумно люблю ее, черт возьми, а через любовь прикасаюсь к ее духовным вершинам, вот этими руками прикасаюсь, губами, ну, и так далее. Да, я, конечно, как тот насекомый паразит, что приобщается к человечности, когда кровь сосет из людей, но что ж поделать, и паразитам надо как-то возвышаться». С тех пор Дрюня старался пореже заходить к Сергею в комнату, а если уж необходимо было, то ждал, пока в ответ на стук из-за двери не прозвучит разрешение входить. Сейчас Дрюня, миновав комнату брата, прошел к себе. Закрыл дверь на шпингалет. Следовало разобраться в том, что довелось увидеть на улицах города. И понять, что все это значит. В такие моменты – когда Дрюню мучили вопросы – он знал способ, которым разрешались сомнения, но побаивался его. Впрочем, боязнь была не настолько велика, чтобы остановить Дрюню. Он достал из ящика стола фотографию в тонкой металлической рамке. На фото был его родной отец. Погиб он так давно, что Дрюне приходилось напрягаться, чтобы назвать точное число лет, прошедших со дня его смерти. Сейчас этих лет скопилось уже целых двадцать восемь. Отец работал в небольшой фирме, которая снабжала питьевой водой офисы разных учреждений. В тот день он доставил воду в офис компании «Интертранс Логистик». И когда в кабинете на первом этаже установил последнюю девятнадцатилитровую тубу с водой, уютное помещение вдруг превратилось в ад. Взорвался газ, скопившийся в туннеле подземной коммуникации, по которому к зданию компании были проложены всякие разные кабели. Само здание не было газифицировано, утечка произошла из трубы, проходившей под землей и доставлявшей газ к совсем другому зданию. Просочившись под землей в коммуникационный туннель, газ скопился под офисом. Огненная волна взрыва взломала пол в кабинете на первом этаже. Отец стоял возле кулера, дальше всех от входной двери, потому и получил самые сильные ожоги. Даже легкие обожгло ему изнутри, когда он вдохнул раскаленный воздух. Он и еще две женщины, работавшие в том злополучном кабинете, были доставлены в больницу с ожогами разной степени. Самая сильная степень – у отца. В тот же день всех пострадавших перевезли в лучшую больницу края, в Краснодар. Женщины выжили, а отец пролежал в коме одиннадцать дней и скончался, не приходя в сознание. Мама не рассказывала семилетнему Дрюне никаких подробностей о смерти отца, но какой-то незнакомый человек подошел к мальчику на улице, склонился и стал шептать на ухо, и в этом шепоте влилась в Дрюню вся правда об отце, после которой начались у него кошмары. Незнакомец красочно расписывал, как мучился отец в огненных челюстях чудовища из подземелья, как переродился в них и перестал быть похож на человека, как долго умирал потом в больнице. И когда шептун ушел, Дрюня остался один на один с ужасом правды, которая принялась пожирать его изнутри. Кошмары мучили наяву, наползая вместе с припадками, когда Дрюня корчился в конвульсиях, подобных эпилептическим, и кричал в сильнейшем ужасе, а иногда дико хохотал. Дрюне виделись в галлюцинациях человекообразные чудовища, иногда огненные, иногда, напротив, холодные и скользкие, как слизни. Когда чудовища были огненные, они нападали на Дрюню и других людей. Когда были холодными, нападали только на людей вокруг Дрюни, его самого не трогая. В этих последних кошмарах, бессильный помочь, Дрюня наблюдал, как скользкие твари терзают и убивают людей, и при этом испытывал подлую радость оттого, что жертва – не он, что он в стороне. Во время таких-то стояний в сторонке бившийся в конвульсиях мальчик и начинал хохотать. Этот бесчеловечный хохот казался его матери страшнее, чем крики ужаса во время тех припадков, когда Дрюне мерещились огненные твари. Через два года припадки усилились, сделались чаще и продолжительней, и после них мальчик уже не приходил в себя так быстро, а подолгу пребывал в подавленном сумеречном состоянии, словно не мог отряхнуться от сна. Наконец, он и вовсе перестал возвращаться в нормальное состояние: муторный полусон сменялся припадком, после чего вновь наступал полусон, просветов между ними уже не оставалось. А потом все внезапно кончилось: припадки с галлюцинациями прекратились, сон наяву рассеялся, Дрюня больше не вопил от ужаса и не хохотал так безумно, взгляд его прояснился, лицо вновь озарилось чистой детской улыбкой, но умственные способности мальчика понизились. Его разум застыл на уровне развития ребенка четырех или пяти лет. Мама, у которой после смерти мужа и непонятной болезни сына, пробились первые седые пряди (а ей ведь тогда и тридцати не было), все-таки пришла в себя, вновь ощутила радость жизни, второй раз вышла замуж, родила второго сына и была счастлива, несмотря даже на то, что старший сын рос дурачком. Главное для нее, что Дрюня больше не мучается от кошмарных припадков, а что интеллект не развит – не беда. Дрюня прекрасно понимал мамино состояние: он чувствовал, что она не стыдится его, не испытывает к нему отвращения и заботится о нем не из-за того, что долг обязывает, а просто потому, что сердце переполнено материнской любовью. Но при этом мама кое-чего не знала о своем сыне. Не знала, что иногда он умнеет. Это Дрюня от нее скрывал. Он сам не мог разобраться, что именно с ним происходит, как это объяснить и оценить. Знал одно: когда он начинал разговаривать с умершим отцом и чувствовал, что тот его слышит, разум у Дрюни на короткое время прояснялся, становился взрослым, способным анализировать и рассуждать, даже философствовать. Когда эти моменты ясности заканчивались, Дрюня начинал дремать, потом просыпался и не мог вспомнить, что происходило с ним – о чем он думал и что чувствовал, поэтому, пока ясность рассудка его не покинула, делал записи в толстую общую тетрадь. Он верил, что мертвый отец прикасается к его разуму с той стороны смерти, правда, не говорит напрямую, но внушает мысли, которые как бы сами возникают в голове в ответ на Дрюнины вопросы. Записавши в тетрадь эти мысли, Дрюня потом читал и перечитывал свои записи, но почти ничего в них не понимал. Слова-то были ясны, если брать по отдельности, а во что они складывались, их общий смысл – то была загадка. О своем общении с умершим отцом Дрюня около трех лет назад рассказал Сергею, дал ему свою тетрадь, просил помочь разобраться в записях, только умолял родителям ничего не говорить. Сергей, впервые познакомившись с этой тетрадью, был ошарашен. Брат-дурачок вдруг открылся для него с неожиданной и невероятной стороны, на Сергея даже повеяло легкой жутью. И сейчас, придя домой с прогулки, взволнованный Дрюня решил спросить отца о тех пугающих явлениях, которые наблюдал на улицах. Он поставил фотографию отца на пол, прислонив к ножке стула, чтобы не упала, сам лег тоже на пол, на живот, лицом к фотографии, руки вытянуты вдоль тела. Такая поза казалась ему правильной. Отец на фото был запечатлен в полный рост. На фоне его маленькой двухмерной фигурки, в десяток сантиметров высотой, Дрюня казался выброшенным на берег морским чудищем, кашалотом, покорно легшим перед человеком. Дрюня помнил историю, которую в детстве рассказал ему отец – как самый первый человек на Земле давал имена животным, а те специально приходили к нему за этим, выстраивались в длинные очереди, и каждое животное, сгорая от нетерпения, ждало, какое же имя ему достанется. Таким вот животным, причудливым и непонятным, пришедшим к человеку за именем, чувствовал себя Дрюня, лежа перед фотографией отца – молодого, в военной форме. Тот с улыбкой стоял на краю горного плато, руки в боки, пилотка заткнута за ремень, ворот гимнастерки широко расстегнут, шею подковой облегает белоснежный подворотничок, подшитый к вороту изнутри, за спиной облака и горы. Снято было во время армейских учений где-то на Кавказе. – Папа… – прошептал Дрюня и, как всегда, не смог сдержать слезы.

Когда Дрюня пришел в себя, то обнаружил, что сидит за столом, перед черным монитором компьютера. Клавиатура была сдвинута под самый монитор, на столе перед ней лежала закрытая тетрадь, рядом – шариковая ручка. Дрюню тошнило. Но не физически, то была психологическая тошнота. Его пронзило сильнейшее отвращение к самому себе. Так бывало всегда после моментов прояснения ума, и всякий раз он не мог понять причину такого чувства. Почему он так отвратителен самому себе, словно весь он – какая-то сплошная мерзость? Почему так стыдно за себя? Неужели в момент прояснения Дрюня успел сделать что-то гадкое и недопустимое? Он ничего не помнил. Да и что бы он мог натворить за это короткое время, запертый в стенах маленькой комнаты? Дрюня осмотрелся вокруг: вроде бы все на местах, везде порядок. Нет, здесь явно не случилось ничего из ряда вон выходящего. Но как же тошно на душе! Это непонятное послевкусие тошноты было причиной, по которой он старался как можно реже обращаться с вопросами к отцу. За прикосновение к миру мертвых и за прояснение ума приходилось платить, эта плата была мучительна и постыдна, но в чем она заключалась – этого Дрюня разгадать не мог. Он нашел свежую запись в тетради, прочел ее три раза подряд, однако смысл прочитанного так до него и не дошел. С тетрадью Дрюня отправился к Сергею. Долго и путанно объяснял брату и Жене, зачем он сегодня обращался к отцу – чтобы понять, что значили все те странные явления, с которыми столкнулся на прогулке. Рассказывать об этих нелепых явлениях было мучительно сложно. Но Дрюня знал, что ни Сергей, ни Женя не поднимут его на смех и не отмахнутся от его рассказа как от глупости. Они внимательно выслушают, постараются вникнуть и понять. Женя уже знала про его общение с мертвым отцом и про тетрадь. Как и на Сергея, на нее Дрюнины записи произвели неизгладимое впечатление. До знакомства с тетрадью она относилась к Дрюне приветливо и доброжелательно, после – стала смотреть на него с примесью какого-то священного восхищения. Когда с мучительным предисловием было покончено, Дрюня протянул Сергею тетрадь. Тот нашел в ней последнюю запись и зачитал вслух: – «Это признаки. Эхо, прозвучавшее раньше самого звука. Они пришли, потому что бытие приготовлено на заклание. Никакой власти не имели бы явиться, если б не близость черты, за которой начинается Обратный год. Этот год авансом дал им власть быть, дал им форму, цвет и вес, чтобы они засвидетельствовали его наступление. Время – Великий Притворщик, оно долго вводило всех нас в заблуждение, сумело уверить в том, что оно – слепая сила природы, элементарное состояние материи, а когда все поверили, Притворщик решил нанести удар. Вот-вот время покажет свою оборотную сторону, и начнется Год-Оборотень, страшнейший год всех времен, у которого будет начало, но не будет конца, у которого кости из страха, хрящи из ужаса, плоть из кошмара. В этот год время собьется с пути и потечет вспять, извратится суть всех вещей, и голод произведет из себя пищу, а мертвый безголосый прах родит слово из никогда не существовавших и не сочетаемых букв-песчинок, скрипящих на зубах». Закончив читать, Сергей оторвал взгляд от страницы, посмотрел на Дрюню, на Женю и пробормотал: – Вообще, охренеть что такое! – А я, кажется, знаю… – произнесла Женя и пересела с дивана за стол, к ноутбуку; глаза у нее светились возбуждением. Она запустила браузер, вписала что-то в строку поисковика, нашла нужное видео на ютьюбе и нажала кнопку просмотра. На экране бородатый толстяк с наглым надменным взглядом и ехидной блуждающей улыбочкой приветствовал зрителей своего канала. – Сегодня, – говорил толстяк, – как я и обещал, расскажу вам про безумного араба Абдула Альхазреда и его запретную книгу «Некрономикон»… Ой! – притворно спохватился. – Херню сморозил, простите! Я, конечно же, имел в виду безумного монаха Прокопия Тенетникова и его запрещенные цензурой пророчества. Не буду вас грузить биографическими сведениями – когда он там родился, и все такое. Но, так сказать, минуя булку, сразу перейдем к изюминкам. Прославился Прокопий Тенетников во второй половине девятнадцатого века, многие почитали его за святого, он выдавал пророчества одно за другим, и под дверью его монашеской кельи выстраивались очереди, любопытно ведь узнать свое будущее. Но вот досада: наш святой пророк вдруг возьми да и сойди с ума. Да еще так нехорошо сошел, с душком этаким гадким. Испражнялся и тут же говнецо свое поедал на глазах охреневших почитателей. Девиц молодых за сиськи лапал. Свой, как тогда благочестиво выражались, срамный уд прилюдно демонстрировал. В общем, бесчинствовал мужик по полной. При этом продолжал пророчествовать. А пророчества-то сбывались! И пошла о Прокопии новая слава – что он, дескать, не просто святой, а блаженный, Христа ради юродивый. Ну, вроде знаменитого Василия Блаженного, в честь которого собор на Красной площади стоит. Но были и недоброжелатели, которые святость его не признавали. В частности, небезызвестный в то время авторитет в запутанных церковных вопросах, архимандрит Ипатий Бирчанинов. Этот архимандрит, Прокопия знавший лично, говорил, что тот одержим бесами, и пророческий дар имеет от них. Бесы же и внушили Прокопию мысль притвориться безумным, как бы с благочестивой целью – чтобы, дескать, оградить себя от гордости и тщеславия, которыми искушаются все знаменитости, прославляемые людьми. Но на самом деле все это самообман был. Прокопий думал притвориться безумным, чтобы святости через то достичь, а сам не заметил, как и действительно съехал с ума, добровольно расшатав собственную психику. Вот тогда и выдал Прокопий самое загадочное свое пророчество про так называемый Оборотный год. Цитирую: «Грядет на вселенную Оборотный год, исполненный ужаса и мрака. Год, когда река времен потечет вспять, и воды ее станут горьки, и всякая душа, тех вод испившая, зачнет и родит живую смерть. И будет мир полон человеков, заживо поглощенных смертью, плывущих вспять по реке времен – из грядущего в минувшее». На экране возникла страница рукописи, в которой ни слова не позволял разобрать неудобочитаемый почерк. – Что значит «Оборотный год»? – продолжал толстяк. – Прокопий также называл его Обратным годом и Годом-Оборотнем. Объясняя собственное пророчество, говорил, что в этот год обернется время, а с ним вместе обернутся законы природы, поскольку время не существует отдельно от бытия. И обернется сущность человеческая, так что все вокруг из несомненного станет мнимым и призрачным, из благого – злым, из безопасного – опасным, из Божьего – дьявольским. Когда случится все это, Прокопий не знал – может, скоро, а может, нет. Стоял на том, что, рано или поздно, но час роковой пробьет. Говорил… цитирую: «Придет, допустим, тыща осемьсот девяносто девятый год, но потечет не к девятисотому, а вспять – к девяносто осьмому, а там – еще далее вспять – к девяносто седьмому, и так, с каждым годом, все углубляясь прочь от истины в морок дней минувших. Несчастный люд, сносимый течением, встретят минувшие дни, как заброшенные деревни, где покинуты дома, и огороды бурьяном поросли, где мох, и плесень, и сколопендры, и пауки, и мерзость запустения». Про девяносто девятый год – это он только для примера говорил. На самом деле на стыке девятнадцатого и двадцатого вековничего подобного, как мы знаем, не случилось. Толстяк достал пластиковую бутылку с водой, отхлебнул из горлышка, причмокнул и произнес: – Восхитительно мерзкую водицу продают у нас всюду под видом горной родниковой! С таким ярко выраженным водопроводно-техническим букетом, что прямо хочется черту продать душу после глотка этой воды. Всем рекомендую! Если будете этой субстанцией смывать в унитазе, ваш унитаз прямо на глазах возвысится в своем экзистенциальном статусе. А теперь, друзья, у меня для вас сюрприз. Пророчество Прокопия Тенетникова про Оборотный год я знал уже давно, но вот чего не знал – так это того, что обратное время уже возникает в отдельных локальных проявлениях. Год-Оборотень, предсказанный Прокопием, должен стать тотальным проявлением обратного времени, но локально-то оно уже здесь, среди нас! Сейчас у меня в гостях один прелюбопытнейший человек, специалист по разным странным феноменам, в том числе и по обратному времени, Геннадий Германович Причислович… Толстяк произнес его фамилию с ударением на второе «и», но гость, едва возник в кадре, перво-наперво заявил: – Только, умоляю вас, ни в коем случае не Причи́слович, а Причисло́вич. Вообще, фамилия моя писалась до революции как Притчеслович, в ней два корня: «причта» и «слово». А потом, по какому-то недоразумению, трансформировалась в Причислович, словно бы тут корень «число» и приставка «при». Фонетика, как всегда, сыграла свою подлую роль. – Ну, вы уж меня простите, Геннадий Германович, – повинился толстяк, положа ладонь на сердце. – Ладно-ладно, проехали! – кисло улыбнулся Причислович. – Короче… то, что предсказал Тенетников, оно произойдет в свое время, будьте уверены, и довольно скоро, но пока не началась масштабная атака обратного времени, оно атакует выборочно, индивидуально. Есть состояния, в которых люди становятся легкой добычей, и обратное время нападает на них, потому что, ну, скажем так… хе-хе!.. не может удержаться, видя настолько привлекательную добычу… – Погодите! – вмешался толстяк. – Вы говорите про обратное время как-то прям слишком персонифицированно, словно это чуть ли не живое существо. Это метафора такая или как? – Метафора, не метафора – не важно! – отвечал Причислович, снисходительно глядя на толстяка. – Главное, вот что поймите. Идет человек по улице – самый обыкновенный, только разум его слегка сдвинут. И вдруг нет его! Как птица склюнула зернышко. А потом, спустя несколько месяцев, а может, лет, возвращается, но совершенно невменяемый. Побывать там, на обратной стороне хода вещей, невозможно ведь без вреда для психики. Но есть люди, которые намеренно проникали туда – проникали подготовленными – и возвращались в своем уме. В определенных кругах их отчеты о проникновении хорошо известны. Поэтому кое-кто уже готов встретить Год-Оборотень и не сойти с ума от ужаса, когда начнется тотальная атака… В этот момент Женя остановила просмотр видео и с тревогой уставилась на Дрюню, на его побледневшее лицо, на котором дрожали кривящиеся губы – дрожали от страха и крайнего напряжения. – Андрейка, милый, да что с тобой?! – воскликнула она, бросаясь к нему и обнимая с материнской нежностью. – Что, что такое? Дрюня дрожащими пальцами вцепился в ее блузку, сминая ткань на узкой и хрупкой Жениной спине. Судорожно глотая воздух, постепенно приходил в себя. Женя ласково гладила его волосы, шептала на ухо: – Тихо, тихо, родненький! Все хорошо, хорошо! Мы с тобой, не бойся! Когда Дрюня успокоился, он так и не заговорил о причине своего испуга. Об этом не хотелось откровенничать ни с кем, даже с близкими людьми. О таких вещах не говорят – но стараются быстрее вытряхнуть их из сознания, как стряхивают с себя опасное ядовитое насекомое. Пока длилась видеозапись, найденная Женей, Дрюня мало что понимал из сказанного, но внимательно смотрел на Причисловича, мучительно пытаясь понять, откуда ему знакомо это невзрачное – почти до полной абстрактности – лицо. И когда понял наконец, ему стало так страшно, что едва не закричал от удушливой жути. Причислович – это же он! Тот самый незнакомец, который в Дрюнином детстве, после смерти отца, подошел к нему, семилетнему, наклонился и нашептал на ухо всю страшную правду об отце. Двадцать восемь лет назад. Как же давно это было! Но память вспыхнула, высвобождая образы прошлого. На этом видео Причисловичу где-то за шестьдесят, может под семьдесят, а тогда… Дрюне трудно было понять, на сколько лет выглядел незнакомец в тот далекий день, но это был именно Причислович, никто иной. Сергей с Женей решили, что Дрюню испугали слова, произнесенные в этом видеоролике, но слова почти и не дошли до его сознания. В дверь постучали. – Открыто, ага! – крикнул Сергей. На пороге возник Стас – Станислав Леонидович – родной отец Сергея, Дрюнин отчим. Высокий, худой, улыбающийся, когда-то рыжебородый, но теперь почти седой, зато с молодым блеском глаз. – Опа! Вся банда в сборе! – весело воскликнул он. – А я вам тут, любезные мои, подарков подогнал. Ну-с, дамы и господа, направим-ка свои стопы в гостиную – акт приема оформлять!

В двенадцать ночи вся семья подняла бокалы с шампанским, сидя за столом в гостиной. Черное небо за окном расцветало огнями фейерверков. Испуганный взрывавшимися на улице петардами, Морфей залез под стол, жался там к ногам человеческим, тихонько подвывал и благодарно лизал руки, опускавшиеся под стол, чтобы погладить его, подкормить, успокоить и ободрить в трудный момент его иногда такой нелегкой собачьей жизни. Секундная стрелка настенных часов описывала круг за кругом: первый день нового года обрастал пылинками времен. И с ними вместе у Сергея, бросавшего взгляды на циферблат, росла тревога. Но не происходило ничего необычного. Мелькали вилки и ложки над закусками, дождавшимися своего часа. Стас, нацелив пульт на телевизор, искал канал с какой-нибудь более-менее приличной передачей, чтоб не вызывала тошноты и скуки. Телевизор плевался сгустками цветов и звуков. Элеонора и Женя обсуждали что-то женское, недоступное разумению мужской половины семьи. Дрюня не думал ни о чем, его сознание радостно растворялось в празднике, голова была блаженно пуста, ни единой мысли не витало в ней. О Причисловиче, его напугавшем, он уже и позабыл. Один Сергей был почему-то встревожен, но тревога его постепенно таяла. И когда он совсем успокоился, за стеной раздался истошный крик. Дом, в котором они жили, имел три входа, был поделен на три квартиры: А, Б и В. Им принадлежала большая часть, целых полдома – квартира А. Другую половину делили две пожилые женщины: тетя Света, уже в летах, но довольно-таки моложавая, и совсем старенькая и немощная – за восемьдесят лет – баба Рая, Раиса Филипповна. Кричала сейчас как раз она. Не так давно баба Рая, маленькая и юркая, похожая одновременно на большеглазого птенца и на лягушку, бодро шастала по двору, бегала по магазинам, устраивала развеселые попойки с дочерью, двумя ее сыновьями и одним дружком-старичком, на которого имела виды. Напивалась до белой горячки и галлюцинаций, видела чертей и мертвецов, разговаривала с ними, бывало, и кричала во весь голос, прочь гоня выходцев с того света. Короче, весело жила. Но потом все поползло в какую-то яму. Оба внука сидели по тюрьмам, дочь умерла. Баба Рая незадолго до ее смерти ходила уже с трудом, а после слегла окончательно. За ней ухаживала Клава, жена ее младшего внука. Она привела к бабе Рае нотариуса, и старушка подписала доверенность, по которой Клава распоряжалась ее пенсией, покупала для нее продукты и оплачивала счета. Раз или два на дню Клава навещала бабу Раю – убирала в доме, стирала, готовила, кормила старушку, которая стала настолько немощна, что уже не могла ни сесть на постели самостоятельно, ни повернуться набок, ни тем более на ноги встать. Тут уж поневоле пришлось бабе Рае завязать с пьянством. Клава принципиально не давала ей ни капли спиртного. Но галлюцинации продолжали посещать старушку без всякого алкоголя. Мозг ее работал, как фабрика по производству галлюциногенных биохимических веществ. Черти и покойники являлись средь бела дня. Не раз она доводила Клаву до испуга, когда в ее присутствии разговаривала с невидимыми для нее «гостями», удивляясь, как та не замечает их, когда вот же они, стоят прямо у нее за спиной! В отсутствие Клавы баба Рая часто звала на помощь соседей. Часами могла орать свое «спасите-помогите», пока кто-нибудь не заглянет – выяснить, в чем дело. Вопли ее были слышны не только через стену, но и в двух соседних домах, чьи окна под разными углами смотрели к бабе Рае во двор. Соседи договорились с Клавой, чтобы та оставляла им ключ в тайнике, и наведывались к старушке: то поднять ее, упавшую с кровати на пол, то повернуть набок, то воды подать, а то чтоб услышать от нее, как ей скучно, почему и зовет к себе хоть кого-нибудь. Вскоре соседи, по характеру крика, научились распознавать – от скуки кричит баба Рая или действительно нуждается в помощи. Вот и сейчас, в новогоднюю ночь, старушка подала голос, и это был настоящий крик о помощи, а не тот «праздный» крик без чувства и надрыва, когда ей не хватало развлечений. Стас, Элеонора, Сергей, Женя, Дрюня – все прислушались к воплям из-за стены. – Упала, что ли? – предположил Стас. – Женечка, возьми мальчиков. Сходите, гляньте, что там с ней, – попросила Элеонора. Женя кивнула и вышла из-за стола вместе с Сергеем и Дрюней. Мужская сила требовалась в том случае, если баба Рая свалилась на пол и следовало ее поднять. В остальных случаях Женя справлялась сама. Обычно она первая входила в комнату к бабе Рае, которая любила лежать на кровати голышом, все с себя сбросив, и часто падала на пол в таком же непотребном виде. Тогда Женя, вошедшая первой, укрывала ее простыней или одеялом и сообщала мужчинам, что им можно заходить или что, наоборот, их помощь не требуется – если баба Рая не упала. Чтобы попасть к бабе Рае, надо было выйти со двора на улицу, обогнуть дом – он был угловой, последний по четной стороне – и с другой стороны дома войти в калитку, которая вела к бабе Рае во двор. Эта калитка никогда не закрывалась, всегда была полуоткрыта или распахнута настежь. На этот раз Сергей и Женя вышли первыми, а Дрюня замешкался и оказался на улице, когда те уже поворачивали за угол. Необъяснимая тревога кольнула вдруг Дрюню, и он, дойдя до угла, остановился, чувствуя, как по спине, меж лопаток, ползает змейка нарастающего страха. Дрюня обернулся и увидел, как по улице движется, приближаясь, знакомая фигура. Повеяло жутью. Только Дрюня никак не мог вспомнить, где же видел ее? И когда? Кажется, совсем недавно. Дрюня всматривался в эту фигуру, чувствуя, что все в ней какое-то неправильное и поэтому пугающее. На всякий случай Дрюня спрятался за угол, образованный забором из металлопрофиля, и следил из-за него за фигурой. Та остановилась напротив их калитки, которую Дрюня оставил приоткрытой, выйдя на улицу. Толкнула рукой дверь и вошла во двор. В то мгновение, когда фигура исчезала во дворе, Дрюня вспомнил ее и весь покрылся липкой испариной ужаса. Это была та самая голая безголовая женщина, которую накануне днем встретил на Чайковского. И отрезанная голова так же покоилась в целлофановом пакете, в руке у нее. И сейчас эта страшная женщина вошла к ним во двор. Дрюня побежал вслед Жене и Сергею, которые уже вошли в дом к бабеРае. Надо рассказать им о том, что он увидел! Ворвавшись в жилище бабы Раи, пройдя через темную прихожую и кухню, Дрюня остановился перед открытой дверью в комнату. Там, у стены слева, лежала на кровати баба Рая, а у стены справа Сергей и Женя что-то делали, сидя на полу. Что – Дрюня не понял. Оба они были испачканы кровью. Все внимание Дрюни приковал к себе человек, стоявший в глубине комнаты. Этот человек был страшнее той безголовой женщины, которая, возможно, лишь померещилась. Взгляд его обжигал и притягивал. И был он не совсем человек, но… Дрюня не знал, как подумать о нем, об этом чудовище в человеческом облике. Понял одно: это опасное, нечеловечески злое существо, которое способно делать с людьми самое страшное, самое чудовищное, что только можно вообразить. И надо бежать со всех ног от него прочь.
Глава вторая Погружение в Майю
Вместе с Тимом я служил в Ростове-на-Дону, в батальоне охраны и обслуживания штаба Северо-Кавказского военного округа, в чертежном отделении стрелковой роты. Вся наша рота, за исключением чертежного отделения, занималась охраной штаба СКВО, а мы, чертежники, в этом штабе работали, в конторе со смешным названием ЧБОУ (Чертежное бюро Оперативного управления). Через наши руки проходили документы трех степеней секретности: «Секретно», «Совершенно секретно» и – вершина всего – «Особой важности». Карты, планы, схемы. Точнее, не то чтобы они проходили через нас – чертежное бюро и создавало их по заданию разных отделов нашего управления. Мы с Тимом – Тимофеем Лирченковым – стали лучшими друзьями, хотя он по призыву и был на полгода меня старше. Дедовщины среди чертежников не было, точнее, она проступала в самой интеллигентной форме, вроде как в монастыре, где молодые послушники благоговеют перед седобородыми старцами. К тому же специфика нашей работы не позволяла развиться дедовщине в ее классическом гнусном виде. Наше штабное начальство завело такой порядок, что вся наиболее сложная и ответственная работа делалась старослужащими, как самыми опытными и виртуозными спецами, молодым же доставалась работа полегче и попроще. Поэтому молодые у нас и уважали дедов, а вовсе не из постыдного страха перед наглой тиранией старших. И, конечно, играло роль, что все чертежники были людьми искусства, выпускниками художественных училищ Краснодара и Астрахани; никакого армейского жлобства среди таких юношей возникнуть не могло. Мы больше походили на персонажей классической литературы девятнадцатого века – всех этих «русских мальчиков» из Достоевского, – чем на ровесников наших, с которыми спали в одной казарме, маршировали на одном плацу. С Тимом меня сблизили общие вкусы в литературе, музыке, кинематографе и живописи. Мы одинаково зачитывались Томасом Бернхардом и Павлом Вежиновым, Хулио Кортасаром и Ярославом Ивашкевичем, наслаждались музыкой Кетиля Бьернстада и Модеста Мусоргского, Майлза Дэвиса и Кшиштофа Пендерецкого, смотрели фильмы Ингмара Бергмана и Райнера Фассбиндера, Дэвида Линча и Белы Тарра, замирали перед картинами Питера Брейгеля-старшего и Эндрю Уайета, Павла Филонова и Фрэнсиса Бэкона. Когда Тим, еще плохо зная меня, спрашивал – а читал ли я то и это, скажем, «На взгляд Запада» Джозефа Конрада или «Время собираться» Филипа Дика, а смотрел ли вон тот фильм, к примеру, «Звери и хозяин заставы» Майкла Ди Джакомо, слышал ли такой-то диск, ну хотя бы кантату Альфреда Шнитке «История доктора Иоганна Фауста», – то потом удивлялся, как это я умудрился прочесть, посмотреть и услышать все то, что читал, смотрел и слушал он?! Нет, не все, конечно, – это я утрирую, но значительная часть книг, музыки и фильмов, нами проглоченных еще в доармейский период, совпадала. Надо сказать, имелась в характере Тима одна неприятная черта, которой я начисто был лишен. Иногда Тим впадал в оцепенение, в котором он все прекрасно слышал и видел, но в то же время все игнорировал. В таком состоянии Тиму хотелось послать весь мир к черту – нарушить любые обещания, наплевать на долг, совесть, дружбу, на весь род людской. Он словно бы отступал внутрь какой-то персональной черной дыры и, стоя на пороге бездны, распахнувшей пасть прямо за его спиной, с «улыбкой Джоконды», проступавшей на губах, готов был наблюдать, как в агонии рушится все. К счастью, из такого ступора он всегда благополучно выходил. А еще у него была сестра. Майя. На полтора года младше Тима, она родилась в день смерти Тимова деда по матери, человека мрачного, тяжелого, страдавшего шизофренией в легкой форме, что, впрочем, не мешало ему работать фармацевтом. Мать Тима, от которой старались скрыть факт смерти ее отца, лежавшая тогда в роддоме, узнала об этом весьма неожиданным способом: умерший отец явился перед ней в галлюцинации – страшный, с дьявольским блеском глаз и плотоядной улыбкой. Он стоял над дочерью во время родов и, как ей казалось, хотел убить рождавшуюся внучку, чтобы забрать ее душу с собой. Роды были отягощены тяжелейшим психозом, а тут еще и отец Тима подливал масло в огонь тем, что подозревал жену в измене самого худшего типа. Предполагал, будто она зачала ребенка от собственного отца, практиковавшего оккультные ритуалы и якобы домогавшегося дочери, с которой он мечтал совершить инцест в темных магических целях. Мать Тима клялась и божилась, что не изменяла мужу, но тот не верил, считал, что отец овладел ею в бессознательном состоянии, после того как ввел в транс с помощью каких-то химических препаратов. Пищу для подозрений давал сам тесть, изводя нелюбимого зятя своими скользкими туманными намеками. После рождения Майи отец Тима отдалился от жены, хотя и не настаивал на обвинениях, снисходя к супруге, которая, по его мнению, была жертвой своего коварного отца, участвуя в измене бессознательно. Он замыкался в себе и мрачно тянул лямку семейных обязанностей. Между супругами тогда пролегла трещина, и жили они годами по разным ее сторонам, пока наконец не разошлись за несколько месяцев до того, как Тим ушел в армию. Отец завел себе любовницу – некрасивую, толстую, но добрую и отзывчивую женщину, а у матери началось странное сумеречное состояние – оно не было безумием, но и нормальным такое не назовешь, – началось и уже не прекращалось. Похоже, по наследству от отца ей передались психические отклонения, которые после развода впервые дали о себе знать. Тим настолько доверял мне, что в подробностях рассказывал о трагедии своей семьи. Когда он показал фотографию сестры, я почувствовал, как сердце мое проваливается куда-то и летит, будто астероид, вошедший в атмосферу Земли, уже объятый пламенем и готовый взорваться при столкновении с планетой. Майя была настолько красива, что, казалось, сошла с картины какого-нибудь средневекового гения – Леонардо, Мемлинга, Рафаэля, Тициана. Даже на фото чудилось, будто ее контуры окружает легкий ореол, словно ее красота сочилась невидимыми, но ощутимыми флюидами. Тим заметил, какое впечатление Майя произвела на меня, и дал мне прочесть три ее письма к нему. Вот тогда-то я и влюбился в эту девушку, читая ее длинные письма – умные, ироничные и полные какой-то особенной доверчивой нежности, с которой она относилась к брату. Понимая мое состояние и видя, как письма Майи подействовали на меня, Тим начал вдруг расписывать мне, насколько его сестра плоха – и с той, и с другой, и с третьей стороны. Глаза его при этом мерцали потусторонне-злобным блеском, так показалось мне. – Ты в профиль ее только видел, с правой стороны, – говорил он, – а слева у нее родимое пятно на пол-лица. Когда увидишь ее вживую, самому же стыдно будет. Стыдно признаться ей, что она стала тебе отвратительна, когда рассмотрел со всех сторон. И это не все, это только цветочек. А ягодка в том, что она – немая. С рождения не говорит. – Как немая?! – удивился я. – Да вот так, в буквальном смысле, друг мой! Глаза Тима хищно блестели, в улыбке, исказившей лицо, сквозило что-то нечеловеческое. И тут, на него глядя, вдруг я осознал: как же любит он свою сестру! Просто до безумия. И готов зверем завыть над этим ее пятном, над ее немотой, над каждым унижением, которое пришлось ей испытать из-за своих изъянов. Готов вгрызться в глотку всякому, кто позволит себе хотя бы тень усмешки в сторону Майи. Вскоре Тим убедился, что для меня не имеют значения ни немота, ни родимое пятно, что я действительно влюблен в Майю, а не просто очарован мимолетным впечатлением от удачного ракурса фотоснимка. Тогда он познакомил меня с Майей заочно: рассказал ей в письме про своего лучшего армейского друга, послал ей наше с ним совместное фото и даже переписал для нее мои стихи. Не подумайте только, что я сочинял сентиментальную лирику, как выразился классик, «половой истекая истомою» по далекой девушке-мечте. Нет, не такой я был человек, чтобы опускаться до сантиментов лишь по той причине, что влюблен и полон нежных чувств! Даже в самых возвышенных и просветленных состояниях я сочинял ядовито-мрачные вирши с налетом абсурдизма. Но то стихотворение, которое Тим отправил Майе, было даже по моим меркам слишком маргинальным: тошнотворный порнографический опус, повествующий о совокуплении двух влюбленных кошмарных монстров, уединившихся на кладбище под доносящийся с Луны вой мертвецов. Я не знал, что Тим собирается отсылать Майе именно эти стихи, он ничего не сказал мне и разрешения у меня не спросил, но Майя потом, вместе с письмом к Тиму, вложила в конверт отдельное письмо для меня, автора того «восхитительного поэтического опуса», который так ей понравился. Читая ее письмо, я горел от стыда, смешанного с восторгом. Мое сердце грохало, словно бубен в руках разгулявшегося шамана. Тим посмеивался, глядя на меня. Так мы с Майей вступили в переписку. Все делалось через Тима: ее письма ко мне вкладывались в один конверт с письмами к нему; мои к ней – в один конверт с его письмами домой. А когда Тим дембельнулся, Майя наконец прислала письмо, адресованное лично мне. В этом письме, первом неподцензурном Тиму (а он читал всю нашу прежнюю переписку), Майя сообщила, что увлеклась колдовством, начитавшись дедушкиных книг, и хочет проверить на мне свои способности начинающей ведьмы, а именно – сделать мне любовный приворот. В шутливом тоне она спрашивала разрешения провести эксперимент, избрав меня в качестве подопытного кролика, и попытаться колдовским методом влюбить в нее. При этом обещала, что в случае удачного завершения эксперимента, «я тут же все быстренько верну на круги своя, сделаю реверс и заставлю тебя разлюбить меня, конечно, если ты сам этого захочешь». Прочитав это, я был восхищен тем, в какой необычной форме она призналась мне в любви. В самом деле, ну кто еще получал от девушки такое письмо! Черт возьми, да я уже почувствовал ее приворотные чары, и меня, по уши влюбленного, еще глубже окунуло в омут восторга. В ответ я написал, что на эксперимент согласен без колебаний, «при этом, спешу предупредить, что ни на какую отмену установок никоим образом не рассчитываю и не желаю рассчитывать». А это было уже мое признание в любви, выраженное в словесном реверансе. В следующем письме Майя сообщала, что эксперимент начинается, и если я вдруг все-таки пожелаю отменить его, то должен прочесть следующее заклинание… Дальнейшая часть письма была заклеена небольшим кусочком бумаги. Ниже Майя приписала, что заклинание возврата скрыто под наклеенной бумажкой, что клей из некачественного клеевого карандаша и довольно-таки слаб: потяни бумажку – оторвется без труда. Она шутливо прибавляла: «Твое спасение, о утопающий, в твоих руках». В ту же ночь мне приснился сон, в котором я увидел Майю – увидел ее лицо с той стороны, которая никогда еще не открывалась мне на фотографиях. Почти во всю левую половину лица темнело родимое пятно, которое было не просто пигментом на коже – оно лежало безобразной бугристой массой, словно бы в Майю впилась какая-то аморфная тварь, сдохла и уже почти разложилась, намертво прилипнув к лицу. Но меня это жуткое пятно не оттолкнуло – напротив, даже показалось возбуждающим. В следующее мгновение сна мы стояли друг перед другом полностью обнаженные. Я увидел, что на левой груди у Майи два соска разного цвета, размера и формы, расположенные через небольшой промежуток друг от друга: тот, что больше, был более темен, слегка продавлен внутрь себя, словно кратер; второй, поменьше диаметром и светлее, соблазнительно торчал своим заостренным кончиком немного вверх. Точно такой же соблазнительный сосок возвышался и на правой груди. За исключением аномалии лишнего соска, фигура у Майи была совершенна. Это я мог оценить не только как мужчина, ослепленный желанием, но и как художник, наметанным глазом определявший достоинства и недостатки всех пропорций женского тела. Еще одна деталь приковала мое внимание: Майин лобок был тщательно выбрит и разрисован. Майя, как и Тим, была с художественными способностями, только, в отличие от брата, не получила даже начального художественного образования. Круглый желтый глаз, вроде змеиного, оказался довольно неплохо нарисован на лобке, даже выведен был небольшой аккуратный блик, придающий глазу блеск и сферический объем. Кожа вокруг этого глаза подкрашена зеленым и коричневым – чтобы напоминала кожу рептилии. Самой завораживающей деталью было то, как вписались в рисунок створки половых губ, подведенные по краям черной краской: они играли роль вертикального зрачка. Какая-то немыслимая смесь разврата и робкого целомудрия излучалась от этой девушки. Она рассматривала меня с тем детским восхищением, с каким малолетняя невинная сладкоежка могла бы смотреть на огромный торт. Приблизившись, я поцеловал ее сначала в губы, затем – в родимое пятно, далее – по порядку и слева-направо – в каждый из сосков, наконец – в змеиный зрачок. Последний поцелуй был самым страстным и глубоким. Я с жадным упоением словно высасывал взгляд из этого зрачка, тогда как Майя стонала и содрогалась всем телом, едва удерживаясь на ногах. Ее пальцы больно впились в мою шевелюру. А после мы занимались любовью раз за разом, почти без передышек, не желая останавливаться. И благо, что я спал не в батальонной казарме, а в нашем штабном кабинете, на груде старых шинелей внутри чертежного стола, чья конструкция походила на чемодан: поднял крышку – и двое могут улечься валетом во внутреннюю емкость, предназначенную для хранения чертежных принадлежностей вроде реек, рейсшин, рулонов ватмана, кальки и прочего. Вскоре от Майи пришло письмо, в котором она подробно описала мой сон, словно видела его моими глазами. Письмо переполняла нежность, местами взмывавшая до пафоса и близкая к легкому помешательству. Но как она узнала все это, недоумевал я. Как?! Неужели ее слова про колдовство – это не шутливая игра, и приворот, который она хотела опробовать на мне, – не фигура речи, не просто красивая словесная обертка для признания в любви? Может быть, Майя действительно вошла в область сверхъестественного и втащила меня следом? А если это не колдовство, то что тогда? Какие-то особые способности разума? В одном из последующих писем она писала мне (игриво, но теперь я чувствовал под иронией второе дно нижнего, смертельно серьезного слоя), чтобы я даже не думал изменять ей ни наяву, ни во сне – ни с кем, в том числе и с самим собой. «Ой, смотри, лубофф моя, – иронизировала она, – все, что задумаешь от меня утаить, потом выдаст мне сполна твое тело, едва только прикоснусь к нему. Тогда-то оно и скажет мне все-все о том, что с ним творилось в мое отсутствие». Эта ирония возбуждала меня и в то же время пугала. И когда рука моя сама, как оно бывает, тянулась, чтобы сорвать плод возбуждения, ее останавливал страх, который я, стесняясь собственных чувств, пытался объяснить благородной установкой на воздержание. Иронизируя над самим собой, воображал смешные сценки, в которых разъяренная невеста-ведьма мстит с помощью колдовских сил своему невоздержному жениху за нарушение запрета. Мне трудно было признаться самому себе, что я просто боюсь Майю. Ее письма с описаниями наших с ней оргий во снах все больше и больше пугали меня. Наконец, она прислала письмо, в котором с поразительной точностью описала и этот мой страх: «Ты, лубофф моя, боишься, что вдруг не удержишься на краю, сорвешься в пропасть постыдного порока и собственноручно снимешь сливки с той части тела, которая принадлежит твоей Майе. И тогда, предчувствуешь ты трусливо, твоя милая Майя, приревновав одну твою часть тела к другой, воздаст тебе по делам твоим и спустит на тебя силы ада, которые держит на привязи. О нет, не бойся так, лубофф моя. Бойся не так – бойся иначе, сильней, тошнотворней, безумней! Пожирайся страхом и подыхай от него, как от любви. Потому что я точно не прощу тебе позорную слабость, если только посмеешь ее допустить. Ты – мой, а не свой. Мой! Каждая часть твоего тела – моя собственность. Ты понял это, милый? Считай, что ты только арендуешь себя у меня на жестких условиях, согласно которым плата безмерна, зато свобода арендатора крайне ограничена». Здесь была уже не просто ирония – здесь шевелил змеиным языком настоящий злой сарказм. Ее постоянное выражение «лубофф моя» (ни разу ведь не написала: «любимый мой», ни разу!) уже не казалось милым и шуточным, оно начинало раздражать, из-под него проглядывало неприятное высокомерное ехидство. Но самое худшее, почудилось мне – то, что Майя, похоже, сочиняла письмо вместе с братом. Почему-то, когда я читал его, мне все мерещилась коварная улыбка Тима. Какие-то характерные для него интонации уловил я в том письме. Тим ушел на дембель весной, в апреле, а я дембельнулся в том же году в ноябре. Дома, на гражданке, мне опять приснился эротический сон, в котором, как мне показалось, Майя словно просила у меня прощения за то саркастичное и высокомерное письмо. Выражение мольбы проступило на ее лице. Она осыпала поцелуями все мое тело, спускаясь ниже и ниже, пока не коснулась губами пальцев на моих ногах. Я почувствовал, как по ступням течет влага, и когда Майя, сидя предо мной на коленях, обратила ко мне лицо, увидел на нем слезы. Тут же я поднял ее, начал поцелуями собирать влагу с ее лица и сам растрогался до слез. Весь этот сон пронизывала необыкновенная нежность. И после пробуждения он оставил щемящее послевкусие. А потом от Майи пришло письмо, в котором она впервые назвала меня любимым. Но содержание письма было чудовищно. Впрочем, точно ли оно пришло? Не галлюцинацией ли было то письмо? Я уже ни в чем не был уверен. Почва реальности под моими ногами непрочна, будто песок. Но прежде на этом песке я мог стоять, а затем начал погружаться в зыбучий омут. Но все по порядку. Вот что я в том письме прочел: «Володенька, любимый мой, милый, прости меня за злые слова! Я злая – знаю, я сама себе противна, но что же делать! А тут еще это колдовство проклятое, сама уже не рада, что занялась им. И ведь главное – нет обратной дороги, ну, по крайней мере, для меня ее нет, это я хорошо чувствую. Я давно хотела тебе рассказать, как получаются эти сны, в которых мы можем соединяться и любить друг друга. Давно хотела объяснить их технологию. Колдовство – это ведь технология, знаешь? Чтобы добиться успеха, нужна схема, которая будет эффективно действовать. И вот какую схему я использовала для этих снов. Необходим идол, который бы замещал тебя рядом со мной. А что такое идол? Близкое изображение далекого божества, его заместитель перед почитателями. А ты и есть мое божество, а я – твоя почитательница, разве не так? И я сделала себе такой идол, через который могу передавать тебе свою любовь, идол, с помощью которого могу чувствовать и твою любовь ко мне. Этот идол стал посредником между нами, приемником и передатчиком нашего общения. Через него ты, далекий, воплощался для меня и касался моего тела. Принцип не сложен, главное – найти удачный материал для изготовления идола, чтобы он мог воплотить в себе твои свойства, ну, те, что необходимы для любви. Короче, идол я сделала из Тимофея, братца своего. И занялась с ним тем, чем хотела заняться с тобой. Надеюсь, ты меня не будешь ревновать к нему? Тем более он ничего и знать не знает, я ведь втемную использовала его, пока он спал как младенец. Идольские функции он выполнял сомнамбулически. Ты только не волнуйся. Тимоша ничего не подозревает, он вслепую послужил для нас коммуникативным посредником, когда я вручила тебе управление его телом. Ты был как древний бог, вселившийся в свою статую и действовавший через нее. Все прошло наилучшим образом. Да ты и сам это знаешь. Приезжай быстрее, чтобы мы смогли наконец соединиться непосредственно, уже без всяких идолов». Потрясенный этим письмом, я уставился в стену и просидел так, глядя в нее, около часа. Рассуждая логически, Майя либо обманывала меня, либо говорила правду, либо обманывалась сама. Какой из вариантов предпочесть, я не знал, но понимал, что все они плохи. Худшим из них была правда, но и два других казались нехороши. Они означали, что у Майи поврежден рассудок – в большей или меньшей степени. Но, учитывая ее увлечение колдовством, все это могло быть правдой, и тогда ее состояние – это не психическая болезнь, а нечто худшее, какое-то глубокое извращение сознания и всех его нравственных установок. У Майи были странности. Она не желала пользоваться никакими современными средствами связи – ни компьютером, ни мобильным телефоном. Понятно, что, будучи немой, говорить по телефону она не могла, но могла бы отправлять текстовые сообщения, видео и фото, однако даже и притронуться не желала ни к каким мобильным устройствам. Но подобная странность меркла перед ее признанием в том, что сотворила она с братом. Тим был выпускником краснодарского худграфа КубГУ, только жил не в Краснодаре, а в Новороссийске, и я собирался отправиться туда, чтобы увидеть наконец Майю лицом к лицу и увезти ее к себе, в Астрахань. Однако после этого чудовищного письма решил с поездкой повременить. Я был растерян и не знал, что делать. Мне требовалось время, чтобы все обдумать. И вот еще какая странность: это письмо пропало. Я прочел его один раз, положил в ящик стола, где хранил ее письма, а вечером того же дня захотел перечитать, но не смог найти. Вот почему и подумал: возможно, это письмо… галлюцинация? Родители, с которыми я жил в двухкомнатной квартире, не могли его взять, это исключалось, никогда не рылись они в моих вещах, даже просто не заходили в мою комнату без меня. Единственное рациональное объяснение заключалось в том, что письма не существовало вовсе. Хотя полной уверенности, что оно мне только померещилось, тоже не было. Туман омерзительной двойственности заполз в душу и окутал чувства. Я написал Майе, что приеду позже, а пока возможности нет. Не буду пересказывать вранье, которым наполнил письмо; мне было стыдно уже во время его написания. Отправив письмо, я ждал, со смесью страха и отвращения, когда Майя снова посетит меня во сне. После самого первого подобного сна у меня начались странные психологические реакции, которым я не уделял особого внимания, но теперь стал догадываться – что именно они значили. Общаясь с некоторыми людьми, я иногда чувствовал к ним одновременно симпатию и отвращение. Оба чувства текли во мне, словно две разные мелодии, наложившиеся друг на друга и звучавшие одновременно. Подобная раздвоенность не раз возникала у меня как реакция на людей, на произведения искусства, на ситуации. Безразличие и тут же раздражение, удовольствие и тут же недовольство, интерес и тут же скука. Все это казалось мне чем-то вроде легкой и безобидной формы безумия. Ведь семена безумия, рассуждал я, вложены в каждого без исключений, но прорастают лишь у немногих. Теперь же я пришел к выводу, что раздвоенность реакций была побочным эффектом моих снов. Если Майя действительно использовала Тима в лунатическом состоянии для своей сексуальной магии, то в моем подсознании могли остаться его психические отпечатки, ведь мы с Тимом вступали в противоестественную и слишком тесную связь, соприкасались друг с другом самой изнанкой существа. Отсюда, делал я вывод, и раздвоенность моих реакций, поскольку часть из них принадлежала Тиму, его психике, сознанию и нервной системе. Наверное, и Тим испытывал те же чувства. Последствием этих снов был еще вдобавок и лунатизм. Я начал ходить во сне. Сам-то я во время сомнамбулических похождений ничего не знал и не чувствовал, но родители увидели меня ходящим ночью и рассказали мне об этом. После Майиного письма я решил, что «заразился» сомнамбулизмом от Тима, которого Майя сделала лунатиком с помощью своей магии. Вскоре она опять пришла в мой сон. Касаясь ее тела, я понимал, что касаюсь его вместе с Тимом, что мои руки «вдеты» в его руки, как в перчатки, что я воплощен в нем, и мое возбуждение – это и его возбуждение. Но то, что пугало меня и вызывало отвращение наяву, во сне вдруг показалось забавным. Я был словно не я и оценивал вещи непривычным для меня образом. Мне доставляло удовольствие сознавать, что я – как бы демон, захвативший Тима, делаю с ним что хочу, распоряжаюсь его телом. Особенное наслаждение доставляло сознание того, насколько происходящее развратно. Мы с Майей заставляем Тима совокупляться с ней, его родной сестрой, он наша жертва, наш подопытный кролик, беспомощная тварь в руках богов, а эти боги – я и Майя. Все это было так забавно, так смешно, что во время оргазма я расхохотался, представляя, как такой же оргазм сейчас испытывает спящий Тим, вливающий свое семя в сестру. Мой хохот внезапно треснул, будто лед, взломанный снизу, и я почувствовал, как из-под смеха полыхнуло черным пламенем ужаса и ярости. Я выдернул себя из Майи, вскочил и с силой ударил ее, лежащую, ногой. Майя завизжала от боли. Затем я ударил ее кулаком в лицо. Мое тело действовало самостоятельно. Я силился остановить себя, но не мог: сознание меркло от ярости, тело не подчинялось мне. Казалось, оно душит меня, смыкается на мне, словно челюсти хищника, вцепившиеся в добычу. Я вынырнул из этого кошмара и проснулся, не понимая, что случилось. В магической схеме, которую создала Майя, произошел какой-то сбой, что-то пошло наперекосяк. У меня мелькнула догадка о том, что же именно произошло в ту ночь, но она требовала подтверждения, а подтверждение можно было получить только там, встретившись с Майей и Тимом. Я, однако, страшился этой встречи, старался отсрочить ее как можно дольше. Мне не хотелось никуда ехать, я даже надеялся – и это была подлая, постыдная надежда, – что Майя сама напишет, чтобы я не приезжал, и тем самым снимет с меня всякие обязательства. Надо сказать, что Тим, вернувшись из армии, послал мне из Новороссийска одно письмо на электронную почту, а с ним фотографию, где он снят вместе с Майей на берегу моря, за спиной бухта и горы на дальнем ее берегу. В письме он кратко написал, что они с Майей ждут меня в гости. Это письмо я получил в конце ноября, тогда же и ответил на него, что обязательно, мол, приеду к вам. Но это я писал уже после того, как Майя рассказала мне о своей колдовской схеме, в которой использовала Тима, и в моем ответе на приглашение не было искренности. Теперь же я просто затаился, не писал никаких писем: ни бумажных – для Майи, ни электронных – для Тима. Ждал, что кто-нибудь из них сам напишет мне. Ждал также, увижу ли я Майю во сне еще раз, и каким будет этот сон? Наконец в середине декабря Майя приснилась мне. Она выглядела не как обычно: исхудавшая, бледная, глаза, обрамленные тенями, болезненно блестят, спутанные грязные волосы падают на лицо. Бросившись ко мне, она лихорадочно целовала меня потрескавшимися губами, по ее телу пробегала дрожь, и это была не только дрожь желания; мне показалось, что она дрожит еще от чего-то, не имеющего отношения ко мне. Наше совокупление было коротким и торопливым, каким-то звериным, но наслаждение, которое испытал я в этот раз, оказалось сильнее обычного. В нем чувствовалось что-то ядовитое и смертельно опасное, что придавало ощущениям особую остроту. После этого сна ко мне приходили мысли о самоубийстве. Навалилась какая-то жуткая тоска, словно бы небо превратилось в каменную плиту и прильнуло к земле, а меня сдавило меж двух гигантских плит. Я чувствовал себя заживо похороненным, доживающим последние дни или даже часы на бескрайнем кладбище, в которое превратилась вся поверхность планеты. Живой мертвец, я ходил среди мертвецов, совершал бессмысленные действия без причины и цели. Вся так называемая жизнь была бредом, который мерещился моему омертвелому разуму; видения жизни ползали в нем, будто черви в гниющем мясе. Я увидел недалеко от своего дома, как дети хоронят под деревом мертвую собаку. Следующие три дня меня тянуло на эту собачью могилу. Я останавливался над ней и стоял, ни о чем не думая, просто чувствуя собаку, лежащую там, под землей, совсем неглубоко, неподвижную и мертвую. Когда минула ночь после третьего дня, проснувшись утром, я обнаружил, что лежу в обнимку с мертвой псиной. Я сразу же все понял: ночью опять ходил во сне, только на этот раз вышел из квартиры, спустился во двор, выкопал из земли собачий труп и притащил его в постель. Что ж, подумал я, глядя на оскаленную пасть мертвой твари, как сказал поэт, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»; то же и с мертвыми собаками – если их откапывают и тащат в постель, значит, это тоже кому-нибудь нужно. Человек существо такое – нужды его могут принять самую замысловатую форму. Я сильнее прижался к трупу, погрузил лицо в его длинную грязную шерсть, вдохнул запах разложения и вновь окунулся в сон. Последнее время спал я куда дольше обычного. Родители устроили страшный скандал, почувствовав запах дохлятины, а потом увидев этот лохматый ужас в моей постели. Я с философским спокойствием перенес всю бурю эмоций. Не хотелось ни спорить, ни ссориться, ни оправдываться. Равнодушно отнес я собаку на место, бросил в неглубокую ямку, откуда ночью ее доставал, даже не забросал землей, пусть лежит на виду, и вернулся к себе. Отец с матерью смотрели на меня как на сумасшедшего, но мне плевать – кем угодно согласен выглядеть в чужих глазах. Только где-то в глубине, под пластами спокойствия, шевелился страх. Там, в какой-то дальней камере моего сознания, сверлила жуткая мысль, что со мной происходит что-то недопустимое, что я в ловушке, и мне нужно из нее выбираться. Писем от Майи не приходило, зато пришло электронное письмо от Тима: «Чувак, ну ты где? Приезжай хоть на праздники. Вместе встретим Новый год, посидим, выпьем, как люди. Я уж тебя заждался. Да и поговорить нам есть о чем». С этим письмом в меня словно запала искра жизни. Я как будто вдохнул воздуха после удушья. И решил: надо ехать во что бы то ни стало! Если я так и буду сидеть в своей норе, в этом жутком омертвении, то однажды убью себя – шагну из окна, повешусь, наглотаюсь отравы, обольюсь горючей жидкостью и подожгу себя… А встреча с Тимом – брезжило предчувствие – вернет меня в нормальное человеческое состояние.
Тридцать первого декабря, во второй половине дня, я был уже в Новороссийске. Снега здесь ни клочка, мороза тоже нет, этот южный городишко встретил меня досадным для такой поры теплом. Я не сообщал Тиму, когда именно собираюсь приехать. Не сделал этого из суеверного опасения, что если что-то пообещаю заранее, то, как пить дать, ничего не выйдет – возникнут препятствия из ниоткуда, а я не смогу их преодолеть и нарушу обещание. У меня уже бывали подобные ситуации. Поэтому сначала я решил добраться до Новороссийска, а потом уж позвонить Тиму и обрадовать: вот, дескать, и я! Выйдя из автобуса на автовокзале, я достал мобильник и послал Тиму вызов. Но вместо соединения с ним вклинился в чужой разговор. Два мужских голоса переговаривались друг с другом, и я хотел уж отключиться, но что-то меня остановило, что-то в их разговоре показалось странным, тревожным до холодного зуда где-то в желудке. Сначала не мог сообразить, почему этот разговор незнакомцев так меня притягивает, но понял потом: они говорили обо мне. – Он уже приехал? – спросил один. – Да, должен быть уже здесь, – отвечал другой. – Сейчас начнет звонить Тимофею. Или уже звонит. Тот пока не в курсе, что он приехал. Так вы будете его покупать? – Еще не знаю. – Берите. Товар хороший, подготовленный, как положено. Майя постаралась, сделала больше, чем мы рассчитывали. Сначала синхронизировала его с Тимофеем, а потом с этим мертвецом, которого поднимала. Он после это, представь, с дохлой собакой спал. Выкопал ее, домой принес и к себе под одеяло положил. Обнимал дохлятину, как бабу. После этого ты еще сомневаешься! – Я не сомневаюсь. Говорю тебе, я не знаю. Наши будут решать. Как решат, сообщу. Разговор оборвался. Взглянув на телефон, я увидел, что сенсорный экран мертв. Разрядился аккумулятор? Но этого не могло быть. Я взял в поездку внешний аккумулятор на десять тысяч миллиампер, и он, почти под завязку заряженный, был сейчас подключен к моему телефону. Чертовщина какая-то! – подумал я и вдруг вспомнил придурочного, с которым столкнулся, когда вышел из автобуса. Перед тем как звонить Тиму, я прошел за ограду автовокзала на тротуар, и там в меня врезался мужичок лет за тридцать. В дурацкой шапочке с помпоном, с лицом испуганного ребенка, явно умственно отсталый, он торопливо шел, почти бежал по тротуару, оглядываясь назад, словно его преследовали. Я в это время открыл в телефоне адресную книгу и выделил имя и фамилию Тима. Придурок – так получилось – почти уткнулся носом в мой телефон, и я заметил, как в глазах его сверкнул интерес: он вчитался в буквы на экране. Лукавая ухмылка изобразилась на его лице. «Эй, полегче!» – раздраженно воскликнул я. Дурачок не извинился, ни слова не произнес и пошел своей дорогой. Я тут же выбросил его из головы. Но теперь мне вдруг показалось, что он как-то связан с происходящим. Столкнувшись со мной, он словно передал мне какой-то импульс, после чего и начались странности: попадание в чужой разговор и полное угасание телефона. Да нет, не может быть! Я коротко потряс головой. Бред все это, бред! Нельзя думать в таком направлении – это же паранойя какая-то! Но как же все-таки объяснить разговор, который я случайно подслушал? Столько совпадений – имена Тимофея и Майи, упоминание дохлой собаки, с которой обсуждаемое лицо спало в постели, – все это ясно указывало, что речь шла обо мне, ни о ком другом. Но что, в таком случае, весь этот разговор значил? Кто-то кому-то предлагал меня как товар? Или это все-таки просто набор совпадений? Разум, судорожно вцепившийся в принципы рационализма, лишь бы не сорваться в безумие, настаивал на совпадениях. Плевать, что совпадения слишком необыкновенные – для разума главное сохранить свои позиции в этом мире, где все неординарное обязано быть прозрачным для него. Ладно, подумал я, адрес мне известен, гугловскую карту города я уже смотрел; спрошу теперь у местных, на чем доехать, – подскажут.

Через полчаса я стучался в калитку дома на улице Глухова, где жил Тим с матерью и сестрой. Открыв калитку, Тим, казалось, ничуть не удивился моему появлению. – А, это ты, Вован! Заваливай. Рукопожатие и мужское объятие были вялыми. Тим, вышедший во двор в спортивных штанах и майке с короткими рукавами, сначала показался мне сонным, а потом я понял, что он пьян. – Ты молодец, что приехал. Мне как раз не хватало кого-нибудь вроде тебя, – произнес он, когда мы вошли в дом. – Я тут пожинаю плоды удачного эксперимента. Купил дешевый белорусский виски, за… не помню – за триста с чем-то рублей, что ли, короче, самую дешевку. Вкус соответствующий – пить невозможно, хотя лучше нашей водки, конечно. И я настоял его на скорлупе… этого… орех такой, как его, блин! Из Австралии. С ванильным запахом который. Ну, «король орехов» его называют. У нас весь город им завалили. Круглый такой, и там щель еще в скорлупе, как искусственная, а она, сука, природная! Вставляешь в нее такой ключик, поворачиваешь и раскалываешь. – Макадамия, – подсказал я. – Но щель там искусственная, это точно. – Да-да, вот! Искусственная все-таки? Ну ладно… Короче, я на скорлупе виски настоял. И, я тебе скажу, классно получилось. Коньяк тоже настаивал, но он слишком какой-то ароматный выходит, парфюмный такой, аж перебор. А вот виски с этим орехом – прямо то, что надо. Как доктор прописал. Мы сидели с ним за столом на кухне, пили виски с нехитрой закуской, Тим рассказывал, а я слушал, чувствуя, как все тяжелеет камень, давящий мою душу. Тим рассказал, что в ту ночь, когда я во сне начал избивать Майю, он проснулся и с ужасом увидел, что происходит нечто чудовищное, что он, точно марионетка, совокупляется со своей сестрой. Сначала пробудившееся сознание не могло овладеть собственным телом, которое действовало самостоятельно, независимо от разума. Тим пытался закричать, но не смог – ему не подчинялся даже голос. Творился кошмар, а Тим был не в силах остановить его, словно между волей и телом пролегла пустота, где исчезали все волевые импульсы. При этом Тим чувствовал, что непонятная сила, которая овладела им, наслаждается его беспомощностью, он даже как будто слышал смех, звучавший где-то у него за спиной. И Майя!.. Она была в сговоре с этой силой, в ее глазах полыхало нечеловечески мерзкое сладострастие и упоение властью над жалкой куклой, на роль которой она выбрала своего брата. В момент оргазма Тиму показалось, что чужая воля, принуждавшая его, ослабла, он напрягся и вдруг почувствовал, что снова владеет своим телом. Тогда он отпрянул от Майи, вскочил и в дикой ярости, переполнявшей его, начал избивать эту похотливую мерзавку, эту бессовестную суку, эту ведьму, эту тварь. На Майины вопли и визги в комнату вбежала мать, попыталась оттащить разъяренного Тима от сестры, и тут он совершил страшную ошибку, сделал то, чего не может себе простить. Он ударил мать. Она упала, сбитая с ног, и лишь тогда Тим опомнился. Сокрушенно он говорил мне: – Это так безобразно было, что дальше некуда. Майю-то, лярву эту, не жалко, хер с ней, но мать… Как я так мог! Но я просто обезумел. Хорошо еще, что под рукой палки не было или ножа. Ты видишь, Вован, какая дрянь случилась, какая несусветная дрянь! Мать теперь со мной не разговаривает, хотя я на коленях перед ней стоял, умолял простить. Сидит у себя в комнате, не выходит. А Майя из дома ушла. Я ведь по голове ее бил. Сильно. Мне кажется, у нее крыша поехала от этих ударов. Дай бог, если это просто шок был, если прошел быстро. Но вдруг это настоящая шизня? Эти глаза ее безумные… Ох, Вован, как же тошно мне! Не знаю, где сейчас Майя, знаю только, что приходит домой тайком, когда меня нет. Возвращался однажды и видел издали, как она – раз! – на улицу со двора, и бежать. Погнался было, да фиг вам! Не догнал. Короче, за спиной у меня с матерью контачит. У матери спросил про Майю, но та только одно сказала: не твое, мол, собачье дело, и все. Я уж и в церковь, представляешь, ходил, свечку там толстенную купил, поставил, зажег – пусть Бог видит, я зла не хотел, я бы теперь… Лишь бы выправить! А то, может, не знаю, может мне повеситься, что ли? Взгляд его затравленно блуждал по комнате. Я не стал утешать его и не стал отговаривать – дескать, не вешайся, друг, не надо, жисть прекрасна!.. Мне вдруг стала глубоко безразлична его судьба. Вскоре Тим был уже пьян настолько, что заснул, перебравшись на стоявший в кухне диванчик. Он храпел, а я вышел из-за стола и направился в комнату. Здесь не было коридора, соединявшего комнаты, все они были сквозными. Дверь из кухни вела в одну комнату – как я понял, она принадлежала Тиму, – в дальнем ее конце была еще дверь, за которой смежная комната, очевидно – Майина. Пройдя ее, я подошел к новой двери – в третью комнату. Здесь должна обитать мать. Постучался. Ответа не было. Тогда я осторожно толкнул дверь и вошел. На большой двуспальной кровати неподвижно лежала женщина в ночной рубашке. Скомканное одеяло бесформенно громоздилось рядом. Лежала женщина на спине, голову скрывала подушка. Не шевелилась. Не дышала. Она была мертва. Я осторожно приподнял подушку и увидел застывшее страшное лицо. Дупло рта, налитое мертвенной тьмой. И выпученные в ужасе глаза. Подушка легла на место. Что же ты наделал, Тим, друг мой! Я подошел к окну, стоял и смотрел во двор. Над забором виднелась полоска улицы, соседские заборы на противоположной стороне. И ведь он совсем недавно ее убил, понял я, трупного запаха еще нет. Задушил, а потом начал пить. Потому и был уже вдрызг к моему приходу. Возможно, когда я только сошел с автобуса, она была еще жива. Быть может, он опустил подушку на ее лицо в тот самый момент, когда я пытался ему дозвониться, но попал в тот странный чужой разговор… Я вздрогнул, почувствовав, как вибрирует в кармане телефон. Рука дрожала, когда полезла в карман. Мой умерший телефон ожил, экран горел, но каким-то странным фосфорическим светом. Не было звука, только зуд вибрации. На экране – ничего, лишь желтовато-зеленоватое световое пятно, в котором темнела фигура непонятного замысловатого символа, вроде оккультного. Я неуверенно ткнул пальцем в символ и поднес телефон к уху. Наверное, сейчас треть моей головы осветилась его гнилостно-лунным светом. – Ну что, пацан, – раздался из динамика голос, один из тех, что я уже слышал, когда подключился к чужому разговору, – Майю мою хочешь увидеть? – Что?! – опешил я. – А… вы кто? – Да какого черта ты тут вопросы задаешь?! – рявкнуло из трубки; собеседник внезапно дико разозлился, просто пришел в ярость. – Ты, щенок, зачем сюда приехал?! К Майе или к кому?! Ты увидеть ее хочешь?! – Да… да… хочу, – пробормотал я и глупо выдавил фальшивым тоном: – Извините. – Вот так лучше, – собеседник был доволен и стал спокойнее. – К полуночи приходи. Выйдешь на улицу со двора, пройдешь до конца улицы, тут рядом совсем. Там, где улица кончается, пятиэтажки стоят, между ними мусорка, перед ней площадка, где жильцы машины паркуют. Вот там, перед мусоркой, и стой. Майя тебя сама найдет. Есть там рядом одна хата, где она от Тимошки-придурка прячется. А теперь подушку сними с тела… – Что? – не понял я. – Я говорю, подушку с тела сними, – собеседник начал закипать, но еще сдерживал свою злость. – У тебя там, в комнате, тело на кровати, на нем подушка. Сними ее. Собеседник явно видел меня, знал, где я нахожусь. Я снял подушку с лица мертвой женщины. – Хорошо, – произнес голос. – Теперь поцелуй ее за меня. В щеку. – Как? – опешил я. – Слушай, пацан, я же тебя по-человечески прошу, – в голосе собеседника прорезалась глубокая душевная боль. – Она ведь дочь моя. Родная. А этот негодяй убил ее. Тоже ведь… родственничек! Я прийти не могу, коснуться не могу, ничего не могу! Только и могу что говорить. Наклонись культурно и поцелуй в щеку. Будто родную мать целуешь. А я через тебя почувствую. Какой-то еле слышный звон или комариный писк окутал меня, когда я склонялся над покойницей, приближал лицо к ее страшному лицу, к провалу рта, который завораживал своей тьмой, и, робко вытянув губы, целовал холодную щеку, держа в правой руке фосфорически горящий телефон. – Да. Вот так, – донеслось из динамика. Когда я осторожно возвращал подушку на лицо покойницы, телефон погас. Выходит, я сейчас разговаривал с дедом Майи и Тима, отцом их матери. А этот дед, как мне помнилось, умер в тот самый день, когда родилась Майя. Фармацевт, шизофреник, оккультист. Тим говорил, что он был одержим идеей инцеста с дочерью в каких-то магических целях, что, возможно, даже и совершил его, после чего Майя родилась, и она, выходит, дочь своего деда… Мерзость какая! Эта семья, словно паутина, словно болото, яма-ловушка, полная клея для крыс, куда если влипнет живое существо, то уже не спасется. Может быть, Тим не так уж и не прав был, когда убивал свою мать? Жестоко, конечно, так думать, но если ты вдруг очнулся среди змей, то ведь невольно начнешь с ужасом и отвращением топтать скользкие тела. Не хотел бы я оказаться на месте Тима и вдруг узнать, что моя мать – любовница моего деда, а сестра мне только по матери сестра, по отцу же она мне черт знает кто такая. Этот голос из телефона! Как это он говорил: «Моя Майя», – с какой влажной и липкой интонацией. Если она ему одновременно и внучка, и дочь, если линия их родства сплелась в такую петлю, то, конечно, у него будет к ней особое отношение! Тим для него – «родственничек», сын нелюбимого зятя, а она – «моя Майя». И тут совсем уж безобразная мысль пришла на ум. Ведь что мне сказал голос в телефоне, когда я собирался поцеловать покойницу? «Я через тебя почувствую». Вот оно как! Он может чувствовать через меня. Почему? Да черт знает – почему! Майя чувствовала меня через Тима, когда совокуплялась с ним, а ее дед – он же отец – каким-то образом чувствует через меня. В этом паучьем клубке все возможно. Отец-колдун затащил в постель – а может, даже на какой-нибудь алтарь – свою дочь и зачал себе внучку, которая одновременно вторая дочь ему, а по отцу, выходит, стала сестрой для собственной матери. Потом эта девочка, зачатая таким чудовищным способом, подросла и затащила в постель спящего старшего брата, безвольную сомнамбулу, чтобы через него совокупиться с его другом. А теперь ее чертов мертвый дед-отец хочет совокупиться с ней через меня. Поэтому звонит мне из могилы, подталкивает, направляет. Сейчас, когда я целовал покойницу, он проверил, сможет ли почувствовать через мой поцелуй холод ее неподвижного тела. И, видимо, проба удалась, он остался доволен. Теперь он точно знает, что, когда я лягу с Майей, через меня войдет в нее он – как я входил в Майю через Тима. Этот паук для того и вступил в связь с дочерью, чтобы с одной ступени извращения перейти на другую, более низкую: зачать с дочерью еще одну дочь, чтобы затем овладеть и ею. Одного падения ему мало, ему нужно провалиться еще глубже. От этих мыслей во мне словно шипела кислота, разъедающая душу. Но вот что странно: я даже не помышлял о бегстве. Я хотел увидеть Майю. Наконец увидеть ее въяве, коснуться ее кожи, волос, почувствовать дыхание, заглянуть в глаза. До сих пор Майя была для меня только фантомом – картинкой на бумаге, фантазией во сне. А сейчас она вот-вот станет реальностью. Я вернулся на кухню, где Тим продолжал спать, скорчившись на узком диванчике, сел за стол и плеснул себе виски. Бедный Тим, подумал я, глядя на него, тоже попал в паутину, как и я, тоже муха, и она затрепетала крылышками, паутину слегка разорвав, но разве теперь взлетит несчастное это насекомое! Вечер стекал на город, словно на небе гигантская рука выжимала губку, полную космической тьмы. Светлячки праздничных новогодних огней пронизывали сумрак, я видел их из окна. Здесь, кстати, тоже были электрические гирлянды, протянутые поверху. Я нашел вилку от гирлянд, свисавшую вдоль стены, и воткнул ее в розетку. Кухня озарилась мерцающими разноцветными огнями. Атмосфера праздника расползлась под потолком. Убаюканный мерцанием огней, я не заметил, как заснул, сидя на стуле.

Проснулся в темноте, слегка разбавленной светом уличных огней, проникавшим в окно. И не мог понять, где лежу. Это была не кухня. И лежал я на кровати. Что-то холодное под моей левой рукой и под сердцем. Перевернулся на спину. Приподнялся, чтобы оглядеться. Я лежал в кровати с покойницей. Только что обнимал ее левой рукой, в которую въелся холод ее тела. Но – вот неожиданность – спокойствие не покинуло меня. Рядом с мертвой женщиной я оказался, видимо, потому что ходил во сне. Как еще это объяснить? Ну а ходил – так что ж! Лунатику положено ходить в подлунном мире. Я встал и осторожно, стараясь ничего в темноте не задеть, вышел из комнаты. На кухне все было без изменений, если не считать позы спящего Тима, который лежал на спине, вытянув ноги, с дивана свесившиеся на пол. Я взглянул на циферблат настенных часов: стрелки показывали без двадцати пяти минут полночь. Быстро забежав в санузел, я облегчился, умылся и вышел из дома. До конца улицы было рукой подать. Вместо последнего дома по нечетной, самой длинной, стороне был пустырь, обнесенный забором. На этом месте когда-то стоял дом, теперь здесь, видимо, собрались что-то строить. Обогнув забор пустыря, я вышел к той самой площадке перед мусорными контейнерами, где голос из телефона велел ждать Майю. Ожидая, я прогуливался туда-сюда, осматривался. Улица Глухова, на которой стоял дом Тима, в паре с улицей Алексеева, состоявшей из таких же частных домиков, врезалась в старый, советской застройки, микрорайон. Две эти улицы, шедшие параллельно, дружно обрывались перед территорией, примыкавшей к трем пятиэтажкам. На последнем участке по улице Алексеева, расположенном бок о бок с пустырем, замыкавшим улицу Глухова, стояли два дома. К одному из них вела калитка, на которой краской было написано: «Алексеева 74Б». Сразу за калиткой стоял покосившийся деревянный сортир. Некогда приличный и аккуратный, с двускатной крышей, он теперь сильно накренился и почти полностью перекрыл вход. Чтобы оказаться во дворе, пришлось бы согнуться пополам и пролезть в треугольную щель между диагонально нависшей стеной и соседским забором, которого сортир почти касался крышей. Из этого проема под сортиром и выскользнула Майя. Я узнал ее мгновенно, еще даже не успев рассмотреть лицо. Игла уколола сердце, когда я увидел эту изящную фигурку, выпорхнувшую на улицу. Она тоже узнала меня. Подбежав, бросилась мне на шею, обвила руками и покрыла лицо поцелуями. Когда я целовал ее в ответ, губы почувствовали влагу: Майя плакала от радости. Она потащила меня за руку к калитке, из которой вышла. Вслед за ней, согнувшись пополам, я протиснулся в лаз под сортиром и оказался во дворе. Там стояла беседка: три лавочки вокруг стола под крышей на четырех опорах. Майя усадила меня на лавочку, сама села напротив и, внимательно глядя в мои глаза, начала жестикулировать. Она общалась со мной жестами, на языке немых, который я не понимал. Раз за разом повторяла одну и ту же комбинацию жестов, ее взгляд вливался в меня, тек по коридорам разума, проникал все глубже, и, наконец, жесты делались понятными. Не знаю, что тут было – гипноз или колдовство, – но Майя заставила меня «слышать» ее. Глядя на фигуры, которые выписывали ее руки, я словно слышал ее голос у себя в голове. И вот что узнал от нее. Когда Тим ее избил, она убежала из дома и сперва не знала, куда податься, провела одну ночь на улице, но потом, когда на следующий день пробралась домой, пока брат отсутствовал, мать, накормив ее, посоветовала ночевать в доме 74Б на соседней улице Алексеева, здесь, в этом доме, у которого мы сейчас сидим. Тут живет одинокая старушка Раиса Филипповна, или просто баба Рая. Родившаяся еще до Отечественной войны, баба Рая, от старческой немощи, уже не встает с постели. За ней ухаживает какая-то родственница. Приходит один, изредка два раза в день. И сегодня она уже заглядывала ближе к вечеру, так что больше не придет, поэтому квартира сейчас в нашем распоряжении. Там две комнаты: в одной баба Рая, другая пустует – ее и займем. Ключ от входной двери родственница эта специально оставляет в тайнике, о котором знают все соседи; они, в случае чего, к бабушке заглядывают. А я этим ключом пользуюсь, чтобы ночевать у нее. Вреда ведь нет от этого, правда? Наоборот, даже польза. Я ведь и поднять могу бабушку, если упадет, и набок повернуть, и воды ей дать, и еды. А та даже и не спрашивает, кто я такая, откуда взялась. Майя встала и потянула меня за собой. Открывая не запертую на замок дверь, указала рукой на груду хлама в чугунной ванне около крыльца, и жестами объяснила: в этом хламе прячут ключ. Прихожая соединялась с кухней, как в доме Тима и Майи, только все здесь оказалось более ветхим и бедным. Было тепло, даже жарко, и пахло плохо. Когда мы прошли из кухни в комнату, «плохо» переросло в «мерзко». Комната, где обитала старушка, пропахла мочой и еще какой-то дрянью. Сама баба Рая лежала на кровати слева от входа, полностью обнаженная, сбросив одеяло на пол. Майя послала мне лукавый масленый взгляд и кивнула на старуху, словно спрашивала: «Ну как она тебе? Правда, хороша?» Я отвел глаза от безобразного зрелища. На нас баба Рая взглянула только раз и больше не обращала внимания. С улицы донеслись первые взрывы праздничных петард – значит, уже наступила полночь, один год сдал смену другому. Мы пересекли комнату и через дверь в дальнем ее конце вошли в следующую, смежную. Воздух там был получше – тоже, впрочем, плохой, но не настолько мерзкий, как в первой комнате. Когда дверь за нами закрылась, и Майя включила свет, мне вдруг стало жутко, словно я попал в непроглядную тьму. Свет в этой комнате вызывал странную реакцию, словно только казался светом, а, по сути, был глубокой тьмой – мрачной, бездонной, зловещей. Слабость разлилась у меня по телу. Голова закружилась, пол поплыл из-под ног. Я прислонился к стене и сполз по ней вниз. Я в ловушке. Это чувство было подобно тонкой проволоке, которая внутри тела оплетала мои кости. Я не заметил, когда Майя успела раздеться, но она была уже обнаженной, сброшенная одежда валялась на полу, и теперь ее руки раздевали меня. Сопротивляться не хотелось. Меня несло каким-то течением. Раздев меня и сев передо мной на колени, она что-то рассказывала мне жестами. Не сразу до меня дошло, о чем этот рассказ. Наконец я стал понимать. Она говорила, что после того, как брат ее избил, она поняла, что лучше не использовать живых людей как идолов-посредников для соединения со мной. Живой может очнуться и прийти в ярость, всегда есть такая опасность. Поэтому она решила, что лучше использовать мертвеца. Есть колдовская техника, которая позволяет условно оживлять мертвых на короткое время – для исполнения каких-то конкретных и простых задач, в том числе сексуальных. Этой техникой она и решила воспользоваться. Поэтому привела сюда, в эту комнату, бомжа, которого встретила на улице. Парализовала ему волю гипнозом, а потом убила, прочитав заклинание, повергающее в сильнейший ужас, вызывающий сердечный приступ и смерть. Примерно в течение часа после смерти трупом можно было воспользоваться в сексуальных целях, потом он становился ни на что не годен. Не теряя времени, она условно оживила труп и сделала из него идол для соединения со мной. А когда все закончилось, приказала ему пойти к сортиру во дворе и утопиться в выгребной яме. Все равно ведь тем сортиром никто не пользуется, он же вот-вот завалится. Знаю, что у меня получилось, говорила она, все получилось, ведь тебе было хорошо, правда? – Хорошо, да, но потом стало плохо, – едва шевеля губами, прошептал я. Дальше я уже только думал, но она, кажется, читала мои мысли: «Ты заживо похоронила меня, накормила меня смертью, напоила прахом…» Прости, милый! – взволнованно отвечала она жестами. Я знаю, как все исправить. Я сейчас не могу быть с тобой, потому что чем-то заразилась от мертвеца, мне надо выздороветь, иначе и тебя заражу. Но я знаю способ. Дедушка подсказал. Он разбирается в таких вопросах. Я вызвала его, спросила, и он рассказал, как лучше всего соединиться с любимым без всякого человеческого посредничества, от которого всегда жди беды, в котором всегда опасность какая-то. Есть чистый метод, поистине ангельский. В качестве идолов можно использовать ангелов, небесных духов, их тонкое тело чисто и свято. Настолько чисто, что не только нет никакой заразы на нем, но более того – оно очищает от скверны всякого, с кем вступает в связь. Ангелы – посредники любви, те, кто соединяет любящие сердца, и, если попросить их особым образом, если произнести необходимые заклинания, они соединят тела влюбленных. Сейчас ангелы здесь, в этой комнате, собрались ради нас и готовы нам помочь… Я озирался по сторонам, и чье-то незримое присутствие чудилось мне, и сердце сдавливали пальцы холода. Те, кого я чувствовал, незримые фигуры в комнате – их словно бы видела моя мысль, хотя глаза не различали ничего – они источали угрозу. Эти существа, эти… ангелы, были опасны. Мне хотелось закричать и вырваться из кошмара, но я понимал, что крик бесполезен. Губы Майи беззвучно двигались: она мысленно читала заклинания. Лицо ее запрокинулось к потолку, дыхание участилось, руки, поднятые вверх, дрожали от напряжения. Ее поза могла бы показаться пафосной и вызвать ухмылку, если бы не жуть, которая налипла на сердце холодной мокрой простыней. Мне показалось, что родимое пятно у Майи начало менять форму и двигаться по коже. Я присмотрелся: оно и впрямь двигалось, ползло, будто амеба. Неужели я галлюцинирую? Схожу с ума? Или с ума сходит сама реальность? С лица пятно сползло на шею, затем на грудь, проползло по левой груди, захватив третий сосок, который пополз по телу вместе с пятном. Это зрелище завораживало. Пятно и сосок, торчащий в нем, будто маленький кратер или глаз, переползли с груди на живот, спустились к лобку и начали заползать внутрь Майи меж ее раздвинутых ног. Майя при этом так сильно выгнулась, что завалилась на спину. Ее тело дрожало в судорогах. Я почувствовал ледяное прикосновение к коже и увидел родимое пятно – ее пятно! – у себя на груди. Оно ползло по коже вверх, к моему горлу. Я чувствовал его, словно холодного слизня. Это не могло быть правдой! Это бред! Абсурд! Я мотал головой, моргал, пытаясь прогнать наваждение, но тщетно. Я хватал руками это омерзительное пятно, пытался соскрести его с себя – не получалось. Когда мои пальцы задевали сосок, перемещавшийся вместе с пятном, Майя вскрикивала от пронзительного наслаждения. Пятно заползло мне на горло, на подбородок и полезло в рот. Бесполезно было стискивать зубы и губы бесполезно сжимать – пятно перетекало по поверхности кожи, легко просочилось в щель меж губами, я уже чувствовал его ледяное скольжение по внутренней поверхности щек. Пятно ползало внутри моей ротовой полости, я ощутил сосок Майи у себя на языке, словно вздувшийся волдырь. Майя вскрикивала от наслаждения. А потом пространство комнаты словно взорвалось формами, явившимися из пустоты. Теперь мы с Майей были не одни: вся комната наполнилась извивающимися бледными телами – мужскими, женскими, двуполыми, толстыми, тонкими, огромными, миниатюрными, детскими, юношескими, взрослыми, старческими. Все это месиво кишело в оргии, напоминая бурлящую мутную воду. Кто-то совокуплялся с Майей, кто-то – со мной. Входя в чужую плоть, я чувствовал, что вхожу в Майю, словно мы были с ней наедине. Наслаждение и ужас глубоко вонзали когти в меня, разрывая сознание в клочья. Пропало чувство собственных границ, уже не понять, где кончается мое тело, где начинается чужое. Источником моего зрения стало множество глаз, я видел происходящее с разных сторон и ракурсов. Я видел самого себя со стороны – заваленного, словно грудой мусора, жирными телесами огромной старухи, чья маленькая птичья головка с крючковатым носом возвышалась над складками студенисто колыхавшейся плоти. Ее худые руки и ноги, торчавшие из жирного тела, словно ветки, вставленные в снеговика, напоминали паучьи лапы, и было их много, этих тощих конечностей, слишком много. Глаза старухи, лишенные зрачков, светились мертвенным белесым светом. В сладострастно приоткрытом рту виднелись острые звериные зубы. Вислые груди, ниспадая, как по ступенькам, по складкам жира, ложились на меня, доставали мне до плеч, колыхались возле моего лица. Это я видел со стороны чьими-то чужими – не моими – глазами. Одновременно своими собственными глазами я видел нечто другое – со мной совокуплялась худая полупрозрачная фигура. Ее лицо меняло формы, превращаясь в лица женщин, мужчин, детей, стариков. Посреди этой калейдоскопической смены лиц то и дело мелькало лицо Майи. В этом ангельском месиве, кроме нас с Майей, был еще некто, не принадлежавший к ангелам. Высокий старик, похожий на мумию. Высохшая потемневшая кожа обтягивала его кости, которые, казалось, вот-вот прорвут ее и покажутся на свет. Старик не прикасался ко мне, но я ощущал связь с ним, как и с Майей. Когда мне казалось, что я вхожу в Майю, то одновременно казалось, что вместе со мною это делает и старик, чье тело словно совмещается с моим, проникает в меня, как рука в перчатку, подмешивается ко мне, будто один вид жидкости – к другому. Совмещение с этим стариком обостряло мои чувства, делало наслаждение более едким, даже ядовитым, и более глубоким. Что-то необыкновенно порочное было в том совмещении. Майя, понимал я, тоже чувствует этот яд и жадно впитывает его всем существом. Я догадался, кем был старик, совмещение с ним принесло понимание. Покойный дед Майи, он же ее отец. Он сам без слов дал мне это знание и захохотал, когда почувствовал, что я все понял. Старик схватил маленького ангелочка – такими обычно изображают купидончиков: пухленький щекастый мальчик с крылышками и шапкой курчавых волос на голове. Держа его руками за ноги, старик сильным движением разорвал его тело почти напополам, от паха до горла, открыв красновато-розовое ангельское нутро. Там не было кишечника, прочих органов и костей – только нежное мясо, подобное рыбьему, блестящее, склизкое. Глядя мне в глаза, старик впился зубами в эту плоть, и я тут же почувствовал, как сам впиваюсь в тошнотворное и в то же время такое соблазнительное угощенье. Ангелочек, разорванный стариком, все еще живой, счастливо визжал, брызжа слюной, словно его не пожирали, а развлекали щекоткой. Вкусив устами старика ангельской плоти, я внезапно оказался в абсолютной тьме. Бездонная чернота окружала меня. В ней не было ни проблеска света, ни звука, ни дуновения, ни движения, ни одного предмета или существа – ни вблизи, ни вдали. Это была пустота, не заполненная ничем. Сколько длилось погружение в пустоту – секунды, часы, дни или годы – сказать невозможно, там не было ощущения времени. А без такого ощущения можно за мгновение состариться, помолодеть и состариться вновь. Когда я выпал из тьмы и пустоты обратно, в мир форм, цветов и звуков, то был уже другим. Каким – я еще не знал. Но знал точно: отныне я – другой. Ангелов в комнате больше не было, они сгинули, как остатки сна из пробужденного сознания. Темного старика тоже не было. Остались только я и Майя. В смежной комнате истошно кричала старуха, баба Рая. Звала на помощь. И кричала она уже давно. Я вспомнил, что этот крик вился на периферии моего слуха с тех самых пор, как я начал видеть ангелов. К ее крику добавился еще звук: какая-то женщина вошла в комнату к бабе Рае и что-то спросила у нее. Крик тут же оборвался, и баба Рая ответила на обращенный к ней вопрос, который я не расслышал: – Там они, там! Да сама посмотри! – Никого там нет, баба Рая, что вы, в самом деле! – произнес звонкий женский голос. Тут же мужской голос произнес негромко: – Опять галюники? – Да они там! Там они! Посмотри! – выкрикнула баба Рая. – Сейчас я посмотрю, и мы убедимся, что никого там нет, – с расстановкой говорила женщина на ходу, приближаясь к двери, за которой были мы с Майей. Я сам распахнул дверь и вышел из комнаты. Женщина, подходившая к двери, застыла на месте, испуганно глядя на меня. Она была молода, почти моя ровесница, может, чуть старше. Такой же молодой, в дальнем конце комнаты, стоял мужчина. Соседи, пришедшие на крик бабы Раи. Сейчас она была под одеялом. Видно, соседка, войдя в комнату, подняла одеяло с пола и укрыла старуху. Я сразу понял, на что я могу рассчитывать, на что способны эти двое. Их глаза сказали мне все. Сказали и то, что противиться мне они не в силах. Поэтому я отдал им приказание на безмолвном ангельском языке. Какой-то частью себя при этом удивлялся: что я делаю? И еще удивлялся: кто я такой? Кто я теперь? Носитель неизвестного вируса, инфицированный ангелами? Эти двое, пронзенные ангельской иглой моей воли, начали делать то, к чему были предназначены. К чему готовились всю жизнь, которая, наконец, достигла кульминации. Женщина сбросила с себя одежду и села в позе лотоса у стены, мгновенно погрузившись в транс. Хрупкое тело застыло, обезобразилось буграми проступивших под кожей одеревенелых мышц. Мужчина опустился перед ней на колени, словно хотел совершить поклонение, распахнул жадный рот и впился зубами в ее ногу. Я велел ему сожрать ее целиком, до костей. Он будет давиться, блевать, испражняться, но выполнит мою ангельскую волю, которая в точности соответствует его предназначению. Я бы не повелел ему того, на что он не способен. Из дверного проема, ведущего на кухню, смотрел на меня еще кто-то. Я не сразу заметил его. Мужчина тридцати-сорока лет. Он вошел в дом позже этих двух и не решался переступить порог комнаты. Явился он уже испуганным, и теперь его страх усилился, когда наши глаза встретились. Страх на его лице был смешан с откровенной глупостью великовозрастного недоумка. Да это тот самый придурок, что врезался в меня рядом с автовокзалом, когда я собирался звонить Тиму! Петля совпадений затягивалась. Я мысленно шепнул ему подойти ко мне, но он не подчинился. Его лицо исказила мучительная гримаса, немного комичная. Он отшатнулся и бросился прочь. Хлопнула входная дверь. За окном послышались его торопливые шаркающие шаги. Что ж. Я послал ему вслед свое мысленное благословение.
Глава третья Призрачное дуновение
Дрюня выбежал из дома, спасаясь от чудовища, от его гипнотических глаз, которые чуть не сожрали всю его волю. Приближаясь к выходу со двора, он привычно пригнулся, чтобы прошмыгнуть под покосившимся сортиром, но пришлось застыть на месте. Сортир лежал на боку, перекрыв подход к калитке. Быстро опомнившись, Дрюня полез через сортир. Забираясь по дощатым стенам, он почувствовал, что в спину, меж лопаток, словно впилось что-то жгучее – то ли искра, то ли крупное злое насекомое, вонзившее жало. И тут же понял, что это жгучее было послано им – чудовищем, от которого он спасался бегством. Показалось, что вот-вот яд разольется от ожога, и тело онемеет в параличе, и тогда случится самое страшное, как только чудовище настигнет его, беспомощного, павшего наземь. И Дрюня взмолился. – Папочка! Папа! – шептал он судорожно. – Спаси меня! Защити меня от… Помоги, папочка! Ведь я же тебе сын! В последней фразе – «Ведь я же тебе сын!» – прозвучал какой-то не свойственный Дрюне взрослый упрек. И в лихорадке страха, истекавшего каплями пота на лицо, карабкаясь по ветхим доскам, трещавшим и ломавшимся под его весом, злобно вонзавшим занозы ему в ладони, Дрюня вдруг ощутил, как проясняется его ум, как из него испаряется глупость, оставляя сухую и недетскую логику – будто кость проглядывает из-под сгнившего мяса. Доска под Дрюней треснула, и левая нога провалилась внутрь. Пытаясь вытащить ногу, Дрюня почувствовал, как там, внутри кабинки сортира, в ногу вцепились чьи-то пальцы. Он дергал ногой, стараясь освободиться и боясь, что вот-вот полностью провалится внутрь, а изнутри кто-то тянул его к себе. Может быть, какой-то пьяный прохожий забрел с улицы в этот сортир, как в ловушку, прислонился внутри к стене, и кабинка рухнула; теперь он барахтается в ней, неспособный ни выбраться, ни позвать на помощь? Но почему его пальцы на голой коже – там, где штанина задралась почти до колена, – казались Дрюне пальцами какой-то рептилии? Эта холодная жабья кожа вызывала дрожь омерзения. Или это существо выползло из-под земли через выгребную сортирную яму и попало в деревянную кабинку снизу? В панике Дрюня задергал ногой и наконец почувствовал, что она освободилась от чужой хватки. Выдергивая ногу из дыры, он рванулся и в скрипе и треске досок рухнул на землю по ту сторону преграды. На коже, ниже задранной штанины, темнели следы; в том месте болело, как от ожога. Хромая, Дрюня с трудом выбрался на улицу и остановился. Напротив калитки, около мусорных контейнеров, освещенная уличным фонарем, стояла голая страшная фигура мужчины с отрубленными руками, которые висели у него на шее, будто хомут или ожерелье: правая рука вцепилась пальцами в основание левой, левая вцепилась в основание правой. От шеи до паха шел через все туловище грубый шов. В животе под этим швом что-то шевелилось, натягивая бескровную кожу изнутри; словно туда засунули некое живое существо. Лицо этой фигуры тонуло в вертикальном разломе, как от удара топором. Внутри разлома виднелись два глаза, ушедшие внутрь и смотревшие друг на друга. Фигура источала злобу и властную угрозу. Казалось, она здесь в своих законных владениях, где имеет право на все. Отрубленные руки на шее шевельнулись, их пальцы разжались, и ромбовидная фигура, ими образованная, распалась, руки же повисли в воздухе, медленно вращаясь. Неторопливо поплыли по воздуху в сторону Дрюни. Пальцы шевелились, будто щупальца подводных существ. Дрюня застыл на месте. Эти медленно плывущие к нему руки завораживали его. В шевелении пальцев чудился какой-то зловещий смысл; возможно, пальцы «произносили» заклинания на языке магических жестов. Когда руки приблизились, Дрюня ощутил тошнотворный запах дохлятины и еще чего-то невыносимо сладковатого. Руки подплыли еще ближе и своими холодными пальцами начали ощупывать Дрюнино лицо. Вспомнилось, как цыганки не раз гадали ему по руке, пальцем водя по ладони – Дрюня очень любил совать руку гадалкам, – и сейчас ему показалось, что эти мертвенные пальцы занимаются гаданием, но не по руке, а по лицу. Страх накатывал волнами, пульсировал, и на пиках его Дрюня едва сдерживался, чтобы не сорваться с места и не броситься наутек. Он откуда-то знал, что бежать ни в коем случае нельзя. Именно сейчас надо стоять не шелохнувшись. Эти холодные пальцы были опаснее зубов бешеной собаки. Неверное движение – и они вцепятся в тебя, беспощадно сдирая кожу и разрывая мышцы, вскапывая плоть, как землю, чтобы добраться до самых корней твоей жизни. Безрукая фигура неподвижно стояла на месте, метрах в шести или семи от Дрюни. Ему вдруг вспомнилась одна избитая мысль, что призраки, дескать, не должны отбрасывать тени; но безрукого освещал фонарь, и тень у него была. Наконец, отрубленные руки отпрянули от Дрюниного лица, взмыли над его головой, неощутимым течением их понесло назад, к хозяину. Все еще сдерживая дыхание, напряженный, как струна, Дрюня поковылял домой, опасливо косясь на неподвижную фигуру с ожерельем из отрубленных рук, вновь обвившихся вокруг шеи. Болела левая нога. На спине, меж лопаток, тоже болело и пекло. Заведя руку за спину, Дрюня тщетно пытался нащупать источник боли. Приближаясь к калитке, Дрюня удивился было, почему она нараспашку, но тут же вспомнил, что давеча сам ее и не закрыл. Он вошел во двор, оглянулся – за спиной почудилось какое-то движение. По фасаду недавно достроенной восемнадцатиэтажки, стоявшей напротив их дома, многометровой пиявкой ползала извилистая тень. Дрюня отвернулся. Когда он оказался в гостиной, его сердце оборвалось в какую-то свистящую глубину. Праздничный стол был опрокинут набок. На том месте, где он прежде стоял, лежали два изуродованных окровавленных тела. Мама и Стас. Над ними черным хищником возвышался Морфей, склонивший голову и лакавший пролитую на пол кровь. Тут же, в крови, лежала гирлянда, что прежде висела на шее у пса. Рядом с Морфеем, положив ему руку на спину, поглаживая пальцами холку, сидел на корточках человек в военной форме, которого Дрюня сразу узнал. Отец выглядел в точности как на том фото – такой же молодой и с той же улыбкой. И, как на фото, бледный, монохромный. Кожа и форма одного и того же серого цвета, оттенки только разные. Морфей поднял морду, и на Дрюню уставились два хищных людоедских глаза. Зверь оскалил зубы, раздался низкий утробный рык, и Дрюня впервые увидел, какие жуткие у Морфея клыки. Отец поднялся, потрепал пса по спине, как бы останавливая, не разрешая нападать до особого сигнала, и приблизился к застывшему в ужасе Дрюне. Распахнув руки, заключил сына в объятия, прижал к груди, и ледяной холод полился в Дрюню из серого призрака. Что-то нащупав на спине у сына, отец оторвал это – Дрюня вздрогнул от боли, словно вырвали клок волос, – и бросил на пол; там пискнуло и завозилось. Отец отстранил Дрюню, шагнул вперед и раздавил сапогом копошащуюся тварь. Затем посмотрел сыну в лицо. – Наконец ты смог, – шевельнулись его губы, и Дрюня увидел, что движение губ не совсем совпадает со словами, будто это фильм, где звук немного не синхронизирован с изображением. – Теперь я хоть на минутку вырвался оттуда. Все ждал, когда же, когда ты сможешь… А то все только бла-бла да бла-бла! Но ты вытянул меня – хватило мозгов. Ай, молодца, Андрюха, молодца! Перехватив Дрюнин взгляд, направленный на изуродованные тела, отец подмигнул Дрюне – весело и в то же время жутко – и спросил: – А? – точнее, и не спросил даже, а бросил сыну в лицо осколок звука, словно брызнул ядом. – Зачем ты?.. – прошептал Дрюня. – Я?! – искренне, но все же и с лукавством, удивился отец. – Разве это я, сынок? Это все ты. Не помнишь, что ли? Ты ж посмотри на себя… И только сейчас Дрюня заметил кровь на своих руках. На рубашке тоже были пятна, возможно – и на брюках, но на темной ткани трудно что-то разглядеть. Дрюня поднял с пола испачканный в крови небольшой топор, которым Стас и Сергей рубили дрова для мангала, стоявшего во дворе под навесом. Дрюне этот топор перестали доверять с тех пор, как он однажды поранил себе лезвием палец. Взвесив топор в руке, Дрюня вспомнил то, что происходило всего несколько минут назад. Возвращаясь домой, он боялся, что где-то здесь та безголовая женщина, что явилась во двор, когда он сам шел за братом и Женей. Осторожно взяв под навесом топор – сейчас он будет аккуратен и постарается не пораниться, – Дрюня вошел в дом. И увидел в гостиной безобразную сцену. Мама, Стас и эта безголовая сплелись в тошнотворный клубок. Казалось, вместе с ними в клубке извиваются огромные змеи. Вся эта масса шевелилась, как… как пальцы тех отрубленных рук, что недавно ощупывали его лицо. Дрюня заорал от невыносимой душевной боли – от омерзения, гнева, ненависти – и начал рубить этот змеиный клубок топором. Исступленно наносил удары, бил и кромсал, пока наконец не понял, что нет никакой безголовой, что она ему только мерещилась, что мама просто сидела на коленях у Стаса, лаская и целуя его, а Стас отвечал своими ласками и поцелуями. Эту пожилую парочку все еще влюбленных друг в друга людей иногда кружило в таких страстных водоворотах, когда нежность, как в юности, лилась через край. А где-то на краю зрения стоял у стены отец, с улыбкой смотрел на это яростное священнодействие смерти, поглаживая рукой прижавшегося к нему Морфея. – Почему я забыл? – пробормотал Дрюня, растеряно глядя на топор в своей руке. Отец отобрал у него топор, положил на пол и с улыбкой произнес: – Такое бывает, сынок, особенно если время пошло вспять. Мозги-то не сразу приспосабливаются к обратному ходу. Видишь, – он указал на часы на стене, – даже они никак не впишутся… Секундная стрелка на циферблате дергалась в небольшом интервале, отсчитывая по нескольку секунд то вперед, то назад. Угрюмо взглянув на эту стрелку, Дрюня подумал, что батарейка в часах, наверное, села, отец же – хитрец! – не преминул этим воспользоваться в своих целях. Морфей, меж тем, смотрел на Дрюню, продолжая скалить зубы. Эти зубы что-то мучительно напоминали ему. Ну конечно! Он понял. Оскаленные страшные зубы напоминали его собственные мысли в момент прояснения ума. Ясное четкое движение логики походило на оскаленную пасть, острыми зубами терзавшую поверженную плоть. Сейчас, когда ум снова прояснился, Дрюня осознал наконец, почему был так мерзок самому себе всякий раз после прояснения. Когда Дрюня, призывая умершего отца, вдруг взрослел, отряхиваясь от морока глупости, он переставал любить своих родных. Маму. Отчима. Брата. Все эти дорогие сердцу милые люди становились неприятны. Воспоминания о них отзывались холодом. Таким же могильным холодом, какой сейчас источал отец. Глядя в его веселое и холодное лицо, Дрюня словно заглядывал в бездну собственного пробудившегося разума. – Возвращаться пора, – сказал тот, обнимая Дрюню за плечи правой рукой. – Тебе со мной надо. Там у нас много таких, которые заживо спустились. А то сидишь один в темноте, а тут хоть родная душа рядом… Здесь лучше не оставаться. Сейчас такое начнется, что живые позавидуют мертвым. Ты же призвал меня, сынок, вот я и пришел тебя спасти. А это, – отец кивнул в сторону трупов, – необходимо, это плата за твой проход. Чтобы живому войти к нам и поселиться где захочется, надо платить. Если просто умираешь, тебя забрасывает не пойми куда, и лежишь там потом один, скорчившись, как эмбрион, ешь и пьешь свое одиночество, собственный ужас обгладываешь. Но когда цена уплачена, и ты еще не мертв, ты можешь быть с тем, с кем хочешь. Вместе. Вот как мы с тобой. За это платить надо, так уж заведено. Дрюня молчал, пока отец увлекал его за собой – через кухню – в темный коридор, который вел вглубь дома. Морфею отец подал легкий знак левой рукой, и тот медленно двинулся за ними следом, напрягшийся, как перед прыжком, все продолжая скалить зубы и отрезая Дрюне путь к бегству. Они вошли в коридор, но там не было привычных дверей в комнаты. И сам коридор стал другим: он расширялся, уходя в глубокую чернильную тьму, которая была не просто тьмой, а плотью ужаса, поднявшегося из неведомой пропасти. Однако Дрюня в том ужасе чувствовал нечто приятное, по крайней мере, притягательное. Продрогший от холода, он молча шел, увлекаемый мертвецом, обнимавшим его за плечи. Дрюня почти не чувствовал своего тела, которое растворялось во тьме, как в кислоте. Зато чувствовал свой разум, работавший ясно и точно, будто прочищенный и смазанный механизм. Чем холоднее становилось ему рядом с отцом, тем сильнее прояснялся разум. Они всегда выходили из глубин смерти, думал Дрюня, чтобы найти кого-то живого и увести с собой. Если тот захочет, конечно. А ведь многие пожелают уйти. Или, по крайней мере, не откажутся. Не надо даже выражать согласие, достаточно просто не отказаться. У многих найдутся причины, чтобы оставить все и уйти куда-нибудь в неведомую глубину. Иногда вся жизнь, которой ты жил, просто выталкивает тебя вон. А теперь механизм жизни сломался и начал работать в обратную сторону. Жизнь уже никогда не станет прежней. Началась какая-то новая страшная фаза. Дрюня вспомнил записанное в своей тетради: «И начнется Год-Оборотень, у которого будет начало, но не будет конца, у которого кости из страха, хрящи из ужаса, плоть из кошмара». Скоро привычный уютный мир станет адом, уже начал становиться. Дрюня вспомнил страшное существо в человеческом облике, которое увидел в комнате соседки. Его гипнотический взгляд обжег даже в простом воспоминании. Вспомнил второе существо с отрубленными руками. Мир начал делиться на чудовищ и их жертвы, начал выворачиваться своей кошмарной изнанкой и скоро вывернется окончательно. Дрюня оглянулся и встретился взглядом с горящими глазами Морфея, шедшего поодаль. – Пап, – спросил тихо, – зачем он за нами идет? – Пусть идет, – ответил отец. – Все одно, веселей будет. За него ведь тоже заплачено. Эта – за тебя, тот – за него. – А что там вообще, где ты… живешь? – спросил Дрюня. Он смутился от сказанного «живешь», слово показалось ему неуместным. Но не знал, как еще спросить об этом, какие использовать выражения. Отец долго молчал. Наконец произнес: – Там полная тьма. Дрюня еще раз оглянулся. Угольки собачьих глаз тлели во тьме, казалось – плыли по воздуху, сам пес сливался с темнотой. Дверь, ведущая в коридор, уже не видна. Ни проблеска света позади них. Со всех сторон их окружала тьма, густая, как черная жижа. Да и коридор ли это? Отец уверенно шел вперед – его, наверное, вело чутье, которым смерть награждает мертвецов, чтобы, ведомые им, они ползали внутри ее бездонного чрева, безошибочно отыскивая вечные норы свои. Сошла улыбка с его лица – обострившегося, постаревшего, почти чужого. Уже не обнимала сыновние плечи его рука, в этом нет больше смысла. Дрюня чувствовал дуновение ветерка, тонкого, как паутинка, призрачного, почти неотличимого от неподвижной пустоты; на это дуновение, пронзавшее насквозь, нанизывалось его сердце. Шли молча – шли или плыли в океане тьмы – плыли или падали на дно – кто мог сказать точно? Три ничтожные искорки в бесконечно разлитой по всем направлениям черноте.Глоток праха

Лето, жара, послеполуденное оцепенение – это время призраков. Солнце, утопившееся в небе, распухает на дне. Да упокоит Господь его раскаленную душу! Самое время, чтобы отправиться в путь, на поиски разрывов, мест, где червь потустороннего сомнения источил ткань бытия. Бросаю взгляд на градусник: сорок три Цельсия в тени. Да! Погода располагает. На солнце будет за пятьдесят. Выхожу на улицу, движусь сквозь плотный клейкий воздух, чудесно превратившийся в необъятную многослойную липучку для мух. Метод следующий: двигаться бесцельно – до легкого сумасшествия, которое неизбежно наступит в такую жару. Когда разум начнет отказывать и почувствую, что жара уже не обгладывает меня, не высасывает жир, не коптит кости, а проглотила и переваривает, тогда-то и должен их увидеть. Как бы случайно набреду – и увижу. По крайней мере, до сих пор метод работал. Надеюсь, сработает снова. Вам никогда не приходилось встречать на улицах во время самой бесчеловечной жары людей, трясущихся от озноба? Наверняка они вам попадались, только вы не обращали внимания, полагая, что они так же, как и вы, изнывают от жары. Вы просто не приглядывались, не фокусировались на них. Но если вы достаточно долго ходили по жаре, чтобы почувствовать себя дурно, такие люди обязательно должны были встретиться вам на пути. Впервые я обратил внимание на одного из них, потому что тот лежал на тротуаре. По-осеннему одетый: высокие массивные ботинки, куртка с капюшоном и брюки плотной материи, шарф на шее. Мне показалось, у него тепловой удар, но когда я склонился над ним, когда прикоснулся к его холодной коже, увидел пар, выходящий изо рта, и ощутил запах перегара, то понял: он пьян, и он мерзнет. Похоже, он пил, чтобы согреться, и теперь просто спал. Растормошив его, я попробовал с ним заговорить, спросил – нужна ли помощь? Он что-то отвечал заплетающимся языком, неловко расплескивая слова, нес околесицу, по крайней мере, мне показалось так – околесицу, хотя на самом деле в словах его был смысл, над которым я задумался позже. В итоге он грубо послал меня подальше, демонстративно повернулся на бок, устраиваясь поудобнее на тротуарной плитке, а я двинулся прочь. Потом, когда за два летних сезона я наткнулся на еще трех таких же, мерзнущих посреди убийственной жары, выдыхающих пар, пьяных и бормочущих странное, понял наконец, что за их пьяной болтовней стоит какая-то общая для них реальность. И, обнаружив пятого по счету замерзающего, стал уже целенаправленно расспрашивать его, чтобы составить более-менее цельную картину из разрозненных мозаичных осколков до оторопи неожиданных слов, от которых почва поползла у меня из-под ног. Первое, что я понял – и, забегая вперед, скажу, понял неверно, – что столкнулся с обитателями другой планеты. Каким-то образом их мир, показалось мне, пересекся с нашим. С одной стороны дикая жара, от которой плавится мозг, с другой стороны холод и алкоголь, – и вот, реальности двух планет пересекаются в небольших сегментахпространства-времени. На их планете, узнал я, человеку пришлось бороться с неким Океаном, осушать его, завоевывая для себя жизненное пространство, возводя города и поселки на бывшем океанском дне. Океан же, по их словам, был чуть ли не живым и разумным существом, и я спросил у одного из них: уж не Солярис ли ваша планета называется? Ответом мне был презрительный взгляд и кривая ухмылка. Позже я понял, что все гораздо сложнее, чем представилось вначале, что Океан для них – понятие метафизическое, что это не водная стихия, но Океан Безумия, Океан Кошмара, Океан Ужаса. Пытаясь точнее определить для себя сущность Океана, я задавал наводящие вопросы, но ответы, казалось мне, все ходили вокруг да около, не достигая сути. То представлялось, что Океан есть некая тонкая материя, доступная для физических и химических воздействий, то казалось обратное – что это чисто духовное явление, некий трансцендентный ноумен. Отвоевав у Океана территории, они жили на них достаточно долгое время, но с недавних пор Океан начал возвращаться, разрушая привычный строй жизни, сея хаос, панику и ужас. В какой-то момент я остановился на версии, что разговариваю с представителями будущего, в котором люди вышли в дальний космос и начали колонизацию планет, а там уже, в одной из космических колоний, столкнулись с пресловутым Океаном. Но потом обратил внимание на то, что все замерзающие, с которыми я встретился, одеты слишком обыденно, слишком по-нашему. Если они явились из другого времени, из другого мира, то почему так похожи на нас в мелких деталях? Этот вопрос поставил меня в тупик. Чтобы во всем разобраться, мне нужно было найти хотя бы еще одного мерзнущего в жару и постараться узнать от него как можно больше о его мире. Для этого я и отправился в путь сквозь послеполуденный студень горячего воздуха. Блуждание, формально бессмысленное, приближало меня к вполне конкретной цели – к помрачению разума, которое позволяло встретиться с ними. Сквозь едкий пот, затекающий в глаза, струящийся из-под прижатого ко лбу козырька кепки, я увидел его. В легком пальтишке с поднятым воротником он сидел на лавочке в сквере, опустив подбородок на грудь, и, казалось, дремал. Когда я приблизился и подсел рядом, он повернул ко мне голову, глянул цепко и в то же время равнодушно, затем отвел взгляд. – Простите, что беспокою, – обратился я к нему, – но хотелось бы узнать, как у вас дела с Океаном: удается ли его сдерживать? – А-а! Вы, похоже, тот самый человек ниоткуда. Наслышан о вас, – произнес он. – Кстати, не найдется сигаретки? – Найдется, а как же! Я протянул ему пачку и зажигалку. Он повертел пачку в руках, прежде чем открыть, ухмыльнулся, достал сигарету, закурил. – Что-то смешное? – спросил я. – Да, немного. Я курю точно такие сигареты. А с Океаном, знаете ли, не так все плохо, как представлялось. Нашли способ его локализовать. – Рад за вас, – я был искренен. – Как я понял, Океан – это что-то кошмарное, что-то страшное. Поверьте, я переживал за вас… ваш мир. – Спасибо вам, конечно, – отозвался он как-то вяло, и мне показалось, что он хочет сказать что-то еще, колеблется, но сдерживается. – Договаривайте, – попросил я. Он помолчал, вздохнул и произнес: – Мы изучили ваш феномен – феномен человека ниоткуда – и пришли к выводу, что вы существуете в смежном мире. У вас же, наверное, есть гипотеза бесконечного множества вселенных, да? Наши ученые, физики, этим увлекаются. Знаете, когда церковники задают вопрос – как объяснить антропный принцип? – ученые, не зная, как бы на это логично ответить, выходят из положения с помощью гипотезы бесконечного множества вселенных. Дескать, при бесконечном множестве вариантов неизбежно должна существовать в том числе и такая вселенная, в которой сложится антропный принцип. По мне, так это бредовая гипотеза, какая-то антинаучная фантастика, но серьезные ученые почему-то ее допускают. Черт их знает, почему. Чтобы исключить идею Бога, слишком фантастичную для них, они вышибают ее, как клином, с помощью не менее фантастичной идеи бесконечного множества вселенных. Ну и вот, наши с вами миры – выходит – из этого множества, и они смежные, поэтому и смогли соприкоснуться друг с другом. Наши ученые исследовали локации ваших появлений и в результате обнаружили ваш мир. Сказали, что идея смежных вселенных вроде бы как подтвердилась. Даже не знаю, можно ли им верить? Вчера у них одни теории, сегодня – другие, которые отрицают вчерашние, а завтра будут новые, с новым отрицанием. Я вот сейчас вижу вас, и это как бы подтверждает идею смежных вселенных, но, может быть, я просто галлюцинирую, и вы – мое бредовое видение. Что скажете? – Да уж нет, я не бредовое видение, – ответил я. – Ну да, ну да. – Он пару раз кивнул задумчиво. – Чего еще и ждать от галлюцинации – чтобы она сама разоблачала себя? Он замолк, и я молчал, размышляя, существуют ли вообще такие слова, которыми я смог бы доказать собственную реальность? Скорей всего, таких слов нет и быть не может в принципе. – Если бы не вы, – продолжал он, – мы бы так и не обнаружили смежный мир. А теперь, благодаря вам, мы знаем. По крайней мере, имеет рабочую гипотезу. И заодно удалось решить нашу проблему. Ну, в смысле, локализовать Океан. Точнее сказать, вытеснить его. Что-то было не так с ним и его словами. Не так было и со мной. Почему с такой тревожной и муторной тоской воспринимал я речь этого человека? – Впрочем, не знаю, зачем я вам это говорю? – он, казалось, был раздражен. То ли на меня, то ли на самого себя. – Все это лишнее. Смысла-то для вас все равно нет. Прощайте, любезнейший! Лишнее все, лишнее… Он поднялся, коротко кивнул мне и пошел прочь, на ходу оправляя поднятый воротник пальтишка своего, опуская под защиту воротника подбородок. Я смотрел ему вслед, и омерзительное сосущее чувство пульсировало под сердцем. Какой-то подвох скрывался во всем этом, таился под тонкой пленкой недоумения, готовой порваться в любой момент. Проклятая жара мешала все сообразить, все понять. И уже дома, в прохладе, я, наконец, понял. Оно пришло, понимание, как приступ тошноты, окутало мою голову, будто какая-то полуматериальная не то слизь, не то паутина. И я начал твердить себе, убеждать себя, что все понял неправильно, что такого быть не должно, не может быть, что мы не заслужили, что Бог не выдаст нас, не бросит в прожорливую свинскую пасть такого кошмара, такого ужаса. Даже вслух воскликнул: – Нет, неправда! Неправда! Все мерещится! Все чушь! Потом, вдруг успокоившись, гнусно и едко хихикнул над самим собой и подумал с ледяным наслаждением: «А что это я так засуетился-то? Словно знаю что-то такое, чего знать не должен. А если знаю, то не оттого ли, что оно уже здесь?» Мне показалось, что я стал каким-то чужаком для самого себя, каким-то посторонним, который долго притворялся мною, поддерживал привычный образ, а потом с облегчением сбросил фальшивую личину. Дрожащими руками взял стакан и крутанул вентиль кухонного крана, чтобы воды напиться, но вместо воды из крана посыпалась пыль. Падая в раковину, она тут же вздымалась легкими облачками, подобными густому туману. Эта летучая взвесь не рассеивалась в воздухе, но разветвлялась на отростки, которые шевелились на весу, как щупальца. В ужасе закрутил вентиль. Пыльная взвесь, принявшая форму мерзкого насекомого, какой-то гибрид паука с сороконожкой, корчилась в раковине. Но внезапно дернулась, взвилась в воздух и быстро исчезла в темной щели между кухонным шкафом и стеной. Пыль вела себя как живое существо. Началось, подумал я! Оно началось! Подлецы из того мира вытеснили свой проклятый Океан к нам, в наш мир. Сумели избавиться от своего Ужаса, подбросив его соседям из смежной вселенской камеры. Вот что значили его слова «нашли способ локализовать». И не они теперь, а мы будем тонуть в глубинах Океана, в безвыходном мраке, в кошмаре и безумии.

За эти дни, что прошли с начала катастрофы, я сделал достаточно наблюдений, чтобы сложилась более-менее общая картина происходящего. Вся вода превратилась в пыль, в тонкий прах. Лишь та, что в закрытых емкостях, еще продолжает оставаться водой, но если емкость оставить открытой, то вскоре и в ней вода станет прахом. Цемесская бухта, с трех сторон окруженная огромной подковой прибрежных городских построек, наполнена прахом. Ветер, гуляющий над бухтой, гонит клубы праха в город, рвет их на части, закручивает в смерчи. Этот прах кажется живым, иногда даже разумным. Словно бы это скопище призраков или один гигантский разветвленный дымчатый организм. Накатывало тошнотворное чувство, что вот-вот появятся чудовища среди клубов пыли, принимающих вид причудливых и отвратительных фигур, среди блуждающих смерчей, которые уже перестали подчиняться ветру, но бродят во всех направлениях, будто любопытные странники. Чудовищ, казалось мне, не хватает в этих фантасмагорических завихрениях. Словно бы в котелке с похлебкой недостает специй. Но чудовища не появлялись до поры. Клубы пыли, плавно скользящие над землей, были как заросли экзотических растений в ожидании прихода хищников. И ожидание не обмануло. Только чудовища пришли не извне, не вторглись к нам с изнанки бытия, они жили среди нас, представляясь людьми, обманывая не только окружающих, но и самих себя. Однако час пробил, и всякий самообман рассеялся. Те люди, которые жадно глотали пыль, пили ее вместо воды, начинали трансформироваться. Сначала кожу покрывали зеленоватые пятна, вроде трупных, они распространялись по всему телу. Вместе с тем и само тело начинало искажаться. Постепенно человек становился похож на рептилию. Расширялся рот, округлялись и выпучивались глаза, выпадали зубы, на их месте росли новые, заостренные, нечеловеческие. Удлинялись конечности, менялась осанка, во всей фигуре проглядывало что-то жабье. Некоторые из тех, кто подвергся изменениям, уменьшались, становились карликами, другие, напротив, увеличивались до слоновьих размеров. Пропорции тела при уменьшении и увеличении часто нарушались: руки, ноги, головы, туловища – все становилось негармоничным, несоответственным друг другу. Некоторые твари обзаводились лишними конечностями, даже лишними головами, многие обрастали щупальцами, плавниками и подобиями хвостов. Эта мерзость не восстала с морского дна, не упала со звезд, не явилась из сокровенных глубин – она вышла из нас самих, из каких-то темных складок нашей души, где обитала тысячелетиями, пока эти складки не вывернулись наизнанку. Кошмарные твари, бывшие люди, скользили по воздуху в клубах пыли, словно под водой. Да и сама пыль, понял я, вела себя так, будто воздух имел свойства воды, и она плавно растекалась в нем, как ил, потревоженный и вздымавшийся плотными клубами. Я видел, как жабообразные напали на человека – обычного, не подвергшегося метаморфозам, – и, когда их зубы терзали его, кровь его не пролилась на землю, а вопреки законам физики, клубясь, потекла по воздуху – в точности так, как растекалась бы под водой. При этом я чувствовал, что сила земного притяжения действует, как и прежде. По крайней мере, так она действовала на меня и неживые предметы. Только пыль и те, кто ее пил, не во всем подчинялись гравитации, так же не подчинялась ей кровь их жертв. Эту зверскую сцену я наблюдал в бинокль из окна. Фокусируясь на ее фрагментах, я вдруг увидел что-то странное: какой-то небольшой округлый предмет взлетал над чудовищами, пожиравшими останки жертвы. Сначала я никак не мог его рассмотреть, но наконец мне удалось настроить резкость. Это был человеческий глаз с обрывком нерва. Словно миниатюрный воздушный шарик, он поднимался над местом убийства, среди парящих дымчатых потеков крови. На мгновение показалось, что глаз взглянул в мою сторону, и через этот взгляд влился в меня ледяной ужас. Опустив бинокль, я смотрел в окно невооруженным глазом, но ощущение страшного чужого взгляда так и не проходило. Даже ночью, когда я несколько раз выныривал из сна, мне казалось, что невидимый наблюдатель продолжает смотреть на меня. Я боялся пить летучий дьявольский прах, пил воду и разные напитки из бутылок, герметичных пакетов и фляг, но вдохнуть немного пыли мне все же пришлось несколько раз, хотя и старался вне своего жилища дышать через марлю либо респиратор. Примерно треть моего тела покрыли зеленоватые пятна, как у трупа. Но нарушений телесных форм я у себя пока не замечал. Если только я не выдавал желаемое за действительное. Людям ведь свойственно постоянно заблуждаться на свой счет. В большей или меньшей степени, но каждый воспринимает себя искаженно, приукрашивая действительность. Так что, может быть, моя трансформация в чудовище уже началась, а я просто игнорирую признаки, обольщая себя. Вчера я видел, как жабообразные устроили на улице массовую оргию. Часть из них совокуплялась, катаясь по земле, другая часть совокуплялась в воздухе. Постепенно сцепившиеся друг с другом фигуры сливались в нечто единое, словно были слеплены из пластилина, и теперь им придавали новую форму, делая из нескольких фигур одну, пристраивая к ней новые, все увеличивая размер. Наконец образовалась одна огромная фигура, в которой не осталось не только ничего человеческого, но и жабьего. Ее формы были абсурдны, чудовищны и отвратительны. Хотя, допускаю, и красивы по-своему. Было что-то завораживающее в этом безумном и грандиозном воплощении коллективизма, в этом мульти-существе. Наблюдая за кошмаром, я с мучительным стыдом обнаружил, что сексуально возбудился. Прислушавшись к собственным чувствам, понял, что было… да, все-таки было во мне извращенное желание примкнуть к этой оргии, испепелить себя в ее наслаждениях. Едва проявленное, это стремление подспудно струилось во мне, как подземный источник. Испытывая острейшее омерзение к самому себе, я решил заканчивать наблюдения и как можно быстрее уходить. Следует убить себя, пока не проснулась жажда трансформаций, пока не пожелал отречься от своей человечности, от привычной формы своего персонального бытия. Пока не возжаждал пыли. Лучше умереть, но только бы не присоединиться к генерации этих жутких существ, хозяев нового мира, сбросивших людские личины. Да, у них свое самосознание, свое мироощущение, свои радости и наслаждения, но – будь оно все проклято! – я не хочу погрузиться в это липкое варево и раствориться в нем. Пропади он пропадом, Океан, и все порождения его! Со своего седьмого я поднялся на шестнадцатый этаж, оттуда на крышу. Долго не раздумывал, чтобы не поддаться слабости, чтобы не отступить в последний момент. И шагнул в пропасть. Пока я летел – а летел, как показалось, гораздо медленнее, чем следовало, – каждое мгновение разверзалось в маленькую вечность, не желая выпускать мое рвущееся к гибели тело. Чудовищные твари подплывали ко мне по воздуху, впивались в меня зубами, выгрызали из меня куски, рвали на части мою плоть. Кровь клубилась, расплывалась по воздуху фантастическими фигурами, причудливо переплеталась с клубами вездесущей пыли. Та словно бы играла с моей кровью, как восторженный художник – с акварельной краской, бросая ее на ватман, смоченный водой, и любуясь спонтанными потеками. Вьющаяся в воздухе пыль скрывала землю, кровь заливала мне глаза, я никак не мог понять, сколько этажей уже пролетел. Пятнадцать? Всего пару? Где земля? Почему я падаю так медленно? Расширяется время? Или ускорилось мое мышление? Последнее, о чем я успел подумать, пока завершался полет: «Безобразие телесных форм у тех, кто подвергся изменениям, шло из глубин психики, предварялось безобразием сознания и душевных чувств. Прежде чем подвергнуться телесной трансформации, надо пройти через трансформацию душевную. Изменения психики первичны, изменения тела вторичны. Первое – причина, второе – следствие. Но что будет после смерти, когда моя душа лишится тела? Что, если во мне уже начались тайные душевные метаморфозы? Что, если смерть только подстегнет их? Я убиваю себя, чтобы предотвратить чудовищное искажение своей плоти, но способна ли смерть предотвратить искажения души, если те уже начались? Когда меня выбросит из тела в момент гибели, когда обнажится душа, то не превратится ли мое внутреннее я в нечто кошмарное, античеловеческое, запредельно чудовищное?..» С этой мыслью мой череп раскололся, врезавшись в асфальт двора.
Дверь в восточной стене

Любил Сема, от нечего делать, читать объявления на щитах и столбах. Бессмысленная привычка, но все ж таки развлечение. А сейчас-то ему как раз и требовалось хоть чем-то отвлечь себя от мрачных мыслей. Объявление, на котором задержался – словно примерзнув – его взгляд, сообщало:
«Организация осуществляет благотворительную акцию, в ходе которой поможет вам в трудный час и озаботится хлопотами, связанными со смертью ваших близких. Если у вас кто-то умер и вы в смятении, особенно если вы ограничены в средствах, тогда приходите к нам, и мы протянем вам руку, поможем совершенно бесплатно, возьмем на себя все расходы и проводим почивших в последний путь».
Перечитав объявление несколько раз, Сема вдруг расхохотался. Но это было от нервов, от слишком натянутых, до надрыва, нервов. Болезненный хохот его оборвался так же внезапно, как начался. Навернулись слезы. Сема вытер их рукой, пальцы слегка дрожали. Дома лежала умершая под утро мать, и Сема не знал, что с этим делать. Часов шесть, кажется, прошло с момента смерти, а он все не решил – что же делать ему, да и надо ли что-нибудь делать вообще? Не послать ли все к черту? Бытие ведь катится куда-то вниз по склону – так пусть бы и эта проблема катилась вместе с ним… В свой сорок один год Сема Смурнов все еще болтался где-то сбоку от жизни со всеми ее общественными нормами. Он достаточно наглотался этих норм, пока учился в средней школе, но едва закончил ее, так сразу и прекратил игры с обществом и решительно отказался «становиться человеком». В армию не был взят из-за плоскостопия, а на все прочее была уже Семина вольная воля. Не раз мать кричала ему в лицо: «Когда ж ты станешь человеком наконец?!» Был бы отец жив, он, может, и заставил сына привиться к социальному древу, но мать не смогла преодолеть Семино сопротивление. Он не желал ни работать, ни жениться, ни как-либо устраивать свою жизнь. Словно вечный школьник на каникулах, четверть века просидел на шее у матери. Та, от отчаяния, даже пыталась сдать его однажды в психиатрическую больницу. Но психиатры признали Сему вменяемым и умыли руки. Мать то смирялась, то начинала очередную истерику, то злилась, то плакала, то впадала в сумеречное, почти загробное спокойствие. А теперь вот умерла. Проснувшись в предрассветной темноте, Сема был уверен, что пробудил его какой-то странный звук, похожий на чавканье огромных челюстей, донесшийся из маминой комнаты. Мать болела уже недели две, а то и больше, но Сема особо не вникал в ее болезнь – насколько она серьезна, – мать и сама могла с этим разобраться, как и всегда, без его помощи. Но сейчас ему показалось, что в ее комнате происходит нечто интересное. Поэтому Сема осторожно заглянул к ней, в густой сумрак ее жилища, прислушался, но не услышал ничего – даже дыхания. Внезапно ему сделалось страшно, словно он приоткрыл дверь в мир притаившихся чудовищ. Сема торопливо вернулся к себе в комнату и, скорчившись, пролежал под одеялом до рассвета, пока не развеялся мрак. Потом встал, снова заглянул к матери и увидел ее неподвижное лицо с открытыми остекленевшими глазами. Не надо было даже подходить к ней и прикасаться, чтобы понять, что она мертва. Сема и не подошел. И не коснулся. Он вышел из ее комнаты, затворил дверь, позавтракал, попил чаю и отправился бесцельно бродить по городу. Наткнувшись на это странное и заманчивое объявление, он достал свой старенький дешевый мобильник и набрал номер, в объявлении указанный. Через полчаса был уже в офисе организации, на улице Сулеймана Стальского. Впрочем, офис – слишком сильное слово: то была комната в обычном частном доме, где Сему приняли вполне по-домашнему, с чаем, печеньем и конфетами. Пока он угощался, подливая себе из пузатого чайничка, ему объясняли условия. Домой к нему приедут, тело заберут, а с ним и все необходимые документы, с которых снимут копии, оригиналы же вернут, утрясут все вопросы с медицинским освидетельствованием и полицией, а потом, через два-три дня, будут похороны, которые организация полностью возьмет на себя, Сему же привезут на кладбище, чтобы поприсутствовал при погребении, после чего доставят домой. На вопрос – какой же смысл для организации заниматься этим всем? – ответили Семе, что мы, дескать, ставим эксперимент, изучаем влияние благотворительности на бизнес. – Это как же? – заинтересовался Сема. – Представьте, – отвечал невзрачный, канцелярского вида человек, сидевший с ним за столом; сразу же, как встретились, он представился Семе, но тот мгновенно забыл его имя: кажется, Шостак, Дмитрий кто-то там, или Шустер, – представьте себе, вот некие три бизнесмена. Гипотетические. Схожий бизнес, равные условия. Но один из них совсем не занимается благотворительностью, другой занимается, но так, знаете, слегка только, третий же всем сердцем отдается ей. И как вы думаете, на фоне этой градации бизнес у всех троих будет одинаково успешен или кто-то из них окажется более удачлив, а? – Хм, и что же, вы хотите сказать, что благотворительность каким-то волшебным образом способна обеспечить успех в бизнесе? – спросил Сема невзрачного. – Вот в этом-то и вопрос, это мы как раз и выясняем! – расплылся тот в улыбке. – Экспериментальным путем, так сказать. – Забавно, однако, – пробормотал Сема задумчиво, прожевывая печенье. Что за организация, чем вообще она занимается, он выяснять не стал. В конце концов, какая разница! Еще Будда говорил – Сема помнил это из Дхаммапады, которую читал лет семнадцать назад, – что нефиг рассуждать там, где надо действовать. Поэтому Сема подписал договор, в который особо и не вчитывался. И сразу все завертелось: Сему посадили в машину, которая привезла его домой, а отъехала оттуда уже с телом матери. Сдав тело, Сема встал перед зеркалом в ванной и долго рассматривал свое лицо. Любимым занятием было у него наблюдение за собой – за своими состояниями, настроениями, их длительностью и перепадами, а также и за собственным лицом. Сема давно уже пришел к выводу, что в его лице соединились черты двух великих деятелей – поэта Александра Блока и композитора Альфреда Шнитке. Нос у Семы был типично шнитковский, даже с некоторым преувеличением, губы – блоковские, глаза странным образом меняли принадлежность, переходя из «области Шнитке» в «область Блока» и обратно, порой застывали в какой-то странной точке, которая Сему тревожила, почти пугала. В своем лице он замечал иногда болезненную декадентскую красоту, иногда что-то безобразное, изредка – зловещее. Сейчас он с неудовольствием отметил, что безобразное преобладает, и к безобразию, будто легкие оттенки, примешаны растерянность и страх. Это ему весьма не понравилось. Собственное лицо словно хотело предупредить его о чем-то. Сема выругался, чувствуя, как грязное матерное ругательство кислотно вспенилось на губах – вообще же он ругался крайне редко, почти никогда, – постоял перед зеркалом еще с минуту, затем торопливо оделся и вышел на улицу. Он решил вернуться в офис организации, которой отдал тело матери, с твердым намерением вытребовать тело обратно. «Да кто они такие?!» – думал Сема по дороге. Может, некрофилы, которые сейчас насилуют его мертвую мать? Трупу от насилия, конечно, никакого убытка, но все ж таки… это мерзко! Пусть даже какие-нибудь мирные сектанты, которые насилуют не труп, а друг дружку, на труп же просто смотрят и возбуждаются, – и это все равно нехорошо. Даже если мать и заслужила, чтобы так с ней обращались после смерти, все равно нельзя такого допустить. Погруженный в кишение подобных мыслей, Сема дошел до цели – до дома на улице Сулеймана Стальского. В офисе его приняли с тем же радушием, как и давеча. Ничуть не удивились его возвращению, словно ждали, что обязательно придет вновь, и именно с таким требованием. К невзрачному присоединилась совсем молоденькая девушка, маленькая и хрупкая, как перепелочка. Говоря с Семой, она взяла его за руки; а он не любил, когда к нему прикасаются, однако у нее это вышло так искренне и трогательно, с такой заботливой нежностью, что ему даже приятно стало. – Мы вам все-все объясним, хорошо? – говорила она. – Я по глазам вижу, что вы нас поймете, что вас можно… посвятить. – При слове «посвятить» она тревожно глянула на невзрачного; тот едва заметно кивнул, и она продолжила, ободренная: – Вы, наверное, думаете, что мы – какая-то мрачная секта, какие-нибудь пожиратели трупов, типа индийских агхори. (Сема усмехнулся: он вовсе не это про них думал, но и такой вариант, кстати, неплохо было бы рассмотреть.) Но на самом деле все не так. Мы не делаем ничего, что хоть капельку могло бы унизить мертвых. Никаких надругательств, осквернений, ни малейшего неуважения. Скорей, наоборот. Мы пытаемся возвысить мертвых. Не унизить, понимаете? А возвысить. Это совсем не то, что можно навоображать во всяких грязных фантазиях. Да, мы – секта, не буду отрицать, но у нас возвышенные цели. Это ведь только в России и в Европе слово «секта» получило негативные коннотации, да и то с недавних пор. А в древности – в греко-римской и в иудейской культуре – это было почтенное понятие. «Секта» – это звучало гордо и возвышенно. У индуистов и буддистов до сих пор, кстати, так и есть. Поэтому не будем смущаться: да, мы секта, но в лучшем смысле этого слова. И мы действительно используем в наших ритуалах покойников, но используем так, что мертвое тело не испытывает ничего принижающего человеческое достоинство. Вы можете остаться у нас и быть свидетелем, наблюдать за тем, какое участие примет ваша покойная мама в нашем ритуале. Тогда вы сами убедитесь, что совершенно ничего неподобающего с ней не произойдет. Хорошо? Вы останетесь? И если вам хоть что-нибудь не понравится – только одно ваше слово, – и мы сразу прекратим, все прервем и отменим по первому вашему требованию. Договорились, Семен Артемьевич? Она нежно поглаживала его длинные узловатые пальцы, похожие на стебли бамбука, своими маленькими пальчиками с короткими аккуратными ноготками. Эти ноготки Семе понравились – понравились тем, что малы и не накрашены; женщины с длинными яркими ногтями раздражали его, просто терпеть не мог таких когтистых, а у «перепелочки» ногти были в самый раз. – Хорошо, – согласился он. – Я, пожалуй, у вас останусь. – Вот и прекрасно! – воскликнула она. – Сегодня вечером, попозже, начнется ритуал. Вы, как дорогой гость, будете присутствовать и наблюдать. А пока давайте я отведу вас в комнату отдыха. Вы там сможете расслабиться, посидеть, полежать, выпить, закусить, почитать нашу брошюру, ознакомиться с нашим учением и узнать суть сегодняшнего ритуала. Потом, когда придет время, вас позовут, и вы все своими глазами… все увидите.

Как называлась эта секта, Сема так и не узнал. В брошюре, которую он прочел, лежа на диване в комнате отдыха, название секты не упоминалось, да и само слово «секта» там не фигурировало. Говорилось о некоем Глебе Георгиевиче Многогорове и его учениках. Они-то, надо полагать, и составляли секту. Этот Многогоров довольно давно уже занимался йогой, даже жил какое-то время в Индии, был там учеником двух каких-то авторитетных гуру, переводил на русский Упанишады с толкованиями Рамануджи, Шанкары и Гаудапады. А последние годы он занимался разработкой собственного учения и создавал новый вид йоги. Многогоров взглянул на йогу с весьма оригинальной, так сказать, русской точки зрения. Россия, как известно, страна широчайшего раздолья, просторов и возможностей; ведь даже в такой косной религии, как православие, с ее застывшими рамками канонов и догматов, Россия показала захватывающую дух широту, породив множество сект, на которые разложилось старообрядчество, вступившее в бурную реакцию с русской ментальностью. Вот и в этом случае русский ученик индийских гуру, Глеб Многогоров, придумал нечто небывалое – новый способ соединения с Богом. Способ не просто оригинальный, но неожиданно жуткий, даже кошмарный, сквозящий каким-то первозданным ужасом. Когда Сема вычитал в брошюре оригинальную идею Многогорова, от волнения у него лоб покрылся испариной. Все это так возбудило и заинтриговало, что до мучительного зуда захотелось быть если не участником, то хоть свидетелем предстоящего ритуала. Поначалу Сема только решил удостовериться, что сектанты не устроят никакого надругательства над маминым телом. Но теперь привлекала другая цель: хотелось увидеть ту мистерию, которую собирался устроить Многогоров со своими учениками, – мистерию, в которой покойница должна сыграть необычайно странную и страшную роль. Сема не знал, верить ли тому, о чем он прочел в брошюре. Написанное было невероятным. Но в характере Семы язвительный скептицизм уживался с открытостью ко всякого рода мистике, которую Сема умудрялся воспринимать нейтрально – без особого доверия, но в то же время и без отрицания.

Когда время ритуала подошло, в комнату к Семе заглянула «перепелочка» и пригласила следовать за ней. Сема тут же деловито поднялся с дивана и вышел из комнаты, дверь оставив нараспашку. Сердце отчаянно колотилось, когда он шел следом за девушкой по коридору, когда вниз по лестнице спускался куда-то в подвал. Просторное подвальное помещение было залито ярким электрическим светом. Сема тут же отметил, что сектанты вовсе не старались создать с помощью освещения какую-то специальную обстановку. Ни загадочного полумрака, ни приглушенных светильников, ни свечей или там факелов каких-нибудь. Не было и ритуальных одежд на присутствующих; Сема насчитал десять человек, сам он был одиннадцатым. В фильмах, если сектанты собираются на ритуал, так обязательно одеты в балахоны с капюшонами, как у католических монахов – совершенно дурацкий штамп, который Сему всегда раздражал. Но тут вместо мистического пафоса все было пронизано деловой обыденностью. На полу, выложенном плиткой, на маленьком коврике сидел в позе лотоса человек, в котором Сема узнал Многогорова: его фотографию разместили в брошюре. Глаза его были полуоткрыты, но взгляд расфокусирован, направлен куда-то внутрь себя. Из уголка неподвижно приоткрытого рта протянулась тонкая струйка слюны. Вместо набедренной повязки, в какой обычно медитируют йоги, на Многогорове были тривиальные семейные трусы. Эта деталь могла бы показаться смешной или нелепой, когда б не странное ощущение, возникавшее при взгляде на Многогорова: казалось, он, сидевший неподвижно, куда-то проваливается, и всякий, кто смотрит на него, начинает проваливаться вместе с ним, словно бы взгляд дальним концом липнет к фигуре йога и, как на крючке, тащит наблюдателя в пропасть. Сема почувствовал, как кружится голова, но как же трудно было отвести от Многогорова взгляд и вырваться из этой ловушки: Сема сам желал провалиться вслед за этим человеком, падавшим куда-то ниже дна Вселенной. Ощущение было завораживающе жутким. Перед Многогоровым прямо на полу неподвижно лежала на спине женщина, укрытая до горла простыней, и Сема не сразу распознал в ней свою умершую мать. Ее волосы были туго стянуты на затылке в хвост, конец которого выпростался из-под шеи. Мать при жизни никогда не стягивала волосы, поэтому была сейчас на себя не похожа. В общих чертах Сема знал из брошюры, что именно должно произойти, но не знал, как это будет выглядеть, и с нетерпением ждал, когда мистерия начнется. В брошюре рассказывалось, как Многогоров, вчитываясь в священные индийские тексты, обратил внимание на сказанное в Брихадараньяке, одной из древнейших Упанишад, во второй брахмане первой главы раздела Мадху, где повествовалось о начале всего сущего. Там говорилось, что до возникновения всего Бог был смертью и голодом, что образование изначального разума, а потом и всего бытия, все это было воплощением смерти и голода с единственной целью – все пожрать. Голодная ненасытная предвечная смерть воплотилась для того, чтобы наброситься на собственное воплощение и начать пожирать его, принося собственную плоть в жертву себе самой. Все, что Сема прежде слышал про индуизм, создало у него впечатление, что все эти йоги, сливающиеся с Абсолютом в своих медитациях, стремятся к бессмертию. Но то, что раскопал в индуистских писаниях Многогоров, говорило о другом, о совершенно противоположном: слияние с Абсолютом должно быть растворением в чистой концентрированной смерти, всепоглощающей и всепожирающей. Многогоров заявлял, что для слияния с Богом недостаточно традиционной медитации, ведь в ней не устраняется иллюзия бессмертия. С медитацией следует соединить еще один важный элемент, без которого йог не сможет раствориться в Абсолюте по-настоящему. Метод, разработанный Многогоровым, привел в ужас индийских теоретиков и практиков йоги. Они все отшатнулись от этого «безумного русского». В итоге ни одного единомышленника в Индии Многогоров не нашел. То, что он задумал, показалось страшным и недопустимым даже адептам Агхоры, медитирующим на трупах, поедающим мозги мертвецов и выглядящим как заправские сатанисты. Вкратце метод Многогорова был таков. Йог должен совершать медитацию перед человеческим трупом, а когда медитация достигнет своего потолка – когда индивидуальное «я» сольется с высшим божественным «Я», – тогда-то и начнется настоящий прорыв. Медитирующий сконцентрируется на трупе, захватит его своей психической энергией, как сетью, и заставит его ожить. Конечно, не всякий мертвец подойдет для мистерии, а только недавно расставшийся с жизнью. Кратковременное оживление свежих трупов практикуется среди тех же аскетов агхори, которые совершают эти ритуалы на смашанах – местах для сожжения покойников. Поэтому в самом акте оживления мертвеца нет ничего экстраординарного для индуистских традиций. Но Многогоров собирался оживлять труп для такой цели, которая никому и в голову до него не приходила. Он был намерен превратить труп в активное воплощение идеи смерти и голода – с тем чтобы труп набросился на него, медитирующего, слившегося с Абсолютом, и сожрал заживо. Именно через это – отдавшись на съедение мертвецу – и рассчитывал Многогоров достичь цели и по-настоящему слиться с Богом, преодолев последние барьеры. Такова была его «русская поправка» к индийскому методу. Традиционные йоги, считал он, шли слишком легким путем, накапливая в себе энергии нравственной чистоты, духовного покоя и бесстрастия, тогда как изначальные божественные энергии – это смерть и голод. Эти энергии Многогоров собирался делегировать оживленному мертвецу и обратить их на свое физическое тело. Акт жертвоприношения Многогоров намерен был осуществить во время медитации, превратив покойника в свой орган, в свои ожившие персонифицированные челюсти. Опыты с мертвецами он проводил неоднократно, но каждый раз терпел неудачу. То мертвецы оказывались недостаточно свежими и после оживления едва двигались, бессильные и неспособные никому причинить никакого вреда. То, по каким-то неясным причинам, отказывались исполнить предназначение и напасть на Многогорова – возможно, сыграли роль заложенные в них еще при жизни миролюбивые доминанты, которые в данном случае стали помехой. Но Многогоров не отчаивался, он был уверен, что найдет однажды «своего» мертвеца, который станет ключом, открывающим дверь к Богу. Сема внимательно смотрел на Многогорова, погруженного в медитацию, но почему-то пропустил тот момент, когда Многогоров поднялся. Только что он сидел на коврике в позе лотоса – и вдруг он уже навис над трупом, похожий на огромное насекомое, подобравшееся к своей жертве. А может быть, подумал Сема, Многогоров уже начал проявлять какие-то высшие свойства, одним из которых было мгновенное перемещение через пространство? Руки Многогорова двигались, совершая загадочные пассы, тело изгибалось с неестественной пластикой. Он напоминал паука, опутывающего паутиной пойманную муху. Или это было что-то вроде брачного танца, в котором он признавался трупу в любви? И опять Сема пропустил момент. Его мать только что неподвижно лежала на полу – и вот она уже стоит в какой-то странной позе, в которой нормальный человек не смог бы удержать равновесие, сильно накренившись назад и вбок. Простыня, укрывавшая тело, сползла на пол, но в маминой наготе не было ничего стыдного: нагота казалась особым видом ритуального облачения. Движения мертвой были движениями нечеловеческими, словно бы тело захватила какая-то инопланетная тварь, которая не имела представления о том, как движутся люди, как действуют их мышцы и суставы. Два тела, мужское и женское, сплетались в сложных фигурах и конструкциях, словно два паука или богомола, вступившие в общение на сложнейшем языке стереометрической жестикуляции. Наконец мертвая женщина хищным и резким движением впилась зубами в лицо Многогорову. Тот не отшатнулся – напротив, прильнул к ней, как ребенок к родной матери. Сема даже ощутил укол ревности в глубине души: все-таки то была его мать, его, а не чья-то еще! Когда зубы матери рвали кожу и мышцы на лице Многогорова, его приоткрытые глаза совершенно не меняли выражения, оставались все такими же неподвижно-спокойными. Мать обернулась. В ее оскаленных и стиснутых зубах был зажат кусок оторванной у Многогорова губы, сочившийся кровью. Взгляд мертвой женщины был страшен, в нем не было ни спокойствия, ни бесстрастия, ни отрешенности – глаза полыхали темной кровожадной яростью. Этот зверский взгляд пронзил Сему, будто раскаленный металлический штырь, вошел сквозь глаза вглубь сознания, и Сема мгновенно понял все, что мать хотела сообщить ему этим взглядом. Он обратился к стоявшей рядом с ним «перепелочке» и неожиданно властным тоном, каким никогда в жизни не говорил, велел ей: – Быстро неси топор. Если нет топора – какой-нибудь тесак с кухни. Давай! «Перепелочка» вздрогнула, странно посмотрела на него, молча кивнула и торопливо бросилась прочь из подвала. Вскоре она вернулась с кухонным тесаком для рубки мяса и протянула его Семе. В глазах девушки блеснули искры страха и детского восторга. – Умница! – шепнул ей Сема на ухо, принимая тесак. Оттолкнув высокого мужчину, стоявшего на пути, Сема прошел вперед, приблизился к матери и показал ей тесак в свой руке. Мать молча указала глазами на Многогорова, застывшего в неудобной позе и с кровавым месивом на лице. Взгляд матери был понятен, он выражал все необходимое, и Сема знал, что надо сделать. Он повалил Многогорова на пол резким ударом ноги куда-то в область между пахом и солнечным сплетением. Склонился над упавшим и несколькими сильными ударами тесака отрубил ему голову. Поднимая и опуская свое орудие, нанося удары, Сема удивлялся сам себе: откуда в нем эта собранность, эта точность ударов, эта сила? Ведь всю жизнь у него все валилось из рук. Мама однажды в сердцах назвала его «рукожопым тараканом», когда просила помочь ей по дому, что-то к чему-то пригвоздить и прикрутить, а Сема был, как всегда, неловок и рассеян. Но то была просьба живой матери, теперь же ему приказывала – без слов, лишь глазами – мертвая мать. И это был такой приказ, вместе с которым выплескивалась сила для его исполнения. Необычайное спокойствие наполнило Сему, будто вязкая тяжелая жидкость – пустой сосуд. Он поднял с пола отрубленную голову, не обращая внимания на то, как пачкает его рубашку кровь. Странное дело: глаза Многогорова не поменяли выражения. Голова казалась живой и мыслящей. Погруженный в медитацию, Многогоров все так же отрешенно смотрел перед собой и вместе с тем вглубь себя. Пальцами Сема чувствовал, что держит не мертвый предмет, а нечто живое, наполненное токами каких-то энергий. То было удивительное и жутковатое чувство. Он бережно вручил матери голову – будто один жрец передал другому священную чашу причастия. Мать, приняв подношение из его рук, подошла к стене и начала – резко и злобно – бить голову Многогорова теменем о стену. Затем она выдрала из головы несколько кусков проломленного черепа, открывая в темени дыру, и, погрузивши губы в провал, принялась пожирать мозговое вещество. «А ведь точно! – подумал Сема, глядя на это. – Его не надо полностью съедать, хватит одного мозга – и все, цель достигнута». Среди сектантов, наблюдавших за мистерией, были, кроме «перепелочки», еще три женщины, все старше нее, и одна из них вдруг завизжала от ужаса. Сверлящий визг словно сорвался с привязи и метался по помещению, бросаясь на стены и отскакивая от них перепуганным зверьком, не способным вырваться из ловушки. Глаза кричавшей едва не выпадали из орбит, рот – черная рана, которая кровоточила тьмой. Мать хищно и быстро обернулась на крик. Одно мгновение – и она уже рядом с кричавшей: одной рукой держит отрубленную голову, другой – обхватив пятерней затылок испуганной женщины – пихает ее лицом в жуткий пролом на темени Многогорова, острыми осколками черепа царапая лицо до крови. Крик захлебнулся, вспенился хрипом и стих. На окровавленном израненном лице кричавшей застыла маска безумного ужаса. Подчиненная этому ужасу, женщина опустилась на колени, завалилась набок и скорчилась на полу в позе эмбриона. Вскоре, когда мать опустошила голову Многогорова, она швырнула ее безголовому телу, словно подачку, – голова попала между правой рукой и туловищем и там застыла. Затеммать зашаталась и рухнула навзничь. Сема почувствовал внезапное изнеможение, обильная испарина выступила на лбу, пот потек в глаза, руки начали дрожать, он тяжело опустился на пол. В глазах потемнело. Последнее, что он увидел, бессильно прислоняясь к стене, – как заботливо бросается к нему «перепелочка», и пальцы ее расстегивают ворот его рубашки.

Через день были похороны. Присутствуя на них, Сема словно смотрел на все сквозь плотную пелену тумана. Мать хоронили в дорогом красивом гробу. Памятник поставили не временный, а сразу солидный, из гранита, с выгравированным портретом на черном фоне. Секта не скупилась. Покойницу с уважением называли Анастасией Евгеньевной. К Семе тоже обращались с уважением, чувствовалась искренность и даже легкая боязнь, словно он – царственная особа, почтившая своим присутствием простолюдинов. Тело Многогорова не стали предавать земле. Ему было предназначено небольшое темное помещение в том самом подвале, где совершалась мистерия. Низкая, метра полтора в высоту, дверца в стене вела в эту каморку. Туда занесли тело и голову. Сема высказал «перепелочке» свое недоумение: – Да как же оно там без похорон? Разложение ведь начнется, вонь… – За это не беспокойтесь, – ответила та. – Мы знаем, что делаем. Глеб Георгиевич распорядился, чтобы его не хоронили, ну, в смысле, не кремировали. Обычные-то похороны он принципиально не признавал – только кремация. Так вот, распорядился, чтоб не кремировали, потому что его тело продолжит медитировать после смерти. – Это как? – удивился Сема. – Мертвое, без головы – и медитировать? Впервые такое слышу… – Я, честно говоря, тоже впервые, – призналась «перепелочка». – Но такое вот завещание. Больше Сема ни о чем уже не спрашивал. Вечером, в день похорон, «перепелочка» пришла к Семе домой. Он, стесняясь, спросил, как ее все-таки зовут, а то он или не слышал имени вовсе, или услышал и тут же забыл – все из-за этих нервов… Ее звали Никой. Она сразу расставила точки над «i», впившись ему в губы страстным поцелуем. Сема, конечно, понимал, что привлек ее не просто как мужчина, но как участник мистерии. В нем словно скопились какие-то мистические осадки, которые Ника намеревалась выжать из него, будто из губки. Войдя в комнату матери, она застыла, восторженно глядя на кровать. – Это ведь здесь она умерла, да? – спросила, обернувшись к Семе. Он кивнул: здесь. – Ты еще не менял постельное белье после ее смерти? – впервые он услышал от нее «ты». Сема покачал головой: нет, не менял. – И не меняй, хорошо? – Она прильнула к нему. – Я хочу тебя здесь, на этой постели. Чтобы простыня, наволочка… Ты понимаешь? Чтобы ее смерть была на всем. И не вздумай принимать душ, ничего с себя не смывай. Понял? Нигде ничего не смывай. Сема поежился, ему стало неуютно. С женщинами отношения у него не ладились. Он плохо следил за собой, редко мылся, часто ходил в облаке дурного запаха. Сейчас от Семы тоже нехорошо пахло. Но Нику это неожиданно возбуждало. Маленькая, хрупкая, чистая, благоухающая, аккуратная – она зачем-то тянулась к нечистой плоти. Когда же она затащила его в постель – на место маминой смерти – и с жадностью принялась облизывать его давно не мытое тело, Семе стало жутковато. Вдруг подумалось, что у него галлюцинация, в которой любовница представляется молодой красивой женщиной, тогда как на самом деле с ним лежит уродливая, грязная, свихнувшаяся старуха – ведьма, что заморочила ему мозги, оплела паутиной бреда, пленила иллюзиями. Лежа в постели, головой на плече у Семы, Ника рассказывала: – В брошюре, ну, которую ты у нас читал, там кое-что умалчивается. У нас одна теория есть… Слышал, наверное, что Абсолют воплощается для того, чтобы заниматься самопознанием? А в Упанишадах сказано по-другому: он воплощается, чтобы пожирать. В принципе, самопознание и самопожирание – это одно и то же. Или даже самоизнасилование. В Библии, вон, у слова «познать» сексуальный смысл. «И познал Адам жену свою». По-всякому можно понимать цель, с которой Абсолют создал Вселенную; главное в том, что он в чем-то нуждается и чего-то ждет от нашего мира. Так вот, Глеб Георгиевич сказал… – Кто? Что за Глеб Георгиевич? – перебил Сема, не уловивший, о ком речь. – Ну, Многогоров же! Он сказал, что Бог ждет, когда его разбудят. Бог мучился от голода и впал в кому, в сон на много тысяч лет, потому что во сне голод не так мучителен. Наш Бог – это чудовище, и только потому мы можем кое-как существовать, что оно спит. Когда йоги соединяются с Богом, они впадают в его сон. А путь, которым пошел Глеб Георгиевич, должен привести к другому – к пробуждению спящего Бога. Это сложно объяснить. Но, в общем, если кратко, логика такая. Обычная йога направлена на бессмертие, на отказ от страстей, а это полная противоположность самому принципу голода и смерти, поэтому все, кто идет таким путем, соединяются не то чтобы с Богом, а с его сном. Но тот, кто идет к Богу путем голода и смерти, соединяется с самим Богом, и это должно пробудить Бога. Ну, вот представь: если ты спишь, и я прихожу к тебе во сне, как сновидение, и касаюсь тебя, ты же от этого не проснешься, правильно? А если я приду к тебе наяву и коснусь тебя не изнутри сна, а извне, то я тебя разбужу. Вот это и задумал Глеб Георгиевич: подойти к Богу так, чтобы оказаться не внутри его сна, а снаружи, прикоснуться, соединиться – и тем самым Бога разбудить. – И что будет, когда он проснется? – спросил Сема. Холодная загадочная улыбка выгнулась у Ники на губах.

На следующий день они проснулись поздно, после десяти утра. Ника трясла Сему за плечо, возвращая к яви, а когда он разлепил веки, показала на восточную стену. Еще накануне у стены стоял комод, но теперь его не было, он просто исчез, оставив пыльный прямоугольник на полу, а в обнажившейся стене возникла дверь. Приземистая, метра полтора высотой, хлипкая на вид. Это было похоже на сон: исчезновение комода, появление двери – типичный сон, который вдруг притворился явью. – Бред какой-то! – произнес Сема, глядя на эту дверь сонными глазами, не до конца еще веря увиденному. – Похоже на галлюцинацию, да? – восторженно произнесла Ника; как зачарованная, смотрела она на дверь. – Так и должно быть. Когда Бог что-то творит, это как галлюцинация, только она для всех, а не для кого-то одного. Когда Сема окончательно проснулся, ему стало не по себе. Слегка приоткрытая, дверь приглашала во тьму, и эта тьма источала угрозу. Ника включила смартфон, раздался сигнал входящего сообщения. – Ты глянь только! – взволнованно произнесла, показывая Семе видеозапись. – Это мне ночью ссылку прислали. Боря Левицких… Помнишь? С рыжей бородкой такой, высокий. (Сема не помнил и покачал головой.) Ну, ладно. Он, короче, остался на ночь у нас, на Стальского, медитировал в подвале. И услышал какой-то звук из-за двери, ну, где Многогорова оставили, открыл, посветил туда фонариком, а Глеб… – она запнулась, ей не хватило воздуха от волнения, – Георгиевич… он сидит… Сема смотрел, как на видеозаписи безголовая фигура Многогорова сидит в позе лотоса, руки на коленях ладонями вверх. Левой рукой мертвец держит свою разбитую на макушке голову, вцепившись пальцами, как клешнями, в обрубок шеи, держит словно чашу, правая рука пуста. Глаза на изуродованном, искромсанном лице открыты и спокойны. Взгляд живой, не остекленевший. По телу пробегают легкие судороги, заставляя его содрогаться, кожа – там, где нет пятен запекшейся крови, – блестит от пота. Все это записывалось камерой мобильника при включенном фонарике. Затем Ника показала Семе эсэмэску, посланную позже. – Боря тут пишет: все наши говорят, что утром у всех появились двери. Спрашивает, вижу ли я дверь? Ты понимаешь, что это значит? У нас все получилось! Все получилось! Она бросилась покрывать Семино лицо нервозными поцелуями. – Да что получилось-то? – спросил он с легким раздражением. – Все получилось, все! – повторила Ника. – Двери! Глеб Георгиевич обещал, что, если все получится, будет знак – дверь. Вот такая же, как у нас, там… ну, где его тело, ты понял? Это она – та самая дверь, посмотри, точь-в-точь такая же, она должна открыться везде… Бог один, а дверей к нему много. – И что? – тупо произнес Сема. – Да как ты не понимаешь! Что у тебя там, за той стеной? – Она кивнула в сторону восточной стены. – Ничего? – Ничего, – подтвердил он. – Вот! Мы бы видели улицу сквозь эту дверь, если б она была просто дверь, просто дыра в стене, да? Но там же темно. Здесь что-то странное с самим пространством… Ника приблизилась к двери и послала в темноту за ней луч фонарика своего смартфона. Сема внезапно похолодел от страха, видя, как этот луч вонзается в черный кисель тьмы. Нельзя было, почувствовал он, делать этого, ни в коем случае нельзя! Ему стало жутко: вот-вот – и луч выхватит из темноты бледную фигуру мертвеца и отразится в глазах его отрубленной головы. – Выключи! – прошипел он. Смартфон в руке у девушки дрогнул, и луч фонарика, дернувшись, погас. Она повернулась к Семе, смесь ужаса и восхищения переливалась в ее глазах. – Это… это божественная тьма. Она – его свет, мысль, сознание, явь, голод, его сущность. Бог проснулся, он вышел из комы. И теперь он… теперь он… он будет… из тьмы… Ника задыхалась, слова застревали в горле, дрожь бежала по ее телу и усилилась до судорог, в которых деревенели мышцы, неестественно натягивая кожу. Слабо цепляясь руками за Сему, Ника сползла на пол, корчась в охватившем ее припадке. Сема растерянно смотрел на бившееся в конвульсиях тело. А низкая дверь в стене открывалась все шире, и тьма – густая, вязкая, будто сжиженный черный дым, – медленно вползала в комнату из дверного проема. Впереди этой тьмы холодной волной двигался цепенящий страх. Сема, шатаясь от головокружения, отступил к противоположной, западной стене и вжался в нее спиной, рядом с дверью, ведущей в коридор. Можно было бы через дверь выскользнуть из комнаты, но не было сил сделать лишний шаг, ноги отказывали. Да и был ли смысл в бегстве? Сема медленно сполз спиной по стене и опустился на пол, завороженно глядя на то, как тьма приближается к содрогавшейся на полу Нике, как поглощает ее. И когда снаружи осталась одна лишь ее голова с опрокинутым лицом, обращенным к Семе, Ника начала истошно кричать. Ее глаза округлились от ужаса, Сема поймал пронизанный отчаянием, уже ни о чем не умолявший, но совершенно безумный взгляд девушки, – и тьма полностью поглотила ее. Крик под покровом тьмы превратился в звериный визг. И кажется, он удалялся, словно бы, проглоченная черным туманом, Ника проваливалась в какую-то бездну. Словно эта тьма, вопреки рассудку, была гораздо обширней внутри, чем снаружи. Ледяной страх, ползущий впереди черноты, стал невыносим. Семе показалось, что он сейчас потеряет рассудок и превратится в животное от этого страха, который так жадно вонзает невидимые зубы в плоть, в сознание, в самое «я». Краем глаза Сема заметил, что за окном гаснет дневной свет, воздух наполняется мраком. Неужели эта тьма, которая течет сейчас из двери, разливается повсюду? Наконец, когда свет за окном померк, в комнате стало темно. Но Сема ясно различал два вида темноты: одна обыкновенная, привычная – темнота воздуха, в котором угас последний луч света; другая – темнее, чернее, беспросветней – та, что показалась из приоткрытой двери. Сквозь пространство обыденной темноты ползла темнота мистическая, сверхъестественная. Сознание вдруг превратилось в тысячи зеркал, и в каждом из них на мгновение вспыхнула картинка; Сема увидел бесконечное множество комнат и помещений, которые заполняются этой вязкой голодной и мертвенной тьмой. Не только помещения, но и открытые пространства затопляются ею, потому что двери тьмы внутри и снаружи. Тьма повсюду, она везде, она пожирает всех людей, от нее никому не спастись. Похоже, и на самом Солнце открылись двери – и оттуда выливается абсолютная тьма, превращая Солнце в подобие обугленного черепа. Когда тьма наползла на Сему, его разум разбрызгался в исступленном крике непереносимого ужаса, и в этот ужас провалился жалкий уголек самосознания. Обреченный угаснуть, он полетел, кружась, в распахнутую пропасть.
Жизнь после смерти Бога

Его Бог умер. Закричал – страшно, отчаянно. И умер. Задолго до смерти Бог забыл его. Любовь, гнев, ужас, прикосновения к изнанке сердца – ничем таким не выдавало себя Божество. Ни с неба, ни из ментальных недр не звучал голос, проговаривающий заповеди и постановления. Он к этому молчанию привык. Жил автономно. Однако атеистом не был, ведь знал, что его Бог существует где-то в запредельном месте. А теперь что-то случилось там, и предсмертный божественный крик прошел трещиной сквозь все слои бытия, достиг сердца и тончайшего призрачного нерва, которым он ощущал божественное. Он закричал, завыл. Фонтаном черной крови хлынул его голос. Дело было летней ночью. Он видел над собой звездное небо с клочьями облаков и нацеленные в космос пирамидальные тополя. Умолкнув, осмотрелся. Похоже, весть о смерти Бога застала его спящим под каким-то забором на ложе, составленном из сидений от трех разных стульев, скорей всего, найденных на помойке. Память была пуста. Он не мог вспомнить, чем занимался до смерти Бога, как жил, даже собственное имя не всходило на ум. Посреди лета словно бы зябкий ветер поздней осени раскачивал голые ветви его души. Закрыв глаза, он явственно видел эти ветви. На одной из них, источая унылую тревогу, сидела черная птица. В ней крылась – чувствовал он – какая-то угроза, пока неопознанная. Возможно, все станет ясным в миг пробуждения птицы. Он открыл глаза, отвлекаясь от внутренней картины, встал и пошел в надежде, что движение разбудит память, вернет имя и смысл существования. На ходу шепотом бормотал себе под нос: – Вспомню. Все вспомню. Дай только время. Все вернется. Только время. Ночные улицы города вскрывались перед ним, как вены под осколком стекла в руке самоубийцы. Иногда казалось, он идет по Луне, по ее мертвой поверхности. Было тревожно, как будто воздух чем-то подтравлен, как будто в самых густо-смоляных тенях прятался кто-то со злым умыслом, и можно было задеть ненароком тончайшую нить, пробудив неведомый ужас, что всколыхнется, как облако ила на дне водоема, и разольется гигантским чернильным пятном. Попадались редкие прохожие, идущие по своим ночным делам. Отчуждение ночи обволакивало каждого. Один прохожий был окружен роем мух, его запах был настолько смраден, что сразу стало ясно: это мертвец двух-трехнедельной давности. Светлячки азарта фосфоресцировали в его глазах. Не бесцельно брел этот труп, не шатался без толку, в его походке пружинил деловой целенаправленный интерес. Попалась влюбленная парочка, в обнимку гулявшая в откровенном любовном упоении. Когда приблизились, он ужаснулся, разглядев древнюю старуху, одетую легкомысленно, как школьница, и с нею совсем еще мальчишку, лет двенадцати. На ходу этот юнец склонялся к старухе, вампирически клейко и нежно целовал ее в губы, протянутые навстречу его губам в самодовольном изгибе. Попадались и странные существа, издали походившие на людей, но вблизи внушавшие страх аномалиями своих форм. Один, чудилось, курил сигарету, мерцавшую на кончике красным, но оказалось: не сигарета в его губах, а просунувшийся изо рта, толщиной в палец, отросток с глазом, чей красный зрачок светится в темноте. На голове ни глаз, ни носа, ни ушей – лишь рот и едва различимые неровности рельефа, остатки сгинувших органов. Другой – человек как человек, но на лбу, подобно третьему глазу, свиное рыло, тревожно нюхает воздух, шевеля пятачком. Попалась женщина с глазами в обрамлении толстых мясистых век, из которых вместо ресниц торчат острые тонкие зубы, словно ребра на рыбьем скелете. Она моргает, и зубы смыкаются перед глазами, прикрывая их хищным забралом. «Что это? – размышлял на ходу. – Я галлюцинирую? Или что-то случилось с реальностью? Или просто вижу теперь то, чего прежде не замечал, еще одну грань бытия? Непопулярную, но старую, как мир, константу? Может, напрасно все это кажется странным? Может, так и было всегда в нашем Нижнем Пороге?» И, немного пройдя по инерции после этой мысли, остановился и замер. Он только что вспомнил имя города! – Нижний Порог, – прошептал в упоении, пробуя два эти слова на вкус. Он продолжил странствие по закоулкам Нижнего Порога в поисках самого себя. Шел, и реальность выворачивала перед ним карманы, вспарывала подкладку, извлекая на свет – лунный свет – извращенных и страшных существ, то бредущих мимо, то занятых какими-то необъяснимыми делами. Как черви, кишели они в подгнивших тканях ночи. Он шел, и уже заря начала пить темноту из воздуха, будто утренний кофе, обнажая светлое дно всеобщей небесной чашки. Его блуждающий взгляд зацепился за клочок объявления на фонарном столбе. Он долго стоял перед этой бумажкой, чувствуя в ней нечто особенное, но не в силах ничего прочесть. Тараканы букв расползались в стороны, едва он сосредотачивался на них. Такое поведение букв, несомненно, свидетельствовало об огромной важности написанного. Соседние объявления на том же столбе читались легко, одно лишь это противилось прочтению. Наконец, от бессилия справиться с текстом, он заскрежетал зубами и резко ударил лбом в прямоугольник объявления. Пятно крови на бумаге тут же стабилизировало текст. Теперь его можно было прочесть:
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗОМБИОн читал и перечитывал эту фразу. Вновь и вновь. И когда взгляд его, словно луч сканера, совершал один проход по тексту за другим, память в приступе рвоты выплевывала сгустки прошлого. Он вспомнил, как был рабом колдуна Глеба Емельяновича Недостомесова. Тот превратил его в зомби, лишил индивидуальности, имущества, жилья, всех человеческих связей, и отпускал на пастбища помоек под видом обычного бомжа, а при надобности призывал и давал поручения, которые он, Карелин, охотно выполнял как волю Божества, явленную в мистическом озарении. Теперь он вспомнил свою фамилию. Еще не имя, но и это ведь очень хорошо! Колдун был его Богом, его матерью и отцом, небом над головой, внутренним светом, озарявшим тьму его души, воздухом его легких, дуновением мысли в его сознании, током крови в сердце. Потом колдун по неизвестной причине перестал управлять им, и зомби жил потерянным ребенком, храня в сердце преданность далекому отцу, не подававшему вестей. А теперь колдун мертв, и нити, которыми он опутал жертву, истлели. Человеко-муха выбралась из паучьего кокона на свет. Припомнилось чье-то высказывание, овеянное мрачным авторитетом: «Колдуны не умирают, эти твари погибают, почти всегда при скверных и странных обстоятельствах, и не поймешь: убийство это или просто чудовищное стечение случайностей». Того, кто произнес фразу, Карелин не вспомнил; лишь черный провал рта возник в памяти, а из провала, словно бревна, сплавляемые по реке, выплывали тяжеловесные слова. Карелин стоял перед объявлением о реабилитации зомби, впитывая каждую букву и цифру ненасытным взглядом. Наизусть заучив адрес, указанный в объявлении, отправился на поиски нужного дома. Доро́гой несколько раз заговаривал с людьми, уточняя маршрут к улице Академика Моисеева, и замечал на их лицах признаки брезгливого омерзения и страха. «Похоже, неважно выгляжу», – сам в себя усмехнувшись, подумал он. Нашел улицу и указанный в объявлении пятьдесят девятый дом – старый, деревянный, за потемневшим от времени некрашеным забором. Вместе с пятью-шестью частными домишками, входил он в состав небольшого оазиса провинциальной ветхости, окруженного бастионами девятиэтажек. Карелин толкнул калитку рукой; незапертая, она со скрипом отворилась внутрь двора. Вошел.

Так познакомился Карелин с Олегом Граббе, специалистом по реабилитации зомби. В прошлом Олег Карлович и сам был зомби, однако, с помощью неимоверного накала душевных сил, сумел-таки воспротивиться воле своего хозяина-колдуна и убил его столь зверским способом, что всякий, кто видел потом растерзанный труп, полагал, будто колдун умерщвлен стаей свирепых собак, но никак не человеком. Вспоминая прежнего своего хозяина, колдуна Мефодия Свиноморова, Граббе почти всегда непроизвольно облизывался юрким, как мышка, языком. Фотографический портрет Свиноморова он держал на стене, всегда занавешенный черной шторкой, которая, как рассказывал Граббе, частенько колыхалась, словно от дыхания, идущего изнутри. Повествуя о собственном прошлом, отдернул шторку – показать Карелину своего побежденного мучителя, и тот увидел на открывшемся фото мощного и опухшего, словно утопленник, человека с таким магнетически-властным и жутким взглядом, что, казалось, и смерть не в силах приуменьшить опасность этого колдуна для человечества. Когда шторку задернули, некая тяжесть вдруг спала с души. Граббе разъяснил Карелину базовые понятия. Зомби, говорил он, это вовсе не ожившие мертвецы, как думают многие. Нет, это живые люди, побывавшие на самой границе жизни и смерти, введенные в так называемый про-некротический транс – с помощью гипноза либо психотропной химии, либо того и другого вместе. Колдуны хоронят их – для того чтобы выход из транса совершился в гробу, – а после выкапывают и обрабатывают дополнительно под гипнозом, создавая у жертв прочное убеждение, что они были мертвы и воскресли. Это полностью порабощает разум, подчиняя зомби личности колдуна. Если колдун уходит из жизни, связь зомби с его хозяином рвется, хотя в редких случаях может сохраниться – и тогда колдун, так сказать, утаскивает личность зомби за собой в загробный мрак, словно под лед и под воду. Тогда зомби становится настоящим живым мертвецом, только наизнанку: в его живом теле обитает мертвая душа, центр сознания которой находится по ту сторону жизни. Умерший колдун в черном мареве смерти цепляется своей душой за личность зомби, которая, благодаря двойственному модусу существования (и в живом теле, и в потусторонней тьме), становится для колдуна последней паутинкой, связующей его с миром живых. Такой зомби крайне опасен, ибо через него мертвый колдун из самых нижних слоев ада может воздействовать на все живое, протягивая щупальце мрака с изнанки бытия. А те зомби, у которых порвалась связь с колдуном после смерти его, либо звереют и становятся хищными животными в человечьем облике, либо возвращаются к более-менее нормальному существованию, а если не могут вернуться окончательно, застревают на полпути и живут как умственно неполноценные субъекты, одновременно блаженные и окаянные. Методы реабилитации, объяснил Граббе, предназначены лишь для тех зомби, что начинают уверенно возвращаться к нормальной жизни, для прочих они бесполезны. – Простите, а вот такое недоуменье, – вопрошал Карелин, прихлебывая чаек, которым угощал Граббе. – Что происходит с психикой зомби, когда он возвращается к нормальной жизни? В нем же действуют какие-то ненормальные – как это сказать – аффекты, что ли? – Что вы имеете в виду? – уточнял Граббе, в кружку себе направляя из пузатого чайника золотистую, исходящую паром струю. Карелин рассказывал обо всем, что видел минувшей ночью, странном и противоестественном, и спрашивал: был ли то ряд галлюцинаций, а если да, то, стало быть, он, Карелин, сумасшедший? – Я тоже нечто подобное видел, – признался Граббе. – Когда убил Свиноморова и шел потом по городу, вдыхая свободу, такую сладкую после шести-то лет рабства. Видел, да… И это не фантомы помраченного разума, а, скажем так, фантомы отношений личности и бытия. Самая личность моя, как и ваша теперь, была поставлена на время в исключительный статус, так что возникло сильнейшее взаимное притяжение меж ней и болезнями бытия. Под болезнями имею в виду нарушения естественной логики событий, в том числе и законов физики с биологией. Проявления этих болезней притягивались ко мне, и в то же время сам я притягивался к ним. Возможно, не только притягивались, но и возникали близ меня в силу моего личного статуса посреди бытия. Точнее я не смогу вам объяснить, слишком уж неуловимые материи. А галлюцинации – это явления иного, более тривиального порядка. – То есть если бы я не прошел ночью тем маршрутом, то в мое отсутствие там ничего такого не случилось бы? – обобщил Карелин. – А коль прошел, так и случилось, но не как галлюцинации, а как… условные, что ли, явления, мною самим обусловленные, но не в моей фантазии бывшие, так? – Примерно, – согласился Граббе. Они пили чай и беседовали. Время кружило над ними ленивым кольцом сигаретного дыма. Стрелки часов на стене вязли в медово-янтарном покое. Солнце подкрашивало штукатурку облаков малярной щетиной своих золотистых лучей. Лениво тявкали сонные собаки в соседних дворах, декорируя тишину окрестного пространства своей скрипучей морзянкой. Граббе отвел Карелина в уютный флигелек, выдал ему постельное белье и памятку с расписанием мероприятий, процедур и упражнений курса реабилитации. Дальнейший год жизни был подчинен строгости правил и рамок, параграфов и ритмов. Карелин выкапывал двухметровой глубины яму во дворе, сидел в ней часами, погружаясь в медитацию, во время которой старался определить и почувствовать внутри себя разум и, отдельно от него, сердце; затем разделенные разум и сердце соединить, погрузив первый во второе, будто сухарь в стакан с чаем. Окончив медитировать, яму закапывал. На следующий день вновь выкапывал ее для очередной медитации, по завершении которой закапывал опять, чтобы назавтра вырыть заново. Когда медитации достигли цели, когда собственные разум и сердце ощущались Карелиным явственно, и он уже мог опознавать по отдельности различные энергии сердца, – тогда Граббе, велев Карелину сидеть в яме, закапывал его живьем, и тот медитировал под землей. Вскоре Граббе откапывал его, помогал выбраться. В следующий сеанс подземной медитации откапывал чуть позже, с каждым разом увеличивая время и усложняя характер медитации, вводя в нее новые ментальные установки. Карелин должен был медитировать на то, что он – зерно, брошенное в землю и пустившее росток ввысь. Медитировать на то, что он – женщина, рождающая под землей воплощенного Бога, а на поверхности ищут ее слуги дьявола, чтобы убить вместе с ребенком. Медитировать на то, что он – магический камень, который уходит все глубже в землю, избавляя мир от опасности своих сверхъестественных сил, способных уничтожить все и вся. Другой цикл медитаций Карелин проходил в гипсовом саркофаге, который Граббе изготовил специально для него. Внутри саркофаг содержал на своих стенках слепок с тела Карелина, «негатив» его рельефа. Лежа меж створок саркофага, Карелину полагалось представлять собственное тело душой, заключенной в темнице окаменевшей плоти. Каждую часть своего тела он должен был представить в виде отдельной психической силы и способности. Голова – это разум; глаза – двоякая способность разума к мистическому созерцанию, к наблюдению духовного света и духовной тьмы. Рот – способность разума к рассуждению. Зубы – два ряда рассудочных аргументов «за и против». Язык – способность разума чувствовать привкус мыслей, их горечь, терпкость, сладость и прочие признаки, непостижимые для голого рассудка. Ноздри – сила интуиции. Шея – вектор воли, склоняющей разум к различным возможностям выбора. Плечи и грудь – способность быть твердым и последовательным в своих убеждениях и чувствах. Живот – подсознательная способность души переваривать впечатления внешнего мира, усваивая одни и отвергая другие. Детородный орган – та энергия душевного вожделения, что соединяет одну душу с другой, устанавливая меж ними невидимую связь. В тесной гипсовой камере Карелин осваивал собственное тело, наделяя все части его нематериальными смыслами. Потом, выбираясь на свет, с изумлением осматривал и ощупывал себя, будто впервые видел эти руки, ноги и пальцы с удивительными чешуйками ногтей, этот странный, сюрреалистический отросток в паху, эти загадочные ландшафты плоти над ним… Граббе привязывал Карелина к стулу, гипнотизировал, внушая, что он погружается в ад, в раскаленную тьму. Надевал на голову Карелину целлофановый пакет, начинал душить и внушал, что этот пакет – последнее спасение, небесная защитная пленка, которая препятствует ядовитой атмосфере ада проникнуть в сознание и духовно убить. Карелин задыхался с блаженной улыбкой небожителя на лице, зная, что между ним и воздухом ада – надежная всевышняя пленка. Но Граббе гипнотическим шепотом объявлял, что Бог проклял его, что небесное благословение и защита отняты, и стаскивал пакет с головы Карелина. Вдыхая свежий воздух, тот цепенел от ужаса, чувствуя, как адская отрава заполняет легкие, после чего терял сознание. Отдельный цикл медитаций был рассчитан на то, чтобы Карелин влюбился в собственную тень, которую часами разглядывал по ночам при свете то свечи, то электрической лампы, внушая себе, как женственно прекрасна каждая линия этой тени, как вдохновляет и окрыляет эта тень, как ее черты отзываются в сердце сладким щемящим чувством, как желанна ее темнота. Когда Карелин наконец по-настоящему влюбился и уже не мог смотреть на свою тень без сильного волнения, Граббе заставил его под гипнозом изнасиловать тень, потом, обливаясь слезами, просить у нее прощения. Вслед за тем Карелин подмечал, как тень, забеременев, округляется, как зреет плод в ее чреве. В гипнотическом трансе наблюдал он, как тень на стене рожает их сына и дочь, как теней становится трое, как все они с надеждой смотрят на него. Затем начинался цикл медитаций, доводящий Карелина до ненависти к собственной тени, до жажды уничтожения ее и всех ее порождений. Когда ненависть уже кипела, Граббе объяснил Карелину, что, ненавидя собственную тень, он только сильнее привязывает себя к ней, поэтому ненависть, как и равнодушие, не в силах покончить с этой темной двухмерной тварью. Карелину следовало научиться излучать из себя ненависть в виде любви, желая своей тени высшего блага – просветления. Тень, просветляясь, начнет растворяться в лучах света, тогда-то и уничтожится полностью. Желание высшего блага для тени выльется в ее гибель. Так ненависть достигнет цели через благожелательность. У Карелина мутился разум, когда он пытался выразить свою ненависть через любовь. Здесь помогло приобретенное недавно умение отождествлять отдельные силы своей души с отдельными органами тела. Перенося проблему из туманной и мутной психической области в ясное стереометрическое пространство телесных форм, он интуитивно продвигался в верном направлении, словно бы задействуя неосознанные, но привычные соматические рефлексы. Теперь желать гибели для своей тени через желание высшего блага стало для него так же просто, как выполнить ряд хорошо разученных танцевальных движений. Карелин раз за разом упоенно погружался в медитацию и увидел, наконец, что его тень просветляется, становится зыбкой, словно тень пыльного облака, а не человека, постепенно тает, разрежается, бледнеет и полностью стирается со всех поверхностей. Восторженно кружил он в подобии вальса по комнате, обнимая невидимую партнершу – просветленную тень-невидимку, точнее сказать, голую идею тени без нее самой. С исчезновением тени тело и душа Карелина сделались более легкими и утонченными. Впоследствии Граббе разъяснил, что тень на самом деле не исчезла, но разум, поднаторевший в медитациях, просто исключил ее из суммы зрительных образов, передаваемых глазами в мозг. А в этом-то и была цель всех упражнений с тенью – приучить разум свободно оперировать образами внешнего мира. Тень же – всего лишь символ человеческой несвободы, и вред приносит не она сама, но ее отпечаток в уме. Медитации следовали за медитациями, условия их все усложнялись. Гипноз, который Граббе присоединял к медитациям, становился все более изощренным. Карелин не понимал общего смысла всех упражнений, усердно выполняемых по инструкциям, но, когда курс реабилитации завершился, он был счастлив. Он вспомнил свое имя – Андрей, и отчество – Геннадьевич, и всю свою жизнь. Он готов был нырнуть с головой в распахнутый мир, готов отправиться к матери, безвестно его потерявшей восемь лет назад, готов был вернуть себе нишу в общественном муравейнике. Но не спешил это сделать. Ждал, что Граббе предложит ему что-то еще сверх курса реабилитации. Чуял нутром эту возможность. И дождался. В тот раз они вновь пили чай, как и в памятный день знакомства. Граббе молчал, выжидая, и Карелин тоже молчал, волнуясь. – Хочу тебе, Андрюша, предложить опасную роль, – начал Граббе. – Опасную, но исключительную… – Согласен! – выпалил тот. – Да ты ж дослушай! – Я тебе говорю: согласен. И точка. А теперь, Олег Карлыч, можешь говорить все что хочешь. А уж я-то назад не сверну. Граббе рассказал Карелину, что давно мечтает о трудном и опасном предприятии: отыскать и убить своего старшего брата Максима, ставшего еще прежде него свиноморовским зомби и пособлявшего колдуну овладеть душой Олега Карловича. После гибели Свиноморова Максим не освободился от власти колдуна, но стал для него мостом между мирами – земным и адским. Еще прежде зомбирования Максим поджаривался на огне коптящей темной страсти, постыдно и мучительно влюбившись в Свиноморова (вероятно, не без колдовского понуждения), готов был жизнью пожертвовать и сам умолял колдуна превратить его, Максима, в зомби. И теперь Свиноморов мертвой хваткой вцепился в преданное «я» любовника и фаната, и через трубку его души вдыхает воздух нашего мира, через нее же отравляя мир ядовитым духом. Найти Максима можно было через Поганушкина – человека, который знает все обо всех, черпая сведения из никому не ведомых источников. Поговаривали, что Поганушкин пользуется магией собственного изобретения, которая не подпадает ни под одну магическую категорию. Все мистики Нижнего Порога привыкли обращаться к Поганушкину за помощью в поисках кого и чего угодно, зная, что его сведения всегда точны. Когда будет установлено местоположение брата, Граббе планировал отправиться туда и убить его. Но одолеть Максима в одиночку – о таком лучше не мечтать, а вот у двоих уже есть шанс. И этот шанс возрастет, если прибегнуть к одной методе, досконально изученной Олегом Карловичем. Граббе станет коматозным странником – введет себя в искусственную кому специального типа и, лежа телом в постели, незримо будет сопутствовать Карелину в качестве как бы ангела-хранителя, способного и подсказки давать в нужный момент, и ментально атаковать врага, помрачая и парализуя его рассудок. – И это, заметь, предлагаю не для того, чтобы тебя подставить под удар, а самому остаться в безопасности, – пояснил Граббе. – Коматозный странник рискует не вернуться в свое тело, его абстрагированное сознание может попасть в колдовскую ловушку и, при живом еще теле, отправиться прямо в ад. Риск очень велик. Но в таком виде я принесу гораздо больше пользы, и наши совместные силы возрастут процентов на двенадцать сравнительно с тем, как если бы мы оба во плоти отправились за Максимом. Я все просчитал: опасность для меня лично возрастает пропорционально степени нашей совместной эффективности. Они начали приготовления к операции. Граббе отправился к Поганушкину, дорого заплатил ему, и тот указал место, где сейчас обитает Максим: заброшенные каменоломни на восточной окраине города. Перед походом туда друзья решили съездить к старцу-схимнику Ефрему за благословением. Иеросхимонах Ефрем Звездодерских подвизался в Свято-Введенском монастыре, близ станицы Муравьевской, в девяти километрах к северо-западу от Нижнего Порога, и был известен как суровый подвижник, прозорливец и даже пророк. Его благословение означало успех любого предприятия, но старец благословениями не разбрасывался. Поэтому Граббе, отправляясь к нему, не находил себе места от волнения. Карелин же, напротив, жадно раздувал ноздри в предвкушении битвы и считал, что, в принципе, можно и не тратить на старца драгоценное время.
Отстояв очередь перед кельей схимника (словно очередь в поликлинике перед кабинетом какого-нибудь медлительного кардиолога), друзья по приглашению послушника вошли к старцу. Тот сидел, болезненно грузный, на электрическом стуле, который, по иронии запутанных судеб, попал к схимнику через десятые руки, из американского штата Флорида. То был настоящий электрический стул для казней, и казнили на нем более сорока преступников, пока стул не забарахлил так, что казнь на нем превратилась в кошмарную пытку. В конце девяностых годов этот стул заменили на новый, а старый экземпляр был продан с молотка какому-то богатому маньяку, затем перепродан другому и долго еще ходил по рукам, пока не оказался в России, где, сменив пару владельцев, был презентован отцу Ефрему набожной вдовой одного мутного нижнепорожского дельца, случайно поджарившего себя на этом стуле вместе с любовницей. Старец Ефрем, весьма обрадовавшись такому подарку, использовал стул на малой мощности для прогреваний своего болезненного вечно зябнущего тела. Для этого стул был специально усовершенствован и настроен одним изобретательным умельцем из числа духовных чад старца, слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматов шестого разряда. Но гораздо более согревало старца сознание того, что на этом стуле мучительно умирали всяческие негодяи. Нежно поглаживая стул, старец называл его «истинным престолом духовным», с которого так легко возноситься умом к помыслам о смерти и о вечных мучениях в геенне огненной. Такие помышления старец считал фундаментом духовной жизни, без которого лучше не лезть в христианство, дабы не стать посмешищем в глазах Божьих. О преступниках, казненных на этом стуле, старец Ефрем всегда отзывался ласково, словно то были любезные сродники его, и называл их своими предшественниками на престоле. «Грешники они были охренительные, – говаривал старец и прибавлял смиренно: – Так и я ведь тоже грешник. Как же мне поганцев этих осуждать, когда сам свинья! Вот и сочувствую, вот и молюсь за них, за упокой души, чтобы хоть малое облегчение получили в адских муках своих». Старец рассказывал, что когда только начал молиться за упокой «предшественников», то не знал никого из них по имени и молился о них как о безымянном скопище, «ихже имена Бог весть», но потом начали являться ему в видениях выходцы из ада и благодарить за молитвы, а он спрашивал у каждого имя и аккуратно записывал в потрепанный синодик. Теперь Граббе и Карелин молча стояли перед старцем, не решаясь произнести ни слова, а он то ли смотрел на них сквозь полуприкрытые веки, то ли дремал, не замечая никого. Наконец Граббе выдавил из себя: – Э-э… батюшка… Отец Ефрем в этот момент распахнул глаза и впился в посетителей таким жутким испепеляющим взглядом, что Граббе тут же замолк, подавившись слюной. А старец странным образом, тихо и в то же время почти оглушающе, прошипел-процедил сквозь зубы: – Пошли вон отсюда! Не будет вам моего благословения! Граббе побледнел, лицо его перекосило судорогой, Карелин же почувствовал, как весь покрылся вдруг липкой испариной. Он схватил оцепеневшего Олега Карловича за рукав и, пятясь, вытянул вслед за собой из кельи. Мрачные, вернулись они домой и порешили: благословил старец или нет, а дело сделать все-таки надо.

И в день мая двадцать третий, когда расплавленная медная клякса солнца стекала к рваному краю мира и небо зудело, как докрасна расчесанная кожа, вошел Карелин в зев каменоломен. Фонарь был в левой его руке, а в правой заточенная, как бритва, лопатка, на поясе висели два грозных разделочных ножа. Вокруг легким сквознячком кружил невидимый разум Олега Карловича, физически лежавшего в коме, ментально же сопутствующего Карелину. Граббе успел уже слетать вглубь каменоломен и узнал, в каком из закоулков лабиринта окопался его брат, который в тот момент сидел, обхватив руками шестилетнего мальчика, на днях похищенного в городе, и что-то бормотал ему на ухо, сладострастно шевеля пухлыми губами. Олег Карлович нашептал в самый мозг Карелину обо всем, что увидел, и тот, скрежетнув зубами, крепче сжал в руке черенок смертоносной лопатки. Чем дальше углублялся Карелин в каменоломни, руководимый подсказками невидимого спутника, тем сильнее накатывал стылый ужас, пропахший пылью и пронизанный мраком. Казалось, не в каменоломнях проложен путь, а в кишечнике огромного чудовища, что притаилось, слившись с поверхностью земной, и пасть свою разинуло как вход в лабиринт. Вступив под эти давящие своды, Карелин сделал шаг не к битве, а к гибели, битву же проиграл уже тем, что вошел в эту коварную пасть. Воздух в лабиринте был вязок, как жидкая грязь: то черные молекулы страха и ужаса роились в нем. Вдыхая эту смесь, Карелин вновь чувствовал себя мертвым. «Не бойся, – шептал ему голос Олега Карловича, – и не впадай в панику. Это Свиноморов, это его духовный смрад. Старайся игнорировать панический аспект. Чем ближе мы подходим, тем сильней он будет действовать. Но ты не поддавайся». – Тебе легко говорить про аспекты-то, – шепотом процедил Карелин, – а мне не до философии. Я уже в штаны себе нассал немного. «Это рефлекторное, смущаться не надо, – успокаивал Олег Карлович. – Медитируй на положительное – на то, как будешь раскалывать ему череп лопатой. Про мальчика тоже подумай, его ж спасать надо». Карелин, стиснув зубы, продолжал путь сквозь марево нараставшегозловещего бреда, продираясь против течения в потоках липкого кошмара. В одном из коридоров свет фонаря выхватил из темноты бледную фигуру. Молча приближалась она, и Карелин замер: что-то чудовищное почудилось ему в ее очертаниях. – Ты видишь? – шепнул он Олегу Карловичу. «Ничего не вижу. Ты о чем?» – Да вот же, впереди. Вон… «Нет там ничего». Фонарь дрожал в его руке, и свет метался по коридору. Фигура приближалась сквозь пляшущие ломкие тени. Карелин усилием воли подавил дрожь. Пляска теней прекратилась. Теперь он хорошо разглядел ее – женщину с иглами зубов вместо ресниц. Ту самую, которую видел в ночь своего пробуждения, когда очнулся от зомбического сна. Теперь она была обнажена, двигалась неуверенно, держалась рукой за стену. Шею обвила веревка, оборванный конец болтался меж неразвитых грудей; то ли она вешалась на той веревке, то ли ее держали, как собаку, на привязи. Приблизившись к Карелину, остановилась и принюхалась. Закрытые глаза спрятаны за сомкнутыми зубами. Похоже, зубы, растущие из век, стали длиннее, и веки уже не могли открыться. Глаза превратились в два онемевших зева, надежно спрятанных за стиснутыми челюстями. Но что она делает здесь? Женщина подошла ближе, вытянула шею, чуть не коснувшись Карелина лицом, нюхала воздух в паре сантиметров от него. Он стоял, стараясь не шелохнуться. Она вдруг улыбнулась – одновременно мечтательно и блудливо. Быстро проведя пальцами по груди Карелина, будто по клавишам пианино, отстранилась и двинулась дальше. Там, где свершилось прикосновение, кольнуло льдом. Карелин обернулся и увидел у женщины дыру в спине, от лопаток до поясницы, будто кто-то огромный выгрыз часть с мышцами и куском хребта. «Это галлюцинация», – подумал Карелин, светя фонариком в страшную спину женщины. – Ты так и не видишь ее? – спросил у Олега Карловича. «Ее? Здесь никого нет». – Я галлюцинирую. Черт! Не хватало еще свихнуться посреди операции. «Крепись, Андрюша, – подбодрил Граббе, – тут осталось совсем ничего». Когда подошел к повороту, за которым должна была открыться небольшая, с несколькими выходами зала, где находились Максим и похищенный мальчик, и Граббе шепнул: «Здесь!», Карелин поднял лопатку, как топор; решимость вскипела до предельного градуса. Но картина, выхваченная лучом фонаря из тьмы по вступлении в залу, внезапно поразила и ужаснула своей почти беспредельной дикостью. Оцепенев, Карелин смотрел на то, как мальчик, лежа на полу с распоротым животом, с потрохами наружу, вытягивает ручками собственные кишки, словно то вереница аппетитных сарделек, и, поблескивая глазенками, с чавканьем их грызет. Карелину стало дурно, в голове помутилось, он зашатался и не сразу расслышал отчаянный крик Олега Карловича: «Не туда смотри! Это фантом! Они тебя с флангов обходят!» А когда задним числом понял, что кричал ему Граббе, было уже поздно. Страшная картина пред глазами начала дробиться на сегменты, вроде компьютерных пикселей, когда откуда-то справа бесшумно вынырнул мальчик, живой и невредимый, и впился зубами Карелину в ногу. Зрачки мальчика были расширены; он удивительно быстро приспособился жить в темноте; похоже, психика ребенка подверглась настолько глубокой обработке, что в нем и вовсе не осталось никакого внутреннего образа человеческого. Пока Карелин отбивался от маленького звереныша, стараясь не убить и не покалечить его лопаткой, а только оглушить, с левого боку, как медведь, навалился плотный сгусток тьмы – Максим. Ничем уже не мог помочь Карелину развоплощенный Олег Карлович, ибо втянул его Свиноморов в магнетическую воронку своей власти, и разум Граббе, обессиленный, летел в черное никуда – в тот бесконечный тупик, что, углубляясь в самое себя, стремится к нулю непрестанным дроблением, которому не будет вовеки конца.

Как часто бывает в истории человеческой глупости, да и мудрости тоже, построения прекрасных планов рассыпаются, едва начав осуществляться, и погребают под собой мечтателей, а пыль, поднятая падением светлых надежд, покрывает саму память о пропавших героях. Лишь старец Ефрем, молясь ночью, вспомнил внезапно о двух недавних посетителях, которых выгнал, заметив нездоровый огонек в их глазах, и показалось ему, что самые образы их в памяти его почернели, будто от копоти, а к его сердцу прикоснулся холодный коготь неведомой твари. Старец прошептал: – Помяни, Господи, рабов Твоих сих, ихже Ты веси, спаси их от власти тьмы и от погибели. Но исполнил ли Бог молитву его, этого старец уже не узнал.

Пару дней спустя, в тихий час ночи, во двор дома Олега Карловича вошли две темные фигуры, вкатив пред собою инвалидную коляску. Одна из фигур достала откуда-то ключ и открыла замок на входной двери. Бесшумно фигуры проскользнули внутрь. Там подошли они к неподвижному телу Олега Карловича, лежавшему на кровати, подняли его аккуратно, вынесли во двор, усадили в коляску и, толкая ее, вышли на улицу. Фигуры те были Максим Граббе и Андрей Карелин. Они исполняли поручение Свиноморова – доставить тело Олега Граббе в катакомбы. Туда, где была приоткрыта щель, сквозь которую разум Свиноморова протягивал свои щупальца в человеческий мир. Чтобы эту щель приоткрыть, Максиму Граббе пришлось постараться, совершая в катакомбах ритуалы, одно лишь описание которых омерзительно, а уж непосредственное участие в них далеко не всякому дано выдержать без вреда для рассудка. Перед чудовищными мерзостями, на которые способен человек, не может устоять даже структура мироздания, и там, где совершаются самые страшные мерзости, возникают в структуре трещины и щели, сквозь которые загробная отрава просачивается в мир живых. Покинутое душой тело Олега Граббе необходимо было Свиноморову для вселения после бегства из ада, поэтому он с нетерпением ждал, когда старший Граббе и Карелин, уже опутанный колдовской сетью, доставят в катакомбы погруженное в кому тело младшего Граббе. Не могла душа колдуна вселиться в тело живого человека, занятое собственной душой. Невозможно обитать двум душам в одном теле, как невозможно двум человекам обуться одновременно в один и тот же башмак, и для одной-то ноги тесный. Также в мертвое тело, покинутое душой, нельзя вселиться чужой душе: плоть мертвеца отторгает любую чужую душу. Зато в тело коматозного странника, которым стал Олег Граббе, в живое тело, на время оставленное душой, экстатически витающей вовне, – в такое-то тело как раз и могла вселиться душа погибшего колдуна. Оставалось только совершить ритуал замещения, чтобы захваченную в плен душу Олега Граббе отправить в ад на место души Свиноморова, а ему самому выбраться из глубин смерти, проползти сквозь потайную щель и овладеть телом жертвы. Все эти тонкости Свиноморов объяснял впоследствии Карелину, ставшему преданным его учеником и помощником. Рассказывал и о том, как души некоторых мистиков, практиковавших выход из тела в состоянии самадхи, попадали в расставленные для них ловушки, а бесхозными телами овладевали души колдунов. – Были такие колдуны, да и сейчас есть, – делился с Карелиным Свиноморов, – которые тремя-четырьмя телами владели. В одном из тел душа у них обитала, а прочие тела лежали в коме до поры. Если надо, то переходила душа в любое тело из приготовленных, а прежнее тело в кому впадало. Из-за этого казалось, что колдун мгновенно перемещается на огромные расстояния и только что здесь был, а вот уж, глянь, – на другой стороне мира. На самом деле это душа перемещалась меж телами. Тела же, хоть и от разных людей взятые, постепенно становились все на одно лицо – лицо колдуна. Так влияла на них душа, под себя преображала. И прибавил, помолчав: – Думаешь, откуда Олежка наш узнал, как ему коматозным странником заделаться? От меня же и узнал. Он ведь, гаденыш, не просто меня убил, он мозг мой сожрал. Заклинания читал над мозгом, прежде чем зубами впиться. Чтоб знания мои заполучить. И заполучил, как видишь. Я одно время держал для себя второе тело про запас. Но, скажу тебе, хлопотно это – лишнее тело держать, очень хлопотно. Хотя без этого, – оскалился Свиноморов в улыбке, – плохо можно кончить. Ну вот как у меня вышло. Привезли на коляске тело младшего Граббе в самое сердце катакомбной тьмы. Максим совершил в полной темноте ритуал. Подробностей Карелин не видел. И поднялось тело с коляски, схватило Карелина за рукав, и раздался голос, принадлежавший как бы Олегу Граббе, но в то же время чужой: – Крови мне, крови мне! Быстро! Во тьме, как понял Карелин, Максим поднес восставшему емкость с кровью; раздались звуки жадного питья. Затем голос проговорил: – Кровь у мальчонки дурная. Ну да ладно. Пошли отсюда.

Они поселились в доме Граббе, на улице Академика Моисеева, пятьдесят девять. Свиноморов быстро освоился с новым телом, и на лице Олега Карловича уж начали проступать черты, знакомые Карелину по фотографии за черной шторкой. Максим смотрел на Граббе-Свиноморова влюбленными глазами, а тот подшучивал над ним, говорил: – Люблю я тебя, Максимка, друг сердешный, аж не могу! И женился бы на тебе, да нельзя: мы ж теперь родные братья с тобой, оба Граббе, а брату на брате жениться – то ж форменный инцест. Максим глупел во время таких шуточек, не понимая: действительно любит его колдун или издевается только? – А знаете ли вы, хлопцы, кто такой академик Моисеев, по которому наша улица названа? – спрашивал колдун Карелина и Максима. Те не знали, и он пояснял им: – Моисеев, он же теорию ядерной зимы вывел. Рассчитал, что после ядерной войны зависнет пепел в небе таким слоем, что солнца будет не видать, и все тут похолодеет. И, чую я, ой, чую: обязательно придет она, если и не та, что Моисееву мерещилась, то мистическая ядерная зима – вот та уж точно придет. Со своего старого портрета на стене Граббе-Свиноморов снял черную шторку, велел Карелину смастерить и прибить под портретом маленькую полочку для лампадки. За лампадкой и лампадным маслом послал его в ближайшую церковь, потом наставлял: – Лампада чтоб всегда горела, день и ночь. Будешь следить. Фитилек подтягивай периодически вверх, только не сильно, чтоб пламя было небольшое. Как закончится фитилек – новый из марли сделаешь. Ну, и масло подливай временами. Это одна твоя обязанность. Вторая – вот здесь на коленях сиди, – колдун указал ему место на полу, напротив портрета, – и молись на портрет. И, смотри, не халтурь! Молись искренне, от всей души. Много слов не надо, просто повторяй: «Господи, Боже мой!» – и все. Для тебя достаточно. Теперь твой Бог – я, но просить меня ни о чем не следует. Просто молись, как я сказал, и земные поклоны бей. Если слеза во время молитвы навернется – поплачь. Захочешь портрет поцеловать – встань и поцелуй. Это можно. Главное, чтоб в голове не было посторонних мыслей никаких, кроме одной – что я твой Господь и Бог. В эту мысль зарывайся умом, как в землю, да поглубже. Зомбировать я тебя не буду. Олежку вон зомбировал, и что вышло? Ничего хорошего. Поэтому ты только молись, и все. Спать будешь часов пять-шесть, остальное время – молись. Пожрать Максимка тебе принесет, когда надо. И вот что. Если вдруг увидишь: изошло дуновение от портрета, и лампада погасла, то прекращай молитву, сиди и жди без единой мысли, пока не услышишь мой голос у себя голове. Понял? Карелин молча кивнул. Он усердно молился перед портретом колдуна и, засыпая на половике, словно пес, иногда тихо сквозь сон шептал заветное: «Господи, Боже мой!» В одну из ночей, когда спать так и не лег, увлеченный молитвой, увидел, как дрогнул язычок пламени в лампадке от дуновения, идущего со стороны портрета. Карелин замер, оборвав молитву, и внимательно смотрел на огонек. Тот дрогнул еще раз и погас. Темнота, в которой лампадка выжгла светлую лакуну, схлопнулась. Карелин застыл на коленях, не мысля и не дыша. В голове, словно в пустом металлическом баке, раздался негромкий, глубокий, отчетливый голос: «Душа твоя – дерево. Черные ветви. Тонкий ствол. Видишь?» – Да, – ответил Карелин Свиноморову. «А птицу – птицу видишь? Сидит на ветке, спит. Черная птица – видишь ее?» – Вижу. «Сейчас проснется и полетит». И когда расправились крылья птицы, и она сорвалась с ветки, Карелин понял, что сам он летит в какую-то глубочайшую бездну, откуда не возвращаются.

Карелин знал теперь, что любит колдуна всем своим сердцем. И понял заодно, каким же Олег Карлович был мерзавцем, раз осмелился поднять руку на Мефодия Пантелеевича – на человека, которого просто невозможно не полюбить. Карелину было неприятно, что в дорогом для него лице Свиноморова все еще проглядывают мерзкие черты Олега Граббе, но приходилось терпеть, тем более что черты убийцы постепенно стирались, таяли, как снег под солнцем. Душа колдуна все больше осваивалась в новом теле, меняя под себя его формы. Однажды Свиноморов сказал Карелину: – Ты из Недостомесовских… Глебушка Недостомесов скользкий был тип. Хочешь узнать, как он погиб? Карелин отрицательно покачал головой. – И правильно, – одобрил Свиноморов. – Кроме меня, думать тебе ни о ком не надобно. Карелин молчал. Он вообще стал молчалив. Сердце, переполненное любовью, не нуждалось в словах.
На краю, лицом к закату

Недостомесов жил на западной окраине города, в добротном каменном доме начала двадцатого века. Посетителей принимал исключительно по ночам, днем впадал в спячку. Представлялся он личностью крайне мрачной, поэтому Коля Брешний из всех городских колдунов, о которых сумел наскрести сведения, именно его выбрал для своей миссии. Созвонившись с Недостомесовым (звонить следовало с 23:00 до 4:00, как было указано в объявлении о магических услугах) и записавшись на прием, Коля в полтретьего ночи подъехал на такси к развалинам бывшего летнего кинотеатра «Закат», откуда к жилищу колдуна вела тропа среди валунов и сорных трав. Отыскав тропу и светя под ноги фонариком мобильника, Коля минут за пять пришел к дому колдуна. Тот принял гостя в тесной комнате, обставленной книжными шкафами. Усевшись в потертое кресло, Коля приступил к сути: – Надо, короче, спасти человечка одного… – «Спасти»! – колдун усмехнулся. – Дослушайте сначала, – раздраженно процедил Коля. – Я-то знаю, куда пришел, а вы – дослушайте. Комментарии потом будете делать. (Коля нервничал, и с нервозностью возрастала у него злость, которую он, впрочем, еще сдерживал.) В общем, есть один писатель. Ужасы пишет, мистику всякую. Известный. Так вот, он, сука, добреть начал на старости лет. И ужасы писать разучился. Надо его, ну… спасти. Вот вы там иголки в кукол втыкаете, чтобы, значит, воздействовать на расстоянии… Так воздействуйте на него! Не знаю, ужас там какой-нибудь нашлите, чтобы накрыло по-черному. Достанет же у вас действие до Америки, да? Или… (Колдун молча кивнул.) Пусть ему там потустороннее что-нибудь явится, жутью в душу дохнет. Короче, надо, чтоб чувак опомнился, перестал сопли размазывать и начал настоящие ужасы писать. А я вам заплачу. Коля достал из сумки книгу и протянул Недостомесову, развернув задней стороной обложки – где фото автора. – Какой писатель был, а! Казалось, вот-вот и покажет всем… А во что превратился! Да оно и понятно: живет, сука, в достатке, горя не знает. При такой жизни, конечно… – Тебе-то все это зачем? – поинтересовался Недостомесов. – Ну как! Я ж, блин, не могу в стороне… Любимый же писатель. Пропадает. Я же должен как-то… Так просто стоять – то ж не по-людски. – Ты, я смотрю, мужик отзывчивый, – заметил колдун. – Как сказать. – Коля задумался. – Не знаю. Когда у тебя на глазах человек тонет, тут хоть и не отзывчивый, а поневоле вытаскивать полезешь. Колдун заверил, что все будет сделано в лучшем виде. Назвал сумму – немаленькую. Коля к этому готов был и сразу расплатился. Спросил, спохватившись, о гарантиях. – Как начнет действовать, – пообещал колдун, – ты во сне все увидишь. Весь ужас, которым его накроет. Я тебе этот сон обеспечу. – А если что не так пойдет? Если эффекта не будет? – волновался Коля. – Ну, тогда, – Недостомесов разрезал улыбкой густую растительность на своем лице, – приходи ко мне с топором и руби меня в капусту.

Коле снился сон. Писатель – Коля сразу его узнал – бродил по своему особняку, смурной и встревоженный. Старик, а между тем неплохо сохранился, несмотря на годы пьянства и наркомании. Молодец, что вовремя завязал, а то б не дожил до таких лет. По лицу писателя ползали неброские, на первый взгляд, приметы растущего страха. Похоже, магия Недостомесова начинала действовать, подтачивала психику, и писатель мыкался, бедный, не понимая причин своей тоски. «Давай-давай!» – злорадно и азартно шептал Коля во сне. Писатель замер на месте, тревожно прислушиваясь. Нервно зыркнул по сторонам. Принюхался, совсем уж по-звериному, коротко и быстро втягивая носом воздух. В этот миг что-то птичье изобразилось в лице. «Стервятник. Точно! Один в один, – подумал Коля. – Вынюхивает падаль». Писатель произнес какую-то короткую фразу, но Коля ее не разобрал; не настолько хорошо знал английский, чтобы легко понимать разговорную речь. Наверное, прозвучало настороженное «Кто здесь?». Старик немного потоптался на месте, а потом резко двинулся куда-то в сторону и пропал из виду. «Вот блин! – подумал Коля. – Магия магией, а тоже ведь, сука, с техническими косяками». Изображение перед Колиными глазами поехало в сторону, затряслось, а когда наконец стабилизировалось, то стал виден писатель, опасливо идущий по дому с большим кухонным ножом в руке. «Ага, – понял Коля, – на кухню, значит, за ножом сходил». Старик прислушался, и тут до Колиного слуха донесся странный звук, похожий на тихое собачье поскуливание, почти посвистывание, будто кто-то потихоньку подул в глиняную свистульку. Писатель напряженно вслушивался, и Коля явственно ощутил, как сильно бьется стариковское сердце, как холодеют пальцы, сжимая отчаянно металлическую рукоять ножа. Скрипнула какая-то мебель. И тут же словно бы царапнуло по полу что-то костяное. Старик закусил зубами нижнюю губу. Тут-то Коля и увидел ее. Женщина – голая, синюшно бледная, в паучьих конвульсиях, нечеловечески изламываясь в каждом потусторонне-хищном движении, ползла по полу, приближаясь к старику. Тот застыл от ужаса, безвольно опустив руку с ножом. Пробормотал что-то вроде: «Наоми, девочка моя!» И кошмарное это существо, судорожно распрямляясь, хищно прыгнуло. Время сгущалось, мучительно вязло, секунды ползли, как сонные пиявки, насосавшиеся крови. Тварь медленно летела в прыжке, разверзая рот – настоящую пасть, неожиданно широкую, обсаженную по краям неровными зубами. В какой-то миг оцепенение времени прошло, и секунды, захлебываясь и наползая друг на друга, заторопились наверстать упущенное, и тогда стало трудно следить за событиями. Движения рук и ног сделались неуловимы, все слилось в смазанную абстракцию. Но продолжалось это недолго. Старик, рухнувший на пол под тяжестью навалившейся твари, наконец с трудом поднялся. Правая рука его заметно дрожала, и в ней дрожал окровавленный нож. Женщина с распоротым брюхом, которое, будто второй рот, плевало кровью и выблевывало из себя потроха, корчилась на полу. Она умирала не как человек – как огромное насекомое, какая-то гадостная саранча.

Проснувшись, Коля решил, что задумка Недостомесова была неплоха: свести с ума дочь писателя, заставить ее напасть на отца и нарваться на нож в его руке. Но, к разочарованию Колиному, никаких известий о том, что писатель убил свою дочь, так и не появилось нигде. Коля позвонил Недостомесову и сказал, что сон видел, однако реальность этих событий под сомнением. – А что ты хотел? – отвечал тот. – Чтобы он дочь зарезал и в полицию на себя заявил? Сам бы, что ли, так сделал, да? Он от трупа избавился и все скрыл. Мозги-то у него еще есть. Поразмыслив, Коля решил, что так оно, наверное, и лучше. Объявить себя убийцей – значит сесть в тюрьму, а то и на электрический стул. Если же все скрыть, то после этого можно писать книги, подтачиваясь притом жуткими червивыми мыслями, от которых и сами книги станут жутче. Теперь надо ждать, когда появятся новые книги старика. Терпеливо ждать. Собственно, в этих книгах все и дело, в них и должен проявиться эффект от Колиной затеи.

Время шло и несло с собой лишь разочарование. Старик писал, как всегда, неутомимо, на русский язык его переводили быстро. Но все новые книги, жадно прочитанные Колей, отозвались в нем возмущением и глухой злобой. Старик не исписался, нет, он просто сползал в сентиментальщину и морализаторство. Лишь формально и по инерции казался прежним собой, как актер, что никак не стряхнет приросшую к нему личину. Коля пытался поговорить об этом с Недостомесовым, но тот и слушать не хотел, а лишь твердил упорно, что все сделал в лучшем виде, что заказ выполнен, что писатель, как и договаривались, попал под темное колдовское воздействие и был опален настоящим ужасом. После телефонных споров с Недостомесовым открывалась в Колином нутре зудящая червоточина: «Черт его знает, – сомневался, – может, я как-то предвзято ко всему отношусь? Искаженно все воспринимаю?» Но тут же сомнение разворачивалось в противоположную сторону: «Или это он специально на мой разум влияет, чтобы я верить себе перестал, чтобы отстал от него? Шепчет, сука, в мой адрес что-то, шепчет…»

Коля завел знакомства с другими колдунами города, адреса которых сумел найти в интернете и местных газетах, где печатали объявления об услугах. Поговорил с ними о Недостомесове и выяснил, что тот среди коллег авторитетом не пользуется, что раньше, лет десять назад, его уважали, но потом Недостомесов позиции сдал. – Выгорел, – так сказал о нем колдун Лазарь Изметинович, от которого на Колю повеяло настоящей жутью. После разговора с Изметиновичем он даже утратил недели на три всю свою мужскую потенцию, которая обычно не подводила, а тут вдруг увяла, будто при радиоактивном облучении. Рассказывая Коле о Недостомесове, Изметинович тихо пробормотал себе под нос: – Такого прихлопнуть бы, чтоб звание не позорил. Коля услышал это и промолчал, про себя же подумал, что у Недостомесова сильно, видать, подмочена репутация, раз коллега такое о нем говорит. Раньше Недостомесов, как объяснил Изметинович, действительно жил во тьме: бодрствовал по ночам, а днем спал, и была у него перед глазами вечная ночь. Всегда видеть одну только ночь – наяву и во снах – это залог подчинения себе тех особо темных энергий, что недоступны никому из бодрствующих под солнцем. Однако Недостомесов начал собственным правилам изменять, и кое-кто не раз замечал его разгуливающим по городу при свете дня – в темных очках с огромными стеклами во все лицо и в надвинутой на лоб кепке с козырьком. Недостомесов думал остаться неузнанным. Но есть глаза, от которых так просто не укроешься. В последние годы Недостомесов только прикидывался мрачным колдуном перед доверчивыми клиентами. Что-что, а пускать пыль в глаза умел. Колдовских способностей у него почти не осталось, зато предпринимательская жилка пульсировала вовсю. Услышав все это, Коля помрачнел и окончательно убедился, что Недостомесов просто развел его как лоха, что деньги пропали зазря, а этот чертов лицемер будет выкручиваться до последнего, вешая на уши лапшу о том, как он все сделал в лучшем виде. Чем дальше, тем сильнее проникался Коля убеждением, что все свои магические способности, если только была тут хоть капля магии, а не один элементарный гипноз, Недостомесов направил не на писателя, а на одного лишь Колю. Сфабриковал для него инсценировку и внушил эту сказочку в виде сна. Ледяной яростью наполнялось Колино нутро при мысли о таком обмане.

Наконец, раскалившись в сомнениях и умозаключениях, повесил он через плечо сумку с топором и отправился ночью к Недостомесову. На этот раз дом колдуна был погружен во тьму. Дверь заперта, но Коля увидел приоткрытое окно и влез через него внутрь. Колдун мирно посапывал на разобранном диване. Голова покоилась на большой мягкой подушке, и подушка эта привела Колю в бешенство. «Вот же сука, – думал с ненавистью, – на мягкой подушке нежится! И если спит ночью, значит, днем точно бодрствует!» Недолго думая, Коля рубанул топором спящего – по правому плечу. Потом, когда тот, проснувшись в ужасе, свалился с дивана и скорчился на полу, Коля отрубил ему правую руку и, включив свет (уже не такой тусклый, как в той комнате, где колдун принимал Колю, а яркий, чуть ли не стоваттный), склонился над жертвой и прошипел: – Или ты, сука, сделаешь все, что должен, за что я деньги заплатил, или я тебя в капусту порублю! Помнишь, тварь, сам же и говорил: что не так, приходи, мол, и руби меня. Говорил? Говорил! Вот я и пришел, как договаривались. Все по чесноку! Недостомесов плакал, умолял пощадить, обещал вернуть деньги, выплатить неустойку, а Коля нависал над ним с топором, чувствуя прилив лихой темной силы, бурлившей в крови. Захваченный этой силой, его дух отрывался от липкой материальности мира сего. Вернуть деньги? Выплатить неустойку? Ему стало смешно. И, заклекотав от гортанного нечеловеческого смеха, Коля рубанул колдуна топором – на этот раз в левое плечо. Когда несколькими ударами отрубил, наконец, и левую руку, то увидел, как на побелевшем лице колдуна проступило что-то страшное и глубинное, словно откуда-то из могильной тьмы показалось древнее чудовище, очнувшееся от векового транса. Мгновенно мелькнуло у Коли в уме: «Ого! Вот такой-то Недостомесов и нужен был с самого начала. Уж этакий колдун сумел бы любого погрузить в запредельный ужас. Видать, проснулись в нем от страшной боли прежние способности, в житейский тлен зарытые. И теперь он опасен. По-настоящему опасен». Губы колдуна шептали что-то – заклинание или проклятие, которое Коля едва ли не видел воочию: как бы дымчатая черная паутина ползла изо рта Недостомесова и сплеталась в уродливый замысловатый узор. Расширились во все глаза зрачки колдуна, взгляд его метнулся к Колиному лицу и, зацепив разум, потянул на гипнотическом крючке в трясину. Стряхивая наваждение, Коля дико заорал, испугавшись, что еще пара секунд промедления – и конец: он станет пленником безрукого чудовища, останется без воли и сил, и тогда проклятый колдун сделает с ним все, что захочет. Крик полыхнул изо рта, и Коля, продираясь сквозь оцепенение, уже пеленавшее его, ударил лезвием топора в страшное мертвенное лицо.

Вышел с топором во двор, прихватив по пути полотенце, висевшее в кухне на крючке. Тщательно обмыл лезвие топора в бочке с водой, что стояла под трубой водостока, насухо обтер полотенцем и, обмотав им топор, сунул его в сумку. Такси вызывать не стал. Был такой прилив сил, что, казалось, легко удастся прошагать через весь город. Проходя мимо руин кинотеатра, Коля увидел свет меж обломков стен. Приблизившись, рассмотрел: две фигуры сидели у костра, над которым жарилась на вертеле из арматурины человеческая нога, отрубленная выше колена. Одна из фигур обернулась и взглянула на Колю дико блеснувшими глазами на звероподобном темном лице. В другой раз Коле стало бы жутко от бездонного безумия в этих глазах, но только не сейчас. Он приветливо помахал фигуре рукой и, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке, пошел своей дорогой. «Что убийцей заделаться пришлось – это ничего, – мысленно определил он. – Не человека ведь убил, а тварь какую-то. За что мне, если честно, спасибо надо сказать от лица… ну, там не важно, от чьего. От лица тех, кто все понимает. Да и вообще, это ж самооборона была, если разобраться». При мысли о самообороне Коля прыснул со смеху. На душе было так хорошо, так легко, так восторженно, что захотелось чего-то совсем уж исключительного. И, прислушиваясь к себе, понял, чего ему на самом деле хочется сейчас. Ребенка зачать. С кем угодно. Так-то, вообще, он детей недолюбливал, и до сих пор, к тридцати восьми годам, ему ловко удавалось не вляпаться в детский вопрос, но вот именно сейчас так остро, до мурашек, захотелось ребенка. Сына, дочь – не важно. Пока он еще не остыл от победы, пока еще клокочут силы – взять и продлить бы род. Чтоб передать ребенку все это, чему не мог подыскать названия, что звенело струной, смеялось и рвалось изнутри. Шел по ночному городу, и постепенно вызревало понимание, что не в писателе ведь дело. Нет, лишь поводом послужил старик. А главное в том, что произошло между Колей и Недостомесовым. Вступили они в связь, сплелись в причудливый узел, и в этом взаимодействии каждый получил свое: Коля победил колдуна, принеся его в жертву высшему смыслу; а колдун, меж первым и последним ударом Колиного топора, лихо проскочил через такую внутреннюю эволюцию, какую иначе и не преодолел бы. Тут Коля и осознал, и даже остановился, захваченный осознанием, как магниевой вспышкой: ребенка зачать – дело плевое, а вот сейчас он, в сущности, мистически зачал Недостомесова и отправил его на тот свет инициированным, духовно пробужденным. Не писателя на самом деле следовало спасать, а Недостомесова, который отступил от предназначения своего, но послан был к нему ангел с топором в руке… Коля поднял лицо к звездам и полной грудью вдохнул небесную тьму, пролившуюся в мир людской с ледяных высот.

Уснув на рассвете, увидел во сне будущее. То была грядущая возрожденная Русь, и над крышами небоскребов, блиставших на солнце стеклом и сталью, гигантским айсбергом высился храм, каких еще не видывали на Руси. Через его циклопические ворота вошел Коля с опаской, как входят в пещеру, где обитает неведомый зверь. Бродя по храму, рассматривая грандиозные мозаичные фрески, увидел и свое собственное изображение: многометровый, он высился на стене, вокруг головы черный нимб, в руках, словно младенец, покоился топор. Старославянского типа витиеватые буквы, над правым плечом фигуры, гласили: «Святый Никола». И над левым: «Убивец и Спаситель».

Полиция вышла на Колин след довольно быстро. Проверяя телефонные контакты убитого Глеба Недостомесова, взяли на заметку и Колин телефонный номер. А потом Лазарь Изметинович – его номер тоже отыскался в контактах – дал показания о том, что некий Николай, обиженный клиент Недостомесова, приходил к нему, Лазарю, с откровенной против Недостомесова злобой. Так телефонный номер Брешнего всплыл вторично и уже с намеком на преступный мотив. Следы ботинок, найденные около дома убитого, подошли к Колиным ботинкам. И отпечатки Колиных пальцев сняли с оконного стекла в доме Недостомесова. Одна к одной, улики сложились против Коли. Его арестовали. Однако арест и обвинения ничуть не омрачили убийцу, чрезвычайно довольного собой. Он спокойно признался во всем, рассудив, что пребывание в тюрьме только украсит необходимым штрихом будущее житие святого Николы, Убивца и Спасителя, придаст легенде ту изюминку, а лучше сказать, перчинку, без которой его грядущая история стала бы слишком пресной. Да и как русский народ узнает о своем герое, если тот просидит в углу до конца дней своих? Надо выходить на свет, к людям, надо популярность набирать, а тюрьма и шумиха в прессе вокруг убийства – то самое, что для этого требуется.

Когда изуродованный труп Недостомесова лежал в морге, вскрытие проводил патологоанатом Егор Кирилляк, человек себе на уме. Он практиковал – тайно, конечно, а как еще! – тантрическую некрофилию и был большим эстетом по части мертвечины. Останки Недостомесова вызвали у него восторг ценителя истинного искусства. А истинным искусством Кирилляк считал единственно лишь смерть во всем многообразии форм, которые принимала она, вторгаясь в мир живой материи. Как и женская красота, считал Кирилляк, заключается, главным образом, не в одежде, а в наготе, так и красота бытия – не в нарядах жизни, а в наготе смерти под ними. Он стоял и любовался повреждениями на трупе Недостомесова. Его восхищало, что руки отрублены и при этом не утрачены, а тут же, на местах своих, лежат, проемами пустот отделенные от плеч. И как лаконична и в то же время величественна смертельная рана, разломившая лицо пополам! За всю практику Егору еще не попадался труп с такой композицией увечий, в которой эстетика так тонко сочеталась с многозначительной образностью. Он мысленно аплодировал тому незнакомцу, что убил Недостомесова и тем самым устроил столь восхитительную инсталляцию. Кем был покойный, Егор знал хорошо. Почти со всеми местными мистиками он был лично знаком. Кроме того, Егор помнил настоятельную просьбу Лазаря Изметиновича – сообщить ему немедленно, если на стол перед Егором ляжет мертвый колдун. Кирилляк позвонил Изметиновичу, и тот, выслушав своего информатора, произнес: – Будем проводить ритуал. – Какой ритуал? – предчувствуя недоброе, спросил Егор. – Тот самый, – сказал колдун мрачно. Егор почувствовал, как его прошибает пот. Изметинович дал ему подробные инструкции, затем строго предупредил: – Смотри только, на этот раз никакого труположества! – и отключился. Отняв телефон от уха, увидел Егор на сенсорном экране обильные потеки пота, вытер телефон об халат, сунул в карман, провел ладонью по вспотевшим уху и виску, и долго затем стоял без движения, стараясь успокоиться. К ритуалу, намеченному Изметиновичем, следовало готовиться. В задачу Егора входило достать свежие останки трех абортированных эмбрионов, но пока это могло подождать. В данный момент он должен был провести вскрытие. Лишь приступив к работе, попеременно орудуя скальпелем и циркулярной пилой, Кирилляк почувствовал, что успокоился окончательно, и к нему вернулось обычное вдохновенно-поэтическое настроение.

Похороны Недостомесова взяла на себя профсоюзная организация работников оккультных наук. Организация эта существовала только на бумагах, которые предъявил в морге Изметинович, добившийся таким образом, чтобы тело Недостомесова, не имевшего даже дальних родственников, не было кремировано за казенный счет. Не без волокиты, Недостомесова выдали для похорон профсоюзу, иначе говоря, Изметиновичу, и тот увез тело из морга якобы на кладбище, а на самом деле – к себе домой, где в тот же вечер в подвале провел ритуал. Кирилляк, доставший через друга-гинеколога искромсанные останки трех абортированных младенцев (зачем они понадобились колдуну – этого Егор не понимал), засветло явился к Изметиновичу, чтобы помочь подготовить труп к ритуалу, и с ужасом ждал, когда ритуал начнется. Его эстетская натура не выносила магических обрядов, которыми мертвая плоть понуждалась к оживлению, пусть к ущербному, пусть лишь к псевдожизни, но и это было для Егора непереносимо. Оживление мертвой плоти он считал самым страшным оскорблением в адрес главной святыни бытия – смерти. По его глубокому убеждению, живое должно превращаться в мертвое, но никак не наоборот. Обратный процесс он расценивал как предательство. Кирилляк с брезгливостью и омерзением оказывал помощь Изметиновичу в подготовке к ритуалу. Уклониться от обязанности, возложенной колдуном, не смел из страха перед ним. Бедный эстет! Делал то, что ненавидел всей душой, и презирал себя за это. Лазарь, видя эти духовно-философские страдания Егора и понимая всю их глубину, кривил губы в жестокой полуулыбке.

Доставив Лазарю хорошо упакованный в несколько прочных пакетов абортивный материал, Егор осмелился спросить, какую же роль останки младенцев сыграют в ритуале, и Лазарь, обычно не склонный ни к каким объяснениям, с неожиданной словоохотливостью поведал Егору, что… …словно крышка подпола приподнялась перед Егором, и дохнуло леденящей подвальной тьмой, когда выкладывал ему Лазарь Изметинович такие вещи, которых Егору лучше было бы и вовсе не знать. – Что знаешь про Макара Волкова? – спросил Лазарь. Егор ответил: – Да то же, что и все. Что Волков – это страшная сказка. Колдун-людоед, умер давным-давно и мертвый по городу бродит, детей крадет и пожирает. Меня в детстве им пугали. – Правильно делали, что пугали. Хотя страх не защита. И бесстрашие – тоже. Если б Волков положил на тебя глаз, ничто не помогло бы. – Это как понимать? – удивился Егор. – Волков что, действительно существовал? – Я его знал, – произнес Лазарь. – Общались. Волков при жизни был людоедом и после смерти таким остался. Целиком он, правда, никого не съедал. Говорил, что людоеды, которые целиком людей съедают, это плебеи, а он аристократ и ест только правый глаз и левое легкое от каждого убитого. А в остальном был строгий постник. Только овощи, фрукты и насекомые. Пауки, черви, сороконожки, личинки. Мясного, молочного – ничего не ел, рыбу тоже. Почему именно правые глаза и левые легкие, я до сих пор не знаю. Причем ел человечью плоть один раз в год – в пятницу перед Пасхой. Церковники ведь Пасху каждый год на другую дату намечают, и пятница перед ней на разные числа падает. Волков за всем этим следил строго, готовился весь год, замораживал глаза и легкие, держал их до Страстной пятницы, а потом пировал. У него собственная религия была, боги свои, никому больше не известные, правила свои, ритуалы. Никого в подробности не посвящал. Умер по своему желанию. Говорил, что мог бы жить сколько вздумается, но жить принципиально не хочет. Ненавистна ему стала жизнь. И он годами готовился, чтобы уйти из жизни черным ходом, как он говорил. Чтобы, значит, начать жить по-мертвому. Не воскреснуть после смерти, а именно жить по-мертвому. Это особое состояние, в котором тело уже не зависит от жизни, его окружающей, от питательных веществ и законов природы, при этом не разлагается, потому что существует не за счет жизни, а за счет смерти, от нее получая все необходимое. Душа в таком теле живет на границе двух миров – нашего и того. Это и значит – жить по-мертвому. К такому образу существования готовиться надо серьезно, постепенно, как бы корнями врастая в смерть. Волков так и делал; тщательно подготовился и ушел. – Как именно ушел? – спросил Егор. – Остановил сердце и прекратил дышать. Он ведь всецело овладел собственным организмом: температуру тела мог понизить и повысить, каждый отдельный орган мог заставить работать так или иначе или вовсе не работать. Вот и прекратил работу сердца и легких. Тогда-то и начал жить по-мертвому. Дом свой бросил. Вообще от всего отрекся. Между нашим миром и потусторонним есть промежуточная зона; там-то Волков и поселился. Оттуда он выходил к нам, и детей он туда уводил, которых похищал для пожирания. – Так если тело у него перестало нуждаться… Если пища не нужна, то зачем же пожирать? – спросил Егор. – Кто ж его знает, – отвечал Лазарь. – В его людоедстве с самого начала были метафизические цели, а не гастрономические. Гастрономия-то потеряла для него всякое значение, а метафизика – как раз напротив. Живя по-мертвому, он и меню свое людоедское изменил: не глаза с легкими стал поедать, а кожу. – Как это – кожу? – не понял Егор. – Кожу стал сдирать с детей и эту кожу поедать. – Да это ж… – Егор был ошарашен, нужные слова не шли на язык. – Я сам видел, – спокойно продолжал колдун. – Волков мне как-то раз изволил показать. Я тогда побоялся его про кожу спрашивать – зачем она ему. Лишних вопросов лучше такому не задавать. Сам он сказал мне только: «Кожа – это величайший символ, почти бездонный». Это я дословно тебе привожу. – И что это значит? – спросил Егор в недоумении. – Есть у меня одно соображение на этот счет, но лучше помолчу. Тебе достаточно будет знать, что поедание кожи для Волкова имело высший смысл, и питался он, в общем-то, не кожей, а этим самым смыслом. Кожу сдирать с детишек – это тебе не с трупами совокупляться, другой уровень. – Да уж понятно, что другой, – пробормотал Егор. – Волков, может, и не хотел детишек губить, но ответственность на нем лежала, и он должен был это делать. Знаешь, Бог, – и Лазарь при слове «Бог» как-то жутковато закатил зрачки под верхние веки и тут же вновь взглянул на Егора, – тоже ведь не нуждается во всякой ерунде, типа жертвоприношений, поклонений, молитв, мистерий там разных. Но снисходит к жалкому копошению людскому и принимает все это благосклонно. Так и Волков. Он ведь к нуждам человеческим снисходил, город наш оберегал и потому брал с города символическую плату в виде этой кожи, которую сдирал с детишек. Брал ее, чтобы высшая справедливость не осталась уязвленной. – А от чего ж он город-то оберегал? – спросил Кирилляк. – От ужаса оберегал. От такого ужаса, о котором тебе лучше ничего не знать. Уж поверь, Егорушка. Тонкая пленка от кошмара нас отделяет. Как мыльный пузырь, тонкая. А по ту сторону пленочки чудовища кишат. И ежели нет у нас в городе своего, родного и местного, чудовища, которое стояло бы в проеме меж нами и ними, то считай, что и нас самих уже нет. Ибо недолго городу тому жить осталось, и стране той, где никакая страшная тень в проеме не стоит и не загораживает собой бедныймуравейник от беспредельного ужаса. Содрать кожу с какого-нибудь мальца раз в полтора-два года – это сущие мелочи для тех, кто знает, что тут почем. Чисто символическая плата. Всего лишь копеечка, там уплаченная, где многие миллионы следовало бы взыскать. – Стоп-стоп! – Егор пристально глянул на Лазаря. – А почему вы в прошедшем времени о нем говорите? Он что же… – Потому и говорю, что Волкова нет больше. При жизни-то я мало с ним общался, а как начал он жить по-мертвому, тут уж мне постоянно приходилось с ним контачить. На каждое более-менее серьезное действие магическое следовало разрешение у Волкова испрашивать. В обход него здесь ничего не делалось. Только мелочи всякие дозволял он свершать самостоятельно. Магия – штука такая: залезешь чуть дальше, чем следовало, и пиши пропало. Если, конечно, протекции у тебя нет. А Волков-то протекцию всем нам и обеспечивал. Пленочка ведь тонкая. Неловко ткнешь – и порвалась. А за ней такой ужас клубится и ждет! Дай только повод, внимание хоть немного к себе привлеки – и все. Тут уж со своих собственных детей, ежели кто имеет, кожу начнешь сдирать, лишь бы отвратить этот ужас, который вот-вот над нами полыхнет. – А что же с Волковым случилось? – спросил Егор. – Никто не знает. Пропал, и все. Четыре месяца тому. Сейчас ни один серьезный человек, – «серьезными людьми» Изметинович называл настоящих колдунов, – лишнего движения сделать не осмеливается. По мелочам только промышляем. Но, ежели что касается души человеческой, либо жизни и смерти, то тут уже сдерживаться приходится. Или сильно рисковать. Мы ведь с тобой знаешь как рискуем сейчас? Ты даже представить себе не можешь. Егор заметил в глазах Изметиновича искру настоящего страха, отчего Егору стало совсем уж не по себе. Похоже, Лазарь готовился к каким-то жутким последствиям своего ритуала. И – мелькнула внезапная догадка – в случае чего собирался подставить Егора, бросив его, как жертву, в лапы каких-то неведомых сил, которые могли пробудиться в ходе ритуала. «А ведь сам он, гадина, рассчитывает при худшем раскладе как-то выкрутиться и ускользнуть. Как пить дать, меня подставит, а сам в сторону», – со злобой и горечью думал Егор, внимательно глядя в окисленное лукавой мудростью лицо колдуна. – Может, Волков вернется? – предположил Егор и сразу покраснел, поняв по лицу Лазаря, что сморозил глупость. – В таком положении, как у Волкова, не уходят и не возвращаются. Если он пропал, значит, с ним случилось что-то страшное. И пес его знает, что это могло быть. Не возвращения ждать, а срочно нового кандидата искать надо. – Вот оно что! – понял наконец Егор. – Вы, значит, Недостомесова решили, вместо Волкова… – Вот именно. Проблема только в том, что Недостомесов жить по-мертвому совершенно не готов. Поэтому придется скрестить его с абортированными мальцами. – Это как же? – не понял Егор. – Мы их с тобой, Егорушка, пришьем к Недостомесову. Ты ж его утробу вычистил; вот и вложим их внутрь, и каждого для прочности пришьем, а потом и утробу зашьем аккуратненько. Ты уж постарайся. – Ого! – Егора это восхитило. – Абортированные младенцы, – объяснял Изметинович, – это такое!.. Ты представь только: сидит он в утробе – то ли человек, то ли жаба какая-то, – света белого еще не видел, слова ласкового ни от кого не слышал, зато столкнулся там, во тьме своей камеры, с единственным проявлением натуры человеческой – с материнским желанием смерти своему порождению. «Я тебя породил, я тебя и убью», – это еще слабо сказано; в нашем случае мамаша ведь даже и не породила еще, а уж убивает. Когда мать сама хочет дитя свое убить, то мысль ее об этом, вместе с кровью материнской, втекает в ребенка и образует в его душе такую опухоль, на фоне которой и рак мозга мелочью покажется. А потом, как начинает материнское желание исполняться, и вычищают-таки эту человеко-жабу из норы, то ее охватывает просто удивительный по первозданной чистоте и концентрации ужас, о котором любой мало-мальски серьезный человек скажет, что такого идеального ужаса в природе и вовсе не бывает. Одна капля этого ужаса перевесит все сокровища мира, положи ее только на весы. Вместо любви – жажду смерти от матери впитать, вместо света белого – лютый ужас встретить, и с такими-то впечатлениями в загробную тьму юркнуть; вот она где, истинная школа жизни! С такой школой за плечами один путь – в загробные чудовища. А мы этих чудовищ с Глебушкой Недостомесовым возьмем да и скрестим. Ты их нитками пришьешь, а я магией так склею, что швы твои вовеки не разойдутся. И совокупятся они, болезные, в таком симбиозе, что даже ангелы содрогнутся, на этот гибрид глядя, хе-хе! Лазарь потирал руки в сладострастном возбуждении, гнилостно поблескивал глазами, языком облизывал влажные губы. Кирилляк смотрел на него со смесью восхищения и ужаса. Идея Лазаря о загробном гибриде заворожила его как эстетический и концептуальный прорыв, но при этом ужаснула, едва только представил Егор, что гибрид этот не останется лежать, а зашевелится, закопошится, задвигается…

Недостомесов брел по ночному городу – голый, холодный, мертвый, но при этом извращенно живой, – и видел то, чего прежде не положено было ему видеть. Увиденное было настолько пугающим, что лишило бы рассудка всякого простого человека, едва приоткройся оно взору, а всякого колдуна привело бы в трепет. Недостомесов же был спокоен. Три сгустка воплощенного ужаса и запредельной злобы, зашитые в его нутре и вступившие с ним в загробный симбиоз, прочный, как сама смерть, прожигали в его сознании черную дыру, и тонул в ней всякий страх, всякий трепет, всякий осколок человечности. Отрубленные руки, которые Егор пришил обратно к телу покойника, Недостомесов одним движением разума оторвал от себя, разрезав швы лезвием мысли. Словно две страшные птицы, закружили эти руки в воздухе вокруг Недостомесова и наконец устроились вокруг его шеи, образовав ромбовидную фигуру наподобие хомута: правая рука вцепилась пальцами в основание левой руки, левая вцепилась в основание правой. С таким ожерельем из отрубленных рук шел мертво-живой колдун по городу, обходя свои владения. Лицо его тонуло в страшном разломе от удара топором: носа не было вовсе, глаза почти вошли внутрь разлома и смотрели друг на друга, а не на мир, но самый разлом этот, будто вытянутый по вертикали зрачок животного, обозревал все окружающее, и что-то гадостное, бледное, неясное шевелилось в его глубине. Видеть на ночных улицах страшную фигуру колдуна могли только безумцы и близкие к помешательству – те, у кого под ногами шатались основания объективной реальности. Прочие лишь чувствовали смутный страх и тяжесть на сердце, когда колдун проходил мимо, когда заглядывал в окна их жилищ, когда склонялся над ними спящими или когда руки его, отдалившись от тела, двумя огромными пиявками ползали по стенам домов, словно бы заключая эти дома в объятия.

Когда был окончен ритуал и тело Недостомесова дернулось на столе, Изметинович почувствовал необъяснимую тревогу, и червем начало точить его душу омерзительное чувство непоправимой ошибки. Недостомесов же сел. Затем спустился с высокого стола на пол. Не обращая внимания на растерянного Лазаря и Егора, похолодевшего от ужаса, подошел к стене подвала, ощупал ее рукой, а потом внезапно вошел в бетонную стену и был таков. В бетоне и малейшей трещинки не возникло, лишь пятно ледяного холода отмечало на стене место, сквозь которое прошел Недостомесов. С тех пор дни и ночи проходили для Изметиновича в мучительном ожидании неизвестно чего. Недостомесов исчез, ни словом с ним не обмолвившись, и после не являлся ему, а Лазарь этого явления ждал, и ожидание превращалось для него в пытку. Прошло почти три месяца после ритуала, и, наконец-то, Недостомесов явился Изметиновичу, выйдя из стены в тот момент, когда Лазарь постыднейшим образом сидел со спущенными штанами на унитазе, справляя нужду. Просторен был санузел в доме Изметиновича, и когда стоял Недостомесов напротив сидящего Лазаря, то было между ними метра два с лишком свободного пространства. В этом пространстве медленно парили в воздухе руки Недостомесова, словно два цепных пса, охранявших хозяина и готовых в любой миг сорваться в атаку. Пальцы рук хищно шевелились, будто щупальца кальмаров, подплывающих к добыче. – А ты думал, что я ничего не узнаю, – без предисловия начал Недостомесов, словно продолжал какой-то прежний разговор. – Думал, не узнаю, что ты смерть мою подготовил. Внушил этому идиоту меня убить, когда он жаловаться на меня пришел. Запустил ему гипнотического таракана в голову. И все для того, чтоб сделать из меня загробное чучело и поставить пугалом в огород. Эх, Лазарь, Лазарь! Ты одного не рассчитал – что я перед самой смертью от спячки-то пробудился. А ты еще трех Безымянных мне подсадил, – при этих словах проступили бугры на животе Недостомесова: что-то ворочалось у него внутри, натягивая кожу. – И знаешь, что теперь получилось? Догадался уже? Я не протекцию всем вам обеспечу, как глупый Волков делал. С теми силами, от которых Волков, по своему недомыслию, защищал вас, я общий язык уже нашел, и вы теперь станете кормом для них и для меня. Всякий, у кого хоть маломальский мистический дар имеется, будет кровью собственной души и тканью собственного разума расплачиваться за право существовать на этой земле. Живые деликатесы, которых заживо пожирают, дают отдых, чтобы жирком обросли, а потом пожирают снова, – вот кем все вы станете. Но ты не думай, что я на тебя в обиде и мстить собираюсь. Наоборот, я к тебе с благодарностью пришел. И благодарность моя вот в чем. Я забираю у тебя все способности твои. Считай это для себя спасением. Ты станешь простым человеком, ординарной вошью среди миллиардов ординарных вшей. Отныне нет у тебя ни крыла, ни стрелы, ни луча, ни искры, ни ключа, ни тайны. Ты пуст и слеп. Нищ и наг. Будешь стучаться в двери – тебе не откроют. Будешь умолять – не услышат. А принесешь дар – его отвергнут. Отныне ты – никто. Руки Недостомесова зависли над головой Изметиновича, пальцы переплелись в какую-то сложную фигуру, увидев которую, Изметинович задрожал от страха. Желудок его шумно и с мерзостным хлюпаньем опорожнился. Лазарю показалось, что вместе с нечистотами вышла из него душа, и лишь сальный след остался от нее на внутренних стенках опустошенного нутра. Проделав над головой бывшего колдуна необходимые пассы, руки Недостомесова вернулись к хозяину и замкнулись на шее в хомут. Развернувшись, Недостомесов молча ушел сквозь стену.

Ближайшей ночью, далеко заполночь, явился он Коле Брешнему, который ждал суда в следственном изоляторе. Проснувшись и увидев в камере фигуру Недостомесова, Коля решил, что пробуждение и страшная фигура ему снятся. Недостомесов молча смотрел на Колю, не произнося ни слова, и вместе с чудовищным взглядом, исходившим из пролома в голове, вливалось в Колю нечто жуткое и тошнотворное – некая смесь чувства с безмолвным убеждением. Как сигаретный дым, нечто вползало в Колины ноздри, как мутная рябь, вливалось в зрачки, как отдаленный собачий вой, просачивалось в уши. И дымчатыми струйками своими оплетало какой-то стержень внутри. В студенистом Колином разуме, будто могильные черви, копошились и кормились мысли. Недостомесов покинул его. Мысли же остались и продолжали пировать внутри разума. Расслаиваясь на множество подголосков разной тональности, червиво извивался мысленный голос. Он нашептывал Коле доказательства его необратимого личного ничтожества, позорно и постыдно воображавшего себе грядущее прославление в лике святых. Тем-то особенно и доказывалась полнота ничтожества, что зрели в нем такие мечты, ведь одни лишь ничтожества и мечтают о личной святости, тогда как настоящие святые даже и не задумываются об этом. За остаток ночи и весь следующий день голос сумел полностью убедить Колю в том, что он – мерзопакостное насекомое, тем особенно смешное и жалкое, что смеет фантазировать о каком-то величии. Окаменело двигались Колины зрачки, словно следили за невидимым маятником. Губы беззвучно шевелились, будто рот был полон личинок, лезущих наружу. День прошел в полубредовой маете. Коля, казалось, начал эволюционировать из человека в пластиковый манекен, полый внутри, и лишь поверхностные признаки жизни еще озаряли пустынные ландшафты его почти уже кукольно-мертвенного существа. На следующую ночь Коля опять перепутал сон с явью, но уже в обратную сторону. На этот раз он спал беспробудно, во сне же казалось ему, будто мается без сна. И так был правдоподобен сон, так достоверна маета, так все обыденно вокруг, так уныло-реалистично, что Коля начал убивать себя во сне, не сомневаясь, будто делает это наяву. Он разорвал простыню на лоскуты, связал из них веревку, сложил ее вдвое – так, чтобы на одном конце вышла петелька, просунул в нее противоположный конец веревки, получившуюся замкнутую петлю накинул себе на шею и начал тянуть обеими руками свободный конец этой небольшой, размером с галстук, удавки. Он так и не проснулся, когда ему приснилось, что пришла смерть. Снилось, как выходит из тела его душа, как смотрит со стороны на свое мертвое тело. Крепко вцепились одеревенелые руки в короткую веревку-галстук, натянутую, как струна. Покойник словно застыл в момент игры на музыкальном инструменте будущего – скрипке невиданного доселе образца. На мертвом лице явственно читалась та мелодичная тема, которую самоубийца с таким вдохновением исполнял в последние дни: едкое, глубокое, черное презрение к самому себе, к собственному ненавистному «я». Открытый застывший взгляд трупа проваливался вглубь, и душе стало дурно, когда со стороны она заглянула в мертвые глаза, в шахты зрачков, просверленных в гнилую внутреннюю тьму Колиного существа. По сути, душа заглянула в саму себя. Губы мертвеца исказила червивая гримаса. Было в Колином лице что-то людоедское, как будто перед смертью он метафизически пожирал самого себя и корень своей жизни выгрыз из собственной сердцевины, а затем, с добычей в зубах, нырнул в смерть. Рассматривая тело, душа как будто слышала музыку, ноты которой были по нему разбросаны. Чудилась мрачная увертюра, звучавшая из мертвеца. И тут же казалось, будто вслед этой увертюре вот-вот грянет грандиозная опера грядущего кошмара, остановить который будет невозможно. Тошнотворным ужасом наполнило душу зрелище собственного тела, застывшего в судороге самоуничтожения. Не было жалости, не было раскаяния, были только страх, омерзение и противоестественное влечение к созерцанию мертвеца, перед которым душе хотелось застыть навеки, чтобы не видеть больше никого и ничего, кроме трупа. Он словно бы стал для души Богом, излучавшим на нее благодать глубочайших презрения и ненависти к самому себе. И эту смрадную погибельную благодать душа готова была пить и впитывать без конца. Все это был сон. Однако слишком затянувшийся. Наступило утро, а Коля продолжал спать. Его пытались будить – он не просыпался. Брешний впал в кому, внутри которой мерцал нескончаемый сон, где он придушил себя, вышел из тела и застыл в созерцании собственного трупа.
Касия
Я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту – сказать ли – мертвую жизнь или живую смерть?Августин Аврелий.Исповедь. Книга I, глава VI

Вошла в контору братьев Гофманов девушка – статная, ладная, гибкая, тонкая да сладкая. Братья тут же определили по совокупности признаков, что далеко не из бедных. Вошла и с ходу толстую пачку европейских денег выложила на стол. – Задаток, – говорит. – За то, что сделаете, о чем попрошу. Порученье необычное, не совсем по вашему профилю, но так ведь и оплата исключительная. – Все что хотите! – отвечают ей. – За такие деньжищи черта из-под земли достанем. – Черта – это хорошо, – говорит, – но мне другое надо. Хотя, может, и до черта дело дойдет. Прям не знаю… – Вы, барышня, рассказывайте о нужде своей, а мы уж найдем, как пособить вам. Пока обмен репликами шел, система распознавания лиц, к камере наблюдения подключенная, опознала барышню и вывела инфу, что это не кто иная, как Касия Сеньцова, дщерь и наследница знаменитого олигарха, который покончил самоубийством совместно с супружницей, юную Касю сироткой оставив. Сироткой и наследницей. Покосились братья на экран ноута, слизали краем глаз данные и приготовились внимать богатой посетительнице. – Дело непростое, – говорила она. – Нужен мне специалист редкостного профиля, а где найти такого, не ведаю. Надеюсь, хоть вы поможете и отыщете нужного человека, а то уж сама я обыскалась, но, хоть тресни, не отыскивается, и все тут. Поэтому к вам пришла. Короче, хочу я потерять девственность с трупом, и нужен мне человек, который все это устроил бы, то есть чтобы заставил он какой-нибудь труп ожить и девственности меня лишить. Сидят детективы, братья Гофманы, Ерема и Емеля, смотрят на прекрасную девушку и диву даются. – Ни хера себе! – Емеля наконец вымолвил. – А труп-то должен быть человеческий или можно какой-нибудь зоологический? – Нет-нет, только человеческий, – говорит. – Понимаете, все упирается в то, что вы, мужики, лишь до поры мужики, а как смерть приключается, так сразу теряете все свое мужское достоинство. Кровь циркулировать перестает, а нет притока крови – нет сами понимаете чего. Говорят, даже когда мертвецов оживляют, они все равно к этому делу не способны. А вот мне надо, чтоб способен был, чтоб нашелся такой мужчина, который и после смерти своей сумел бы мужиком остаться и девственности меня лишить. Переглянулись братья, сглотнули слюну и сказали: – Бе-е… беремся. Впоследствии собрали они все сведения про Касию Сеньцову и вот что узнали. Родители этой чудесной девушки, Александр Петрович и Александра Николаевна, одновременно сделали себе операции по перемене пола, и стал Касин папа – мамой, Александрой Петровной, а мама – напротив, папой стала, Александром Николаевичем. Сменивши пол, продолжали они любить друг друга пуще прежнего, не могли никак друг другом насытиться, и граничило это с одержимостью. Кася же никого не любила, разве что в общечеловеческом смысле. Бывало, в школе допытывались, кто ж идеалом-то для нее является из доступных школьному разумению образцов – может, Татьяна Ларина из «Онегина», или Наташа Ростова из «Войны и мира», или тургеневская дамочка какая, а может, Незнакомка блоковская? И отвечала Кася, что ни то ни другое ни третье, а вот кто и впрямь для нее идеал, так это гоголевская Пидорка из «Вечера накануне Ивана Купала». Когда Кася институт окончила по финансово-экономической линии, то вдруг без родителей осталась, зато с наследством. А родители ее, перед тем как двойным самоубийством покончить, в предсмертной записке пояснили: уж так они друг друга любят, что стал им весь мир ненавистен – за то ненавистен, что отвлекает от любви взаимной, все втиснуться меж любовниками норовит, рыло в щель просунуть, вот и покидают они дурацкую нашу вселенную, с истинной любовью несовместимую. О дочурке своей, кстати, ни словом в записке не обмолвились. Кася же родителям двойные похороны устроила. Сначала погребла их на погосте, а потом, на сороковой день, эксгумировала и сожгла в крематории. Женихи вокруг Каси так и вились, но никто не люб ей был. Невесты тоже подкатывали, думали: может, лесбиянка она? Однако и тут никому ничего не обломилось. Кася мимо всех смотрела в неведомом направлении. Все искала чего-то, гадала о чем-то… Тут-то и заявилась она в контору к братьям Гофманам с поручением о поиске человека, который устроит ей случку с мертвецом. И что ж вы думаете? Нашли Гофманы такого человека, который все обустроил. Долго искали, но – нашли. В заброшенной деревне, в Апшеронском районе Краснодарского края, жил нелюдимым отшельником Гаврила Фомич Булгароктонов, ученик великого светоча советской физиологии, академика Ухтомского. О Булгароктонове рассказывали такое, что волосы дыбом вставали на голове, а если лысой она была, то покрывалась гусиной кожей с мертвенным отливом. Привезли братья Гофманы Касю в ту заброшенную деревню, представили ее столетнему старцу, Гавриле Фомичу, и высказала она ему заветное желание свое. Гаврила Фомич обошел Касю кругом, обнюхал отовсюду и по запаху биохимических выделений мозга понял, что девушка говорит искренне и на все готова, лишь бы своего добиться. – Есть способ, – прошамкал он гнилым ртом, – но сложный. – Пусть сложный, – согласилась та. – Ты должна привести ко мне человечка, который без ума тебя любит и похотью сочится, на тебя глядя, но все еще не сорвал тебя и не познал. – Нет у меня такого, – сказала Кася мрачно. – Нету, так заведешь! – раздраженно каркнул старик. – Ты мне, коза, не перечь и не отнекивайся, если хочешь свое получить. А слушай, чего я тебе говорю. Сделаешь себе такого человечка. Завлечешь, заманишь и ко мне приведешь. Скажешь, что я – доктор, который проверит вас на сексуально-доминантную совместимость для достижения экстраоргазма. Я как бы начну исследования проводить, а ты мне подыгрывать будешь, и введу ему препарат, который убьет его. Засим тут же и оживлю на время – уж я знаю, как, – чтобы выплеснул он сексуальную энергию, перед смертью в нем аккумулированную и еще не успевшую из организма выветриться. Тогда и получишь то, что хотела. Уехала Кася с братьями Гофманами в глубокой задумчивости. А недели через две вернулась в деревню на собственном внедорожнике, с молодым человеком, влюбленным в нее без памяти. – Девственница я, понимаешь, Гришенька? – ворковала Кася по пути. – И хочу девственность свою обменять по самому высокому курсу. Слышала я от знающих людей, что только девственница, расставаясь с невинностью своей, может испытать экстраоргазм, который простым смертным недоступен. Сама испытать и возлюбленному передать. Однако должна она не абы с кем совокупиться, но только с человеком, подходящим ей по доминантному профилю, иначе не выйдет ничего. Поэтому, Гришенька, прежде чем отдаться тебе, хочу, чтобы доктор один проверил нас на сексуально-доминантную совместимость. И если все совпадет, мы с тобой в такой космос улетим, куда только избранники небес допускаются. – А если не совпадет? – тревожно спрашивал Гришенька. – Надо верить и надеяться. Гришенька вне себя был от сладостных предвкушений. – Тэ-экс, – молвил Гаврила Фомич, когда стояла перед ним парочка в ожидании, – сначала вас, молодой человек, проверим. Ложитесь вот сюда на стол. Разденьтесь сперва. Догола. А вы, девушка, вот здесь стойте. Сейчас я датчики присоединю. Будем считывать показания. Во-о, хорошо… Теперь смотрите на девушку свою, а вы, милая, начинайте раздеваться постепенно. Будем фиксировать, как юноша ваш на каждом этапе реагирует. Сначала верхнюю половину туловища обнажайте. Ага… Так… О, пошла реакция! Циферки так и скачут. А теперь нижнюю половину обнажайте. Тэ-экс… Что, юноша, хороша конфетка, а? Циферки-то, циферки! Теперь вы, девушка, вот сюда встаньте… Так… А вы, юноша, руку ей сюда положите и держите. Я вам сейчас укол сделаю, контрастное вещество введу, а вы руку не убирайте, держите хорошенько… Будем фиксировать. Так, ввожу… Гришенька тут же и скончался после укола. Мелкие судороги пробежали по телу – и конец. Гаврила Фомич склонил голову набок, по-научному любуясь покойником. – Вишь ты, козлище какое похотливое: мертв, аки бревно, а эрекция-то, посмотри только! Это значит, – повернулся ученый к девушке, – что сексуальные доминанты в нем после смерти продолжают какое-то время сохраняться в аккумулированном виде. Теперь, когда мы возьмем да стимулируем в нем квазижизнь – без разума, чисто на рефлексах, – будет он сексуально вполне дееспособен, и делай тогда что задумала. Минут пятнадцать, может, больше, будет в нем квазижизнь действовать, а потом откинет он коньки на веки вечные. Смотри, ежели кусаться начнет, не боись: укус его не опасней укуса простого человека. Но, на всякий случай – вдруг что не так пойдет – топорик вот лежит, возьмешь да промеж глаз ему хрястнешь! Все ясно, козочка? Кася кивнула с хищною улыбкой. – Тэ-экс, теперь мы электроды присобачим сюда, сюда и вот сюда: будем электрическими импульсами центры стимулировать. Ага… И засим вводим препаратец, разработку нашу тайную… Оп-па! А теперь ток пускаем… И ждем-с, ждем-с! Ты топорик-то сразу возьми. На всякий случай при себе держи. Труп шевельнулся, и у Каси перехватило дыхание от восторга: наконец-то! – Пошел процесс, – констатировал старик, потирая ладони. – Ну все, выйду я, чтоб не мешать. Ежели что, кричи сильнее, а то я глуховат малость. Прибегу тогда – пособлю. И ожил труп Гришенькин, встал, приблизился к девушке, и подивилась она выражению его лица. Были глаза у него при жизни глуповаты, как и положено по статусу его непритязательного существования, а стали теперь такие, что, казалось, сама смерть со всею бездонной мудростью своей смотрела на Касю этими глазами. Взял он из правой руки ее топорик и бросил на пол, обнял Касю, а та от его прикосновения сладко всем телом содрогнулась. Получила Кася то самое, о чем грезила наяву с таким вожделением. Изничтожил похотливый мертвец ее девственность, влил в нее мертвецкое семя свое. Но, вопреки научному мышлению, не вернулся он после того к покою посмертному, поскольку сработал внезапно один закон бытия, Гавриле Фомичу неведомый и в расчетах не учтенный. От века еще не видано было, чтобы труп лишал девицу девственности, а когда происходит нечто, чего доселе вовсе не случалось, то жди беды, ибо реализуются неведомые силы мироздания и срабатывают капканы непредусмотренных следствий. Не вернулся мертвец к мертвенному покою, но заразился от Каси половым путем вирусом существования, которое в его мертвенном организме окрасилось в странные и зловещие цвета. Молчалив был труп Гришенькин, неразговорчив, только краткие мысленные приказы отдавал, которым не было сил противиться ни у Каси, ни у Гаврилы Фомича. Подчиняясь приказам мертвеца, организовали Кася со стариком-ученым фабрику по производству трупов, таких же деятельных и себе на уме, как и труп Гришеньки. К разработкам Булгароктонова добавил труп щепоть тайных знаний, извлеченных им из недр смерти, так что лихо заработала та фабрика в заброшенной глуши апшеронской. Молодых людей – матерьялец для трупов – подыскивала Кася, она же и заманивала их в деревеньку. Но прежде чем заняться этим промыслом, родила она деток, зачавшихся в том любовном смерче, что закружил ее вместе с трупом Гришеньки. Три недели длилась ее скоротечная беременность, и родилось у нее то, что и должно было родиться от случки трупа с девственницею: полузагробные мыслящие пауки, опасные хитрые твари, которые ловят людей в паутину и высасывают бессмертные их души, подселяя заместо них призрачную массу своей паучьей ментальности, так что становятся те бывшие люди загонщиками у пауков, новые жертвы в их паутину толкающими. Родила Кася, покричала от ужаса, подергалась маленько – и успокоилась. Некогда было рефлектировать, делом надо было заниматься. Для повелителя и властелина своего – трупа Гришенькиного – пора было матерьялец добывать. Гришенька тоже без дела не сидел, тоже на охоту ходил – ездил на Касином внедорожнике – и девушек добывал: очаровывал их своим либидо, сквозь мертвые поры его сочившимся. А иногда и скользких пареньков привозил. Все у него в дело шло. С Гаврилой Фомичом научный совет держал, помогал смеси химические составлять, аппаратуру отлаживать, планы разрабатывать. И добились они того, что трупы, ими оживленные, обоих полов, начали друг с дружкой совокупляться, и воплощались от любовных трупных игр уже не те относительно безобидные паучки, каких Кася родила, но немыслимые загробные чудовища, мертворожденные и мертвенно живущие. Не рождалось в трупных браках ничего человекообразного, ибо такова природа мертвой любви: она сама чудовищна и производит лишь чудовищ. Переплетения щупалец и конечностей, насекомых и человеческих, перепончатых крыльев, хоботков, усиков, мерзостных наростов, студенистых прозрачных масс, ядовитых шипов, хитиновых сегментов, клыков и жвал, щетины и чешуи – все это копошилось, ползало, прыгало, лазало по деревьям, зарывалось в землю и, кратко говоря, кишело в деревне и ее окрестностях. Бывало, забредет грибник в те места, увидит мясистый белый гриб средь палой листвы, ножичком по нему чикнет, а из надреза вырвется небесно-голубой дымок. Вдохнет грибник того дыма – падет на землю и скорчится в судорогах. А чудовище, что свою псевдоподию в виде гриба ему подсунуло, меж тем выкопается из-под земли, желудок свой внешний набросит на грибника и давай заживо беднягу переваривать. Как переварит, отрыгнет сгусток слизи, который зашевелится, начнет расти как на дрожжах и оформляться постепенно в подобие сожранного грибника. Сформировавшись окончательно, поднимется тот квазичеловек, корзинку с грибами подберет и, мутным взглядом зыркая, голый и зловонный, двинет восвояси – куда направят воспоминания, высосанные из жертвы. Явится он к супруге грибника и к детишкам его, водворится в доме заместо хозяина, над семьей грибника властвуя, подавляя волю человечью, приобщая жертвы свои к загробной мудрости, к ужасу и мраку. Гаврила Фомич доволен был донельзя, ведь какие просторы для экспериментальной науки открывались – дух захватывало! Иногда он Гришеньке такие прожекты предлагал, что тот, хоть и труп, а терял на время свое мертвецкое равновесие. Из Каси эти экспериментаторы деньги тянули – благо, что средств у нее хватало, – поэтому могли себе позволить всякую научную аппаратуру закупать. Да еще заставили Касю деньги туда-сюда инвестировать ради прибыли. Превратилось заброшенное село апшеронское в научный лагерь, и творились там черт знает какие зловещие дела на стыке экспериментальной науки с загробным ужасом. Кася периодически приставала к Гришеньке, чтобы он ей детишек еще заделал; понравилось ей пауков рожать. Тот не против был. Когда первая реакция прошла, присмотрелась Кася к своим паукам, и защемило в материнском сердце: «Детки мои, кровинушки!» – бредила она, среди пауков ползая, лаская и целуя их, груди свои голые для кормления подсовывая. А те лапами своими лицо ей щекотали, к соскам с бережной жадностью присасывались, опутывали нежно липкой паутиной. Много развелось тех пауков в окрестностях: все шастали да шуршали по кустам, выискивая, чем поживиться. Гаврила Фомич с Гришенькой пробовали загробных чудовищ, от трупных браков рожденных, с живыми людьми скрещивать, и каких только результатов не добивались они в своем горячечном селекционном энтузиазме. Даже такая тупиковая и, казалось бы, бесплодная эволюционная ветвь, как скользкие мальчики, плодоносить начинала после случек с загробными тварями. – Это феноменально! – кричал Гаврила Фомич, захлебываясь от восторга. – Пидарок-то наш, которого гадина эта жуткая во все порталы поимела, зачал и на сносях уже! И как же этот гамадрил зачать смог, вот как?! У него же матки нет, черт его дери! Да, плохо мы знаем возможности натуры человеческой! Эх! Перспективы-то! Бывало, выходил Гаврила Фомич под звездное небо из лаборатории, выкуривал сигаретку и волком выл на луну – от переполнявших его ученую душу блаженных чувств. А Кася на задворках, среди любезных деток своих паучьих извиваясь, заслышав старческий вой, паутину снявши с губ, во все легкие вторила ему нежным серебристо-кислотным голоском. И жили они – Кася, Гришенька и Гаврила Фомич – долго и счастливо, плодя пауков и чудищ загробных, немыслимых и кошмарных. Когда Гаврила Фомич умер, то перешел в активную фазу трупного существования, стал шустрым и деятельным пуще прежнего. Разум его, прожженный черными лучами смерти, донельзя обострился, – легко разрезал реальность и переплетал ее с потусторонним безумием. Кася не стала дожидаться, пока старость ее прожует и в яму смерти выблюет, но убила себя молодой. Гаврила Фомич тотчас оживил прекрасное тело ее, которое, перейдя в трупную фазу, начало рожать от Гришеньки уже не пауков, а что-то вовсе немыслимое и чудовищное, из утробы вырывавшееся в потоках тяжелого ядовитого дыма, который вырабатывался в мертвенном организме. Тем дымом окутанные новые Касины порождения расползались во все стороны, а мать с отцом – счастливые – смотрели им вслед с замогильной радостью. Ни науку некротическую, ни Касину материнскую ненасытность, с которой она зачинала и рожала страшных тварей, невозможно было остановить. Та и другая – в смысле, наука и Кася, – обильно плодоносили. Столетия не прошло, как – опа! – и вовсе не осталось живых людей на планете, но кишели на ней мертвецы, прежде люди, а нынче нежить и морок, и вместе с ними мертворожденные загробные гадины, классификации не поддающиеся. Не выдюжили бедные человечки против мертвенных тварей, которых сама Эволюция благословила занять место отработанного рода людского, роль свою сыгравшего и на хрен теперь не нужного. А наука загробная меж тем все развивалась да разветвлялась на течения: некроселекция, некрофизика, некрохимия, некропсихопатология, некройога, некропорномагия, некрокосмонавтика, некролингвистическое программирование, некрогипнология, некрофилософия и так далее. Не сиделось мертвецам на скучной планете нашей, но нашли они способ межпланетных путешествий и пересекали, посредством специальных медитаций, космическое пространство, прожигая туннели в его подкожном слое. Достигали неведомых планет, кружащих вокруг отдаленных звезд, ступали на поверхность иных миров, жадно раздувая ноздри и прочие входные и выходные отверстия. Искали они разумную жизнь, наивную в своем жизнелюбии, а когда находили, то присматривались, принюхивались к ней, внедрялись в темные складки ее бытия, просовывали куда надо свои пальцы, щупальца и прочие придатки. Насаждали в мире чужом свой образ жизни, точнее – смерти, свой образ мысли, свою мораль и философию, свои формы и принципы существования. И ниспадала на планету черная пелена Некротической Эволюции, окутывала, как липкий саван. И вчинялась та планета в состав грандиозного Ожерелья Миров, насаженных на нить активно-деятельной смерти. Присоединялась к оцепеневшим от ужаса сестрам своим, пронзенным принципом общей для всех мертвенной константы.
Девочка, которую любили

Эта история настолько правдива, что даже трудно поставить ее в один ряд с типичными правдивыми историями. Выделяться ведь будет она в том ряду, как скромное целомудренное дитя среди наглых девиц, подтравленных блудливой гнильцой. В истории этой ни пятнышка фальши, ни пылинки даже искреннего заблуждения или там невинной ошибки – ничего такого нет. А если кто скажет вам, что это-де сказка, то плюньте тому в бесстыжие глаза, покройте его самым отборным матом, врежьте ему ниже пояса, да покрепче, а еще лучше – убейте его и собакам скормите. Ведь ежели кто в историю эту не поверит и сказкой ее назовет, то, значит, совсем уж конченный он, и ни проблеска даже самой мутной человечности не осталось в той черной гадостной жиже, что на месте души пузырится у этого изверга. Нет, не сказка история эта – история про девочку, которую любили. Да вы и сами сейчас в этом уверитесь, ибо кристально чистая правда имеет свойство убеждать без всяких доказательств – одной лишь искренней своей наготой.

Смешное имя было у этой девочки – Ардалиона. Или просто Долька. И болела она хроническим пороком смеха. Нехороший смех у нее получался: тонкий, как проволочка, такая кривая, будто жеваная, и вся заржавленная. Собаки, заслышав этот смех, выли от страха. И мухи слетались к Дольке на смех, вились вокруг, ползали по ней. А ей нравилось, когда мухи по ней ползают, особенно большие и жирные, поэтому Долька постоянно посмеивалась. Если смех ее разрастался, то становился хриплым и резким, как у стариков, когда те мокроту отхаркивают. У всех, кто смех ее больше часа слушал, пробуждалось желание повеситься. И почти все ближайшие соседи ее постепенно повесились, потому что она подолгу смеялась, и даже во сне могла смеяться, а в пятиэтажном доме, где она жила, слышимость была хорошей. Из-за того, что многие в этом доме вешались, чуть ли не четверть квартир пустовала. Лишь Долькины родители хорошо себя при этом смехе чувствовали, ведь они же Дольку породили, поэтому им все было нипочем. Впрочем, один сосед снизу, Байконур Матвеевич, выжил. Потому что пил много. Когда он пьянел, желание повеситься пропадало, а на трезвую голову возвращалось. Тогда он начинал веревку искать, но, пока искал, снова напивался, и в петлю уже лезть не хотелось. Так и выжил он под Долькин смех, что вечерами и ночами лился на него с потолка. Днем Долька сильно не смеялась, только посмеивалась слегка. Однажды ей приснился черт, и Долька спросила его: – Ты зачем пришел? Хочешь мою душу купить? – Не нужна мне твоя душа, – ответил черт, – она у тебя нехорошая. Пусть ее, гадину, загробные собаки съедят. Мне твой смех нужен, вот чего бы я хотел получить. – Что дашь за это? – спросила Долька. – А что я тебе дать могу? – Черт только руками развел. – Я же черт, у меня ничего нету. Вот кинь мне на ладонь монетку, и сама увидишь. Долька кинула черту на ладонь пятьдесят копеек: монетка провалилась сквозь ладонь и упала на пол. – Видишь, – сказал черт, – ваши проклятые материальные ценности во мне не задерживаются. Как же я тебе дам что-то, если сам ничего не имею! Могу только болезнь какую-нибудь подкинуть. Сифилис, например. Или грыжу. Но тебе же этого не надо, поэтому я и не предлагаю. – А можешь, – спросила Долька, – сделать так, чтобы моя мама нового папу завела, а старого прогнала? А то папа уже надоел. Хочу другого. – Это можно, – ответил черт. – Тогда я тебе свой смех отдам, – пообещала Долька. – Договорились, – расплылся черт в паскудной улыбке. После этого сна Долькин папа с мамой разругался, ушел и пропал куда-то, а мама нового папу домой привела. Новый папа был огромный человек, еле в двери проходил, и какой-то весь темно-коричневый, и пахло от него странно. Когда он в туалет по-большому ходил, то дверь не закрывал, потому что полностью в туалете не помещался, частично выдавался наружу. Вонь от него шла тогда по всей квартире. Дольке это нравилось. А смех у нее постепенно пропал, и сделалась Долька такая тихая и неприметная, что ее вовсе перестали замечать. Раньше ее избегали, чтобы от ее смеха душою не повредиться, а теперь никто внимания на нее не обращал. Поначалу Дольке это нравилось, но потом стала грызть ее тоска. И с тех пор бродила Долька в одиночестве, никому не заметная, словно в пустоте, и бормотала постоянно одни и те же строчки из Маяковского: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Бродит по улицам и бормочет это себе под нос. Так и проходили ее дни. А ночью, лежа на кровати, глянет в темный потолок, захочет засмеяться, но не может. И лежит – молчит. Пустующие квартиры в ее доме вновь начали наполняться людьми. Однажды увидела Долька на улице бомжа, и он ей показался знакомым. Присмотрелась и узнала: то ее родной папа был. Разговорилась с ним, стала жаловаться на жизнь, а папа говорит: – Ты, доченька, главное, не унывай. Выход всегда есть. Я вот, к примеру, так счастлив, что аж стыдно перед людьми. А почему? Все потому, что нашел, куда с проблемами своими обратиться. И мне так помогли, так помогли, что просто слов нет – вот как мне помогли! – И куда ж ты обратился? – спросила Долька. – Пойдем, – сказал папа, – я тебе покажу, куда надо обращаться. При шеолитском посольстве действует Центр внутренней помощи, мне помогли там и тебе помогут. – Что за посольство такое? – спрашивала Долька по дороге. – Ну, шеолиты, – объяснял папа, – это их посольство. Два года уже почти как у нас в городе открылось. – А кто это? – спрашивала Долька. – Что за шео… лини? – Друзья наши, – отвечал папа. – У нас с ними отношения сейчас. Культурный обмен, и все такое. Ну, как тебе объяснить? Шеолиты – это шеолиты. Не все с ними понятно, но, главное, это наши друзья. Пришли они к посольству. Дольке вдруг страшно стало, но папа ее за руку потянул и втащил в здание. Пусто и тихо в вестибюле. Папа Дольку за собой ведет вниз по лестнице, куда-то в подвал. Спустились, отворили дверь и вошли в полную темноту. – Ты не бойся, – подбодрил папа, – это у шеолитов культурные традиции такие – в темноте жить. За руку меня держи покрепче, а то еще потеряешься тут. Долька ему в руку вцепилась, а у самой волоски на теле от страха встопорщились. Шли в темноте очень долго. Кажется, сворачивали туда и сюда. Там, в подвале, целые катакомбы были с длинными извилистыми коридорами. В темноте ничего не разобрать. Потом папина рука начала в руке у Дольки размягчаться, как пластилин. – Папа, ты чего? – спрашивает Долька. Но папа молчит. Долька другой своей рукой, левой, попробовала к папе прикоснуться – и не нашла его. Остановилась. Папу зовет, он не отвечает. Шарит левой рукой вокруг себя – и ничего нащупать не может, а в правой руке у нее зажато что-то: раньше она думала, что папину руку держит, а теперь уже и не поймет, что это – мягкое такое, скользкое, словно потроха. Разжала пальцы, и это скользкое шмякнулось на пол. – Папа! – закричала Долька, и так ей страшно стало, что разум вылетел куда-то из тела, и собственныйкрик она словно бы издалека услышала. Пришла в себя уже на улице и стала вспоминать, что же с ней приключилось в том подвале. Всего не вспомнила, только обрывки какие-то. Шеолиты, которых она в темноте так и не разглядела, сказали Дольке, что хорошо понимают ее проблемы и что требуются ей прогревания в лучах любви человеческой. А чтобы все тебя любили, мы, сказали, подсадим тебе в сердце маленького паучка. Бояться не надо, это не больно и не страшно: паучок малюсенький совсем, он в ноздрю заползет и там уж найдет дорогу до сердца, сориентируется. Кричать тоже не надо, мы ведь добра тебе хотим. Паучок этот будет воображаемую паутину плести вокруг тебя, а воображение у него такое, что паутину его краем глаза как бы видеть будут те, кто в нее попадется, и станут к ним по паутинкам передаваться от паучка импульсы, возбуждающие мозг на то, чтоб тебя любили. Сказано – сделано. И начали Дольку с тех пор все любить, угождать ей всячески, а она вертела влюбленными в нее людьми как хотела. Скажет, например, мальчику Пашке: «Поймай летучую мышь», – он пойдет и поймает. Скажет потом: «Съешь ее живьем», – он тут же и съест. Скажет учительнице Альбине Глебовне: «Покакайте у всех на виду», – она так и сделает перед всем классом. Уж так все Дольку любили, что из кожи вон лезли, лишь бы ей угодить. А когда у Дольки плохое настроение было, она просила людей убивать друг друга и смотрела, как те стараются. Никто ей ни в чем не отказывал. А паучок между тем рос в ее сердце, и от этого снились ей по ночам кошмары, чем дальше – тем страшнее. Снилось ей, к примеру, что мама забеременела от второго мужа, нового Долькиного папы, и, когда пришло время рожать, новый папа и говорит, что никакого, мол, роддома, он сам примет роды на дому. И вот, лежит мама в кухне на столе и рожает, а новый папа, в фартуке, стоит рядом и принимает роды. Только вместо ребеночка начинают выходить из мамы яйца, типа куриных. Одно яйцо вышло, другое, третье… Новый папа едва успевает их ловить, а Долька помогает ему и подхватывает упущенные. Яиц набрали целый тазик с горкой. Мама смотрит и ничего не понимает. Она-то думала, ребенка родит, а тут – яйца! Новый папа ее успокаивает: «У меня три жены до тебя было, и все они яйца несли. А когда я в деревне жил, то лошадь там изнасиловал, и она тоже яйца снесла. Так что нормально все, не переживай». Разбил новый папа скорлупу на одном яйце, очистил его, а там не белок вовсе, а какой-то кусок мяса. Очистил другое – и там кусок мяса, да еще с костью. Стали они все вместе – новый папа, мама и Долька – скорлупу очищать, и получилась у них целая груда мясных кусков. Большинство из них с костями. Маме аж нехорошо стало. А новый папа спокоен. Разложил куски на столе и давай их друг с другом соединять так и сяк, словно пазл какой-то. В итоге получилась у него человеческая фигура. Чуть только собрал он ее, фигура тут же встала на ноги и подозрительно осмотрела маму, нового папу и Дольку, видимо, прикидывая, стоит ли ей кого-нибудь тут опасаться. Была эта фигура приземистым гадким стариком. Новый папа стоит, счастливый, и говорит маме: «Знакомься, это мой прадедушка Федор Михайлович. Умер двадцать три года назад. Но мы сделали это – вытащили его из ада. Он теперь в бегах, жить будет под чужим именем. Будем звать его Антошенькой и оформим как нашего сына, чтоб ни одна собака не прознала, что это беглый каторжник. Если черти заявятся с расспросами, вынюхивать начнут, то скажем: ничего, мол, и знать не знаем, Федора Михайловича тут не было, а это Антошенька, сыночек наш; и свидетельство о рождении под нос им – нате-ка!» Мама говорит: «Укрывать беглого каторжника – это ж статья! А если все всплывет?» Новый папа ей: «Да не ссы! Если ты не проболтаешься, и она не проболтается, – кивает на Дольку, – то все ништяк будет. Я-то уж точно никому не скажу». Мама говорит: «Ладно. Выкрутимся как-нибудь. А за что, кстати, прадедушка в ад попал?» Новый папа с прадедушкой переглянулись, и старик ухмыльнулся скользко и гадостно. «Да так, ни за что, собственно, – отвечает новый папа уклончиво. – Подставили. Чужих грехов понавесили, они это умеют, и срок впаяли – пожизненный. Точнее, посмертный». Мама строго так говорит: «А ну, давай колись! Если я беглого укрываю, то должна все про него знать. Неопределенности не потерплю». Старик склабится довольно – видно, мамина решительность ему по душе пришлась, – манит маму пальцем и говорит: «Я тебе скажу, куколка, но только шепотом, на ушко». Делать нечего, подошла мама к нему, нагнулась, и начал он на ухо ей нашептывать. Долго шептал. А как закончил, то нежно куснул ее за мочку уха и языком по шее лизнул. Мама отошла от него бледная, сама не своя. Взяла Дольку за руку и повела прочь из кухни. Долька чувствует: а рука-то мамина дрожит. Зашли они в Долькину комнату, сели на кровать, мама Дольку за плечи обняла и говорит ей тихо: «Беда, доченька! Страшная беда пришла к нам. Этот чертов Федор Михайлович – душегуб, каких свет не видывал. Детоубийца-людоед. Поначалу он просто детей убивал, потом начал кровь у них пить перед смертью, а потом и пожирать стал. Сперва убивал и затем съедал, а потом до того дошел, что живьем начал жрать. Говорит, нравилось ему видеть ужас в глазах у деток малых, когда он зубами в них впивался. Пальчики на ножках – это в первую очередь, с них он всегда начинал. Жрет деток заживо, те кричат, он же помедленнее старается жевать, чтобы себе удовольствие продлить, а для ребеночка чтоб пытка растянулась. Почти двадцать лет этим занимался, и начались у него видения. Призраки убитых деток являлись, и все благодарили его, потому что поняли после смерти, что именно он и есть истинный их благодетель. Такое уж извращенное сознание приобретали они в мучениях своих. Смерть на пользу им не пошла, она ведь вообще плохо на всех влияет, поэтому от мертвеца чего угодно жди. В общем, призраки убитых чуть ли не обожествляли убийцу своего и старались всячески ему помогать: с похищением новой жертвы пособить, следы замести, следователей с толку сбить, чтобы они маньяка изловить не сумели, – это и еще всякое по мелочам для него делали. А он, видя такую любовь и почитание, вовсю старался и пополнял ряды загробных фанатов своих. И так, с помощью призраков, он еще двадцать лет благополучно убивал. У самого же семья была: одна жена, потом другая, дети, внуки, правнуки, и никто из них слова плохого про Федора Михайловича сказать не мог. Только первая жена, с которой он развелся, нехорошо о нем отзывалась, но, когда он жил с ней, маньяком еще не был и поэтому вел себя безответственно, с женой бывал груб, хамил и безобразничал. Зато как начал убивать и вторично женился, то старался повежливее с людьми обходиться, чтобы никто убийцу в нем не заподозрил, и за эту вежливость любили его и уважали. Дожил он до почтенной старости и мирно скончался в окружении любящих родных своих. А после смерти в ад отправился. Призраки же убитых им детей добивались, чтоб приговор был пересмотрен, хотели, чтобы Федора Михайловича полностью оправдали, отправили в рай и к лику святых причислили. Но не получилось у них. Коллективное их прошение, посланное в высшие инстанции, осталось без ответа. Тогда они решили действовать в обход всех правил и разработали план, как вызволить Федора Михайловича из ада. Для этого связались с его старшим правнуком, твоим новым папой, он у прадедушки ходил в любимчиках. Кончилось это все – ты видела, чем. Придется теперь жить нам с этим чудовищем под одной крышей». В этот момент дверца шкафа в Долькиной комнате отворилась, и начали из шкафа выходить призраки убитых детей. Все бледные, с блуждающими улыбками и лихорадочно блестящими глазками. Вышло их штук сто, не меньше. Только потому и поместились в комнате, что часть перешла на стены, а часть на потолок. Долька с мамой забились в угол и замерли там на корточках, вцепившись друг в дружку и дрожа. Обе от страха описались, и лужица натекла им под ноги. Подходит к ним один из призраков, маленький и злобный, и говорит: «Смотрите, сучки, только попробуйте Федора Михайловича сдать! Пожалеете, что родились», – и смачно плюет под ноги Дольке и ее маме. Слюна же его, попав в лужицу мочи и зашипев кислотно, растеклась по ней чернильным пятном. Такие вот скверные сны Дольке снились. И, бывало, просыпалась она с криком: «Спасите!» – тогда на крик сбегались все соседи, выламывали дверь в ее квартиру и начинали Дольку спасать, как могли, а Долька, отбиваясь от толпы спасителей, кричала на них: «Да идите вы к черту!» – и соседи, вместе с Долькиной мамой и новым папой, выходили из дома и бродили по ночным улицам в поисках черта. Понятно, что повеление «идите к черту» было едва ли выполнимо, потому что мало кто достоин черта видеть, и не всякому ведомо, как найти его. Но люди все равно старались исполнить Долькину волю и блуждали по улицам, будто приговоренные, озираясь вытаращенными глазами в помрачающем разум усердии. Один человек, впрочем, нашел-таки черта по Долькиному наказу. Это был вор-домушник, который забрался в квартиру к Долькиным соседям, укатившим на курорт. Он услышал Долькин крик – «Спасите!» – через стену и вместе со всеми прочими, кого этот крик захватил в повиновение, бросился Дольку спасать, а потом, когда Долька, злая спросонья, всех своих спасителей к черту послала, он, как и все, тоже на поиски черта отправился. Только, в отличие от прочих, сумел-таки отыскать его. Забрел он на окраину города, где в заброшенном полуразвалившемся доме временно обитал бродячий монах Елисей, который проклял свой монастырь за многочисленные уставные нарушения и ушел на вольные хлеба – бродить по свету и тьме. В ту ночь Елисей так пламенно молился о спасении всего мира, что ум его обострился и утончился, как лезвие бритвы, и прорезал ткань материального бытия, а через прореху, откуда потянуло потусторонним сквознячком, вошла в комнату к Елисею светящаяся фигура, в которой монах признал Спасителя своего Иисуса Христа. Свет мистический смешался с неживым лунным светом, что проникал в комнату через окно. Повалился монах в ноги Спасителю, взахлеб рыдая от радости духовной и вместе от стыда за грехи свои, а Спаситель присел перед ним на корточки и ласково погладил по нечесаным грязным волосам на склоненной голове. В этот момент в комнату заглянул вор, подошедший бесшумно, как призрак, – он же профессионал был и всюду проникал без звука, – и встал на пороге комнаты, в дверном проеме, открытом по причине отсутствия двери. Спаситель поднял глаза на вора, и тот, смутившись, решил уж было исчезнуть оттуда. Во-первых, как человек деликатный, не хотел мешать чужим мистическим экстазам, а во-вторых, он же черта искал, а вовсе не Христа. Но Спаситель глянул на вора таким магнетическим взглядом, что тот на месте застыл, не то чтобы волю утратив, а просто заинтересовавшись так, что уходить уже не хотелось. Продолжая левой рукой гладить шевелюру преклоненного монаха, поднял Спаситель правую руку и, вытянув указательный палец, поднес его к губам, призывая жестом не шуметь. А левым глазом в тот момент лукаво подмигнул вору. И сразу же сообразил вор: «Да это ж черт под видом Иисуса! То, что мне и нужно! А хорошо, однако, замаскировался». Вор тихо отступил от порога в темноту коридора и, скрытый тенью, остался наблюдать, как утешает рыдающего монаха подлый черт, с виду благообразный и сияющий как бы небесным светом. Наконец поднял мнимый Иисус монаха с пола, помог ему на дрожащие ноги встать, положил руки свои на плечи ему, поцеловал в уста и вышел из комнаты через дверной проем. Когда вошел он в темноту коридора, его сияние притухло, и сам он полностью с темнотой слился. В темноте черт-Иисус подошел к вору, продолжавшему там стоять, обнял его (и вор почувствовал, как на пальцах руки, что на плечо ему легла, вырастают острые когти), шепнул на ухо: «Пойдем, дружок». И увел с собой. Так вор и пропал навсегда. Другой на его месте бежал бы от черта без оглядки, но вор охотно ему поддался, потому как велела же Долька идти к черту, а он ее воле противиться не мог, ибо всем сердцем полюбил. Вот что любовь к Дольке с людьми делала!

И, наконец, так надоела Дольке вся эта любовь человеческая, так затошнило ее, что вышла она однажды на улицу, а дело было во время первомайской демонстрации, и закричала толпе людей: – Играем в живых мертвецов! Вы все – злые мертвецы-людоеды, а я последний живой человек. На счет «три»… Раз! Два! Три! И толпа людская в любовном припадке, вообразив себя мертвой, как было велено, бросилась на Дольку с рычанием и хрипом. Увидела Долька искаженные загробным безумием лица, увидела блеск потусторонней алчности в глазах и тьму вечного ужаса в едва приоткрытых или вовсю распахнутых ртах, почуяла трупный смрад, окутавший толпу (а смрад этот экстренно начали вырабатывать людские тела, из кожи вон лезущие, дабы Долькиному велению соответствовать и сделать игру в мертвецов более правдоподобной), – и ощутила, как ледяные зубы страха вгрызаются в ее сознание. В этот миг испытала Долька такое удовольствие, что у нее между ног защекотало – так приятно, так здорово! Она тут же и описалась, с наслаждением пустив теплую струйку. И струйка эта, разделившаяся, чтобы стечь по ногам, представилась ей каким-то райским лимонадом, с которым и рядом не стоят все лимонады мира. И уже схватили Дольку судорожные руки псевдомертвецов, и уже приблизились к ней оскаленные зубы, и промозглый могильный холод, выходя из хищных ртов, овеял ее лицо и затылок, – в этот-то миг Долька и успела крикнуть: – Сами себя жрите! Тотчас же начали все пожирать самих себя, уже не обращая внимания ни на Дольку, ни на кого-либо еще, кроме собственных персон. Каждый на месте извивался и выкручивался, чтобы в самого себя половчее зубами впиться. Никто не пытался ближнему своему помочь, но каждый себя единственного терзал в полном онтологическом одиночестве, как будто был он последнее живое существо во вселенной. Долька же ходила среди праздничной толпы, смотрела на людей и дивилась чудесам изворотливости, что творились посреди этой оргии самопожирания. Одна гибкая девушка изогнулась так, что, разорвав зубами свой живот, влезла головой в утробу и теперь сворачивалась улиткой, прогрызая путь к сердцу, в саму себя заползая через дыру в животе все глубже и глубже. И так ловко спорилось у нее дело, что вскоре девушка вовсе перестала походить на человека. Не только голову сумела просунуть внутрь себя, но и руки, и плечи. Заметив ее, Долька не сразу поняла, что же такое тут копошится на асфальте: какое-то гигантское насекомое с ногами, как у кузнечика, что ли? Приблизившись, рассмотрела архитектуру странного существа и поняла, что состоит оно из девушки, заползшей в саму себя с целью выжрать себя изнутри. Долька хихикнула и пнула странное существо носком туфельки в промежность меж широко расставленных ног, затянутых в узкие джинсы. Существо вздрогнуло и тут же поползло прочь от Дольки, перебирая ногами, как кузнечик, не способный прыгнуть. Долька прыснула со смеху и пошла дальше – осматривать эту ярмарку чудес. Не все демонстранты были достаточно гибкими, чтобы ловко вгрызаться в самих себя. Пожилым самопожирание давалось с трудом. Впрочем, некоторые старички умудрялись вспороть себя то ли ногтями, то ли ключами, то ли еще чем, вытягивали потроха, будто сосиски или елочные гирлянды, и поедали собственное добро – кто резво, а кто и с гурманской неторопливостью. Одной старушке пришлось совсем худо. По старческой забывчивости своей, она отправилась на парад без вставной челюсти. Праздничный восторг так вскружил голову с утра, что, только выйдя на улицу, старушка опомнилась: батюшки, челюсть ведь так и осталась в стакане с раствором! Но возвращаться и подниматься без лифта на четвертый этаж своей хрущевки старушка не стала – вздохнула, досадливо крякнула и пошла навстречу Первомаю. А теперь маялась, бедная, тщетно кусая себя безоружными деснами. Долька остановилась напротив старушки, наблюдая, как та, плача от бессилия и блузку на себе порвав, извлекла на свет одну свою морщинистую грудь, похожую на просроченное колбасное изделие, и, засунув конец ее в рот, пыталась прокусить дряблую кожу, в надежде, что хоть самая мягкая часть тела поддастся усилиям. Сжалилась Долька над старушкой и сказала ближайшему старичку, бодро грызущему свои кишки металлическими коронками: – Дедуль, ты бабушке помог бы, что ли! Тот сразу же пришел старушке на помощь и впился зубами в мякоть ее груди, а старушке сунул под нос свои надгрызенные кишки, чтобы она могла, по крайней мере, хоть крови насосаться. Старушка довольно зачмокала, пока старик с урчанием вгрызался в ее плоть. Смотрела Долька на эту парочку и вдруг стало ей до тошноты противно: слишком уж безобразны были пожилые каннибалы. Едва удержавшись от рвоты, Долька поспешно пошла прочь. Надобно вот что заметить: имелись в той толпе исключения из общей тенденции, не вполне исполнявшие Долькино повеление, а то и вовсе его презревшие. Одним таким исключением был старичок Федотыч, который в демонстрации участия не принимал (поскольку считал праздник Первомая мероприятием вредным для души и утомительным для тела), но шел из церкви, двигаясь по тротуару параллельно праздничной толпе, заполнившей проезжую часть. Лишь на небольшом отрезке пути маршрут его совпал с маршрутом толпы, и как раз тогда прозвучали два Долькиных повеления: играть в живых мертвецов и жрать самих себя. Федотыч был совсем святым старичком и, в силу своей святости, люто ненавидел самого себя, зато окружающих любил чистой платонической любовью. Как-то он сумел так исхитриться и развернуть силу любви в своей психике рабочим концом к людям, а нерабочим – к себе. Как Федотычу это удалось, один только Бог знает. Когда крикнула Долька, чтобы все вообразили себя злыми мертвецами-людоедами, то Федотыч лишь головой тряхнул, словно муху отгоняя, и спокойно продолжал идти, погруженный умом в непрестанную внутреннюю молитву. Даже не заметил в тот момент – а был он подслеповат, – что толпу демонстрантов охватило страшное смятение. Когда же Долька велела всем жрать себя, то Федотыч, ощутив резкое побуждение к самопожиранию, застыл на месте, но так и не смог пересилить ненависть к себе, поэтому питаться собой не начал. Окинул взглядом самого себя, насколько позволяло положение головы, содрогнулся от омерзения, брезгливо скривил губы, плюнул с ненавистью под ноги, прошипел какое-то церковнославянское ругательство, да и пошел прочь. Другим исключением была юная влюбленная пара. Пятнадцать лет всего исполнилось ему, и пятнадцать ей. И уж так эти паренек и девчушка влюблены были друг в друга, такой прилипчивой любовью каждый из них, как плющом, обвивал другого, что не смогли они друг от друга отгородиться и замкнуться в самодовлеющем поедании себя. Каждый из них любил другого, как себя самого, и поэтому приказ сами себя жрите, в их восприятии, трансформировался в приказ жрите друг друга. С наслаждением обгладывая друг друга взглядами, начали они раздеваться. Никого не стыдились, да и кого там стыдиться было, в обступившем смятении, где каждый, словно черная дыра посреди космоса, был поглощен собой, ничего вокруг не замечая. В толпе той любовники чувствовали себя как в пустыне, как на безлюдном кладбище. Сбросили они последние тряпицы и стали друг против друга, немножко нелепые, ведь угловатые тела не совсем сформировались, однако и прекрасные по-своему. С минуту переминались с ноги на ногу, дрожа от любовно-гастрономического возбуждения, судорожно сглатывая обильную слюну. Они легли на асфальт валетом и, бережно, с трепетом касаясь друг друга, начали медленно и упоенно друг друга поедать, вздрагивая от боли и пронзительного наслаждения. Прежде чем вгрызаться в какой-либо участок тела, они его целовали, обсасывали, облизывали, обильно смачивая слюной. И потом только, когда лакомое место превращалось уже в настоящую опухоль, нежно и ласково пробовали на зуб, сначала слегка надкусывая кожу и посасывая кровь, затем всасываясь сильнее и, наконец, сладострастно впиваясь в мясо со всей силой юности. И в какой же экстаз приводили они друг друга этими любовными угрызениями – описать невозможно! Начали с самых интимных, вожделенных и дражайших органов своих, затем перешли к органам второстепенным, однако более сочным и питательным. И если в глазах окружавшей толпы полыхало какое-то злобное остервенение, то в глазах юных любовников лучились экстаз и нежное упоение самоотверженной любви. Когда Долька подошла к ним, влюбленные переходили со стадии обсасывания и облизывания на стадию надкусывания и легкого кровососания. Девушка как раз нанесла первое робкое повреждение юноше и смотрела во все глаза, как на его напрягшейся плоти выступает алая капля крови. Эта капля, с блестинкой отраженного майского солнца, гипнотизировала девушку, представляясь едва ли не волшебным драгоценным камешком, словно бы под кожей юноши таились невообразимые сокровища. Девушка слизнула каплю языком, и восхитительный спазм пробежал по ее телу. Долька же с неудовольствием отметила, что эти двое занимаются не тем, чем следовало: не себя жрут, а друг друга, да еще как-то слишком уж нежно и деликатно. Но мешать им не стала, Дольку невольно захватило зрелище. Она стояла над влюбленными, чувствуя непонятное волнение, а в нем прожилки тревоги и тоски, и отдаленный жар, змеящийся где-то в глубинах ее существа. На лице девушки выступили крупные капли пота, и Долька видела, как одна из капель затекает в распахнутый глаз, отчего девушка начинает моргать, и крыльями бабочки хлопают ее ресницы. Сама девушка не в состоянии вытереть пот, ведь руки ее ласкают плоть возлюбленного, не в силах оторваться ни на мгновение. Долька достала свой носовой платочек, присела на корточки и аккуратно вытерла капли на девушкином лице. Та бросила на Дольку секундный благодарный взгляд и вновь погрузилась в созерцание юноши, по телу которого так красиво струилась кровь, с примесью туманно-молочных нитей молодого семени. Поймав девушкин взгляд, полный любовного сияния, Долька почувствовала, как мурашки бегут у нее по рукам, по спине и затылку, как пульсирует кровь, как колотится сердце. Долька вдруг застыдилась, сама не понимая чего, покраснела, встала и отошла в сторону, нервно оправляя платьице. На глаза ей попался удалявшийся Федотыч, но Долька даже не возмутилась тем, что кто-то имеет наглость так беспардонно покидать игровое пространство. Лишь скользнула мрачным взглядом по спине отказника, отвернулась, поджала губы и побрела прочь. Сладостный страх, нахлынувший, когда едва не растерзала Дольку толпа, прошел, оставив после себя противное послевкусие: будто лизнула языком дохлую крысу. Волнение, охватившее Дольку при виде юных любовников, добавило к этому послевкусию словно бы щепотку душистых пряностей и чайную ложку меда, так что стало в итоге еще противнее. Погано было на душе, муторно, тоскливо и постыло. Хотелось Дольке чего-то странного и страшного: то ли чтобы с неба опустилась, будто гигантский ковш, чудовищная челюсть и сожрала ее, то ли чтобы из-под земли вылезли черти и живьем утащили в ад, то ли чтобы взорвалась вся планета, и Дольку вместе с ней разметало на молекулы. Какие-то грозные и смутные желания роились в воображении. Пришла она домой, сказала маме и новому папе: «Идите погуляйте» (они тут же собрались и пошли) – и закрылась в своей комнате. Сидя уныло на кровати, помышляла, что если б жил с ними Федор Михайлович, нового папы прадедушка, что приснился ей однажды, то уж такой монстр, как он, наверняка сумел бы ей помочь – избавил бы навеки от невыносимой маеты, терзающей душу. Долька заплакала в бессильной злобе, непонятно кому адресованной, давясь острой жалостью к себе, застрявшей в горле, будто рыбья кость. Тогда-то, впервые в жизни, начала она молиться: – Федор Михайлович, миленький, – шептала сквозь слезы, – я не знаю, есть ты в самом деле, или не было тебя никогда, и только во сне моем ты мелькнул, а потом опять тебя не стало. Но даже если тебя не было, если ты не жил и не умирал, то все равно будь сейчас, пожалуйста, хоть немного, но – будь! Сделай так, чтобы ты сделался, Федор Михайлович, миленький мой, родненький! Ты же видишь, как мне плохо, как х…. (И Долька произнесла такое скверное слово, которое маленькие девочки обычно не произносят даже в мыслях, если только душа у них не зажата в тисках полной и горькой безысходности.) Помоги мне, пожалуйста! Даже если тебя нет – все равно помоги! Все равно приди сюда, будь, сделайся как-нибудь, только не бросай меня одну, Федор Михайлович! Долька затряслась от рыданий, сползла с кровати на пол и лежала, дергаясь в нервических спазмах. А когда, опустошенная и будто вывернутая наизнанку, поднялась с пола, то увидела, что Федор Михайлович – точно такой, как пригрезился во сне, – стоит перед ней и зловеще улыбается. Долька так и не поняла, что означало это явление: то ли Федор Михайлович и впрямь существовал и давешний сон про него был замешан на истине; то ли сон был полной фантазией, однако теперь она воплотилась в ответ на истошные Долькины мольбы? Впрочем, не особо интересовали ее все эти организационные моменты. Главное, что Федор Михайлович существует здесь и сейчас, в тот самый миг, когда так нужен ей. – Ну вот, – сказал Федор Михайлович, – пришел я это… спасти тебя. И уж я-то знаю, чего тебе требуется. Чтобы тот, кто не подчиняется капризам твоим, сделал с тобой все то, чего желает нутро твое в самой черной своей глубине. Сделал бы, даже если ты сама в последний миг передумаешь и будешь умолять не делать. Правильно я говорю? Долька, завороженно на него глядя, молча закивала головой. – Хе-хе-хе! – проскрипел Федор Михайлович. – Ты по адресу обратилась. Будет тебе дудка, будет и свисток. И хоть я никогда детям плохого не делал, даже пальцем их не трогал, а только жрал их, но тебя, пиявку мелкую, трону. Так трону, что – йи-и-их!.. А потом уж сожру. Заживо. И Федор Михайлович вцепился в Дольку своими твердыми, как коряги, пальцами, а та завизжала от сладкого ужаса.

Когда дело было почти кончено и мясо с костей в основном обглодано, Федор Михайлович, разломав Долькину грудную клетку, обнаружил, что вместо сердца сидит под ребрами большой жирный паук, отяжелевший от крови. Аккуратно достал паука, рассмотрел, покачал головой и перенес на Долькину кровать, чтобы паук не мешал кости обгладывать. За этим занятием застали Федора Михайловича Долькины родители, когда вернулись с гулянки. Они стояли на пороге комнаты и смотрели, как голый страшный старик гложет кость, восседая над превращенным в мерзкую груду скелетом. Пожирая Дольку, Федор Михайлович ничуть не полнел: все, что ни проглатывал, словно проваливалось у него в какую-то черную бездну, а он так и оставался поджарым и голодным. Посмотрели на него Долькины мама и новый папа, развернулись и пошли: папа – на диван, мама – на кухню. Паук, на Долькиной кровати сидевший, вполне способен был заменить Дольку по части манипуляций с желаниями окружающих и, в отличие от Дольки, мог делать это молча, без вербальных излишеств. В последнее время Долька стала для паука тесноватым жилищем, поэтому и решил он, что пора выходить на свет, только сам этого сделать не мог, запертый в Долькином организме, будто в каземате. Вот и побудил он Дольку молиться о явлении с того света Федора Михайловича, которого показывал ей как-то во сне. Паук был умной тварью, сведущей в механике загробного бытия, и знал, как именно надо молиться – в каком состоянии, в каких чувствах, – чтобы вызвать с того света любую загробную гадину. А уж правильно настроить Дольку посредством биохимии мозга – это для него сущим пустяком было. Теперь, когда он, наконец, освободился от Дольки, от ее тесной грудной клетки, доставлявшей, с некоторых пор, сплошные неудобства, паук прикинул, что комната Долькина как раз подойдет ему в качестве жилища, где он спокойно продолжит рост и без помех достигнет максимального размера своего – метр семьдесят или метр восемьдесят в размахе ног. Крупнее шеолитские пауки не вырастали. Федор Михайлович, дочиста обглодав Долькины косточки, лег на бочок и захрапел. О двух вещах тосковал он в аду – о пище насущной, иначе говоря, о детской плоти, к которой пристрастился во время людоедской жизни своей, и о сне без сновидений, чего в аду принципиально не бывает. И, хотя Федор Михайлович так и не насытился, Дольку сожрав, все равно ему стало легче от самого процесса людоедства, и мирный сон сморил старика. Только вскоре явились за ним черти, две кошмарные фигуры, из которых сочился во все стороны липкий страх. Из-за одежного шкафа вышли, глянули на спящего Федора Михайловича, на груду детских костей, на паука, сидящего на кровати, – один черт при этом криво усмехнулся, а второй кисло поморщился, – подняли спящего, подхватили под руки с двух сторон, уволокли за шкаф и там пропали. Паук же с Долькиными родителями жить остался. А те о нем, будто о родной дочери, заботились. Кормили его кровью – собачьей, кошачьей, говяжьей, свиной, куриной, частенько и собственной, что, кстати, в медицинском смысле даже и полезно. За гирудотерапию ведь люди деньги платят – за то, чтоб пиявки из них кровь высасывали. Но шеолитский паук был милостив и посему совершенно бесплатно сосал кровь людскую. Был паук тих, бесконфликтен, в разум окружающих вторгался деликатно, капризами не страдал и своих домашних не терзал понапрасну. Жить с ним гораздо спокойнее было, чем с Долькой, это мама с папой быстро поняли. Бывало, что родной Долькин папа, Николай Васильевич, навещал их – паука проведать, а заодно с новым Долькиным папой, Львом Николаевичем, красного винца выпить (другие виды алкоголя паук запрещал употреблять), да за жизнь потолковать, да Долькину маму, Анну Андреевну, обсудить по-мужски, с разных интимных сторон. Глубокую симпатию оба Долькиных папы друг к другу почувствовали. Поэтому вскоре Лев Николаевич предложил Николаю Васильевичу бросить бомжовую волюшку и перебраться к ним насовсем – в чулане как раз одному скромному человеку можно было разместиться, и даже с удобствами. Жили все они долго, тихо, благополучно, уютно, в довольстве и сытости, не зная ни нужды, ни болезни, ни взаимной вражды, ни даже легких раздоров, – как только самые порядочные люди живут. Будто легкий полусон весенним днем, в час послеобеденный, текла их жизнь, и, казалось, течь она так будет вечно. Порой и Дольку вспоминали. Наливали тогда кроваво-красного винца в бокалы, говорил кто-нибудь: «Земля ей пухом», – и пригубляли, не чокаясь. Хотя, если разобраться, какой там к черту пух! Дольку вообще не хоронили, но Лев Николаевич, по указу паука, перемолол кости ее сначала в мясорубке, потом в кофемолке, а костную муку смешали с пищевыми отходами, Дольку же объявили пропавшей без вести. А то еще говорили: «Царствие ей небесное», – тоже курам на смех. Такую-то мерзавку, как Долька, нелепо и представить было бы после смерти в каком-то там раю или где-то на небесах. Но поднимавшие бокалы за нее настроены были благодушно, к чему их и вино обязывало, да и паук тому же учил, поскольку качество крови человеческой заметно улучшается в атмосфере взаимного благожелательства.
Чрево

Так рано Вадик еще не просыпался. Родители ушли в пятнадцать минут шестого, у них вахтенный автобус отходил в пять тридцать. Когда они собирались и тихо переговаривались на кухне, Вадик проснулся, лежал в кровати, глядя в потолок, и, только дверь за ними закрылась, сразу встал. Субботнее летнее утро лениво растекалось по городу. Словно за кромкой гор, замыкавших город с востока, опрокинули огромную банку какой-то химии, и та медленно пропитывала небосвод, осветляя его и вызолачивая. Вот-вот и заспанное солнце взойдет из-за гор на порог дня. Вадик выглянул из окна. Никого. Еще не бродил по двору с папиросой сосед-старик, всегда просыпавшийся рано, вразвалку шагавший на плохо гнущихся ногах. Еще никто не врубил музыку – так, чтобы хлестала из окна, – всем на радость, ну или на раздражение. Никто не хлопал дверцами автомобилей. Не тявкали соседские собаки. Чуть позже двор оживет, но сейчас не время, сон пока не натешился человеческими леденцами, еще обсасывал их, сладких, в уютной тьме за щекой своего тягучего бреда. Маленький Вадик Черенков был сейчас, наверное, единственное бодрствующее существо во всем доме, на все пять этажей и четыре подъезда. Ему вдруг показалось, что дом – корабль, а он – его капитан. И может увести дом, пока остальные спят, в неведомые края, а как проснутся жильцы, с удивлением увидят из окон странный пейзаж и в тревоге ступят из подъездов на незнакомую, возможно опасную, землю. Вадик приоткрыл дверь в комнату сестры. Лина дрыхла без задних ног. Да она рано и не встанет, если в школу не идти, а сейчас каникулы. Как всегда, сидела за полночь в соцсетях. Закрыл дверь, чувствуя превосходство над сестрой. Она, конечно, старше на целых семь лет, но сейчас-то хозяин в квартире он, а она, спящая, – только предмет обстановки. На кухне Вадик деловито отрезал хлеба, намазал маслом и джемом. Жуя, хозяйски огляделся. Кстати, вот мусор бы вынести. Обычно он с неохотой таскал ведро, но теперь-то не родители посылают, а он сам – хозяин-барин! – решил, что так надо. Положив на разделочную доску недоеденный бутерброд, вернулся к себе в комнату, натянул майку и шорты, взял из кухни ведро и отправился с ним на улицу. Четырьмя мусорными контейнерами в металлической выгородке, под покатым навесом, пользовались жильцы трех окрестных пятиэтажек, а также полутора десятка частных домов, стоявших здесь с середины прошлого века, когда третьего микрорайона еще и в планах не было. Двор перед домом Вадика давно превратился в целый парк. Деревья – самые безудержные из них – вымахали до уровня четвертого этажа. Кусты меж ними разрослись, как застывшие в стоп-кадре взрывы артиллерийских снарядов. У родителей было мало шансов высмотреть своих чад из окон или с балконов. Вадику очень нравился этот двор, полный укромных закутков. Пройдя с ведром по узкой асфальтированной дорожке с бордюрами, кривящейся среди растительности, Вадик выбрался из парка, пересек детскую площадку с ее качелями, горками и всякими нелепыми конструкциями, в которых через несколько часов будет роиться визгливая малышня, и вышел к помойке. Опорожнив ведро в контейнер, застыл на месте. То, что показалось ему грудой хлама, сваленного в углу выгородки, зашевелилось, поднялось и сделало три шага навстречу. Женщина – Вадику она увиделась ветхой старухой, хотя была не так уж стара, – стояла перед ним. На некрасивом грязном лице мутнели глаза с червоточинами зрачков. Ни малейшего выражения не было в том лице. Одетая не по погоде тепло, беременная, живот пузырем, она нависла над Вадиком, тупо глядя на него сверху. Маленький, худенький, ломкий, руки-спички, стоял он перед ней. Пока раздумывал, стоит ли поздороваться, или эта бомжиха, вонючая к тому же, не заслуживает никакой вежливости, ее лицо вдруг ожило, словно его включили, как телевизор. Глаза наполнились умом, язвительностью, лукавством, холодным высокомерием и злобой. Ехидный червячок искривился на губах. И при этом она как будто помолодела. Вадику сделалось не по себе. Женщина опустилась на корточки, лицо ее теперь замерло на одной линии с его лицом. Взгляд буравил Вадика, проникая все глубже в его голову. Вадик отступил, но женщина больно схватила его левой рукой за шею и притянула к себе. Правой рукой расстегнула свою грязную шерстяную кофту, под ней байковая рубашка – расстегнула и ее, затем майка, когда-то белая, и эту майку она задрала, захватила в горсть обвисшую голую левую грудь и навела на Вадика, словно какое-то оружие, омерзительный сосок, похожий на застывший сгусток гноя. Левой рукой притянула Вадика еще ближе, чуть привстала, и вот уже сосок тычется ему в лицо, в складку около носа. Нацелилась получше, и сосок упирается ему прямо в губы. – Бери зубами и кусай, – приказала она; голос был тихим и страшным. Вадик оцепенел от ужаса. – Бери! – процедила с ненавистью; таким тоном обычно говорят «пшел прочь!». Вадик раскрыл задрожавший рот и легонько сжал зубами сосок. – Кусай! – прошипела бомжиха. Его зубы сжались чуть сильнее. – Еще! – Шипящий звук выполз изо рта мерзкой сороконожкой, и Вадику показалось, что она, невидимая, прыгнула к нему на лицо. Он малость обмочился от страха и сомкнул челюсти до конца, почувствовав, как перекусывает чужую плоть, как откушенный кончик соска, словно голова казненного на гильотине, падает на язык, скатывается куда-то к изнанке щеки… Женщина издала короткий не то стон, не то рык – знак удовольствия – и отпустила шею мальчика. Попятившись, он встал перед этой безумной, широко открыв рот, с трудом глотая воздух и конвульсивно вздрагивая. Ему хотелось кричать, но не было голоса. Женщина приподняла грудь с откушенным соском к своему лицу и осмотрела рану. Ни капли крови почему-то не выступило на поврежденном месте. Вадика меж тем вновь объяла паника: он почувствовал, что случайно проглотил откушенный кончик соска, что тот проскользнул в горло и, после очередного спазма, канул в глубину организма. Вадик сорвался с места, разорвав чары оцепенения, которыми был опутан, и бросился прочь. Женщина не собиралась его преследовать.

Об этом происшествии Вадик рассказал сестре, взяв с нее клятву, что родители ни в коем случае ничего не узнают. Лина поежилась, представляя себе откушенный сосок, который Вадик так и не смог исторгнуть, сколько ни дергался в искусственных конвульсиях, суя пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту. Задумалась. Про беременную бомжиху ей уже приходилось слышать, причем давненько, когда училась еще в третьем или четвертом классе. И рассказывали про нее что-то страшное. Что именно – Лина уже не помнила, осталось лишь ощущение какой-то зловещей мерзости от тех рассказов. Но была ли бомжиха, что теперь пристала к Вадику, той самой? Лина, закусив губу, соображала, с кем бы поговорить на эту тему. И вспомнила! Вспомнила, кого можно спросить. Был один тип, который знал все страшные слухи, витавшие в городе. Это был Артем, ходячая энциклопедия кошмаров. Про каждое страшное событие в городе – преступление то, несчастный случай или самоубийство – он знал все. Его отец, угрюмый дядька с неприятно скользким взглядом, работал патологоанатомом, и Артем с раннего детства мечтал, что пойдет по отцовским стопам и будет ковыряться в трупах, как только вырастет. По крайней мере, так он не раз о себе говорил, если спрашивали о будущей профессии; возможно, просто глумился над вопрошающими. Он был ровесником Лины, только учился в другой школе. Две подружки однажды затащили Лину в компанию, собиравшуюся вокруг Артема на пустыре. Сейчас на этом месте выросла новостройка, а тогда пустырь был дик, частично заболочен, там колыхались заросли высокой травы, и человек двадцать, от шкетов-десятилеток до шестнадцатилетних прыщавых дылд, сидели вокруг Артема и слушали. Как он, никто не мог рассказывать страшные истории. Сам тщедушный, узкоплечий, с выпирающими под бледной кожей костями, он словно набрасывал петлю на горло каждого из слушателей и затягивал, затягивал ее, нагоняя жуть, которая липла к сердцу, как паутина, и не отпускала потом несколько дней продолжала тревожить вечерами, заставляя пугаться безобидных теней и звуков. Лина терпеть не могла все мрачное и страшное, ей делалось душно и тошно в атмосфере зловещих историй, но, чтобы разобраться с этой бомжихой, хоть что-то разузнать, она решила отправиться на заседание круга к Артему, и там спросить – что ему известно про пресловутую беременную бомжиху, о которой ходило столько слухов.

Самым постоянным и фанатичным слушателем Артема Тарасова был Кабан. Имя-фамилию Кабана мало кто знал, на слуху была только его кличка. Учился Кабан не в обычной школе, а в элитной гимназии, хотя, глядя на него, трудно было представить, что хоть одно учебное заведение когда-либо принимало его под свой кров. Кабан был злобным и страшным. Выглядел старше своих лет: ему стукнуло пятнадцать, а на вид – все двадцать пять. Огромная туша, сплошные мышцы и жир. Когда он ухмылялся, чудилось, будто у него изо рта торчат кабаньи клыки. Зубы его были великоваты, конечно, но клыков не имелось никаких, они лишь мелькали в воображении у тех, кто смотрел на Кабана. Поговаривали, что он – убийца, хотя Кабан еще не убивал никого из людей, животные – те, само собой, не в счет. Кабан говорил, что обязательно кого-нибудь убьет, когда вырастет, что чувствует свое предназначение, и оно в том, чтобы стать убийцей. У него была необычайная, чуть ли не потусторонняя, чувствительность к чужому страху. Сидя в кругу слушателей, он иногда переводил взгляд на тех, кто испытывал особенный ужас, кто уже был готов запаниковать, вскочить и выбежать из круга. Тяжелый злобный взгляд Кабана пригвождал к месту, вводил в оцепенение, под этим взглядом слабели ноги, обмирало сердце. Перепуганным слушателям, наколотым на острие Кабаньего взгляда, чудилось, что попробуй они только дернуться – Кабан тут же вскочит, как хищный зверь, набросится на них и задушит или, хуже того, растерзает зубами и руками. Едкое наслаждение страха в такие моменты становилось почти запредельным. Рассказы Артема делились на две категории: одни он выуживал из омута своей необъятной памяти, другие сочинял на ходу. Последниебыли особенно жуткими. Бывает, рассказывает он историю, как вдруг низойдет на него вдохновение, и Артем начинает импровизировать, сочиняя такую жуть, от которой даже самым взрослым пацанам становится не по себе. Сам же он пугающе преображался в такие моменты и походил на какого-то загробного паразита, выползшего из сырого жуткого подполья, чтобы мраком и ужасом отравлять этот мир. В наиболее вдохновенные минуты Артем сам себе удивлялся, сам собой очаровывался, каким-то отчужденным взглядом за собой наблюдая. Он, похоже, никогда не знал, чего ждать от себя, какой еще неожиданный и мрачный финт выкинет в следующую секунду. Вершиной его творчества были сочиненные на ходу рассказы, которые сбывались. Опишет Артем какую-нибудь кровавую жуть с кошмарными деталями, а потом вдруг нечто подобное произойдет на самом деле, и те самые страшные детали поползут, как пронырливые насекомые, по блогам и новостным сайтам. Или спросят Артема о свежем происшествии, подробности которого еще неизвестны публике, и начнет он сочинять версии, одна страшней другой, а потом выяснится, что наиболее скверная среди версий попала-таки в десятку. Но иногда Артем, не растрачиваясь на варианты, сразу же рассказывал страшную правду, которая затем и всплывала на всеобщее обозрение, когда приходил ее срок явиться миру. Кабан всегда чувствовал эти необъяснимые попадания в цель, и в глазах его начинало мерцать что-то дьявольское, когда он слушал Артема, на ходу сплетавшего пророческую правду.

Лина узнала через одну подружку, Ксюшу Студникову, фанатку тупого и мерзкого сериала «Ходячие мертвецы», где и когда в ближайшее время Артем будет выступать в кругу любителей страшного. Вместе с Ксюшей, натянувшей майку с гниющей рожей Игги Попа из фильма «Мертвые не умирают», Лина и пришла на место в назначенный час. Круг собрался под крышей приготовленного под снос одноэтажного дома. Участок с обреченным зданием уже обнесли высоким забором из металлопрофиля, однако стройку не начали, не срослось, и дом все ветшал, погруженный в бурно разросшиеся заросли. В одной из комнат, кое-как расчищенной от мусора, стояли ящики и коробки, приготовленные для заседаний круга. Солнце уже село, но воздух был еще светел, однако в доме сгустились сумерки. Казалось, что все собравшиеся погрузились в мутное варево колдовской похлебки. Малышни на этот раз не было. Лина с Ксюшей, тринадцатилетние, и сам Артем оказались тут младшими, остальным было где-то от четырнадцати до шестнадцати. А еще затесалась в круг великовозрастная парочка: парень с девушкой, лет по восемнадцать, наверное, сидели в обнимку, Лина заметила у обоих обручальные кольца. Неужели муж и жена? Когда Артем вошел в раж, и от него начали расходиться волны липкой жути, девушка с кольцом испуганно прижалась к своему юноше, но даже в его объятиях выглядела беззащитной и обреченной, словно знала, что потусторонняя сила вот-вот оторвет ее от любимого человека и унесет в страшное запределье, а тот не в силах будет помочь. После очередной истории, когда Артем умолк, рассеянно глядя перед собой, Лина спросила его: – А ты что-нибудь знаешь про беременную бомжиху? Я что-то слышала про нее несколько лет назад, какие-то страсти рассказывали, но уже не помню. А на днях младший брат мой повстречал ее, потом дергался от страха. Короче, она его напугала. Он же мелкий. И я думаю… ну кто она такая? Что вообще про нее известно? Кабан, сидевший через четыре человека от Лины, глянул на нее. Она ощутила его тяжелый взгляд как что-то физически болезненное, словно Кабан вонзил ей в щеку рыболовный крючок и теперь тянет за леску. Артем, рассеянно слушавший вопрос, казалось, и вовсе выпал из реальности. Его неподвижные глаза смотрели в небытие. Мать Артема, эстетская натура, с малых лет воспитывавшая у сына хороший вкус в литературе, живописи, музыке и кинематографе, однажды сказала ему, что внешне он – вылитый великий Роман Полански, а таким сходством надо гордиться. Так она утешала сына, когда признался, что получил в школе, в первом классе, постыдную кличку Крысеныш, да и сам уже замечает нечто крысиное в своем лице. Сейчас он, сидящий на ящике, казалось, вдруг состарился и выглядел действительно почти точной копией Полански – только не молодого, а разменявшего пятый десяток. Наконец Артем очнулся и заговорил: – Да-а. Беременная бомжиха. Первый раз ее видели с животом давно… двадцать пять лет назад… нет, даже больше, больше. Давно, короче. С тех пор ее не раз встречали, но ни разу – без живота, вечно на сносях. Я и сам ее видел. В прошлом году. С животом была. Про нее разное рассказывают. Говорят, что она рожает одного ребенка за другим и продает людоедам. Новорожденные дорого стоят, это ведь самый деликатес. Дети постарше уже не так хороши. Хотя людоеды их тоже купят с удовольствием, но если дать выбор – взять новорожденного или, скажем, трехлетку, – то они выберут новорожденного. Потому что знают толк. Мясо самое нежное, тает во рту, косточки легко перекусываются. Людоеды это ценят. Но говорили еще и другое – что она сама пожирает своих детей. Она как бог Кронос, воплотившийся в женской форме. Родила – и сожрала. Потом по-быстрому забеременела, чтобы опять было в кого зубы вонзить. И пожирает их живьем. Ее насыщает не само мясо младенцев, а больше сознание, что ребенок едва родился на свет – и тут же попадает в прожорливую пасть. Не успел открыть глаза, как чувствует, что с одного конца – с ручки или с ножки – в него уже вгрызаются. Он не успел понять, что такое рождение, что это означает, а тут уже и пожирание подоспело. Он думает, наверное, что это какой-то единый процесс, что так устроено бытие, что иначе и быть не может, что это обязательный закон для всех. Мы вот знаем, что для нас обязательна сила тяготения, а он знает, что для каждого обязательно – быть сожранным сразу после явления в мир. С этим знанием, вошедшим в его кровь, в его боль, в его безумие, он проваливается в загробную тьму. Так-то! Но и другое говорили еще – что она сдает своих детей государству для секретных экспериментов. Много государство не платит, но зато с ним иметь дело безопаснее, чем с людоедами. Их могут поймать, и тех, кто детей им продавал, – тоже, а это тюрьма. Но если продал новорожденного в государственную лабораторию, то никакая полиция тебя уже не тронет. – Что еще за лаборатория такая? – спросила Лина. – Лаборатория при институте антропологических исследований, – отвечал Артем. – Мой отец с ними несколько раз пересекался по работе. Они ему трупы сбрасывали для вскрытия. Ставят всякие опыты над людьми. Лекарства разные испытывают, химические вещества, биологическое оружие, вирусы прививают. Кроме того, исследования в направлении трансгуманизма проводят, с генной инженерией. Пытаются вывести человека на альтернативные пути эволюционного развития. Например, чтобы человек мог жить в земле. Не просто под землей, в туннелях, а прямо в земле, как червь, в грунтовой толще. Или чтобы в воде жил. Или в открытом космосе – в вакууме, в холоде, без атмосферного давления. Еще вживляют в мозг органические компьютеры, а подопытные потом с ума сходят от программных глюков. Там много чего делают, поэтому всегда требуется человеческий материал – и взрослые, и дети всех возрастов. Здоровые, больные, всякие. Поэтому, смотрите, девчонки, – Артем выразительно глянул на Лину с Ксюшей, – если вдруг залетите, не спешите делать аборт. Лучше выносить, родить и сразу сдать ребенка в лабораторию, к антропологам. Если что, обращайтесь, я телефончик дам. Так вот, про нашу беременную бомжиху говорили, что она как раз в эту лабораторию детей сдает. Но брехня это все, никуда она никого не сдавала. Никого!.. Никуда!.. Последние два слова Артем выкрикнул в каком-то исступлении, словно харкал молитвой в лицо равнодушному божеству. Почувствовав, что на Артема нисходит вдохновение, Кабан напрягся. Задышал сильнее, пальцы его правой руки заскользили по телу: по груди, по животу, по бедру; Кабан словно убеждался, что его органы до сих пор на месте. – На самом деле бомжиха ни разу не рожала, – продолжал Артем. – В молодости она лечилась в психушке, это было начало девяностых, и там была целая секта из психов. Они практиковали медитации, магию, сатанизм, некрофилию и некрофагию. Заодно и тантрический секс. Это была зашибенная смесь. В больнице в ту пору наступил страшный бардак. Психи уходили ночью на кладбище, выкапывали трупы, устраивали над ними ритуалы с оргиями, насиловали мертвых и пожирали их, совокуплялись на трупах друг с другом и с животными, которых потом приносили в жертву. Во время ритуала наша бомжиха и забеременела. Тогда она еще не была бомжихой. Ее звали Червивая Зойка. В психушку ее определили после того, как ей начало казаться, что в ней живут могильные черви. Зойке очень нравились ритуалы с трупами, она надеялась, что, контактируя с мертвецами, сможет избавиться от червей, которые почувствуют рядом настоящий труп и уйдут в мертвечину. Трупу вспарывали живот, Зойка становилась на колени, засовывала голову в распоротое брюхо и так застывала, ожидая, что черви – через рот, ноздри, уши – переползут из нее в мертвеца. И пока она стояла с головой внутри трупа, словно страус, зарывший голову в песок, сзади ее насиловали психи. Ну, как насиловали! Все было добровольно. Зойка не сопротивлялась, только рада была. Она думала, что если забеременеет, то ребенок, в ней зачавшийся, распугает всех червей до последнего, заставит их уйти из нее. Все-таки ребенок – это жизнь, а черви – это смерть. Он будет как свет, а черви – как тени, бегущие прочь от света. У нее был особый философский настрой, с налетом аллегоризма и поэтики. Вот так она и забеременела. Из психушки ее выписали, когда обнаружился живот. Обычно там делали аборты забеременевшим пациенткам, но Зойкину беременность проглядели до того срока, когда абортировать стало поздно. Поэтому от нее быстренько избавились, сумасшедшая с ребенком никому не нужна. К родным Зойка не вернулась, она их ненавидела и боялась, поэтому стала бомжевать. Время шло, а ребенок все не рождался. Но Зойка и не хотела, чтобы он родился. Ведь черви ушли из нее во время беременности – так ей казалось, и она боялась, что после родов черви вернутся. Ребенок, зачавшийся во время бесовского ритуала, был не просто ребенок. Он странное был существо. Зойка про него чего только не думала. Иногда ей казалось, что это Антихрист или сам Люцифер во плоти, иногда – что это Христос, пришедший устроить свое тысячелетнее царство на Земле, что это новый пророк, вроде Моисея или Магомета, или даже Будда-Майтрея, или человек нового типа, который станет родоначальником нового человечества. А иногда ей казалось, что в ней вовсе и не человек, но огромный паук. Три года она проходила беременной, и ребенок начал разговаривать с ней. Он посылал ей сигналы прямо в мозг, она слышала его голос у себя в голове. Ребенок не хотел рождаться, ему было комфортно в материнской утробе. Он ведь карлик и не будет больше расти. Он приспособился пить материнскую кровь и высасывать пищу из материнского желудка, ему и немного-то было нужно. Его интеллект развивался очень быстро, с ним вместе – чрезвычайные гипнотические способности, свою мать он гипнотизировал изнутри. Мог избавить ее от физической боли, от потребности сна и даже дыхания. Вообще, он стал способен управлять ее телом, читать ее мысли и память, видеть там даже то, что и сама она была не в силах вспомнить. А еще мог лечить ее болезни. Вскоре он уже научился набрасывать через нее гипнотическую сеть на других людей и повелевать ими. Он действительно был человеком нового типа, своего рода мессией. Он чувствовал, что предназначен к чему-то великому, но пока не понимал – к чему. Поэтому ставил эксперименты и все искал ускользающую истину. Эксперименты были гастрономическими, сексуальными, магическими и йогическими. Он хотел попробовать все виды пищи – от насекомых до человечины. Все виды крови – рыбью, жабью, собачью, кошачью, птичью, человеческую детскую, человеческую взрослую, женскую менструальную. Все виды сексуальных отношений, вплоть до самых извращенных. Всевозможные медитативные состояния. Разные магические ритуалы. Годами сидел он в чреве и непрестанно экспериментировал, заставляя мать вытворять всякие мерзости, вплоть до вампиризма и людоедства, но результаты экспериментов не приносили удовлетворения, ведь искал он что-то чрезвычайно необычайное – и не находил. У него развился психоз, и во время одного особенно тяжкого припадка он убил свою мать, остановив ее сердце. Обозленный на нее, себя и весь мир, он решил сгнить в материнском трупе, и, когда тело матери лежало на пустыре, он, по всегдашней своей экспериментаторской привычке, внимательно наблюдал за процессами распада в этой умершей плоти. Тогда-то он и нашел свое предназначение. Артем обвел слушателей жутковатым взглядом. Словно паук, инспектирующий мух, попавших в паутину. Или каннибал, который выбирает жертву из числа своих пленников. Лина бросила взгляд на Кабана и увидела, что тот словно пьян: рот полуоткрыт, в глазах пустота, слюна блестит на нижней губе. Кабан чувствовал, что Артем, сочиняя на ходу, произносит правду, которую никому из простых смертных знать не положено, которая приоткрывается лишь в пророческом вдохновении. В такие моменты Кабан погружался в подобие транса. Артем, немного помолчав, продолжил: – Нерожденный карлик внутри своей мертвой матери наконец нашел свое назначение и цель. И тогда мертвая Зойка, управляемая карликом, встала и пошла. Умершая плоть подчинялась ему еще легче, чем живая. Когда он вступил с матерью в мысленный диалог, ее мертвый мозг начал ему отвечать. Смерть не смогла разлучить мать с сыном. Его власть над ней не обрывалась вместе с жизнью. В их симбиозе завязались в узел мир живых и мир мертвых. И вот уже около десятка лет Зойка мертва, но никто об этом не знает. Мертвецам очень легко прикидываться живыми среди бомжей. Поди-ка различи, где кончается естественная вонь типичного бомжа и начинается трупный смрад. Именно так мертвецы и ходят среди нас – как бездомные опустившиеся люди. Вонючие, грязные, со следами разложения, которые так легко принять за кожные болезни, за какие-нибудь язвы, поразившие бездомного бродягу. Не первый год уже мертвецы вращаются среди бомжей, все прибывая, а мы ничего не подозреваем. Вторжение мертвых в наш мир уже началось. Мы прохлопали его начало. Карлик руками своей матери, а иногда гипнозом, убивал бомжей, чтобы оживлять их тела и подчинять своей воле. Гипноз, сетями которого он опутывал людей, оказался еще более эффективен при воздействии на мертвецов. Чтобы поднять мертвеца на ноги, не нужно химии, никаких чудо-препаратов – достаточно гипноза, только это должен быть гипноз особого типа, как раз того, который развился у карлика в Зойкиной утробе. Он понял, что его миссия – повелевать мертвецами, поднимать их, управлять ими, плодить их, быть для них отцом. И однажды, когда их станет достаточно много, они выйдут из тени, они заберут этот мир себе. Конечно, в одиночку карлику не справиться с такой задачей. Ему нужны сообщники – такие же карлики-пауки, годами живущие в материнском чреве, зрелые плоды, которые все никак не сорвутся с ветки, не упадут на землю. Карлик уже позаботился, чтобы такие, как он, появились среди людей. Чтобы зачать подобного карлика, нужна безумная женщина и несколько безумных мужчин, способных воспроизвести тот бесовский ритуал, в котором Червивую Зойку наградили сыном. Для владеющего гипнозом исключительной силы организовать все это не трудно. Такие ритуалы с оргиями проводятся лет восемь. И много уже непраздных обезумевших женщин бродят по свету, неспособные разрешиться. В каждой из них сидит маленькое чудовище, карлик-паук, и ткет паутину, куда попадают больные души, тела живые, тела мертвые. Каждая пришедшая сюда, – и Артем поочередно навел указательный палец на всех девочек и девушек, сидевших в кругу, – имеет шанс стать матерью, которая вечно будет на сносях, даже после смерти. Каждая из вас. Если только угораздит попасть в сеть, раскинутую пауком. А это не так уж трудно, поверьте, попасть в эту сеть. Лина поежилась от прихлынувшей жути. Ксюша, нервно дыша, вцепилась ей в рукав острыми ногтями. Эти ногти, выкрашенные черным, словно бы Ксюша пальцами рыла землю, вызывали у Лины отвращение. Девушку с обручальным кольцом пронизывали спазмы удушья – то ли от астмы, то ли от нервов, – ей не хватало воздуха, она пыталась ловить его по-рыбьи распахнутым ртом. На округлившихся глазах выступили слезы. Ее спутник лихорадочно стащил со своей спины небольшой рюкзак, нашарил в его недрах пластиковую бутылку с водой, поднес к губам задыхавшейся. Та дрожащими руками смяла пластик и, проливая воду, сделала несколько глотков. Вскоре ей полегчало. После этого она вскочила, опрокинув ящик, на котором сидела, и, потянув юношу за собой, торопливо вышла из комнаты. Тот нехотя последовал за ней. Кабан издал негромкий низкий звук – одновременно злобное собачье рычание и бычий рев. Волна этого звука разошлась по комнате, и каждому словно опустилась на голову невесомая черная вуаль. Артем уже не первый раз слышал на заседаниях круга этот странный звук, производимый Кабаном; и всякий раз в его воображении возникала картинка: дракон, изрыгающий стон удовлетворения над изнасилованной до смерти принцессой, принесенной в жертву; древнего ящера трясло в блаженных спазмах над почти разорванным девичьим трупом. Кабану про эти ассоциации Артем ничего не говорил. – Недолго осталось ждать, – продолжил он, – когда опрокинется мир и последние станут первыми, а дно станет вершиной. Десять, двадцать, тридцать лет – и все! Мир будет в их власти. Они нападут с той стороны, откуда никто не ждет нападения. А может быть, год или два? Все может быть. Нет никаких гарантий. Прямо у нас под носом они собирают свои силы. Они прячутся на виду. Они ждут – а они терпеливы, – когда коромысло весов качнется в нужную сторону, когда в калейдоскопе обстоятельств наконец сложится самый удачный для них узор. Артем замолк, и тишину, повисшую там, где только что клубились его слова, нарушил Кабан. – Я знаю, что… Я знаю, – пробасил он. – Вот что я сделаю. Я давно хотел кого-нибудь убить. И я убью. Я найду эту беременную тварь и прибью на хер. Так прибью, что уже не встанет никогда. Ноги вырву. Выпущу кишки. Достану ее гаденыша, выковыряю из нее и растопчу в лепешку.

Лина наблюдала за братом, и крепли ее подозрения. Что-то нехорошее творилось с Вадиком. Он стал задумчив, неестественно спокоен и отрешен. С ним заговаривали, а он, прежде чем ответить, молчал минуту или больше, задумчиво глядя перед собой. Поднимаясь ночью в туалет, Лина каждый раз видела, как дверь в комнату Вадика приоткрывается, и брат выглядывает из черной щели в коридор, освещенный тусклым ночником. Она спрашивала – почему не спишь? – но Вадик без ответа отступал в сумрак своей комнаты. Один раз, проснувшись среди ночи, она увидела Вадика около своей постели. Он молча глядел на нее, в его руке был нож. Правда, нож тупой, с закругленным кончиком лезвия, столовый нож для сливочного масла, но все равно Лине стало жутко. На ее вопросы Вадик ответил тогда, что хотел намазать себе бутерброд на кухне, но для чего с ножом явился в комнату к сестре – об этом промолчал. С тех пор Лина перед сном запирала свою дверь на шпингалет. Когда она рассказала Ксюше, что творится с братом, и заодно поведала самые мерзкие подробности о встрече Вадика с беременной бомжихой – те, что прежде опустила, – Ксюша неожиданно выдвинула мрачную версию: – Вот смотри, – сказала, – допустим, что Артем тогда не ахинею нес, а правду. Ну, короче, попал в десятку. Допустим, да? Если бы ты была этим чертовым карликом внутри бомжихи, если б готовила некрореволюцию… – Что? – поморщилась Лина. – Какую революцию? – Некро. Не перебивай! – Ксюша была серьезна. – Допустим, ты – тот карлик. И что б ты сделала, чтобы успешнее уничтожить всю нашу цивилизацию? Допустим, ты готовишь ходячих, ну а что еще, кроме этого, необходимо сделать? – Не знаю. – Лина пожала плечами. – Так вот, смотри. Если бы я была карликом, сделала бы так. Среди обычных людей, особенно среди детей, нашла бы тех, кого можно подчинить моей воле, воздействовала бы на них и превратила в сообщников. В бессознательных сообщников, которые ни фига не понимают, но в нужный момент начнут действовать. Это как спящие агенты. Лежат на дне и ждут сигнала. Потом, когда начнется хаос и люди будут сражаться с ходячими, а точнее, панически бегать от них, усираться от страха, подыхать – глупо и бездарно подыхать, в этот самый момент спящие проснутся и начнут наносить удары в спину родичам и друзьям. Особенно эффективно это будет, если дети станут нападать. Вот брательник твой, схавал кусочек мертвечины от бомжихи – и что? Что он, по-твоему, будет делать, когда вы все забаррикадируетесь в хате от кровожадных мертвяков? Стопудово – он возьмет нож на кухне, только уже настоящий, острый, и пырнет тебя в спину, под лопатку, с левой стороны. Чтоб до сердца достало. Потом маму пырнет. Начинать надо с баб, мы ведь слабее. И, наконец, папу. Если повезет, вы успеете убить его первым. Но я сомневаюсь. И такая схема сработает во многих семьях. Никто ведь не знает, сколько детей этот карлик успел инфицировать, подчинить своей воле, семена в них посеять. Они ж тоже, в сущности, карлики, мелкие злобные твари. В таком возрасте дети, как правило, сплошь безжалостные садисты, мучают всех подряд – насекомых, кошек, птичек, – до кого только сумеют дотянуться. Ну и, как говорилось: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», так и здесь: «Карлики всех стран…» А может, он не только на мелких сделал ставку. Вероятно, через своего брательника и ты заразишься, даже не заметишь – как. А потом просто услышишь гипнотическую команду в голове и маме своей горло перережешь. – Дура! – воскликнула Лина в сердцах. – Да я тебе перережу! – Во-во! – лыбилась довольная Ксюша. – Что и требовалось доказать, что и требовалось!

На следующее заседание круга не явился Кабан. Это было неслыханно. Невиданно. Уже почти год ни одно заседание не обходилось без него. Прежде он мог приходить не регулярно, но с тех пор, как по-настоящему вошел во вкус, всегда был рядом с Артемом, когда тот рассказывал свои истории. Теперь, без Кабана, Артем почувствовал себя каким-то неполноценным, словно бы стал вдруг калекой. – Тема, куда Кабан делся? – спросил Лепан Пятигуз, один из самых близких друзей Артема. Лепан тоже был весьма крупный мальчик, до Кабана, конечно, недотягивал, да и был на пару лет младше, но считался второй вершиной круга, превосходя ростом и размахом плеч многих старших пацанов. Исчезновение Кабана на самом деле обрадовало Лепана, он втайне понадеялся, что Кабан пропал всерьез и насовсем – было бы неплохо! Артем пожал плечами. – Он же сказал тогда – бомжиху пойдет мочить. И как? Грохнул ее? Нет? – продолжал спрашивать Лепан. – Не знаю, – произнес Артем тихо. – Ты – и не знаешь? – удивился Лепан. – Вот это да! Артем попытался сосредоточиться и вызвать свое вдохновение, которое не раз открывало ему тайны, но ничего не получилось. Оно если приходило, то всегда само, по наитию, искусственным приемам не подчинялось. Артем ощутил, как внутри него копошится какое-то призрачное насекомое. Это был новорожденный страх. «Да уж! – подумал он. – Людей пугать – это одно… А теперь и сам чего-то… И это уже другое. Надо будет все-таки Кабана отыскать». Где живет Славик Шугаев по прозвищу Кабан, Артем знал и отправился к нему домой. Но там ему дверь никто не открыл, поэтому Артем зашел еще раз на другой день, в субботу. Кабан жил с бабушкой, и Артем надеялся застать дома если уж не его, то, по крайней мере, эту миниатюрную моложавую старушку, элегантную модницу и кокетку, руководительницу Службы внутреннего контроля и управления рисками морского торгового порта. Родители Кабана не то умерли, не то погибли – он ничего конкретного не рассказывал о них, лишь однажды кратко обмолвился: «Они мертвы», – поэтому рос Кабан под присмотром бабушки. В субботу она оказалась дома. Открыла дверь, обдав Артема волной запахов – дорогие духи в смеси с дорогим табаком; ее пальцы держали изящную курительную трубку, над которой поднимался ароматный дымок. Артем поздоровался. Улыбнувшись накрашенными губами, бабушка пригласила его войти, и, когда он спросил: «Лизавета Юрьевна, а скажите, Славик где? Мы с ним встретиться должны были, а он чего-то не пришел. Случайно не заболел?» – она ответила: «Так Славик же никогда не болеет! Но мы сейчас узнаем, где он». Лизавета Юрьевна скрылась в комнате, вскоре вернулась уже без трубки и с айфоном в руке, начала ловко тыкать пальцем в экран. Свой телефонный номер Кабан не давал никому, в том числе и Артему, и сам чужих номеров никогда не брал. В памяти его мобильника хранился единственный телефонный номер – номер бабушки. Послав вызов внуку, Лизавета Юрьевна дождалась, когда тот ответит, и включила громкую связь, чтобы Артем тоже слышал. – Да, бабуся, – раздался глухой голос Кабана. Артему странно было услышать это ласковое и детское «бабуся» из Кабаньих уст. Вообще, Кабан для Артема во многом оставался загадкой. Угрюмый и немногословный, он никогда не рассказывал о себе, о своих привычках и увлечениях. Ясно про него было лишь одно: Кабану нравились страшные истории, но что нравилось еще, кроме них, Артем не знал, да и не стремился узнать. В конце концов, они с Кабаном не были друзьями, хотя со стороны так могло показаться. Не другом был для Артема Кабан, а словно бы грозным диким животным, которое приближалось к нему с одной целью – сожрать предложенное подношение, насытить лютый голод и кануть во мрак, из которого вынырнуло. – Славичек, ты где сейчас? – спросила бабушка. – К тебе тут мальчик пришел. Артем. Хочет с тобой встретиться. – Артем? Никакого Артема. Не помню. Странно… Я не знаю, где я. Где? Пусть приходит сегодня на Поле Чудес. Потом, когда стемнеет. Пока, бабусь, – сказав это, он отключился. Речь Кабана была какой-то неестественной, словно склеенной из обрывков речи разных людей. – Что на него нашло? – удивилась бабушка, пожав плечами. – С чего это вдруг он тебя не помнит? Шутка, наверное, такая. А не хочешь чайку? – предложила вдруг. – Можно организовать какой-нибудь изумительный китайский или японский чаек. Из утонченных. Такой ты вряд ли где еще попробуешь. Артем вежливо отказался, поблагодарил Лизавету Юрьевну и в задумчивости ушел. Полем Чудес назывался пустырь между Южным рынком и Морской академией. На этом пустыре было два пруда, соединенных подземным каналом. Один пруд использовался как техническое водохранилище, другой почти полностью зарос и служил только для красоты. Рядом с ним росло подобие рощицы и зубасто торчали над землей обломки стен небольшого разрушенного здания непонятного назначения, над ними возвышались три сухих дерева; лишенные коры, почти белые, они смутно воскрешали в памяти какую-то знакомую картину – не то Босха, не то Брейгеля Старшего. На восточной окраине пустыря, недалеко от забора Морской академии, начали строить церковь, фундамент был уже заложен. Артем пришел на Поле Чудес в сумерках и бродил в поисках Кабана. Не таким уж и большим было то Поле, но ландшафт и растительность не позволяли полностью обозреть его с какой-то одной точки, поэтому, чтобы найти укрывшегося человека, следовало пересечь Поле в нескольких направлениях. Вскоре Кабан отыскался. Он сидел в развалинах, на низком обломке стены. Тут же рядом сидела женщина, которую Артем узнал сразу: беременная бомжиха, Зойка. – Привет! – поздоровался Артем. Кабан не ответил, только молча смотрел. – Ты что, правда меня забыл? – спросил Артем. Но Кабан все молчал. – Убей его, – вдруг произнесла бомжиха спокойно и ровно, глядя на Артема. Непонятно, к кому относились ее слова, кто кого должен убить: Кабан – Артема или Артем – Кабана? – Убей его, – повторила она все так же спокойно и безадресно. Артем похолодел – не столько от страха за свою жизнь, сколько от дьявольской двойственности ситуации. После слов бомжихи ему вдруг до зуда захотелось схватить какой-нибудь камень – а их было много разбросано здесь – и, подскочив к Кабану, камнем пробить голову. По крайней мере, хоть попытаться это сделать. Кабан продолжал сидеть на месте, но Артем видел, как он напрягся. – Уходи быстрей, – процедил Кабан, наклоняя голову, словно бык, нацеливший рога на жертву, которая маячит перед ним, беспечная и манящая. Артем понял, что Кабан едва сдерживается, еще немного – в нем что-то надломится, треснет, – и он бросится на Артема. Тогда Артем развернулся и побежал прочь. Ему показалось, что Кабан вскочил и кинулся за ним, что он вовсе не отпускал Артема, когда велел уходить, а только играл, и сейчас легко догонит. Вот-вот Кабаньи пальцы-крючья – страшные, сильные, беспощадные – вцепятся в плечи… Оглянуться назад? Нет! По темноте следовало быть внимательным, смотреть, куда ногу ставишь, иначе – оступился, споткнулся – и все, конец. И тут же Артем с удивлением почувствовал в себе какое-то второе сознание, словно бы мысли разделились на два потока: в одном из них плескался удушливый страх, а в другом… Второй поток сознания петлял и вился вокруг желания заманить Кабана в ловушку, застать врасплох и убить. Артем понял, что как Кабан играл с ним, так и сам он играет с Кабаном, выжидая момент, в котором удача компенсирует физическое превосходство Кабана и позволит тщедушному Артему взять верх над этой огромной тушей. Он уже выбежал с пустыря, пересек дорогу, огибавшую пустырь с северо-запада, и ворвался в микрорайон. Старый, хрущевских времен, этот микрорайон утопал в зелени, все дворы в нем напоминали тенистые парки. Здесь было легко уйти от погони, легко затаиться, легко обойти преследователя со спины и нанести неожиданный удар. Но Артем не знал, действительно ли Кабан гонится за ним? Не померещилась ли погоня? Прекратив бег, осмотрелся. Нигде никакого Кабана. Но, может, он затаился и сейчас наблюдает из укрытия? «Убей его», – шепнул в голове отдаленный голос. У Артема задрожали руки. Он смотрел на свои пальцы и понимал, что дрожат они не от страха – от желания убить. Если не Кабана, так хоть кого-нибудь, все равно кого, любое живое существо. И Артем вновь побежал. Но теперь бежал не от погони – реальной или мнимой, – а от голоса, до сих пор звучавшего в голове и ослабевавшего с расстоянием, которое преодолевал беглец. Следует оказаться как можно дальше от пустыря – Артем это понял, – тогда порвется паучья нить, липнущая к нему, и он будет свободен. Наконец, задыхающийся, выбившийся из сил, остановился у лавочки в одном из дворов и в изнеможении повалился на нее. Добежал до своей свободы.

Кабан не отвечал бабушке на телефонные вызовы. Дома не появлялся. Взволнованная Лизавета Юрьевна заявила в полицию о пропаже внука. Полиция начала искать. И вскоре нашла. Пропавший прятался в подвале недостроенного дома, возведение которого было остановлено из-за каких-то махинаций застройщика. Совершенно безумный, ничего не соображающий, утративший дар речи, издающий мычание и рык, перемазанный засохшей кровью, Кабан сидел рядом с женским трупом. Распоротый живот мертвой женщины зиял, как оскаленная пасть какого-то чудовища. В кармане брюк у Кабана нашли нож с выкидным лезвием; похоже, им и была зарезана женщина. Несмотря на возраст – с виду более пятидесяти лет, – она была беременна, тут же лежало тело ребенка, выдранное из ее чрева. Но ребенок этот престранное был существо! Кожа словно у рептилии, скользкая и плотная, серого цвета, местами покрыта ороговевшими наростами. На ногах и руках грубые ногти, свернувшиеся в трубочки и загнутые, наподобие когтей у животных. Такие ногти невозможно использовать как оружие, но выглядят они зловеще. Пол мужской. Гениталии вполне развиты и непропорционально велики. На теле многочисленные ножевые ранения. Про лицо сказать нечего, поскольку голова тщательно размозжена камнем, который найден там же, покрытый засохшей кровью и частицами мозгового вещества. Судя по всему, Кабан убил и женщину, и ребенка. Вскрыл ее ножом, извлек плод из чрева, ножом наносил удары ребенку, но не остановился на этом и, спрятав нож, взял камень, чтобы обрушить на детскую голову. Когда его взяли под руки и попытались увести, он оказал сопротивление. По абстрактным звукам, которые издавал, по мимике и хаотичной жестикуляции, стало понятно, что он боится оставить трупы, за которыми должен почему-то присматривать. Только после того, как трупы упаковали и унесли, он покорно пошел вместе с полицейскими, а те уже передали его медикам. Лечение в психиатрической клинике не дало никаких результатов. Распад личности Кабана – он же Вячеслав Михайлович Шугаев, две тысячи пятого года рождения – был необратим.

В тот момент, когда камень в руке Кабана разбивал голову существа, выдранного из Зойкиного чрева, – а было тогда около трех часов ночи, – в тот самый момент Вадик Черенков услышал во сне отдаленный вопль, полный ужаса и смертной тоски. От этого вопля Вадик проснулся, чувствуя занозу, засевшую в сердце. Странным было его пробуждение – словно из одного обморока он перешел в другой. Сон так и не отпустил его, но примешался к реальности, как отрава к напитку, растекся по ней, окрасил своим оттенком. В замутненном сознании вращалась мысль, которая уже не раз посещала Вадика. Мысль о том, что его родные – папа, мама, Лина – попали в ловушку, и он, такой маленький и слабый, должен теперь что-то сделать, чтобы освободить их. Неведомые чудовища – шептала Вадику мысль – похитили его родных, и теперь на их месте подменыши. Если убить хотя бы одного, думал Вадик, то чудовища испугаются и вернут его семью обратно. Страшная и тяжелая ответственность легла на его плечи. Поднявшись с постели, он пошел на кухню. Достал из ящика стола тонкий острый нож с загнутым, как звериный коготь, лезвием, с мелкими зазубринками по режущей кромке. С этим ножом отправился к родителям. Потянул на себя дверь их комнаты, но та не поддалась. Родители не запирали дверь, просто она туго закрывалась после того, как отец прибил к ее торцу кусок кожи от старого ремня. Проснись Вадик полностью, он бы вспомнил об этом и сумел войти в комнату. Но сон, не отпускавший его, не позволял вникать в житейские мелочи, поэтому Вадик, напрасно подергав дверь несколько раз, оставил ее и пошел к сестре. Лина последнее время запирала перед сном дверь своей комнаты на шпингалет – заперла и в этот раз. Однако ночью она вставала в туалет и, когда возвращалась, сонная, про шпингалет уже забыла. Поэтому Вадик беспрепятственно вошел в ее комнату. Лина спала на спине, прижав руки к груди; так иногда собаки, ложась на спину, прижимают к себе передние лапы. Черные волосы разметались по подушке, словно щупальца морской твари или потоки темной крови. Наклонившись над Линой, Вадик внимательно ее разглядывал. Зрение странным образом обострилось в темноте, поэтому черты лица спящей были хорошо видны. А ведь с виду и не скажешь, что это чудовище: девочка как девочка, очень похожа на сестру, прямо один в один. «Это и плохо, – шепнул кто-то в голове Вадика; а может, и сам он шепнул себе. – Они похожи, поэтому особенно опасны. Им же ничего не стоит втереться в доверие. Хуже нет, когда враг выглядит как друг». Вадик перехватил нож поудобнее, зажал рукоятку в кулаке и занес кулак с торчащим вниз лезвием над лицом спящей девочки. Примерился, думая, куда бы лучше ударить. Лунный свет, проникая в окно, преломлялся в зеркале на стене и падал на лезвие, заставлял его слабо мерцать. Это призрачное мерцание завораживало Вадика. Ему казалось, что в руке у него не кусок стали, а невесомый осколок света, лунная дорожка, по которой в мир по ночам приходит что-то волшебное. Сгусток лунного сияния он занес над правым глазом спящего существа, так похожего на сестру, резко поднял кулак и тут же опустил, вгоняя острие призрачного блеска прямо в закрытый глаз подменыша. Чудовище, притворившееся сестрой, дернулось, просыпаясь, и завизжало. Этот дикий визг только подтвердил Вадику, что оно – точно не человек; люди ведь не должны визжать так жутко, с таким звериным исступлением. Нож остался торчать в глазнице и дергался вместе с головой визжащего от ужаса и боли существа. Вадик же опустился на четвереньки – почему-то вдруг ему захотелось так сделать – и, ползая по полу, начал выть, будто щенок или волчонок. Этим воем он объявлял чудовищам, что разгадал их тайну, нанес им удар, и теперь они должны вернуть ему родных – настоящих и любимых. Когда родители, проснувшиеся и перепуганные, ворвались в комнату дочери, а свет еще никто не включил, Вадик, словно собака, с урчанием набросился на одну из этих многочисленных ног, заполнивших комнату, – их было, казалось, гораздо больше четырех, и это неудивительно: чудовища, они ведь и должны быть такими, многоногими и многорукими, – набросился и впился зубами в щиколотку. Отец вскрикнул от внезапной боли, когда что-то в темноте – собака какая-то, что ли, только откуда? – вгрызлось в его голую ногу. Размахнувшись, он резко ударил укушенной ногой по голове этой злобной твари, ползающей по полу. Вадик, получив сильный удар по челюсти, дернулся, лязгнули зубы, голова запрокинулась и врезалась в угол шкафа. Этот новый шкаф, полгода назад сделанный под заказ на местной мебельной фабрике, имел на своих гранях до того острые углы, что Лина, пару раз больно ударившись о них, потом с опаской соблюдала дистанцию, приближаясь к этой «злой штуковине», как окрестила она свой шкаф. Когда мать, наконец, дрожащими пальцами включила свет, и вместе с мужем они бросились к дочери, с визгом метавшейся на постели, никто и внимания поначалу не обратил на Вадика. Тот лежал у шкафа с оскаленными зубами и смертельной раной на виске. На мертвом лице мальчика застыло нечеловечески страшное выражение, какое-то потусторонне-звериное, словно бы он заглянул в чудовищный мир, и ужас, который ему открылся там, отпечатался в его распахнутых неподвижных глазах.
Прах и пепел

Часть первая
Костик знал, конечно, что дядя Леша большой чудак, но не думал, что до такой уж степени. В отличие от своего младшего брата, Костиного отца, он всегда был эксцентричен, всегда с затеями, с вывертами, с рискованными шутками. Выходки его лишь потому не утомляли и не раздражали, что были достаточно редким явлением – не более одного-двух раз в году, когда Алексей Павлович Смеркалов выныривал, как из небытия, возвращаясь в Москву из своих журналистских поездок, в которых проводил большую часть жизни. Последняя выходка его заключалась в том, что на Костино двенадцатилетие он подарил любимому племяннику привезенную из Африки урну с обезьяньим прахом. Этот деревянный сосуд был настоящим произведением искусства, выглядел замысловато, даже как-то сюрреалистично. Как пошутил Костин папа, в такой посудине в самый раз хранить галлюциногенные наркотики, ибо форма соответствует. Когда же дядя Леша объяснил предназначение сосуда – что это хранилище для праха, да еще обезьяньего, – то папа тихо присвистнул. Такого не ожидал. Но самое удивительное было не в прахе, а в сопровождающих обстоятельствах. – Такие урны изготавливает и продает одна любопытная секта, – рассказывал дядя Леша. – Не так давно появилась, в восьмидесятых годах. Сначала где-то в Европе, не знаю точно, а потом перекинулась в Африку. В основе у них новая концепция эволюции. Они считают, что не люди произошли от обезьян, а наоборот – обезьяны от людей. – Чего?! – мрачно и брезгливо нахмурился папа. Костик при этом хмыкнул. – Говорят, что у них есть точные сведения о будущем, – продолжал дядя Леша. – Не пророчества, а что-то вроде разведданных. По этим данным, человечество в будущем занялось… займется генной инженерией, чтобы искусственно форсировать эволюцию, выйти из человеческих рамок на новый виток развития, разбудить в организме всякие способности, которые нам, в нынешнем нашем состоянии, показались бы сверхъестественными. В результате всех манипуляций на генном уровне человек будущего эволюционировал в обезьяну. Но заметьте – в разумную обезьяну! Да еще наделенную сверхспособностями. Плюс физическая сила. Ведь один из аргументов против стандартной эволюционной схемы, по которой мы произошли от обезьян, в том, что человек с самого рождения более слаб и менее приспособлен к жизни, чем обезьяна. Тут-то и встает вопрос: какого черта эволюция от более жизнеспособной обезьяньей формы перешла к менее жизнеспособной человеческой? В расчете на то, что у человека сильнее развит интеллект, а это в итоге компенсирует его физические недостатки? Но это значило бы приписывать эволюции слишком далеко идущие стратегические планы, то есть превращать стихийный процесс в какое-то черт знает… чуть ли не разумное божество, что совсем уж нелепо. Да и потом, откуда эволюции знать, что интеллект – это такое уж преимущество, если сама не обладает интеллектом? А может, интеллект – это не преимущество, а бомба замедленного действия, источник психических заболеваний? Да ведь так оно и есть на самом деле. И потом, что, спрашивается, помешало эволюции, производя от глупых обезьян умного человека, наделить его заодно еще большей физической силой? Было бы ведь логично, с точки зрения элементарных эволюционных принципов. Но нет – вопреки всейлогике, эволюция наделяет человека более слабым телом, чем обезьяну, то есть идет по пути физической деградации. Вот вам и вполне рациональное основание, чтобы прийти к выводу, что не мы произошли от обезьян, а они – от нас. На этом и стоит сектантская доктрина. Остается только объяснить, почему обезьяны такие идиоты, если они высшая эволюционная ступень? Тут сектанты делают замечательный кувырок через голову. Заявляют, что обезьяны произошли от человека разумными, но что-то там случилось в будущем, какая-то страшная катастрофа, и наши потомки бежали от этого ужаса в далекое прошлое. Со своими способностями они могли путешествовать во времени. Без техники, без аппаратуры – одним усилием разума, с помощью медитации. Беда в том, что при переходе в прошлое разум они утратили. Оказывается, нельзя путешествовать во времени и оставаться в своем уме. Все высшие способности тоже утратились. Потомки были, в сравнении с нами, как боги какие-то, а прибыли в прошлое слабоумными, в сущности, животными. Короче, они стали теми, кого мы знаем под именем обезьян. По иронии судьбы, их посчитали за наших предков – сходство ведь не скроешь! – Да уж, – произнес папа, – веселую теорию завернули! Логика, конечно, есть, да! Я вот гляжу на подрастающее поколение, – папа потрепал Костика по плечу, – и что я вижу? Куда они все катятся? – Никуда я не качусь! – буркнул Костик, впрочем, с улыбкой. – Катятся прямо в обезьяны, – заключил папа. – Книг не читают. Музыку нормальную не слушают. Даже удочку в руки взять не могут и пойти рыбу ловить. Способны только к самым простым действиям, например, взять в руки палку. Прямо как обезьяны. И все! – Ага, палку! – буркнул Костик, ехидно глядя на отца. – Смотря еще какую палку. А книги твои – ну вот как их читать, скажи, если там сплошная порнуха? Или эротика, на крайняк. – Это ты про что? – насторожился папа. – Чего ты там начитался? – Да кой-чего, – Костик загадочно уклонился от ответа. Папа, надо заметить, сам почти не читал книг. Все книги, что стояли в квартире на полках, были собраны мамой, запоем поглощавшей современную литературу, в которой папа вовсе не разбирался. В юности он любил читать приключенческую и советскую военную прозу, но потом как-то отошел от чтения. Дядя Леша меж тем продолжал излагать сектантскую концепцию: – В общем, наши потомки, мигранты во времени, живут вместе с нами, доведенные до слабоумия, опустившиеся на животный уровень. Но изредка в какой-нибудь обезьяне вдруг просыпается генетическая память, открывается разум и его сверхспособности. Тогда начинает обезьяна искать способы, как вернуть сородичей в нормальное состояние, чем бы на них воздействовать. Говорят, что инициатива создания этой африканской секты принадлежала обезьянам. Парочка таких пробудившихся обезьян, стряхнувших с себя врожденный идиотизм, нашла людей, готовых помочь, и организовала из них секту. Ну, рассказали им про себя, продемонстрировали кое-что. Так секта и возникла. Занимается она именно этим – пробуждением обезьян, ментальной реабилитацией. Для этого целая система ритуалов разработана. Но проблема в том, что искусственные способы пробуждения не дадут эффекта без последнего – самого радикального – способа, сожжения. Говорят, что обезьяна, после всех воздействий на нее, пробуждается лишь в момент сожжения и, когда горит заживо, то на короткое время, пока корчится в огне, становится разумна, и высшие способности к ней возвращаются. И вот, от такой пробужденной обезьяны остается этот прах, – дядя притронулся к стоявшему на столе африканскому сосуду, – для которого изготовляют урны всяких замысловатых форм и продают их вместе с прахом. Считается, что иметь такую урну в доме – к счастью. Как бы благословение нисходит. – Фигасе! – восхитился папа. – Такую байду развели, чтоб сувениры продавать! Прям Герберт Уэллс какой-то с морлоками! А какие, кстати, обезьяны? – Что – «какие»? – не понял дядя Леша. – Над какими обезьянами эта секта опыты ставит? Что за вид? Павианы там, гиббоны, макаки? Или что? – Они с разными обезьянами работают. Вот этот прах конкретно – бонобо, самая маленькая из человекообразных обезьян. Черненькая такая, меньше метра ростом. Короче, не мог я пройти мимо и не купить эту урну. Так лихо все завернуть – это ведь надо постараться! Когда тебя обманывают артистично, с фантазией, и фантазия-то с каким размахом, то удержаться невозможно, рука сама тянется деньги отдать, – говоря это, дядя щурился от удовольствия. – В принципе, все наше искусство на том и стоит – на качественно поданном обмане. Все готовы платить за обман, лишь бы был красиво сварганен. Как это там… вот это вот… «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Да и потом, сделана-то штукенция со вкусом. «Штукенция» была действительно хороша. Ее инопланетно-потусторонние формы так и притягивали взгляд. Подолгу глядя на нее, поставленную на полку шкафа, за стекло, Костик начинал чувствовать нечто вроде легкого опьянения. А однажды, когда у него разболелся зуб, Костик, словно по наитию, достал урну из шкафа, лег с нею в постель, обнял ее, как маленький мальчик – любимую игрушку, и лежал, поглаживая пальцами изгибы полированной поверхности. Вскоре он умиротворенно заснул, даже не поняв, что зуб-то и вовсе перестал болеть. В ту ночь к нему пришло первое «обезьянье» сновидение. Не похожее на обычные сны, оно было логически четким, внятным, без той абсурдности, что свойственна ночным грезам. Костик увидел обезьяну – почти сплошь черный силуэт с блестящими в полумраке глазами. Комнату во сне освещал поток лунного света, падавший из окна. Обезьяна сидела на краю дивана, на котором спал Костик, но сидела не по-обезьяньи, а как человек – одну ногу свесив с дивана на пол, другую же подогнув под себя. В руках она держала урну с прахом. Костику стало жутко смотреть на эту безмолвную сгорбленную фигуру, почти два метра ростом, в которой чувствовалась опасная звериная сила, готовая в любой миг высвободиться, как энергия сжатой пружины. Обезьяна заговорила, но это был непонятный, нечеловеческий язык, похожий на звуки какого-то механизма; слышались щелчки, потрескивания, гул и как бы скрежет металлических деталей. В какой-то момент в этой речи прорезался второй голос, наложившийся на первый, как в каком-нибудь фильме, где слова переводчика накладываются поверх оригинального звука. Этот второй голос был человеческим, и Костик не смог понять: то ли он слышит его из обезьяньих уст, то ли прямо у себя в голове. «…все это так сложно, если б ты знал! – Первая фраза не имела начала, лишь окончание. – Всех до одного не восстановишь, кем-то придется жертвовать. Первый ритуал – это выбор изначального вектора. Двух обезьян запереть в клетку и под гипнозом заставить их пожрать друг друга. Не из голода, нет! Поэтому хорошо кормят, чтобы каждая была сыта, а пожрала другую только из ненависти. Этот ритуал символичен, ведь надо начинать с ненависти к звериному тропосу существования. Возненавидь бессмысленное животное в себе и пожри его в другом! Из двух в той клетке живым остается один – тот, в ком ненависть сильней. Обезьяна, пожирающая другую обезьяну, делает шаг за пределы, которыми ограничена, и превращается в шаммакх. Вот начало прорыва». Слушая эту речь, Костик пережил видение – словно бы всплывшее из глубин памяти визуальное воспоминание. Он видел одновременно и обезьяну, сидящую на его постели, обрамленную по контуру полоской лунного света, и смутную картинку из прошлого, только не из собственного – из чужого. Помещение, слабо освещенное лучом, падающим сквозь небольшое отверстие в потолке. Клетка в виде куба с длиной ребра около двух метров. В клетке пара обезьян. Обе они маленькие, гораздо ниже ростом, чем та, что явилась к Костику для разговора. Несколько человек вокруг клетки наблюдали за обезьянами. Кто стоял, кто сидел на циновке, скрестив ноги. Точка зрения все время менялась: Костик словно бы вселялся то в одного человека, то в другого, глядя на происходящее разными глазами. Внезапно его взгляд перенесся в одну из обезьян, и липкий тошнотворный жар ненависти прихлынул к голове. Тогда Костик, задыхаясь от жара, вместе с обезьяной, чьими глазами смотрел, бросился на вторую обезьяну и впился зубами ей в глотку. В следующий миг он следил за происходящим глазами человека, сидевшего на циновке, и вместе с ним произнес какую-то зловещую фразу на непонятном языке и почувствовал, как эта фраза чернилами растекается по воздуху, опутывает борющихся обезьян призрачными щупальцами, одну из них приводя в бешенство, а другую парализуя ужасом. Брызги обезьяньей крови упали на лицо человека на циновке, и жестокая улыбка искривила его негритянские мясистые губы. Среди наблюдателей была пара – мужчина и женщина, они держали друг друга за руки. В тот момент, когда одна обезьяна вгрызалась другой в глотку, эти двое прижались теснее, их губы слиплись в жадном поцелуе. Глаза при этом косили в сторону, не теряя из виду обезьян. Взгляды влюбленных прямо сочились похотью, и Костика передернуло: что-то тошнотворно мерзкое было в этой парочке. В следующий миг он увидел отчасти обглоданный труп обезьяны и вторую обезьяну, сидящую над ним с окровавленной мордой. В ее глазах Костику почудилось что-то человеческое, словно разгоравшаяся искра какой-то абстрактной мысли. Из наблюдателей у клетки оставался только мужчина на циновке. Видение исчезло. Обезьяна, сидевшая у Костика на постели, произнесла: «Первый ритуал намечает вектор ментального движения. Когда мертвая обезьяна неподвижна, то живой шаммакх движется вглубь себя». Шаммакх – понял Костик – так обезьяна называла саму себя в пробужденном виде. Когда он понял это, глаза обезьяны – глаза шаммакх – как-то по-особенному блеснули. «Она, наверное, читает мои мысли?» – подумал он, и обезьяна произнесла своим двойным голосом: «Ты для меня как помятый газетный лист – почти все можно прочесть. Только там, где складки, где сильно помялось, трудно читать, не все видно». – Как тебя зовут? – спросил Костик. И шаммакх тихо засмеялся. От этого смеха поползли мурашки. «Чего захотел! – отсмеявшись, произнесло черное существо. – Имя ему подай! Это вы, человечки убогие, держите имена на виду, потому что ничего не понимаете. Вы же не знаете, в каком мире живете, что вас окружает. Нельзя в таком мире жить нараспашку, держать имена открытыми. Вы гениталии свои прячете, а имена у вас наружу. А надо бы наоборот. Но кому я говорю! Ты же элементарного не видишь». С той ночи Костику часто снились сны, в которых он разговаривал с обезьяной. Ее высокомерный презрительный тон казался ему обидным, но он терпел, потому что слишком уж интересно было слушать ее двойной голос, рассказывающий такие захватывающие вещи, от которых кругом шла голова. Одновременно Костика посещали видения, словно в него залетали обрывки чужих воспоминаний и встраивались в его собственную память. Шаммакх общался с ним сразу двумя способами – вербальным и визуальным. Был и третий способ, которому еще не было названия: Костика иногда посещали внезапные озарения, и одна вспышка в сознании приносила информацию сразу о многих предметах. Вместе с озарениями приходило понимание, что источник этих вспышек – шаммакх, что это он подкапывается под Костика, словно заходит в его разум с черного хода и каким-то образом вбрасывает в него такие мысли, которые трудно было бы передать на словах или в картинках. Общение с черным существом происходило, если только Костик брал урну с прахом на ночь в постель. Когда она оставалась ночью на своей полке, снились обычные сны. Чтобы вызвать черный призрак и впустить его в свои сновидения, нужно было касаться урны во сне. Прикосновение было условием общения. Днем, после таких снов, Костик становился раздражительным и нетерпеливым, любая мелочь выводила из себя. Холодное презрение, которым, как ледяным дыханием, обдавало его черное существо, пропитывало Костика и делало блеск его глаз и улыбку такими же холодными, полными то неприязни, то презрительности, то злорадства. Но Костик полагал, что все это нормально, что так и должно быть, ведь он теперь знает много такого, что неведомо никому из окружающих. А знающий, считал Костик, конечно же, вправе презирать незнающих. Он видел во снах ритуалы, которые африканская секта проводила над обезьянами. Гипноз и медитации соединялись в них с неистовыми плясками, доходившими до безобразных корчей, когда казалось, что участники ритуала уже не владеют собой, но чьи-то невидимые руки управляют ими, будто куклами-марионетками, заставляя принимать невообразимые позы, в которых Костику чудились зловещие иероглифы, написанные не чернилами на бумаге, но человеческими телами – в трехмерном пространстве. Черное существо сказало ему про эти «иероглифические» корчи: «Это заклинания на нашем языке, призывающие Вечную Тьму послать свои эманации, свои дары и погрузить в высшее безумие и высший ужас. Эволюция движется по ступеням безумия и ужаса. Без них нет движения ввысь и вглубь. Даже ваши жалкие теории говорят, что в основе эволюции лежит закон выживания видов, а выживание – это всего лишь другое имя пожирания, ужаса и безумия. Выживает тот, кто настолько безумен, что может сеять дикий ужас вокруг себя, пожирая менее безумных и более слабых. На высших витках эволюции нужны высшие формы ужаса и сумасшествия». – А что такое Вечная Тьма? – спросил Костик; любопытство жгло его, будто кожный зуд. «Есть обычная тьма, – отвечало черное существо, – а есть Запредельная Тьма, в ней обитают все мертвые сущности. В глубине Запредельной Тьмы скрыта еще одна Тьма – Вечная. И мертвецы, и коренные обитатели Запредельной Тьмы, все боятся Тьмы Вечной, одна только мысль о ней приводит в цепенящий страх. У вас есть такое понятие – ад. «Адис» – говорили греки. Римляне говорили: «инферно». А евреи – «шеол». Мы называем это Запредельной Тьмой. Но Запредельная Тьма ничто по сравнению с Тьмой Вечной. Про Вечную Тьму не известно почти ничего». – В ней кто-нибудь живет? – спросил Костик. «Предполагают, что да. Но кто это или что это – никто не знает. Предполагают даже, что Вечная Тьма – это не место и не пространство, а некий непостижимый организм, точнее, лишь малая его часть. Краешек чего-то грандиозного и немыслимого». – А что такое мертвые сущности? Ну, которые живут в Запредельной Тьме! «Они не живут. Они мертвы и мертвенно существуют. Не все они в Запредельной Тьме, некоторые – здесь». – Где «здесь»? – вздрогнул Костик; он осмотрелся в темноте, местами разреженной и подтравленной обморочным лунным светом, местами сгущенной и плотной, как смола. В тех плотных сегментах тьмы чудилось какое-то черное мерцание или роение, словно там беззвучно кишели неразличимые твари, слившиеся с темнотой. А может, тьма была единым огромным существом, которое Костик видел изнутри? Возможно, это существо заживо разлагалось, и процессы его распада сопровождались гнилостным движением и копошением в темных завихрениях пространства. С некоторых пор Костик стал слишком мрачно смотреть на многие простые вещи. Повсюду ему мерещились какие-то жутковатые смыслы, которыми весь окружающий мир был подточен изнутри, будто пустотами, что проедают жуки-древоточцы в обреченной на гниение древесине. «Прямо здесь, – ответило черное существо. – Совсем рядом. Ты разве не знаешь, что я – мертвая сущность? До сих пор этого не понял?» Мгновенное концентрированное воспоминание озарило Костика изнутри. Он снова увидел последний ритуал, который африканская секта проводила над обезьяной. Ритуал сожжения. Как и прочие ритуалы, он был полон символизма, но в этом ритуале, в отличие от других, проявляла себя пугающая потусторонняя сила. Этот ритуал более всего поддерживал в сектантах веру в то, что они не просто кучка помешанных, что они соприкоснулись с какой-то невероятной реальностью. Здесь был элемент настоящего чуда, на которое члены секты смотрели с благоговейной жутью. В этом ритуале не просто сжигали обезьяну. Ее поджигал человек, который сначала загорался сам, после того как погружался в специальную медитацию, приводящую к самовозгоранию. Человеческие религиозные практики не знали медитаций, с помощью которых можно было, воспламенив плоть, сжечь себя силой мысли. Зато шаммакх с легкостью могли устроить самовозгорание самим себе и окружающим. Последовательность ментальных операций медитирующего разума, которую они открыли сектантам, срабатывала безотказно. В точности выполнив все предписанное, добровольный мученик-самосожженец вспыхивал, будто облитый горючей жидкостью, после чего набрасывался на обезьяну, запертую с ним в клетке, обхватывал ее пылающими руками, заключая в убийственные объятия. Символизм этого ритуала заключался в том, что разум, подобно пламени, переходит от человека к его потомкам, перекидывается с одной эволюционной ступени на другую, словно пожар, который, начавшись на первом этаже здания, захватывает следующие этажи. Все это Костику уже показывало и объясняло черное существо, а теперь напомнило об этом, и Костик, прежде почему-то не делавший выводов, сейчас наконец задумался о том, что черное существо, являвшееся к нему по ночам, не просто существо – это мертвец. Мертвая сущность. Нечто, существующее по законам смерти. Каждый раз он чувствовал исходившую от черного существа жуть – как бы характерный запах. Оно не имело животных, биологических запахов, их роль исполняло ощущение чего-то зловещего, источавшееся от существа, как смрад. И теперь, при ясном осознании того, что эта черная фигура – мертвая сущность, Костику стало не по себе. Мертвые, подумал он, просто так не приходят к живым, они всегда преследуют какие-то темные, погибельные цели. Впрочем, откуда к нему пришла эта мысль о мертвых и о том, что они делают «всегда», Костик не смог бы понять, если б задумался об этом. Его разум работал лихорадочно, мысли хаотично наползали одна на другую. «Я не ушел в Запредельную Тьму, потому что здесь мое тело, – произнес шаммакх. – Оно стало прахом, но оно все еще мое тело. У этого праха есть особенности. Даже в человеческом прахе заложены скрытые силы – что уж говорить про наш прах! Шаммакх потому и развили в себе способности к самовозгоранию и обращению в пепел, что знают преимущества такой формы существования. У любого человека жизнь после сожжения кончается, у нас – начинается новый этап. Часть своей жизни провести в теле, пользуясь его формами и функциями. Другую часть жизни провести в прахе. Это высший образ существования, в нем больше возможностей. Только к нему надо должным образом готовиться. Мое пробуждение случилось во время сожжения, когда готовиться было уже поздно. Поэтому сейчас мне нужна твоя помощь. Ты поможешь разбудить силы праха». – Что мне надо сделать? – спросил Костик, загоревшись любопытством; предвкушение чего-то необычайного и грандиозного охватило его.
Черное существо объяснило Костику, что он должен влить в обезьяний прах немного крови. Но не своей – это должна быть кровь маленькой девочки. Нужна именно такая кровь – женская, как можно более юная, чистая и невинная. И нужно-то совсем немного. «Возьмешь кровь у сестры, – сказал шаммакх. – Я тебе помогу все обстряпать». Ночью Костик прокрался в комнату к Ирише, своей младшей, шестилетней сестренке. Шаммакх положил руки на голову спящей девочке – это гарантировало беспробудный сон, – а Костик сделал то, что шаммакх ему приказал. Откинул одеяло, укрывавшее сестру, стянул с нее трусики, раздвинул ноги и впился зубами в то место, где правая нога соединялась с телом. Прокусив кожу и высосав немного крови, которую не проглотил, но удержал во рту, Костик укрыл Иришку одеялом, вернулся к себе и, вытащив пробку из бутылки с прахом, сплюнул внутрь высосанную кровь. Шаммакх какое-то время продолжал удерживать девочку в глубоком сне. Утром она проснется, обнаружит ранку на теле, но постесняется рассказывать про нее. И никто ту ранку не заметит – слишком уж укромно расположена. Когда шаммакх вновь объявился в комнате Костика, то сказал, что все сделано правильно. Кровь смешалась с прахом, и шаммакх сразу это почувствовал на расстоянии. «Теперь, – продолжил он, – нужно еще кое-что. Кровь – первый компонент. Второй компонент – семя. Ты должен влить в прах немного спермы. Тогда прах сможет стать моим настоящим телом». – А где взять сперму? – наивно спросил Костик. Черное существо осклабилось. «А уж это самое простое. Я тебе сейчас объясню, где ты ее возьмешь…»
Часть вторая
По многим причинам Люда гордилась своими детьми – Сережей, Ромкой и Таечкой, – но одна из тех причин была особенной. То был исключительный предмет материнской гордости: дети Люды никогда не видели дурных снов. Люда преподавала социальную психологию в МГППУ, но подумывала сменить профессию и заняться психотерапией. Уже почти десять лет увлекалась гипнозом, брала уроки у знакомого психотерапевта, старого друга отца, и тот, видя успехи своей ученицы, советовал ей опробовать себя наконец в качестве психотерапевта. Люда отвечала, что еще немного, и она окончательно созреет для такого решения, а пока что испытывала психотерапевтические способности на собственной семье. На удивление легко давались ей различные гипнотические техники, она даже шутила, что ей в этом деле помогает архетип ангела-хранителя, выходящий из глубин коллективного бессознательного. Она, к примеру, быстро научилась делать гипнотическую анестезию, и если, скажем, у мужа болела голова, а у кого-то из детей – зуб, ухо, ушибленное место, то Люда в два счета решала такую проблему. Когда родился первый сын, Сережа, она начала изучать техники гипноза специально для того, чтобы избавить мальчика от страшных снов. Сама она раньше нередко видела кошмары, поэтому поклялась, что детство ее сына не омрачат никакие зловещие тени. Потом, через два года, родился Ромка, через пять лет – Таечка, и Люда, вполне освоившись с разными гипнотическими методиками, заботилась о своих детях, словно птица, собравшая птенцов под крылья. Она защищала детей от таких опасностей, с которыми другие родители не могли совладать. Она учила детей мыслить позитивно, настраиваться на светлые мысли, чувства и состояния, обучила приемам самогипноза – для правильной подготовки к спокойному сну и для избавления от страхов и тревог посреди дня. По вечерам проводила с детьми короткие сеансы гипноза, в которых закладывались позитивные установки. При этом отмечала с особенным удовольствием, что дети ничуть не тяготятся ее сеансами как рутиной и обязаловкой, но участвуют в них с охотой, ведь она сумела пробудить искренний интерес к искусству психологического самосовершенствования. Каждый день она просила детей рассказывать о своих снах за прошедшую ночь – не о содержании снов, на этом не настаивала, но о том, какой характер имели сны. Дети охотно делились с ней впечатлениями о сновидениях и, не ограничиваясь краткими описаниями характера сновидений, часто рассказывали само их содержание, хотя Люда об этом не просила. Здесь, считала она, дети не должны подвергаться ни малейшему давлению. Поэтому, когда они сами предлагали ей послушать подробные пересказы снов, Люда радовалась, видя в этом знак особого доверия, установившегося меж нею и детьми. Изо дня в день, из года в год она чувствовала тихое счастье, убеждаясь, что с ее детьми все в порядке, что у них не развиваются патологии и не образуются негативные психические комплексы. Никакие кошмары не преследовали ее детей. Поэтому для нее стало настоящим потрясением, когда Таечка однажды утром проснулась с воплем ужаса и сквозь слезы сказала, что видела страшный сон. Пятилетний ребенок, растущий в благополучной счастливой семье, под присмотром столь заботливой матери, – нет, такой ребенок не должен видеть никаких ночных кошмаров! Люду очень встревожило это происшествие. Причин для страшных снов у Таечки быть не могло, поэтому следовало срочно разобраться с происхождением ее сна. В то утро мать и дочь остались дома одни. Мальчики только что ушли вместе с отцом, который отвозил их в школу на своей машине, после чего отправлялся на работу. А Люда, у которой рабочий день начинался позже, должна была, по пути в университет, завезти Таечку на своей машине в детский сад. Собираясь войти к дочери, чтобы разбудить ее, Люда вдруг услышала крик из-за двери. Таечка не хотела рассказывать сон. Какой-то психологический барьер мешал ей открыться, и Люда, как ни старалась побудить дочь к откровенности, ничего не добилась. Тогда она решила под видом игры провести с Таечкой сеанс гипноза, чтобы допросить ее в состоянии транса. Так Люда еще не поступала ни с кем из детей, не использовала гипноз для допросов, но сейчас была исключительная ситуация. Факт кошмарного сна сигнализировал о чем-то крайне важном, а возможно, и опасном, и бездействовать Люда просто не имела права. Она погрузила Таечку в транс и велела рассказать сон. То, о чем поведала дочь, заговорившая под глубоким гипнозом, привело Люду в ужас. Сначала Таечка увидела во сне, как папа с мамой занимаются любовью. Эту сцену она описала совершенно по-детски, но при этом с откровенно порнографическими подробностями, которые в ее пересказе звучали невинно и одновременно чудовищно. Вместе с Таечкой совокупление родителей наблюдали во сне ее братья. Люду прошиб пот, и кровь прихлынула к лицу. Затем Таечка увидела, как у мамы стремительно развивается беременность: живот надувался, будто мяч, который накачивают воздухом с помощью насоса. Вскоре живот – «ужасно-ужасно пребольшой», как сказала Таечка, – лопнул, и вышла из него наружу черная страшная обезьяна, ростом с папу. Она заговорила на непонятном языке, но Таечка почему-то поняла этот язык – поняла, что обезьяна говорит о том, как сильно она проголодалась. Испугавшись, девочка спряталась в шкаф. Оттуда через щелку наблюдала, как обезьяна пожирает братьев, оцепеневших, неспособных двинуться с места, словно бы обезьяний взгляд наводил паралич. Потом, когда обезьяна покончила с ними, мама подползла на четвереньках к оставшимся от сыновей окровавленным костям, села на пол и начала запихивать эти кости в свой распоротый живот, утрамбовывая их там, будто вещи в чемодане. А папа, догадавшись, где прячется Таечка, жестами указал обезьяне на шкаф, заговорщицки улыбаясь при этом. Обезьяна, после пожирания мальчишек ставшая еще крупнее, приблизилась к шкафу, распахнула дверцы, выволокла Таечку наружу, нависла над ней и оскалила пасть, полную страшных зубов… В этот момент Таечка с криком проснулась. Выслушав рассказ дочери, Люда дала ей новую команду: рассказать, не видела ли она что-то нехорошее на картинках или на видео, что-то гадкое или страшное? Может быть, малышка случайно нашла – или кто-то с дурным намерением показал ей – нечто такое, что могло спровоцировать эти безобразные и жуткие образы во сне. Но Таечка отвечала, что не видела ничего нехорошего. Тогда Люда приказала ей проснуться и забыть по пробуждении все – и утренний сон, и то, что происходило во время сеанса. Таечка вышла из транса спокойной, не омраченной никакими тяжелыми впечатлениями, но при этом не особо радостной, какой обычно бывала по утрам. Вечером того же дня Люда поговорила с мужем, подробно пересказав ему все, что слышала утром от дочери. Тот мрачно задумался, долго молчал, а потом признался, что уже несколько дней чувствует необъяснимую тревогу, даже какой-то страх. – Мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит, что чей-то взгляд – недобрый такой взгляд – сверлит спину. Я уж и озираться начал, словно какой-то параноик. И в замкнутых помещениях, где рядом никого и спрятаться невозможно, мне все чудится взгляд, а то и несколько взглядов сразу. В лифте, например. – Что ж ты мне не сказал, Котя?! – мягко упрекнула Люда. Он вздохнул. – Ну, как… Ну, не знаю… О чем тут, вроде бы, говорить! Надо ж сначала как-то разобраться, понять, что это вообще… – Котя мой, Котя! – Она прижалась щекой к его груди, мягко обхватив руками его сильный, натренированный торс. – Пожалуйста, не скрывай от меня такие вещи, ладно? Вместе мы во всем разберемся, вместе все поймем… – И она шепотом напела финальную строчку из их любимой пинк-флойдовской песни: – Together we stand, divided we fall. У Кости от прилива нежности по телу пробежала мелкая дрожь. Эта песня была чем-то вроде их любовного гимна и пароля. Когда-то, двенадцать лет назад, еще не женатые, они впервые лихорадочно срывали друг с друга одежду именно под эту песню, страшно нервничая и задыхаясь от возбуждения. С тех пор эта песня заняла особое место в их жизни. Оба они знали наизусть ее английский текст, и, бывало, если кто-то из них затягивал одну строку, скажем – «Hey you! Would you help me to carry the stone», – то другой тут же подхватывал, и следующую строчку они уже тянули хором: «Open your heart, I’m coming home». Всякий раз, когда Люда напевала отрывок из этой песни своим нежным, с легкой хрипотцой, голосом, Костю охватывало возбуждение, совладать с которым он не мог и не хотел. Зная это, Люда попусту не разбрасывалась отрывками столь неотразимой песни, а пускала их в мужа, как будоражащие стрелы, только в самые подходящие моменты – когда дети спали либо их не было дома. Сейчас, когда дети уложены спать, был как раз подходящий момент, и супруги, до сих пор влюбленные друг в друга, словно недавно познакомились, могли позволить себе на время обезуметь и сорваться в волны и водовороты взаимной неистовой нежности. Потом, когда их тела, влажные от пота, сцеплялись в мучительно-сладостных пароксизмах любовного танца, Люда, стоявшая на коленях и упиравшаяся в кровать головой, вывернулась так, что ей видна стала часть комнаты позади; и в этой изломанной позе вдруг показалось ей, что в проеме двери стоят все трое – Сережа, Ромка, Таечка, – стоят и внимательно наблюдают. В ужасе Люда дернулась так резко, что Костя вскрикнул от боли. Выскользнув из-под него, она как-то подпрыгнула на месте, одновременно разворачиваясь, будто испуганная кошка, в которую попали камнем. Расширенными глазами смотрела она в сторону двери. Та все-таки оказалась закрыта. Но Люда словно бы видела, как дети шмыгнули куда-то в тень и стоят, невидимые, где-то здесь, в комнате, вжавшись в стену и оцепенев, чтобы слиться с мебелью; их азартные, скользкие от похоти взгляды пламенеют из сумрака. Люду пронзило жуткое леденящее чувство, что ее дети – опасные и злобные звереныши, скалящие зубы из темноты в ожидании удобного момента, чтобы впиться в собственную мать или отца. Костя с недоумением и гримасой боли смотрел на Люду, сидя на коленях и прижав ладони к паху. – Ты чего? – растерянно спросил он. – Да так, ничего, показалось, – произнесла Люда и вдруг прыснула со смеху, заметив, что у Кости меж пальцев, которыми он держится за «ушибленное» место, просачивается белесое и вязкое. – Котя мой, Котя! – прошептала она, подползая к нему, разнимая его руки и наслаждаясь открывшимся зрелищем. – Ну, ты как школьник, честное слово! Только успевай за тобой подчищать! Дай-ка, я сейчас все уберу… Костя липкими пальцами взъерошил волосы у нее на затылке, выгнул спину и запрокинул лицо к потолку. – Ты с ума сведешь, – пробормотал он, с наслаждением прикрывая глаза. – Угу, и сведу, и обратно заведу, – невнятно отозвалась она, занятая «делом». Одна из выгод владения гипнотическими техниками заключалась в том, что Люда могла с помощью простейшего внушения заставить мужа быть настолько неутомимым в постели, что он доводил ее до настоящего исступления своими любовными атаками. В этот раз, чтобы избавиться от неприятного осадка, который остался после того, как мерещились дети, наблюдавшие за супружеской любовной игрой, Люда довела Костю и саму себя до полного изнеможения. Но вместо успокоения и забвения пришла муторная тревога, которая, будто червь, принялась извиваться где-то под сердцем. Эта тревога, несмотря на сильную усталость, не позволила уснуть. Люда проворочалась в постели остаток ночи, чувствуя себя какой-то безобразной тушей выпотрошенного зверя, которую насадили на вертел и бессмысленно вращают над остывшими углями. Поднявшись в предрассветном сумраке, Люда отправилась на кухню и села там на стул, не включив света. Всматриваясь в сгущения теней разной плотности, она думала о том, что же, черт возьми, происходит. Чем дольше она так сидела, тем беспомощней казалась, тем глубже игла страха погружалась в нее. Подчиняясь внезапному желанию, всплывшему откуда-то из душевных глубин, она, неожиданно для самой себя, встала со стула, тут же опустилась на колени и начала молиться. В Бога она не верила, однако ее охватило нестерпимое, как ожог, желание хоть кому-нибудь – но молиться, просить о помощи, о защите от непонятного ужаса, который – чувствовала она – надвигается на всю семью. Ей воображалась какая-то аморфная темная масса где-то «вверху» – выше неба, выше звезд. Этой необъятной массе, похожей на бесконечную грозовую тучу, она и молилась, мысленно крича, будто в приступах нестерпимой боли: «Помоги нам! Спаси нас! Не смей нас оставить! Ты же не бросишь нас, нет?! Ты должен нас спасти, должен! Помоги, помоги, помоги! Только посмей оставить! Нет, ты не сделаешь так, ты не сможешь! Слышишь меня, слышишь?!» Бессильная злоба смешивалась с надеждой, униженностью и животным страхом, и ядовитая эта смесь пенилась внутри. Люду душили рыдания, она повалилась на пол и корчилась, разрываемая сильнейшей яростью пополам с чувством детской беззащитности. Когда в своих корчах она перевернулась на спину и лежала, конвульсивно дергая руками и ногами, ей вдруг подумалось, что все это безобразие, которое она сейчас устроила, очень похоже на сцену из какого-то фильма, не могла только вспомнить название. И тут же холодно, со сдержанным злорадством произнеслась в ее уме спокойная, почти посторонняя, мысль: «А ты хорошая актриса, однако!» Желание молиться тотчас пропало. Люда открыла глаза, и тогда ей стало по-настоящему страшно. Она увидела нечто невообразимое. Вся кухня над ней, лежащей на полу, была затянута нитями черной паутины, блестевшей в первых рассветных лучах, озаривших небо за окном. И по этой паутине, словно омерзительный гигантский паук, передвигалось под потолком уродливое черное существо, похожее на человека, только с неестественно длинными руками и короткими кривыми ногами. Пальцами цеплялось оно за нити, которые были слишком тонки, чтобы выдержать его черную массу, но все же выдерживали. Хватаясь за одни нити, повисая на них, это существо проходило сквозь другие, словно его тело местами было плотью, а местами – густым туманом. Люда смотрела на это чудовище и лихорадочно пыталась сообразить, при каком типе психического расстройства может возникнуть подобная галлюцинация? Мысль о том, что она повредилась рассудком, пугала, но как еще объяснить видение? Оставалось только надеяться, что в итоге она выкарабкается, что ее психоз – не окончательный приговор. В какой-то момент она поняла, что черное существо под потолком – это обезьяна, и тут же вспомнила черную обезьяну, приснившуюся дочери. Глаза Люды встретились с глазами обезьяны, и та замерла, повиснув на нитях. Кажется, обезьяна только сейчас поняла, что женщина видит ее. Взгляд обезьяньих глаз был настолько тяжел, что у Люды возникло явственное чувство физического давления на глазные яблоки. Она попыталась отвернуться, но не смогла этого сделать. Обезьяна спустилась ниже, нависла над Людой и произнесла какую-то фразу на непонятном языке. Услышав ее, Люда тут же потеряла сознание.
Субботним вечером, когда Костя возвращался домой из тренажерного зала и открыл входную дверь, его окликнул незнакомый голос: – Подождите нас, пожалуйста! Костя обернулся и увидел двух мужчин, поднимавшихся по лестничному пролету к площадке. По коже словно пробежал холодок. – Мы войдем с вами, – произнес один из мужчин и прибавил что-то совсем уж странное: – Так угодно шаммакх. От непонятного слова «шаммакх», впрочем, смутно знакомого, Костя оцепенел и, удивляясь своей реакции, утвердительно кивнул головой. Он посторонился, пропуская незнакомцев в квартиру, вошел следом и запер дверь. «Что я делаю? Что!.. Я!.. Делаю!..» – панически думал он при этом. Только сейчас, в прихожей, он наконец разглядел эту парочку. Один щуплый и низкорослый, с неприятными, слегка крысиными чертами лица. Второй огромный, плотный, гора жира и мышц; глаза злобно блестят из-под нависших надбровных дуг; рот придурковато приоткрыт. – Зови жену и детей, – приказал низкорослый, проходя в гостиную и за рукав увлекая здоровяка следом. Когда Люда, только из душа, набросив халат на голое тело, вошла в комнату, низкорослый незнакомец, по-хозяйски рассевшийся в кресле, спокойно и внушительно произнес: – Мы здесь во имя шаммакх. – Шаммакх! – прорычал здоровяк, грузно устраиваясь на диване. У Кости дрогнули колени, ноги стали ватные, лицо покрылось испариной. Слово «шаммакх» действовало словно какой-то парализующий яд. Люда вышла из комнаты и вскоре ввела в гостиную детей, всех троих. Здоровяк при этом снова прорычал свое «шаммакх». – Супруги Смеркаловы? Константин и Людмила? – уточнил низкорослый, щуря блеклые, водянисто-серые глазки. – Да, – подтвердила Люда. – Дети: Роман, Сергей, Таисия? – продолжал допрос низкорослый. – Да, да, – Люда нервно, с подобострастной поспешностью закивала головой. – Мы и не сомневались, – сказал низкорослый, – но всегда лучше перепроверить. Во избежание нелепицы. Вы, конечно, спросите, кто мы такие и что здесь делаем. Но я вам опять скажу: мы здесь во имя шаммакх. И это главное, что вам нужно знать. Ваша семья – это сорняк, который необходимо выполоть, пока не поздно. И вот, мы пришли, чтобы помочь вам избавить мир от этой мерзости – от вас. Вы сделаете все сами, мы только проконтролируем. Таков порядок, угодный шаммакх. – Подождите, – произнес Костя, – я что-то не понимаю: что происходит? Что это вообще, как это?.. – Сейчас все поймешь, – пообещал низкорослый и обратился к Люде: – Людочка, начинай уже, пожалуйста. Возьми девочку и прикончи. Так хочет шаммакх. Дальнейшее походило на мгновенный выплеск бреда, хлынувшего в реальность, разъедая и разрушая ее структуру. Люда только что стояла неподвижно, и вдруг – Костя не успел даже заметить начало движения – она уже держит дочку за бедра, поднимает над своей головой – Таечка глупо хихикает – и резко бьет затылком о стену. Кровавое пятно расползается по обоям там, где врезалась в твердое Таечкина голова. Мучительный мышечный спазм пробегает у Кости по всему телу, начиная с левой ступни, захватывая ногу и расползаясь от нее по всем направлениям: по правой ноге вниз, по животу и спине вверх, одним побегом опутывая шею, двумя другими – правую руку, левую. «Гипноз? Это гипноз?» – думает Костя, потрясенный и оцепеневший, глядя на то, как Люда склоняется над неподвижным телом дочери, достает из кармана халата маленькие маникюрные ножницы и вонзает их загнутое острие малышке в глаза – в один, потом в другой. Когда все было кончено, низкорослый оставил кресло, подошел к Люде, глянул вниз, на девочку, и, заботливо приобняв Люду, отвел в сторонку. – Ну-ну, хватит, – с неожиданным сочувствием произнес он. – Хватит. Дрожа и беззвучно плача, Люда выбежала из комнаты. Низкорослый вновь сел в кресло. Когда Люда вернулась, Костя увидел в руке у жены большой кухонный нож с широким двадцатисантиметровым лезвием. Низкорослый тоже заметил нож и произнес: – Нож захватила? Прелестно! Теперь тебе есть что в себя воткнуть. Во имя шаммакх. А ты стой! – последнюю фразу он обратил к Косте, который дернулся было в сторону жены. Костя почувствовал, как мышцы его застыли, напряглись, отвердели. Люда распахнула халат. Затем слегка согнула и развела колени, нагнулась, приставила острие ножа, зажатого в обеих руках, к промежности и, до крови закусив зубами нижнюю губу, начала вгонять нож себе во влагалище, вращая при этом ручку и проворачивая лезвие внутри. В ужасе Костя смотрел на это. Он видел мольбу и недоумение в обезумевшем взгляде жены: она сама не понимала, что делает, какая сила завладела ее руками. Полностью загнав лезвие себе между ног, Люда продолжила стоять в неестественной позе: согнувшись, руки опираются в колени. Похоже, ее мышцы оцепенели, как и у Кости. По внутренней стороне ляжек ручейками текла кровь. – Постой пока вот так, – сказал низкорослый Люде и обратился к мальчикам: – Эй, пацаны! – Сережа с Ромкой посмотрели на него; странные у них были взгляды, словно утопающие в дреме. – Момент ловите! Потом уже поздно будет. «Что еще за момент?» – не понял Костя. Сережа подошел к матери и опустился перед ней на колени, а та положила ему на плечи свои дрожащие, испачканные кровью ладони. Костя тут же вспомнил знаменитую картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», только вместо бородатого старика отца здесь была довольно-таки молодая мать. В следующее мгновение Костя понял, зачем сын встал на колени: он вытаскивал нож у матери из промежности. Достав его, Сережа поднялся и окровавленным лезвием отвел в сторону край халата, обнажая мамину грудь. Обернувшись к низкорослому, спросил: – Можно я потрогаю? – Дурень! – осклабился тот. – Ты у отца спрашивай. Это ж все его собственность. Я-то тут при чем? – Пап, можно? – обратил Сережа к отцу искаженное неестественной улыбкой побледневшее лицо, влажное от испарины. И Костя услышал свой голос – словно голоспостороннего, сидящего внутри, шевелящего Костиными губами и языком: – Конечно, можно! Я вообще за то, чтобы дети… это… ну… – он запнулся, задыхаясь от омерзения к самому себе. Сережа осторожно тронул мамину грудь, потом, осмелев, охватил ее пятерней, начал мять пальцами. Обернулся к отцу и восхищенно произнес: – Кайфово, пап! Кисель прям такой! Мама у нас клевая телочка, да?! Жаль, у нее между ног всю резьбу сорвало, а то б я ее чпокнул! Интонация была фальшивой, словно плохой актер давился заученным текстом. – А ты знаешь, как сделай с ней? Ты ее… – бодро начал Костя и осекся. «Черт, что я несу!» – думал он, с тошнотворным ужасом сжимая челюсти, чтобы не произнести до конца ту чудовищную фразу, которую хотел сказать. «Да что ж это такое?! Что с нами со всеми?!» – панически металась мысль, будто птица в клетке оцепеневшего тела. – А че сделать-то? – с интересом откликнулся Сережа, но в этот момент Ромка выхватил нож из руки брата и резанул его по горлу. Пока Сережа хватался руками за рану, плюющуюся кровью, Ромка с остервенением наносил матери удары, раз за разом, вонзая нож ей в живот. Люда попятилась, спиной вжалась в стену и сползла на пол. В ее глазах уже не было ничего человеческого: так мог бы смотреть какой-нибудь предмет мебели, если б вдруг на мгновение уподобился человеку. Оцепенение оставило Костю. Ослабевший, он схватился рукой за стену. – Что, Константин Александрович, – раздался голос низкорослого, – сделай уж и ты, наконец, хоть что-нибудь во имя шаммакх. Костя, пошатываясь, подошел к Ромке, который продолжал кромсать ножом неподвижно лежавшую мать, и, захватив сзади его голову, одним резким движением свернул мальчишке шею. Затем тяжело опустился на пол и взглянул на незнакомцев. А они ведь молодые, вдруг подумалось ему, и тридцати еще нет, выглядят только потрепанно. Низкорослый, наверное, и в детстве был этаким маленьким старичком. А верзила, похоже, с придурью. Гости переглянулись, низкорослый произнес: – Что ж, теперь, когда лишних не осталось, позвольте представиться. Артем Андреевич Тарасов. А мой друг – Вячеслав Михайлович Шугаев. Мы, скажем так, вольные исследователи некоторых любопытных феноменов. Пришли мы, собственно, к вам, Константин Александрович, потому что корень проблемы – вы. Это ведь вы заключили договор с дьяволом… – С каким дьяволом? Что за чушь! – перебил Костя. – Метафора! Просто метафора, – пояснил Тарасов. – Я про ваши отношения с шаммакх. – Что это еще такое? – спросил Костя. – Да вот же оно! – и Тарасов указал пальцем на африканский сосуд, стоявший на комоде. – Вы уж и забыли, как это называется? Правильно! Чем меньше помнишь, тем лучше идет процесс. Знание – сила, а незнание так вообще – страшная сила. Вы хоть помните, откуда у вас эта урна с прахом и чей там прах? – Да уж помню! – буркнул Костя. – Мне подарил ее дядя. На… тринадцатилетие, кажется. Там обезьяний прах. Африканская штука, секта какая-то изготовила. Ну, и что с ней не так? Сувенир как сувенир. – Это не просто прах, – продолжал Тарасов. – Это тело, которое перешло на высший уровень существования – в виде праха. Теперь оно обладает такими свойствами, какие нашим телам и не снились. Это тело шаммакх, самой страшной твари на этой планете. Шаммакх – высшая эволюционная ступень развития обезьяны, а тело праха – высшая форма телесной структуры для этого чудовища. Помнишь, как в детстве ты общался с ним, с шаммакх, как проходил у него инициацию. Костя напряг память, и воспоминания поплыли из темноты. – Ну, да, я помню, – произнес, – как мне снилось в детстве, что ко мне типа приходит обезьяна, и мы с ней разговариваем. Но это же сны были! Какие-то детские сны, и все! – Нет, Константин Александрович, – Тарасов помрачнел, глаза его болезненно загорелись, – это была инициация. Шаммакх сделал тебя своим инструментом и атрибутом. Ты даже не понял этого. Да и не должен был понять. Именно так это работает. Все, кто, подобно тебе, попал в сферу влияния шаммакх, ничего не подозревали. Инициация закончилась, сны прекратились, и, кажется, обо всем теперь можно забыть. Так со всеми и происходит. Но вот ты мне скажи: почему за столько лет ни разу тебе не пришло в голову высыпать к черту всю эту дрянь из сосуда? Зачем нормальному человеку хранить дома обезьяний прах? А жена твоя – ей ведь тоже ни разу не захотелось избавиться от этой гадости, я прав? Вы его на почетном месте держите столько лет, словно там прах любимого дедушки. Вот какого – ты спроси себя! Костю прошиб холодный пот, когда он понял, что этот Тарасов прав, что их с Людой отношение к праху было ненормально. Только сейчас он понял это, как бы взглянув на себя со стороны. – Вслед за тобой, – продолжал Тарасов, – эта тварь присвоила твою жену, а уж дети – так те еще до рождения были ее собственностью. Шаммакх постоянно живет с вами, близ своего праха. Существование на уровне праха позволяет его сознанию находиться около тела. Собаке, которую привязали к колышку, цепь дает возможность вокруг колышка ходить; так и шаммакх может обитать в пределах какого-то радиуса вокруг своего праха. Если человек вдыхает этот прах и частицы попадают в организм, то шаммакх начинает жить внутри такого человека. Костя с ужасом вспомнил, как Люда однажды откупорила сосуд с прахом, понюхала и, удивленно восхитившись, сказала ему: «Слушай, Котя, как пахнет-то хорошо! Не могу только понять, на что это похоже». И он тоже потом нюхал воздух над горлышком сосуда, силясь понять странный утонченный аромат, исходивший из него. И мальчишки – Таечка в ту пору еще не родилась, – увидев, чем заняты родители, тоже захотели понюхать… – Тело праха дает высшую власть над окружающими. Самая тонкая пыльца проникает куда угодно, всех подчиняя себе. Вы можете дышать этим телом, пить и есть его, и ничего не заметите. А сознание шаммакх, витающее близ праха, будет над вами доминировать. И знаешь какие признаки у семьи, порабощенной шаммакх? Главная психологическая черта? – Какая? – спросил Костя во время паузы, которую сделал Тарасов, и тот ответил: – Ярко выраженный позитив мышления. У всех без исключения членов семьи. Такая несгибаемая установка на позитив. У вас – как? Так все было? Костя пришибленно смотрел перед собой расфокусированным взглядом, и Тарасов с легким самодовольством ухмыльнулся, произнес чуть злорадно: – А-а-а, вижу, что так! Исключений не бывает. Позитив – это ваше прикрытие. Перед окружающими, но, прежде всего, перед самими собой. Шаммакх живет с вами уже столько лет. Он выращивает вас, как цветы, постоянно копается в ваших мозгах, в ваших эмоциях, реакции ваши направляет, формирует психические структуры. – И зачем это все? – спросил Костя; впрочем, заинтересованности не слышалось в его голосе, вопрос звучал механически. Костю охватило странное безразличие, какая-то психологическая усталость, словно бы, в тысячный раз отыграв надоевшую роль, он теперь чувствовал к ней глубокое отвращение. Странным казалось ему сейчас, что, видя мертвые тела родных, он не чувствует ничего. Совершенно ничего. Будто смотрит на манекены. «Неужели я и впрямь какой-то монстр, воспитанный другим монстром?» – подумал он, но как-то уж слишком спокойно и равнодушно. – Так угодно шаммакх! – зловеще рыкнул вдруг здоровяк Шугаев, безумно сверкнув глазами, и Костя вздрогнул, словно в него вонзилась колючка. – Таких семей, как ваша, пока не так уж много, но они есть, и становится их все больше, – произнес Тарасов. – Каковы окончательные планы у шаммакх, никто не знает. Эти твари для чего-то выращивают людей с определенным типом мышления. Полагаю, что вы и подобные вам – спящие агенты, которые должны проснуться однажды и приступить к выполнению плана. Шаммакх методично закладывал в вас какие-то доминанты. Ну, как бы программы к действию. Он способен проецировать в человеческий разум мысли, которые человек принимает за свои собственные. Взгляды, предпочтения, мнения – все формируется под его контролем. А происхождение шаммакх настолько темное, что ничего хорошего от него не жди… – Да какое происхождение! – вдруг с жаром возразил Костя. – Вы про то, что мне дядя мой рассказывал, когда дарил урну с прахом, а потом еще мне во снах снилось? Что обезьяны – наши потомки, сбежавшие из будущего в прошлое, утратили разум, еще там что-то… – Чушь все! – перебил Тарасов. – Путешествие во времени – детские сказки. Никто из будущего не сбегал. Обезьяны – никакие нам не потомки. Как и не предки. Тебе стоит узнать, кто они такие, поэтому я расскажу. В двенадцатом-тринадцатом веках был такой испанский медик и заодно философ-еретик, Алонсо де Боргонья, он считал, что обезьяна создана не Богом, как человек и прочие твари, а дьяволом. Создана вскоре после сотворения человека. Католическая церковь учила, что животные возникли прежде человека, который потому и назван венцом творения, что сотворен в последнюю очередь. А у де Боргоньи получалось, что венец творения – обезьяна, потому что сотворена после всех. От церковного осуждения де Боргонью спасло то, что Кордова, где он жил, находилась в то время под властью захватчиков мусульман. Этот город был одним из культурных центров исламского мира, там уважали ученых, в том числе медиков, и де Боргонья оказался неприкосновенен для католических церковных властей в Кордове, в чьи дела активно вмешивались мусульмане. Обезьяна, считал де Боргонья, – это дьявольский псевдочеловек или античеловек, подброшенный к нам, чтобы нас однажды вытеснить. Вот только у дьявола плоховато получилось быть творцом, поэтому обезьянам требуется доработка. Де Боргонья изучал обезьян как медик, проводил над ними эксперименты и пришел к выводу, что у этих тварей множество скрытых возможностей. Их потенциал он старался раскрыть. Говорят, добился больших успехов с помощью медицины и магии. Обезьяны, над которыми де Боргонья поработал, всех поражали своей разумностью. В девятнадцатом веке его опыты продолжил Фабр Буллан, это уже в Париже, тоже мистик свободного полета, чуть ли не откровенный сатанист. Достигал духовных вершин через эротику. Его последователи совокуплялись с призраками, ангелами и с этими самыми обезьянами, у которых раскрывались мистические способности. В отличие от де Боргоньи, Буллан полагал, что обезьяна сотворена не после, а прежде человека. Но опять-таки – сотворена дьяволом. Когда Бог творил животных, дьявол решил сотворить разумное существо, ангела во плоти, который встал бы на ступень выше всякого животного. Только что-то пошло не так, и обезьяна не смогла подняться над прочими тварями. Тогда Бог, как бы в насмешку над дьяволом, сотворил человека, взяв за образец дьявольскую обезьяну и доведя ее образ в человеке до совершенства, наделив разумом и способностью духовно возвышаться до ангельского состояния. Это и стало причиной окончательного падения дьявола. В ту пору для него еще была возможность покаяния, возвращения к Богу и восстановления в ангельском чине, но, когда Бог переиграл его в сотворении человека, это возбудило у дьявола настолько сильную ненависть к Богу, что ни о каком возвращении уже не могло быть и речи. С тех пор дьявол искал способы, чтобы взять реванш и довести обезьяну до такого уровня развития, который поставил бы ее выше человека во всех смыслах. Буллан получил мистическое откровение о том, чтобы ритуально сжигать обезьян, превращая их в смесь призрака с материальной сущностью – тело праха с привязанным к нему сознанием. В опыты Боргоньи и, особенно, Буллана уходит корнями африканская секта, которая начала изготавливать все эти сосуды для праха и продавать их туристам. Придумали сказку про эволюцию на основе генной инженерии, про бегство обезьян из будущего. Вообще, если какая-нибудь секта впаривает что-нибудь в духе научной фантастики, то это, скорей всего, сатанисты. Ну, разновидность какая-нибудь сатанизма. Подковырни их фантастику – так обязательно найдешь под ней дьявола. Не зря ведь даже в литературе самые солидные научные фантасты тяготеют к сатанизму. Артура Кларка вон взять хотя бы… А эти ребята из африканской секты серьезнее тех нелепых сатанистов типа Кроули, ЛаВея и прочих всем известных. Потому что уже добились реальных результатов. То, что они делают с обезьянами, – это ведь работает. Простые обезьяны, после всех ритуалов, становятся шаммакх с телом из праха, и этот прах в урнах стоит у людей по всему миру. Сейчас его не только в Африке продают – во многих странах. Даже здесь, в Москве, есть магазинчик африканских товаров, где продаются такие урны. Был, точнее. Здоровяк при этих словах улыбнулся во весь рот, обнажая крупные зубы. Косте почудилось на мгновение, будто изо рта у него торчат кабаньи клыки. Костя, казалось, не слушал. Жалким, тоскливым взглядом побитого пса смотрел он перед собой и вдруг спросил тихо: – Зачем вы убили мою семью? В этом подавленном, потерянном голосе словно приглушенно звякнул на ветру металлический колокольчик. – Мы убили? – ехидно улыбнулся Тарасов. – И пальцем не дотронулись! – Вы ж нам приказывали. Под гипнозом, – пробормотал Костя. – О чем ты? Никаким гипнозом я не владею, – отчеканил Тарасов; улыбка исчезла, лицо стало непроницаемым и в один миг постарело на десяток лет. – Да и невозможно под гипнозом заставить человека пойти против его моральных принципов. Я всего лишь произнес кодовую фразу: «Так угодно шаммакх». И: «Во имя шаммакх». Вы автоматически восприняли это как сигнал, который срывает с вас покровы. А меня посчитали посредником, передающим волю шаммакх. Моя скромная хитрость сработала. Расчет был на эффект неожиданности. Если б вы раньше уже служили шаммакх открыто и сознательно, то я бы не смог перетянуть одеяло на себя, а так – видишь, как все завертелось! Заодно и протестировал вас. Я-то, конечно, был уверен на ваш счет, но окончательно убедиться не мешает. Во имя шаммакх его рабы готовы сделать все. Вы это замечательно продемонстрировали. На обычных людей фраза не произвела бы никакого эффекта. А те, на кого производит, те не должны жить, потому что опасны – не сейчас, так в будущем. Эту опасность вы сами благополучно устранили, я только скромно подсказал – как. Тарасов перевел взгляд с Кости на Шугаева. Здоровяк застыл, уставившись в пустоту, чуть приоткрыв рот. Он походил на ребенка, ожидающего кормления с ложечки. – Славик, эй! – негромко позвал Тарасов, и здоровяк тут же заморгал и замотал головой, стряхивая оцепенение. В глубине Костиных глаз блеснули колючие искры, лицо обострилось, словно у мертвеца, поганая, смрадная улыбка поползла по губам. Казалось, он сейчас начнет гадко хихикать, сотрясаясь всем телом. Костя напрягся… И вот – он уже не сидит на полу, а, перебирая ногами и руками, словно гигантское насекомое, быстро пересекает комнату, хватает с комода африканский сосуд, выдергивает пробку и начинает рассыпать прах из узкого горлышка, выкрикивая слова неизвестного языка – словно читая заклинания. Прах поплыл по комнате туманными потоками. Они закручивались и разветвлялись, неестественным образом поднимаясь к потолку, вместо того чтобы оседать на пол. Напрасно Шугаев подскочил к Косте и начать бить и топтать его ногами – было уже поздно. Капли Костиной крови из разбитого лица, попадая в потоки праха, поднимались вверх вместе с ними. Тонкими змейками струился прах, заползая в рот и в ноздри Шугаеву и Тарасову. Избитый, затоптанный Костя корчился на полу, и было в тех корчах нечто до непристойности сладострастное. В переплетениях тонких нитей праха клубилось темное пятно, будто чернила, пролитые в воду. Оно росло, постоянно меняя форму, выбрасывая из себя дымчатые отростки и втягивая их обратно. Когда Шугаев наконец увидел это, Тарасов все еще ничего не замечал. По-детски приоткрыв рот, здоровяк смотрел на черную и высокую, под потолок, фигуру. Фигура склонилась к нему и что-то прошептала на ухо, обдав могильным зловонием, в которое вплелись пронзительные нотки манящего аромата. Шугаев осклабился и понятливо закивал. – Славик, – Тарасов тронул его за локоть, – ты уж добей его, что ли. Смотреть противно. Шугаев издал пещерно-утробный звук – в нем почудилось «ага!» в низкой тональности. Затем, развернувшись, схватил Тарасова за горло своей ручищей. Напрасно тот пытался содрать с себя эти крепкие пальцы, даже ослабить хватку не смог. Пальцы сжимались сильнее. И, когда зрение начало меркнуть, Тарасов увидел за спиной у Шугаева черную обезьянью фигуру, сверлившую гостей злыми искрами глаз. За какие-то секунды эти глаза успели сказать многое. «Первая тьма – та, которую ты почитаешь за свет, – проповедовали Тарасову глаза шаммакх. – Вторая тьма – ее изнанка. Третья тьма ожидает тебя после смерти. Эта тьма подобна лабиринту, за каждым его поворотом все плотнее и страшнее мрак. В самой страшной тьме скрывается иная тьма, четвертая, она словно капкан, что намертво впивается в жертву, неосторожно вступившую в лабиринт. Сейчас ты войдешь в него и затеряешься в нем. Ты отдаешь мне свою волю, взамен получаешь мою заповедь. Стань наконечником моей стрелы. Стань мыслью моего разума. Стань всплеском моего безумия. Проникни в глубины глубин третьей тьмы, отдай себя тьме четвертой, перейди запретную черту, пропади в сокровенной пропасти, откуда не возвращаются, но сохрани нить между тобой и мной – сохрани ее во имя шаммакх! Будь готов ответить мне из пропасти, когда я вопрошу тебя». За мгновение до смерти Тарасов понял, зачем шаммакх паразитирует на людях, зачем подчиняет их себе. У каждого раба шаммакх даже после смерти сохраняется связь со своим господином – тонкая, как призрачная паутинка. Шаммакх отправляет своих рабов в самые страшные области загробной тьмы, забрасывает их туда, будто лоты, которыми под килем корабля измеряют морские глубины. Люди для шаммакх – инструмент исследования потустороннего ужаса, самых дальних и нижних его слоев, которые пугают шаммакх, наводят оцепенение, разжигают желание, гнев, ярость, злость, доводят до исступления. Что там, в самых кошмарных глубинах загробного мрака? Какие тайны кишат в этой бездне? До приступов безумия желает шаммакх узнать. И сидит на краю черной пропасти, и кидает камешки в ее беспросветный мрак, а эти камешки – людские души, наши жалкие «я», окаменевшие в руке обезьяны. Чтобы кануть после смерти в самую глубокую тьму, надо при жизни совершить нечто страшное. Надо, чтобы почернела и потяжелела душа, сроднившись с тьмой и глубиной той бездны, куда предстоит отправиться после смерти. Загробный полет духа – это падение во тьму, поэтому чем тяжелее у тебя на душе, чем беспросветнее, тем быстрее ты полетишь, оказавшись на той стороне. Шаммакх заставляет своих рабов делать то, что обеспечит им самое глубокое падение после смерти. Он понял наконец значение установки на позитив у рабов шаммакх. Это не просто прикрытие, не просто обман и самообман, это точно рассчитанная психологическая схема, готовящая человека к страшному срыву. Годами и десятилетиями принуждать к неизменному позитиву в эмоциональной и ментальной сфере – все равно что натягивать тетиву, отводя стрелу и обеспечивая ее энергией для полета в противоположную сторону. Перекормленный позитивом человек неизбежно сорвется, и тьма под ним будет тем глубже, чем дольше он поглощал приторную патоку счастья. Перед смертью сознание работало быстро и четко, ясность ума казалась необыкновенной. Разум не угасал, а словно расцветал геометрически правильным цветком, раскрываясь и разворачивая, один за другим, свои лепестки безупречных форм. Внезапно вспомнились где-то прочитанные неизвестно чьи слова, запавшие в память: «Наступает просветление ума. Значит, приближается смерть». С Тарасовым было покончено. Шаммакх бросил короткий взгляд на Костю, потом – на Шугаева, и тот понял, что хозяина квартиры надо добить. Он тут же занес над Костиным лицом ногу в тяжелом ботинке сорок восьмого размера. Костино сознание озарялось вспышками обостренного восприятия, словно скоростная фотокамера, делающая несколько снимков в секунду, и в этих озарениях он успел прочесть на серой подошве с глубоким рельефом надписи: «ударопрочная», «маслобензостойкая», «антистатичная» – такую обувь носят сотрудники предприятий с вредными и опасными производственными факторами, – а потом наступила тьма: ботинок обрушился на лицо, и кости черепа хрустнули. Захватив сосуд с остатками праха, горлышко заткнув пробкой, Шугаев скользнул взглядом по шести трупам – трем взрослым, трем детским, – вытер о ворс паласа подошву правого ботинка, испачканную кровью, и вышел из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь.
День открытых могил

Конец осени – конец марафона открытых дверей. Все три осенних месяца Открытые Дни следовали один за другим, перенимая друг у друга эстафету. Как пальцы скользят по четкам, так и общественное внимание переносилось из одной открытой двери в другую. Любопытные толпы посетителей, вездесущие тени журналистов, фотовспышки, словно конвульсии умирающих светил, брызги искр на радужках восторженных глаз, воздушные шарики самых радостных цветов, транспаранты с «Добро пожаловать!» и «Welcome», улыбки, затянутые белоснежным льдом зубной эмали, цветы, искусственные и живые. Вчера отгремел День открытых палат в психоневрологических лечебницах. Сегодня – промозглая, слякотная кончина осени, ее унылый последний вздох – День открытых могил на кладбищах. Мы с Настей собираемся в путь. Я тщательно бреюсь, она подкрашивает глаза и губы. Пора приобщиться к некрокультуре, пора! Все эти «memento mori», и «помни последняя своя», и «любовь к отеческим гробам»… Настя цитирует, читая со своего смартфона: – «Девочка на кладбище играет, где кусты лепечут, как в бреду». – Прибавляет: – Красиво сказано! Где она такое откопала? Кусты на кладбище? – Это чьи стихи? – спрашиваю. – Не знаю, – пожимает плечами. – Что-то из старой поэзии. Понятно. Один из Проклятых, чьих имен называть нельзя, чтоб не попасть под эффект Проклятия. Имена-тени, имена-фантомы, несущие смертоносную отраву. – Серенький, – просит она, – можно я не буду надевать лифчик? Он неудобный, зараза! Так уже задолбал! Я смотрю на нее оценивающе – на рельеф грудей, натягивающих майку; взгляд скользит ниже, скатывается по склону семимесячного живота. Господи, да я же убить за нее готов, за Настеньку мою! Попробуй кто-нибудь только руку на нее поднять – убью без колебаний! А бросит липкий взгляд – тогда просто глаз выколю. Прилив нежности накатывает на меня, словно штормовая морская волна. Она слегка надувает губки: – Ну, в конце-то концов!.. – Ладно, – соглашаюсь я. – Сегодня – можно. Мы выходим из дома, идем пешком к ближайшему некропорту, это квартала четыре от нас. Можно было бы и проехаться на чем-нибудь, но так хочется пройтись – неторопливо, рука в руке, как будто нет у нас никакой цели и мы просто гуляем в сыром, почти уже зимнем пространстве, где холодная мелкая морось, оседая на лицах, так схожа с испариной жаркого дня. В прошлом году, во время Открытых Дней, мы с Настей побывали в морском торговом порту, на коньячном заводе и в психбольнице. Узнали много интересного, впрочем, не особо-то и нужного. Действительно, к чему нам эта формула, согласно которой, при отгрузке навалочных грузов с судна в вагон, рассчитывается максимальная нагрузка на тележки вагона, опирающиеся на колесные пары? Вес тары вагона плюс его грузоподъемность и разделить на два. Надо же – как засело в памяти! Чушь все это! Или к чему нам было узнавать процент отбора головных фракций при дистилляции молодого виноградного вина в коньячный спирт? А признаки конъюгального психоза? Полагаю, кладбище должно обогащать любопытных более универсальными познаниями. У входа в некропорт Настя спрашивает разрешения закурить. – Последняя сигаретка! – протяжно стонет, умоляющим взглядом лишая меня воли. Я сдаюсь: – Сегодня – можно. Радость, едва мелькнув на ее лице, тут же сменяется тревогой. Она закуривает, и я вижу, как пальцы, мнущие сигарету, чуть дрожат. Я тоже на взводе, я тоже ощетинился нервами. Все-таки кладбище – жуткое место. И недаром у некропорта сейчас безлюдно. Даже в День открытых могил не заманишь толпу в это зловещее подземелье. Настя ищет глазами урну, не находит и бросает окурок на тротуарную плитку. Я открываю дверь некропорта, мы входим внутрь и по ступеням спускаемся вниз. Не все некропорты оснащены лифтами – примерно половина из них, остальные предлагают вам спуск по узкой, плохо освещенной лестнице, часто винтовой, напоминающей кишку какого-то чудовища, и вы скользите в извилистом полумраке, будто проглоченная пища, навстречу преисподней, где обитают мертвецы. Ступени я не считал, сколько пройдено метров – не прикидывал. Пятьдесят? Семьдесят? На этой лестнице теряется чувство расстояния. Наконец, мы внизу, у самых кладбищенских врат. Над арочным входом выгнулась полукругом латинская надпись: SILENTIUM. «Безмолвие», «бездействие». На поверхность памяти всплывает фраза, вырванная из неопознанного контекста: «Да молчит всякая плоть человечья!» Мы проходим во врата, вступаем в туннель, минуем его, но за ним еще не само кладбище, а комната с несколькими дверьми, лишь одна из которых не заперта наглухо – приоткрыта. И то, что стоит перед ней, заставляет Настю вскрикнуть от испуга, да и я вздрагиваю, – черт бы побрал этих некротических тварей, к их жуткому виду не привыкнешь! Тварь с меня ростом. Три жабьи головы смотрят не мигая – безумно и в то же время безразлично. На губах одной из крайних голов пузырится пена. Никаких рук, но странные складки на боках наверняка что-то в себе таят – нечто, готовое мгновенно выпростаться наружу, схватить или вонзиться. Козлиные ноги, меж которых свисает из паха не то опухоль с щупальцами, не то вымя с сосками. Длиннющий, вроде крысиного, хвост нервно змеится по полу. Судя по застывшим круглым глазам, чудовище в трансе, чуть ли не в параличе. Но, судя по хвосту, оно едва сдерживается от припадка ярости. Мы с опаской протискиваемся мимо кошмарного привратника в приоткрытую дверь. Тот не поворачивает ни одной из своих голов. И даже взглядом не провожает нас. Он совершенно безучастен, но, пока мы проходили мимо, меня не покидало чувство, будто в любой миг эта бестия могла броситься на нас. – Вот зачем это все?! – зло шепчет Настя. Я молча обнимаю ее за плечи. У мертвых своя логика. Входить в их мир и спрашивать «зачем?» – бессмысленно. Некрокультура выше критического мышления. К ней можно только приобщаться, но подвергать ее скептическому допросу – боже упаси! Впрочем, восхищенно-благоговейные вопрошания вовсе не возбраняются, даже приветствуются. Происхождение некротических тварей неясно. Есть несколько теорий, но ни одну из них никто не проверял. Как говорил один из старых Проклятых поэтов: «Во всем мне хочется дойти до самой сути», – вот этого как раз никто и не делает относительно некрокультуры. Всех удовлетворяет, что выдвигаются различные теории, которые так и висят в воздухе, непродуманные до конца. По одной теории, некротические твари – это квазивоплощенные фантомы, возникшие в коллективном бессознательном мертвецов на отдельно взятом кладбище. По другой теории, они – реальные существа, обитающие в одном из глубинных слоев некросферы и переведенные оттуда на границу нашей реальности с некросферой в виде автономных галлюцинаций; только так, дескать, и могут они существовать среди нас. Автономными же галлюцинации называются, потому что их порождает не чье-либо конкретное сознание, но сама реальность бредит ими и транслирует для всех. Я, честно говоря, не совсем понимаю подобные умствования, они навевают тоску – как мельтешение рук в суетливых пассах какого-нибудь уличного мага-шарлатана. У некротических тварей достаточно много сходства с демонами, ведь те и другие зооморфны, но есть существенное различие: демонические формы обязательно содержат в себе некий антропоморфный элемент, которого некротические твари начисто лишены. Кроме того, в реальности демонов не сомневается никто, тогда как реальность некротических тварей подвергается сомнениям, и даже те, кто настаивает на их реальности, допускают ее с определенными оговорками. Как бы там ни было, известны несколько случаев нападений некротических тварей на людей – по чьей вине, неясно, по человеческой, наверное. Каждый раз последствия были ужасны. Поэтому не важно, какова их природа – галлюцинаторная либо реальная, – причинять увечья и смерть они вполне способны. Пройдя мимо чудовища, мы вступаем в кладбищенский лабиринт. На самом деле для посещения открыты далеко не все могилы, лишь некоторые. И мы блуждаем в полумраке по коридорам лабиринта, следуя светящимся указателям, направляющим в нужный сектор. Надгробия выглядят жутковато. Бледные почти трехметровые лица в стенах: глаза безумны, рты широко распахнуты, словно кричат от ужаса или готовы тебя сожрать. Проходя мимо таких барельефов, чувствуешь себя живым лотом людоедского аукциона, на котором ты демонстрируешь себя покупателям, чьи взгляды источают вечный голод загробного безумия. Я читал, что традиция оформления надгробий в виде лиц, у которых рты служат вратами, возникла как аллюзия на какое-то произведение теперь уже неизвестного писателя, создавшего зловещий и полный символизма образ. Имя писателя предано забвению, а его творения, отлученные от своего творца, влились в океан безымянного искусства. После того как Метафизическая Революция провозгласила принцип свободы творения от творца, позволив каждому произведению искусства стать артефактом, уже никто не может сказать, что эта идея принадлежит тому или другому, а та – третьему. Идеи и образы, явившиеся в мир земной, принадлежат миру богов и демонов, которые посылают художникам импульсы. Тем самым художники выступают посредниками между запредельными силами и обществом. Метафизическая Революция восстановила высшую справедливость и отняла у человека право на авторство там, где он играет роль всего лишь медиума, ретранслятора. По нынешним законам, условное право авторства сохраняется в течение жизни художника, переходя к богам после его смерти. Когда художник переселяется в некросферу, все его произведения становятся безымянны. Поэтому в океане старого искусства уже невозможно проследить аллюзии до их земного источника. Так и с надгробиями: теперь не установишь, кто сочинил этот жуткий художественный образ. Вообще, откапывание имен старых творцов чревато большой опасностью – можно разбудить Проклятие, павшее на их имена. Наконец мы достигаем сектора открытых могил. Здесь мы вольны выбрать любую могилу для посещения. Какое-то время мы ходим, придирчиво оглядывая надгробия, примериваясь. Хотя смысла в этом и нет. На самом деле нам подойдет любая могила. Просто… мне кажется, что мы просто боимся, хоть и не желаем признаться в этом ни друг другу, ни самим себе. – Что, давай сюда? – говорю я, пальцем указывая на одно из надгробий. Настя молча кивает. И мы ныряем в черный провал распахнутого рта, затянутого пленкой искусственной тьмы. У закрытых могил распахнутые глотки надгробий намертво замурованы каким-то непробиваемым материалом, а у открытых – лишь эта пленка. Тончайшая, но непроницаемая для света мембрана. Если осветить ее фонариком, луч просто исчезает в ней, не создавая никаких бликов на поверхности. Поглощение света стопроцентное. Человек проходит сквозь пленку беспрепятственно, но в тот момент, когда пересекаешь ее тончайшую, тоньше волоса, плоскость, тебя на мгновение обдает ледяным холодом, словно ты шагнул сквозь спрессованную бездну космоса. Первым вхожу я. Настя, держа меня за руку, ступает следом. Пройдя сквозь «горло» и «пищевод», мы попадаем в могильное «чрево», освещенное приглушенным боковым светом, источники которого неразличимы. Этот свет загорается здесь специально для нас – так-то вообще мертвецы должны обитать в темноте. Впрочем, слышал я мнение, что освещение могил, открытых для посетителей, – лишь иллюзия в человеческом мозгу. Скорей всего, так и есть, а то иначе я бы уже заметил источники света в помещении. Которое, кстати, довольно-таки ничего, уютная пещерка, если только это все – опять же – не иллюзия. Слишком уж по-человечески комфортной выглядит обитель мертвеца. Хозяин радушно встречает нас. Лоснится гостеприимством, как довольный кот, налопавшийся сметаны и вылизавший себя до блеска. Он суетлив, но суетливость какая-то томная, размеренная. Этому покойнику на вид лет пятьдесят. Он еще антропоморфен, однако на левой щеке уже проклюнулись два демонических глаза, рубиновый и кислотно-голубой, над переносицей торчит из головы вороний клюв, и кожа на губах напоминает змеиную. В остальном – это приземистый полноватый человечек, этакий страстный счетовод или складской учетчик, всю жизнь проработавший с приемными актами, транспортными накладными, грузовыми поручениями и подобным бумажным хламом. Он не предлагает нам присесть, хотя мебель имеется: кровать, кресло, стул, маленький столик. Но некрокультура не позволяет живым и мертвым сидеть в присутствии друг друга, причем не из рациональных каких-то соображений, но из чистого символизма, обоснованного настолько мутно, что эту логику и не уловишь. Поэтому мы стоим на каменном полу, холод которого я начинаю чувствовать стопами сквозь подошву ботинок. У меня какая-то проблема с кровеносными сосудами на ногах, поэтому ноги мерзнут, когда я стою на холодном асфальте или камне. – Выпьем же за встречу, друзья! – говорит мертвец и сует мне в руки кружку кладбищенского эля, а Насте – небольшой стаканчик зеленоватой жидкости, объясняя, что это сладкая настойка, и беременным она полезна, весьма и весьма! Мы не отказываемся, потому что знаем: отказ от подношения недопустим, выпить предлагаемое мы обязаны. Да и качество у кладбищенских напитков превосходное, поэтому грех было бы не отведать. Сам же покойник поднимает рюмочку вязкой серой жидкости. – Это сперма Аида, – поясняет, вращая рюмочку в пальцах. – Не для живых, не для живых. Все три емкости – кружку, стакан и рюмку – он достал из-за дверцы в стене уже наполненными. Возможно, за этой дверцей какой-то портал; в технологиях некросферы сам черт ногу сломит. Непонятно даже, где у них граница между наукой и мистикой. Хозяин не представился и не спросил о наших именах. Ни одна могила здесь не обозначена именем покойного, лишь номера отмечают их, поэтому нет возможности узнать, как зовут мертвеца. Спрашивать же об этом неприлично. Имена, с точки зрения некрокультуры, это следствия человеческой слабости вроде потливости или одышки – то, что следует игнорировать до тех пор, пока смерть не подарит свободу от немощей земных. Разговор начинает Настя. – Скажите, – спрашивает она мертвеца, – ведь раньше хоронили под небом, так? – Молодежь теперь ничего не смыслит в некрокультуре, – вздыхает тот. – Что значит «раньше», вот что? Раньше хоронили по-всякому. Здесь-то, на Руси, под небом, да, зато в древнем Риме хоронили в катакомбах. А в Индии нашего брата сжигали, останки бросали в реку. Там и кладбищ-то не было, только места сожжений. Но, как бы там ни было, теперь у всех один закон, один порядок. Universalis ordinatium. С тех пор, как вышел некро-фундаментальный закон… – Это который предписал устраивать кладбища под городами? – перебивает Настя. – Не совсем так, – склабится покойник, – не кладбища под городами, а наоборот: города над кладбищами. Смерть логически первична, поэтому город мертвых служит основой для города живых. Ведь жизнь – только атрибут смерти, ее следствие и производное, надстройка над базисом. – Странная у вас логика, – задумчиво произносит Настя. – «Вначале была Смерть», – цитирует покойник Евангелие от Некрогностика. Каждый раз, когда я слышу цитаты из этой книги, по коже словно пробегает холодок. Нам, живым, запрещено читать это Евангелие, и запрет соблюдается настолько строго, что нигде не найти ни одного экземпляра. Но зато дозволяется слушать цитаты оттуда из уст мертвецов, и эти твари никогда не упускают случая вставить в свою речь, обращенную к живым, то одну, то другую цитатку из запретного текста. Приоткрывают дразнящую щель к недоступным знаниям, словно бы приглашая: иди к нам, откажись от земного существования, убей себя – и ты познаешь все! Пропаганда суицида формально запрещена законом, но сколько же намеков, подталкивающих к добровольной смерти, встречаешь повсюду, сколько манящих недомолвок! В отличие от человеческих книг, Евангелие от Некрогностика не отлучено от имени автора. Впрочем, Некрогностик, первый апостол и архиерей Метафизической Революции, не совсем человек, потому и отношение к этой темной загадочной фигуре, окутанной туманом зловещих слухов, особое. Считается, что матерью Некрогностика была психически больная женщина, страдавшая онейроидным помрачением сознания, а отцом был некротический монстр, вызванный женщиной и воплотившийся в нашем мире. От этого чудовища, явившегося из морока онейроидного делирия, она зачала, но еще до родов покончила самоубийством, была похоронена беременной и родила в могиле. Когда ребенок дожрал останки матери, то проделал дыру в боковине гроба своими острыми когтями и начал рыть подземные ходы. Так он путешествовал из могилы в могилу, кормился гниющей плотью разной степени разложения, пил воду из затопленных могил и лишь через несколько месяцев такого существования выбрался наружу. Неудивительно, что существо, начавшее свою жизнь так неординарно, приобрело особый статус в глазах богов, так что имя его после ухода в некросферу не было отлучено от написанного им Евангелия. – А что ниже? – спрашиваю я мертвеца. – Простите?.. Ах да! Сразу не понял, – спохватывается он. – Где-то под нами кладбище субмертвых. – Кого? – уточняю я. – Мертвые, не прошедшие демоническую метаморфозу, становятся субмертвецами и сами себя хоронят там, внизу. – Как это – сами? – спрашивает Настя. – «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, дабы не уподобиться субмертвым, которые сами хоронят себя», – цитирует покойник Некрогностика и поясняет: – Отсюда экзегеты заключают, что субмертвые неугодны Аиду и недостойны приобщаться спермы его. Больше про этих отщепенцев и ренегатов ничего не известно. Покойник приоткрывает дверцу в стене, просовывает за нее опустевшую рюмку и тут же извлекает ее уже наполненной. Либо там устройство, наполняющее емкости, либо портал, через который сосуды доставляются наполненными, а опустевшие забираются. Расспрашивать об этом и не думаю, чтобы не насторожить мертвеца. – А какая она на вкус, сперма Аида? – интересуется Настя, быстрым движением языка облизывая губы. – Это невозможно описать в рамках вашего мышления. Вы поймете это только после смерти. У нее божественный вкус. – Откуда она берется? – спрашиваю я как можно более равнодушным тоном. Главное – не нервничать. Вести себя надо спокойно и естественно. – Видите ли, Аид испытывает оргазм всякий раз, когда кто-либо умирает. А поскольку люди умирают постоянно, то оргазм Аида не прекращается. Именно в этом предназначение живых – умирать и актом смерти ублажать своего Господа. Иначе никто и не позволил бы такому количеству живых людей существовать на этой планете. Священная сперма изливается без остановки и циркулирует по царству мертвых, как кровь внутри единого организма. Мы все здесь вкушаем ее. Приобщаемся. Причащаемся. – Поэтому вы постепенно и превращаетесь в демонов, – заключаю я. – Это же эффект спермы Аида, ведь так? – Сперма Аида делает нас его детьми. – Змеиные губы растягиваются в улыбке, обнажая нечеловечески тонкие острые зубы. – Вы же видели здесь могилы, которые закрыты даже в такой день. Знаете почему? – Нет, – Настя качает головой. – Кстати, интересно, почему? – Молодежь нынче недогадливая, – усмехается покойник. – А все очень просто. В тех могилах мертвецы, чья демоническая метаморфоза уже завершилась. Новорожденные демоны особенно опасны, потому что совершенно безумны. Разум приходит к ним позже. А поначалу это просто сгустки бешенства, которые мечутся в своих могилах – месяцы, а иногда годы. Поэтому могилы замурованы и запечатаны магией. Потом, когда демонов выпускают и переводят в демонические области некросферы, опустевшие могилы отдают новым обитателям. – А субмертвецы? С ними что? Они ведь не дети Аида? – задаю вопрос я. Улыбка, все еще игравшая на его губах, тут же исчезает. Помрачнев, покойник произносит: – Это безбожники, отступники, они ушли из-под власти Аида в глубины такой тьмы, о которой лучше и не думать. – Так вы совсем не знаете, чем они занимаются в той глубине? – уточняю я. – Никто этого не знает. – Покойник качает головой. – Судьба субмертвых в непроглядном мраке. – Ошибаетесь, – я усмехаюсь, – кое-кто все-таки знает. Я, например. Что вы на меня так уставились? Сказать вам? Сказать, чем они занимаются? Субмертвые ушли ниже адской бездны и обнаружили исконный ужас, губительный для демонов, губительный даже для Гекаты и Аида. – Откуда… – бормочет мертвец. – Откуда я знаю? Так они же мне и сказали. Пока он глазеет на меня, изумленный, Настя потихоньку берет из его пальцев непочатую рюмку. Одно из свойств некропсихологии в том, что мертвецы не способны раздваиваться в психологических реакциях, поэтому, пока внимание мертвеца поглощено каким-то одним раздражителем, на другие раздражители он реагирует с большой задержкой. Вот поэтому, пока наш покойник переваривает услышанное от меня, Настя, приблизившись к нему сбоку, спокойно разжимает его пальцыи перехватывает рюмку с мистической жидкостью, похожей на ртуть. – Субмертвые сами вышли с нами на связь, – произношу я, наслаждаясь растерянностью и страхом в обоих человеческих глазах мертвеца. Вторая пара его глаз светится безумием; по демоническим глазам не разобрать никаких чувств, да похоже, те глаза и вовсе не видят реальный мир, но смотрят в какие-то недоступные нам плоскости бытия. Я киваю Насте, и она одним глотком осушает рюмку со спермой Аида. – Стой!!! – кричит покойник, опомнившись. Но уже поздно. Я целую Настю в мгновенно посиневшие губы. Живой человек, выпивший сперму Аида, должен умереть и трансформироваться в демона. Но если беременная женщина выпивает божественную сперму, то ее ребенок становится воплощением Аида, сама же она умирает без трансформации. Аид, оказавшись во чреве обычной женщины, очень быстро убивает ее. Паралич и некроз тканей вместе с сильнейшим психозом – вот что ожидает ее в ближайшие часы. Дольше всего носить в своем чреве божественное воплощение удается ведьмам, принадлежащим к суицидальному колдовскому культу Матерей Аида. Но ведь то – ведьмы. Они зачинают от убийц, приговоренных к смерти. В тех странах, где применяется смертная казнь – а сейчас она, за редким исключением, повсеместна, – Матерям Аида разрешается казнить заключенных мужчин, превращая казнь в танато-эротический ритуал. Ведьмы овладевают смертниками, чтобы убить их в момент оргазма – задушить или перегрызть горло. Поэтому многие из смертников оскопляют себя или даже умудряются сделать себе химическую кастрацию – лишь бы избежать ритуальной казни и не отдавать ведьмам свое семя. После зачатия, в течение полугода или дольше, ведьмы пьют колдовские зелья, влияющие на плод, занимаются вампиризмом и еще черт знает чем, чтобы подготовить себя к Ужасу Аидоношения. На седьмом или восьмом месяце беременности они выпивают сперму Аида. Тогда плод становится воплощением божества, а ведьма – Матерью Аида, ее жизнь входит в высшую фазу, для нее наступает Ужас Аидоношения, а колдовские способности усиливаются настолько, что она получает статус почти что богини. Но длится это всего несколько дней. Аид высасывает ее изнутри, формируя в ее чреве портал в ад – внутриутробную черную дыру, куда его воплощение проваливается наконец, прихватив астральное тело своей Матери-ведьмы. Ее сознание разрывается: частично уходит в ад, частично остается с умершим физическим телом, поддерживая в нем жуткое подобие жизни. Ведьма теперь – живой мертвец с двумя центрами сознания, земным и адским, между которыми устанавливается ментально-психический взаимообмен. Обо всем этом Настя читала, готовясь к нашему ритуалу, а мне пересказывала прочитанное. И вот теперь она сама – Матерь Аида. – Давай! – хрипит Настя сквозь черную пену, выступившую на ее губах. Я достаю из внутреннего кармана куртки нож, над которым шептали заклятия субмертвецы. Резким движением задираю Настин свитер вместе с майкой под ним, обнажая тело. Натянутая белая кожа живота бугрится от движений изнутри. Рука дрожит, но, сцепив зубы, я вспарываю лезвием Настин живот. Из разреза лезут наружу мерзостные щупальца. О господи! Аид уже воплотился в нашего малыша. И не психически или там трансперсонально – нет, он подверг метаморфозе само его тело. Все произошло так быстро… В принципе, этого я и ожидал, зная обо всем теоретически, но, черт возьми, я же живой человек, и я, в конце концов, отец! Как я могу сохранять спокойствие, глядя на всю эту жуть, уже поглотившую моего ребенка! Эта чудовищная маленькая тварь, в которую превратился наш ребенок, разевает кошмарную пасть, полную кривых острых зубов, а я раз за разом всаживаю в нее нож, выкрикивая молитву, которую узнал из своего сна: – Праотец всего! Изначальный Господь наш! – кричу я. – Открой свои недра, Исконной Бездны утробу! Пожри скверное воплощение Нечистого бога, безобразный отпрыск Смерти и Тьмы. Победу руки моей присвой, прими ее как дар, как подношение от рода человеческого, от живых и мертвых, не предавших тебя и не приклонившихся под ярмо Нечистого! Покойник, наш гостеприимный хозяин, корчится от страха и оседает на пол у стены. Ноги не держат его. Он плохо понимает, что происходит, но запредельный ужас, поднимающийся из недоступных демонам глубин, парализует его своим дыханием. Эта проклятая тварь чувствует, что произошел метафизический прорыв, что здесь действуют такие силы, которые способны поколебать и разрушить саму структуру некросферы. Едкой черной кровью брызгает мне в лицо, но я продолжаю кромсать ножом тошнотворное месиво нечеловеческой плоти, вчиненной в умирающее тело милой моей девочки, бедной моей Настеньки, любимой… Я уже не молюсь – я вою и рычу, будто зверь, над распростертым на полу обреченным телом, нанося удары ножом, как безумный. Да я и взаправду безумен в тот миг. Все идет по плану, и хорошо рассчитанный план предусматривает безумие исполнителя. А началось все четыре месяца назад, когда мы с Настей услышали шепот во сне. Это была душная ночь в конце июля. В нашем микрорайоне отключили электричество. Сплит-система перестала работать, и мы, проснувшиеся в духоте и непроглядной тьме, обливаясь потом, рассказали друг другу одно и то же: каждый из нас услышал перед пробуждением шепот, в котором можно было явственно различить слова, произнесенные на непонятном языке. Слова врезались в память, и, когда Настя пересказала мне то, что слышала она, я понял – то же самое слышал и я. Эти слова притягивали мое внимание, они переливались у меня на языке, дурманили мозг. Я чувствовал, что это не слова-пустышки, что в них заложен смысл – грозный, даже страшный, но при этом необыкновенно притягательный, – и чтобы докопаться до него, надо просто эти слова повторять. Раз за разом. Как молитву или мантру. И я повторял их без конца, растворяя их звуки в моем сознании, пропитываясь их выделениями, погружаясь в них, как в некое загадочное не то пространство, не то состояние. Наконец, слова сработали. Они составляли кодовую фразу, открывающую человеческий разум для контакта. Только я не сразу понял, с кем именно вступил в контакт. Я начал говорить во сне. Настя записывала мое бормотание – неразборчивую скороговорку – на диктофон смартфона и потом, обрабатывая файлы в звуковом редакторе, делала понятной мою медиумическую невнятицу. Мы узнали, что это контакт с мертвецами, но не с обитателями подземного кладбища, лежащего под городом, а с теми, кто находится на недоступной глубине, в бездонном подполье. Мне приходилось слышать это название – «субмертвецы», – но я всегда думал, что это миф и аллегория, означающая крайнюю степень отверженности и безбожия. Субмертвецы перевернули все наши представления о порядке вещей. То, что они шептали мне, а я, спящий, механически повторял вслух, было потоком жутких богохульств. Они называли Аида и Гекату, пришедших к власти на волне всемирной Метафизической Революции, Нечистыми богами, которые лишь потому воцарились над человечеством, что оно совершило духовно-нравственное самоубийство и начало заживо гнить и разлагаться. Как слетаются к трупу воронье и мухи, так и к живому коллективному трупу человечества пришли Нечистые боги. Наш настоящий Господь ждет своего часа в недоступной Бездне, которая ниже любых представлений о «низком», глубже любых представлений о «глубоком» и скрыта во тьме, что черней всякой тьмы. В той сокровенной пропасти он копит ярость и гнев, которые однажды разверзнутся, словно чудовищная пасть, под ногами Нечистых богов со всеми их служителями. Мне было не по себе от этих откровений. Я думал, что схожу с ума, что мой разум поражен какой-то формой безумия, и мне казалось, что я даже знаю – какой именно. В прошлом году, когда мы во время Открытых Дней посетили психбольницу, тамошний главврач Сугробин, лично устроивший нам экскурсию, рассказывал, кроме прочего, про обсессии и контрастные представления, возникающие во время одного вида обсессий, который называют «навязчивым чувством антипатии». Попросту говоря, контрастные представления – это циничные, хульные и кощунственные мысли об уважаемых лицах или даже о Боге, непроизвольно приходящие к больному. Вот это, думал я, со мной и случилось. Может быть, потому и случилось, что я тогда внимательно слушал рассказ врача на эту тему. Ведь известно же, что интерес к вопросам психиатрии у простого человека без медицинского образования часто служит симптомом психического расстройства, которое уже подтачивает разум. Внутренняя гнильца психопатологии проявляет себя в резком обострении внимания, едва только подгнивший человек заслышит рассказ на психиатрическую тему. Черт его знает, где тут следствие, а где причина – безумие обостряет интерес к психиатрии либо из самого интереса рождается безумие, – но, так или иначе, я, похоже, попал в ловушку. Настя же переубедила меня, сумела доказать, что я нормален, а мое бормотание во сне – не психическое расстройство, но подлинное мистическое откровение. Уж не знаю, почему так вышло, только не я, а Настя фанатически уверовала в это откровение, я же заразился верой от нее. Вспыхнул и загорелся, как одна свеча от другой свечи. Субмертвецы развернули перед нами захватывающий и кошмарный план, по которому беременная Настя выпьет сперму Аида, чтобы заставить его воплотиться в нашем малыше – воплощение произойдет мгновенно, – а я тут же принесу воплощение Нечистого бога в жертву Господу Исконной Бездны, заклав приносимое освященным лезвием. Конечно, таким способом Аида не уничтожить – погибнет лишь воплощение. Это все равно что отрезать у спрута всего одно щупальце. Но, принесенное в жертву, воплощение Аида станет ключом, отворяющим дно преисподней, ниже которого таится то, что страшнее ада. Вырвавшись, оно пожрет ад, Нечистых богов – Аида и Гекату, демонов, которыми они окружили себя, мертвецов, поклонившихся Нечистым, и всех, кто служит им на земле. Тогда наступит Абсолютный Ужас, пред которым адская тьма покажется раем. Ради этого мы с Настей пошли на все. Она, любимая, убедила меня, что мы должны пожертвовать всем: и нашим ребенком, и собственными жизнями. – Ведь истина дороже всего, – говорила она, обжигая меня взглядом своих прекрасных карих глаз. – Да пусть он хоть провалится и сгорит, весь этот мир, лишь бы истина восторжествовала! В такие вдохновенные моменты Настя впадала в патетику, начинала выражаться высокопарно, но это мне и нравилось в ней, даже физиологически возбуждало. «Да, да, именно так, – думал я, чувствуя, как наливается кровью моя плоть, – пусть истина восторжествует! Пусть все провалится и сгорит!» Человек ведь такое существо, которое способно к бескорыстию в самых высших его формах. А это значит, что человек может – просто так, без всякой выгоды для себя, из одного принципа – уничтожить весь мир, столкнуть его в пропасть и восторженно броситься следом. Поэтому я сейчас и кромсаю чудовищный плод в Настином чреве – плод, из которого все еще не улетучились признаки жизни. Или мне только мерещится, что он шевелит своими отростками, своими полупрозрачными когтями? Кажется, будто мою голову окружило обжигающее облако пара, дышать в котором – сплошное мучение. И я словно слышу чей-то заботливо-ехидный шепот. Голосом доктора Сугробина этот шепот внушает мне: «Да у вас же типичная компульсия! Вы сами подумайте! Больных в таком состоянии одолевают навязчивые влечения – особенно сильно хочется причинить вред близким родственникам. Неужели вы не понимаете, Сергей Константинович, что у вас симптомы как раз такого рода? Ну, посмотрите же на себя: несомненное психическое расстройство!» Слыша это в своей голове, я только с еще большей яростью наношу удары ножом, боясь, как бы подлый шепот не поколебал моей уверенности, не отнял силы. Вера без сомнений, способная взлететь над любой ловушкой, над сетью приземленного рационализма, – это единственное, что мне сейчас нужно! Голос Сугробина в голове – наверное, голос Аида, старающегося ввести меня в заблуждение, посеять страх, поколебать решимость, внушить бессилие. Настя еще жива. В ее оцепеневшем взгляде нежность и любовь перемешаны с жутким безумным исступлением. Судороги, сотрясающие ее, напоминают сладостную дрожь любовного акта! Словно бы не нож я вонзаю в ее растерзанное чрево, но ввожу в ее лоно свою крайнюю плоть. А вокруг уже сгущается пустое пространство, набухает от Абсолютного Ужаса, который призван жертвоприношением и вот-вот хлынет в нашу реальность, как ядовитый гной из прорвавшейся опухоли. Что это? Безобразные лица субмертвецов возникают в воздухе. Дымчатые и полупрозрачные, они все больше плотнеют. Глаза горят, провалы ртов кривятся в страшных улыбках. Я останавливаюсь. Маленькая тварь в кровавом кратере вскрытого Настиного живота, похоже, мертва. Мой нож выклевал все жизненные силы из этого чудовища. Настя пока не умерла, она еще дышит. Я озираюсь. Пространство могилы расширилось. Пропали стены и потолок, их сменил расходящийся по всем направлениям простор, тусклый полусвет примешан в нем к густому мраку. Значит, структура некросферы, да и обычной реальности, уже нарушена вторжением Исконной Бездны. Все пространство вокруг нас – Насти, меня и нашего хозяина-мертвеца – постепенно заполняется монохромными фигурами, словно сошедшими со старого пожелтевшего фото. Наш хозяин, скорчившись на полу, судорожно дергается всем телом, как при ударах электрическим током. Тела субмертвецов не имеют зооморфных признаков, они не тронуты демонизмом, все элементы их чисто человеческие. Да, именно так они и говорили мне во снах; любое отступление от человеческих форм ненавистно субмертвецам. Однако их человечность часто избыточна. У некоторых по две, а то и по три головы либо несколько лиц на одной голове. У кого-то рук гораздо больше двух. У некоторых ноги и руки непропорционально удлинены. Иные представляют собой причудливый конгломерат сросшихся тел со множеством голов, рук и ног. Ни в одном лице не видно безумия, свойственного демонам, все лица источают обжигающую ненависть и запредельную злобу, смешанную с холодным трезвым разумом. Что ж, все это логично, так и должно быть, ведь субмертвецы отвергают всякий демонизм во имя человечности, а злоба и ненависть – вполне человеческие эмоции, особенно если соединены с разумным расчетом. Подобное эмоциональное усиление лишь подчеркивает пристрастие к людской натуре. Две монохромные фигуры склоняются над дрожащим хозяином разрушенной могилы, ставшей точкой Прорыва. Один субмертвец приподнимает его и крепко держит за руки со спины, другой резким движением ломает его демонический клюв, растущий над переносицей, и тут же острым концом клюва, двумя быстрыми и точными ударами, выкалывает оба демонических глаза. Мертвец распахивает рот, словно для истошного вопля, но не издает ни звука, хотя мурашки бегут у меня по коже; видимо, он кричит на языке демонического безмолвия. Еще одна монохромная фигура склоняется над Настей и приближает лицо к ее лицу. Мне кажется, что этот мертвец сейчас вцепится в Настю своими кривыми зубами – не такими острыми, как у животных, но тем не менее способными нанести увечья. Только я ошибаюсь. Он осторожно целует Настю в лоб, как отец, благословляющий дочь. Когда он отнимает губы, ее лицо принимает религиозно-молитвенное выражение. Затем он извлекает из ее чрева искромсанный плод, перекусывает пуповину и сует это сочащееся черной кровью тельце нашему хозяину. Его грубо пихают лицом в чудовищный труп; субмертвецы явно хотят, чтобы он сожрал это. Уразумев, что от него требуется, дрожа всем телом, он принимается пожирать мертвое воплощение Аида. Сначала мне кажется, что он дрожит от страха, но вдруг я понимаю: нет, не страх сотрясает его, по крайней мере, не только страх – он дрожит от жадности и восторга. Эта подлая тварь, не веря своему счастью и понимая, что теперь-то уж «все дозволено», урча и давясь, пожирает плоть своего божества. Субмертвецы смотрят на подлеца с ненавистью и омерзением. И тут я прихожу к мысли, – точнее сказать, мысль сама возникает во мне: «Смотри-ка, до чего ты дошел! – голосом доктора Сугробина говорю я себе; впрочем, черт его знает, я это говорю или не я? Прежде докторский голос внутри меня обращался ко мне на «вы», теперь говорит «ты». Мысли возникают в уме легко, без усилий и предварительного обдумывания. – Ты дошел до филицида, убил собственного ребенка, фактически убил и жену, ей недолго уже осталось. Теперь у тебя галлюцинации, ты видишь фантастические образы как бы мертвецов небывалого какого-то типа. Бедный мальчик! Что ты сделал с собой!» Один из субмертвецов внимательно всматривается в мои глаза. Я ежусь от этого взгляда, острого и цепкого. Мертвец явно прочел мои мысли. Похоже, он учуял их, как собака – биохимические выделения человеческого мозга. Он вынюхал мысли Аида, всеянные внутрь моего черепа, будто сорные травы, и проросшие сквозь мое сознание. Мертвец приближается, его губы расползаются в людоедской улыбке. Я чувствую, как слабеют похолодевшие немеющие ноги. Они подкашиваются, я начинаю падать. Что случилось дальше, я так и не понял в точности. Все произошло слишком быстро. Падение я начинал живым, но закончил его уже мертвым. Отдельно от головы падало на землю мое тело. А голова, оторванная или отрезанная – этого я не смог понять, – висела над землей, мертвец держал ее на вытянутых окровавленных руках. Мне всегда было любопытно, что происходит с людьми после смерти. Каким образом они входят в некросферу? Им предоставляется выбор – стать обитателем некросферы или отправиться в полную неизвестность? Тут ведь многое неясно, покрыто туманом недомолвок. А что творится с сознанием в самый момент смерти? Воспринимает ли оно само себя пребывающим в теле или где-то вне его? Сейчас я не мог разобраться с собственным восприятием. Состояние было совершенно нелепым. Я понимал происходящее, но не мог понять – как именно я понимаю, где центр моего мышления, где моя точка зрения в пространстве? Я внутри себя или вне? Руки, державшие мою голову, вскинулись, чтобы затем с силой опуститься и размозжить мой череп о каменный пол. Тогда и наступила окончательная несомненность глубокой тьмы, в которой вились черные струи. Ко мне то ли ползли черви, то ли тянулись длинные гибкие пальцы. Побеги Исконной Бездны прорастали сквозь границу миров. Дыхание Абсолютного Ужаса леденило и жгло одновременно. Я увидел изнанку жизни. Увидел сущность субмертвецов. Не те человекообразные формы, в которых они представлялись живому глазу, но истинный вид, открытый взгляду изнутри смерти. Это были кошмарные насекомые: тараканы, богомолы, клещи, сколопендры – вся эта дрянь чудилась в их омерзительных фигурах. Настина душа, покинувшая тело, походила на рваную ткань. Каким-то необъяснимым чувством я понял: Аид, ставший Настиным сыном, в клочья разодрал ее душу. Лохмотья душевной субстанции колыхались, как водоросли в текущей воде. Никогда не думал, что душу можно разорвать, будто тряпку, всегда считал, что душа едина и неделима. Странным было еще то, что, видя рвань этих лохмотьев, я не испытывал ни малейшего сострадания, словно бы всякое родственное чувство умерло во мне. Может, я и правда безумец, лишенный эмпатии: до поры притворялся нормальным человеком, обманывая всех и заодно себя, а теперь сбросил личину? Пытаясь взглянуть на себя, на свою душу, я не увидел ничего, словно состоял из пустоты. То ли смерть препятствовала самовоззрению, то ли кислота Абсолютного Ужаса уже начала пожирать меня. Будто листья, сорванные осенним ветром, кружились во тьме демоны и мертвецы. Среди них, как метеоры, пролетали живые люди: падали во плоти в Бездну, пламенея огнем запредельного безумия, бешеного страха, приправленного извращенным нечеловеческим счастьем. Двое любовников – болезненно-прекрасные фигуры – намертво сцепились в совокуплении, будто вросли корнями друг в друга. Они уже ненавидели один другого, но не могли освободиться. Она пыталась выцарапать ему глаза, он старался разорвать ей рот. Кувыркаясь, эти двое летели в ад, а может быть, еще глубже него. Рушился мир, его обломки превращались в блики и светотени: дыхание Бездны конвертировало материю в призрачный абсурд. А навстречу обломкам и обрывкам бытия поднимался Изначальный Господь – дикое нагромождение необъяснимого кошмара, освобожденного от уз, изголодавшееся и ненасытное Нечто, чему не найти настоящего имени, при первом взгляде похищающее разум, наделяющее антиразумом – при втором. Субмертвецы насекомыми-паразитами вились вокруг своего Господина. Тьма углублялась, проваливаясь в саму себя. Пространство искривлялось, грани его координат лязгали, как ножи. Обрубки тел летели мимо меня, обретая собственную индивидуальность. Отрезанные пальцы смеялись, содранная кожа пела хвалу новому Богу, древнему, как само забвение, брызги крови проповедовали сокровенные тайны, чешуйки ногтей искрились восторгом. Логика вещей, ставшая почти видимой, словно марево жаркого воздуха, извивалась бесконечным змеиным клубком. Фундаментальная триада – Бытие, Небытие, Антибытие – перемешивалась в катастрофическом хаосе, порождая фантомы миров, которые, будто хищные твари, набрасывались на людей и демонов, проглатывали добычу и вскоре разрушались, то угасая, то взрываясь, то превращаясь в кошмарные провалы. Господи! Господи! – не то молился, не то вопил от беспредельного ужаса я, сгусток беззащитной пустоты, еще мыслящий, но уже утративший имя и форму, постепенно теряющий остатки разума.
Имя

Я точно знаю: родители приготовили для меня несколько имен. Собирались выбрать одно. Колебались долго, спорили, все откладывали решение. Сошлись же на том, что дадут имя, как только я рожусь. Увидят меня – так сразу и поймут, как меня назвать. Первое впечатление, которое я, новорожденная, на них произведу, станет решающим, определит выбор. В том, что я – дочь, они не сомневались. Поэтому и я не сомневаюсь, считаю себя их дочерью, а не сыном. Хотя в чем разница меж сыновьями и дочерьми, мне пока не ясно. Но это ничего, потом узнаю. Сейчас, покуда не родилась, я ничего не вижу, зато многое слышу и чувствую, а что-то как бы припоминаю через кровь, правда, понятно мне далеко не все. В общих чертах у меня уже сложилась картина мира – мира вокруг моих родителей. Интересно будет сравнить, когда, наконец, увижу его, насколько совпадает он с тем, что я о нем навоображала. Надеюсь, отличий будет не так уж много.

Я умерла во время родов. Извлекли меня на свет уже мертвой. И то, что я увидела, выйдя из маминой утробы, – вот вопрос: увидела или только воображала? Мертвые, они вообще могут видеть? Загадка. Когда встречу какого-нибудь мертвеца, надо не забыть спросить об этом. Каким-то образом я могла чувствовать происходящее со мной. Не знаю, что это было за чувство, может быть, то самое воображение, которое до сих пор заменяло мне зрение? Возможно ведь, все наоборот: не воображение служит заменой для зрения, когда с ним что-то не так, а зрение – замена для воображения. Может быть, по-настоящему мы, люди, должны пользоваться только воображением, через него видеть мир и друг друга, но оно часто страдает от каких-то своих болезней, поэтому мы и пользуемся зрением – во избежание нелепостей, которые неизбежны, когда доверяешь нездоровому воображению. Впрочем, у зрения ведь тоже свои болезни, поэтому и с ним надо быть осторожным. Я, правда, так и не узнала, что оно такое – зрение? Каково это – видеть глазами? Я могла слышать мысли окружавших меня людей, видевших мир, и тем самым тоже как бы видеть его, точнее, воссоздавать с помощью воображения, по тем следам, которыми наследил мир внутри зрячих. Меня отнесли сквозь холод, обвитый шипящим ветром, вдоль волокон которого летели мелкие кусочки воды. Над головой человека, что держал меня, пронесло ветром скомканную птицу. Я успела послать ей свое приветствие, но птица не ответила. Она все-таки была живой и, похоже, считала ниже своего достоинства разговаривать с мертвецами. Внутри моей мамы, в ее сердцевине, стояла сейчас пустота; что, если эта птица летела к ней, чтобы поселиться там вместо меня? Не знаю, устраивают ли птицы гнезда себе в материнских утробах, после того как матери рожают детей, и место освобождается, но, мне кажется, такое вполне возможно. Место, куда меня принесли из роддома, называлось моргом. Я примерно знала, что это. Морг – это посольство страны мертвых в стране живых. Само слово «морг» означает моргнувшие и уже не выморгнувшие глаза, навсегда скрытые за сомкнутыми веками. Человек, который нес меня, думал было – я слышала его мысли, не слишком отчетливые, но различимые – отнести меня на помойку и бросить в мусорный бак, но передумал и принес в морг, благо тот был недалеко от роддома. В морге лежал на столе пожилой труп одинокого никому не нужного человека, таких называют «бомжи». Бомж. Как же это красиво звучит! Как бы удар колокола – бом! – и следом такой звук вжикнувшего механизма – ж-ж-ж! Бом-ж-ж-ж! Я приветствовала труп бомжа, но тот не ответил. Мне стало даже обидно. Ладно, птица не отвечала мне, она живая и поэтому вправе игнорировать мертвых, но этот что?! Тоже ведь мертв, как и я. Впрочем, обида тут же ушла. Было интересно, что сейчас произойдет? Наверное, что-то неожиданное, что-то чрезвычайно важное. О, так и есть! Творилось нечто чудесное. Бомж был раскрыт, в его чреве поселилась пустота на месте удаленных внутренностей. В эту утробную пустоту меня и положили, так что пустоте пришлось потесниться. Створки вскрытого живота сомкнулись надо мной, их края скрепила нить, и я стала кладом, спрятанным в утробе мертвого бомжа. Так неожиданно и здорово! Как говорила моя мама в моменты особенного восторга: что за прелесть! Вселившись в труп бомжа, я тут же узнала, как его зовут: Георгий Леонидович Двигун. Откуда узнала, я и сама не поняла, он ведь молчал, еще не заговаривал со мной. Наверное, так оно всегда и происходит, когда мертвых младенцев прячут внутри мертвых старцев, – знания из большого трупа сами лезут в маленький труп. Знания – это ведь такие назойливые существа, которым всегда хочется распространяться, перескакивать с одного носителя на другой, вот они и пролезают в малейшие щели, просачиваются сквозь поры, везде находят лазейки. Я узнала, что Георгий Леонидович Двигун существовал без всяких родственников, его труп был невостребован, поэтому его решили похоронить с добавкой меня, о чем никто и знать не знал, кроме человека, принесшего меня из роддома, а также человека, обитавшего в морге, и самого Георгия Леонидовича Двигуна. Там еще было какое-то странное существо, которое я никак не могла вообразить, но мысли о котором уловила, когда они витали вокруг головы человека, обитавшего в морге. Он звал это странное существо Экономией. Ее имя мне уже доводилось слышать от мамы, когда она, беременная мною, разговаривала с кем-то. Так вот, эта Экономия велела человеку, обитавшему в морге, вложить меня в труп бомжа, а человек морга, повинуясь Экономии, так и сделал. Я поблагодарила Экономию за то, что она придумала, как поступить со мной. И прибавила, что извиняюсь: зря я не поприветствовала ее, когда внесли меня в морг. Но это по неведению, я ведь просто не заметила ее присутствия. Да и сейчас, честно говоря, все никак не могу ее заметить, лишь догадываюсь о ней по тем мыслям, что мне передались от человека, обитающего в морге. Экономия ничего не ответила. Впрочем, я уже начала привыкать к тому, что меня игнорируют. И вдруг Георгий Леонидович Двигун заговорил со мной. Он спросил: – Тебя как зовут? – У меня нет имени, назвать меня не успели, я слишком рано умерла, – отвечала я. Наш разговор происходил без слов, но и мыслями наши реплики тоже не назовешь. Наверное, то были сигналы посмертного рода – не слова, не мысли, но какое-то специальное трупное общение. – Нет имени! – ухмыльнулся он, и непонятно было: то ли он зол на то, что у меня нет имени, то ли этому рад. Продолжал: – А вот у меня имен много… – Я знаю, – вставила я, – вас зовут Георгий Леонидович Двигун. Целых три имени! – я говорила это с почтительной завистью. Он уловил мою зависть, сказал самодовольно: – Завидуешь, сучка мелкая, да? И правильно. Завидуй. – Я не сучка, – сказала я, обидевшись, и тут же попыталась пошутить, возможно, неудачно: – Су́чка – это самка сучка́, и растут они на одном дереве, а я не от дерева отломилась, я от мамы родилась. – Больно говорливая, – зло сказал он; похоже, моя дурацкая шутка только раздражила его. – Нет имени, значит, помалкивай. Когда спрошу, тогда и будешь трендеть. Ты, падла, свое место знать должна. Ясно? Я промолчала. – Ясно? Я тебя спрашиваю. – Ясно, – ответила. – Вот так, – он, казалось, немного подобрел. Продолжал: – Ты только три моих имени знаешь, а у меня их больше. Меня еще звали Жориком, Жоржиком, Двигаем, Двинутым, Движняком, Задротом, Падалью, Придурком, Мразью, Падлой… Я встрепенулась, перебила его: – Погодите, Падлой? Вы же несколько слов назад меня так назвали – Падла. Почему? – Хочешь, – сказал он, повеселев, – подарю тебе это имя? – Правда? – Бери, не стесняйся, мне не жалко. – Благодарю, – произнесла я слегка торжественно. Имя, правда, не родителями данное, поэтому не мое собственное, да еще не особо хорошее, а честно говоря, и вовсе дрянное, но все-таки имя. Для такого безымянного существа, как я, это уже нечто. – А вы слышите, – спросила я, – как тихо стало? Почему? Ответа не было. – Георгий Леонидович Двигун! – позвала я. Тьма, тишина и одиночество вокруг. Хотя откуда взяться одиночеству, если нас двое? Впрочем, я не очень-то и осведомлена насчет свойств одиночества: возможно, оно действует и там, где люди тесно связаны друг с другом. Возможно, одиночество бывает массовым. Наверное, пока мы разговаривали, нас похоронили. Я помнила, где я – внутри Георгия Леонидовича Двигуна. И понимала, где должен быть он. Если нас и впрямь похоронили – то мы в земле. Но понимать-то понимала, а видеть и чувствовать ничего не могла, и уже начала сомневаться: правильно ли понимаю само положение мое? С тех пор, как я зародилась, я ведь еще ни разу не была под землей. Если не считать спусков в один подвальный магазин, куда заходила моя беременная мама, но это не считается. Все время, пока я жила внутри мамы, она была сверху земли, все время над землей, ни разу не закопалась в нее. Поэтому я не знала и вообразить не могла, как же это страшно, когда ты вдруг уходишь под землю, а земля тебя заглатывает. Конечно, мертвецам – таким, как я или Георгий Леонидович Двигун, – так положено. Наш удел – уходить под землю, там наше место, наше назначение. Но с непривычки это все-таки страшно. Я же мертва впервые. А мертвецы – они, как и все люди, много чего боятся, страшатся, пугаются, трепещут. Все-таки всю-всю жизнь быть над землей, а потом вдруг взять и оказаться под ней… Нет, нет, это неправильно! Как жаль, что родители не додумались подготовить меня к этому. Мог бы ведь, в самом деле, мой папа вырыть для мамы могилу в каком-нибудь поле, да хоть на любом пятачке оголенной земли, чтобы мама, пока носила меня в себе, ложилась бы туда временами, а папа ее закапывал и раскапывал потом. Лежала бы мама в могиле, в сомкнутых челюстях земли, привыкала бы к ужасу подземного существования и своей привычкой заражала меня. Так и подготовили бы своего ребенка к будущему. К подземной тьме. К этому жуткому ощущению земли над тобой. Не считали же они, в самом деле, что их дочь станет бессмертной. Понимали же, что рано ли, поздно – а вышло так, что рано, – я умру. Ну вот и готовили бы меня к смерти еще до рождения, что им мешало – не пойму. А теперь, без всяких тренировок-подготовок я оказалась под землей. Под этой попираемой всеми тварью. Которая валяется у всех в ногах, унижается и ждет в холодной терпеливой злобе своего часа, когда поменяются роли, когда тот, кто топтал ее, сам окажется под ней. – Уважаемая земля, – заговорила я, волнуясь, – мне очень нужно довести до вашего сведения, что я ни разу в своей жизни не наступила на вас ни одной ногой, ни разу не попрала ваше достоинство, ни в чем перед вами не виновата, поэтому прошу вас быть ко мне снисходительней, хорошо? Но земля молчала. Не удостаивала меня ответом. Похоже, она из принципа не разговаривает со своими врагами, даже с самыми невинными из них. Не может простить младенцам, что они топтали ее, пусть и не сами, а при посредстве матерей, чей вес и, стало быть, давление на землю, отягощали своим весом. Как же страшно в этой подземной тьме! Да еще бомж – бом-ж-ж-ж! – в его же чреве я зашита – куда он делся? Где он? Где внутренние стенки его утробы, вокруг меня сомкнувшейся? О, да я не только в темноте, но вместе с тем и в пустоте. В которой беззащитна и открыта. Перед кем же? Для кого? Лучше не думать о страшном, чтобы собственные мысли не пожрали тебя до прихода настоящих пожирателей. Припоминаю: когда-то моя мама, задолго до моего появления в ней, читала книгу, а в книге что-то говорилось про Пожирателя мертвых. Похоже, память об этом вошла в меня с маминой кровью. Какой он, этот Пожиратель мертвых? Разве не достаточно того, что нас пожирает земля, разве мало быть пожранным ею? Сколько вообще раз можно пожрать человека за время его жизни и за вечность его смерти? Что, если нас будут пожирать бесконечно – в разных смыслах? Ведь наверняка же целую вереницу смыслов можно приспособить к «пожиранию». – Георгий Леонидович Двигун! – позвала я. – Где вы?! Куда запропастились?! Вот, кстати, страшное слово – «запропаститься». Кануть в пропасть. Не слово, а целая челюсть, которая падает на сердце того, кто произносит этот ужас. Куда запропастился мой бом-ж-ж-ж? Моя новая мать, носящая меня во чреве после смерти. Мой чревоносящий мертвый отец. Быть может, он родил меня во тьму? А я и не заметила свое второе замогильное рожденье… Тьма – пустынная, сквозящая, безмолвная – изменилась. Она зашипела, захрипела и сомкнулась вокруг меня плотными пеленами, сдавливая. Ну наконец-то! Мой бом-ж-ж-ж не пропал, он здесь, и я по-прежнему в нем, его нутро сжимает меня в своих беззубых челюстях, в холодных деснах. – Невеста! – извиваясь, зашипела тьма голосом Георгия Леонидовича Двигуна. – Любимая! Моя! Навеки! Ну вот, теперь мы с тобой одна сатана! Его мертвая плоть вжималась в мою мертвую плоть, не то лаская, не то пропитывая меня собой. Огромный паук заполз на меня; похоже, Георгий Леонидович Двигун вспорол шов на своем чреве, просунул внутрь руку и жадно меня ощупывает. Похоть змеилась внутри его паучьей руки. Я чувствовала тошнотворную похоть его, эту едкую жгуче-холодную слизь, ставшую вторым внутренним телом того, кто некогда был человеком, а теперь стал страшной чудовищной тварью. Я закричала. – Я вас не люблю! Я вас не люблю! – причитала я, захлебываясь в потоках обволакивающей трупной слизи. Была ли она слизью плоти или слизью сознания – разобрать я не смогла бы. По ту сторону земной поверхности и по ту сторону жизни разница между плотью и сознанием почти неуловима. Он делал со мной что-то кошмарное, запретное, невообразимое – такое, что ни один живой человек не сумел бы сделать с другим живым даже при всем желании. Тем более взрослый – с ребенком. Но смерть позволяла то, что запрещала жизнь, которая, конечно, разрешает людям слишком уж многое, но не все, далеко не все. По-настоящему все дозволено только после смерти. – Мама, папа, спасите! – шептала я во тьму, и чернота шепота смешивалась с чернотой тьмы. Чудовище терзало меня не для того, чтобы убить или просто помучить, – оно хотело передать мне свою чудовищность, пропитать меня собой, сломать мои человеческие границы, наполнить меня безумием и ужасом, исказить мое «я» настолько, чтобы оно совпало с его «я», как круг солнца совпадает с кругом луны при полном солнечном затмении. Я знала, что такое затмение, ведь моя мама однажды его наблюдала, и с тех пор затмение плавало в ее крови, будто хищная подводная тварь. То, что раньше было Георгий Леонидович Двигун, теперь хохотало со всех сторон одновременно, со всех сторон говорило мне: – И кто тебя услышит? У тебя ведь нет своего имени. Есть только мое имя – Падла. И вдруг я увидела. То страшное, что делало со мной чудовище, уничтожило мою слепоту и разбудило во мне зрение. Но нечего было видеть в подземной тьме, и зрение, разбуженное ужасом, направилось куда-то не туда… Мое зрение увидело будущее. После смерти время, наверное, теряет власть над людьми, уже не в силах вечно держать их в настоящем, и мертвому человеку проще заглянуть в будущее, чем живому. Вот я и увидела всю свою будущую жизнь, точнее не-жизнь, увидела мою грядущую живую смерть. Придет миг – и мы с чудовищем сольемся в одно существо. Перетечем друг в друга, смешаемся, как пыль и вода смешиваются в единую грязь. Войдя в чудовище, смешав плоть с плотью, мысль с мыслью, я напилась его злобой, его похотью, его извращенной совестью, копотью тьмы, осевшей в складках его существа. Я плавала в нем, как в подводной пещере, наслаждаясь извилинами загадок и кошмарами тупиков. Я научилась от него безумию и сама стала учить его, я ведь была молода и способна развиваться быстрее всякого старца. Я была уже не я, и он был уже не он, но мы стали мы. Мы! Единое существо, вовсе не человеческое уже – ни по форме, ни по внутренней сути. Восхитительно мерзкое, извилистое, многорукое и многоногое, приспособленное для успешного существования внутри земли и внутри смерти. А эта внутренность бытия, эта черная подкладка мира оказалась полна своей особой загробной антижизни. Там было на кого охотиться и было кого опасаться. Едва умершие, невинные и беспомощные мертвецы, не растратившие облика человеческого, – самая легкая и лакомая добыча. В них еще так много человеческого, запахи и соки надземной жизни пока не испарились из них. Напасть на такого едва вызревшего мертвеца, подкравшись к нему по туннелям глубинных кошмаров, впиться челюстями, сила которых для него непреодолима, вонзить ядовитые зубы, раскромсать разум, – какое наслаждение! Мы – мертвец, пожирающий мертвецов, повергающий их в безумие и в смерть вторую после смерти первой. Особенно прекрасны в роли жертв самоубийцы – те, кто больше всего надеялся на смерть, на то, что она пуста, лишена забот, страха и боли. Думали найти в ней избавление, но отыскали запредельный ужас и боль, превышающую всякое представление о боли. Нашли Пожирателя мертвых. Едва шагнув за порог смерти, столкнулись там с ужасом, поджидающим у самого порога. С другими ужасами, более глубинными, столкнутся те, кто ускользнет от Пожирателя и сумеет затеряться в бесконечных глубинах смерти, куда и сам Пожиратель боится заходить, не ведая, что может ждать его там. В такое-то будущее заглянула я. И постаралась вырваться из мерзостного видения, словно из ямы, полной вязкой смолы. Я не хотела такого будущего. Поэтому я звала и звала моих родителей. Я стала шепчущим криком – безмерно горьким, пронзительно скользящим меж черных атомов тьмы, сквозь смерть и землю, сквозь волокна ветра над землей, сквозь запутанные отзвуки неопределенности, в глубине которой где-то жили два любимых моих человека, желавших породить меня на свет, но, к несчастью, породивших во тьму. Я молила сложное, спутанное пространство передать им мой всхлип – крик – шепот – мой голос – мою взывающую немоту – пусть даже они не услышат меня, но им хотя бы только почудится нечто, лишь встрепенется легкий намек, коснется лица паутинка тревожного неудобства, и отдаленный холодок повеет в сердце, сокровенная иголочка кольнет в мыслях. Они приготовили для меня красивые имена, каждое как сгусток живого пламени, переплетенный со звоном будто бы колокольчика и россыпью осколков, отражавших искры и всполохи человеческих чувств. Из этого богатства лучшая драгоценность предназначалась мне. Но я не получила ничего, потому что родилась не внутри жизни, а внутри смерти. Мои родители были так омерщвлены моей смертью, что даже не поняли, куда унесли тело их мертворожденной дочери – безымянный недочеловеческий сгусток. В смятении своих чувств они не подумали, что следовало бы потребовать тело и самим похоронить его, но доверились людям, которые сказали, что знают, как надо поступать в таких случаях, людям, которые уверяли, что все устроят. В роддоме ведь многие рождаются мертвыми, как и я, поэтому там хорошо знают, что с нами делать. Так я стала плодом в утробе страшного человека. И уже не человека – чудовища. Так я вступила в лабиринт без нити, которой имя могло бы стать. Но почему я так уверена, что мне необходимо имя? Что бы это дало мне… позволило мне… Что? Ну что могло бы имя мне дать? На самом деле я не уверена, я не знаю, но в какой-то далекой глубине моего существа, может быть, в последней живой частице меня, тлеющей, как уголек, под слоем пепла, теплится смутное чувство. Мне самой не понять его, не разгадать. Но это чувство внушает мне странную абсурдную мысль о том, что имя – настоящее имя, нисходящее свыше, от моего истока, от родителей, – соединись оно только со мной – это имя могло бы меня спасти. Как спасти? Не понимаю. По какой такой логике спасти? Я же говорю, не понимаю! Да и что могу понимать я, изжившая свою короткую внутриутробную жизнь в тенях и бликах воображения, нахватавшаяся обрывков материнских мыслей и прочитанных матерью книг, услышанных слов, материнской памяти, спутанных потоков мысленных образов, по сути, жившая чужим разумом, как паразит живет чужой кровью, да к тому же не способная этот высосанный мною разум переварить и усвоитькак следует, – что я могу понимать в таком-то химерическом положении?! Я не понимаю даже, как я существую после смерти. Да и существую ли? А не воображаю ли собственное существование? Может быть, все, что я думаю сейчас, – это лишь искаженное эхо процессов омертвения тканей тела? Я думаю, что мыслю и, следовательно, существую, но во мне движется не мысль, а процесс трупного распада, – разве нет? И потом, мыслю я сейчас не так, как мыслила раньше, пока была над землей. Что-то изменилось во мне, наверное, это старость пришла. Вязкая, как ил на дне реки. Я заглянула в будущее, а старость заглянула в меня. Даже смешно: сначала я умерла и лишь потом состарилась. Как бы там ни было, я чувствую вот что: имя даст нечто важное, может быть, даже и спасение. Впрочем, что такое спасение? Не знаю. Возвращение к жизни? Вряд ли. Выход из этой замогильной тьмы? Освобождение из этих мерзостных мучительных пут? Возможно. Но каким образом? Не понимаю. И всю себя вложила я и вылила в отчаянную и горькую, как самая ядовитая в мире капля яда, просьбу о том, чтобы мои родители вспомнили меня, подумали обо мне. Я просила об этом, когда страшная, кошмарная, чудовищная тьма похотливо и жадно сжималась вокруг меня. Ответом на мою просьбу было видение. Оно возникло внутри меня, словно трещина в обессилевшей материи, только наполненная не тьмой, а светом. Я увидела своего отца. Маленький, жалкий человек с помутившимся от горя умом. Он был в комнате, один, затравленно озирался, выбирал место. Для чего? С таким взглядом, как у него, выбирают, где бы повеситься. Но задумал он что-то другое. Вошел в узкое пространство между кроватью и стеной, опустился на колени, скрючился, преклонил голову в сумрак, достал ею до пола. И зашептал. Что это был за шепот? Колдовские заклинания? Или молитва? Или сгустки безумия, вылившиеся в звук? Сначала я не могла разобрать, но вскоре поняла: он говорит со мной. Уткнувшись лицом в пол, уже мокрый от слез, он разговаривал со своей умершей дочерью. То, что разделяло нас, не смогло разделить окончательно. Паутинка нашей связи оказалась неожиданно прочной. – Доченька, милая моя, родная, ты меня слышишь? – шептал отец. – Слышу, – прошептала в ответ. Наверное, тихий шепот – более пронзительное явление, чем громкий крик. Явление, способное преодолевать такие бездны, в которых всякий крик иссякнет от бессилия. – Доченька, может быть, ты… Что я могу для тебя сделать? Что я могу сделать? Это безумие, или я действительно чувствую капли его слез на своем лице? – Папочка, что-нибудь сделай! Что-нибудь! Беспомощный мятущийся человек, мог ли он как-то помочь своей дочери? Да и существовала ли она вообще – она, сама не уверенная в подлинности своего бытия? Его шепот, его слезы, его беспомощная любовь – какое все это имело значение в бесконечном сплетении тайн жизни и смерти, простертых вокруг этой человеческой пылинки? – Любочка, доченька моя… – едва шевельнулись пересохшие, помертвевшие губы. Любочка? Он назвал меня. Он дал мне имя.
Послесловие

Самый частый вопрос, который читатели задают писателю, работающему в жанре хоррора, звучит так: «Что курил автор, чтобы написать такое?» На это я стараюсь отвечать честно: «Автор курил Данте, Гофмана, Гоголя, Одоевского, По, Достоевского, Тургенева, Лескова, Чехова, Блэквуда, Мельникова-Печерского, Гаршина, Куприна, Конрада, Андреева, Сологуба, Булгакова, Акутагаву, Замятина, Уэллса, Платонова, Честертона, Кафку, Л. М. Леонова, Майринка, Хармса, Лавкрафта, Ивашкевича, Сартра, Набокова, Кортасара, Балларда, Гайдара, Дюрренматта, Маркеса, Голдинга, Брэдбери, Ф. К. Дика, Шукшина, Лема, Беккета, Стругацких, Ионеско, Андрича, Вежинова, Шефнера, Солоухина, Бернхарда, В. В. Быкова, Зиедониса, Мамлеева, Дж. К. Оутс, Кинга, Павича, Баркера, Лиготти, почти всех Толстых (включая графа Михаила Владимировича). Да вы сами попробуйте такое покурить – вдруг и на вас подействует». Читать я начал рано и читал много, а желание стать писателем пришло ко мне слишком поздно, после сорока пяти лет. Поэтому и вышло так, что человек я уже пожилой, но писатель еще молодой. В моем советском детстве не было литературы в жанре хоррор. По крайней мере, считалось, что в СССР этого нет. Однако был Гоголь. Его потрепанный увесистый том сталинских времен издания и стал первой полноценной книгой моего детства. А еще мои родители хранили первое советское издание «Мастера и Маргариты» – в двух номерах журнала «Москва» (№ 11 за 1966 г., № 1 за 1967 г.), забранных в самопальный твердый переплет, оба журнала под одной обложкой. Когда мне исполнилось пятнадцать, в мои руки попал только что изданный в 1986 году двухтомник Федерико Гарсиа Лорки, и вот оттуда на меня дохнуло не просто ужасом, но ужасом сюрреалистическим: я прочел чудовищно прекрасный цикл стихов «Поэт в Нью-Йорке», этот шедевр онейроидного запредельного кошмара, который не просто просочился в действительность, но захватил ее, трансформировал и превратил в часть себя, в какой-то орган монструозного пищеварения. «Вчера хоронили ребенка, и так он заплакал, что даже созвали собак заглушить его плач»[115]. «Луна над головою внезапно превратилась в конский череп, и воздух вызрел черною айвою»[116]. «Магический ужас в глазах, что, проснувшись, видят сами себя на глазурной тарелке»[117]. Для меня кошмары Лорки прозвучали как откровение. И одновременно – как вызов. Самому захотелось творить что-то подобное. Но о писательстве я тогда не думал, меня привлекали живопись и поэзия, да и то поэзия прикладная – в виде текстов песен для рок-группы, которую с моим школьным другом мы сколотили, учась в 9-м классе, играли дикую смесь арт-рока с панк-роком. Потом был период, когда я почти утратил интерес к художественной литературе – читал книги по истории, философии, филологии, религиоведению, мемуары, письма, дневники, биографии. Выдуманный мир прозы казался мне просто туманом вокруг идей, которые можно было бы высказать прямо – языком философии, без художественных условностей. Но на пятом десятке мне самому захотелось творить этот туман художественных условностей – и заселять его зловещими чудовищными тенями. Естественно, возник вопрос: куда податься неопытному писателю? Где публиковаться? Где набраться опыта? Где найти поддержку? Я присматривался к различным литературным сообществам – словно бы заглядывал в собрания всяческих сект, совершающих свои ритуалы. Для меня имели значение не столько характер и принципы сообщества, сколько конечные плоды в виде той литературы, которую сообщество порождало. Тут меня и зацепило… В 2016 году я натолкнулся на достаточно молодое сообщество русского хоррора, так называемую «темную волну», на издаваемый этим сообществом онлайн-журнал DARKER и книжную серию «Самая страшная книга». Честно скажу: первые рассказы, которые я прочел в этой серии, меня не впечатлили. Они были, на мой вкус, слишком простыми и узкими в жанровом отношении: ну, хоррор, да, типичный такой, довольно крепкий, но слишком уж какой-то дисциплинированный, не стремящийся переступить ни за какую черту. Но вот что произвело внезапное впечатление – это доклад Владислава Женевского «Хоррор в русской литературе». Во-первых, доклад написан великолепным литературным языком, который просто завораживает. Публицистика такого художественного уровня большая редкость. Филологи, пишущие о литературе, как правило, гораздо хуже владеют словом; исключений мало, разве что Набоков с его блестящими лекциями о русской литературе или Розанов с его критическими комментариями к Достоевскому, этюдами о Гоголе, очерками и статьями о русских писателях. Во-вторых, Женевский в этом докладе очень тонко проникает в суть вещей. Он сказал о жанре хоррора, наверное, самую глубокую и точную мысль из всех, что мне доводилось слышать: «В мире литературы он [хоррор – В. Ч.] что-то вроде юродивого: за стол не приглашают, медалей не навешивают (разве что в шутку), но посматривают все-таки с опаской. А еще ему, как и всякому юродивому, позволено говорить неприятную правду – а нам, конечно же, позволено ее не слышать». Прочитав доклад Женевского, я начал внимательней присматриваться к русскому хоррору. Первое впечатление, как я уже сказал, было не лучшим, но вскоре я наткнулся на такие плоды древа хоррор-познания, которые определили мой выбор. Пять рассказов современных авторов русского хоррора произвели на меня сильное впечатление. Прочитав их, я понял, что хочу войти именно в это литературное сообщество, где пишут и публикуют такие тексты. Рассказы следующие: 1) «Черви» Максима Кабира; 2) «Субстрат» Игоря Крома; 3) «Корректура» М. С. Парфенова; 4) «Плетение» Владимира Кузнецова; 5) «Холодные звонки» Михаила Павлова. Все эти рассказы представляют хоррор в его разных пограничных состояниях, когда текст уходит в сторону от стандартов жанра и почти пересекает черту, отделяющую хоррор от литературы какого-то иного рода. Рассказ Кабира – необычайно интригующий филологический вирд про загробную литературу. Рассказ Крома словно бы написан мастером по взлому реальности и сознания Филипом Диком, но нашим, русским, Диком. Рассказ Парфенова – элегантная ироничная смесь Гоголя с Чеховым. Рассказ Кузнецова – мрачная реалистическая проза с легким налетом мистики и хоррора, проза высокого уровня, читал ее, наслаждаясь в каждом абзаце стилем и атмосферой. Рассказ Павлова – сюрреалистический кошмар, который вызывает редкое для меня желание подражать; замечу, что испытывать влияние разных авторов – дело привычное, но сознательное желание подражать конкретному произведению – это для меня редкость; и вот рассказ Павлова до сих пор возбуждает у меня при перечитывании творческий зуд: и я хочу написать что-то подобное! Эти пять рассказов вместе с докладом Женевского определили мою писательскую судьбу. Прочитав их, я подумал: если в рамках «темной волны» русского хоррора публикуются такие нестандартные вещи, значит, у этой волны достаточно широкий стилистический и жанровый диапазон, авторам здесь позволяется слишком много, жанровые ограничения не удушают, есть где развернуться: реализм, фантастика, вирд, мистика, сюрреализм, да хоть абсурдизм, – мешай их с хоррором и друг с другом в разных пропорциях. А значит – мне сюда. Поэтому моя первая благодарность – этим пятерым писателям: Владиславу Женевскому, Максиму Кабиру, Михаилу Парфенову, Игорю Крому, Владимиру Кузнецову, Михаилу Павлову. За то, что первыми показали мне современный русский хоррор с неожиданных и очень привлекательных для меня сторон. Владислава Женевского и Игоря Крома уже нет с нами, к большому сожалению, но след они оставили яркий. Вторая благодарность – тем, кто отбирал мои тексты для публикаций (сначала электронных, а потом и полноценных бумажных) – прежде всего, Дмитрию Костюкевичу, который в 2019 году был литературным редактором журнала DARKER и заметил меня, никому не известного автора, приславшего на конкурс «Чертова дюжина» рассказ «Замещение», мой первый опыт в жанре хоррора, – заметил, написал мне и предложил публиковаться сначала в DARKER’е, затем в нескольких антологиях хоррора. Потом благодарность – снова Максиму Кабиру, Илье Пивоварову, Олегу Кожину и снова Михаилу Парфенову. Особо хочу поблагодарить Ирину Епифанову, ведущего редактора серии «Самая страшная книга» издательства АСТ, человека, который поверил в русский хоррор и убедил издательство наш хоррор издавать, а заодно – поблагодарить ее коллег, литературных редакторов Ольгу Матросову и Зою Новоселову, работавших с моими текстами. Мне повезло с первой же повестью, которую я написал, «По течению Обратного года»: едва написал, как ее опубликовали, это была моя первая бумажная публикация в серии «Самая страшная книга». Писалась повесть быстро и легко, но как же мучительно было ее редактировать! Десятки раз я перечитывал написанное, чтобы выявить ошибки, выправить стиль, и у меня началась интоксикация собственным текстом, он вызывал отвращение, от него мутило и тошнило. В таком состоянии тяжело было исправлять самые тонкие ошибки – в стилистике, в конструкциях фраз. Но когда текст ушел в редакцию, попал в руки Ольги Матросовой и вернулся ко мне с ее правками, я был очень приятно удивлен – насколько же хорошо она выправила текст там, где я не справился или недосмотрел: то не смог подобрать нужное слово, то фразу не сумел построить наилучшим образом, то пропустил какой-то ляпсус. Перечитывать собственный текст вкупе с редакторскими правками – особое удовольствие: видишь свои ошибки и тут же отмечаешь, как они исправлены профессионалом, с легкостью обошедшим препятствия, на которых ты споткнулся. Над моим первым авторским сборником «Прах и пепел» (над этой самой книгой, послесловие к которой сейчас пишу) работала литературный редактор Зоя Новоселова, и опять я наслаждался, вчитываясь в редакторские правки – в исправления, замечания, предложения по замене неудачных фраз или слов. Поверьте, это редкий вид интеллектуального наслаждения, доступный немногим – только писателям, да и то не всем, лишь тем, кому посчастливилось работать с умными, образованными, талантливыми редакторами, тонко чувствующими самые трудноуловимые словесные материи. Такая редактура сродни нейрохирургии, когда хирург осторожно вторгается в самый мозг, чтобы и злокачественное новообразование вырезать, и здоровых тканей при этом не повредить. По себе знаю: когда делаешь первые шаги в литературе, когда уже есть амбиции, но нет еще опыта, то незаметно для себя можешь превратиться в пренеприятнейшего типа. Самомнение фонтанирует, способности преувеличиваются, недостатки преуменьшаются, чувство собственного достоинства из нормального человеческого качества превращается в болезненную опухоль. И в этом состоянии вдруг слышишь, что такому-то писателю редактор предложил что-то переделать в тексте произведения, автор же взял и послушно переделал, и думаешь: «Ну нет! Никогда не унижусь до того, чтобы переписывать свой шедевр в угоду какому-то редактору!» Сам когда-то думал так. А потом на себе почувствовал, какую пользу может принести писателю хороший редактор или просто вдумчивый критик, побуждающий автора к переписыванию, к дописыванию или к сокращению текста. Я очень благодарен тем, кто критическими замечаниями и предложениями добивался от меня доработки рассказов. Во-первых, Ивану Калягину, который прямо-таки заставил меня переделать один из ключевых эпизодов рассказа «Девочка, которую любили», – и рассказ от этого адски похорошел. Во-вторых, Дмитрию Тихонову, который своими замечаниями в комментариях конкурса «Чертова дюжина» побудил меня почти вдвое расширить рассказ «Жизнь после смерти Бога» и написать самую сложную и лучшую его часть. Моя благодарность Руслану Покровскому, рассказчику страшных историй на культовом ютьюб-канале «Истории от Ворона», – за то, что предложил мне сделать новый финал рассказа «Чрево», который брал для озвучки, отчего рассказ сделался более жутким и мрачным. Благодарность за дружескую поддержку, критику и отзывы коллегам-писателям, чье мнение и творчество я особенно ценю, – Андрею Сенникову и Дмитрию Николову. Большая благодарность Олегу Хасанову, редактору-составителю целого ряда неожиданных по тематике антологий, – за то, что побудил меня написать несколько рассказов в редком поджанре хоррора – бизарро; здесь, в этом сборнике, как раз находится один из таких рассказов: «Касия». Особенно теплая благодарность Герману Шендерову – самому въедливому моему критику и соавтору, которого я звал на помощь, когда чувствовал, что не в силах вытянуть тему, выбранную для рассказа, когда моя фантазия начинала буксовать, а логика не могла свести концы с концами. И еще одного энтузиаста хоррора должен я упомянуть и поблагодарить – Дена Блюза, рассказчика страшных историй, создателя ютьюб-канала «Den Blues & Cupidon». Его голос, его интонации вошли в какой-то мистический резонанс с моими рассказами, которые он читал. В его исполнении моя проза оживала – словно труп, зашевелившийся в могиле, выбравшийся из-под земли, поползший за тобой по следу. Вообще, это счастье, когда есть кого благодарить за помощь, поддержку, за отрезвляющую критику, за вдохновляющий пример, за саму среду и пространство, которое друзья создают для друзей: пространство, в котором легче дышать и хочется жить и работать, а не гнить и беспробудно спать; хочется перерастать самого себя, потому что рядом те, кто выше тебя, у кого есть чему поучиться. Хм, кажется, начал я за упокой (как и положено всякому себя уважающему хоррорщику), а закончил-то вдруг за здравие… Но, может, для того и стоит погружаться в ужас и мрак, чтобы через них выйти на свет? Как говорил Андрей Платонов: «Все, что доводится до ужаса, превозмогает ужас со дна».
Герман Шендеров, Сергей Тарасов ЗНА́ТОК: Узы Пекла
Посвящается нашим мамам
В традиционной жизни села обладающие магическим знанием люди, связанные, как считалось, с иным миром (знающиеся с нечистой силой), занимают особое место. Как правило, и по сей день в большом селе или в нескольких рядом расположенных деревнях обязательно есть хоть один человек, который, по общему мнению, умеет колдовать. Таких людей называют знатками, знатухами или знающими. Это самое общее наименование, отражающее не оценочную позицию, а суть явления: эти люди ведают нечто, недоступное другим – обладают особым, тайным знанием, – и еще они знаются с потусторонними силами…© Герман Шендеров, Сергей Тарасов, текст, 2025 © Тимофей Заяц, ил. на обл., 2025 © ООО «Издательство АСТ», 2025Из книги «Знатки, ведуны и чернокнижники. Бытовая магия на Русском Севере». А. Б. Мороз, Н. В. Петров
Искупление
– Итак, вы хотите оплатить размещение на год вперед? – Продажница в брючном костюме открыла рекламный проспект на нужной странице. – А родственник себя обслуживает? Если он неходячий, то и цена, конечно, будет выше… – Ходячий-ходячий, – заверила Маша, блондинка с торчащими зубами. – Тогда подходит программа «Круглогодичная», на ней вы экономите до сорока процентов в сутки, всего сто сорок девять тысяч рублей. – Маш, дорого выходит! – пожаловался Машин супруг, рано начавший лысеть одутловатый мужчина. – Нормально! Не жадничай. Ты посчитай, Володь, выходит всего четыреста в сутки. – Ну, твой отец, тебе и… – крякнул Володя. – Берем. Не везти же обратно его. – Именно! – обрадовалась продажница. – Как зовут пациента? – Демьян Григорьевич Климов, двадцать седьмого года рождения, – оттарабанила Маша. – Ого! Так он у вас войну прошел? – Ему всего четырнадцать было. Да, партизанил помаленьку. Он сам из Беларуси, из-под Минска, где карательные отряды были, ну, сами понимаете… Все трое скорбно примолкли, точно отдавая дань уважения погибшим. – Так, а чем у нас болеет Демьян Григорьевич? Артрит, деменция, сердечно-сосудистые, катаракта, диабет? – Ручка хищно нацелилась на многочисленные графы в бланке. – Да, знаете, ничем. Артрит, конечно, возраст, сами понимаете. Передвигается с трудом, но в коляску нипочем не хочет. Зубов половина, но до сих пор крепкие и свои все, представляете? – Ничего себе, у меня-то вон, видите, о, – продажница оттянула пальцем губу, демонстрируя золотые коронки. – Скажите, почему вы решили привезти Демьяна Григорьевича в центр «Долголетие»? – Как бы… – Маша замялась. – Я, как шестнадцать стукнуло, в Москву сбегла из Можайска. Не общались особо. Деньги пересылала, и будет. Потом мама… – раздался натужный всхлип. – А недвижимость в Москве – сами знаете. Мы квартирку продали, думали – отца к себе заберем, но вот… – Соболезную. Возникли проблемы со взаимопониманием? – Ну… Дело в том, что папа – он колдун. – В ответ на недоуменный взгляд собеседницы Маша усмехнулась: мол, сами все понимаете. – Или знахарь, если хотите. «Зна́ток», так он себя называет. К нему, кстати, правда люди обращались – от бутылки отучить, порчу снять там… – А венец безбрачия снимает? – полушутливо поинтересовалась продажница. – Ой, да чего только не снимает… Так вот, шарлатанствовал помаленьку. Денег не брал, только бартером. Он вроде даже в Союзе отсидел за что-то такое, не помню, он не рассказывал. Там на поселении с мамой и встретился. И вот, перевезли мы его – и началось: обряды-ритуалы-заговоры, не продохнуть. Бабаек да домовых по углам ловит. Маша смущенно хихикнула. – Угу, – кивала продажница, делая заметки в бланке. – Буянит, значит? – Не буянит, но… Володь, ну что ты молчишь, расскажи! – ткнула Маша мужа. Тот, будто очнувшись от глубокого сна, проморгался, откашлялся и заговорил: – Да тут рассказывать нечего. Ну, таскает домой всякий хлам, талисманы из веток и шишек делает – вся квартира в этом гербарии, это ладно. Орет постоянно, что мы то домового не уважили, то, понимаешь, мусор на ночь глядя вынесли – какого-то хобыря якобы прикармливаем. А что она рыбу чистила и на всю квартиру вонь идет – это ему ничего… Ладно, тоже глаза закрыли – все-таки человек пожилой, имеет право на причуды. Но потом… – Что потом? – Мы ж его поначалу когда перевезли – думали, стерпится. Ну вот, кошку в дом притащил и по углам какие-то веники развесил – тоже пережить можно. А потом Лешенька родился… – Маша издала тщательно отрепетированный всхлип, – и папа как с цепи сорвался. То в кроватку что подбросит, то Лешеньку на руки – и ходит, пыльные углы ему показывает… А однажды, представляете, ночью не спалось, я встала, а он стоит над колыбелькой со свечой и шепчет что-то. И воск-то, воск – прямо в кроватку капает! Криксы, говорит, спать ему мешают. Ясно дело, что здесь только дом престарелых… – Извините! – с неожиданным нажимом воспротивилась продажница. – У нас не дом престарелых. «Долголетие» – престижный реабилитационный центр на базе санатория для лечения суставов. Я понимаю, что говорят о подобных заведениях, вы наверняка думаете, что у нас здесь вонь, антисанитария… – Нет-нет, ни в коем разе! – Вы посмотрите сами – у нас обширная лесопарковая зона для прогулок, хвойный лес. Вдохните, вдохните! – Под напором этой приземистой женщины чета Симахиных послушно засопела. – Чувствуете? То-то ж. Современное оборудование, меблированные апартаменты, круглосуточное наблюдение, четырехразовое питание, сотрудники строго с профильным образованием, никаких дилетантов! – Мы верим-верим, извините, просто… Стереотип такой, что отправлять родственника в дом престарелых – это… – Правильное и мудрое решение, – продолжила за клиентов продажница. – Вы избавитесь от лишних хлопот, а ваш отец получит квалифицированную медицинскую помощь, уход и обслуживание. И трудности быта перестанут отравлять радость общения с пожилым родственником. А наш главврач… Александр Семенович, между прочим, – видный специалист в геронтологии и ревматологии в частности! Какие препараты он принимает? – Да… Собственно, никакие, – Маша растерянно переглянулась с мужем. – Он сам какими-то травками-корешками лечится, чаи заваривает. – Ох уж эти знахари! – по-доброму усмехнулась продажница. – Ничего, схему лечения мы подберем.
Демьян Рыгорыч не любил, когда его называли по имени-отчеству. Лучше просто Демьян, на худой конец дядька Демьян. Но как-то с возрастом все чаще окружающие почему-то поминали его по батюшке. Тот за свою жизнь только тем и отличился, что спьяну поколотил Демину мамку, а после повесился на осиновой балке в погребе. Его-то Демьян и увидел первым – покойник страшно хрипел, пучил глаза, шевелил синим вывалившимся языком и раскачивался на веревке, пытаясь схватить сына… И вот опять: – Демьян Григорьевич, вы присаживайтесь, и мы мигом вас докатим! – неестественно ласково проворковала санитарка, толкая его под колени сиденьем инвалидной коляски. – Сам дойду, не калечный! – резко каркнул он и зашагал к главному корпусу. Белый, украшенный потрескавшейся лепниной, тот напомнил ему Дом культуры в райцентре. Опирался старик на грубо обтесанную осиновую трость, покрытую черной вязью сложных узоров, – шишковатая четырехпалая кисть дрожала от напряжения, шаги давались с трудом, но это всяко лучше, чем ехать, как убогому, в коляске. Левую руку убрал в карман, вдруг засмущавшись давно расплывшихся и поблекших лагерных наколок. – А попрощаться? – виновато протянули родственники, застывшие у занюханной «вольво». – Попрощалися! – буркнул старик и, не оборачиваясь, ускорил шаг, насколько позволяли больные суставы. На входе в здание его, разведя руки в стороны, встречал тучный мужчина лет пятидесяти, в белом халате и в очках с крошечными линзами, всем видом походивший на крота-альбиноса. – Здравствуйте, Демьян Григорьевич! – с театральной зычностью поприветствовал его «крот», протянул руку. – Добро пожаловать в наши хоромы! – Здоровее бывали, здоровее бачили, – скрипнул Демьян, пожимая мягкую, будто тесто, ладонь. – Ух, ну и хватка! Сразу видно – руками работали! – А вы животом, мабыть? – Аха-ха-ха-ха! Отличное чувство юмора! А я буду Александр Семенович Варженевский, главврач и директор сего почтенного заведения! С самого дня основания, между прочим, здесь. Еще при Брежневе практику проходил. – А я, знаете, при Сталине того… практику. – Эх-хе-хе! – Александр Семенович будто еще никогда в жизни не встречал такого искрометного шутника. – Ой, уморили, Демьян Григорьевич… – Просто Демьян. – Как скажете… Позвольте мне, Демьян Гр… Демьян-с, так вот, по-дворянски, позвольте провести для вас экскурсию и показать, где тут у нас что. Вы своим ходом? Не прикажете ли подать транспорт? – «крот» кивнул на очередную коляску – та стояла рядом со входом. – Я, мабыть, кости разомну. – Это вы по адресу! Аристократические замашки главврача удачно сочетались с антуражем центра «Долголетие» – здание чем-то походило на помещичью усадьбу. Пахло, на удивление, недурно – лавандовым мылом и антисептиками. – Обратите внимание, совершенно безбарьерная среда – никаких дверей, порогов и лестниц! Если устали – вот, пожалуйста, коридоры оборудованы перилами. Все для удобства. Здесь у нас дежурит медсестра, Елена Сергеевна, прошу любить и жаловать! На громогласную презентацию из-за двери выплыла похожая на белугу женщина, выдавила «Здрас-с-сте» и вернулась восвояси. – Тут выход во внутренний дворик, там беседка, фонтан, дорожки, даже поле для крикета. – Для чаго? – Не забивайте голову. Партнера по игре в нашем заведеньице отыскать все равно будет непросто. Ну да, прошу за мной, на третий этаж. С услужливым «динь» распахнулись двери лифта. Демьян взглянул в кабину, окинул взглядом зеркало от пола до потолка, прочерченное посередине перилами и, как-то изменившись в лице, проворчал: – Я, мабыть, пешки пройдуся, ноги яшчэ не отсохли. – Ну вы, Демьян Григорич, кремень! – покачал головой главврач. – Давайте и я разомнусь с вами за компанию. Каждая ступенька давалась с немалым трудом. Колени разве что не скрипели. Нависнув над лестницей, Демьян с трудом преодолевал пролет за пролетом, сопровождая подъем хриплым свистом из легких. Варженевский все порывался помочь, но старик отталкивал его тестоподобные ручонки. Добравшись до третьего этажа, старик, изможденный, привалился к стенке. Тут же под колени его толкнуло сиденье коляски. Он было воспротивился, но рыхлая, слегка влажная рука опустилась на плечо, удержала. – Будет-будет. Устали, поди. Давайте я вас покатаю. Тросточку вашу позвольте… – Не чапа́й! – громко приказал Демьян, и его голос заметался по длинному пустому коридору. Грубо обтесанную осину, похожую на длинную, неровную, с острым концом щепу, он прижал к груди. – Как скажете, уважаемый, я ее только переложить хотел… На третьем этаже находились жилые помещения. К сильному, уже навязчивому запаху лавандового мыла примешивались нотки многократно замытых человеческих нечистот. Большинство дверей были закрыты, некоторые – наоборот, распахнуты настежь, демонстрируя упакованные в полиэтилен белоснежные кровати. – Тут у нас располагаются нумера, – не прекращал разглагольствовать главврач, пыхтя и толкая коляску. В одном из дверных проемов Демьян заметил движение, приподнялся рассмотреть. Пахнуло свежим дерьмом. Санитар, менявший подгузник еще совсем не ветхому на вид деду, брезгливо морщился. Вдруг, будто почувствовав взгляд Демьяна, резко рванулся к проходу и захлопнул дверь. – Любопытной Варваре… – усмехнулся Варженевский. – Ревматоидный паралич. Полное поражение суставов. Страшное горе для семьи, конечно… Ну да пойдемте, я вас все же провожу в вашу номерулю! Комнатка оказалась чистой и уютной. – Вот, Демьян Григорьевич… Ах, прошу прощения, Демьян! Ваше пристанище. Тут вот тревожная кнопка у кровати – на всякий не дай бог, – тут пульт от телевизора. А вид какой из окна – сплошные деревья, насколько глаз хватает! Туалет, душевая. Кафель специальный, не поскользнетесь. Багаж ваш уже доставили, – всего багажа-то: заношенная спортивная сумка и маленькая фоторамка. Старая, дореволюционная еще фотокарточка с зазубренными краями была вставлена картинкой внутрь, а на обратной стороне каллиграфическим почерком – какие-то строчки. Варженевский окинул фоторамку взглядом, занес руку, спросил: – Позволите? Не дождавшись ответа, поднес к лицу, сощурился близоруко и прочел без выражения вслух:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди…—

На ужин подали оладьи, политые клейким сиропом, и чай. Чай привычно пованивал тряпками, а сироп оказался приторно-сладким, пришлось счистить ложкой. Таблетки «чтоб спалось крепче» Демьян спустил в унитаз. За окном темнело. Вяло шумело хвойное море, по-городскому перекаркивались вороны у мусорных контейнеров. Почистив зубы казенной щеткой, Демьян сполоснул лицо, подмышки и пах, сдернул покрывало с постели и улегся на белоснежную простыню. Сон не шел. Терзали обида на дочь и непутевого зятька. Терзала тоска по родной деревне, густому подлеску, грибам, малине и долгим прогулкам по ночной чаще. Тревога нарастала, копошась под ребрами, давила на легкие, заставляла сердце заходиться в тахикардическом танце. Тени под потолком сгущались, складывались в хищные крючья и кожистые крылья. В голове мелькали картинки одна гаже другой: полные мертвецов овраги, младенчик с пробитой головой, высокие белобрысые дьяволы в черной форме и бездонный жуткий кратер, в центре которого страшно клубилось… – Вона ты где! Жупка прятался за плоским телевизором на стене. Скрюченный, серый, размером с кроля, он просвечивал в лунном свете. В круглой дырке на месте лица растерянно перекатывалась горстка глаз. Демьян набрал воздуха в грудь и затараторил:
Чернобога псы стерегут врата,
Мост меж Навью и Явью,
Придите, псы, за ночною хмарью,
За убегшей тварью…
Чертушки-братушки,
Послушайте частушку,
Во мраке, во хладе…
Во глубинном аде
Сидит царь-черт
Рогами свод подперт…
Черт, рогами шеруди,
От смерти огороди…

На утреннем осмотре главврач не присутствовал. Медсестра покачала головой, разглядывая синяк: – Что же вы так, аккуратней надо… Принесла мазь с бадягой, щедро нанесла на негнущуюся руку. Отсутствующий зуб заметила не сразу, а увидев, долго вздыхала и всплескивала руками: – Ну как же так-то, Демьян Григорьевич? Что я теперь Александру Семеновичу скажу? Выпишем стоматолога из города, приедет, осмотрит… Демьян едва замечал хлопочущую медсестру, думая о своем и невпопад кивая. Стоматолог ему, конечно, уже не поможет – протезами от чертей не откупишься. Сколько «мыт» ни береги, но коли завязался с Пеклом, то уж не поторгуешься: не на рынке. Новая прогулка по центру «Долголетие» превратилась для Демьяна в настоящее расследование. Постукивая тростью и старательно переставляя неподвижную ногу, он вглядывался в лица товарищей по несчастью и находил клейма упыря на локтях, коленях и щиколотках. Знахарством и костоправством Демьян раньше не брезговал и теперь опытным взглядом подмечал: у одной старушки позвоночник «склеился» и кожа на спине свисала складками, у другого – немощного деда в коляске – и вовсе обвисали и нос, и уши, лишившиеся хрящевой ткани. Все указывало на то, что упырь невозбранно доит целый центр, присасываясь к старикам, что благодарно принимали снотворное и успокоительное от вечерней санитарки. Ясно дело, откуда он тут такой. Суставы, артриты, артрозы и ревматизмы лечили, а болезнь – куда ей деться? Закон сохранения энергии, он и для Нави закон. Копилось-копилось, да и выплеснулось, как до краю набралось. Можно было, конечно, оставить все как есть. Найти телефон, позвонить дочурке, будь она неладна, попросить перевести в другое заведение. «Дудки! От немца не бёг, а тут стрекача задать удумал? Не ужо! Яшчэ повоюем!» Вернувшись в комнату, Демьян принялся рыться в сумке, выбрасывая вещи на пол – так и не удосужился разложить по шкафам. Летели в сторону носки, трусы, какие-то треники, майки… Есть! С сожалением старик оглядел едва ношенный свитер с елочками – жена покойная подарила, сама связала. Вздохнув, он потянул за ползущую петлю, распуская рукав… Когда Демьян закончил, на полу покоилась горка темно-зеленой пряжи. Тусклое солнце за окном, стыдливо прикрываясь тучами, приближалось к горизонту. Нужно было торопиться. Быстро смотав пряжу в клубок, старик достал из сумки лезвие «Спутник» и слегка надрезал запястье. Закапала темная кровь, впитываясь в клубок. Сухие губы нараспев шептали:
Вейся, нить,
Да лейся, песня,
Покажи, Чур,
Где тропка чудесна,
Где навья дорожка,
Где не шмыгнет
Ни мошка, ни кошка…
Чур-чур, узел свяжи,
Дорогу покажи…
Не жива и не мертва,
Помогай разрыв-трава,
Разойдись-ка ты на два,
Как велят мои слова…
Язык – ключ, слово – замок. Аминь.
Чернобога псы стерегут врата,
Мост меж Навью и Явью,
Придите, псы, за ночною хмарью,
За убегшей тварью…
Остры клыки,
Лапы быстры,
Придите из тьмы…
Приходите, псы,
За мясцом нечистым,
По берега…

Солоноватая дрянь высохла в горле, заставив закашляться. Глаза долго не могли привыкнуть к яркому белому свету. Тот лился из тяжелого фонарика Варженевского. Он смущенно развел руками. – Вы уж извините, Демьян Григорьевич, что я вас так… по голове. Ну колдун-колдун, признаю, – закивал главврач. – А бизнес-партнера-то моего зачем? Хрящеед со мной, знаете ли, с самого открытия. Демьян попытался дернуться, вскочить на ноги, но едва мог пошевелиться – всего его опутывала холодная окоченевшая плоть. Не сразу он заметил ритмичные сосущие звуки, раздающиеся из-за спины. Словно в подтверждение его догадки шершавые пальчики пощекотали шейный позвонок. – А вы что думали, Демьян Григорьевич? Вы уж извините, я все же по имени-отчеству, мне так привычнее. Нет, убивать вас никто не собирается, мы же не звери… Да и кто за вас платить тогда будет? Между прочим, парализованный пациент приносит тысячу рублей в сутки. По программе «Тихая гавань», конечно же, меньше – до тридцати процентов экономия! Впрочем, это уже будет интереснее вашим родственникам, а не вам, – махнул рукой главврач. – Эх… Я вот как знал, что с вами будут проблемы! Надо было еще в первую ночь его подослать… Демьян отчаянно замычал – челюсть и пальцы едва шевелились. Впившийся в спину уродец парализовал его, старик почти мог ощущать, как суставы и хрящи растворяются прямо под кожей, направляясь в желудок ненасытной твари. – Понарисовали здесь всякого, – сморщился Варженевский. – Все, допартизанились, Демьян Григорьевич! Будете теперь лежать, кашки жидкие кушать, телевизор смотреть, подгузники пачкать… А трость… Александр Семенович поднял с пола исчерченную символами клюку, взял в обе руки, приметился… – Трость вам, пожалуй, больше не понадобится. Демьян хотел было крикнуть: «Не чапа́й!», но промолчал. Да и не смог бы – челюсть не шевелилась. Варженевский со всей дури саданул тростью по колену. Хрясь! Клюка осталась невредима, а толстяк запрыгал на месте, держась за отбитую ногу. – Крепкая! – простонал он, растирая колено. – Лучше мы… Главврач прислонил клюку к стене, наклонил на сорок пять градусов, а сам прыгнул сверху. Раздался треск. Трость, служившая Демьяну много лет, надломилась надвое. – Вот так! – Варженевский торжествующе поднял обе половинки в воздух, после чего отшвырнул в сторону Демьяна, чьи конечности выкручивались и искажались под неуемным аппетитом нечистой твари. А следом случилось странное. За спиной Варженевского замаячили чьи-то ноги, висящие в воздухе. Точно почувствовав что-то, главврач оглянулся и оказался лицом к лицу с висельником. Набухшие, тронутые разложением щеки, вывалившийся язык, закатившиеся глаза. Варженевский завыл по-детски жалобно, но холодные руки прервали звук, сомкнулись на толстой шее, приподняли главврача в воздух. Засучили короткие ножки, слетели очки, раздался хрип, а следом послышался влажный хруст сломанного кадыка. Безжизненным мешком Варженевский свалился на бетон, выпучив глаза и высунув язык, точно передразнивая мертвеца. А старик с тоскливой удовлетворенностью наблюдал за плывущим к нему по воздуху висельником. Пожалуй, впервые в жизни Демьяну не хотелось убегать от своего родителя. Лучше умереть от рук твари, прикинувшейся мертвым отцом, чем лежать парализованным в подвале и ждать смерти от жажды. Упырь не замечал присутствия висельника, продолжая самозабвенно высасывать ликвор. Когда холодные руки сомкнулись на шее Демьяна, он спокойно закрыл глаза, принимая смерть. Последней его мыслью была бесплодная надежда, что, пока никто не сотрет угольные круги, нечисть так и останется запертой здесь, в подвале, неспособная больше никому причинить вред.
Максимка
Яркое летнее солнце едва-едва проникало в темный заболоченный овраг. Пари́ло пряными травами, обмелел затон, обрекая на смерть бесчисленных головастиков. У самого затона, внутри трухлявого бревна, прятался ни жив ни мертв Максимка. От ветра дрогнула паутина. Паук-крестовик недовольно замахал лапками, забегал по краю, защищая угодья от чужака. Максимка плюнул в центр паутины, и та задрожала, затряслась, но хозяин и не думал покидать насиженного места. – У-у-у, дрянь! – шепнул Максимка. Соседство паука Максимке, конечно, не нравилось, но оно всяко лучше, чем попасться на глаза Свириду. Тот рыскал где-то поблизости, хромал неуклюже, проваливаясь в мелкие лужицы, и пьяно ревел: – А ну иди сюда, нагуленыш! Я тебя с-под земли достану, сучонок, ды взад закопаю! Падла мелкая! Свирид был Максимке заместо отца. И замена эта ничуть не радовала обоих. Колченогий инвалид, казалось, был обижен на весь мир, но более всего на Максимкину мамку и самого Максимку, отчего обоим нередко доставалось на орехи. И если мамку Свирид поколачивал хоть и с оттяжкой, но зная меру, то самого Максимку бил смертным боем за все подряд. Куры потоптали огород – получай, Максимка. Если уронил ведро в колодезь, так неделю на пятую точку не сядешь. Никто был Свириду не указ – и на сельсовете его песочили, и мужики собирались уму-разуму поучить. Сельсовет только руками развел – инвалид, мол, да еще и ветеран, на восточных фронтах в голову ранен. И мужики туда же – отловили с дубьем, а он как давай ножичком играть, блатными словечками кидаться да корешами угрожать – те только поматерились да разошлись. Сколько раз Максимка мамку просил, давай, мол, выгоним его, а та ни в какую. Где она нынче мужика найдет, да еще с такой пенсией? И терпела. И Максимка терпел. Покуда спросонья в сенях бутылку самогонки не раскокал. Сердце в пятки ушло. Понял Максимка, что теперь-то ему несдобровать. Хорошо, если просто поколотит, а то этот и убить может – ему-то что, он ведь контуженый. И правда, проснулся Свирид к полудню, шел опохмелиться да день начать, глядь – а от бутыля одни осколки. Страшно взревел Свирид, Максимка аж от сельпо услыхал и припустил от греха подальше в подлесок. Ничего, побродит, повоет, а если повезет, то найдет, где опохмелиться, да и уснет до завтра. А там день пройдет, Свирид ничего уж не вспомнит. – Ну, сучонок, где ты шкеришься? – неистовствовал Свирид совсем рядом. Максимка зажал рот, чтобы не выдать себя ненарочным вздохом. По лицу от страха катились слезы. Вдруг чья-то ладонь нежно, почти по-матерински провела по щеке – точно паутинка коснулась. Тьма зашептала комариным писком и шелестом листвы: – Не плачь, детка, не рыдай, мама купит каравай. Ай-люли, каравай… Максимка было дернулся – пущай уж лучше Свирид отлупит, чем узнать, кто это такой ласковый живет в трухлявом бревне. Да куда там! Ладонь плотно зажала рот, поперек живота перехватило и потянуло куда-то вглубь бревна – в узкую щель, куда Максимка даже ногу бы не засунул, а теперь проваливался весь. Ласковый голос продолжал шептать: – Ай-люли, каравай! Ай-люли, каравай…
Демьян хоть в поле и не работал, а вставал все равно спозаранку – привычка, чтоб ее! Жил он бобылем – всю семью немцы пожгли, а отец и того раньше в петлю полез. Ни жены, ни детей Демьян не нажил. После войны, вдоволь напартизанившись по лесам да болотам, вернулся в родные края и занял заброшенный дом у самой кромки леса, там, где Вогнище начиналось. Вел хозяйство один, огородик маленький, да и соседи, бывало, приносили гостинец. Рано поутру потянулся Демьян, попрыгал на месте, руками помахал, ногами подрыгал, чтоб кровь разогнать, зачерпнул полное ведро колодезной воды и умылся. Швырнул Полкану мясные обрезки со вчерашнего ужина и сам уселся трапезничать. Чай, три яйца вареных, краюха хлеба черного да пук зеленого луку. Только было Демьян захрустел белой головкой, как на улице раздался Полканов лай. – Та каб табе… – ругнулся Демьян, вышел на свою околицу. У ворот уже ждали, во двор заходить не осмеливались, и дело было, конечно, не в пустобрехе Полкане – этот и мухи не обидит, всего и толку что метр в холке да лай на том конце Задо́рья слыхать. Тут надо сказать, что Демьяна местные опасались, и неспроста: слыл он человеком знатким, да еще суровым. До сих пор ходили слухи о бывшем местном алкаше и тунеядце Макарке – тот с тяжкого похмелья залез было в окошко к Демьяну, чтоб поживиться горячительным. Что в ту ночь произошло в хате, не знает никто, зато на все Задорье был слышен пронзительный, полный запредельного ужаса вой. А на следующий день стоял Макарка c пяти утра у здания сельсовета, наглаженный-напомаженный, начисто выбритый и в военной форме – ничего приличнее, видать, не нашлось. А едва пришел председатель – бросился перед ним чуть не на колени и давай просить работу любую, хоть какую, а то, мол, «ночью висельник придет и его задушит». Председатель, конечно, посмеялся, но отрядил его на общественные работы: там подсобить, тут прибраться, здесь навоз перекидать. И со временем стал Макарка-тунеядец Макаром Санычем, народным депутатом, человеком уважаемым. Однако местные отмечали, что на дне голубых глаз все еще плещется какой-то неизбывный, глубинный ужас, заставлявший Макара Саныча нервно потирать шею каждый раз при виде Демьяновой хаты. А еще пить бросил – напрочь, как отрезало. Даже по праздникам. Говорит, от одного запаха горло перехватывает. Словом, слыл Демьян Рыго́рыч, или попросту дядька Демьян, местным знахарем – знатки́м то есть. Оно, конечно, мракобесие и противоречит идеологии просвещенного атеизма, но то больше в городах да по радио. В Задорье ты поди-найди фельдшера посередь ночи, коли зуб болит или скотина занемогла. А ведь бывают и такие дела, что и фельдшера, и участковые и даже народные комиссары руками разводят. И тогда шли на поклон к Демьяну Рыгорычу. Который, в общем-то, военным фельдшером по документам и числился, недаром на войне в полку у самого Космача служил. – Цыц, Полкан! – гаркнул Демьян, и почти шестьдесят килограмм мышц, шерсти и зубов присмирели и плюхнулись на брюхо. У ворот стояло человек шесть, над бабьими платками блеснула кокарда на фуражке участкового. «Дрэнна!» – пронеслось в голове. – Ну? И чаго мы тут столпилися? Громко всхлипнула Надюха, мать Максимки. Это на нее Полкан взъярился – бабские дни у ней, видать. Младше Демьяна годков этак на пять, она запомнилась ему глупой брюхатой малолеткой, приехавшей после войны с какого-то села в строящееся Новое Задорье и польстившейся на городского хлыща-инженера. Тот так и не вернулся к Надюхе – то ли бросил и уехал обратно в свой Можайск, то ли просто сгинул куда, а Надюха осунулась, постарела, связалась с пьяницей Свиридом и обзавелась никогда не сходящими синяками на сбитых скулах. Сам Свирид стоял рядом с участковым и со скучным видом щурился, водил жалом – похоже, все происходящее его ни капельки не интересовало и больше всего ему сейчас хотелось опохмелиться. На левом его виске волосы росли клочками, окружая огромный розовый рубец над ухом шириной в ладонь. – Максимка пропал, – пожаловалась Надюха. – Вчерась утёк, а домой так и не воротился. Як зранку пропал, так и… с концами. Откашлялся мордатый участковый, приехавший по вызову из райцентра. – Я б заявление принял, да только пока тут поисковую группу соберешь, пока то, пока се… – А чаго утёк? – поинтересовался Демьян. От его взгляда не укрылось, как полыхнули глаза Свирида. – Черт его ведает, сорванца, – нарочито небрежно отозвался пьяница. – Спужался не разумей чаго да и утёк. – Ага, не разумей чаго, значит… Неистовую ругань Свирида вчера слышало все Задорье. – Дядька Демьян, помоги, а? Ничего не пожалеем – хошь мешок зерна, хошь браги бутыль, хошь… – Вось яшчэ брагой раскидываться! – не сдержался Свирид. – Вернется твой неслух, жрать захочет да вернется… – А откуль он вернется-то? – прищурившись спросил Демьян. – Не ты ль хлопчика-то спровадил? – Да разве ж я… – Пьяница вдруг вспотел и побледнел. – Да он, собака, цельный пузырь раскокал. Я ему только наподдать хотел – для науки, а он уж дал деру. Я ж проснулся, самого колотит, трясет – у меня инвалидность, мне треба, а он… Ну, на мое место встань, а? – На твое место встать здоровья не хватит, – отрезал Демьян. Пропавший дитенок – это скверно. Места в округе дикие, топи да трясины одни. Шаг в сторону с тропинки, и уж ухнул по уши. Сколько всяких фрицев-то по оврагам да зыбунам лежит, разлагается. Злая земля, голодная. Тут и взрослому человеку запропасть как неча делать, а уж дитенку-то… – Ну-ка признавайся, где мальчонку остатний раз бачил? – Да хрен его знает, где-то вон… – Свирид неопределенно махнул рукой. – Понятно… – Демьян сплюнул, плевок приземлился в шаге от сапога пьяницы. Рванувшись вперед, зна́ток схватил деревянную клюку и уткнул ее рукоять в кадык Свириду, а другой рукой подхватил затылок, чтоб не вырвался. Заохали кумушки, промямлил милиционер: «Так-так, товарищи, поспокойнее…» В мозгу жгло от вспыхнувшей злобы; зубы скрипели друг о друга, в глазах колыхался кровавый туман. Всплыли в глазах сцены из детства – мать с синяками, пьяная ругань в сенях, оплеухи, зуботы́чины… Демьян заглянул в выпученные мутные глаза пьяницы и прошипел в бороду: – Коль проведаю, шо ты, грязь из-под ногтей, хлопчику сделал чего, так знай – одним сроком не обойдешься. До конца жизни под себя ссаться будешь, а конец придет скорехонько. Лежать тебе в земле, да висеть тебе в петле, на пеньковой на веревочке, ту пеньку ужо маслом с пекельной сковороды смазали, гребнем из мертвячьих ногтей прочесали, вьются три пряди-перевиваются, раз конец – сплел гнилец, два конец… – Стой! Стой! Не губи, батька! – раздалось вдруг рядом. Чьи-то пальцы вцепились в локоть, потянули. Сквозь пелену гнева Демьян разглядел искаженное суеверным ужасом лицо Максимкиной матери. Та повисла на Демьяне, как отважная собачонка, не пускающая незваных гостей в дом. – Он не будет больше! Не губи… Демьян выдохнул, помотал головой, прогоняя воспоминания. В мозгу эхом билось «батька-батька». Символы на клюке, казалось, сплелись в злорадную ухмылку. Зна́ток с омерзением – точно змею держал – отставил клюку в сторону, прислонил к изгороди. – Ладно. Ну-ка мне в глаза погляди! – Свирид подчинился, свел мелкие зенки на лице Демьяна, нырнул в черные, словно хатынские топи, трясины глаз знатка. – Яшчэ раз ты на хлопца руку подымешь, так и доведаешься, как веревочку доплели. Зразумел? Свирид задушенно прохрипел: – Да зразумел я, зразумел… Отпустив алкаша – тот все откашливался, пуча глаза, – Демьян обратился к Надюхе: – Не реви. Сыщем мы твоего Максимку. Уж якого есть, но сыщем. – Я вот маечку его принесла, шоб по запаху… – Нешто я тебе собака якая? По запаху… От полежит-завоняется, тогда и шукать по запаху… – мрачно ответил Демьян, но майку все же взял. – Батюшки-святы, Господи прости, – Надюха отшатнулась и принялась креститься. Демьян поморщился: – Давай без гэтага. Вось тут и представитель власти, а ты усе со своим мракобесием. Гагарин вон давеча в космос летал – не бачил ничога, а ты туды ж. Верно кажу, товарищ участковый? Тот нарочито безмятежно жевал колосок и смотрел куда угодно, но не в сторону полузадушенного Свирида. Милиционер, хоть и неместный, про знатка был наслышан.

В хате Демьян успокоился, выдохнул. И чего он вызверился на жалкого пьянчужку? В изгибе клюки виделась ухмылка – «знаешь, мол, знаешь, да себе признаться не смеешь». – Заткнись! – гаркнул он, отбросил клюку в угол. Позавтракать не вышло, кусок в глотку не лез. Какой там завтракать, надобно мальчонку искать. Каждый час промедления может стоить хлопцу жизни. Да и, прямо сказать, ни на что особенно Демьян не надеялся. Уж кому, как не ему, знать, до чего голодны местные болота. Однако коль уж взялся за гуж… – Хозяюшко-суседушко, выходи молочком полакомиться, молочко парное, с-под коровки доенное, на травке нагулянное. Выходи, суседушко, побалакаем, с тобою вдвоем позавтракаем… Молоко было, конечно же, не парное, а обычное позавчерашнее из погреба. Демьян нюхнул – закисло. Ну да ничего, у него и суседка необычный, этому такое сойдет. Надобно только освежить. Перочинным ножичком Демьян скользнул по ладони – на крепкой крестьянской руке плелись узором несколько заживших порезов. Открылся новый, закапало в миску. Окно задернул плотным покрывалом, и хата погрузилась во мрак. Снаружи завыл Полкан – жалобно, тягостно. И тут же под печкой что-то заворочалось, зашумело, точно кто-то резиновый мячик по полу катнул. Раздалось чавканье. Демьян поспешил отвернуться – суседки нередко бесились и начинали пакостить, если попадались на глаза. То ли не любили они этого, то ли нельзя им. – Суседушко-хозяюшко, – напевно, по-старчески позвал Демьян, – угостись молочком парным да за судьбу-судьбинушку мне растолкуй. Коли жив Максимка – поди направо, коли не жив – на левую сторону. Голодное чавканье продолжалось еще несколько секунд, потом прекратилось. Демьян вслушался. Сначала тельце суседки покатилось налево, причмокивая и оставляя влажные следы. Демьян вздохнул. Хоть бы тело найти… Но вдруг суседко подпрыгнул и покатился направо. А потом назад. А потом и вовсе принялся подпрыгивать на месте. – Шо ж ты, хозяюшко, казать-то хочешь? Неужто не ведаешь али не уразумел? Давай знову. Коли жив – направо катись, коли мертв – налево. Суседко, кажется, разозлился на недогадливость Демьяна – ударился с силой о пол и покатился теперь вовсе по кругу. – Шо ж гэта значит? Застрял мальчонка? Ни жив ни мертв? Усе так, суседушко? Суседка утвердительно подпрыгнул, ткнув Демьяна в бок. На рубахе сбоку осталось влажное пятно. – Ну дзякуй, суседушко-батюшко, ступай с миром… Запрыгало-укатилось что-то под печку. Демьян не удержался, бросил взгляд на отражение в отполированном до блеска чайнике. В подпечник закатилось безрукое-безногое, в блестящей пленке слизи, похожее на подпорченную кровяную колбасу. Ну да ничего, нам и такой домовой сгодится, лишь бы порядок содержал! «Ни жив ни мертв, значит, – задумался Демьян, почесал русую бороду. – Знать, прибрал его кто, по ту сторону Яви удерживает. Да тольки знать бы кто!» Поплевал Демьян на ладони, замотал порез, собрал кулек. Сложил хлеба, соли. Подумав, размотал тряпицу, достал серебряный крестик, повесил на грудь. С неприязненной гримасой взял обструганную клюку – по всей длине палки змеились черные письмена. На такие если долго смотреть, то они извиваться начинают, как черви, чтоб нипочем не прочитать. Но абы кому лучше и не читать такое. И уж тем более, как ни хотелось Демьяну эту клюку закопать поглубже в огороде, однако мало ли дураков… С собой все ж сохраннее. Во дворе спустил Полкана с цепи, тот радостный – дурак дураком – принялся носиться по двору кругами, гоняя ворон. – А ну сидеть, дурань! Со мной по́йдешь. Вдвоем оно всяко сподручнее! Пес и правда встал как вкопанный и поспешил приземлить свой шерстяной зад. – Дело сурьезное – человека шукаем. Усек? Полкан согласно тявкнул, наклонил голову, ожидая команд. – Ты мне башкой не верти. На, нюхай! – Пес зарылся носом в затасканную серую маечку. – Давай навперед беги, а я за тобой. Ну, пшел! Перво-наперво пес остановился у тропинки, ведущей к Выклятому Млыну, – так называли запруду у старой мельницы. Речушка, крутившая колесо, иссякла – то ли плотиной чего перегородили, то ли просто срок вышел, однако на месте речушки теперь томно колыхалась затянутая тиной заводь, а от мельницы остались лишь гнилые сваи да громадное поросшее мхом и болотной тиной колесо. Деревенские поговаривали, что, если ночью прийти на запруду, то можно увидеть, как колесо будто вращается, мол, черти кости человеческие в муку перемалывают. Дурь, конечно, несусветная – чего только народ не навыдумывает. Вон и агитаторы из города приезжали бороться с мракобесием. Говорили, что никаких чертей быть не может – все это выдумка поповская. Демьян с ними вслух, конечно, соглашался, однако лишний раз шастать у запруды задорьевским отсоветовал – мол, комаров там тьма-тьмущая, да и хоть без чертей, а колесо по ночам все же вертится. И нет-нет, но пропадали неслухи, ушедшие ловить к мельничному пруду головастиков. И сколько ни ныряли да ни шерудили по дну батогами, так никого и не нашли. У самого пруда жизнерадостный Полкан присмирел – хоть и собака, а чувствует: гадкое место, недоброе. Летняя жара накрывала плотным одеялом, липла к спине мокрой рубахой, глушила пестрым разноголосым молчанием. Пищало комарье, гудели мухи, шелестела трава. И пес не тявкнет, и шума деревенского не слышно. Лес забрал свое, чужая земля нынче. Лишь колесо мельничное скрипит – то ли от ветра, то ли… Вдруг булькнуло что-то в рогозе, пробежала волна по ряске на пруду. Один комар сел Демьяну прямо на нос полакомиться свежей кровушкой. В забытьи он хлопнул себя по носу, да не рассчитал силы – разбил в кровь, и сам засмеялся над своей неловкостью. Рядом щелкал зубами Полкан, ловил оводов и слепней. – Гэй, пригожая, хорош блазнить! А ну покажись, биться не буду, обещаю… Заскрипело мельничное колесо, зачерпнуло ил со дна да со шлепком швырнуло обратно в воду – и только. Ни ответа ни привета. – Э-э-э, дорогая, так у нас дела не пойдут. Я погутарить пришел, а ты ховаешься. Ну-ка… И на этом «ну-ка» земля под ногами Демьяна вдруг взбрыкнула, выгнулась кочкой и толкнула его под пятки, да так, что зна́ток полетел головой прямо в пруд. На поверхности вдруг появилось облепленное ряской лицо, да все какое-то невыразительное, гладкое что обмылок – только глазища чернеют. Перепончатые лапы уже обвивались вокруг Демьяновой спины, когда выбившийся из-под ворота крестик легонько стукнул фараонку в лоб. Та закричала так, что Полкан аж завыл, рухнул оземь и уши лапами прикрыл, а у Демьяна заныли зубы. Шлепнулся он лицом в воду, распугав лягушек, вдоволь наелся комариной икры; а фараонка меж тем отползла подальше и с опаской выглядывала из воды – так что видно было лишь заросшие ноздри. – Да не… Тьфу, какая гадость… Да не ссы ты, говорю ж – погутарить пришел. А ну плыви сюды. Водная нечисть осталась на почтительном расстоянии, но все же выползла из воды, залезла на мельничное колесо. Полупрозрачная кожа была облеплена жуками-плывунцами, водорослями и ряской; в длинных бледно-зеленых волосах запутался рачок, по левому глазу фараонки медленно ползла улитка. Тварь недовольно потирала лоб – там, где тела коснулся крестик, кожа разошлась и оплавилась до самой кости. – А ты не гляди на меня волком. Сама на меня полезла. Як говорят комиссары, тебя бы за такие дела за шкирку и к стенке… – У-у-у, жучара, все одно – всех утоплю… – Эх, дура ты дура, Нинка. Все на немчуру охотишься? Так нема их, прогнали уж давно, а якие есть, те уж сгнили, поди. – Есть, чую я, есть, ползают жуки, кусают! Всех здесь сложу, всех на дно утащу… Демьян махнул рукой. Объяснять что-то паскуди – дело гиблое и пустое. Эти в своем мире-времени живут, свои страхи да кошмары вокруг видят. В башке у этой фараонки еще небось горящие дома, рев мотоциклов, стрекот пулеметов и хохот немцев, что тащат молодую девку к пруду: поглумиться и на дно бедную. Только оттого Демьян ее еще и не упокоил – жалко было дуру мертвую, что и пожить-то не успела. Помнил он костлявую девчушку с русой косой, как та все за мальчишками бегала и обижалась, если ее в игру не брали. Когда немцы пришли – Демьян в леса партизанить ушел, а как вернулся – полдеревни сгубили, до сих пор вон аукается. – А шо, Нинка, много ль немцев на дно стаскала? Вот, скажем, на гэтай неделе? – Мало-мало, шибко мало. Буду складывать, покуда вода уся не выплещется, тольки жуки поганые останутся… – М-да, толку от тебя… Полкаша, ну-ка скажи, чуешь чего тут? Пес со скукой почесал за ухом – ничем вкусным или интересным на заросшем пруду не пахло. – Утоплю-ю-ю-ю, всех утоплю, – продолжала завывать фараонка вслед удаляющемуся Демьяну. Потом фыркнула, разбрызгав воду, и принялась кататься на колесе – в сущности, еще совсем девчонка, которой было не суждено вырасти.

Вторым местом, в которое строго-настрого было запрещено лазать местным сорванцам, был сгоревший амбар на Вогнище, тропинка к которому давно уж заросла ковылем. Еще на подступах к пожарищу Полкан жалобно заскулил и уселся на задницу, напрочь отказываясь идти дальше. – Ну и чаго мы расселися? У, волчья сыть! – Демьян замахнулся было на пса клюкой, но удержал себя. Идти к амбару и ему не хотелось. Кабы не Максимка – и дальше б, как и все, обходил проклятое место стороной. – Ай, к черту! Вот и сиди тут. Полкан с готовностью улегся наземь, проводил печальными глазами хозяина, который, по нехитрому собачьему разумению, шел на верную смерть. Раздвигая заросли сорных трав, Демьян приближался к жуткому скоплению почерневших столбов и свай на выжженной поляне – трава здесь так и не проросла. Крыша обвалилась внутрь, накрыв собой черные бесформенные груды; по краям стояли обугленные бревна, похожие на казненных языческих идолов. От одного взгляда на это место передергивало. Демьян мысленно взмолился, чтобы Максимки – ни живого ни мертвого – здесь не оказалось. Подумалось, зачем кому-либо вообще приходить в это проклятое место? Но мальчишеское упрямство могло поспорить лишь с мальчишеским же любопытством, и если вся деревня обходит Вогнище стороной – как же не залезть и не посмотреть? Один такой уже разок залез. В прошлом году приехал этакий барчук из города. На всех свысока смотрел, игрушками не делился, то ему не так, другое не этак. Так ему местные задорские мальчишки бока-то и намяли, в наученье. И напоследок лепехой коровьей по башке приложили, чтоб неповадно было. А он возьми да разрыдайся, как девчонка, заблажил, отцом в райкоме грозился да сбежал куда-то. Искали его до вечера, к Вогнищу не ходили – не решались. В итоге кое-как уговорили Демьяна. Мальчонка оказался там, только седой уже. Выл, бился, вырывался и все про каких-то «черных» твердил. А хотя чего «каких-то», знали все, кто эти «черные». Приезжал потом его отец из райкома, обещал всех распатронить, мол, парнишка-то умом тронулся. Отвели разгневанного папашу к пожарищу. Тот близко подходить не стал, так, издали все понял. Оно хоть и просвещенный атеизм и Гагарин давеча в космос летал, а все ж дурное место – его сердцем чуешь. А место-то было дурнее некуда, и даже Демьян со всеми своими заговорами да оберегами ничего сделать бы не смог. И не стал бы, пожалуй. Одно дело кикимор да анчуток по углам шугать, и совсем другое… – Не гневайтесь, кумушки да матушки, в гости напрашиваюсь, дозволения прошу! – Голос дрогнул, Демьян поклонился, что называется, «в пояс». Вогнище не отвечало, лишь дрожал раскаленный воздух да гудела мошкара. Не пускают, значит. Стоило сделать шаг, как шпарящее солнце, тяжелый дух медвяных трав, гудящий гнус – все это растворилось, исчезло, осталось за спиной. Внутри же лишенного крыши сарая было как будто темнее, точно тени, видимые лишь краем глаза, бросили таиться, заняли собой все пространство. В нос шибала тошнотворная вонь паленых волос. Под ногой Демьяна что-то хрустнуло, и он мысленно взмолился, чтоб это была не кость. – Максимка? – позвал он больше для себя, чтобы было не так страшно под этим пологом упавшей тишины. – Тут ты? Никто, конечно, не ответил. Ну да оно и к лучшему. Неча здесь людям делать, а тем более детям. Попятился Демьян да бегом прочь от Вогнища. А если уж Максимка там… Ну, знать, судьба его такая. Дело близилось к закату. Какой бы мальчонка ни был удалой, а скитаться вторую ночь по лесам и болотам не каждый взрослый выдюжит, куда уж там мальцу! Полкан послушно ждал Демьяна на почтительном расстоянии от пожарища. Увидев хозяина, залебезил, завилял мохнатым помелом, принялся лизать руки. – Ну буде-буде, предатель! Хайло с ведро, а на деле сявка трусливая. Пес перевернулся на спину и подставил пузо – делал вид, что не понимает, о чем таком толкует хозяин. – Ладно. Одно верное средство осталось. Дома Демьян умылся как следует от тины и ряски. Пока умывался – решался, неужто и правда по-другому никак? Клюка стояла, похожая на вопросительный знак, подзуживала: «Давай! Туда тебе и дорога! Признай уж, только так дела и делаются!» Демьян пнул клюку, та упала и закатилась под лавку. Нет уж! Мы уж как-нибудь своими силами. Полкана Демьян оставил хату охранять. Крестик снял, на крючок под рушник повесил – а то лес не пустит, будет водить чужака кругами почем зря, да истинный свой лик не покажет. Тут хитрее все. Клюку тоже хотел оставить – эта дрянь если чем ипоможет, так только за корягу какую зацепится, но оставлять таки рискованно. Лучше уж при себе. Солнце медленно скрывалось за пиками сосен. Вышел Демьян к лесу – рубашка навыворот, шапка – набекрень, хоть и жарко, а порядок такой; сапоги – левый на правую ногу, правый – на левую. Хоть оно, конечно, и жмет, но потерпеть надобно. Отыскал зна́ток самую проторенную тропку, такую, чтоб ни травинки, сделал по ней три шага и – р-р-раз – сошел в сторону. А потом обернулся и спиной вперед зашагал. Ткнулся в дерево, сделал круг да пошел в обратную сторону. Там уперся, и вновь спиною. Лес тут же сделался густой, темный, будто Демьян не только-только сошел с опушки, а уже добрый час пробирается через чащу. Кроны спрятали солнце, зверье обнаглело и шмыгало едва ли не под ногами; из-под кустов да кочек следили за Демьяном настороженные взгляды – нечасто люди осмеливались сходить на тайные навьи тропы, особенно в этих местах, где кровь германская с кровью белорусской мешалась, напитывая землю и ее бесчисленных детей, пробуждая древний, исконный голод из тех времен, когда человек входил в лес не охотником, но добычею. Здесь следовало быть особенно осторожным – Демьян добровольно ступил на ту тропку, что лес подкладывает под ноги нерадивым грибникам, чтоб те до конца жизни скитались по бурелому, крича «Ау!». Чужая, нечеловечья территория – здесь лишь паскуди да нечисти вольготно, а Демьян почти физически ощущал, как все тут сопротивляется ему. Каждая веточка по глазам норовит хлестнуть, каждое бревно – подножку поставить, а каждый вдох как будто через подушку. Вдруг мелькнуло что-то розовое, живое в буреломе – не то спина, не то грудь. – Погоди! – крикнул Демьян, и его слова разнеслись по нездешнему лесу повторяющимся, дразнящим эхом, переходящим в смех – «Погоди-и-и-ихихихихи!» Демьян рванулся следом за мелькнувшим силуэтом, распихивая клюкой ветки и кустарники, лезущие в лицо, а смех никак не прекращался – знакомый до боли, гаденький, едкий, как щё́лок, он пробирался в мозг остролапой уховерткой, ввинчивался, что сверло. – А ну стоять! – позвал, запыхавшись, зна́ток, но неведомый беглец лишь потешался над Демьяном. То и дело виднелись в просветах меж деревьев крепкие ляжки, подпрыгивали спелые груди с кроваво-красными сосками, развевалась черная – до румяных ягодиц – шевелюра. «Нешто баба? – удивился Демьян. – Небось, кикимора морочит. От мы ее зараз и допытаем, куда Максимка запропастился». – Погодь! Погутарить хочу! Постой! – До свиданья, друг мой, до свиданья! – похабно хихикнула беглянка, и тут знатка будто молнией прошибло. Узнал он тот голос. И бабу ту узнал. Да только давно уж те крутобедрые ноги рачки обглодали, давно уж те синие глаза рыбы повысасывали. Никак не могло здесь быть Купавы. И все ж, видать, из его горячечных кошмаров просочилась она сюда – то ли память шутки шутит, то ли Навь его испытывает. Страшно заныл обглодыш на месте безымянного пальца, будто палец этот кто-то и в самом деле глодал, там, на дне пруда. На бегу не замечал он, как солнце совсем утонуло в море колышущихся ветвей и уступило место бледной безразличной луне. И хотел бы Демьян остановиться, да ноги сами несли сквозь кустарники да чахлые деревца, по кочкам да пням, к самому болоту. Легконогая бесстыдница стрекозой перепорхнула едва ли не по кувшинкам на плешивый островок в камышах. Девка оглянулась, расхохоталась, наклонилась, показывая Демьяну круглый зад. Засмотревшись на прелести, Демьян на полном скаку ухнул в заросший ряской зыбун по самую грудь. Нахлынувший холод мгновенно сковал конечности. Тотчас забурлило болото, пробуждаясь к трапезе. Водные травы заплелись на ногах да на поясе, неудержимо потянуло вниз. А девка чернявая зашерудила в какой-то луже, нащупала наконец, что искала, и потянула наружу. И пока та выпрямлялась, держа что-то на вытянутых руках, поднимался, казалось, лишь ее скелет. А кожа продолжала обвисать; груди сдулись, опустились едва не до бедер; лицо обрюзгло дряблой морщинистой маской, будто не приходилось более по размеру; выставленный напоказ срам терял форму, поростал седой жесткой мочалкой. По коже змеились вспухшие вены, проступали коричневые старческие пятна, а волосы белели и опадали наземь. На спине кожа и вовсе разошлась на полосы, открыла гребнистый позвоночник и воспаленное мясо – так выглядели спины у тех, кого немцы исхлестывали насмерть плетьми. Когда Купава выпрямилась и повернулась к знатку, перед ним была уже древняя лысая старуха, слишком тощая для своей кожи. Именно такой Демьян увидел ее впервые. Разве что ржавая гайка на безымянном пальце появилась. На руках у Купавы возлежал грязный, морщинистый младенчик с потрескавшейся серой кожей. Был он такой жуткий, гадкий и болезненный, что стало ясно сразу – это никак не может быть живым. А скорее никогда живым и не было. Младенчик закряхтел-захрипел, как висельник, и ведьма сунула ему в пасть длинный обкусанный сосок; уродец зачавкал. – Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье… – Обещает встречу впереди, – машинально продолжил зна́ток, цепляясь то за траву, то за какие-то палки, но его неумолимо затягивала трясина. – Не грусти и не печаль бровей, – шипела старуха, будто уголья в печке. – В этой жизни умирать не ново. Но и жить, конечно, не новей. Демьян хотел было что-то ответить, оправдаться или на худой конец спортить напоследок ожившую ведьму, но болотные воды уже смыкались над макушкой. Там, в воде, он увидел, что за ноги цеплялись не ветки и травы, а костлявые руки сгнивших фрицев да волосья утонувших крестьянок. Плоть их отшелушивалась и окружала мертвецов грязным, будто пылевым облаком. Выпученные глаза утопленников смотрели с безразличной деловитостью, будто те ведро из колодца тянули. Но вдруг облики трупов снесло потоками грязных пузырей, и топь изрыгнула Демьяна на берег, мокрого да продрогшего. Следом болото выплюнуло клюку – такого добра нам, мол, даром не надо. Откашливаясь, зна́ток слышал за своей спиной: – Не, Демушка, на тот свет тебе рановато еще. Должок платежом красен, сам знашь… Зна́ток обернулся – на островке вновь стояла обнаженная черноволосая красавица в венке из кувшинок. Младенчик капризно рвал зубами левую грудь; черная в лунном свете кровь струилась по животу. – Ты иди, Демушка, добрые дела делай, грехи замаливай; оно, глядишь, тебе зачтется. Грех-то великий уже на тебе, не отмоисся. Не утечешь от-то. Так что ты жди меня, Демушка, я ж от тебя не отстану, предназначенное расставанье обещает встречу впереди… Демьян уже не слушал, он бежал прочь. Прочь от проклятого болота, где не место живым; прочь от окаянной Купавы, которой не лежалось в могиле; прочь от жуткого младенца, приходящегося Демьяну… кем? Этого он не знал, а если и знал, то старался любой ценой отогнать от себя знание, что, подобно камню на шее, тянуло его вниз, в черную пучину, куда он осмелился заглянуть лишь однажды, одним глазком, и теперь эта тень всегда следовала за ним. Демьян бежал без оглядки, не обращая внимания на хлещущие ветки и стремящиеся прыгнуть под ноги кочки, распугивая ежей, белок и прочую живность да неживность. Остановили его лишь звуки тихой заунывной песни, льющейся откуда-то снизу, будто из ямы. Зна́ток замедлился, перебрался через торчащие на пути выкорчи и едва не скатился кубарем – перед ним оказался овраг с пересохшим ручьем. Зато болото кончилось, остались лишь отдельные лужи, полные гнилой стоячей водицы и дохлых головастиков. Песня лилась из полой утробы громадного прогнившего бревна, и здесь, на спуске, уже можно было различить отдельные слова:
Баю-бай, баю-бай,
Хоть сейчас ты засыпай…
Бай, бай, ай-люли,
Хоть сегодня да умри.
Сколочу тебе гробок
Из дубовых из досок.
Завтра грянет мороз,
Снесут тебя на погост.
Бабушка-старушка,
Отрежь полотенце,
Накрыть младенца.
Мы поплачем, повоем,
В могилу зароем…
Баюшки-баю,
Не ложися на краю.
По заутрене мороз,
Снесем Ваню на погост…
Ай-люли, люли, люли.
Хоть сегодня же помри.
В среду схороним,
В четверг погребем,
В пятницу вспомянем
Поминки унесем…

Мать Максимки рассыпалась в благодарностях, зна́ток только головой мотал – не положено, мол, словами благодарить. Та поняла по-своему, принесла какие-то бумажные рубли, но и денег Демьян за работу не брал – только гостинцы можно. Кое-как собрала по дому немного муки, сала да еще всякого по мелочи. Максимка – уж здоровый лоб – лип к мамке как кутенок и сглатывал слезы, а вот Свирид, похоже, был не шибко-то рад возвращению пасынка. Он, конечно, потрепал Максимку по холке, но все как-то больше оглядываясь на Демьяна, и зна́ток был уверен – стоит ему уйти со двора, как Свирид продолжит свои измывательства. И кто знает, может, и прав был бай, мотать парнишке срок где-нибудь в Магадане, покуда он, такой дерзкий да резвый, не наткнется кадыком на бритвенное лезвие. Судьбу мальчонки нужно было менять. И Демьян уже знал как: незаметно, покуда выносил из оврага, ощупал Максимкино темя – родничок едва-едва, но прощупывался. «Видать, знатком быть на роду написано». – Слышь, малой, а годков-то тебе скольки? – Двенадцать, – всхлипывая, ответил тот. «Двенадцать, – мысленно повторил Демьян. – Одно к одному. Всего на год меня тогдашнего, выходит, младше…» – А скажи-ка, Максимка, бачил чаго там, в бревне? Я пришел, гляжу, ты лежишь, сопишь в две дырки, як убитый. Можа быть, было там чего? Мальчик не ответил, но по энергичным кивкам зна́ток понял – перед его глазами все еще маячила безглазая рожа бая с пастью, набитой прелой листвой. «Ну уж точно так ему суждено!» – Ну чаго, родители, – с усмешкой обратился Демьян к Надюхе и Свириду. – Поздравляю. Знаткой он у вас. – Да як же! У него вон и значок октябрятский есть, и в школу ему в сентябре, – ахнула мамаша. – Не треба ему гэта. Не согласная я. Ну, скажи ему! Ткнула Свирида в бок. Тот поперхнулся, выдавил: – Ну то человек знающий, ему виднее. – Жить он у мине будет, – отрезал Демьян, и от него не скрылся выдох облегчения Свирида. – Беру хлопца к себе на полное содержание. Сможет вас навещать, но не чаще раза в неделю. Слышишь, Максимка? Будешь у меня обучаться? Тот посмотрел полными слез глазами на мать, обернулся на отчима и, коротко помолчав, кивнул. Возможно, что там, внутри полого бревна, под паутиной смертной сени видел он сны о своем будущем, слышал, что шептал бай, и где-то в глубине души знал, чем бы закончилась его история, останься он жить с матерью. – Ну тады сутки вам на сборы да прощания, а завтра раницей жду тебя, Максимка, у своей хаты. И близко не подходи, а то Полкан тебя покуда не знает – порвет.

Вернувшись домой, Демьян потрепал по ушам Полкана. Тот, увидев хозяина живым и здоровым, радостно заворчал, что трактор. Зна́ток бросил негустые «гостинцы» от Максимкиной семьи на стол, стащил рубаху, с ненавистью зашвырнул клюку на печь – хоть ты синим пламенем гори – и включил керосинку. Заварил себе чай с травами и мятой, впервые за день закурил; с удовольствием вдохнул тяжелый дым от крепкого самосада. Взглянул вдаль, на темные прогалины между соснами. Кажется, в одной из них мелькнула бледная женская фигура – не то с черными, не то с седыми волосами. Вместе с ветром до слуха его донеслись мелкие, будто горох покатился, издевательские смешки. – Я от немца утёк, да от батьки утёк, а от долга-то и подавно утеку, – задорно срифмовал Демьян и пустил в сторону леса густое сизое облако дыма.
Жена председателя
Вот уж вторую неделю жил Максимка у Демьяна. Приперся с утра пораньше с полным узелком барахла – и откуда столько взял? Потом выяснилось, что мать ему напихала одеял да полотенец. Будто у Демьяна одеял не было. Зна́ток – бобыль бобылем, с малятами никогда особого общения не имевший, – находился в постоянном тревожном раздражении. Хлопчик до того рос как бурьян в поле – мать трудилась в колхозе, а Свирид вспоминал о Максимке, только когда с похмелья кулаки чесались. Чумазый, настороженный, недоверчивый и молчаливый, мальчонка походил на дикого зверька. Этакий волчонок: как к столу придет, еду хвать – и на печку. Потом ничего, пообвыкся, даже обращаться начал, Демьяном Рыгорычем кликать. Это зна́ток сразу пресек: – Никакой я табе не Рыгорыч. Демьян и усе тут. А лепше – дядька Демьян. Со временем мальчишка проникся к знатку доверием, даже показал свои мальчишеские сокровища: калейдоскоп, фашистскую кокарду с мертвой головой, пустую гильзу от трехлинейки и коробок с какими-то осколками. – Гэта шо? – Зубы молочные! Во! – Максимка ощерился, продемонстрировав ровные ряды мелких жемчужин. – Я их сюда собираю, а когда в город поеду – в аптеку сдам, грошей заплатят, лисапед куплю. – И комаров налови, тоже сдашь! – усмехнулся тогда Демьян. Полкан к пареньку отнесся сперва как к чужому – едва завидев во дворе Максимку, начинал его облаивать, а то и норовил цапнуть за ногу. Суседко тоже распоясался, уж как Демьян его ни умасливал, даже сметанку ставил, все одно – норовил посередь ночи залезть парнишке на грудь, отчего тот принимался стонать и задыхаться. Взять Максимку в ученики Демьян взял, но к педагогической работе оказался совершенно не готов. Поначалу предпринимал робкие попытки, спрашивал издалека: – А шо, Максимка, в Бога веруешь? – Да ну… Выдумка гэта. Гагарин вон летал, никого не бачил, – отвечал парнишка Демьяну его же словами. Не знал Демьян, как подступиться к щекотливой теме. Обрушить на двенадцатилетку груз накопленных знаний – о русалках да лешаках; о древних и темных силах, что дремлют под тонким пологом, отделяющим Явь от Нави, – у него не хватало духу. Под вечер, бывало, усаживал Максимку перед собой за стол, высыпал из банки на клеенку сухие травы и принимался рассказывать: – Гэта вот святоянник, им… врачуют. А гэта – мать-и-мачеха, на случай, ежели… А вот смотри, если фигу показать – это не просто так, а чтоб паскудь мелкую распугивать… Максимка кивал-кивал и начинал клевать носом. Демьян уж думал, что много он на себя взял – судьбу переписывать, да только раз ночью проснулся от страшного крика. – Дядька! Дядька! – неслось с печки. Демьян вскочил в одних портках, подбежал к печи. Забившись в угол, Максимка закрывал лицо одеялом и мелко дрожал. – Чаго развопился? Ну? – Дядька… тут гэта… страшидла, – ответил Максимка и смутился – сам понимал, как нескладно это звучит. – Страшидла, значится? А якое оно? – Не знаю… Темно было. Мелкое такое, рук-ног нема и глаза пустые. Я проснулся, а он у меня на груди сидит и душит, прям душит! Демьян вздохнул, не то обреченно, не то облегченно. Придется таки обещание выполнить. – Не страшидла гэта, а суседко. Домовой, значит. – А чего он такой… жуткий? – Якой уж есть. Дом-то мне чужой достался, с наследством, значит. Вот и суседко такой… Особенный. – А чем особенный? Зна́ток скривился – не с такого бы начинать знакомство с Навью. Как бы так сформулировать, чтоб не всю правду-матку? Вымолвил смущенно: – Да ничем. Бабья разве что не любит, и то тольки ежели крови у них. А так он смирный. – Так он это… черт? Черт, выходит? – Не черт – черти не с Нави, а… из другого места, короче. И черта табе не дай боже когда встретить. А суседко паскудь, выходит. Да тольки вины его в том нема. И ты его не пужайся да не обижай. Он для бабья зловредный, а так – суседко як суседко. На мужиков зла не держит. Якой уж есть. Так шо, нешто прям бачил его? – Как тебя, дядька, честное пионерское! – Ну, раз бачил, так знай – судьба твоя такая нынче, знатком быть. – Колдуном, значит? – У Максимки аж дыханье сперло от перспектив; ночной страх мгновенно смыло азартным любопытством. – Колдуны уроченье колдуют да с чертями братаются, а знатки – знают. А больше ничего и не треба. – Выходит, Свирида я того, заколдовать не здолею? – разочарованно протянул мальчишка. – Ты здолеешь узнать, почему такого робить не велено. Усе, спи давай. Завтра начнем обучение. И судьба как будто услышала планы Демьяна и подкинула ему тему для первого урока. С раннего утра у дома стоял, стыдливо мял в руках шапку председатель колхоза Кравчук Евгений Николаевич, не решаясь шагнуть во двор. Гремя цепью, у будки свирепствовал Полкан. – А ну цыц! – громыхнул Демьян из окошка, и пес замолк. – Погодь, зараз выйду я! Максимку даже громогласный лай Полкана не разбудил: дрых за троих. Будить его Демьян не стал, вышел было сам, но спохватился, забрал с собой клюку. Мало ли что. – Утречко доброе, Демьян Григорьевич, здравствуйте! – поздоровался председатель, отирая лоб панамкой – с самого рассвета на Задорье навалилась жара. Председатель был невысокого росточка, молодой в общем-то, чуть за тридцать, мужичок с выбритыми до синевы округлыми щеками и московским выговором. Поблескивал на рубашке красный значок, топорщился бумагами кожаный портфель под мышкой. – Доброй ранницы, и вам не хворать, товарищ председатель. Какими судьбами к нам, к антисоветским элементам, пожаловали? Председатель опасливо огляделся по сторонам, понизил голос: – Ваше, Демьян Григорьевич, участие требуется. Вы, как мне передали, в народной медицине кое-что разумеете, в травках всяких, и вообще… – Травки всякие? Разуме-е-ею! – громыхнул Демьян, да так, чтоб на всю округу, намеренно потешаясь над председателем. Тот аж присел, зашипел нервно: – И ни к чему так горлопанить, вы же взрослый человек! Я к вам пришел кон-фи-ден-циально, чтоб вы понимали. – А на партсобрании меня мракобесом и контрреволюционным элементом тоже клеймил конфиденциально? А? Председатель как-то весь съежился, присмирел, опустил глаза на начищенные туфли. Демьян сжалился: – Ладно, выкладывай, чаго там у табе за беда приключилась? – Ситуация… весьма щекотливого толка. Вы же знаете мою жену, Аллочку? Аллочку знало все Задорье. Женщиной Аллочка была видной, всем на зависть – толстая коса до пояса, фигура песочными часами, крупная грудь и смазливое личико, правда всегда презрительно сморщенное, точно на носу у Аллочки постоянно сидела невидимая муха. Многие мужики ее добивались, завороженные полнотелой, плодородной красотой, но та оставалась неприступна, иных и на порог к себе не пускала. «Не для тебя, – говорила, – моя ягодка росла». Все гадали – а для кого же? Ответ оказался неожиданным. Занесло по распределению к ним молодого москвича-функционера Евгешу, суетливого маленького человечка. Тот всё собрания устраивал, активность наводил, пионерские галстуки вешал, агитации-демонстрации. Деревенские посмеивались, едва ли не дурачком его считали. А Евгеша тут подсуетился – колхозу трактор новый дали, там похлопотал – и новый клуб открыли заместо сгоревшего старого. Везло ему как-то совершенно сверхъестественно: со всеми он мог договориться, кого надо подкузьмить метким словцом, кого надо умаслить и даже в домино всегда нужную костяшку доставал. Поселился он в клубе, в красной комнате, и деревенских, значит, принимать начал, на добровольных началах. А тут глядь, уже не Евгеша, а Евгений Николаевич, председатель колхоза, со значком «Заслуженный работник сельского хозяйства» и кожаным портфелем. Повезло ему и с Аллочкой – зачастила она к нему в красную комнату. Глядь – а у ней уж и живот наметился, и председатель все больше не в красной, а в Аллочкиной комнате обретается. Мать ее ругалась страшно, но все одно, дите-то уж в пузе, никуда не денешься, так что дала благословение. Родила Аллочка двойню, здоровых таких, щекастых крепышей. А как иначе с такими-то бедрами? Сама стала примерной женой председателя, прям как Крупская для Ленина, обеды ему носила, и сама значок нацепила октябрятский – другого не нашла. Стала ходить важная, надменная пуще прежнего, партбилет получила, устроилась кем-то там по воспитательной работе. В дома заходила, следила, а не процветает ли где антисоветчина и мракобесие, детишек по школам разогнала. Словом, нашла баба свое место в жизни. – Ну знаю. И шо она? Нешто захворала? – Да страшно сказать… – Евгений Николаевич перешел на сдавленный шепот, – я уж и акушера из города зазвал, а он только руками разводит – не видал такого никогда. – На кой акушера-то, дурань? – Так фельдшером ты у нас по документам числишься! – А, точно… Дык, може, ее того, в больницу, в райцентр? – Нельзя в больницу. – Да як же… – Нельзя, говорю ж, – бессильно всхлипнул председатель. – Погибает она, Демьян Григорьевич. Помоги, а? Наколдуй там чего. Я ж знаю, ты можешь! Наколдуй, а? И вообще – ты фельдшер, мать твою так! – Матушку не поминай… Скольки раз табе говорить, не колдун я. И не был никогда. – По лицу Демьяна пробежала невольная гримаса. – Давно страдает твоя благоверная? – Да уж четвертый день, считай. Как в субботу слегла, так и… – А чаго с ней? Головой мучается, животом али по женской части… – Всем. Сразу, – упавшим голосом сообщил председатель, будто крышку на гроб положил. – Помоги, а?
Вскоре Демьян уже был у дома, где жили председатель с женой и престарелой матерью Аллочки, которую никто иначе как «баба Нюра» не называл. Было ей не так уж и много годков – то ли пятьдесят, то ли под шестьдесят, – но пережитая фашистская оккупация наложила на вдову несмываемый отпечаток, какую-то вековую, тяжелую дряхлость; согнуло ее, затуманило взгляд свинцовой тьмой. Пряталась в свое время на болотах, пока Старое Задорье в Вогнище превращали… Из деятельной, живой бабы война превратила ее в молчаливую богомолицу, редко покидавшую жилище. Максимку Демьян взял с собою – пущай учится, раз уж занятие подвернулось. Глазами Бог парня не обделил, глядишь, и в черепушке чего найдется. – Дядька Демьян, а мы бесов гонять будем? – Бесов? Ишь куды хватил. Не, брат. Лечить будем. По-людски. Оно, знаешь, народными методами такое вылечить можно, шо не всякий профессор сдюжит. Не за каждым кустом, знаешь ли, бес ховается. Вот табе урок нумер раз: перво-наперво причину надобно искать в человеке. Но, только зайдя в дом, Демьян растерял всю браваду. Воздух казался вязким, жирным от кислого запаха рвоты с железистой примесью крови. Так пахли внутренности вскрытых фашистских душегубок – разило смертью. Жена председателя лежала в красном углу. Вместо икон на полочке горделиво глядел вдаль бледный как поганка бюстик Ильича. В тон ему была и Аллочка, разве что губы покрыты темно-бордовой коркой. Когда-то первая красавица на все Задорье, сейчас же все ее тело было выгнуто судорожной дугой, белые груди бесстыдно вздымались воспаленными сосками в потолок, мокрые от пота и мочи простыни сбились, свешивались на пол. Демьян машинально прикрыл рукой глаза Максимке: – Рано табе яшчэ… Подошел, отыскал простынку почище и прикрыл стыдобу. Руки и ноги бедной женщины были крепко-накрепко привязаны к кровати тряпицами. Аллочка же ни на что не реагировала, металась в одной ей видимой тягучей дреме; глубоко запавшие глаза широко распахнуты, взгляд в даль несусветную, как у контуженой, зубы стучат и скрежещут – того и гляди язык себе оттяпает. Максимка вспомнил, как пару лет назад Алла Георгиевна, к которой неровно дышали все мальчишки, а нынче вот эта самая скорчившаяся безумица, повязывала ему галстук на линейке, посвящая в пионеры; вздохнул, с сочувствием поглядев на бледного председателя. Кравчук дрожал, умоляюще лебезил перед знатком: – Вот, и так с самой субботы. Ребятишки мои кричат, плачут – я их в клуб пока отселил. Тещу тоже хотел, да она упертая… – Тещу? – переспросил Демьян, огляделся. Едва успел заметить, как мелькнула чья-то тень в закутке; донеслись до него зажеванные до неразличимости слова молитвы. – И прям вот так с субботы? А что в субботу было? – Так это ж… субботник. В клубе прибиралась, потом дома еще, старье повыкидывали… А ночью вот скрутило. Полощет из всех отверстий, никого не узнает, ничего не понимает, только вон корежит ее… – Хм-м-м… Демьян задумался. Максимке выдал тряпицу, чтоб промокнуть несчастной лоб. Все ее тело покрывали градины жирного холодного пота. По лицу ползла болезненная гримаса, будто что-то ядовитое и многоногое перемещалось под кожей, вызывая тут и там болезненные спазмы. Губы беспрестанно шевелились. – И шо, с тех пор не говорит? – Если бы, – вздохнул Евгений Николаевич, – бывает, такой фонтан красноречия открывается, что и не заткнуть. Я потому хоть детей пока… Закончить фразу председателю не дала благоверная – завернула такую конструкцию, что даже у Демьяна, наслушавшегося разных выражений и от партизан, и от красноармейцев, запылали щеки. Запоздало он закрыл Максимке уши, а поток сквернословия и не думал иссякать. Хуже того, Аллочка крыла матом Ленина, Сталина, Хрущева и весь ЦК КПСС, вместе взятый, с Крупской и Гагариным в придачу. Доставалось и супругу – каждый раз, когда по его душу вылетало очередное нелестное словечко, Кравчук стыдливо прятал голову в плечи. – Вот потому, – сказал, – к врачам и нельзя. Меня же потом… сам понимаешь. – Понима-а-аю, – протянул Демьян. На болезнь это никак не походило. Пахло от всего этого гадко, грязно, дурным умыслом и злой волей. Незнамо кто пожелал недоброго председателю – завистник ли, конкурент или обделенный участком колхозник, одно было ясно: испортили бабу основательно, так, чтоб не только тело, но и разум, и всю семью заодно сгубить, под самый корень, значит. – А ну-ка… В момент особенно залихватского пассажа о том, чем положено красноармейцам чистить винтовки заместо шомпола, зна́ток втиснул рукоять клюки меж зубов Аллочки. Та начала было яростно грызть дерево, потом вдруг застыла; зрачки как провалились в череп. Хриплое дыхание сбилось. – То-то ж, милая, опознала братца своего? Максимка, кружку мне любую – быстро! Максимка метнулся к столу и вернулся с эмалированной железной кружкой. Демьян вывернул рукоять клюки так, что челюсть у Аллочки разошлась совершенно неправдоподобным образом; раздался хруст, по краям рта побежали ручейки крови. Протиснувшись пальцами меж зубов, зна́ток принялся ковырять в глотке председателевой жены. Стоявший рядом Максимка невпопад с интересом подумал, куда же делся безымянный палец знатка. – У, гадина скользкая… Ну зараз мы тебе… Курва драная, мля… Я не про вас, Алла Георгиевна. Едва Демьян выдернул пальцы из глотки, как председателева жена выплюнула клюку и так клацнула зубами, что, кажется, даже прикусила язык. Крови стало больше. – Кружку сюды! – скомандовал зна́ток и бросил на дно посудины что-то круглое, окровавленное. Это круглое развернулось и оказалось похожим на червяка. Оно капризно разевало маленький ротик и даже, кажется, издавало звуки. Опознать их не было никакой возможности, но Демьян готов был поклясться – это звучало как проклятия. Глядя в кружку, он мрачнел на глазах. – Ну что? Вы ее… вылечили? – недоверчиво спросил Евгений Николаевич. Круглое личико его стянуло брезгливой гримасой, когда он взглянул на существо, извлеченное из Аллочки. – Тут не лечить, тут отпевать треба, – прогудел Демьян. Весь он был в своих мыслях. – Какой отпевать? Вы о чем? Да и не положено у нас в Союзе ритуалы эти… Погодите-ка! – он осекся, до него дошел смысл сказанного. – Вы что же, говорите, моя Аллочка… – Я яшчэ ничего не кажу, – оборвал его зна́ток, продолжил, будто сам с собой говорил: – Жорсткое уроченье наклали, могучее. Я одного достал, а их в ней до черта и того больш. Живцом ее изнутри сжирают – и тело, и душу ее, шоб потом зусим ночога не осталось. Знатный чаровник поработал. Я одну выну – их двое внутри зробится. Я выну с десяток – а они уж в сотню помножились. – Так что, дядька Демьян, помрет она? – с детской непосредственностью спросил Максимка. Председатель побледнел. – Зараз як дам в лобешник. Ишь, помрет… Я ей дам – помрет! – разозлился Демьян, разогнулся, крякнул. – Ты, Евгеша… Евгешей председателя не называли уже лет пять. Но сейчас он не обратил внимания на фамильярность, лишь кивнул. – Ты, Евгеша, молоком ее пои. – Да как же, она ж не дается… – Через силу пои! Вот как материться начинает – а ты ей прямо из кувшина в рот. Або воронку какую вставь, я не знаю, як в трактор. Ей сейчас силы нужны, много сил. А я… Поняв, что Демьян собирается уходить, председатель вцепился ему в локоть. – Куда вы? Молоко? И все? – Не шуми! Справить нешто надо. Пойду покажу, – Демьян приподнял в руке кружку, – одному знакомому. До рассвета обернусь. – Обещаете? – Мое слово – кремень, – кивнул Демьян. – Не прощаюсь, побачимся яшчэ. Максимка, пошли. Мальчонка бросил обтирать лоб Аллочки тряпицей, выронил край простыни – сорванец таки не удержался на голую бабу поглядеть – и дернул следом за наставником.

Долго шли молча. Зна́ток задумчиво тер подбородок, и так и этак приглядывался к червячку в кружке, даже клюку разок выронил. Максимка было хотел поднять, но был остановлен окликом: – Не чапа́й! Вскоре за спинами осталось Задорье. Солнце вовсю палило в затылки, Максимка даже снял маечку, повязал ее на голову на манер панамы. Наконец, заметив, что Демьян больше не гипнотизирует кружку, осмелился спросить: – Дядька Демьян, а мы куды идем? – Туды, откуль гэта дрэнь вылезла. Ну, я так разумею. Видать, позавидовал кто крепко нашему старшине, нашкодить вздумал. Нашкодить-то по-всякому можно, а они, вишь, самый страшный метод избрали – обратились к киловязу. – Киловяз – гэта кто? Зна́ток вроде тебя? – Порчун гэта по-нашенски. А киловязом-то на северах кличут, не тутошний он… – Так он зна́ток вроде тебя, выходит? – От щас как дам по уху! Зна́ток – он тем занят, шчоб порядок был. Чтоб ни паскудь не лютовала, ни народец почем зря ее не раздражал. А ежели путем усе, то и не вмешивается вовсе. А колдуны да порчуны – тут другое дело… Демьян замолк ненадолго, будто что обдумывал. Максимка терпеливо ждал продолжения урока. – Колдуны, Максимка, они не с Навью, они с чем похуже знаются. С теми, кто поглыбже да поголоднее. С теми, от кого и паскудь с воем разбегается. – Гэта кто ж такие? По лицу знатка пробежала смутная тень, глаза затуманились; в них отразились блики горящих деревень и масляный блеск топких трясин. – Кто гэта, дядька Демьян? – А ты шо, в колдуны податься решил? Не? Вось и не суй нос. Максимка недолго помолчал, переваривая услышанное, потом спросил: – Так мы сами до такого вот… порчуна идем? – До такого, да не такого, – неопределенно пробормотал Демьян, потом все же пояснил: – Сухощавый – он вроде как былой киловяз. Ране страшный дед был, всю округу вот так держал, в кулаке. Ежели кто отомстить кому хотел иль напакостить, так те к нему шли. Такую порчу закручивал, ни в одной церкви не отмолишь. А потом зубья подрастерял, состарился, одряхлел. Яда-злобы да гонору не убавилось, а вот силы уже не те, зато опыту хошь отбавляй. Покажем ему нашу добычу – глядишь, признает свою работу. Дом Сухощавого оказался на самом краю соседней вёски – уж и не с людьми больше, а на болоте. Один край покосившейся избы сползал в хлюпающую трясину на месте огорода. На бревнах сруба обильно росли поганки. У завалинки Демьян застыл, приостановил Максимку – тот было рыпнулся к калитке. – Куды, дурань? К порчуну без приглашения? Гляди! Зна́ток указал клюкой на поблескивающие в воротцах шляпки гвоздей, торчащие иглы да булавки. Пустая конура у самого входа голодно дышала угрожающей пустотой. Мол, только сунься. – Так скорчит, вовек не разогнешься. Клюка требовательно стукнула по дереву раз-другой-третий. В хате закопошились, дернулась желтая от пыли занавеска, мелькнула чья-то тень. – Мирон, выходи, разговор есть! – позвал зна́ток. – Демьяшка? – проскрипело из окошка. Высунулась бледная рожа старика с ввалившимися щеками. Седая щетина росла беспорядочными клочьями и залезала едва ли не на лоб. – А ну пошел нахер отсюда, пока печенку не выплюнул! – Да погоди ты, я… Серые глазки Сухощавого нервно осматривались, нижняя челюсть дрожала, заскорузлые пальцы судорожно барабанили по наличнику. – Я кому сказал! Прокляну – до конца жизни в говнах ходить будешь! И пацаненка забери. Кыш! Вон отсель, я кому… И вновь Демьяну пришлось прикрыть уши Максимке – Сухощавый в выражениях не стеснялся. Вот сколько Демьян его помнил – был то самый вредный дед от Минска до Смоленска, а может, и еще далече. И с возрастом характер его ничуть не улучшился. Много они с Демьяном крови друг у друга попили – один проклянет, другой снимет и вернет сторицей. Один бесов натравит, другой их гоняет. Словом, бытовала меж Демьяном и Сухощавым хорошая такая, крепкая вражда. И по матушке они друг друга поминали не раз. Однако было на сей раз в поведении вредного старика что-то неправильное, необычное… – …а коли еще хоть раз на порог сунесся – я тебе твою клюку в дупу по самые… Несолоно хлебавши, Демьян с Максимкой отошли от хаты киловяза, присели на поваленное бревно. Зна́ток задумчиво пожевал сорванный колосок. – Неладно чагось с ним, – произнес задумчиво. – Раньше, поди, выскочил бы – поругаться да попререкаться, а тут даже не плюнул вслед. Странное дело… – А по-моему, дядька Демьян, – предположил Максимка, – спужался он шибко. Ты глаза его бачил? – А чаго? Обычные зенки, дурные, як и должно. Нешто, думаешь, он нас напужался? – Не, дядька. Он кого пострашнее ждал, а тута мы приперлись. – Кого ж страшнее-то? Немца, шоль? – задумчиво предположил зна́ток, окинул взглядом горизонт. – Вось чаго. А давай-ка мы его до заката покараулим, поглядим, с чего его так трясет. Залезай-ка вон на стог да гляди в оба два. Як чаго увидишь – свисти. Сам же Демьян привалился к стогу сена спиной, завернул рубаху – а то вся морда сгорит – и задремал. Снились ему крутые откосы громадного котлована – с такой гадкой воронкой посередине, что ни плюнуть, ни внутрь взглянуть мочи нет. А следом раздался жуткий, нечеловеческий крик – так мог визжать младенец в печи, свинья с ножом в глотке; баба, из которой дитя наживую вырезают. И где-то совсем рядом, кажется, только обернись – хохотала Купава, и девичий смех-колокольчик то и дело переходил в сиплое старушечье карканье… – Проснись, дядька! Проснись, дядька Демьян, скорее! Зна́ток открыл глаза. Темень такая, хоть глаз коли. По небу широкой полосой рассыпался сахар созвездий. – Вон тама, гляди! – шептал мальчонка. Сощурившись, Демьян еле-еле выцепил взглядом фигуру, бредущую по дороге – ровно к хате Сухощавого. И сердце пропустило удар-другой: голова фигуры вздымалась высоко над крышей домишки, а бледная луна озаряла голову верзилы, будто нимб. В руке он что-то нес. – Ховайся в сено, быстро! – прошипел зна́ток. В каждом движении тощих долговязых конечностей, в дерганых и неловких шагах, в странном ритмичном шорохе Демьян узнавал – не человек это вовсе и не навий даже. – Во связался, старый хер… – Дядька, а шо гэта за страхолюдина? – прошипел Максимка на грани слышимости. – Мытарь, – отрезал зна́ток, явно не желая ничего объяснять. А Мытарь дошел до калитки, переложил ношу из руки в руку – у него и правда был с собою мешок – и настойчиво стукнул в дверь. Раз-другой. Та отворилась, да с такой прытью, что, пожалуй, произошло это без участия хозяина дома. Пригнувшись почти в половину роста, ночной гость вошел в хату, и из окошек послышались жалобные стариковские мольбы: – Не надо! Не губи! Да будь ты человеком! Отдам я тебе все, отдам, дай отыграться… – Сиди здесь тихо! – пригрозил зна́ток Максимке, а сам перехватил клюку покрепче да двинулся к хате киловяза. Застыл у калитки – шляпки гвоздей все еще угрожающе блестели. – Чур меня, чур меня, чур. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, – прошептал Демьян, перекрестился. Добавил на всякий случай: – За Родину, за Сталина. И, зажмурившись, шагнул через порог. Выдохнул. Кажется, ничего не произошло. Вдруг в конуре вспыхнули два злобных огонька. По двору разлилось, будто раскаленное масло, утробное рычание. – А ну-ка цыц! – наудачу бросил Демьян, и тварь в конуре действительно затихла. Погасли злобные огоньки. Зна́ток шагнул в приоткрытую дверь и замер на пороге, завороженный зрелищем. На скамье сидел полураздетый, в исподнем, старик с открытым настежь ртом. Над ним, склонившись в три погибели – будь то человек, сломал бы хребет – нависал ночной гость. В длиннопалой руке он сжимал клещи и теми ворошил в окровавленной пасти Сухощавого. Раздался омерзительный, скребущий по самым нервам хруст, и верзила облегченно выдрал клещи из стариковского рта. Повертев в руках желтый, с обломанными корнями, зуб, Мытарь бросил его со стуком в раскрытый мешок, где лежало не меньше пуда таких же, желтых и обломанных зубов. Увидев Демьяна, Сухощавый замычал, и верзила тотчас повернулся в его сторону. Не в первый раз зна́ток смотрел в лицо твари, пришедшей из таких глубин, что и словами не выскажешь, однако дрожь сама вцепилась в позвоночник, тряханула, как кутенка. Демьян волевым усилием взял себя в руки, не отвел взгляда от жуткой образины: пасть твари будто выворачивалась наружу и разрасталась, как плесень, во все лицо. Оттого щеки, подбородок, переносицу твари покрывали скопления крупных человеческих зубов – клыки и моляры вперемешку. Из-под широких надбровных дуг, также покрытых зубами, белели блеклые безразличные глазища. – Ну приве-е-ет, Дёма, – протянул трубно Мытарь. И где звук только умещается? Не во впалой же, с торчащими ребрами груди… – Нешто за товарища долг отдать решил? Своих не хватает? Сухощавый воспользовался передышкой между пытками – сплюнул кровь на дощатый пол, промычал что-то жалобно. Демьян старался не терять лица: – А что, много задолжал-то товарищ? – Ни много ни мало, а всеоставшиеся. – Прям-таки усе? – удивился зна́ток, лихорадочно соображая, что можно предпринять. Он бы и на кикимору так вот без подготовки с голыми руками не сунулся, а уж на эту тварь… – Чем же он жевать будет? – Тю, не больно-то ты зна́ток! Коли у киловяза зубья кончились, то ему жевать и незачем – ждут его уже. Все замученные да спорченные, все обманутые да хворями сморенные – все ждут, почет да уважение воздать, как говорится. Вот я сейчас оставшиеся-то зубья приберу и… – Я оыам! – силился что-то сказать старый колдун, отпихивая ногами экзекутора – тот уже щелкал клещами над левым нижним клыком. – Отдашь-отдашь. Вот щас и отдашь! – крякнул Мытарь. С хрустом вцепился ржавыми клещами в зуб, потянул. – Погодь! – воскликнул Демьян. – Щас я до кладбища сбегаю, полну жменю тебе и снесу! – Дурня не включай. Зубы тольки у живых работают, а у мертвяков они так, кость бесполезная. – Ну давай хоть поручусь за него? – А за тебя кто поручится, Дёма? Со своими долгами сперва расплатись. Купавка-то тебе приветы передавала. Скоренько свидишься. Перед взором знатка возникла та баня с Вогнишча: под руками, казалось, вновь извивается разгоряченное тело, и дышит смрадом Пекло, и душу рвет крючьями – на зуб пробует. И воронка на самой, что ни на есть, глубине преисподней… Демьян судорожно сглотнул и не нашелся что и ответить пекельному посланцу. Тот, ухмыльнувшись, вновь отвернулся к колдуну. – Дяденька! – раздалось из окошка. Над подоконником выросла любопытная Максимкина морда. – А ну пшел отседа! – рыкнул Демьян. Не хватало еще ученика втянуть. Но тот не внял словам наставника. Тварь заинтересованно обернулась, не разжимая клещей. – Дяденька! Вам зубья потребны? – Ну… допустим, потребны. А что, свои предлагаешь? – ощерилось создание. – Так точно. Предлагаю. – Не смей, дурень! – рыкнул зна́ток, но Мытарь уже оторвался от Сухощавого, всей своей длинной ломкой фигурой перетек к окну. – А ты знаешь, зачем нам зубы? – Образина осклабилась жуткой зубастой ухмылкой. – Мы те зубья в батоги да плети вкручиваем, а теми батогами и плетьми колдунов хлещем, что душу свою не уберегли. Чем сам себя-то никто больнее не грызет… – Души нема. Ее попы выдумали! Мне так в школе говорили… – Беги, малахольный, беги, кому говорю! Демьян было рванул наперерез к окошку, но тулово твари извернулось, выросло стеной между знатком и Максимкой – не пройдешь. – Души, значит, нет… – Ухмылка зубодера растянулась, дошла почти до самого затылка. – Что ж, и с тобой дела вести можно. Открывай-ка рот… – Зачем? Зубы-то вось они… Что-то со стуком посыпалось на подоконник. – Вось, забирайте. Черт с ним, с лисапедом… Демьян перегнулся через торс – мягкий, склизкий, будто подгнившее мясо, – взглянул на то, что высыпал Максимка. На замызганном платочке лежали мелкие белые жемчужинки. «Молочные», – догадался зна́ток. – Подойдет, нет? – Подойде-е-ет, – прошелестела тварь, слизывая зубы длинным, похожим на кишку языком. – Знай теперь, Максимка, и на тебя теперь в аду есть твоя личная плеть. – А гэта уж мы яшчэ побачим, да, дядька Демьян? – Ага, – ошарашенно выдохнул зна́ток. Сухощавый тоже глядел во все глаза, даже рот забыл закрыть. А пекельный стал растворяться в воздухе, превращаться в черную дымку, которая тонкой струйкой вытекала в окно. Демьян был готов поклясться, что заметил в курящемся дыму несколько белых точек. Мытарь испарился. – Ну-ка, залезай… – Демьян подал руку Максимке. – Игыа! Тьфу! Игла! Иглу достань з подоконника! – крикнул Сухощавый. Демьян осторожно вытянул загнутую ржавую цыганскую иглу с хищно блестящим острием. Та гнулась в разные стороны, все норовила прошить пальцы. Ухватив Максимку за ворот, зна́ток с легкостью втянул мальчишку в хату. Поставил перед собой, оглядел, спросил: – Жив? Тот кивнул, а через секунду получил такую оплеуху, что у Демьяна самого аж в ушах зазвенело. – Дядька, за что? – За дело! Ты, собака, куды полез? А ежели он бы тебя с собой забрал? Ты крещеный, нет? – Ай, дядька, перестань! – Крещеный, спрашиваю? – Нет, дядько… Ай, больно! – А ежели он бы тебя, некрещеного, самого в тот мешок посадил, а? – Ухо, дядька, ухо… – Хорош! – рявкнул Сухощавый. Пальцы Демьяна, выкручивавшие уже синее Максимкино ухо, ощутили укол, разжались. – Чаго его таперича поучать? – Яшчэ раз… – Да хорош, говорю, мальчонку кошмарить! – Хозяин хаты наконец поднялся с лавки, выпрямился. Выглядел он, прямо сказать, не ахти – казалось, будто кожу сняли с какого-то другого старика, повыше и побольше, а потом натянули на плюгавый, горбящийся скелет, и так получился Сухощавый. Серые, недобрые глаза сидели глубоко в черепе; один безбожно косил. – Чай ему до Пекла далеко, выдюжит еще как-нибудь… – Ага, ты-то выдюжил, – ворчал Демьян. – Пошто Пеклу в долги влез? Хоть дельное чего? – Дельное-дельное, – стушевался Сухощавый, пожевал губами. – Мазь он мне от радикулита носит. Вишь, разогнуться не могу… – Нашел за чем бесов гонять… – С мое скрюченный походишь – хошь в постелю с ними ляжешь. Хотя ты вроде и… – Ладно-ладно, – спешно перебил его Демьян, – не до твоих болячек. Мы по делу. – По делу? А шо, в дупу дорогу не нашли? – крякнул Сухощавый. – Ладно уж, коли выручили – выкладывайте, чаго у вас там. – Кружку не потерял? – рыкнул зна́ток на Максимку. Мальчик спешно достал тару с червячком. Тот извивался и непрестанно матерился на своем червячьем языке. – Ну что, узнаешь? Твоя работа? Сухощавый принял кружку – на тыльной стороне ладони расплылась синюшная наколка в виде вроде бы черта. «Как есть киловяз», – подумал Максимка. Старик склонился над кружкой; вывернул голову, чтоб взглянуть на червячка косящим своим глазом. – Могучая гадость. Не абы как портили, со злобой, с ненавистью. Заморить хотели. Ни, я такого уж давно не вязал. Я-то чаго – корову спортить, или там шоб до ветру постоянно хотелось, а гэта… Тут смертию смердит. – Снять сможешь? Сухощавый пригляделся. Достал червячка, лизнул. Скривился. – Не, такое не сдюжу. Уж больно крепкая хворь. Такая и меня прикончит, и от хозяина не отцепится. Не возьмусь. Тут уж тот снимать должон, кто портил. – А вызнать, кто портил, можешь? – Ну, Демьяшка, кабы не мальчонка – послал бы тебя знаешь куды… Эх, была не была. Сухощавый выудил мозолистыми пальцами червячка, зажмурился и… закинул его в рот. Старика скрючило, он осел на пол. Под бледной кожей явственно перекатывалось что-то большое, черное. Максимка дернулся, запричитал: – Дедушка, что с вами? – Воды ему лучше набери – вон, в ведерке. Максимка вернулся с кружкой холодной до ломоты в зубах водицы, а Сухощавого уже выворачивало на доски. Изо рта лилась серая, как сигаретный пепел, слизь. Оказываясь на полу, она не растекалась, а рассыпалась и проваливалась прямо насквозь, куда-то под землю. Проблевавшись, старик вцепился в кружку и принялся пить жадными глотками. Осушив кружку, припал к ведру и еще добрые минуты три голодно лакал, пока воды не осталось на самом дне. Отвалившись от жестяного бортика, киловяз уселся прямо на пол, помотал головой. Проблеял хрипло: – Крепкая хвороба. Крепкая. С кровью. С ненавистью. Гэта вам не понос недельный. Не снять тебе гэта, Демьян, никак. Кажи, хай гроб готовят. Не спасти… – Да як же ж не спасти? Шо ж там такое-то? – Самое дужное уроченье из всех, якие есть, – горько ответил Сухощавый. – Крепче ненависти не бывает, потому как из любви выросла. Не простое гэта проклятие, Демьяшка, а материнское… – Вот табе и урок нумер раз… Брови знатка сами собой сошлись над переносицей.

На обратном пути Демьян все больше помалкивал, чесал русую бороду, глубокомысленно хмыкал. Понемногу рассветало. Мелкая нечисть, вдоволь набегавшись и накуражившись, искала убежища в норах, под кустами и на крышах хат. – Бачили, дядька Демьян? Эк драпанула! – попискивал восторженно мальчонка, провожая взглядом тощую шишигу. А следом принимался шумно зевать после бессонной ночи. – Угу… – только и мычал тот в ответ, погруженный в мысли. Максимка смекнул что-то, спросил осторожно: – А шо, материнское проклятие – гэта зусим дрянно? Выходит, баба Нюра ведьма? А сама усе молилась да с иконами… – В том-то и дело, что ниякая не ведьма, – ответил Демьян и принялся скорее не объяснять, а рассуждать вслух. – Оно ж как обычно? Коли кто спортил – отшептал, отмолил да забыли. А коли порчун нашелся, то и ему на орехи достанется. Другое дело, коли оно родовое – тут уж весь род чистить надо, до самых до могил; все, что разложиться не успело. Но и гэта ясно. А вот с кровными уроченьями… с ними тяжче всего. – Почему? – Да бо, шо Нюрка-то никакая не ведьма – ее нос к носу хоть с Мытарем поставь, все равно ничаго не убачит, потому шо обыкновенная она, як веник березовый. Но даже обыкновенный человек иногда так может возненавидеть, шо тама, – зна́ток со значением ткнул тростью в землю; та ответила столбиком пыли, – почуют. И помогут. Они вообще, знаешь ли, – надо не надо, а помогать любят. Да только спросят потом так, шо мало не покажется. И вот такую порчу никому нипочем не снять, покуда тот, кто портил, сам не одумается. – Так нам нужно всего лишь бабу Нюру уговорить! Она ж гэта точно случайно, не со зла, да, дядька Демьян? – Хотел бы я верить. Хотел бы…

Председатель встречал их под указателем на Задорье – в семейных трусах, валенках и шинели на голые плечи. В зубах подрагивала папироска. Едва завидев знатка и его подмастерье, побежал навстречу. – Ей ночью хуже стало… Я к вам, а вас нету… Всех на уши поднял – никто ничего не знает, ушли, мол, и все тут! – затараторил круглый человечек с укором. – Сказал же, до рассвета обернусь, – огрызнулся Демьян. – Побалакать кое с кем треба было. – И? Что? Сказал чего ваш консультант? – Сказал… – Зна́ток не знал, что говорить. Коли игоша бы молодую жену сосать повадился, или жупка на полатях появился, тут все ясно – с глаз долой, пинком под зад. А тут… – Много чаго казал. Табе того знать не надобно. Ты лучшей гэта… – А идите вы, Евгений Николаевич, головастиков наловите! – неожиданно выпалил Максимка, угадав настроение наставника. – Головастиков? – удивился председатель. – Ага, зелье буду варить, – подтвердил Демьян, одобрительно глянув на Максимку. – Змеиная кожа, совиное перо… Во, головастики закончились. Сбегаешь? Там вон, у мельницы их шмат… – Я… Если меня в таком виде, – засмущался Евгений Николаевич, запыхтел папироской, сплюнул. – А, к черту! Ради Аллочки… Я сейчас! Мигом! – Побольше наловите! Полный сачок потребно! – крикнул вслед Максимка. Демьян ничего говорить не стал, лишь усмехнулся довольно в бороду – а парень-то далеко пойдет. В доме председателя царил хаос. Осколки посуды повсюду, с потолка свисает драная простыня, пахнет кислятиной. Посреди хаты валялся бюстик Ленина. Вождю ополовинили череп по самые брови и откололи нос, как египетскому сфинксу. Всюду поблескивали пятна бурой жижи, в которой что-то лениво извивалось. Аллочку заметили не сразу. А как заметили – Демьян даже Максимке глаза забыл прикрыть. На потолке в самом углу висела, расставив ноги, аки паучиха, нагая жена председателя. Бешеные глаза смотрели каждый в свою сторону – зрачки с булавочную головку. Все тело опутывали вздувшиеся темные жилы, а из выставленного наружу женского срама стекала какая-то темно-багровая дрянь. – Сама себя переваривает… – только и успел выдохнуть Демьян, когда Аллочка с жутким визгом бросилась на непрошеных гостей. Максимку отбросила грязной пяткой, да так, что тот о печку саданулся. Накинулась на Демьяна. Измазанные, будто сажей, зубы защелкали у самого его кадыка, а глотка Аллочки не переставала непостижимым образом изрыгать матерщину пополам с угрозами: – Я тебе, такому-растакому, кишки через дупу выну, хер отгрызу, глаза твои поганые высмокчу… Зна́ток было замахнулся клюкой, но обретшая какую-то нечеловеческую силу Аллочка легонько от нее отмахнулась, и та отлетела на другой конец хаты. Пришедший в себя Максимка было рванулся за ней, но Демьян успел прохрипеть: – Не чапа́й! Аллочка все наседала на Демьяна, рвала ему ногтями грудь и лицо, кусала выставленные перед горлом локти. В капельках слюны, под кожей, в уголках глаз неистово кружились черви. – Максимка! Рушник мне якой дай! – кое-как выдавил зна́ток. – Хошь пасть заткну, шоб не кусалась! Мальчонка ринулся к печке – но куда там, все разбросано, где что лежит – не разберешь. Сунулся на полати и ойкнул – оттуда вдруг вынырнуло чье-то пучеглазое морщинистое лицо. – Баба Нюра… это ж вы! – Мальчишка отшатнулся от безумного взгляда старухиных глаз. А баба Нюра примерилась, спрыгнула с края печки – подошла к дочери. Растрепанная, простоволосая. Поглядела на Аллочку, склонила голову. В темных глазах искрило сумасшествие. – Не о том я Господа просила. Не о том, – шептали старухины губы. – Как же так, Нюрка, а? Ты ж мать! – рычал Демьян, отбиваясь от одичавшей Аллочки. – А нехай и мать! – Голос бабы Нюры набирал силу. – Сказано в Писании: кто розги жалеет – тот ненавидит дитя свое. А она… якое она мне дитя? Безбожница, шлюха комсомольская! Значки нацепила, галстух… Молчала я, покуда большевики церкву рушили; молчала, пока они Христа на Ильича заменяли… Но чтоб родная дочь! Баба Нюра содрогнулась всем телом от всхлипа. – Я эти иконы от прабабки сохранила! Сперва от краснопузых, опосля от немцев прятала! Як зеницу ока берегла! На них яшчэ твоя прапрабабка молилась! А гэта сука их в печь, в горнило, мать ее, мировой революции! А в красный угол, значит, этого… Будь ты проклята, потаскуха! Подстилка большевистская! Будь проклята и ты, и вымлядки твои в галстучках! Нет у меня больше дочери! – Максимка, рушник, скорее! – подгонял Демьян. Челюсти Аллочки скребли по кадыку, цепляли кожу – еще на полногтя и… Хрясь! Нож вошел Аллочке глубоко в шею, мерзко скребанул о позвонки и вышел аккурат под подбородком. Аллочка застыла на мгновение, будто не веря в произошедшее, вывернула голову – до хруста, на самом пределе своей анатомии. Черные от текущей из нутра дряни губы натужно прошептали: – Мама… И Аллочка тяжело грохнулась на Демьяна. Черные прожилки отлили из-под кожи, та даже порозовела, став выглядеть в смерти живее, чем при жизни. Мышцы на лице бедной жены председателя разгладились, наполнились неким умиротворением. Старуха с чавканьем выдернула длинный, сточенный до толщины шила, нож из шеи дочери, отшатнулась. Всхлипнула всей грудью. – Боже! Боже… Дочушка! Что же я… Господи! Глаза бабы Нюры метнулись в угол – куда-то за спину застывшему с полотенцем в руке Максимке и вверх, в красный угол. – Господи, ты пришел прибрать меня? Господи? А дальше старуха завизжала. Завизжала так, будто горела заживо, будто пришли разом и немцы, и большевики, как если бы само ее существование стало таким кошмарным и невыносимым, что не оставалось ничего иного, кроме как визжать. Пуча глаза, она глядела в угол и вжималась в печь все сильнее, будто кто-то шел прямо на нее. Дрожащая рука метнулась в вырез над массивной грудью, сдернула нательный крестик, и тот потонул в кровавой луже. Вторая рука, вопреки воле хозяйки, медленно направляла нож прямо в глаз старухе. И казалось, что движение ножа каким-то странным образом синхронизировано с шагами того ужасного, невидимого, от кого вжималась в печь баба Нюра. Демьян не успел выбраться из-под тела Аллочки – в секунды все было кончено. Старуха ввела тонкое лезвие себе в глаз и вдавливала до тех пор, пока оно не уперлось во внутреннюю стенку черепа. После – медленно сползла по печке на пол. Труп ее дернулся несколько раз, грубо, неестественно, точно кто ее встряхивал, пытаясь разбудить. Застывший старухин взгляд обратился к Демьяну. И вдруг из мертвой глотки вырвалось нечто, похожее на гадливые смешки одной лишь утробы – точно говяжьи легкие смеются. Послышался голос, до боли знакомый: – Предназначенное расставанье обещает… – Заткнись! Заткнись, тварь! – рыкнул зна́ток, вывернулся из-под Аллочкиного трупа. Забрал у Максимки полотенце и вбил его бабе Нюре в самую глотку. Схватил с пола еще какую-то тряпку, потом еще и еще – и давай ими набивать старухину пасть, как карманы яблоками. Челюсть раскрылась на совсем уж противоестественный градус, на грани вывиха. – Дядька Демьян, ты чаго? – спросил мальчонка, наконец осмелившись. – Чаго? – обернулся Демьян, злой, взъерошенный. – Зачем ее… полотенцами? Она ж… ну, усе она. – В смысле? Ты не… – зна́ток продолжать не стал. Лишь обернулся вновь на старуху. Та была мертвее мертвого. Тряпки пропитались текущей из глазницы кровью. Второй глаз потерял всякое выражение, на него уселась муха и принялась ехидно потирать лапки – мол, ничего ты мне не сделаешь. – Она… – Вот! Принес! Полное ведерко! – радостно воскликнул кто-то за спиной. Потом Евгеша ойкнул, выронил ведро, бросился к измученному телу жены, обнял и завыл. Горько и безутешно. На дощатом полу колотили хвостиками, не желая умирать, бессчетные головастики.
Заложный
Мощные кроны едва защищали от палящего полуденного солнца: даже в самом дремучем буреломе приходилось постоянно щуриться и закрывать лицо ладонью. А в лесу во всю мощь царствовало лето – стрекотали кузнечики в траве, шмыгали под кустами обнаглевшие жирные зайцы, и бегали по деревьям белки, и повсюду жужжало неутомимое комарье – Демьяну и Максимке даже пришлось надеть накомарники, чтоб спасаться от кровососов. – А гэта белян-трава, – голосом школьного учителя рассказывал Демьян, показывая хлопцу пучок сорванной травки, – она табе и от морока спасет, и от сглаза… – Ну, а если мне, скажем, одноклассник чаго дрянного сказал, то морок буде? – зевая, спросил Максимка, но при этом честно старался разглядеть и запомнить белян-траву: остролистый кустик с локоть росточком с пожухшим от жары цветком. Зна́ток тебе не Анна Демидовна из школы, может и ухо выкрутить, и подзатыльником проучить. – Морока не будет, дурень, а сглаз может и быть. Коли твой одноклассник от души пакость ляпнет – так можешь и на гвоздь наступить, и захворать. Коли ненависть есть, злоба настоящая – тоды и сглаз получится, а то и чего похлеще. – А, ну да… – Максимка присмирел, задумался. Из-за произошедшего с Аллочкой, председательской женой, все Задорье вот уж неделю гудело, что твой улей. Первым делом прибежал Макар Саныч, народный депутат и зампредседателя. Поохав по-бабьи, вызвал из райцентра участкового и опергруппу. Те приехали аж часов через пять – когда трупы двух женщин уже сковало хваткой стылой смерти. Пока тела выносили, знатка допрашивали, усадив на тот самый злополучный топчан, где провела последние свои дни Аллочка. Председатель выл в сторонке, вгрызаясь зубами в испоганенные Аллочкиными выделениями простыни, – его позже забрали приехавшие санитары. Демьяна опрашивал оперативник, долго, упорно, записывая каждое слово в планшетку и косясь недоверчивым глазом. А тот все спрашивал: «Нешто, думаешь, брешу, а, повытчик?» Просидели до глубокой ночи – уже брезжил за полями рассвет. В конце концов с Демьяна Григорьевича Климова взяли подписку о невыезде. И то – по большому блату и личной просьбе участкового: мол, боевые заслуги, герой-партизан. Сам, поди, тоже понимал, чуть что – по больницам не наездишься. А так утащили бы в СИЗО в райцентре, и сидеть бы знатку в темнике. – Дядька Демьян, думаете, они на вас чаго грешат? – Да мне откуль то ведать, Максимка? Няхай там пишут свои писульки, мне оно по барабану. Я что бачил, то сказал. «Ага. Так они и поверили!» – подумал тогда Максимка. Старуха прокляла дочь, а опосля убила и себя, и ее. Даже в свои двенадцать лет Максимка понимал, что советским милиционерам в эпоху просвещенного атеизма такая отмазка что с гуся вода, а Демьян Рыгорычу вон вроде как и побоку вся ситуация. Идет себе, травинку жует. Они шагали дальше по тропинке в лесу. Стёжка была совсем старая и почти незаметная, заросшая – Максимка удивлялся, как зна́ток умудряется видеть лес будто насквозь, находить эти десятки тропок, человечьих и звериных, гулять по ним, словно по городскому проспекту. Тут любой лесник заблудится. – А это, глянь, вербена лимонная. У нее лекарских свойств нема, просто для чая добрая. Давай нарвем, я тебе сегодня вечером заварю… – Зна́ток опустился на колени сорвать растение. – Дядька Демьян, а что за Пекло такое? Широкая спина знатка содрогнулась. – А ты чегой-то спросил? – Ну вы тогда с Сухощавым говорили, и этот, шо у мене зубы забрал… – Зубы твои в закладе – вернем, а ты про то больше не поминай, а то яшчэ раз ухо выкручу! Понял, не? Или яшчэ хошь? – Понял, понял… – Максимка потер до сих пор ноющее ухо. Пальцы у знатка сильные, так схватится – хоть извертись, не отцепишься. Двинулись дальше по тропе. Лес начал редеть, вдали забрезжил выход на пашню. Демьян присел на завалившуюся сосну, запрокинул осточертевший накомарник, скрутил мастырку и закурил, пуская клубы душистого дыма из самосада. По дереву над головами вскарабкалась рыжая белка, сверкнула черными глазками. Пристально разглядывая мальчика, зна́ток вздохнул. – Ну давай еще пытай, чего хотел, дурень бедовый. Не люту́ю больше, слушаю. Учить тебя надо, молодь. Максимка задумался. Пока можно, надо спрашивать. А чего? В голове сотни вопросов, и все вроде бы важные. – Дадька Демьян, а что за Навь такая, о которой вы всю дорогу кажете? И Явь? – А, то просто совсем. Гляди, Явь – это мы, наш мир. Ты, я. Вокруг погляди – то все Явь. Все, шо видимо. – А Навь? – А Навь – то, шо невидимо. Всем, кроме нас с тобой, а мы с тобою, хлопчик, Навь как раз и видим. Вот оно как вышло. Дышла тока нема. Максимка еще раз задумался. Зна́ток, решив, что вопросов больше нет, тщательно затушил окурок и сложил в карман, объяснил: – Чтоб ничего не увязалось. Подхватил трость, поднялся-потянулся и побрел дальше. Максимка догнал его, спросил: – Дядька Демьян, а мне тута в школе казали, что скоро люди на Луну полетят! Правда иль нет? И чего они там увидят, на Луне? Зна́ток встал как вкопанный, пожевывая травинку. Сплюнул ее и сказал с удивлением: – Как чего? Чертей! Тут уже остановился Максимка: – Як чертей? Откуль черти-то? – Ну дык знамо… На Месяце-то черти живут. Оно вроде как солнце ихнее. На нашем солнце – анделы, на их – черти. Максимка так и остался стоять, переваривая услышанное: оно, конечно, зна́ток ему раньше не брехал, но черти? На Луне? Вспомнилось, как к ним в клуб приезжали с телескопом, чтобы, значит, ребятня могла на звезды посмотреть. Видел Максимка и Луну: щербатая, чуть желтая, как сыр. И никаких чертей. Хотя, кто знает, может, они там в кратерах прячутся? Как всякие шишиги и кикиморы в канавах да под корнями. Что же тогда будет с космонавтами? Максимка так зафантазировался, что потерял знатка из виду. Думал звать, да увидел просвет меж деревьями. Дернулся на свет и оказался на широкой, распаханной колесами тракторов просеке. Демьян стоял у самого края и нервно ковырял тростью землю. За просекой виднелось широкое поле, засаженное бульбой. Там копошились люди – рановато для сбора и поздно для посадки. Люди и одеты были странно – все как один в униформе, в перчатках, не похожи на колхозников. С другой стороны поля, где дорога, в дрожащем мареве поблескивали борта чьих-то незнакомых автомобилей и новенький трактор «Беларусь». – Это шо яшчэ такое… – нахмурился Демьян и быстро зашагал между гряд посаженного картофеля. Максимка поспешил следом. При взгляде на чужаков Максимка сразу понял – ученые! И явно городские, может, из самого Минска приехали. Есть пара знакомых колхозников, но остальные явно нездешние, человек десять. Безошибочно вычислив главного, Демьян уверенным шагом направился к нему. Интеллигентного вида мужчина лет шестидесяти задумчиво разглядывал откопанные клубни картофеля, непрестанно поправляя очки на носу. Рядом стоял колхозник, собутыльник Свирида, дядька Богдан – и что-то долдонил ученому на ухо, а тот кивал и все поправлял очки, будто боясь уронить с длинного носа. – Добрый день, – непривычно вежливо поздоровался Демьян. – Привет, Богдаша. – Здрассте, – отозвался Богдан, глянув на знатка с той смесью скрытой неприязни и подобострастной опаски, которую Максимка уже привык замечать у многих в Задорье. – Чего это вы пожаловали? – Да вот, гуляли, увидели… Думаем, шо это тут… Познакомишь? – А, простите! – встрепенулся ученый и протянул знатку руку. – Семен Григорьевич, агроном. Из НИИ картофелеводства Самохвалова мы. – Я тоже Рыгорыч, тольки Демьян. А по якому поводу гулянка? – Это колдун местный, Семен Рыгорыч, – влез Богдан. – Зна́ток. – А, колдун… – хохотнул городской агроном. – Колдунов нам только не хватало. Материализму учим! Коммунизм строим! А у вас тут колдуны разгуливают! Демьян воткнул клюку в землю и бросил на колхозника быстрый тяжелый взгляд. Тот едва не отшатнулся. Максимка вспомнил, как Богдаша со Свиридом, разговевшись, его на пару шпыняли для забавы. – Не колдун я, Семен Рыгорыч. Так, натуралист-естествоиспытатель. Я, можно так казать, тоже своего рода агроном. – Ну тогда, может, вы скажете, что у вас с урожаем происходит? – кивнул Семен Григорьевич себе под ноги. Демьян присел на корточки, вытащил клубень. Максимка углядел через плечо горсть каких-то пожухших, мятых картофельных клубней, поблескивающих от белесой слизи. Демьян сдавил один пальцем, и тот развалился, что твоя каша. – И так вся посадка! – с досадой воскликнул агроном. – А причины непонятны! Ни паразитов найти не можем, ни в почве ничего – уже несколько бактериологических проб взяли. Где ни копни – всю бульбу этой гадостью разъело. Уже думали химпроизводство в Селяничах остановить… – Ага-а… Ага, вот как… – пробормотал зна́ток, катая в пальцах комочки склизкого крахмала; понюхал, едва не лизнул. – Не полудница гэта… Не полевик, не луговик… А кто ты таков? – Чего он там? – спросил агроном недоуменно. Мальчик пожал плечами, а Богдан оттянул Семена Григорьевича за рукав и что-то горячо зашептал тому на ухо. Демьян поднялся на ноги, хорошенько отряхнул руки и вытер о штаны. Снял накомарник, сунул его за пояс и взялся крутить вторую за сегодня мастырку. Чертыхнулся, понюхав пальцы, и выкинул табак с бумагой вместе. Посмотрел на агронома с колхозником, отошедших в сторону, вопросительно глянул на Максимку, тот вновь пожал плечами. – В общем, тут такое дело… – сказал вернувшийся Семен Григорьевич. – Вы меня, как бишь вас… – Демьян Рыгорыч. – Вы меня, Демьян Рыгорыч, извините, но шли бы вы своей, так сказать, дорожкой. Здесь важная работа идет, а я как коммунист с попами, колдунами и прочими мракобесными элементами знаться не хочу. – Да как вам угодно, товарищ, – Максимка явственно услыхал, как зна́ток скрипнул зубами, глянув в сторону болтливого колхозника. – Один вопрос можно? – Не думаю. Идите. – Да не будь ты як пляткар, ты ж дорослый мужик! Не слухай сплетни эти деревенские, я знахарь, травки завариваю, скотину врачую. Нешто я на ведьмака похож? Скажи мне одно, агроном, и мы уйдем. Местность тут размывало подчас? Сель какая али шо? Агроном вопросительно поглядел на Богдана. Тот сплюнул, ответил нехотя: – Ну было дело, ручьем, мабыть, там края и подмыло. И шо? – Да ничего. Бывай, агроном. – Вам бы в медицинский! Профессию получили бы, людям помогали! – крикнул в спину Семен Григорьевич, на что Демьян пробурчал под нос что-то вроде «уж разбежался, тольки лапти зашнурую». Они обогнули все поле по кругу, миновали «Беларусь» с автомобилями (Максимка потрогал толстые шины трактора, за что получил по рукам от помрачневшего знатка) и подошли к ручью, действительно подъевшему растекшимися водами краешек поля. Вместо пологого берега теперь над водой нависал земляной обрыв, похожий на гигантскую пасть. Тут зна́ток прополоскал измазанные черноземом сапоги, помыл руки и задумчиво поглядел в воду, отражающую чистое синее небо с парой плывущих облаков. – Так, малой. Слухай сюды и все запоминай, уразумел? – Уразумел, дядька, – отрешенно кивнул Максимка, разглядывая лес и текущую из него воду – словно кран прорвало. Все вдруг стало каким-то зловещим, хоть и день на дворе. Вроде и бор такой же – стволы, веточки, листочки; солнышко светит, водица течет – вяло так, будто бочка протекла; но отчего-то волоски у Максимки на шее стали дыбом. Спустя секунду до него дошло – тихо-то как! Не гудела вездесущая мошкара, не звенел комариный писк, молчали в ветвях птицы, и даже ручей тек бесшумно – будто звук уходил в землю. – Шо, почуял, да? Так вот, слухай. Хотя… Я табе на бумажке запишу, все шоб наизусть заучил, как Лукоморье, дуб зеленый. Ладно… В землю черную кинуто, до семи дней все пахано, да семью днями взрощено, то колосинкой взошло, да сытостью пошло, иже кормлен тем плодом и колосом… Зна́ток говорил еще много и долго, певуче, как певичка Лариска из Дома культуры в райцентре. Некоторые слова он растягивал, а другие, наоборот, – обрубал, будто по-немецки. За все время зна́ток не бросил ни взгляда в сторону чащи, все смотрел в воду, рисуя на ней что-то концом трости и продолжая свой заговор. А Максимка глянул в лес и ахнул. Зловещий до того, он стал теперь темным и дремучим, кроны деревьев набрякли тяжелыми ветвями и надвинулись на растекшийся ручей, отбрасывая хищные, крючковатые тени на лица. Меж стволами сосен и елей дохнуло холодом. Солнце потускнело, свет его стал не ярко-желтым, а белым – как лампа у стоматолога. Заныли зубы. Тут деревья раздвинулись, в чаще леса прорезалась узкая тропка, и Максимка увидал, как по ней медленно и будто бы даже боязливо спускается сухонький, поросший рыжей шерстью уродец, похожий на обезьянку. Разве что морда у него была такая, что не дай бог во сне привидится – точно кто голову человечью просолил и на солнце оставил, как воблу: запавшие глазки, потрескавшаяся кожа, мелкие зубки, торчащие из-под стянутых зноем губ. Максимка вздрогнул, но с места не двинулся – знал, что, коли Демьян не велит, стой да жди. Обезьяноподобное существо подобралось к самому краю обрыва, вскрикнуло – совсем как зверек – и извлекло из рыжей шевелюры какую-то жердь, стукнуло ею по земле. Демьян предупредительно взялся за клюку. – У мене тоже, вишь, посох есть, зна́ток, – скрипнуло создание – вблизи маленькое, не больше ребенка. – Ща как дам! – Давай-ка без шуток, палявик. Я к тебе с добром. – Ага, вы, люди, к нам тока с добром и ходите! Вона усе поле мне перерыли! – Полевик махнул посохом в сторону виднеющихся вдалеке фигур агрономов. Зна́ток хитро сощурился. – Так а ты чаго в лесе забыл, а? Ты ж не леший якой. – А я гэта… А я у лешего в гостях, зразумел, да? – На кой ему такие гости сдались? Темнишь ты, полевой. Чаго брешешь-то? Излагай як есть, я с добром пришел, говорю же, – и Демьян выложил из карманов табак, бумагу для самокруток, спички. – Слышь, хлопчик, есть чего в карманах? Максимка высыпал на плоский большой камень свои богатства – игрушку-калейдоскоп из дома, карандаш, горсть семечек. Полевик навис над камнем; быстрым, юрким движением схватил игрушку и вернулся на свой насест на обрыве – точь-в-точь обезьянка из мультика, совсем даже не страшная. Поглядев в калейдоскоп, полевик крякнул от удовольствия: – Эк диво якое… Лады, беру. И табак твой беру. Кажи, чаго хотел. – Это ты мне говори, какого беса ты в лесу забыл. – Та неуютно мине там… – А чаго урожай бросил? Полевик почесал в затылке, поправил бороду и горестно рассмотрел подарки. Наконец решился сказать: – Да там энтот… Немец. – Якой немец? – Глаза Демьяна тут же превратились в щелки, зубы сомкнулись. – Ну немец. Забили его тады, на войне. Там и ляжить. – И шо? Их много где лежит, да не одни, а с компанией. – Дык и я так бачил, не чапал он мине, спал себе и спал. Дремал, не тревожил. А ща вона як, ручей разлился, немец прачнулся. И давай буянить, фриц клятый. Всю бульбу сапсавал, трошки усе забирал, мине выгнал. Слышь, зна́ток, так ты, может, того, поможешь мине чем? – воодушевился полевик, широко раскрыв такие же странные глаза с оранжевыми зрачками. – Не могу я поле свое кинуть. – Табак забирай, а игрушку вертай обратно хлопцу. Помогу, мабыть, чем смогу. Полевик с неохотой протянул калейдоскоп обратно, но не удержался и глянул разок в окошко – аж припискнул от удовольствия. После такого принять игрушку обратно Максимка не смог. – Забирай. Подарок! Полевик недоверчиво взглянул сначала на Максимку, потом на калейдоскоп, после уставился на Демьяна; в оранжевых угольках глаз застыл вопрос: «Можно?» Зна́ток пожал плечами. Полевик было дернулся прочь, когда его догнал зычный окрик: – Должен будешь! Зразумел? Не мне, а ему! Существо кивнуло, а зна́ток посмотрел на Максимку как-то по-новому; мелькнуло в насмешливо-снисходительном взгляде что-то похожее на уважение.
– Неужто заложный? – пробормотал Демьян по дороге домой. Максимка навострил уши. – А заложный – гэта кто, дядька? – Мертвец неупокоенный, – кратко ответил зна́ток. Во дворе Максимка потрепал по холке Полкана – тот, попривыкнув к мальчику, стал ласковым, что кутенок. Вошли в дом. От стука двери суседко укатил за печку, но Максимка успел краем глаза заметить безрукую и безногую тень, круглую, что колобок. Он до сих пор, бывало, ночевал на груди у Максимки, но теперь ощущался не как гирька, а скорее как котенок. Разве что глаза лучше резко не открывать, а то потом долго не уснешь. Зна́ток расстелил кровать и Максимкино лежбище на печке, бросил: – Ща спать, без споров. В полночь обратно идем. Як раз луна на убыль пошла, сёдня, значит. Попозжа усе скажу. Максимка улегся на печку, долго ворочался под храп Демьяна. Тот уснул сразу, стоило прислонить голову к подушке – партизанская привычка. Максимка же вертелся, слушал, как суседко катается по углам. Наконец прикемарил. Ему вновь приснился тот же сон, что он теперь видел постоянно, – нелегкая, но зато короткая жизнь, кабаки и «малины», зоны и пересылки, а еще блестящая заточка где-то далеко, в Магадане, которая втыкается ему в глотку. Течет кровь, торчит наружу сизая трахея, которую он пытается зажать, недоуменно вращая глазами… Бай рассказал ему во сне много всякого. Так рассказал, что не забудешь. – Максимка, вставай! – В избе было темно, Демьян тряс его за плечо. – Идти нам треба. Мальчик, зевая, слез с печки. Демьян уже заварил чая на керосинке, соорудил пару бутербродов с кровяной колбасой – гостинец за возвращенную из лесу корову. Снаружи темень хоть глаз выколи. Рассыпанное стекло Млечного Пути скрылось за взбухшими, будто шматы плесени, облаками. – Польет скоро… К утру, мабыть. В общем, слухай внимательно, – говорил Демьян, шамкая с полным ртом. – Мертвец заложный – не шутки. Я б тебя брать не стал, но вучить треба, да и помощь сгодится. Коли гэта мертвец и впрямь… – Дядька, а шо за нябожчик такой, чем он от обычного мертвяка отличается? – Паскудь и нежить уся, даже коли не зусим разумна, себя осознает. Кто-то як звери, кто-то почти как люди – одних шугануть можно, с кем и договориться полюбовно. Со всеми можно уговор свой иметь. Гэты же… Гэта зло, Максимка. Немыслящее, слепое. Не понимает оно, шо померло уже, вот и гадит. Опойца в землю зарытый засуху вызывает – воду из земли сосет. Самогубец шептать будет, усе деревья в округе виселицами станут. А насильник… Но гэта рано тебе пока. Все заложный себя поганит, потому как ни жив ни мертв, а лежит в земле и злится, и с ума сходит. Чем дальше – тем хужее. А тем паче немец он, ненавидит он нас. Потому поле и портит, а потом, как в силу войдет, припрется сюда, в Задорье, или в соседний колхоз. В колодезь залезет, перетравит всех к чертовой матери. Или скотину давить начнет. А может и хату спалить – шибко немец это дело любил. Так шо потребно нам его упокоить зараз, покудова он ходить не начал. Посидели молча, жуя бутерброды и прихлебывая чай. – Эх, думал, скончились вороги на родной земле, а они, бач, як грыбы пасля дождю. Скольки ж я их перебил… Ладно, збирай лопату. – А на кой лопату? – Откопать его треба. Вооружившись шанцевым инструментом, они отправились в сторону оскверненного поля. Ночь тихая и безветренная, облака нависли над деревней, готовые обрушиться оглушающим потоком. Тишина была звенящая, натянутая как струна. – В карманах есть что железное? – спросил Демьян. – Не-а… – На, возьми, – зна́ток высыпал ему в жменю горсть болтов да гаек. – Запомни – всегда носи с собой железо. И соль. И ладанку трымай, на грудь повесь. Запомни: морочить будет – не дергайся. Слабый он яшчэ, тольки кошмарить и умеет. Надобно его до первых петухов продержать, не дать в могилу вернуться. Днем-то он силу и растеряет. – А чего ж мы его сразу днем не выкопали? – удивился Максимка. – Шоб тот же агроном тебя потом особистам сдал как вредителя? Наше ремесло, брат, оно такое, не всем знать надобно, что там да почему – ни пса не поймут, только бед наживешь. Рассовав по карманам болты в пригоршне соли и повесив на шею шнурочек с терпко пахнущей ладанкой, Максимка ощутил себя персонажем гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Спросил у Демьяна, читал ли тот, но зна́ток был слишком погружен в размышления. Раскинувшееся за лесом поле казалось призрачным – перекопанные агрономами гряды вздыбились, как после немецкой бомбардировки, а чахлые кустики походили на несчастных, вкопанных по пояс привидений. Из лесу гулко ухала сова, и чаща казалась сплошной темной пустотой, сомкнувшей деревья так плотно, что там ни зги не видно. Дошли почти до самого ручья. – Здесь полевик сказал копать… – А як откопаем – шо потом? – Перенесем, вестимо. В овраг куда-нибудь, а лучше на перекресток, шоб дорогу не нашел. Домовину бы, конечно, для ирода соорудить, но придется так… Зна́ток поплевал на руки, отыскал мох на дереве, повернулся лицом на восток и взялся копать. Максимка помогал как мог – оттаскивал камни, рубил корни; крепкий Демьян за несколько минут ушел в землю, что крот. Вот вроде в деревне на людях хромает, на клюку опирается, а в самом силы хоть отбавляй. И не такой уж он старый, со Свиридом одного возраста. «Борода только все портит», – думал Максимка, заодно представляя, как было бы хорошо, будь Демьян его батькой. Чернозем копать оказалось легко, но вскоре началась глинистая почва. Лопата увязала в ней, скользила, будто вырываясь из рук. Заметив это, зна́ток азартно крикнул: – Копай-копай! Не хочет он, шоб мы евонную могилу ворошили. Копай, не спыняйся! Максимка продолжил, чувствуя, как пот катится по спине, пропитывая рубаху. Руки уже болели, на ладонях наметились волдыри, да и лопата и впрямь будто взбесилась, рвалась из скользких пальцев. Но тут под штыком что-то показалось в лунном свете, ярко вспыхнуло серебром. – Дядька!.. – Шо такое? О! Здесь он, да! – Демьян присел на корточки в яме, разглядывая находку. А это была фляжка, круглая и красивая, только чуть ржавая и потемневшая от времени. Когда Демьян счистил с нее землю, Максимка увидел выбитую сбоку свастику и надпись: Gott mit uns. Демьян при виде добычи грязно выругался, Максимка аж рот раскрыл – даже от Свирида он таких слов не слыхал. Тут же со стороны леса донесся странный рокот. Максимка навострил уши и выбрался из раскопанной ямы, оглядел темную чащу. – Что там? – без интереса спросил Демьян, вертя в руках фляжку покойника. – Да будто слышал что-то… Нияк, гром. О, опять! По сумрачному полю вновь разнесся этот звук. Максимке он напомнил некую мелодию, пока нескладную и тихую, но все нарастающую. Ему показалось, что в мелодии он может различить человеческие голоса, говорящие на непонятном языке. Хотя не, почему непонятном? Он же учил в школе немецкий. Вот «солдаты», вот «шагают»… То ли Анна Демидовна хорошо учила, то ли были у него способности к языкам, но Максимка быстро понял, что раздается из леса: немецкий военный марш. Гулкий, ритмичный и жуткий до оторопи, он набирал силу на припеве: – Ли-и-иза-ли-и-иза… Демьян вылез наружу, отряхивая руки. С ненавистью поглядел в ту сторону, откуда доносилась музыка. – Чертовщина… Марш набирал силу быстро, стал таким громким, что его, поди, было слышно и в деревне. Деревья на опушке зашевелились, там промелькнули блики фонарей, и явственно залаяла овчарка. Почему-то Максимка был уверен, что это именно овчарка. Раздался рев мотоциклетных моторов, чьи-то отрывистые грубые окрики. Демьян пригнулся, уставившись туда широко раскрытыми, неверящими глазами. – Да не може быть такого… – Дядька, шо гэта там? – Немцы! Опять немцы! – заорал Демьян и схватил Максимку за шиворот, потащил за собой. – Беги, дурань малолетний! Война началась! Они побежали, побросав лопаты; зна́ток только и успел, что клюку схватить. Ноги увязали в земле, а громкая музыка за спиной подстегивала, заставляла бежать быстрее через поле к противоположной лесной опушке. А затем Максимка услыхал тонкий свист, такой пронзительный, что уши заложило, и совсем рядом что-то гулко ударило в землю. На голову посыпались комья развороченной земли. – Бомбы! – орал Демьян. – Бомбы скидывают! Знов война! И снова свист, и повторный взрыв, от которого уши заложило уже так, что Максимка на бегу начал колотить ладонью по уху. По шее стекала кровь. Они вбежали в лес, Демьян поскользнулся, упав на зад, и с непривычными интонациями, по-бабьи стал причитать: – Война! Война! Снова война! – Дядька, да якая война, ты глянь: пусто же там! Демьян удивленно уставился на пустырь. А там не было ничего – ни звуков немецкого марша, ни света фонарей, ни развороченных от взрывов воронок в земле. Максимка похлопал по ушам: их прочистило, будто и не заложило минуту назад от разрывов падающих бомб. – А… – смущенно промолвил зна́ток. – Морочит нас немчура, значить. Он пожевал губами, вытащил из кармана заранее заготовленную мастырку и пробормотал, прислонясь к дереву: – Ни свечей, ни темной ткани нема. Но зараз заговор прочту, нож закопаю,глядишь, и отвяжется. – Дядька Демьян, так нас призрак морочит? – Нету призраков, не бывает! А ты слушай мине уважливо. Заложный мертвец – зло! Глядеть на него нельзя, уразумел? Максимка кивнул. – Размовлять с ним нельзя. Коли чаго предложит – не бери. На уговор идти нельзя. Вообще ничего нельзя, разумеешь? И пальцами чапать не смей! Только через рогожу. Гэта зло, а зло надобно изничтожить. И никаких переговоров с фашистами! Максимка вновь махнул головой, а потом услышал плач из леса. Тонкий, но смутно знакомый. Потряс головой, думая, что у него опять что-то со слухом. – Ты ща стой и не мешай, пока я заговор читать буду. И запоминай все! Демьян раскопал руками ямку в земле, достал из кармана старый сточенный кухонный нож. Принялся что-то бормотать, делая пассы ладонями над землей. А Максимка оглянулся на настойчивый плач, ставший еще более заунывным и громким. Что это? Плач раздавался совсем неподалеку, буквально за тем кустом. Мальчик сделал шаг, еще один, заглянул за куст. Нет, чуть дальше. Он раздвинул руками лапы ельника, шагнул на тропку, ведущую вглубь леса. Остановился на секунду, слушая шепот Демьяна за спиной. А плач усиливался, раздались крики – жалобные и такие знакомые. – Максимка!.. – Мамка? Мамка, гэта ты? Он рванулся по тропе, побежал сквозь густую траву, спотыкаясь и едва видя что-то перед собой в глухой чащобе. Максимка бежал, надеясь, что не провалится ногой в какую-нибудь рытвину. А плач все усиливался. – Максимушка, помоги мне, где ты? Он выскочил на поляну, освещенную каким-то желтым чахоточным светом – будто фарами автомобиля. Посреди поляны торчала избушка, старая и покрытая мхом, с завалившейся набок трубой. Максимка оглянулся в сторону раздающихся криков и увидел, как на поляну входят, не обращая на него никакого внимания, немцы. Блестящие начищенные сапоги с грубыми носами, хлопающие польты – как крылья летучих мышей, паук свастики обвивал их плечи. Главный немец, в фуражке и с погонами, напоминал внешне Свирида. Он толкал перед собой мать Максимки, раздетую и избитую до крови, и злобно покрикивал: – Schneller! Los, ihr, Untermenschen! [118] Мать оглянулась, увидела Максимку и вновь закричала: – Максимка, сынок, помоги мне! А он встал как вкопанный и мог лишь молча наблюдать, как немцы втолкнули его мамку внутрь избы. Она было дернулась наружу, но солдаты подняли автоматы. Офицер, похожий на Свирида, закрыл за ней дверь избы, припер ее тяжелым чурбаком и каркнул:

– Anmachen! [119] Один из солдат, с тяжелым ранцем огнемета за спиной, поднял раструб оружия и с громким щелчком что-то нажал. Максимка явственно запомнил этот холодный щелчок и последовавший за ним истошный крик мамки. Из раструба, похожего на пожарный брандспойт, вырвалась длинная струя пламени, ярко осветившая всю поляну, и ударилась о стену избы. Та мгновенно занялась огнем. Пламя соскочило со стены на траву, охватило крышу домишки, покрытую зеленым мхом; окна со звоном лопнули, и через одно из них наружу полезло охваченное огнем существо, визжащее от боли, кричащее без остановки: – Максимка! Максимка, сынок, помоги! Под довольный хохот немцев Максимка наконец бросился к избе.

Демьян закончил свой заговор, неуверенный, что тот вообще подействует без свечей и ткани. Он забросал нож, которым обычно срезал грибы, землей и сидел в ожидании результата. Закурил, втянул с удовольствием душистый дым самосада, устало приземлился на траву. Потер занывшую вдруг култышку на месте безымянного пальца – вспомнились фронтовые байки про фантомные боли. И лишь тогда понял, что ученика рядом нет.

– Максимка! Хлопчик, ты где? В ответ из непроницаемо темной чащобы недовольно ухнула сова. Он тяжело поднялся на ноги, выбросил самокрутку. Захомутал-таки заложный Максимку. И где его теперь шукать? Демьян рванулся сквозь лес, раздвигая ветви лапника, стараясь бежать по тропе и разглядеть следы, оставленные мальчиком. Вот ветка сломанная, вот шишка раздавленная. Близко он, близко! Со стороны поля опять раздался громкий звук марша, на этот раз «Эрика» – его он не раз слышал, будучи партизаном – любила немчура под музыку позверствовать. Демьян потряс головой, твердя себе – это все морок, морок, это все ненастоящее. Зна́ток предполагал, что мертвец будет его морочить, но одно дело понимать разумом, а совсем другое – сердцем. Вблизи раздался звук проезжающего мимо «Айнхайтса» – рев этого мотора он бы узнал из тысячи. Демьян припал на колени, пошарил в поисках оружия. У него была одна лишь клюка. И то хлеб. Хлопнула дверь автомобиля (какие автомобили вообще ездят по глухому лесу?), и чужой голос властно произнес по-немецки: – Haben gerade noch einen Jungen getroffen.[120] – Ja, man sieht – er liebt seine Mutti [121],– ответил ему другой голос. – Na dann – selberschuld.[122] Демьян скрипнул зубами, удобнее перехватив клюку. Судя по всему, немцы были совсем рядом – рукой дотянуться. Один из фрицев пристроился к кусту – видимо, помочиться. Зажурчала струя. Ну, немчура, держись. Демьян хотел было выскочить и врезать клюкой тому, что поближе, но в последний миг передумал: толку морок палкой колотить? А вот на Максимку могли вывести. Он сидел тихо, стараясь не выдать своего присутствия – как-то сами собой вспомнились все партизанские навыки, все те дни, проведенные в лесу, когда он, будучи мальчишкой на пару лет старше Максимки, воевал с фашистами. Немец наконец закончил свое грязное дело, отошел, вновь хлопнул дверью и отдал приказ второму (наверное, водителю). Машина затарахтела, тронулась по лесу, непонятно как виляя среди стволов деревьев, расстояние между которыми не превышало трех шагов. Демьян шагал следом, стараясь держаться в кустах. Он видел автомобиль, разгоняющий фарами темень, – тупоносый немецкий «Айнхайтс», отличный внедорожник. «Маета гэта усе, – уговаривал себя зна́ток. – Не може так „Айнхайтс“ по лесу ездить». Но не отпускало жуткое ощущение, что все взаправду, что война не кончилась, а все остальное ему лишь привиделось – и Купава, предложившая немыслимое ради Победы, и заколотый штык-ножом оберст, и сама она – Великая Победа, за которую он каждое Девятое мая выпивал пару рюмок водки… А была ли она, Победа?.. Можно ли вообще победить их, сжигающих заживо целые деревни, разбивающих черепа младенцев, насилующих молодых девок? Ощеривших острые зубья штыков, украшенных свастикой? Как победить зубастый механизм с мотострелковыми батальонами, с воющими над головой самолетами, вооруженными до зубов веселыми солдатами, похожими на явившихся из Пекла бесов? Была ли Победа? «Да як, як можно победить самого Сатанаила?» – вспомнились ему его же собственные слова. «Айнхайтс» взрыкнул двигателем и остановился. Демьян увидел залитую светом поляну: света было так много, будто над головой сияло солнце или горели прожекторы. Посреди поляны был вырыт глубокий ров. В него вереницей спускались люди, много людей – все грязные, без одежды. Если кто-то поскальзывался на глине, его поддерживали другие. И стар, и млад – не виднелось ни единого мужчины, одни женщины, старики и дети. – Постойте! – воскликнул Демьян, но на него никто не обратил внимания. – Пачакайте, братцы! Вы чаго творите? Вы куды? А они продолжали спускаться. Когда один крепкий еще старик заартачился, его саданул прикладом по лицу фашист, стоявший у края рва (только сейчас Демьян обратил внимание на фрицев, окруживших ров). Старик упал прямо на груду людей, те зашевелились, не отталкивая его, а наоборот – впуская в свои объятия, пускай и оголенные, но не униженные, не раздавленные, просто молча принимающие надвигающуюся смерть. Дети вопили пуще всех, а голые матери пытались их успокоить, закрывали ладонями глаза. От детского воя трепетали листья в лесу, но птицы молчали, лишь нетерпеливо перебирали лапками по ветке вороны – так много, что деревья казались черными. Из «Айнхайтса» вышел офицер в черной приталенной форме и кожаном плаще, рослый и белобрысый. На плечах погоны гауптмана. Он зыркнул из-под фуражки, украшенной орлом, и коротко скомандовал: – Zugig-zugig! Söldner! Bereit halten! [123] Безликие солдаты, черт которых Демьян не мог различить, вскинули оружие. Их каски ярко блестели в нездешнем свете, и лица немцев казались бесстрастными алебастровыми масками. За спиной командира Демьян увидел другого, молоденького унтер-офицера. Тот дрожал, глядя широко раскрытыми глазами на людей в яме; прошептал что-то белобрысому на ухо, тот отмахнулся. Унтер повысил голос: – Herr Hauptmann, das sind doch Zivilisten! Was tun wir? Wir gehen vor Gericht! [124] – Lesen Sie noch einmal die Erlass über Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet «Barbarossa», Untersturmführer Hirschbeck! Diese Zivilisten helfen den Partisanen, wir haben jedes Recht darauf. Also jetzt keine Angst vor dem Militärgericht! [125] – Aber was ist mit dem obersten Gericht, herr Hauptsturmführer? [126] – унтер кивнул подбородком вверх, в небо. – Gilt es dort auch eine Kriegsgerichtsbarkeitserlass? [127] Гауптман оттолкнул унтера, подошел ближе к краю ямы и зычно скомандовал солдатам: – Feuer! [128] Застрекотали «шмайссеры». Люди повалились друг на друга, как тряпичные куклы; те, кому повезло не попасть сразу под пули, пытались укрыться под телами сыновей, матерей, жен и отцов. Пули пронзали тела людей насквозь, кто-то тщился отползти; солдаты подскакивали к ним и добивали короткими очередями сверху, наклонив автоматы. Если один из несчастных продолжал дергаться, офицер метким выстрелом добивал его из пистолета в голову. Несколько человек, отчаявшись, дернулись к краю. Демьян увидел Максимку – пацан карабкался по телам, разинув рот, и порывался проникнуть в брешь между двумя солдатами. Тут один из фрицев обернулся, заметил ребятенка и нажал на спуск: голова хлопца взорвалась кусочками мозгов и черепа; на рубашку Демьяна попало несколько окровавленных зубов.

Он завыл, бросился на автоматчика, но промахнулся и сам скатился в яму, съехал вниз, в барахтающееся, умирающее безумие. Его били по бокам, врезали больно прямо в лоб. Кто-то молился, шептал на ухо; со всех сторон жадно дышали и хрипели умирающие, а знакомый голос Надюхи звал по имени Максимку. Кровь лила отовсюду, пачкала руки, лицо, одежду; люди выли в унисон под аккомпанемент раздающихся над головой выстрелов. Офицер поймал его взгляд, скривился в уродливой, нечеловеческой ухмылке – кожа поползла на подбородок, открывая зубья, бесконечные ряды зубьев в темном провале неровной пасти. Рука в перчатке вскинулась; дуло пистолета уставилось знатку в лоб. Но тут что-то произошло. Демьян увидел возникшего за спиной гауптмана молодого унтер-офицера: тот вскинул автомат и нажал на спуск. Череп офицера разлетелся кровавыми брызгами; унтер повел стволом влево, в сторону солдат, и начал косить их очередью. Оставшиеся в живых люди в яме закричали громче, увидев надежду на спасение, полезли наверх. Но в сторону дезертира, будто пули, сорвались с поводков несколько овчарок: унтеру пришлось отступать в лес. Патроны «шмайссера» косили сослуживцев, те яростно отстреливались; стрекотал пулемет. С досадой Демьян глядел, как парнишка-унтер повернулся и пробежал мимо деревьев, в сторону поля – спасать собственную жизнь. «Через лес трэба было, а тут ты як мишень!» – подумал отстраненно зна́ток. Далеко он не убежал – чей-то меткий выстрел сбил с головы унтера фуражку, и его фигурка потонула в бурьяне. Немцы отряхивались, приходили в себя; массовая казнь возвращалась на свои окровавленные рельсы. Солдаты отделяли раненых от выживших, гортанно с досадой покрикивали. Теперь подстреленных деревенских добивали с удвоенным усердием – вымещали злобу. Погребенный под телами своих односельчан – мертвых и умирающих, сжатый со всех сторон, Демьян не смог даже повернуть голову, когда солдатик – безусый, с пушком на верхней губе, деловито замахнулся прикладом. Оглушительный грохот врезался точнехонько в висок; тьма ослепила Демьяна, звук удара превратил прочие звуки в натужный комариный писк. И все пропало. Застонав, Демьян поднялся на ноги и понял, что стоит совершенно один посреди ночного леса, по самую шею в глубоком овраге. Все исчезло – и яма, наполненная казненными, и свет прожектора-солнца, и немцы с оружием. Морок развеялся, забросив Демьяна в какую-то глухомань – подальше от цели, подальше от Максимки. Ладанка на груди порвалась, из нее струйкой сыпался заговоренный песок, смешанный с солью. Клюка лежала под ногами, на рукояти появилась глубокая зарубка – видать, обо что-то он ею все же саданул. Он мало что помнил, только вопли, стоны, распахнутые в ужасе рты. И молоденького унтер-офицера, попытавшегося остановить злодейство. Держась за голову, Демьян выбрался из оврага и побрел по заброшенной вёске куда-то вглубь леса.
Максимку он нашел спустя несколько минут. Мальчишка сидел у ствола старой осины, плакал навзрыд и корябал пальцами ее белесую кору. Видать, он этим долго занимался – вон, все ногти обкорнал до крови, а кора разодрана в лохмотья. – Мамка! Мамка… – ныл Максимка, как малое дитя. – Ну-ка, ну-ка… – Зна́ток убрал его окровавленные пальцы от несчастного дерева. – Мамка, не помирай! Я тебя люблю, мамка, не надо! Ну будь ласка, мама! Хошь, я домой вернуся, только не помирай, мама! Демьян обхватил ладонями его русую голову, взлохматил сильнее непокорные вихры. Уткнулся носом в макушку. – Ты чаго, хлопчик? Ну ты чаго, а? Увидал там чего-то, да? Максимка всхлипнул и поднял глаза. В его взгляде появилась некоторая осмысленность. – Дядька Демьян? А як же?.. Як же все оно? Я тута бачил… – Морок гэта, Максимка. Не палохайся, хлопче, ты чаго, родной?.. Ну ты што, не плачь, сына.

Максимка всхлипнул в его плечо, а потом заревел с удвоенной силой, схватился пальцами за воротник рубахи. – Дядька, я такое видел! Мамку! Ее в хату запихнули и… и… – Сожгли, да? – спросил Демьян, заскрипев зубами от злости. – Сожгли… А вы откуль знаете? – А я, Максимка, от этих тварей и не такого навидался. Я от них горя стока увидал, что тебе и не снилося. А хошь я тебе сказку расскажу, хлопче? Про Аленку-девчушку, а? Или про стрельца и рыбака. Я сказок много знаю, у мине работа такая. – Да не надо мне сказку, дядька, – ответил Максимка, утирая слезы. – Не малыш ужо. Так шо, это нам немец голову морочит? – Ага, он, фриц клятый. Помер, в землю улегся, да все угомониться не может. В лесу раздался шорох, залаяли собаки; меж деревьями заметались лучи фонарей. Демьян прижал голову мальчика к своему плечу, зашептал: – Тише, тише, не гляди туды. На поляну вышел первый гитлеровец, высокий, плечистый фашист в кожаном плаще, за спиной болталась винтовка. Он наклонил голову, и под каской зна́ток увидал оскаленный череп с лохмотьями высохшей кожи – изъеденные червями губы, выеденные кротами глазницы, зубастую пасть, черный язык, выпавший наружу, как змеиный хвост. Следом за ним на поляну выползали другие упыри, хрустя негнущимися суставами. Некоторые из них держали на поводках таких же полусгнивших, рвущихся вперед овчарок – из-под торчащих ребер по земле волочились белые, обескровленные кишки. – Тш-ш, не смотри, – сказал зна́ток Максимке, перехватывая крепче клюку. – Хозяюшка Смертушка, отвяжи, отлепи, отвяжи мертвячину от мине, тута оставь, за мной не пущай… – бормотал он, зная, что на такую ерундовину фриц не купится. Чай заложный – не какой-нибудь заплутавший паскудник. Демьян поднялся на ноги. Максимка так и сидел, уставившись в землю, не в силах обернуться и посмотреть, что творится у него за спиной. Мальчонка весь дрожал от ужаса. – Ну! Чаго гляделки пыришь? – прикрикнул Демьян на скелета с винтовкой. – Хошь, по мордам дам, а? Палку видал? Знашь, сколько я вашему брату черепов ею проломил, знашь, нет? И каска не спасла. Все обратно ляжете, як миленькие. Мертвец в немецкой форме молча скалился на него. И остальные тоже – обступили поляну кругом, вскинули фальшивые автоматы. Десяток жутких фигур, сгнивших, ненастоящих, вымороченных, с поблекшими знаками различия на форме. Но они все нереальны, цирк шапито на выезде. А где ж сам главный фриц? Где заложный? Уже знакомый Демьяну унтер-офицер неслышно вышел из-за деревьев, словно бы материализовался из ниоткуда на поляне. Белобрысый и бледный до синевы, с зачесанными назад волосами – так, чтобы не видно было жуткую рану на макушке от осколка или пули, когда-то разворотившей половину черепа. Тот самый дезертир. Офицер сказал, шамкая и с трудом произнося слова на русском: – Ихь бин унтерштурмфюрер Пауль Хиршбек. Вы шпрехен… Что я есть… лиген земля? Когда он говорил, изо рта у него валились комками извивающиеся белые опарыши. Офицер смахивал их тыльной стороной ладони. – А ща узнаешь, немчура поганая! Демьян бросился вперед и замахнулся для удара клюкой. Немец отвел плечо на какой-то сантиметр, и зна́ток ухнул вперед. Чиркнуло по плечу лезвие наградного кортика. Не плотью, памятью, Демьян почувствовал гравировку: «Моя честь – верность». Рванулся к противнику с новой силой, но в локоть с утробным рычанием вцепилась пасть дохлой овчарки. Пахну́ло гнилью. Крови не было, лишь холод разлился вверх по плечу, норовя добраться до сердца. – Врешь, не возьмешь! – взрыкнул Демьян, перехватил клюку левой и размозжил череп проклятой шавки надвое; рукоять покрыл слой раскисших мозгов. Новый рывок к унтеру дался нелегко – упыри так и норовили насадить на штыки. Немец смиренно ждал, подготовив оружие к бою. Но – в последний момент отшатнулся прочь, а потом под ногами затрещало, оглушительно взорвалось, и знатка отшвырнуло назад, как кутенка. Он врезался плечом в ствол дерева, из легких вышибло воздух. Со всхлипом он сполз на землю, ничего не видя и не слыша, ощущая только давно забытый и режущий ноздри запах пороха. Шашку динамитную взорвал?.. Так, в беспамятстве, он пролежал не то несколько секунд, не то целый час. Когда пелена перед глазами спала, а гул в голове развеялся, зна́ток пошарил рукой в поисках верной клюки – ее не было. Он с трудом поднялся на ноги, кряхтя от боли, и огляделся. Клюку держал в руках немец, сидящий на бревне. Он задумчиво разглядывал узоры на дереве, водил по ним пальцами. Его приспешников поблизости не оказалось, солдаты с собаками исчезли. В сером мареве грядущего рассвета виднелась лишь щуплая мальчишеская фигурка – бок о бок с силуэтом мертвеца. С похолодевшим сердцем Демьян услышал Максимкин голос: – Sie sind damals im Krieg gestorben. Und das Krieg ist vorbei. In neunzehnhundertfünfundvierzig.[129] – Welches Jahr ist es? [130] – Шестьдесят пятый, герр Пауль. Фюнф унд э-э-э зэхцигь, – прилежно отвечал Максимка. – Sie wollen mich töten? Und Onkel Demyan? [131] Мертвец грустно покачал головой, надел на голову фуражку. Посмотрел на мальчика горящими – как у пса в темной будке – глазами. – Nein. Ich bin ein Söldner, kein Henker. Mein Volk hat schon genug getan. Und wir werden alle dafür in Hölle landen. Mein Sohn… der war so alt, wie du. Meine Frau… Elise! Meine liebe Elise! [132] Демьяну показалось, что фриц заплакал. Зна́ток медленно подкрадывался, думая, как бы выхватить у немца клюку. Надо подобраться похитрее – быстрый же, что твоя вошь. – Максимка! – шикнул зна́ток из-за дерева. – Псст, хлопчик! Максимка обернулся и едва заметно мотнул головой – не надо, мол. В руках у него зна́ток разглядел пучок травы. – Meine Liebe… Ich hab ein Brief geschrieben – an meine Frau und an meinen Sohn. Hab aber zu Ende nicht geschafft. Kannst du es für mich fertig machen? Erzählen, wer ich wirklich war. Es liegt an meinem Körper. Schicke es nach Deutschland, Leipzig, an die Familie Hirschbeck.[133] И протянул бледную руку. Максимка ее нерешительно пожал. Демьян не верил своим ушам. Мальчишка о чем-то договорился с заложным? Да быть не может! – Ja, mache ich! [134]– спешно ответил Максимка. – Was soll ich schreiben? [135] – Erzähle denen, dass ich wie ein Mensch gestorben bin. Dass ich als ein Soldat gestorben bin. Die Befehle… Sag denen, dass ich nicht zu einem Ungeheuer geworden bin. Nicht, wie die… Sag denen, dass ich die liebe. Und immer geliebt habe. Ich werde kein Böses mehr machen. Ich bereue, was ich getan habe. Aber jetzt wird Ruhe…[136] – Максимка! Спиной не вертайся, иди взадпятки! Максимка медленно попятился. Стало куда светлее. Занимался рассвет, и темень сменялась призрачными очертаниями стволов осин, сосен и елей, появляющихся из мрака; Максимка и зна́ток увидели, как в робком солнечном свете немец расползается на куски, словно дым из мастырок Демьяна. Можно было смотреть прямо сквозь мертвеца.

Он выронил клюку и отходил назад, не поворачиваясь спиной, и через несколько шагов, когда от немца не осталось ни следа, Максимка услышал слабый печальный шепот: – Ich bereue alles. Und jetzt – ab in die Hölle – wo ich hingehöre.[137] В утреннем лесу было влажно от росы, терпко пахло смолой, хвоей, мхом – чем угодно, только не дымом от сгоревшей дотла избы. На плечо Максимке легла рука Демьяна. Зна́ток задумчиво смотрел в то место, где пару минут назад находился его заклятый враг, унтер-офицер гитлеровской армии. Пауль Хиршбек, отказавшийся подчиняться сатанинскому приказу. – Як ты это зробил? Я ж говорил – нельзя с ним размовы вести, дурень ты. – Вот, дядька, белян-трава, – Максимка продемонстрировал пучок каких-то мятых листьев. – Вы мне утром показывали, казали, от морока поможет. Ну я и нарвал… – Хм… Лады, экзамен сдан заочно. Тольки на нее еще заговор надобно знать. Здается мне, немчура сам нас услыхал и зразумел, что неживой он. – И шо теперь, дядька? Демьян поморщился от боли, помассировал отбитое плечо. Через рубаху сочилась юшка. Посмотрел на пальцы мальчика, все в засохшей крови. – А теперь домой, лечиться и спать. Откопаем ужо завтра. И пахаваем его, так и быть, як следует – не усим же пред Богом грешными ходить. Где-то далеко, за лесом, через просеку заголосил петух. И тучи, будто облегченно выдохнув, пролились на землю очищающим, библейским ливнем.

Анна Демидовна с интересом смотрела на необычную парочку – своего ученика из школы и местного знатка, про которого слухи ходят один другого любопытнее. – Письмо написать? В ГДР? – Агась, Анна Демидовна, – закивал Максимка. – Город Лейпциг, Элиза Хиршбек. Про мужа ее, вот я написал на листочке. И фотографию надо отослать в письме. Он отдал учительнице фотокарточку. Та почти не пострадала за время, проведенное в земле, – была накрепко зашита во внутренний карман плаща. Черно-белая картинка запечатлела молодого блондина в обнимку с симпатичной женщиной, у их ног сидел такой же белобрысый и щекастый мальчик лет семи, сжимающий игрушечный грузовик. Красивая семья. – Хорошо, я напишу, – хмыкнула учительница. – И даже отправлю с почты, завтра как раз в райцентр еду. – Вы нас сильно обяжете, – прокряхтел странно молчаливый зна́ток. Демьян на кой-то ляд вырядился сегодня, надел выходной костюм, только туфель не нашлось, брюки поверх сапог. И медальку «За отвагу» прицепил. – Анна Демидовна, да? – Все верно, Демьян Рыгорыч. – Она улыбнулась и поправила прядь волос за ухо. – Позвольте узнать, а вы чему мальчика учите? Максимка с удивлением смотрел на Демьяна – тот весь налился краской, побагровел под взглядом учительницы немецкого, того и гляди лопнет от натуги. – Медицине учу, вот, – выдохнул, придумав, зна́ток. – Как врачевать, отвары всякие, кости править. В медицинский его потом отправлю учиться. А пока он мне как сынка, ну и помогает по работе, скотину там лечить, травки заваривать… Анна Демидовна радостно рассмеялась. И в самом деле, слухи зачастую оказываются куда интересней действительности. – Это хорошо, врачи стране нужны, но и немецкий нужно учить. Хаб ихь дас рихтиг гезагт, Макс? – Йа, фрау Гринюк, – привычно ответил Максимка. В школе он учился на пятерки только по немецкому языку. – Может, чаю выпьете? – Нет, нет, дякую, мы не голодные! – невпопад ответил зна́ток и, взяв Максимку под локоть, потащил того на улицу. – Спасибо вам огромное! До свидания, Анна Демидовна! – Да не за что, мне несложно. Удачи вам, – закрыв дверь, она посмотрела в окошко на две удаляющиеся фигуры – молодого, но уже седого, мужчины, опирающегося на узловатую трость, и верткого мальчишки, который без остановки что-то рассказывал. Пожав плечами, учительница села писать письмо в Германию. А Демьян шел молча, размышляя о чем-то своем, пока Максимка говорил про школу и пятерки по немецкому и про то, какая хорошая училка Анна Демидовна. Зна́ток внезапно прервал монолог: – Слухай, хлопчик, скажи-ка мне… Кхм, кое-что. – Да, дядька? – А она не замужем? – Хто? – Анна Демидовна твоя, хто! – Демьян вновь покраснел и вытер платком выступивший на лбу пот – наверное, от жары. – Да нет вроде… А вам зачем? Зна́ток не ответил, продолжая шагать в сторону дома и думая о чем-то своем. Над Задорьем в зените стояло солнце – жаркое, живое, бесстрастное, как и ангелы на нем, безразличные к людским печалям.
Нечистая деревня
– Да твою ж дивизию! – завопил Федорыч, выкручивая баранку руля и роняя пепел с папиросины на широкую грудь, обтянутую тельняшкой. – Чтоб я еще хоть раз тут поехал! Чтоб хоть раз!.. Асфальтированная трасса Минск – Москва кончилась, ушла в сторону, и старенький грузовик-полуторка вот уже полчася трясся по разъезжей колее. Сидевшие в кабине Демьян и Максимка держались за что попало, но и от этого толку было чуть: от каждого рывка по паршивому шляху их швыряло по всему салону. Федорыч матерился, со злобой дергал рычаг переключения скоростей, мотал туда-обратно руль, уходя от рытвин и ям на дороге. Старый грузовичок ехал в деревню со смешным названием Малые Сычевичи – в семидесяти километрах от Задорья. А началось все так: в обед к дому знатка подъехал, фыркнув глушителем, потрепанный ГАЗ-АА. Из кабины вылез хромой водила и безапелляционно заявил, мол, Демьяну позарез нужно ехать с ним. Максимка-то подумал, что почту привезли – нелюдимый угрюмый Федорыч числился почтальоном, развозил между глухими выселками посылки, продукты, пенсию; в общем, был вроде деревенского курьера. И вот кому-то внезапно приспичило увидеть знатка в такой дыре, как Сычевичи. – А чаго там? – вякнул Максимка. – Чаго-чаго… По твоей части шо-то, колдун-ведун ты наш, – мрачно отвечал Федорыч, трепя Полкана за холку; тот даже не тявкнул – сам ткнулся лобастой башкой в широкую ладонь, признал. – Бабки с Сычевичей жить не могут, как тебя видеть хотят. Мне денег уплочено туда и обратно тебя доставить. – Не колдун я, – привычно поправил Демьян. – А мне якая разница? Ты хоть груздем назовись, главное – в кузов полезай. В общем, так и тронулись, оставив Полкана на суседку. Вроде и недалеко, но, как съехали с трассы, Максимка с каждой минутой все больше жалел, что напросился с Демьяном – от таких виражей зад, казалось, превратился в один большой синяк. Водитель мрачно молчал, то и дело приподнимаясь на сиденье, чтоб выжать сцепление. Зна́ток едко откомментировал: – А ты завсегда так, вприсядку, или тольки с пассажирами? – Хошь – высажу, пешком пойдешь, на своих двоих. – Дак, мож, мне идти и не треба? Ты бы хоть рассказал, что там стряслось. – Сами все скажут, – рыкнул Федорыч, – Да не боись, заплотют табе, шарлатан. – Ты за помелом-то следи, товарищ мичман. – А ты меня не пугай! Пуганые мы! В одной сумке кишки, в другой – треугольники. Во, видал? – Федорыч стукнул по ноге, где от колена тянулся железный протез. – Мне одна твоя «коллега» травки пихала да отвары, я мазал-мазал – ни хрена. Вот ногу и отняли – гангрена. – А как мазал? После заката? А крестик ты сымал? А на месяц глядел? Так-то, мож, к фельдшеру надо было идтить? – Может, и надо было, а я на вашего брата-шарлатана повелся, вот и… Демьян поморщился, давая понять – разговор окончен. Федорыч закурил очередную папиросу, позыркал мрачно сквозь дым, но долго молчать не смог, протянул Демьяну лопатообразную ладонь, обезображенную наколкой-якорем. – Лады, ты не злись, я сгоряча. Твоя правда. Не поверил я. Не мазал ни хрена. И к фельдшеру не поехал. Мне уж и жизнь не мила была, такого наглядевшись, одно спасение – глаза залить… Нормальный ты мужик, пусть и дурной маленько. Мир? – У нас двадцать лет мир, Федорыч. А ногу я твою не чапал. – Не трогал – твоя правда. И мир давно, тоже не врешь. Дай-ка пацану яблоко, вон, в кармане лежит. Максимке сунули большое красное яблоко, тот захрустел, разглядывая панораму за окном – скачущую картинку из берез, елей и кустов, наросших поверх глубокой заболоченной канавы. Дорога стала чуть ровнее, ГАЗ повернул, и в лесу возникла широкая прогалина, за которой ярко заблестело серебром нечто массивное и шумное. Максимка аж высунулся в окно, чтоб разглядеть лучше. – Дядька, а это шо там? – А-а, это ГЭС ихняя местная. Гидроэлектростанция, во! – ответил Федорыч. – Ща получше видать буде. Она малая совсем, правда, но зараз расширяют, новую турбину строят. Вам, кстати, тоже электричество дает. Наша Рыбчанка весь край кормит. С пригорка видно было и правда лучше. Федорыч подрулил к краю нависающего над ГЭС обрыва, остановил машину. Максимка рассматривал сооружение, казавшееся ему колоссальным, немыслимым – ничего подобного он ни разу в жизни не видал. Река Рыбчанка врезалась в дамбу и спадала из шлюзов шумным белым потоком, размывающим землю у берегов, крутящим турбины внутри дамбы. Шлюзы выглядели как три жадных дыры, с хлюпаньем всасывающие и выбрасывающие воду – от висящей в воздухе водной взвеси разглядеть их было сложно, но Максимка каким-то мальчишеским чутьем проник в глубины мощного механизма, узрел вертящиеся внутри него сотни шестеренок, подшипников, толстых зубчатых колес. Увидел – и в испуге отпрянул обратно. Он как-то успел больше попривыкнуть к лесной нечисти, чем к бездушным и самостоятельно работающим механизмам, созданным руками человека. Демьян, видать, почуял то же, что и он, проговорил вполголоса: – М-да-а, тут Бога нет… Да и дьявола тоже нема. Под дамбой, у разрытого русла измельчавшей реки, копошились несколько человек в рабочей униформе. Рядом с ними в грязи лежал здоровенный серебряный цилиндр с могучими лопастями. Увидев грузовик, рабочие замахали руками. Федорыч дернул за рычаг и нажал на газ, сказал: – Поехали-ка отседа подобру-поздорову. Секретный объект, мабыть.
Деревня разительно отличалась от обширного, цветущего жизнью Задорья. Маленькая, посреди глухого леса, с пришибленными к земле перекошенными избами. Не деревня даже, а вёска. Располагалась она в низине, куда машина спускалась, скользя шинами по закисшей стежке. В конце концов Федорыч остановился, устало махнул рукой: – Туда вам! За поворотом деревня, по правому галсу… Не поеду дальше. А то потом хрен вылезу. – Обратно-то приедешь? – спросил Демьян, пожимая руку старому матросу. – А то! Тока через три дня буду, ты уж тут бабок ублажай, шоб поболей заплатили. О-о-о, нахмурился знову! Да не зыркай ты так, а то яшчэ проклянешь ненароком! Водила хохотнул, удобнее устраивая протез на педали газа и примеряясь, как бы сдать обратно по дороге. Демьян ухмыльнулся, показал кукиш. – Ехай ужо. Попутного ветра, товарищ мичман! – Бывай, товарищ партизан. Взяв еще по яблоку от Федорыча, направились в сторону Сычевичей. Грязищи было и впрямь море разливанное, аж сапоги засасывает. «Оползень, что ли?» – подумал Максимка. Будто с холма вода стекает. – Ты это, слышь, хлопче, в разговор не лезь, – сказал зна́ток, жуя яблоко. – С бабками я гутарить буду. – А я шо, дядька, я ж всегда… – Знаю я твое «всегда»: то немца заболтаешь, то бесу зубы подаришь. Помалкивай лучше. Вот и вёска, Малые Сычевичи. Выпрыгнули из-за поворота и сразу вызвали чувство уныния – до того хаты было видно сверху, с пригорка, а вблизи они оказались еще более невзрачными, похожими на землянки. В основном срубы из прогнивших бревен, заросших мхом, да посередке заброшенная церковка без креста. Разделяли Сычевичи две улицы, наполненные черной слякотью – не проберешься, ноги не измарав. Над деревней тянулась линия электропередачи, рядом со столбом сидел и лаял на искрящийся провод одинокий трехлапый пес, грязнющий, как поросенок. Демьян остановился, оглядел избы – с заваленными набок заборами, трухлявыми бревнами и раскрошившимися трубами они казались едва ли не заброшенными. Зна́ток сплюнул, поежился – в низине было непривычно прохладно для лета. – Чот, кажись, мичман нас не по тому адресу привез… – Э-э-эй, есть кто?! – звонко крикнул Максимка, приложив ладони ко рту. Хлопнула дверь. Из одной хаты вышел пожилой мужик в душегрейке и кубанке, с кустистыми бровями и растрепанной бородой. Он сразу полез за папиросами, пробормотал под нос: – Вот дуры старые… – Уважаемый! – окликнул его Демьян. – А где усе-то? Мужик окинул их взглядом исподлобья, прикуривая папиросу от спички. – А вы яшчэ кто такие? – Демьян Рыгорыч, с Задорья приехали. – А-а, колдун! Тебя не хватало… Клиентура твоя вся там сидит, ждет не дождется, – мужик показал пальцем за спину. – Спасибо, – вежливо сказал Максимка, хотя мужик ему совсем не понравился. – Ваше спасибо на хлеб не намажешь. Чаго приехали-то? Бабкам головы морочить своим мракобесием, да? – Нас позвали – мы и приехали. Стало быть, надо кому-то, – меланхолично и спокойно отозвался Демьян, внимательно разглядывая неприветливого мужика. – А коли кому надо – то и проблема наблюдается, так? – Вумный шибко? Ну иди, общайся, – хмыкнул абориген и, не протянув руки, ушел налево по улице. За ним увязался пес-калека, заскакал вокруг, разбрызгивая грязь. Демьян шагнул в избу, пригнулся, чтоб не удариться лбом о низкую притолоку. Вошедший следом Максимка услышал дребезжащие голоса: – Серафимовна жива бы была – мигом бы ему уши пооткручивала, сынку такому… Ишь какой! – Это ж надо! Да я тут всю жизнь, у меня здесь и родители, и бабка с дедом, и внучок – царствие ему небесное; лихоманка взяла… – День добрый, хозяюшки! – громко поздоровался Демьян, прерывая беседу; приложил к виску ладонь шутливо. – Демьян Рыгорыч из Задорья по вашему приказанию прибыл! Несколько взглядов сразу вперились в них; Максимка даже отступил за спину знатка: старухи и сами походили на ведьм. Землистая кожа, какие-то тряпки-тулупы-телогрейки – и это посередь лета, запавшие губы, выцветшие глаза. – Ох, Демьян Рыгорыч, приехал-таки, мы ужо и не чаяли! Тяжело, с явным усилием они поднимались со скамей, кланялись, чуть ли не скрипя хребтами. Максимка от неожиданности вздрогнул – с печи свесилась маленькая сухонькая ручка с желтыми ногтями; тоже будто поприветствовала знатка. – Зъявился – не запылился. – Гляди, як вымахал-то! А я тебе, Дема, от таким помню! – Старуха показала каким; Демьян смутился – таким он, пожалуй, даже сам себя не помнил. – А я баба Марфа, Бондаренко, памятаешь мине, нет? – А хто гэта у нас тут таки? Помочник подрастает? – Пахнущие старостью и лекарствами руки потянулись к Максимке, тот вжался в стену избы. – Добра-добра! Иди, маленький, я табе тут пряник назапасла… Старухи заохали, неповоротливо засуетились, наполнили небольшое пространство избы гостеприимной суматохой, так, что и не сосчитать, сколько их; Максимка, смущенный, торчал под защитой широкой спины Демьяна, но и тот, кажется, был не в своей тарелке и что-то вежливо бурчал в ответ на вопросы и предложенные угощения. – А я вам зараз чайку заварю, на малиновом листе – сама собирала. – У нас тут вось блинцы – с творогом да с грибами. Чего ж вы стоите – частуйтеся! – Так, спокойнее, матушки! Давайте-ка поначалу дела обговорим. Ну-тка сказывайте, шо у вас тут за напасть? – Ой, така напасть, така напасть, шо хоть узелок на плечо – и куды глаза глядят! – вновь заохали старухи, замахали руками и затараторили наперебой: – Трахтор сам по себе ездит – прям по огородам! Я было вышла по шеям надавать, а там у кабине – никого! Я домой, перекрестилась, а его и след простыл – тольки колея тянется… – А черти! Черти-то! В окна стукают, рожи корчут, а давеча у Ильинишны курей потаскали! – Черти? – удивленно приподнял Демьян кустистую бровь. – Черти-черти! Сами они в церкве старой обитають, бывает – всю ночь барагозят, огни жгуть да матерятся. Всю ночь не уснуть – страх-то якой! – А полудница по полям шастает! Высоченная шо каланча, выша-а-агивает, колосья аж жгет, прямо-таки жгет! Страшна шо смерть, а на голове куколь! – С дамбы это они взбеленились, истинно вам говорю, с ней все началося! – трясла бульдожьими брылями одна особенно бодрая старушка – тут она и с одеяльцем, тут и с чаем, тут и с блинами, за троих поспевает. – Как ее построили, так я чуяла – беда буде. Они – «електроток, електроток», тьфу! Да он даром нам не нужон – електроток ваш! – Главно дело, – вмешалась другая, – ну построили и построили, чаго ее телепать-то? Ан нет, нонче сызнова шо-то роют, копают, возют, вот бесы-то и проснулися. – Да-да, чистая правда! Дамба ихняя – гэта мельница дьяволова! Как есть бесовщина! Кресты-то посымали да чертей напустили! Оне внутрях сидят и турбину гэту крутят, а по ночам тут куражатся… От галдежа деревенских старух у Демьяна заломило в висках: какие-то тракторы, какие-то черти, полудница да еще дамба сверх всего. Мозг старательно пытался уцепиться хоть за какую-то ниточку информации. – А все Никодимка-бестолочь, это он дозволил; ему нашу землю вверили, а он ее дьяволам красным распродал… – Погодите, дамы, – вмешался зна́ток, услышав хоть что-то похожее на зацепку, – а Никодимка – это не тот, с папиросками? Который вышел тока, перед нами. – Он, милай, он, больше некому, – хором заблеяли старухи. – Председатель он тутошний, да только председать ему уж не перед кем будет – все разъехались, как нечисть взбеленилась, одни мы остались. Но гэта наша земля – на ней и стоять будем. Немец не прогнал, а уж дьяволово отродье и подавно не прогонит… – Зна-а-аток, зна-а-аток, – вдруг позвал слабый голос с печки, – подойди ближе, зна́ток. Старушки почтенно расступились, пропуская Демьяна к печи; следом за ним шмыгнул и Максимка. Сухонькая ручка – та самая, что привиделась Максимке – откинула одеяло, и на свет появилось высохшее старушечье лицо. Седые пряди едва скрывали лысое темя, зато верхняя губа щедро поросла серым волосом; маленькие темные глаза глядели пристально, даже хищно. Рот открылся – ни единого целого зуба, – и вместо слов наружу посыпался сухой кашель. Тут же подлетела бабка, подала кружку воды; существо на печке принялось жадно хлебать. Сзади зажурчал услужливый шепоток: – Дорофеевна гэта, хозяйка, значится. Мы у ней собираемся – ее як удар хватил, она с тех пор и не ходит… – Цыц, сороки! – сипло скомандовала Дорофеевна. – А ты лучшей мине послухай, зна́ток. Смерть пришла в Сычевичи, как есть смерть. Никодимка-бестолочь зъехать агитирует, но мы не уедем. Тут наш дом, тут нам и помирать; чай мне недолго ждать осталось. Знак мне был! Бачила я смерть, зна́ток: кобылица бледная, страшенная. Я ночью чую: копыта, шо ль? Думаю: кого на ночь глядя принесло, выхожу, а там она – стоит, на мине поглядает. Белая, як мел, тольки очи чорны и светится уся, светится, як пламя, тольки холодная. Она на мине своими буркалами так – зырк, будто запомнила – воды похлебала из корыта и прочь пошла. Тут-то мине и разбило… Добра, что Марфа наутро нашла, а то так бы и околела. То смерть мине отметила, зна́ток, зразумел? Недолго мне осталось, так что проси чего хошь: хошь – дом тебе отпишу, хошь – все, шо в доме. Скотину всю забирай, все одно ухаживать некому. Тольки дай моим старухам век свой на родной земле дожить. Хотели к Сухощавому с просьбой пойти, но он, грят, зубы порастерял; а тебя, хлопчик, мы с детства знаем, тебе веры больше! Сдюжишь, а, Демьян Рыгорыч? – Зробим, хозяюшка. Но вы тоже раней часа на тот свет не збирайтесь, добро? А, да, вот… – Демьян пошарил в бесчисленных карманах своей куртки, вытащил какой-то кулек. – Вот настой, утром пейте натощак, кипятком заваривайте. А про награду потом уж обговорим. – Добра, добра, сына… – закивала старуха, пряча травяной настой под подушку. – А мы потопаем, да, хлопчик? Хата-то есть свободная, переночевать? – Да уся вёска пустая! – всплеснула руками та бодрая бабуля, что все совала им блины. – Где хотите селитесь! Мы вам вопратку свежую принесем, лазню затопим! – От баньки не откажемся, – не стал прибедняться зна́ток, – а перекусить можете и туда принесть. Тут Дорофеевна свесилась с печи, вцепилась в плечо Демьяна неожиданно хваткими пальцами и посмотрела ему в глаза. – Ты тольки мине не подведи, Дема. – Не подведу, – спокойно ответил он, выдержав взгляд старухи. – Всю паскудь зраз изведу, каковая найдется!

Выйдя на гантак, Демьян спросил у бодренькой старушки, которая взялась их сопровождать: – Вас как звать-величать, сударыня? – Ой, да якая я сударыня, – засмущалась покрасневшая бабуля. – Баба Клава я, Лексевна. – Баб Клав, нам бы бражки надобно. Та аж перекрестилась, да и сам Максимка с удивлением уставился на знатка. Никак издевается? – Бражки? Нешто для храбрости? – Баб Клав, обижаешь! Для дела требуется. – О хоспади… А скока ее надо-то, бражки той? – Бутылку, – сказал зна́ток и, подумав, добавил: – И махорки. – Ох, где ж ее взять-то… Не гонит уж никто. Разве что у Ильинишны запас… Принесу я! – А церкву покажете? – Так вон она, тама. Тольки заколочена она уж лет этак… – Ну, чертям, я так понимаю, оно побоку. Проверим. Баба Клава показала хату для ночевки, сама ушла за брагой и махоркой. – Ну шо, хлопчик, прогуляемся до церквы, на чертей глянем? – подмигнул Максимке зна́ток. – Дядька Демьян, а на кой бражка-то? – Проверю кой-чаго. Церковь стояла на слякотном пятачке посередь Сычевичей; со скрипомвращался ржавый петушок-флюгер, приделанный каким-то шутником на притворе; выбитые окна храма зияли темнотой. На деревянной крыше кучковались стайкой вороны, хрипло перекрикивались в сгущающихся сумерках. Демьян обошел строение по кругу – против часовой стрелки. – Шо там, дядька? – Да ничога. Странно все как-то… Якая паскудь куру воровать станет? Ну она ее задавит, спортит, заставит яйца тухлые нести, но шоб красть? Ни разу такого не видал… – Они ж сказали: черт… – Чертям в Явь ходу нет. А вообще и впрямь интересная чертовщина тут вырисовывается. В глаза бросились несколько смазанных следов, ведущих к выбитому окну. Демьян взглянул на толстый амбарный замок в двери, почесал голову. – Максимка, заберешься, не? – Делов-то! – ухмыльнулся тот и в две секунды ловко, как обезьянка, забрался через окно внутрь церкви. Додумался даже предварительно на раму набросить лежащую рядом ветошь, чтоб не порезаться об осколки – зна́ток в который раз его мысленно похвалил. – Ну? Чаго видать? – крикнул Демьян. – Да темно тут… Ну вот шо бачу – окурки валяются, бутылки, банки консервные вскрытые… Куски шерсти всякой… – Шерсти? – беспокойно переспросил зна́ток. – Ага, собачья али волчья, не ведаю… – Слышь, хлопчик, а принюхайся – серой пахнет, не? – Да чем тут тольки не смердит… – откликнулся удаляющийся голос ученика – тот, видать, пошел вглубь помещения. – Максимка, ты далече не уходи! Шерсть ту понюхай – вонючая она шибко? Вдруг Максимка тонко вскрикнул, и Демьян, сам не поняв как, оказался уже внутри заброшенной церкви; даже рук не порезал. Проморгался, привыкая к темноте. Усыпанный мусором пол, алтарь завален набок, на стенах надписи похабные. Аналой весь разломан, ступени амвона усыпаны пустыми бутылками. Бесы куражились?.. – Максимка, ты хде? – Дядька, я видал чегой-то, – пискнул Максимка. Демьян повернулся на голос, увидел испуганные глаза, глядящие сквозь него. – Дядька, сзади! Из темного угла кто-то ухнул по-совиному, и метнулась волосатая рослая тень. Ни зги не видать было в заброшенной церкви – и все же бросились в глаза обломанные рога, грязный свиной пятак и торчащие наружу зубья – наворованные у колдунов. Тень дернулась влево-вправо, но на пути стоял Демьян. Тогда нечто с силой врезалось в Демьяна, сбило с ног, опрокинуло на мусор и бутылочные осколки, огрело знатка по почкам с такой силой, что тот со стоном растянулся на полу. Одним прыжком тень выскочила в окошко, так же странно ухнув напоследок, будто издеваясь. Опираясь на трость и растирая спину, Демьян поднялся на ноги. К нему подбежал Максимка – слава богу, цел! – Дядька, ты как? Сильно больно дал? Я его як побачил, так спужался… – Да харе болтать, гляди, куда он убег! Но за окном было уже никого не видать. От церкви тянулись следы копыт. А где-то вдалеке, уже на окраине опустевшей деревни, зна́ток разглядел и самого беглеца перед тем, как тот нырнул в лес. Буро-волосатый, здоровый, что твой медведь, и со свиным рылом – он на секунду обернулся, и Демьяну показалось, что он пересекся взглядом с нечистым. – Это черт был, дядька?.. Настоящий черт? – Да якой черт, бес разве что. А так хрен его и знает… Бесы курей не воруют. Разве что потомство ведьмино выкармливают… Да и не несутся от тебя, как со спины по хребту стукнут… – Он еще раз с гримасой помассировал бок. – И что дальше делать будем? – Ученик едва не подпрыгивал от возбуждения. – Вы как, дядька, нормально? – Получшей ужо… Пойдем-ка мы лучше в баньке попаримся, хлопче, я себе ушиб распарю. И покумекать надысь.

В баню Демьян долго стучался да напрашивался, но банник даже не пошумел для порядку – как вымершее все. Максимка предлагал уже так войти, но зна́ток строго предостерег: – Тебе коли шкура дорога – ни на погост, ни в баньку, не напросившись, лезть не смей. То не людская территория, а их – навья. Мы тут гости, они – хозяева. А уж банька и подавно. Так и стояли, пока не пришла Лексевна и не зашла в баню первой – на хозяйских правах. Зажгла электрический свет – видать, дешевый, из-за ГЭС, раз даже в лазню провели. Тогда уж и Демьян с Максимкой посмели переступить порог. После в парилке зна́ток неодобрительно гудел: – Понавешали своих лампочек, аж нечисть поразбегалась. Нешто печи недоставало? Чаго тут глядеть-то? Попарившись, помывшись и переодевшись в чистое (Лексевна принесла одежду своих померших на войне мужиков), сели ужинать. Ели жареную на сале бульбу и косились зачем-то в окно: там, над мрачными Сычевичами, плыли темные облака, лаял пес на обступившую деревню чащобу леса да возвышался силуэт церквы, видный из каждой точки маленькой вёски. Стемнело рано, опустился на землю холодный мрак, и даже в хате было не по-летнему прохладно. Суседка местный на приветствие не среагировал и вообще себя казать не спешил. А может, бросил он хату вовсе – с шишигами связался да на болота сбег. Демьян без остановки натирал ушибленную бочину – у него после встречи с Хиршбеком еще плечо толком не зажило, а теперь новые побои. На столе стояла бутыль белесой бражки, рядом – махорка, в газетку завернутая. – Дык на кой нам бражка-то? – спросил с набитым ртом Максимка. – Прожуй сперва, а то в рот муха залетит. И слова вучи – ты як заговаривать-то будешь? Максимка кивнул. Он уже знал, что слова бывают разные. В устах знатка, произнесенные в верном порядке, слова приобретают особую силу. Он тщательно прожевал, запил сладким чаем и спросил: – Дядька, а где вы палец потеряли? На войне, да? Потерев култышку на месте безымянного пальца, зна́ток промолчал и хмуро уставился в окошко. – Дядька Демьян, – не унимался Максимка, – а якое слово самое что ни на есть дужное? – Аминь. Как сказано – так буде, – в своей манере лаконично ответил зна́ток и поглядел на старенькие наручные часы «Победа». – Так, отрок, ты поел, ты сыт? Пора нам до лесу прогуляться. «Як всегда – ночью», – недовольно подумал Максимка и начал собираться. Дорога вся раскисла, что твой жур – грязь так засасывала сапоги, что, казалось, ступи не туда – и ухнешь по уши. Зато по следам беса идти оказалось довольно легко. Демьян захватил из дому свечку на блюдце и нес ее перед собой, освещая дорогу; Максимка тащил банку. Когда достигли опушки, зна́ток сказал: – Ставь сюды, на пень прямо, – сам положил газетку с махоркой, раскрыл – чтоб запах пошел. – А сами пошли сховаемся где-нить да поглядим, что тута за дрянь такая лазит. – И все, больше ничего делать не надо? – Да не, не треба боле ничога. Гэта ж бес, на бражку приманится як миленький. Засекай зараз, – Демьян сунул под нос Максимке часы, тот с трудом разглядел стрелки – полпервого ночи. – Коли бесенок тут блазнит, минут через пяток прибежит бражку лакать – они до всякой сивухи охочи. А мы его клюкой по мордам! Сели в засаде – за близлежащим штабелем полусгнивших от сырости дров. Время шло, Максимка до рези в глазах вглядывался в лесную чащу. Демьян спокойно курил махорку, по-солдатски сложив ладонь лодочкой – чтоб угольком не светить. Выполз месяц из-за туч, дав немного света. Но бес все не являлся. – Неладное нешто здесь творится, ой неладное, – пробормотал Демьян. – А чаго так, дядька? – А того. Коли бес на бражку не прискакал, так одно из двух: либо бес чой-то такое творит, что не до браги ему, то ли не бес гэта вовсе. Хоть и не может быть, шоб и впрямь чего такое здоровое лазило – не могут они в Явь попасть: им притвор печки мал… – Чаго? – недоуменно переспросил Максимка. – А, рано тебе яшчэ такое знать, – отмахнулся зна́ток. – Ты тольки одну вещь запомни – бесенок малый проникнуть в наш мир может да дел тут натворить, они тута як тараканы всегда лазают, бывают и во-о-от такие крохотные, с твой ноготок. Но шоб такая тварь, с рост человеческий – впервые вижу! Не может быть такого! А коли и вовсе обосновался б тут черт настоящий, как бабки говорят, – тута бы на месте деревни здоровенный котлован был с ямой посередке до самого земного ядра. Не черт это и не бес. – Кто ж тогда? – Думаешь, мало их, тварей Пекельных? Тут хоть Сухощавого спрашивай, хотя и тот, поди, не всех ведает, а тольки самых верхних. – А ниже там кто? – Много будешь знать… – Демьян шутливо замахнулся для подзатыльника. – Ну-ка лучше приглядись, чуешь чего? Максимка прислушался к себе. Он уже научился распознавать некоторые знаки в окружающем мире – то ли зна́ток сумел чему научить, то ли сам он окреп в своем умении. Там, в поле и в лесу с немцем, он и впрямь чуял нечто, что не объяснить словами; и когда у Сухощавого ждали курьера из Пекла, тоже екало так странно в глубине души. И зубы ныли. Здесь же он не ощущал ничего. Ученик пожал плечами: – Не-а. – То-то же. И я ничога не чую. Пустота какая-то… – Зна́ток зевнул, почесал обрубок безымянного пальца. – Но я так и думал, хошь и видал в церкви – ну какой тут бес, право слово? Думал: будет нечисть якая, так и той тут нема… Размышляя, Демьян чесал бороду и внимательно глядел в сторону леса, пытаясь высмотреть, что же за паскудь там такая сховалась. Максимка проследил за его взглядом, но не увидел ничего, кроме очертаний стволов елок да березок, терявшихся в темноте непролазной лесной чащи. Ничего. Нахмурившись, зна́ток кивнул своим размышлениям и промолвил: – Ладно, хлопче, почапали спать – утро вечера мудренее. Завтре разберемся, шо тут за бесовщина творится.

Демьян проснулся ночью по малой нужде. Лежал некоторое время в темноте, глядя в потолок и слушая посапывание спящего Максимки. Наконец поднялся прогуляться на улицу до ветру, захватив табак и спички. Ночью в Сычевичах не так уж и мрачно. С востока гурьбой катились пузатые дождевые тучи, но над деревней небо было ясным и глубоким, с россыпью мигающих звезд и щербатым полумесяцем. Свежо – зна́ток пожалел, что не надел куртку. Он отошел в сторону от дома, расстегнул ремень на штанах. И застыл с открытым от удивления ртом, уставясь на поле между лесом и вёской. Там над травой плыла страшная кобылица, описанная Дорофеевной. Плыла, будто не касаясь копытами земли, – с атласной переливающейся шкурой, с пылающей мертвым светом шелковистой гривой. Зеленоватое холодное сияние исходило от лошади, как от болотных огоньков, что горят на мертвецких сердцах, отбрасывая блики в темном поле. Глаза, темные и умные, глядели прямиком в душу. Предвестница смерти прядала ухом, издавала мерное ржание; а еще она шагала в сторону замершего Демьяна, угрожающе помахивая пушистым хвостом. Каждый шаг копыта будто втаптывал в землю оставшиеся годы жизни – один, второй, третий. Зна́ток попятился назад, а когда лошадь прибавила ходу, то и вовсе рванулся бегом к хате, чуть не запутавшись в расстегнутых штанах. Ворвался в избу, запер дверь и выдохнул, стараясь не разбудить Максимку. Сердце колотилось как бешеное. В голове роились путаные пугливые мысли: «Что ж это я теперь, умру? Так ведь всяко умру. Или теперь скорее? А коли зараз прям? Вон как сердце долбит – а ну как инфаркт?!» Пожалуй, впервые в жизни – пережив и фрицев, и Купаву, и много еще чего другого – зна́ток по-настоящему испугался смерти. Не погибели от лап какой-нибудь кикиморы, не лютого смертоубийства от рук фашистов, а такой вот банальной, спокойной даже смерти, когда сердечко раз – и привет. Перед глазами стояла длинная морда вестницы погибели. Буквально заставив себя, через силу Демьян выглянул в окно – лошадь удалялась в сторону леса, мерно перебирая копытами. «Вроде пронесло. Отметила она меня али нет? Поди разбери!» Зна́ток схватил со стола солонку и насыпал соли под дверь, у окон и, подумав, вокруг их с учеником кроватей. Прошептал заговор со свечкой (Максимка заворочался и что-то пробормотал во сне) и сел на кровать. Посмотрел еще раз в окошко. Кобылицы не было видно. «Вот те на, не выдумала Дорофеевна!» Ложась спать, он прошептал молитву и крепко сжал ладанку на груди. «Чертовщина в Сычевичах непонятная, где такое встретишь яшчэ?» – подумал он, засыпая.

Максимку разбудило играющее радио. Кое-как пытался подпевать Демьян:
Я гляжу ей вслед,
Ничего в ней нет,
А я все гляжу,
Глаз не отвожу…
А у нас во дворе
Есть девчонка одна…

У Дорофеевны в хате Марфа полоскала в ведре тряпку, пропитанную гноем и человеческими выделениями. Умирающая старуха стонала, не открывая глаз; от кашля у нее на губах выступила желтая пена. Дорофеевна бормотала иногда про коней бледных, про смерть; звала давно сгинувшего на войне сына Лешку. Бабки внезапно столпились у окна, заохали. – Марфа, Марфа, подойди, смотри, шо творится-то знов! Та выглянула на улицу. На поле, в густой полутьме, что-то светилось. Старуха прищурилась, напрягла глаза – и впрямь, как будто светлячок витает вдалеке. И становится все больше, приближаясь. «Никакой там не светлячок!» – с суеверным страхом поняла Марфа. Это ж лошадь! Только светящаяся, что твой призрак. Значит, не привиделось Дорофеевне? Ходит лошадь страховидная вокруг деревни, гибель предвещает? Огромная такая, гривой трясет, а вокруг отсветы бликуют красивыми всплесками мертвенного свечения. Шкура аж переливается вся, движется во тьме, создавая ощущение, будто животное плывет над землей, не касаясь ее копытами. А навстречу чудовищному силуэту шел, ничего не боясь, Демьян. Марфа подумала: «Вот и все, Дема, не увидимся мы боле». А потом задернула шторы и сказала всем: – Неча туда пялиться! Бесовщина гэта все, вот он с ней по-бесовски разберется.

Максимка подумал было, что Демьян рехнулся. Он смело шагал прямо к сияющей зеленоватым светом страхолюдине – не с заговором на губах, а продолжая насвистывать надоевшую песенку Кобзона. Без клюки, без ладана. А подойдя вплотную, достал яблоко из кармана и сунул кобылице в морду. Та осторожно приняла лакомство одними губами – привычная к гостинцам, видать. И тут Максимка осознал, что, несмотря на светящуюся атласную шкуру, всполохи потустороннего света и жуткий ореол близкой погибели, это всего лишь… животное. Которое с удовольствием схрумкало яблоко и понюхало пальцы знатка. Благодарно фыркнуло и покосилось лиловым глазом на мальчика. Демьян, широко улыбаясь, почесал лошадь за ухом. Шлепнул по крупу несильно и показал Максимке ладонь, которая теперь тоже слабо светилась в полутьме: – Видал? – Гэта шо ж, она… – но Максимка не успел договорить – на тропке в лесу, откуда вышло животное, кто-то зашуршал в кустах и негромко выматерился. – Стоять! Гэта, як его… Хэндэ хох! – неожиданно заорал во всю глотку Демьян, отчего лошадь взбрыкнула от неожиданности, встала на дыбы и заржала. Видимо, поняв, что раскрыл себя, тот, кто прятался в кустах, ломанулся бежать, и Демьян рванул за ним. Ученик побежал следом, вглубь леса, вдоль ручья, путаясь ногами в полусгнившем валежнике. Впереди пыхтел Демьян, который ориентировался в темноте, как летучая мышь. Максимка же пару раз чуть не сломал ноги, едва не провалившись в лог, – ям тут хватало. Беглец, судя по всему, тоже не избежал этой участи – рухнул в один из оврагов, заверещал, пытаясь выкарабкаться. В сгустившемся полумраке Максимка увидел знатка, который стоял над ямой и почему-то смеялся: – Ну шо, товарищ бес, вот ты и попался! А в яме ворошился тот самый – со свиной харей, весь в растрепанной шерсти, здоровый и крепкий. Наклеенные по краям пасти зубья теперь белели среди палой листвы. «Бес» стонал и глухо кричал – из-за накладной морды вопли казались совиным уханьем: – Не трожь, не трожь, я ногу вывернул, а-а-а! – Я тебе ща не тока ногу выверну, а и шкуру твою наизнанку заодно! – кричал на него Демьян. – Ты чаго тут народ пугаешь, ирод, под трибунал захотел? – Это председатель все, не виноватый я, дядька, не бей! Никодим все придумал! Максимка подошел ближе, встал рядом с Демьяном. Упавший в овраг «бес» снял маску – обнажилось потное лицо, такое знакомое. Афоня! Тот студент-биолог! Афоня плакал, как дитя, утирал сопли и переводил жалобный взгляд с знатка на Максимку и обратно. Нога его лежала под неестественным углом; Максимка присвистнул – да он ее не вывернул, а сломал, поди. По лесу, як заяц, не поскачешь, особенно по такой темени. – Копыто сраное… – ныл Афоня, снимая и отбрасывая с подошвы закопченную дочерна металлическую кружку. Сейчас он выглядел совсем не бесом, а запаршивевшим скоморохом в нелепом костюме из коричневой пакли, местами оборванной. – То-то, урок тебе буде. Ты какого хрена меня бил, биолух? – Та испужался я, дядька! Я ж не со зла, вот вам крест! – Крестишься, а сам в церкви мусора накидал и на стенах писал похабщину, – назидательно сказал Демьян. – Ты шо, студент, не определился – с Богом ты иль с коммунизмом? – Та не я это… То до меня еще намялякали… – Ладно, давай выползай. За руку тягай, – зна́ток протянул ладонь. Вытащили «студента» наружу. Тот вжимал голову в плечи – ожидал, что будут бить. Плаксиво проблеял, обращаясь почему-то к Максимке: – Ну ты-то мне веришь, малой? Не хотел я зла, вот клянусь! Максимка пожал плечами. Он сам пока ничего не понимал – но было жутко интересно. Зна́ток отвесил «студенту» крепкую затрещину, у того аж голова мотнулась, как у матрешки. С тихим «ай!» Афоня схватился за висок, Максимка ему даже посочувствовал – удар у знатка что у медведя. – То тебе за церкву, – пояснил Демьян. – И мы в расчете, так и быть. Давай сказывай: ты кто таков, чаго тут забыл? – Курсант я… – Откуда? – С военной части, под Гомелем… И парни тоже оттудова. С гауптвахты нас забрали. – А тут вы как оказались? – Бак-тер-иологи-чес-кая опасность, – с трудом выговорил по слогам Афоня и в ответ на вопросительные взгляды объяснил: – Мы вроде как эти, санитары-поджигатели. Нас месяц назад сюда спровадили, под ответственность Никодима. Деревню сжечь надо перед затоплением – так делают, когда населенные пункты всякие топят. Ну, когда дамбу открывают. Озеро тут будет вместо низины. – Та-ак, вот это новости, – протянул Демьян. – И шо дале? – Ну, на губе вообще хреново жить, – рассказывал Афоня, – жрать нечего, дрочат каждый день, бьют почем ни попадя. Припухали мы там так, что… Эх, Красная армия, туды ее налево… Приехал Никодим, договорился там с наччасти – нас ему в подчинение отдали, выдали смесь горючую, огнеметы и костюмы специальные, шоб деревню жечь. А тут бабки эти уезжать никуда не хотят – ну, Никодим и говорит нам, мол, я за вас, ребят, договорюсь, шо вы тут якобы работу важную делаете, буду вас кормить-поить, а вы, мол, в лесу посидите малость… Ну и бабок этих надо шугануть, шоб они сами согласились уехать, – якобы тут черти всякие живут. У Максимки будто вспыхнуло что-то в голове. Конан Дойль, «Собака Баскервилей»! Он же читал! – Вы лошадь фосфором обмазали! – воскликнул он, и Демьян с довольным видом потрепал его по плечу – догадался сам, чертяка. – Ага, – горестно кивнул Афоня, с гримасой поправляя ногу. – Обмазали… Фосфорный состав для розжига нужен. Никодим коняшку привел, мы ее в лесу держим. Бабок лошадью знатно так шуганули, но они уезжать все одно не хотят. Упертые как ослицы. – А костюм откуда? – кивнул Демьян на бесовскую одежду. – Дык это, он же в клубе раньше всякие культурные мероприятия вел. Остались костюмы разные. У меня еще один есть. – Так ты полудницу играл! – ахнул Максимка. От всей новой информации голова шла кругом, а Демьян лишь кивал, словно во всем давно разобрался. Ну точно – аглицкий сыщик Холмс! – Ага, я полуденница… В бабу со страшной мордой рядишься, вниз под одежку огнеупорный костюм и ранец огненный за спину – ну, которые нам в части дали для работы. Через рукав шланг – шоб огнем пыхать. – Ну ты, брат, даешь… Тебе в актеры надо! А трактор кто завел? – Да Ванька в нем ездил. Ну, ушастый который. Он малой просто шкет, сховался внутри так, будто трактор сам по себе катался. Стекла покрасил там снизу. Во-о-от… Ну а в церкви мы по очереди дежурили. Орали там, бесились. Как сказано было! – И курей у старух воровали? – строго спросил зна́ток. Афоня лишь виновато шмыгнул носом. – М-да-а, набедокурили вы тут… Давай сюда лапу свою, шину наложу. А потом к твоим пойдем.

Двое других курсантов быстро поняли ситуацию, потупили взоры, принялись в два голоса оправдываться. Над костром снова пыхтел котелок; пахло вкусно. – Никодим скоро придет, – уведомил лопоухий Ванька. – К полуночи обещался. – Гэта добре. У меня к нему разговор сурьезный. Сходи-ка за лошадью – она там, небось, в лесу совсем очумела, бедолага. – Та она привычная. – Чего готовите? – спросил Максимка, подсаживаясь к костру. Демьян даже попробовать не дал всех вкусностей, что принесли домой Лексевна с Марфой, – в лес потащил. – Та супчик куриный… – виновато ответил Юрка, помешивая в котелке ложкой. – Готов уже. Бери миску, подливай. Вон хлеб, лук, чеснок бери. Сальце есть. Максимка только налил миску супа, и тут из лесу вышел Никодим. Уставился на мальчонку. С края поляны выскочил Демьян и так дал председателю по уху ладошкой, что тот аж скатился мордой вниз, к самым Максимкиным ногам. Председатель замычал и пустил струйку слюны. Юрка, не обращая внимания, продолжил прием пищи – видать, привык к дракам в казарме. В ветвях удивленно ухнула сова. – Ну чаго, товарищ председатель, скушал? Кашу заварил – как теперь расхлебывать будешь? – Че?.. – только и смог произнести Никодим. – А вот че! – Демьян с удовольствием наподдал ему ногой по заднице, но больше бить не стал. – Давай оправдывайся, дурак. Будем думать, чего с вами робить. Никодим кое-как поднялся, сел на зад. Поднял свою упавшую кубанку, водрузил на голову и с опаской глянул на знатка. Вздохнул горестно. – Все уж понял, да? – А то! Твои солдатики ужо все доложили по форме, считай. – Курсанты они… – Да хоть генералы, мне все одно. Давай кажи, на кой черт ты усю гэту байду выдумал. – Я ж все ради них, дур старых… Ну чего им тут делать, в деревне этой? – Никодим махнул рукой в сторону Сычевичей и помассировал ушибленную голову. – Ох и больно ты мне по уху дал, зна́ток… Там у них в городе квартиры уже стоят, ждут не дождутся. С водопроводом, с канализацией нормальной! Пенсию на дом приносят! Все подруги рядом – вышла на лавочку и сиди себе болтай. Нет, они Дорофеевну все слушают… Ох, Дорофеевна же… – А шо с ней? – вскинулся зна́ток. – Да померла она… Час назад. Сердце не выдержало. Старенькая совсем была. Максимка подумал, что сейчас Демьян опять ударит председателя, даже рукупротянул, чтоб удержать. Но зна́ток только сжал крепко кулаки и сказал, пристально глядя на Никодима из-под кустистых бровей: – Ты ж понимаешь, что на тебе грех? – Он во всем виноват! – неожиданно отозвался Афоня из палатки. Юрка согласно кивнул, не прекращая есть. – А вы вообще замолкните, курокрады! Ну дык шо робить будем с тобой, Никодимка? Никодим повесил голову. Сказал тихо: – Моя вина, да… Дорофеевна мне как мамка была, не хотел я этого. Не думал, что ее так лошадь испугает. Я ж, понимаешь… Ради них все, клянусь! Вот хоть в КГБ меня сдай – не хотел я! И председатель тихо, искренне заплакал. Все молчали, даже Юрка прекратил черпать ложкой в миске. Афоня глухо произнес из палатки: – Слышь, дядька… Не хотели мы их насильно тащить, а то их бы всех инфаркт хватил. Прикладами их, шоль, из дому выгонять, як немчура? Еще огнеметы эти. По доброй воле хотели шоб. Им тут правда не жизнь. Пущай бы жили в городе, в палисадничках там ковырялись. Опять же хозяйство, а им некоторым уж под сотню. Демьян достал из кармана предмет, найденный в тракторе, бросил тому самому мелкому Ваньке – тот как раз вернулся с лошадью и стоял, слушая разговор: – Держи папиросы свои, потерял в кабине. – Вы тогда и догадались? – спросил Максимка. – Ну, скорее, убедился. Только ума не приложу, шо с гэтыми товарищами делать. В КГБ вас за шкирку, як вредителей и шпионов? – Не надо… – сказал Ванька и, подумав, добавил: – Пожалуйста. У меня мамка болеет, не выдержит, если на дисбат залечу. Никодим вновь вздохнул, комкая в руках кубанку. Демьян прищурился: – В хороших квартирах, гришь, жить будут?

Лексевна стояла у окна, прижав к лицу ладони и глядя сквозь раздвинутые пальцы. По полю что-то бежало будто на четвереньках, быстро приближаясь. – Марфа, гля, гэта шо? Нияк человек? – Ну-ка отойди, погляжу. Едва она это сказала, как стекло взорвалось сотней осколков – и как только не посекло? Тут же открылась печная заслонка, и по избе заметалось пламя – как живое. Катался огненный колобок, не поджигая, но стреляя во все стороны жгучими искрами. Сорвался с крюка ухват и поддел Лексевну под обширный зад. Колотились в ящике ножи да ложки, просясь наружу, хлопали ставни и тумбы, летало по избе полотенце, скручиваясь в жгут и хлеща во все стороны. – Наружу, быстро! – сориентировалась Марфа, выгоняя кумушек. В сенях, провожая старух, полопались банки с закрутками на зиму. Огурцы да помидоры покатились за старухами следом до самого порога. Снаружи и вовсе творилось какое-то светопреставление: на поле закладывал виражи трактор, гоняясь вперегонки со старой телегой без одного колеса. В телегу, конечно же, никто запряжен не был. Дымили трубы давно заброшенных изб, ведро само по себе вычерпывало из колодца воду и плескало на дорогу; трехлапый пес исступленно тявкал на электростолб, хлещущий во все стороны проводами. – Батюшки-батюшки, да что же гэта! – Ильинишна, гля, не твои куры-то? По огороду внаглую бродили пестрые птицы, средь них гордо вышагивал петух. Лексевна почти ощутила, как последняя темная прядь под платком окрасилась в серый: все как одна куры были без голов. Обрубленными шеями они невозмутимо пытались склевать горох. Обезглавленный петух заквохтал не пойми чем, кое-как взлетел на конек крыши, загородив луну, и во все свое кровоточащее горло закукарекал. Тем временем бежавшая через поле фигурка приблизилась; в ней Лексевна с изумлением признала председателя. Никодим – голый, в чем мать родила, исходил пеной и перебирал конечностями, как заправский скакун, а на шее у него, свесив ноги, сидело что-то маленькое, черненькое, покрытое шерстью… – Сгинь! Сгинь, нечистый! – замахали юбками старухи. Но нечистый не сгинул. С веселым гиканьем он пришпорил Никодима своими мелкими острыми копытами, и тот поддал ходу, направляясь прямо на бабок. Паскудник правил «скакуном», тягая того за уши; у него самого головы не было – вместо нее торчал огромный выпученный глаз на тонкой ножке с пальцами заместо ресниц. – Изыди! Слезь с него, бес! – голосила Агаповна, дальняя родственница председателя. – Про-о-о-очь, старые! Про-о-о-очь отседа! Моя это деревня, моя! – завыл в ответ председатель. – Всех сгною, всех в Пекло заберу! – Отче наш, иже еси… – залепетала Марфа. – На-ка это выкуси! – ответил в рифму председатель, встал во весь рост и затряс, чем природа наградила. В глазах Никодима плескался ужас вперемешку со стыдом, красный он был как рак. – У хату! Назад! У хату! Там иконы! – велела Лексевна, принявшая в отсутствие Дорофеевны командование на себя. Бабки набились в темную хату, зажались в красный угол, без остановки крестились. Домашняя утварь не унималась, но кое-как удалось ее запереть в сенях; только дергалась придавленная сундуком ожившая скатерть. Вдруг помытая по православной традиции, желтая и усохшая Дорофеевна открыла слипшиеся веки, с хрустом расправила тонкие птичьи ручки; старухи завизжали. Выкрутившись каким-то немыслимым образом, так, что голова оказалась промеж бледных старушечьих колен, она встала в гробу и теперь глядела на старух из-под сбившегося на бедрах савана. – Ох, батюшки… – только и сумела произнести Лексевна. Дорофеевна расплылась в беззубой улыбке; лицо растянулось так, что того и гляди лопнет. На синих губах выступили черные кровяные пузыри. Еще раз с хрустом провернувшись вкруг себя, Дорофеевна зашлась в безумном, макабрическом плясе, выбрасывая далеко вперед сморщенные лодыжки и задирая саван сверх всякого приличия – как распутницы из фильмов американских. Мертвая прокашлялась какой-то желчью, разогревая слипшиеся голосовые связки, и запела:
Из-за леса, из-за гор
Показал мужик топор,
Да не просто показал…

Максимка и Демьян стояли на пригорке, дожидаясь Федорыча. Видно было, как бабки суетятся, выносят из хат пожитки – скоро за ними должен приехать транспорт. А потом из лесу выйдут санитары-поджигатели – жечь хаты, отгонять остатки техники, готовить Сычевичи к планомерному затоплению. Скоро все здесь станет глубоким озером. Им навстречу поднялся Никодим, ставший немного пришибленным после знакомства с анчуткой. Демьян смотрел на него насмешливо, попыхивая самокруткой и крутя в руке трость, – врезать, что ли, напоследок? Так, для острастки. – Это, слышь, колдун… – смущенно обратился председатель, поправляя на голове кубанку. Ему все казалось, что на шее у него кто-то сидит. – Не колдун я, нияк вы, собака, не навучитесь. Зна́ток я, зна-ток! Чаго хотел? – Ты мне помог, а я виноват… Дорофеевна тебе не заплатила, а я… В общем, денег ты не берешь, так что держи. Это мне от мамки досталось украшение, вот… Оно бабское, конечно, но, мож, хоть на толкучке сдашь. Никодим сунул в руки Демьяну красную бархатную коробочку. Зна́ток открыл, и Максимка ахнул – изнутри блеснуло искрами нечто красивое, переливалось топазовыми брызгами света. Демьян захлопнул коробочку и посмотрел на председателя. – От души подарок-то? – От души. Ну и ты того… Прости меня. Не хотел я зла. – Раз от души – возьму. – Спасибо тебе… это… зна́ток. – Бывай, товарищ председатель. Никодим горько усмехнулся и начал спускаться к деревне – помогать бабкам с переездом. За ним привычно поковылял трехлапый кабыздох. Позади на склоне рыкнул мотор – Федорыч явился вовремя. Остановил полуторку на изломе дороги, приветственно высунул татуированную руку в окно и крикнул: – Ну шо там, товарищ партизан? Бабок ублажил? – Здоро`во, товарищ мичман. Ублажил – в сказке не сказать. – Ну тады полезайте – домой вас повезу! Максимка окинул взглядом Сычевичи – опустевшую, сиротливую вёску, даже без плешивого домового. Спросил у знатка: – Дядька Демьян, а отчего у нас в Задорье так много… паскуди? И проклятий всяких. И заложных. А тут анчутка один на всю деревню… Почему так? Тот пожевал губами, затушил окурок и сунул в карман. – А вот насчет этого, хлопче, я и сам задумался. Но сдается мне, есть виновник… Разберемся, сынку, – зна́ток взлохматил ладонью светлые вихры Максимки.
Свадьба
Смешная че-е-елка,
Половина неба в глазах!
Иде-ет девчо-онка
С песней на устах…

Майору предоставили маленький угол в бараке – хоть и комната мала, зато в одиночестве, вход отдельный, да и все удобства имеются. За стенкой выл соседский ребенок, на улице мычала корова, жрущая редиску с чужого огорода. Гуси гогочут, собаки лают. Майора вновь посетила навязчивая мысль, что его сюда спровадили с глаз долой, подальше от начальства. Ну и черт с ними, он отпуск давно не брал, а тут деревня – загляденье, как на картинах Репина. Он достал из чемодана штатскую одежду, снял и аккуратно повесил форму, туда же – кобуру с табельным ПМ. Фуражку с васильковым околышем положил на печку. Надел брюки, рубашку, коричневый клетчатый пиджак. На лацкан прицепил орден Красной Звезды, который в пехоте ласково звали Красной Звездочкой. Вот и все, можно и на свадьбу. Он почему-то надеялся увидеть там Анну Демидовну – больно в душу запали ее синие глаза.

На спортплощадке возле школы поставили несколько столов буквой П, обильно уставленных соленьями, вареньями и, конечно же, пузатыми бутылями с горилкой. С соседних домов шли люди с домашним квасом, караваями, креплеными настойками. Жигалову подмигнул сидящий на пеньке безногий дед с баяном в руках – седой как лунь и вдобавок одноглазый. – Папироски не будет, сынку? – Держи, отец, – Жигалов дал сигареты со спичками. – Где ж тебя так потрепало? – На Белорусском фронте, где ж яшчэ. Осколками. А тебе? – Дед указал на шрам. – Меня подальше, под Берлином. И смех и грех – саперной лопаткой, прям по всей фотокарточке. Дед протянул крепкую ладонь. – Знакомы будем, вояка. Афанасий Яковлевич, Землянин я. Не с планеты Земля, а фамилие такое – Землянин. – Элем Глебович, Жигалов. Веселый ты старик, однако. – А то! Ща рюмашку опрокину и забауляцца буду – заслухаешься, усе деуки в пляс пойдуть! – Землянин рванул баян, тот траурно вздохнул – «тря-я-ям». – А ты откуль будешь? – Да я так, отца невесты знакомый, – покривил душой майор. – А что, Афанасий Яковлевич, молодожены-то где? – Дык с райцентру едуть, у нас-то расписаться негде – токо тама. Ща приедуть, и – эх! – гульнем, яквстарь! У школьного крыльца Жигалов приметил Анну Демидовну – яркую, стройную, заметную в своем изящном платье цвета молодой листвы. Она о чем-то перешептывалась с бородатым мужиком в белорусской лянке и пиджаке. Тот опирался на трость, но как-то неестественно, так, что большая часть веса все равно приходилась на ноги, будто и не хромой он вовсе, а прикидывается. На лацкане мужика висела медалька «За отвагу»; сам он был рослый, крутоплечий, но сутулился, что твой горбун. И борода клоками – как у лешего, будто нарочно растрепана. «Ба! Да это ж и есть знахарь!» – понял Жигалов. А у училки, видать, совесть взыграла – догадалась, что сдала сегодня Климова, прискакала с повинной. Или советуются о чем-то? Неужто и впрямь пособники? Вон у Климова какой вид озадаченный. Майор решительно направился к парочке. – Здравия желаю, Анна Демидовна. Вижу, не рады меня снова видеть. Но придется, работа у меня такая, – хохотнул Жигалов, обращаясь к учительнице, но разглядывая ее собеседника. – Познакомите с товарищем? – Здравствуйте… Да, Демьян, познакомься, это Элем Глебович. – Демьян Рыгорыч, – коротко представился зна́ток, не менее пристально оценивая Жигалова. Глаза его не понравились майору – хваткие, внимательные, но постоянно ускользающие. – Имя-то какое… Вы к нам по службе, Элем Глебович, али как? Жигалов покрепче сжал ладонь знахаря, норовя покатать костяшки, но тот не давался – надо ж, лапа что тиски железные, хоть и четырехпалая, как подметил майор. Несколько секунд они мяли друг другу руки, а потом одновременно отпустили. Анна Демидовна едва заметно закатила глаза, вздохнула. – А от вас ничего не спрячешь, да? Так точно, майор госбезопасности Жигалов, – выложил он все карты на стол. – По делу к вам, в Задорье. По вашу, кстати, душу, Демьян Рыгорыч, тоже… Но тут со всех сторон раздались крики – «Едут, молодожены едут!» – и все поглотила радостная какофония; разговор пришлось прервать. Звенели колокольца, бешено ревел клаксон, тарахтели моторы. На школьный двор вынырнула полуторка поселкового почтальона с развевающимися позади кабины разноцветными лентами, следом новенький ЗАЗ-966, а уже за ними – мотоцикл с самодельной люлькой. Там, в уже порядком запыленном белом платье, визжала радостно невеста – свисала по пояс, показывая всем тонкую полоску золота на пальце, а жених едва-едва удерживал новоиспеченную супругу, чтобы та не выпала под колеса. В самом конце свадебного поезда плелись запряженные в украшенные телеги клячи. Гости в телегах кричали, колотили в бубны, звенели снятыми с велосипедов звонками; шум стоял – аж уши закладывало. Из люльки выпрыгнул жених, здоровенный белобрысый паренек в нарядном костюме. Потом без видимых усилий вытащил из люльки невесту, подбросил на руках – та расхохоталась; у самой волосы – как солома, и смех звонкий, как ручеек или колокольчик. Красотка! Тут же и дед Афанасий растянул баян и удивил майора неожиданно молодым звонким голосом:
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я бледнею, я краснею,
Захотелось вдруг сказать:
«Ста-а-анем над рекою
Зорьки летние встречать».
Все-таки удачно подвернулась эта свадьба – раз в десять эффективнее любых допросов. Жигалов, как обычно на оперативной работе, старался лишний раз не делать поспешных выводов, а просто собирал информацию – сопоставлять факты он будет потом. Но уже сейчас было ясно, что версия полковника Гавриленко про религиозный культ имеет смысл. Уж больно это двойное убийство (или самоубийство?) напоминало какой-нибудь языческий ритуал, да и слухи про Задорье ходили один другого гаже – мол, и нечисть тут под каждым кустом, и «блазнится» здесь чего-то на пепелище, что после немцев осталось, и в пруд носу сунуть не смей. Все это походило на какой-то намеренно дурацкий и бессмысленный, а оттого лишь более действенный устав секты: «Верую, ибо абсурдно». И, похоже, центральную фигуру этакого «иерофанта» здесь занимал Климов. Вон, у него и мальчишка-алтарник имеется – некий Губаревич. «Так и запишем: промывает мозги молодежи», – мысленно отметил майор. Где Губаревич, кстати? Никакого пацаненка поблизости не видать. Гости стали рассаживаться. Тем временем Макар Саныч оттянул жениха в сторону и, держа того за пуговицу пиджака, что-то втолковывал. По глазам было видно, что и. о. председателя уже принял на грудь грамм сто, а то и двести. «Вот тебе и трезвенник!» Жигалов прислушался. – Ты, Валя, пойми, это ж доня моя, я ж ее на вот этих вот руках… Я как щас помню, домой пришел – а она там в люльке колупается, слюни пускает, пузыри… – Макар Саныч, свадьба ж, – слабо сопротивлялся жених. – Да ты послушай! Чтоб ты понимал, на что я ради нее… Я вам квартиру выхлопотал. В райцентре. Однушка – с унитазом, балконом, ванной. Налей – и хошь плещись, як дельфин. Я сюрприз хотел, ты не говори только… «Где квартиру взял?» – хотелось майору заорать в красную рожу народного депутата да еще лампу в зенки его бысстыжие направить, но он сдержался – продолжил слушать. Жених, кстати, почему-то довольным не выглядел, скорее даже огорошенным. – Макар Саныч, да мы бы здесь у меня как-то сами… – отнекивался он. – Да знаю я, как вы сами! Ты ж при лесхозе! У вас там барак на десять человек мужичья, носки и табак! Я ж знаю, что ты сирота, откуда тебе жилье взять? – Ну поначалу так, там простынкой отгородились, потом, может быть… – Ты, зятек, заканчивай. Не обижай меня. На-ка, лучше выпей со мной, все ж таки я тебе зараз за батьку, считай. И от избытка чувств Макар Саныч прослезился. Жигалов перестал подслушивать, отошел в сторону; со всеми здоровался, запоминал имена и лица – будто фотограф. Гости уже вовсю выпивали, чокались рюмками за здоровье молодых; жениха, наконец, отпустили, и теперь они с невестой ели яичницу одной ложкой. От майора не укрылось, что на женихе будто лица нет – точно ему не квартиру посулили, а путевку на Соловки. Под столами шныряли собаки, подбирая объедки. Потихоньку темнело, закатное солнце окрашивало белые скатерти в ярко-багровый цвет. Подняв взгляд, майор увидел сидящего на дереве чумазого пацана – тот болтал голыми пятками и грыз стибренное со стола яблоко. А под деревом, опершись на ствол, бранилась на чем свет стоит пьяная баба с желтым, уже заживающим фингалом. – Ты, негодник такой, а ну слазь, кому говорю! – Мамк, да не пойду я до дому. У нас с дядькой Демьяном уговор. – Ты гляди, он мать не слушает! Твоему Демьяну Свирид накостыляет щас! – Дак няхай попробует, вон он стоит, чаго шу- кать? Мам, ты иди до дому сама, а? Поспи маленько, а? Будь ласка, мам! – Максимка! – Ну мама!.. От грустной сцены Жигалова отвлек безногий дед, которому поставили на пенек бутыль горилки; пришлось выпить, за Победу, конечно же. Стоило опрокинуть рюмку, как гортань ожгло, а под ложечкой крутануло – забористая. Вдруг в ту же секунду крутившиеся у столов шавки, будто сговорившись, как оглашенные ломанулись с воем по улице. Нежившийся на солнышке толстый черный котяра вдруг зашипел на майора и сиганул к школе. Упорхнула прочь стая птиц. Жигалов удивленно огляделся – чего это с животными? Тем временем Климов, стоявший поодаль, подобрал с земли какой-то предмет. – Максимка, ты видал, чаго они спужались? – крикнул он мальчику на дереве и только тут заметил стоящего неподалеку Жигалова. – О, здрасте снова, товарищ майор. – Что это там у вас? – Так, фитюлька, – знахарь сунул найденный предмет в карман пиджака – что-то похожее на маленькую, из тонких прутьев, метелку. – Следите за мной, шо ль? – Работа у меня такая – следить. Надо всегда быть настороже. – Ну да, знавали мы вашего товарища… – Это вы на что сейчас намекаете? – сощурился Жигалов. – Да так… – Нет уж, договаривайте, товарищ знахарь. – Зна́ток я, зна-ток! Когда ж вы, ек-макарек, научитесь? – Не переводите тему. Что вы имели в виду? Жигалов и сам не заметил, как оказался с Климовым в словесном клинче, хотя и планировал лишний раз не «светиться»; на них уже оборачивались. Знахарь, или зна́ток, как его там, ухмыльнулся в бороду, но глаза у него были холодные, злые – как шляпки гвоздей, какими гроб заколачивают. – Тыж в НКВД служил, майор, на войне-то? Ну так ты разумеешь, о чем я… Заградотряды – знашь такое слово? – Демьян Григорьевич, прекратите! – Подошедшая Анна Демидовна потянула Демьяна за рукав; тот не шелохнулся. – Да что ты знаешь обо мне, мракобес деревенский? – Кой-чего знаю… О таких, як ты. Чаго шныряешь тут, кого шукаешь, гэпэу на выезде? – Демьян Григорьевич!.. Элем Глебович! – Анна Демидовна, прошу, не влезайте в мужской разговор! – прикрикнул на учительницу майор и сразу пожалел об этом – та отступила назад, глядя на них обоих с отвращением. – Ну и дураки! Обоим по сорок лет в обед, а сами хорохорятся, как петухи в курятнике! Резко повернувшись на каблуках, она пошла прочь. Тем временем свадьба набирала обороты. Наконец захмелевшие гости созрели – послышались первые выкрики «горько!», а вскоре они слились в грохочущий хор. Майор и Демьян еще недолго посверлили друг друга взглядами – точно в гляделки играли, а после, не сговариваясь, тоже принялись наперегонки драть глотку: «Горько! горько!» Неловко поднялись со своих мест молодожены, кое-как взялись за руки, но гости требовали большего. До Жигалова донеслось смущенное невестино: – Народу-то сколько… Неловко как-то. – А ты фатой прикройся, чтоб срамоту не разводить, – квакнула сидевшая рядом теща. Молодые улыбнулись друг другу, Василина накинула на голову жениха фату – из дешевой ткани, а оттого непрозрачную, плотную, что твоя скатерть; два силуэта под тканью слились в один. – Гэт чаго там, товарищи? – крикнул кто-то. – Чой-то там деется? Гости заохали и принялись креститься, позабыв напрочь о научном атеизме: фата надулась в сизой полутьме, как воздушный шар, а потом опала вниз. Через секунду, запутавшись в фате, показалась и невеста – цветом лица она теперь сравнялась с платьем, большие темные глаза испуганно бегали, будто кого-то или что-то искали. – А где Валька-то? Под стол убёг? – пьяно хохотнул Макар Саныч. – А я… А он… Мы… – беспомощно пролепетала невеста. Тесть, ничтоже сумняшеся, заглянул под стол. Никакого жениха там, конечно же, не оказалось. Принялись вертеться, оглядываясь, и прочие гости. – Ой, божечки! Иисус Спаситель! – всплеснула руками теща. – Пропал! – На Кавказе, я слыхал, бывает, невесту похищают, а у вас… – пробормотал Жигалов, вроде как обращаясь к Климову, но тот, оказывается, уже целеустремленно куда-то топал, даже не опираясь на свою клюку. Мальчишка спрыгнул с дерева и догонял знахаря. А гости уже вовсю хохмили про украденного жениха. В общем-то, убежать Валентин мог легко – нырнул под стол, а там, пока суматоха – в кусты, через забор – и привет. Только вот как это сделать незаметно от невесты? Жигалов прошелся до забора, с интересом поковырял наполовину отломанную доску. Дела-а… – Неужто сбег зятек? Со свадьбы? – за спиной появился председатель. – Вот те на-а, Люська! А я ж говорил! И тебе, Васька, говорил! Васька-Василина размазывала по лицу потекшую тушь; гости наперебой пытались утешить невесту, выдавая шутки одна другой скабрезней. Несостоявшаяся теща и вовсе покраснела, надулась, ловила ртом воздух, как рыба, будто сейчас взорвется от возмущения. Жигалову подумалось, что ситуация пусть и нехорошая, но по-своему комичная. – Па-а-па! – Ну ты чего, доча? – Макар Саныч обнял Василину. – Батько, не убежал о-он! Бать, найди его, пожа-алуйста! – рев невесты поднялся на октаву выше – да так, что резануло по ушам. – Папа, я его люблю! Макар Саныч, немного протрезвев от произошедшего, вперился в Жигалова и принял максимально серьезное выражение лица. – Товарищ майор, тут… – Да-а-а, ситуация. Что, жениха отыскать надобно? – спросил он у невесты, та кивнула, всхлипнув. – А куда он сбег-то? – Не в «лесхоз» точно, закрыт он на ключ, – отозвался кто-то из гостей. – В общем, давайте так. Гости пусть пьют-гуляют, и вы тоже нюни не распускайте, особенно вы, девушка, – Жигалов потрепал невесту за безвольную ручку. – Никуда ваш супруг уже от вас не денется – все, окольцован. Да и разве от такой красы убежишь? Ну-ка отставить слезки: у нас же свадьба, а не похороны! «Надеюсь», – мысленно добавил Жигалов. Все эти ритуалы со свечами, странная смерть жены и тещи Кравчука, а теперь еще это исчезновение откровенно дурно пахли. Очень дурно – чертовщиной. Или даже хуже того – антисоветчиной. Майор присел на коленки перед невестой, заговорил тихо – так, чтобы прочие гости не слышали: – Вы не волнуйтесь, главное – найдется жених, уж от меня-то не скроется. Вас же Василиной зовут? – Больше Васькой кличут… – Невеста смотрела на него как завороженная. Вернее, на шрам на щеке. – Бросьте, ну какая вы Васька! Уже замужняя почти женщина, вам не к лицу. Он сказал хоть чего? Ну, Валентин, когда убегал. – Дядька… да не казал он ничога! И не сбегал никуды. Его покрали! – Что? – Жигалов невольно хохотнул от абсурдности услышанного. – Покрали? Кто покрал? – А я не бачила… Ручищи сунулись под фату, во-о-от такие длинные, волосатые, и шмыг! Дернули, а его як не бывало! Вот вам крест! – Василина мелко перекрестилась, и за ней жест повторила мать. Жигалов поморщился. – Ты шо мелешь, доча? – возмутился Макар Саныч. – Какие руки, куда дернули? – Лучше уж не крест, а честное пионерское, – майор махнул рукой Санычу, призывая того заткнуться. – Та-ак… Значит, руки дернули жениха? А дальше что? – Ничего… Я из-под фаты вылезла, и усе. – Василина, а вы выпивали сегодня? – Жигалов посмотрел на стол: да, выпивала. – Да она на донышке тольки! – воскликнула несостоявшаяся теща. – У нас один Макар пьющий! – Чего-о? Да я уж лет десять как… – Молчи, ирод! Весь день квасишь! А вы, товарищ майор, мине послухайте. В сторонку вас можно? А ты не мешайся, дочу утешай! – Жена Саныча отвела майора на пару шагов и прошептала: – Нехороший у нас зятек-то, Валька, дурной. С нечистью якшается! – Да что вы говорите? – Жигалов изобразил живой интерес. – Каким же образом? – Каким-каким… В лес он ходит, ясно? Ох, сердце мое материнское… Говорили мы Ваське, что не дело это, но не слушает она стариков. Сколько уговаривали, а ей все побоку – люблю его, грит, жить без него не могу. Она Макара уболтала, а я ж тоже не железная… – А нечисть ваша тут при чем? – Та при том! Вы слухайте серьезно, товарищ майор, не смейтесь – тут вам не Минск. В общем, есть у Вальки место заколдованное в лесу, туды он гуляет, и все о том знают. Проклятое место, нехорошее – топь это. – И что за место, где? – Да там, откуда он вышел! – В смысле? – Жигалов окончательно запутался. Опять заиграл вальс неугомонный дед Афанасий, и люди пошли в пляс; крикнули тост, майору и теще сунули в руки по рюмке – ничего не поделаешь, пришлось выпить. В голове зашумело, ударило в ноги приятной слабостью. Жигалов приземлился за стол рядом с угрюмым плечистым мужиком, жевавшим курицу. – А вот в том смысле! – по-мужски занюхав луковицей со стола, продолжила жена Саныча. – Сирота ж он. Вышел из лесу, когда годков пять было – чистый, упитанный, будто на убой его там кто кормил. Родителей его мы знаем – мать на Вогнище осталась, а отец у него партизан был, унес с собой в лес младенчика еще – успел забрать из дому. Там-то в лесу отца и убили, а мальчонка пропал – як под землю сгинул. Война как кончилась, так и вышел он из лесу, с топкого места за ручьем. Все то место знают, проклятое оно… – И что, часто он туда шастает? – Да только там и бывает! Макар говорит, за тем и в егеря пошел, шоб из лесу носа не казать. Оборотень он! Волки его выкормили! Все верно про него говорят! – Оборотни только в погонах бывают, Людмила Олесевна, – отшутился Жигалов и развернул женщину за плечи. – Вы лучше Василину успокойте, совсем девка раскисла. Гостей по домам не распускайте, думается мне, я с вашей бедой быстро разберусь. Будет женишок вам! Жигалов вздохнул и вытер пот со лба. Да уж, и впрямь не столица, про диалектический материализм тут и слыхом не слыхивали. Майор наложил себе в тарелку пару картофелин, котлету – хоть перекусить перед розыскными мероприятиями. А может, ну его?.. Нет уж, Жигалову теперь самому стало интересно, что там за место такое, куда жених ходить повадился. Может, и знахарь здесь как-то повязан. Кстати, а куда это он делся? – Уважаемый, что за место такое топкое у вас в лесу? За ручьем которое? – обратился он к мрачному мужику по соседству. – Уважаемые у вас в кабинетах сидят, а мене Свирид звать. На север по главной дороге направление, там налево сворот, его сразу видно. Як через ручей переедешь, там пешки в лес километр, вось и болото. В общем, недалека тут. А табе оно на кой? – Военная тайна. – Та-айна… – протянул Свирид, облизывая жирные пальцы, исколотые синими перстнями. – Тож мне тайна! Вальку-фраера пошукать решил? Не надо оно табе. Не наш он хлопчик. Мож, оно так и лучшей. – А чего так? – Так кто ж яшчэ в лесу як лешак якой сидит? Его, грят, и зверь слушается, и волк не тронет. Он же ж в лесу как дома, а у нас ему как в лагере – радости никакой. – Так егерь же, – растерянно протянул Жигалов. – Какой егерь! Да баба у него там! Лесная баба в болоте живет, страшенная стерва, кажут; вот он к ней грешить и повадился. Обручен с ней фраер браком бесовским – с ней Валька на болотах забавляется, а она после чертенят рожает. Вот табе и весь расклад, служивый. – Свирид шумно высморкался и кинул куриные кости под стол, вытер руки о штаны. – Так а сбежал тогда зачем? – наплевав уже на диалектический материализм, Жигалов честно пытался разобраться хотя бы в этой мракобесной логике. – Дык обручен же с той бабой! Якое ему свадьба, раз он сам бес почти? Мож, спужался, шо она его в бараний рог… Ты лучше гэта, выпей со мной. За нас с вами, за хер с ними! Пришлось и с этим накатить. Чувствуя уже не совсем приятное опьянение, Жигалов направился к Макару Санычу – взять ключи от машины или мотоцикла, когда его опять окликнул неугомонный дед-баянист. – Афанасий Яковлевич, я больше не пью. – Та не-е, сынку, я табе сказать кое-что хотел. По великому секрету! – Весь внимание. – Слухай сюды, – дед понизил голос. – Ты ж жениха шукать собрался? – Ну да. – Не треба. – Чего бы это? – А то! Ты мине як фронтовик фронтовика выслухай. Дрянное то место, там и до войны всякое деялось, а уж опосля… Табе Олесевна, небось, наплела, что Валька-егерь волколак или яшчэ чаго, да? – Ну было такое. С атеизмом вы тут, в поселке, не дружите, я погляжу. – А як же с ним подружишься, коли чертовщина кажный день? Вот Валька чего туда пошел, як думаешь? – Ну? – Так силы свои пополнять, чтоб Васька не очухалась. Ведьмак он, точно тебе говорю, колдун гребучий, Василинку заворожил. – Зачем? – Так як же ж! За ним ни гроша, а она за ним як кошка волочится! А Макарка Сизый Нос-то зараз за председателя – там сразу и жильем обеспечит, и должность подсуропит послаще. А когда-то на бутылку наскрести не мог… Жигалов поморщился. Деревенские байки начинали ему надоедать. – Эдипенко там может быть? – Гэта ты сам гляди, но не советую я табе по ночи никуды ехать, послухай дедушку Афанасия. Сиди, водку пей – завтре жених сам зъявится. Чаго соляру жечь зазря? Отмахнувшись от очередного предложения выпить, майор отправился к Макару Санычу за ключами. Тот уже был вдрызг пьян, сидел и рассказывал безутешной дочери, как он ее «во-о-от такую крохотулю на руках носил». Не допросившись ключей у пьянчуги, майор получил их в итоге от матери невесты. После тихонько прокрался к мотоциклу, пока снова кто-нибудь не предложил «накатить за здоровье молодых». Свадьба, слегка поутихшая после бегства жениха, снова входила в пьяный раж: кто-то ссорился, другие веселились; билась посуда «на счастье», раздавались пьяные крики и радостный гомон. За пределами спортплощадки, освещенной школьными фонарями, было уже темно – хоть глаз коли. Жигалов завел мотоцикл «Минск», поехал по деревне. Кто не гулял, разошлись по домам – в некоторых окнах уже горел свет. Майор остановился возле «лесхоза», проверил замок, поглядел в окна. Обошел вокруг и заглянул через дырку в заборе во внутренний двор. Пусто, один трактор стоит. Придется, видать, до лесу таки прокатиться, благо недалеко. В наступивших сумерках лес казался гигантской черной стеной, окружившей Задорье. От поднявшегося ветра деревья угрожающе кивали макушками, мол, иди-иди, дурак, себе на погибель; слышался утробный свистящий гул, словно где-то бесконечно далеко великан играл на трубе. Дорога истончилась до тропинки, а вскоре и вовсе пропала. Жигалов доехал до поворота, остановился у ручья – дальше пришлось идти пешком. Мотоцикл глушить не стал – оставил гореть фару, чтоб хоть что-то видать: меж сосновыми стволами было темно, как в подземельях Лубянки. Жигалов хмыкнул, увидев пятна грязи с ручья, ведущие в чащу. Все сошлось: дуралей и впрямь отправился в лес – и на кой только? – Эй! Эдипенко, ты здесь? Женишок, ау! В ответ ухнула неясыть, перепорхнула с ветки на ветку. Выругавшись, майор прошел немного по тропинке вглубь леса: луч света от мотоциклетной фары здесь будто отрезало, и Жигалов оказался один в кромешной темноте. Пришлось зажечь спичку. – Эдипенко! Я знаю, что ты здесь, выходи! Это Элем Глебович, я на свадьбе у тебя гулял. А ну кончай дурить! Глаза немного привыкли, майор углядел петляющую меж стволов тропу. Туфли увязали в размякшей почве, проваливались в мох. Жигалов чертыхнулся – не хватало еще в топь залезть. Он спустился, скользя по грязи, со склона в прогалину, огляделся. Здесь деревья стояли реже, выглянул полумесяц, озарив мертвенным сиянием заросли кустов, валежник, упавшие деревья с корнями, торчащими, как старушечьи пальцы. Дальше лес редел, виднелось широкое темное болото, покрытое ряской. – Эдипенко, твою мать! Слушай сюда: я майор госбезопасности! Если не выйдешь на счет «три», я твою задницу на британский флаг порву. Ра-аз! Два-а!.. – считал майор, осторожно продвигаясь вперед со спичкой в пальцах. Дохнуло ветерком в спину, и спичку задуло. На секунду показалось, что не ветер это – будто дохнул кто, стоя аккурат за плечом. Чувствуя, как мурашки прокатываются по позвоночнику, майор поджег еще одну спичку; прямо из-за плеча вновь шутливо дунули, и огонек погас. По привычке хватаясь за пояс, где должна была висеть кобура с оружием, он резко развернулся и уткнулся носом в мягкую темноту. Почувствовал кислый запах застарелого пота и сырой земли; прижавшаяся к лицу темнота на вкус была как грязные пальцы, за которые мамка била, если Элемка начинал их сосать – в далеком-далеком детстве. Из глаз сами собой брызнули слезы, отчего-то захотелось рыдать, и майор в самом деле завыл, что младенец, но тут его погладила по голове нежная ладонь. Прикосновение было такое ласковое, что любые страхи и горести развеялись, в голове стало пусто-пусто – и наконец-то можно вдоволь сосать грязные пальцы, и никто не шлепнет по губам. Жигалов повис на руках у странного молчаливого существа, макушкой достающего до нижних ветвей сосен. Существо с улыбкой покачало уснувшего майора, тыкая ему в лицо огромным, с морковь, соском. Жигалов, не открывая глаз, слепо нашарил сосок губами и жадно зачмокал. Лесная баба потеребила вторую грудь, набухшую от молока, и медленно побрела в болото. Сквозь негу краем глаза майор видел ее тумбообразные и покрытые черным волосом ноги; от ступней оставались глубокие отпечатки – раза в три больше человеческих.

– Дядька, ты ж казал, она его цыцкой пришибет. А тут пожалела, шо ль? – спросил Максимка. Среди деревьев белела, отороченная жировыми складками, широкая спина уходящей гыргалицы. – Вишь, паскудь паскуди рознь. Так-то она обычно мужиков вдругорядь и правда цыцкой зашибает, а тут, вишь… Фронтовик он, видать, а гыргалица сама воевала. Он ей як сынок. Ты лучше скажи, соль рассыпал, где я сказал? А то сами зараз цыцкой огребем. – Так точно, дядька! – Гляди мне! Ну, пошла потеха! – выпрыгнув из засады, Демьян зычно крикнул: – Эй, дылда! Человека брось! Гыргалица остановилась, неторопливо повернулась к людям. Осклабилась: с перекошенных синих губ повалила пена. Майор на ее руках захныкал и покрепче ухватился зубами за сосок. – Куды Вальку дела, дура? – негодовал зна́ток. – А я ж ему казал! Со свадьбы утягнула, гэта ж надо учудить! Ладно гэтот, он сам пришел, а к людям-то на кой лезть? Лесная баба завыла горестно, опуская майора на землю. Тот свернулся в клубочек и, не найдя сиську, захныкал, снова принялся сосать палец. Гыргалица, набычившись, враскоряку пошла на противников; огромные груди раскачивались при каждом шаге, а ноги утопали по щиколотку в болотистой почве, выворачивая комья грязи. – Слухать она не собирается… Работаем, хлопче! Максимка достал кадку запасенной из дому соли и быстро высыпал остатки, замыкая защитный круг. Гыргалица карабкалась вверх по склону, ставила ноги меж обнаженных древесных корней, чтобы не скользить в грязюке. Тут она резко остановилась, будто ударившись лбом о твердое стекло. Взвыла и взялась обходить – вдоль ее пути то и дело встречались полосы щедро рассыпанной соли. Зна́ток в это время достал с кармана мешочек и высыпал из него на ладонь ингредиенты для заговора, за которыми пришлось заскочить до дому: сушеную волчью ягоду и отрезанный у Полкана клок шерсти. Рычащей от злости гыргалице приходилось идти по узкой тропинке меж белых дорожек. Максимка старался не смотреть на пугающую размерами фигуру чудовища; белесые глаза лесной бабы бешено вращались, обещая лютую смерть любому, до кого та доберется. – Максимка, ну-кась подсоби! Ученик с третьего раза поджег спичку – руки тряслись от волнения. Приблизил огонек к ладони Демьяна, взглянул вопросительно: – Больно ж будет? – Жги давай! А потом замыкай ее, як я тебе казал. Не оплошай тольки, не то враз сиськи отведаешь. Сор на ладони Демьяна вспыхнул от огонька, зна́ток поморщился и быстро забормотал заговор:
Чернобога псы стерегут врата,
Мост меж Навью и Явью,
Придите, псы, за ночною хмарью,
За убегшей тварью…
Остры клыки,
Лапы быстры,
Придите из тьмы…
Приходите, псы,
За мясцом нечистым,
По берегам каменистым,
По ямам смолистым…

Раздался громкий звон, отозвавшийся в похмельной голове похоронным набатом. Жигалов еле разлепил глаза, огляделся в недоумении. К горлу подкатила тошнота, майор с трудом удержался, чтобы не наблевать прямо на скатерть. Оказалось, он спал, сидя на стуле и повесив голову на грудь. Звенел пустой стакан, по которому колотил вилкой сидевший напротив за столом и. о. председателя. Макар Саныч встал, пьяно пошатнувшись, и громко оповестил: – С-секундочку внимания, та-ва-ри-счи! Оставшиеся гости – многие уже разошлись – повернулись к Макар Санычу. Во главе стола сидели молодожены – счастливая невеста и жених в свежем костюме явно с чужого плеча. Жигалову сунули в руку залапанный стакан вина, при виде которого он с трудом подавил очередной приступ тошноты. Это ж сколько он выпил?.. – Как я здесь… Гхм… Что случилось? – Тс-с, тост говорят! – зашикали на него. В Задорье уже светало – наступило утро, и во всю глотку заголосил петух в соседнем дворе. В умат пьяный Макар Саныч высоко поднял рюмку. – В о-общем так! Свадебный подарок от меня! Ва-алентин, ты мне таперь хто? Праильна, сын! А я заради деток во, любому! – Макар Саныч потряс кулаком в пустоту. – Так шо, сына и доча, вам жалую от отцовского сердца… дом в Задорье! А табе, сына, да-авно пора должность, шоб начальством был, а не этим, как его… игорем… – Егерем, – подсказали ему со смехом. – Во, да! Так шо, сына, будешь таперь начальником лесхоза. Или яшчэ яким начальником… Ко-ороче, за молодых! Го-орько! Нетрезвые жених и невеста принялись целоваться, на этот раз уже без фаты. Жигалов недоумевал – вроде же Саныч квартиру в городе подарить обещался. Хорохорился перед зятем? Или он это и вовсе выдумал? Мысли слиплись, как остывшие котлеты на блюде. Все выпили, Жигалов тоже пригубил в надежде избавиться от головной боли, но зря – от вкуса алкоголя желудок взбунтовался и бил полундру. Не смог почему-то выпить и Макар Саныч – дважды подносил стопку к губам, морщился, потом все же сдался, поставил обратно на стол; тоскливо поглядел на рассветное зарево. Жигалов подавил очередной бунт во внутренних органах, огляделся: гости болтали, смеялись, тянули какую-то заунывную песню. У пенька в обнимку с баяном громогласно храпел Афанасий Яковлевич. – Ну шо, як самочувствие, товарищ майор? – На скамью рядом приземлился Демьян. Он так ехидно улыбался в бороду, что у Жигалова аж кулаки зачесались. – А, знахарь… А что вчера было? – Зна́ток, а не знахарь! А вчера ты напился в крендель, майор. Шо, непривычный к нашей горилке? Давай лучше самогону, от него башка не так хворает. – Демьян разлил по рюмкам мутной жидкости из бутылки. Левая ладонь у него была перебинтована. – Ты-то вчера и водки бахнул, и винища сверху накатил! – Мы с вами… на «ты» не переходили. – А вот давай по одной пропустим и перейдем. Шоб поправило тебя, а? – Не хочу… – вяло отказывался чекист. Демьян ухмыльнулся, в его глазах заиграли веселые искорки. – Как это не хочешь? А за здоровье молодых? Вновь раздались пьяные крики «Горько! Горько!». Майор обреченно поглядел на рюмку.
Сказ о молодце и ведьме
Психиатрическая больница в райцентре расположилась на пустыре, в отдалении от автобусной остановки. Чтобы попасть туда, необходимо было проехать через ворота, крашенные зеленой краской, потом еще километр трястись по неасфальтированной дороге, и вот он – главный корпус стационара. Окна забраны толстыми решетками, сквозь которые на улицу тоскливо смотрят местные дураки. Восемь утра, в пищеблоке готовят завтрак; у черного хода курит водитель-экспедитор, наблюдая, как двое молчаливых пациентов из небуйных выгружают этажерки из фургона с надписью «Хлеб». Водитель вытер вспотевшее лицо платком – уже душно, несмотря на раннее утро. Глянул на небо – с запада катились к городу пухлые темные тучи, предвещавшие дождь к обеду: вот и конец долгой жаре. Водитель раздумывал – глянуть, что ли, на психов? Так, для забавы. Подойдя к окну, он приподнялся на цыпочки и уставился внутрь, через мутное стекло, сложив ладони лодочкой. По коридорам ходили, шепча или, наоборот, крича, дураки: у каждого из них имелся свой голос, нашептывающий на ухо бредовые мысли и гениальные идеи, способные перевернуть мир. Кто-то, не слыша внутреннего голоса и костенея от инъекций галоперидола, стучался головой о стену – таких уводили в отдельную палату и привязывали к койке, ширнув в задницу димедрола для душевного спокойствия. Другие, напротив, расслаблялись и радовались отсутствию голосов, бегали по палатам, заглядывали в «наблюдалки» и корчили рожи. В коридорах витал терпкий запах хлорки – ею медсестры мыли палаты каждое воскресенье, чтоб хоть немного перебить зловонный дух сотни не слишком чистоплотных – душ под шлангом раз в неделю – бедолаг, запертых в этих стенах. Таков он был, мужской психиатрический диспансер номер семь. Евгений Кравчук, бывший председатель Задорья, а ныне – тоже «дурак», стоял в очереди к раздаточному окошку столовой, уставившись в стену остекленевшими глазами. В руке он сжимал клочок бурой ткани, которую время от времени прикладывал к носу, принюхиваясь: а ну как получится уловить запах Аллочки? Грязную простыню у него уже, конечно, пытались отобрать, но обыкновенно спокойный пациент махом становился буйным, а уж за последний клочок дрался как лев, так что врач в итоге махнул рукой – хай нюхает, невелика беда. – Следующий! – из раздаточного окошка грохнули подносом. На подносе миска с сечкой. Из каши стоймя торчала ложка, сбоку лежал размякший сухарь – давнишнего хлеба, не того, что привезли сегодня. Евгеша – так его прозвали уже здесь, в больнице, – уселся за стол, без интереса поковырялся в каше. Пациент-разносчик с чаем из «блатных» осклабился ему в лицо и дал размашистого щелбана, да так, что Кравчук отшатнулся и заскулил, хватаясь за лоб: – За шо-о-о? – Шоб ты, председатель, морду не кривил. Тута тебе не ресторация, жри чаго дают, белоручка, мля. – Товарищ, а мне хлеба яшчэ можно? – спросил псих по фамилии Васелюк, угодливо лыбясь черными пеньками зубов. – А сала? Сальце есть? – Ишь че захотел, сальца ему! – хохотнул разносчик, удаляясь. – Нету сала! Сало – уд сосало, зразумел? Васелюк вздохнул, глядя тому в спину; он останавливался у каждого стола и шутковал над товарищами по несчастью – кому между делом по щеке ладошкой шлепнет – чтоб пайка наружу, а кому ухо выкрутит. Администрация на такие выходки смотрела сквозь пальцы. Васелюк отпил-таки желтого и теплого, как моча, чая, после вновь затянул свою вечную канитель: – Сало не сосало, во чудак! Бач, скока поговорок про сало есть! Грязь – не сало, помыл, и отстало… Богу слава, попу кусок сала… – Васелюк огляделся, вытащил из носка замусоленный и потемневший шматок, кинул в рот и зашамкал: – Кому щего, а цыгану шала… – Замолчи-и… Заткни-ись! – Кравчук прижал к ноздрям кусок ткани, в надежде вернуться в прошлое, к живой жене и детям. А где дети? Где его дети?! – Шало – вшему голова, во! А ты щиво не ешь? Ну и ладно, мы ш шалом пошуем, – Васелюк деловито придвинул к себе миску Кравчука. Евгеша был не против – лишь бы тот замолк со своим салом. Ему в последнее время было постоянно не по себе. Поначалу, с непривычки, срабатывали седативы и он сидел в счастливой и безвременной прострации, не помня ни себя, ни как он здесь оказался. Со временем организм, похоже, выработал иммунитет, и теперь Кравчук пускай не вполне осознавал, где он, как долго здесь и вообще кто он такой, но при этом ощущал себя запредельно, бесконечно несчастным. Прежде ясный и до мелочей понятный мир опрокинулся с ног на голову, стал, как говорят на Западе, сюрреалистичным. Слово это он вспоминал почти три дня, а когда вспомнил, удивился – оно подходило под описание буквально всего его существования. Приходилось вставать по звонку, слушаться сестер и санитаров, терпеть унизительные процедуры. Он вдыхал по ночам запах из простыни, ослабевающий с каждым днем, и тихо, тоскливо выл в стену. Васелюк вдруг бросил ложку на стол. Уставился на проходящую мимо медсестру – Акулину, одну из немногих нормальных работниц заведения, не склонных к безразличному и ставшему обыденным садизму. Фигуристая и черноволосая, она озарила его белоснежной улыбкой. От такого внимания Васелюк оживился. – Шала-а! Шала, Акулинка, шала дай! Ну дай! – Он тыкал пальцем в рот с почерневшими зубами, попытался схватить сестру за руку, но та увернулась. – Шала, Акулин, ну будь ты щеловеком! Ну дай мне шала, шматочшек вщего! Щутощек! – Не дам! Здравствуй, Женечка! – бросила она Кравчуку, который на секунду оторвался от простыни и улыбнулся в ответ – Акулина ему нравилась. Да и называла ласково, Женечкой, совсем как его Аллочка. – Акулинка, ну не шаднищай!.. Медсестра игриво потрепала Васелюка по сальным волосам и юркнула среди столов с сидящими за ними психами, гнувшими головы над мисками. Васелюк подскочил, погнался за ней следом, но свернул миску с кашей, да сам и поскользнулся на липком месиве – врезался лбом о край стола, завыл. На макушку ему полился чай из опрокинувшегося чайника. С соседнего стола подскочил раскосый дылда Цыренов, затряс Васелюка за грудки и зло закричал ему в морду: – Ты че, не вдупляешь, тута люди кушають, дура ты?! Какое шало, идиеть, када нас тут нопланетяне в плену держат? Откуды шало у нопланетян? Ты соображай бестолковкой шо-нить, не? Э, дурак?! Бурят Цыренов был ярым последователем теории об инопланетном мировом правительстве и плоской Земле. Он высказывал несколько раз весьма оригинальную теорию, что, мол, планета наша – она как медаль, имеет две стороны, и вот на верхней живут люди, а на той – инопланетные буржуи, что утаскивают к себе под землю честных граждан, чтобы над ними измываться и опыты ставить. Васелюк же думал только о сале да об Акулинке, поэтому дал оппоненту по рукам, вырвался и заскакал на четвереньках в сторону выхода, истошно вопя: – Шало не шошало, шам ты шошал! Дура японская! Акулинка, щтой! – Кто японский, я японский? Я бурят! Э, иди сюда! – Цыренов погнался за любителем сала, попутно опрокинув с чьего-то стола очередной чайник и пару шлемок. Психи, недовольно ворча, начали подниматься из-за столов, хватать табуретки – плевать, с кем драться, лишь бы повод был; то были не забитые городские психи. Местные дураки вполне могли набить морду. Кравчук продолжал нюхать свой клочок простыни. Он не замечал, как в столовую вбежали обеспокоенные санитары. Он не замечал, как началась драка, а рядом с разбитой головой упал на кафель бурят Цыренов. Он ничего не замечал вплоть до того момента, как ему заломили руки и поволокли в палату. Тут он, на свою голову, взялся кричать и вырываться, боднул санитара лбом в нос, так что тот самый разносчик – Белянович, кажется – так саданул ему под ребра, что нормально вдохнуть Евгеша смог только минут через пять. Втолкнули головой вперед в «наблюдалку». В палате Кравчуку вкололи седатив, примотали ремнями к сетчатой кровати и оставили пялиться в потолок – впрочем, как и всегда. – Бушь яшчэ брыкаться, не? То-то же, мля! Охренели зусим, суки! В коридоре завязалась новая драка, и санитар убежал прочь. Драгоценный клочок куда-то задевался в гуще драки. Кравчук остался в палате в компании с двумя дураками – вечно привязанным и оттого вечно смердящим стариком Тимохой, до полусмерти избившим свою бабку в приступе белой горячки, и тихим сумасшедшим по фамилии Быков, который считал себя реинкарнацией товарища Сталина. Кравчук ощутил эффект димедрола: по рту и горлу распространилось вяжущее, как от хурмы, онемение, потянуло в медикаментозный сон. Нет, не спать! Евгеша задергался в путах, но санитар свое дело знал – найтанул так, что на сантиметр не сдвинешься. Председатель завыл, забился затылком о спинку кровати, пуская меж зубов белую пену. От отчаяния хотелось помереть или, наоборот, убить – кипящая ярость перебила димедрольную негу, и в мутной голове родился план мести клятым санитарам. Глотку им вскрыть, сукам! Растоптать, башку разбить о подоконник! – Ты не рыпайся, хлопчик, – ласково прошептал с соседней кровати старик Тимоха, – все одно ж тока хуже буде. Ща придуть ведь и яшчэ чаго в жопу вколют, покрепше. – Да пошел ты-ы! – Кравчук вытянул вперед голову в попытке уцепиться зубами за ремень, но не смог дотянуться. – Слышь, Быков! Отвяжи меня! Быков не отреагировал, молча отвернулся к стене. Дурака обижало, когда его звали Быковым, а не по партийной кличке – товарищем Сталиным. – Су-уки-и! – завыл Кравчук в коридор, откуда доносились приглушенный мат и звуки борьбы – в диспансере начался настоящий бунт. – Я вам всем… Да я член партии, слышите! Эй, вы! Я на вас жалобу напишу, сволочи драные! В КГБ, в ЦК напишу! Слышите?.. – Слышу, слышу, Женечка, – раздался вкрадчивый бархатный голос, от звука которого Кравчук мгновенно угомонился и обмяк в своих путах, вспотевший от усилий. Он тяжело дышал, глядя на вошедшую в палату медсестру. – Я здесь, не волнуйся, родной! Акулина как обычно была в белом халатике на размер меньше, обрисовывающем пышную грудь и тонкую талию. Двигалась она нарочито медленно, как манекенщица, будто стремясь показать все свои прелести: точеные ножки в колготках, круглую попу и тонкую лебединую шейку; каждый раз, как она наклонялась, пуговицы на груди едва не лопались от натуги. По плечам рассыпались угольно-черные волосы – если б была блондинкой, подумал Кравчук, то вылитая Аллочка. Он облизнул онемевшие от инъекции губы, уставился на медсестру. – Акулина… Отвяжи меня, милая! Она заливисто рассмеялась, как над смешной шуткой. Поставила на тумбочку поднос с препаратами и присела рядом, заботливо укрыла пациента одеялом. Тимоха внезапно захрапел, что трактор – уснул, старый. Быков тоже не подавал признаков жизни. – Ну как я тебя отвяжу, дурачок, коль ты лечишься еще? Я тебе только душевно помочь могу, – она взяла с подноса стеклянный шприц, набрала прозрачной жидкости из ампулы и пощелкала ноготком. – Чтоб ты в себя пришел, домой к деткам вернулся здоровым. Меня вот учили – добрее к людям надо быть. Мы ведь все как? Каждый в своем аду варится. – Да-да, верно говоришь! Это ад! Акулинка, ты тут одна нормальная, ей-богу! Ты чисто ангел, Акулина, чисто ангел… Отвяжи, дай я сбегу. Мне домой, к детям надо… Я тут… Я тут не могу уже, – он жалобно всхлипнул, наблюдая за шприцем в тонких пальцах медсестры. – И меня кололи уже сегодня! Не надо больше! Ну пожалуйста! Задумчиво поглядев на Кравчука, девушка неожиданно отложила шприц. – Знаешь, Женечка… – Она одна звала его Женей. – А ведь ты мне тоже помочь можешь. Если захочешь. А я тебе взамен помогу. – Я?.. – растерянно пробормотал дурак. – Как? – Поверь – можешь, Женечка. О, придумала! – Она улыбнулась, будто ее только сейчас озарило идеей. – Думается мне, твоя помощь платой и станет за свободу-волюшку. Ничего на свете просто так не бывает, сам знаешь. – Плата? Ей-богу, Акулинка, проси, чего хочешь, я ж только тут дурак, а вообще я член партии. С писят третьего! Отвяжи, отпусти, мне домой надо! – Он вновь начал дергаться, рвать проклятые ремни, но сразу замер и обмяк, стоило Акулине ласково погладить его за ухом. Девушка соскользнула на пол, как кошка, положила голову ему на живот, посмотрела в глаза – пронизывающе да так пристально, что заворожила председателя. От ее прикосновений по телу пробежал ток. Он только сейчас заметил, что очи у нее синие и бездонные, как пучина морская, и столь же стылые: будто разбиваются где-то в Арктике вековечные льды, крошатся айсберги – такая сила сокрыта в ее взгляде. Мощь неумолимой стихии, воющей свирепой вьюги. Рокот падающей с гор лавины, сокрушающей все на своем пути. – Не передумал еще? – каким-то глухим, не своим голосом вопросила медсестра. – Плата требуется – я предупредила. Согласен? – Проси, чего хочешь… – прохрипел Кравчук, не в силах оторваться от гипнотизирующего взгляда. – Все отдам! Только освободи, отвяжи! – Ну так согласен? – уточнила Акулина. – Согласен-согласен! На все согласен! – Тогда придется тебе, Женечка, сначала сказку выслушать. – Какую такую сказку? – Про лихого молодца, да про ведьму хромую, да про должок старый, – ее напевный голос, вновь ставший мурлычущим и ласковым, ручейком лился в уши, и Кравчук сам не заметил, как с края рта у него поползла струйка слюны. Не брезгуя, Акулина вытерла ее пальцем. Кравчук заметил, что безымянный палец у медсестры уже занят какой-то неприметной гайкой, подумал невзначай: «Эх, жаль, замужем». – Думается мне, интересная сказка выйдет. Готов слушать? – Готов, ангел мой… – выдохнул председатель. – Готов! Акулина деловито кивнула и зачем-то взяла с подноса железные щипцы. Улыбнулась дураку. – Тогда слушай, милый. Попал как-то к одной деревенской знахарке мальчонка в ученики…
ХРЯСЬ! Было то до войны еще. Жила в белорусской деревне, в доме на окраине, хромая старуха. Звали бабку Купавой. Ее всякий знал и обращался за помощью – кому скотину подлечить, кому вещь пропавшую найти. Кликали ее кто знахаркой, кто знаткой или знатухой, а кто и ведьмой обзывался. Жила Купава в Задорье уж столько лет, что даже местные старики помнили ее дряхлой да хромой, покуда сами под стол пешком ходили. Любили ее не шибко, но уважали – без знатки в деревне никак. Кажут, была как-то раз у знатухи ученица, да пропала – в Минск уехала, бросила старую в Задорье. Так и жила Купава бобылихой, вечно одна-одинешенька в доме на отшибе, но на тяжелую долю не жаловалась. Однажды прибежал к Купаве мальчонка с соседней малой вёски, Демка Климов. Слыл Дема деревенским дурачком, что «видит всякое». Жили они с матерью небогато – вдова после самогубства мужа так и не решилась сызнова сойтись с мужиком, а потому тянула лямку за себя и троих малых ребятишек. Как-то раз захворала у них корова – кормилица единственная. Брюхо раздулось; бедняга мычит, мучается, жидким ходит, глаза больные, затуманенные. Тогда Демьян по наказу матери побежал к бабке Купаве. Та еще удивилась – тринадцать лет хлопцу, а сам як пришибленный. За дурачка его считали. Купаться в речке боялся, бо видал там огромную шишковатую голову, наблюдавшую за плавающими ребятишками. Воды из колодца брезговал набрать, видя, как вспухшая склизкая тварь плюет в ведро, стоит то в колодезь опустить. За такие причуды Дему не любили, считали малахольным – а он-то на деле, как старуха сразу увидала, был не так-то прост. ХРУМ! В общем, попросил малой Дема хромую старуху о помощи, та схватила клюку, оперлась на посыльного и заковыляла. Дему в коровник с собой взяла – в подмогу. Купава подняла хвост скотине, мальчишке наказала держать, чтоб не брыкалась. Раздвинула коровье нутро, а оттудана Дему чей-то глаз с куриное яйцо как зыркнет – так мальчонка в навоз и повалился. Спросила тогда бабка строго: – Няужо побачыл его? Он кивнул. И выложил все как на духу – про колодезное чудище, про хозяина омутов, про повешенного батьку, что в подвале болтается в петле и норовит всякого пришедшего с лестницы спустить. Бабка Купава выслушала, а на следующий день приковыляла к дому Климовых и заявила мамке, мол, забирает парня на год, на обучение. Знаткий он! Мамка, конечно, в слезы, но Купаве перечить никто не смел. Так и зажили они вдвоем – малой мальчуган да старая колдунья, два сапога на леву ногу. ХРУСТЬ! Он ее сначала побаивался. Про Купаву в деревнях слухи ходили один другого жутче, да и сама она не походила на безобидный божий одуванчик: из-под верхней губы желтый клык торчит, как у Яги, лицо скукожилось, что абрикос сушеный, сама горбатая да хромая. Даже летом, в самую жару, в шаль закутана, в десяток юбок да тряпок. Но дома у страшной ведьмы Деме понравилось. Мать у него была неряхой, а тут краса, да и только – ни в одном углу пылинки не сыщешь. Он уже поздней понял, что в суседке дело, тот порядок наводил, но и бабка Купава отличалась чистоплотностью. В избе на окраине все было строго. Поел? Тарелку помой. Домой с улицы пришел? Руки сполосни. Помои понес выбрасывать? Тащи в овраг, неча рядом с домом грязь разводить. На крыльце подмети, в стайке за коровой убери, в огороде сорняки прополи… А еще забор надо подлатать, и дров наколоть, и на крыше черепицу перебрать. Заданий хватало. СКР-Р-РЯМ! К вечеру Дема так уставал, что без задних ног валился в постель. А утром, просыпаясь по крику петуха, думал: все, придушу тварь горластую. Благо готовила Купава вкусно – ток глаза распахнешь, а пахне як – иван-чаем душистым, блинами с вареньем, бульбой на масле и в зелени, и мясо парное всегда на столе, если поста нет. Никаких щей пустых, как у мамки дома. Ритуалам бабка его поначалу не учила, больше наставляла. Присядет рядом за стол, травки разложит да давай спрашивать: «Як гэта трава завецца, а вот гэта як?» У Демы голова кругом шла, он-то думал, услышит чего про нечисть, что видит вокруг, а тут надо гербарий всякий знать! Что твой ботаник, ей-богу! Но бабка была непреклонна. Дала ему тетрадь с названиями, наказала учить все строго, а еще заговоров и зачинов написала страниц двадцать. И все надобно вызубрить, как стихи, чтоб как Отче наш скороговоркой вылетало. Однажды ночью напала бессонница, мальчик не спал, ворочался с боку на бок долго после полуночи. Услыхал шорох в бабкиной комнате – он сам-то ночевал на кухоньке у печки. Повернулся набок, глянул, а там… глядь, фигурка девичья, в чем мать родила, крадется к выходу, лунным светом освещенная. Он даже глаза кулаком потер и ущипнул себя за кожу: кемарю я уже, что ли? Ан нет, сна ни в одном глазу, а девка та, молодая да стройная, как стебелек, надела сапоги и тихо, стараясь не скрипеть петлями дверей, выскользнула на улицу. ТЬКРХР-РУ! «До ветру, шо ль, пошла?» – подумал Дема. Пока незнакомки не было, он вскочил с кровати и заглянул в комнату Купавы – оповестить старуху, что по ее избе ночью девка посторонняя шастает. Только той в кровати не оказалось. Одеяло откинуто, шаль и юбки шерстяные рядом лежат кучей. Трость у стены стоит. И никого, как испарилась знатка. Дема юркнул обратно к себе в постель, затаил дыхание. Вскоре дверь избы отворилась, и стройная девчушка тихо-тихо прошмыгнула в бабкину комнату. Внимательно прислушиваясь, он различил, что та забралась в постель… КР-РХРЯМ!

Место так и прозвали – Выклятый Млын. Максимка с детства помнил, что ходить сюда не велено, но с Демьяном, оказывается, везде можно. Выклятый, бо проклято все, а Млын – потому что мельница тут старая, вся уже трухлявая, одно колесо да сваи уцелели, да и те того гляди рухнут от старости и пропитавшего их гнилья. Речушка, крутившая огромное колесо, давно иссякла – булькает затянутая ряской спокойная заводь да лягушки квакают. Зна́ток с учеником, несмотря на надетые накомарники, ежеминутно отмахивались от трещащих в воздухе паразитов – тут комарья столько, что и сожрать могут. Так и парят кругом, кровососы. И то утро еще, а скоро так налетят, что продыху не будет. Демьян воткнул в землю лопату. Внимательно поглядел на запад, где собирались темные грозовые тучи, буркнул: – Навальница к обеду грянет… Надо б нам хутчей все зробить, а то вымокнем до нитки. – А чаго сюды пришли, дядька? – Максимка без интереса поковырялся палкой в тине, затянувшей запруду. – Вы ж говорили, к церкве идем, купола откапывать. – А зараз сам и побачишь. О, вот и она, красуня наша! Из тины прямо около Максимки вынырнула женская голова, облепленная ряской и грязью, осклабилась острыми рыбьими зубьями. Мальчишка даже удивиться не успел – только ойкнул, упав на зад. – Не ждал, да? – засмеялся зна́ток. – Ну, привет, Нинка! Как ты тута поживаешь? Много жуков поутопляла? Максимка, оторопев, разглядывал лицо выплывшей из запруды женщины. Собственно, и разглядывать-то нечего – лица как будто и нет вовсе. Не морда, а стесанный рубанком кусок хозяйственного мыла, а на морде – глазищи черные, яростные, горящие злобой безумной. Женоподобная тварь чуток выволокла тело из омута на берег, хлюпнула перепончатыми лапами прямо около ботинок Максимки: тот боязливо подтянул ноги. Чудище распахнуло широкую крокодилью пасть, прошипело: – Вс-сех убью… Потоплю-ю… – Ну-ну, парнишку не жахай, дура водяная! – прикрикнул Демьян. – Гэт-та кто, д-дядька? – от неожиданности Максимка начал заикаться. – А гэта, хлопче, Нинка-фараонка. Давно пора табе с ней зазнакомиться. Да, Нинусь? Фараонка молча бултыхнулась обратно в воду – лишь мелькнул темный силуэт в зеленом омуте, – а спустя минуту вынырнула и ловко взобралась на мельничное колесо, заскрипевшее под ее весом. Максимка увидел, как с ее тела осыпаются в воду всякие мелкие рачки и улитки, налипшие кусочки водорослей; поняв, что, по сути, нагло разглядывает голую бабу – пущай и мертвую, – отвел взгляд, зарделся. Нинка потрясла головой, обратила к людям мертвый ненавидящий взгляд. Просипела, с трудом выговаривая человеческие слова: – Чаго хотел, зна́ток? – Повитаться пришел, казал же. Хлопца запомни – свой он, зразумела? Не жук! Она медленно кивнула, внимательно оглядела ученика. Максимка сглотнул собравшуюся во рту вязкую слюну. – Немцев-то много потопила? Ну, жуков в смысле? – спросил Демьян. – Мало… Шибко мало. Усе яшчэ кусають. Всех утоплю, – с этими словами русалка юркнула в воду и пропала насовсем. Мельница заскрипела, грозя обрушиться не сегодня, так завтра, – колесо медленно пошло по кругу, баламутя грязную воду. – Вот и побалакали, даж не попрощалась, – вздохнул зна́ток. – Лады, с Нинкой ты знаком таперь, почапали к Вогнищу быстрее – вона ужо тучи якие. Грозовой фронт и впрямь стал ближе, охватил кусок неба клубящимся бочагом, в котором мерцали извилистые молнии. У места под названием Вогнище Максимка испугался еще больше. Ему даже не понадобилось входить на пепелище, чтобы понять – нехорошее тут место, гиблое. Зубы заныли так, что ученик схватился за челюсть и замотал головой, словно говоря – не пойду! Впрочем, Демьян его и не гнал, сам встал как вкопанный, задумчиво глядя на черные останки сгоревшего амбара. Потер щеку, скривил лицо. Из амбара будто кто ухнул, мелькнула уродливая темная фигура – или показалось, от тучи тень упала? Максимка пугливо отступил назад. Демьян взял его за плечо и направил по старой дороге, густо заросшей папоротником и травой. Привычно потрепав ученика за волосы, зна́ток указал пальцем: – Шагай скорее, хлопче, на месте мы почти. Тама храм старый, за поворотом. И зашагал сам, так скоро, что не угнаться. Не оглядываясь на жуткий амбар. А шли они, как уже знал Максимка, к разрушенной церкве, что на месте Старого Задорья, сожженного почти дотла нацистами; половину-то деревни заново отстроили после войны, понаставили бараков советских вместо изб. Только церкву, как недовольно известил Демьян, уничтожили не немцы. Ту еще большевики взорвали во время Гражданки. Подложили в фундамент десяток кило тротилу – и привет. Еще и на кинокамеру сняли… Собственно, от церквы ничего и не осталось. Две полуразвалившиеся стенки да кусок фундамента. Травы по пояс, в ней кузнечики стрекочут так громко, что уши закладывает. Всюду молодой березняк и осина – глядишь, еще дюжину лет дождать, и все кругом лесом зарастет. На стенах кучковались вороны, каркали и переступали лапками, отчего осыпалась на землю кирпичная пыль. Демьян шикнул на птиц, те неохотно сорвались и полетели черной стаей в сторону темнеющей на горизонте грозы. – Тута пошукать треба, под куполом як раз… Ну шо, копаем! – Зна́ток поплевал на руки и вонзил лезвие лопаты в землю – прямо посреди бывшей церкви. Пока Демьян вгрызался шанцевым инструментом в почву, Максимка разглядывал руины. Выкопал мыском ботинка прогнивший до черноты обломок иконы с изображением какого-то святого; бросил обратно в траву. Прогулялся от одной стены до другой, считая шаги. На глаза попалось забавное дерево – его ствол раздваивался рогаткой, а ровно посерединке восходило утреннее солнце. Максимка присвистнул. – Чаго там? – Уставший Демьян поставил лопату, вытер платком пот со лба. – Дядька, вы гляньте, як дерево странно растет! – Вот ты, брат, молодец! – с неожиданным задором похвалил Демьян. Подошел ближе, глянул с одного места, с другого – как ни повернись, все равно солнце посередине окажется, будто привязанное. – Вочи у тебя зоркие! Такую штуку нашел! – Демьян даже языком цокнул, будто завидуя. – Дякую, – Максимка даже смутился, что эта, собственно, мелочь привела знатка в такой восторг. – А что, дерево якое дивное, да? – А то! Гэта ж осина, колдовская дрэва. Осина всегда прямо растет. А тут, гляди, рогаткой, и так, что солнце ровно посредине стает. И на святом месте… – Демьян на секунду задумался, потеребил бороду. – Знаешь чего, хлопче? Пакуль я там копаю – ты ветку от осины сруби. Вон ту, вяликую. – На кой? Палку мне, як у вас, зробите? – Та не, нашто палку? – улыбнулся зна́ток. – Рогатку тебе состругаем! Так шо давай секи, вот ножик трымай. Рот у Максимки открылся от удивления буквой «о»; он смог издать только восторженное «ух ты-ы!» и ринулся к ветке. Демьян добродушно усмехнулся и продолжил рытье. А ученик, высунув язык от усердия, взялся пилить ножиком ветку – чтоб дотянуться, пришлось залезть на приступ шаткой кирпичной стенки. Солнце на востоке поднималось, ярко светя в противовес наступающей с запада непогоде. От туч и солнечного света творилось беспокойное волшебство: предметы отбрасывали зыбкие, подвижные тени, а насекомые в траве трещали все громче, словно испугавшись грядущей бури. Демьян копал, неутомимо орудуя лопатой. – Дядька Демьян! – крикнул Максимка. – Шо табе, хлопче? – Кто ж такая гэта Купава? Зна́ток сплюнул на землю, фыркнул, как вепрь. – Шо, уши лишние? Накрутить? – Чего сразу накрутить-то… – Максимка сумел отпилить ветвь ровно так, как требовалось, радостно воскликнул: – Срезал! – Молодец! А про бабку Купаву… Ох, вот и я нашел! – воскликнул и Демьян, упал на колени, принялся ковырять землю пальцами. – Чего? Оно? – Ученик соскочил вниз, подбежал к знатку, силясь разглядеть то, за чем они сюда пришли. – Оно, Максимка, оно! В руках зна́ток держал грязную пластинку меди, неровно обломанную по краям, – Максимка даже испытал разочарование от ее неприглядного вида. Он-то представлял себе, что у церквей купола и впрямь златы да пригожи, а тут просто медяшка гнутая, так еще и в земле вся, в зеленой ржавчине. Однако Демьян держал ее, как великую драгоценность, ласково стирал тряпицей грязь. – Гэта шо, купол и есть? – буркнул мальчик. – Купол-купол, больше нечему быть. Хорошая вещь! Намоленный церковный купол. Они ж, как церкву подорвали, сюда кусок и упал, значит. – Демьян бережно завернул медную пластинку в тряпку, глянул на запад. – Давай-ка збирайся, да домой потопали, пока под дождь не попали. Ветку свою не забудь. Будем дома, значить, арсенал готовить. – Дык чаго с Купавой-то? – напомнил Максимка и прикрыл на всякий случай уши. Явно пребывавший в хорошем настроении Демьян недовольно крякнул. Достал табаку, бумагу, свернул быстро самокрутку – в дороге подымить. – Ладно, горе луковое, слухай да запоминай – повторять не буду. Жила как-то в деревне старуха одна. Звали ее кто знаткой, кто знахаркой – от слова «знать». Коммунисты ее, шоб мракобесие не плодить, в документах обозначали повитухой либо фельдшером – как и меня, кхм. И попал к ней в ученики хлопчик один малой – чуть тебя старше…

ХРЯМ! С тех пор каждую ночь Дема не мог уснуть, пока девка с соседней комнаты не выбежит из дому. Он быстро смекнул, что ей в туалет как приспичит ночью – не может сдержаться, бедная. А где ж Купава тогда?.. «Дык то Купава и есть!» – рассудил он своей простой деревенской логикой. Раз бабка исчезает, пока девки нет дома, а позже опять появляется – значит, девка и есть Купава! Диалектический материализм, как в сельсовете учат! И думать тут нечего. Только как-то не укладывалась в голове такая разница: смурная да хромая бабка днем и стройная легконогая девка ночью… Днем знатуха пихала его в плечо, щурилась синим глазом и кряхтела, опираясь на трость: – Ты чаго гэта, хлопчик, не высыпаешься, шо ль? Болит у тебя, може, чаго? Думается мне, неладно ты себя чуешь. – Та не, баб Купава, я того, умаялся просто, – отнекивался он. А как сказать, что он полночи девку голую ждал, что мимо пробежит, а опосля еще и… подумать-то стыдно. – Работы много. – Ишь яки нежный! Ты вот настоя выпей, шоб крепче спалось. Глаза-то вон краснющие, – ненастоящая старуха подозрительно косилась, а он только улыбался и разводил руками, чуть не валясь с ног от усталости – спать и впрямь хотелось. Однажды ночью девка перевернула в темноте ведро, чертыхнулась. Дема едва не захихикал, услышав старухин голос, только не такой хриплый, девичий. Ну точно – она же, она и есть! Дивчина зыркнула в его сторону – сверкнули во тьме внимательные синие глаза, – а он делано захрапел, забурчал, будто во сне, и перевернулся набок. Девка же выскочила на улицу. ХР-РУМ! «А может, ритуалы ведьмовские она там совершает по ночам?» – размышлял Дема перед тем, как уснуть, и долго, в подробностях представлял эти ритуалы – как девка в одних лишь сапогах исполняет бесовские пляски на болотах да братается с чертями. Оно и не мудрено – на днях Деме стукнуло четырнадцать, правда, бабке он о том ничего не сказал, постеснялся. Меж тем знатуха брала ученика с собой, как где понадобится какая помощь по ремеслу. В основном, что простое подворачивалось – там подержи, здесь принеси, покуда она там шепчет под нос свои заговоры. Дема пялился в горбатую старушечью спину и сам не верил, что там, под грудой одежды, скрывается гибкая девичья фигура. Один раз анчутку поймали в печке: Дема вовремя паскудь схватил за хвост и держал цепко, пока знатка его отчитывала да чихвостила за то, что в сараях пакостит. Другой раз пошли зашкодившегося банника усмирять – с тем сложнее оказалось. Банник хоть и мирный совсем, но может и головешкой плюнуть и по заднице стегнуть. Дема по глупости было влез под лавку, так ему банник уголек под рубаху запустил – и пошла потеха. А сам банник так и сидел под полками и выл страшно, пуча влажные грустные глазищи и размахивая руками-вениками. Выскребли его клюкой да отчитали сначала зачином, после молитвой, дух мигом присмирел. А потом в село явился кумельган. ХР-Р-РЯ! Пришла к бабке Купаве делегация из стариков местных. Давай все выть, причитать, шапками оземь бить. Говорят, мол, лошадей кто-то изводит, мучает и кусает, гриву рвет – тогда, до войны, в Старом Задорье много лошадей держали, табун целый в двести голов. А они, сказывал местный староста, после того чужака людей к себе не подпускают, дерганые становятся, а еще жеребята родятся уродливые да чахлые, дохнут на третий день. Попа с Огородников вызвали, он молитву читал и кадилом махал, так посля того еще хуже стало, раздухарилось чудище пришлое. Купава сразу смекнула, что к чему, да ответила селянам – это ваших лошадок, говорит, нечистый портит! Кумельган его зовут, а берется он вот откуль: ежели скотоблудец какой помер, так он опосля кумельганом нарождается из Нави. Наказание ему такое за грех и беспутство при жизни. А может, и не наказание вовсе, а радость одна… Вспомнили тут же селяне скотоблудца того – Сенька-дурачок, ловили его не раз, когда к скоту приставал со штанами спущенными. Помер недавно, так его и отпевать по-божески никто не стал, ирода срамного. Кому он сдался? Похоронили, да и ладно, и черт с ним. Знатуха покивала, все верно – его рук дело. И черт с ним, правильно сказали. – Разберусь я! Соли мне принесите, хлеба, молока, еще гостинцев яких от души. А зараз идите ужо, идите! Выпроводила селян насилу, а сама села травки свои перебирать, заговоры шептать под нос. Дема спросил – баб Купава, когда пойдем кумельгана этого воевать? Она только отмахнулась. Спи, говорит, я сама разберусь, без сопливых. КХР-РЯСЬ! Как полночь наступила, на улицу выскользнула тонкая женская фигурка. Не в тулупе на босу грудь, как обычно, а в одежде. Дема полежал немного, а сна ни в одном глазу. Чертыхнувшись, поднялся и начал одеваться. Нет уж, к кумельгану он ее одну не пустит. Бабку Купаву, может, и отпустил бы, но не ту синеглазую, что по ночам тут шастает. Пошарил по хате, чего бы из оружия взять. Нашлась только соль, железяки всякие – железо вещь сильная, он уже знал. Рассовал все по карманам, ремень вытащил из штанов и намотал на кулак, чтоб пряжкой вдарить, коли понадобится, по лбу побольней. Да и пошел за Купавой в лес. А в лесу сумрачно было, слякотно немного. Осень уже почалась. Зато на слякоти отпечатки сапог четко видны, следить – одно удовольствие. Дема, сколько себя помнил, любил по лесам блуждать, поэтому шел как по проспекту городскому. Тут трава примята, там кустик погнут, а вот и след «бабкин» виден. Так и прошел он километра три за речку, через мост, пока не услышал женский вскрик спереди. А спереди болото, топкое такое, широкое. Тут еще, говорят, гыргалица бродит – баба лесная. Дема уж подумал, великанша Купаву и схватила. Надо выручать! Он бросился вперед, а там… КХ-КХ-ГХ-ХРУМ!

– А что далей-то было, дядька Дема… Демьян? – воскликнул сидевший с распахнутым ртом Максимка – так захватила его эта история. Где-то за печкой зашебаршился суседка, недовольный тем, что интересная сказка оборвалась на полуслове. Дождь за окном набирал силу, бился в стекла мокрыми порывами ветра. – Да погодите вы, ща расскажу, – хохотнул зна́ток. – Сказка тольки начата! Покажь значалу, шо ты там выстрогал. Ученик отдал ему получившуюся рогатку – несуразную, с торчащими в стороны обкусышами. Демьян вздохнул и забрал у него нож, взялся сам обстругивать деревянные заусеницы – медленно и равномерно, крепко сжимая рукоять в жилистых руках. На пол падала ровная белая стружка. – Эх, молодежь… Меня бы батя за такую рогатку… Хотя не дай бог никому такого батю. – Демьян почему-то покосился на стоящую в углу клюку. – Ладно, гляди. Вот тут и тут ровнее строгать треба, шоб потом заноз не было, зразумел? Максимка кивнул, преданно глядя на учителя. Ему не терпелось услышать продолжение. – А не хочешь спросить, зачем я купол начищал? На столе лежал кусок купола – отполированная до блеска пластина меди, сияющая золотыми отблесками в свете электрической лампочки. Демьян отшлифовал ее до такой степени, что теперь в ней можно было увидеть свое отражение. Максимка честно помотал головой – не, мол, неинтересно. Зна́ток вздохнул. – Эх, дурань малолетний… А гэта ж купол церковный! Святая вещь! Он в небо смотрел, анделов крылатых отражал; потому и сила в нем особая, божья. Такая вещь любую тварь, хошь Навью, хошь пекельную, ежели не убьет, так покорчит знатно. Вот оно, мое оружие супротив нечисти, и есть. Тольки работает всего раз. Зразумел? – Ага, дядька. Дык что там дальше-то? – Погодь. Яшчэ вопрос есть, важный. Шоб твое оружие силу имело, ты должен сам в него верить. Скажи-ка мне, только честно, не кривя душой – во что ты веришь, Максимка? Ученик крепко задумался. А во что он верит, и впрямь? Вопрос с подковыркой, он это понимал – нельзя сказать, мол, я верю в то, что трава зеленая, или в то, что в немецком всякое существительное с заглавной буквы пишется – хоть стол, хоть стул, хоть дворняга блохастая. Или в то, что у чекиста Жигалова морда – краше в гроб кладут. Но надо было что-то более важное сказать, значимое. – В диалектический материализм? – вякнул он, понимая, что городит чепуху, но Демьян в ответ широко улыбнулся. – Молодец, брат, уловил идею! Так шо, веришь в материализьм гэты? – Да честно, дядька, я даж не ведаю, шо гэта… – Но вам в школе такое говорили, да? О том, что Бога нет, вам на уроках говорят, гэта я слыхал. Атеизм – тоже вера, тольки там заместо Бога коммунисты Маркса и Энгельса посадили. Антивера, так сказать. А яшчэ чаго табе там казали, в школе вашей? Ну давай, вспоминай. Что ты любишь, чем горишь всем сердцем? Вот шо тебе нравится, думай! В чем уверен? Под градом вопросов у Максимки в голове носились и сталкивались сотни противоречивых мыслей – он уже и думать забыл про историю бабки Купавы и мальчика Демы. Во что он верит? В чем уверен? Что имеет реальное значение? Что важно? – Гагарин… – пискнул он под внимательным и тяжелым взглядом знатка. – Что Гагарин? – Гагарин в космос летал… Я знаю. У меня дома журналы есть. И плакат. – И про мериканцев на Луне ты спрашивал… – пробормотал Демьян. – И про Спутник казал. Мож, и сойдет такая байда… Коли ты веришь, конечно. Почесывая в раздумьях бороду, он ушел в прихожую и вернулся с тяжелым ящиком – Максимка знал, что там у него лежит старая ружейная дробь. Ружья нема, а дроби полный ящик. – А дробь на кой нужна? – Есть одна мыслишка… Зараз зробим кое-шо, буде табе такое оружие, што все черти по лавкам разбегутся. Глядишь, получшей моего купола даже. А ты давай пока слухай историю дальше. Он сел напротив ученика и приготовился рассказывать. За печкой шевельнулся суседко, показал на секунду круглый влажный бок: ему, видать, тоже было интересно. – Пришел, значит, Дема в болото, а там…

ХР-РЯМС! …а там девка визжит, отползая от нависшей над ней огромной фигуры. Дема поначалу подумал – лошадь на задние копыта стала да ходит! Ну натуральная коняшка, ток прямоходящая, як человек. Это и есть, значит, кумельган? Самого Дему было не видать – он стоял за спиной у кумельгана, и тот его не замечал, а девке не до того было: она отползала назад, елозя по дерну оголившимися ляжками. Одежда на ней была вся разорвана, торчал сосок из прорехи в мужской рубахе. «Красивая, зараза!» – подметил про себя Дема, подходя к кумельгану и разматывая ремень на кулаке. Тут бить смысла нет, вон какой здоровый. Надо по-другому такую гниду воевать. КХР-РЕ! Кумельган гулко захохотал, будто разом лошадь ржет и человек смеется. Меж крепкими ногами торчал толстенный, надутый кровью уд, с конца капало на землю. Круп у кумельгана весь лоснился от вонючей пены – воняло от него, как от помойной ямы. Дема тихо, стараясь не наступить на ветку, подкрадывался сзади. – …во имя Отца, и Сына, и Святага Духа… – бормотала девка, видать, от испуга позабывшая все свои заговоры. А глаза-то синющие якие, аж блестят в темноте! А титьки якие!.. – Я тваяго Батьку бачил тама, няма у тваяго Батьки власти нада мной! – Кумельган разговаривал странно, будто воды в рот набрал. Впрочем, оно понятно – пасть-то лошадиная. – Твой Батька мяне сюды направил, воли мне дал. Я твой гаспадар тапер, покорися мне, девка! Поклонися мне, стань як собака! Задом стань, курва, самадайка! Коленем, локтем в землю преклонись, покорися ми… – Ага, щас! – отозвался из-за его спины Дема и накинул ремень на морду страхолюдине. Р-РЯС-СЬ! Кумельган дернулся вперед, и как-то само собой получилось нечто вроде узды – чудищу пришлось встать на четвереньки, как обычной лошади, а Дема оказался у него на спине. Завопил, как дурак: – Апо-о-орт! Взбрыкнув и завизжав, кумельган рванулся в лес – прямо в болото гыргалицы. Сзади донесся крик девки: – Дема, сто-ой! – Я тебя, осеменитель, ща самого преклоню, як собаку! – кричал весело Дема, с трудом удерживаясь на спине кумельгана. Тот брыкался, прыгал и орал: – Пусти-и! Отпусти мяне, вымлядак! – Каб ты здох, сярун лесной! – Ууу, лайно паганае, ну пагади мяне! Дема увидел болото – булькающую трясину, из которой торчала здоровая кривая коряга. Не разбирая пути в ярости, кумельган на полном ходу влетел в топь; в лицо ударила вонючая вода, Дема даже хлебнул малясь. Уцепился за корягу, полез наверх, а вслед за ним поволокся и начавший тонуть кумельган. Повернувшись, Дема увидал щелкающие лошадиные зубья, выпученные глаза. Пнул в морду, но кумельган тонуть не желал – упрямо лез на кочку, цеплялся за трухлявую корягу, что начала трещать под его весом, грозя потопить обоих. – Я табе башка крутить буду… – тяжело дыша, угрожал кумельган. Видно, и у навьев силы не безграничны. Изогнувшись, он врезал мальчику копытом по лбу, у того аж в голове заискрилось. Поднялся еще выше, погружая в трясину мускулистые ноги, клацая зубами. Держась за ушибленный лоб, Дема оглянулся беспомощно. Нет, никто не выручит. Тут он вспомнил про соль, собрал из кармана горсть и высыпал прямо в фиолетовые лошадиные глаза. На тебе, маркитун ляснутый! Дальше он помнил только жалобный вой кумельгана, что отшатнулся и беспомощно барахтался в болоте. Паскудник тонул, погружаясь в мутную воду, крича, вскидывая вверх копыта. В конце концов осталась лишь лошадиная морда, жадно хватавшая воздух, но вскоре исчезла и она. Дема крепче обхватил корягу, чувствуя, что теряет сознание. ХР-РУМ! Неясно было, как Дема спасся из трясины, но пришел он в себя уже на лесной опушке, в сухом месте. Светало; в деревьях над головой голосили птицы. – Живой… Свезло нам, что гыргалицы поблизу не было. Она мужиков-то не очень… Хотя, може, она-то его в болото и уволокла?.. – услышал он голос рядом. Дема попробовал подняться, но ласковая рука удержала его на земле. – Полежи еще. Голова небось кружится? – Ага… – На, попей. – Холодно… – пожаловался он, отпив из фляжки. – Башка болит, мочи нет. – Ну таперича терпи. Такому черепу ничего не станется. Дурак стоеросовый! – Показалось или он правда услышал в ее голосе улыбку? – На кой драться полез? Я б сама управилась. Хотя, думается мне, зна́ток из тебя славный выйдет, хоть и дурной… И то польза. Г-ГХР-РЕ-ЕМ! – Ага, бачил я, як ты справлялась. Он тебе едва не снасиловал! – Мы на «ты» уже? Вчера еще бабой Купавой звал… – А мине када обманывают – я на «ты» перехожу. – Кто это тебя обманывал? – Да ты и обманывала! Бабкой прикидывалась, хлусила! А сама… – А сама что? – А сама молодая и, гэта, пригожая… Демьян покраснел. Девушка только хмыкнула. Он повернул голову, морщась от боли – на лбу вылез здоровенный шишак, затылок ломило. Она сидела на сосновом корне, дивная такая в серых лучах рассвета, замотанная в тряпки: «Шоб сиську было не видать, значит», – смекнул Дема. Сурьезная такая да строгая, он аж залюбовался. Волосья черные, глазища синие, лицо что на картинке с плакату. ГР-Р-РЯ! – Так ты… – Он прочистил горло. – Ты Купава и есть? – Не совсем. Не Купава я. – А кто же? Девушка вздохнула, глянула в сторону деревни, где над домами вставало красное солнце. – Подымайся, охламон. Домой поковыляем. А по дороге я и скажу все, так и быть. На плечо мне обопрись. Ну-ка, за грудь не чапа́й! А то по лбу снова получишь! ХРУМ-ХРЯСЬ-ХР-Р-РЯМ! Голова у Демы кружилась так, что, казалось, звезды сейчас с неба посыплются – хоть и утро уже. Начала Купава так мягко и напевно, что Дема, казалось, плыл по реке из ее голоса: – Имени своего не могу тебе раскрыть, не обижайся уж. Нельзя нам, особливо женщинам. Вам, мужью, проще, а нас за истинное имя всяка дрянь дернуть может, як за косу. Вот так и зови, Купавою. Демьян кивнул, не понимая пока, куда девка клонит. Обижаться он пока тоже не собирался. – Мою наставницу, здается, тоже не Купавой звали. Можа быть, и ей имя от ее наставницы перешло, не ведаю того. Я к ней вообще сироткой попала. Родителей моих советская власть раскулачила; мелкими кулаками мы считались, зажиточными. А большевики колхоз в Задорье создавали, двенадцать лет тому назад. Как щас помню – приехали на конях, важные такие, в фуражках и куртках кожаных, бумагами машут с печатями синими. Нам, грят, советская власть дозволила с кулачьем бороться. Батьку мироедом обзывали. Давайте, мол, нам то-то и то-то по списку да и валите прочь из дому, манатки збирайте. Батька супротивляться начал, дал одному комиссару по кумполу, так ему бока намяли и увезли насовсем; в Соловки попал, там, поди, и сгинул. А у мамы и до того не все дома были – наследственное у нее, а уж после особливо. Она хату и пожгла, дурная. Мол, не доставайся ж ты никому. ТР-РЯСЬ! Дема хотел сказать что-то сочувственное, но в голову будто соломы набили. А Купава продолжала рассказывать – будто не ему, а себе: – Я ночью проснулась – хата горит! И мамка сидит, в красный угол пялится с улыбкой безумной. Я глянула – а там черт стоит, в огнище! Рогатый такой, с хвостом, и хохочет, прям заливается. Иконы-то все сгорели, вот он и выполз из Пекла прямиком; к нам-то зайти не может, а к себе манит. Я мать трясу, а она ни в какую, лыбится, дура, а черт ее блазнит: пойдем, знаткая, со мною в Пекло, я тебя любить буду целую вечность. Я спалохалася, страшно было – жуть! Мамку с собою тягаю, а она отмахивается, иди, мол, не мешай; смотрит, дура, на черта глазами масляными, что твоя кошка мартовская. Я выбежала с дому, дыма наглоталась, только фотокарточку схватить успела – и ту не с родителями, а с Есениным. А мать там и осталась; с чертом, значит, ушла. Сдается мне, черт ее обманул. Самогубцев в Пекле истязают цельную вечность. Вот он ее и любит вроде как – плетьми из зубьев грешников по спине хлещет до конца веков. Я утром на вогнище стою, грязная, без обуток, в одной сорочке, а люди мимо ходят с лицами каменными. Я ж дочь кулака, кто со мной заговорит? Мы ж по бывшей волости главные считались, батьку многие не любили. Его прадед еще крепостных держал… – Крепостничество – тормоз модернизации! – изрек Дема вбитую школьными агитаторами фразу. – От, и ты туда ж. В общем, думается, мне от матери знаткость и передалась. Или от деда, отца ейного – тот тоже, кажут, странный был. Его так вообще колдуном считали, а большевики за антисоветчину свезли куда-то. Глядишь, с батькой на зоне повидалися. Тесть с зятем, – вздохнула. – Знаткость – это ж дело такое. Можешь сам себя убедить, что нет в тебе ничего, и она уйдет почти, станешь обычным со временем. Ну будешь в карты выигрывать да слышать иногда чего; зубы прихватит вдруг резко. В общем, задавить можно в себе знаткость, жить по-людски. Коли сам захочешь сильно. – И что? Это я мог, выходит, к тебе в ученики не идти? – Ты не мог. Уж больно глазастый оказался, – недовольно буркнула Купава. – И я вот не смогла. Бачила с детства, як и ты, всякое. Видала лик мамкин потом, как мимо пепелища шла, – она руками махала, пырилась из углей прогоревших. Просила с Пекла ее забрать. Обманул меня черт, говорит, сманил к себе… Мамку-то жалко, а чего делать? А чем помочь-то ей, раз сама себя обрекла на проклятье? Позже я костомаха однажды встретила и еще всякую пакость. Шишигу видала… ТР-Р-ХРУМ-М! Как раз в тот момент что-то шмыгнуло меж колосьев – ночная нечисть пряталась по норам. – Дом сгорел дотла, жить было негде, да свезло мне. Знахарка местная пожалела, взяла к себе ученицей. Я уж думала, кости будем править, скотину лечить… А она, оказалось, видит то же, что и я! Всех бесов знает! Купава ее и звали. – Як тебя! – воскликнул стукнутый ученик. Купава поглядела на него с жалостью. – Она, конечно, не колдуньей была, а просто знаткой, людям помогала. И мне наказала такой же быть, с бесами не связываться. С чертями коли уговор держишь – в Пекле окажешься. Нельзя с Пеклом дел иметь, ты это попомни. Надо честным быть с собой, Богом и людьми. Все трудом и учебой постигается, засеки себе на носу. Дема постучал себе по носу – мол, засечено. – Чего дальше? А дальше просто. Пару годов прошло. Старенькая она была ужо, Купава-то. Выучила меня, чему могла, да преставилась себе тихонько. Я крышу-то над печкой разобрала, как велено, и понеслась душа в рай. А я одна у тела осталась – думала, чего ж теперь делать-то, в город ехать? Отца искать? Он один раз письмо прислал, с тех пор ни слуху ни духу. Я у нечисти спросила, дык те мне сказали, что отца моего в бараке зарезали. Может, и обманули… Нечистым только волю дай, так они уши тебе трубочкой завернут. Не верь им ни в жизнь! Дошли до хаты. Дема едва-едва доковылял до своего лежбища, свалился как подкошенный; голову крутило как на карусели. Его вырвало – Купава едва успела поставить ведро. После положила его голову себе на колени и продолжила рассказ. – Схоронила я бабку Купаву по славянской традиции – под порогом, чтоб стерегла она меня, от людей недобрых обороняла. А сама наутро одежу ее надела, горб смастрячила из тряпок да вышла в село к людям. Дай, думаю, проверю, как отнесутся? Мне еще суседко допомог, прихорошил добре, так что я и впрямь як Купава стала. Люди-то простые, они глядеть глядят, а дальше носа не видят, чего ожидают – того и бачут. Никто подмены и не заподозрил… – Кроме меня! – с глуповатой гордостью поправил Дема. – Да. Кроме тебя. Ну и спросили, где ученица, я и соврала – так, мол, растак, уехала, курва такая, в город, бросила меня, старую. Студентка таперь в университете минском. Селяне повздыхали, гостинцев дали. Так я и поняла: а кому я, сирота, нужна-то? Да еще с такой родословной – кулаки одни да дворяне бывшие в роду. И сумасшедшие. А тут, глянь, я все умею, все могу уже. С голоду не помру уж точно. Я сама знаткая! И не хуже бабки Купавы, та по старости лет заговариваться начала, ошибки делать. А я молодуха, сил полно, любую паскудь рогом загну! Книжки разные читаю, учусь – ты дома видел. Ты про кумельгана не говори ничего, то случайно вышло, он меня, собака, врасплох застал. На грудь не пялься, ирод! Я тебя к матери обратно спроважу! – Да ни в жисть… – Ага, ни в жисть. Так и поверила. Ох, откуда ж ты взялся на мою голову… Ладно. О чем я? А, про возраст. Коли б я честно сказала, что Купава померла, а я таперь заместо нее знатка новая, так надо мной все посмеялись бы. Ну якая знатка из девки молодой? А к возрасту у нас всегда доверие… Я и тебе скажу – коль сам станешь когда знатком, всегда прикидывайся старше, чем ты есть. Нибыть старик ты, зразумел? Шоб на людях солидней казаться. Дема кивнул, мол, урок усвоен. – Ох, засиделись мы, уж петухи пропели. Ложись спать давай, я тебе отвара зроблю, поправишься скоро. Шишку твою вмиг залечим. Да вот еще. Пошли-ка, ко мне в кровать ложись, там помягче, я у печки вздремну. Давай-давай! Зараз чайку сварю в самоваре, блинцов напеку, ты подреми пока, Дема. – А сколько… Сколько тебе-то? – Чего? Годков? Эх ты, разве ж такое у женщин спрашивают? Двадцать три сполнилось. А тебе на кой знать? Давай, спи уже. И да, слушай, спасибо тебе… Выручил сегодня, молодец. Но учиться тебе еще много надо, зразумел? Прохладная рука Купавы нежно погладила ученика прямо по шишке, но вместо боли пришла какая-то отупляющая легкость – будто ангел махнул крылом, и тот погрузился, наконец, в глубокую, как колодец, дрему без сновидений. С-СР-Р-РКР-РЯ! Сквозь сон Дема слышал, как она стряпает на кухне, копается в своих книжках и подметает пол. Подумал, каково ей было эти пару месяцев – приходилось ведь прикидываться старухой не только на улице, но и дома. И только по ночам, пока он спал, она могла быть сама собой… Поутру Купава выгнала его с кровати, сказав: подлечился уже, хорош балдеть. И начался вроде бы обычный распорядок жизни, с ранними подъемами, с бесконечной работой и учебой, только вот теперь знаткая перестала скрываться – ходила по избе в образе девки, а как просители придут – за минуту превращалась в старуху, ученик только и успевал дверь открывать. Дема не переставал удивляться искусству перевоплощения; впрочем, учитывая помощь суседки, он не сомневался, что и знаткое ремесло тут замешано. СТР-РУМ! За избавление от кумельгана их щедро отблагодарили – Купава устроила пир из блинов и киселя, даже пирог брусничный спекла. Потом летний пост почался, одной рыбой да бульбой питались, а то и пустой капустой, як скотина какая. Купава в Бога верила, блюла церковный устав. Удивлялась еще, когда Дема всякое говорил, чего от коммунистов наслушался. Не злилась, а именно что удивлялась – ей такие вещи были в новинку. Она и не слыхала толком про Марксов и Энгельсов всяких. Раз с утра просители явились – корову сыскать. Дема отправился в лес да сам ее нашел, привел к хозяевам – буренка всего-то заплутала в трех соснах, увлеченная нежным клевером и кашкой. Получил в гостинец банку творога и лукошко клубники. На обратной дороге нарвал целый букет полевых цветов: тюльпанов, ирисов, колокольчиков. Зашел в продмаг, упаковал все в газету, чтоб красиво смотрелось. Тряпку спросил и сапоги начистил до блеска. В общем, явился домой как жених, при всем параде. КХРУМ! – Ты чего это? – Да вот, гэта, порадовать тебе хотел… На, держи! Подарок! Она расставила цветы по горшкам, поставила на стол творог с клубникой. Хмыкнула задумчиво. – Ну, порадовал, дзякуй… А зачин тот выучил, что говорила? Дема закатил глаза. Опять зачины клятые! Вот будто не о чем еще поговорить! ХР-РУСТЬ! Зачины он, к слову, выучил почти все. Мог и полевика с лешим призвать на разговор, и уроченье снять, и анчутку отогнать сильным словом. Зачины только и отлетали от зубов, он заучивал их на манер стихов: «У Лукоморья дуб зеленый…» Заговоры читал едва ли не лучше наставницы. А вот с травками путался, временами даже крапиву от белой яснотки едва отличал. И вместо отваров получались не снадобья, а непонятное варево – не понимал он, когда что сыпать, когда мешать, когда и вовсе не трогать. Да и как тут поймешь, когда эта дивчина к печке не подпускает, постоянно кашеварит там чего-то? – Звучный голос у тебя, тебе бы в военные! – довольно цокала языком Купава, слушая, как он читает заговоры. Времени немного прошло, и как раз на Петров пост, летом, война-то и началась. Германия на СССР напала. Дема слыхал там раньше по радио в клубе, мол, пакт Молотова – Риббентропа, «финка», раздел Польши, война в Европе, но никогда всерьез не воспринимал. Кто там воюет, с кем, мне-то на кой эта беда? Война шла где-то далеко, будто в ином измерении. Да и какая война, когда они тут анчуток гоняют и кумельганов в болотах топят? КХР-РЯМС! Но не тут-то было. Зашел он как-то в клуб, а там селяне столпились у радио, слушают перезвон колокольчиков, як сдурели все. Дема спросил было, что случилось, так на него все зашикали. Он замолк, прислушался, вытягивая голову из-за спин односельчан. Колокольчики перестали звенеть. Сменивший их зычный мужской голос раскатисто декламировал: «Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение… Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза…» – Ох, батюшки… – Одна женщина рухнула в обморок, но на нее никто не обратил внимания. Мужики стояли, уставившись на радио воспаленными глазами, сжав кулаки, все как один ловя каждое слово. «Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!» И все замолкло. Радиола зашуршала помехами. Люди стояли как вкопанные, переглядывались. Начали перешептываться, сначала вполголоса, а потом все громче: – Гэта шо ж такое? Гэта где ж они? – Знамо дело – Украина. Киев, Житомир, Севастополь… Молотов ужо вещал седня… – Ох божечки, шо ж таперь буде?.. – Молчи, старая! Думать надо! Староста где? А председатель? – С наркомом говорят по телефону! – Зови Ильича, он партийный! – Твой Ильич тока с горилкой в партии! Председатель где?! – Я тоже партийный, и шо с того? – А зараз кто речь толкал? Молотов знову? – Левитан гэта, дурная ты баба! – Во гамон якой… Украина ж поблизу с нами. ТР-Р-РЯСЬ! Дема тихо выскользнул из клуба, побежал домой – докладывать новости. На крыльце уже услышал, что дома гости. Остановился, прислушался, приложив ухо к щелке. Мужской голос быстро, со злостью выговаривал: – Война началась, дура! Ща знаешь, шо будет? Не твои эти книжки да травки! Говорил же – замуж за меня иди! Со мной тебя никто не тронет! Ни черт, ни немец! Я киловяз, а не потроха собачьи! – Уходи, Мирон… Не хочу я с тобой. И не буду! Война так война… – Дура! Куда ты со своим этим… идьетом малолетним? – Уж найду куда! Дема кхекнул погромче, постучался и вошел. За столом сидела Купава, комкая в руках полотенце. Над ней нависал пожилой мужик из соседней деревни, которого Дема уже пару раз видал – Мирон Сухощавый. Ходили слухи, что он колдун. Только не тот колдун, что порчу снимает, а как раз из тех, кто ее накладывает. Порчун, значит. Сухощавый обернулся к ученику, скривил тонкие губы в презрительной усмешке: – А-а-а, явился не запылился! Ладно, оставлю я вас, парочку идьетов. – Кто идьет, а у кого и своя голова есть, – спокойно ответил Дема, глядя в глаза Сухощавому. Он его почему-то совсем не боялся. – Цыц, щенок! Я на тебя плюну – заживо сгниешь! – Колдун поправил пиджак, зыркнул из-под бровей так, что Дема оторопел. – Знатким себя возомнил, малец? Ну дык я зараз покажу, якая знаткость бывает… Скручу в рог бараний, погублю! – Мирон, не смей! – поднялась с места Купава. – Я тоже кой-чего умею! Сухощавый плюнул на пол да вышел наружу. Во дворе еще выматерился грязно, будто проклял напоследок. – Дурень ты… – только и сказала Купава, аккуратно стирая с пола плевок тряпкой. – Няможна ему прям в очи глядеть. Это ж порчун, он с чертями братуется. Ему твой взгляд –что дорожка в душу. – Пущай заходит. Як зайдет, так и вылетит. Ты слыхала, что война почалась? – Слышала… Садись чай пить. Дема присел за стол, схватил ватрушку. – А он тебя замуж звал? – Звал-звал, да я отказала. С чертями мне не по пути. Ты ешь давай, да будем думать, как жить нам дальше. Ох, плохо будет… Что будет-то?.. Ученик молча жевал и прихлебывал чай. В клубе громко включили «Интернационал», загремевший по деревне:
Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов…

– И чаго вы там, в лесе, робите? – Воюем немца! – с полным ртом отвечал Макарка. – Вчерась вот колонну расстреляли, так они по нам как дали потом с пулемету! Еле ноги унес. Слышь, малой, а попить есть чего? Дема налил ему кваса. – А горилки нема? – Нема. И не малой я ужо, пятнадцатый год пошел. Слухай, Макар, а в четырнадцать к вам берут? – А то! Сын полка будешь! Збирайся утром, да пошли. Родину защищать треба, шо тебе тут сидеть с бабкой старой, як у бога за пазухой? Давай, малой, нам людей треба. Ружжо дадут, як у меня! – партизан любовно погладил потертую «мосинку». ХР-РУСТЬ! Поутру Дема собрал все свои малые пожитки, надел великое по размеру кожаное пальто, доставшееся от батьки-самогубца. Проколол дырку в ремне, затянул потуже на поясе. Проснувшись, Купава села за стол, внимательно оглядела ученика. Он же, словно хвастаясь, подбоченился. – Ты куда эт собрался, хлопчик? – В лес, немца воевать. Девушка сузила глаза; зрачки блеснули злобой и отчаянием. ЧР-Р-РОКС! – Партизанить решил? А обо мне ты подумал? Что со мной будет? – Дык мы немца повоюем, он и утечет. Я ж, гэта, за тебя воевать пошел. – За меня? А меня ты спросил? Мож, и не надо мне, штоб за меня воевали? Ну-ка сымай, сымай это все! – Она попыталась схватить ученика за ремень, но он отпрыгнул. – Ты за меня, шо ль, спалохалася? Та ничога со мной не станется, я ж в лесу як волк, Купава! – Ты не волк, ты кутенок! Тебя там загрызут, как ты не поймешь, дурань? – Сама ты щенок и сама ты дура! А я мужик, мне не страшно, зразумела? Я лешака, водяника позову, они допоможут! Вся нечисть за нас встанет! Он выскочил из избы, испугавшись, что она и впрямь заставит его остаться. На улице было пасмурно, из распухших и мутных, как холодец, туч лил мелкий дождь. У сарая уже стоял Макарка с винтовкой за плечом, с опаской поглядывавший в сторону деревни, где пока еще спали немцы; только дремал, сидя на завалинке, одинокий постовой, укрывшись черным плащом. – Идти нам треба, малой! – шикнул партизан. – Идем ужо, я готов… – Дема обернулся в сторону избы, сморгнул накатившую слезу – не так он надеялся распрощаться с наставницей. Тут дверь хлопнула, и наружу выскочила Купава в легком платьишке, наскоро накинутом на плечи. Макарка охнул при ее виде – уж точно не молодую девку он ожидал увидеть. – А где старуха-то, малой? Гэта шо за дивчина у вас в хате? – Молчи… Он зашагал навстречу девушке, чувствуя, как на губах расцветает улыбка – сама собой, становясь все шире и шире. Пожалел, что под рукой нет цветов. Он бы дарил ей цветы каждый день. КРЯСЬ! Купава сжимала авоську, где лежали банки с закрутками, консервы, варенье. Сунула ему в руки, буркнула: – Вот, бери. Шоб там с голоду не помер. И тетрадку с заговорами возьми, забыл… – Дзякуй, милая. Ты меня, гэта, прости за «дуру»… – Коль еще раз милой назовешь – по лбу получишь, – сказала она вроде бы строго, но не в силах сдержать улыбку. – И не звиняйся, я тебя тоже обозвала. – Ну шо, значит, прощаемся? Ты про меня матери скажешь? – Скажу… А ты не забывай, где твой дом. И где тебя всегда ждут. – Не забуду, Купавушка, никогда не забуду, вот те крест. Дзякуй тебе за все… – Ладно, беги уже, обормот, – она вытерла слезы ладонью, толкнула его в плечо – иди, мол, а то разревусь. На негнущихся ногах он повернулся к Макарке, который с открытым ртом наблюдал за прекрасной незнакомкой. Но тут внезапно знатка подбежала сзади, обняла ученика крепко-крепко, уткнулась в затылок и прошептала: – Акулиной меня звать. Это мое имя настоящее. Всучила ему что-то незаметно. Дема взглянул: фотокарточка, а на ней – мужик какой-то кучерявый. И стишки какие-то на обороте. – Гэта хто? – Есенин. Мама шибко его любила, батька аж из Москвы автограф выписал. Окромя этого, у меня от них ничего и не осталося. Драгоценность семейная. А коли ты теперь моя семья, получается, то пусть у тебя хранится… – Да я ж на войну, куда… – Вот и вернешь. Сам вернешься – и фотокарточку вернешь. И теперь в самом деле ушла прочь, пряча глаза. ХРУСЦЬ! Короткими перебежками, на полусогнутых, а иногда и ползком, застывая и выглядывая из травы в сторону постового, они с Макаркой добрались до опушки леса. Там уже выпрямились и зашагали спокойно сначала по дороге, а затем и по петляющим звериным тропам, постепенно углубляясь во влажную от дождя чащу, заваленную мокрым валежником. Макарка вручил ему кобуру с пистолетом, сам щелкнул затвором винтовки – щелчок отозвался в тишине леса угрожающе, глухо, как закрывшаяся крышка гроба. Дема поежился, ухватился покрепче за авоську с продуктами от Акулины. Идти до партизанского полка им предстояло еще сутки.

– А чаго дальше-то, дядько? – воскликнул Максимка. – А дальше, э-э-э… Погодь, давай глянем, чаго там вышло у нас. Демьян взял получившийся снаряд для рогатки. Это был миниатюрный «Спутник-1» – они сначала наварили шариков из свинцовой дроби, потом приплавили к ним оловом мелкие ножки, и получился сателлит. На корпусе каждого Максимка, щурясь, накалякал красной краской звезду. Вышли натуральные маленькие Спутники. Хоть сейчас в космос запускай. – Запуляй-ка за порог. Вон, по бутылке целься. Як раз дождь кончился. Максимка открыл дверь и выглянул на улицу – и впрямь дождь прекратился, а он за прослушиванием сказки даже и не заметил. Собрав «усики» снаряда вкруг резинки, он натянул жгут и прицелился; высунул краешек языка. Отпустил резко: миниатюрный Спутник ударил о бутылку на плетне, та с громким звоном расшиблась в осколки, рассыпавшиеся по лужам. Полкан тявкнул из своей будки, как бы одобрив выстрел. Демьян тоже одобрительно кивнул: – О, брат, глазомер у тебе отличный! Тебя бы к нам в полк – снайпером бы стал. Собирай таперича – шоб Полкан не поранился. – Дядька Демьян, так чего там дальше-то было с Купавой и Демой? – спросил Максимка, засовывая рогатку за пазуху. – И каким Дема партизаном был? – Ну, Дема годным партизаном стал. Он же таки всю нечисть лесную знавал. Да и знает до сих пор… А Купава… – Зна́ток пальцами причесал бороду, отвел взгляд. – Так она померла потом! – Как померла? От чего вдруг? – Ученик даже удивился такому резкому повороту событий. – Немцы… – Демьян пожал плечами – он явно не хотел это обсуждать. – То бишь вы… Дема потом домой вернулся, а Купава уже мертвая? – Максимка прищурился – чего-то наставник недоговаривал. – Агась, так и было. Вернулся, а она померла ужо. Тут и сказочке конец, кто дослушал – молодец. Спрятав глаза, Демьян повернулся к своему драгоценному церковному куполу, продолжил начищать его тряпкой, хотя дальше, казалось бы, некуда – тот и так блестел, будто сделан из чистого золота. Максимка попробовал спросить: – Так и чего это, вся история? А клюка у вас откуда? – Все, больше нечего сказывать. А клюку я позжей состругал. Не мешай, хлопчик. Лучше поди вон, Полкана накорми.

ХРЯ-Я-ЯСЬ! – Ну вот и все! Вот и сказочке конец, – Акулина отложила на поднос окровавленные щипцы, – а кто дослушал – молодец! А ты молодец, Женечка, ой какой молодец! Ох как ты мне помог! – Как вше? А што дашше? – спросил Кравчук, тараща стеклянные глаза. Меж его губ сочилась на подбородок алая и вязкая, как варенье, кровь; Акулина заботливо промокнула ее полотенцем. Кровь стекала и на подушку, пропитала весь матрас, капала багровыми вязкими каплями на пол. – А дальше вернулся сучонок с войны, побитый да поломанный… Через год, седой наполовину, выполз из леса. Я же любила, понимаешь? У меня никого до него и не было. Я его выходила, выкормила, все ради него сделала, дура. Отблагодарил он знатно, спору нет… Обманул он меня, Женечка, бросил с тяжким бременем, одну оставил супротив всех. А за платеж, Женечка, спасибо, век помнить буду. Зубки у тебя – ну просто чудо, не простые, а прямо-таки золотые. Думается, пользы от них много будет… Акулина бросила в карман последний, тридцать второй зуб, и широко улыбнулась, обнажив розовые голые десны. У нее самой не имелось ни единого зуба – а председатель раньше и не замечал. Странная медсестра вытерла окровавленную ладонь о полотенце. Алая кровь забрызгала все вокруг, будто кто разбил банку вишневого варенья. – Хто ты? – закричал внезапно прозревший Кравчук и задергался в ремнях. – Хто ты тахая? У-а-а-а, памаги-ите! На него наваливалась пульсирующая боль, окрасившая мир в красный цвет – и белые стены палаты, и жуткое существо напротив. Стали багровыми кровати со спящими дураками, тумбочка, потолок, коридор, виднеющийся из «наблюдалки», ежели башку с койки свесить. Горло рвало острыми когтями, из разодранного, пустого рта наружу рвался вопль. Кравчук распахнул красную пасть, внутри которой трепыхалась глотка с булькающей, клокочущей кровью. От истошного крика на соседней кровати пошевелился до того крепко спавший Быков. – Я еще вернусь, Женечка, – с грустной улыбкой Акулина поцеловала председателя в щеку. – У нас же уговор, помнишь? Ты мне плату, а я тебе – свободу. Скоро ты выйдешь отсюда… На вопли дурака в палату ворвались двое санитаров. Не обращая никакого внимания на медсестру, они нависли над кроватью, удивленно переглянулись: – Слышь, у него зубов нема… – Э, олухи, подъем! – заорал санитар на двух спящих психов – Тимоху и Быкова. – Кто это сделал, сознавайтесь! – Вош ше она, это она шделала! – пялился в пустоту бывший председатель. Когда он шамкал, изо рта у него густым потоком стекала кровь, брызгала мелкими капельками в лицо склонившемуся санитару, что испуганно пучил зенки. – Совсем очумел уже, шиза… Ты кого там бачишь? А ну просыпайтесь! Вставай, Быков! – Санитар в приступе ярости взялся тормошить проснувшихся дураков; те моргали в недоумении. – Он сам себе зубы, шо ль, выдрал? Где зубы, суки ляснутые? Махнув ручкой напоследок, Акулина вышла из палаты. В кармане она сжимала полную пригоршню зубов – здоровых, не гнилых, за каждый из которых черти пол-Пекла продадут. Резцы, моляры, клыки – и все целые. С широкой улыбкой Акулина направилась к выходу из дурдома, приплясывая немного и даже подпрыгивая от радости. По дороге ей попался дурак Васелюк. Он замахал руками: – Акулинка, ты! У меня сало забрали! Дай сала! – Не дам! – Акулина игриво показала язык. – Нету сала! – Ну да-ай!.. Не жадничай, кусочек всего! – кричал Василюк ей в спину. Под возгласы сумасшедшего, болтающего с пустым местом, черноволосая да синеглазая красавица покинула психиатрический диспансер. На улице она расхохоталась и, как школьница, запрыгала по лужам, отражающим тысячи бликов июльского солнца. Дождь давно кончился, и в голубом небе плыли какие-то когтистые, изорванные грозою облака, похожие на злорадно хохочущих, рогатых чертей.
Зоотехник
Зоотехнический участок находится всего в пяти километрах от Нового Задорья, так что работники добирались туда на велосипедах. Доярок подвозил обычно поселковый почтальон Федорыч, который подсаживал их в кузов своей полуторки в семь утра у клуба, а вечером забирал обратно; а если не забирал, то идти все равно недалече, главное – дорогу не сокращать по Вогнищу, посреди которого амбар сгоревший. Или через болото, где того и гляди – ухнешь по самые уши. И Млын стороной обходи… В общем, шагай себе по дороге, в лес не заворачивай, коли бед не хочешь. Год назад, как приехал с города новый участковый зоотехник, скотоферма ожила; подтянулись люди, местные и набранные по распределению из райцентра, а дохлые коровки окрепли, внезапно начав приносить молока столько, что все в деревне диву давались. Зоотехник, правда, не всем по нраву пришелся – строгий однорукий дядька в очках и с красным носом картошкой, вечно сердитый и всклокоченный, часто ночевавший на участке, хоть ему и выделили угол при бараке. Звали его Остап Власович Полищук. Девки-доярки его Профессором кликали; шептались в деревне, мол, у Профессора целый учебник есть по животноводству. Сам написал! Профессор по утрам, как все работники соберутся, любил организовать летучку. При бывшем директоре такого не было, все приходили да работали, а тот, бывало, на службе и носу не казал. Полищук сразу взял быка за рога: потребовал ежеутренней явки у себя в кабинете. Приходили ветврачи, младшие зоотехники, иногда даже бригадиры трактористов с близлежащего МТС – больно им нравилось послушать, как Профессор подчиненных распекает да про планы разглагольствует. Планы партии никого особенно не волновали, только вот красноречивый Полищук мог такую речугу задвинуть, что потом весь день думаешь, как же так получается: стало быть, Юрка Гагарин в космос полетел благодаря животноводству? Ледокол «Ленин» исключительно стараниями животноводов на воду спущен, атомную электростанцию они же создали? В устах Остапа Власовича все звучало логично. В последний июльский день так все и было – и ругань, и монолог про партию. В кабинет администрации участка битком набились отраслевики, селекционеры, среди них затесалось несколько человек с машинно-тракторной станции. Кто выше по должности, те сидели на стульях, а остальные – рядком вдоль стенок. Остап Власович одернул серый костюм левой рукой – культя правой безвольно висела в подвязанном рукаве. Поправил на носу бифокальные очки, из-за которых его глаза казались неестественно круглыми. Этими самыми глазами уставился он на заместителя: – Иванец, где племенная книга? – Дык это, Остап Власович, у вас ведь была… – Зам поежился под взглядом, сглотнул слюну и, не спрашивая, налил себе воды из графина на столе, отчего начальник вмиг рассвирепел. – Воду поставь, растратчик! Новая книга где? – рявкнул главный зоотехник. – С четверга допроситься не могу! – А, дык пишется яшчэ, Остап Власович! Сёдня трошки подрихтую, вот вам крест… – Отставить крест! – Полищук заорал так громко, что все в кабинете вздрогнули, а трактористы заухмылялись – шибко они это дело любили. У них-то свой начальник был, не такой строгий. – Мракобесия не хватало! Я табе, Иванец, неделю прошу мне новую книгу принести! Не-де-лю! Иль мне к твоей шкуре санкции применить, вредитель? – Н-не надо, Остап Власович, сегодня будет го… – Надо не сегодня, а вчера! Позавчера! – Полищук грохнул кулаком по столу, отчего зазвенела пробка в графине. – У меня вот товарищ есть, Новожилин, с завода нового в Витебске. Он знаешь як кажет у себя? Все полимеры просрали! – А полимеры – гэта шо за беда? – спросил кто-то из трактористов. – Неважно! Главное, что просрали! А просрал кто? Кто мой заместитель? Иванец по-черепашьи спрятал голову в узких плечах. – Остап Власович, – вступился за зама один из младших зоотехников, Петруха по фамилии Землянин, – там дело-то в новом загоне, на него описи нет. Ну который третий, у леса. К нему не ходять, люди палохаются… Вот мы их поголовье сосчитать и не можем толком, они тама брыкаются все, кусаются, копытами машут – пол у них якой, не разберешь. А здоровые якие, сволочи! Вчера Таньку один чуть за руку не тяпнул! – Да гэта шо за бычки такие? – спросил из угла ветврач. – У них бешенство, мабыть? Агрессивные шибко. Як волки якие! Тяжко с ними работать, товарищ директор, тяжко. – Отставить бешенство! Все с ними в порядке! Так, Петр, тебе партийная задача – сегодня же всех сосчитать, где телки, где бычки, и мне принести на стол к вечеру. Весь приплод шоб был, вся нумерация! Зразумел? Петька Землянин горестно кивнул. В третий загон ему явно идти не хотелось. – Схожу зроблю… – Отставить! Не «схожу зроблю», а «так точно»! Вас бы в мой полк, оглоедов, я бы вас научил Родине служить! – Полищук потряс обрубком конечности, отчего рукав пиджака развязался, упал мятой кишкой вдоль тела. – Я за вас на войне руку отдал! Кровь проливал, паскуды! – Еще один хлесткий удар по столу, и тут даже трактористы попятились к выходу – а ну как швырнет стаканом в морду? – Я вам на участке за год приплод втрое поднял! Удой вдвое повысился! Я, инвалид, пашу тут за вас всех, днюю-ночую! Рабочие места есть, деньги государство плотит, скотина вся здоровая, сильная! Чаго яшчэ треба, а? Уважение ваше где? Где, я спрашиваю, уважение к ветерану? – Да уважаем мы вас, Остап Власович… – глухо сказал один из зоотехников. – Незаметно! Хочется про настоящее уважение услышать? А? Хочется? Ну зараз я вам покажу, как меня ученые с городу уважают! Разбушевавшийся директор полез в ящик стола, достал оттуда бумажный лист. Театрально потряс им в воздухе и кинул провинившемуся заместителю: – На, читай! В голос читай, шоб усе слышали! Из Минского НИИ прислали год назад, мне, лично в руки, с бандеролью! Громче читай! Заместитель разгладил листок, прочистил горло и начал читать для присутствующих: – Кхе… «Уважаемый Остап Власович! Пишет вам аспирантка Минского НИИ животноводства и сельского хозяйства Чернявская А. М. Кхм… Прежде чем писать официальное обращение, мне хотелось бы лично выразить Вам уважение и благодарность за Ваш эпохальный труд – учебник «Племенное животноводство» за 1935 год. Ваш учебник зачитан мной до дыр! И благодаря Вашей книге, Остап Власович, я и увлеклась такой замечательной наукой, как селекция животных. Кх-кхе… А официальное обращение заключается вот в чем. Для Вашего нового места работы у нашего НИИ есть экспериментальный семенной материал, который значительно улучшит количество и качество приплода. Не пугайтесь слова «экспериментальный» – в нашем НИИ он уже опробован и дает отличные результаты; при использовании данного материала повышается не только отел, но и удой при лактации! По распределению рассылки семенного материала Ваш зоотехнический участок стоял сто четвертым в очереди, но я, увидев Вашу фамилию, решила внести Вас в числе первых. Я искренне считаю, что именно Вы – тот ученый, который сумеет применить на деле инновацию нашего государства. Кхе… Семенной материал высылаю вместе с письмом, он в термосе при бандероли. Жду ответного письма с отчетом о результатах». Люди уважительно кивали, слушая заместителя. Отложив письмо, Иванец вытер платком вспотевший лоб. Полищук забрал листок, бережно сложил и сунул обратно в ящик стола. – Видали, якие мне письмы пишут с институтов? Мне, сюды, в Задорье! Инвалиду! А все почему? Да бо я вот этой рукой все зробил, один, сам!.. Все сам! Я вам про партию, думали, сказывать буду? Да нам партия все дала, партия за ради нас, крестьян и рабочих, все делает! Но это все, покудова мы сами не покладая рук трудиться будем! Работать, а не прохлаждаться, аки буренки на выпасе. Работать надо – такова наша зарука! Так что все, все свободны, в смысле не свободны, а вольно! За работу! Петр, а ты шагом марш в третий коровник, книга шоб к вечеру была готова! Люди потянулись на выход из кабинета, Петруха горестно почесывал затылок. Полищук сел, налил себе из графина воды, которая не была водой, опрокинул полстакана. Фыркнул и скушал огурец из ящика стола – там у него завсегда закуска припасена. В том же ящике лежала стопка писем от аспирантки Минского НИИ Чернявской А. М. С ней у Профессора завязалась живая переписка про методы селекции, гибридизацию и искусственный отбор. Больше всего Полищуку нравилось, когда Чернявская начинала хвалить его старый учебник, написанный еще до войны. А семенной материал и правда дал свои результаты, Чернявская не обманула. Приплод втрое повысился, где такое видано? Телята как на подбор! Непривычно, конечно, что семя в термосе присылают да бандеролью, но оно и ладно. Главное в науке – результат! На душе полегчало, как всегда после утренней выволочки. Полищук довольно крякнул, подлил себе еще из графина и глянул в окно – из администрации видны здания скотофермы, МТС и соседней агротехнической станции. Год тому назад все виделось совсем в других тонах, куда более мрачных. Однорукий инвалид, ветеран войны, он приехал в Задорье в прошлом июне, бросив квартиру в Минске и жену-изменщицу. Думал здесь спиться, в глухой деревне-то, утопить тоску в горилке. Ан нет, по приезде получил письмо, прислали материал, деньги выделяют на скотину. Сам того не заметив, деятельный по натуре Полищук втянулся в работу, начал развивать местную отрасль. – И на Марсе будут яблони цвести! – произнес он маленький тост и уже взялся за стакан, как в дверь постучали. – Остап Власович? – В приоткрывшуюся щелку сунулась голова заместителя. Тот явно был испуган, аж позеленел весь от бледности. – Да, слушаю! Чаго табе, Иванец? – Там у нас гэта, ЧП случилось… – Шо-о-о? – ЧП у нас! Петрухе Землянину теленок пальцы отхватил! – Чаго-о-о? – И так кажущиеся огромными за очками глаза зоотехника увеличились еще больше. – Его уже в больницу в райцентр собрались везти, перевязали чем нашли! Полищук выскочил во двор. От третьего коровника двое работников вели, поддерживая, Петруху – тот стонал, подгибая локоть перевязанной бинтами руки, покрасневшими и наложенными наспех. Полищук выругался при виде увечья. Петруха-то теперь, как и он, леворучка: пальцы у парня отсутствовали начисто, окромя большого. Уже подъехал один из трактористов, вопящего от боли младшего зоотехника принялись грузить в кабину. Бинты разбухли от крови, на землю падали ярко-красные капли. – Петька, Петро! – Полищук схватил подчиненного за грудки. – Что случилось, как ты так?! – Да я, Остап Власович, просто сена ему кинул в стайку, а он хвать! – и пальцы мне отгрыз, что твою моркву, – слабым голосом отвечал Петруха. – Я назад, а они все давай из стаек ломиться, як ополоумевшие. Еле убег… – Гэта як же ж, это чаго ж… – бормотал Полищук. Петруха ойкнул, баюкая забинтованную руку. Трактор завелся и поехал по полю, фыркая выхлопными газами. Стоявший рядом Иванец сказал: – Инвалид же буде, дай Бог ему здоровья… Остап Власович, а кто буде в третьем загоне работать? Туда ж никто ходить не хочет. Не ответив, Полищук отправился обратно в кабинет – допивать содержимое графина. Настроение, такое солнечное с утра, оказалось в край испоганено.
Труп бычка в курятнике выглядел странно. Максимка подумал, что таких он и не видал ни разу – лысый весь, без шерстки. Кожа лоснится, под ней бугры мышц, хотя еще и не бычок даже, а так, теленок малый. И зубья торчат острые, что у твоего котяры. Голова вся раскромсана, в темной засохшей крови. Сидевшие на насестах куры кудахтали, хлопали крыльями. Демьян ерошил бороду, как всегда делал в раздумьях. Максимка уже угадывал его мысли – теленок вломился в курятник? Где такое видано? – Учора, гришь, подстрелил его? – спросил Демьян у колхозника Сеньки. – И он куру жрал? – Вот те крест, зна́ток! – Сенька размашисто перекрестился. – Я и сам глазам не поверил! Ночью завопили, всполошились все. Я ружжо схватил и сюды, а тут гэта сволочь курицу жует, дверь вынесла! – Колхозник показал на сломанную дверь курятника. – Ладно бы волк, но теленок? И на меня так зырк глазищами страшно… Ну я и пальнул со страху сразу. С дуплета не завалил его, пришлось топором добивать, он кричал яшчэ так, як бы не бык он вовсе, а дите малое. Я чаго тебя и позвал, зна́ток. Шо за диво такое? – Тут покумекать треба… Но с тем, что диковина гэта, спорить не стану. – Дядька Демьян, гляди! – Максимка указал на хвост – будто крысиный с виду. В курятнике стояла густая полутьма, лишь с улицы через дверную щель падал солнечный свет. И вот аккурат там, где ложился луч солнца, лежал телячий хвост и будто бы дымился, что бикфордов шнур. – Глазастый ты мой! – Демьян привычно потрепал ученика за волосы. – Ну-ка, Сень, подсоби мне! А то я намедни руку обжег, болит малясь. – А чаго робить-то? – За копыто бери, я за другое, да потягали на вулицу. Надобно на солнце его повялить. Вдвоем зна́ток и колхозник выволокли бычка, оказавшегося довольно тяжелым, из курятника во двор, на солнечный свет. Тут-то труп и задымился весь; на глазах у всех лысая шкура зашипела, как если б на сковороде пеклась, начала съеживаться. Завоняло так противно, что все трое отшатнулись. – Чуешь, серой несет, яйцами тухлыми? – закрывая нос рукавом, спросил Демьян. – Не к добру гэта… А труп тем временем разлагался настолько быстро, что Максимка едва успевал замечать все изменения. Вот кожа вся скукожилась, лопнула в нескольких местах, провалилась вдоль ребер сухими лохмотьями. Внутри быка зашипели органы, распространяя еще более мерзкий смрад, отчего вокруг трупа повисло зловонное облако; тут же в глазах зарябило от налетевших на пиршество мух. Следом и кости начали распадаться, превращаясь в пыль, как дрова, сожженные в пепел. Не успел Максимка и моргнуть пару раз, как телячий труп уж истлел, лишь осталась на земле булькающая и неимоверно вонючая лужа блевотного цвету. Побледневший Сенька перекрестился три раза, зашептал молитву. – Да святится имя Твое… Да избави нас от лукавого… – Верно делаешь, что молитвы читаешь, – помрачневший зна́ток ткнул в лужу клюкой, тут же брезгливо вытер ее о траву. – Шо ж за напасть такая знову, откуда? – Стал быть, не ведаешь ты, зна́ток? – Понятия не имею. Но доведаюсь, ты уж не сумлевайся. А откуда у вас тут телки-то могут быть? – Дык то знамо – со скотофермы, откуда ж яшчэ, Демьян Рыгорыч? – С участка зоотехнического? – Да, я ж на окраине живу, тута до участка километра два, коли прямо идти, по лесу. Оттуда он, верно табе кажу. У мине у всех соседей две буренки, и всех телят их я знаю – нету там такой пакости, и быть не может. А про скотоферму слухи всякие ходют! – Знаю я твои слухи, – отмахнулся зна́ток, – но на участок прогуляемся, глядишь, есть и в слухах правда. Ты давай-ка, Сеня, про то, что бачил зараз, больно не распространяйся никому, зразумел? – Да ни в жисть! – Сенька снова перекрестился, возбужденно кивая, и стало ясно: сегодня же про жуткого бычка узнает все Задорье. Демьян только вздохнул. Пошли к зоотехническому участку прямо – через лес, ничего не боясь. Зна́ток в пути сетовал на то, что и нечисти, и пекельных тварей, и проклятий в Задорье стало столько, что не развернешься – вона, люди уже боятся по грибы-ягоды ходить, и это посередь лета. В лесу ни души не видно, а подосиновики под ногами гниют. – А чаго оно так, дядька? Мы, когда в Сычевичи ездили, там на всю вёску один анчутка был. И тот полудохлый, в печку заховался. – От табе и вопрос на засыпку, ты будущий зна́ток или кто? Думай, Максимка, думай! Сдается мне, треба кому-то, шоб мы тут с тобой бегали, то одних спасали, то других. Там починишь – сразу здесь сломается. Думаешь, ведьмину скрутку на свадьбе кто подкинул, а? А кто ручьем поле размыл и немчика разбудил? – Кто? – Дед Пихто! Пришли уже. Слыхав я, тут директор новый, шибко строгий, ты стой да помалкивай, покуда я балакать буду. Максимка грустно кивнул. Он уже привык, что зна́ток его то и дело затыкает, слова не дает сказать. А он разве чего плохого хоть раз сделал? Только помог – вон хотя б с тем же Сухощавым. Демьян вошел в одноэтажное административное здание, огляделся и грохнул кулаком в самую солидную дверь с золоченой табличкой. – Хто там? Войдите, чаго долбитесь?! Прокашлявшись, зна́ток отворил дверь и вошел. Максимка тенью юркнул следом. По центру обширного кабинета в кресле восседал вдрызг пьяный однорукий мужик, взиравший на гостей сквозь толстые линзы очков. Водки на столе было не видать, но разило в помещении так, что даже привычный зна́ток сморщился. – Гэта… Товарищ директор? – О-остап Власович я! Полищук! – Остап Власович, ага… У мине тута вопрос к вам, по животноводству. – По жи-вы-тны-вы-дству? – пьяно прожевывая слова, переспросил Полищук. – По нему можно, товарищи! Я всю жызь вложил… вложил… или вклал? В общем, всю жизнь этому жы-вы-тны… посвятил! Ради партии, науки для, во! – Да я слыхал, про вас много доброго в деревне кажут. – А ты сам хто такой? – прищурился пьяница в пиджаке. – А то тута ужо приходил один… ик!.. с утра, допытал мине. – Меня Демьян Рыгорыч звать, я ветеринар с деревни, коллега ваш. Вопрос к вам важный, говорю. – Якой вопрос? Задавай! – Остап Власович потянулся к графину, где явно не вода была налита. – У вас, случаем, бычок с участка не сбегал? – хмуро спросил Демьян. Директор ему явно был неприятен, да и Максимка чувствовал себя здесь неуютно – будто бы дома оказался, в компании с перебравшим лишку Свиридом. – Бычок? Якой бычок? – Лысый такой… до курятины охочий. Опрокинув стакан горилки и даже не поморщившись, главный зоотехник выдохнул и воскликнул: – Нема у нас таких! Ошиблись вы! – Ага, ошиблись, значит?.. – Да! Давайте-ка, т-варщ-щи, кру-угом и шагом марш на выход! Ходют тут, ходют, работать не дают… С утра спозаранку приходил ужо один! Вон отседа, я сказал! Демьян молча покинул кабинет, Максимка скользнул следом, бросив взгляд на пьяницу-инвалида. Тот бормотал что-то себе под нос, копался в ящике стола, перебирал помятые бумажки. Во дворе зна́ток огляделся, будто ища кого. Из ближайшего загона доносилось коровье мычание, на бревне у крыльца сидели и курили несколько работников. Демьян махнул им рукой. – Иванец, ты ли это? Подь сюды, родной. К ним засеменил маленький сгорбленный человечек в грязном от навоза переднике. – Демьян Рыгорыч, вы у нас какими судьбами? – Да дело есть одно, срочное. Чаго гэта у вас начальник такой окосевший, кстати? – Дык третий день ужо квасит. Как Петрухе Землянину пальцы оторвало – так он и начал. – Пальцы оторвало? – Зна́ток вопросительно изогнул бровь. – Ну да, теленок откусил. – Теленок откусил?! Будто поняв, что явно сболтнул лишнего, Иванец засуетился, опустил голову. – Так гэта, ЧП у нас было. Участковый приезжал с райцентра, сегодня поутру еще приходили с проверкой, важный человек один. Нам гэта, предприятие остановить хотят… До конца разбирательства. – А чагой-то за теленок такой, что человека за руку тяпнул? – Обычный теленок, голодный был, мабыть… – Ну ты мне покажь хоть, шо за телята у вас тут такие оголодавшие. Не кормите, шо ль? – А вы… гэта… официально, да? – Иванец мял в руках передник и старательно отводил взгляд. Демьян схватил его за воротник, притянул к себе и поглядел в глаза. Максимка услышал зловещий шепот: – Ты, Иванец, забыл, шо ль, кто я такой? Ну дык я напомню, за мной не заржавеет! Иванец громко сглотнул. – Та як не помнить, помню… Ну пойдем, покажу телят, чаго б и не? Сапоги не загваздайте тольки. Все вместе они прошли в загон. В стайках мотали рогатыми бошками буренки, пахло сеном и навозом. Иванец подхватил ведро корма. – Ну пройдемся, шо ль, телята да быки в конце самом. Покормлю заодно. – Тут постой. Смотри кругом, все запоминай, – коротко приказал Демьян ученику. Максимка остался в одиночестве у входа. Прошелся до стайки, подкинул сена косящей фиолетовым глазом корове. Под ней сидела на стульчике доярка в фартуке и платке. Не сразу признал он в ней Таньку, соседку, она в ту же школу ходила на несколько классов старше. – Малой, ты, шо ль? – воскликнула девушка, ловко сжимая корове соски – в цинковое ведро бились струйки парного молока. – Ну привет! – Дзень добры. А ты тута робишь? – Агась. Хошь молочка? На, угощайся! Танька приподняла ведерко, протянула мальчику – он с удовольствием глотнул и вытер «усы» с верхней губы. – Летом подработать устроилась, на каникулы, – говорила доярка, продолжая доить корову. – А чаго б и не, коли платят хорошо? И стаж трудовой. У нас предприятие передовое стало, люди с самого Минску приезжают! Машка вон рекордсменка! – Девушка шлепнула буренку по крупу. – А-а… А я, гэта, на ветеринара хочу учиться поступить. – Ага, слыхали мы, якой ты ветеринар, со знатком заякшался, – хохотнула Таня. – Слышь, малой, а какой он из себя, Демьян Рыгорыч? – Такой… Своеобразный, – запнувшись, чтоб не ляпнуть лишнего, подытожил: – Хороший мужик, не обижает мине… – Ну раз не обижает – то добре. А тут вы чаго забыли? – Бычок у вас сбег, кусачий такой, лысый весь. Не бачила таких? Улыбка у Таньки пропала, она серьезно посмотрела на Максимку. – Ну бачила разок… Кусачие – это да, один меня ухватить пытался. Тольки вы не там пошукать решили. Нема их тута, они в другом хлеву – у леса который, тайный. – Тайный? А где? – А вон тама, не ошибетесь. Но вы туда не ходите, нехорошее то место. «Знала б ты, скольки раз я гэта слышал», – с какой-то взрослой усталостью подумалось Максимке. – Ладно, малой, мне робить надо. Мамке привет! – Танька отвернулась и продолжила дойку. Вернулись Демьян с Иванцом. – Ну чаго там, дядька? – Та ничога… Бычки як бычки, рук точно не кусают. – Дядька, мне сказать кой-чего надо… – Максимка кашлянул и красноречиво посмотрел на стоявшего поблизости Иванца. – Зразумел. Давай, Иванец, покеда, пойдем мы. – Вы звиняйте, коль ничем помочь не смог, – развел руками работник фермы. – А ты звиняй, что спужал тебя. Мир? – Демьян намеренно пожал руку с такой силой, что Иванец скривился. – Ну бывай, заместитель! По дороге домой Максимка рассказал Демьяну о том, что услышал от Таньки. Зна́ток хмыкнул. – Так и чуял, что брешет Иванец, як дышит. На его совести буде. Значится, коровник у леса, гришь? – Ну сказала, шо тама. А вон он, кажись, – Максимка указал в сторону лесной опушки, где в отдалении от скотофермы стояло одинокое длинное здание, деревянное, с покрытой шифером крышей. – Во як, да? Оттудова к Сеньке гэта беда и могла прискакать… Тады вечером прогуляемся, глянем, шо там за телята живут. А мне зараз надобно по делам сходить. Дома Демьян тщательно выгладил брюки старым утюгом, надел пиджак и прицепил медальку. Вместо рубахи же напялил лянку без воротника, но с красным вырезом. Одеколоном надушился так, что аж суседко фыркнул за печью. В процессе зна́ток напевал под нос песенку – с ним такое в последнее время часто случалось. Максимка с интересом наблюдал за его сборами. – Дядька, вы на свиданку, шо ль, собралися? – Цыц, молодежь! Не на свиданку, а на важную деловую встречу! – А встреча с Анной Демидовной, небось? – Ничога от тебя не утаишь, хлопче, – ухмыль- нулся Демьян, поправляя пиджак и критически разглядывая себя в зеркало. – Ну як я, пригож? – Тама грязюка после дождя. Туфли почистите и тряпочку с собой возьмите, – посоветовал ученик. – И борода у вас як у лешего, расчешите хоть иль постригите. Перед свадьбой Вальки-егеря Демьян купил в продмаге штиблеты, а то, говорит, сапоги одни, должны же у мужика быть и туфли на выход. С тех пор так ни разу не надеваны, но сейчас же встреча деловая, стало быть, и повод есть. Приодевшись и насвистывая песенку, зна́ток причесался, а потом стоял полчаса у зеркала с ножницами, неловко обстригая бороду. Не выдержав его мучений, Максимка отложил книжку и спрыгнул с печки. Отобрал ножницы и помог постричься – теперь зна́ток выглядел как с картинки в журнале. Помолодел разом лет на десять. Рука только в бинтах после заговора супротив гыргалицы. – Клюку брать с собой не треба, а то як дед дряхлый. И хромать не надо, спину прямо держите, – деловито наставлял Максимка. – Анна Демидовна такого не терпит, мы в школе всегда с прямой спиной сидим за партой. Да не горбитесь вы, ну! – Ты гэта, говори, да не заговаривайся, сам разберусь, – проворчал Демьян, глянул снова в зеркало. – Нашелся советчик! Сиди лучше зачины читай, все-то выучить не можешь. Я к вечеру приду, к тому хлеву прогуляемся. – Добре, жду, – Максимка улегся обратно на печку, в нетерпении раскрыл почти дочитанную книжку – «Страну багровых туч» популярных писателей Стругацких, про космонавтов и покорение планеты Венеры. Максимка погрузился в книгу и обо всем забыл.

Анна Демидовна ждала у клуба, в легком платьице и туфельках – Демьян в очередной раз подивился, откуда у нее столько платьев. Он резко – как револьвер – выдернул из-за спины букет тюльпанов в газете, смущенно сунул учительнице. Та погрузилась носом в цветы; прикрыла глаза, вдыхая аромат. – Откуда знаете, что тюльпаны люблю? Максимка доложил? – Дык… гэта… я ж спец по травам, по цветам. Ведаю, якие цветы женщины любят! – Он поправил бумажный сверток под мышкой, куда упаковал вино и гостинцы. – Если б знали, так бы одеколоном не поливались. Як сдурели вы, ей-богу! Фу, Демьян Григорьевич, от вас же так вкусно всегда лесом пахнет, травой скошенной. На кой духариться-то? – Да мне, честно кажучи, самому не падабается, – признался зна́ток. – Ну вот на будущее вам – если еще на свидание позовете, то так не делайте. Так что, куда идем? – Учительница подхватила Демьяна за локоть. – А что это за кулек у вас? А что с рукой? – Служебная травма… Идти в Задорье было особо некуда, разве что в клуб, да и там заняться нечем – одна пыль да стулья. Разве что в библиотеке сидеть да на пару книжки читать. Зна́ток потащил Анну Демидовну в поле, придерживая за локоток, когда та спотыкалась на каблучках. Но ей нравилось – полдень, солнце слепит, цветы полевые колышутся. Отошли к сеновалу, присели на завалинке. Демьян развернул на бревне сверток с овощами и бутербродами, поставил рядом бутылку домашнего вина, два стакана – за спасенный от заблудшей кикиморы погреб с закрутками. Открыл лукошко спелой клубники. Стесанный пень, служивший столиком, был весь изрезан инициалами – сколько Демьян себя помнил, здесь молодежь всегда свиданки устраивала. – Ну шо, за встречу? Чем богаты, как грится. – Какой предусмотрительный мужчина! А это все ваше, с огорода? – Не, у мине огорода, можно сказать, и нет, не люблю я в земле копаться. Гэта мне люди приносят, за работу. Вы кушайте, Анна Демидовна, а то совсем худенькая. Она съела ягоду, облизнулась. – Вкусно! Нравится мне у вас. И ребятишки в школе хорошие. Как там Губаревич поживает? – Максимка-то? Учится, гм. Добрый ветеринар буде. – Хороший он мальчишка, вы не обижайте его. – Гэтага приблуду обидишь… А хотите покажу кой-чаво? Вот, гляньте сюды, снизу. Учительница наклонилась, прищурилась. – Вот тута надпись, видите? Гэта батя мой, когда с мамкой гулял, ножиком вырезал. Тута же сидели лет так сорок назад. – Как мило! А сейчас они где? Ой, простите! – Учительница заметила тень на лице Демьяна. – Они умерли, да? Зна́ток поскреб ногтем бороду, вздохнул. Разлил вино по стаканам и постарался закрыть бутылкой другие инициалы, тоже старые, но чуть свежее родительских – с литерами «А» и «Д». – Мать у мине во время войны погибла, с братом и сестренкой малыми. Немцы их, того… Отец еще до войны помер, самогубец он был. Ну давайте о плохом не будем, выпьем за встречу. Они пригубили из стаканов, глядя друг на друга. Синхронно улыбнулись. Зна́ток подумал, что мало с какой женщиной бывает приятно просто молчать. – Ох, чутка не забыл, дурань! – Демьян хлопнул себя по лбу, полез в карман пиджака. – У мине ж для вас подарок! – Подарок? Интересно… Но, может, не надо? – Надо! Гэта от души, Анна Демидовна… Та все же немного испугалась поначалу – нешто вот так, с бухты-барахты замуж позовет? Бархатная коробочка, полученная Демьяном от председателя в Сычевичах, так и наводила на мысли о кольце. В солнечном свете блеснуло, брызнуло синими переливами света, отразившимися на лице Анны Демидовны. Ее взгляд, прикованный к подарку, за несколько секунд сменился от опаски и недоверия к испугу и, наконец, к восторгу. Она удивленно уставилась на знатка. – Да вы шутите! Это… это мне?! – Ну не мне же! Вам, Анна Демидовна, вам. Возьмите. Она осторожно, будто боясь повредить такуюкрасоту, выудила из коробочки сапфировый кулон на цепочке – небольшое элегантное украшение из золота, с переливающимися синим цветом камнями, повторявшими узором созвездие Плеяды, или, по-простонародному, – Бабы. Тонкая цепочка струилась в ладонях десятками звеньев, как змея, кулон ярко блестел на солнце, такой махонький и хрупкий на вид, грозя ускользнуть между пальцев и пропасть насовсем. – Это… колье? Ой, нет же, кулон, да? – Я даж не ведаю, як зовется, – хмыкнул Демьян. – Гэта мне за работу дали, гостинец добрый. Да вы примерьте на шейку, не стесняйтеся. Ваша вещь, носите. Еще раз вопросительно глянув: «Мне, правда мне?» – Анна Демидовна открыла застежку на украшении, перекинула через шею. На губах ее расцвела счастливая улыбка. Наконец замотала головой. – Нет, не могу, это же дорого очень, не могу принять. – Обижаете, Анна Демидовна, – прогудел Демьян. – От души же. – Ох ну… Ладно. Застегнуть поможете? Он встал за спиной, застегнул колье на тонкой шее, ласково убрал ладонью светлые волосы. Захотелось наклониться и поцеловать в выступающий позвонок, но зна́ток себя одернул. – Ну как вам? – засмеявшись, Анна Демидовна подскочила и закрутилась – платье поднялось маленьким вихрем, обнажив стройные ноги. – Эх, зеркальце бы… – Вам к лицу, – улыбнулся Демьян, присаживаясь и разливая вино. – Пригожим девчатам украшения идут… Но у мине к вам просьба, Анна Демидовна. – Ох, теперь уж не откажешь, – хохотнула та. – Ну уж выкладывайте. – Носите… как вы сказали, кулон? Дык вот, носите его почаще, добре? А лучшей и вовсе не сымайте. Оно заговоренное. Я над ним слова прочитал. – Заговоренное? Простите, что прочитали? – Ну да, оберег такой. Слова я прочитал, сила в нем. Защитит вас от… – От чего защитит, Демьян Григорьевич? – От нечистой силы, – выдохнул он, понимая, как глупо, наверное, сейчас выглядит в ее глазах. С какой-то кривой улыбкой Анна Демидовна потеребила кулон. Глянула на знатка будто с сожалением – как на юродивого. – Вы понимаете, что сейчас говорите? – Да я-то разумею… Анна Демидовна, давайте так. Вы можете просто одолжение мне сделать? Я вас сердечно прошу – будь ласка, носите кулон. Думайте, шо на мою душу такая блажь напала. Во, блаженный я, да! И гэта просьба моя взамен за подарок – апранайте дома, на работу, коли в магазин идете. Можно и под кофтой сховать… Иль не надевайте, а в сумочке таскайте. Можете так зробить? Заради меня, а? – Вы на блаженного не похожи… – В том-то и дело… – буркнул он и залпом допил вино. – Не блаженный я ни разу, вот вам и тяжко слухать по-сурьезнаму. – А с Жигаловым это как-то связано? – Може и связано. Я не пойму, чего ему от меня надобно. Шукал меня тута намедни, гэпэу минское, да мы с Максимкой в лесу были. Зараз опять дозваться не может, надо бы сходить до клубу, погутарить наконец. Не то он, скотина, не отстанет. – Ну так вы сходите, погутарьте, а то и меня уже вызывали на допрос, я вам говорила, – строго сказала учительница. – Жигалов человек серьезный, дважды не повторяет. Не надо скрываться, к тому же вы под следствием! И меня подведете заодно! – Схожу-схожу… Прям завтре и схожу, обещаю. Слово даю! И вас то дело никак не коснется – тоже обещаю. Я мужик простой, мое слово – кремень, кого угодно спросите. Анна Демидовна поглядела на него внимательно и облегченно вздохнула – поверила. Окинула задумчивым взглядом цветущий луг, их столик из бревна, заставленный «гостинцами», еще раз коснулась кулона, что отбрасывал синие блики. После оглядела знатка, взяла стакан и сама отпила немного вина, закусила ягодкой – будто решившись на что-то для храбрости. – Хорошо! Раз обещаете, то ладно, я вам верю. А знаете что? Какое-то мрачное свидание у нас, Демьян Григорьевич! А я ведь за подарок так и не отблагодарила. И она, наклонившись, быстро поцеловала знатка. Он от неожиданности выронил стакан, а потом неловко обнял ее за плечи; чурбак под Демьяном перевернулся, и оба рухнули в сено. Первой засмеялась учительница: – Какой же вы неловкий, Демьян Григорьевич! – А можно на «ты» наконец? – ухмыльнулся он, стряхивая с ее платья солому. – Можно… Тебе можно. – Вот и славно, – резюмировал зна́ток, привлек ее к себе и поцеловал уже крепче, с душой.

Домой зна́ток явился довольный, с улыбкой во все тридцать два зуба. Максимка к тому времени уже успел дочитать книжку, сварить Полкану похлебку и выучить наизусть два зачина. – Як встреча? – лукаво спросил ученик. – Як съезд партии – успешно состоялась. Давай збирайся, чаю выпьем да пойдем – работать треба! – Демьян сбросил пиджак и брюки, переоделся в повседневные штаны, но рубаху не снял. – Анна Демидовна про меня ничего не говорила? – Казала табе по лбу щелбана давать каждый раз, як плохо учиться будешь. Ну-ка, лоб готовь! – Демьян шутливо хрустнул пальцами. – Я зачины выучил, дядька! – Чаго суетишься тады, раз выучил? Чайник ставь. Зажгли керосинку, поставили кипятиться воду. – Иван-чай нынче хорош, – довольно сказал зна́ток, насыпав полную кружку с мелиссой и листочком мяты. За окном сгущались сумерки, Задорье погружалось в сизый мрак. Полкан тоскливо гавкнул в темноту. – Дядька Демьян, а я давно спросить хотел… – Спрашивай, раз хотел, – добродушно ответил зна́ток, разливая чай по кружкам. – А чаго б нам всю паскудь разом не почикать? – В смысле? – Ну вы… кажный раз всех як жалеете, вот. Чаго б не бить ту пакость, шоб их меньше стало? Под корень всех извести. – А чаго б твоего отчима, Свирида, не прибить? – задумчиво спросил Демьян. – Вы чаго гэта? – испугался Максимка, хотя мысль ему понравилась. – Ну як чаго? С него ж проку як с козла молока: алкаш, тунеядец да дебошир. Пользы с него ноль, а вреда – пальцы кончатся загибать. Взять его да прибить. Так немцы и зробили, поганцы. Евреи им плохие – их взять да пришибить всех разом. Решить еврейский вопрос – гэтак Гитлер порешал у себя в Рейхе. А чаму б и не, а? Всех разом – чик, и все! Под корешок! – Нет, ну гэта ж… э-э-э… – даже растерялся Максимка от такой постановки вопроса. – А вот то-то же, Максимка. Не ты решаешь, кто хороший, а кто плохой. То Бог уже судит. А ты, в силу своего разумения, должон быть справедливым, но не жестоким. Человеком быть! Мине, думаешь, гыргалицу не хотелось кончить, шоб потом хлопот не иметь? Хотелось, врать не стану! Дык тогда бы Валька на суку повесился, следом невеста его удавилась, а потом ужо и Макарка – я гэтаго дурня знаю, мы с ним в засадах сиживали, бывало. Вот и считай, что ты гыргалицу убил – а вся семья в гробу. А так мы ей внушение сделали, глядишь, и без барагоза обойдется. Верно? Максимка кивнул. – Ну ладно, ты чаек допивай, да пойдем телят смотреть. Рогатку не забудь! Ученик сунул за пояс рогатку с мешочком «спутников», выходя из дому. Они зашагали по дороге прямо в лес, шумевший ветвями деревьев во мраке. Зна́ток нес клюку на плече. Млечный Путь рассеялся в безоблачном небе мириадом звезд; Демьян сказал, что это Бог невзначай соли рассыпал. Демьян вообще был будто навеселе, шел пружинистым шагом, чуть не подпрыгивая. За полосой леса открылось пшеничное поле агрофермы, на окраине которого, у дальней опушки, стоял коровник. Здание освещал один-единственный фонарь над воротцами, работавший, судя по всему, от дизельного генератора. Демьян замедлил шаг, шикнул на ученика – мало ли, вдруг тут сторож сидит. Прокрались аккуратно, пригнувшись, к зданию. Максимка подбежал ближе, огляделся, после уже встал во весь рост и свистнул знатку: – Нема тут никого, дядька! – Добре, сынку! – Демьян выбрался из пшеницы. – Эх, фомку не взял я, дурань. Пошукай лом какой, замок крякнуть. Максимка пошарил рядом, наткнулся на ржавый кусок арматуры и приволок к двери в загон. – Сойдет? – Самое то! – Зна́ток взвесил в руке арматурину. – Ну шо, ломаем да смотрим, чаго они там прячут? Ты как, не против советское имущество портить? Максимка покачал головой. – Тады поехали! Зна́ток вдел арматурину в дужку амбарного замка, навалился всем телом. С громким звуком «скр-р-рям!» замок перекосился, дужка лопнула, и запор грохнулся оземь. Дверца отворилась с недобрым скрипом. – Вот и все… Пошли. Изнутри хлев был тускло освещен голою лампочкой под потолком. В углу гудел вполсилы толстобокий, покрашенный в зеленую краску генератор; к нему тянулись шланги от топливных чанов. Помещение, разделенное надвое усыпанным сеном продолом, представляло собой длинные ряды коровьих стаек, внутри которых переминались с ноги на ногу тени животных. При звуке отворившейся двери бычки и телки замычали, начали подниматься на ноги. Под желтым светом слабосильной лампы их жилистые голые спины казались завялившейся под солнцем дохлятиной. – Ого, сколько ж их тут… – протянул Максимка. – Мы вот куда седня ходили с утра – там куды меньше коровок было. – Есть такое… – Зна́ток почесал в затылке. – Давай-ка глянем, шо там за страшидлы. Максимка шагнул вперед, но Демьян схватил его за плечо, задвинул себе за спину. – За мной держись. Из первой же стайки на них зыркнула оскаленная морда – прям как у сегодняшнего трупа. Шерсти нет, кожа блестит в тусклом свете лампы. Зубья як у волка. И глазищи громадные, алые, от злобы кровью налитые. Бесноватый теленок застонал – точь-в-точь как пьяница с похмелья, угрожающе склонив башку, отчего зна́ток с учеником шарахнулись назад. Теленок грохнулся растущими рожками о перегородку, едва не сорвав ее с петель. – Гэто шо ж, они все такие? Вообще все?.. – растерянно пробормотал зна́ток, глядя на другие стойла. А оттуда высовывались перекошенные морды, у многих из которых Максимка заметил острые рога – совсем не бычьи, а длинные и черные. – Их тут голов писят, коли не больше… – Бо-о-ольше! – раздался за спиной гулкий возглас, отчего зна́ток с учеником вздрогнули и резко повернулись. – Куда больше! У открытых ворот стоял главный зоотехник. В единственной руке он неловко сжимал ружье-вертикалку, придерживая цевье культей. Остап Власович пьяно щурился сквозь очки, и Максимка опасливо поежился – а ну как пальнет сдуру. Демьян привычно загородил мальчика широкою спиной. – Коль пулять начнет – беги, зразумел? – бросил он кратко. – А куды бежать-то, дядька? – печально спросил Максимка. – На халеру забыли тут, жулики? – Зоотехник махнул ружьем, и Демьян инстинктивно пригнулся, зачем-то выставив перед собой клюку. – Бычков моих попортить решили? – Слышь, да они у тебе и так порченые! Ты глянь на них! – Нормальные… Порода такая. – А ты в курсе, что твоя порода на солнце горит, як бумага под лупой? – У них аллергия! – не растерялся Полищук. – Говорю ж – порода новая, кспириминтальная! И вообще – харэ лясы точить! А вас я ща… – Чаго ты нас? – прищурился Демьян. – В милицию сдашь? Ну давай, дерзай, светило науки! С удовольствием завтре прогуляюсь до отдела. Давай, вяжи нас! Полищук замолк, задумался крепко, но ствол ружья не опустил, внимательно следя за незваными гостями. Максимка подумал, что раз он фронтовик, то и стрелять должен уметь, пускай и пьяный в зюзю. В это время телята в стойлах совсем очумели от близости людей: ближайшие принялись бодать перегородки, яростно мыча и даже порыкивая, а те, что подальше (да меньше и младше) – заблеяли, почти как обыкновенные козы или овцы. Максимка, оглянувшись, с испугом заметил, что один бычок – почему-то трехглазый – выломал доску из ограды, просунул башку и теперь фыркал, елозя жуткой харей в двух шагах. Увидев это, Полищук ухмыльнулся. – Ну-ка, назад! – Чаго? – Назад, взад-пятки идите, я сказал! Демьян вглубь жуткого загона пятиться не захотел, и зоотехник пальнул им под ноги. От гулкого выстрела все трое едва не оглохли, в нос ударила пороховая гарь. А телята будто обезумели, начали ломиться из стаек еще сильнее, с визгом бросаясь на ограду. Раздвоенные копыта, больше похожие на когти, со скрежетом царапали дерево. Телята в задних рядах вставали на дыбы, да так и оставались стоять – будто им на двух ногах оно сподручнее. – Назад, а то пристрелю! – заорал зоотехник. – Это ИЖ-59, у меня второй выстрел есть! Урою, падлы! Зна́ток с учеником попятились в темноту вдоль продола. Полищук же отступил за ворота, продолжая целиться, и крикнул уже с улицы: – Никто мне помешать не сможет, слышите, вы?! Я тута главный! И, бросив на землю ружье, он принялся запирать ворота – хоть и одной рукой, но довольно шустро. – Он нас тут запереть хочет! – ахнул Демьян, рванулся вперед. Он, наверное, успел бы добежать, если б не услышал жалобный вскрик Максимки: – Дядька!.. Помоги! Максимку схватил за подол рубахи один из телят, практически выломавший дверцу стойла. Фыркая и вертя башкой, уродец тянул его на себя, пока Максимка пытался отбиться. Яростно завопив, Демьян обрушил теленку на холку свою клюку, и тот завизжал, скрылся в стойле, будто ему кувалдой вдарили, а не деревянной палкой. С собой теленок утащил кусок Максимкиной рубахи, и теперь танцевал и бесновался с добычей; остальные пытались отобрать трофей. А ворота в этот момент закрылись, оставив их в полутьме хлева, наедине с беснующимися в стойлах уродцами. Демьян разбежался, врезался в воротину плечом, но бесполезно – Полищук запер их снаружи. – Сволочь, он той же арматурой петли и закрыл, – простонал в отчаянии зна́ток. – Дядька, чаго робить-то будем? – Чаго-чаго?! Рогатку доставай, стрелять будешь. Вона уже двое выползли! Два теленка уже и впрямь вылезли наружу – перемахнули через расшатанную оградку. Один – с выкрученными, будто коряги, конечностями, второй – с длинным, болтавшимся меж передних ног языком. Сейчас они, пошатываясь, бежали по продолу, склонив головы с острыми рогами, и громко ревели. Максимка натянул резинку рогатки до отказа, так, что заболели пальцы от напряжения, и выпустил одному в морду. «Спутник» пронзил бычка с той же легкостью, с какой горячий нож входит в масло; с истошным визгом рогатый урод завертелся на месте, путаясь в ногах-корягах, а из образовавшейся дырки повалил знакомый дым, вонявший серой и тухлятиной. Похожий на бычка ублюдок разлагался на месте: шкура слезала клочьями с костей; обнажились лопатки, суставы, хрящи и сухожилия, а на землю сыпалась смрадная дрянь, составлявшая его внутренности. Сделав еще два неверных шага, теленок споткнулся и упал, мигом превратился в груду разлагающегося мяса. – Чагой-то он? Як под солнцем? – удивился Максимка. – Не под солнцем, а под небушком. А ты ж в космос веришь, в небушко? Вот оно и помогает. Вдохновленный, мальчик зарядил второй снаряд. Следующий телок (хотя какой, к чертям, телок, подумал Максимка, раз он его самого вдвое больше) затормозил, глядя на погибающего собрата; длинный язык любопытно обшарил дырку в черепе. Тут подскочивший Демьян хрястнул ему что есть силы по лопатке тростью. Хоть клюка и деревянная, но у парнокопытной твари что-то хрустнуло в спине, и она отскочила назад, заверещала с обидой – задние ноги безвольно обвисли. – Отбились… – выдохнул зна́ток, отступая к воротам. – Мать их так, вон еще лезут! – Дядька, у меня снарядов не хватит, шоб всех перебить! – Погодь, сообразим шо-нить… А «спутники» твои робят, когда надо, молодец! Вон по тому пульни яшчэ! Максимка выстрелил снова, а потом еще – с первого раза промахнулся. Взвизгнув, рогатое лысое чудище – как будто пятиногое – пропало во тьме коровника. – Э, брат, что же ты мажешь… – покачал головой Демьян. Из темноты к ним приближались остальные; половина уже успела выбраться из стаек, а другим помогали освободившиеся, расшатывая, ломая деревянные оградки. Их многоголосое то ли мычание, то ли рычание смешалось в один монотонный гул, в котором можно было различить отдельные всхлипывания – это более мелких собратьев бычки затаптывали насмерть, а то и рвали на куски, по-волчьи вгрызаясь в плоть и мотая мордами. В темноте загона блестели десятки алчных глаз, и вся эта стая неотвратимо приближалась – медленно, зловеще. – Ниче-ниче, и на вашего брата буде управа, – хекнул Демьян, размял коротко губы и затараторил быстро-быстро над не пойми откуда взявшейся горсткою соли в ладони. – Всякой твари по паре, а что промеж – кыш, да вон, як крыса с лодки, як хвори с водки. Встань стоймя да не тронь мя. Слово моё – замок! Произнеся это, зна́ток сделал несколько шагов вперед и сдул соль с ладони, и та образовала идеальный полукруг, отрезая их с Максимкой от толпы телят. Те застыли ненадолго. Первый нерешительно занес уродливую голову над соляной дорожкой и ткнулся в нее длинным лиловым языком, слизал целую полоску начисто. А затем совершенно беспрепятственно ее переступил. Шагнул второй бычок, с куриными лапами вместо копыт. Демьян отшатнулся, но в спину уперлась дверь коровника – отступать было некуда. Рядом пучил глаза Максимка. – Чаго оно не сработало-то? Гэта ж соль! – Не навьи они, видать. И не пекельные. А как будто что… промеж. Як гибрид какой. – И что ж робить? К испугу Максимки, зна́ток едва заметно пожал плечами – в глазах его плескался ужас, какого раньше ученик не видывал. Чтобы прервать это жуткое молчание, он глупо спросил: – Стрелять, дядька? – Стреляй уж… Толку-то? Тут Максимка не промазал – мазать некуда, когда перед тобой больше полусотни мишеней. Убитый теленок упал, начал мгновенно разлагаться, а остальные сразу растерзали его останки. Между людьми и жуткими телятами оставалось не больше двадцати шагов. Они наступали общей массой, не спеша, держась копытом к копыту. – Ты гэта, Максимка, звиняй мине, коль чем обидел, – упавшим голосом промолвил зна́ток. – Я ж не со зла, а научить табе хотел. Ты мне як сынок стал… – А вы мне як… – Эй, есть там кто, внутри?! – раздался совсем рядом голос, и зна́ток с учеником услышали, как снаружи кто-то вытаскивает из петель арматурину, запершую ворота. – Откройте нам, откройте, они нас сожрут! – со всей силы зна́ток с учеником забарабанили в воротину кулаками, оглядываясь назад. Створки ворот распахнулись, и двое обреченных вывалились наружу, на вожделенную свободу, в свет луны и фонаря перед хлевом. На них с удивлением уставился майор Жигалов, открывший ворота; а когда он поднял голову и увидел бычков, то непроизвольно вскрикнул и потянулся за пистолетом в кобуре. – Ну здрасьте, товарищ чекист, – ошалело произнес Демьян, поднимаясь на ноги и помогая встать Максимке. Оба едва могли поверить в свое спасение. – Климов! – взвизгнул майор. – Это что еще за чертовщина?! Какого черта, я спрашиваю?

Три дня Жигалов страдал от самого сильного похмелья в своей жизни. Он даже и не помнил, чтоб столько пил на злополучной свадьбе. Впрочем, он вообще мало чего помнил из того дня. «Вот и построил оперативную сеть, показался перед людьми, данные собрал. Нажрался в итоге, как свинья!» – выговаривал себе самокритичный майор, выпивая рассолу. Хотя о работе он не забывал. На третьи сутки, немного оправившись, явился в клуб и отзвонился в Минск – выслушать пару ласковых от начальства. Гавриленко устроил такую выволочку, что Жигалову пришлось отбрехаться, мол, заболел я, товарищ полковник. Буркнув на прощание что-то про выговор без занесения, полковник положил трубку. Климов никак не хотел являться на очную беседу. «В лесу они! На Вогнище пошли!» – отвечал Макар Саныч. «Нету их, товарищ майор! Шатаются где-то со своим знахарем», – говорила мать Губаревича – колхозница с заплывшим глазом. Жигалов думал: ладно, потерплю до завтра, а потом уже оперативную группу вызову, будем брать секту. Хотелось, чтоб действительно секта тут была. За такое повышение дадут и премию. Еще и Кравчук в психбольнице совсем с глузду съехал – все зубы себе вырвал и спрятал непонятно где, идиот. Весь кровью истек, чуть не помер. А майор как раз намеревался в райцентр съездить, поболтать с бывшим председателем… Теперь уж не погутаришь, покуда он в больнице откисает. А потом работника скотофермы укусил бычок. Жигалов даже не удивился – на фоне происходящих в Задорье событий такое казалось вполне нормальным. Ну как укусил… Все пальцы, окромя большого, отчекрыжил. С мясом. Да еще и проглотил вдобавок. Странно-таки для травоядного, тем более теленка. – Слухи ходют, товарищ майор, што тама на ферме тако-о-ое творится! – с широко распахнутыми глазами говорил вечером в кабинете Макар Саныч. – Какое такое, товарищ исполняющий обязанности? – Майор привычно взял блокнот с карандашом. – Давайте по порядку. – А вот вы сами сходите да спросите! Я-то человек маленький, а вы разом усе и узнаете. Не буду ж я вас мракобесием потчевать! «Действительно, мракобесия у вас хватает», – мрачно подумал Жигалов. От идиота Макар Саныча, да и от всего Задорья уже чуть ли не тошнило – хотелось уехать поскорее. От деревни тянуло чавкающим болотом (почему-то в последние дни ему снилось болото), мерзкой гнилью да вонючей, черной гарью. По ночам он просыпался у себя в комнате, услышав явственный плач младенца из печки. Вскочив, распахивал затвор – пусто, конечно же. Ветер, что ли, дует так странно в трубе? Только ляжешь, а с улицы начнет выть то ли собака, то ли лисица: только не видно никого. А иногда, просыпаясь, он видел падающую из окна длинную тень, будто бы дерево ветками шевелит. Жердь такая высокая склонилась и заглядывает в окошко круглой головой. Только вот никаких деревьев у окна нет. «Гиблая деревня, страшная», – совсем не атеистично думал Жигалов, сидя в тесной комнатушке за чисткой табельного оружия. Чудится всякое… Днем хорошо, солнце светит да гуси-куры по улице бегают, а по ночам словно другой мир – за порог выйти боязно. Нет, он-то не боялся, он же материалист, но честно пытался понять, откуда такие ощущения у него, атеиста во втором поколении. Значит, никаких долгих расследований, надо не распутывать клубок, а по-македонски узел рубить: сюда опергруппу, Климова в СИЗО мариновать, покуда не расколется; всяких председателей и училок на допросы всей гурьбой – выяснять, что за чертовщина тут творится. Может, у них капиталисты над всей деревней психотропные препараты распыляют? Для экспериментов своих бесчеловечных? «Так и сделаем. Завтра на Климова опергруппу вызову, а сам к увечному поутру прогуляюсь. Глядишь, чего и вскроется», – рассудил Жигалов, засыпая вечером четвертого дня после приезда. И стараясь не обращать внимания на плачущего в печке младенца. Странно, конечно: на улице ветра нет, а в трубе гудит и гудит… К девяти утра Жигалов сбегал в клуб и сделал важный звонок. Затем отправился к дому Земляниных. На лавочке у хаты его встретил уже знакомый безногий баянист Афанасий Яковлевич – старик сидел, щурился на солнышке, рядом стояла початая бутылка самогона. – О, друже, дзень добры! – воскликнул старый фронтовик. – Какими судьбами? – Здорово, отец. Петр Землянин здесь проживает? – А где ж яшчэ? Сынок гэта мой. Тольки его дома няма – в больнице ляжить, в райцентры. – Ага, как же я не догадался… А здоровье у него как? – Инвалид таперь, шоб их ферму чорт побрал… Усе пальцы хлопцу на правой оторвало, и не разумею, куды ему теперь? – Афанасий Яковлевич развел руками и налил себе еще стопочку. – У мяне ног няма, Петька беспалый, эх… Шо за напасть такая? – И как состояние у него? – Ну, лечится, жить будет. Може, пенсию дадут по инвалидности. – А чего стряслось-то? Правду говорят, что бык его укусил? – Да не бык даже, а телок! Правильно про их ферму кажут – бесовщина там деется. Сколько лет божий свет копчу – ни разу такого не бачил, шоб телята людям пальцы откусывали. Выпьешь со мной, а? За Победу, стопарик? – Не, Афанасий Яковлевич, я с того дня не- пьющий. – Завязал? Ну як знаешь… Поразмыслив, Жигалов решил прогуляться до зоотехнического участка – пообщаться с тамошним директором. По дороге майор подивился, что в разгар лета в лесу нет ни одного грибника; и это после дождя вчерашнего! Ладно бы деревня была образцово-показательная, но такого не наблюдается. Да и любят старики по грибы-ягоды ходить. Главный зоотехник, однорукий инвалид по фамилии Полищук, был немного навеселе, как показалось майору. С утра спозаранку, сволочь! Показав зоотехнику красное удостоверение, майор осведомился, какого черта тот квасит на службе. – Дык я ж гэта… у мине несчастье, вот! Третьего дня чэпэ было, работнику все пальцы начисто – того, чик! – Полищук воровато забегал глазами, поправил культю в рукаве пиджака. – Петр Землянин – родственник ваш? – Н-н-нет… – Тогда откуда такое сочувствие? Или вы повод нашли? Так это уже алкоголизм, товарищ, а алкоголизм у нас лечат: сами знаете, какими методами. Пить бросайте, товарищ директор! Да, и не мне вам про социалистическую сознательность рассказывать. Вы член партии с какого года? – С тридцать пятого. Но я меру знаю, товарищ майор! – Вот, пораньше меня даже партийный! А знали бы меру – не сидели бы пьяным на рабочем месте. Что молодежь подумает, которая на участке работает? Дома, иногда, по праздникам – можно… Но не на службе! Понятно вам? – Понятно, товарищ майор… – понурился зоотехник. – Впредь на работе ни капли. Слово коммуниста! – Ладно, верю. Что с Земляниным случилось? – Да бык укусил… – У быка бешенство, что ли? – Да там неясно, якой бык-то. Бычков у нас немного, но не один он. – Бык-осеменитель? – Да пока не, там в стайках телята одни. У нас же коровы в основном, сами понимаете; самцов не держим почти. Все на искусственном оплодотворении. – Прогуляться туда можно, посмотреть? – Конечно, конечно, товарищ майор! Зараз зама позову, он вам усе покажет! Суетливый заместитель по фамилии Иванец отвел Жигалова в загон, где действительно были одни коровы, только в самом конце топталось несколько хилых телят. Крупный рогатый скот миролюбиво жевал сено и флегматично поглядывал на посетителя в погонах. – Какой из них Землянину пальцы откусил? – требовательно спросил Жигалов. – А кто их знает, товарищ майор, – отвечал Иванец, разводя руками и стараясь не смотреть в глаза, что не понравилось майору. – Мы ж за всеми не следим, а Петруха сам в лекарне, оттеда не укажет. – Значит, надо его сюда везти, чтоб он сам пальцем ткнул? – Пальцем ужо не получится, товарищ начальник, – хихикнул Иванец. – Звиняйте уж за каламбур. Плюнув, Жигалов вернулся в клуб. Чутье прожженного гэбиста подсказывало, что ему напропалую лгут, но не хватало еще тут с коровами разбираться: на то свои службы имеются. Глядишь, как-то оно и связано с событиями в Задорье, но, скорее всего, объяснение простое, как три рубля – ворует Полищук, крутит свои делишки номенклатурные, вот и весь сказ. Может, производство какое держит мелкое – станок там фрезерный или еще чего, вот парню пальцы-то и намотало. Не того уровня рыба, чтоб за ней целый майор КГБ бегал. Расхищением народного имущества попахивает или контрафактом, а вот государственной безопасностью вряд ли. Он отправился обратно по той же дороге, вдоль поля и лесополосы, когда услышал раздававшиеся с опушки леса знакомые голоса. Мгновенно оценив ситуацию, майор пригнулся, шмыгнул в заросли пшеницы на другой стороне дороги. Прислушался: – Дядька, а як же ж этот зачин читать, коли его двое мудрецов составили? – Дык он вдвоем и читается, половину один, половину второй. Так цельный заговор выходит, а иначе никак – его тольки двое могут сотворить. Гэта ж почти молитва, считай. Ее валаамские иноки составили, Сергий и Герман: то грецкие священники были, рукописи писали всякие; пришли они, значит, в Великий Новгород в десятом веке и давай чудеса творить, Валаамскую обитель основали. А их словы над нечистью силу имеют, якая не у каждого святого найдется. Поэтому ты начало заговора учи, а уж конец я и сам помню… Голоса удалялись. Жигалов выглянул из пшеницы: выйдя из лесу, по дороге к зоотехническому участку шагали два силуэта, Климова и его подручного, Губаревича. «Раз эти двое тут – то повязаны они как-то с Полищуком», – смекнул Жигалов. Короткими перебежками, стараясь сильно не отставать, он переместился по пшеничному полю ближе к скотоферме; благо рядом еще и агроферма стоит, так что пшеницы тут хватало. Приблизившись к краю поля, он пожалел, что не взял с собой бинокля. Однако и отсюда можно было разглядеть, что знахарь с учеником вошли в здание администрации, как и сам майор незадолго до того. Вскоре они вновь появились на пороге, поговорили с работником (насколько мог разглядеть Жигалов – с Иванцом) и вошли в тот же загон, куда зам отводил майора. «Значит, ищут чего-то, как и я. Либо дела у них тут свои антисоветские. При чем тут культ религиозный – бес их разбери, но проследить надобно». Выйдя из коровника, Климов и Губаревич отправились обратно, но теперь уже не через лес, а просто по дороге. Майор чувствовал себя довольно глупо – ему приходилось в состоянии полуприседа бежать через пшеницу, останавливаться, выглядывать аккуратно на дорогу, чтобы его не заметили. Пришли эти двое в итоге к себе домой. Чутье говорило Жигалову: продолжай слежку, не прекращай! Здесь и сейчас можно столько информации собрать, что на любом допросе ткни в морду – и расколется Климов как миленький. Поэтому майор быстро сбегал до клуба, взять плохонький бинокль из стола Макар Саныча, и уже на выходе, взявшись за ручку двери, услышал, как разговаривают на пороге Климов и Гринюк: – Откуда знаете, что тюльпаны люблю? Вам Максимка доложил? – Дык… гэт самое… я же спец по травам, по цветам. Знаю, якие цветы женщины любят!.. Жигалов отпустил ручку, прислушался внимательнее. Вот те на, вот удача! Не спугнуть бы их… – Если б знали, так бы одеколоном не поливались. Як сдурели вы, ей-богу! Фу, Демьян Григорьевич, от вас же так вкусно всегда травками пахнет, куда так духариться? – это говорила дура-учительница. – Да мне, честно казать, самому не падабается, – отвечал знахарь. – Ну вот на будущее вам – если еще на свидание позовете, то так не делайте. Ну что, куда идем? «Эх, разочаровали вы меня, Анна Демидовна», – подумал Жигалов. Подождав пару минут, майор выглянул в окно. Двое шли на окраину поля, знахарь придерживал девушку за локоть. Да уж, там к ним, к сожалению, никак не подкрасться, придется смотреть издалека. Хоть бинокль есть, и то хлеб. Отойдя на другую сторону поля, Жигалов присел на пенек, настроил бинокль председателя и уставился на парочку. Те сначала сидели и просто разговаривали. Выпили вина, Климов сунул учительнице какую-то коробочку с блестящей безделушкой, а Гринюк аж запрыгала от радости, дура. Потом начали целоваться. Тут Жигалов горько сплюнул, убрал бинокль и задымил кубинской сигаретой, хотя курить почти бросил. Вот как, да? Ничего у тебя с ним нет, Гринюк Анна Демидовна, тридцать седьмого года рождения? Вот на втором допросе и расскажешь… Все расскажешь… Эти двое еще долго там в сене обжимались, пили вино и разговаривали, а как начало темнеть – пошли по домам. Жигалов решил продолжить слежку за знахарем – уж вряд ли училка сегодня еще чего отчебучит. Климов зашел к себе в хату, и здесь чутье не подвело – спустя какие-то полчаса они с Губаревичем вышли на улицу. Климов переоделся, сменил праздничную одежку на сапоги и свою обычную куртку с множеством карманов. И он снова опирался на палку, притворяясь стариком. «На дело пошли? Ну вот здесь я вас и подловлю, с поличным!» – Жигалов погладил кобуру с пистолетом, висящую на поясе. Майора захватил азарт ищейки, не хотелось ни спать, ни есть, только раскрыть наконец странное дело. А раскрытие, судя по всему, маячило уже не за горами. В темноте следить за парочкой оказалось сложнее; благо слух у Жигалова был хороший, и он слышал, как мальчик со знахарем перешептывались. Затем они нырнули в заросли пшеницы. Жигалов понял, куда они направляются – в большой загон у леса, на который он и сам сегодня обратил внимание. Поэтому просто пробрался следом по полю, выйдя в паре десятков метров, и увидел уже, как Климов вскрывает амбарный замок на воротах. «Не бережешь ты себя, знахарь: вот и еще одно дельце, за которое тебя можно на пару лет на зону засандалить», – майор уже едва ли не потирал руки в предвкушении. Чуть только эти двое, знахарь с учеником, вошли внутрь, он выпрямился и уже собрался идти следом – брать с поличным, – как вдруг из кустов в лесополосе появилась еще какая-то фигура. Жигалов застыл, положив руку на кобуру; не обращая на него внимания, новый участник действия проследовал к сараю, слегка пошатываясь при ходьбе. Он, судя по всему, тоже выжидал появления Климова и Губаревича. В единственной руке человек держал ружье. «Ба! Так это ж Полищук! А он чего тут забыл посреди ночи? Да еще с ружьем?» История становилась все более загадочной. Встав в раскрытых воротах, Полищук вскинул оружие и что-то крикнул: Жигалов с трудом мог расслышать со своей позиции лишь обрывки фраз – всякий бред про бычью породу, которая на солнечном свете горит. Затем Полищук внезапно пальнул из ружья; тут уж майор вздрогнул, но, судя по продолжившейся беседе, никого не убили. Зоотехник попятился назад, бросил ружье и резво закрыл ворота тем самым куском арматуры, которым Климов сломал замок. Далее Полищук подхватил свое ружье и поковылял по дороге в сторону администрации. «Черт… За ним бежать, что ль? Эти двое все одно заперты, пора брать всю их шайку», – Жигалов уже собрался преследовать зоотехника, когда услышал раздавшиеся из коровьего загона леденящие душу вопли и жуткое, не животное совсем, мычание. Вмиг переменив решение – не убежит инвалид с территории Советского Союза, – Жигалов рванулся к загону, крикнул, вынимая арматурину из петель: – Эй! Есть там кто, внутри? – Откройте, они нас сожрут! – заколотили кулаками с той стороны под аккомпанемент тех самых пронизывающих воплей: будто одновременно корова мычит и волчица воет. Он вытащил железяку из петли и отступил назад. Ворота резко раскрылись. Под ноги Жигалову упали перепуганные до смерти Климов с Губаревичем – на них лица не было, будто помирать собрались. Майор уж хотел сказать что-нибудь издевательское, но тут поднял глаза и увидел то, чего, собственно, испугались двое деревенских мракобесов. – Здрасьте, товарищ чекист… – Климов! – заорал он, судорожно вынимая табельный пистолет. – Это что еще за чертовщина?!

Жигалов сделал несколько беглых выстрелов, и трое выскочивших наружу бычков повалились прямо под ноги, мгновенно начав дымиться и испаряться столь мерзкой субстанцией, что к горлу подкатило все съеденное накануне. Майор брезгливо отпихнул пяткой морду рухнувшего на туфли уродливого теленка, сделал шаг назад, держа под прицелом остальных. Они не ломились больше из загона, держались с опаской внутри, но их было очень, очень много; с екающим от страха сердцем майор машинально пытался их подсчитать. – Стреляй, майор, стреляй! – истошно заорал знахарь, и Жигалов выпустил оставшуюся обойму в мелькающие внутри загона дьявольские рогатые тени. «Так-клак-так» – телята падали как подкошенные, но их место тут же занимали новые, которые неумолимо перли огромной массой из-за ворот. Кажется, те поняли, что за пределами коровника ничего им такого не грозит, и с угасающей робостью выходили по двое-трое за ворота; лезли прямо на него. Жигалов закричал, как кричал когда-то на фронте, чтобы заглушить страх; отступая, он машинально достал из внутреннего кармана кителя запасную обойму, отработанным тысячу раз движением выхлестнул использованную – с глухим стуком она упала на землю – и вставил новую в ПМ. Верный «Макаров» работал без перебоев. Жигалов уперся коленом в землю для устойчивости, глядя в колышущуюся внутри загона массу мишеней. Отработанные за десятки лет навыки стрельбы давали о себе знать. Да и не промажешь тут – некуда. – На, сука, на! – выкрикивал он под мерное «так», и очередной уродец падал рылом наземь. – На, сука, подыхай! – Максимка, стреляй! – крикнул сбоку знахарь. Боковым зрением Жигалов увидел, что мальчишка выстрелил из рогатки, и от ее снаряда, на удивление, очередной бычок – с раздвоенной по вертикали пастью, как у рака, – тоже упал, задергал копытами и в мгновение ока превратился в смердящую, визжащую от боли массу. – Дохни, сука, дохни! – «Так-клак», две вспышки, и еще пара чудовищ рухнули. – Майор, патроны есть яшчэ? – спросил знахарь. – В кармане глянь! Климов залез ему в карман, вытащил коробочку с патронами – Жигалов любил все свое носить с собой. Подняв отстрелянную обойму, знахарь сноровисто ее зарядил, патрон к патрону, протянул Жигалову; тот быстро сменил. Справа Губаревич пальнул еще одним снарядом вглубь загона, и очередной выбежавший на улицу теленок – без головы, с одной лишь пастью заместо шеи – рухнул, прокатился тушей по пыли двора. Его клыкастая пасть остановилась около Жигалова, тот врезал по ней каблуком, дробя кости, которые после смерти уродца стали хрупкими, как хворост, хрустнули под подошвой и превратились в гнойнистую жижу. – Бегите, мля! – крикнул он гражданским; пародии на животных в загоне сгруппировались и двигались теперь единой уродливой грудой, от которой явно непросто будет отбиться. – Хлопче, давай рогатку, – крикнул знахарь своему ученику. – Чаго? – уставился с недоумением Губаревич. – Утекай, мля, дурань! Рогатку отдай! И «спутники» давай сюды. Климов отпихнул мальчишку в сторону поля – беги, мол, а сам присел на колено рядом с майором, который продолжал целиться в шевелящуюся внутри загона массу теней. Натянул резинку, стрельнул, попал; Жигалов с удивлением увидел, что снаряд просто отскочил от бычка, не причинив никакого вреда. А до того гибли, как от пуль… – Бес их подери, у меня ведь его веры нет… – выдохнул знахарь. – У Максимки ток в руках рогатка робит… Как и у тебя пистоль твой. – Чего с ними делать, знахарь? – процедил сквозь зубы майор. – Зна́ток я, зна-ток, сколько табе говорить? – Да хоть ведун, как нам живыми отсюда уйти, кретин? У меня десяток патронов всего! – Туда пуляй… – Знахарь махнул рогаткой внутрь помещения. – Куда? – Есть у меня идейка одна. Пуляй, майор, прямо вон, в чан с топливом. Тольки не промахнись. Еще одна гадина, стегая по бокам тремя хвостами, выскочила из коровника. Понеслась, наклонив башку; Жигалов походя хлестнул ей пулей в лоб, и та повалилась наземь, зарычав, замычав в предсмертных судорогах. Майор сделал несколько шагов вперед, оказавшись совсем рядом со сгрудившимися существами, разглядел в неверном свете лампы топливные чаны, про которые сказал знахарь; вскинул пистолет и продырявил ржавый бок баллона. Маслянистое вещество потекло на сено. Знаток тем временем рванул какую-то тряпку, чиркнул спичкой и поджег. Скомкав горящую ткань прямо так – голыми пальцами, – Демьян размахнулся и швырнул свой снаряд точнехонько в лужу. Вспыхнуло. Жигалов увидел, как занялось пламя в полумраке загона, как заметались там тени рогатых уродов, принявших облик телят. Те заржали в унисон, почуяв скорую смерть. – А вот теперь убегаем! – крикнул он, поворачиваясь к знахарю. Тот замешкался – принялся закрывать ворота, еле справляясь с напором стада. Тогда майор побежал сам; бежал что есть сил до тех пор, пока сзади не полыхнуло пламенем, не ударило в спину взрывной волной. Он упал лицом в бурьян, перекатившись по армейской привычке, и застыл, слушая рев огня за спиной. Будто война и не кончалась. «Что же я натворил? Взорвал целый хлев с коровами, дурак. Гавриленко меня под суд отдаст». Чувствуя горечь во рту, он уперся локтями в пыльную землю, поднялся. Поодаль катался знахарь, сбивая язычки пламени с куртки; весь грязный, с безумными глазами, он смотрел на взорванный загон; на его лице отражались блики полыхающего пожара. В свете ярко горевшего коровника Жигалов видел его, как среди бела дня – бородатого, сгорбившегося мужика, вовсе непохожего на лидера религиозного культа. Он скорее напоминал адски усталого от своей работы человека. – Теперь ты мне все объяснишь, сволочь бородатая! – Жигалов схватил знахаря за грудки, но тот болтался в руках, как безвольная кукла, не отрывая взгляда от огня. Оттуда раздавались истошные вопли сгоравших заживо тварей. – Чаго табе разъяснять, дурань столичный? – лениво спросил Климов. – Какого хрена тут происходит? – заорал ему в лицо Жигалов. – Кто это, мать твою так, такие? Что это за гады, мля? Что вы тут выращиваете? К ним подошел Губаревич, тоже весь чумазый с ног до головы. – Дядька, вы як? – пискнул мальчишка. – Живой вроде… А ты? – Да я ж пораньше убег… Телки вроде все сгорели тама, я видел. Вона, догорают. Жигалов отпустил Климова, посмотрел на обоих. Стряхнул с кителя пыль. Оглянулся: криков больше не раздавалось, тут и там тлели трупы телят, успевших недалеко отбежать от горящего хлева. Немного огня перекинулось на поле, но пожара вроде не предвиделось. Пшеница, прелая после вчерашнего дождя, погасила пламя. – Надеюсь, вы сможете объяснить, что это было, товарищи, – уже более официально произнес майор, хотя его до сих пор трясло. – Да долго табе такое объяснять, товарищ майор, – Климов поскреб грязную бороду. – Лучше показать… Давай-ка до администрации прогуляемся – сдается мне, Полищук там отсиживается. А уж там его сам и спросишь.

В здании администрации горело электрическим светом единственное окно – директорское. А дверь кабинета с золотой табличкой была заперта. Демьян не стал долго церемониться – вышиб ее плечом с разбегу. На полу зазвенели детали вывороченного с мясом замка, зна́ток ворвался внутрь и закричал: – Ну шо, сволочь, говорить будем чи як? Выглянувший сзади Максимка увидел, что Полищук сидит в кресле со снятой туфлей и пытается нащупать большим пальцем ноги спусковой крючок ружья. Само ружье-вертикалку он поставил таким образом, что дуло уперлось ему прямо в раскрытый рот. При появлении Демьяна, Максимки и Жигалова зоотехник испуганно вытаращил глаза и едва не уронил ружье. – Себя кончить хочет, – прокомментировал Жигалов. – Я табе ща кончу! – подбежав к Полищуку, зна́ток ногой выбил ружье и так дал кулаком по макушке, что у зоотехника слетели очки. – Я табе, сука, башку зараз сам откручу, пуля не понадобится! – Ну-ка, товарищ, безсамоуправства, – подскочивший майор оттащил его в сторону. – А вот ружье мы сразу изымем. Губаревич, оружие забери! Не сразу поняв, что обращаются к нему (по фамилии его кликали только в школе), Максимка схватил ружье. Отскочив ко входу, ученик с жадным любопытством наблюдал за происходящим. Двое мужчин – оба рослые, злые – нависли над главным зоотехником, сжав кулаки, в готовности набить морду. Полищук нашарил рукой очки, надел их – правая линза разбилась, – и попробовал продемонстрировать остатки гордости: – А вы коровник подпалили, я видел! Порча советского имущества… – Тут уж я разберусь, кто чего попортил! – ревел майор. – Ой как разберусь, поверь! Сидеть тебе – не пересидеть, гражданин. Давай сразу чистосердечное признание, чтоб облегчить вину, а то я тебе такой аттракцион устрою – завоешь, мля! Полищук поник, опустил плечи. Всхлипнул – понял, видать, что деваться некуда, даже на тот свет не сбежишь от советской власти. – А же ради науки все… Не просто так все было! – Давай рассказывай. А лучше рассказывай и сразу пиши! Климов! – Да, товарищ чекист? – Найди ручку и бумажку ему. Будем допрос проводить, с пристрастием. Губаревич, в коридор выйди. – Товарищ майор, гэта помощник мой, он завсегда со мной, от него польза есть, он сметливый, – не согласился зна́ток. – Разумный хлопец! – Ладно, пускай слушает, чего уж тут… – махнул рукой чекист. – А ты давай пиши, сука! Пиши и рассказывай! – Чаго казать-то?.. – Что это за твари, откуда взялись? – Телята гэта, новая порода. Я ж этому сказал! – Полищук кивнул на Демьяна. – Кспириминтальная… – Ты что-то про это знаешь? – уточнил майор у знатка. Тот покачал головой: – Не больше твоего, майор, медалью своей клянусь. – А чего вы пришли сюда средь ночи? – К колхознику с агрофермы, Сеньке, такая тварь залезла в курятник, курицу сожрала; он ее и кончил с ружья, як шуму спалохался. Когда мы на солнце труп вытащили, он испарился за две минуты – ну ты сам зараз бачил, майор, они и от пуль твоих так же гибли. Сенька к нам обратился, рассказал про скотоферму. Ну мы и пришли поинтересоваться, тут уж я с данным товарищем погутарил да смекнул, шо неладное тут деется, бесовщина всякая. Яшчэ про Петруху Землянина доведались, шо он руки лишился. А доярка одна, Танюха, моему ученику поведала, мол, в том коровнике бычки интересные, незвычайные. Вот мы и пришли поглядеть… – Вот как… – майор почесал затылок. – Ладно, а ты что скажешь, Остап Власович? Давай-ка без вранья – тут еще розыскные мероприятия будут вестись, от КГБ, так что если где соврешь – мы все узнаем, понял? А я тебе потом за дезу веселую жизнь на зоне организую, ты уж поверь. Сто раз попомнишь мои слова! Понял, не? – Зразумел… – горестно кивнул Полищук. – Выкладывай все как есть! С тяжелым вздохом Полищук поглядел на всех троих и понял, что деваться некуда, – приперли к стенке. Снова поправил разбитые очки и начал сказывать: – Я в Минске жил, работал завкафедрой в институте. Все хорошо было – жена молодая, дети уже взрослые, дача… Потом жена изменила, сука, и я, в общем, решил уехать. Уехал вот сюда, в Задорье – должность подвернулась, я и подумал – а чаго б и не? Самогоночка, девки-доярки, работа не бей лежачего. Раздолье, в общем. Думал, сопьюсь тут тихонько, а потом письмо прислали, с Минского НИИ. С термосом… В термосе семенной материал был, новый, кспириминтальный. Сказали на коровках испробовать. – Письмо? С каким таким термосом? – отреагировал Жигалов. – Да вот же оно, сами почитайте! Полищук полез в ящик стола, достал стопку писем. – Гэта мине аспирантка с институту писала, Чернявская. – Чернявская? – спросил молчавший до того Демьян. – А имя у ней як? – Не ведаю… Чернявская А. М. – Акулина Михайловна? – едва не вскрикнул зна́ток, выхватывая письма из рук зоотехника. – Да быть того не може! – Ты знаком с ней, что ли? – спросил Жигалов. – Знаком, яшчэ як. Погодь минутку, майор. Демьян быстро читал письмо, шевеля губами. – «Пишет вам аспирантка Минского НИИ животноводства и сельского хозяйства Чернявская А. М… Для Вашего нового места работы у нашего НИИ есть экспериментальный семенной материал, который значительно улучшит количество и качество приплода… Семенной материал высылаю вместе с письмом, он в термосе в бандероли. Жду ответного письма с отчетом о результатах…» Закончив читать, зна́ток поднял округлившиеся глаза; перед внутренним взором еще плясали загогулины аккуратного, до боли знакомого почерка – по исписанным таким почерком тетрадям он зачины и учил. Демьян побледнел, да так, что Максимка испугался – приступ у него, что ли? – А конверт, конверт есть? – Где-то остался… А вот он! Демьян схватил конверт, только глянул на него и тут же заорал на зоотехника: – Ты совсем на голову ляснутый, шо ль? Ты на обратный адрес смотрел хоть? – А шо там? – Какое, мля, НИИ Минское? Адрес отправителя – Задорье Старое. Нема такого адреса в СССР, сгорело оно, дотла! Немцы все выжгли. Так и зовется – Вогнище, Пожарище. Обратный адрес – амбар сгоревший, дурань! Табе из могилы письмо послали! Жигалов подобрал конверт и, похолодев, убедился, что Климов прав. Адресом отправителя значилось буквально – Вогнище. – Из могилы? – переспросил Полищук. – Оттудова, прямиком с того свету! Зараз бы кончил себя с ружейки и прямиком туды отправился, в Пекло. В Пекле знаешь кто вечно терзается? Самогубцы, детоубийцы и порчуны да ведьмы, кто грехи не сбросил; вот ты бы там в котле по суседству и очутился. Считай, с покойницей ты пообщался, дурак! – Демьян в сердцах хрястнул кулаком по столу. – Акулина Михайловна Чернявская – гэта наставница моя, по-другому ее бабкой Купавой яшчэ звали. Она померла уж лет двадцать тому! Максимка, знавший, кто такая Купава, чертыхнулся, не сдержавшись. Сжал крепче цевье ружья, уставился за окна, где ночь уже отступала, сменяясь холодным утренним блеском на горизонте. А загон почти догорел, дотлевал красными углями в темноте у леса. – Я бы подумал, что розыгрыш какой-то… – пробормотал Жигалов – в его голове не укладывалось происходящее. – Если б сам тех тварей не видел. – О, ты яшчэ многого не ведаешь, майор! Ну-ка, Полищук, сказывай дальше. – Ну а дальше чаго… Матерьял хорош оказался. Я работникам раздал, они телок оплодотворили искусственно. Сам в корову по самое плечо… Так коровки все разом похорошели, оправились да столько молока давать стали, что к нам народ валом пошел на работу, предприятие поднялось. Тут и я за работу взялся, дай, думаю, принесу пользу Советскому Союзу на старости лет. Иванец вон помогал, но он не знает ничего: я ему перевод с повышением обещал, вот и обманывал он вас. – Полищук всхлипнул, опустив голову долу. – Так вот, мы участок за год в порядок привели, а телки телят нарожали уйму. Многие, правда, странные уродились, без шерсти, некоторые калечные, но здоровые все что рекордсмены. Я спрашивал, мол, откуль материал такой, а она не отвечает. Ну я-то знаю, оно так часто бывает – материал по всему Союзу распределяют, а быка того уж лет десять как в живых нет. Мне Чернявская опосля в другом письме написала, мол, надобно их далеко держать, в отдельном закрытом хлеву, а то у них аллергия на солнце поначалу. Я их и сховал подале, по ее указаниям… Там усе написано, вы почитайте. – Все прочитаем, уж не переживай, – Жигалов собрал все письма, сунул в карман, – а ты пиши давай вкратце все, что сказал! Роспись не забудь в конце. Так, товарищи, а вы со мной пойдете – мне надо до клуба его отвести и наряд вызвать с райцентра. Так и быть, на ваше мракобесие пока глаза прикрою… – Он сосредоточенно помассировал виски пальцами. – Если полезными окажетесь. – Слышь, майор, а ты мине подозревал в чем? – поинтересовался зна́ток. Жигалов усмехнулся и сразу же сонно зевнул: в такт ему зевнули все остальные, даже Полищук. – Да я и подозреваю – в агитации и деятельности контрреволюционной. Но вижу, что куда сложнее все. Ничего, разберемся. Пойдем. Написал? – спросил он у зоотехника. Тот кивнул, показал листочек с каракулями – объяснительная. – Для начала сойдет. Завтра еще писать будешь. Встал-пошел! Полищук неохотно зашаркал к выходу в одном ботинке. Дверь так и оставили выбитой; вот работники утром удивятся, когда увидят спаленный дотла хлев и сломанный замок на двери кабинета директора. Жигалов уже выстраивал в голове цепочку планов по завтрашним действиям: все, лишь бы не думать о бескожих уродцах, сгоревших после взрыва. К клубу шли поначалу молча, по дороге вдоль поля. Полищук смотрел под ноги и что-то бурчал, будто молитвы читал под нос. Максимка, зевая без остановки от усталости, так и нес ружье, которое Жигалов решил забрать в качестве улики. Демьян спросил у майора: – Слышь, гэпэу, а чаго с нами таперь буде? – Еще раз меня так назовешь – зубы будешь с земли собирать, понял? – Зразумел, уяснил, – серьезно ответил зна́ток. – Ну дык чаго таки, ты на вопрос не ответил. – Не знаю, думать надо… – признался майор. – Я в вашей херне еще лет десять разбираться буду. – Да усе просто, могу табе зараз на пальцах пояснить. – Ну так поясняй. – Да тут и Максимка смогет. Вот у него вопрошай, усе скажет. А где не скажет – я подскажу. – Кто это были такие? – робко спросил Жигалов у мальчика, чувствуя себя глупо и несуразно, но не в силах преодолеть внезапно возникшую веру – как в детстве, когда его бабка в церковь водила и заставляла молитвы читать у иконостаса. – Телки-то? – Максимка, снова зевнув, едва не споткнулся о повисший с плеча приклад ружья; Жигалов от греха подальше отобрал у него вертикалку. – Они, кто ж еще? Ну, говори, Максимка, – мягко проговорил Жигалов; сбоку на них покосился зоотехник, которому тоже было интересно узнать, что же за диво такое обитало у него в третьем загоне. – Давай, кажи, як думаешь, Максимка, – подбодрил Демьян. – Думаю, чертячьи то детки были… – Кто-о-о?! – со скепсисом было протянул майор, но как-то неуверенно, отчего прозвучало, скорее, жалобно. – Ну, отпрыски, сынки чертей от коров, – пояснил Максимка, как маленькому. – Чернявская ж на том свете, в Пекле, значится, да? Стал быть, у ней там черти есть, с которыми она это… братуется, значит, як ведьма. Вот она ему, – мальчик кивнул на зоотехника, – семя черта и отправила, шоб он коров оплодотворил. Так что телята те – полубесята вродь как. Верно я говорю, дядька? – Эх, брат, не разочаровываешь ты мине! – довольный зна́ток потрепал его по загривку. – Я ж говорю – сметливый хлопчик! – Какие черти, какие ведьмы? – возмутился Жигалов. – Я-то думал, вы мне про американцев расскажете, которые тут эксперимент проводят! Или про инопланетян, или, я не знаю уж… Но черти? Вашу мать, а! Какие, нахрен, черти?! – Ну ты ж сам все видал, майор, – ласково сказал ему Демьян. – Иль ты собственным вочам не веришь? Ты ж не идьет, шоб про матерьялизьм опосля такого казать? – Значит, мне та аспирантка не бычье семя присылала? Гэта я, выходит, вредитель, да? – тихо спросил Полищук, поправляя очки на носу и подходя ближе. Он склонился над мальчиком с полубезумной улыбкой. – Ага! – радостно подтвердил Максимка. – Семя чертей то было! У вас чертенята и нарожались цельной гурьбой, а вы их в загон и заховали. Полон коровник бесят-телят. Бестелят, значится! Полищук сделал всего одно движение – Жигалов и сам не понял, как так произошло. «Макаров» у него висел в расстегнутой кобуре, а руки у майора были заняты ружьем. Зоотехник протянул руку, ловко выхватил пистолет из кобуры и сунул дуло в рот. – Стой! – закричали все одновременно. Всхлипнув, главный зоотехник нажал на спуск. «Клак!» Во рту у него полыхнуло, щека вздулась, как воздушный шар, и разорвалась брызгами. Дергаясь в конвульсиях, Полищук рухнул наземь; из его головы непрерывной струей била вязкая кровь, разливалась темной лужицей. Рукав пиджака развязался, и наружу выкатилось что-то круглое, с узелком по краю. Штанины у зоотехника намокли, он дернул еще раз ногой в предсмертной судороге. Пока все стояли в остолбенении от случившегося, Демьян наклонился и поднял выпавший из рукава предмет. Кулек из срезанной кожи – не то свиной, не то телячьей, перемотанный прядью крепких, черных как смоль волос. – Что там? – онемевшими от шока губами произнес Жигалов. – Скрутка ведьмовская. – Скрутка? Чего? – Да, скрутка гэта, ты глухой, шо ль?! – рявкнул Демьян, а потом повернулся к полю – погруженному в первобытную тьму перед встающим красным заревом рассвета, шелестящему пшеничными стеблями. – Где ты, сука? Я знаю, шо ты тута, Акулина! Твои проделки? Покажись! После его слов совсем рядом, будто в трех шагах, раздался ехидный старушечий смех. Будто обладательница не могла сдержаться, забавлялась после удачной шутки. Она прыскала хохотом, хихикала, веселилась что есть мочи, и вместе с ней веселился и мертвый Полищук – лицо зоотехника растянула неестественная рваная улыбка до ушей. Звук теперь доносился из залитой кровью глотки. – Ну показалася я, Демушка! А тебе от того легчей? Вот она я. Хошь – режь, хошь – зубы дери или как тебе больше нравится! – кривлялся мертвый Полищук. – Да тольки я ж зараз не беззубая, Дема, у меня все зубки на месте, клац-клац! Слухаешь, как щелкают? – Чаго табе от нас надо?! – От вас – ни-че-го! А нас с тобою, Дема, ад ждет! «Акулина» плюс «Дема», «А» плюс «Д» – ад получается! Должок, Демушка, должок платежом красен! Вместе, вместе и вертать! – Звенящий смех удалялся, пропадал вместе с кровавой зарей над полем. – Настало время должок отдавать! Помнишь же, расставанье обещает встречу впереди! Максимка вздрогнул от раздавшегося грохота: это Жигалов, не выдержав, высадил в голову Полищука оба патрона из ружья; та разлетелась на куски, как гнилой арбуз. Выхватил свой пистолет из обмякшей руки самоубийцы и закричал: – Что ты? Что ты такое? Что за фокусы? – Стреляй, стреляй, дурак! И с тобою позабавлюсь! – отозвался хохочущий голосок из кровавой каши, в которую превратилась голова зоотехника. Смех ослабевал, угасал, пока не пропал совсем. Над Задорьем во всю мощь встало взошедшее над горизонтом солнце, а трое стояли около трупа на дороге. – Ты чагой-то, майор, мертвеца собрался арестовать? – серьезно, как у умалишенного, поинтересовался Демьян. – Кто это был? Ты с кем разговаривал щас?! Говори! – С Чернявской А. М. Которая ему вот письма строчила, – зна́ток кивнул на остывающий труп. – Она померла в сорок четвертом. И он тоже таперича помер: буде, дурань, с ней вечность в котле вариться. А я ему казал же ж! – Боже мой, мля… – Жигалов сел на корточки у тела Полищука, глянул на него устало. – Подследственный умер, улики сожжены и затоптаны… Меня ж с вами на зону отправят. Гавриленко меня убьет… – А я так живу, – прокомментировал зна́ток. – Так шо привыкай, раз в наше болото полез.

Домой вернулись молча. Жигалов в Задорье махнул рукой – идите вы, мол, куда хотите. А сам пошел в клуб, звонить в Минское КГБ и пытаться кое-как объяснить произошедшее. А еще вызывать труповозку из райцентра: не лежать же мертвецу посреди поля. Максимке явственно показалось, что у чекиста прибавилось седых волос на голове. Зна́ток с учеником шли домой. – Дядька?.. – А? Чаго табе, хлопче? – А то правда Купава была? Ну, Купава-Аку- лина? – Она-она… – Дык вы ж казали, что вы… гэт самое… ну… – Чаго? – Ну, добре вы с ней общались, дружили? Про якой должок она говорила? Да про Пекло? Она теперь навья, да? Зна́ток промолчал, упрямо сжав зубы. Свернул быстро цыгарку и закурил, пуская клубы дыма в свежий утренний воздух. В деревьях щебетали проснувшиеся птицы, красное солнце окрашивало стены домов на улице в кровавый оттенок. – Дядька? – Умолкни, а? О, а гэта шо яшчэ за гости? Около дома стоял незнакомый автомобиль – черный ГАЗ-21, блестящий, красивый, только с немного забрызганными дорожной грязью порогами. Сонный Максимка удивился: откуда в их деревне такой аппарат появился. Как только зна́ток с учеником приблизились, из машины вылезли двое в серых пиджаках. Громко хлопнули дверцами – тут уж Максимка проснулся окончательно и понял, что не к добру это. Со двора громко залаял Полкан, заметался, срывая цепь. – Климов Демьян Григорьевич? – спросил один из «пиджаков», рослый, коротко стриженный и чем-то похожий на майора Жигалова. – Ну я… – Демьян настороженно оглядел двоих, насупился. – Чаго треба? Второй «пиджак» сунул ему под нос красную корочку. – Комитет государственной безопасности. Придется вам с нами проехать, гражданин, – разговор есть. – Серьезный разговор, – добавил первый «пиджак». – Не рекомендуем сопротивляться, – чекист будто невзначай продемонстрировал висящую на боку коричневую кобуру с рукоятью пистолета – как у Жигалова, опять же. – Дык, ребят, гэта… Мы ж с вашим коллегой тольки шо общались. Вы чаго? – Садитесь в машину, гражданин. И только Демьян хотел что-то возразить, как «пиджак» неуловимым движением дал ему кулаком под дых – зна́ток скорчился, испустив удивленный вздох. Второй же вытащил наручники и быстро, не успел Максимка моргнуть, сковал ему запястья за спиной. И издевательски поднял браслеты вверх, так что Демьян по-цыплячьи засеменил вперед, застонал от боли. – Че, сука, будешь еще кобениться? Сидорович, наподдай еще! – Демьяну дали каблуком под колено, там что-то хрустнуло, и зна́ток жалобно вскрикнул. – Отпустите его! – взвыл Максимка, бросившись одному из гэбистов на спину, но тот стряхнул его, как щенка. – Он ничего не сделал! Гэта я все виноват! – Брысь! Виноват он… Когда виноват будешь, малой, – и за тобой приедем. Сидорович, пакуй пассажира! Демьяна поволокли в черную «Волгу». «Пиджак» обратил внимание на Максимку. – Слышь, малой, а где Жигалов? Майор Жигалов, Элем Глебович, знаешь такого? – Отпустите его, дяденьки, он ничего не сделал! – завыл Максимка, размазывая слезы по щекам. – Ага, понятно… Ладно, ты давай к мамке иди, не плакай. Держи барбарыску. Мужик и впрямь сунул мальчику конфетку, а сам сел за руль «Волги». Машина рыкнула мотором, повернулась, разбрасывая из-под шин комья деревенской грязи, и направилась по дороге в сторону райцентра. Хоть глаза Максимки и были полны слез, он успел запомнить номера. Вошел во двор, обнял Полкана; тот заскулил и принялся облизывать ему лицо. Максимка содрогался в рыданиях; перед глазами стояло выражение лица Демьяна, беспомощного и ошеломленного, и как его волокут в страшную «Волгу», словно мешок картошки. – Полкаша, хватит, буде тебе… – Полкан, чуя настроение мальчонки, зализал ему все щеки. Немного успокоившись, Максимка поднялся на ноги, зашел в дом. За печкой шевельнулся суседко – словно бы сочувственно, давая понять, что ученик не один. Максимка выпил квасу, посмотрел в зеркало – там отражался покрытый пылью и грязью, повзрослевший за последние пару месяцев паренек. Подумал, что сказал бы сейчас на его месте Демьян. Наверняка промолвил бы что-то вроде «эх, где наша не пропадала!» или «у мине идея есть!». Максимка робко улыбнулся себе в зеркало, показал язык. Надо к Жигалову идти. Или к Демидовне. Слезами горю не поможешь. Нужно вызволять знатка… Задорье тем временем просыпалось. Кто-то выгнал гогочущих гусей на выпас, кто-то вел на луг посвежее самую обыкновенную – без клыков и с шерстью – буренку, кто-то колол дрова. Доносилось издалека «так»-«так»-«так». Максимка вслушался, и зубы заныли – в мерный стук топора вклинивался непрошенный «ад»-«ад»-«ад».
Чертов Угол
Тяжело дыша от переполнявшего ее гнева, Анна Демидовна остановилась на крыльце барака, где квартировался Жигалов. Несколько секунд она раздумывала, что сказать проклятому чекисту, а потом махнула рукой – будь что будет – и яростно постучалась. Не дождавшись ответа, она пнула дверь носком туфли. – Элем Глебович, открывайте, это я, Гринюк! Я знаю, что вы здесь! За дверью раздался недовольный рык – учительница раздраженно подумала, что майор всегда будто рычит, а не говорит, – и на пороге появился злой как собака Жигалов, весь растрепанный и грязный. При виде незваной гостьи он скривился, как от зубной боли. – Вам-то чего от меня надо? – Манерам бы вам поучиться, Элем Глебович! – чуть ли не крикнула ему в лицо Анна Демидовна. – С себя начните! – Что-о-о? Жигалов вздохнул, почесал указательным пальцем усы. Учительница заметила, что седины на висках у майора прибавилось, да и в целом выглядел он как последний кабачный забулдыга – на лице сажа, растрепанные волосы в пыли, рубаха под кителем в бурых пятнах. – Вы что, ранены? – Нет. Ладно, не с того мы разговор начали. Проходите, – махнув рукой, Жигалов ушел в комнату. Войдя, Анна Демидовна приятно удивилась царившей в помещении чистоте. Посуда вымыта, вторая смена одежды аккуратно висит на плечиках – тем более странно, что майор похож сейчас на вышедшего из драки уличного кота. Притом вышедшего не победителем. Майор сел на кровать, скрипнувшую под его весом, указал учительнице на стул у печки. Взяв кружку с чаем, шумно сделал глоток. Выжидающе уставился на посетительницу. – Присаживайтесь. Тесновато, но чем богаты, как говорится. И выкладывайте скорее, с чем пришли – у меня времени в обрез. Анна Демидовна присела, чопорно оправив юбку. Вскинула острый подбородок, бесстрашно уставилась в глаза майору. – Скажите, вы как-то причастны к аресту Демьяна Григорьевича? – К аресту кого-о-о? – Жигалов подавился чаем и громко закашлялся. – Не прикидывайтесь этой, как ее, овечкой белой! Ко мне только что Губаревич прибегал, весь в слезах, доложил все о ваших кознях – что Демьяна увезли два бугая на черной «Волге»! Сказали, из органов, били его, бедного… А мальчонка перепуганный весь! Вы чего вытворяете? Гэпэу на выезде! – добавила она, вспомнив выражение Демьяна. – Не обзывайтесь! Я представитель власти! – Ну коль вы представитель – то и представляйтесь! Власть народу служит – так Ленин говорил. И вообще: власть – народу! Мы в социализме живем, в самой прогрессивной стране! – Анна Демидовна на ходу вспоминала все коммунистические лозунги. – А вы невинных в тюрьмы сажаете, где такое видано? Чего он вам плохого сделал? Зачем Климова упекли? Майор смотрел на нее с распахнутым ртом, будто впервые в жизни увидел. Потом схватился за голову, запустил пальцы в грязные волосы. – Так его взяли? – пробормотал майор. – Вот ведь черти заполошные! Как невовремя… – Так это… не вы? – с надеждой спросила Анна Демидовна и, как при прошлой встрече с Жигаловым, достала платок из сумочки; принялась нервно мять его в руках. – А я знала, что не могли вы такое сотворить! – Да я, я это, кто ж еще? Виновен, виновен по всем статьям! Это ж я опергруппу-то и вызвал… Е-кэ-лэ-мэ-нэ, кто ж знал, что все так повернется? Думал, успею отбой дать, и из головы вылетело… Я ж, дурак, его домой и отправил, а Павлов и Сидорович его, видать, уже поджидали… Ой, дура-а-ак, мля! Жигалов звонко хлопнул себя по лбу. – Вы вызвали? – совсем растерявшись, переспросила учительница и машинально добавила: – Не материтесь. – Я, да, я, кто ж еще! – Он вновь хлопнул себя ладонями – теперь уже по вискам, да с такой силой, что учительница аж вскинулась – как бы не навредил себе. – А… а зачем? – только и смогла вымолвить Анна Демидовна. – А затем, что еще вчера все совсем по-другому было! Вы меня тоже поймите: у меня не то секта мракобесов, не то вредитель, а он еще и с зоотехником… Что ж теперь делать-то? – Как «что делать»? Вызволяйте Демьяна Григорьевича, да побыстрее, пока ему ваши дуболомы последние почки не отбили! – Так как его вызволять-то? Он у меня по делу проходит как особо опасный этот… вредитель и организатор подрывной деятельности. И рапорты на него вон – в Минске уже. Тут уж мои полномочия… – Майор развел руками, поднял взгляд на Анну Демидовну. В глазах той читалось разочарование вперемешку с презрением. Спросил внезапно: – Водки будете? – Нет уж, спасибо. С доносчиками и трусами не пью. – Да ты… вы охренели? – взвился Жигалов. – Кто трус? Я трус? Да я под Берлином – вон! – ткнул пальцем в шрам на щеке. – За вас, за всех! Кто трус, я трус? – Так чего ж сейчас задрожали? Натворили делов – и в кусты? А если Климова сейчас к стенке поставят, без суда и следствия? Как спать потом будете? – Не бывает у нас без суда и следствия, – пробормотал майор, но уже с сомнением. – К стенке уж точно не поставят. – Но ведь арестовать-то арестовали? – ехидно заметила Анна Демидовна. Жигалов тяжело вздохнул, встал с кровати и заметался по комнате, принялся швырять вещи в чемодан и рассуждать вслух: – Это ж в Минск ехать, с рапортом. А к кому я пойду? А вот к Родоченко пойду, он мне за тот конфискат еще должен… А чего Родоченко? Климов-то, поди, в кутузке, это к начальнику райцентра идти надо… А чего я ему скажу? Ладно, как-нибудь… Погодите. Анна Демидовна, а Губаревич-то где? – Дома сидит… Ну в доме у Демьяна, в смысле. Мать-то его того, пьет. Вот он ко мне и прибежал жаловаться. – Пускай сидит и носу на улицу не кажет, а то… – Жигалов понизил голос и с явной неловкостью произнес: – А то у вас, кажется, черти завелись. Анна Демидовна нервно сглотнула, глядя в глаза майора, который, кажется, искренне верил в сказанное. Выглядел Жигалов еще более сумасшедшим, чем Демьян, когда рассказывал про свои заговоры на синие камни подаренного украшения. Она зачем-то коснулась висевшего на шее кулона. – Какие черти, вы чего, Элем Глебович? – Да самые натуральные черти в вашем Задорье обитают! Я за прошлую ночь чуть в Бога не уверовал, мать вашу! Под пулями да снарядами, честное пионерское, и не молился даже, а тут… А меня ж самого теперь посадят, поди, я ж трупу башку отстрелил и хлев сжег! А труп говорящий был! Ох, надо ж еще с клуба труповозку вызвать на Остапа… как его там? – Какого трупа, какую труповозку? – Обыкновенную, которая покойников возит! – рявкнул майор, с трудом закрывая защелку разбухшего чемодана. – Труп зоотехника в поле лежит. – Зоотехника? – ахнула учительница. – Полищука, в смысле? Так он погиб? – Его самого! Застрелился ночью… А потом я его застрелил… А, неважно! Ладно, Анна Демидовна, миленькая, могу я вам довериться? Жигалов присел на корточки перед учительницей, положил ей на плечи широкие ладони, глянул так, что она обмякла вся под его безумным взглядом. – Не знаю… Думаю, да… А в чем? – Приглядите за Губаревичем, чтоб никуда не совался, – вот вам задача от государства, от партии и Родины, Анна Демидовна, родной вы мой товарищ. Мне надобно в Минск смотаться, чтоб Климова в лагеря не упекли. Глядишь, коли оправдаюсь и сам на зону не уеду, то вашего знахаря спасу. А без него вам, пожалуй, теперь тяжко придется… – С чем тяжко-то? – С чертовщиной вашей! Жигалов вскочил и поволок чемодан на улицу, ударил углом о порог и некрасиво выматерился. Пистолет болтался в расстегнутой кобуре, норовя вывалиться наружу. – А как вы уедете? – крикнула вслед учительница. – Автобус-то в среду! – У председателя его «запорожец» экспроприирую! Вы, главное, держитесь тут! День-два, и я вернусь, обещаю! Не теряйте из виду! – И Жигалов исчез – убежал со своим чемоданом в сторону клуба, где был припаркован автомобиль Макара Саныча. Вскоре там рыкнул мотор, и машина унеслась в сторону минской трассы. Анна Демидовна осталась одна, в полнейшей растерянности. Спрятала платочек и вновь потеребила кулон – тот переливался синими отблесками в свете падавшего из окна утреннего солнца, отбрасывал блики на лицо и стены комнаты. Уж точно не подобного приема ожидала учительница, когда шла в ярости домой к гэбисту, готовая рвать и метать из-за Демьяна. – Сдурел он, что ли?.. – пробормотала Анна Демидовна, вставая. – Все они, что ли, сдурели?
Дома учительница собрала все, что есть съестного по соседям – сама она питалась как птичка. Понесла к избе знатка блюдо с драниками, куском пирога и сметаной. По дороге встретился задумчивый Макар Саныч – и. о. председателя озадаченно чесал лысину. – Анна Демидовна, добры дзень! Вы, мабыть, бачили, куда мой автомобиль делся? Все в толк взять не могу – вчерась же у клуба оставлял. Мальчишки, шо ль, угнали? – Машину Элем Глебович экспроприировал, – равнодушно ответила учительница, проходя мимо. – Экс…про… шо? Гэта як? Жигалов? На кой она ему? Куда? – Для государственных нужд. Вы у клуба ждите – скоро труповозка приедет. – Якая труповозка? – Которая покойников возит. Макар Саныч растерянно уставился ей в спину. Анна Демидовна миновала клуб, свернула на перекрестке к крайней хате Задорья – то бишь к дому знатка. Там, за околицей, уже начинался лес, где постоянно пропадали Демьян с учеником. Подумав об этом и о странном поведении Жигалова, Анна поежилась. Черти, нечисть, заговоры всякие… Слишком часто она в последнее время о таких вещах слышит. Будто и впрямь творится в деревне что-то нечистое. У плетня учительница услышала голоса и надрывный лай Полкана. – Максимка-а-а! – опасливо позвала Анна Демидовна. – Полкан, фу! Свои гэта! – ругался Максимка, но пес все никак не унимался. Облаивал он заплаканную и неопрятную бабу лет этак от тридцати до пятидесяти. «Колхозница, наверное» – подумала учительница. – Ну и чудище у вас в будке… Здравствуйте. Женщина шмыгнула носом, но даже не повернулась. Максимка, судя по всему, неумело пытался ее утешать. – Вы не палохайтесь так… Да шо ж такое с гэтым псом! Бачите, Анна Демидовна, вот, гостью даже на порог не пускает! Наказание с ним… А вы, Нина Павловна, не сумлевайтесь, я его пошукаю! Я ж, почитай, зна́ток ужо! – Кого поищешь, Максим? – поинтересовалась Анна Демидовна. – Та дитенок пропал, – ученик знатка, как бы храбрясь перед визитершей, помахал какой-то измятой тетрадкой. – Вона, у мине тут все зачины записаны, все как надо, по науке… – А Демьян Рыгорыч скоро буде? – всхлипнув, спросила Нина Павловна. – Можно его попросить? – Та нескоро, в том-то и беда. – Вас Ниной Павловной зовут? – поинтересовалась учительница, ставя еду на чурбак у плетня и протягивая женщине носовой платок. – Вот, возьмите, он чистый. – Дзякую… Агась, Нина Павловна, Ивашкевичи мы… С десятого дому. – А раз ребенок пропал, почему в милицию не обратились? – Обратилася, а толку? С них, ментов, як с козла молока – участковый вон с райцентра как раз приехал, побег в лес, пошукал малясь да вернулся, завтре, грит, кинолога запрошу из города, соберем поисковый отряд, будем народ на вашу девчонку поднимать… Дык то когда буде? Сам-то боится в лес ходить, бестолочь в фуражке. И в соседней вёске, грит, тоже вчерась дитенок пропал… Ой не к добру гэта усе, сердцем чую… – Визитерша тяжело задышала, явно собираясь разреветься вновь. – Так, спокойствие! – скомандовала Анна Демидовна. – А может, самим поискать? – Дык шукают уж, мужик мой да племянник старшой, остальных разве дозовешься – кто в колхозе, кто в райцентре. А зна́ток-то, знамо, раз корову может сыскать, он и доню мою найдет. Вона, гэтого в свое время сыскал же… – Максимка смущенно потупился. – Ой, горе мне-е-е, дуре, гэта ж я не углядела-а-а, – завыла баба, шатаясь на лавочке у плетня, – она ж в ванночке сидела купалась, махонькая совсем, я на минуту отвлеклась – а она ужо и убегла! Настюшка же маленькая якая, крохотулька совсем, пропадет за сутки-то! – Я ж казал – найду я ее! – вскинулся Максимка. – Да кого ты найдешь, дурань малой? – Нина Павловна только отмахнулась, встала и пошла прочь со двора, громко высморкавшись напоследок. Учительница с Максимкой остались вдвоем. Полкан вдруг успокоился, сразу пропустил Анну Демидовну в хату. Та поставила на стол принесенную снедь. – Bitte schön.[141] – Danke sehr,[142] Анна Демидовна! – Мальчишка схватил драник и закатил глаза, пережевывая. – Вкусно як! Сами готовили? – Ну а кто? Не домовой же, – соврала учительница. – Анна Демидовна, суседко не готовит, – серьезно ответил Максимка, покосившись на печку, и там будто на секунду мелькнула быстрая тень; учительница почувствовала холодный озноб, быстро взглянула на печной притвор. И правда тень, наверное… Или причудилось. – Кхм… – А вы с Жигаловым поговорили? – Да я вот только от него. В город уехал; пообещал, что в лепешку расшибется, а Демьяна Григорьевича вытащит. Ошибка это все, говорит. Постарается Жигалов – обещал, по-мужски. – Дзякую, Анна Демидовна, – совсем по-взрослому кивнул ученик, – с нас причитается. – Ты это брось! Причитается, ага, как же. Еще магарыч мне пообещай! А дочка-то у Нины Павловны где пропала? Я б сходила, помогла в поисках… – Сходите, конечно! – закивал Максимка, обмакивая драники в крынке со сметаной. – Глядишь, чаго знайдете. Она, може, в поля утекла – за котенком каким али щенком. Настюшкой ее звать, пять годов сполнилось. Ничего, поблукает да выблудится, я так разумею. Мужики вона, глядите, на розыск идут, – он махнул рукой в окно, где вдалеке через поле шагали домашние Нины Павловны, – так что вы за ними поспевайте! – А ты разве не пойдешь? – Та не, дела у мине тута по хозяйству… Гэта ж Нинка не хочет, штоб я допомогал. Ну и ладно, сами как-то обойдутся… «Элем Глебович попросил, чтобы мальчик дома сидел», – подумала учительница. – Ладно, Максим, тогда ты дома будь и никуда не ходи, понял? Дела странные творятся – вон, дети пропадают. – Зразумел, – кивнул ученик, улыбнувшись с едва уловимой хитринкой в глазах.
Стоило Анне Демидовне выйти за порог, как Максимка развил бурную деятельность. Он собрал с хаты все полезное для розыска – тетрадки, свою тонкую и демьяновскую – толстую, разбухшую от записей. В правый карман насыпал соли, в левый кинул горсть болтов и шурупов. На шею надел ладанку. За пояс сунул рогатку, рядом повесил мешочек «спутников» – после перестрелки на скотоферме их заметно поубавилось, надо будет потом с Демьяном еще смастерить. При мысли о знатке сердце кольнуло вящее беспокойство – не сгубили бы его там, в гэпэушных застенках. Помотав головой, Максимка отогнал гадкие мысли – не до треволнений, тут дите искать надо. Достав с холодного погреба крынку закисшего молока, Максимка зажмурился и осторожно полоснул по ладони знатковским перочинным ножиком, острым, что твоя бритва. В молоко упало несколько красных капель, разошедшихся по поверхности бурыми разводами. Наскоро обработав и перевязав руку, Максимка снял с постели плотное покрывало, занавесил им окно, чтобы в хате потемнело, как ночью. Вставая спиной к печке, он глухим от волнения голосом пробормотал: – Хозяюшко-суседушко, выходи молочком полакомиться, молочко парное, с-под коровки доенное, на травке нагулянное да кровушкой моею сдобренное. Выходи, суседушко, побалакаем да с тобою вдвоем позавтракаем… На улице неожиданно завыл Полкан – испуганно, жалобно. С замершим сердцем Максимка услышал за спиной чавканье; видать, сработало, слушается его суседко, признает за знатка, коль из угла выполз молочка полакать. – Хозяюшко-суседушко, – сбивчиво, взволнованно продолжил Максимка, – угостись молочком парным, да за судьбу-судьбинушку мне растолкуй. Коль жива Настюшка – поди направо, коль не жива – на левую сторону. Колобок уверенно прокатился направо, и Максимка облегченно вздохнул – жива девчонка, значит. А дальше-то что? – Хозяюшко, а ты можешь… Помочь мне пошукать ее? Настюшку то бишь, малая ж зусим. Пропадет она тама, в лесе… Их странный домовой прекратил чавкать, будто задумавшись. В отражении в боку пузатого чайника Максимка увидел, как к нему сзади медленно катится безногая и безрукая тень – что твой колобок; он зажмурился, крепче ухватился за рогатку, но с места не сдвинулся. Суседко прикоснулся к ноге, а затем запрыгал на месте, как резиновый мяч, как бы говоря – да, да, да! – Вот и славно… Быстрой, неуловимой для глаза тенью суседко прокатился к двери, выскочил наружу, впервые за долгие годы выйдя из дому. На улице в ужасе завыл Полкан, мельком увидев нечистого.

Максимка шагал сначала дорогой от околицы, после – заросшей тропой, а в конце концов уже пыхтя пробирался через бурьян, отмахиваясь от веток и нацепляв на одежду колючек. Пробуждалась мошкара, жалила щеки; подумалось с сожалением об оставленном в хате накомарнике. Совсем рядом, в кустах, шуршал молчаливый суседко. Стоило Максимке остановиться или повернуть не туда, как он принимался нетерпеливо подпрыгивать, издавать единственный звук, на который был способен, – протяжный низкий стон, как у тихо плачущего ребенка. Даже привычному к нечисти Максимке становилось не по себе от издаваемых домовым тягостных подвываний. Но все равно былой страшидла, которого он так боялся недавно, воспринимался теперь привычно, по-свойски, как и многое прочее. Они миновали Выклятый Млын с мельницей и русалкой, прошли мимо черных останков амбара, что торчали из земли, как обгоревшие пальцы мертвеца; Максимка сразу отвернулся, лишь бы не узреть ненароком его обитателей. Здесь суседко повернул, направился дальше по той лесной дорожке, которой даже Демьян ни разу не водил ученика. Ну оно и к лучшему! Максимка и нечистый углублялись все дальше в чащу. Лес тут оказался странным, с буераками и глубокими оврагами, заваленными сухим валежником. Выбеленные на солнце стволы деревьев были лишены мха и листьев по самую макушку, словно сильно обгорели в свое время. Повисшее в зените светило безжалостно жарило в темечко, и Максимка зевнул, чувствуя, что едва держится на ногах; тяжелым грузом навалилась и бессонная ночь на скотоферме, и все вчера пережитое, а еще перед глазами маячило изумленное лицо знатка, когда его волокли за шкирку в черный автомобиль. Почему-то увиденные ночью бестелята совсем не пугали – такого добра они со знатком уже навидались вдоволь и кое-как попривыкли. А вот воспоминание о гэбистах пугало по-настоящему. Куда похлеще страшидлы из-под печки, скачущего поблизости. «И куды он меня тащит?» – сонливо подумал Максимка, спотыкаясь о вывернутые наизнанку корни и едва поспевая за пружинисто прыгавшим суседкой. Тот демонстрировал то один влажный розовый бок, то другой, не показываясь ни разу целиком – как мячик резиновый, только склизкий весь какой-то. Лес постепенно редел, стволы деревьев расступались, и впереди показалось место, похожее на задорьевскую вёску: Максимка увидел перекошенный и обгоревший столб с путаницей проводов; ушедший мордой в землю, проржавевший до трухлявой крошки грузовик, за ним следом сгнивший остов телеги… В низко расположенной, заросшей чертополохом и пустоцветом лощине чернели десятка два домов, вернее, их останки, выгоревшие пуще, чем проклятый амбар, – одни трухлявые бревна фундамента. «Старое Задорье», – понял Максимка. Раньше-то, до войны, деревня располагалась чуть поодаль, тремя районами, это потом гитлеровцы все пожгли; после сорок пятого года больше половины Задорья заново отстроили, потому у задорчан в основном бараки заместо изб. Бывшие же пожарища так и остались раскиданы, и дорожки к ним все быльем да травой поросли… Так ему мамка говорила, да с детства запрещала сюда ходить – и в Вогнище, и к Выклятому Млыну, да еще некий Чертов Угол упоминала. Это, стал быть, он самый и есть – Чертов Угол. Проклятое место, очередное пожарище да пепелище, людьми навеки покинутое. Максимка устало приземлился на ушедшее в землю колесо телеги, потер лоб – не уснуть бы прямо здесь. Над верхушками сияющего сиренью чертополоха скакал суседко – идем, идем дальше! Сам же звал! Но Максимка сполз наземь, чувствуя, как слипаются глаза. Поспать бы совсем чуток, глядишь, никуда Настюшка не денется за час-то… Он разлегся на брусьях бывшей телеги, посмотрел в небо – чистое, с двумя плывущими в зените перистыми облаками. Одно напоминало очертаниями знатка с неизменной клюкой в руке, другое походило на старую, скрюченную в неизбывной злобе ведьму. Сглотнув, Максимка перевел взгляд на бывшую деревню, уничтоженную двадцать лет назад немцами. Глядя на руины домов, заросшие сиреневым соцветьем чертополоха и молодыми березками, он почувствовал, как дает о себе знать уже знакомая зубная боль. Маскимка встал, оглянулся: не от присутствия суседки ведь зубы болят, к нему-то он привык. Есть тут еще кто-то. Или что-то… Солнце заслонила не пойми откуда взявшаяся туча – минуту назад небо было совершенно ясным. И похолодало, как тогда, при появлении палявика. Резко стемнело, и развалины изб стали выглядеть еще более мрачными и чуждыми, словно случайно попали сюда из другого мира. – Суседушко-хозяюшко, – позвал Максимка, приседая на одно колено и вытаскивая рогатку, – кажи мне, друже, есть тут кто? Мы не одни? Спустя секунду нечисть подпрыгнула над кустами, показался на секунду склизкий шар – да, есть. – Ты мне поможешь? Защитишь меня? Помоги мне, суседко-хозяюшко, век благодарен буду… Еще один прыжок – да, помогу. – Дзякую, друже… Эй ты, выходь, кто бы ты ни был! – позвал Максимка сначала в сторону развалин, а затем повторил клич в лес позади. Его голос звонко разнесся в тишине гулким эхом – в сожженной деревне не было слышно даже треска кузнечиков и чириканья птиц. Мертвое все. Кусты на опушке шевельнулись, и Максимка быстрым движением запустил туда «спутник»; снаряд исчез, и следом раздался громкий мат. Максимка зарядил второй «спутник», прицелился. – Выходь, а не то пристрелю! – Ты чаго, малой, зусим на голову ляснутый? Чаго стреляесся? Выхожу я, выхожу! – Кусты зашуршали. На опушке оказался Сухощавый. Тот был одет в армейский плащ и резиновые сапоги, за спиной рюкзак. Киловяз угодливо улыбнулся Максимке, обнажив почти голые десны; его лицо, высохшее, темное и скукоженное, как изюм, пыталось скорчить дружелюбную мину, но от глаз не скрылось, как фальшиво бегают хитрые зенки – Сухощавый поочередно глядел то на заряженную очередным «спутником» рогатку, то в кусты, где скрывался суседко. – Вооружен-то як! И с духом сговориться сумел, гляди-ка. Суседко у табе там, шо ль, в кустах заховался? Як ты его из дому-то выманил? Ну дае-е-ешь! Прям настоящий зна́ток! Ну-кась, дай гляну, шо за ружжо у тебе дивное такое, –киловяз протянул руку к рогатке, но Максимка недоверчиво отступил на шаг. – А вам тута чаго треба? Чагово потеряли тут? – Да, можа, того же пошукать решил, шо и ты! Ты сам-то шо потерял, не девка ль твоя сюда утекла, а то ты пацан ужо большой! Девок щемить уж в самый раз! Маркитун якой вырос, струк небось конский, – с ехидным хохотком Сухощавый присел на корточки, сорвал травинку и завертел ее между парой оставшихся передних зубов, белых и блестящих – киловяз явно за ними следил, ухаживал, а десна рядом кровоточила: один зуб явно был вырван недавно. Странно, но разговаривал он чисто и ясно – не шепелявил даже, хоть сейчас на радио. «То ли приноровился, то ли наколдовал», – подумал Максимка. – Ты шо гэта, хлопче, девчонку с Задорья шукаешь тута? – Ну да, – признался Максимка, внимательно наблюдая за киловязом, – после всего услышанного о Пекле и колдунах доверия тот не вызывал никакого. – Дык и у мине, гэта, в вёске моей, – Сухощавый махнул рукой в сторону, где находилась его деревня, – мальчонка запропал, годков пяти. В луже кораблик пускал, мать отвлеклась – а его уже и нет. Мамка шибко просила отыскать, в ноги бросалась. Шо я, без сердца совсем, шо ль? Пошел вось искать пропажу. – А у нас тоже пятилетняя заблукала. Суседко сюда привел… А вы, гэта, не тольки порчу накладываете? Сухощавый показушно всплеснул руками, словно говоря – ты дурной, што ль? – Ты за кого мине держишь, пацан? Дема табе нарассказал такое, да? – Ну вы ж порчун, – с сомнением произнес Максимка, косясь на страшного деда, про которого местные только шепотом говорят. – Не порчун, а киловяз. И шо? Я обязан кажному встречному-поперечному вдоль и поперек вред нести? Ну было дело – килу клал на людей, коли надо… Мине попросили – ребятенка отыскать, и шо я таперь, чудовище якое, сожрать его должон? Я тоже, табе скажу, отцом был… Была у мине и семья, и доченька-золотце и жена-красавица, и любил я так, шо хоть на луну вой да стенку пярдоль. А шо я в карты сыграть люблю да чертей обыгрываю – так то за ради пользы, для людей все. Ты Дему-то слушайся, он мужик годный, но знай, шо я постарше него буду, и напраслину он на мине возвел, зразумел, малой? Максимка недоверчиво кивнул. – Дай-ка сюды ружжо свое, – Сухощавый требовательно протянул руку. – Дай, не сикайся! Максимка отдал рогатку. Киловяз повертел ее в руках, посмотрел, хмыкнул задумчиво и вернул обратно. – Годное ружжо, я табе кажу, хлопче; устрельное, какую хошь тварь сшибет, глядишь, даже и пекельную якую мелкую. Сила в ней есть, покуль сам в то веришь. Вера-то в табе есть? – Ну, Гагарин в космос летал, Бога не бачив… Сухощавый расхохотался и хлопнул его по плечу, так что Максимка едва устоял на ногах – в жилистых руках киловяза чувствовалась былая сила. – Бога нет, гришь? Ну-ну, Пекло-то верно есть, я табе так кажу! Давай-ка перекусим – рано яшчэ нам в баню идти. Чертов Угол тольки по ночам гостей принимает. – Якая-такая баня? – спросил Максимка. – А, дык ты ничога не знашь, да? Ну садися, я табе все скажу, як. А где Демьян-то? Няужо сам табе одного сюда пустил? – А он в ЧК… – В яком-таком ЧК? – Кэгабэ его забрало… Сёдня…

Они сели рядом, двое так непохожих друг на друга людей – одному под семьдесят, второй только жить начал. Максимка сперва взялся сказать свою историю – как пришли в коровник истреблять семя дьяволово, как чекист им помог и как двое молодчиков увезли Демьяна на черной «Волге». Сухощавый поохал, похмыкал, достал колоду потрепанных карт и раскинул на пеньке – за Демьяна узнать. Два расклада из трех выдавали «казенный дом», а третий – и вовсе ерунду какую-то. Вздохнул, ловко – только и успевай за пальцами – перемешал колоду и вышвырнул на пень новый расклад, теперь на пропавших детей. Вгляделся в выпавший результат – валет и дама червей поверху, да трефовый туз побоку. – Так, тута дом без хозяина, а тут, знащма, гэта самая – вещь потерянная. Да, верно мы пришли – здеся детишки заблукали, а во якая мразь их утащила – не разумею. Все одно – до ночи ждать надобно, так шо посидим, побалакаем. Сухощавый распаковал объемистый рюкзак, выложил на пенек рыбку и пару луковиц, и сала шмат, и белый хлеб, да кваса литр; Максимка взахлеб, доверившись, взялся сказывать всю историю. И про бая в лесу, и про жену председателя, и про заложного… И про Сычевичи, и Жигалова на свадьбе, и до бестелят вчерашних дошел – все как есть выложил. Киловяз внимательно слушал, кивал; на моменте с выстрелом в голову мертвому зоотехнику глаза его расширились, он спросил: – Ты уверен, шо так и было усе? Труп ожил да говорил гласом женским, прям при табе? – Да вот вам… – Максимка чуть не сказал «вот вам крест», вытащил из-за пояса снаряд для рогатки. – Вот вам «спутник», дядька Сухощавый! Клянуся я! – Мине Мирон звать, так и кличь – дядька Мирон. И ты, значит, малой, сам, своими ушами слыхал, шо она там грит, с того свету? Не почудилось табе? Можливо, показалося табе чаво, а? – Да сам все слыхал, дядька Мирон! Своими очами бачил, как тот труп балакал, губами шевелил! Хмыкнув с сомнением, Сухощавый отрезал мальчику еще сала, налил квасу. Уминая за обе щеки, Максимка спросил: – Дядька Мирон, я тоже спросить давно хотел, да у Демьяна как-то неудобно было. – Неудобно на потолке спать – одеяло падает, – усмехнулся киловяз, обнажив голые десны. – Спрашивай чаго хошь, у мине секретов нема. Ученик набрал в грудь воздуха, прежде чем задать вопрос: – А зачем мы такие, знаткие, есть вообще? Сухощавый хохотнул – будто ветка хрустнула. – Ишь ты, знать все хошь, да? Да низачем. Повезло нам просто боле, чем прочим. Те все под Богом ходят али под партией – чаго сверху велят, то и делают. А мы – сами себе голова, потому как зрим в самый, что ни на есть, корень, всю правду-матку, так ее растак! Оттого и знаткие мы, на то и воля наша! Максимке ответ понравился: Демьян бы наверняка опять что-нибудь про судьбу загнул – да, мол, сила большая дана, чтоб ответ держать больше прочих. А Сухощавый действительно говорил как есть, без обиняков и умолчаний. – Ну, чаго глядишь? Спрашивай яшчэ, не стесняйся уж. Максимка давно уж заприметил у старого киловяза расплывшуюся наколку на тыльной стороне ладони: рогатый черт, опутанный колючей проволокой, а ниже – на костяшках – странная надпись: «НЫРОБ». – Дядька, а шо за Ныроб такой? Гэта черт? – А, гэта? – Сухощавый, глянув на ладонь, отмахнулся. – То не черт, то Пекло настоящее, тольки не под землею, а ближей – на Урале. Исправительно-трудовой лагерь, мать его так… И лагерь гэтот страшный, для самых… Неважно, в общем, молодой ты яшчэ такое знать. Там бы мне и кончиться в мазу, так шо пришлось вона с чертями побрататься. А те и килу насылать выучили, и след вынимать и много яшчэ чаго. Здесь бы я был колдун, порчун или ча- роуник по-нашему, а там, на Урале, таких киловязами кличут. Как отсидел, в Беларусь вернулся, а родня-то меня… Не было, в общем, у меня больше родни. Так в Задорье и осел. Все, больше вопросов нема? – Есть. Расскажите про Пекло. Про настоящее. Сухощавый посерьезнел. – Гэта дельный вопрос. Чаго узнать хошь? – Ну вот, на кой черту гэтому зубы ваши треба? – А, так то не черт был, а так, курьер. Настоящие черти – то особая статья. А Мытарь – так его величать – хоть и пекельная тварь, да все ж так, на побегушках. Шастает по дорожкам меж Явью, Навью и Пеклом, долги собирает, гнида пархатая. А зубы знатких – то валюта гэткая у них, у пекельных. Они, черти, из них плети мастерят, коими грешников в Аду хлещут. На кажного грешника – по такой плети. И вот, покуда живешь да с чертями братаешься, так они кажный твой зуб р-р-раз – и в дело. А как все зубы растерял – так и готова твоя персональная плеточка. – А когда вы с чертями в карты играете, вы, гэт самое, братуетесь с ними, да? – То пущай ведьмы хошь братуются, хошь пярдолятся, хошь хлусят перед ними, а я их вот так вот – вокруг пальца! Я знашь скока силы у чертей в свое время отыграл? Мухлевать треба уметь! Хошь, и тебе научу? – Киловяз кивнул на лежащую на пеньке колоду. – Не-а… Так чагой там про Пекло и колдунов? – В общем, гляди. Да-а-а уж, заморочил табе голову Дема. А можа быть, и сам не знает. Он-то зна́ток, с Пеклом дел не имеет, пущай и приспособил себе помощничка такого… – Сухощавый кивнул в сторону кустов, где скрывался от глаз суседко. – А чаго с суседкой не так? – Все с ним так, тольки ваш дух домашний – не суседко никакой. Он у вас, коли крови бабские почует – такое устроит… Табе лучше и не знать. Хотя Дема-то бобылем живет, ему какая разница, хе-хе. Надо ж додуматься – в домового такую тварь взять! Игошу, мля! – Какого-такого игошу? – Да обыкновенного. Баба як напярдолится всласть, а рожать неохота – она к повитухе сходит, али травок всяких нажуется, или там, допустим, проволокой… И дитенка скинет да прикопает, где попало, – неотпетого да некрещеного. От он себе мамку-то новую искать и начинает. А як найдет – высосет досуха, як павук муху. Помню, была у мине як-то одна любительница… – Так шо там про Пекло да колдунов? – перебил Максимка. – Слухай, короче. Мы, киловязы да колдуны, с чертями уговор заключаем. А уговор такой – покуда колдуешь да портишь, черти табе – подмога и друзья. А шоб колдовать, зубов треба. Знаешь же, когда говорят «зуб даю»? От оно оттуда и пошло: ты черту зуб, а он тебе – хошь клады подземные, хошь бабу пригожую, хошь еще чаго… Ну а як зубы все – так и кончилась жизня, вся вышла. Тут самое-то важное – грехи успеть передать, с чертями вместе. Тогда отмучаешься в Пекле, изотрется-искрошится плетка твоя, мытарства пройдешь – и на небушко; бо, коли грехи отдал, то не киловяз ты боле, а так, грешник простой. А коль грехи тяжкие больно – так ни мытарств, ни небушка тебе не видать. Будешь мыкаться в тушке своей, покудова не истлеешь, да и опосля не лучше. – Потом в Пекло, да? – Щас, разбежался. Пекло внутре-то самой огонь разжигает. Чертям-то твоим домой охота али к другому какому колдуну – козни творить да людей портить, а вы грехами вот так связаны – не пускает ни их, ни тебя. Так вот ты, получается, меж двух огней – по земле душой неупокойной ползаешь, пресмыкаешься, як тварь якая – ни голоса у тебе, ни тела, мука одна. А Пекло с тобою, як друзья твои закадычные, на спине сидят, да хлещут и грызут тебя, да ненавидят пуще немцев, что судьба вам такая на пару выдалась. Разумеешь, не? Максимка кивнул. Что-то щелкнуло, сложилось в его голове, как мозаика. – Так, мож, Купава-то того? Грехи не успела отдать? – Выходит, так. Еретница она, проклята навеки. Ляжит где-то… А черт ее и знает, где она ляжит, я и сам искал, для интересу. Но закопал ее кто-то далеко да глубоко. Знаешь, я як думаю – раз уж слыхал ты голос ее, то и разложилась она, стал быть, истлела полностью, до косточек. Одно в толк взять не могу – откуль она зубы взяла, шоб письма зоотехнику слать и прочие пакости творить? У нее-то зубов нема – все черти отняли, они гниды жадные, – и Сухощавый, как-то фальшиво скосив глаза, потер челюсть с кровоточащей десной. – В толк взять не могу, где взяла она их! – В зубах, значит, вся сила? – Ага. Ну то пока живой, мертвыми-то зубами много не наколдуешь, тольки на плеть и годятся. Вон у тебе их скока, пасть полная, да все живые… Всю жизнь можешь с чертями в карты играть. Давай в дурачка перекинемся? Иль в преферанс? – Киловяз ловко перетасовал колоду меченых карт, но ученик отрицательно мотнул головой – не хватало еще с колдуном-картежником за игру садиться. В карты-то он играть умел, Свирид учил как-то. Помолчали. Максимка сидел и прикидывал – какой бы еще вопрос позаковыристей задать: отвечал Сухощавый куда охотнее Демьяна. Тут его осенило: – Дядька Мирон, а с баней-то гэтой шо? И почему ночи ждать надо? – Тьху ты! И чему тебе только Демьяшка учил? Напрашиваться хоть умеешь? Максимка пожал плечами – вроде вспоминалось что-то такое, как Демьян бормотал всякое перед входом в баню в Сычевичах. – Тю, темнота. Баня, Максимка – гэта нечистое самое место, не людское. Ты шо думаешь, мы вениками хлестаться да в пару-дыму сидеть сами выдумали? То колдуны стародавние, кто в Пекло ходить умел, там и подглядели. – Гэта на кой? – Так як же ж? Душа-то она после мытарств куда – на небушко. Вот и человек – помучается, помыкается, потомится в пару да дыму, мочалкой потрется, веничком похлещется и чище станет, душой и телом. Да тольки плата за то небольшая есть. – Якая? – А такая! Баня-то – штука паганская, яшчэ до того, как Бог пришел на нашу землю. А як пришел – всех старых божков в леса да на болота согнал, а ведьмы да колдуны по баням попрятались, тута, в банях обряды черные совершали. Бо и считается, раз надумал сделку с Пеклом заключить – иди в баню. Сквознячок ма-а-ахонький там дует, аж из самого Пекла в любой баньке. А яшчэ тута бородавки срезают, порчу наводят, молодые пярдолятся во грехе, а бабы после плод скидывают. Дрянного много, словом. Вот всяку паскудь гнилую туда и тянет, а банник всем заправляет, навроде начальника он там. Следит, шоб ни оттуда, ни туда ничего не шастало. Днем-то яшчэ ладно, разве шо павуки по углам. Ну гэта коли крестик сымешь да напросишься. А ночью банник дверцу-то для других отворяет: паскудь да грешники к нему помыться да покуражиться ходят. И коли душа человеческая ночью порог бани переступит – не быть живу. Банник о каменку спалит или обдериха – жена банникова – кожу с живого снимет; не наше то время, словом. – А мы туда як же… – Дык на то ты и знаткой, шоб нечистых не палохаться. Ты давай-ка кушай, не стесняйся; у мине и так зубов нема, я сала пососу, и сыт ужо. Як чуял, шо табе встречу, пожрать назапас. Донельзя умаявшийся Максимка пытался вдоволь наесться, но уже падал от бессилия: глаза слипались сами по себе, невыносимо хотелось спать. Заметив это, киловяз сказал: – Ты, гэта, поспи малость, зна́ток херов. Я уж табе разбужу, не сумлевайся, як понадобится в баню идти. Вечор ужо наступает – гляди, ночь якая пригожая буде. Максимка с облегчением улегся в мягкую траву, пару минут наблюдал за Млечным Шляхом, следующим по небосводу: чудилось, будто бы все дурацкие людские судьбы повинуются его движению в космосе. Звезд казалось так неисчислимо много, что Максимка быстро потерял себя, пытаясь их сосчитать. Вместо привычного видения о Колыме и о вскрытом злыми людьми животе ему приснился Демьян. Тот будил его, грубо тряся за плечо: – А ну вставай, неслух! Вона ночь на дворе, на дело пора! – Якое дело? – сонно отвечал Максимка. – Мериканцев спасать! Бери рогатку-то. И вышли они с Демьяном из дому, а там по небу рассыпалась крупная соль Млечного Шляха, огромным куском сыра свисала набухшая, сочная Луна. – Вона, туды нам треба! Откуда ни возьмись, посреди двора появилась самая настоящая ракета. Демьян затолкал Максимку внутрь, после чего залез сам. Внутри было тесно, как в гробу. А это и оказался самый настоящий гроб – вон шляпки гвоздей торчат и доски. Гроб задрожал и с гулом оторвался от земли. Максимку вжало в «пол», корчился от перегрузок Демьян. А вскоре гроб приземлился на неровную, каменистую поверхность. Крышка отвалилась. В черном небе синела огромная, необъятная голубая планета, а неподалеку, в одном из кратеров, прыгали смешные, похожие на пупсов в своих огромных скафандрах американские космонавты. К ним со всех сторон из темных каверн и щелей ползли долговязые рогатые тени. – Ату их, Максимка! Стреляй! И Максимка заряжал в гранату свои «спутники» и запускал их в лунных чертей. Те, получив снаряд, рассыпались на пыль и тлен, похожий на черное конфетти. Один из американских космонавтов заметил их с Демьяном и принялся размахивать своим звездно-полосатым флагом: тута мы, мол! Демьян уже спешил на помощь, передвигаясь огромными прыжками. «Гравитация-то на Луне ниже», – вспомнил Максимка, и принялся прыгать сам. Заняли круговую оборону. Американцы что-то возбужденно кричали на своем, а черти все наседали и наседали. Чернел горизонт, ощетинившись сотнями рогов. – Дядька Демьян, «спутники»-то усе! – крикнул Максимка, заряжая последний. – Як так «усе»? Шоб у Советского Союза да «спутники» усе? Вона, учитесь, обормоты! – Демьян указал пальцем вверх. С неба – или с Земли, тут как поглядеть, – действительно приближался громадный спутник. Четырехлапый, круглый, с красной звездой на борту – точная копия Максимкиных, только в сотню раз больше. Встав на четыре ноги, как диковинная какая-нибудь водомерка, спутник открылся, и на лунную поверхность спрыгнул улыбающийся… – Гагарин! – выдохнул восторженно Максимка. Гагарин одарил его своей знаменитой белозубой улыбкой и жестом фокусника вынул из-за спины пулемет «Максим». Максимкин железный тезка громко застрекотал, загремел, выплевывая пули одну за другой бесконечным потоком в черную массу, и та редела, взрываясь тут и там красными всполохами. Американцы радостно подпрыгивали, точно какие-нибудь жевуны из книжки Волкова, радующиеся освобождению от Гингемы, а черти скалили рожи, шипели, извивались, но никто не спрятался от метких выстрелов Гагарина – все получили по своей доле пулеметной ленты. Когда Гагарин опустил пулемет, Максимка рванулся к космонавту. В голове роилось столько вопросов, столько всего хотелось сказать, но он только и успел прокричать: – Юрий Лексеич, Юрий Лексеич! Но тот будто не слышал. «Пространство-то безвоздушное!» – догадался Максимка и просто застыл перед кумиром. А Гагарин вдруг погрустнел и засобирался, повторяя: – В Новоселово мне надо, в Новоселово… Ждут меня там. В Новоселово… Максимка хотел было спросить, про какое-такое Новоселово говорит Гагарин, и… проснулся. Его разбудил Сухощавый. Глаза киловяза возбужденно сверкали, ярче, чем сияние звездного неба. Максимка уткнулся лицом в траву, попробовал сохранить чудный сон, но киловяз требовательно тряхнул его за плечо. – Идти треба! Вставай ужо! Сухощавый сунул ему в руки теплый термос. – На, очнись! Максимка недовольно буркнул, сел, выпил; налитый в термос чай и впрямь приободрил. Сухощавый присел перед ним на корточки, спросил серьезно: – А знаешь, чаму яшчэ к бане няможна днем ходить? – Не-а, – сонно мотнул головой Максимка, с удовольствием допивая сладкий чай: Демьян ему термоса не давал. – А то немцы, сволочи, по всей деревне мин понаставили, по сию пору избавиться не могем. Кады отступали – мин поразбрасывали, шоб, значит, Красная армия на воздух повзлетала. Местные-тка значалу ходили – своих по-человечьи похоронить, да и сами в клочья разлетелись, эх! А в ночи вам, знающим, все видать лучшей; я табе дорогу укажу, и ты туда ногу ставь, шагу в сторону не делай; а коль сделаешь, то заново почнем шагать. – И, повернувшись, киловяз подтолкнул мальчонку вперед: иди, мол. – Что ж я, первый пойду? – струхнул вдруг Максимка. – Так ты ж знаткой! И зрение у тебя получшей моего. Али мне пекельных позвать, шоб дорогу казали? – А як же ж я мины-то побачу? – Ужо не пропустишь, поверь! – усмехнулся Сухощавый. И Максимка несмело направился по дороге через испепеленную деревню. Путь лежал к перекошенной, горелой, но лучше остальных сохранившейся приземистой избе. В лунном свете все кругом казалось сказочным, как во сне. Только сказка была страшной. За ним – след в след – осторожно шагал Сухощавый, шепотом подсказывая, куда лучше ставить ногу. Дорога светилась сиреневыми всплесками чертополоха – казалось бы, в лунном сиянии он не должен так ярко блестеть, но Максимка видел все ясно, как при свете дня. Он залюбовался, задумался; ткнулся мыском сапога в твердую кочку, а та блеснула в свете луны железным боком, звякнул капсюль внутри обнажившейся мины, и следом грохнуло по ушам оглушительным звоном. И все кончилось, потонуло в слепящем, заполнившем все вокруг свете и звуке. Максимка умер. Его разбудил Сухощавый. Глаза колдуна ярко блестели в свете полной луны. Он возбужденно тормошил ученика за плечи. – Приснилось чаго? – взволнованно спросил киловяз. – Померли мы… Я, да и вы, наверное, – Максимка попробовал перевернуться на другой бок – больно уж сладко спалось. – Гэта ладна! Даже отлична! Просыпайся давай, значит, второй раз верно дойдем! «Второй раз?» – захотелось спросить Максимке, но он молча поднялся, собрал свое добро и зашагал вперед. Где-то внутри еще дрожал заячий страх перед повторением страшного видения уже в реальности – а ежели то сон вещий был? Не удержался-таки, крикнул себе за спину: – Дядька, а чаго гэта было? – А-а, да то я табе в квас дурмана подмешал, – махнул рукой Сухощавый, мол, все в порядке. Вроде так и надо. – Чаго подмешали? – изумился ученик. – Травы дурной, шоб ты наперед заглянул мальца. Вот и смерть свою скорую во сне побачил – молодец якой. Максимка тщательно протер глаза: яркий сон с гибелью на мине не отпускал, запечатлелся, как негатив. То, что Сухощавый опоил его какой-то дрянью, откровенно злило. Возникло желание пустить старого киловяза вперед – пусть сам таперича своими лаптями мины проверяет. Внимательно глядя под ноги на сей раз, Максимка услышал крик совы из лесной чащи; поднял голову и тут же ударился носком о бок железной банки, блеснувшей в серебристом свете. Звякнуло, грохнуло, в глаза брызнул слепящий свет: Максимка вновь умер. На сей раз он проснулся сам. Встал, злобно посмотрел на Сухощавого: тот уж сам задремал, прислонившись к пеньку. – Травы дурной намешали мне, да? – Максимка ткнул киловяза в плечо, хотя больше всего хотелось врезать ему по лбу. – А ты откуль знаешь? – Сухощавый зевнул и потер глаза. – Там мина! И там! Коли я третий раз помру – ухожу до дому, ясно? Сухощавый только усмехнулся. – Норовистый ты пацан! Ладно, глядишь, двух раз хватит. Али яшчэ покемаришь? – Нет уж! Пойдемте! Помрем так помрем – вдвоем веселее! – зло рявкнул Максимка. Обойдя две увиденные во сне мины, третьей они не встретили. Максимка, меж тем, мучился мыслью: это еще сон или уже нет? В таких мыслях он и сам не заметил, как доковылял до бани. Выстроенная по старинке – с глухими стенами да единственным оконцем, она являла собой по сути грубый сруб без трубы. Покрытая сажей избенка, стоявшая поодаль от прочих домов – чтобы в случае пожара в бане пламя не перекинулось на прочие здания, – пережила своих соседей и сохранилась лучше прочих: тут даже дверь имелась, трухлявая, гнилая, на ржавых петлях. Под ногами на гантаке что-то захрустело; Максимка понял, что это кости мелких животных – птиц, белок, зайцев. Тут все было ими завалено, дверь с трудом открывалась. – Ну шо, у банника разрешения просить не станем, не за тем пришли. Не палохайся, коль чаго побачишь, – тута место гиблое, гиблей некуда. Сухощавый бесцеремонно толкнул дверь, и они оба зашли внутрь – в темную баню, простоявшую безлюдной последние двадцать лет. Тотчас дверь захлопнулась за спиной, отсекла луч лунного света. Они оказались в кромешной темноте. Во тьме раздался гадкий смех.

В диспансере скучно. Иногда вдруг кто буянить начнет, тогда и веселье начинается. В остальное время гляди себе в стенку да слюни пускай – ты дурак, важных дел у тебя нет. Сегодня утром санитар кормил его через трубочку. Кравчук лежал молча и глядел в потолок: в последнее время белизна потолка его интересовала больше, чем окружающий мир. – Сука, куда ж ты зубы заховал, признавайся? В жопу, шо ль? – от скуки интересовался санитар, но Кравчук молчал, как партизан. Ему вообще многое стало безразлично; мир сузился до воспоминаний о чудной женщине с синими глазами, что рвала ему зубы – один за другим, с жутким «ХРЯСЬ!» выдирая их из пасти. Всякий раз, просыпаясь по ночам, бывший председатель начинал выть и биться о стену головой: за то его, беднягу, привязали намертво к кровати, оставили в «наблюдалке» под круглосуточным присмотром персонала. Ему больше не нужна была грязная окровавленная тряпка, он умолял позвать санитарку Акулину, то и дело сбиваясь на куда более простую в произношении «Аллу». Никто не ведал, что за Алла-Акулина такая, хотя сумасшедший Васелюк и пара других психов утверждали, что таковая в больнице реально работает. Главврач даже пытался отыскать санитарку с таким именем, настолько уверенно дураки стояли на своем – может, какая студентка из приходящих на лето? Синие-синие глаза, как прозрачная антарктическая лавина, как бескрайнее море, что волнуется и плещет волнами, сливаясь оттенком с блистающим синевой небом… Они преследовали Кравчука во сне и наяву. Просыпаясь, он вновь видел Акулину пред собой, как живую. Поэтому сегодня в обед, обнаружив ее, сидящую на краю кровати, он не удивился, а привычно улыбнулся, обнажил изуродованные, но немного зажившие десны: – Ты-ы-ы! Мне шанитар шкашал, што тебя нет! – Его самого нет, – хохотнула Акулина, поправляя колготки на худых икрах, – а я – вот, сижу себе, живехонька да здоровенька. – И где ш ты была? Што было ш тобой? – Много дел было, прости… С нашим общим знакомцем увиделась – обозначила ему, что живая. Но теперь я твоя, и только твоя. – Акулина сверкнула белозубой улыбкой – у нее-то все зубы на месте. Кокетливо поправила полную грудь, выпадавшую из откровенного декольте униформы; Кравчук жадно наблюдал. Она склонилась сверху, погладила его по щеке, осклабилась хищно. Изо рта у нее пахло неожиданно неприятно – будто горелым мясом и паленым волосом. – Ты рашкажешь мне вшю ишторию? – пробормотал он, стараясь не потерять сознание – вколотый димедрол давал о себе знать. – А я знала, что тебе сказка понравится! Скажу, конечно, куда ж я денусь? А потом я тебя освобожу, как и обещала – уж я-то свое слово завсегда держу, – откуда ни возьмись, в руках Акулины появилась измазанная чем-то бурым ножовка. Усевшись едва ли не на самое лицо Кравчуку – так, что он мог подглядеть под юбку, и тот не знал, куда от стыда прятать глаза, – открыла оконце и принялась пилить решетку. Посыпались вниз хлопья белой краски и ржавчины. – На чем мы кончили? На том, как Дема в партизаны ушел? В сорок первом году, так? Слушай теперь конец сказки моей: пришел как-то, спустя год, партизан Дема к Акулине домой… В сарае она его нашла, грязного да напуганного, приполз ночью…

Она обнаружила его у себя в сарае – забитого, испуганного, сжимающего винтовку. Присев на чурбак у входа, Акулина сбросила личину бабки Купавы и устало спросила, сгорбив плечи: – Совсем погано? Он просто кивнул. Акулина рассматривала его и поражалась, как человек может измениться всего за год: Дема вырос и возмужал, стал плечистым парнем – сажень в плечах – с двумя толстыми, как кувалды, кулаками. Лицо его заострилось по-птичьи, стало недоверчивым, пугливым; от каждого шороха Дема палохался, беспокойно выглядывал в щель сарая – а ну как немцы с деревни проведали да идут сюда? – Не бойся, – сказала ему Акулина, – никто сюда не придет – мою хату еще не каждый заметит. Лейтенант у них, конечно, глазастый, но не из карателей. Не сдаст. – Все равно все они суки, – прошептал Демьян, – ненавижу их! – Господи! Да ты седой весь! – только сейчас заметила Акулина. Демьян вновь молча кивнул. Его волосы, пускай и не полностью седые, покрылись серебром, блистающим в свете падавших из щелей сарая утренних лучей солнца; молодой зна́ток напоминал одуванчик. – Что же с тобой случилось? – Много чаго, Акулинка… Сказать – не пересказать. А есть чаго пожрать? Она молча кивнула и ушла домой – за худым хлебом и овощами. Окромя того, в деревне ничего не осталось. Немцы устроили такую продразверстку, что коммунистам и не снилось. Двое, зна́ток и знатка, молча отобедали. Демьян ел руками, как животное; Акулина хотела упрекнуть, но слова не сказала, внимательно наблюдая за каждым его движением. – Когда мылся в последний раз? – Давно. Як мамка там? – Ничога, держится… Братик твой, Захарка, тоже в партизаны рвется; отговариваем его. – Верно, неча ему там робить, малой зусим, – отвечал Демьян, уминая хлеб и запивая квасом. – Я потемну к мамке пойду. – Повидаться? – Ага! И палку надо состругать по обычаю; пригодится она мне. – Колдовскую палку? – испугалась Акулина, перекрестилась. – Ты с чертями забратался? – Та не, якие черти, – отмахнулся Демьян. – Так, то отряд навьей тропкой проведу, то припасы немчуре спорчу. Вось, думаю, сподручное что-то надо, шоб ежели что – раз по хребтине! – А где ж ты во́зьмешь гэтую палку? – Знаю место, – отрезал зна́ток, дав понять, что больше ничего не скажет. Как стемнело, он ушел, а вернулся уже и впрямь с какой-то клюкой, покрытой вязью символов. Акулина, взглянув на трость, сразу почуяла в ней силу: дух там сидел, причем злой дух да беспокойный, полный страшной силой, но меж тем покорившийся Деме. – Это еще что? – Считай, батька мой. Ты только не чапа́й, – Демьян бережно поставил палку в угол. Акулина хмыкнула, но не стала переспрашивать – расскажет сам, как захочет. – С мамкой повидался? – Ага… Корова у нас подохла-таки; я мамке марок немецких дал, с солдата снял; она у лейтенанта на еду выменяет. И огурцов твоих отнес да гостинцев – мыла там, консервов, конфет… – А Захарка что? – По лбу ему дал – пускай грамоте учится. Дважды два не знает, а туда же – в солдаты намылился. Спать ему Акулина постелила рядышком, в хате – у печки, где он всегда ютился. Дема ворочался полчаса, фыркал, а потом зашел к Акулине в комнату. – Слышь, Акулина! – А? – А есть якой заговор або способ, шоб усю гэтую сволочь с Беларуси изгнать? Она молчала, глядя на него – темный силуэт вырисовывался на фоне дверного проема, напряженный, полный злобы и решимости. – Не знаю, может, и есть какой-нибудь способ… – Так можно, того? Разом всех их чик – и прогоним, а? Всех, разом! – Дорого то стоит, Дема… – Як дорого? – Дороже денег. Не расплатимся мы… Он презрительно фыркнул. – Да я, шоб их поушибать, шо хошь отдам! Хошь, душу продам? Не так она и дорога мне. Ты знаешь, чаго я повидал? – Не знаю, – боясь услышать правду, Акулина зарылась в одеяла, перестала дышать. – Не говори, молчи! – А я табе и скажу! Мы в деревне одной отрядом проходили. Идем колонной – а там пепелище сплошное, все дымится. Людей в домах живьем спалили, клянуся! А кто спасся – те по лесам разбеглись. А потом подходим ближей – овраг такой, знаешь, а там трупов полно, друг на дружку все свалены, и ляжит там школьница в форме, учебники рядом, блуза порвана, и тоже уся в крови; як порося резали – все забрызгано… На животе ей «Швайне» вырезали. Знаешь, чаго то по-немецки значит? Свинья! – Хватит! Замолчи! – вскрикнула Акулина, зажимая уши. – Не нравится табе? Яшчэ рассказать, не? Дык придумай шо-нибудь! – сказал Дема и ушел обратно к себе на постель, где еще долго ворочался. Полежав еще в раздумьях, она вышла на улицу – как есть, в панталонах и рубахе. Дема громко стонал во сне, дергал ногами, будто от кого-то убегая; он больше не поджидал ее по ночам, как раньше. Она-то все помнила, как он год назад лежал у печки, уставившись блестящими от возбуждения глазами и ожидая, пока она выскочит ночью за дверь. У гантака всегда стояла банка свиной крови, на такой случай. Акулина подлила туда молока, отнесла банку к опушке леса, где в овраг всегда сливали помои, и села на пенек. Медленно завела купальскую песню, постепенно смешивая ее слова со словами заговора:
Купалинка-Купалинка, темная ночка,
Темная ночка, где ж твоя дочка?
Темная ночка, где ж твоя дочка?..
Моя дочка в садочке розу, розу полет,
Розу, розу полет, белы ручки колет.
Ну выйди ж ты, леший-батюшко,
на разговор честной…

– Na, was für schmackiges Schweinchen haben wir den da! title="">[144]– довольно молвил тот, что стрелял из автомата; рослый и белобрысый. – Endlich ein bißchen Glück, Paul! Ich dachte, da sind nur die alte Fotsen im Dorf! [145] – со смехом отвечал ему второй, толстый и с лычками штабс-сержанта. – Деващка, мы не делать вред, сними одежда, – говорил Нинке еще один, которого Акулина тоже узнала – то штабной адъютант Химерик, подлиза с рябой рожицей, что вечно крутится подле лейтенанта. Светловолосый, веснушчатый, в другое время он мог бы сойти за старшего брата Нинки. Адъютант со смехом схватил девчонку за зад. Она взвизгнула, дернулась в сторону, но немец успел рвануть на себя с треском оборвавшееся платье. Остальные довольно загоготали – Нинка осталась почти голая, в одних сапогах и трусиках. Она отступала назад, к воде, беспокойно оглядывалась. – Дяденьки, не надо! Пожалуйста, не надо! – кричала она, как раненая птица, ступая все глубже в топкую воду пруда. Оторопевшая поначалу, Акулина поднялась на ноги и решительно направилась в их сторону. Она еще не знала, что скажет или сделает, – просто шла, не думая о последствиях. Верещащую в ужасе Нинку схватили, затащили на берег и перегнули раком через трухлявое бревно. Один держал руки, второй ноги, чтоб не брыкалась. Толстый гитлеровец содрал трусы, показалась бледная, с прыщами, подростковая задница. Толстяк с вожделением уставился на зрелище и принялся расстегивать ремень.

– Erst bin ich dran – als der ranghöher! [146]– отогнал его Химерик. – Wie du sagst, Herr Ober [147],– ответил толстяк, отступая в сторону. – Nach dir geht’s ja weicher! [148] – Дядьки, не на-а-адо… – хрипела снизу Нинка, когда на нее залез Химерик. В этот момент появилась Акулина. Она крикнула, надеясь, что ее голос звучит властно: – А ну прекратить насилие! Я лейтенанту доложу! – В тот же миг она сама осознала, как глупо звучат ее слова здесь, у безлюдного пруда. – Chimeric, du kannst ja die alte nehmen! [149] – расхохотался от неожиданности толстяк. – Aber, Otto, du magst es doch bissl älter! [150] Химерик слез с девочки, которая сразу свернулась клубочком на земле, и приблизился к возникшей из ниоткуда старухе. Он прищурился. – Wenn sehe ich da! Die alte Perchta! [151] – Chimeric, hör jetzt auf mit dem Scheiss! [152] – подал голос молчаливый Пауль. И, не успела Акулина больше вымолвить ни слова, как ближайший к ней молчаливый немчик с размаху саданул ей прикладом в висок; наподдал сапогом в лицо. Кровь из рассеченной брови залила глаз. Когда Акулина проморгалась – перед ней висело в воздухе дуло винтовки. Там, в черноте посередине копошилась, воняла маслом и порохом ее, Акулины, смерть.

– Nicht hier! Oder willst du die danach selber zu der Grube schleppen? [153] – Aber Herr Ober, ich wollte ja auch…[154] – Klappe! Mach jetzt! Wir lassen dir schon ein bisschen Nachspeise…[155] – Cremiges! [156] – расхохотался жирный Отто. Пауль с явной неохотой отвел дуло автомата, рывком поставил Акулину на ноги и указал ей направление – туда, мол, иди. Акулина тяжело поплелась, куда показывал солдат. В голове гудело, мысли от удара слиплись в какую-то бесформенную кучу: Сухощавый, грех, немцы, Нинка. За спиной послышался чей-то гогот, а следом – резкий визг, как будто и правда поросячий. Пауль с досадой оглянулся – он явно не хотел пропускать все веселье. Они отошли от пруда, побрели медленно по тропинке вдоль бывшей мельничной пади. Акулина с трудом ступала с ноги на ногу. Голова кружилась, и ноги то и дело норовили запнуться о какой-нибудь корень; тогда солдат прикрикивал на нее: «Шнель!» – быстрее, мол. Они миновали руины взорванного храма, углубились в лес. И там еще глубже, по тем тропкам, которыми даже звери не ходят. Здесь Акулина почувствовала устойчивый сладкий запах – так обычно пахнут прокисшие на солнце звериные трупы, только вонь была куда сильнее. А когда знатка поняла, откуда исходит запах, ее затошнило. Перед ней раскинулась заросшая грибами поляна, а посреди поляны разверстая дыра, похожая на свежевырытый окоп. Над ямой висел, гудя, целый сонм мух. Потревоженные, они щекотным облаком накинулись на пришедших. Акулина принялась отмахиваться, а Пауль скомандовал: – Hinlegen! [157] Лежать! – Куды? – растерянно спросила Акулина. Солдат показал стволом автомата – туда, мол, ложись. На дне ямы лежали трое – исклеванный воронами до абсолютной неузнаваемости труп с табличкой Partisan на шее и двое братьев из соседней деревни. Именно их, слезно умоляя, просили найти Акулину на прошлой неделе, но та спросила у домового и не пошла искать – оба уже были мертвы. Теперь они лежали здесь и, казалось, были беременны – настолько сильно им раздуло животы трупными газами. В черепе у каждого чернело по аккуратному пулевому отверстию, придавая близнецам еще большее сходство друг с другом. Акулину затошнило, в горле скопилась кислая желчь. Пауль нетерпеливо ткнул ее в спину стволом автомата. Акулина ступила туфлей на край ямы, начала спускаться. Под подошвой осыпалась грязь – вниз, к белеющим трупам; Акулина перекрестилась. И тут с края поляны раздалось: – Hey, Schütze, was machst du denn hier? [158] Из-за деревьев показался молодой немец с лычками унтер-офицера. Он грозно уставился на солдата. Тот вскинул руку и даже образцово щелкнул каблуками и убрал автомат. – Heil Hitler! Ich befolge den Befehl, Herr Unteroffizier! [159] – Was für Befehl? Wurde dir befohlen einen Zivilisten zu erschießen? [160] – Überhaupt nicht, Herr Unteroffizier! [161] – Пауль преданно пожирал глазами командира. – Mir wurde befohlen, diese Frau zur … Entsorgung in die Partisanengrube zu bringen.[162] – Partisanen ist hier das Hauptwort. Sieht diese Frau als ein Partisan aus? [163] – назидательно спросил унтер-офицер. – Auf keinen Fall, Herr Ober! Aber ich habe einen Befehl von Chimeric erhalten! [164] – Dieses Befehl wird abgebrochen. Dein Name war Paul, Söldner? [165] – Jawohl! [166] – Ja, ich kenne dich. Wir sind Namensvetter. Mein Name ist auch Paul.[167] – Genau, sind wir, Untersturmführer Hirschbeck! [168] – Lass jetzt die Alte los,[169] – молодой унтер махнул рукой, – die hat nichts getan. Und jetzt merke dir folgendes, Paul: wir töten keine Zivilisten. Wir kämpfen doch gegen Kommunisten, nicht gegen die Alten. Sie wollen doch nicht eines Tages aufwachen und sich schämen, dass sie ein Deutsche sind, oder? [170] – Auf keinen Fall, Herr Untersturmführer! Darf ich gehen? [171] – Пауль сделал осторожный шаг назад. – Erstmal sag mir, wo jetzt der Gefreiter Chimeric ist? [172] – Das weiss ich nicht, Herr Untersturmführer! Darf ich gehen? [173] – с настойчивостью идиота повторил солдат. – Geh doch, wo du hin willst, aber am besten zur Lage der Kompanie,[174] – устало отмахнулся унтер-офицер, и несостоявшийся палач Акулины скрылся в лесу. Они остались вдвоем – немец и мнимая старуха. Акулина не понимала ни слова на этом лающем грубом языке, но догадалась, что, кажется, в этот раз смерть обошла стороной и голодная яма в этот раз осталась без лакомства; будто досадуя, неистово мельтешили мухи. Немного придя в себя, Акулина разглядела немца: светленький и симпатичный вроде, с немного торчащими ушами и умными голубыми глазами. Немец присел на корточки у края ямы, поморщился, заглянув внутрь:

– Es ist echt unglaublich, was wir hier tun. Die Versprechungen auf Plakaten und Transparenten in Deutschland sagten, dass wir Helden und Befreier werden würden. Aber hier ist alles anders. Wenn ich diese Gräben sehe – Hunderte von Gräben – frag ich mich, ob wir vielleicht die Bösen sind? Jeden Tag komme ich hierher, um sicherzugehen, dass diese Metzger nicht einfach zum Spaß jemanden erschießen würden. Heute hat es sich gelohnt. Verstehen Sie mich? [175] Акулина, поняв только последний вопрос, помотала головой – нет, не смыслю по-немецки. Она сама с ужасом заглядывала в жуткий овраг. Разумеется, она раньше догадывалась о чем-то подобном, но никогда не видела вживую. Больше всего ужасал размер оврага – в него могла бы уместиться еще сотня-две таких вот «партизан». Повешенного Акулина не опознала, а близнецов видели последний раз, когда те ходили в лес – добыть еды. Взгляд ее переместился дальше – за овраг, к странной лысой полоске голой взрыхленной земли, будто кто-то собрался здесь, в лесу, окучивать огород. Сперва Акулина даже мысленно похвалила неведомого огородника – границы ровные да аккуратные, как по линеечке, и лишь запоздало – голова еще плохо соображала после удара прикладом – додумалась сравнить размер «огорода» с размерами рва. Те сходились тютелька в тютельку – даже в рытье ям чувствовалась немецкая педантичность. Ужас обуял Акулину, когда та осознала: «огород» закопали, когда яма оказалась полна страшным содержимым.

Немчик еще что-то балакал, часто повторял «шаде-шаде» и тыкал ей в лицо замусоленной фотографией – видимо, семьи. По центру фото белозубо щерился щекастый мальчуган с игрушечным грузовиком в руках. «Подрастает будущий фашист», – подумала Акулина. Окинула взглядом ямы – зарытую, уже сытую, и еще голодную, с тремя трупами. Вспомнила рассказы Демы; вспомнила, что там, на берегу пруда, двое выродков сию секунду насилуют Нинку, дочку ушедшего на фронт Афанасия Яковлевича, а третий уже, поди, спешит им на подмогу. Дикая ярость и злоба обуяли Акулину, склеили губы в тонкую щель, а лицо – в мертвую маску. Самым черным, самым дурным взглядом посмотрела она на немчика и произнесла со всей злостью, на которую только могло хватить ее некогда доброго сердца: – Что, винишься? Каешься? Семья у тебя? Да будь ты проклят! Проклят и ты, и твоя семья, и вся твоя Германия! Не вернешься ты до дому николи, навеки здесь останешься, неупокоенным да неприкаянным! Не будет тебе прощения, ни на тым свете, ни на гэтым! В поле лежать будешь, под солнцем гнить! Птицы тебе очи повыклюют, а черви кишки твои выжрут, а сам ты так лежать и останешься, никому не нужный! Язык мой – ключ, слово – замок! Аминь! Напоследок она плюнула тому вроде как в лицо, но слюна оказалась слишком вязкой – приземлилась на начищенный до зеркального блеска сапог. Оставив застывшего в недоумении унтер-офицера стоять у ямы, Акулина заковыляла прочь. «Нинка-Нинка, нужно Нинку выручать!» – билась в висках мысль. Ноздрей так и не покинула жуткая трупная вонь; казалось, мухи забрались внутрь головы и теперь щекочут череп своими лапками. На секунду ей даже почудилось, что одна заползла в глазное яблоко и теперь елозит там изнутри, и Акулина долго трясла головой и била себя по ушам – будто после купания, но муха никак не желала выходить. Потерявшись буквально в трех соснах, она шаталась от ствола к стволу, покуда ее не стошнило. Стало полегче. «Сотрясение. Точно сотрясение. Холодное бы приложить», – думала она, но было не до того: сперва надобно спасти Нинку. Приложив подорожник к рассеченной брови, она зашагала в направлении пруда. А это куда? На север или на юг? Солнце садится или заходит? Да уж, удар у этого Пауля оказался что надо. Теперь Акулина и впрямь чувствовала себя старухой – кружилась голова, перед взором вспыхивали разноцветные круги. А еще как будто взгляд затуманивался, темнело в глазах. Или темнело в лесу? Дорогу к пруду Акулина нашла уже совсем на закате, когда проснулось знаткое чутье и открылись тайные навьи тропы, что вывели ее к руинам взорванной церквы, а там уже и млын брошенный недалече. Сновали под кронами сизые тени. Ивы тихо шелестели ветвями на сумрачном берегу пруда. Немцы уже ушли. У берега сидела, обхватив руками колени, голая Нинка. По бедрам ее стекала тонкая струйка крови, теряясь в кровоподтеках и следах укусов, но Нинке было не до того: она пристально глядела вперед, на водную гладь пруда, сиреневую в вечерних сумерках. Вокруг роились комары, облепили голые плечи. Акулина сбросила тяжелую личину бабки Купавы – сорвала все тряпки, ватники и шали. Села рядом, обняла Нинку за плечи, накинула один из бесчисленных платков, прикрывая наготу. Та всхлипнула, повернулась; лицо девушки напоминало лиловую маску, один глаз затек и не раскрывался. Акулина отшатнулась от безумной щербатой ухмылки – нескольких зубов не хватало. – У мине братишка малой, Петька, дома один. Мамка в поле ушла, – Нинка улыбнулась еще шире, так, что верхняя губа лопнула – по щеке поползла струйка крови. – А я и осталася… Одна. – Ну, буде табе, милая… – Акулина ласково погладила девчонку по щеке, стирая пальцами грязь. – Ты не одна боле, я с тобою. Все проходит; и гэта про́йде. – Дык вот, я осталася, – будто не слыша ее, продолжала по-детски рассудительно говорить Нинка, – и пошла, значит, в сортир до ветру; Петька там в люльке угукал, на минутку его одного оставила. Захожу я, значит, в тувалет, присела. Чую – чегой-то щекочет за дупу и ползет прям с дырки, из дерьма. Глядь – а стенки все в тварях ползучих! В тараканах, жуках черных, каракатицах всяких. Ну я их и давай бить, тапком! Всех побила, до одного! Стены все в крови ихней, а я устала, значит. Акулина сглотнула вязкую слюну. Ей стало не по себе от рассказа девочки; а еще изнутри головы било пульсирующим звоном, от которого вновь захотелось блевать. – Так, продолжай… – А чаго там продолжать? Эх… – по-прежнему глядя будто внутрь себя самой, Нинка махнула рукой. – Выхожу я, значит, с сортира, уставшая вся – стольки их поушибла. А тама все в жуках! В огороде ползают, в коровник заползли, море их, мирьяды, кишат прям, як каша-малаша шевелятся; я, значит, тапок беру и давай их бить всех! Все в крови ихней, я сама вона, забрызгалась уся, аж платье сняла, – она указала смущенно на свое окровавленное, искусанное, покрытое синяками тело, – ну шоб бить их сподручней было, значит. Перебила всех, значит, в огороде, в коровнике. Выхожу на улицу, за плетень, а там – глядь! – И там жуки, да? – И там! – закивала Нинка. – И там, тетушка, и там! Усе кругом в жуках! Чернющее усе от них, ползают всюду! Беру я, значит, тапок, и давай их бить усих; так устала, мочи нет. Добегла я, значит, до пруда, до Млына. И тута три таких жука больших ко мне привязалися. Я их тапком – на тебе, на! А тапком, значит, таких тварюг не поушибаешь. Одного бью – второй давай лезть да за сиську щипать. Второго бью – третий лезет и за ноги кусает… А первый тем часом между ножек тычется – больно так, мочи нет ту боль терпеть. – А за́раз ты этих жуков видишь, Нин? – Бачу, а як же? А ты, тетушка, не бачишь? Вона же они, кругом, повсюду! Черное усе от них. Одна бабочка ладная, – Нинка аккуратно сняла с волос капустницу и дунула – лети, мол, куда хочешь, – а жуки-то страшенные; можа быть, и ты, тетушка, жук? – и Нинка прищурилась подозрительно одним глазом – второй заплыл от побоев. – Не жук я, Нинусь, – Акулина едва сдерживала слезы, глядя на изуродованное лицо девочки. – Ну раз не жук, то и ладно – ты на стрекозу похожа. Я, значит, так разумею – коли тех жуков всех не поушибать, то нам жизни не буде никакой. Верно я кажу? – Верно, милая, верно… – Вона они, везде кругом ползают! – Нинка испуганно огляделась, стряхнула что-то несуществующее с колена. То, чего не могла разглядеть даже знатка. – Ой, кусают-то як! Треба бить их всех, бить! Нинка вскочила, забегала вдоль берега, тряся голой грудью и дрыгая ногами. Закричала что есть мочи, взвизгнула окрест: – Ой, як много их, як жалят-то болюче! Тетенька-стрекоза, спаси мине, будь ласка! Акулина в ужасе увидела отметины между ног девушки: ее явно кусали что есть мочи за ляжки и прямо туда. Кровь все капала с нее, как с подвешенной свиной туши, текла по внутренней стороне бедра. Лиловые синяки покрывали все тело Нинки, белесое в сиреневых сумерках. Нинка запрыгала по берегу, отчаянно пытаясь что-то с себя стряхнуть. Она чесалась, дергалась, как умалишенная. Крикнула знатке: – Тетенька, ну спаси мине! Я не могу ужо; шибко много их. Тетенька-стрекоза, не могу я боле терпеть! Останови это, прогони их! Акулина поднялась на одеревеневших ногах; ее пугал взгляд Нинки, направленный не наружу, а вглубь себя. Та бешено вращала глазами, моргала невпопад, будто не вполне понимая, кто перед ней стоит. Она ласково взяла девочку за руку; та с трудом сфокусировала на ней взгляд. Акулина осторожно спросила: – А что, Нинусь, пойдем, я тебя умою, вон ты какая замарашка? А? Идем? Нинка медленно кивнула. Ведя ее к воде, Акулина с жалостью глядела на калечную разумом девочку – не оправится, поди. Внутри нее уже не разгоралась, а полыхала чернейшим, смоляным пламенем лютая ненависть: к мерзкой троице насильников, к «совестливому немчику», да и вообще – ко всей нацистской мрази, пришедшей на родную землю. За каждый седой волосок на голове Демьяна, за каждый сантиметр той проклятущей ямы, за каждую каплю Нинкиной крови, за каждую секунду ее боли хотелось выдрать по живому трепещущему сердцу из фашистской груди и туда их – в пруд, покуда до берегов не наполнится. А там – вырыть еще один, и еще, как тот кошмарный «огород». И хотелось Акулине выть от бессильной ярости и переполнявшей ее злобы. Так выть, чтоб аж в Рейхе поганый фюрер чаем бы захлебнулся совсем. На что угодно она пошла бы, чтоб сдуло этих мразей прочь, чтобы извести их совсем – из Задорья, из Беларуси, из всего Союза – прямиком к чертовой бабушке. На что угодно, на любой грех. На любой… Акулина завела девочку в воду, умыла ей спину, погладила по телу, забрызганному грязью; та вздрогнула, и знатка, сама испугавшись, провела ей мокрой ладонью по бедру, чтобы смыть корку засохшей крови. Нинка дернулась, плюхнулась в воду, сжав бедра, и завыла в животном ужасе: – Тетенька-стрекоза, все отдам, чаго хошь проси, тока не надо знову! Нема у мине сил больш, нема! Тетенька, будь ласка, не чапай! Не будь жуком! – Не жук я, Нинусь. – Як кажешь, тетка, то не чапай, як они, молю! – Девочка сжалась в испуге, сидя в воде и будто ожидая очередной порции мучений. – Не кусай так болюче! Не чапай тама! Акулина кивнула, и Нинка успокоилась. Ласково умывая длинные светлые волосы девушки, знатка спросила: – А ты, Нинусь, сильно жуков боишься? – Шибко, шибко; не чапай, як они, больно так было! Не треба боле! – Не чапаю, не бойся, милая. А хочешь, Нинусь, никогда больше не бояться? И чтоб боли не было? И жуков? – Хочу, хочу, стрекоза милая; не пужай больш, будь ласка! Не будь жуком! – Забудь про жуков, милая моя, – сказала Акулина и резко окунула Нинку в воду, цепко ухватившись за волосы. Спустя полминуты девочка задрыгалась; молодое тело рванулось наверх в желании выжить, но знатка налегла что есть сил, навалилась сверху. Забулькали пузыри выпускаемого из легких воздуха. Нинка сопротивлялась, рвалась из воды – откуда столько силы осталось, – а легшая сверху Акулина шептала: – Две минутки помучайся, милая, и все жуки исчезнут. Наверх всплыли два крупных пузыря, тело под руками дернулось. Акулина заплакала, но не отпустила; хотя больше всего в жизни ей хотелось отпустить. Нинка засучила руками, ударила мучительницу по ляжке. Та ухватилась еще крепче, как могла. – Две минутки всего отмучайся… И никакой боли; я за тебя в Пекло уйду, а ты, милая моя, на небушко попадешь. Давай уже, ну! Нинка дернулась напоследок и ослабла, испустила дух. Акулина оттащила труп в воду, поднимая ил со дна сапогами. Оттолкнула подальше, где глубина, и тело изнасилованной девочки отплыло, начало медленно погружаться ко дну. Ее недоверчиво распахнутые глаза отражали сиреневое вечернее небо, глубокое, как море, и столь же безразличное. Испустив рой пузырей напоследок, Нина, дочка колхозника Афанасия, исчезла навсегда, утопла в мутных водах Млына, запуталась там в рогозе да водорослях и больше не всплывала. Там она и пропала без вести, и никто не узнал о ее судьбе. Утирая слезы, знатка крикнула в пустоту: – Довольны? Теперь есть на мне смертный грех. Ну, покажись, отродье пекельное! Скосила Акулина глаза изо всех сил – ажно лоб заболел, и увидела: стоял по колено в воде долговязый, черный, страшный. Мытарь. В одной руке клещи хищно гнутые, вторая к Акулине тянется, а рожа – не рожа, а образина: зубья-зубья-зубья без конца, как будто никаких других органов ему и не надобно. За разросшейся на всю морду пастью белели как будто недоразвитые или атрофировавшиеся за ненадобностью зенки, ползли к самому затылку. И сказала тогда Акулина желание свое заветное. Тут даже Мытарь не сдержал удивления – развел тощими руками, мол, не по званию мне твое задание. Однако ж научил, что надобно сделать, чтобы с высшими чинами побалакать; вынул из воды размокшую тетрадку старой бабки Купавы, совершенно целую, раскрыл в нужном месте – отсутствовавшие ранее страницы вырастали из середки, что поганки после дождя. И текст на них написан был уже не молоком, но кровью. Акулина читала, наполняясь ужасом: страшное дело предстояло, грешное – и, одновременно, решимостью – теперь она знала, что нужно делать. Имя нужного черта – поставленного главным над этой войной – втемяшилось в мозг, как тавром выжженное: Раздор. Пропал Мытарь – будто растворился в ночной мгле. Акулина вышла на берег, села. Ударилась в слезы, навзрыд, отчаянно. К горлу подступил горячий ком, и знатка не сумела удержаться, ее стошнило вновь под ноги: изо рта полилась густым потоком желчь, бурая и вязкая, как кровь. При виде вытекшей наружу пакости затошнило пуще прежнего. Тяжело поднявшись на ноги, Акулина заковыляла к деревне. Над прудом жужжали комары. Летняя ночь навалилась тяжко, обняла землю тесными объятиями.

– На том история и кончается, – задумчиво сказала Акулина, откладывая в сторону ножовку; решетка на окне едва держалась, – а остальное уже за тобой – тебе сказку-то завершать. Хочешь ведь с Демой за Аллочку свою поквитаться? Кравчук кивнул, с трудом удерживая слезы. Ему было жаль и Акулину, вынужденную сотворить такое, и бедную Нинку (ее отца, Афанасия, он знал), но больше того, до одури жалко себя за свою потерянную жизнь – и должность бывшую, и сыновей-близнецов, и не виновную ни в чем Аллочку, конечно же. А кто виноват?.. К кому он за помощью обратился? – Демьян, ш-ш-шука… – просипел он беззубой пастью, сжимая кулаки. – Да-да, это он, Женечка, Аллочку убил, – кивала Акулина; ее прохладные пальцы взъерошили гриву Кравчука, отросшую за месяцы нахождения в диспансере. – Он все твои беды создал; а я тебе скажу, как так сделать, чтоб ему плохо стало, чтоб он пожалел обо всем; доложу, кто ему, гниде, дорог, чем он взаправду дорожит. Знаешь, кто Дему боле тебя ненавидит? – Кто? – Я! – Акулина осклабилась белозубой улыбкой: теперь-то у нее каждый зуб на месте. – Все положу, лишь бы должок с него спросить! Душу бы продала, да души у меня больше нет, не в моей власти она; перезаложена по сто раз. Ну как, ты готов? Кравчук молча кивнул. Акулина зашуровала тонкими, но сильными пальцами, освобождая дурака от ремней: один ремень ослаб, и Кравчук дернулся в путах раз, два, высвободил правую руку. – Тише, тише, не торопись, милый, – хохотнула Акулина, ослабила другой ремень, а председатель выпростал вторую руку. – Сейчас ножки твои освободим, да прыгай в окошко, как кузнечик; не разобьешься, там травка понизу. Он кивнул, в нетерпении ожидая, пока она его отвяжет. Стоило ему освободиться, как Кравчук вскочил, от души, крепко обнял Акулину; ему, правда, почудилось, что пахнет от нее тухлятиной и горелым. А кожа рыхлая, как земля. Он непроизвольно отпрянул, но Акулина не обиделась, сунула ему что-то в руку: – Для дела тебе. – Это щего? – Возьми, – сказала она, – пригодится тебе, не потеряй. Это вещь важная – зуб киловяза настоящего. Сила в нем пекельная, немереная. Ты его при себе держи, и тогда никто тебе не указ! – Жуб кого? – недоуменно спросил Кравчук, разглядывая странный подарок – в ладони у него и впрямь лежал зуб – кривой желтый резец, немного еще кровавый у корня. – Колдуна одного знакомого… Неважно. Прыгай ужо, не медли! – Синеглазая медсестра чмокнула его в щеку, обдав напоследок ароматом гнилья и тухлых яиц. – Увидимся! Кравчук взобрался на подоконник, толкнул ре- шетку – та уродливой снежинкой полетела вниз; ему открылась долгожданная свобода. В глаза ударили лучи летнего солнца. Кравчук почти уже ступил наружу, как вдруг: – Евгеша, ты куды собрался? Бывший председатель Задорья оглянулся. На него смотрел, моргая от удивления, проснувшийся дед Тимоха, один из постояльцев дурдома. Акулины в палате не было, будто испарилась она. Кравчук с хитрой улыбкой приложил палец к губам – молчи, мол. Тимоха кивнул, подмигнул – утекай уже, стервец, а я тебя не видал. Глубоко вдохнув, Кравчук сделал шаг вперед и выпрыгнул из окна – навстречу свободе.

Вспыхнула свеча. Стоило Максимке увидеть нечистого, как он взвизгнул от испуга, шагнул назад, пытаясь нашарить ладонью ручку дверцы. – Дядька, там черт! – Да якой же ж гэта черт, дурань? – засмеялся Сухощавый. – Ты б коли хоть мизинец чертов увидал – умишком бы уж тронулся! Ты глянь – гэта ж висельник! Максимка пригляделся к смеющемуся существу, которое он сначала принял за черта: и впрямь, никакой то не черт, хотя чертей он ни разу не видел. Просто мужик в шапке-ушанке. Сам он был весь закопченный до черноты, как африканский нигра; а смеялся он и хрипел, отводя глаза, даже не глядя на гостей: как если б веселясь над чем-то, ведомым ему одному. Его шея была неестественно вытянута и на ладонь длиннее нужного – будто тот напряженно высматривал что-то вдалеке. – И чаго он ржет? – поинтересовался Максимка. – А бес его знает… Давай и спросим? Э, мужик! Мертвец пугливо уставился на них, впервые по-настоящему заметив: – Кто тута? – Да мы же ж! Вона я, пред тобой стою! – Сухощавый сделал шаг вперед. – Няужо не бачишь? – Иди отседова, хер старый! Не то я табе… – Мертвец дернулся вперед, но не сдвинулся и на метр – на шее натянулась веревка, изо рта сочилась густая темная пена. – Чаго ты мне, по спине накостыляешь? Так ты ж дохлый! – Кто дохлый, сука? – Ты, дурань в шапке! Сканался зусим, коня двинул! Вот тибе веревочка и не пускает. – Яка-така веревочка? – А вот… Сухощавый указал глазами на потолок, висельник в шапке проследил за его взглядом – от потолочной балки тянулась длинная бечевка, приковавшая его за шею к банной полке. Видать, повесился, понял Максимка, и отковаться не могет от веревки; так и мучится уже незнамо сколько. Сам себя на муки обрек, во дурак. – Нема там ничога! – уверенно отвечал мертвец. – Ну нема дык нема… Зато ясно, шо не в Пекле ты – веревкой привязан, покуль не стлеет, так и не откуешься. Самогубец ты, братка, до Страшного суда так и просидишь на лавке жопой. – Ща встану – моргала повыколю, сука! Ты бабу мою пярдолил, гнида? А я из-за яе… Я из-за яе… – Чаго? Удавился, да? Висельник уставился на них, будто что-то вспомнив. Обернувшись к Максимке, Сухощавый подмигнул: – Видал? Все они так. Баба ему изменила – а он в петлю полез. А зараз сам того понять не может. Смертушка – она вон как мозги выкручивает, набекрень. – Дядька Мирон, а разве самогубцы не в Пекле сидеть должны? – Ну ты чё, пацан, як не тутошний! Это в их Европах всё по строгим правилам: насильников, значится, в одну шеренгу, убивцев в другую. А у нас закон як дышло – и в Пекле то же самое, оно ж тоже нашенское. А ты запомни – все они, бабы, суки, не можно из-за них на себя руки накладывать. Будь мужиком! – Сам ты сука… – мрачно сказал черный мужик в шапке. – А моя Аленка хорошая… У ней, знаешь, очи якие зеленые?.. – И сиськи небось тоже, того, зеленые, – хохотнул киловяз. – Млядь твоя Аленка! А звать-то тебе як, крэтын? – Данилой при жизни кликали… – грустно ответил мертвец. – Тока я дохлый, походу. Я ужо зразумел, не повторяй. – А детишек тута не бачил? Вот таких, малехоньких, мальчика с девочкой? – Ну бачив раз… – И хде они? – Сюды их затягнули, а дальше я не бачив, мне так нагнуться не судьба, – Данила показал черным пальцем под потолок. – Баба их страшэнная волокла, вось сюды, под ноги мне утащила. Они супротивлялись, плакали, да я помочь не мог. Тама гляди – не промахнешься. Боле ничога не знаю. – А чаго рагочешь, сена хочешь? – Хрипел… Веревка горлу давит. – Ясно – неинтересный ты. Сухощавый деловито взял свечку с полки. – Возьму? – Да бери, не жалко. Киловяз кивнул и показал Максимке глазами – иди, мол, за мной. Далее Сухощавый встал на четвереньки, выпятив костлявую дупу. И полез прямо под полок у ног мертвеца, освещая путь свечкой и матерясь; все было в паутине, шуршали в темноте крысы да косиножки всякие. Максимка нерешительно остановился у банной полки; Данила-висельник боле не обращал на него внимания и вновь погрузился в свой мир, начал хрипло хохотать – как сумасшедшие хохочут, не от радости, а так просто. Без света свечки стало совсем темно, хоть глаз выколи. Сухощавый недовольно крикнул из-под полки: – Ну ты хде, малой? Долго табе ждать яшчэ? Со вздохом Максимка полез под полок, в темноту, где уже вдалеке мерцал огонек свечи. Он полз, шустро двигая локтями и коленями по прогнившим доскам. – А куда мы, дядька Мирон? – В баню ползем! – Мы ж и так в бане! – А, дык то, где мы зараз были, не баня даже, а предбанник; баня-то настоящая далей буде, до нее тольки доползти треба. Ты давай там, гэта, не теряйся, на свет ползи. Баня, предбанник… И о чем это он? Максимка послушно полз следом, собрав на себя всю паутину; совсем рядом шмыгнула крыса, ее собратья громко запищали из непроницаемой тьмы. Огонек свечи метался впереди, грозя погаснуть, но Сухощавый прикрывал его ладонями, ежеминутно оглядываясь на Максимку: – Ну ты хде там, пацан? – Да ползу я, ползу! Максимка понял, что он устал. Что-то долго они ползут… Будто под землю давно ушли; баня-то размером с пяток саженей, а они уж сколько здесь? Крысы давно умолкли, не слышно было ничего, кроме пыхтения киловяза. Только огонек свечной мечется, больше ничего не видать. – Дядька Мирон! – Да чаго табе? – А где мы ща? – В бане, йоб тебя за душу! Не вздумай тока назад ползти – зусим потеряешься. Давай, ручками-ножками, и вперед! И сам задвигался быстрее прежнего, так, что не угонишься, хоть и хрыч старый. Максимка тоже поднажал, пытаясь не отстать от киловяза. Световой круг мелькал впереди, он судорожно, чувствуя уже боль в коленях, догонял старика и думал, что никогда больше под банный полок не полезет. Тут свет пропал. Максимка остался один в кромешной тьме, напоминавшей пустоту космоса. – Дядька, вы где? – Заблукал, шо ль? – раздался смешливый голос киловяза. – Сюды ползи, огузок! Он рванулся на звук голоса и туда, где в последний раз видел свечку, и внезапно выпал из-под банной полки. Сухощавый помог ему встать, отряхнул со спины налипшую паутину. – А вот зараз мы в бане! Увидев, куда они попали, Максимка захотел вновь забраться под полок. Перед ним была вроде как бывшая «черная» баня, только куда больше размером – ее края терялись во тьме, освещаемой всполохами пламени; будто бы там, вдалеке, работал громадный сталелитейный цех. Но то было видно под самым потолком с черными закопченными досками, едва различимыми из-за повисшего здесь вонючего пара; а если опустить взгляд, наткнешься на бесконечный ряд кривых бревенчатых стен вдоль длинных банных полок, на которых восседали в ряд уродливые фигуры – высокие, низкие, толстые и худые, но все, как один, потемневшие до черноты. Кажется, коснешься – и рассыплются в пепел, как угли перегоревшие. Стены образовывали причудливый лабиринт, терялись в клокочущей вспышками пекельного огня полутьме, а сидящие внутри уродцы шипели и переговаривались вполголоса, ополаскивали друг друга грязной водой из шаек и терли, терли свои тела пенящимися обмылками, сдирая кожу до серого, вываренного мяса. Максимка, распахнув рот от удивления, глядел на ближайшего урода – тот настолько настойчиво тер голову, что докопался до спекшегося белого мозга и шерудил в нем пальцами, покуда череп не зарастал обратно, и все начиналось сызнова. – Зараз грешки все смою, да на небушко уйду… Надобно умыться по-людски, шоб грешков не осталося… – шептал другой посетитель странной бани, шоркая черную кожу на ноге так усердно, что обнажившаяся бедренная кость аж блестела, отполированная до идеальной белизны. – Ну чаго ты не смываешься, да она ж сама напрашивалась, я ж на полшишака всего, ну уходи уже, уходи, оставь мине в покое! – хныкал третий, поблизости, пытаясь намылить огромного размера полусгнивший струк; от того так дюже воняло, что Максимку замутило. В дыры слива стекала, закручиваясь спиралью, мыльная грязная вода. Кто-то хлестнул водой из черпака, на сапоги брызнуло; Сухощавый отскочил назад, брезгливо поморщился. – Под ноги гляди, малой, не то подцепишь яшчэ чаго. Гля, якая антисанитария, йоб их за душу, вымлядков паганых. И откуль вас сюды стольки занесло? То было одного в год пускают, и то под честное слово, а то – аншлаг прямо! – Гэта шо… – Души гэта с Пекла. Грехи отмыть пытаются. Коли кто отмоет, отмытарствует – те на небушко, а кто нет – сгорят, сами Пеклом станут. – Дядька Мирон, дык гэта, выходит, ребятишки здесь где-то? – Стало быть, тут, – кивнул киловяз, внимательно разглядывая ряды черных стен и умывающихся посетителей. – Треба пошукать их скорей, покуль они сами умываться не начали. Представив малых мальчика и девчонку, которые «моются» в подобной компании, Максимка сглотнул и первым сделал шаг в деревянный лабиринт из перекошенных, склизких стен. Сухощавый хотел что-то сказать, предостеречь, а потом махнул рукой и направился следом. Максимка дошел до поворота, свернул наугад налево, пытаясь держаться подальше от банных полок, где, как вороны на шесте, сидели рядком моющиеся, стонущие, шепчущие под нос грешники. Свернул еще раз, третий, шагнул за угол и оказался… там же, откуда пришли. Он узнал широкую банную полку, из-под которой выполз пять минут назад, намыливающего конский струк уродца, широкий слив для воды, напоминающий дырку отхожего места. – Ага, вона как, да… – хмыкнул за спиной Сухощавый. – Гэтак мы далёко не ушагаем, пацан. Давай-ка иначе сделаем. Э, слышь, малахольный, а где банник тут у вас? Али обдериха хотя бы? Грешник поблизости отвлекся от умывания своего хозяйства, испуганно поднял на них взгляд, только сейчас заметив. Глаза у него были выцветшие от усталости и белесые, явственно заметные на фоне закопченной черной кожи. – Якая-такая обдериха? – Хозяйка бани, крэтын, жонка банникова! – прикрикнул на него киловяз. – Шо ты, совсем разум потерял? – А, хозяюшка… Дык тама она, всегда направо сворачивайте… – У, я тебе! Сухощавый замахнулся на него, грешник-насильник сжался, закрыв лицо руками. – И откуль их всех надуло-то? – удивился Сухощавый. – Знать, тут Пекло ближе, чем я тумкал… – Пекло рядышком, ага, всего-то ничего, – подобострастно кивнул грешник. – Коль побачишь кого с начальству – кажи им, дядька, шо я не насильничал ее – гэта самадайка сама хотела! Коли млядь не захочет – кобель не вскочит, сам знаешь. – Хотела, як же, знаем мы вашу породу. Пшел под шконку, маркитун сраный! – крикнул на него киловяз, и насильник, смешно вертя закопченным до черноты задом, шустро заполз под полку, выглянул оттуда белыми вареными глазками. Сухощавый мстительно опрокинул шайку с кипятком. Вода брызнула вниз, ошпарила насильника, и грешный маркитун завопил от боли – черная кожа сползала с него кусками. Ошпаренный дергался на полу, шипя и дрыгая ногами. – Пойдем, пацан; неча табе тут разглядывать. – А за шо вы так его? – Знасильник он – сам же слыхал. Поделом ему, гниде. Вообще нехорошая баня – я такого, чес-сказать, ни разу не видал, – признался Сухощавый, шагая по коридору между сгоревших душ грешников и стараясь не наступать в лужи, – коли и есть где гиблое место – дык гэта оно. Видать, сквозняком надуло. То тута, малой, здается мне, не сквознячок никакой, я табе кажу, а дырень цельная; бачил гэтых уродов? Не должно их тут быть. Банник не допустил бы. – И банника, знач, нема? – спросил Максимка. – Верно, верно, сметливый ты пацан! – Сухощавый взъерошил ему волосы, непроизвольно повторив жест Демьяна. – Банника я покуда не наблюдаю, хотя он и должен всю гэту погань отсюда метлой гнать. Но обдериха, кажут, здеся, ее и пошукаем. О, не твой ли дружок за нами увязался? Максимка оглянулся: и впрямь, за ними аккуратно следовал суседко, прячась за углами и по-прежнему стараясь не показываться. В груди потеплело от благодарности – он понял, что суседко последовал за ним едва ли не в преисподнюю, лишь бы защитить, уберечь от опасности. От избытка чувств Максимка даже всхлипнул, подавил подкативший к горлу ком: – Никогда боле тебя страшидлой не обзову… Колобком разве что. Склизкий шар согласно подпрыгнул из-за угла и вновь пропал. Они шли по лабиринту из завалившихся набок, почерневших стен довольно долго – Максимка уже начал думать, что они заплутали. Не останавливаясь и не задумываясь, киловяз всегда сворачивал направо, и таких поворотов было уже с десяток. «А может, грешник нас обманул?» – подумывал уже Максимка, когда они наткнулись на нечто новое. Стены расступились, и стало видно, откуда сияли вспышки пламени, похожего на вулканические взрывы. К противоположной стене необъятной бани с грешниками привалилась кособокая печь – огромная, чернющая каменка; из печного притвора полыхал жаркий огонь, озарявший все кругом красными всполохами. Воздух был пересушенный, драл глотку, будто сажей дышишь. Разом сперло дыхание, да и Сухощавый закашлялся хрипло. Максимка отступил назад и даже присел на корточки, чтоб вдохнуть. Тут-то он и заметил шевелящуюся груду – выглядела она настолько странно, что поначалу и не понять, что там такое. А когда разглядел получше – едва не блеванул под ноги от омерзения. Это были младенцы. Огромная куча-мала слипшихся, сваленных кучкой младенцев – да и не младенцев даже, а зародышей с миниатюрными ножками, ручками, с разинутыми маленькими ртами. Розовые глотки за беззубыми деснами издавали жалостливый плач, и куча перекатывалась туда-обратно огромным колобком, задевала краем горячий бок печи – тогда в воздух поднимался смрадный запах горелой плоти, а нерожденные младенцы пищали в унисон. Сухощавый склонился, прижимая ко рту рукав, и прошептал в изумлении: – Ох ты ж, елки… Гэта шо яшчэ за халера такая? «Дядька, пойдем домой?» – мелькнула малодушная мысль, но тут Максимка вспомнил, что где-то здесь, в преддверии Пекла, находятся двое малых ребятишек, ни в чем не виноватых. – Гэта и есть аборты, да, дядька Мирон? – прохрипел он, осознавая значение недавно узнанного слова и в ужасе глядя на кучу людских зародышей, слипшихся друг с другом, как пластилин. – Они самые… Аборты, мля… Ох ты ж елки… – весь словарный запас киловяза куда-то исчез – подобного кошмара и сам он явно не видывал за всю свою богатую биографию. Груда вдруг вздыбилась, как волна морская, и покатилась на незваных гостей – прямо личиками по неструганым доскам. Сухощавый было выкрикнул какой-то заговор, но туша не шелохнулась, перла как танк. Врезалась в киловяза, приперев его к стенке. Тот сдавленно охнул. Когда груда отхлынула, на рубахе Сухощавого тут же распустились десятки кровавых «бутонов» – точно множество маленьких ротиков выхватили по куску мяса. А слипшаяся груда повернулась, вякнула что-то и поплыла на Максимку. Тот, согнав оцепенение, сыпанул перед собой соли из кармана, как учил Демьян, но слипшиеся младенцы безразлично прокатились по рассыпанным кристаллам, как огромный слизень. – Бягай, дурань! Тут-то он на своей территории! Максимка было рванулся направо-налево, но «аборты» как-то хитро растеклись, беря его в клещи – хоть на потолок лезь. Вдруг перед искаженными постоянным плачем личиками подпрыгнул маленький склизкий мячик, и жуткая масса остановила свое движение. Суседко покатился сперва вправо, потом влево, а потом и вовсе закрутился на месте юлой, будто приглашая своих собратьев по несчастью в игру. Младенчики захохотали, да так, что у Максимки сердце пропустило удар, а суседко тем временем ловко перепрыгнул тушу и откатился вглубь деревянного тоннеля. Остановился, подпрыгнул на месте, мол, айда за мной. И кошмарное создание, состоящее из бабьих грехов, собралось обратно в кучу и поползло следом за новой игрушкой. – Пригодился игоша твой, отвлек, – выдохнул киловяз, потирая грудак. – Ну шо, по́йдем глянем поближе, чаго там творится? Печь, казавшаяся сперва нормального размера, все никак не приближалась, и стало ясно, что не печь это, а гора целая. А у подножия горы – мелкая совсем – суетилась еще одна фигура. Тоже черная, тощая, в каком-то тряпье, она, однако, отличалась от прочих грешников – чувствовалась в ее поведении деловитая суетливость. Приглядевшись, Максимка увидел страшную бабу – была она худая, как жердь, с желтыми кривыми зубами и зелеными глазищами, блестевшими в исходящем от печи свете. Одета не то в полотенца, не то в простыни и совсем крохотная, что твой карлик: Максимка осознал, что тетка ростом ему по пояс. – Дядька Мирон, обдериха! Вона, там она! – воскликнул Максимка, указывая пальцем. Обдериха приоткрыла печной притвор кочергой – оттуда полыхнуло пекельным жаром, обдало всю баню так, что послышался гул пламени; а низкорослая баба никак не отреагировала: на морщинистом лице отразились все страдания Пекла, и оттуда, из печи, раздались истошные крики грешников. Обдериха с удовлетворением потерла руки и направилась к странной дровяной куче неподалеку. – Вось так, вось и согреетесь нонче… – Э, ты чаго там творишь, курва? – крикнул Сухощавый. Обдериха оглянулась, ощерив густо облепившие десну зубы: – А-а, якие люди к нам с Яви жаловали! Явился не запылился, колдун-млядун! Знаем мы тебе; ну ничога, скоро тоже там окажешься, сгрызут плоть твою черти, обглодают тебе до косточек! Позабавятся с тобою всласть, грехов-то на тебе поболе многих! Тут Сухощавый даже разговаривать не стал – достал чего-то из кармана, перетер, сплюнул в ладонь с чертом Ныробом да промолвил два Слова; показал бабе кукиш с обгрызенным ногтем. Максимка удивленно наблюдал, как Обдериху скрючило в три погибели, прижало к полу. Оназаверещала жалобно, а киловяз шагнул к ней и нажал подошвой сапога на голову. Склонился, спросил с кривой усмешкой: – Ты мине шо, попутала с кем-то, сука старая? Я киловяз, а не струк собачий. Удавлю, сволочь! – и придавил сапогом так, что Максимка увидел, как маленькая голова обдерихи начала вжиматься в пол, как под прессом. А сама она заблажила, завизжала в ужасе. – Дядька Мирон, стой! – воскликнул Максимка. – Ты чаго, пацан, за гэту суку вступаться вздумал? – Сухощавый обернулся, и Максимка понял, что теперь киловяз совсем не похож на старика – плечи его раздались, борода укоротилась, седина вся пропала – в общем, он словно помолодел лет на тридцать. – Она, тварь такая, не зразумела, кто перед ней! Я с Пеклом на вась-вась всю жисть; а мине якая мразь указывать буде да угрозами кидаться, а? Да я ее!.. – Стой, дядька, не трожь ее; давай хотя б побалакаем значалу! Мы с Демьяном так не делаем… – Да плевал я на твоего Демьяна! – А на меня? – применил Максимка последний аргумент. Киловяз поколебался, зыркнул на него из-под бровей. Поднял сапог. – Лады, держи; бес знает, на кой она табе сдалась. – Ну хотя бы ребятишек спасти, – рассудительно сказал Максимка. – Иль вы забыли, на кой мы сюды залезли? – И впрямь, дурань я старый, – досадливо крякнул будто бы помолодевший киловяз и тут же прикрикнул на скорчившуюся у ног паскудь: – Слыхала, шо пацан сказал? Где дети, сука? Признавайся, тварь, а не то я башку табе отвинчу! Обдериха поднялась на колени, дрожа и пугливо зыркая мелкими, похожими на блестящих жужелиц глазками. Неказистая, страшненькая да горбатая, она чем-то напомнила Максимке знакомого палявика – точь-в-точь такая же обезьянка из мультика, только не рыжая, а чернявая и вся растрепанная, со сморщенной недовольной рожицей. «Но глаза яркие, красивые», – невпопад подумал Максимка. Зеленющие! – Вы его не слухайте, он вас не тронет, – стараясь не торопиться, успокаивающе произнес Максимка. – У нас в Задорье девчонка пропала, Настюшкой звать. И яшчэ хлопчик, как бишь его? – Егорка, – буркнул Сухощавый, с отвращением глядя на навью тварь, что сидела скрючившись и едва ли не прижавшись к пышущей иномирным жаром печке; стоять рядом с печкой было, к слову, тяжко, Максимка вспотел весь с ног до головы и зажимал рот ладонью, чтоб не вдыхать горячий воздух, вонявший серой. – Во-о-от, и Егорка… Не у вас ли они тута? Обдериха гневливо открыла рот, будто бы для брани, но увидела зверское выражение лица киловяза; в ее полубезумной голове явно некая шестеренка встала на нужное место, и паскудь решила не связываться. Она ткнула тоненьким, как у ребенка, пальчиком за спину. – Та вона, где остальные дрова… Максимка кинулся в ту сторону. У стены за печкой были свалены в неряшливую кучу никакие не дрова – а кости, пожелтевшие да поломанные. Каких тут только не было – и человечьи, и звериные, даже коровий череп обнаружился. Вот так дрова! Там, среди костей, будто в шалаше, и прятались два маленьких тельца, прижавшихся друг к другу; их глаза блестели от испуга. Мальчик и девочка, в одном нижнем белье, грязные как чертята, маленькие, как крольчата, и все в поту, будто из бани. Хотя чего «будто»? С бани и есть! – Настюшка, ты? – Я, – пискнула девочка. – Иди сюда, милая, я не обижу. И ты иди. Ты Егорка, да? – Да, дядька… – Да какой я дядька? Идите, идите сюды; вас родные обыскалися ужо. Домой вас отведу. Эх вы! Лучше места заховаться не нашли, шо ль? – спрашивал Максимка, вытаскивая детей из костяного развала. – Ну вот и усе, вот и конец табе настал, сука драная. Зараз я тебе в рог бараний загну – любое Пекло Раем покажется, – с предвкушением ухмыльнулся Сухощавый, закатывая рукава и нависнув над обдерихой. Та сжалась в комок, пугливо закрыла лицо маленькими ручками. Приготовилась к смерти, значит. Максимка, глядя на грязных дочерна детей, был в принципе согласен с Сухощавым – ему тоже хотелось прибить мелкое чудовище. Но неожиданно для себя самого он крикнул: – Дядька Мирон, стой! – Да чаго табе опять? Знову пожалел ее? – Давай хотя б выслушаем ее! – Да-да, вы мине-то послухайте! – затараторила обдериха, утирая сопли. – Я зараз осознала усе, с всем согласна, миленькие: порченая я! – В смысле – порченая? – хмурясь, спросил Сухощавый. – Ну, мужа у мине нема, значится. Сгубили моего банника, одна я осталася, вдовая да никому не нужная. А одна баба в доме – воз не идет, так кажут. Баню-то забросили, а печь-то горит-горит и разгорается. Раньше муж-то сам то прикроет, то откроет, а я и так и сяк, а она знай себе пышет, шо горн твой кузнечный; и говорят оттудова, шепчут мне беспрестанно голосами разными. Ну я и давай их слухать, дура. Баба ж я, вы мине пожалейте, ну? С мине спросу нема! – Продолжай, говори! – Ну вот, – продолжала обдериха, боязливо поглядывая на киловяза и молодого знатка, – они мне шепчут, значится, а я, дура, и давай прислушиваться. Распахни притвор пошире, кажут! Я и распахнула. А оне поперли – черные, горелые, и давай по лавкам рассаживаться да мыла требовать. Я туда-сюда, тут шайка, тут мочалка, да поди за всем успей. Уселась, притомилася, а оттуда с печи опять голос – «подтопи», говорят, «холодно нам тута». Я и подтопила – дровами. Они и говорят – ты чаго, совсем дурная, кто ж Пекло дровами топит? Нам плоти подавай да костей! Я могилы разрывала, крыс-мышей да хорей ловила-швыряла, а они: больше, больше надо! Я и взъерепенилась тады – а мне-то, говорю, оно на кой? Оне мне мужа и пообещали… – Мужа? – одновременно спросили Сухощавый с Максимкой, переглянулись в недоумении. Максимка сжимал за плечи ребятишек, крепко, чтоб не сбежали куда. – Ну да, мужа… – всхлипнула жалостливо обдериха. – У меня ж мужика-то двадцать лет и один год не было, как мой банник помер! Если бы вы, мужики, знали женскую тоску по сильному плечу… А они мне там, из печки, кажут – буде табе мужик, да такой, что ох! – все бабы нечистые обзавидуются. Вот я и топить-топить, шоб разгорелося… – А младенец-то откуда? – спросил похолодевший от ужаса Максимка: он даже прикрыл детям уши, чтоб не слышали, не знали того, что скажет обдериха. – Дык дите то мое. Баба нерадивая к повитухе придет, та травками напоит, яким-нибудь штырем пошерудит – и баба плод скинет, а оно усе под половицы. А мне их жалко, шо ж я, бессярдешная? Вот их и нянчу – якое-никакое, а дите. Я их, значится, в колобок скатаю, слеплю вместе, шоб не разбежалися – и баюкаю, песни пою. Тольки младшонький мой тож голосить стал, мол, растопи печь да растопи печь. Папку, видать, захотел… То ду́ши горелые, видать, в него вселились. Чертями яшчэ стать не успели, а ужо туды же… Хозяевам своим дорожку прокладывали. – Темнишь ты… – с недоверием прищурился Сухощавый. – А дети-то тебе на кой сдались? Ты зачем, паскуда, с деревни Настюшку с Егоркой выкрала? – Вот клянусь – не хотела я! Мине заставили! – едва не завыла обдериха, увидев мрачный взгляд киловяза. – Мне в уши с Пекла шептали-шептали; я ж завсегда у печки, слушаю их поневоле. Они и говорят – плохо оно все горит, души в нем нет. Ты с душой чего принеси, свежего, мягонького, детского… – И ты принесла, значит? – мрачно спросил Максимка. – С деревни украла? – Принесла, украла… – Обдериха понурилась, сгорбилась. – Виноватая я… Ну хошь, я сама туда, в печку, прыгну? – Детей загубить хотела, курва? – просто спросил Сухощавый, поднимая кулак, а обдериха вновь сжалась в комочек. – Ну и поди в печь. В Пекло табе одна дорога, дрянь такая! Я хоть и сам грешный, но ты… Ты!.. – Дядько Мирон, а кто ж баней руководить будет? – устало спросил Максимка. – Чаго? – Ну вот вы в печь, то бишь в Пекло ее швырнете. Что с баней-то буде? Они ж сызнова полезут! – он кивнул на прикрытый сейчас притвор, откуда и впрямь будто раздавались человеческие голоса. – И эти уж никуда не денутся. И души горелые с абортами… Кто тут за главного останется? Так и продолжится ведь все… Сухощавый задумчиво почесал макушку. – Удивляешь ты меня, пацан. Откуда такой мудрости набрался только? – От Демьяна – он научил. Дык, значит, некого в бане главным поставить? – Некого… – А тебе мужа надобно? – уточнил Максимка у обдерихи. Та просто кивнула – с потаенной надеждой. – И к чему ты ведешь, малой? – прищурился Сухощавый. – Дык просто мужа ей треба найти, вот и вся недолга, – рассудил Максимка. – Тоды и успокоится она, и притвор закроет, и счастлива будет. Бабского счастья шукает. Мужа ей треба – она тогда ласковая станет, да? Вот и банник у нас буде, всю тварь отсюда выгонит да за печью проследит. Обдериха согласно закивала, будто не веря своему счастью, сжала мелкие кулачки. Мужик в доме будет! – А где ж мы ей мужа возьмем? – спросил Сухощавый, задумчиво потеребив бороду. – Есть одна мысля…

Верный суседко вскоре привел висельника Данилу. Максимка сел подальше от печки, посадил ребятишек по бокам от себя – те, в край осоловелые, быстро уснули. Сухощавый сидел на корточках поблизости, курил махорку да отгонял изредка подползавших грешников – те то ли клянчили чего-то, как деревенские алкаши, то ли просто жаловались. Обдериха же просто уселась у притвора, не замечая пышущего оттуда жара, и недоверчиво поглядывала на внезапных благодетелей – и впрямь как маленькая обезьянка. Ее глазки мерцали зеленым во вспышках исходящего из Пекла пламени. Данила пришел, спотыкаясь об тянущуюся за ним веревку. Обгрызенная суседкой, она по ниточке отрастала, становясь все длинней – тянулась обратно к клятой балке. Домовой сразу укатился прочь, исчез с людских глаз. Висельник поглядел на людей, спросил: – Ну? Где моя невеста? Обдериха поднялась, распахнула объятия – была она Даниле едва по пояс: – Вот же я, мой милый, суженый мой! Приди ко мне, стань мужем моим! Разглядев, с кем его решили сосватать, Данила поморщился: – А никого больше нету? – Нету, заткнись! – шикнул на него Сухощавый. – Иль хочешь вечно на полке своей дупу просиживать? Глянь, якие очи красивые! Зеленые, как у Аленки твоей! И гэта не млядь! – Млядь ты знаешь где побачишь? – вскинулся Данила. – Но глазки красивые, спору нет. Тольки уся страшная! Мужики, ну дайте невесту нормальную! – Молчи, дурак! Али в петле остаться захотел? – разом зашикали на него Максимка и Сухощавый, подтолкнули к невесте. – Давай сватайся! Поняв, что иных вариантов у него нет, Данила кхекнул, встал на колено, таким образом оказавшись с невестой на одном уровне. Обдериха так умильно заулыбалась, что мордочка ее скукожилась сотнями морщинок. – А кольцо, кольцо-то есть у него? – испугался Максимка. – Есть, я припас, – ухмыльнулся Сухощавый и вытащил из кармана два скрученных из рублевых купюр колечка. Сунул их Даниле; обдериха сделала вид, что не заметила. – Это… Будешь моей женой? – Буду! – громко крикнула обдериха, и ее радостный возглас пронесся по всей бане, отразился от деревянных стен лабиринта; грешники испуганно сгорбились на лавках, продолжая умываться. – Ну, тады благослови Навь брак сей, да люби ее як сябе, да яшчэ пуще! – по-поповски забасил вдруг Сухощавый, но не удержался, ввернул едкое: – Да пярдоль ее як следует! Объявляю вас мужем и жаной! Тряхануло всю баню и даже сам воздух: будто само мироздание согласилось с таким раскладом. От Данилы повалил густой черный дым, а сам он стал усыхать и уменьшаться; веревка упала наземь и сразу истлела. Когда дым развеялся, выглядел давешний висельник уже совсем иначе. Его всего сгорбило, скрючило; сажа отвалилась, обнажив морщинистую кожу. Ногти отросли и загнулись хищными крюками, а над клочковатой бородой только и зыркали огромные кошачьи глаза зеленого цвету. О прошлой ипостаси Данилы напоминала только длинная и переломленная в середине шея. – Кто в баню мою повадился без спросу? – закричал новый банник, и грешники стали умываться еще быстрее – лишь бы успеть смыть все грехи, пока банник не выгнал. – Ну-ка пошли все отседова! Банный день в субботу, по одному пускаем! Банник схватил потрепанную старую метлу у стенки и помчался вглубь бани – разбираться с непрошеными гостями. Оттуда начали выскакивать черные грешники. Все, как один, они стыдливо сжимали промежность и пробегали мимо, ныряли с разбегу в печь, притвор которой заблаговременно приоткрыла обдериха. Шустро так шмыгали один за другим, как пирожки на заготовку. Последними туда отправились клубы черного дыма, принимавшего будто человечьи очертания, – они вились от маленьких младенческих ротиков обдерихиного дитяти, которого банник яростно, с матерком, колотил метлой. – Верно, туда вам и надо! – с неприкрытым счастьем хохотала нечистая. – Як вас муженек мой новый всех построил, всю тварь с дому выгнал! Идите обратно, в Пекло, откудова явились! Банник яростно махал метлой, выгоняя всех посторонних из бани; сама баня уменьшалась в размерах, стены рушились, оседали друг на друга. Оседала и печь – из пышущего жаром вулкана она превращалась в обычную каменку. Когда последний грешник исчез в печи, Обдериха захлопнула заслонку, приперла крепче толстым бревном да отряхнула ладошки. Путь из Пекла был теперь закрыт; разве что свистел из-под неплотно вставшей заслонки искрами ма-а-ахонький сквознячок. Сухощавый взял на руки уснувшего Егорку, кивнул Максимке: – Молодец ты, пацан; уважаю. Бери Настюшку, да по́йдем. Тут уж они без нас разберутся. – Спасибо вам! Спасибо вам! Дякуем! – в унисон кричали им вслед банник и обдериха.

Ползти наружу с ребенком на руках оказалось еще сложнее. Максимке казалось иногда, что он потерялся под банным полком, застыл навсегда здесь, в густой тьме междумирья. Сухощавый изредка подавал голос спереди: – Сюды ползи, тута я! Ты тока там, пацан, не потеряйся с девчонкой-то; где я вас потом шукать буду? – Добре, – пыхтел в ответ Максимка и тащил за собой тяжелое не по годам тело Настюшки; пожалел даже, что не взял Егорку – тот похудее будет. Девчонка проснулась раз и захныкала, не увидев ничего, кроме тьмы: Максимка утешил ее, как мог, спел песенку про «давайте-ка, ребята, закурим перед стартом…» Когда они наконец выбрались из бани, на улице стояло утро. Раскинулась в стороны Беларусь – зеленая, шелестящая ельником и березами, с пятнами желтых одуванчиков и сиреневого чертополоха. Максимка уложил тяжелую Настюшку на ступеньку у гантака бани, сам сел, отдыхая после трудов. Хотелось спать; в увиденное этой ночью самому верилось еще меньше, чем в бестелят на скотоферме. Еще откуда-то взялось странное желание закурить – то ли от песни, то ли потому, что так всегда делал Демьян, завершив какое-нибудь дело. Помявшись, он все же спросил: – Дядько Мирон, а можно мне махорки? – Табе? – удивился киловяз. – Не рано? А и ладно, я табе не мамка. На! Умеешь хоть? Максимка втянул дым, закашлялся, из глаз хлынули слезы. Сухощавый со смехом отобрал самокрутку. От шума Настюшка проснулась, распахнула глаза с длинными ресницами. Глазам не веря, посмотрела на рассвет: – Дядька, а мы не в бане? – Да якой я тебе дядька… Не в бане мы – ща домой пойдем, к мамке твоей. Приснилось тебе! Ты спи давай дальше – я уж донесу. – И мы с тобой, сынку, тоже до мамки пойдем, – непривычно ласковым голосом сказал Сухощавый еще спящему Егорке: тот пошевелился во сне, что-то угукнул. – Дядька Мирон! – позвал Максимка. – Чаго хотел? – А мне-то чаго зараз делать? Куды мне? – Наставник твой на киче? – деловито уточнил киловяз. – Ага. – Ну вот и будешь моим учеником, покуль его нет. Пошли! Удобнее перехватив спасенного ребенка, киловяз направился в сторону Задорья. Встающее из-за горизонта солнце ярко освещало сожженную деревню.
Исповедь
Когда дверь за надзирателем захлопнулась, отсекая Демьяна от воли, на него не обратили особого внимания. В узком пространстве камеры каждый был озабочен своей бедой. Нары стояли в три яруса. На нескольких все еще спали, несмотря на утро. Проникавший из узкого решетчатого оконца свет едва разгонял дым от чадящих папирос. Воздух был спертый, с крепком душком ношеных портянок. Кто-то кашлял без остановки, стелились по камере невнятные шепотки. Шлепавшие картами по столу трое блатарей едва заметно зыркнули на вошедшего и вернулись к игре. – Доброй ранницы! – по-армейски зычно гаркнул Демьян, перехватывая поудобнее выданный надзирателем матрас. – Тише будь! – зашикали на него из-за стола. – Люди спят! Подь сюды! Демьян пробрался к столу между шконками, бросил взгляд на карты: блатари играли в секу. Исходили паром кружки с темным, как смола, чифиром. Демьян почти кожей ощутил, как его осторожно изучают, ощупывают мажущими взглядами густую бороду, рубаху-лянку и старые, залатанные штаны. В ответ Демьян – бесхитростно и прямо – разглядывал блатарей. – Матрас на ту шконку кидай, – обозначился сразу главный: тощий старикашка, похожий на палявика, кабы того с ног до головы искололи синюшными партаками. Худой, как палка, голый по пояс, с по-обезьяньи подвижными чертами лица. Из-под дергающихся губ то и дело поблескивала золотом фикса. – Ты шо, чьих будешь, хлопче? – Тутошний я, мужик по жизни, – буркнул зна́ток, избавляясь от ноши. – С Задорья буду. А звать Демьян Рыгорыч Климов. – Давай уж фамильничать не станем пока шо. Демой будем кликать, покуда погоняло в зубы не получишь, тем паче ты мне в сынки годишься, – старый вор наметанным взглядом определил, что никакой Демьян не дед, а еще вполне себе молодой мужик. – Я Фикса, будем знакомы. Ты покуль не садись, Дема, сказывай значалу, чаго натворил? Статья якая? Зна́ток назвал статью. Сидевший рядом мелкий суетливый блатной присвистнул, между делом ловко тасуя замусоленные карты-стиры: – Слышь, Фикса, сколь мотаюсь – ни разу такого не слыхал! Шо за статья такая у фраера? – Погодь, Егоза, дай угадаю, – Фикса многозначительно зажмурился, будто перебирая в памяти весь Уголовный кодекс. – Чагой-то с религией связано, да, Дема? – Точно. Нарушение законодательства о религиозных культах. – Дык у нас же ж свобода вероисповедания! Как там в 52-й статье Конституции? Гражданам СССР гарантируется свобода совести… Темнишь ты, хлопче, не могли тебе за такое у каталажку упечь. – Дык я взносы не платил, пять рублев в месяц – за то и упекли. Но это пока шо, мной КГБ занимается. Предлог у них такой. Дале не знаю чаго буде… – Ох ты ж, якой гусь к нам в хату залетел! КГБ, религия! Ты митрополит, шо ль? – хохотнул третий вор – мощный, как трактор, с бычьей шеей и лицом, похожим на видавшую виды мясницкую колоду. Демьян на всякий случай занял позицию подальше от местного представителя «власти исполнительной». – Ша, Каштан, не пужай хлопца! – шикнул на «быка» Фикса. – Не вишь разве – человек срока не отбывал, шуток наших не курил. Ты, Дема, присаживайся, побалакаем с тобой. Я на раздаче! В секу партеечку, а? Он зашуршал колодой и хлопнул по скамье. Каштан и Егоза подвинулись, освобождая место; Демьяну сразу налили кружку густой жижи, сунули папиросу. – Куришь? Махорку-то, небось, отобрали? – Чужого не беру. И чифир не пью. – Да то разве чифир? Это так, чаек! Курево бери – от души угощаю, браток! Демьян закурил папиросу, ловко смяв в пальцах бумажную гильзу. Фикса все тянул свою фальшиво-доброжелательную лыбу, аж уголки рта подергивались. Раздал карты: от внимания Демьяна не ускользнуло, что раздают из какой-то другой колоды, да еще и на четверых, то есть и на него. – Ты уж не обессудь за недоверие, но люди разные бывают, сам знаешь. Бывает такой фармазон заедет на словах, а на деле он – пыль и вша! Иль вообще бабе сикель целовал… А вдруг ты обманываешь нас, честных людей? Зараз прогон по крытке пустим через дорогу, у людей поинтересуемся, кто ты да что ты, а там уж спрос с тебя двойной буде, коль где обманул. Ну так шо ты, не утаил ничего? Демьян пожал плечами. Ему особо скрывать было нечего. – Не поп я. Зна́ток… знахарь с деревни. Скотину врачую, людям кости правлю. Чаго КГБ с меня надо – сам того не ведаю. – Знахарь? О, знахарь – гэта ладно, а то у меня третий день спину ломит. А сам по нации кто? Раз местный, то белорус, выходит? – Ага. Выходит, так. – А откуль? – С-под Минска. – О, зема, значит! То-то я по говору родную душу услыхал. Я сам-то с Барановичей буду. Не поверишь – скольки тута чалюсь, второй месяц, а своих раз-два и обчелся; ну разве шо обиженные есть, а я от того огорчаюсь сильно, западло им руку жать. Минских на другую крытку отправляют, а у нас тут сплошняком все подряд, да с Киева народу много; вона, Каштан вообще немец поволжский. Фрицем бы звали, да он дерется враз, дурная морда, – Каштан при этих словах насупился и почесал разбитые кулаки. – Интернационал, короче! Ну так чаго ты, в картишки перекинемся разок? Банкует пусть Егоза, в тридцать шесть карт играем. Тот уже вовсю шелестел колодою; карты так и мелькали в руках, ловкие пальцы успевали гладить каждую, точно гречу перебирали. «Ага, а это у нас, значит, шулер!» – догадался зна́ток. Он послушно протянул руку к раздаче, понимая, что отвязаться не выйдет. За проигрыш он не переживал – все знатки в азартных играх удачу имеют. А вот вкрадчивый голос Фиксы, ухмылка Егозы, тупой и внимательный – как дуло берданки – взгляд Каштана ему решительно не нравились. Чуялся во всем какой-то гаденький подвох. – А интерес какой? – осторожно спросил Демьян. – О, так ты игрок! Интерес на кону – пачка та- баку. Взамен… Ну шо с тебя взять? Рубаха мне твоя нравится, справная. Вот ее и отдашь. А коль не всадишь – я табе яшчэ колбасы сверху дам, копченой. – Шоб отдать – значалу проиграть надо… – буркнул Демьян, разглядывая карты. Раздали ему, конечно, за милый мой. Но знатка карта любит – с его комбинацией вполне можно было и пободаться. В секу он играл последний раз, когда партизанил. Никто с ним за игру садиться не хотел: все одно в дураках уйдешь. Еле-еле Демьян вспомнил правила, но куда раньше смекнул: колода у Фиксы была специальная, крапленая – вон как ловко в пальцах крутил, будто знал на ощупь каждую карту, где какая масть лежит. Люди в «хате» просыпались: Демьян заметил, что многие сидели на шконках, свесив ноги и жадно наблюдая за предстоящим «забриванием» очередного фраера. Тут и знатким быть не надобно, чтоб схему понять – Фикса всех в пух и прах обыгрывал, а опосля шантажировал карточным долгом. А будешь артачиться – ату его, Каштан! В полутьме камеры виднелись бледные лица, босые пятки, покрытые наколками плечи. Сидельцы кучковались на нарах, приготовившись приветствовать нового товарища по несчастью. – Гляди, Фома, как ща фраер последнюю рубаху проиграет… – Тсс, он же слышит! – Так и шо? Он в руки карты взял? Взял. На кон рубаху поставил? Поставил. Теперь уж от игры не отвертится. А карточный долг, как известно, – дело святое… За такое и глотку вскрыть можливо… – Ша, брехуны! – гаркнул Фикса и обернулся к Демьяну, ухмыляясь: – Ну так чаго, Дема, пасуешь иль на второй круг идешь? – Я пас, – нетерпеливо вякнул Егоза и скинул карты – на стол шлепнулся плохой расклад из разных мастей. – И я, пожалуй, – пробурчал Каштан, даже не глядя в руку. Зна́ток покачал головой, сбросил карты в общую кучу – так, чтоб не разобрать, где чьи. – Не, я пас. Фикса победоносно присвистнул и вскрылся – очко. Каштан ругнулся беззлобно и кинул ему пачку папирос. – Сымай рубаху, фраер! – по-змеиному зашипел Фикса, сверкая зубом. Уже не такой миролюбивый, сейчас он напоминал худого волка, встопорщившего холку при виде добычи. Не споря, Демьян стянул рубаху – ту самую, в которой ходил на свидание с Анной Демидовной. Переоделся вчера для похода в коровник, а вот лянку праздничную снять забыл. Так и остался голым по пояс, и Каштан уважительно цокнул языком при виде поджарого, натренированного крестьянским трудом торса. – Спортсмен ты, шо ль, митрополит? – Дрова рублю, воду с колодезя таскаю… – скромно отвечал зна́ток, с хрустом разминая пальцы. – Эка тебе от дров расперло! – хохотнул Фикса, натягивая большую, не по размеру рубаху. – Справная одежа; жаль, клифта нема, а то я бы совсем як цветной стал. А чаго рукав грязный? С помойки, шо ль, оделся? – Когда гэбисты брали – в грязи извазюкали. Ну так чаго, второй кон играем? «Во дура-а-ань», – послышалось в одновременном вздохе всей камеры. Зэки переглядывались, шептались. Кто-то покрутил пальцем у виска. – Отыграться хошь, фраер? – весело воскликнул Егоза, едва не хохоча. – Есть такая охота. – А шо на кон поставишь? – Фикса прищурился. – Шкары у тебе старые. Ну-кась штиблеты покажь… – Да сапоги кирзовые. Их ставлю и штаны. Мало? Тогда как мне с воли передачу принесут – все отдам. Взамен моей рубахи и пачки табаку. И колбасы ты обещал, коли всадишь. Только банкуй таперь сам. Идет? – Сойдет! Все слыхали? – спросил Фикса у аудитории, сокамерники согласно закивали. – Он сам хотел, никто за язык не тянул! А на банке я посижу, мне не западло. – Ладом тасуй тольки, без мухлежа! – подначил Демьян. Теперь все внимание в камере было приковано к игре. Люди слезли со шконок, обступили тесной толпой стол-общак, переговариваясь вполголоса, чтобы не мешать. Фикса взял колоду и принялся шелестеть картами, неловко перебирая их артритными пальцами. Теперь-то можно было легко разглядеть, как старый вор нащупывает выпуклости, потертости и загибы, подмешивая себе нужную комбинацию. – Хорош мусолить! – усмехнулся Демьян. Фикса резкими движениями раскидал карты. Все забрали свои расклады. – Пас, – сразу сказал Егоза и скинул руку. – Не прет мне масть сегодня. – А я на второй круг, пожалуй, – добавил Каштан, почесывая выпуклый и шишковатый, как у медведя, лоб. – Еще пачку ставлю. – И я на второй, с меня пачка. Ну так шо ты, Дема, пасуешь знову? Вскрываться не будем же? – Та не, и я на второй, продолжаем. Ты ж банкир зараз, а ты по-честному играешь, – с хитрецой прищурился Демьян. – Только пачки мало буде, Фикса, ты ж человек солидный, так шо давай торг вести. – Ну давай, торгуйся. Удиви. – Сорок рублей ставлю! По хате раскатился уже не вздох, а потрясенный стон. Цельных сорок рублей! – Та ему ж очко развальцуют, балбесу деревенскому! – шептались те же болтуны. – Фома, ты такого кретина видал когда? Я – ни разу! Фикса закурил, прищурился еще сильнее – за клубами дыма его глаза казались похожими на две немецкие амбразуры. Старый вор, в отличие от остальных, чуял, что Демьян ведет какую-то свою игру. Только не мог выкупить какую. – Удивил, спору нет! Сорок рублей, гришь? Да не можа у тебе таких мастей быть… Где ж ты сорок рублев сыщешь, фраер? – Где надо – там и найду. Пришлют. – Сроку табе – неделя. А не найдешь – мы ужо с бродягами твою дупу разыгрывать будем, на троих, – после этой шутки по хате раскатился смех. – Разумеешь, о чем я? – Гэта значалу проиграть треба. – Ты и про рубаху так казал, а она таперь на мне, родимая. – Ну дык чаго, ставишь, не? – требовательно спросил Демьян, которому надоела эта пустая болтовня. – Ставлю, чаго б не поставить… Докидывай. – Я пас, – торопливо сказал Каштан, скидывая свой, в общем-то, неплохой расклад – шоху и две дамы разных мастей; отодвинул свою пачку папирос в банк. Зна́ток добавил себе и Фиксе, глянул исподлобья. – Вскрываемся! Вор, презрительно усмехнувшись, аккуратно положил карты лицом вверх. У него были червивая затертая дама, такой же туз и шоха, в общей сумме тридцать два очка. Отличный, выигрышный расклад. – Кранты тебе, Склифосовский, – сипло посочувствовал кто-то со шконки. – Каштан, – лениво обронил Фикса немцу, – как вскроется, держи покрепче, а ты, Егоза – сымай с него штаны и штиблеты. Ой влип ты, Дема-а. На сорок рублев влип! Давай, вскрывайся, браток-милок. Демьян спокойно показал расклад. Пока длилась немая сцена, пододвинул пачки «Беломорканала», лежавшие в банке, поближе, вытащил из одной папиросу и кинул ошеломленному Егозе – тот пялился на него, как на диво дивное, выпученными до красноты зенками. Так на знатка ребятишки в Задорье глядели, когда он изредка фокусы показывал. – Курево возьми, браток. Ты от души угощал, да я в долгу быть не привыкший. Фикса поменялся в лице, недоуменно поглаживая свои крапленые карты, ни разу не подводившие за столько лет службы. На столе лежали три шестерки – самая старшая комбинация в секе, которую невозможно перебить. Карты ж колдовской инструмент. Где есть место случайности – там есть место и бесу, а бес уж всяко любому знатку подмахнет, чтоб в Пекло вернее заманить. – Откуда там… Як ты… – прохрипел старый блатарь, щурясь в попытке углядеть разгадку. – Не понимаю… – Лянку мою вертай, вор. И сорок рублев через неделю жду. А не то ужо твою дупу развальцуют, оно тебе надо – на старости-то лет? В хате начался настоящий вертеп – зэки, не сразу понявшие, что произошло, теперь нависали над столом, смотрели в выпавшую у пришлого фраера комбинацию, брали и перехватывали друг у друга зоновские игральные стиры; таким образом колода вскоре перемешалась, и Фикса, схвативший ее, не мог теперь сосчитать точное количество карт. – Стоять! Руки-руки! – прикрикнул было тот, но поздно. – Откуль пятая шоха? Каштан, у тебя была? Или у тебя, Егоза? Ни хера не понимаю. Гэта ж… чертовщина якая-то! – Рубаху сымай, – напомнил Демьян, повышая голос, чтобы перекричать поднявшуюся суматоху. – Як же так-то… Три шохи? Откуда? – под презрительными взглядами младших товарищей-воров Фикса принялся стягивать рубаху. Из опасного и хитрого блатаря он на глазах превратился в обыкновенного, заплутавшего по жизни старика. – Но як же гэта так, а? Скажи! – Судьба тебе наказала, вор. Знаешь, у мине есть один знакомец, Мироном звать. Он тоже всю жизнь судьбу в карты обыгрывал, в преферанс да в секу, покудова от него Бог не отвернулся. Кстати, на тебя похож… Каштан, сидевший до того молча, неожиданно поднялся и зло уставился на Демьяна. Пробасил: – Вы чего, народ честной, мужики да бродяги, не поняли еще? Он шулер! Обставил нас, стиру с рукава вытащил. – С рукава? – хохотнул зна́ток. – Дак я ж без рубахи сидел. – Да хоть из дупы! – со злобой произнес Егоза, тоже всадивший папиросы. – Откуда пятая шоха взялась, а? – Дык пересчитайте! Кто-то из мужиков и правда раскинул по столу карты – шестерок, как и положено, оказалось ровно четыре. – Не мог он выиграть, – растерянно лепетал Фикса. – У нас же колода… Своя колода у нас! – Крапленая, да? – подсказал Демьян, надев лянку и закатив рукава – намечалась драка. – Так кто тут шулер? На кой колоду поменяли? – Ты кому предъявляешь, гнида? Ты с ворами говоришь! – Да хоть с чертями! Ну-ка, вспоминайте, мужики, – обратился зна́ток к остальным зэкам, наблюдавшим за перепалкой, – кто с ними этой колодой играл яшчэ? И кто им тут должен? – Фома должен… – Забудь про долг, Фома, – обманули тебе, развели на рублики. Жулики они все! Меж собой одними картами играют, а вам другие подсовывают. Среди сидельцев волной разошлось недовольное ворчание. Один из мужиков, что покрепче, шагнул к столу, спросил: – Правду он говорит? А я ведь тоже вам передачку всадил… Сала шмат, чая три пачки и семь рублей. Где передачка моя, Фикса? Старый вор не нашелся что и ответить. Он сидел, поникший, на лавке; даже наколки на его теле словно расплылись и поблекли. Фикса как-то глупо улыбался, будто бы немного не в себе, и все пытался сосчитать колоду, тасовал в ладонях бумажные прямоугольники. – Да он баки вам вколачивает, а вы уши развесили, мужики! – взвизгнул Егоза, доставая из-за пояса заточку. – Он сам катала, видать, знатный, так еще и в блудняк вас тащит, смуту вносит в людском обществе. Мы люди честные, за нас на каждом централе знают! – Да он рамсы попутал, фуцан! Держись, чертило, башку расшибу, – прогудел Каштан, надвигаясь на Демьяна. Тот даже немного струхнул от его мрачного мертвого взгляда, но сам поднял кулаки в боксерской стойке. – А вы не мешайтесь! – предупредил мужиков Егоза. – Кто за черта мазу потянет – сам под шконку нырять будет. Надежды, что мужики вступятся, не было – те застыли бледной стеной вокруг стола. Каштан резко рванулся вперед, сделал обманный замах правой; зна́ток поднырнул, уходя от удара, и тут же наткнулся на апперкот с левой. Хорошо хоть успел челюсть прикрыть, но все равно от удара дюжего немца пошатнуло, а в голове загудели пасхальные колокола. Каштан продолжил бить, вколачивать дурь пудовыми кулачищами; с разбитой губы брызнула кровь, и Демьян со свирепым воплем выбросил несколько раз кулаки наугад. Кажется, попал в толстый лоб: немец потряс головой, чуть опустил руки. Демьян вспомнил партизанские деньки – как однажды, безоружный, буквально отгрыз фашисту нос. Издав воинственный клич, бросился на Каштана, вцепился зубами в крупный, мясистый, не раз ломаный клюв немца; тот совершенно по-бабьи завизжал. Брызнула в рот соленая юшка. Оба обрушились на стол, своротили все с него на пол, барахтаясь и рыча, как два дерущихся медведя. Демьян споро двигал челюстями, перетирая хрящи; Каштан пудовыми кулачищами колотил его по ребрам и гнусавил: – Егоза, сыми его! Сыми! Пырни гниду! Демьян уже приготовился получить заточкой в бок, как вдруг дверь камеры распахнулась и сержант-пупкарь закричал с продола: – Отставить драку! Ша, все по шконарям, суки! Демьян разжал зубы, Каштан с силой отбросил его через всю камеру и откинулся на столе, зажимая нос. Мужики в хате прыгали по нарам, садились на корточки, прикрывая затылок: получить дубинкой никто не хотел. Демьян заметил, как Егоза быстро прячет заточку в щели в стене. Фикса по-прежнему сидел и глядел на разлетевшиеся повсюду карты, думая о чем-то своем. При появлении вертухаев он встрепенулся и бодро отрапортовал вошедшему старшине: – Начальник, у нас без происшествий! – Ты гэта кому другому втирай, – лениво сказал старшина и поморщился, увидев Демьяна, вытирающего с губ кровь. Кивнул на Каштана с залитой кровью рубахой. – Без происшествий, ха, вижу! Гэта шо яшчэ за звер такой у вас? – Демьян Рыгорыч Климов, товарищ начальник! – гаркнул зна́ток, выпрямляясь. – Драку ты затеял? – Я, товарищ начальник! – Людей пошто кусаешь? Ты собака, шо ль, якая? – Виноват, товарищ начальник! Повздорили малясь… – Гулевич, врача вызови! Хотя нет, веди пострадавшего в лазарет сразу. А гэтого… кусачего в ШИЗО на двое суток, потом с ним разберемся. Яшчэ пострадавшие в драке имеются? – Никак нет! Демьян помотал головой – в ушах до сих пор звенело. Не самый дрянной исход, если подумать. А мог бы к обеду уже к Боженьке без доклада явиться, ан нет, свезло. Всего двое суток… Знатка вывели в продол с руками, скрещенными за спиной; поставили у стенки. Мимо провели дюжего Каштана – тот бросил на «фраера» испуганный взгляд. Пока Демьян пялился в болотно-зеленую корку краски на стене, дверь захлопнули, а старшину подозвал к себе Фикса через «робот» – отверстие, предназначенное для раздачи пищи или почты. – Слышь, старшина… – разобрал Демьян, но дальше доносилось только неразборчивое бормотание – что-то про долг, про воровской статус и какой-то там «стакан». – Лады, туды так туды. Отведу, – легко согласился старшина. – Суеверный ты человек, Фикса, – веришь в чепуху всякую! – Я ж не коммунист и не атеист, – скромно ответил старый вор и крикнул в продол, обращаясь к Демьяну: – Эй, фраер! – Чаго тебе, вор? – Того! Рубаху мне оставь, не пригодится тебе боле. – Гэта яшчэ с чаго бы? – А с того. Из того «стакана» живым не возвращаются. – Так ты, поди, и с колодой своей раньше не проигрывал, а оно вишь як бывае. Про долг не забывай – сорок рублей, помнишь? А то того… Развальцуют! Из окошка высунул голову Егоза и крикнул вслед уходящему по продолу Демьяну: – Лучше сам удавись, фраер! Меньше мучиться!
Штрафной изолятор – несколько камер в ряд в узком темном коридорчике – располагался в подвале. Судя по всему, тюрьму построили еще до революции: от царившей здесь сырости штукатурка отлипала от стен склизкими шматками. Знатка сперва втолкнули в одну из камер, холодную, с блестящими от влаги стенами. Из всей обстановки – маленький столик, поднятые к стене нары и параша в углу. Конвойный солдатик принялся зачитывать правила распорядка, как его прервал второй пупкарь, постарше и с лычками сержанта: – Ты куды его привел, дурань? Старшина же сказал – в тот самый «стакан»! На двое суток! «Да шо за стакан такой?» – подумалось знатку. – Тьху ты! Солдатик хлопнул себя по лбу ладонью, вытянул Демьяна из камеры и отвел в самый конец коридора. Здесь находилась еще одна дверь, узкая и низкая, с ржавыми петлями. С трудом провернув в замке ключ, солдатик толкнул Демьяна в спину: – Ну, заходи! Он и зашел. Сзади лязгнула дверь, и Демьян оказался в «стакане», сразу поняв значение такого странного названия. Развернуться здесь было, конечно, можно, хоть и с трудом, обдирая плечи о щербатые стенки. Присесть тоже – разве что на корточки, а вот лечь – уже никак. Сквозь узкое зарешеченное оконце в потолке кое-как пробивался тусклый свет. Осознав свое положение, Демьян аж прищелкнул языком. «В тесноте да не в обиде. Ладно, хужее бывало!» Вспомнился случай, как он от проходящей через хутор колонны эсэсовцев схоронился в деревенском сортире. Вот там так же было – тесно, холодно, сыро, темно, разве что воняло пуще. Демьян повертелся, оглядывая свое узилище: стены покрывали отметины, оставленные предыдущими сидельцами: черточки, аббревиатуры, какие-то блатные словечки и надписи такого рода: «Тута был Сашко Билый» «Не забуду мать родную» «Господи, спаси и сохрани» «Грядет конец. Покайтесь, грешные». Демьян усмехнулся: вот тебе и диалектический материализм. А как прижмет – так глаза да уши и раскроются. Как там говорилось? «Не бывает атеистов в окопах под огнем». Зна́ток поднял взгляд под потолок и увидел выцарапанные на стене ровным почерком строки. Кхекнул, прочищая горло, и зачем-то прочел вслух:
Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Луна выглядывала из-за туч и висела низко, будто бы прямо над самым плетнем. Ее морда, желтого, как сыр, цвета, была обезображена ухмылкой из кратеров и темных морей. Дема показал язык ночному светилу: – Дурак ты, месяц! Когда в засаде сижу – светишь, а як света треба – ховаешься. Ты за кого: за нас иль за фашистов? Лунный лик флегматично промолчал. Дома в Деминой вёске все как один были погружены в молчаливую, настороженную темноту – ни в одном окне не горел свет. Лишь пьяно хохотали в хате на окраине, упившись своего шнапса, трое немцев-постовых. У знатка чесались руки дождаться, пока сволочи уснут, и вскрыть им глотки. Но нельзя – иначе наутро фрицы всю деревню перевешают. Дема подобрался к одной из хат, бросил в окно мелкий камешек. Ничего. Странно, Акулина сказала, что все дома должны быть. Еще один камень, поувесистей. Стекло задребезжало; за ним появилось заспанное мальчишеское личико. Глаза у Захарки расширились, когда тот разглядел, кто к ним явился в гости. – Дема-а! – едва не завизжал от восторга брат, распахивая окно настежь. – Тихо ты, молчи! Ушей вокруг знаешь скольки?.. Давай-ка я через окно залезу. Дема закинул внутрь сумку с припасами – огурцами Акулины, парой банок тушенки и прочей снедью; забрался сам и закрыл окно. В темноте кто-то схватил его, крепко обнял и сразу намочил рубашку солеными слезами. Мама. – Мамулечка, ну ты чаго? – Демушка! Живо-ой! – Здоров-живехонек, чаго со мной станется? Я ж в лесе як дома, что твой волк, глядь як располнел, – отшучивался он, неловко выкручиваясь из материнских объятий. – А вы тут як поживаете? Аришка где? – Да спит она… – А я ей конфет принес, немецких! Пять штук. – А мне? – спросил Захарка. – Ты лучше доложи значалу, учишься як, охламон? – Дема взъерошил волосы брата. – Якая школа, зусим дурак? – насупился тот. – Школы-то не работают, война! – Работают, конечно, но як попало, – сказала мать, набросив на окно плотное покрывало; зажгла свечу. Деме кольнуло сердце при виде того, как она постарела за прошедший год. – Учителей-то нема почти; так, Трофимовна один час в день малышню учит, як умеет. Фрицы, кажут, хотели тут немецкому вучить ребят, да все никак не начнут. Ой, да шо я об ерунде об усякой! Ты сказывай, сынок, як ты, все ли добре у тебе? Господи, повзрослел-то як, возмужал и… Гэта ты шо, поседел, шо ль? Ой, хоспаде!.. Ой, ты голодный небось? А у нас бульба одна… – Вот яшчэ, объедать вас не хватало, – буркнул Дема и взялся выкладывать на стол принесенные гостинцы – огурцы и зелень от Акулины, мясные консервы, конфеты, шматок сала, чай, сахар и консервированную фасоль. Сверху придавил бруском мыла. Мать только всплеснула руками, а Захарка принялся с любопытством вертеть разноцветные банки, на которых красовались немецкие надписи. – Где взял-то столько, Демушка? – Трофеи, – коротко ответил он. – Ну шо, мать, ужин собери нам. А я пока Аришку разбужу. Мать с Захаркой быстро переглянулись, и Деме это не понравилось. – Случилось чаго? – Да нет, Демушка, не здоровится ей чегой-то… – Хворает чем? – деловито поинтересовался зна́ток. – Якие симптомы? Давай, мать, говори, я в полку за фельдшера. – Да ее бука прихватил больно! – пискнул Захарка. – И меня прихватывал – вон, вишь, исцарапал… – Захарка! – шикнула на него мать. – Молчи, поганец! Демушка, ты не слушай его… – Бука прихватил? Зна́ток, не спрашивая, быстро зашагал в соседнюю горницу, отгороженную занавеской. Откинул покрывало с кровати, склонился над маленьким сжавшимся комочком – шестилетней сестрой. Та надрывно дышала во сне, будто бежала куда, засунув в рот большой палец. Дема взял блюдце со свечой и поднес к тонкой детской шейке. На коже расплывались лиловые синяки с явными отметинами пальцев – будто кто-то душил, да бросил на полпути. – Батя… – с глухой злобой прошептал зна́ток. – Демушка, не надо, не ходи туда! – вскрикнула мать и вновь попыталась обнять сына, но тот уже грубо оттолкнул ее. – Зараз просто горилки не было! Я ему обыкновенно стопку поставлю, он и не бушует! – Дура! А коль он придушил бы ребят, ты не думала? – Да як же он придушит, он же ж батька ваш! Не со злости он, а страдает там, в аду, за грехи свои. Он же так, побаловался… Не ходи, заклинаю! – и мать бухнулась на пол, схватилась за колени. – Дважды дура! Якой, к бесам, батька? Батька в Пекле мучается, а тута в погребе нечистый висит. Кожу его, як маску, натянул и куражится. Изгоню я гэту тварь. Эх, забыл совсем… – Дема, не ходь туды! Он отстранил мать и прошел на кухню, к сеням, где находился люк погреба. От шума проснулась Аришка, спросила сонно: – Ма-ам, чагой-то тут? – Тише, тише, спи, доча, – прошептала мать, с некоторым испугом глядя в спину быстро повзрослевшему сыну. На кухне под ногами вертелся Захарка с блестящими от возбуждения глазами. – Гэта шо, мы зараз к батьке по́йдем? – Ша, молодежь, не суйся! Никуды ты не по́йдешь! – Ну, Дема, ну покажи, я помогу! – заныл младший брат. – Я блытать не буду, честное октябрятское! Он мине тоже придавить хотел. – Помочь хочешь? – задумчиво спросил Дема. – Лады, браток. Рябину знаешь, что у дороги растет? – Да, тольки ягоды мы усе ужо того… – потупился Захарка. – В общем, возьми ножик, наруби мне листочков, да покрупнее, ну и ягоду хошь одну – сухую аль гнилую, а я тут покуда чаек заварю. Радостный, Захарка убежал выполнять поручение. Со вздохом Дема присел на табурет, зажег керосинку, чтобы вскипятить чаю. В дверях появилась матушка – она смотрела на сына, как на чужого. Аришка, кажется, вновь уснула. – И ты прибьешь его? – осторожно спросила мать. – Не прибью, – буркнул зна́ток. – Взад отправлю, откуль явился. Они осины да рябины на дух не переносят. – Демушка, а ты правда… – Шо «правда»? – Ну, ты правда колдун, як кажут? – Кривда! – зло ответил он, и мать согнулась от ответа, будто от удара. – Ты шо, мать, не зразумела яшчэ ничога? Як же ж, думаешь, я в лесе-то выжил? Половину партизан постарше уж выловили да перевешали, а мне пятнадцать годков всего. И не колдун я, а зна́ток! Зна-ток! – Прости, сына… Чайку сделать? На стол, может, собрать… – Только чай! – отрезал Дема; смягчился, увидев дрогнувшие плечи. – Мам, ты тоже прости мине, я ж не со зла… – Ой, да ладно, давай-ка я покушать приготовлю, сынок! – Она засуетилась на маленькой кухоньке, загремела посудой. – Я ж не в обиде, ты не подумай! Ну дура я, и впрямь. А гэту погань давно изгнать треба было, хотя бы попа в хату покликать или Купаву ту же. Помнишь, як она нам с коровой помогла? – Отож… Я ж посля той коровы к ней в ученики и попал. Дема совсем по-взрослому достал из кармана табак, бумагу и принялся скручивать самокрутку, впервые в жизни не стесняясь матери. Спросил: – Мам, скажи-ка мне лепш, шо гэта за тварь такая ходит? Мне знать надобно, прежде чем в погреб лезть. Как выглядит он? Иль ты не видала сама? – Да як же… Видала, сынок… – с тяжелым вздохом мать присела на табуретку, сжимая тряпку в руках. Засвистел чайник на керосинке, Дема снял его и поставил кипятиться кастрюлю с водой. Приоткрыл форточку и закурил, пуская на улицу длинные клубы пахучего дыма. – Ну и яким он тебе показывается? – На батьку мордой похож. И яшчэ одним местом… – Каким таким местом? – навострил уши юный зна́ток. – Ох, зря я это сказала… – мать, к его удивлению, покраснела от стыда, отвернулась к столу – якобы огурцов нарезать. – Не, мам, кажи уж полностью, раз почала такой разговор! Каким местом? – Ну, елдой… – Че-е-ем? – Ты как ушел с дому, он мене звать начал. «Приходь, грит, ко мне, як раньше буде», – стыдливо прошептала мать, ссутулив плечи. – Домогается… А у мене давно мужика не было, ты пойми дуреху старую. Я ж постоянно все за-ради вас троих, все для детей! Ну и вот, коли я его в постель не пущаю, он Захарку с Аришкой душить и начинает. Обнаглел в край, ну не могу я кажную ночь, я ж не молодуха якая. Бывает, горилки ему поставлю, он наглыкается, на одну ночь угомонится, а потомо злой с похмелья… Словом, все як при жизни. Дема едва не подавился дымом махорки и застыл с открытым ртом, пытаясь переварить такую информацию. В сенях хлопнула дверь, вбежал Захарка с полной горстью листьев и веток. Крикнул радостно: – Во, принес! Можно мне конфету немецкую? – Бери ужо, проглот… Что тут у тебе? Лады, сойдет. Ножик вертай. – Держи. Куришь? – поморщился Захарка. – Курить вредно! – Уроки не учить тоже вредно! Як война кончится, кто страну будет поднимать, а? Где инженеров, вучёных возьмем? Шоб усю алгебру знал, как в следующий раз побачимся, зразумел? – Ла-а-адно, – Захарка закатил глаза. Мать, обрадованная сменой темы, что-то готовила, резала, варила. – Дема, а когда мы в погреб по́йдем? – спросил Захарка, сидевший рядом и едва не подпрыгивающий от нетерпения. – Никуды ты не по́йдешь, охламон. Я сам все. Мам, кипяточку сюды плесни. Мать налила горячей воды из чайника в кружку, где уже лежали размятые листки рябины. Дема окунул туда нож, помешал лезвием. Прошептал на нож короткий заговор – про сыру землю да про защиту от нечистой силы. – Сынок, что ж ты без сахарку чай мешаешь? – С такого, мамо, чая тебя простоволосить буде так, что от Москвы до Берлина слыхать. То не для чаепитий. Дема вышел в сени и поежился от внезапного холода – будто и не лето вовсе, а зима на улице. От мертвеца, что ли, так морозом тянет? Припер дверь за собой чурбаком, чтоб неугомонный Захарка не проник следом, открыл лючок погреба. Оттуда пахнуло стылой сыростью и землей, как из могилы. – Бать, я гэта! По твою душу пришел! – крикнул в темноту юный зна́ток. Мрак хранил молчание. Ступив на скрипнувшую ступеньку, Дема сразу почуял тошноту – что-то прогорклое и гнилое плеснуло кислиной в горло: верный признак, что неупокойник гостей не ждет, прогоняет, сволочь. Сжав покрепче нож, Дема махнул им в темноту и напевно произнес зачин:
Чур-чура, защити от зла,
Не от ножа да топора,
А от тех, чья воля недобра.

Светало. Проснулась Аришка и уже сидела до ушей измазанная шоколадом, не отставал от нее Захарка. Мать суетилась с завтраком. Дема сидел на табуретке, обложившись столярными инструментами, и подтесывал, подтачивал и подпиливал обломок балки, чтобы получилось хоть что-то похожее если не на трость, то на клюку. На каждом свободном сантиметре дерева он добавлял очередную старославянскую «Ч», а следом – и «аз», и «буки», и «веди», и даже «хер» на всякий случай – они, буквы, все силу имеют, коли знать, какой смысл вкладывать. Наблюдавший за ним Захарка спросил: – Дем, а ты чаго малюешь там? – А, ну вот гэта, глянь, «Чур», – он указал на один из символов сложной славянской вязи, которую наносил ножом на дерево. – Есть такой… товарищ, короче. Божок славянский. Он людей обороняет от пакости всякой, вроде той, что в погребе у нас сидела. – Дык гэта что же, когда я говорю «чур меня», я, значит, его о помощи прошу? – спросила заинтересованно мать. – Получается, так, – подтвердил Дема. – А знаешь, мам, почему через порог не здороваются? – Почему же? – А раньше на Руси под порогом мертвецов хоронили, шоб дом охранять. Вот нашего бы батьку так по-божески схоронить, он бы и охранял, а не ерундой страдал… Правда, черт его знает, с самогубцем такой финт не прошел бы, наверное… – Ох, страсти якие! И гэтому усему тебе бабка Купава выучила? – Ага, она девка умная. – В смысле – девка? – удивилась мать. – Ей же лет под восьмой десяток. Юный зна́ток, поняв, что оговорился, торопливо добавил, зевнув при этом: – Да сплю уж на ходу, заговариваюсь. Пора мне, пойду… – А поесть як же ж? Я сготовила… – Некогда, мамо. Аку… Купава ждет, волнуется. – Ты прям и правда як к девке к ней, – цокнула языком мать. Дема улыбнулся, отвернувшись – будь ты хоть сто раз знатким, а материнское сердце не обманешь.

– Ну и сказочник ты, – хохотнул зэк из соседнего «стакана», – кажи яшчэ, шо ты батю на Месяц отправил. – На Месяц не отправлял, а тебе зараз всю правду выложил, як на духу, хошь – верь, хошь – нет. Мое дело – сказать. – Слухай, а я ведь так сразу и не понял, что у табе с башкой не все в порядке. – На себя посмотри! Ужо на ладан дышишь, а у самого ни кола ни двора, все по зонам мотаешься. – Твоя правда, – неожиданно покладисто согласился сосед. – А где палка-то твоя? – Вертухаи забрали, в оперчасти лежит. Демьян вытянул руки вверх, размяться – в стороны-то не разведешь, места нет. Из окошка в потолке лился теплый утренний свет, чьи лучи зна́ток жадно впитывал. Сидеть ему в «стакане» оставалось больше суток. По продолу прошелся пупкарь. Стукнул в дверь дубинкой. – Климов, ты там как, живой? – Живее некуда. Жрать давай. – На, не жалко… Открылся «робот», через него вглубь камеры выдвинулся поднос с железными шлемкой и кружкой. Демьян с трудом развернулся, взял баланду. – Хавай сразу, – предупредил пупкарь, – через пять минут заберу. Баланда была, что называется, «жуй-плюй» – уха со щучьими костями. Сплевывая мелкие косточки на пол, неприхотливый зна́ток выхлебал содержимое миски, выпил сладкий чай. Ломоть размякшего хлеба уже утрамбовал с трудом, торопясь уложиться за пять минут. Вытер рот рукавом, громко рыгнул и вопросил в раззявленную пасть «робота»: – А оправляться куда, начальник? – Парашу, шо ль, не видишь? – удивился пупкарь за дверью. – Под ноги глянь! И впрямь, под ногами в углу имелась маленькая и загаженная вонючая дырка, которую он вчера впотьмах не заметил. Помочиться еще можно, а вот по большой нужде как исхитриться туда сходить не промахнувшись – загадка. Судя по тому, что дерьмо в немытой параше засохло, превратившись в черные и твердые сталагмиты, зна́ток сделал вывод, что в этом «стакане» сидят нечасто. Поднос выдвинулся обратно, форточка «робота» с лязгом захлопнулась, а пупкарь снаружи задвинул щеколду. В холодном подземелье звук разнесся долгим эхом. – Э, начальник! – крикнул надзирателю Демьян. – А чаго соседа не покормил? – Якого соседа? – С соседнего «стакана»! – Дак я не голодный, хлопче, – ответили из-за стенки. – Я ем-то як птичка, там поклевал, здесь угостили… На кой мне их баланда противная? Я по жизни отрицала – с рук ментовских ничога не беру. Пробормотав что-то неразборчиво, пупкарь ушел дальше по продолу. Демьян остался опять в тоскливом одиночестве – в узком сыром «стакане», в компании зыбкого голоса из-за стены. – Так чаго дальше-то? – нетерпеливо спросил сосед-зэк. – Давай сказывай до конца, а я уж тебе потом своими историями поразвлекаю. Демьян почувствовал, что у него будто чешется язык – хотелось выложить соседу всю подноготную. «Все равно детей не крестить, из одной шлемки не хлебать», – подумал он. Да и не поверит он… Почему бы не сказать? Один черт сутки еще тут стоять, скучно же… – Скажу уж, чаго б не казать… В общем, слухай сюды, урка. Интересно тебе вообще? – Цикава, мочи нема! Сказки твои – огонь! Кажи! – Были б то сказки… В общем, так дело было. Вернулся Дема домой, а там его уже знатка ждала… И сказала она ему, что вызнавать будет способу хитрую, як немца с Беларуси изгнать… – Якую-такую способу? – А, да про то позже скажу. Не перебивай…

Вернулся он домой ночью, по-хозяйски поставил свежевыструганную клюку в угол. Акулина подивилась, что он «батьку» пленил, да слова против не сказала – поняла, что мужик он уже, сам за себя отвечает. Полезла утром за антресолью чего-то искать, вытащила оттуда тетрадку пыльную, долго листала ее, читала. И сказала, что нужно ей пройтись, посовещаться с кем-то знающим – про обряд некий, что в борьбе с фашистами помочь может. Дема фыркнул недоверчиво – он хоть и ведал, что нечисть есть, да и сам с той паскудью знался, но только у этих снега зимой не допросишься, и пользы от них как с козла молока – пока сами не захотят, пальцем о палец не ударят. Акулина ушла в полдень. Дема сел подальше от окошка, чтоб не попадаться лишний раз на глаза, и выглядывал изредка. От клюки в углу – Дема аж позвонками чувствовал – исходила темная, злобная сила. Вереселень по инерции брыкался внутри, и клюка то и дело падала; но вскоре он угомонился, обжившись, и теперь, будто в отместку, распространял вокруг запах тухлых яиц. Сама осиновая палка будто стала крепче да толще – с такой тростью можно годами ходить, ничего ей не станется. Рукоять бы еще приделать для удобства… Не появлялась Акулина до позднего вечера. Дема уж обеспокоился, размышлять стал – пойти ее искать, что ли? А где искать? По всей деревне полицаи, вон гимн германский из клуба гремит на все Задорье. Немцы кругом шастают… Пару раз прошли около дома; один, в очках и с лычками SS, прилепил на плетень какой-то листок, крикнул что-то на своем про старую ведьму. Демьян уж было схватил винтовку, прицелился в окошко в морду с очками да усиками, ан нет – ушли фрицы. Суседко, видать, уберег. Как немцы отошли подальше, Дема выскочил из дома, подкрался к плетню и сорвал листовку. Скривился, прочтя надпись. Агитация, мать их так! «Гiтлер-асвабадзіцель!» – так и написали, вымлядки поганые. И морда на ней усатая, богомерзкая. Но нарисован хорошо фюрер, прям портрет писаный. На обратной стороне еще всякое нехорошее про Иосифа Виссарионовича да про власть жидовскую, от которой советским людям немедленно освободиться надобно. «Власть жидовская, а Сталин с Берией – грузины», – фыркнул Дема, скомкав листовку и пряча в карман: подтереться – сойдет; как в полку заведено. Немцы их с самолетов сбрасывают, а партизаны ими потом по назначению, значит… Из леса к хате приближалась сгорбленная фигура – Акулина в образе бабки Купавы. Дема прищурился: похоже, что не просто так, как обычно, она горбится, а будто и впрямь шагает через силу, да еще мокрая вся вдобавок, будто под ливень попала. Увидев, что зна́ток собрался бежать навстречу, Акулина махнула рукой – сиди, мол, на месте, а то еще увидит кто. Сама доковыляла до плетня, оперлась на него, выдохнула: – Ух, дошла… – Ты где была? – прошипел зна́ток, скорчившись под плетнем, в кустах смородины. – Эх, Дема, где я была сёдня – за пять минут не скажешь… По́йдем в дом, скажу, чаго зробить нам треба… Ох ты ж, матушки, як устала я… И заковыляла в хату, прихрамывая, будто реально старухой стала. Дема за ней следом заскочил. Чаю налил горячего, драников вчерашних наложил в блюдце. Акулина у себя в комнате скинула обличье бабки Купавы, вернулась в кухню молодой девкой – в домашнем платьице и косынке, только как будто куда старше стала – словно кто-то ей десяток годков накинул; и еще более сгорбленная – точно ношу какую непосильную тащит. Села за стол, хлебнула чаю. Зыркнула на ученика так, что Дема немного оторопел – никогда он не видел от нее такого взгляда. – Ты чаго гэта?.. – Побачила сёдня всякого… – Чаго «всякого»? – Того, что ты сказывал, да тольки на словах-то оно страшно, а вживе – страшнее. Так шо зараз я посплю – отоспаться надобно. В полночь разбудишь, да по́йдем. – Куды? – недоуменно спросил Дема. – На болото, травы нужные сбирать. И яшчэ в одно место… Узнаешь, в общем, все. Сказав это, она устало поднялась и побрела к себе в комнату. Практически упала в кровать – как убитая. Дема подумал, что она ни разу так спать не ложилась сразу, не сходив в баню помыться. Неужто устала так сегодня? Или впрямь видела чего? Ему самому сон не шел. Он лежал в постели у печки и слушал громкий храп Акулины – обычно она не храпела, а свистела так смешно во сне, свернув губы трубочкой, а вот сегодня храпу давала, что мужик заправский. В полночь он разбудил ее. Акулина сжалась от его прикосновения, прошептала хрипло: – Нинуся, прости мене, прости… Никак оно иначе! – Яка-така Нинуся? – удивился Дема. – Гэта ж я! Ты чаго, Акулин? – А? Да то сон дурной… Что, полночь уже? – Ага. Давай подымайся, я чаю сварганил. На кухне Акулина села, обняла ладонями кружку с чаем, будто пытаясь согреться. Взглянула на Дему так пристально, что тот аж поежился. – Чаго зыркаешь, як на ворага? – буркнул зна́ток. – Помнишь, что мне вчера говорил? Про то, чего творят супостаты на земле нашей? – Да поди тут забудь… А ты чаго вдруг? – Вот и я никак не забуду. Говорю ж – навидалась сёдня всякого. А правду ты казал про те овраги? Да про школьницу? – Всей правды не перескажешь, тут и по вершкам хватает. На кой такое выдумывать? Она кивнула каким-то своим мыслям. Черты ее лица заострились, пуще прежнего выделялись синие очи в глубоко запавших глазницах – будто и впрямь постарела она с утра, встретилась с чем-то таким, чего и врагу не пожелаешь. Хлебнув чаю, Акулина спросила: – Ты спрашивал, мол, можа, обряд какой есть. Просил придумать чего. Ну придумала я… Такое, что и самой говорить страшно. А шо ты, Дема, на что готов пойтить ради Победы? Шоб мразь эту поганой метлой, а? – Шоб изгнать такую погань с Беларуси? Да на шо хошь готов, вот те крест! – Ты гэта, давай-ка не крестись, не к месту щас, – поморщилась Акулина, – лучше скажи одно – готов грех на душу взять? Тяжки, вовек не отмоемся. – Да хоть сотню грехов! – Там и одного хватит, даже, пожалуй, многовато буде… А расплатиться за обряд готов? Всем-всем-всем, самым дорогим? Самым любимым? – Прям всем? – переспросил Дема, морщась. – Всем. Вообще всем. И даже поболей того. Зна́ток не ответил – взвешивал мысленно этакий ценник. – Струсил, да? Струхнул? – рявкнула знатка. – Ну и черт с тобой! Не хочешь коли, струсишь – я пойду к Сухощавому, его ублажу как-нить, да с ним обряд и совершим. Дема затараторил: – Готов я! Готов, Акулинка! Хоть ногой, хоть рукой расплачусь! Не надо к Мирону… Я ж пообещал! А мое слово… – Кремень, знаем, – довольно кивнула знатка. – Збирайся давай. В баню мы завтра по́йдем, як выспимся. – В якую-такую баню? – В нашу баню! Общественную… А гэтой ночью другие дела. Нам за дро́вами треба сходить, за веничками да за водой мертвой. И без вопросов, зразумел? – Зразумел… Ничего не понимая, Дема начал собираться. Акулина не стала переодеваться старухой Купавой – так и осталась, как была, с распущенными волосами да в платье легком домашнем. Только сапоги надела да махнула: – Пойдем. Он и пошел. Вслед за женщиной, о которой думал каждый день там, в лесах да окопах, пока сидел в засадах вместе с Космачом и Макаркой; пока мусолил в руках маленькую, зашитую в гимнастерку у сердца фотокарточку c чужим кучерявым мужиком. Пошел. А куда бы он делся? Пошел за ней, как теленок на поводу, глядя на виляющий под платьем зад. Остановились у оврага, куда в Задорье сбрасывали всякие помои. В стоячей, позеленелой воде на дне лежал раздувшийся труп лошади – торчали наружу ребра, проглядывавшие сквозь тонкую кожу, скалилась морда с торчащими зубьями. Ее, бедную, немцы пристрелили во время переправы. – Тут вода мертвая, – указала знатка, – набери полную флягу. Дема раскрутил колпачок и зачерпнул стоялой воды из оврага – вонючей, пропитанной мертвечиной. Сам фыркнул, пообещав себе позже выкинуть фляжку – пить из нее больше нельзя. – Молодец, – похвалила Акулина. – Сховай – завтре пригодится. По́йдем в другое… место. И отправилась дальше, вглубь темной чащи, где даже совы не ухали. Нечисть в лесу затихла, словно чего выжидая и наблюдая за двумя знаткими внимательными, вспыхивающими тут и там во тьме зенками. Шагали они долго сквозь ночной лес, спотыкаясь на валежнике и в овражках – Акулина сказала света с собой не брать. Пришли в итоге к яме какой-то посреди поляны – Дема нагнулся, глянул внутрь. Лунный свет выхватил лежащие в глубине три трупа. Они были вздутые, словно беременные, у одного на груди висела табличка с надписью «Партизан» по-немецки. – Гэта кто? – спросил он отупело. – Соотечественники наши, невинно убиенные, – отрывисто сказала знатка. – Шо, утечь захотел? Ну так беги, никто не держит! – Не. Не сбегу; и не такое видали. А за шо их? – Не видишь разве? Партизаны, як и ты! Раз не убежишь, то тады волоки-ка того за ноги из ямы. Одного надобно. Он спустился, скользя сапогами по влажной земле. Выволок оттуда, хрипя от усилий, один труп наверх. У мертвеца были замотаны ноги, обвисшее пузо колыхалось, будто бурдюк с болотной водой. От мертвяка пахло, как из компостной ямы. В бледном лбу темнело аккуратное отверстие от пули. – Похоронить их, шо ль, по-людски? – нерешительно спросил зна́ток. – Позже схороним. Зараз надо его… – Акулина нерешительно замолкла, глядя на труп партизана блестящими глазами – будто плакать собралась. – Чаго треба? – Ногу ему отрубить… – Ты сдурела, шо ль? – зашипел он знатке в лицо, но та не отступила ни на шаг – лишь смотрела на него льдистыми очами. – Кто сдурел? Я? Забыл, чего пообещал? Слово-кремень, а, Дема? – Не, ну я думал… – стушевался ученик, не в силах посмотреть прямо на Акулину, встретиться с ее новым странным взглядом – с ядовитой сумасшедшинкой, плещущейся где-то в глубине. – Чаго ты думал? Шо все так просто будет? Чаго просили – то и получили! Нате, хавайте! Обряд ты хотел? Вот он, твой обряд! Ногу ему рубай! – А чем рубить? У мене топора нема… – Ножом пили! И он, присев на корточки, долго и мучительно пилил окоченевшее мясо острым ножом – будто сало с ледника, оно махрилось и нехотя слезало слоями с кости. Засочилась темная и вязкая, застоявшаяся кровь. На суставе стало совсем туго, и вот уже Акулина присоединилась, и они оба принялись раскачивать-отрывать несчастному партизану ногу ниже колена. Наконец, мертвая плоть сдалась, и они оба повалились на спину, держась за ногу, как за репку. Акулина кивнула. – Сойдет… А таперь на кладбище наше по́йдем – чертополоха собрать треба да репейника. – На кой? – Помнишь же – без вопросов. – Помню… Придя на погост деревенский, они долго простояли у входа, прося разрешения у Хозяина кладбища – известное ж дело, что без спросу в баню да на упокоище соваться нельзя. Особливо им, знающим. В конечном итоге ухнула с дерева сова, сверкнула зелеными круглыми глазищами, давая разрешение – двое знатких кинулись собирать травы. От усталости Дема уже едва перебирал руками, рвал чертополох да поглядывал в сторону Задорья – а ну как немцы с патруля увидят, что они тут шастают посреди ночи? И вздрагивал от каждого шороха, не мертвецов боясь: живых. Набрали они по вот такенному букету чертополоха с репейником, приплелись домой уже под утро да спать улеглись. Дема провалился в сон, как в глубокую, темную яму – будто умер. Его растолкала уже после полудня Акулина. Она как будто успокоилась, собралась, посерьезнела – почти как раньше. – Ну шо, готов? Дема сглотнул, почувствовав, как во рту пересохло. Что ж там за обряд такой, что этакой дряни натаскать надобно? Такого мандража он и перед первым боем не испытывал. Там все было ясно – здесь гитлеровцы, здесь мы. А тут что ясного? Что ж такое самое дорогое отдать придется и кому? И грех… – Готов… – прошептал он. Акулина потрепала его по плечу и внезапно поцеловала в лоб. Махнула рукой, приглашая к столу. – Пошли, отобедаем напоследок… Я борща сварила.

– И чаго дальше? – нетерпеливо воскликнул сосед – его голос из соседнего «стакана» звучал глухо и как-то чужеродно. – Договорились вы с чертом-то? – Погодь, я ж про черта ниякого не говорил… – задумчиво пробормотал Демьян. – Я сказал, шо в баню значалу сбирались. – Не, ну гэта и так понятно, куды яшчэ с таким инвентарем? Дык чаго вы, в баню-то пошли, не? – Пошли… Заслышав шаги пупкаря по продолу, Демьян как припадочный заорал: – Эй, начальник, ты пожрать-то дашь? – Ща принесу, не вопи… Пупкарь принес баланду, сунул в «робот» шлемку с кружкой. Демьян склонился как мог, просунул голову в отверстие. Увидел лишь зеленое сукно солдатской формы, пуговицы и пряжку ремня со звездой. – Гэта, слышь, служивый… – Башку убери! – рявкнул пупкарь. – А то як дам по лбу!.. – Да ладно тебе, я сам служил… Не серчай, малой. Про Космача слыхал? – Слыхал… Читал даже, в книжках, – стеснительно признался солдатик. – Дык ты чаго, с партизан, шо ль? – Сын полка я, як в фильмах кажут. Тебе як звать? – Гришкой… – А я Демьяном буду, Рыгорычем як раз. Дык чаго, Гришка, выслушаешь просьбу? – Ладно, кажи, чего хотел, – подобрел солдатик. – Ты гэта… Соседа-то покормить моего забыл. – Якого соседа? – Ну гэтого! С соседнего «стакана»! Тонкая мальчишечья рука озадаченно поправила ремень. Голос пупкаря промолвил задумчиво: – Ты, Климов, сдурел там, да? Нема у тебе соседей. Один ты тут сидишь. Давай жри скорее, – и подтолкнул поднос с баландой. Чувствуя, как холод расползается по спине, Демьян расслышал старческое хихиканье из соседнего «стакана». Тварь, что прикидывалась доселе зэком, заходилась от злорадного смеха – и слышать ее мог один только зна́ток. Он медленно, без аппетита, умял баланду, закусил хлебом и запил сладким холодным чаем. Вернул посуду пупкарю, коротко сказал: – Дзякуй, Гриша. Хороший ты хлопец. – В себя приходи, – сочувственно ответил из-за двери солдатик. – Всего-то сутки осталось тебе терпеть, потом в ШИЗО переведем. И Демьян вновь услышал каркающий смех уголовника из-за стены. Повинуясь инстинкту, зна́ток просунул руку в незакрытый еще «робот», схватился за ремень пупкаря и крикнул отчаянно: – Слышь, Гришка, дай мне соли! – Якой яшчэ соли? Слышь, ремень отпусти! – Соли принеси, любой! Столовой, плашку иль миску, прошу тебя, браток! А не то я тута сдохну, уморит он меня! – Да кто тебя уморит, дурной? – и в этот момент Гришка так больно дал ему по ладони, что Демьян отпустил ремень и втянул руку обратно в камеру. – Сдурел ты, шо ль, дядько? Сутки посиди, да выпущу тебя! – Соли дай, пару щепоток хоть! – Да пошел-ка ты на хер, болезный! Тоже мне партизан, мля! «Робот» захлопнулся, повернулась задвижка на обратной стороне. Матерясь, пупкарь Гришка ушагал прочь по продолу. Демьян опять остался в одиночестве. Вернее, не совсем в одиночестве – сосед за стенкой никуда не делся. – Ты кто такой? – чувствуя, как холодеют ноги, спросил зна́ток. Голос перестал хихикать, посерьезнел. Теперь Демьян понял, что глухой, утробный звук совсем не похож на голос давешнего уголовника – звучал он так, будто там, за бетонной стеной, исходил из зашитого рта подготовленного к захоронению забальзамированного трупа. Существо, или чем бы это ни было, спросило, и звук словно пополз по стене, проник сквозь решетчатое окно в потолке, чтобы ужом юркнуть в ухо знатка: – Хочешь знать, кто я такой? Я – возмездие твое. Я – исповедь. Я – твоя совесть, зна́ток. И я не успокоюсь, покуда ты мне всю правду не выложишь. – Пошел к черту! – Во-во, рассказывай давай, як ты до черта дошел! – развеселился голос, заискрил оттенками, полутонами, и в нем Демьян услышал отзвуки голосов Акулины, Максимки, Анны Демидовны и даже Жигалова – всех, кого он когда-либо знал. Зна́ток зажал, как мог, уши, но все равно продолжал слышать многоголосый смех, раздававшийся в узком пространстве «стакана». – Ну-ка вспоминай давай, чаго вы там в бане сотворили, а? Зна́ток молчал. Вернее, пытался молчать. Язык, клятый, метался во рту, сам рвался наружу, стремясь выложить все как на духу. Демьян заткнул рот ладонью, но все равно мычал, а в итоге неожиданно укусил сам себя за кожу. Он уставился с ужасом на полукружие следа от зубов, а рот его тем временем начал говорить, не спрашивая разрешения у хозяина: – Пошли мы следующей ночью в баню. Та стояла на окраине деревни. Нехорошая то была баня, в ней, кажут, и аборты делали, и молодые вне брака тешились, и паскудь всякая там водилась… Баня та стояла совсем рядом с избой Акулины…

Баня та стояла совсем рядом с избой Акулины. Знатка даже шепнула: – Она-то, лазня, Купавина была в свое время, еще до большевиков. Идти-то, сам видишь, полста шагов. Это сейчас она общей считается… Дема поглядел на баньку. Небольшая, с треугольной крышей, та вырисовывалась в сиреневых сумерках строгими очертаниями, что мертвецкий склеп. И пахло от нее не лазней, а чем-то смрадным, чужеродным. Он раньше ходил туда подмыться иногда. Банник тут обитал хоть и не злобный, а до того капризный, что можно было битый час напрашиваться, пока тот не махнет в окошке тонкой ручкой – заходи, мол. Да и обдериха – жена егойная – нет-нет да и плюнет угольком под пятку али ошпарит для смеху. Потому Дема больше в речке купаться любил, когда сезон позволял. Это незнающим легко – вона бегают молодые к лазне вечерком, а потом дымок из трубы и стоны громкие, – а Дема знал, что на его грудь, голый живот и всякое другое глядят и потешаются двое нечистых. – Гэта шо ж нам там робить-то, Акулин? – спросил юный зна́ток, тряхнув сумкой. В той лежали: нога мертвеца, фляга с мертвой водой и кладбищенские чертополох с репейником, собранные в венички. – Там увидишь… Пошли. У входа Дема встал, стащил крестик и ладанку, прочистил горло и приготовился стучаться, но Акулина едва ли не ногой распахнула дверь и шагнула внутрь. – Куды, не напросившись? – испуганно зашипел зна́ток. Внутри бани было тихо и темно. Тусклый луч лунного света освещал печь-каменку, трехступенчатый полок и черные, закопченные от дыма доски. Акулина лишь обернулась кратко – стрельнула на него сурово глазами, сверкнувшими синим цветом в сумерках, шикнула: – Раздевайся! Дема уставился на нее в удивлении. – На кой бес? – Тсс, бесов не кликай! Треба так, без вопросов лишних, помнишь же? Юный зна́ток принялся стягивать сапог, как вдруг не удержал равновесия и саданулся о каменку. – Тьфу ты! Не видно вообще ни черта! – Не чертыхайся, говорю! Стараясь удержать отвалившуюся от изумления челюсть на месте, Дема снял штаны, рубаху, аккуратно сложил на ближайшую банную полку. Поставил рядом сапоги. Из-под полка зыркнул зелеными глазищами банник; зашипел, как кошка, и рядом появилась лохматая башка его супруги – обдерихи. Она вытянула костлявую ручонку, будто попытавшись схватить знатка за лодыжку; тот отпрыгнул в сторону: – Тьфу ты, не жахай так, стерва! Уйдем мы скоро, угомонитесь вы, нечистые. Оставшись без портков, Дема, смущенный, обернулся к Акулине. Она стояла совершенно нагая, кое-как прикрывая руками грудь и курчавую тень ниже; зна́ток, нервно сглотнув, отвел взгляд. Куда прятать свой срам, он не придумал и стыдливо прикрыл его вениками. – Чаго ты? – строго спросила Акулина. – Ты, гэта, пригожая… – Не о том думаешь! И на этих не гляди, – она кивнула на банника с Обдерихой, что лазили под полками и сердито ворчали – появлялись то там, то здесь, ухая да покрикивая, скрипя полатями, треща досками и вообще всячески пытаясь прогнать непрошеных гостей. – Коли разделся – печь затопи. Как следует тольки, шоб пожарче. Дема уселся напротив каменки и принялся пихать внутрь дрова да мелкую щепу, приготовил спички. – Дема, я ж тебе не сказала толком… – Да ты вообще мало шо казала. – Коли ритуал у нас выйдет как надо – плата великая будет… – Да куды ужо больше-то? Итак, считай, всей страной расплачиваемся. – А расплатимся мы, вдвоем. За всех. И я одна не сдюжу, – в голосе Акулины прорезалась слеза – кажись, и она до конца для себя не все решила. – Ты же не бросишь меня? Не откажешься в последний момент? – Дура! – рыкнул Дема. – Хрена с два я тебя брошу. Казал же, слово мое – кремень! И взялся остервенело чиркать спичкой, понукаемый уколом обиды – и как это она в нем засомневалась? Поводов же не давал. Так он и сидел спиной к ней, покуда не повеяло от печи тяжелым малиновым жаром. – Готово! – проворчал Дема. Перевел взгляд на Акулину и тут же опустил глаза – вновь застеснялся ее наготы. – Ну чаго, начнем, шо ль? Кстати, а ты палку-то свою чаго не взял? – Ай, забыл! – А голову ты дома не забыл? – Акулин, не будь ты язвой такой! – Ладно – не пригодится твоя палка. Ты тольки эт самое… зараз мене слушай и не делай чего не скажу, понял? И не мешай мне. За стопкой дров пошевелил лапками-ветками банник, ухнул грозно и растворился, стоило знатку сделать шаг в его сторону. – Нехорошо гэта… – пробормотал Дема. – Мы даже в гости не напросились, банник вона недовольный. – Надо так… Доставай ногу. – И чаго с ней робить? – Печь топи. Дема сглотнул. Не нравилось ему происходящее. Он достал из мешка ногу мертвеца, отпиленную у безымянного партизана, кочергой открыл притвор и бросил ногу внутрь. Угли зашумели, враз охватив плоть пламенем; дрянно пахнуло жареным мясом. – А зараз чаго? – Теперь парку поддай! Да не с таза, с фляги! Мы на кой мертвую воду набирали? «Так вот зачем водица та нужна была…» Дема скрутил крышку и брызнул на горячие камни около печки. – Всю лей, не жалей! На веник только плесни малясь, а то размахрится. Он вылил всю воду с фляги. Пара поднялось как будто с таза; все кругом заволокло душной мглой, не продохнуть. – Ну что, поехали? Акулина схватила один из веников – тот, что из репейника, – и ка-а-ак хлестнула Дему по лицу. – Ты шо-о-о-о? – обиженно протянул юный зна́ток, стряхивая со щек колючки. Потом несильно, в отместку, хватил Акулину чертополоховым веником по упругому заду. – Бьешь як девка! Мацней давай! И сызнова ткнула веником Деме прямо в самую морду – тот зафыркал, отряхиваясь, что твой пес. – Да ты с ума сдурела, шо ль? – возопил он и ударил, на этот раз уж посильнее, для острастки. – От так, Дема! От так добре! Давай, не жалей меня! И под пыхтение и треск дров двое знатких принялись хлестать друг друга. Было что-то первобытное, жуткое в этой молчаливой дуэли на вениках. Чертополох больно драл нежную кожу на сосках Акулины, оставлял длинные красные ссадины на плоском животе. Деме тоже доставалось – весь он был покрыт с ног до головы колючками и мелкими кровоточащими ранками: добрый получился веничек. Из-под полков то и дело казал клочковатую бороду банник – на его недовольном личике так же сверкали зеленые кошачьи глаза. Нечистый, хоть и робел перед знаткими, но уже показывал, кто тут хозяин, – кидал угольки под ноги, дышал удушливым раскаленным паром, который вонял не то гнилью какой, не то тухлыми яйцами. – Да отвянь ты! – шикнул на него Дема и хлестнул-таки Акулину по лицу. Та застыла, держась за рассеченную острым сучком щеку. Зна́ток застыл. – Акулинка… Ты гэта, прости мене… – Бог простит, – азартно прохрипела она, вновь кидаясь в атаку. – Хоть и это навряд ли. Давай, Дема, бей да не жалей, покуль кожа ремнями не полезе. Так они истязали друг друга, пока от веников не остались одни лишь тонкие розги. Два голых тела сверкали мокрой в кровоподтеках кожей в свете разгоревшейся печки. Банная нечисть, уже не стесняясь, брызгалась кипятком, кидалась угольками и вообще всячески намекала незваным гостям, что дальше будет только хуже. Пара от маленькой фляжки навалило столько, что Дема едва мог разглядеть в его клубах красную, будто индеец, Акулину. Благо хоть прикрываться теперь не треба. На грудь Акулины, которую та уже не скрывала, юный зна́ток почти перестал обращать внимание – ну грудь да грудь. Хотя красивая, зараза… После очередного удара Акулина оглядела жалкий огрызок в руке и отбросила в сторону – взаимная экзекуция закончилась. – Вот и попарились… Одевайся давай, – сама тоже начала натягивать платье. – Теперь самое тяжкое нам предстоит, Дема. – И что же? – он с трудом надевал штаны, пытаясь отдышаться. Присел на полок, и в задницу тут же впилась заноза – привет от банника. Да и штаны с рубахой больно скребли по свежим ссадинам от веников. – А вот что! – сказала Акулина. И, присев на корточки, она сунула руку меж полков. Оттуда жалостливо завизжало; Акулина вытащила наружу брыкающегося маленького человечка с зелеными глазками, бородой и острыми кошачьими когтями. Человечек заверещал, извернулся и полоснул Акулине по лицу когтями – чуть глаз не вынул, но знатка и не думала разжимать хватку. – Держи его, потом не поймаем! Дема, едва не коченея от осознания, какое совершает святотатство, схватил взвизгнувшего банника за бороду. Глянул на Акулину – чего делать-то? – Соль! Соль четверговая где у тебя? И нож? Сверток с солью был в кармане гимнастерки, а гимнастерка – где-то тут, под ногами. Кое-как, держа вырывающегося банника, они отыскали в клубах пара влажную гимнастерку. Вся она была в мелкую дырочку – обдериха постаралась. Акулина сунула руку в карман, набрала полную горсть и на глазах изумленного Демы сыпанула солью прямо в визжащий рот нечистого. Тот закашлялся, отвернул голову, почти все просыпалось мимо. Банник плевался и верещал пуще прежнего. – Пасть держи ему! – рявкнула Акулина, уставившись на ученика синими жестокими глазищами. Зна́ток схватился за челюсть банника, надавил по бокам, раздвинул шире – Акулина засыпала в трепыхающуюся глотку всю оставшуюся в мешочке соль. Из пасти повалил вонючий дым; они отпустили банника, паскудник упал на неструганые доски своей бани, отчаянно крича, извиваясь от невыносимой боли. В унисон ему завопила из-под полока обдериха. – Нашто гэта все? – спросил в ужасе Дема. – Чаго он дурного зробил? – Ничего, – Акулина достала из его гимнастерки длинный, с тонким, источенным лезвием нож. – Надобно так. – Для чаго такое творить? – Для того, о чем ты сам просил! Не помнишь разве? «Акулин, а есть якой обряд абы способ, шоб всю гэту погань с Беларуси изгнать?» – передразнила она его голос, и Дема сгорбил плечи, с жалостью глядя на страдающего банника. – Вот и есть твой способ, о котором ты просил! Другого нема! Ты обещал уже, нет дороги назад! Иль ты струсил, развернешься и уйдешь? – Мое слово – кремень, – угрюмо набычился юный зна́ток. – Тады держи его крепче. Маленькое кашляющее создание отчаянно хотело жить, но тонкое лезвие разило безжалостно – сперва отсекая одну маленькую ножку, затем вторую. Дема вдруг осознал, что держит в руках уже не самого банника, а две отчекрыженные конечности. Сам же банник тут же, тяжело и невыносимо медленно пополз куда-то прочь – туда, где тянула к нему руки из-под полка рыдающая обдериха: мертвецкий пар да веники лишили сил банную нечисть. Банник стонал, рыгал черной блевотиной вперемешку с дымом и зыркал на убийц кошачьими глазами – не со злобой, а с мольбой оставить ему хотя бы такую его искалеченную жизнь. – Зачем его так? Почему не сразу… – Дема не решился договорить. – Поучи меня яшчэ. Чаго стоишь? Хватай его поперек тулова. Вот так, да переверни. Юный зна́ток прижал маленького нечистого к выскобленным доскам, а тем временем Акулина по очереди воткнула тонкое лезвие сперва в один глаз, потом во второй. Зеленые кошачьи буркала, когда-то наводившие ужас на любителей погадать или попариться на ночь глядя, размазались по щекам сырыми яйцами. Следом под нож отправились тонкие ручки-веточки и смешное, похожее на чернослив, хозяйство банника. Крови не было – лишь плескал из ран крутой кипяток, обжигая руки. Маленький нечистый уже даже не верещал, лишь тихонько постанывал, исходя черными пузырями из глотки. Где-то под половицами страшно и горестно выла обдериха, материла и проклинала на чем свет стоит убийц мужа.
– Ну, все, – отдуваясь, сказала Акулина, отложила нож. – Собери его, и в печь. Дема послушно сгреб в кучу все, что осталось от банника, и понес к печи. Маленький нечистый весь исходил кипятком из ран, обжигая руки; разлагался на глазах, превращаясь в груду желтых костей – от него на досках оставались куски плоти. – Быстрее! Пока не сдох совсем! Нечистый, заслышав Акулину, задрыгался всем телом, что пойманная рыба, – Дема еле удержал. – Прям туда? – Нет, в дупу себе засунь! – огрызнулась Акулина, все еще глядя в одну точку – убийство банника ей тоже далось нелегко. Дема отворил кочергой притвор печи, откуда загудело жаркое пламя. Поднял на руки расчлененного издыхающего банника и швырнул прямо туда – в огнь да на угли. И тут бедняга завизжал так, что, казалось, полопаются ушные перепонки – будто снарядом шибануло. Юный зна́ток зажал уши, и сквозь слезы видел, как то, что осталось от банника, провалилось куда-то под горящие поленья – будто в щель какую или дыру; точно кто-то принял дар. – Гэта и есть та страшная плата, о которой ты казала? – устало спросил Дема – после содеянного хотелось снова помыться и драть себя мочалкой и мылом, покуда кожа не сойдет, как шелушка с луковицы. – То плата за переход. А страшная-то будет позже, як согрешим по-настоящему. – Переход куда? – В Пекло, вестимо. Вон он, вход-то! И, схватив крепко Дему, Акулина внезапно наклонила и толкнула ученика прямо в неожиданно распахнувшуюся в человеческий рост пасть печи, откуда жарило так, что кожу опаляло да волоски в носу скручивались. И сама, согнувшись и шагнув внутрь босыми пятками, аккуратно закрыла за собой притвор.

Почему-то было совсем не жарко. Даже немного поначалу холодно. Первым делом Дема ничего не увидел. Хоть они и шагнули прямиком в пламя, но вкруг разом наступила такая несусветная темень, что хоть глаз коли; он даже надавил пальцами на веки, чтоб убедиться, что не ослеп. Пошарил рукой, судорожно вцепился в ладонь Акулины, и та ответила на его рукопожатие. Двое знатких словно упали в глубокую-глубокую пропасть, на самое что ни на есть дно земли-матушки, куда прежде не ступала нога живого человека, а лишь меж кротов, червей да костей стекала мертвая гниль, чтобы спустя столетия преобразоваться в нефть. – Где мы? – вскрикнул зна́ток, и его крик прозвучал комариным писком: темнота съедала звуки, словно вата. Акулина что-то неразборчиво ответила – ее голос донесся будто из другой вселенной, хоть он и почуял, что она наклонилась и кричит прямо ему в ухо. Он привлек девушку к себе и обнял так крепко, как только мог. Раздрызганная вениками кожа ответила на прикосновение болью, но он не разжал хватки. Коли уж погибать, так с ней рядом. Вдалеке, в самом омуте вязкой темноты, росло нечто похожее на россыпь ярких утренних звезд. Они взбалмошно мерцали всеми цветами, перемигивались, а вскоре разрослись, приближаясь и опаляя жаром пекельных костров. В уши впивалось кричащее многоголосье, нараставшее минута от минуты. Звучало это так, будто тысячи, да какие там тысячи – сотни тысяч людей выли от боли в мерцающей тьме, и каждый из воющих голосов пытался перекричать остальных. Было их такое множество, что можно было только догадываться о количестве. Мильон? А может, мильярд цельный? Кричат и кричат, до того громко, что голове больно. И чем ближе, тем неразличимее. В итоге все они слились в тонкий комариный писк, какой бывает, коли снарядом контузит. Место, пышущее бесчисленными жгучими искрами, приблизилось и резко упало под ноги – острыми камнями да жидким горячим асфальтом, вгрызшимся в пятки, будто пес. Дема затанцевал на месте, взвыл от боли и успел пожалеть, что не надел сапоги. Вглядевшись, понял – не асфальт это и не камни, а кости обгоревшие, в крошку мелкую измолотые. Рядом так же скорчилась Акулина, но тут же схватила ученика, повернула к себе лицом. – Тихо, не ори ты так! На месте мы… – Где, на яком месте? – На том самом… Он оглянулся. Мильоны голосов померкли окончательно, поселились в ушных раковинах непрерывным писком, приглушавшим все прочее, но то и дело прорывались отдельные крики. Тряхнув головой, Дема поднял взгляд и увидел наконец, где они оказались. Было это что-то вроде пещеры, но такой огромадной, что взор застили тяжелые серные облака, из которых вырывался серый дождь из пепла. Приглядевшись, Дема вспомнил, где видал такое – в школе же, на глобусе. Только глобус тот кто-то жестоко измял, исцарапал да подпалил на костре до едкой резиновой вони, а после – засунул их с Акулиной внутрь. Их – и бесконечные потоки бледных теней, тянувшихся многокилометровыми вереницами к каким-то пышущим жаром – таким, что чувствовался сквозь эти серные небеса, – огромного размера кратерам или ямам. Одна такая вереница безостановочно текла совсем рядом, ее на себе тянуло широкое полотно будто бы из бледной резины, как конвейер. Люди на конвейере пьяно пошатывались и не обращали ни на что внимания, будто слепые; а некоторые и были слепы – с выколотыми глазами или и вовсе снесенной начисто верхней половинкой черепа. Печальные бесплотные тени: растерзанные, раненые, лежавшие и сидевшие кое-как, сжимавшие в руках-крючьях винтовки, автоматы да пулеметы. Приглядевшись пристальней, Дема ахнул: – Акулина, глянь! Гэта ж… солдаты! – А кому ж еще тут быть? Не генералам же, – грустно усмехнулась знатка, стряхивая приплавившиеся куски асфальта с обожженных пяток. – Война ж в самом разгаре – тебе-то лучше знать, ты там был. Вот они и идут все, солдатики… С нашего мира да в Пекло. Дема жадно вгляделся в проплывающих мимо мертвецов – тусклые, одинаковые от усталости морды, покрытые кровью, дорожной пылью и пороховой грязью. Все они имели на потрепанной униформе разные знаки различия – сотен стран, десятков родов войск, рангов и званий. Больше всего было, конечно, немцев и советских солдат – не обращая внимания на врагов поблизости, стояли устало бок о бок танкисты вермахта и красноармейская пехота; иногда, если кто-то ронял свое оружие, то другие помогали ему поднять и по-товарищески придерживали. Были тут и англичане, и итальянцы, и узкоглазые всякие – то ли японцы, то ли китайцы, Дема их не различал. Увидал он в толпе и пару чернокожих в шортах; удивился даже – зулусы, шо ль? Вся эта процессия ползла безостановочно по узкой костяной скале среди острых камней; по бокам от конвейера высились заборы из костяной рабицы, а поверху тянулась спираль колючей проволоки, на поверку оказавшаяся чьими-то размотанными кишками. Валами конвейеру служили позвоночные столбы с вращающимися головами на краях. Все они молчали, и лишь одна, крутясь вокруг своей оси, безумно и отчаянно хохотала. – Нам сюды, – и Акулина бесстрашно шагнула на конвейер, а следом – и Дема. Полотно тут же заходило под ними ходуном, неприспособленное к весу живых людей. Большой палец ткнулся во что-то мягкое. С ужасом юный зна́ток понял, что это был чей-то нос – с волосатыми ноздрями и горбинкой. Ниже оказались губы. Отступив, он угодил пяткой на чей-то сосок, влип в заросшую густым волосом яму подмышки и, поскользнувшись, упал на полотно конвейера. А за спиной, отделенная швом, начиналась чья-то еще кожа и непрестанно орала живая дырка рта, но Акулина безжалостно заткнула ее стопой, протянула ученику руку: – Не теряйся, Дема, за руку меня держи, а то не сыщем потом друг дружку. Он встал и задел кого-то локтем; в спину толкнули дулом винтовки; Дема оглянулся, чтоб прикрикнуть, а потом понял, на кого он собрался кричать – рядом маячила бледная рожа с болтающейся челюстью, которую снесло то ли осколком, то ли шальной пулей. Сама рожа показалась знатку знакомой. Он прошептал: – Слышь, браток, я тебя знаю, да? Ты кто таков? Мертвец не мог ответить – лишь пялился тусклыми зенками из-под круглой советской каски. Между наполовину отпавшей челюстью и лицом виднелись розовые движущиеся сухожилия, словно покойный солдат пытался что-то сказать, да не выходило – лохмотья мяса шевелились, ерзали, и обрубком рта покойник издавал глухие стоны. – Отвяжись от него, шкет, не вишь разве – не говорит он… Закурить будет? Дема подумал было на секунду, что это сказала Акулина, но голос был мужским, да и шкетом его звал только один человек. Неужели это… – Космач! – воскликнул зна́ток. Стоявший поблизости партизан усмехнулся. Теперь Дема мог его разглядеть – то же волевое лицо, хоть и бледное, латаная-перелатаная винтовка через плечо, вечная щетина на щеках. Чернобровый, высоченный, в кожаной куртке, перемотанной патронташами. Командир отряда! – Товарищ Космач, а вы як тут… Постойте-ка… Вы померли, шо ль? Командир печально усмехнулся. В груди у него зияла жуткая рана, темный провал, в котором виднелись органы и кости, а наружу при каждом шаге выплескивалась струйка вязкой крови. – Ты с кем там говоришь? – оглянулась Акулина. – Да гэта ж Космач, не бачишь, шо ль? Командир наш! – Дзякую, слыхала много доброго о вас… Вы погибли? – спросила знатка, с жалостью глядя на партизана. – Да не знаю я, я вот цигарку достал, спичкой чирк – и усе в пламени. Так и не покурил. А у ней закурить есть? – кивнул Космач на Акулину. Акулина покачала головой. – Космач, дядька родненький! – воскликнул Дема. – И як же ж вас так угораздило? – Шо угораздило? Ты закурить-то дай… А то сижу я, значит, в засаде, курить хочу – страсть. Макарка яшчэ такой – до ветру пойду да до ветру пойду. Я ему – иди уж, а сам думаю, покурю. Я спичкой – чирк – и усе как заполыхает… Так и не покурил. Мож, у тебе есть? – Чаго гэта с ним? – удивился Дема. – Як попка заладил. – Дык он же помер. От такого поди с ума не сойди, – объяснила Акулина. – Да як же ж… И шо, кого яшчэ накрыло? – Дык всех накрыло, сынку, – улыбнулся Космач печально. – Я ж казал: я спичкой чирк – и як засвистит вдруг, а потом все в труху. Степку пополам разорвало, у Алеськи глаза сразу запеклись, а у мене вон – дыра таперича. Як же ж я курить буду? Дым-то весь – фью, наружу… Ты скажи главное – у табе закурить есть? – А ты у товарищей попроси, – горько кивнула Акулина за спину Космачу. Дема поглядел и ахнул: он увидел всех своих сослуживцев – и Славу Яременко, и пулеметчика Степку Ожегова, и Алеся Рудного, мужика, что с матерью по соседству жил… Все они вразнобой пошатывались, как сомнамбулы, лишь изредка подпрыгивая на валах конвейера. Ползали по спинам друг друга отсутствующими взглядами. У одного руки не хватает, другого за подмышки тащат – от тела, считай, половина верхняя осталась, кишки по земле волочатся. Кого-то и вовсе в горшочке несли – одно мясо собрать сумели. Дальше ехали молча. Вскоре толпа сутулых покойников спереди заволновалась, словно наткнувшись на препятствие. Дема вытянул голову в попытке разглядеть, но из-за спин было ничего не видать, только мельтешили какие-то огромные тени и слышалось чудовищное ритмичное чавканье, будто исполинская свинья рывками жрала такого же исполинского подсвинка – заживо, с костями, хрящами и кровью. Даже погруженные в себя мертвецы встрепенулись, начали переглядываться. А чавканье нарастало, и слышалась в нем механическая упорядоченность – так мясник отработанными движениями отбивает мясо. Акулина взяла ученика за плечо, прижала к себе. Космач почесал щетину и вытянулся во весь рост, выглянул из-за спин и голов – он-то был выше остальных. – Товарищ Космач, чаго там?.. – Распределяют нас по родам войск… – Чего? – Кого в пехоту, кого в танкисты, кого вон – в авиацию, – пояснил бывший командир, продолжая чесать щетину. Дема хотел было сказать, что у него кровь с подбородка течет, но промолчал. Да и что ему с той крови? Он и так мертвый. В спину тыкались новые и новые покойники, глухо ворчали, недовольные задержкой. С уродливого неба, где бурлили свинцовые тучи, посыпались осадки в виде серого пепла – он оседал на плечах солдатни и офицеров, пачкал мундиры, формы и погоны сотен стран; вот так, стоя под пепельной непогодой, они неспешно продвигались вперед, едва ли не топчась на месте. А кошмарное чавканье все приближалось. – А я дома огород не прополола… – невпопад сказала Акулина, нервно стряхивая с платья пепел. Слева от нее стоял солдат в похожей на котелок каске. «Англичанин, видать», – подумал Дема. Пулей или снарядом солдату разворотило половину лица; Акулина старательно отводила от него взгляд, пыталась не смотреть. Покойники начали расступаться; в просветах между ними Дема увидел, что же издавало такой странный звук. Над конвейером нависало что-то шарообразное, размером с добрую цистерну на тонких костяных ножках. Да и сам «шар» состоял не то из слежавшейся окоченевшей плоти, не то из костей. Длинные руки-манипуляторы споро орудовали разнообразными инструментами: костяной иголкой с нитью из сухожилий, тяжелым молотом из нижней челюсти, полной жменей гвоздей из ребер. По поверхности чудовищного инструмента ползали какие-то мелкие вертлявые создания с головами, похожими на битые яичные скорлупки – все, как одна, пустые. Стоило очередному грешнику оказаться под этим шаром, как вертлявые твари тут же принимались за работу: фиксировали, придерживали, направляли и совершали прочие мелкие манипуляции, пока чудовищного размера руки искажали плоть душ: пришивали намертво фуражку к голове, прибивали гвоздями-ребрами к плечу винтовку. Неходячих превращали в странное подобие человекоподобного станкового пулемета, с щитком из ребер и визжащей от боли головой вместо ствола. После тот отправлялся на «свой» конвейер. Хуже всех приходилось тем, от кого и осталось-то что груда кишок да голова: этих тяжелые манипуляторы перемалывали в кровавую массу и лепили из них снаряд, который тоже отправлялся на конвейер. За «сборочным цехом» конвейеры расходились – вросшие по пояс в землю тулова с чадящим пламенем вместо головы направляли «пехотинцев» тяжелыми ударами блестящих склизкой плотью плетей. Делали они это механически-одинаково, выверенно, будто комбайн колосья собирал. Какие-то удары были так сильны, что грешники падали на четвереньки и едва ползли дальше. Других же отчего-то стегали не так сильно, словно каждого по своим заслугам. Вперед Акулины и Демьяна прошел Космач, придерживавший за локоть лишившегося ноги Степку Ожегова. Рядом еще двое с их отряда, Рудной и Яременко, а вот спереди всех зна́ток разглядел человека в нацистской униформе. Притом, судя по всему, офицера: юному знатку даже показалось, что он увидел лычки SS на плече немца. В груди вскипела ненависть; он тряхнул Славу Яременко за рукав, сказал: – Слышь, Слав, кажи-ка им, шоб гэту падаль тута як следует отходили! – А ты кто такой? – удивился Слава, не узнавая его; он, как и остальные, кроме разве что Космача, мало чего понимал. – Молчи, без тебя разберутся! – шикнула на Дему знатка. – Нашелся умник! Под монастырь нас подведешь… – Зразумел, молчу. Акулин, а хто гэта такие, як думаешь? Ну вот гэтые пустоголовые и остатние… – Как кто? Бесы, вестимо! Так вот они какие, бесы… Дема уставился на них, пытаясь запомнить во всех подробностях. Ни рогов, ни копыт не видать. Какие-то все несуразные и друг на друга непохожие; слепленные как попало, из падали и костей, они то казались твердыми как кость, то текучими как гниль, постоянно менявшими свой облик. И это пугало – сколько ни гляди, как глаза на секунду отведешь – уже и не помнишь. Нацист уже подходил к «сборочному цеху», как вдруг уперся ногами и заартачился, с ужасом глядя на уродливый барельеф слежавшейся мертвечины, но толпа напирала. Спина эсэсовского офицера сгорбилась, он захныкал: – Das war nicht meine Schuld! Der Führer, er war das! Ich hab nur Befehle befolgt! Ich bin nur ein Panzerkommandant! [176] Бесы будто и не слышали его нытья, лишь подтащили костяными баграми в нужное место, а заодно к нему еще троих каких-то азиатов, кажется японцев – не определить, обгорели до черноты. Те верещали и извивались, но шар из плоти был неумолим. С безразличием мясника в несколько скорых движений он с хрустом и чавканьем слепил из этих четверых какой-то ком и принялся подрезать-шить-вытягивать и выламывать. Когда он закончил, на конвейере оказался самый настоящий мясной танк: гусеницы из кишок, дуло из позвоночного столба, башня из чьей-то грудной клетки. Ошеломленный, в пулеметном гнезде торчал азиат, намертво приваренный к своему превращенному в орудие товарищу. Нацист по праву командира, видимо, оказался где-то в двигателе, откуда и продолжал доноситься его жалобный вой. Финальным штрихом огромное лезвие вырезало размашистый паук свастики на кровоточащей плоти, и танк отправился на следующий конвейер. – То-то, поделом ему, падали! – с мрачным удовлетворением промолвил Дема. – Хоть где-то им, сволочам поганым, по заслугам воздастся. Подошла очередь Космача. Он сделал шаг вперед, гордо выставил перед собой потертую и поцарапанную в партизанских вылазках винтовку. Застрекотала игла, пришивая неказистую партизанскую одежу к телу; приколотило «мосинку» к руке намертво. А Степка Ожегов не руку подставил, а обрубок ноги, и рядом пулемет свой тяжеленный. «Сборочный цех», будто сжалившись, понял его – и вот уже заместо ноги у солдата протез в виде пулемета, на который Степка встал себе спокойно, оперся дулом о конвейер. Конвейер унес обоих на новую ленту, и их понесло прочь, вместе с остальной «пехотой», а следом весь отряд партизанский, где служил Дема. На спины им, для скорости, обрушился град хлестких ударов. Вдруг Дема понял, что подошла их очередь. Манипуляторы уже вовсю хищно перебирали многосуставчатыми пальцами. Акулина молчала, видать, оглушенная ужасом представшего зрелища. Тогда Дема взял слово: – Товарищи бесы, мы тут по делу; да и не мертвые мы вовсе. Нам бы… Обслуживавшие цех бесы застыли, повернули свои скорлупки – как есть битые горшки – к двум знатким. В глубине скорлупок яростно полыхнули огоньки. Дема прокашлялся: – Нам бы гэта… Туды дальше пройти. Можно так? Не взад же вертаться… Бесы зашипели, точно на угли плеснули воды; со всех сторон сбегались новые твари покрупнее да поуродливей, карабкались по рабице из костей, перепрыгивали через колючую проволоку из кишок. Будто кто ткнул палкой в улей, и теперь рой собирался дать отпор непрошеным гостям. Земля со всех сторон зашевелилась. Из трещин и лакун костяной поверхности показались какие-то черные сегментированные черви с единственным зубом на голове. «Пальцы!» – изумился Дема, но запоздало: одна рука выползла целиком и ухватила его за щиколотку, потянула с конвейера вниз. Нога ухнула едва ли не по колено в хрупкое костяное крошево; ребра разодрали штанину. – Акулина! – взвизгнул Дема, но знатка оставалась невозмутима. Дождалась, покуда бесы не подобрались совсем близко, а после гаркнула: – Раздор! – гаркнула так, будто «караул» кричала. – Я сделку хочу! И стоило ей произнести эти слова, как всю пекельную шушеру сдуло будто ураганом; нырнули обратно под землю пальцы-черви, отпустило Демину ногу, и даже бесы, обслуживавшие «сборочный цех», почтительно расступились, пропуская живых особой, средней дорогой – уже без всякого конвейера. Почва под ногами проседала – да и не почва это была никакая, а тела, вросшие друг в друга, переплетенные, будто корнями. То тут, то там голышами торчали затылки с аккуратными пулевыми отверстиями; пекельный ветер гонял по поверхности незнакомую полосатую ткань, изорванную пулеметными очередями; на некоторых клочках попадались номера. Безголовые торсы с плетьми, стоило знатким приблизиться, опускали свои плети – нельзя им, значит, живых-то людей хлестать, и то хорошо, а то после веничков кожа и так горела, будто через крапиву идешь. Дема старался смотреть прямо и не обращать внимания на бесконечные вереницы бесов. Те, впрочем, кажется, тоже не замечали более двух странников и бесстрастно, как автоматоны, продолжали хлестать вереницы грешников на отделенных заборами конвейерах. Дождь из пепла кончался, подуло жарким ветром, и стало лучше видно окрестности. Знаткие принялись озираться. Печальные процессии мертвецов приближались к огромному – насколько хватало глаз – кратеру, вырытому в вонявшей резиной земле – как если б кто покрышку поджег. Очень большую покрышку – аж глаза от вони слезятся. Конвейер выплевывал туда, в яму, сделанные из душ танки, снаряды и даже самолеты. В яме той находилось… нечто. Дема даже не знал, как обозвать увиденное, настолько зрелище было необычным. Будто скопище клопов, щитников серых, копошилось в единой куче-мале, наползая на спины друг друга и толкаясь лапками. Шла бесконечная бойня всех против всех: взрывались костяными осколками снаряды, дула танков выплевывали головы экипажа, тыкали штыки из лучевой кости, строчили зубной крошкой пулеметы. И все они закручивались в воронке, что начиналась поверху и спускалась туда, вглубь ямы; приглядевшись, Дема осознал, что серые «клопы» и есть покойники, начинавшие свое шествие от краев кратера на вершине и постепенно, держась за стены и за плечи товарищей, скатывавшиеся туда, вниз… А чего там, внизу-то? Куды они собрались? Он наклонился, уперся коленями в спекшийся от жара обрыв. – Дема, ты чего? – удивленно спросила Акулина. – Тсс, глянуть хочу, куды они все идут. И он, схватившись руками за насыпанный у краев ямы барьер, высунул голову, посмотрел вниз… Туда, где воронка, состоящая из тысяч мертвецов-клопов, сужалась. Ближе к середине вздымались в небо огненные вихри, похожие не то на какие-то адские деревья, не то на грибы, поднимавшие тучи пепла. И через это слепящее безумие Дема разглядел-таки то самое место, куда шли все убитые на войне солдаты. Разглядел и сразу отпрянул обратно, дрожа и хватая ртом воздух. Одной секунды ему хватило, чтобы все понять. – Ты чего это? – испуганно воскликнула Акулина. – Что там увидел? Дай гляну! – Не гляди! Не треба, не гляди туды! – тяжело дыша от испуга, юный зна́ток оттащил ее от края. – Да что там такое? – Там – конец пути, – промолвил оказавшийся рядом, у края ямы Космач, продолжая таращиться будто бы мимо своим мертвецки-потерянным взором, – и вам туда нельзя. А закурить было б можно… И ушел, неловко ковыляя и придерживая за руку Степку Ожегова – тот, бедный, еще не приноровился на пулемете шагать, прыгал, как кузнечик. Их обоих безжалостный конвейер сбросил с края ямы, и те, скатившись, будто два мешка, по ощетинившейся ребрами стенке, сразу врубились в гущу схватки. – Не гляди, Акулин, – едва ли не всхлипывая, повторил Дема – он вцепился в локоть знатки и не отпускал, – не треба такое знать… – Добре, не стану, – серьезно кивнула знатка, не в силах оторвать глаз от его искаженного, будто бы постаревшего лица, – идти-то дальше сможешь или как? – Смогу… А куда идти? – спросил он, все еще пытаясь изгнать из памяти увиденное на дне воронки. – А вона, наверх погляди. Ждут нас уже. Вот он, Раздор. Главный, значится, по нынешней войне. Дема задрал голову. Свинцовые тучи здесь висели ниже; из них продолжал сыпать редкий пепел, покрывавший серым налетом спины погибших воинов. Сначала он не понял, о чем говорит ему Акулина, но лишь оттого, что в голове не укладывалось назначение странной конструкции, нависшей над кратером-воронкой. Да и застыл в голове иной образ, как негатив на пленке, как ожог от солнца на склере – того, что под ногами, а не над головой. По-паучьи растопырив семь длинных ног, уперев железные пятки в края кратера, метрах в ста висел черт. Он внимательно надзирал за происходящим, хоть глаз у него и не виднелось; просто ощущался рыщущий туда-обратно нечеловеческий взгляд, вызывавший дрожь в кишках. Ни глаз, ни ушей, ни рта у Раздора не имелось. Вместо тела сплавленное нагромождение техники и плоти – Дема опытным взглядом определил и немецкую «Пантеру», торчавшую сбоку, и артиллерийские орудия, и огромное количество ощетинившихся винтовок, автоматов, минометов, а также почему-то копий, сабель, древних луков и арбалетов, скрепленных выгоревшим до угля человечьим мясом. Жирными валиками свисала требуха упавших дирижаблей; вросшие в тело черта, будто клещи, солдаты долбили себя по фуражкам и шлемам, отдавая честь; многие вскидывали руку в нацистском приветствии. Их вываренные до белков глаза тупо пялились в «небо», кабы оно здесь было. Черт казался старым, жирным, разъевшимся и ощущался таким могущественным, что хотелось пасть перед ним на колени, вымаливая пощады непослушными губами. Акулина спросила: – Ну дык чаго ты там, внизу, увидал-то? Нешто жутче, чем этакая образина? Дема кивнул, а потом даже дернул головой, чтобы наконец забыть, вытряхнуть из мыслей повисший там образ невыразимого кошмара, что ждал погибших солдат на дне кратера. – Жутче некуда, – признался он. – Ну, значит, черт тебя не пужает – уже добре, – сказала Акулина и снова крикнула: – Раздор! Сделку хочу! Железная конструкция застонала, точно собираясь обрушиться. Заскрипели металлические ножищи, зачавкала, отрываясь, приросшая к краям кратера плоть – черт явно нечасто покидал насиженное место. Одна из лап переступила на месте, скрошив цельный пласт «земли», – посыпались в кратер кости и целые скелеты. Гигантский «лик» – щетинистая мешанина из клинков, штыков, обломанных копий и беспорядочно уцепившихся за них рук – приблизился к краю ямы, где стояли знаткие. От образины в нос тяжело шибало порохом, ружейным маслом и горелой мертвечиной. – Сделка-а-а… – протрубил Раздор так громогласно, что у Демы волосы дыбом встали и в легких задрожало как от взрыва; по краям морды черта высунулись помятые репродукторы – оттуда голос и раздавался. Будто Левитан глаголит. – Видящие-е-е… – Сделка! Видящие мы, знаткие! – подтвердила Акулина, смело глядя на древнюю пекельную тварь. – С тобой пришли договор держать – сумеешь ли дать мне то, о чем прошу? Раздор фыркнул, выпустив клубы черного дыма из беспорядочно разбросанных по морде ноздрей-глушителей; двое знатких раскашлялись. – Могу дать тебе все, о чем спросишь, видящая; имя мне истинное – легион, ибо нас много; и в наших силах многое. В обмен на плату; какова твоя плата, смертная? Для слов своих ты сделай вес и меру, а для уст своих – дверь и запор. Что вышло из уст твоих – соблюдай и исполняй. Проси! Акулина деловито кивнула. Сидевший рядом в грязи Дема завороженно наблюдал за ее лицом, заострившимся, как у птицы, с бешено мерцающими стальным синим блеском глазами – в них отражались вспышки на небесной круговерти. – Хочу отдать самое дорогое, что у меня есть! – каркнула Акулина. – Хочу отдать все, что сможешь ты забрать, Раздор! Все бери! Но просьба у меня непомерная, великая… Раздор словно бы кивнул задумчиво; от движения из проржавевших пор на его исполинском теле повалил белый пар; застонали пуще прежнего, вторя металлическому скрежету, грешники, прикованные к мешанине из железа и оружия. Все в Раздоре скрипело, звенело; падали в глубину воронки обгоревшие куски военной формы, стекали потоки плавленой резины, сыпались мелкие детали. – Пекло может стать другом твоим, о женщина; отдались от врагов твоих и стань осмотрительной с друзьями твоими. Верный друг – крепкая защита; кто нашел его, тот нашел сокровище. Кто твой друг отныне? – Ты, Раздор! Ты мой друг теперь! И он, а он мало того что знаткий, дык яшчэ и воин! – тут Акулина внезапно указала пальцем на Дему, который съежился сбоку, пытаясь казаться незаметным. – Мы твои друзья отныне! – Хорошо-о-о… Раздору нужны друзья. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись меж собою? – Не пойдут, – подтвердила Акулина. – Говори тогда просьбу свою от всего сердца! – Прошу о Победе! – со всех сил крикнула Акулина – крикнула прямо в морду черту, да так громко и искренне, что даже он на секунду отпрянул. – Прошу о том, шоб вышла эта падаль нацистская из Беларуси! Хочу, шоб гнали гнид до самого Берлину, да шоб фюрер у себя в Рейхе застрелился от отчаяния! Хочу, шоб наши устроили в Германии такое, от чего фрицы потом полвека отойти не смогли, и шоб каялись, каялись пред миром всем за свои злочинства! Шоб потом нацистов все ненавидели! Шчоб заплатили они сполна за Нинку и за всех Нинок, которых спортили, сволочи паганые! «Вот гэта завернула!» – подумал Дема. Чтоб фюрер застрелился! Теперь Раздор им точно откажет, с такой-то просьбой… Да и при чем тут Нинка-то? Ан нет – Раздор внимательно глядел на знатку, словно в раздумьях. Глаза ему заменяли десятки фар от мотоциклов и автомобилей, а на самом верху морды – громадный прожектор, из тех, какие на башнях в лагерях ставят, чтоб не убег никто. Свет бил прямиком в знаткую, ярко освещая ее на фоне шевелившихся вокруг грешников. На краю круга света сидел и Дема, сжавшийся в комок и дрожавший; зна́ток пока еще не знал, но этой ночью, проведенной в Пекле, он поседел пуще прежнего. Наконец репродукторы ожили, и из них раздался тот же по-левитански громкий, зычный голос: – Да не будет рука твоя распростертою к принятию и сжатою при отдании… – Не будет… Не будет! – воскликнула Акулина. – Як сказала – так и буде. Наше слово – замок! Кремень! Так, Дема? – Все так… – неохотно подтвердил юный зна́ток. – Попомни – лучше терпение, чем гордыня, – зачем-то строго напомнил Раздор. – Не из гордыни я то делаю, а за-ради народа своего, – парировала знатка. – А терпеть уж мочи нет. – Тогда договор! – взревел Раздор так, что в ушах зазвенело. – Отныне ты – друг мой. Готова ли такой крест на плечи своя водрузить? Ни одна душа не выдержит, ни одна… – Так не одна! Двое нас! На двоих грех разделим! – крикнула Акулина и схватила Дему за руку, подтащила ближе к морде черта – любуйся, мол, оба мы согласны. Луч прожектора ударил в глаза с такой силой, что зна́ток зажмурился, прикрыл лицо ладонью. – И ты готов? – рявкнул на него Раздор, дохнул пылью, смогом и вонью горелой плоти. Дема снова бросил взгляд вниз, в кратер, туда, где по спирали бесконечная баталия спускалась через лес огненных древ в кошмарный, невыразимый центр. Так вот куда, значит… – Согласен… – выдавил он из себя. – Возьмешь грех? – Возьму… – Тогда душа ваша должна быть едина, сочтена узами брака. Более же всего облекитесь друг с другом в любовь, которая есть совокупность совершенства; и став единым целым, вы родите грех; родив грех, вы завершите сделку; сделка же, придавив вашу единую отныне душу, принесет вас ко мне, друзья, по окончании данного срока. Останетесь вы навеки со мною здесь, в Пекле. – Дему вывернуло наизнанку; он сам не заметил, как к горлу подкатил плотный комок, и юный зна́ток, согнувшись, выблевал содержимое желудка на спину одного из мертвецов, что корчились под ногами. Не обращая на него внимания, Акулина спросила: – Что делать треба для сделки? – Венчаться вам надо, – коротко ответили круглые репродукторы. – Венчание то будет по законам и правилам не церкви, но Пекла. Выпрямившись и утирая губы рукавом, Дема жалобно спросил: – Венчание? Якое яшчэ венчание, к черту? Раздор промолчал, заглох, будто машина с отключенным питанием. В его исполинском теле что-то происходило: глаза-фары отваливались, из дырок под ними лезли обгорелые до черноты человеческие руки, а репродукторы спрятались. Мощные железные лапы черта задвигались, обрушивая вниз пласты земли со скелетами. Снизу же по склону карабкались мертвецы с горящими красным глазами. Они сжимали в руках разные предметы, назначения которых Деме даже не хотелось знать. Раздор гудел, словно бочка: – Призываю дезертиров и предателей в свидетели, а в плакальщицы – самогубиц, матерей солдатских. Вылезайте, грешные, гостями на свадебке будучи! Земля буквально оживала под ногами, оказывалась то чьей-то спиной, то грудью. Мертвецы поднимались, собирая себя по частям; крутили головами, разминали обугленные конечности. Вырастали, будто грибы, со всех сторон печальные тени – все как один в платках или касках, сгорбленные, скорбные, с блестящими от слез лицами. Одна как две капли воды походила на мамку. Зна́ток беспомощно посмотрел на Акулину. Та ответила своим новым, полубезумным взглядом – с улыбкой до ушей. Видневшаяся сквозь прореху в платье грудь была Деме теперь глубоко по барабану. Больше всего в жизни он хотел покинуть это место; закралась даже мысль – а не сон ли все это? Но нет, на кошмар не похоже – в кошмарах обычно не помнишь, как ты в них оказался, а у него в ушах до сих пор стоял визг умирающего банника. Один из мертвецов водрузил на голову Акулины железный венок, впившийся ей в кожу острыми зубьями, отчего по лбу знатки сразу потекла кровь. Другой такой же венок надели на Дему. Настолько тяжелый, что знаток аж согнулся под его весом и сжал зубы от боли, но не вскрикнул, чтоб не позориться перед наставницей. Им вручили оплывшую желтую свечу. Забарабанили по рукам горячие капли, скрепляя их ладони воедино, нестерпимозавоняло мертвечиной; по рассказам Акулины Дема знал, что в старину ведьмы делали такие свечи из жира висельника или какого иного самогубца. В мгновение ока узкая площадка у кратера оказалась заполнена мертвецами, в окружении которых жались друг к другу двое знатких. Тем временем плоть Раздора бурлила, оттуда высовывались и тут же пропадали безликие мертвецы; будто он перебирал их, как карты. Наконец, выбрав, видимо, нужного, он водрузил его на лапу, как куклу Петрушку, и склонил ее к знатким. Мертвец заговорил, но звуков не издавал – лишь шевелил губами; ревели репродукторы: – Блуднику сладок всякий хлеб. Дема покорно кивнул в ответ на бессмысленную фразу. Тогда «Петрушка» наклонился к Акулине и молвил: – Сказано в Книге Сираха: «Досада, стыд и срам, когда женщина будет преобладать над своим мужем». Так слушай же, раба Раздора! Преобладай над мужем, будь главней его! Ибо венчание сие совершается не по правилу Божьему, а наоборот. Согласна ли ты быть супротив Бога? Акулина поперхнулась, и Дема понимал почему – пост она соблюдала едва ли не строже, чем порядок в доме, справляла все православные праздники – и Красную горку, и Яблочный Спас, а перед сном молилась на иконы. Но знаткая все же выдавила из себя: – Согласна… – А ты, раб Раздора Демьян, согласен ли быть покорным жене своей? – Согласен… – прошептал Дема, пошатываясь, словно после контузии. Он был согласен уже на что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Мертвец кивнул: только сейчас Дема понял, что это бывший полковой священник, какие были еще до революции, – одеяние его не выцвело полностью, но порядком истерлось за годы нахождения в Пекле. В черных руках он держал книгу – судя по всему, требник, и непрестанно крестил молодых крестным знамением наоборот – начиная с пупа, а не со лба. Народились из плоти Раздора еще два обугленных торса и открутили – каждый со своей стороны – по гайке. Грешный капеллан молвил: – Обручай, жена, мужа своего, и спрашивай его согласия! А коль не согласится – одной тебе грех тянуть! Акулина вздрогнула, когда малиновые от жара гайки упали ей на ладонь. Она спешно надела одно «кольцо» себе на безымянный палец – только плоть зашкворчала, а второе протянула Деме. Спросила: – Согласен… быть мужем моим? Во веки веков? Зна́ток заколебался, осознавая, что творит и куда их обоих утянет этот грех – в ту страшную воронку по центру кратера, что не выходила из головы. Но он взглянул на Акулину, на ее искаженное мукой лицо; раскаленное кольцо прожигало пальцы, стелился серый дымок. Он закивал истово: – Согласен. Согласен я! Возликовал капеллан: – Отныне объявляю вас мужем и женой! А чтоб закрепить таинство – должно вам возлечь и совокупляться до тех пор, покуда семя твое, раб Раздора Демьян, не попадет в тело твое, раба Раздора Акулина. Тогда сделку можно считать завершенной, а брак ваш – заключенным. – Прямо здесь? – холодея от ужаса, спросил Дема. – И да засвидетельствуют сие святотатство дезертиры, узники да матери солдатские! – громыхнул мертвец из репродукторов, пряча требник куда-то под рясу. После чего оплыл гнилым мясом да черным пеплом, исполнив свою роль. Вновь вспыхнули фары, ожили громкоговорители – теперь говорил сам Раздор, без посредников: – Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Так сотворите же грех! Дема трясся, оглядывался и шептал: – Нет, я не могу… Ну не так же! К нему приблизилась Акулина, наклонилась, зыркнула синими глазищами: – Ты ж давно этого хотел! Я знаю, я видела… – Но не так! Не здесь! – По-другому никак, Дема… На, погляди, – знатка неловко достала сиську из платья, продемонстрировала парню, как коровье вымя, – хочешь потрогать? Давай, не стесняйся. – Не хочу… – Да бери, трогай! – она схватила его руку и положила на теплую грудь. Как долго он об этом мечтал, думал каждую ночь, а теперь… Акулина повалила его наземь, прямо на слежавшуюся до каменной твердости мертвечину с корнями торчащих конечностей. Дема чувствовал, как те едва шевелятся под ним; Акулина и сама поморщилась от омерзения, но задрала платье. Дема отвернулся, увидев ее голые ляжки; наткнулся на глумливые морды дезертиров – те подбадривали, делали всякие похабные жесты. Один даже загнул другого и принялся тыкаться пахом тому в прогоревший дотла костлявый таз. Хлопали в ладоши, поднимая облака сажи, расстрелянные предатели – все в дырках, как решето. Солдатские матери – все, как одна, со скорбными ликами, будто на иконах, горько оплакивали не то своих детей, не то их с Акулиной души. – Не гляди на них… – жарко прошептала Акулина и неловко поцеловала ученика – целоваться она и сама не умела. – На мене гляди, милый. От ее поцелуя отдавало соленым потом. В нос также шибало химической вонью жженой резины и горелого стекла, мертвечины и пороха. Дема обнял ее за талию, помог стащить через голову платье. Расстегнул свой ремень и приспустил штаны. Акулина сунула руку ему в трусы, нашарила необходимое – затвердевшее после поцелуев – и села сверху, выдохнув сквозь зубы. На ее лице промелькнуло не сладострастие, но боль. Поймав взгляд, она вымученно улыбнулась: – Все хорошо, Демушка. На меня гляди, только на меня… И Дема глядел на нее, не отрывая глаз, – на фоне клубящегося серными тучами небосвода ее бледная фигурка, иссеченная вениками, казалась единственным светлым, ангельским во всем этом проклятом мире. – Как семя внутре ней окажется, – прогремел Раздор, выдохнув очередную порцию дыма, – так и сделка будет завершена; подождать останется, пока дитя у вас родится; но оно скоро поспеет – плод греха скор. И помните, смертные, – должок платежом красен. Ибо прах ты и в прах возвратишься; но прежде отдадите вы мне самое дорогое, что у вас есть. Таков договор. Дема с Акулиной его уже не слушали – они предавались греху на ложе из мертвечины посреди Пекла, в самой что ни на есть преисподней – в окружении галдящих дезертиров и рыдающих матерей, но видели лишь друг друга. Вспотевшие от возбуждения и жара, двигались бедра в унисон, ласкали руки тела любимых, впивались губы в другие губы в порыве страсти. Оба девственные доныне, знаткие познавали тела друг друга, позабыв совсем и про мертвецов, и про чертей, и про само Пекло, будь оно неладно. В какой-то момент Дема ощутил, что у него подкатывает горячим к низу живота; он заскулил, вцепился в ягодицы Акулины, насаживая до боли в паху, а та гладила его волосы и шептала ласково на ухо: – Вот так, милый, вот так… Хорошо тебе было? Прости, шо так вышло, прости, шо здесь… Но мы с тобой великое дело сделали. Ты все, да? – Все! – выдохнул он. И в этот самый миг у него закружилась голова, будто бы начал он куда-то падать. Земля под ним расступилась, и они впрямь рухнули будто в некую пропасть, так и не отпустив друг друга. В глухую-глухую тьму, словно в ничто; чиркнуло горячими углями по спинам, и почти потухшая уже печь выплюнула их обоих на доски бани, тут же обрушившись внутрь себя и пыхнув напоследок удушливым дымом. Дема крякнул от боли, отбив копчик, Акулина же приземлилась удачно – на него сверху. Так они лежали какое-то время, тяжело дыша, вспотевшие и совершенно голые. Акулина слезла с него, отползла в угол и села там, стыдливо поджав ноги. Провела пальцами по бедру и брезгливо стряхнула каплю. Дема огляделся. Неужели снова в Яви? В окошко светила яркая луна, наполняя баню синеватыми сумерками. От печи воняло серой и щекочущей нос гарью, хотя какая теперь печь – груда кирпичей и только. – Акулин… Акулина! – Чаго табе? – буркнула знатка. – Слухай, у нас… у нас все получилось? Знатка погладила живот, посмотрела на ученика, что твоя кошка, – блеснули в темноте синие глаза. – Все получилось… Где-то под полком горько выла обдериха, оплакивая мужа.

– И чаго дальше-то? – спросил визгливый голосок из-за стены, уже нисколько не похожий на человеческий. – Чаго-чаго… Вот и все. Вот и сказке конец. – Не-е-ет, не все! За что тебя знаткая невзлюбила, а? В чем твой грех, где ты слабину дал, где обманул всех? Уж мне-то не солжешь! Я – твоя совесть, знаткий. Я все ведаю! И зараз ты мне все скажешь, все выложишь, як на духу! – Хрен тебе, нечистый! – выкрикнул Демьян. В ответ ему из соседнего «стакана» раздалось хихиканье, нараставшее секунда от секунды – будто бы обладатель голоса увеличивался в размерах. Демьян зажал рот ладонью, но язык, проклятый, продолжал говорить; тогда зна́ток прикусил язык, до крови, чтоб тот не болтал лишнего. – Упорный яки, – раздался голос уже откуда-то сверху, – придется, значит, тебя по-другому разговорить. Коль не хошь говорить сам – я твой язычок-то вытягну, он мене все и скажет. Ну-кась, последний шанс тебе – шо там произошло далее, в сорок четвертом году, о чем ты так сказать желаешь, а? – Хр-р-рен тебе! – еле вымолвил Демьян сквозь крепко зажатый рот, чувствуя железистую кровь. – Пошел к чер-р-рту! – Дык гэта ты скоро к нему по́йдешь… Что-то заслонило свет, проникавший сквозь решетку в потолке. Демьян поднял голову. Там, приникнув брюшком к стенке, как паук, раскорячилась странная зыбкая фигура – с тощими конечностями, с бледной до синевы кожей и наколками, набитыми по всему телу. Лица у твари не имелось – вместо него одно сплошное ухо – закрученное, темное, как поросший грубым волосом гриб чага… И брюхо разверстое с болтающейся длинною кишкой. – Шо там произошло в сорок четвертом? – прошипел нечистый. – Шо? Шо?.. Демьян заскулил и отпустил рот – он больше не мог сдержаться. От непрошеных воспоминаний из глаз хлынули слезы. Он вспомнил и прогулку в Пекло, и то, что увидел на дне кратера – и пытался забыть, – и изумленное лицо Акулины, когда он… – Виноват я! – взвыл зна́ток. – Винова-а-ат! Прости мене, Акулина!.. Он забился в тесном пространстве камеры-«стакана», врезался лбом в стену, оставив на сырой штукатурке отпечаток – в том месте, где уже имелись отметины от предыдущих постояльцев. – В чем виноват, в чем? – хищно шептала тварь на потолке. – Что ж ты зробил такого, что сам себя простить не можешь? – Сволочь я, слово не сдержал! Не кремень, а тьфу – творог жидкий! На мне вина, на мне одном! – Ну-ну, коль на тебе вина, гришь… – двумя нижними конечностями тварь подтянула из толстого брюха синюю кишку и начала спускать ее вниз, на дно «стакана». – Дык раз ты виноват, то искупить надо бы, не? Не простишь ты себя ведь. – Надо… – произнес плачущий зна́ток. – Я искуплю! Прости мене, Акулина, прости, милая… Не хотел я… – Бери веревочку-то, – ласково, совсем другим голосом шептал нечистый. – Ты ж знаешь, чаво робить-то? Надевай на шею да сказывай до конца – больно интересно ты рассказываешь. Ишь ты, в Пекле побывал! Ну туды и вернесся, хе-хе… Всхлипывая, Демьян подхватил нижний конец спущенной кишки – и была то вовсе не кишка, а крепкая, хорошо растянутая веревка с заботливо сделанной петлей на конце. Он накинул петлю на шею, а нечистый начал понемногу ее натягивать, говоря: – Я сразу не придушу: ты значалу до конца расскажи. Ноги оторвались от пола, затылок сдавило приятной даже какой-то тяжестью, в голове зародилась растущая благостная пустота. Демьян продолжал плакать по инерции; горло перехватило, но воздуха было достаточно, чтобы рассказать конец истории – там и осталось-то всего ничего. Нечистый потирал сухие руки, приготовившись слушать. В этот миг «робот»-приемник распахнулся и в «стакан» заглянуло чье-то взбудораженное лицо. – Вашу мать! Он там вешаться собрался! Вы чем смотрите, балбесы? Открывай живее! – Сейчас, товарищ майор, замок тута ржавый… – Дай сюда! Взвизгнул механизм старого замка, дверь распахнулась, и кто-то подхватил Демьяна под мышки, чтобы ослабить веревку. Знакомый голос рявкнул на ухо: – Тебе чего, Климов, жизнь не мила? На тот свет собрался, придурок? – Товарищ… чекист? – недоуменно спросил Демьян, приходя в себя; слезы на щеках высыхали, и он уже сам не понимал, что на него такое нашло, отчего он петлю на шею накинул. Его выволокли в продол. Стоящий рядом вертухай сунул фляжку, Демьян хлебнул, как воду, и закашлялся – внутри фляги оказался спирт, обжегший горло. – Он самый! – сказал Жигалов – весь какой-то заполошный, нервный и растрепанный. – Сколько раз тебя спасать-то можно, знахарь? – Сам ты знахарь… И гэта… долг платежом красен. Я тебе тоже так-то выручил. – Ты-ы-ы? Меня-я-я? Когда это? – Потом расскажу… Ну-ка, Гришка, дай яшчэ со своей фляжки хлебнуть, – он протянул руку пупкарю. Тот отдал флягу, но сказал, нервно оглянувшись: – Зараз начальник тюрьмы придет, мабыть… Вы тольки про спирт никому, добре? – Добре! – весело подмигнул зна́ток. К нему быстро возвращалось хорошее настроение. – Слышь, фокусник, – напомнил о себе Жигалов, забирая флягу и тоже делая добрый глоток, – скажи, а ты где в камере веревку-то взял? И как на потолок ее привязать умудрился? И впрямь, веревка… События последних суток запечатлелись в памяти неясно, смазанными фрагментами, точно провел он их во сне. В чужом сне. Демьян шагнул обратно в «стакан» и сразу почувствовал царящий здесь холод – температура была намного ниже, чем в продоле. Веревка тянулась на самый верх и была крепко привязана там к арматуре решетчатого окна. Мелькнула паукообразная тень. Содрогнувшись, Демьян выскочил из камеры и захлопнул дверь. – Вы чаго гэта? – спросил Гришка. – Ничога, хлопче, померещилась пакость якая-то… Слышь, майор, ты же мне доверяешь, да? – Смотря в чем. Но верю теперь, – серьезно кивнул Жигалов. – А с кумом побалакать здолеешь? – Ну, смогу. – В общем, так. «Стакан» гэты заплющить треба и не садить сюды впредь никого. – На кой закрыть? – Нечистое место. Тут тольки святой али немой выжить сможет… Остальные все вешаться станут на второй день. Чую, самогубцев с гэтого «стакана» уж не один десяток вытащили. Гришка-солдат хохотнул над забавной шуткой, но тут же осекся под серьезными взглядами – бородатого лекаря из деревни и одетого в форму КГБ усатого майора. Неужто они всерьез?.. – Поговорю, – кивнул Демьяну Жигалов, – сейчас и скажу, мол, антисанитария у них тут и холодно. Пневмония, ангина и стафилококк золотистый. Закроют камеру. Кума, кстати, уже с постели подняли. Сейчас к нему в кабинет, бумаги подпишем, вещи заберешь и… – Вещи, бумаги? – удивился зна́ток. – Меня выпускают, шо ль? – Выпускают, под мою ответственность. Нужен ты мне, знахарь… тьфу ты, зна́ток. Поедем в Задорье, разбираться с вашей чертовщиной. Ну ты как, готов обратно на свободу? И майор протянул свою лапищу, на которую Демьян смотрел пару секунд, а потом крепко пожал. Но уже с уважением и благодарностью. – Готов! Улыбнулся в бороду новообретенному союзнику. Но улыбка померкла, когда из приоткрытого «робота» потянуло стылым холодком и прошипело ласково: – Все одно не простиш-ш-шь себя, все одно, як батька твой висеть будеш-ш-шь… Демьян сглотнул и поспешил по продолу навстречу долгожданной свободе.
Светопреставление
Близилось первое сентября. Скоро пустые коридоры наполнятся шумом и гамом бегающей детворы, снова разнесется по ним трель звонка. А пока было время подготовиться к новому учебному году. Но голова у Анны Демидовны была забита другим: Демьян в тюрьме, Жигалов уехал, и даже неприкаянный Максимка теперь обретался у какого-то мрачного деда с соседней вёски. Пытаясь унять тревогу, она подклеивала разболтавшиеся учебники, но накопившаяся за день жара навевала тягучую леность. Даже мухи, налетевшие из открытого окна, жужжали как-то вяло и устало, как из-под палки. Красное зарево закатного солнца растягивало тени от фикусов в длинные острые щупальца, тянувшиеся к противоположной стене. Анна Демидовна расчихалась от запаха клея, отложила очередной учебник-инвалид, обложка которого болталась на одной нитке. Откинулась на стуле, давая отдых затекшей спине, пробежалась взглядом по портретам Гете, Гейне и прочих немецких классиков. Расцветавший за окном багровый закат падал на поле тяжелой алой полосой – будто зерноуборочный комбайн пропахал целину кумачового золота. Из-за одних только подобных закатов и можно было полюбить Задорье. Анна Демидовна усмехнулась, вспомнив свои мысли на момент перевода сюда – думала, умрет со скуки. Да уж, скучать в Задорье не приходилось. Затекшая спина не отпускала. Анна Демидовна встала, потянулась аж до хруста, пошутила про себя: «Ох, старые мои косточки!» Не удержалась, вынула из сумочки пудреницу, глянула в зеркало – острые скулы, хоть карандаши точи, русые волосы по плечам, родинка над губой. Пригляделась – ни морщинки. «Ну вот, не такая уж старуха!» Закат спешно уползал за горизонт, а тени уже вовсю облизывали длинными языками портреты классиков. Пора было собираться домой. Анна Демидовна по привычке оглядела кабинет, проверяя, не оставила ли где после себя бардак. Стопка учебников на месте, стулья на партах, как и положено, фикусы на подоконнике, где и всегда. Вдруг взгляд споткнулся о какую-то странную тень в углу, источника у которой как будто не было. Анна Демидовна зажмурилась, сморгнула – наверняка это все жара, нервы и усталость. Но нет, высокая, как столб для громкоговорителя, фигура скрючилась в углу класса, едва не касаясь затылком потолка. Анна Демидовна сглотнула, моргнула вновь; сумрачный силуэт не пропадал. Наоборот, стоило ей шагнуть в сторону двери, как «голова» фигуры повернулась вслед за нею. Еще шаг вперед, назад – башка неотрывно следила за ней. В голову полезли замшелые шамкающие молитвы – обрывки воспоминаний о бабушке, водившей Анну Демидовну в церковь, пока та была еще маленькой. – Отче наш, ежи на небеси… Бред какой-то! Какие ежи? Слов она не помнила. Рука сама собой потянулась к подаренному Демьяном кулону, синие камни приятно холодили пальцы. Кулон поймал луч закатного солнца, и солнечный зайчик хищно прыгнул прямо в угол. Тень мгновенно рассеялась, превратилась в скелет-образец, который сюда перетащили из кабинета биологии на время ремонта – там затеяли красить стены. Анна Демидовна шумно выдохнула и пробормотала, успокаиваясь от звуков собственного голоса: – Почудится же… Поглядела на кулон. Тот даже от ее прикосновений не нагревался, при этом блистал всеми цветами радуги. Казалось, он запечатал в себе солнечный луч и теперь сам превратился в источник света. От синих камней в кулоне по руке словно разливалось тепло, да и сам он переливался, блистал всеми цветами радуги. Это почему-то придало спокойствия. Анна Демидовна вышла из класса, не забыла запереть его на ключ. Зацокала туфельками в сторону лестницы, ведущей в вестибюль. Хотелось как можно скорее выбежать прочь из пустой, стремительно темнеющей школы, но она решительно остановилась, даже помотала головой, гоня глупые предрассудки. Будто в насмешку над своими страхами взяла с подоконника лейку и принялась поливать почему-то пожухшие цветы. Неужто Марья Николаевна запамятовала? Не желал, однако, забываться тот жуткий силуэт. Ну не мог же пластмассовый скелет шевелиться сам по себе? Конечно же нет, это всего лишь переутомление, нервы, а может, даже галлюцинация – шутка ли, целый день просидеть над банкой клея. Демьян наверняка объяснил бы это как-нибудь по-своему, по-знахарски. Полезли в голову непрошеные воспоминания об их последней встрече – там, на сеновале. Внизу живота разлилось постыдное тепло, почудился терпкий запах трав, мыла и дешевого одеколона, исходивший в тот день от Демьяна. Вернется ли он теперь, увидятся ли вновь? Ах, если увидятся, она обнимет его так крепко, как только сможет, и больше никогда-никогда не отпустит… Замечтавшись, Анна Демидовна вместо цветов начала поливать подоконник. Спохватилась, выровняла лейку, отодвинула цветы от окна, чтобы стереть воду, и тут ее взгляд упал на внутренний дворик школы. Она застыла, и вода вновь полилась на подоконник, но Анна Демидовна не обратила на это никакого внимания. Увиденное из окна уже никак не укладывалось в банальное «почудилось». Во внутреннем дворике пару лет назад выложили красивую мозаику, изображавшую советских солдат-освободителей, очкастых ученых с неизменными мензурками в руках, бравых космонавтов в обнимку с ракетой. Разноцветными кусочками камня облепили декоративную оградку вокруг фонтанчика, который, кажется, никогда не работал; зато в этом году там наконец распустились сиреневые кусты глицинии. Сейчас посреди фонтанчика росло дерево. Дерево как дерево, только вот раньше его там не было. Оно вырастало крепкими корнями прямо из растрескавшейся мозаики, раскроив головы космонавтам, словно вместо воды употребляло телесные жидкости советских героев; выше из ствола, красноватого в закатном свете, тянулись вбок ветви, а на ветвях росли плоды. И эти плоды беззвучно кричали растянутыми в агонических гримасах ртами. Анна Демидовна, издав невнятный сип, отшатнулась и выронила лейку. Вода пролилась на туфли. На взбухших до багровой синевы плодах корчились лица Демьяна, и Максимки, и Жигалова, и Макара Саныча, и многих других знакомых из деревни – Максимкиной матери, алкаша Свирида, молодоженов Валентина и Василины, школьной директрисы, почтальона Федорыча, калеки Афанасия Яковлевича… Лица гримасничали, скалились, морщились, будто от зубной боли. В закатных лучах они казались измазанными кровью. И все они, до единого, пристально смотрели на учительницу – выпученными зенками, с которых по щекам ползли кровавые слезы. – Господи, спаси и сохрани… – вырвалось само собой со дна памяти. Отступив подальше от окна, чтобы не видеть страшного дерева, она лихорадочно перекрестилась двумя пальцами и неверным шагом направилась к лестничному пролету. – Отче наш, Отче наш, Отче наш… Что ж это происходит? Что за чертовщина? Анна Демидовна оперлась ладонью о перила, начала увещевать себя – какое, мол, дерево? Может, тени так легли, может, с усталости привиделось, а может, и правда клею надышалась. Мало ли какие причины могут быть? «Материализм, Анюта, атеизм и никакой бесовщины. Во что бы там твой мужик ни верил!» Оправив юбку, Анна Демидовна нервно огляделась. И вовремя – в темном углу неподалеку вновь стояла та же скрюченная фигура, круглая башка направлена в ее сторону, как дуло танка. Неужто еще один скелет? Да нет, откуда ему тут взяться… Снова чудится? – Эй… Что это за шуточки? Вы кто такой? Разыграть меня решили? Прекратите немедленно, а то я милицию вызову… Ее последний довод про милицию исторгся из горла жалким, едва слышным писком. Анна Демидовна развернулась и побежала, неловко пытаясь устоять на каблуках. Увидела кабинет биологии; рванула за ручку дверь, и та, на счастье, оказалась незапертой. Привалившись изнутри к двери, учительница нашарила стопку ключей, начала искать нужный. В углу кто-то квакнул. Анна Демидовна подняла голову. Живой уголок, так его и называли. По программе развития сел и деревень БССР в школу несколько лет назад завезли экспонаты – дохлых ужей и лягушек в формалине и те самые анатомические скелеты, один из которых перекочевал в ее кабинет. Анна Демидовна с изумлением увидела, как скелет медленно, с натугой распрямляет плечи, щелкает позвонками, скалится искусственными зубами. Около него опять что-то квакнуло, прошипело; с трудом отведя взгляд от скелета, учительница увидела ожившие экспонаты – лягушек, ужей, насекомых, – которые брыкались внутри банок, бились о стекло. Одна жаба, довольно большая, сдюжила-таки наклонить свое узилище. Банка сверзилась с полки, разлетелась вдребезги. Жаба, упав на пол вскрытым брюхом, с кваканьем попрыгала к учительнице; за ней с влажными шлепками тянулись выпавшие внутренности. Анна Демидовна прижалась к двери, подняла ногу, с трудом удерживаясь, чтобы не завизжать. Скелет тем временем сделал один шаг, второй. Его суставы скрипели, челюсть клацала. Он вытянул вперед костлявые белые руки. – Кыш! Изыди, нечисть! – крикнула учительница, но скелет лишь скалился злорадно. Около его ног скакала жаба, за ней из банки выскочила наружу змея, заструилась по полу извилистыми зигзагами. На груди вспыхнул синим цветом кулон. Анна Демидовна, вспомнив про него, схватила, сжала крепко в кулаке; по руке растеклось приятное тепло, и стало как-то спокойнее, будто бы Демьян оказался рядом и прошептал на ухо, чтоб не боялась ничего. – Изыди! – уже увереннее сказала учительница, и скелет остановился, жаба и змея тоже застыли на месте. Анна Демидовна бочком вышла из кабинета, закрыла за собой дверь на ключ. Изнутри раздалось неуверенное «ква!». «Бежать надо», – подумала Анна Демидовна, продолжая крепко сжимать кулон. Подошла к лестнице и тут уже вспомнила о странной фигуре, что и загнала ее в кабинет биологии. А тот жуткий силуэт никуда и не делся. Он все так же стоял во тьме коридора. Анна Демидовна застыла на краю лестницы, уставилась на пришельца с распахнувшимся от удивления – даже не от страха – ртом. Фигура сделала шаг вперед. Из полутьмы проявились очертания сухих, с лохмотьями кожи, рук, а следом – костлявых плеч, изуродованного лба – по нему будто кто-то заживо горелкой прошелся, настолько обожженным он был, изувеченным и бугристым. Как если б живого человека к каменке прижали да не пускали, покуда не обуглится, – вот именно так выглядел тот, кто шагнул ей навстречу. В выжженных до мертвенной пустоты глазницах плескалась злоба вперемешку со страданием. Еще бы, не каждому такое суждено пережить, да и не всякий вытерпит. Анне Демидовне показалось, что из провалившихся внутрь черепа глазниц сверкнуло синим яростным блеском – таким же ярким, как из камешка на шее. Учительница попятилась еще ближе к лестнице и вновь схватилась за кулон. Крикнула с той же уверенностью, что затеплилась в ней несколько секунд назад: – Изыди! Кто бы ты ни был. – Кто бы я ни был? – с усмешкой переспросило обожженное чудовище – показалось, будто голос его ломкий и одновременно высокий, как у подростка или женщины. – Да! Кто бы ни был! У меня… а у меня вот что есть! – и Анна Демидовна подняла выше кулон, мысленно благодаря Демьяна за подарок. – Сучка ты крашеная! – прошипело чудовище, и тут уж учительница убедилась – да, голос женский. – Это он тебе подарил? – Кто – он? – Он, значит! Ненавижу-у-у! Вымлядак! Ублюдок! Лжец! – возопила обожженная тварь. – Ненавижу его! Ненавижу тебя! Всех вас ненавижу, предателей! Все вы, суки, поплатитесь! Ее пасть широко разомкнулась, и Анна Демидовна, всерьез начав сомневаться в своем рассудке, узрела, как оттуда валятся мелкие какие-то рачки да головастики – они падали на мраморный пол школы, напоминая ожившую кашу. Обожженное чудовище наступало на них, размазывало черными пятками в отвратительную склизкую массу и оказывалось все ближе и ближе – вот до нее уже осталась пара шагов. В этот момент Анна Демидовна взяла себя в руки, поняла – надо бежать. Повернулась на каблуках, дернулась с места. Только от испуга забыла про туфли-лодочки – сразу подвернула лодыжку, нога вспыхнула горячей болью, будто кипятком обдало. Потеряв равновесие, Анна Демидовна качнулась назад, стоя на самом краю лестницы, и сумела сказать лишь: – Ой! – Стой! Упадешь же! – с внезапным беспокойством воскликнуло чудище, протягивая к ней обугленную руку. Зацепила костлявым пальцем цепочку подаренного Демьяном кулона. Но от вида страшного создания Анна Демидовна отшатнулась назад, цепочка кулона порвалась, тонко дзинькнув, и учительница вдруг поняла, что более ни одна точка опоры не удерживает ее от падения в пустоту.
Выйдя за порог СИЗО, Демьян с наслаждением вдохнул воздуха свободы. Потянулся – затек весь в тесном «стакане», а после спросил у Жигалова: – Дык шо, ты уверовал, стал быть? Майор почесал затылок и угрюмо буркнул: – Не уверуешь тут… – Дело ясное. Сам не кажный день такое бачу. И чаго ты робить собрался, товарищ майор? – Ехать надо до Задорья, а там уж разберемся. Я только с Минска, от начальства… Курить будешь? Демьян не отказался, взял сигарету из протянутой пачки и удивился надписи: – «Монте-Кристо»… Откуль такая махорка чудная? – От кубинских товарищей, сослуживец угостил. – Жигалов поджег спичку, дал ему прикурить и закурил сам, разглядывая знатка сквозь дым темными внимательными глазами. – Ох, пахучие же! – Демьян с удовольствием затянулся. – Кубинцы, кажешь? – Кубинцы-кубинцы… Короче, слушай сюда. Я там начальству в Минске всякого наплел – половину правды, считай, сказал. И тут, начальнику, – Жигалов кивнул на тюремное КПП, – на уши лапши навешал, долго снимать будет. Ты у меня якобы на следственном эксперименте, понял? – Зразумел. – Не знаю, как из Минска отпустили – видать, уважает меня Гавриленко, верит. Так что сейчас в Задорье, а там… сделай, чтоб этого больше не было, согласен? – Як же ж не согласиться? – удивился Демьян. – Цель у нас, считай, одна. – Вот и славно. А я потом так сделаю, чтоб тебя не посадили. Анна Демидовна за тебя просила… Или на условный, тут уж как получится… Уговор? – Уговор. Они вновь пожали друг другу руки. Жигалов зачем-то стиснул ладонь, аж покраснел. Демьян поднажал в ответ, и минуту они стояли молча, выкручивая друг другу костяшки да сверля друг друга взглядом, пока не отпустили одновременно. Жигалов потряс кистью. – Чертяка бородатый. – На себя глянь, гэпэу на выезде. И гэта, товарищей на букву «ч» не кликай – они все слышат. – Опять суеверие, что ль? – Практика. Хлопнули двери желтого «запорожца», экспроприированного у Макара Саныча. Глушитель выпустил клуб дыма, и машина двинулась по дороге от райцентра на юг – к Задорью. Ловко переключая рычаг передач и крутя баранку, Жигалов чесал усы и поглядывал украдкой на пассажира. Демьян сидел, поставив между ног узловатую палку, покрытую хитромудрыми узорами, и лениво щурился в окошко. Вскоре майор не выдержал и сказал: – Ну, че молчишь? – А чаго казать-то? – Ну, например, кто такая эта Купава, туды ее в качель? – Ведьма, – коротко ответил Демьян, – и звать ее Акулиной на самом деле, я ж говорил. Купава это… подпольная кличка, словом. – А кто кличку дал? – Да она сама и взяла. От ненужных глаз да ушей. Своим только открывалась. – Та-а-ак… – пробормотал Жигалов. На дороге попалась колдобина, и он резко выкрутил руль. – А ты, значится, не первый раз про нее слышишь? – Да уж наслушался, – крякнул досадливо Демьян, – и на болотах звала, и из бабки мертвой гутарила – той, что дочку свою доконала; на свадьбе лесной бабе кто-то на ухо нашептал, с зоотехником опять же. Я давеча до Сычевичей доезжал, а у них тишь да гладь, хоть бы домовик завалящий, а у нас ну чисто зоопарк. Из-под кажной лавки нечисть так и лезет. – Тоже, думаешь, ее рук дело? – Дык а чьих же ж яшчэ? Затевает она что-то большое… Тольки вот не разумею что. – Погоди, она ж это… мертва. Демьян кивнул, зыркнув так, что стало понятно – тему он развивать не хотел. Но Жигалов, привыкший проводить допросы, сдаваться не собирался. – Как же она может что-то затевать, если мертва? – Сам в толк не возьму, – с неохотой признался зна́ток. – В Пекле она должна жариться давным-давно… А она все мине козни строит. – Где-где? – В Пекле… – Что за Пекло такое? Демьян вздохнул, сжал покрепче клюку и начал говорить, уставившись перед собой: – Лады, скольки нам тут ехать, час? Як раз все сказать здолею… Слухай сюды, майор, начну значалу самого – наш мир есть Явь. А есть яшчэ Навь, Правь и Пекло. Гэта… как бы так поматериалистичнее? Ну, пущай будут другие миры, зразумел? Параллельные, как в книжках пишут – мне Максимка сказывал. Они кажный отдельно от других живут, но все равно тесно связаны, как шестеренки в механизме. А там, значит, где они зубцами соприкасаются, там и происходит всякое… антинаучное, по-твоему ежели. Ну а мы, знаткие, следим, чтоб оно, это антинаучное, сильно-то никого и не цепляло, ежели что… Мы вродь как проводники меж мирами, видим всякое и людям помогаем. Так, пока ехали, Демьян вкратце и рассказал Жигалову о том, что происходит в Задорье – и об Акулине, что с того света пакости творит, и о происшествии с Кравчуком и женой его, и о письме немецком. Словом, все карты раскрыл. Жигалов слушал внимательно, кивал, не забывая следить за дорогой. Когда они достигли ближайшей к Задорью вёски, майор притормозил у местного клуба. – Погодь, – бросил он новому соратнику, – я до клуба дойду, позвонить надо. – На кой? – Подкрепление с Минска кликну. Я сегодня пытался дозвониться до Задорья – а там тишина, будто линию оборвали. И это… – майор вдруг замялся, будто не мог подобрать слова. – Ну, чаго? – Мне в Минске сказали, мол, тут с разных колхозов нехорошие слухи идут. Вот такие, как у вас. Мол, видали козленка двухголового, что на луну выл, и что зоотехника одного погрызенного схоронили. А он же ж не волков разводит. И вот такого добра в округе… Демьян сплюнул, стукнул кулаком по бардачку со злости – тот открылся, внутри лежала непочатая бутылка водки. Зна́ток грустно усмехнулся при ее виде. – Эх, Макарка… Так шо, майор, думаешь, такая скотоферма не одна была? – А сам прикинь, сколько таких бандеролек с семенным материалом твоя ведьма разослать могла? Пи-и-исьма, письма я на почту ношу… Демьяну представились сотни воображаемых конвертов и бандеролей, в каждой из которых в крошечном герметичном автоклаве плескалось бесовское семя. И откуда она его только… – Звони в свое гэпэу! – просипел зна́ток, осознавая масштаб бедствия. Жигалов сунулся в клуб; тот оказался закрыт, пришлось долбиться в окошко соседнего дома к местному председателю. Открыла его жена, которая, увидев корочки, расплылась в льстивой улыбке, разве что хлеб-соль не вынесла. Пока майор с кем-то спорил на линии, Демьян сидел на лавочке у крыльца и нервно дергал ногой, а клюка стучала в такт по ступеням. Взгляд знатка был направлен туда, в сторону Задорья, где над лесной чащей воздух будто колыхался в мареве жаркого полуденного солнца. Вскоре на шум вышел разомлевший – явно с послеобеденного сна – председатель. Потянулся, достал папироску. Демьян его окликнул: – Слышь, мил человек, а с Задорья есть якие новости? – Да пару дней ничога не слыхать, – тот зевнул так, что едва челюсть не вывихнул, – даже Федорыч с почтой не ездит – запропастился куда-то, хоша дни-то будние. – Наконец председатель пригляделся к собеседнику: – А ты ж Климов, да? Знахарь который? – Знахарь-знахарь. – А вы это, в Задорье зараз едете? Кажи Санычу, шоб порядок у себя навел, а ежели линию оборвало – пущай чинит. А то як ни позвоню – там якаясь баба в трубку бормочет… Стихи читает, дурная… Телефонистка, видать. – Баба бормочет? – переспросил Демьян будто одеревеневшими губами. – Ага… Расставанье-до свиданье… Да ты сам позвони! Демьян стремглав вбежал в клуб, где Жигалов как раз заканчивал разговор с начальством. Он обильно потел, часто кивал и покорно соглашался. – Понял вас, товарищ полковник… Так точно! Эксцессов больше не будет, обещаю… Так точно! Дождемся, никакой самодеятельности! Да! Вас понял. Вас понял. Будем ждать. Есть, до связи! Жигалов облегченно опустил трубку на рога – чуть сильнее, чем стоило, и увидел бледного как полотно Демьяна. – Что там опять? – Дай-ка сюды! – Демьян рванул к себе эбонитовый прибор и начал крутить диск номеронабирателя. Поднес трубку к уху; раздался щелчок, следом короткий звонок, который тут же сменился столь знакомым шуршанием – будто грешные души перебирают ногами по склону, усеянному истлевшими столетия назад мертвецами, а тысячи еще целых покойников шуршат сапогами по окоченевшей земле. И тот же далекий комариный писк, означающий на самом деле слившиеся воедино вопли миллионов грешников – как далекий отголосок контузии, навсегда въевшейся куда-то вглубь черепа. Не сразу Демьян заметил, что не дышит с тех пор, как взял в руки трубку. Втянул со свистом воздух в легкие. Сквозь эти писк и шуршание через мембрану телефона прорвался женский голос. Он был нечетким, прерывался, но мозг Демьяна сам заполнял пробелы в словах, ведь он знал этот текст наизусть:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди…
Предназначенное расставание
Обещает встречу…

Еще за несколько верст до Задорья стало ясно, что в деревне творится неладное. Из травы на капот «запорожца» выпрыгнул заяц. Он застыл, поджав длинные уши, и поглядел сквозь лобовое стекло испуганными черными глазками, после чего совершил еще один длинный скачок на другую сторону дороги. Следом за ним дорогу быстро перебежала рыжая лиса с выводком щенят, едва не угодив под колеса. Солнце поблекло, налилось малиновой тяжестью, будто раскаленный добела шар медленно остывал, погруженный в воду. Небо потускнело, тяжелые облака грозились упасть на голову. «Плохой знак», – отметил про себя Демьян: кто-то очень могущественный, а еще совершенно отчаянный сплетал чуждую Навь с нашей Явью. Ветви деревьев склонились от невидимого ветра, отбросили длинные тени на дорогу; к горлу подкатила тошнота. Жигалов вдруг встряхнул головой, пробормотал сонно: – Да что за херня такая… – Эй! – Демьян потряс его за плечо. – На дорогу гляди, майор! Ты в армии кем служил? – Да рядовым… – Не спать, рядовой! Жигалов встряхнулся, уставился на дорогу хмурым взглядом. Вскоре салон наполнился дикой, нестерпимой вонью – точно кто-то решил запечь десятка два тухлых яиц в печи из автомобильных покрышек. Мужчины закашлялись, зажали носы и рты, а сквозь щели в приоткрытых окнах втекали струйки темного смердящего дыму. Вскоре впереди показалось зарево – точно за горизонтом полыхал пожар. Там, где через местную речку был перекинут старый мост, играло, блистало, искрилось нечто ярким светом. На реку невозможно было и взглянуть, не ослепнув: в ней вместо воды катилась лава вперемешку с черным битумом. То и дело на поверхности вспухали и лопались пузыри, выбрасывая в воздух порции ядовитого газа. Кое-где виднелись вплавленные в остывшие сгустки лавы рыбьи кости. Берега речушки почернели и потрескались, глина запеклась в крупные куски, трава сгорела, а кусты превратились в обугленные крючья; сам мост едва-едва держался на железных сваях и неумолимо кренился набок. Вокруг подкосившихся опор собирались темные сгустки лавы. Ввысь вздымались красные искры, воздух колыхался от жуткого жара. Жигалов уставился на безумное зрелище выпученными глазами, отер выступивший пот со лба. – Ну, объясняй, знахарь, это что еще за диво? – Смородина-река, – прокашлял Демьян сквозь рукав. – Из берегов, видать, вышла. – Чего? – То не наша река, иномирная. Она границей служит – Явь от Нави разделяет. Плохо дело. – Почему? – глупо переспросил майор, плотно закручивая окно со своей стороны. – Потому что граница нынче тут, видать, и пролегает, зразумел? И Задорье таперь – в Нави. Тольки мост здесь не Калинов, а вон – якой есть, яким чудом не смыло? А шо, майор, здолеем мы на тот берег перемахнуть? Жигалов оглядел мост и сваи, поцокал языком. – Ну если быстро мчать… Вроде как не сгорели еще опоры. – Тогда гони! – Куда? – Гони на тот берег! Покуль не поздно! Дернув подбородком, Жигалов переключил передачу. Демьян кивнул – газуй, мол. Майор выжал педаль газа. «Запорожец» рванул вперед, взлетел на мост. Опоры снизу задрожали, но выстояли; от напора вверх из лавы поднялись снопы искр, окружившие автомобиль огненными всполохами. Машина разогрелась мгновенно – как нутро печи, аж волосы скручивались от жара. Они преодолели какие-то два метра, как вдруг двигатель чихнул и заглох. – Гашетку, майор! Топи газу! – орал Демьян, не разбиравшийся в технике. – Куда гашетку? Встал он, не видишь? – Жигалов нервно дергал ключ зажигания. – Ох и вовремя! Тоже мне – достижение промышленности! Демьян выпрыгнул из «запорожца», едва не свалившись в лаву. Ухватился за перила моста – и тут же ладонь зашкворчала, покрываясь волдырями. Демьян зарычал, уперся могучим плечом в крыло автомобиля и потянул вперед; под ногами кипела, пузырясь, кирза, рядом чавкали плавящиеся покрышки. Майор, не будь дурак, среагировал быстро, вылез со своей стороны и принялся толкать. Вдруг мост накренился и пополз вперед – на противоположный берег. – В машину, быстро! – сориентировался Жигалов. Демьян не стал спорить. Они едва успели запрыгнуть на сиденья, когда крен моста буквально выплюнул многострадальный «запорожец» на берег, и тот уже застучал по дороге лысыми покрышками. Мост позади застонал и с чмоканьем отпустил дальний берег, завалился вперед и принялся медленно погружаться в жидкое пламя. Раздался гул огня, пожирающего металл. Жигалов утер со лба пот. – Уф, успели… Ну и вонь, конечно. Не ты ли газку поддал? А, со страху? – Шутник, ептвою ногу, – Демьян хохотнул облегченно. – Гэта Смородина – потому что смердит она. – Понятно. Жигалов кое-как завел чихающий автомобиль и на непослушных лысых колесах отъехал чуть дальше, где не так воняло, остановил машину и оглянулся назад, где в сумерках вспыхивали взлетающие над рекой искры. Мост окончательно погрузился в реку, потеряв форму. – Понятно мне, что ничего не понятно! Кроме разве что того, что подкрепление до нас уж не доедет. – А нам оно и не треба – сами с Акулиной разберемся, без сопливых. Давай газуй, майор! Машина неуклюже переваливалась по дороге, ведущей в деревню. Кругом было сумрачно, почти как перед ночью, хотя и белый день на дворе. Вдруг Жигалов поднял голову, уставился на потухшее фиолетовое светило, при этом мерцавшее полумесяцем, и прохрипел в ужасе: – Это ж луна. Луна, Климов! Что это все значит? – Шо, шо… То самое. В Нави солнца нет, не любят они солнечного свету, у них там, на изнанке, месяц тольки и светит. А кто-то здесь взял Навь да Явь, а потом перемешал, як молоко в чае. Ни разу такого не бачил и не слыхал даже – гэта ж якой силищей треба обладать… Ох, чую, помогает кто-то Акулинке – не здолела б она одна такое зробить… Стой, майор! «Запорожец» притормозил. Демьян с Жигаловым сидели в салоне, глядя наружу с отвалившимися челюстями. У обоих в этот момент промелькнула мысль: а не брежу ли? Дорогу переходила избушка. Избушка на курьих ножках. Вернее, на высоких куриных ножищах – с телеграфные столбы, с нее сыпались вниз грязь и куски мха; хлопала при движении распахнутая дверь, а на одном из бревен повисла табличка с номером дома – «9». Оставляя на земле отпечатки огромных лап, изба флегматично пересекла дорогу и зашагала по полю, куда-то в сторону реки Смородины. При каждом шаге из печной трубы вырывались клубы темного дыма, словно бы ожившая изба дышала во время прогулки. – Ты гэта тоже бачишь, майор? Иль у мене с котелком проблемы? Жигалов специально протер глаза, поморгал и признался с неохотой: – Вижу, как не видеть. Если и беды с башкой, то у нас обоих. – Гэта ж хата Яковлевича… – пробормотал Демьян. – Дед Афоня без дому остался, значит. – Жаль, фотоаппарата нет, – Жигалов как завороженный пялился вслед уходящему дому; на разъезженной дороге оставались следы огромных лап, – а то такое бы чудо сфотографировать и ученым показать – цены бы не было. Враз бы всем Союзом к коммунизму шагнули. – Не надо ученых – Навь науке не поддается. Давай, майор, рули далей. – А куда? Демьян задумался на секунду. – К Дому культуры поехали – там, думаю, кто-то верно заховался. Стоило им тронуться с места, как под колеса чуть не попал выскочивший из ниоткуда палявик. Маленький и юркий, как обезьянка, рыжий навий ударился плечом о бампер и отскочил в сторону, заверещал; Жигалов заорал от неожиданности и врезал ладонью по клаксону: – Куда прешь, макака драная?! – Ты шо, его побачил? – удивился Демьян. – Ты ж не знаткой! – Еще б не увидел: под колеса ж прет! – Палявик гэта. Ну-кась, дай побалакаю с ним. Зна́ток высунулся из окна и крикнул навьему, что скукожился у кювета: – Здорово, братец! Ты чаго так спалохался? Куды побег, дурной? Маленький навий потер ушибленное плечо и провякал плаксиво, выпучив высохшие глазки на рыльце: – А вы на кой своей бандурой железной толкаець? Я вам не собака якая, шоб мине толкац! Мине от железу плохо! – Ведаем мы, кто ты, паскудь полевая! От кого утекаешь? – Дык от кого, от бесов! Там бесы… на поле, – махнул палявик маленькой шерстистой ручкой, – да и повсюду оне – бесовья порода, вылезли со всех щелей, гады. У, лайно паганае, всем бы роги открутил! – Бесы, кажешь? И чаго хочут? – Як-то не дотумкал спытать, неговорливые оне. С поля мине погнали, як выродка якого; кикиморе накостыляли, да и остатним. Вона оне, усе наши скачут. На дорогу действительно высыпала мелкая нечисть – две зеленых кикиморы, проказник Аук, следом тащил соломенную торбу лесной бай, в свое время пленивший Максимку. Лешака не хватает; ан нет, вот и он, серой тенью перетек через дорогу, оставляя за собой шлейф из расцветающих и тут же увядающих на земле вербейника, брусники и васильков. Пугливо оглядываясь на желтый «запорожец», нечистые торопко исчезли в кустах. Когда Демьян обернулся, палявика тоже и след простыл – лишь колыхнулись листья рябины. Зна́ток сплюнул на землю. – Якие яшчэ бесы… Сдурела, шо ль, нечисть наша? – Слышь, знахарь, – не своим голосом спросил из машины Жигалов, – это что за шобла-вобла была? Этот синий, как труп, две бабы зеленые, и обезьяна эта… – Паскудь гэта, майор. Нечисть местная. Бачишь ты ее как-то, хоша не должон без их на то воли; стал быть, плохо дело совсем, потому и видать их всех. И не знахарь я, а зна-ток! Коль ясще раз знахарем обзовешь – я за себя не ручаюсь, зразумел? Но Жигалов на шутливую угрозу не отозвался. После лицезрения реки Смородины, ходячего дома и стаи мелкой нечисти ему явно стало не по себе – кожа побледнела, отчего шрам на щеке вздулся белой линией, на лбу выступили капли пота, а руки вцепились в баранку руля. Демьян с жалостью потрепал его за плечо в униформе, приводя в чувство. – Товарищ чекист! Ехать нам треба! Ты давай, браток, в себя приходи: сам вызвался допомогой быть, помнишь? – Забудешь тут, – кивнул Жигалов, с усилием отцепляя пальцы от руля. – Ну дык и помогай! У мине времени нема с тобою возиться. Представь, что чудится все табе. Як самогонки перепил. Як такой вариант, сойдет? А там уж далей обмозгуешь, шо к чему… Судя по всему, чекиста такое предложение устроило. Жигалов завел мотор и тронулся по дороге – медленно-медленно, будто опасаясь, что под колеса снова выскочит какая-нибудь живность. Предложение Демьяна пришлось впору – все увиденное по дороге и правда казалось горячечным бредом: то тут, то там шмыгала мелкая нечисть, деревья покрывались уродливыми плодами, похожими на головы, которые вскоре лопались от спелости, усыпая землю вокруг зубами-косточками. Над одним из дворов в небе парила стая курей, и Жигалов готов был поклясться, что одна из них уже порядком ощипана. Кипела вода в колодцах, вырываясь наружу густыми облаками пара; замерзала вода в лужах, прихватывая за лапки недостаточно расторопных лягушек. Вездесущие мошки выстраивались в огромные хитроумные геометрические фигуры – буквально на секунду, а потом вновь рассыпались беспорядочным роем. С каждой секундой становилось все темнее, хотя наручные часы показывали полдень. Но небо мрачнело, а вместе с ним мрачнел и Демьян. Это была не обычная темнота, а какая-то ядовито-фиолетовая синева – как фингал под глазом, и в опускающейся тьме на границе зрения прятались долговязые тени, отчего майор плюнул на осторожность и дал по газам, насколько хватало многострадальному «запорожцу». Через несколько бесконечных минут они оказались в сердце Задорья – у Дома культуры, или иначе – клуба. Входная дверь была завалена всяким хламом под самый козырек, окна как попало заложены мебелью изнутри, а чуть выше Жигалов наметанным солдатским взглядом усмотрел амбразуру – щель на чердаке, откуда на пришедших неприветливо уставилось ружейное дуло. Майор приспустил оконное стекло и крикнул простое слово, понятное каждому фронтовику: – Свои! Спустя несколько секунд ружейное дуло лениво двинулось вбок – подойди, мол. Зна́ток и майор подошли ближе; Жигалов опасливо держал руку на кобуре, да и Демьян переставлял палкой медленно и осторожно, готовый в любой момент дать стрекача. – Гэта кто там, а? – крикнул Демьян. – Я Климов Демьян Рыгорыч, со мной майор Жигалов. – Элем Глебович, – зачем-то добавил Жигалов – для официальности, видимо. – Дема, ты? – раздался приглушенный голос с чердака. – Проходи, браток; мы-то все и думаем, куды ты запропал, родненький! Без тебя тут никак! А чекист зачем? – Приблудился нечаянно. Двери-то отворите. Ствол убрался, и оба вздохнули с облегчением – уж они-то знали, каково это, быть на прицеле. Сбоку здания ДК шикнули: – Сюды, братцы! Через подвал. Там их встретил Макар Саныч, и. о. председателя. При виде его Жигалов даже присвистнул – одет был Саныч по всей солдатской моде, в камуфляж «Березка», подпоясанный подсумком с боекомплектом и флягой на боку. И даже с парой ручных гранат в кармане, торчавших, будто морковки. В руках Саныч сжимал пистолет-пулемет Шпагина. – Заходите, яшчэ дверь треба того, забаррикадировать. – Надо ж, по науке оборону организовали, – покачал головой майор. – Дык Макарка… то исть Макар Саныч – старый партизан, – ответил за него Демьян. – Мы с ним сослуживцы, считай – вдвоем со всего отряда и выжили. Остальных усих минометом положили. Председатель запер за собой подвальную дверь – железным ломиком, на манер задвижки, открыл лючок. Цепочкой по лестнице поднялись в актовый зал. На передних сиденьях у самой сцены сидели человек пять угрюмых мужиков, одетых как попало – кто в такой же камуфляж, а кто и по-домашнему. Среди них Демьян узнал и егеря Валентина, и отчима Максимки Свирида в компании его друзей-собутыльников – Богдана и еще пары малознакомых колхозников. Сбоку притулился, вытянув железный протез, поселковый почтальон Федорыч, махнул приветственно. – Дзякую, братцы, – Демьян по очереди всем пожал руки, – а чаго вас так мало? Где мужики все с поселка? – Дык кого сразу убило, кто дома с семьями по погребам – мы тут так, сами организовались, – отозвался Макар Саныч. – Ты-то сам як с тюрьмы выбрался? Тебе ж посадили. – Не без добрых людей, – кивнул зна́ток на Жигалова. – Гэта представитель госорганов тута, зараз будем разбираться, чаго творится. Горилку пьете, шо ль, воины? Эх вы – война войной, а алкоголь по расписанию. Действительно – на табуретке стояла пара бутылок самогону, а на полу еще несколько пустых. Свирид тут же огрызнулся: – Че хотим – то и делаем, мы люди взрослые. – Мене б Космач во время войны с водкой увидел – мигом бы уши оборвал. – Да, товарищи, отставить распитие спиртных напитков, – влез в диалог Жигалов, – а то время неподходящее, да и вообще мы с пьянством боремся, кто не слыхал. Кто главный? Доложить о ситуации! – Я главный! – выпятил грудь Макар Саныч, но тут же влез Свирид: – А с якой беды ты вдруг главный? Мы тут гэта… анархисты, во! В общем, слухай, товарищ чекист: вчерась вечером як почалась беда, так до сих пор расхлебать не могем. – Да и пораньше даже, – вставил его друг Богдан, – но тут где як, значалу зразуметь ничего не могли, а потом як поползла напасть по деревне – жуть! У избы Яковлевича ноги куриные выросли, да изба в пляс пошла – еле успел на сеновал сигануть. – А я на своей полуторке зъехать с деревни пытался, – сказал Федорыч, – да там везде, куды ни поедь – страсти творятся, и не пускает сволочь всякая. Без пол-литры на гэту дрянь и не глянешь, до того страшенные. То немочь безкожая под колесы кидается, то нечисть всякая, прости Господи, – после этих слов неверующий почтальон размашисто перекрестился, – а як на реку сёдня попробовал выехать – дык там огнь один заместо воды; по мосту побоялся переть. Ну я тута уж в клуб и вернулся – не уехать никуды, значит. – Связи нет? – Да якая там связь… Трубку поднимешь – а там дура якая-то стишки читает. Ты ей – на помощь да на помощь, а она знай свое, встреча, мол, впереди. Словом, некуда деваться с деревни. Мы тута с мужиками в ДК обосновались, ребятишек попрятали да жен, а на чердаке снайпер сидит. Пуль ему бы сребряных… – Чепуха ваше серебро, – усмехнулся Демьян, – баловство одно. Железа паскудь пужается. Железа и соли. Соль всю збирайте, а железа у вас и так навалом. Тольки тут и нечисть вся шуганая – бегут кудысь, як спалохались чаго. – Значит, правда ты зна́ток? – спросил Федорыч, глянув на Демьяна как-то по-новому, почти с восхищением, как на секретаря райкома партии. – Не шарлатан ты, значит? Есть оно? И Бог есть? Демьян только отмахнулся в ответ на просящий взгляд атеиста. Тут вступил в беседу Жигалов: – Да, что у вас с вооружением, товарищи? Макар Саныч взялся докладывать: – Шо здолели – то и собрали. Ружья охотничьи, два ИЖа пятьдесят четвертых, тозовки мелкого калибру, «мосинка» одна имеется – старая, но добрая, с прицелом годным, с ней у нас снайпер сидит. Вот у мене ППШ сохранился, а яшчэ «шмайссер» трофейный есть, тольки на него патронов трошки, – при этих словах председатель смутился под укоряющим взглядом чекиста, – ну а шо, я человек запасливый, даж когда пил – не заложил за бутылку-то! Гранат с десяток наберем, робят через раз, да пистолет у кого-то наградной, як ваш, товарищ майор. В подвале пулемет «Максим» стоял, но проржавел за сыростью. В общем, гэта все, ну и топоры-вилы, ясно дело. – М-да-а-а, арсенал! – присвистнул майор. – А откуда у вас столько оружия, не потрудитесь объяснить, товарищ Петренко? – Эхо войны… – пожал плечами председатель. – Не лезь ты со своей бюрократией, майор, – воскликнул Демьян, и остальные мужики поддержали его одобрительным гулом, – Саныч, считай, нам своим крохоборством всем добрую службу сослужил. Не смущай человека – зато есть чем немца воевать. – Немца? – Тьфу ты, нечистого в смысле. Без Макарки мы б тут без единого патрона сидели на жопах, да, мужики? Так шо ты гэта, вспоминай службу. Где ты там был, под Берлином? Хошь казать, вы трофеев не брали? – Брали… – Вот и считай за трофейное ружжо все, шо есть. Слышь, Саныч, а с патронами как дела? – Да не особо. Бережем. Тольки на энтих, безкожих тратим – их хоть пули берут. Ну это в лоб коли бить. – На безкожих? – навострил уши Жигалов. – Такие, с рожками, на телят похожие, да? У кого три ноги, у кого две головы, эти? – Телят, козлят, поросят… А вы, товарищ майор, откуль знаете? – Да довелось насмотреться три дня назад… Потом в Минске такую стопку рапортов подписать пришлось, приезжаю – а у вас тут военное положение. – Не то слово, словно знову война, – буркнул Федорыч, разлил по рюмкам самогона и кивнул Жигалову, – ты давай присоединяйся, майор. Не будь як баталер на судне – у нас тута общая беда нарисовалась. По рюмашке хряпнешь с народом, да обсудим, як нам далей гэту ситуевину разруливать. Я одно время на «жабодаве» старпомом служил, всякого там насмотрелся, но такого не бачил – аж голова кругом. Так шо тут без горилки нияк не обмозгуешь, иначе с глузду съехать можно. Раздумав секунду, Демьян молча взял рюмку и замахнул, занюхал рукавом. Понимая, что остается в меньшинстве, Жигалов покорно взял стопку, но сказал строго: – Только из трудовой солидарности. И тоже выпил под одобрительные выкрики. «Самогонка хорошая», – подумалось майору. Поставив стопку на табурет, он сказал: – Ладно, еще по одной, и не больше. Я, как представитель государственной власти, беру на себя руководство всем этим мероприятием. Где эти ваши безкожие бегают? – Да всюды, – доложил Макар Саныч, разливая по рюмкам остатки, – странно, шо вы ни одного не побачили. – Одного тута снайпер положил, полчаса назад. – А кто снайпер-то? – додумался узнать Жигалов. – Дык Землянин же, вы чаго? – удивился председатель. – Афанасий Яковлевич. Он ящчэ, товарищ майор, на свадьбе на баяне играл, безногий. Он всю войну стрелком и был, зайца в глаз бьет. – Помню, хороший старик. – И в Бога верует, – вставил Демьян, – оттого их с одного раза и валит. Жигалов цыкнул недовольно, но промолчал. Выпил молча и отставил подальше оставшуюся бутылку – хватит, мол, пьянствовать. Мужики закурили; в высокий потолок клуба поплыли сизые клубы дыма от папирос, самокруток и сигарет. Молчавший до того егерь Валентин сказал: – У меня предложение такое, мужики. Раз пришло пополнение – надо в ружье вставать, выходить в деревню да бить всю гэту погань, покуда сил хватит. – А як же ж ты ее побьешь, не одним ружьем ведь? – ответил ему Демьян. – Сколько их тут, сто, двести? А патронов? То-то же, башкой думать надо. Кстати, а где хлопчик мой, Максимка? А Анна Демидовна? Макар Саныч хмыкнул, почесал лысину. – Прости, Демьян Рыгорыч, треба было сразу тебе казать. Демидовну со вчера не видели; дома в погребе тоже сховалась, я так разумею. Она пса твоего кормила, кстати, Полкашку. А Максимку посля того, як тебе кагэбэ увезло, забрал Сухощавый, кажут. Помогает хлопцу. А то Свирид… – А шо Свирид сразу? – Отчим Максимки зло уставился на председателя красными глазами. – Як шо – дык Свирид! Пацанчик сам убёг, я его не выгонял! И не бил его, слышь, Дема? Демьян стукнул о пол клюкой, призывая к тишине, обратился к Макар Санычу тихим и злым голосом – так об умершем родственнике спрашивают: – Кто забрал, говоришь? – Ну, Мирон Сухощавый, тот, с соседней вёски. Порчун который. – Да знаю я, кто он! – рявкнул Демьян, подскакивая. – Давно Максимка у него? – Дня три вродь как… – Мне идти треба! Демьян в сердцах расколотил о стену рюмку, перехватил поудобнее клюку и быстро направился к выходу из клуба. Все с недоумением переглянулись, Жигалов догнал знатка, остановил: – Куда? Мы ж тут план мероприятий обсуждали. – Да якой, к бесам, план! – огрызнулся Демьян – в застывших чертах лица чувствовался испуг; не за себя – за ученика. – Максимку треба от гэтаго лиходея вызволять. – Тогда я с тобой! Ты куда? – К Мирону, вестимо. – И мы с вами! – позади засуетились мужики, начали хватать оружие, обмундирование. – Ты не торопись так, зна́ток – допоможем, чем смогем! – Погодь ты пару минут! – ухватившись за локоть Демьяна, Жигалов таки сумел его остановить у самых дверей. – Сейчас все пойдем. Сухощавый это кто такой вообще? Зна́ток вздохнул, зыркнул на майора и решился сказать: – Сухощавый – гэта колдун, порчун или, как он себя зовет – киловяз. – А ты не колдун разве? – удивился майор. – Я таки же колдун, як ты чекист. Я – зна́ток. Знатки, ведьмы и киловязы – разные совсем. – А в чем разница? – Зна́ток и знатуха могут в церкву заходить, – пояснил Демьян, топчась на месте и нетерпеливо наблюдая, как собираются мужики, – а киловязам и ведьмам туда ходу нема – они с Пеклом связались, душу свою дьяволу на откуп отдали. Знатки на небушко могут попасть, ведьмакам дорога только туды, вниз. Так понятней? – Теперь понял. И чего ты за Губаревича переживаешь? – Думаешь, он Максимку по доброте душевной пригрел? Эх, балда я, знал ведь, что заманит он его… Эх! Гляди: порчуну одна дорога – в Пекло, грехи его туды тягнут. Он за то и с чертями на короткой ноге, да с Пеклом в десны целуется, покуда зубья есть. Тольки вот Сухощавый старый уже, почти все зубы отдал, помирать скоро, а в Пекло-то со всем грузом грехов не охота. Разумеешь? – Нет. Ни черта не понимаю, – признался майор. – Тс, не кликай лихо, пока оно тихо! Гляди, есть одна метода, як можно киловязу нашему опосля смерти мытарства пройти и на небушко попасть; ему треба грех свой ученику передать. Только вот нема у Мирона ученика – не идет к нему никто, пужается народ, знает, что расплата лютая будет, да и вредный он – спасу нет. Репутация плохая, стал быть. К тому же ученик знатким должон быть, а таких у нас раз-два – и обчелся. Максимка знаткий, бо я как в тюрячку попал, Сухощавый его сразу и забрал в ученики. Не просто ж так он гэта робит – старый он совсем, вот и треба ему ученика, кому можно грехи передать. Хитрый он, падло. Таперь зразумел? – Вроде да, – сказал Жигалов – в его материалистическом сознании с трудом увязывались все эти знатки, ведуны, черти, грехи и прочая бесовщина. Народ собрался на вылазку, все выстроились рядышком – ружье в ружье, грудь в грудь, Макар Саныч даже медаль нацепил, а Федорыч кривобоко оперся на протез. Свирид недовольно спросил: – Ну, долго вы яшчэ балакать будете? Сами ж торопили! – Обожди, – отмахнулся Демьян и продолжил: – Слухай главное, майор. С Максимкой ясно – хочет киловяз на тот свет уйти незамаранным. И думается мне, не просто так все разом случилося. Не могла Акулина одна таких дел наворотить… – В сговоре они, думаешь? – Да як день ясно! Мирон давно ее знает, вот и подсобил по старой памяти. А она ему – хлопчика, в награду, значит. У, пень старый, не хочет, вишь, по счетам-то платить. – И что теперь? – А таперь, думается мне, там все дорожки и сойдутся. К Сухощавому идти надобно. – Ну так пойдем! Вон нас сколько! Айда, мужики? – обратился к присутствующим Жигалов. – Не айда, а трында! – оборвал его порыв Демьян. – Ты чем слухал? Говорю ж, он с чертями за брата! – А мне и сам черт не брат, – буркнул Федорыч. – От трехлинейки в лоб яшчэ ни один черт не спасал. – Дурань ты! Думаешь, он, як я, будет травки перебирать да заговоры шептать? Хер там! Один раз глянет – кишками опростаешься. И все вы тоже разом. – Так шо, каков план? – обрубил бормочущий гул Макар Саныч. – Есть у меня идейка одна. Припасено у меня кой-чаго. Одно плохо – до хаты моей добраться треба. Поехали, шо ль?

За три дня в гостях у киловяза Максимка уяснил несколько вещей. Во-первых, местный суседка хозяина шугался. Сухощавый его загнал в самый дальний и пыльный угол и вообще шпынял как только мог. Большая разница с тем наглым и общительным домовым, что жил у Демьяна. Во-вторых, старик жить не мог без карт. Каждый вечер Сухощавый звал Максимку за стол – в секу перекинуться или преферанс. Тот поначалу отказывался, но в итоге сдался и согласился играть на спички. Спичек убывало то у одного, то у другого – обученный Свиридом, Максимка не сдавался, преисполнился совсем недетским азартом и играл, как чертом поцелованный. Они, бывало, сидели за столом до поздней ночи, при свечах, и кидали на стол карты под азартные возгласы старого киловяза: «бито», «взял!», «банкую!» Мухлевал Сухощавый, к слову, за милую душу, гляди в оба. Ложились спать глубоко за полночь, а потом долго не получалось уснуть: Сухощавый ворочался и стонал во сне, скрипел оставшимися зубами. Робко выползал из-под печки домовой – непохожий совсем на Демьянова суседку, шерстистый и глазастый, не то как клубок пыли, не то котенок дохлый – и тихонько надкусывал оставленную сердобольным Максимкой корку хлеба да пил воду из блюдечка. Поев, суседка кланялся благодарно и уползал обратно под печь. Распорядок жизни у Сухощавого был прост. Рано утром он выходил на улицу в трусах и майке, до ветру, и разговаривал с птицей. Вставал на четвереньки, растопырив острые лопатки на спине, смешно вытягивал вперед голову на худой шее и кричал в лес около избы всякие странные слова на птичьем языке – курлыкая, свистя, щебеча. Возвратясь домой, в ответ на недоумевающий взгляд Максимки пояснял: – Алконосту молился. – Кому? – Птичка такая, райская. Богу-то я молиться не могу, а Пеклу уж незачем – отмолился. Вот, як пернатый, и щебечу себе. Ты давай, отрок, сам пожрать готовь, а то я не ем почти – зубов нема. И шел на кровать, спать да пердеть. К полудню вновь поднимался, жалуясь на все на свете – от больной спины до клятого Хрущева, что всю страну кукурузой засадил. Садился чай пить, чихвостил Максимку за плохую заварку и снова звал в карты играть. К обеду приходили к порогу редкие просители. Сухощавый их за гантак не пускал, разговаривал через окошко – а то гвоздь привязан у порога, всякого непрошеного гостя скрючит так, что потом хрен разогнется. Максимка заметил, что у Демьяна обычно просили порчу снять, а вот к киловязу шли с просьбой ее наложить – странно даже, получается, что один порчу накладывает, а другой снимает, так и воюют, сами того не понимая. Или друг другу делают этот, как его, слово такое модное американское… Бизнес? Правил никаких у киловяза в избе не было, делать ничего не требовалось. Демьян-то Максимку по делам гонял – туда поди, то принеси, там почини, здесь прибери, а Сухощавому все одно – чтоб было с кем в карты поиграть да лясы поточить. Сядет вечером, тасуя колоду, и заладит сказывать: – Киловязом-то, пацан, быть выгодно. – Гэта чем же? – Ну а шо, пред киловязом все двери открыты – все его уважают да боятся, прохожие в ноги кланяются, гостинцы вона якие приносят. А яшчэ киловяз может деньгами брать, а не подарками одними, як Дема твой. Девки знашь як нас любят? Ох, скольки ж у мене их было́ – и чернявых, и руснявых, и рыжих; и толстых, и худых, мелких да высоких, жопастых да сиськастых. Эх, гиде ж молодость та… – А коли я не хочу, шоб меня боялись? – Як не хочешь? – удивлялся Сухощавый. – Дурной, шо ль? Все хотят! За кем страх – за тем и власть. Вона, як Сталин. Или ЧК. Ты им тольки слово поперек вякни – враз в бараний рог скрутят. И ты так же можешь – шоб по одному твоему слову девки рогатки раскидывали, а мужики в портки ссались. – Якие такие рогатки? – переспросил Максимка, бросил взгляд на выточенное Демьяном орудие, лежавшее рядом на лавке. Но киловяз, кажется, имел в виду другое. Тот, проследив за его взглядом, хрипло расхохотался. – Эх, юный ты зусим. Ничога, як волосы полезут да трусы пачкать начнешь – сам усе зразумеешь. А там ужо и взвесишь, шо табе больш по нраву – масла миска за корову найденную али чаго послаще… И Сухощавый мерзко так причмокивал, облизывая запавшие губы. Максимка от скуки заместо книжек читал старые Демьяновы тетрадки, взятые из дому. Хоть чернила и расплылись от давности, но то, что можно было разглядеть, ввергало мальчика в изумление – мир знатков раскрывался в новом свете. И написано-то как красиво! Писал то явно не Демьян: вместо обычных «докторских» закорюк по желтым листам змеился каллиграфический женский почерк, как у Анны Демидовны: «Передать силу заговора можно только младшему летами; некоторые заговоры нужно произносить под связанными ветвями березки, над следом; другие – натощак, на пороге, в чистом поле, лицом к востоку, на ущерб луны. Всего страшнее чары при исполнении религиозных обрядов; задумавший на “безголовье” врага ставит в церкви свечу пламенем вниз или постится в скоромный день». Читая другой отрывок, Максимка вспоминал, как шептал Демьян над травками да цветками, с необычайной нежностью, чуть ли не напевая слова и будто вспоминая о ком-то, близком его сердцу: «…Траву ту звать тихоня. Растеть окала зелини, листички маленькие рядышкым, рядышкым, твяточик сининький. Растеть окала земли, стелитца у разные сторыны…» Сухощавый же, заметив, как Максимка сидит, перебирая сухие листы тетрадей, спросил с хохотком: – Ты чагой-то читаешь там всё? – Дык Демьян вучить наказал… Заговоры, зачины, да вот – тута учёба всякая. А вы, дядька Мирон, разве не читаете ничего, не учите? – Я, пацан, ужо давно учёный, – отвечал Сухощавый, сплевывая в помойное ведро, – а коль чаго понадобится – мне и так черти на ухо нашепчуть. Их-то долго звать не надо – в печку крикнул, так зараз явятся, падлы такие. Слышь, давай в картишки перекинемся, а? – Дядька, у меня от ваших карт ужо глаза болят! – А от тетрадок не болят? Чаго ты як маленький? Партеечку всего? – и старый киловяз уже бесцеремонно садился за стол, тасуя замусоленную свою колоду и скидывая тетради на табуретку. На картах он был прямо помешан, да и с Максимкой ему было играть явно веселее, чем с бесами, и тот даже слегка подыгрывал Сухощавому, из разу в раз восхищаясь его «зехерами». И, хотя старик без устали молол языком, к игре подходил серьезно, и лишь на второй день Максимке удалось его впервые обыграть. Киловяз тогда задумчиво почесал «Ныробом» – тыльной стороной ладони, значит – морщинистый подбородок и прогудел: – Видать, заметили тебя черти: масть подсовывают… Так и прожили они три дня – с картами и бесконечными разговорами да пересудами обо всем на свете. Было не сказать чтоб скучно. На третий день киловяз утром не пошел совершать свою странную молитву, а первым делом принюхался, вытянув морду, как собака, и сказал Максимке: – Чайник ставь. Гости будут. За оградой словно бы стемнело – утро не спешило наступать, окрестности заволокло серой мутью; солнце потускнело и даже как будто покрылось рытвинами – что головка сыра, а краски из предметов испарились, став безжизненно-бледными, почти бесцветными. Небо приобрело ржавый оттенок зубного налета. Максимка почувствовал такую тоску, что хоть вешайся; да и киловяз был ворчливей обыкновенного. Поставив чайник кипятиться, Максимка сел за стол, выглянул в окошко. По деснам разливалась знакомая зубная боль, как и обычно при приближении нечисти. Заметив, как тот скривился, Сухощавый крякнул: – Э, брат, да ты тоже чуешь. Чаго болит-то? Зубы? Максимка лишь кивнул, с тревогой поглядывая в окошко. Что же там такое, отчего так челюсть ломит? Сухощавый тем временем отворил шкаф, снял с вешалки траченную молью красную рубаху, брюки да штиблеты, которые взялся начищать ваксой. – Вы куды так наряжаетесь, дядька Мирон? – Гость явится дуже важный, – мрачно ответил киловяз, сражаясь старческими пальцами с непослушными пуговицами на рубахе, – враг иль друг гэта, я не ведаю, так шо треба приветить по-хозяйски. Ты гэта, крыльцо подмети-ка. Максимка обрадовался хоть какому-то делу. Прошелся метелкой по гантаку и дорожке у ограды, когда от плетня послышался мужской шепелявый голос: – Э, Губаревич, ты, шо ль? Якие люди, тебя-то мне и надо! А хде Дема? Увидев гостя, мальчик выронил от изумления метелку. У плетня стоял бывший председатель Задорья, а ныне псих – Евгеша Кравчук. Был он одет в какой-то вшивый ватник не по сезону, накинутый на исхудавшие плечи, и мало напоминал себя прежнего. Пухлые когда-то щеки обвисли дряблыми брылями, совершенно ошалелые глаза глубоко запали в череп; председатель постоянно чесался и был весь с ног до головы покрыт засохшей грязью, как если б пробирался несколько дней по лесам да болотам. А когда Кравчук улыбнулся, Максимка и вовсе попятился – во рту у председателя не было ни единого зуба, одни лишь едва зажившие десны. Хотя раньше каждое утро как штык во двор и давай намываться-начищаться, зубную щетку из рук по полчаса не выпускал. Хорошие у него зубы были – да сплыли, получается. Максимка ощутил ладонь на плече. Это Сухощавый встал сзади и положил руку – не волнуйся, мол. – А ты кто таков? – гаркнул киловяз, и от его внезапно окрепшего, без былого старческого дребезжания, голоса вспорхнули птицы на лесной опушке, а непрошеного гостя словно бы придавило к земле. Но тот выпрямил спину и нагло ухмыльнулся в ответ беззубой пастью: – Я от Акулины, штарик. Привет прош-шила передать! И дзякущь жа жуб! – и он махнул рукой – между пальцев у него был зажат маленький зуб-резец. – Он мне добрую шлушбу шошлужил. Великая в нем ш-шила! – От якой яшчэ Акулины? – делано удивился киловяз, и тут даже Максимка посмотрел на него с недоумением. – Много у мене девок было, но ниякой Акулины не припомню. Кравчук хихикнул. – Ага, тебе ж она не открывалашь. А мне открылашь, всю душеньку швою прекрашную нарашпашку! Вше рашкажала, вше тайны ваши колдуншкие. И жуб твой дала. Акулина – хожяйка моя. – А, дык ты про Купаву! Открылась, значит, все-таки, – с досадой крякнул киловяз. – И зуб подсуропила. Ох, сука, долго яшчэ мне тот зуб клятый отзываться будет. Так шо, Купава-Акулина, значит, господыня твоя, кажешь? – Ага, – кивнул председатель. – И чаго тебе надобно, раб херов? – Его, – и Кравчук указал грязным пальцем на Максимку. Сухощавый молча задвинул Максимку за спину, сделал шаг вперед и показал гостю дулю. – А вот хера тебе! Ты шо себе тама мыслишь – в мою хату явился без приглашения и будешь тута права качать? Иди к черту, юродивый! Кравчук расхохотался – странно так, будто заклокотал одним горлом. – А я уже оттуда, штарик! Гляди, кто шо мной в подмогу пришел. Фьють! Бурьян да кусты вдоль дороги зашевелились, и оттуда начали выходить знакомые силуэты дефективных телят – таких же Максимка наблюдал несколько дней назад на ферме у зоотехника Остапа Власовича. Все разные, изуродованные, то с четырьмя рогами, то с тремя глазами, у некоторых так и вовсе по пять ног или по две головы. Среди них были и создания, похожие на коз – с хаотично закрученными во все стороны рожками, горизонтальными зрачками и клоками шерсти, рассыпанными по воспаленной плоти. Не обошлось и без немногочисленных «поросят» – раздутые, будто утопленники, подсвинки казались набиты кишками сверх меры, и те просвечивали сквозь тонкую пленку, заменявшую им кожу. Яростно мыча, хрюкая и блея, полубесы приближались к плетню, а бывший председатель Кравчук оглаживал и охлопывал их, лыбясь беззубой пастью – точь-в-точь пастух белены объелся. Он приподнялся на какую-то кочку, возвышаясь над стадом, набрал воздуха в грудь – как на партсобрании, заговорил зычно: – От имени шоветшкой влашти и Акулины лично прикаживаю тебе, штарик, шдать гражданина Губаревича мне. В шлучае откажа буду вынужден принять шрежвычайные меры. – Да пошел ты на хер, вымлядак сраный! – плюнул на землю Сухощавый и, втолкнув Максимку в хату, запер дверь на засов. Снаружи раздался недовольный рев, исторгшийся из глоток десятков полубесов. – Дзякую, дядька Мирон, – ошарашенно прошептал Максимка. – А чего теперь-то? Их же там тьма-тьмущая. – То не тьма, сынку, то так – корова сходила, – презрительно сплюнул Сухощавый. – Зараз побачишь сам, на шо киловязы способны. Под руку не лезь тольки. Хотя… Подай-ка мене чертополоха для растопки – он тама, за печью висит. И суседку пни, помогать буде. А сам сел перед печкой, начал чиркать спичками. На улице выли и бесновались бескожие твари. Зычно позвал Кравчук: – Не делайте глупоштей, гражданин! По-хорошему предлагаю! Гражданину Губаревичу ничего не грожит! – Ага, уж мне-то по ушам не чеши, юродивый, – буркнул киловяз, – слышь, пацан, клещи захвати – на печке лежат. Максимка сунулся за печь, взял веник сушеного чертополоха и шепнул тихонько истинное имя суседки. Подал ржавые железные щипцы киловязу. Тот уже разжег небольшой огонек, подкинул туда колючий веник с фиолетовыми венчиками – пламя мгновенно зашлось, и Максимке почудилось, что из печного притвора раздались человеческие крики; совсем как в Чертовом Углу. – Здеся вы, душеньки мои пекельные, – осклабился Сухощавый – в предвкушении боя он даже будто помолодел, плечи расправились и окрепли, и в выглаженной красной рубахе ему никак нельзя было дать больше пятидесяти лет. Даже «Ныроб» на тыльной стороне ладони, казалось, горделиво подбоченился, налился чернилами. Снаружи тяжело, тягостно взвыл один из полубесов Кравчука; саданулся с разбегу о дверь, да так, что та затрещала. Тут же раздался громкий хлопок, от которого у Максимки заложило уши. Из-под двери повалил дым, а снаружи шепеляво заматерился председатель. Окна залепило бурыми ошметками внутренностей. – Дядька Мирон, вы там шашку динамитную, шо ль, держали? Сухощавый отмахнулся с ехидной ухмылкой. – Якую шашку? Кто к киловязу непрошеным зайдет – кишок не соберет, полон порог гвоздей для всяких гостей. Ты гэта, вот чаго… Здолеешь мине зуб вырвать? – Чего?! – уставился на него Максимка. – Того! Шоб нам помогли – зуб мой нужон. Да ты не пужайся – они у мине слабо держатся, там чуток всего дернуть треба. Давай-ка бери клещи и рви, – Сухощавый широко раскрыл рот – дохнуло старческими внутренностями, ткнул пальцем на четыре оставшихся зуба. Максимка поколебался секунду, но вдруг с потолка посыпалась труха и по крыше застучали копытца. Мешкать было некогда. Взяв клещи и приладившись к раззявленной пасти киловяза, Максимка ухватил один из зубов – желтый и кривой с черной блямбой кариеса. Стоило потянуть – киловяз замычал, завращал глазами. Еще рывок, и ничего, клещи соскользнули, а у Сухощавого в глазах выступили слезы. – Ты не рви, ты крути его, паря! Максимка вновь ухватился за бока многострадального зуба; клещи проскрежетали по эмали, но удержались. В дверь опять саданулся бестеленок, прогремел очередной взрыв; ошметки вновь разлетелись по округе, под дверью натекла зловонная бурая лужа. Максимка зажмурился и крутанул изо всех сил, одновременно упершись коленом в грудь старику. Тот хекнул, выдохнул Максимке в лицо липкие капельки слюней… ХРУСТЬ! На пол упал окровавленный зуб, едва не закатился в щель. Сухощавый сплюнул кровь, схватил зуб и тут же швырнул его в печь; отчаянные крики пекельных душ окрепли, усилились, и пламя пыхнуло обжигающими языками едва не до середины избы. Бум! Дверь содрогнулась от очередной попытки полубесов попасть в дом. Киловяз склонился над самым жаром – аж брови затлели, принялся шептать заговор на странном, шипящем и хрипящем языке, обращаясь не к Нави, а к силам куда более темным и древним. В этот момент дверь хаты наконец вышибли, а вернее – разнесли в щепки. В груде развороченных внутренностей и обломков стоял шестилапый теленок с единственным огромным глазом во всю морду, как у циклопа. Он неловко пошатнулся на месте, боднул перед собой воздух и, поняв, что угрозы больше нет, ввалился в избу; замычал яростно – будто из двух глоток. Уже через какую-то секунду миниатюрный «спутник» прошил лопнувший от выстрела глаз насквозь и вошел глубоко в деформированный череп твари. Теленок заскрипел и повалился набок. Максимка и сам не понял, как рогатка оказалась у него в руках, – некогда было думать, рефлексы сработали сами по себе. Он вложил второй «спутник» в мешочек резинки, прицелился в дверной проем, где в заполнившем хату дыму мелькали тени прочих тварей. – Ну ты прям снайпер, – похвалил Сухощавый, отворачиваясь от печного притвора. Его лицо исказила болезненная гримаса, точно нерв защемило, ресницы прогорели, и теперь глаза его казались еще безумнее, чем у Кравчука; на дне их будто кто раздул адские уголья. Киловяз хищно слизнул кровь с подбородка и уставился на дверь. – Ты хде там, юродивый? В хату ворвался новый полубес. Он полз на единственных двух лапах, похожих на человеческие руки; за ним на полу оставался жирный след, как от огромного слизня. Жуткое подобие поросенка хрипело и будто бы пыталось разговаривать. Максимка запустил ему «спутником» в лоб, который тут же провалился внутрь, начал скукоживаться, как бумажный; повалил вонючий дым, и киловяз с молодым знатком расчихались от режущей ноздри вони. – Да они шо, усе такие смердячие? – Усе, дядька… – подтвердил Максимка. – Наружу пора, с придурком вашим повидаться. А то задохнемся тута. Э, суседка! Подь сюды! – не оглядываясь, Сухощавый вытянул руку, и на плечо ему по-обезьяньи запрыгнула волосатая черная тень, свесила ножки – домовой слушался его, будто дрессированный. Вот так, с суседкой на плече, старый киловяз, чьим именем в Задорье шугали детей, вышел на порог. Максимка осторожно выглянул из-за его спины и зажмурился от страха – даже его, повидавшего всякое за последние месяцы, увиденное впечатлило до глубины души. Все свободное пространство перед хатой так и кишело тварями, рожденными от коров, свиней, коз и бесовьего семени. Гады снесли плетень и затоптали хилый огородик киловяза, теснились одной качающейся массой, заползали на спины друг другу. Все они были не похожи друг на друга – у кого птичьи крылья торчат из хребта, у кого даже башки нет, вместо нее клыкастое хайло растет прямо из грудной клетки; взгляд Максимки выхватил одного особенно безобразного теленка с искаженными от боли и страданий младенческими лицами по всему телу. Отродья мычали, ревели, хрипели, а Кравчук любовно гладил их по склизким спинам. – И как вы воевать шобралишь ш таким войшком? Гражданин, выдайте мальшика, ничего ему никто не шделает! – Кравчук кривлялся, скалился беззубой улыбкой – Максимка не узнавал в нем того жизнерадостного пухлощекого председателя, что деловым колобком носился по Задорью всего три месяца назад. Абсолютно другой человек. Сухощавый пропустил его слова мимо ушей. Лишь проговорил злобно, негромко, но от появившейся в его голосе силы замолкли даже беснующиеся гады: – Ты мене полдома раскурочил, гнида пархатая. Зараз отвечать будешь… Ох, спрос с тебе высокий буде, сука. – И цыкнул что-то суседке на плече: тот соскочил, рванулся вперед стремительной тенью; стоявшие ближе всего бестелята попятились, но слишком поздно – брызнула кровь, разлетелись в стороны клочья мяса, обрывки шкур, оторванные конечности. За суседкой оставалась полоса из растерзанных тел, и он почти сумел достичь председателя, когда тот взмахнул рукой с зажатым в кулаке зубом киловяза. Домовой встал как вкопанный – худая волосатая тень, на которую сколько ни смотри, а так и не разглядишь как следует – и издал тягостный стон. Сделав еще один театральный взмах рукой, как дирижер, Кравчук прикрикнул на суседку, и тот неожиданно скукожился, стал меньше ростом и вот так, уменьшаясь секунда от секунды, вскоре растворился – будто утек в землю струйкой сигаретного дыма. Сухощавый хмыкнул задумчиво. – Дюже сильный ты, да? Суседку усмирил, гляди-ка… Откуда же моща такая у тебе, юродивый? – Шкоро ужнаешь! Вжять вредителя! – приказал Кравчук отродьям, и те бросились к крыльцу единой гневной массой. Дальше Максимка мало чего сумел разглядеть. Одних лишь полубесов, их разинутые пасти, голые лоснящиеся от пота спины, уродливые очертания тел. Он попятился в хату – уж лучше нюхать вонь разложения, чем столкнуться лицом к лицу с этими тварями. Во вспотевших ладонях мальчик судорожно сжимал рогатку. В мешочке осталось всего три снаряда-«спутника». Но Сухощавый не сдвинулся ни на миллиметр. Он расправил спину и зло, от души, расхохотался. Закатал рукава рубахи до локтей. А потом спустился по ступенькам и встретил первого бычка ударом кулака в лоб. Максимка уже представил, как ощетинившаяся торчащими клыками телячья пасть отхватит киловязу руку по локоть, но не тут-то было. От удара сухонького кулачка киловяза уродец отлетел назад, распадаясь на куски, будто ему врезали по лбу кувалдой. Другой полубес попытался укусить Сухощавого за ногу, но тот легонько брыкнул пяткой и сломал тому челюсть. В теле старого киловяза из ниоткуда появилась богатырская, железная сила – он расшвыривал полубесов, как кутят, убивал их одним ударом, с хрустом выкручивал им шеи. Одного уродца он, даже не крякнув, поднял над головой и швырнул в председателя – тот едва успел увернуться, и теленок с визгом пропахал мордой развороченную грядку с редиской. – Это ешше фто? – с обидой спросил Кравчук – он явно заволновался при виде киловяза, который с легкостью уничтожал его бесовье войско. – Окаживаем шопротивление предштавителю влашти? – Я ща тебе сопротивление-то окажу, падло! – взревел Сухощавый – весьзабрызганный кровью и настолько помолодевший, что стал похож уже на сорокалетнего мужика. Он стоял посреди издыхающих, начавших уже распадаться на гной и тухлое мясо пекельных тварей с окровавленными руками и встречал быстрыми ударами подбегавших полубесов – тех становилось гораздо меньше, и некоторые даже трусливо сбежали обратно в кусты, не слушаясь команд Кравчука. – Акулина, помоги! Он шумашедший! – взвизгнул Кравчук и шагнул назад. От его войска остались жалкие крохи – последние полубесы жалобно мычали, визжали и хрюкали, отступая в бурьян. – Не поможе тебе Акулина твоя, нема ее тута. Дупу наизнанку выверну, сучара! – мрачно пообещал Сухощавый, разбив череп о колено последнему осмелившемуся бестеленку и выбираясь из груды тел, словно древний витязь – весь замаранный кровью врагов, с безумной и беззубой ухмылкой. Двое полубесов, притаившихся у него за спиной, внезапно ворвались в дом, зафыркали и заерзали тупыми рылами, выискивая мальчика; Максимка вскрикнул и выпустил наугад один из драгоценных снарядов – конечно же, промахнулся. У одного полубеса вместо ног были длинные цвета воспаленной гортани щупальца, как у кальмара, и он передвигался плавно, что твоя гусеница. У другого в пасти метался длиннющий, метра с два, влажный язык. Вот этого языкастого Максимка убил еще на пороге, вторым «спутником», а вот чтоб спастись от гусеницы, пришлось побегать по хате и даже запрыгнуть на печку. С нее-то он и стрельнул последним снарядом: полубес, жалобно взвизгнув, издох и быстро начал разлагаться в зеленую смрадную жижу. Хату так заволокло вонючим дымом, что глаза резало. Максимка свесил ноги с печки. Без особой надежды проверил свой мешочек с боезапасом – пусто. Отбиваться больше нечем. Хотя и отбиваться, судя по всему, не от кого. Снаружи царила тревожная тишина. Видать, Сухощавый расправился со всеми гадами. Максимка спрыгнул с печки и подкрался к двери. Киловяз стоял прямо напротив председателя, в нескольких шагах, и внимательно его разглядывал, словно жучка какого или таракана, перед тем как раздавить. Кравчук съежился под его взглядом, растерял всю свою наглость. – Ну шо, сразу тебе башку открутить или оправдываться будешь? – Не надо… Я ж не шо жла! Мне Акулина прикажала, вше она виновата. – Гэта неважно ужо, – коротко сказал киловяз, подошел ближе и размашисто врезал Кравчуку. Максимка едва успел отвернуться, чтобы не глядеть на последствия такого удара – видывал, что кулак Сухощавого проделывал с телами полубесов. Но послышался слабый, как ладошкой по воде, шлепок, и следом – болезненный скулеж киловяза. Когда Максимка поднял на него глаза, то ужаснулся – запястье его висело, будто плеть, из кожи на сантиметр торчал обломок кости. – Думал, так прошто будет, да? – Кравчук осклабился гнусно, продемонстрировал киловязу треснутый зуб на грязной ладони. – У меня ж жуб твой, штарый. Ты не меня, ты шебя ударил. Сухощавый сидел на заднице и баюкал сломанную руку: – Ты мине руку сломал, падло! – Не слышишь, што ль? – удивился председатель. – Не я тебе руку шломал; ты шам ее шломал! – Як ты это зробил, сволочь? – простонал киловяз, поднимаясь на ноги. Под руку попалась брошенная Максимкой метелка – Сухощавый схватил ее здоровой рукой, размахнулся и несильно ударил Кравчука по лбу, после чего застонал и сам схватился за лоб. Вновь сел на задницу, застонал протяжно. – Ну ты и впрямь дурак штарый, – рассмеялся Кравчук и схватил киловяза за плечи, пристально уставился в глаза сверху вниз: – Мы ш тобой повяжаны, колдун, пока твой жуб у меня. И оштальные жубы ты мне тоже отдашь; больно ты щильный. – Не чапай, падло! – застонал Сухощавый, поняв, что его ожидает. И тут же крикнул отчаянно: – Максимка, беги! Утекай, куды глаза глядят! Наблюдавший за этой сценой Максимка сглотнул подкативший к горлу комок. Ему стало невыносимо жаль старого киловяза, какой бы сволочью тот ни был. Кравчук крикнул ему: – Оштавайша на меште, мальщик! – Беги, пацан! Беги, я его задержу! Максимка выскочил из дома и побежал, перепрыгивая через быстро расползающихся на волокна бестелят. Он ничего не видел от пелены слез, застившей глаза, и в последний миг увернулся от протянутой руки Кравчука. Тот крикнул ему в спину: – Штой, шука! Председатель попробовал было рвануть следом за мальчишкой, но Сухощавый цепко ухватил того за ногу, не дав сдвинуться с места. Кравчук сплюнул и прошипел: – Не отпуштишь, да? – Не отпущу, – пообещал Сухощавый – в глазах его скакали бедовые чертенята; киловяз чуял близкую кончину и примирился с нею. – Ну, открывай рот, штарый! И Кравчук вытащил из-за пояса больничные клещи, бурые от его собственной крови. Оскалился голыми деснами, надавил с боков на челюсти старого киловяза, а тот открыл рот с тремя оставшимися зубами и застонал от бессильной злобы – в предчувствии смерти… В то время Максимка что есть мочи бежал по полю за домом – в сторону Задорья по тропе вдоль лесной опушки. От обиды за Сухощавого Максимка рыдал на бегу, но понимал, что толку от него было бы чуть. Отжил свой век старый киловяз, но хоть другому пожить дал. Максимка не замечал навалившегося на окрестности тяжелого, совсем не полуденного мрака. Не видел, что над головой вместо солнца бледно светила желтая, щербатая луна; не понимал, что лес вдоль поля не шумел и птицы не кричали, не слышно было стрекотания насекомых – мир был погружен в неестественную тишину. Максимка просто бежал, как велел ему Сухощавый – куда глаза глядят, захлебываясь слезами. И то и дело массировал челюсть – зубы ныли все сильнее. Неожиданно его окликнули из лесной чащи: – Максимка, ты? Я тебя обыскалась уже! Он затормозил, оглянулся. Вытер рукавом слезы, всхлипнул. – Кто гэта? – Не узнал, что ли? – из кустов у леса вышла Анна Демидовна. Одежда вся в колючках репейника, косметика размазана по лицу, голова наклонена лукаво – будто Максимка у доски артикли перепутал. – Анна Демидовна? Вы откуда здесь? – от изумления Максимка даже плакать перестал. Уставился на учительницу широко распахнутыми глазами. Вот уж кого он ожидал встретить меньше всего. – Так тебя искала! На себя посмотри: одежда неглаженая, чумазый весь… Так и знала, нельзя тебя к этому мракобесу отпускать. – Да не чумазый я… – А какой же, чистый, что ли? Ну-ка, поди сюда. Максимка подошел ближе, и Анна Демидовна, вытащив из кармана жакета платок, краешком вытерла ему слезы со щеки. – Чего плачешь-то? – Да вы не зразумеете. Там такое… – Где? – Ну тама, у дядьки Мирона, – Максимка махнул рукой за спину, – ой, все сказать – не пересказать. А вы что же, меня пошли пошукать? Максимка заметил, что Анна Демидовна без обуви – босые ноги, в одних только колготках, все покрыты царапинами и занозами, будто она не первый час ходила по лесу. Наклонив голову еще сильнее – как кура на червяка глядит, – учительница ласково сказала: – Пошла, да. И нашла-таки тебя. Пойдем-ка со мной, Максимка, – в место тебя заветное отведу, опасно здесь… Идем скорее, идем! И Максимка нехотя последовал за учительницей в чащу леса.

Тем временем от разрушенной бестелятами избы в сторону Задорья шел в разодранном ватнике Кравчук, счастливо улыбавшийся беззубым ртом. Он радостно подпрыгивал, щурился на то подобие солнца, что висело в небе, а в руке сжимал четыре окровавленных колдовских зуба. Тряхнув кулаком с зажатыми в нем зубами, Кравчук что-то прошепелявил; над пшеницей на противоположной стороне поля появилась одна уродливая башка, вторая, и вскоре за бывшим председателем уже бежали несколько послушных его воле уродцев, отдаленно напоминавших телят, поросят и коз. И их становилось все больше.

Выйдя первым из клуба на улицу, Макар Саныч воскликнул: – Демьян Рыгорыч, а с солнцем-то шо? Няужо и до него добрались? Демьян и остальные по привычке прищурились, поглядев в небо. Только щуриться не требовалось – то, что висело на небосводе, не светило, а как будто бы тлело бледным болотным огоньком и больше всего напоминало какую-то обкусанную луну; кособокую, оскалившуюся полумесяцем. Потому и было так темно на улице посередь бела дня. – Погодь, то луна, шо ль? – промолвил Федорыч. – Она самая, – Демьян сплюнул на землю, – в Нави тольки луна и светит. – А солнце хде?! – Да як у Чуковского. Крокодил солнце взял и проглотил. Поехали, долго яшчэ стоять будем? Макар Саныч настоял, что за руль своей служебной машины сядет сам. Майор лишь пожал плечами – и впрямь, чужое ведь, попользовался и хватит. Демьян сел на пассажирское место около водителя, сзади Жигалов и егерь Валентин. Остальные поехали на полуторке Федорыча. От оружия в салоне было тесно. На машинах домчали до дома знатка за пять минут. Увидев свое жилище, Демьян простонал горестно: – Да шо ж такое… Жигалов сочувственно похлопал его по плечу: – Ничего, брат, и не с таким справлялись. Не горюй. От знатковской хаты остались, как говорится, рожки да ножки. Неведомая злобная сила разобрала половину дома, вышибив бревна из пазов, разломала крышу и переднюю стену, обращенную к улице. Торчала скособоченная печная труба. Огород был затоптан, плетень сломан, и в этой мешанине Демьян с похолодевшим сердцем увидел собачью будку, превратившуюся в груду досок. Он с такой силой рванул дверцу «запорожца», что та едва не осталась в руке. – Полка-а-ан! На подгибавшихся от страха ногах зна́ток бросился к остаткам будки; от нее тянулась цепь, и на ее конце, у самого крыльца, Демьян уже увидел лежавшее на земле тело. Собака поджала лапы, превратившись из грозного зверя в пушистый окровавленный комок. Полкан явно сражался до последнего – рядом с ним земля пропиталась вонючей зеленой слизью, валялись неразложившиеся до конца останки двух бестелят. Демьян упал на колени рядом с трупом своего пса, поднял его, прижал к груди и от души, навзрыд, заплакал. Уткнулся носом в слипшуюся от крови собачью шерсть. – Я его, дурань, с цепи-то редко отпускал… Вот ему убягать и некуды было – дрался, хату защищал. Эх, Полканушка… Рядом столпились мужики, сочувственно вздыхали. Свирид сказал: – Ладно табе, чаго так убиваешься? Гэта ж собака, всего-то. Жигалов покосился на Свирида так, что тот потупился, сделал шаг в сторону. – А чаго не так? Ну собака же! – Собака? – Демьян поднял заплаканное лицо. – Сам ты собака, сучий ты потрох! Я его яшчэ щенём подобрал, вот таким. Я его выходил, выкормил, выучил. Собака, кажешь? Все промолчали, Свирид отвернулся и отошел от греха подальше, чтоб по мордам не получить. Демьян вздохнул, всхлипнул и наконец отпустил пса. Ласково погладил по вмятой и ставшей неровной голове, прошептал: – Бывай, верный друг. Земля табе пухом. Поднялся на ноги и молча пошел в хату – вернее, в то, что от нее осталось. Там начал разбрасывать ногами обломки, забормотал всякое странное, будто с глузду съехал. Стоявшие на улице мужики расслышали слова про суседушку-хозяюшку, про молочко налитое да про новый дом. Подойдя ближе, Жигалов подслушал, как зна́ток с кем-то разговаривает среди опустевших руин: – А Максимка хде? А, у Сухощавого яшчэ… Ну ничога, мы зараз до гэтага гада прогуляемся, побалакаем с ним. Допомогой будешь, суседка? Шо ж ты Полкану не помог? По́йдем, дружок, – я тебе в новый дом отнесу. Прыгай сюды, в банку! Вскоре Демьян вышел наружу. В правой руке сжимал что-то завернутое в тряпицу, в левой – банку из закопченного стекла, вроде пустую, а вроде и с чем-то внутри. Под мышкой зажимал свою палку-клюку. Из нагрудного кармана рубахи торчала фотокарточка с лицом Есенина. Поймав любопытный взгляд, зна́ток поспешил затолкать ее поглубже. – Трымай, майор, а то сам не смогу усе таскать, – он сунул Жигалову банку, – гляди тока в оба – не урони, зразумел? Уронишь – беда будет. – А чего там? – с интересом спросил майор, пытаясь разглядеть содержимое банки. Поставил ее на ступеньку крыльца – пускай лучше постоит, раз такая вещь опасная. – Домовой – гэта коли по-вашему, по-русски. – Домовой, значит, ага, – Жигалов уже начал привыкать, что он находится словно бы в сборнике устного народного творчества, – а это чего за хрень у тебя? – Гэта ружжо особое, ниякая нечисть не устоит. Купол церковный. «А в стойле у него Конек-горбунок стоит», – подумал Жигалов, сдержав нервный смешок. Остальные мужики отнеслись к словам знатка вполне серьезно. Да и как тут серьезным не будешь, когда по улицам избы на курьих ногах шастают, а в небе заместо солнца днем луна висит? – И Полкана похоронить треба, – добавил Демьян, – так шо погодите малясь, покуль закопаю. Вытащил лопату из завалившегося сарайчика, поплевал на руки да начал рыть яму прямо на месте бывшего огорода. Мужики расположились на обломках фасадной стены хаты, закурили, с опаской поглядывая в странное небо – потустороннее, оранжевое и заволоченное зыбкой дымкой – никаких звезд, один только ржавый серп чужеродного полумесяца. Окрестности казались погруженными в бледно-лиловый туман, как вечером иногда бывает, только вот наручные часы у председателя показывали полтретьего. Макар Саныч, демонстрируя блестящий хронометр, горделиво сказал, что по нему сама Москва сверяется. Все уважительно закивали. – Досверялась! – бедово хохотнул Свирид. Демьян выкопал яму, подтащил к ней отяжелевшее в смерти тело пса, поцеловал Полкана в седую морду и сбросил на дно. Пошептал над могилой да споро взялся закапывать обратно, аж вспотел весь, хекая и орудуя лопатой. Жигалов посмотрел на свои наградные Командирские часы. Минутная стрелка тикала, а вот луна на небе оставалась на том же самом месте – в самом зените, как и пару часов назад, ни на йоту не двигаясь. Майор подумал – а если б и впрямь ученым про такое диво рассказать да показать, что бы они сказали? Это ж такой ценный вклад для Союза, партии и коммунизма в целом. Мысль показалась удачной, и майор отложил ее на потом. Внезапно со стороны дороги донесся топот, секунда от секунды становившийся громче. Жигалов поначалу подумал, что ему показалось, ан нет – вот и остальные стали озираться, даже Демьян отвлекся от своего занятия, поднял голову. Майор затушил сигарету и выскочил ближе к дороге, уставился внимательно на стежку, ведущую через Задорье. Оттуда будто бы неслось татаро-монгольское войско. Поднималась пыль от множества ног. Впереди этого пылевого облака летел на огромном коне расхристанный субъект в драном ватнике, гикал и кричал, ударяя пятками по бокам скакуна. Точь-в-точь Мамаев налетчик! – У нас гости. В оружие! – коротко приказал Жигалов, и вся компания деревенских вояк мигом ощетинилась оружейными стволами. Пыльная процессия приближалась. Конный всадник ближе к дому знатка осадил скакуна, а его сопровождающие тоже сбавили ход. Жигалов разглядел свиту всадника, и по телу его пробежала дрожь – то были не люди, а такие же бестелята, которых он видел в загоне у Полищука несколько дней назад, только еще более уродливые и разнообразные. И было им несть числа, и были они всякие разные – словно перемешали всех тварей земных, создавая увечные гибриды. Получились сплошные уроды, все различные до такой степени, что взгляд метался от одного к другому, пытаясь осознать их отличия. И все эти твари теснились по краям дороги, не умещаясь в колее, пихали друг друга, мычали, хрюкали, визжали, блеяли и клокотали бычьими, козьими и бараньими глотками. Впереди всех величаво двигался предводитель на громадном коне – тот был будто вывернут наизнанку и зыркал злобно горизонтальными козьими зрачками. Насмешливая улыбка обнажала голый и беззубый рот, на плечи накинут изорванный в клочья ватник на манер королевской мантии; лицо все покрыто струпьями, царапинами и коркой засохшей бурой грязи. Подъехав ближе, бродяга выкрикнул «тпру-у-у» и натянул самодельные поводья из веревок; конь остановился у самого бампера «запорожца»; он цокал разросшимися, как корневища, копытами, и думалось, что одним ударом этакая бестия способна переломить автомобиль надвое. – Ты кто такой? – осипшим голосом спросил Жигалов – прямо перед ним, за разломанным плетнем, металась и толкалась вся эта масса из уродов, словно бы вышедших из ночных кошмаров или из кунсткамеры. Всадник совершенно безумно расхохотался, обнажив голые истерзанные десны. Сказал, шепелявя: – Ну и народ! Што ж вы, швоего предшедателя не ужнаете? Демьян подошел ближе, встал за плечом майора; зачем-то он взял свой тряпичный сверток. Прищурился на странного гостя, обвел взглядом толпу бестелят на дороге. – Евгеша, ты? – с искренним удивлением воскликнул зна́ток. – Ты его знаешь, что ль? – покосился на него Жигалов. – А то! И ты знаешь, казали табе про него! Кравчук Евгений Николаич, собственной персоной. Все ахнули, узнав председателя, заговорили промеж собой. Макар Саныч тихо выругался, тоже подошел ближе, косясь на беснующихся тварей и неверяще глядя на Кравчука. – Евгеша, ты тут откеда? – По твою душу пришел, шаможванец! – хохотнул Кравчук, натягивая поводья – конь под ним пытался взбрыкивать. – Ну, тпру-у, шволочь! – Ты от Акулины, да? – тихо спросил Демьян, но его почему-то все услышали. – Захомутала она тебя таки… – Не то шлово! – весело отвечал Кравчук. – Я-то думал, што моя Аллочка – хожяйка. Ан нет – такой хожяйки, как Акулинушка, нигде не шышкать. Я жа-ради нее на вше готов! Не веришь? Вот жуб даю, ха-ха. А нет жубов! А жнаешь, хде они? Вше у хожяйки моей, вше ей отдал, самое ценное, што было – я б и больше отдал, но нищего больше нет. – М-да, ну ты и каблук, – прокомментировал из-за спины Свирид. – На шебя пошмотри! Ни кола, ни двора, бабу швою колотишь и жалуешьщя вшегда. А женщина – цветок жизни, ее холить и лелеять надо. Мне вот Аллочка жызь подарила, щеловеком меня шделала; ешли б не она, кем бы я был? А Акулинка меня жнаешь кем жделает? Хотя не о том речь. Жа вами, шволочами, должок – ты, Демьян, жену и тещу мою убил. Ты, Макарка Щижый Нош, шражу на мое мешто щел, тока я ущел; тоже должен, штало быть. Шо вшеми вами поквитающь, шуки, вше вы мне должны. – Прям со всеми? – спросил, напрягшись, Жигалов. Он незаметно схватился за кобуру, щелкнул предохранителем. – Шо вшеми! – уверенно подтвердил Кравчук и крикнул своему бесовьему войску: – Ату их! Порвать, убить, Демьяна не трогать. Он Акулинке нужен. Твари, столпившиеся около председателя, заволновались, задвигали голыми спинами и одной волной, разом, рванулись вперед. Телячьи, козьи, свиные рыла метались перед глазами. Жигалов услышал за спиной выстрелы – и первая волна нападавших упала мордами в землю; да он и сам стрелял, делая шаги назад и выкрикивая по привычке: «На тебе, на, на, сука, на!» И пораженные его пулями бестелята падали, но на спины им уже наступали следующие. «Зря я сюда вернулся», – подумал Жигалов, быстро отстреляв обойму и заряжая следующую – он запоздало понял, что обоймы-то у него всего две, так что патроны нужно беречь. Да и у мужиков боезапаса не сады – на всю ораву не хватит. И обороняться негде – плетень снесли, от хаты Демьяновой одни руины остались. В клубе было бы сподручней, да где он сейчас, тот клуб? В трех километрах, поди, не меньше. Они постепенно отступали, усеивая землю перед собой трупами бестелят. Жигалов раньше никогда с таким не сталкивался, хоть и дошел до Берлина, – никогда он не стрелял в толпу колышущихся безоружных, но бесстрашно наступающих тел. Рядом Макар Саныч палил из пэпэша, жал что есть мочи на гашетку и безостановочно орал. Дуло автомата выплескивало струи пламени, бестелята падали как подкошенные, на них наваливались следующие – безобразные твари с тремя ногами, четырехглазые, пятирогие, маленькие и большие, с торчащими из тел обрубками шей и даже человеческих лиц. От пуль они скукоживались, в тушах образовывались зияющие раны, которые тут же расширялись, и бесноватые твари начинали мгновенно расползаться на слои и волокна – их тела хищно терзали собратья. В это время Кравчук победоносно смеялся, сидя на вставшем на дыбы коне. Он постоянно потрясал кулаком, будто у него там было спрятано нечто важное. Меж конских ног прошмыгивали все новые и новые бестелята, и не было им конца. Тут настигли Макара Саныча – он замешкался, перезаряжая диск автомата, задержался на пару секунд. За ногу его схватил один бестеленок, председатель ударил его прикладом, но тут же накинулся багровый, будто кровяная колбаса, дюжий хряк – ухватил за локоть. В мгновение ока Макар Саныч оказался погребен под грудой тварей, которые мотали мордами, вцепляясь острыми зубьями в его руки и ноги. Услышав жалобный стон председателя – не того, а настоящего, майор выстрелил в кучу-малу. От выпущенной пули разлетелась в клочья башка одного урода, но его место тут же занял следующий. Жигалов успел увидеть искаженное гримасой боли лицо Макара Саныча – тот будто силился что-то сказать, но в это мгновение в глотку председателя вгрызся изогнутыми клыками один из выродков; брызнула кровь из яремной вены, от лица Макара Саныча отхлынула вся жизнь, он мгновенно побледнел. И умер, терзаемый полубесами – один тащил его за ногу, другой за руку, а третий все так же вгрызался в шею, жадно лакая брызжущую кровь. Остальные наседали, трепали труп, растаскивали в стороны за конечности с омерзительным хрустом рвущихся сухожилий. Взрыкивали жалобно, когда не доставалось места у кормушки – более сильные собратья отпихивали слабых в сторону. В мгновение ока возле тела образовалась куча-мала. Кравчук громко загоготал, крикнул: – Вот и вше, Макарка, ошвобождаю тебя ш должношти! Ваша ощередь, гошпода-товарищи. Жигалов подумал уж было: ну все, так странно все и завершится, здесь и конец, Элем Глебович. В обойме всего пара патронов. Один на себя надо бы оставить, чтоб не погибнуть, как и. о. председателя. Незавидная смерть досталась мужику. А где Демьян-то? А Демьян, точь-в-точь как богомолец юродивый, медленно шел вперед с закрытыми глазами, неся перед собой тряпицу и шепча быстро-быстро какие-то словеса. Тряпица сползла, и Жигалову в глаз прыгнул солнечный зайчик. «Совсем свихнулся с горя? Зеркало он, что ль, несет? Да не, желтое что-то». Демьян двигался прямо на ревущую, мычащую и рычащую орду. Жигалов бросился ему наперерез. – Куда, дурень? Сгинешь! Демьян лишь отмахнулся от майора, как от мухи. Подошел вплотную к Макар Санычу, останки которого доедали бестелята. Один из уродцев поднял голову, вперил налитые кровью зенки в знатка, замычал угрожающе, стартанул к Демьяну. Майор едва успел ляпнуть ему промеж глаз из макарова. «Последний патрон остался! И лопатки саперной нема!» – тоскливо подумал он. А Демьян и бровью не дернул – идет, шепчет чего-то и даже глаз не открывает. Вот уже растерзавшие труп председателя полубесы подняли головы, рванулись шаткой рысью к знатку. Демьяна от тварей отделяла пара метров, не больше, когда зна́ток наконец открыл глаза и сдернул тряпицу со своей странной ноши. Кто-то словно включил фотовспышку – весь мир озарило неестественно белое, нестерпимое сияние, сделав все плоским, бесцветным и мертвым. Жуткий многоголосый вой раскатился над округой – точно Жигалов вдруг оказался на гигантской, безразмерной бойне. Сквозь сощуренные до боли глаза майор лишь на секунду осмелился взглянуть на бесформенное раскаленное нечто в руках у Демьяна, и тут же поплатился ожогами на сетчатке – как если б долго смотрел на солнце. Но он успел заметить, как под неистовыми лучами тела уродцев выворачивались наизнанку – внутренней своей пустотой, после чего лопались, разбрызгивая повсюду смрадный дым и внутренности, а через секунду иссыхали в горстки пепла. Демьян продолжал беззвучно молиться, направляя начищенный обломок церковного купола в разные стороны – так, чтобы никакая погань не выжила. Когда-то отражавшее самих ангелов зеркало брыкалось в его руках, как живое, отдавая без остатка всю намоленную мощь. Проходя через тела бестелят, свет катком укладывал их в единую дымящуюся массу, дошел до чудовищного коня и пробил тому дыру в боку. Брюхо страшного скакуна лопнуло, и Кравчук рухнул на землю, чертыхаясь и отплевываясь. Свет ослабевал, становился сперва желтым, потом оранжевым, малиновым, пока наконец в руках у Демьяна не оказалась кривая оплавленная болванка. Тот бросил ее наземь, дуя на обожженные пальцы. Все бесовские отродья превратились в прах, и теперь казалось, будто дорогу засыпало каким-то промышленным количеством сигаретного пепла. Кравчук, барахтаясь в пыли, искал то, что он, очевидно, выронил при падении. Подойдя ближе, Жигалов с изумлением увидел, что бывший председатель собирает с земли человеческие зубы. Щурится еще, как дурак, поскорее пытаясь их отыскать. На Кравчука глядели с ненавистью; Федорыч презрительно сплюнул и промолвил про «мышь сухопутную». От Макара Саныча осталось лишь кровавое месиво, на которое невозможно было и глянуть без содрогания. Майор отстраненно подумал: а как его хоронить-то теперь? В закрытом гробу? Или лучше сразу кремировать? – Этот чего выжил? – устало, без эмоций, спросил Жигалов у Демьяна, указывая на Кравчука. – А он не паскудь и не пекельный. Он человек. Да, Евгеша? Человек же ты все-таки? – со злобой спросил зна́ток у Кравчука, который наконец собрал все зубы и поднимался на ноги. В его глазах ненависти было не меньше. – Щеловек, щеловек… – отвечал Кравчук, шлепая губами, совсем как безумный. – Ты пошто собаку моего убил, вымлядак? Полкаша никому плохого не зробил. Добрый был пес. – А ты пошто жену мою убил, а? И тещу? – Не убивал я их. Гэта она все, Акулина! – Не ври! – выкрикнул бывший председатель. – Она врать не может! А ващ я и так ухайдокаю, без вщяких бещов. У меня жубы ешть! Я ващ и так задавлю, у меня влашть ешть! – и потряс рукой с зажатыми в ней желтыми зубьями. Низко в небе вдруг вспухло что-то похожее на чернильное пятно над самыми их головами. В пятне появилась расщелина, и оттуда наружу потянулись длинные костлявые руки – прямиком к людским глоткам. Жигалову внезапно все надоело. Надоело Задорье, надоела вся та чертовщина, в которую он по своей глупости ввязался. И более всего надоел ему шепелявый безумец, крутивший над головой кулаком, отчего синяк разрастался лишь сильнее. Майор просто поднял руку с зажатым в ней пистолетом, в стволе которого находился последний патрон, и нажал спусковой крючок. ПМ дернулся в ладони, выплюнул вспышку пламени, а во лбу Кравчука внезапно появилась красная дырка, откуда выплеснулся сгусток крови. Голова застреленного мотнулась назад, он издал протяжный стон и рухнул спиной на землю. Из разжавшейся ладони высыпались зубы. В ту же секунду лопнувшее в небе пятно затянулось, провалилось само в себя и пропало без следа. – Вот и все, решение всех проблем, – резюмировал Жигалов, пряча макаров обратно в кобуру, – правда, патронов больше нет. Есть у кого патроны на ПМ, мужики? Ему никто не ответил: все озирались, удивляясь происходящим вокруг переменам. Небо над головой внезапно, в один момент, приобрело нормальный оттенок. Солнце скакнуло из зенита ближе к западу, будто пожрав ржавый полумесяц, а сиреневый полумрак, охвативший все вокруг, во мгновение ока рассеялся. Они вновь находились в обыкновенном мире. В Яви, как сказал бы зна́ток. Оглядываясь, Демьян прокомментировал поступок майора: – М-да, ничога не скажешь. Радикально, но эффективно.
К дому Сухощавого решили ехать на «запорожце» – Макару Санычу он теперь уж точно ни к чему. «На тому свете автострад нема», – грустно пошутил Демьян. А Федорыча, Валентина, Свирида и его дружков отправили обратно в клуб, чтоб как-то организовывать быт, звонить в Минск и вызволять людей из погребов. Федорычу, как самому ответственному, Жигалов записал номер начальства на бумажке и сказал обязательно позвонить, чтоб высылали опергруппу поскорее. Поселковый почтальон серьезно кивнул, принимая поручение. Затем Жигалов с Демьяном уселись в «запорожец» и поехали в соседнюю вёску, где стоял дом Сухощавого. Вокруг простирался обычный, нормальный мир без ходячих домов, бесов и нечисти. «Явь» – поправил себя майор. Жигалов подумал, что придется пить по меньшей мере неделю, чтобы переварить пережитый кошмар. – Ты яшчэ сильней поседел, – невпопад сказал ему Демьян после нескольких минут напряженного молчания, – скоро як я будешь. Жигалов провел рукой по волосам, глянул в зеркало заднего вида – и впрямь, через всю шевелюру протянулась белая полоса. – Пошел ты, – беззлобно сказал он знатку. Извилистая дорога вывела в маленькую вёску на окраине, у самого леса. За вёской простиралось поле, засаженное бульбой. Людей было не видать, все попрятались по погребам и углам, как только началось светопреставление. Демьян скомандовал: – Там тормози. Впрочем, Жигалов и сам догадался. Дом колдуна, стоявший на отшибе, был наполовину разрушен, как и хата Демьяна. По двору словно потоптались десятки рогатых тварей – да вот и тела их, вернее остатки: полуистлевшие оболочки в зеленых лужах, одни лишь рога да хрупкие кости. Шины «запорожца» взвизгнули, когда майор резко затормозил у завалившегося плетня. Демьян выбрался из машины, оглядел поле боя. Ковырнул носком сапога вонючую жижу, которая была здесь, кажется, повсюду. Поморщился и произнес: – Сеча была знатная. – Без тебя вижу, Шерлок сраный, – ответил ему Жигалов, – скажи лучше, где чародей твой? – Не чародей, а порчун, киловяз. Чародеи тольки в сказках бывают. В хате он, так разумею. Пойдем-ка глянем. Поигрывая клюкой, зна́ток осторожно прошел в хату, широко перешагнув порог. Жигалов направился следом и аж присвистнул – такая тут царила разруха. Дверь выломали, разбив в щепки, внутри тоже все сворочено и раскидано по углам, пол залит той же смердящей зеленой мерзостью, которая остается от дохлых бестелят. Из дальнего и темного угла хаты кто-то тяжко простонал: – Помоги-и-те… Демьян рванулся в ту сторону, но Жигалов удержал его, покачав головой – не надо, мол, на ощупь бросаться. Чиркнул спичкой о коробок, осветил зыбким огоньком темное пространство за печью, где оба увидели распластанного киловяза. Сухощавый лежал на спине, сложив руки на груди, и глядел в потолок. По левому глазу ползала муха. Киловяз широко раскрывал рот, точно вытащенный на берег карась. Изо рта при этом что-то непрерывно сыпалось, падало на пол с бумажным шуршанием. Тощий старик стонал, плакал, но не шевелился. – Чего это с ним? – тихо спросил майор у знатка. Демьян промолчал. Сел у тела киловяза, прищурился. – Демушка, ты? Помоги, браток… – Глаза киловяза все так же пялились вверх. Он вновь будто бы подавился, кхекнул, и из широко распахнутого рта веером повалились на пол игральные карты. Жигалов смотрел на происходящее, как если бы увидел фокус иллюзиониста – какого-нибудь Вольфа Мессинга. Весь пол вокруг Сухощавого был усыпан скомканными, влажными картами – шестерками, валетами, королями и дамами. Киловяз давился, но продолжал блевать бумажными прямоугольниками, издавая протяжные стоны. Майор протянул было руку – проверить пульс, как получил клюкой по пальцам. – Ты чего дерешься? – Того. Грехи его взять захотел? Не чапай. – И долго он так будет? – Покуда не истлеет, – мрачно ответил сидевший на корточках Демьян, – иль пока не заберут его. – Кто заберет? – Ну знамо кто – те, кому он в карты задолжал. Черти. – И чего делать? Демьян лишь пожал плечами. – Демушка, помоги… – жалобно сказал Сухощавый, перестав на время изрыгать комки карт. – Я помер уж вроде, а умереть не могу нияк. – А чем я табе помогу-то, дурань? Я вашей кухни не ведаю. Нашел кого о допомоге просить. В этот миг свет в окнах помутнел, и хата погрузилась в сумрак. Один только свет спички между пальцев Жигалова освещал угол печи, и Демьяна, и лежавший на полу говорящий труп. – Да что ж такое? Опять Навь? – устало простонал майор. Но он чуял: то что-то другое, что-то гаже и хуже. Даже после всего пережитого по спине майора пробежали мурашки, когда он увидел, кто к ним явился в гости. Через дверной проем в хату шагнуло нечто. Пришелец был так высок, что ему пришлось сложиться едва не пополам. Почти неразличимый в тусклом свете горящей спички, чему Жигалов был несказанно рад, он выглядел как что угодно, но не живое существо. Морда – одни сплошные зубы, протянувшиеся от подбородка до высокого лба; а там, от лба и до затылка, мигали десятки подслеповатых глазок. В правой тощей руке чудовище сжимало ржавые кузнечные клещи, левая свободна – тянется вперед, будто желая сжать лицо Жигалова, спросить – ты кто такой, какие грехи на тебе? Майор шарахнулся в сторону, и огонек спички потух. В темноте Демьян глухо спросил: – Мытарь, ты? Забирать его пришел? – Пришел. Забирать пришел, – ответил гость бурлящим голосом – в его глотке будто бурчала сотня иномирных тварей, и все они рвались наружу, желая выкрикнуть в Явь свои пожелания. Из их голосов, как из мозаики, и складывался голос Мытаря. – Ну так забирай, раз пришел. Глаза Жигалова попривыкли к темноте, слабо освещенной проблесками тусклого свечения из окна. Кошмарный Мытарь в одно движение пересек жилище. Наклонился, уцепился за ногу киловяза и рванул на себя. Сухощавый прохныкал в ответ жалостливо, но, к всеобщему удивлению, не сдвинулся ни на сантиметр. Мытарь дернул еще раз, второй: от его нечеловеческой силы доски под телом киловяза трещали, ломались, но сам труп не желал двигаться с места. Поднапрягшись, Мытарь рванул снова – доски затрещали, встопорщились под спиной умер- шего охапкой щепок и сломанной древесины, однако тело киловяза оставалось на месте. Будто его удерживало нечто куда более сильное. Пришелец из Пекла задумчиво почесал зубными клещами затылок, где вырастали, как грибы, сотни глаз. Осклабился тысячей зубов недовольно. Сказал задумчиво: – Не понимаю. Почему он со мной не уходит? Пекло ждет. – Значит, подождет яшче, – ответил Демьян, присаживаясь на табурет и постукивая по ладони махоркой, – значит, другая ему судьба уготована. – Как же так? Должен он нам, – прошептал черт сотней голосов. – Дык табе лучше знать. Ты черт ведь? – Я бес, – поправил его Мытарь, – чертям в Явь ходу нет. – Да хоть диавол сам! Вишь, не идет он с тобой. – Грехи… грехи где? – зашарил лапой по рубахе киловяза Мытарь, будто пытаясь обнаружить искомое, и воскликнул вдруг: – Искупил! Искупил! – О як! – удивился Демьян. – Слышь, Мирон, ты чаго там зробил такого, что тебе к Сатане не пускают? – Не зна-а-аю… – протянул Сухощавый, выблевав очередную порцию карт. – Ну, пацаненку времечка выиграл трохи… – Во, видал, пасынок пекельный? – и Демьян показал Мытарю кукиш. – С чем пришел, с тем и уйдешь. Ни с чем, то бишь. Самопожертвование искреннее, слыхал про такое? Мироша от души, сам того не ведая, человека спас. – Искупил грехи, значит? – Мытарь причудливо вывернул голову, несколькими глазами на затылке подозрительно покосился на киловяза. – Выходит, так, – кашлянул Сухощавый, схаркнув десятку пик. – Пусть так, – коротко резюмировал жуткий гость и выскользнул к двери, шагнул за порог – словно его и не было, растворился сразу, а вглубь хаты хлынул дневной свет, такой яркий, что Жигалов даже заслонил глаза. Напоследок раздался слабеющий голос Мытаря: – Не прощаюсь, смертные, еще свидимся… Сам Жигалов все это время сидел, опершись о стену и распахнув от удивления рот. Он уже отвык воспринимать окружающие чудеса с точки зрения научного подхода – понял, что материализм тут не поможет, не сладит со всеми этими чертями, пеклами и полубесами. Но все равно явившийся в гости к киловязу Мытарь удивил его настолько, что он сумел прийти в себя лишь после того, как Демьян потрепал его по щеке со шрамом. – Ты як, майор, в порядке? – Ага, – кивнул Жигалов. – Еще раз так за щеку схватишь – по морде получишь. – Значит, в порядке, – ухмыльнулся зна́ток. – Слышь, Дема, – крикнул из угла Сухощавый, проблевавшись очередной порцией карт, – дык я шо, стал быть, в Пекло не попаду? – Стало быть, так. Где Максимка? – Он в поле за хатой побёг, а там его училка ваша увела, сиськастая такая. Я в окошко бачил перед тем, как меня… кха-кха-а-а! – изо рта киловяза посыпались тузы разных мастей. – Перед тем как засранец гэтот, Кравчук ваш, мине прикончил да зубы повынул. А где Кравчук, кстати? – Нет больше Кравчука. – Да? Ну и славно. Туды ему и дорога, падлюке. – Какая еще училка? – заинтересовался Жигалов. – Уж не Гринюк ли? Белобрысая такая, да? Немецкий язык преподает. – Она самая. Я видал, из лесу вышла и пацана увела. А куды – я уж не ведаю, не до того мне было́. Майор со знатком переглянулись. – Слышь, Дема, гэта ведь я во всем виноват… – Да кто бы сумлевался, – ответил Демьян. – Сказывай уж, чаго натворил. – Да сам-то я ничего… Должон я был Купаве… кха-кха!.. за услугу одну. Давно дело было, война яшчэ не почалась. Проигрался я однажды чертям, в пух и прах проигрался, да так, шо нияких зубов не хватит откупиться. Должны были мине раньше срока в Пекло забрать. Уж Мытарь в окнах блазнился, заката ждал. Я по соседям, думал, хоть зуб выцыганю, отыграться, так ни хера. Як прознали, шо Мирон Сухощавый по домам пошел – так двери-окна закрыли, и не отвечает никто. Уж почти солнце село, думал, усе – конец мне. Слышу стук в дверь, думал, Мытарь пришел, а там – Купавушка. Решил, она поглумиться пришла напоследок – серчала она на меня шибко, сватался я к ней… кхм… настойчиво. Пришла, злая, як сто чертей, да со своей колодой карт. Кха-кха-а-а… И говорит, мол, зови братушек своих, отыгрывать тебя буду. Всю челюсть поставила, цельную ночь за картами просидела. Долго так, уж пальцы не гнулись. Все до единого зуба отыграла. Я уж ее подначивал, мол, покуда карта прет – давай их нагреем, а она тольки зыркнула так. Говорит: не надо мне ни от тебя, ни от чертей ничего. Я-то, дурак, молодой был, гордый, так и говорю, значит: мол, должен я табе, Купава, буду. Слово киловязье дал. И забыл уж было. А давеча – по весне дошел я, значится, до болота, за травками да еще кое-чем. И слышу – кличут мене. Подхожу, а там в камышах лисица дохлая, брюхо лопнуло, и в кишках уж черви копошатся, вонища. А лисица та пасть раскрывает и говорит человечьим голосом: «Долг, мол, платежом красен! Давай, Мироша, возвращай, что задолжал!» – А что, отказать никак? – спросил Жигалов, мрачнея. – Как тут откажешь, майор? Карточный долг – дело чести. А уж коли слово киловязье дал… Не исполнишь – так спросят, своими руками все заживо вырвешь. – И вырвал? – Вырвал, – признался киловяз. – И отнес куды сказано было, к Млыну Выклятому, уж черт его знает, чаго ей там стребовалось. При упоминании Выклятого Млына зна́ток поморщился, как от зубной боли. – Она мой зуб Кравчуку и передала, значит. Я так разумею, шо им-то он усе гэта светопреставление и устроил, солнце на луну желтую подменил. Вот откуда силы такие у дурака гэтага. – Та-а-ак, а дальше что? – А чаго дальше-то? Сам-то разумеешь, откуль у мертвой ведьмы власть такая над Явью? То одну пакость устроит, то другую, то вон психу с больницы побег организует. Она ж – тьху, перхоть бесплотная, воспоминание одно… ща, погодь… кха-кха-а-а!.. – кучка игральных карт у головы киловяза продолжала увеличиваться, уже практически скрыв его лицо – лишь шевелились быстро губы, будто старик решил исповедаться напоследок. – Кха! А с зубом-то уже якая-никакая, а сила. Кравчук-то, видать, по крови тож знаткой слегка. Вот она и подстроила, шоб у него челюсть повыдергать. А як у Кравчука все зубья с пасти забрала, дык такую мощь обрела, шо лучше б вам, братки, с ней не связываться. У ней зараз силы стока, шо ей сама советская власть нипочем. – А это мы еще посмотрим, гражданин, – мрачно ответил Жигалов, вертя в руках бесполезный теперь макаров. Демьян с оттенком жалости глядел на мертвого киловяза – тот кашлял и продолжал плеваться картами, явно в непереносимой муке. Неспособный ни жить, ни умереть окончательно. Никак Дема не думал, что когда-нибудь такое второй раз увидит. Произнес задумчиво: – Раз тебе в Пекло не берут, так, можа быть, в Раю примут? – Та не, какой мне Рай, – прохрипел Сухощавый, – у мине ж душа черная, як картина у Малевича. – Ну, попытка не пытка; глядишь, не такая уж и черная, раз ты Максимку выручил. Слухай сюда, майор. Нам надобно с тобой крышу разобрать у хаты. – Крышу разобрать? – недоуменно спросил Жигалов. – Ага. И поскорее, времени мало. Давай-ка, рукава закатали и полезли. Вдвоем они вскарабкались на крышу хаты. Жигалов подал руку Демьяну, который волок за собой топор и арматуру из сарайчика киловяза. Зна́ток споро выбивал доски из настила крыши и поддевал арматуриной, майор помогал, где мог, оттаскивал их к краю и сбрасывал вниз. Всяких шиферов, как в городе, здесь в глаза не видывали, поэтому доски были уложены внахлест, двумя слоями – верхние закрывали стыки нижних, так что пришлось повозиться. Но вскоре усилиями двух мужчин крыша прямо над телом киловяза была разобрана, и между перекрытиями стал виден он сам, лежавший снизу. Дырка образовалась небольшая, но ее, судя по всему, было достаточно. – Так, что дальше? – тяжело дыша, спросил майор. Он опасался, что сейчас придется проводить очередной ритуал. – А ничога, – пожал плечами зна́ток, – коли в Раю примут – зараз его душенька и улетит. Иль таки в Пекло упадет, на мытарства, а оттуда ужо и на небушко, як отмучается сполна. Сухощавый в двух метрах снизу внезапно счастливо рассмеялся. Его глаза распахнулись шире, заискрились неким чуждым, чудесным светом – Жигалов увидел его отблеск даже отсюда. А Сухощавый продолжал смеяться и при этом плакать от счастья. – Як лёгко-то стало! Лёгко-то як! – воскликнул старый киловяз. – Прости мине, Боженька, дурня! Я ж не ведал, что так лёгко мне буде! Лёгко як! Набежавшее на солнце облако разошлось, и в просвете появился яркий луч, скакнул на крышу хаты – заискрились солнечные зайчики на ремне Жигалова, на наручных часах и на погонах. Сухощавый вздохнул, дернулся всем телом и крикнул напоследок: – Дзякуй, Дема! Прости за все! Знал бы ты, як там лёгко… И умер со счастливой улыбкой на устах. Демьян, крякнув, спрыгнул с крыши на землю, зашел в хату и прикрыл веки усопшего. Сказал удовлетворенно: – Приняли его, значит. Грехи киловязьи он искупил, а человечьи… А кто без них? – Понял, не дурак, – проворчал вошедший следом Жигалов, – какие дальше планы? – Надо попросить кого из соседей, шоб схоронили по-людски. Теперь можно. А нам треба Максимку сыскать. – Значит, домой к Гринюк? – Да, значалу Анютку навестим. Жигалову почему-то ревниво кольнуло сердце, когда Демьян назвал учительницу «Анюткой», но он промолчал и пошел заводить машину.

Дома Анны Демидовны не оказалось. Квартира учительницы в бараке была закрыта на ключ. Из соседней хаты высунулась любопытная соседка. – Кончилося усе? – заговорщически прошептала женщина. – Черти ушли? – Давно уже кончилось, гражданочка, – строго ответил Жигалов, – так что просьба не паниковать и ждать прибытия властей. Скоро компетентные органы приедут, будут разбираться, что за ЧП у вас тут случилось. И про чертей ни слова! Мы в атеистическом государстве живем, или вам политинформацию не доводят? От официального тона и вида формы КГБ, хоть и грязной, забрызганной кровью, женщина ойкнула и согласно закивала: – А мы чаго? Мы ничога… Сховались в подвале да пересидели, покуда тут бесовщина творилася. У нас в погребе закруток стока, мы б ядреную войну пережили. А гэта чаго ж было, товарищ начальник, шо за страсти такие? Коли не черти, то неужто американцы кспирименты проводили? – Они самые, – устало ответил майор, – психотронное оружие испытывали. – Ох, батюшки! – соседка всплеснула руками. – Пихотронное оружье! Вот капиталисты сволочи! – Вы лучше скажите – давно Гринюк видели? – Училку-то? Дык она, яшчэ пока все не почалось, в школу ушла да там и пропала, болей ее не видали. В хату можете не стучать – ее дома нема. – Здрасьте, Алеся Дмитриевна. В школу, кажете, ушла? – хмуро спросил подошедший Демьян. – Дзень добры, Демьян Рыгорыч, батька вы наш! Агась, вот як ушла учебники клеить – так и духу ее не было. – Поехали в школу, – сказал Демьян и заковылял к машине, опять прикидываясь стариком и припадая на клюку при каждом шаге. Для бабы деревенской рисуется, подумал Жигалов с вновь проклюнувшейся неприязнью. До школы езды пара минут, хоть и на лысых шинах. Подъехали, хлопнули дверьми и направились в здание. Перед входом посетителей встречал гипсовый памятник Ильичу – вождь пролетариата протягивал вперед руку, навстречу знаниям и прогрессу, на постаменте у его ног лежала охапка пожухлых цветов. Через фасад школы был натянут транспарант с надписью «С Днем знаний! Добро пожаловать в новый учебный год!». – Кабинет у ней на втором этаже, – доложил зна́ток, вбегая в школу и быстро поднимаясь наверх по ступенькам – недавняя хромота куда-то испарилась. – Анна Демидовна! Гражданка Гринюк, вы здесь? – крикнул Жигалов, и его голос разнесся эхом по пустым коридорам. – Отзовитесь! – Максимка, ты тут? – вторил ему Демьян. Школа пустовала, в кабинете немецкого языка тоже никого не оказалось. Но доска была густо исписана мелом – убористым, каллиграфическим почерком, от вида которого у Демьяна кольнуло сердце, не то тоской, не то виною. Они подошли ближе, и Жигалов вслух прочитал надпись:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди…
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
Сказ последний
Первое время, пока Максимка с Анной Демидовной пробирались через лес, все вокруг дышало мраком и тьмой, будто смотришь на мир через синюю стекляшку. Зоркий глаз мальчика отмечал в полутьме шмыгавших тут и там навьих мелких тварей – они испуганно шныряли, не находя себе места: из лужи в лужу сновали кикиморы, нервно копошились в норах лесовички-боровички, тащил куда-то прочь прогнившее бревно уже знакомый Максимке Бай. В небе вместо полуденного солнца висела щербатая, хищно оскалившаяся луна. Одолевали глупые сонные мысли: «А где солнце-то? Неужто месяц теперь всегда будет?» Чуть погодя полумесяц резко пропал. Его место заняло привычное светило, озарило все кругом лучами закатного света так, что даже под веками заплясали яркие зайчики. Будто очнувшись, разом запели птицы высоко в кронах деревьев. Учительница цокнула языком: – Пришибли Кравчука-таки… Ну, дело сделал, и ладно. – Кого-кого? Кравчука? – переспросил Максимка, но от него лишь отмахнулись. Максимка ничего уже не понимал, но чувствовал какую-то болезненную неправильность во всем происходящем, и перво-наперво в поведении Анны Демидовны. – Wohin wir gehen? Was wir machen? [177]– спросил он в отчаянии, наплевав и на произношение, и на грамматику, в надежде, что учительница его поправит, но та лишь уставилась на него с недоумением. – Чаго? – с совершенно несвойственным Анне Демидовне деревенским выговором спросила самозванка. – Ты по-немецки, шо ль, шпаришь? – Гэта ж не вы, да? – тоскливо спросил мальчик, понимая уже, в какую передрягу попал. – Не Анна Демидовна? – Догадливый! – хрипло хохотнула та, совсем по-демьяновски потрепала его по голове. – На-ка, надень, потерял ты. Учительница извлекла из платка какое-то трещавшее, будто коробка с доминошками, ожерелье и, прежде чем Максимка успел шарахнуться в сторону, ловко накинула ему на шею. – Ну вот и все, милок, отбегался. Он застыл на месте. Сперва по телу растеклась непривычная тяжесть, вроде той, что наступала, когда Максимка тайком пробовал Свиридово пойло, а следом пришло оцепенение, объявшее все члены мертвой хваткой. Максимка с ужасом осознал, что украшение на его шее сделано из мелких человеческих зубов – те забренчали на груди, когда он попробовал рвануть с места. Вместо этого получился какой-то робкий и нерешительный шажок. Максимка с трудом разлепил онемевшие губы и произнес: – Акулина… В ответ учительница только расхохоталась, и хохот этот показался Максимке до боли знакомым: ровно такой же он слышал в доме бывшего председателя, так же страшно хохотал труп зоотехника-самогубца. Самозванка положила Максимке руку на плечо, и тот почувствовал, как ноги его против воли задвигались, не сгибаясь в коленях.
– А ты откуль мое имя знаешь? Дема сказал? – Он… – И як? Усе рассказал? Ничего не утаил? – Ну… Все, наверное. Рассказал, как вы его на войну проводили… И умерли потом. – Тю, то лишь присказка была. Сказка-то впереди. Анна Демидовна (или, скорее, то, что ею прикидывалось) шагала первой, прокладывая путь. Они шли сквозь самую чащу леса, через бурелом, распроставший всюду ветки, и валежник. Демьян-то всегда ходил по тайным звериным тропкам и старым тропинкам, скрытым от людских глаз, а самозванка перла напролом, ничего не опасаясь: Максимка начал догадываться, чего у ней ноги такие исцарапанные. Сам-то он был в старых Демьяновых сапогах, но самозванка словно не ощущала боли, наступая босыми пятками на упавшие колючие ветви и царапая ноги о кусты репейника. – Анна Де… Акулина Михайловна, а мы куды идем? – простонал уставший Максимка в какой-то момент. На шее у него болтались нанизанные на нить зубы, и стоило сбавить шаг, как те начинали врезаться в кожу, душили. Попытка незаметно снять гадкое украшение обошлась дорого – «поводок» затянулся так, что едва не отчекрыжил пальцы. – Потерпи, недолго осталось. И потянула его за собой дальше через лесной бурелом. А затем, когда спереди наконец показались руины мельницы, Акулина неожиданно присела на корточки, задрав до ягодиц юбку, и испустила струю вонючей коричневой мочи. Максимка отвернулся, его едва не стошнило. Хотелось убежать прочь, но «поводок» держал крепко – только дернись, сразу вцепится. Так дошли они до пруда. Хоть на Выклятом Млыне Максимка уже бывал, а все же всякий раз передергивало его от вида этого проклятого места. Он вспомнил, как в детстве мамка выговаривала ему – не ходи на Млын, там люди тонут. Нынче-то он знал, что виной тому Нинка-фараонка. Темные лопасти мельничного колеса нависали над заросшей ряской запрудой. Когда-то бодрая речушка нашла здесь последнее пристанище: пересохла, зацвела, обзавелась топким илом и новыми жильцами – квакающими лягушками и скользящими по воде жуками-плавунцами. Взяв Максимку под локоть, Акулина в теле учительницы повела его к разрушенной мельнице, чье темное отражение дрожало посреди ряски, хоть и было совсем безветренно. Возвратившееся солнце било в глаза, но и руку поднять, чтобы заслониться от слепящих лучей, не получалось – строг был «поводок». Млын вырастал из-за деревьев темными, иномирными очертаниями: позеленевшее, будто заплесневелое зеркало пруда, рассохшаяся деревянная развалина и отвисшее колесо, все в водорослях. Когда Максимка побывал тут в прошлый раз, обитавшая в пруду фараонка едва не откусила ему голову. Ноги будто упирались, но зубья спуску не давали, сразу цеплялись – шагай, мол. Вилась мошкара, стрекотало в кустах, синхронным кваканьем встречали сумерки лягушки. Подойдя к старой мельнице, Акулина присела на ее переломанные, покосившиеся ступеньки. Произнесла задумчиво: – А ведь гэтую мельницу мой дед построил… Задолго до того, як нас красные раскулачили. Раней тут река текла, колесо крутила – мы всему Задорью хлеб давали, всех кормили. А зараз… Мельницу большевики отобрали, а речушку по другому руслу пустили – на ирригацию, значит. А тута – вон, сгнило все. Она сорвала травинку, пожевала ее меж зубов – между чужих зубов – и посмотрела внимательно на застывшего без движения Максимку: «поводок» больше шевелиться не велел. – Давно ты у Демы в учениках? Максимка заметил, что глаза у нее совсем иного цвета, чем у Анны Демидовны – не лазурно-голубые, а синие, как две ледышки. – Ты присядь, в ногах правды нема. И он плюхнулся задницей на траву с таким усердием, что аж в копчик отдалось – не хотелось вновь ощутить, как мелкие, будто молочные, зубки впиваются в кадык. Ответил хрипло: – Два… Три месяца. – Значится, рассказать ужо успел про мене… Доверяет тебе, видать. Дема-то, он недоверчивый. Что твой волчок. А я ж его совсем сызмальства взяла, чуть тебя старше был. – А вы… вы правда мертвая? – спросил Максимка. – Мертвей некуды, – криво усмехнулась Акулина, – дохлая, як зоотехник тот, Остап Власович. А трупешник мой вон он, тама, – она небрежно махнула в сторону пруда, – с Нинкой рядышком лежал, нонче одна труха осталась. – А як же ж вы здесь, коли вы мертвая? – Вишь, дело неоконченное есть, должок невозвращенный, – черты лица, украденные у Анны Демидовны, плыли и искажались – одна сторона обвисла, другая дергалась лицевыми мышцами; шея как-то странно, по-лебединому выгнулась. – Сама не знала, вишь, что так оно бывает. То-то Купава старая помирать боялась. Теперь-то я много чего знаю. Гляжу на Дему со стороны да смеюсь – ходит, недоучка, не знает, как мир вкруг него работает. А ты-то чаго? Ты хошь узнать? Петля на шее вновь, будто обладающая своей волей, принялась затягиваться, и у Максимки хватило дыханья лишь на один кивок. – Тады слухай, раз хочешь. Был то год сорок третий – немцы как раз хвосты подчищали…

Был то год сорок третий – страшный, голодный год. Некоторым колхозникам, оказавшимся в немецкой оккупации, приходилось сражаться с крысами едва не за крошки хлеба. Иногда ели и мышей. И не жаловались – сказывали, что в блокадном Ленинграде, бывало, и людей жрать доводилось. Так что пойманную крысу почитали за счастье и добрый ужин. Немцы перед уходом использовали тактику «выжженной земли». Нацисты боялись своих преступлений, заметали следы так, что следили еще пуще. Например, специальной командой 1005-Центр были вскрыты и уничтожены могилы на месте бывшего Минского гетто. Немцы уходили из Беларуси с песнями, пьянками и шумом – оболваненные фюрером, они еще верили, что происходящее не более чем временное отступление, о поражении Рейха не задумывались. Баб насиловали, мужиков убивали – бывало, просто так, соревнуясь в меткости выстрелов, проезжая на своих черных «цундаппах» через вёску. В напитавшуюся кровью белорусскую землю ложились все новые и новые неупокоенные мертвецы. В окрестностях Задорья со страхом, вполголоса, шептались про Малый Тростенец – туда частенько забирали мужиков и баб из деревни. Говаривали, что там находился один из крупнейших немецких лагерей смерти. Рассказывали, страшно пуча глаза, что там ежедневно убивают по несколько сотен человек. Ходили жуткие слухи про автомобили-душегубки, про кремационные муфельные печи, в которые за раз влезает по пятьдесят тел; упоминали и о жирном пепле, что висит в небе на расстоянии нескольких километров вокруг бывшего села, превратившегося в фабрику смерти. В Малый Тростенец оставшиеся жители Задорья были обязаны поставлять каждый месяц по нескольку кубометров бревен – их теплом топили непрерывно работавшие крематории. Акулина в это время ждала ребенка – к июню сорок четвертого. Сразу после возвращения из Пекла Дема сбежал на фронт. А может, и она его спровадила своим вечно хмурым настроением. Связанные теперь общим грехом да общим договором, они оба хотели оказаться подальше друг от друга – не смели даже пересечься взглядами. Деме было не по себе, страшно и непривычно смотреть на эту новую, будто ставшую чужой Акулину. А та и сама ощущала себя грязной, заплеванной, будто в душу кто ушат помоев вылил; ей хотелось остаться наедине с самой собой: со своей тихой хатой, с бытовыми делами, с двумя последними курами, спрятанными от фуражиров. Ей многого и не нужно было; уже в первые сутки после пекельного их «венчания» низ живота закрутило спазмами и судорогами, пробирало до самого затылка; чуяла Акулина – зреет в ней тяжелое, страшное, едва ли не к земле пригибает, а то и того пониже. В тот день она нарочито безразлично сказала Деме: – Ну иди далей, воюй. – А ты пустишь? – со скрытой надеждой спросил тот, заглядывая ей в глаза. Небесная голубизна их потухла, точно затянуло тучами. Акулина отвернулась, не выдержав взгляда, буркнула в ответ: – Кто ж тебя удержит, дурака? Уже на следующее утро Дема собрался в путь-дорогу. Напялил кожаный отцовский плащ, перевязал грудь патронной сумкой; на плечо повесил многострадальную поцарапанную «мосинку», прихватил клюку. Подошел к Акулине, проблеял нерешительно: – Шо, правда отпускаешь? – Кривда! – Она даже не обернулась. – Акулин, мабыть, я зробил чаго не так? Ты скажи только… Я ж за-ради тебе… – Чаго ты за-ради мене? Грех на себя принял? Понравилось? Вот и все! Больше мне ничога от тебе не треба! Дема потоптался у дверей. Сказал хрипло: – Ну гэта… Я пойду, шо ль? Немца воевать. Недалёко до победы осталось! – Куплена ужо та победа. – Дык шо ж, не иттить, шо ль? – Дема застыл в нерешительности. – Вали ужо! – Ну… Бывай тоды, Акулинка! Та не ответила. Дема вышел из дому. Снаружи стоял на редкость стылый сентябрь, аж печь затопить пришлось; бил косыми струями тяжелый ливень, земля превратилась в слякотное болото. Акулина не удержалась, выглянула в окно: увязая сапогами в разъезжей грязи, фигура зна́тка удалялась по полю в сторону леса, становясь все крохотней, пока не исчезла совсем в завесе водной пелены. Акулина вздохнула и с неприязнью поглядела на свой живот. После похода в Пекло ей стало как-то все равно, как будто покласть на всех – и на Дему, и на судьбу страны, и даже на то, что родится в итоге из ее чрева. Она помнила явственно слова Раздора: «останетесь вы навеки со мною, в Пекле». Никакого двойного смысла, никаких экивоков – черт уж точно не шутил. – Что ж со мной теперь будет? – пробормотала под нос Акулина. Неожиданно печной притвор со стуком распахнулся, полыхнуло жаром, и оттуда, из огня, крикнули: – В Пекло тебе дорога, дура! Ведьма, ведьма, ведьма-а-а! Акулина подскочила, кочергой захлопнула защелку, но из утробы раскаленной печи продолжали кричать с визгливым хохотом: – С нами, с нами жариться будеш-шь! Ведьма, ведьма! Тварь!

Шло время. Через Задорье мимо знатковской хаты проходили колонны усталых солдат, проезжали бесконечные грузовики, мотоциклы и бронетехника. Некоторые из солдат спали, сидя прямо на броне танков, – измазанные грязью мальчишеские лица напоминали восковые маски. Другие шли неровно, не соблюдая шаг; заходили в избу на отшибе, топтались грязными сапогами по хате в поисках съестного, но курочек своих Акулина спрятала в опустевшей нынче бане. Плюясь на пол и матеря по-немецки нищую старуху, зольдатены уходили. Кто постарше, говорили ей на прощание – «Перхта, Перхта!» Проросшее в животе семя ученика давало знать о себе то болями, то кровями, то слезами, а временами и незваным смехом. Рос живот, не в шутку говоря, не по дням, а по часам. По вечерам она укладывалась на лежбище Демы у печки, ворочалась у нагретого бока, представляя, что тепло это – человечье. Прижималась к подушке, чтобы вдохнуть его запах. Терпкий дух молодого мужчины бил в нос; чудились увитые венами запястья, сильные плечи, вечная смешливая ухмылка. Акулина рыдала и колотила по вздувшемуся животу кулачком. Тот как будто отвечал. За окном вставал рассвет за рассветом, подаяний от односельчан было все меньше – да и осталось-то тех односельчан… Кое-как Акулина перебивалась корешками, травками, которые заваривала на кипятке, куриными яицами и редкой дичью, что удавалось иногда приманить хитрыми знаткими уловками. Каждое утро она вставала, мучаясь от боли в растущем животе и от стыда перед Демой, которого прогнала, что пса шелудивого. Шла, придерживая живот, кашеварила и ждала гостей из соседних деревень – тех день ото дня становилось все меньше, и Акулина помогала, считай, задаром – лишь бы шли люди за помощью, только бы помочь кому от сглаза, болезни, всякой напасти. Будто вину заглаживала. Но силы знаткой с каждым днем угасали, да и не могла она больше ни отпеть, ни благословить – сама чуяла, что стала чуждой Божьему промыслу. Крестик она после бани так и не нашла, а иконы потемнели и будто пытались отвернуться. Сельчане, нутром почуявшие изменения в Акулине, перестали приходить совсем, чурались ее избы. Многие вспомнили позабытую дорожку в соседнюю вёску, к Мирону Сухощавому, которого немцы будто и не замечали. Он-то хоть и киловяз, но не веяло от него стылым холодом ждущей могилы да вязкой грязью греха несмываемого. Тот чуть ли не отбивался от новых просителей, принимал каждый день. Живот у Акулины тяжелел день ото дня, потом его рост остановился, и большое, уродливое пузо – совсем не как у беременных – повисло кожаным бурдюком между ног, потемнело. Будь в деревне повитуха – та сказала бы, что плод погиб, но сама Акулина ощущала гадкую, противоестественную жизнь внутри себя, выхолащивавшую душу, высасывавшую соки, гнившую с ней на пару. Днем дитя затихало, как мертвое, а ночью начинало колотить по животу ногами изнутри, словно пытаясь выбраться, и Акулина с воем выгибалась на постели и грызла подушку. С похода в Пекло прошло уже пять месяцев. Зима уходила, снежные сугробы таяли, толкались куски синего льда в полыньях реки неподалеку. У Акулины едва хватало сил дойти до речки или колодца, набрать воды и вернуться домой, чтоб подкинуть зерна курам и поставить чайник на печь: благо Дема запас дров на всю зиму и немцы не отобрали. Все прочее время она лежала лежмя и зажимала голову подушкой, лишь бы не слышать ехидные голоса, раздававшиеся из печного притвора. Голоса шептали: «Наша, наша будеш-ш-шь! Сделку заключила, хе-хе, в Пе-е-екло пойдеш-ш-шь…», «Родиш-ш-шь, родишь ребеночка, себе на радос-с-сть, нам на сла-а-адос-с-сть!», «Пекло с-с-свое слово держит, и ты с-с-сдержишь»… И она переставала топить печь, чтобы шепот замолк, лишившись дров и головешек, которые служили пекельным голосам языком и речью, и лишь тогда могла уснуть. А просыпалась от холода, в промерзшей до инея на ресницах хате. Охая и держась за спину, Акулина поднималась с постели, закидывала дрова в печь – и все повторялось сызнова. Постоянно казалось, что из красного угла кто-то пялится ей в затылок – выжидательно, требовательно. Да и угол был давно уже не красный, а чернющий, точно измазанный сажей. Не в силах больше находиться в этом сумасшествии, Акулина навела «красоту» – преобразилась бабкой Купавой и вышла из хаты, проведать соседей, узнать, кто остался. Теперь она и впрямь стала как старуха – охала и ахала, опиралась на трость, часто останавливалась, чтоб отдышаться и дать спине отдыха. Обвисший живот гирей гнул к земле. Встретила Настасью – мамку непоседливого Мишки, от которого собаки по всему селу разбегались. Уж в кого он такой – но точно не в смирного Настасьиного Славку, хоть та и не признавалась, от кого нагуляла. Задастая селянка сочувственно глядела из-за плетня, обдирая какой-то чахлый ковыль: то ли на растопку, то ли на похлебку. – Баб Купав, давненько ж вас не бачила, ужо думала… Як у вас? – Да поживу яшчэ маленько. Старая зусим стала, но дюжу пока шо. Слышь, Настасья, а шо тама – с фронту есть якие вести? Настасья оглянулась – нет ли ушей поблизости, – перегнулась через плетень и прошептала: – Муженек же у мене, Славка, партизанит, так? – Ну так. – Дык вот – кажут, Союз освобождать нас будет. Скоро знову под большевиками будем. Ой, дай-то Бог – от напасти немецкой избавиться! Наши близко! И Настасья так размашисто перекрестилась, что Акулину аж зависть взяла – у самой при попытке осенить себя крестным знамением рука застывала где-то в районе груди и не шевелилась добрые полчаса, будто отсохла. Вернувшись домой затемно – тут шишек набрала, там коры нарвала, – Акулина задумалась над услышанным. Коли не брешет муженек Настасьин, дык, значит, и впрямь сработала сделка их пекельная – не соврал Раздор. Освободят Беларусь в скором времени, изгонят вражину. «Не совра-а-ал. Раздо-о-ор слово держит, держит!» – шумели голоса из разгоравшейся печки. А в животе в подтверждение их слов шелохнулся «ребенок» – или что бы там ни вызревало в ее утробе.

В течение всего июля сорок четвертого из репродуктора над деревенским клубом играли немецкие песни – так часто, что Акулина их успела выучить. Особенно ей нравились лиричные «Комм цурюк» и «Лили Марлен». Слов она, конечно, не понимала, но догадывалась – не о снарядах и окопах поют, о любви. У клуба собирался народ – немцы неожиданно подобрели, стали угощать всякими лакомствами, разговаривали с местными; чаще всего говорили через переводчиков и полицаев, а те уж разнесли по Задорью такую новость – так как немецкая армия производит временное отступление и перегруппировку войск, то и местное население не бросают на произвол «красной тирании»: зовут с собой в Германию остарбайтерами – на поля и заводы. В добровольно-принудительном порядке. А посему всем жителям Задорья приказано 25 мая собраться у сельского клуба с личными вещами. Об этом шепотом поведала Акулине Настасья, пришедшая в гости – поделиться слухами от мужа. – Баб Купав, мож, не так усе и погано, а? Немцы ж не то шо наши – они ж того, пунктуальные, организованные!.. У них гэтот, як его, «орднунг», во! За работу платют даже, кажут, и поболей, чем коммунисты. Буду на яком-нить консервном заводе робить, Европу побачу, а там, глядишь, и война кончится, вернусь домой… – А шо твой Славка скажет на то, шо ты на немца работала? – прищурила синий глаз горбатая старуха. – Дак, мож, я и не к Славке вернусь, немчика якого захомутаю. Да, баб Купав, я же ж не заради себя, а для Мишки! Ну якое у него тут будущее-то? В ружжо вставать? – Гляди, дура, как бы тебе в печь не попасть. Бежала бы лепше в лес с ребятней, к Славке своему. – В яку-таку печь? – не поняла Настасья, захлопала ресницами. – В муфельную. Не слыхала? Ладно, ты иди. Иди-иди давай. И мои слова попомни – Мишку под шкирку, и в лес утекай, зразумела? Настасья кивнула, стала натягивать валенки. У порога остановилась и спросила еще раз: – Дык шо за печь-то такая, баб Купав? Притвор затопленной печи в хате распахнулся, полыхнуло искрами, и оттуда истошно закричали: – Яка-така печь, вот э печь! Чаго далёко ходить? Полезай, сука драная, с-с-самадайка! Думаешь, не знаем, як ты муженьку своему зменяла с ефрейтором за мешок картошки? Як он тебе казал – на якой мешок ляжешь, тот твой и буде. Ну ты, сучка, бульбу и выбрала. Думаешь, не знаем? Побледневшая Настасья вскрикнула и выскочила наружу. В окошко Акулина наблюдала, как соседка бежит по вёске прочь, испуганно оглядываясь и крестясь без остановки. Отгостевалась, видать… – Дураки вы пекельные, – как-то даже ласково сказала Акулина, беря кочергу, чтоб закрыть притвор, – на кой так пужать ее было? – Сама ты дура, дура, ведьма др-р-раная, а Пекло завсегда чес-с-стное! – отвечали ей из печки сот- ни уст, сплетенных в один голос. – И про тебя вс-с-се знаем, знаем! Дровишек, др-р-ровишек подкинь! – Честные вы мои… С кем еще побалакать, окромя вас? – Говори, говор-р-ри! Завсегда поболтаем! Заболтаем-поболтаем! – Да умолкни уже! – рявкнула Акулина и выплеснула полное ведро воды в притвор. Угли зашипели по-змеиному, хату заполнил густой черный дым. Закашлявшись, знаткая выбежала наружу, а в спину ей неслось: – Наш-ш-ша! Наш-ш-ша!

Под конец июня, как полезли первые ростки бульбы, расквартированный в Задорье полк начал сниматься с места. К клубу стягивались задорчане – кто с вещмешками, кто с сумками; дети тащили за лямки крохотные авоськи или простые узелки с нехитрой утварью. Малую ребятню солдаты сажали на плечи по трое. Перед клубом устроили пляски, шнапс лился рекой, неумело тренькал на баяне пьяный мальчуган лет тринадцати. Репродуктор присобачили на броневик, из него ревела на всю деревню Wenn die Soldaten. В дверь Акулины постучал прикладом Ермольев – полицай из соседней вёски. Важный весь, в немецкой каске со свастикой, нарисованной белой краской, с коричневой повязкой на плече. Полицай гаркнул, храбрясь, но притом этак заискивающе: – Слышь, Перхта! – Хто-о-о? – откликнулась Акулина, тем временем быстро переоблачаясь в старушечью одежду. – Гэта хто там? Дорофейка, ты, милок? – Перхта! Гэта так табе немцы кличут – Баба-яга по-ихнему. Збирайся живо – идти пора. – Ох, милок, а мине-то куды? Няужо и мене в остарбайтеры возьмут? Мне ж сто годов в обед… – Всех возьмут! Живее давай, карга старая. Опираясь на клюку, переодетая Акулина вышла на улицу. Ермольев беспрестанно подгонял ее, толкал под локоть – сам он полицаем служил аж с сорок первого, опытный предатель. И морда вон какая, крысиная. Бабка Купава, та, первая, наставница Акулины, ему однажды мужской недуг вылечила – хоть бы спасибо сказал, лайно такое. Акулина в сердцах плюнула ему на сапоги, Ермольев взмахнул ружьем, но бить не стал: – Ушибу, сука старая! – Так-то ты старших уважаешь, Дорофейка? – А ты чаго? На кой плюешься? Сапоги-то новые… – А с кого сапоги снял, мародер? – спросила Акулина, но Ермольев промолчал и отвернулся, махнул рукой – пойдем, мол. Фрицы согнали к клубу все население деревни, кто не успел сховаться по подвалам да погребам, – и женщин, и старичье, и детей, а также нескольких оставшихся мужиков, не пошедших ни в партизаны, ни в полицаи, в услугу фюреру. Ревел немецкими шлягерами репродуктор, рвал баян тот мальчишка, сын Николаевны с третьего дому. Люди, словно оглушенные внезапным празднеством, исступленно плясали на пятачке перед клубом, к ним присоединялись ребятишки; солдатня охотно разливала шнапс – прям из фляжек в стаканы. Словно война уже кончилась и наступило перемирие. Акулина сразу заподозрила неладное. К ней подскочила Настасья, раскрасневшаяся, расхристанная – чуть не всю до пупа видать, сунула стакан со спиртным, дыхнула перегаром: – Пей, баб Купава, пей! Немчики бачила якие славные? А мы-то себе думали, дуры-ы-ы… И закружилась в танце – ее подхватил дюжий солдат, крепко ухватил за задницу и подкинул три раза ввысь с криком «айн-цвай-драй». А после поцеловал и выпил на брудершафт. Сгорбившись – живот сегодня вздулся особенно страшно, будто вот-вот лопнет, – Акулина стояла посреди всего этого праздника; глядела недоуменно на односельчан, будто бы сошедших с ума. Ефрейторы орали в громкоговорители, а за них кричали в толпу переводчики-полицаи: – Движемся по дороге на запад, в сторону Минска! Всем выстроиться в колонну! Зубные щетки, мыло, еду все взяли? Кто сам, а кого и подтолкнуть пришлось, но вот уже все население Задорья – сто с лишним человек, да это не считая малых детей, – выстроилось вдоль дороги. Взрыкнули двигателями грузовики и броневики, поехали, разбрызгивая шинами закисшую весеннюю грязь. Вышедший последним из клуба гарнизонный лейтенант выстрелил в воздух, крикнул – «Лос!» И все разом двинулись единой массой вперед; по-прежнему ревела музыка, мальчугану-баянисту дали по уху, чтоб продолжал играть. Впереди странной процессии шел седой старик с портретом фюрера на штандарте; под портретом красовалась надпись: «Гiтлар-асвабадцiзель». Акулина стояла не двигаясь, ее задевали плечами; односельчане шикали – иди, мол, чего встала? Из проехавшей мимо бронемашины взревел репродуктор то ли на исковерканном русском, то ли на трасянке: – Соблюдать порядок движение! Брать дети, не забывать дети! Дорога долгий, идти долго, вещи брать, не забывать дети! Остарбайтер, твой ждет великий будущее! Каждый, кто отъезжать в Дойчланд, должен с собой иметь: зубная щетка, порошок, гуталин, мыло… И впрямь – детей тащили все, на руках, на плечах, тащили и сами солдаты и полицаи, чтоб не попали под ноги идущей толпе. Ребятишки не плакали, а в основном смеялись – их веселила натужная праздничная атмосфера, ставшие вдруг добродушными солдаты, которые совали конфеты и леденцы, игравший вовсю немецкий марш; одна лишь Акулина заметила, что ведут их вовсе не к дороге на Минск. Подскочивший Ермолаев толкнул Акулину, прошипел: – Че глазенки пучишь? Шагай, старая! Шнелля! Она молча двинулась вперед; толпа односельчан чем-то напомнила другую печальную колонну, совсем в ином месте – в Пекле, только там среди разномастных военных не наблюдалось детских лиц. Один смелый подросток, начав догадываться, крикнул: «Тикайте, братцы! Ушибут они вас!» – ему мигом заткнули рот, отвели за ближайшую избу, и оттуда раздался сухой звук выстрела. Палач-полицай вышел из-за избы, закинул винтовку на спину и чиркнул спичкой, прикуривая папиросу; он окинул проходивших мимо людей вялым, равнодушным взглядом. Наткнулся на старуху в толпе – грузную, страхолюдную, замотанную в тряпье с ног до головы, – и вздрогнул от блеска ее красивых синих глаз. – Будь ты навеки проклят, подстилка немецкая! – со всей злобой сказала в его сторону Акулина, отчего полицай закашлялся, подавился дымом. Хотела еще плюнуть в его сторону, но тут рявкнула овчарка, рванулась с поводка, оскалив зубы, – ее водил вдоль колонны немчик, чтобы, значит, не разбредались. В какой-то момент колонна совершила поворот прочь с дороги – к большому амбару на окраине, где раньше обитали колхозные буренки. Около ворот молчаливыми стражами стояли два серых грузовика, образуя коридор. Тут уже и сельчане почуяли неладное, заволновались. Бабы завыли как оглашенные, дети мигом подхватили вой. Немногочисленные мужики заметались, попробовали выскочить из колонны, но всюду их встречали солдатские штыки или слюнявые оскалы свирепых овчарок. Для порядку пальнули в воздух. – Шнелля, шнелля! В амбар, в амбар иди, швайне! Широкая дверь амбара распахнулась, оттуда выскочил Михась – первый из деревенских полицаев, вставший на сторону нацистов. Усатый, рослый, он поправил ремень на старой немецкой форме и зычно пригласил: – Ну шо, усим добро пожаловать! Милости просимо! – и сам запрыгнул на подножку грузовика у входа, забрался на крышу. Тут-то люди как завыли, как закричали! Внутрь амбара никто идти не хотел, все ломились обратно, но сзади подпирал тупой мордой черный бронетранспортер, ощетинившийся страшными пулеметами, а по бокам стояли грузовики. Один хлопчик попробовал было нырнуть под кузов, однако там едва не попал в зубы овчарке. Все пути к отступлению были закрыты. Акулине сдавили плечи так, что не продохнуть. Пихались локтями, грозили затоптать. Над ухом кто-то шепнул: – Баб Купава, вы? – Я… – Акулина с трудом повернула голову – мешали бесчисленные шарфы и платки – и увидела мать Демы. На локтях у той сидели ребятишки – справа Захарка, слева Аринка, и обоих женщина уже едва удерживала на весу. – А вы як тута? Вас тоже того… В остарбайтеры, да? – В остарбайтеры, як же ж! – огрызнулась Акулина. – Зараз все в остарбайтеры по́йдем, на тот свет. Дай-ка сюды девчушку. – Да вам тяжело будет! – Давай-давай. В трудом погрузив на плечи заплаканную Аришку, Акулина попробовала разглядеть, чего там впереди, за людскими спинами, но росту не хватало. Сидевший на плечах у матери Захарка весело вякнул: – Гонют всех в амбар, як скотину. Ну ничо, зараз Демка придет – всем им уши понадирает! Немчуре поганой! – Далече твой Демка… – печально прошептала Акулина, чтоб мелкий не услышал. Тут сзади поднаперли, еще раз, и вот спустя несколько шагов она уже очутилась внутри амбара. Кругом выли люди, хватались друг за друга. Бабы срывали платки с голов, голосили во всю мочь: – Ох ты божечки, гэта шо ж творится? Выпустите нас отседа! Те мужики и подростки, что были у дверей амбара, еще пытались драться с гитлеровцами, но их забивали вглубь прикладами, пинали, лаяли на немецком; в конце концов кто-то из солдат пустил над толпой очередь, и все отхлынули назад, застыли в ужасе. Немцы завозились с цепью на створках ворот. В наступившем молчании раздался тонкий голос: – Захарка, ты чаго гэта, милый? Шо с тобою, сынок? Боясь поднять взгляд, Акулина все же посмотрела в ту сторону. Мать Демьяна с исказившимся, недоверчивым лицом держала на руках сына – у Захарки, одетого в одни штаны и маечку, из пробитого пулей виска вытекала струйка темной крови. В широко распахнутых глазах Захарки застыла задорная улыбка – он до самой смерти улыбался и верил, что сейчас придет его брат и всех спасет. Акулину тяжко пнуло изнутри живота – она аж удивилась, никогда днем не просыпался, а тут чего вдруг? Поглядела на сытые ветчинные рыла в дверном проеме да на заплаканное личико Аришки и поняла – нет уж, не так. Только не так! Не свинья она и не овца, чтоб вот так вот, как скотину безмолвную, ее вместе с дитями да стариками в забой отправить. Помирать – так с музыкой. Акулина сделала осторожный шажок в сторону дверного проема. Еще один. Еще. А потом как замаршировала, приподняв повыше Аришку – будто флаг, чтобы не зацепили пулями, когда будут стрелять, и затянула, уже не таясь, чистым девичьим голосом, во всю мощь легких:
Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой черною!
С прокля-а-атою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна-а-а!
И-и-идет война народная!
Священная война! —
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Пусть ярость благоро-о-одная вскипает, как…

«Вот оно, значит, як оно – помирать? А чаго ж я тогда тута лежу? Хотя, где мне яшчэ лежать? Глупо как-то». Было странно вот так мыслить, слышать, соображать, но уже вроде как и не жить вовсе. Тут в набухшем животе толкнулось пекельное дитя – невтерпеж ему сидеть, наружу хочет. Маленькие пальчики заскребли ногтями по стенкам утробы, пытаясь процарапать путь наружу; будто кошку ошпаренную в брюхо запустили. Больно было так, что хоть волком вой, но глотка Акулины не издала ни звука – как чужая теперь. Перед глазами сновали туда-обратно грязные сапоги, перекрикивались немцы: – Фойер! – Господин лейтенант, вот в тот угол, полепше займется! – Соляры поддай! Горючку, горючку лей, стерва! Не жалей, всем хватит! И зажглось вдруг совсем рядом, да так зажглось, что брови лежавшей поблизости Акулины опалило жаром, скрутило. А она неожиданно для себя рыгнула; рыгнула листком бумаги, который тут же скукожился от огня, начал чернеть и занялся. Глядя на знакомый листочек из ее тетради: «И откуда она здесь? Ведь Демьяну ж отдала», – она чувствовала, как точно так же скукоживается и чернеет ее собственная душа, проданная Пеклу. Тело отдавало все, полученное нелюдским, колдовским путем – у кого простокваша выходила из молока, с-под коровы чужой сдоенного, у кого ассигнации краденые, а у нее вот – бумажки с тайными знаниями. «Но ведь не зря все, не зря!» – мысленно порадовалась Акулина и прикрыла глаза, приготовившись умереть. И в этом прозрении смерти пришло ей последнее ведьмовское предсказание: как безусые мальчишки и седые старики, не щадя живота своего, бросались на амбразуру. В памяти всплывали чужие, незнакомые имена: Саша Матросов, что грудью бросился на пулемет; Матвей Кузьмин, что привел фашистов в засаду и был убит первым; Коля Гастелло, что направил свой подбитый бомбардировщик в колонну врага и сгорел вместе с ним; Зоя Космодемьянская, что и под пытками не выдала разведданных гитлеровцам; семьдесят совсем юных ребят и девчонок – младшему только стукнуло четырнадцать – «Молодая гвардия», что совершала диверсии и распространяла антифашистские листовки под носом у врага, все они за это поплатились жизнью, но не предали Родины. Их были тысячи. Перед внутренним взором Акулины проносились лица настоящих героев, что вставали на защиту Родины и в честном бою, лицом к лицу со смертью, капля по капле не покупали, нет, выковывали из собственных слез и крови эту большую, общую на всех, великую Победу. И, не торгуясь, пожертвовали всем, что имели, поделили эту большую непосильную ношу друг с другом, рука к руке, плечо к плечу. И Пекло, конечно же, обмануло Акулину, продав ей то, что Пеклу все равно никогда не принадлежало. Ведь такова его, Пекла, суть – сплошной обман, и ничего кроме. И, объятая страшным жаром, Акулина закричала что есть мочи, от боли и отчаяния. А в унисон ей стенали заживо сгоравшие в амбаре люди. И из огня, сотканный из воплей умиравших односельчан, прошептал на ухо шипящий голос Пекла: «Думала, отс-скочишь, душ-шу детскую спасая? И сотней не отмолиш-шь, тяжел грех, ой тяже-е-ел… Наш-ша ты теперь, навеки наш-ш-ша…» С шипением во всполохах пламени рухнула балка внутри амбара, погребая под собой мать Демьяна, Аришку и всех остальных задорчан.

Закончив с последним немцем, от избытка чувств Дема едва не начал напевать на обратной дороге к партизанской ставке. Он не испытывал удовольствия, убивая людей, вовсе нет. Но и в немцах Дема людей не видел. Скорее что-то вроде саранчи, налетевшей на его родную землю. Ведь, изничтожая саранчу, колхозник не испытывает мук совести за каждого раздавленного кузнечика? Конечно, нет, он думает об урожае, который вырастет на избавленной от нечисти земле. Каждого немца Дема аккуратно подмечал на последней, свободной странице тетрадки с зачинами, выданной Акулиной. Рисовал погоны – сложные немецкие звания он не запоминал; имя, если удавалось узнать, и взятые трофеи. К марту сорок четвертого их насчиталось ровно тринадцать человек. Первого он прибил еще приКосмаче, в сорок втором. Строго говоря, не он, а при помощи отца-командира – Космача, ныне погибшего. Сидели тогда в засаде у дороги, вечерело. Командир партизанского отряда передал новенькому хлопцу «пэпэша», хлопнул по плечу и спросил: – Ну? Здолеешь фрица-то прибить? – А то! – храбро ответил пятнадцатилетний тогда еще пацан и уставился через мушку на дорогу. Он не был уверен, что сможет, но не хотелось оплошать перед отцом-командиром. Когда из-за поворота появилась мотоциклетка, он вдавил спусковой крючок что есть сил. Вырвавшаяся из ствола очередь срубила водителя, мотоцикл повело, а второй солдат выпрыгнул из коляски и побежал к лесу. Недалеко ушел – и его добил выстрелом из трехлинейки уже сам Космач. Остальную колонну расстреляли сидевшие в кустах партизаны таким огненным залпом, что их будто смело с дороги. В общем-то, вся их партизанская работа и заключалась в том, чтоб сидеть по кустам да болотам, покуда немец не пойдет или сам не заквакаешь с лягушками вместе. То сторожишь, пока мост минируют или дорогу железную. То вот так в засаде ждешь колонну немчуры. То просто в глухом лесу прячешься неделями, а то и месяцами от немецких патрулей – в дождь, снег и летний зной. Дема до того изучил родные леса, что мог бы ходить по ним с закрытыми глазами; за то ему в отряде цены не было, а уж когда Космач пронюхал, что он врачевать умеет, то и вовсе оказался юный зна́ток на особом положении. Да и храбрости в боях ему было не занимать – не у каждого взрослого мужика столько удали было. Девки, что иногда прибивались к отряду, глядели на Дему как коровы недоеные, но тот на них внимания не обращал, все мусолил свою тетрадку да бормотал зачины, любуясь убористым почерком Акулины. Что ни буква – то маленький шедевр: подбоченистая, бедрастая «а»; грудастая, как и Акулина, буква «ф» и волнующее узкое пространство меж стройных ножек буквы «л». Макарка, Сизый Нос, растрещал в отряде про знаткость Демкину. Космач тогда подошел, присел рядом за костром и по-отцовски так потрепал по отросшей шевелюре: – Чаго седой-то уже стал? Спужался, шо ль, чаго? – Та не, дядька, гэта так, пепла насыпало… Исправим! – чуть ли не гаркнул Дема. – Ты гэта, слышь… – Космач понизил голос и оглянулся. – Правду кажут, шо ты у ведьмы в учениках ходишь? – Брешут, командир. Аку… Купава, она ж так, знахарка. Ну скотину там врачует, кости правит. У нас же ж того, коммунизм-атеизм, якие-такие ведьмы, дядька? – Ага, – тот явно не поверил, но понимающе ухмыльнулся в густую бороду. – Но в карты с тобой лучше не играть, слыхал уже. Непростой ты хлопец, ох непростой… Но смелый, за то табе медаль буде, «За отвагу». Я уж запрос в Красную армию отправлю, не сумлевайся. – Правда? – обалдевший Дема уставился на командира с открытым ртом. – Кривда! Ты рот-то закрой, а то черти залетят. Не казала, шо ль, знахарка твоя? – и, хохотнув напоследок, командир удалился. Вскоре после того разговора произошла роковая облава от айнзатцгруппы, во время которой Космач и погиб вместе со всем отрядом. Минами накрыли, сволочи. Только Макарка и остался – погадить отошел вовремя. И ведь ни могилы, ни креста, чтоб сходить да выпить за упокой, одна только воронка в глухом лесу. А Космач хороший был мужик, зря его в Пекло определили. Ну ничего, отмытарствует свое, от грязи отмоется да на небушко уйдет – таким людям там завсегда рады. Он до войны вообще учителем в школе был, историю преподавал. Хороший мужик… Был. Ну ничего, много их было, еще больше будет. Земля советская хорошими людьми полнится. В общем, как Акулинка с Демой повторно расстались, так он в лес и ушел. Там уж долго мудрить не стал – сел на поляне близ Задорья да погукал по-птичьи на удачу да на судьбу свою вольную, стукая клюкой о землю. На ночь развел костер, накидал в него всяких травок душистых. А утром побултыхал помазком в миске мыльной пены, сбрил отросшую редкую бороденку и обмыл лицо студеной водой из ближайшего родника. Набрал водицы в ладони, поглядел своему отражению в глаза и прошептал:
Чур-чур, дорожку хочу,
Дорожку укажи,
Службу сослужи,
От зла убереги,
Впредь судьбы моей беги…
И вот поползли слухи о немецком отступлении. Перешептывались в окопах, а там и до партизан долетало, мол, готовит Советская власть что-то большое, серьезное, какую-то, значит, операцию. По всем партизанским отрядам дали прогон – вступайте в официальные войска, а то потом утюжить будут, не разбираясь. Вот вам, товарищи-партизаны, справочки, что вы теперь не ополчение, а доблестные красноармейцы. Ну а всяческим сынам полка, коим восемнадцати еще не исполнилось, по домам пора. Дема, как то прознал, аж остолбенел. Первым делом подумал: «А як так, коли мы, сыны полка, не красноармейцы яшчэ, а партизаны, то як же нас в солдаты регулярной армии запишут? Мне год, шо ли, ждать до совершеннолетия?» Второй промелькнула мысль: «Неужто наша с Акулиной сделка сработала? Самое время, да и девять месяцев как раз прошло… Все сходится». На первый вопрос ему ответил новый командир: – Щас, говорят, наши за Беларусь всерьез примутся. А ты – малолетка, тебя приткнуть-то некуда. Не положено так… – Но я ж воевал! – воскликнул Дема, тряхнув дурацкой справкой. – Знаю, что воевал… Бюрократия такая, ничего поделать не могу. Не могу я за тебя подставляться, не положено тебе воевать! Но документы я тебе справлю; да у тебя и медаль есть, «За отвагу», Космач тебе перед смертью выхлопотал по своим знакомствам. Правда, тока на бумаге, но медаль вручат. Так что иди-ка ты, Демка, домой, отвоевался. Новый командир полка, к слову, тот еще службист и карьерист был, запрещал самоуправство всякое да про Устав долдонил без конца. Назло ему в последней своей вылазке Дема офицера и убил. То была какая-то вёска небольшая невдалеке от родного Задорья – там фрицы особое веселье устроили, баб изнасиловали, мужиков поушибли. А офицер тот, гауптман, у них главным был. Ускакал в лес, ломая ветки тяжелым телом, что твой кабан. Его-то Дема и догонял, с ножом. Гауптман, хоть и толстый был, но бегал быстро, погоняться пришлось. Но Дема в чаще всяко лучше ориентировался, да и помогал ему лес – там лешак подножку поставит веткой, здесь Аук ложным звуком в сторону уведет. Догнал Дема толстяка у какой-то топи: тот уже по колено увяз в болотной тине. Немец оглянулся, тряхнул жалобно Железным крестом на груди: – Ist nicht meine Schuld! Ich habe nur die Befehle befolgt! [180] – Не размовляю по-твоему, падло, – хищно усмехнулся Дема, перехватывая нож, – но ты зараз по-моему заговоришь, обещаю. – Пощады! – жалобно заорал по-русски немец, когда Дема вскрыл ему глотку. Принес обратно в вёску Железный крест, кинул небрежно на ладонь одному из партизан: – На, бабе подару́ешь, нехай на цепочку переплавит. Иль на барахолке продашь. – А ты чаго, собрался куды? – Дык я ж, хлопцы, некомбатант таперича – разжаловали мине. Пойду до дому, до хаты… У меня тут и дом-то вона, в трех шагах, – Дема махнул рукой в сторону Задорья, до которого было еще километров тридцать. – Немчура, я слыхал, отступила ужо. Неверно он слыхал… С Задорья почему-то доходили только хорошие слухи, поэтому Дема за родных большого беспокойства не испытывал – да и не до того было. Удачливый – ни одной пули не поймал, ни на одну мину не ступил, он был уверен, что эта его удача распространяется и на родню; и знал в глубине души, что Акулина, если что, тоже своих в обиду не даст. В его мыслях немцы уже бежали трусливо из Задорья, оставив всех в покое. Он добрался до родной деревни к утру. Сначала партизаны с отряда подбросили на немецком мотоцикле, потом Дема вышел и, душевно распрощавшись со всеми, направился прямо через знакомую до каждой веточки лесную чащу. Лес шумел вокруг ветвями деревьев, над головой меркли звезды – медленно наступало утро, блестело розовым солнечным полукругом из-за горизонта. Было еще холодно и сумрачно, будто бы и не июнь даже, а какой-нибудь март. И на душе было радостно и светло. Победа близко! От наплыва чувств Дема даже запел «Катюшу» в дороге. Песен он много знал, но особенно любил «Смуглянку-молдаванку». Ее следующей запел во всю глотку, как деревня показалась из-за деревьев. Солнце так красочно осветило Задорье, что зна́ток даже присел на пригорке, нависавшем над родным колхозом, закурил по дурной, подхваченной еще в отряде Космача привычке. Пока шипела махорка, Дема сладко замечтался о будущем – о том, что настанет после Победы: «Вот, – думал он, – вернусь я в деревню с медалью… Ну, пока шо со справкой о медали – не важно. Гэта ж як на мене Акулина поглядит, якими глазами. Глазищами своими синими! А я ей скажу – видала? А ты того, выделывалась все, дура! А я того, герой войны, жених видный! А знаешь, сколько немцев поубивал? Не, тебе того лучше не знать… Такого вам, глупым бабам, не кажут. Потом скажу ей – а давай-ка, Акулинка, жить вместе? Ну и чего, что помладше тебе буду? Мы ж с тобой и свадьбу сыграли вроде як – вона, кольца на безымянных пальцах. Да и мужик я справный, войну прошел героем. Думаешь, „За отвагу“ просто так, за красивые глаза дают? Не, тебе, дуре, лучше того не знать… Ты чаго мене выгнала-то? Думаешь, твое Пекло спужало мене? Да я такое бачил… Хотя тот кратер напужал, спору нет. Страшный он был, жуть такая – не рассказать, поэтому тебе и не дал посмотреть. Я уж сам не помню, шо там, тольки по ночам снится, сволочь, дырка та страшенная, провал в бездну самую. Но про то нам, людям, лучше и не думать. Про то, что опосля смерти будет. Лучше жить! Победа! Будем жить с тобой, Акулинка? По́йдешь за мене замуж, по-людски знову свадьбу сыграем? Люблю тебя, не могу…» Так, гоняя в голове простые, счастливые мысли, он докурил махорку, обжег пальцы. Поднялся, потянувшись и хрястнув всеми косточками. Рассвело совсем. Со стороны Задорья загромыхал немецкий марш. «Гэта чаго, немцы не ушли яшчэ?» Зоркие Демины глаза усмотрели дым, стелившийся над деревней – дым темный, нехороший, как если б дома жгли напоследок, полив их бензином. Любили так делать гитлеровцы. – Нет, нет… Нет! Спешно схватив винтовку и клюку да побросав скарб, он побежал вниз в сторону Задорья, шепча: «Нет, нет, нет, только не сейчас, только не теперь, пожалуйста». А мир кругом будто застыл, даже ветер пропал, и теперь над родным колхозом поднимался смоляной и черный, как бездонная яма в Пекле, дым; поднимался множеством столбов прямо в голубое безоблачное поутру небо, и не было ничего, что могло бы предвещать беду – тут уж извечное чутье Дему обмануло. Первым делом попался родной дом в безымянной вёске за окольем Задорья – он уже догорал, крыша обрушилась внутрь, шкворчали раскаленные уголья в окружении обвалившихся стен; торчала сиротливо печная труба. Сунувшись внутрь и раскашлявшись от поднявшегося дыма, Дема не обнаружил трупов и облегченно выдохнул. Живы, мабыть, мать да Аринка с Захаркой. Есть надежда! Угнали их куда-то всех! Побежал дальше, ничего не стесняясь и не боясь встречи с немцами; клюку перекинул на перевязь за спину, ладони лежали на цевье верной трехлинейки. Преодолел мостик над речкой. В развалинах взорванной коммунистами церкви полыхала груда бревен. Огонь вырывался из окон одних хат, а другие уже сгорели дотла, дышали пеплом и усталым жаром; нос щекотала вонь гари. Один поселковый клуб почему-то был не тронут. На его ступеньках сидела совершенно голая и чумазая баба, вся с ног до головы в пыли и саже. Дема отвел глаза и буркнул: – Настасья, ты шоль? Где все? Женщина обратила к нему безумный взгляд, растянула потрескавшиеся губы: – О, яшчэ один! И ты тоже хочешь, да? – и раздвинула ноги – между бедер у нее дрожало истерзанное месиво. – Ну подходи, не стесняйся! Мене ужо кто только не попользовал! Не жалко! Едва не дрожа от гнева, Дема глухо переспросил: – Где все, дура? Остальные где? Куды погнали их? Настасья, всхлипнув, махнула рукой – там, мол. – Амбар на окраине знаешь? Туды шагай, не ошибешься… Дема сорвался с места, побежал что есть мочи мимо догоравших хат. Пепел сыпался, як снег, запорошил ноздри, глаза, бил под дых, выходя с сухим кашлем. Вскоре показался и злосчастный амбар на окраине – он еще пылал, подожженный последним, и от яркого сияния пламени глаза слепило и казалось, что сейчас не утро, а поздний вечер. Сквозь щели амбара вырывались снопы огня, лизавшего стены. Подскочив к амбару и закрывая лицо рукавом от жара, Дема попробовал было вышибить створку ворот. Выбить-то выбил, одна створка легко поддалась и рухнула внутрь, но в ответ полыхнуло таким снопом искр, что он сам заплясал на месте в попытках сбросить пламя. Внутри все пылало, и он на мгновение увидел множество лежавших друг на друге тел. И самое страшное – почуял шибающий в нос запах горелого мяса. «Если б я там не рассиживался на пригорке…» – подумал он. Но тут же одернул себя: «И что? Чем бы ты помог им со своей винтовкой старой?» – Эй, есть кто живой? Есть кто живой, не? Мама, Захарка, Аринка, вы тута? – закричал он в отчаянии, отскакивая назад – так невыносимо было находиться тут, таким жаром обдало из амбара. Дема упал на землю, заерзал, сбрасывая с себя занявшуюся рубаху. Лицо опалило так, что наверняка ни бровей, ни ресниц не останется. Наткнулся на что-то, будто на тело, у самых ворот амбара, и тело это внезапно приветливо обратилось к нему омертвелым, безразличным, но до боли знакомым голосом: – Демушка, ты ли это? Он повернул голову, и сердце ухнуло глубоко в пятки. Из-под черных от сажи век смотрели на него льдисто-синие глаза. Глаза на обгоревшем, обуглившемся лице. Акулина лежала у самых ворот амбара, и как только не заметил? Страшный пожар добрался и до нее, но не обглодал полностью, не превратил в тлеющие головешки, но закоптил дочерна. Ее кожа почернела, местами лопнула и слезла; та половина, что была ближе к амбару, и вовсе представляла собой шкворчащее мясо с пузырями запекшегося жира – как если б свинью насадили на вертел над очагом, но забыли переворачивать. Акулина кашляла, пыталась что-то промолвить, но почему-то не шевелилась, даже не пыталась отползти прочь. Дема хотел было схватить Акулину, да куда там – все равно что мясо со сковороды голыми руками доставать. Обернул ладони какой-то рогожей, найденной неподалеку, поволок прочь от пожара, при этом отворотив лицо – до того крепко пекло. Амбар скрипел, стонал перекрытиями, грозя того и гляди обрушиться. Вырывавшиеся наружу снопы пламени превращались в чернеющий дым, вгрызавшийся черными щупальцами в безмятежное утреннее небо. Отволочив Акулину подальше от пламени, Дема сел и заплакал навзрыд. На плечи ему медленно оседал пепел. – Они там? – всхлипывая, спросил он у Акулины. – Мамка, Аринка, Захарка? – Там, – коротко ответило жуткое, обгорелое туловище с синими глазами и набухшим животом, – там они – сгорели все… Дзякую, Демушка, больно мне было там лежать – мочи нема. Мене немец застрелил – и не пошевелишься ведь. Только… Кха-а-а! И неожиданно она выхаркнула на землю листок бумаги. Подняв его, Дема сквозь слезы разглядел написанные ее идеальным почерком стихи – стихи Есенина, как в зашитом кармашке гимнастерки. – Ты чаго гэта? – Мертвая я, Дема… – прошелестел лежащий рядом труп. – Убили меня, говорю ж. И помереть никак… Треба, шоб ты ношу принял – тяжкая она, не смогу я далей сама нести. Расплатился ты самым дорогим, как надобно было, – и домом, и семьей, и мною. И я расплатилась – жизнью нашей с тобой, своей жизнью. Обманули нас, Дема. На мякине провели, вишь. А платить надобно. Нынче твой черед. – Мой черед? – спросил он, чувствуя наползающий из глубины сознания ужас. Вновь возник позабытый образ бездонного кратера. Акулина хотела что-то ответить, но застонала, выхаркнула еще пару бумажных, в линейку, тетрадных листков. Огромный ее живот двигался сам по себе – нечто, обитавшее в нем, желало вырваться наружу. На обгоревшей коже появлялись очертания мелких ручек и ножек. И вот вдруг низ живота набух, Акулина застонала пуще прежнего. Между ног у нее хлынуло горячее и мерзкое, пахнуло так отвратительно, что Дему тут же вывернуло склизкой жгучей желчью. Он вытер рот ладонью, замотал головой – нет, нет, я не готов, только не сейчас. А мертвая ведьма тем временем рожала пекельное свое дитя. Их общий грех. Их общее, одно на двоих, проклятие. – Помоги! Возьми его! Но Дема не горел желанием брать в руки то, что лезло из чрева Акулины, – наоборот, отползал назад с выпученными от ужаса глазами. Ноги ведьмы безвольно раздвинулись, и оттуда со всхлипом вывалилось на землю, заворочало ручками и ножками их общее отродье. Набухший живот сдулся, как лопнувший воздушный шар. Жуткий младенец, морщинистый и сиреневый, как труп, отполз от тела матери. С ней его связывала длинная изжеванная пуповина. Новорожденный сел, глянул на отца такими же пронзительно-синими, как у Акулины, глазками; один был выпученный, казалось того и гляди выпадет, другой – заплывший, как у запойного алкаша; протянул навстречу крохотные ручки. – Возьми его, Дема, – хрипела Акулина, отхаркивая листки, исписанные стихами и заговорами, – наш он, общий с тобою, мы его вдвоем сотворили. Возьми его себе, и примешь грех на себе, облегчишь мою ношу! А я мытарствовать пойду. Ну, чаго ты застыл? Мы ведь договаривались, Демушка! Ты ж слово дал! – Нет, нет, нет, я не могу! Прости, не могу! – рыдая, размазывая слезы по лицу, Дема отступал назад. – Постой, куды ты? Слово ж кремень, Дема! Мы же договаривались! Мы договор с Пеклом заключили! Постой, Дема, не бросай мене! – кричала ему ведьма, но зна́ток делал шаг за шагом назад, а потом вовсе обернулся и бросился бежать куда глаза глядят.

Весь день и всю ночь он провел в уцелевшем поселковом клубе, боясь выглянуть наружу. Здесь нашлись запасы шнапса, позабытые отступавшими немцами. Шнапс он недолюбливал – ну самогонка чистая, да еще грушей прелой тянет, но сейчас выбирать не приходилось. Он осушил одну бутылку, вторую – алкоголь не брал; поселившийся в глубине души кошмар оказался сильнее спасительного яда. Позже в клуб вошла Настасья, укутанная в найденную душегрейку и мужские штаны. Молча села рядом за стол – а о чем тут говорить? Дема налил и ей полную железную кружку. Сказал только: – Иди подмойся хоть. Смердишь, як кобыла дохлая. Настасья опрокинула махом полную кружку, занюхала рукавом и хрипло сказала: – Плевать. У мене Мишка тама сгорел. – А ты чаго? – А я заартачилась, выбегла… Думала, мене назад погонют, да немчики позабавиться решили всей ротой. Ермольев давно хотел меня, того… Ты тоже, мож, хочешь, а? – Пошла ты знаешь куда? – горько ответил Дема. Он-таки умудрился напиться к вечеру. Упал спать с тяжелой головой. За окнами кто-то ходил, шелестел руками-ветками, отбрасывая длинные потусторонние тени. Дема помнил сквозь тяжкую алкогольную пелену, как подскакивал ночью, выбивал стекла прикладом и стрелял туда, во тьму. В кого стрелял, зачем? Иль, может, приснилось то? А какая разница? Приснились мама, Захарка и Аринка. Они стояли на перепутье. Их там, на том свете, разлучить решили. Мамку-то, как грешницу, стал быть, на мытарства в Пекло отправили. А ребятишек сразу на небушко – незачем им грехи отмывать, души легкие, чистые. Они плакали, с мамкой расставаться не хотели, но таков закон. Дема тоже плакал, пытался вырыдать все горе, лежа на грязном полу клуба и уткнувшись лицом в ватник. Ночью к нему тихо подошла Настасья, накинула сверху одеяло – ночь холодная выдалась, не летняя. Сама вышла на улицу, зябко поежившись, побрела по вёске, усыпанной пеплом. С неба светила равнодушная луна. Настасья ступила босыми ногами прямо в остывшее пепелище своего разрушенного дома, огляделась. И быстрым, рассчитанным движением вскрыла себе глотку заранее приготовленной бритвой, после чего медленно осела в прогоревшие угли, заливая их кровью. Так в Задорье стало на одного неупокоенного мертвеца больше.

Утреннее пробуждение было ужаснее всего. Увидев прислоненную к стене трехлинейку, Дема подумал – а может, застрелиться? Чик по крючку пальцем, и все, и никаких забот… Ага, как же. Забот потом будет полон рот (и другие отверстия)… Больно хорошо он знал, что ожидает в Пекле самогубцев. Поднялся со стоном – конечности затекли, спасибо хоть кто-то додумался одеяло накинуть. Настасья, видать. Самой ее не видно, ушла куда-то, поди. Пошарил по пустым бутылкам, роняя их со звоном, нашел одну непочатую, сделал несколько глотков. Пустой желудок отозвался бунтом, захотелось блевать, но нечем – вчера все выблевал там, около горящего амбара, когда увидел воочию их с Акулиной первенца. «Вот табе и счастливая семейная жизнь», – с тоской подумал Дема. Он бы так и просидел целый день, в стену глядючи да себя жалеючи, но остатки рассудительности требовали хоть каких-то действий. Может, хоть так удастся ненадолго занять голову чем-то, кроме жутких картин. Дема выглянул наружу – над Задорьем собирался дождь, отчего небо выглядело распухшим и мутным, как недоваренный холодец. Первые капли падали на сожженные дома, черные, с обрубками торчавших в стороны бревен. Требовалось добыть все для задуманного еще вчера. В клубе находился маленький медпункт. Там обнаружились клещи и перчатки, в подсобном помещении он отыскал большой кусок рогожи и лопату. Вроде все необходимое есть. Собравшись, Дема вышел на улицу, позвал Настасью – та не отзывалась. Ну и хрен с ней! Не хватало еще с ней возиться… Пошел к сгоревшему амбару, едва переставляя ноги. Идти туда совсем не хотелось, но впереди ждало неприятное, необходимое дело. Акулина лежала там же, где он ее оставил. Вновь с распухшим, огромным животом. Видать, «дитятко» обратно в матку заползло, замерзло с непривычки. А около тела ведьмы уже скопилась кучка скомканных бумажек, которые та изрыгала без остановки. Едва завидев Дему, недвижная Акулина застонала, скривила почерневшие губы: – Вернулся! На кого ж ты меня оставил? Забери его, Дема, прими грех! Мне больно, не бачишь? Я мучаюсь! За что ты так со мной? Тот молча стоял рядом, разглядывая Акулину и пытаясь увидеть в ней то, чем она и в самом деле стала, – кусок горелого мяса. Пытаясь изгнать из сердца всякое сочувствие. Флегматично высморкался на землю. – Дождь починается… – сказал он словно бы сам себе сквозь сжатые зубы. – Якой дождь? Дема, мы с тобой вдвоем грех зробили. Прими его, дай мне уйти спокойно. Иначе мне спасу не будет, я ужо чую, як черти за мою душу взялись. Забери его, забери! Вместо ответа зна́ток сплюнул, надел перчатки, чтоб грехов от мертвой ведьмы не нахвататься, вытащил клещи. При виде клещей Акулина заверещала, почуяв, что он вознамерился сделать: – Демушка, не надо, прошу тебе, умоляю! Но она не могла сопротивляться, лишь только говорить без умолку. Дема распахнул ей рот и принялся выдирать зубы – чтобы Акулина не вернулась в Задорье упырем. Из почерневшего, обгоревшего рта скверно пахло, воняло мало того что горелым мясом, так еще и гнилью. Да и от сгоревшего амбара несло тяжелым духом сожженных мертвецов. Выдирая зубы и слушая вопли, Дема вновь начал плакать. Ему не верилось, что вот она, та женщина, рядом с которой он хотел провести всю свою жизнь, – та самая, ради которой он готов был умереть. Но все вспоминался тот кошмарный кратер в самом центре Пекла, тот ужас, что ждал его на дне, куда и утянет тяжелый, бесконечно тяжелый их с Акулиной грех. И каждый раз, когда руку останавливали бессловесные причитания несчастной Акулины, он вспоминал ту страшную яму. И начинал с вновь появившейся мрачной решимостью выдирать ей зубы. А когда последний зуб упал в карман, Дема расстелил на земле брезент и сапогами закатил туда обгоревшее тело ведьмы. Обвязал веревкой накрепко, один конец закинул через плечо и поволок к задуманному месту – мельничному пруду неподалеку. Упакованная в брезент, беззубая Акулина всхлипывала и что-то неразборчиво подвывала, но теперь, не видя ее синих глаз, Дема будто бы стал глухим. До мельницы не так далеко, однако ему, похмельному и уставшему, этот путь показался бесконечно долгим. Но вот и она – старая мельница вырисовывается колесом в серой пелене начавшегося дождя. Сапоги скользили по отсыревшей земле, Дема промок до нитки, однако с неутомимой решимостью волок на себе тяжкий груз. Дотащил брезентовый мешок до мельничного колеса. Вытащил из кармана горсть зубов, высыпал их туда – только плюхнули, упав в воду запруды. Зашел сам по пояс, кое-как, расшевелив ил, выкопал ямку на дне, а после погрузил туда мешок. Напоследок Акулина жалобно булькнула из мешка: – Не на-о, Ема, я те-я лю… Он придавил Акулину, как мог, ногами, но тело все равно всплывало наружу. Благо на берегу нашелся здоровенный булыжник – его Дема перевязал веревкой, примотал к мешку и таким образом сумел кое-как погрузить его на дно. Сверху начал забрасывать сырой землей, однако труп то и дело будто стряхивал с себя ил. Вспомнился совет Космача – они тогда целый отряд фрицев порешили, а сами ту же точку заняли. Тела в реку бросили – а те знай себе по течению поплыли. Космач тогда их отчитал на чем свет стоит, а потом пояснил так: – Ты, малой, коли мертвяка утопить решил – ты ему легкие перво-наперво вскрой, шоб его воздух наверх не тягнул. Пущай на дне рыб кормит. И Дема принялся вслепую рубить лопатой то место, где, по его мнению, должна была находиться грудь Акулины. Грудь, которая грезилась ему в долгих ночных бдениях с винтовкой в обнимку. Рубил снова и снова, погружая лопату во что-то хрусткое и мягкое; кажется, ему даже послышались всхлипы. Наконец, обессилев, он взобрался на берег и в который уже раз безудержно разрыдался. Смерти родных и любимых навалились тяжелым грузом. Хотелось вытащить из воды Акулину, броситься в ноги, вымолить прощение, забрать грех, но то и дело в темном зеркале пруда возникал водоворот той нестерпимо ужасной воронки на самом дне Пекла. Внезапно из воды возникла девичья голова, облепленная мокрыми волосами. Над ухом прилипла улитка. При виде этой головы Дема отпрянул назад – выглядела башка страшно: половину лица занимала ощерившаяся крокодильими зубами пасть. – Чаго тут забыл, знающий? – подозрительно прошипела вынырнувшая из пруда тварь. – На кой ты мне гэту притащил? – На кой? Ты кто такая? – бессмысленно переспросил Дема, думая, хвататься за клюку или за винтовку супротив такой нечисти. – На кой? Кто такая? – оскалилась всеми зубьями нечистая. – А ты шо, на немцев робишь? На жуков? А мож, и ты – жук? Фараонка погрузилась в воду и спустя мгновение вынырнула у самого берега, навалилась бледными сиськами на берег и клацнула челюстями у самой Демьяновой стопы. Тот отдернул ногу. – Да на яких немцев, заполошная? Я сам их… партизан я, во! – А гэта тады кто? – Тварь дернула подбородком в сторону вновь всплывшего трупа; чешуйки на ее коже разгладились, пасть приобрела обычный размер, и тут в очеловечившихся чертах ее лица Дема узнал… – Нинка? Землянина Нинка? Ты, шо ль?! – Мож, и я. А мож, и не я. Усе жуки немецкие забрали… – Так и тебя фашисты, значит… – Дема не договорил. В голове возникла идея. – Слухай. А можешь ее у себе схоронить? Он кивнул в сторону всплывшего на поверхность брезентового мешка. – Ее-то? – Нинка совсем по-девичьи хихикнула. – А на кой? – Дык гэта, Нинк… от немцев мы ее ховаем. От жуков то есть. – От жуков? От жуков схороню… От них схороню, заховаю так глыбоко, что никто и никогда не найдет, никто больше не тронет, никто больше не будет своими пальцами… И, юркнув быстро под мельничное колесо, Нинка зацепила брезентовый мешок, навалилась сверху и принялась утрамбовывать его в илистое дно, распугивая ленивых рыб и прочую живность. После – выскочила из воды, всплеснув длинным хвостом, и села на мельничное колесо; то заскрипело под ее весом. – Дзякую, Нин, – поклонился в пояс Дема, как учила Акулина. – А зараз яшчэ вот шо запомни, – он пожевал губами, формулируя мысль. – Кто б сюды, к тебе, в пруд, ни залез – тот немец, понятно? – Жук? – ощерившись, прошипела Нинка. – Жук-жук. Самый натуральный. Всякий, кто полезет, – жук, – кивнул Дема. – Жу-у-ук… – прошипела фараонка, принимая новую истину на веру. Последнее дело оставалось. Чертова гайка сидела на пальце как влитая. Не двигалась ни вверх, ни вниз, будто вросла. Он и плевал на палец, и скручивать пытался – ни в какую. Наоборот, будто закручивалась обратно, да так, что палец сперва сделался пунцовым, а после – посинел. И жгло это проклятое кольцо, точно только из печи вынулось. – Да шоб тебя черти побрали! – выкрикнул Дема и, будто в помешательстве, схватил лопату, положил руку на какой-то голыш и ударил лезвием со всей силы. Завыл от боли – кожа сползла, обнажив мясо и белизну кости. Но болезненный азарт и злоба на самого себя заставляли его наносить удары снова и снова – будто наказывал он себя. А когда наконец изуродованный палец отделился, пнул его, не глядя, в воду. Перемотал обрывком рубахи кровоточащий обрубок и быстро зашагал в сторону Задорья, как-то по-старчески опираясь на клюку, будто было ему не семнадцать лет, а полвека стукнуло. Мокрые от дождя и ставшие совсем седыми волосы топорщились в стороны, а взгляд стал жестким, угрюмым и нелюдимым. До следующей их встречи с Акулиной оставался двадцать один год. Тем временем в Беларуси прошлым утром началась масштабная операция «Багратион». Партизанские отряды навалились на фашиста единым фронтом, задержали немецкие подкрепления и отвлекли силы врага от Витебско-Оршанской наступательной акции, заманили гитлеровцев в непроходимое Бобруйское болото; советские солдаты наматывали на гусеницы танков черную со свастиками униформу под Полоцком, свистели над Крымом крылья «Ночных ведьм», стали могилой для тысяч душегубов овраги вокруг Могилева, трещали от снарядов стены Вильнюсской «крепости», дымились развороченные башни хваленых «Йагдпанцеров» на подступах к Минску. Страна стряхивала с себя захватчиков, как насосавшихся, одуревших от выпитой крови блох, и все новые и новые герои там, на фронтах, по высочайшей цене выкупали у войны Победу.
Покаяние
Солнце медленно клонилось к закату, облапило красными лучами сосновый лес за мельницей, заросший камышами пруд и даже лица сидевших у окна людей. Людей было двое – испуганный мальчик лет двенадцати и женщина со странной, перекошенной улыбкой, словно приклеенной к почерневшим губам. Она сидела без движения, как если б умерла и закоченела в такой неестественной позе; льдистые глаза смотрели наружу, в окно. Женщина даже не моргала и, когда на ее окровавленную щеку села муха, не попыталась ее смахнуть. Мальчик тоже не шевелился – ему не позволяло ожерелье из зубов, висевшее на груди, – но его выдавали подвижные, быстрые взгляды, которые он бросал на самозванку. По щекам его текли слезы. Он кое-как выдавил из себя, проглотив ком в горле: – И шо? Дык Дема больше и не приходил сюды, к мельнице? – Як же? Приходил. Постоит на бережку, пожалеет себя да пойдет прочь. Вот и сейчас пришел – гляди! – ожила Анна Демидовна, вернее то, что теперь управляло ее телом; проскрипело глоткой: – Пойдем-ка гостей привечать. – Гэта Демьян? – встрепенулся Максимка – вернее, только глазами сумел захлопать. – Ну а кто ж яшчэ? Он, родимый. Тебя-то, вишь, не бросил. Ноги Максимки сами собой выпрямились, повинуясь ожерелью. Он успел глянуть через пруд – там со стороны леса к мельнице приближались двое. Демьян опирался на неизменную свою клюку, а его спутник – в нем Максимка узнал Жигалова – зачем-то тащил под мышкой двухлитровую банку, в каких закрутки на зиму делают. «А гэты тут зачем?» Они торопко прошмыгнули камышами и обогнули пруд – так, чтоб оказаться по другую сторону. Акулина шагала, резво передвигая чужими ногами, так что Максимка еле поспевал за ней. Сапоги хлюпали в болотистой почве, из-под ног ускользнула зигзагом змея, а другой раз прыгнула в сторону толстая жаба. Над озаренным закатным солнцем прудом громко гудело комарье. В какой-то момент ожерелье натянулось на шее, и Максимка встал как вкопанный. Акулина подняла руку, поглядела внимательно на ту сторону пруда. Оттуда раздался зычный окрик: – Анюта! Максимка! Мы идем за вами! Она тут? – Анна Демидовна, стойте, где стоите! – вторил ему Жигалов. – Здесь ведьма может быть! – Яшчэ як может… – пробормотал под нос Максимка. – Перед тобой она, дурань гэбэшный. Акулина хихикнула; довольная, будто кошка сметаны нализалась. Ведьма сделала несколько шагов вперед, вглубь стоялой воды, пока та не дошла ей до края юбки и не скрыла исцарапанные ноги в рваных колготках. По разошедшимся по воде кругам заскользили в стороны водомерки, поднялась со дна мутная тина. Акулина приложила ладони ко рту лодочкой и крикнула из самой глубины взятого взаймы тела – своим, ведьмовским голосом: – Ну, привет, Демушка, давно не виделись! Помнишь слова классика? «Предназначенное расставанье обещает встречу впереди…» Вот и свиделись наконец!
Когда Анна Демидовна на той стороне пруда выкрикнула эти слова, Демьян побледнел и едва не выронил клюку из потерявших всякую твердость ладоней. Жигалов с тревогой посмотрел на знатка, покрепче перехватил скользкую банку, а то руки уже немели от тяжести. И откуда в ней столько весу? Машину пришлось оставить километрах в трех отсюда, у опушки леса – дальше было никак не проехать. Майор вновь посмотрел на Демьяна – от взгляда на крепкого мужика, который буквально превратился в кисель в человеческом обличье, в дрожь бросило и самого Жигалова. Он спросил: – Ты чего, знахарь? Никак Гринюк своей испугался? – Ниякая гэта не Гринюк, – упавшим голосом ответил Демьян, – гэта ж она… В теле Анютки. – Кто «она»? – переспросил Жигалов, вновь перехватывая предательски ускользавшую из хватки банку. Внутри будто что-то ворочалось. – Акулина гэта, дурань гэбэшный! – непроизвольно повторил Демьян слова Максимки, уставившись на ту сторону пруда, где по колено в ряске стояла женская фигура в строгом жакете и юбке, а за ней, в кустах осоки, виднелся и ученик – без движения, будто телок стреноженный. – Ну чаго, Демушка, побалакаем о делах наших сердешных? – долетело до него через пруд. – Ты як гэта зробила, ведьма ты… – выдохнул зна́ток. – Ну-ка отпусти их! Я табе нужен! Изыди, диавол! – О-о, Демушка, кто из нас диавол – то покуме- кать яшчэ надо! Я ж ученику твоему все поведала, про все твои «подвиги». И як ты мене бросил и як прикопал вон тама, у мельницы. Як тебе, Максим, понравился сказ, не? – Это она о чем? – спросил Жигалов, но зна́ток лишь отмахнулся – не до тебя, мол. Посуровел лицом, прокашлялся, гаркнул: – Отпусти их, слышишь? Выползай из Анюты да греби к себе в Пекло, откуль пришла, а не то… – А не то что? – А не то… – Демьян резко рванулся к мельнице, ухнул сапогами в воду, зашарил руками в ряске. – А не то кости твои выкопаю да перезахороню, як положено. Вона они где, лежа… Ой! Пальцы наткнулись на что-то скользкое, холодное. Перед носом Демьяна вынырнуло лицо, полупрозрачное и гладкое, как обмылок. Открылись белесые глазища Нинки-фараонки. – Чем копать-то будешь, родной? – насмешливо крикнула Акулина. Демьян отступил назад, стараясь не совершать резких движений, Нинка последовала за ним. Зна́ток откашлялся, попросил сипло: – Нинусь, мне б гэта… под мельницу бы залезть. Фараонка зашипела, булькая ноздрями: – Сам наказал схоронить… Сам говорил не пущать… – Видала, Нинусь, хитрый якой? – вовсю веселилась ведьма. – С долгов слезть решил! Перезахоронить як заложного, значит, шоб я упокоилась. Вот так жук! – Жу-у-у-к? – угрожающе прожужжала фараонка, следуя за знатком. Демьян, отступая, споткнулся о лопасть колеса и шлепнулся задницей в воду; его лицо оказалось напротив раскрывшейся щучьей пасти, полной острых кривых зубьев. – Жук-жук. Яшчэ какой жук! – подтвердила Акулина. – Жу-у-у-ук! Взметнулся длинный рыбий хвост – хлестнул угрожающе по воде, и Нинка рванулась вперед в ворохе брызг и комьев ила. Жигалов отшатнулся, закрывая лицо и напрочь забыв про банку, и тут почувствовал, как та выскальзывает из рук. Заметив это, зна́ток выпучил глаза и закричал: – Банку! Банку держи! Но, когда он сказал «держи», та уже коснулась пузатым боком плоского камня у самого берега. Раздался звон, дно банки отлетело, и наружу выкатился влажно поблескивающий не то клубок, не то мяч – не разглядеть, будто сквозь пальцы смотришь; тянулся за ним длинный тонкий шнур, как кишка или хвостик. Этот мяч прыгнул вправо, влево – Жигалов, как ни старался, не мог сфокусировать на нем взгляд. А потом оно все же остановилось. Больше всего чудо-юдо походило на кусок сырой печени или слипшийся моток свиной требухи. Но стоило присмотреться, как в едва заметных, проступающих сквозь склизкую оболочку чертах Жигалов разглядел скрюченные ручки-ножки и даже как будто головку. Вспомнилось, как их водили в музей судебной медицины – на зародышей в банках глядеть. И сейчас перед ним на траве перекатывался такой же зародыш. А шнур, выходит, пуповина. Стоило ему все это осмыслить, как шар издал жуткий, режущий слух визг, настолько громкий, что Жигалов даже уши заткнул. Нинка остановилась, с любопытством разглядывая собрата из Нави. – Это кто еще такой? Что за тварь? – заорал майор на ухо Демьяну, который споро отползал от суседки спиною вперед. Выхватил пистолет, направил на дрожавший и набухавший, как поднимающееся тесто, ком. – Того! Ховайся! Кровь бабскую почуял! Убери ты пукалку свою, не допоможет… А шар все набухал, раздавался в размерах, став сперва размером с теленка, а потом и со стог сена, и продолжал расти дальше. Он раскрывался, как кочан капусты; с чмоканьем отлипали ставшие теперь без надобности какие-то пленки и лохмотья. Вот прорезалась одна ручка, вот вторая – и над прудом теперь возвышался огромный уродливый зародыш – весь красный и кривой, недоношенный и отверженный. Заросшие кожаной пленкой темные глазища глядели с такой тоской и болью, что аж душу рвало и рыдать хотелось. Чудовищные ноздри раздувались, втягивая воздух. – Да кто это такой, знахарь? – шепнул Жигалов, завороженно разглядывая кошмарного гиганта. – Игоша. За домового мне был, – спокойно и как-то отстраненно отвечал зна́ток. – Он у мене под половицами обнаружился, да я и пригрел сдуру… Одна беда – як баб с месяками почует, дык святых выноси. Я даж Полкана натаскал, шоб их и на порог не пущал. А тут, бачь, Демидовна, можа быть, порезалась где или день у ней такой, женский, случился. Да и неважно ужо. – Почему? – Потому. Допрыгались. Зараз такое буде… Младенец наконец остановил свой взгляд на ведьме на той стороне пруда и гневно заревел – как может реветь только нерожденное дитя, которое лишили жизни. С деревьев сорвались птицы, мелкая живность – белки да мыши – рванулась прочь от пруда, даже жуки-плавунцы нырнули под воду, а водомерки заскользили куда подальше. Колонноподобная нога опустилась в воду, взбаламутила ил на дне, а вылезший из банки паскудник уверенно двинулся к занявшей чужое тело Акулине. Поперек игоше, оскалив зубья, устремилась Нинка-фараонка; она жужжала, что комбайн: – Жу-у-у-у-у-ук! Демьян шепнул Жигалову: – А теперь – деру! И оба рванули прочь от пруда, когда два чудовища сошлись в битве. Нинка напала первой. Распахнула широкую пасть – оттуда выкатился длинный синий мертвецкий язык, полезли наружу всякие улитки, насекомые, лягушки и мелкие караси. Те облепили зародыша, приклеились к блестящей коже. Фараонка издала яростный рев, вздыбилась на мелководье, демонстрируя растущий из задницы рыбий хвост. С ее блестящего чешуйчатого тела стекала вода, и в кровавом свете заката покойница даже казалась по-своему красивой. – Нина, бей его! Бей немца! – подначивала с другого берега Акулина. – Немец-немец, жук-жук-жук, – шипела Нинка, тараща белесые глаза и шлепая хвостом по воде. В противнике она видела лишь последнее воспоминание, предсмертный ужас – своего насильника. Все ее существо составляла одна лишь ненависть. Суседко хлопал себя по бокам, стряхивая водную живность – та, кажется, весьма ему досаждала. В чудовищном реве при желании можно было различить жалобные, почти человеческие возгласы: – Ма-а-ама… Ма-а-ама! Подобравшаяся ближе фараонка хищно цапнула его за бок, вырвала кусок мяса острыми, как наточенные пилы, зубами. Суседко взвыл и брыкнул лапой – от его удара Нинка отлетела в сторону, шлепнулась на воду. В месте удара на ее теле выступила черная кровь – навья, но тем не менее женская, и почуявший ее игоша тягостно завыл. И от этого принялся расти еще больше. Шагнул вперед, схватил фараонку, как дите куклу, и, напрягая бугрившиеся под прозрачной кожей мышцы, разорвал ее надвое, да так, что показались наружу рыбьи кости. Фараонка взвизгнула и вцепилась в державшие ее ручища зубами, принялась трепать, что бешеный пес. Теперь у игоши было два противника. – Эх ты, гэпэу на выезде, казал же табе: банку крепче держи, – шептал в кустах Демьян. – Слышь, знахарь, так чего делать-то теперь? Ждать, пока они друг дружку не укокошат? – Сам ты знахарь, заманал уже! Чаго ждать, они так до рассвету мутузиться будут. По́йдем в обход – ты слева, я справа. – Думаешь, сработает? – азартно спросил Жигалов, вновь выхватывая пистолет из кобуры. – Да убери ты пукалку свою! Тута другие законы робят… Ишь чаго удумал – навьих пулями пугать. Им твои пули побоку и в одно место. Тут як с бестелятами не прокатит… –Демьян задумчиво потеребил бороду. – В общем, так. У тебе махорка твоя кубинская осталась? – На, кури, – майор протянул пачку. – И думай скорее. – Да думаю… Усе мозги напряг, ты уж поверь, майор. Демьян зажег спичку, сложив ладони лодочкой. Они оба закурили, выглядывая из кустов в сторону развернувшегося у берега пруда побоища. Игоша будто с обидой отшвырнул обе половинки водной нечисти обратно в воду, те мгновенно слиплись, как два магнита, и Нинка вновь пошла в атаку. Она вставала на руки, елозя рыбьими хвостами и оскалившись так, что Жигалова передернуло. Суседко вырос уже до сосен и ничем не напоминал себя прежнего. Теперь он был вовсе не мелкий влажный колобок, едва уловимый для взгляда, а огромное и грозное чудище с невыразимо печальными глазами на перекошенном плачем личике. Он неумолимо пер вперед как танк, а Нинка вилась вокруг, выгрызая из его плоти целые куски и выплевывая их в воду. По ту сторону пруда покатывалась со смеху ставшая чужой, будто незнакомой Анна Демидовна. Жигалов сглотнул нервно, повернулся к знатку: – Ну чего ты там, надумал наконец? – Надумал… Знаешь шо? Дрянь твой табак кубинский, – Демьян затушил сигарету о ствол дерева, сунул окурок в карман по давней партизанской привычке, – не курится ни хрена… – Да не тяни уже! – На той берег нам треба, так? – рассуждал зна́ток. – И коли Акулина в Анютку вселилась, то нам треба того, выгнать ее, да? Ну, из тела Анюткиного? – Экзорцизм совершить! – вспомнил майор услышанное или прочитанное где-то иностранное слово. – Экзор… чаго? – Неважно. Продолжай. – Значит, я про такое слыхал. И обряд я тот знаю, плохо, правда – читал в одной… кхм… тетрадке ее раз, як беса из человека выгнать. Не ведаю, сработает ли с ведьмой, но она зараз такой же бес. Эх, был бы Сухощавый с нами… Ладно, руки в ноги и погнали: ты – по одному берегу, я – по другому! В клещи возьмем! И ты гэта, отвлекай ее, чем здолеешь, а посля Максимку хватай и вали куда глаза глядят, зразумел? А посля уж вертайся, мне подмоги треба буде. А я там уж с вашим зорцизмом сам разберусь, ты тольки не оплошай, майор. – Это уже дельно звучит, по-нашему, – оценил Жигалов и прямо из полуприседа рванулся направо, по тому берегу, где земля казалась посуше. Демьян, перехватив клюку, побежал налево – через самую топь. Вообще, ему, Жигалову, за последние дни стала так привычна происходившая в Задорье чертовщина, что он не обращал особого внимания на битву Нинки и суседки. Ну махается нечисть, эка невидаль? Он уже убедил себя в том, что вокруг него всего лишь сон, как и посоветовал недавно зна́ток. Потому относился к происходящим событиям с долей здорового цинизма. Ну светит днем в небе луна, и чего? Ну бегают телята-полубесы по деревне, и чего? Ну дерется русалка с домовым, и что теперь, лишнюю панику из-за этого устраивать? Лучше приспособиться и решать задачи по ходу дела, а думки думать, водку глушить да ночами от собственного крика просыпаться потом будешь, как послужишь на пользу всего советского народа. «К тому же на войне страшней бывало, – рассудил майор. – Куда тебе бояться, ты ж до Берлина дошел!» Но пистолет все же вытащил – деревянные щечки «пээма» в ладони придавали уверенности. С такими мыслями Жигалов бежал среди кустов, пригибаясь к самой земле и стараясь не глядеть в центр пруда, откуда доносились крики, визги да мясной гадкий хруст. А там происходила настоящая вакханалия. Жигалов уже обежал пруд наполовину и все-таки не удержался, выглянул наружу, раздвинув ветви осоки. Игоша преодолел полпути к Акулине, идти оставалось не так уж много: фараонка знатно пообгрызла образине ноги, но раны затягивались на глазах, обрастая набрякшим рубцовым салом. Фараонке тоже досталось – башка ее плавала отдельно и цеплялась зубами за игошины икры; тулово же висело у чудища на плечах и, обвив шею хвостом, крутило лысую младенческую головенку на все лады, да так, что теперь игоша смотрел себе за спину. – Чтоб меня слева-направо! – прошептал майор. Загребая воду толстыми, как бревна, ногами, игоша вброд шагал через пруд. Фараонка с визгом драла его шкуру, вниз валились лоскутья мяса, тут же отраставшего на теле бывшего суседки. Выпучив печальные глазища, он уже вполне явственно кричал: – Ма-а-ама! Майор поглядел направо. Анна Деми… тьфу ты, Акулина уже была неподалеку. Она криво ухмылялась, даже не глядя на приближавшегося игошу, огромного, размером с двухэтажный дом. Будто совсем не боялась такой страхолюдины. Максимка подле нее стоял все так же без движения, словно его парализовало. Чудовищная пята громадины уже была неподалеку. Акулина, словно только-только заметив игошу, зло крикнула: – Якая я тебе мама, малахольный? Тьфу на тебе, растудыть так и эдак. Сгинь! И махнула небрежно рукой, точно муху отгоняла. Резко остановившись, игоша завопил, и в такт ему заверещала вцепившаяся в его тело русалка. Гигантский паскудник содрогнулся, будто от пронзившей его внезапно боли, и громыхнул напоследок, уже неуверенно и робко: – Мама?.. И лопнул. Жигалов в первое мгновение даже не понял, что произошло, – его просто отшвырнуло назад взрывной волной. Уши заложило, как в окопе, майор грохнулся на спину, зарылся затылком во влажную почву, а рядом с хлюпаньем посыпались на землю куски окровавленной туши – вонючие, блестящие, с торчащими лохмотьями розового сала. Один из таких кусков упал прямо ему на грудь, и Жигалов с омерзением отпихнул его в сторону, увидев большой выпученный глаз. Тот тут же лопнул, вытек на землю красной слизью. Суседки не стало окончательно. Совсем рядышком в кусты шлепнулась облепленная мокрыми волосами голова фараонки. Она разевала рот, как выброшенная на берег рыба, и щелкала острыми зубами, откусывала ими стебли камыша. Шептала хищно: – Жуки-и-и… Все-е-ех утоплю! – Да пошла ты к черту! – заорал Жигалов, подскакивая. – Вали обратно в свое болото! И пнул голову, как заправский футболист, – зарядил ее щечкой в пруд. Булькнув, Нинка исчезла. Лишь разошлась вода над погрузившейся на дно русалочьей башкой. Совсем неподалеку мурлыкал ведьмин голос: – Ну где же ты, Демушка? Скольки тебе яшчэ ждать, милый ты мой, яхонтовый? Где ты, родной?..

Увидев, как легко, одним взмахом руки, Акулина расправилась с игошей, Максимка понял – в этот раз не сдюжат. «Вот и конец пришел, мабыть». По-прежнему не двигаясь с места, он расплакался – не от страха, а от обиды за суседку, от глупости всего происходящего и даже от жалости к Акулине, которая уж точно не заслужила мучений в Пекле. Уж он-то теперь знал всю историю, без Демьяновых недомолвок. Акулина оглянулась, услышав его всхлипывания, и улыбнулась грустно: – Ну ты чаго, малой? Не плакай, тебе худо не сделаю, чай не душегубица. Постой-ка тута. И отошла в сторону, вытянув шею и принюхиваясь, как собака – видимо, выискивая Демьяна. Раздвинув стебли камыша, ведьма пропала из виду. – Мать-перемать… – раздался за спиной знакомый голос. «Жигалов!» – догадался Максимка, который даже головы не мог повернуть. Он с трудом разлепил непослушные губы, прошептал: – Элем Глебович, вы? – Я! Слышь, Максимка, давай сюды, пока она там бродит. Тикаем! – Да не могу я… – Чего так? – Жигалов выбрался из кустов и показался в поле зрения мальчика. Майор был весь грязный, забрызганный игошиными ошметками и тиной, словно из колодца вылез. В его слипшихся от крови волосах явно прибавилось седины – бедному гэбисту пришлось многое пережить за последние сутки. Майор с опаской оглядывался в ту сторону, куда ушла ведьма. Стряхнул с уха ряску, поправил кобуру на поясе. – Драсьте, Элем Глебович… У мене руки-ноги не шевелятся. Не могу я тикать. – А чего так? – Майор присел на корточки перед Максимкой. – Заворожила тебя она, что ль? – Навродь того. Зубы двинуться не дают… – Эти, что ли? – и Жигалов легко сорвал с шеи гадкое ожерелье. Повертел в руках и сунул в карман – как вещдок, видать. Максимка выдохнул и едва не упал, лишившись пут своих же молочных зубов – настолько были напряжены его мышцы все это время. Жигалов подхватил его за пояс. – Э, пацан, ты чего? На ногах стой. – Дзякую, дядька… – Было б за что. Давай-ка я тебя уведу отсюда, – и Жигалов взял Максимку за плечо, намереваясь увести подальше. – Нет-нет! – тот замотал головой. – Никуды я не пойду! Она там дядьку Демьяна убьет! – Эт мы еще посмотрим, кто кого убьет! – Майор скрипнул зубами и посмотрел в ту сторону, куда ушла ведьма. – Да вы не разумеете! Вы ничего не разумеете! Есть его за что убить – он ее обманул тоды, на войне. – Обманул? – Да! – Максимка и не знал, как в двух словах объяснить все, что узнал от Акулины. – Демьян врал всем, не казал нам все, як было. Он правда должен Акулине! Нам туда треба, побалакать с ней, дядька! Пустите! И тут, выкрутившись из рук Жигалова, Максимка бросился в кусты – только его и видали. – Максим, стой! Да как же вы меня все достали! – простонал майор и, матюкнувшись, погнался следом.

Они встретились в зарослях осоки, недалеко от пруда. Под ногами хлюпала болотистая земля, из которой сапоги приходилось едва ли не выдергивать. Оглушительно стрекотали насекомые, вилось вокруг головы вездесущее комарье. Солнце падало за горизонт, и в его красных, угасавших лучах все кругом казалось потусторонним – будто Демьян вновь стал тем самым юным Демой, решившимся прогуляться в компании ведьмы ни много ни мало, а в самый Ад. Она вышла ему навстречу, вся растрепанная и грязная, непохожая ни на Анюту, ни на Акулину – одни лишь синие глаза светились знакомым холодом антарктического айсберга. Ведьма поправила юбку на чужом, взятом взаймы теле, и склонила голову набок. Оглядела знатка внимательно и даже как-то печально. – Вот и ты, Демушка. Давно не виделись… – Здравствуй, Акулина… Уж двадцать годов як… – в груди у Демьяна что-то екнуло, и разверзлась внутри страшная пропасть – он вспомнил разом все. И как драл зубы клещами, и как волок ее, мертвую, к мельнице, и как пытался утопить, разрубив легкие лопатой, и как поставил Нинку-фараонку хранить свою страшную тайну от чужих глаз. И как приходил сюда каждый год зачем-то, будто стараясь вину загладить… – Знал бы ты, скольки я пережила через тебе… Сколько мук на мою душу досталось, якими мене плетьми стегали, чего мене там, в Пекле, натерпеться пришлось. До сих пор приходится— бесы-то вон, со мной, на моем горбу, – кивнула себе за спину, на что-то видимое ей одной. – А ты чем занят был? Буренок врачевал? Порчу сымал да заговоры читал? На свиданки бегал? Демьян сглотнул тяжелый ком в горле. – Ты не знаешь, что там… – хрипло произнес он. – Там, на дне ямы. Ты не ведаешь, а я побачил тады. – Видала я ту яму, – отмахнулась Акулина, – яма як яма – все туды попадают. И трусы тоже. – Я не трус… – А кто ты, Демушка? Слово твое – кремень, да? – Акулина довольно оскалилась, облизнула чужие губы. – Должен ты мне, ой як должен! – Ничога я табе не должен! Ведьма! Нечистая! Дулю табе, а не долг! – крикнув это, Демьян угрожающе перехватил клюку. Акулина насмешливо изогнула бровь. – Повоевать решил? Ну давай. Поглядим, чему ты научился. Демьян с рыком рванулся вперед, но не прошел и шагу – ухнул, согнувшись, будто от невидимого удара под дых. Акулина же лишь волосами тряхнула, а потом дунула легонько, и зна́ток покатился по кочкам и камышам, как если б ураганом его несло. – Ты чаго гэта? – удивилась Акулина. – Не ожидал, шо ль? Ну вставай, я подожду. Демьян и правда с рычанием поднялся на ноги, потирая ушибленное плечо. Поплевал на ладони, закатал рукава и забубнил что-то быстро-быстро, выставив перед собой клюку, как щит: – Первое древо кипарисово, второе древо истина, третье древо вишнево, от воды и от потопу, от огня, от пламя, от лихого человека, от напрасной смерти… Акулина подпустила знатка к себе совсем близко, а потом как выматерилась, так страшно да гадко, что, казалось, было видно, как эти слова выпадают у нее изо рта, похожие на склизких ядовитых червей. Тут же Демьяна скрутило страшной судорогой – нога заплелась за ногу, рука – за голову, да так далеко, что зна́ток мог бы укусить себя за локоть, если б захотел, да только не до того: зубы сжались до скрипа – не разомкнуть. Глаза лезли из орбит, да так, что кровило в уголках; и даже, кажется, уши его сами собой выкрутились в какие-то неуклюжие вареники. От нестерпимой боли Демьян вновь рухнул наземь. Акулина аж опешила: – Ты чагой-то, простое уроченье удержать не здолел? Да Мирошка такими, поди, в сортир кажный день ходил, а ты… Акулина наклонилась к Демьяну, вгляделась в него, как в полураздавленное насекомое – а выглядел он немногим лучше: теперь его выгибало колесом, да так, что пятки уже касались затылка. Казалось, еще чуть-чуть, и хрустнет позвоночник. Ведьма принюхалась, присмотрелась, а после – расхохоталась так, что аж слезы брызнули из глаз; махнула рукой, и Демьяна попустило – перестало выкручивать дугой. Он пучил глаза и тяжело дышал. Акулина все не могла отсмеяться: – Ну, Дема, ну, удивил… зна́ток! Эх ты, коновал деревенский, целкой остаться решил, да? Не купился на Мытаревы уговоры, с пекельными не завязался? Думал, поди, что раз на небушко пустят, то ты вроде як и ни при делах, да? Я-то, дура, к Раздору на поклон… И Нинку, и чаго только ни… В туши мертвые залезала, шоб до тебя, дурня, достучаться; к Кравчуку этому як на работу ходила. А як я чертово семя добывала для Полищука и прочих – вспоминать-то гадко, тьфу! Зато ты чистенький остался, ангелочек! Акулина держалась за живот, сотрясаясь от издевательских смешков. Демьян уже поднялся на ноги и глядел теперь исподлобья на свою бывшую наставницу, молча гонял желваки. Та тоже посерьезнела, смахнула слезы. – Ладно, посмеялись и буде. Как говорится, долг платежом красен. Давай, Демушка, вот табе колечко – насилу сыскала, носи на здоровье, суженый ты мой ненаглядный. На левой поносишь! – Ведьма швырнула ржавую гайку в Демьяна, та ударилась ему в грудь и шлепнулась в грязь. – У нас же и свидетели были, не помнишь, поди? Муженек, мля! Дезертиры-дружки да вдовы безутешные, подружки. Не отвертишься, Демушка, примешь грех. – А як не приму? – Демьян зло сощурился. – Тоды чаго? Убьешь мене, шо ль? – Шоб ты потом, аки праведник, на небушко, а я тут с чертями на горбу, навечно? Ну уж нет, не пойдет. Тебя я не убью. А вот мальчонку… Зубья-то его я выменяла. Я хоть и не душегубица, но коли ты артачишься… Акулина вытянула перед собой руку, ухватила что-то невидимое и потянула – будто лошадь за уздечку. И Демьян не увидел, но явственно представил, как где-то здесь совсем недалеко, у пруда, рухнул наземь Максимка, захрипел, царапая ногтями стянутое проклятым ожерельем горло. Мелкие молочные зубки мстительно вгрызались в кадык своего бывшего хозяина, что так недальновидно передал их в собственность Пеклу. Демьян мог почти видеть, как на немытой шее выступила кровь, почти слышал, как мальчонка панически хватает ртом воздух, неспособный вдохнуть; ярко представил себе, как сознание совсем еще юного, едва пожившего, человечка угасает, и все из-за его, Демьяна, трусости. Макар Саныч, Полкан, теперь еще и Максимка… – Хватит! – возопил зна́ток. – Прекрати! Приму я грех, приму! Пацана тольки оставь, не виноватый он… – Конечно, нет, – покачала головой Акулина. – То мы с тобой согрешили, нам с тобой гэтот грех и носить. Я таскала, теперь и ты поноси. Акулина положила обе руки на живот, согнулась, будто в приступе тошноты, а когда выпрямилась, на руках ее ворочался уже знакомый младенец. Выглядел он совсем истощенным, высохшим. Местами морщинки потрескались и наружу выглядывало серое, будто вареное, мясо. По уродливому личику ползли язвы и рытвины. Выпученные глаза воспаленно и жадно глядели на отца. – Узнаёшь дитятко? Все в батьку – тоже к земле тянет. Демьян простер руки, и младенчик перекатился, плюхнулся ему на ладони; знатка аж согнуло от нездешней, иномирной тяжести. Уродливое создание протянуло кривенькие ручонки к отцу, обняло за шею, прильнуло всем своим стылым да морщинистым телом. Дыхание замерло на мгновение, сердце пропустило удар. Окоченевшая плоть уродца прошла сквозь реберную клетку, обхватила холодными, как у лягухи, лапами легкие и свернулась клубком где-то в нутряке, сдавив грудь обручем. Демьяна пригнуло к земле, точно кто ему на спину угромоздил цельную гирю; пришлось всерьез опереться на клюку – теперь уж не притворяясь. Акулина же, напротив, распрямила плечи, выдохнула, улыбнулась легко да беззаботно – впервые с той проклятой ночи договора с Раздором. Оттаяли синие айсберги в очах, потекли ручейками по щекам. Ведьма всплеснула руками – уже совсем не театрально, – прижала ладони к щекам. – Ой, мамочки! Господи, прости! Господи! Слышишь? Могу! Произнесла! Прости мене, Господи! – Она истово закрестилась: троеперстие летало по кругу – лоб, пуп, плечо правое да левое. – Ох, мамочки! Да что ж я за гадюка такая! Что ж я натворила-то! Аллочка, Кравчук, Макарка… Что ж со мной стало-то? Совсем от души ничего не осталось, ошметки одни. А сейчас вот хоть вздохнула впервые, очи подняла, свет увидела… Она бросила долгий взгляд на розовую кромку садившегося за частокол сосен солнца. Выдохнула: – Красиво-то як… Я же света белого, считай, и не бачила. Глаза откроешь – тьма египетская да ряска болотная, закроешь – огнь-пламя кругом, и я одна совсем, тольки черти куражатся. И так мне погано было, до того тошно… И ведь ни конца ни края нет, волком взвоешь. А там, окромя волка, от тебя и не остается ничего… Ох, прости, Господи! Простите меня все! – гаркнула Акулина на всю округу, опустила заплаканные глаза на Демьяна – тот тяжело дышал, царапал грудь, свыкаясь с новой ношей. – И ты, Демушка, меня прости… Не хотела я, чтоб так все… – Хлопца моего отпусти, – прохрипел тот, морщась – видать, грех еще ворочался под сердцем, устраиваясь поудобнее. – Да-да, Демушка, отпущу… – Ведьма дернула рукой в воздухе, и посыпались наземь взявшиеся из ниоткуда Максимкины молочные зубы. – И он мене пусть простит. Не со зла я… Хотя чаго уж там, со зла, конечно. Ох и зла я была, Демушка, на тебе, да на всех вас, что ходите живые да счастливые, а я там – в мутной воде, да в огне пекельном. Но не злюсь я больше, Демушка. Прощаю я. И ты меня прости. Простишь? Она подошла к знатку, разведя руки для объятия. Посмотрела на него с мольбой, произнесла одними губами: «Простишь?» И Демьян, крякнув, облапил крепкими своими ручищами двух женщин, которых любил, – истерзанную душу одной в теле другой. Прижал к себе что есть силы, так что едва не затрещали ребра Анны Демидовны, да сам не сдержал слез, тоже разнюнился. – А что, Демушка, – шепнула Акулина, – победили мы? – Победили-победили, – пробурчал он смущенно. – Значит, можа, и не зря все было? – Можа, и не зря… – Прости меня, Демушка, прости… Вдыхая аромат «Красной Москвы», которой пользовалась Анна Демидовна, Демьян не мог не заметить и терпкий, горьковатый аромат лесных трав – так всегда пахло от Акулины. Не нарочно (а может, и нет) губами он коснулся тонкой белой шеи. Провел пальцами по щеке Акулины. Так и есть – холодная. Отстранился, вглядевшись в синие, как море-океан, глазища, и аж зубами скрипнул. По краям белков темнели малюсенькие треугольные пятнышки – будто мошки налипли. Мертвенная прель. Так оно завсегда бывает у покойников, когда глаза подсыхать начинают. И как он сразу-то не распознал… Она же только в трупы вселялась… Демьян стоял, вперив невидящий взгляд куда-то сквозь мертвые глаза Анны Демидовны, будто пытаясь углядеть в палой синеве Акулину; руки его так сжали ее предплечья, что того и гляди треснут хрупкие женские косточки, а та ничего, не дернется, будто не замечает. Оно и понятно – мертвые плотской боли не ведают. Сама Акулина тоже застыла в замешательстве, будто пытаясь прочесть по лицу Демьяна, что у того творится на душе. Наконец спросила, не выдержав напряжения: – Ну что, прощаешь, Демушка? – Прощаю, – задушенно прохрипел тот, разомкнул объятия. Подхватил с земли клюку, размахнулся и всадил тяжелую рукоять прямо в висок Акулины, да так, что щепки полетели. Кривой околотыш оставил глубокую вмятину в черепе; Акулина только и успела, что-то взвизгнуть, а Демьян, не теряя запала, вновь взмахнул клюкой и следующим ударом своротил ей челюсть. Третий пришелся в шею, отчего ведьма рухнула, как подрубленная. Откуда-то доносились крики – поди разбери чьи, но Демьян не слушал, а колотил со всей дури по лицу двух женщин, которых любил, – одну, убившую вторую и овладевшую ее телом. В ушах звенело от нахлынувшей крови, под сердцем ворочался и едва ли не приплясывал их с Акулиной грех, а в клюке злорадно хохотал заточённый в ней Вереселень. Демьян колотил и колотил, пока мышцы не налились свинцом, а голова Анны Демидовны не превратилась в бесформенную лепешку со слипшимися от крови волосами. Лишь тогда, выронив клюку и упав на колени перед измочаленным трупом, он услышал наконец за спиной: – Стой, сука! Последнее предупреждение! Иначе стреляю! Обернулся. В лицо ему смотрело черное дуло «пээма», а выше – мертвенно-бледное лицо Жигалова; бесцветные губы поджаты до того сильно, что превратились в тонкую щелочку. – О, гэпэу, долго ж ты… А я… А я, э-э-э… – Губы не шевелились, словно их сковало мертвенным холодом. Их держало проклятие, перекочевавшее под сердце, не давало вымолвить ни слова. По затылку прилетело тяжелой рукоятью Макарова. Перед глазами поплыло, во рту стало солоно от крови – Демьян прикусил язык. – Пасть закрой! Руки за спину! За спину! Носком сапога майор отбросил клюку в сторону и тут же скривился от отвращения. Демьян попытался сказать, едва ворочая языком, слово пьяный: – Ты чаго, майор, она ж… – Заткнись! Замолкни, паскуда! – Жигалов сорвался на крик, завозился одной рукой с поясом, снимая ремень. – Ты, сука, у меня в лагерях сгниешь! На самые дальние севера уедешь, где солнце месяцами не светит. Ты у меня, собака… – Як же так, дядька… – раздалось неподалеку. Зна́ток покрутил головой в поисках источника звука. Не сразу удалось сфокусироваться на маленькой фигурке на соседней кочке. Максимка. Он стоял неподвижный, глаза что царские рубли. Ученик глядел на Демьяна, как на чужого – будто и не признавал. По мальчишеским щекам текли слезы, оставляя светлые дорожки на грязном лице. – Як же ж ты… Она же… – Максимка, она ж… уже… – Демьян едва лепетал непослушными, ставшими будто чужими губами, да и договорить ему не дали; майоров сапог толкнул его в спину, так что он уткнулся лицом в грязь. Завозился майор, перехватывая ремнем запястья. Жигалов наклонился к знатку, прошипел, едва сдерживая ярость: – Гражданин Климов, вы обвиняетесь в убийстве гражданки Гринюк Анны Демидовны. Сопротивление бесполезно. Судьбу вашу решит советский суд. Лежи, сука, не дергайся! В голове у Демьяна шумело от ударов, все плыло и мельтешило – зеленые кочки, черная грязь, багровая лепешка, в которую превратилась голова Анюты. Застыла маленькая фигурка в отдалении. С испуганными, полными непонимания и ужаса, детскими еще глазенками. Под сердцем довольно ворочался чудовищный младенчик, кажется, теперь потяжелевший на еще один грех; а в ушах эхом звенело: – Як же так, дядько… А он не мог вымолвить ни слова в свое оправдание – проклятие, угнездившееся под сердцем, не позволяло говорить за себя. Злой Жигалов уселся рядом, закурил сигарету, отвернувшись от Демьяна. Максимка так и стоял, неверяще глядя на знатка и повторяя: – Як же так, дядько… За что вы ее?..

Первого сентября была хорошая погода, только вот лица кругом хмурые. Люди не могли отойти от произошедшего в Задорье светопреставления, ходили как пришибленные, дежурно пытались друг другу улыбаться. В поселковом клубе накрепко засели гэбисты, по очереди дергавшие на допрос то одного, то другого селянина. На выезде из Задорья стояли вооруженные солдаты, разворачивали всех, кто пытался выехать, с кратким – «до выяснения обстоятельств». Выпустили только одну роженицу в роддом в райцентр, и то в сопровождении пары солдатиков. Жигалов на все вопросы отмахивался – говорил, мол, скоро оцепление снимут, а пока сидите и не вякайте. Максимка его видел всего пару раз после того, как арестованного Демьяна забрал приехавший «воронок». Так что пришлось Максимке съехать в хату к мамке и опостылевшему Свириду. Отчим его больше не третировал, вообще не обращал внимания. Знал, что теперь и Максимка знаткой, оттого даже сторонился пасынка. Впрочем, когда пришли на линейку первого сентября, Свирид по-отцовски взъерошил ему волосы грубой рукой и прошептал на ухо, склонившись: – Демьяну-то твоему, кажут, червонец светит минимум. – Ну и пусть! Знать его не хочу, – отреагировал мальчик, скидывая лапу Свирида, а тот хохотнул: – Усе? Прошла любовь, завяли помидоры? Училку-то он правда грохнул? – Кривда! – Не лезь к нему! – вступилась мать. – Максим, иди, того самого, учись. У тебе два урока сёдня, литература и математика. После того как девятиклассник пронес на плече второклассницу с колокольчиком по двору школы – младше в Задорье никого не нашлось, Максимка нехотя поплелся в вестибюль. Учиться всякой скукотище вроде «найдите икс» или читать наизусть «у Лукоморья дуб зеленый» желания не было никакого. То ли дело уроки Демьяна – какая травка хворь лечит или каким словом палявика задобрить… Он невольно скрипнул зубами, отгоняя непрошеные мысли. Не было для него больше никакого Демьяна! Остальные ученики тоже его сторонились – слухи по поселку расходятся быстро, все знали, как Максимка провел лето. Никакого сочинения писать не надо. На Губаревича оглядывались, шептались. Он нервно поправлял пионерский галстук, стараясь ни на кого не глядеть. На входе встретили фотографии в рамках с черной лентой в уголке – Анны Демидовны с грустной улыбкой, вечно веселого Макара Саныча, еще нескольких погибших. И цветы – цветов покойникам в этом году принесли больше, чем учителям. Тут и полевые всякие – васильки, ромашки, фиалки; и даже розы да пионы затесались, видать, кто-то из домашнего сада принес. Максимка подумал, что дарить мертвецам цветы – к беде, но не стал никому говорить. Хватит с них обрядов да поверий – на жизнь вперед насмотрелись. Все полученные за лето знания он предпочел затолкать ногами куда поглубже на задворки памяти, чтоб забылись совсем. К черту эту знаткость! К черту их всех – и Демьяна, и Акулину эту, и Жигалова тоже туда, в Пекло, следом за ними. С кислым лицом Максимка вошел в кабинет литературы, занял место за последней партой у окна. Одноклассники рассаживались, но будто нарочно подальше от Максимки, сторонились его. В итоге вокруг его парты образовалось пустое пространство, словно он вшивый какой. Максимка вытащил из портфеля учебник литературы за шестой класс, открыл на случайной странице и угрюмо уставился в него, не видя расплывавшихся перед глазами букв. Вошедший учитель кашлянул, привлекая внимание. Потер руку, перевязанную бинтом, и сказал: – Здравствуйте, ребята! Класс встал, приветствуя учителя. Тот продолжил: – Садитесь-садитесь. Вы меня все хорошо знаете, я буду Петр Афанасьевич Землянин. Я вообще в колхозе роблю, но покуль побуду у вас учителем на замену. У вас сегодня по расписанию стоял урок немецкого, но ваша учительница, Гринюк Анна Демидовна, трагически скончалась. А Марья Николаевна, учитель литературы, приболела. Я пока вместо нее, так что… Кхм… Почтим память Анны Демидовны минутой молчания и начнем учиться, да? Ученики опустили глаза, сложили руки на партах, застыли неподвижно. Еще один портрет Анны Демидовны стоял в углу, тоже весь обложенный цветами – на увеличенной фотокарточке она была запечатлена где-то в Минске, стояла, улыбаясь, на фоне памятника Ленину. Держала в руках томик Гейне, вся такая летняя и легкая, в одном из своих модных платьиц, которые всегда шила сама. Максимка подумал, какая же она была красивая, а потом невольно вздрогнул, вспомнив хруст, с которым клюка Демьяна пробила ей череп. Он увидел, как наяву, лепешку изуродованного женского лица. Ее, бедную, и похоронили-то в закрытом гробу. Вновь кашлянув, учитель на замену сказал: – Кхм! Думаю, достаточно, – класс ожил, зашевелился, выдохнул. – А теперь давайте вспомним про классика ранней советской литературы, а именно про великого революционного поэта Сергея Александровича Есенина. Кхм… Прежде чем мы поговорим о его биографии, позвольте вам для начала зачитать мое любимое стихотворение из его творчества. Кхм… Вот, в общем. Откройте учебники на седьмой странице! Читая по тетради, учитель взялся громко, на весь класс, декламировать стихотворение, от слов которого Максимка вжался в сиденье, пригнул голову, будто кто на него замахнулся. «Почему именно этот стих? Нешто у Есенина других нема?» Петр Афанасьевич вдохновенно читал:
До свиданья, мой друг, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Отпущение
Поздно ночью у Максима Петровича прихватило сердце. Такого ни разу раньше не случалось. Для своих лет здоровье у него было богатырское. Другие-то после пятидесяти уже и по врачам ходить начинают, и таблеточки пить, и с алкоголем завязывают – только рюмку по праздникам, а он здоров как бык, подкову голыми руками гнет. Шутка ли – вырос в деревне, спортом занимался, никогда не выпивал особо, разве что махорку курил – и то самосад один. Наоборот, еще всех вокруг лечить успевал чаями да травками. Но тут сердечко прихватило так, что хоть вешайся, чтоб не мучиться. Киловяз сразу понял – неспроста. То не сердечко шалит, то весточку кто-то присылает. Да только от кого б ему такую весточку получить? Разве что… Максим Петрович встал с кровати, прошагал на кухню, яростно массируя грудину. Залез в аптечку, а там бинты одни. Не привык он болеть, а уж тем паче лекарствами лечиться. Нашел насилу какой-то древний блистер нитроглицерина. И откуда взялся? Принял пару таблеток, запил водой и уперся ладонями в подоконник, шумно дыша и глядя на неусыпные огни ночной Москвы через окно. Огромный город мерцал, искрился и с высоты семнадцатого этажа элитного жилого комплекса казался звездной россыпью Млечного Пути. А вот над ним, в заболоченном испарениями небе, звезд и не видать почти. Нигде он их так ясно не наблюдал, кроме как в Задорье. Там выйдешь ночью, поднимешь голову, а небо как в алмазах. А тут хмарь, тучи да дымные клубы от местной ТЭЦ. Вспомнив родные, любимые с детства места, Максим Петрович едва не прослезился, но вместо того горько усмехнулся. «Стареешь, хлопчик. Становишься сентиментальным». И вообще начал он за собой замечать какую-то внутреннюю мягкость и жалостливость, как в детстве, чего по неясной для себя причине страшно стеснялся и старался никому не показывать. Даже новой ученице. Из соседней комнаты раздался сонный девичий голос: – Дед, ты чего вскочил? Не спится? – Этот дед, малая, табе зараз жопу намылит. И не посмотрю, что несовершеннолетняя! – гаркнул за спину Максим Петрович. Убедившись, что ученица вернулась в постель, подхватил с полочки у холодильника записную книжку. Вернулся в свою комнату, сел на кровать и взялся перелистывать слипшиеся страницы. Записная книжка была старая, аж за далекий 1993 год. Аккуратно разлинованная и с буковками на корешке, чтоб легче искать. Многих, чьи номера содержала книга, уже давно нет в живых. Некоторые номера были записаны настолько давно, что синяя паста выцвела и на бумаге оставался только рельеф. Но одна страница под литерой «К» постоянно обновлялась. Короткие домашние номера сменяли мудреные мобильные, вилял «собачьим» хвостиком адрес электронной почты. Включив прикроватную лампу, Максим Петрович хищно нацелился пальцем на последний номер в списке и набрал его на мобильном телефоне. Убедившись, что звонок прошел, он прислонил сотовый к единственному, правому уху. Спустя пять гудков отозвался полусонный женский голос: – Вы на часы смотрели? Два часа ночи, а я… – Мария Демьяновна? Я по поводу Демьяна Григорьевича звоню… Голос в трубке явно взбодрился, отозвался настороженно: – Вы из центра? Что-то с отцом? На фоне в трубке заорал младенец. Кто-то недовольно проворчал: «Не могла в другую комнату уйти? Полночи укладывали…» – Из центра? Какого… Нет-нет, извините за поздний звонок… Я старый, гм, знакомый вашего отца, Губаревич моя фамилия, Максим Петрович. Может, он что-то рассказывал… – Губаревич… Как вы сказали, Максим Петро… Так вы Максимка? Тот самый Максимка? В груди будто ухнуло; киловяз проглотил горький ком воспоминаний, и тот осел на сердце тяжелым грузом. «Все ж рассказывал, значит!» Склонившись над прикроватной тумбочкой, Максим Петрович сдавленно прошептал в трубку: – Да, гэта я буду. – А вы и говорите даже так, по-белорусски! «Гэта» вместо «это»! – Да, прорывается изредка… Так что там с Демьяном… Григорьевичем, жив он? – Да, вот буквально на днях мы его… заселили в центр «Долголетие». Там ему и компания подходящая, и уход… – Уход, значит, – поморщился киловяз. – Ну да… – голос в трубке будто смутился. – У нас же маленький родился, да еще, знаете, беспокойный такой, все орет и орет, а тут еще папа со своими обрядами… – Беспокойный, говорите? А чего так? Зубки режутся? – Куда там, еще не начали! Вообще, странное дело, – женщине явно давно хотелось перед кем-то выговориться, – в угол смотрит и орет, как будто видит там чего. Мы уже думали попа звать… – Попа-то? Дело хорошее – попа. – Киловяз сдержал смешок. Сам подумал: «Передалось все-таки. Значит, через поколение. Тоже знатким будет». – А вы чего, собственно, звонили? – голос стал недовольным, будто смешок каким-то чудом все же уловил. – Я-то? Да я… – Максим Петрович замялся сперва, но ухватился за нить в разговоре. – Есть у меня совет один, чтоб сынишка, значит, по ночам не надрывался. – А вы что, врач? – недоверчиво спросили. – Врач-врач, – соврал он не моргнув. Тем более, что и не совсем соврал. – Вы на кухне меду поищите. – Меду? – Меду-меду, самого обыкновенного меду. Только смотрите, чтоб натуральный был, пчелиный, не какая-нибудь дрянь сахарная. – Та-а-ак, и? – И на веки ему намажьте, чуть-чуть совсем, только не склейте смотрите. – Подсказка решала лишь полдела, но озвучить вторую Максим Петрович не решался – еще примет за сумасшедшего или трубку бросит. Потом плюнул – черт с ним, скажу! – А в угол тот выматеритесь хорошенько так, от души. Чтоб аж стены тряслись. Да швырните туда чем-нибудь потяжелее… – Куда «швырните», мы только-только ремонт закончили! – Ну или шкаф туда какой поставьте, я не знаю. И кроватку от того места отверните. Оно еще юное, глупое, из-за шкафа не выберется. – Кто «оно»? Вы о чем? Что вы за врач такой? – наконец прорвало говорившую. – И зачем вы вообще звоните в два час… – Мария Демьяновна, извините ради бога, простите старого дурака. Просьба у меня крохотная. Вы мне адресок этого вашего дома престарелых… – Не дом престарелых, а центр-пансионат «Долголетие». – Вот-вот, «Долголетие»… Вы мне адресок не подскажете? Очень с ним увидеться хочу, вы знаете, соскучился, сил нет… Еще минуту пообщавшись с разбуженной Марией Демьяновной, Максим Петрович все же добыл адрес – вывел карандашом на последней странице записной книжки, еще раз извинился и положил трубку. Младенец на фоне продолжал орать. «Интересно, послушается?» – подумал киловяз. Крикса-то невелика беда – пощекочет, покусает да отстанет, а как наестся, то не вредней комара. То ли дело, когда младенчик ее сам наблюдает – не повредилось бы чего в головушке с испугу. Оставалось лишь надеяться, что Мария Демьяновна воспользуется его советом. Максим Петрович вернулся на кухню, поставил вариться кофе в турке. Подошел к двери в комнату ученицы. Крякнул с досадой – дорогая итальянская дверь из мореного дуба была покрыта плакатами с тремя шестерками, пентаграммами и неотличимыми друг от друга коллективами музыкальных групп: все в шипах, в коже, с размалеванными лицами и едва читабельными логотипами. Иногда Максим Петрович развлекался, пытаясь распознать в этой черканой кусачей вязи буквы. В этот раз ему поддался достаточно простецкий логотип Dimmu Borgir. Грозные металлюги хмурились с плаката, выставив квадратные подбородки. «Эх, детишки, знали бы вы, какое оно, настоящее Пекло, полны портки б напрудили». Завершив этот небольшой ритуал, Максим Петрович саданул кулаком в дверь, прямо по морде вокалиста: – Мелкая, подъем! Труба зовет! – Дед, прими че-нить от бессонницы, а? – недовольно простонали из-за двери. – Ты время видал? – Наше время, рабочее. – Максим Петрович бесцеремонно ворвался в комнату, включил свет. Под одеялом кто-то недовольно закопошился. Киловяз пнул горку одежды у кровати – опять свинарник развела. – Как там у тебя? «По темным улицам летит Ночной Дозор…» – Фу! Я такое не слушаю! А до завтра никак? – Никак. Пять минут на сборы тебе! Если уложишься в три – получишь кофе. – Да что случилось-то? – из-под одеяла наконец показалась растрепанная девичья голова, щурилась недовольно из-под черной крашеной, с красными кончиками, челки. – Человек один умер, – буркнул Максим Петрович. – Хороший? Киловяз промолчал – не было на этот вопрос правильного ответа.
Губы Полина докрашивала уже в машине – в неизменный черный. Максим Петрович пару раз резко притормаживал, и ученице приходилось все начинать сначала. Раньше его это забавляло, но теперь он делал это больше по привычке, нежели из баловства: мысли Максима Петровича одолевали мрачные, тяжелые, как вериги. Полина что-то возмущенно выговаривала, то и дело косилась на учителя: – …ни свет ни заря, в какую-то жопу непонятно зачем. Ну умер у тебя друг, а до завтра никак не подождать? Не уйдет же он уже никуда. И вообще, я… – Ась? – гаркнул в ответ Максим Петрович на всю машину. – Не слышу! И указал пальцем на уродливую, в венце из келоидных шрамов, дырку, заменявшую ему левое ухо. – Я говорю, поднял ни свет ни заря… – повысила голос Полина, но киловяз продолжал мотать головой – не слышу, мол. – Я ж только правым могу! – орал Максим Петрович на всю машину, старательно изображая слабослышащего. – Так на хрена ж ты на «японце» ездишь, пень глухой? – пробурчала ученица. – Да вот за тем самым! – на этот раз удивительно впопад ответил киловяз. Ученица насупилась, дальше ехали молча. «Ленд Крузер» подъехал к забору с шлагбаумом. Через окошко будки виднелась сгорбленная фигура охранника, который то ли читал что, то ли сканворд разгадывал. Максим Петрович безошибочно отыскал во рту языком единственный настоящий свой зуб – остальные заменила дорогущая металлокерамика, – цвиркнул им, будто собак спускал, и тут же охранник вскочил с места и вскоре, держась за живот, поспешил неловкой походкой к главному корпусу. – А что ж, у них там туалета нет? Неудобно получилось… – смутился Максим Петрович, скомандовал Полине: – Поди, шлагбаум подыми. – Подь туды, подь сюды… А если там второй? – Ну чары свои примени! – Какие чары? Тоже килу поносную наслать? Так ты не учил… – Дура! Какую килу? Женские чары! – и киловяз кивнул туда, где под пентаграммами и перевернутыми крестами на цепочках пряталась плоская подростковая еще грудь. Полина обиженно запыхтела, но вылезла. Вскоре шлагбаум пополз вверх, ученица вернулась в машину. Остановились напротив белевшего колоннами крыльца; Максим Петрович заглушил двигатель. – Ты это… в машине посиди, хошь – книжку почитай или музыку включи свою, только негромко, а я пока… – Что «пока»? А на хрена было вообще меня поднимать? – возмутилась ученица. – Шоб не расслаблялась. Наше время – оно после заката, надо всегда начеку быть. А то разневолились зусим, знаткие. – Чего-о-о? – Того! Зачины учи, дитя ночи. И вылез наружу. Через входную дверь Максим Петрович прошел легко – благо разрыв-трава росла прямо в клумбе у крыльца. Шмыгнул в тень неслышно, огляделся – второго охранника не было, вот и славно. Втянул носом воздух. Пахло здесь гадко, какой-то дрянью, одной – знакомой, другой – чужой, местной, раскормленной. А еще смердело смертью. Все три дорожки вели к неприметному подвалу под лестницей. Навесной замок висел на открытой дужке. Максим Петрович вошел. Это оказалось самое обычное техническое помещение. В темноте, в переплетении труб и котлов, он не сразу увидел Демьяна. Тот лежал неподвижный – явно мертвый, а изо рта у него лезла какая-то каша из жеваной бумаги, темного ружейного масла, стреляных гильз и прочей трудноразличимой дряни. Максим Петрович сделал было шаг к бывшему учителю, как бросилось к нему что-то хвостатое, чешуйчатое, обвилось вокруг тела, сдавило кольцами, будто удав. Но киловяз не дрогнул – улыбнулся даже, как старому знакомому. – Вереселень, дурань, совсем страхпотерял? Максим Петрович дернул плечами, сбрасывая злобного духа, будто какую-то ветошь, – тот, почуяв сильного соперника, отполз в угол, зашипел угрожающе: – Удуш-ш-шу? – но как-то даже неуверенно, с вопросительной интонацией. – Удушишь, абавязко́ва удушишь. Тольки паздней, – присутствия одного лишь тела бывшего наставника оказалось достаточно, чтобы в речи прорезалась позабытая трасянка. – А зараз – до дому! Ну-кась! Максим Петрович прикусил последним настоящим зубом язык и плюнул кровавой слюной прямо в поганую рожу навия. Тот завизжал, забился, принялся метаться по подвалу, но с каждым движением оказывался все ближе к переломленной надвое клюке, покуда не растворился в ней целиком. Клюка задрожала, заплясала на полу, но удержала вредного духа. Киловяз поднял две половинки, приложил одну к другой. – Добрая вещица. Изолентой починю – яшчэ послужишь. Вереселень засквернословил так, что уши едва не вяли. Максим Петрович поспешил бросить остатки клюки с заточенным в ней паскудником. Еще один прятался где-то поблизости, но не показывался – чуял силу незваного гостя. Его Максим Петрович вытащил из переплетения труб в углу, как кутенка, тряхнул – тот только жалобно перебирал бесчисленными пальчиками. – Ну и ты – вон отседа! И затряс его в воздухе, точно тот был не больше пушинки. С каждым движением руки в уродце оставалось все меньше плоти – та опадала наземь жирным серым пеплом. Наконец, Максим Петрович стряхнул последние ошметки с ладони. Стряхнул все, оставшееся от грозной твари, что приспособилась питаться немощными стариками. Затем осторожно переступил через труп какого-то тучного мужика в белом халате. Тот явно был задушен: язык его вывалился наружу, на шее синела полоска от веревки. Киловяз приблизился к Демьяну, присел на корточки. – Ну, здорова, дядька. Демьян не ответил. Его исполненный му́ки взгляд вперился в бывшего ученика. Изо рта у него все лезла и лезла всякая дрянь – простокваша вперемешку с сукровицей, тетрадные листки, пережеванная тушенка. И даже неведомо как затесавшаяся в эту мешанину карта – шестерка пик. – Да-а-а, бачу, ты времени не терял, – причмокнул Максимка. – Что, тяжек оказался грех? А за ним и прочие потягнулися, да? Ты кивни хоть, что слышишь. Не можешь? А шо ты нынче можешь… Максим Петрович поморщился, потеребил пальцем в дырке, оставшейся от уха. Сплюнул в сторону уже обыкновенной, прозрачной слюной. – Шо, дядька Демьян, долг платежом, кажут, красен? Вот, вертаю долг. Да не ерзай, не буду я тебе зубы рвать! Ты мою судьбу переписал, и, стал быть, мой пришел черед твою немного облегчить… Ну, иди сюда, маленький! Максим Петрович занес руку над грудью Демьяна, замер, будто в нерешительности, а потом, зажмурившись, коснулся мертвого колдуна голой ладонью. Тут же из солнечного сплетения Демьяна высунулась пухлая младенческая ручка, ухватилась за край кашемирового шарфа на шее Максима Петровича, вытянула уродливое тело наружу. За прошедшие с тех пор годы гадкий младенец раздался, разжирел; дряблые складки свисали с боков, а морда распухла так, что дитя греха более всего походило на выловленного утопленника. Один глаз заплыл совсем, потерялся где-то на распухшем лице, а второй – выпученный – смотрел сыто, осоловело. – Эк ты вырос-то! – крякнул Максим Петрович, когда неподъемная тяжесть сомкнула ручонки на его шее, подтянулась и вошла в грудную клетку, стала его частью, обвив собой сердце. Дышать стало тяжело. Киловяз выпрямился, но не полностью; хотел вдохнуть полной грудью, но закашлялся – тяжелы грехи. Вновь наклонился к Демьяну. Тот силился что-то сказать, но поток изо рта никак не прекращался. Максим Петрович отмахнулся – молчи уж. – Ну что, мож, оставить тебя здесь долеживать, а? – немного издевательски ухмыльнулся киловяз. – Или, скажешь, не заслужил? Акулина-то твоя лежала стольки годов, и ты полежишь, а? По Демьяновой щеке скатилась слеза – он и сам понимал, что заслужил побольше прочих. – Ой, тольки давай без этого. Не мальчонка ужо, не разжалобишь. Ладно… Максим Петрович поднял голову, осмотрел помещение, вздохнул с досадой. – Да уж, крышу тут не разберешь… На улицу тебе тягнуть— засыпемся. Хрен с ним, ведаю я одну методу. Считай, ту же крышу разобрать, тольки мороки меньше… Максим Петрович уселся Демьяну на грудь, постаравшись не влезть брюками в лужу рвоты, взялся за голову бывшего учителя, наклонил к себе теменем. – Вот честное слово, только лишь потому, что мне и без того забот хватает, кроме как очередного еретника по всему Подмосковью гонять… Нащупав пальцами на голове Демьяна темя, Максим Петрович изо всех сил напряг могучие руки, надавил пальцами в самый центр – туда, где должен был находиться мизерный, с ноготь мизинца, родничок, который у знатких не зарастал окончательно до самой старости. Побежала по рукам теплая еще кровь, ноготь проколол кожу, воткнулся в мягкие ткани. Кряхтя, Максим Петрович кое-как втиснул палец в отверстие и принялся расшатывать кости черепа, погружая пальцы все глубже в Демьянов родничок. Наконец раздался страшный хруст, треск, и череп бывшего учителя лопнул, как орех, выставив напоказ беззащитный, мертвый уже мозг. Отдуваясь, Максим Петрович поднялся на ноги, отряхнул с брюк гадкое папье-маше, которое изрыгал Демьян; достал бумажный платочек и обстоятельно, даже брезгливо, вытер руки – каждый палец, еще и под ногтями уголком провел. Бросил салфетку наземь и, неожиданно, низко в пол поклонился – как в старых фильмах про бояр и крестьян. – Покойся, дядька, с миром. Иди, куды тебе там положено… В машину Максим Петрович вернулся в тягостном молчании, сел на водительское сиденье и уставился перед собой. Достал новую салфетку и принялся вновь маниакально тереть руки. Потом, будто только вспомнил, вынул из-под полы пальто две половинки клюки и швырнул на заднее сиденье. Полина отложила книжку, заинтересовалась: – А это что? – Не чапа́й! – осадил ее Максим Петрович. – Че? – Не трожь, говорю! – Ну и пожалуйста, больно надо… И как? – Чего «как»? – Как прошло? С человеком этим… Что с ним? – Все с ним. Попрощался. Киловяз бросил взгляд на книгу Полины. – Гэта у тебя вместо зачинов? «Ночной дозор»? Ну вот, а говорила, не слушаешь… – То другое, а это книга, – Полина обиженно засунула книжку в сумку. – Херня это все, – подытожил Максим Петрович, заводя двигатель. – Темные, Светлые… Оно на самом-то деле зусим по-другому… И «Ленд Крузер» выехал с территории пансионата. Над лесополосой робко алело рассветное зарево.

Демьян не сразу понял, где очутился. Без бушевавшей в нем битвы пекельный кратер казался еще более громадным и бесконечно пустым. Давно уже осели пороховые газы, запеклась пролившаяся кровь, отгремело эхо взрывов и выстрелов. Даже неугасимые пекельные огни превратились в один лишь чадящий едкий дым. Вокруг не было ни души. Та страшная яма, что терзала его душу в ночных кошмарах, оказалась совсем близко, в дюжине шагов. Теперь она выглядела самой обыкновенной дырой – будто для сортира рыли. Разве что поглубже. Демьян все же побоялся подходить ближе – вытянув шею, пытался углядеть, что же там внутри; что же такое его напугало многие годы назад, но – черным-черно, сколько ни смотри. Вдруг он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Обернулся, выдохнул удивленно: – Акулина… Она выглядела ровно такой, какой он ее запомнил в день их последней встречи – когда Акулина была еще жива. Черные волосы, белая кожа, тонкая талия и бездонная синь лукавых глаз. – Здравствуй, Дема. Акулина коснулась его щеки ладонью – и на глазах у Демьяна выступили слезы. Он стоял, не находя слов. Вместо по-настоящему важного в голову лезли всякие глупости. Кое-как Демьян выдавил: – Где усе-то? – А они, Демушка, уже все мытарства прошли и отправились, кому куда положено. Кто на небушко, а кто… Он все понял и без слов, лишь обернулся вновь на яму за спиной. Спросил: – А ты что ж? – Тебя ждала. Акулина притянула его к себе, обняла – как обнимала в тот первый раз, доверив ему свое настоящее имя. Шепнула: – Ну что, пойдем, Демушка? Пора нам… Нужных слов не нашлось, и он просто кивнул. И, взявшись за руки, старый мертвый зна́ток и погибшая до сроку вечно юная ведьма зашагали к яме. Высоко вверху над усеянным костями кратером висел никем не замеченный Раздор. Конечности его заржавели, печи его сердец давно остыли, а вгнившие в плоть трупы предателей и дезертиров истлели в прах. Впереди были новые войны, вновь загорятся огни в домнах, вновь полетят бомбы, пули и снаряды, но сейчас эта страшная громадина оставалась неподвижна, и лишь внимательные глаза, рассеянные по тулову древнего черта, следили за этими двумя. Громкоговорители молчали, пока бич рода людского наблюдал за окончанием очередной маленькой истории, подсмотренной у человечества. Раздор едва слышно вздохнул всей огромной тушей, в плоть которой вросли и древние каменные топоры, и бронзовые мечи, и деревянные луки, и дула танков – все то, чем люди истребляли друг друга. Какой-то мизерной, невесомой частью своей сущности – огрызком того человеческого, что в нем оставалось, – Раздор ощутил нечто, что можно было бы назвать легкой грустью. Если бы он, конечно, был способен ее испытывать. Двое знатких сделали последний шаг и исчезли, растворившись в небытии.
Герман Шендеров, Сергей Тарасов. Мюнхен – Иркутск, 2023 год
Герман Михайлович Шендеров Из бездны
© Герман Шендеров, текст, 2024 © ООО «Издательство АСТ», 2024Конец «Юности»

Когда мне исполнилось пять лет, родители разменяли с доплатой однушку на двухкомнатную квартиру в девятиэтажке. Перловка как район, прямо скажем, была так себе – к нашему балкону жались двухэтажные бараки, у подъездов которых собиралась местная пьянь. Под окнами располагалась котельная, из нее по ночам раздавались пьяные крики, хохот и стоны. На веранде во дворе нередко находили измазанные клеем пакеты, а в ржавой «ракете» всегда было насрано. Сразу за бараками – большой рынок, куда мама ходила за продуктами и где рыскали стаи тощих дворняг. Родители предостерегали, мол, они переносят бешенство. К рынку примыкала железная дорога, а вдоль шла грязная аллея, где меж деревьев возникали стихийные свалки. По ту сторону железки стояло несколько цыганских домов, и нам строго запрещалось гулять там: говорили, что цыгане воруют детей, отрезают им руки-ноги, ослепляют и заставляют побираться. Рассказывали, что цыгане гипнотизируют детей, чтобы те выносили из дома всякие ценности или вовсе отдавали ключи; рассказывали, что полноватые матроны в юбках могут угостить конфетой «Коровка» со спрятанным внутри лезвием или осколком стекла. И, конечно же, любимой легендой о цыганах была та, про «первую дозу», которую предлагают всем желающим бесплатно, чтобы потом подсадить на героин. Детей-побирушек я на районе ни разу не видел, а вот стариков, наркоманов и бомжей хватало. Помню, меня сильно впечатлила нищенка, ковырявшая язву на ноге. Мама быстро утащила меня за руку прочь и прикрыла мне глаза ладонью, но я успел увидеть – или, скорее, нафантазировать, – как старуха собирает опарышей из язвы и поедает горстями, будто плов. С первого дня в детском саду я подружился с двумя братьями – Серегой и Женькой Бажановыми. Женька – мелкий и борзый как хорек, Серега – на год старше, высокий и рыжий, но оба одинаково вороватые и себе на уме. Я подозревал, что у братьев разные отцы, но мне никогда не хватало духу спросить. Именно Бажановы ввели меня в «мальчишеский» мир девяностых. Научили лазить по помойкам и стройкам в поисках чего-нибудь ценного или интересного: сломанных игрушек, трансформаторных «ешек», резинок для рогаток. Особенно ценной добычей были сотки, на которые потом можно было выиграть еще больше соток себе в коллекцию. Они же научили меня правилам игры, когда нужно было до броска предупредить, что играем «без часточка» (это когда одним ударом переворачиваешь все) или «без подкрутки» (это когда последнюю сотку прижимаешь к поверхности пальцем, и та переворачивается). Сколько своих «кэпсов» с покемонами я проиграл братьям из-за изобретенных на ходу правил – не счесть. Научили разжигать костры, в которые потом было весело бросать шифер и баллоны из-под аэрозоля. Однажды такой баллон улетел Женьке в голову, и с тех пор он заикался. Когда нас раскидало по разным школам – Бажановы пошли в пятую общеобразовательную, а я – в гимназию через Яузу, – мы все равно сохранили дружбу. По вечерам собирались на нашей веранде – во дворе братьев детской площадки не было, только столбы с бельевыми веревками и стол, за которым собирались алкаши. Была в Перловке и еще одна школа – так называемая тринашка, окруженная бетонным забором. Ею меня пугали родители, когда я приносил трояки. Мол, переведут сюда, если буду плохо учиться. «Тринашка» была коррекционной, и обучались там воспитанники интернатов для детей с отклонениями. На территории школы росли яблоки, и мы с Бажановыми частенько залезали на забор – нарвать кислой антоновки и попялиться в окна. Иногда удавалось застать инвалидов за занятиями. Честно скажу, в первый раз я ожидал чего-то вроде цирка уродов – безногие, безрукие и слепые дети сидят, пускают слюни и старательно рисуют слонов. Так говорил мой отец про тринадцатую школу: мол, по очереди слона на доске рисуют. Заглянув в окно, я, однако, ни уродов, ни слонов на доске не увидел. За партами сидели не больше десятка самых обычных детей. Ну ладно, не совсем обычных. Стоило присмотреться, как в глаза бросались открытые рты, блуждающие взгляды, дерганые движения. Кто-то ковырялся в носу, кто-то ритмично кивал. Сидящий на задней парте толстый парень в очках обернулся в окно, заметил меня и неуверенно помахал. Из носа у него плотным ручьем шла кровь, но тот ее будто не замечал и кротко улыбался. Крупный, на вид уже взрослый дядька, из-за густой щетины, жирных прыщей на щеках и маленьких глазенок за толстыми линзами очков он походил на прямоходящего хряка. Из вежливости я помахал в ответ, и хряк расцвел, как розовый бутон. Нас троих, меня и Бажановых, объединяло одно – истовая любовь ко всему страшному, пугающему и мрачному. Когда солнце пряталось за крышами панелек и бараков, воздух наполнялся комариным писком, а малышню забирали с площадки, мы усаживались в веранде и принимались травить страшилки. Роли делили поровну: Женька обожал выдумывать разнообразных чудовищ, демонов и призраков, Серега же подгонял под них какое-нибудь реальное место или событие. Позже, когда мы расходились по домам, включался и мой особый талант: все рассказанное я старательно зарисовывал, обогащал деталями, раскрашивал и на следующий день показывал Бажановым. Те в один голос твердили: – Да, точно так оно и выглядело! Первым делом Бажановы рассказали мне о храме Донской иконы Божьей Матери и даже сводили на пожарище. Храм возвели в конце девятнадцатого века, а к тридцатому году коммунисты снесли его до основания и построили на том же месте жилой двухэтажный барак. Саму икону, говорят, кто-то припрятал в подполе. Буквально за год до нашего переезда в Перловку барак посреди ночи загорелся. Первым делом осыпались лестницы, люди выпрыгивали из окон, некоторые задохнулись в темных деревянных коридорах, часть оказались погребены под обвалившейся крышей. Многие из выживших твердили в один голос, что видели раскаленную добела огненную Богородицу, которая водила руками по бревнам, и те вспыхивали, как бумага. – Это она коммунистам отомстила, – объяснял Женька. Он тогда еще не заикался. – Говорят, если той иконе в глаза посмотреть – тоже сгоришь. Еще была легенда о том, что в одной из знаменитых перловских дач заживо похоронили колдуна. Мол, чекисты побоялись переступить порог, чтобы поставить к стенке поганую контру, и просто заколотили дом наглухо, запретив местным приближаться. Бажановы сводили меня и туда – у Перловского пруда действительно стояла изба со старательно забитыми окнами и дверьми. За три четверти века дом подперли гаражи, сверху угрюмо склонились многоэтажки, забор покрыли неряшливые граффити, а сам «дом колдуна» со временем обветшал, но никак не изменился, будто отпугивал одним лишь видом застройщиков и вандалов. Ходили слухи, что душа старика, не найдя выхода, так и осталась там и ночью можно услышать жуткий, полный надрывного страдания вой. Мы по очереди перебрались через покосившийся забор, спрыгнули в траву, пригнулись. Осторожно подкрались к двери, на которой висел ржавый навесной замок. – С-слушай, – шепнул Женька. – Только в щель не смотри, а то он тебя з-заметит. Несколько минут ничего не происходило, и я уже собирался высмеять эту «бабкину сказку», как вдруг на грани слышимости раздался далекий обиженный рев. Бажановы тоже изменились в лице, и мы наперегонки рванули к забору, опасаясь гнева мертвого колдуна. Сейчас я понимаю, что это был просто искаженный расстоянием гудок электрички – железная дорога пролегала метрах в двухстах, не больше. Пруд, кстати, тоже оброс разнообразными слухами. В нем никто не купался – грязь с близлежащей дороги сливалась в воду, так что летом пруд поблескивал маслянистым бензиновым отливом. Бажановы же ходили сюда рыбачить. В основном таскали бычка и пескариков – для забавы и подкормить уличных кошек. В школе на занятиях по краеведению рассказывали, что когда-то граф Перлов, в честь которого Перловка и получила свое название, разводил здесь декоративных карпов. Видимо, какой-то отголосок той эпохи остался в пруду, залег под илом на дне, чтобы пробудиться в самое неспокойное для страны время, когда заголовки вроде «Сом-людоед терроризирует Поволжье» были в порядке вещей. Эта легенда звучала столь же сомнительно, сколь и абсурдно, но рассказывали ее во всех окрестных дворах. Начиналось обычно так: «Как-то раз один пацан – знакомый знакомого – сбежал ночью из дома на пруд ловить рыбу. Насадил он червя, забросил крючок и сидит, ждет. Вдруг видит – в камышах что-то шевелится. Глянул проверить, а там – баба голая». Когда рассказывали эту историю, обязательно в подробностях расписывали грудь, уточняли, выбрит ли лобок, сравнивали с какой-нибудь актрисой. Серега вспоминал Ким Бейсингер из «Девяти с половиной недель», который мы смотрели тайком от родителей, без звука и стояли по очереди на шухере. Если рассказывали девчонки, то говорили: «Точь-в-точь Наталья Орейро». «И вот сидит она такая в воде и пацана зовет, манит. „Помоги, – говорит, – выбраться“. Он руку протягивает, в глаза глядит, а глаза – мертвые, без зрачков. Баба хватается и тянет, рот у нее распахивается шире и шире, как рыбья пасть. И заглатывает пацану руку!» Или ногу – кто как рассказывает. Серега, старший из нас, обожал скабрезности, поэтому в его версии парню откусывали член. Словом, героя этой истории едва не проглотили заживо, но фараонку-людоеда спугнула проезжавшая мимо машина. А пацан с тех пор «такой». Говоря «такой», обычно крутят пальцем у виска. Женька же изобрел еще более изящный финал. На мой восьмой день рождения мама отвезла нас в «Макдоналдс» в центре Мытищ. И на обратном пути, проходя мимо Владимирской церкви, Женька ткнул меня в бок и кивнул в сторону храма: – В-видишь, там мужик бе-ез руки сидит? Действительно, на паперти сидел заросший, как медведь, бомж и демонстративно баюкал культю. – Так в-вот, это т-тот пацан.
Не обошлось в детском фольклоре того времени и без бандитов. Они чудились нам везде – в соседях, в чернявых продавцах на рынке; в угрюмых парнях, что тусовались в подвальных качалках и пили пиво во дворах. Но, в отличие от остальных персонажей, бандиты были вполне реальны. Например, у Насти Жульченко из моего класса, когда той было три года, перловские убили маму. Настина мама работала в ларьке-бытовке на Шараповке – это был соседний район, за Мытищинским парком. Приехали молодчики на черном джипе, подошли к ларьку, попросили пачку сигарет. Когда мама девочки нагнулась к окошку, выстрелили ей в лицо. Шли бандитские разборки, ларек оказался на «чужой» территории. А Настя осталась дома одна и четыре дня питалась подсолнечным маслом с сухими макаронами, прежде чем хозяин ларька обнаружил тело. На летней жаре в металлической бытовке труп разбух и разложился до состояния полужидкого киселя. Вычистить это оказалось нереально. Так все и оставили, вместе с испорченными продуктами внутри, заперев на замок. Товар потом, само собой, растащили, а ларек остался стоять. Женька клялся, что, если ночью прийти к бытовке и попросить сигарет, призрак из ларька затащит тебя через окошко внутрь и убьет. А вот если принести старую купюру достоинством в сто рублей – получишь целую коробку «Сникерса» или «Марса», потому что призрак не знает об инфляции и торгует по старым ценам. Главное, не глядеть при этом в окошко. А вот история вполне реальная, и ее рассказывал Бажановым уже я, разумеется, приправив жуткими подробностями. Подобные ей всплывали то в одном, то в другом городе, и родители предостерегали: не разговаривай с незнакомцами, не садись в чужие машины, дверь никому не открывай. В девяносто седьмом в нашем городе пропали шесть мальчишек моего возраста и один студент Кооперативного. Всех их в последний раз видели у Тайнинской платформы. Там, сразу за железнодорожной станцией, стоят ряды частных домов, огороженных высокими заборами. Через них пролегает кратчайший путь к ДК «Яуза». Почти все пропавшие возвращались оттуда с занятий или из кружков. Милиция перетрясла педагогов, прошерстила поселок, но не нашла никаких зацепок. Только к весне, когда после сильного ливня река подмыла береговую линию, из-под забора крайнего в линии участка выплыли детские останки. Владельцем оказался Семен Николаевич Мазурин пятидесяти четырех лет, слесарь-заводчанин, прозванный прессой Маменькиным Сынком. На допросах Мазурин признался, что встречал мальчишек у калитки и просил помочь усадить больную маму в машину. Едва жертва оказывалась во дворе, Мазурин бил ее по затылку молотком и уносил в подвал. Там делил на две части – верхнюю потрошил, прокручивал через мясорубку и кормил котлетами из человечины страдающую от деменции мать. Говорил, что маме нужно мясо, а зарплату задерживают. А все, что ниже пояса, он упаковывал в целлофан и несколько дней спал с этим, покрывая анус и гениталии поцелуями. Когда Мазурина спросили, почему он не скармливал матери и нижнюю часть, ведь там больше мяса, тот ответил, что это «зашквар». Моя гимназия была там же, поблизости, и, когда дело Маменькиного Сынка прогремело на всю округу, я стал заливисто врать, что ходил в школу именно этим маршрутом и постоянно встречал Мазурина, возящегося во дворе со своим «жигуленком». – Иду я как-то раз со школы – мама должна была меня забрать к шести, а продленку отменили. Ну не сидеть же мне там, – говорю, – прохожу мимо, вижу его, кричу: «Здрасте, дядь Семен!», а он под машиной во дворе лежит и говорит оттуда: зайди, мол, подай молоток. – А т-т-ты?.. – выдохнул Женька. – А что я? Зашел, подал. Он спасибо сказал. Он же под машиной – быстро не вылезет, убежать успею, – смело брехал я. – Зачем ему под машиной молоток? – с сомнением спросил Серега. – А я откуда знаю? Забить что-нибудь… Были легенды и о приставках. В каждом дворе имелся пацан, владеющий игрой, в которой «можно все – убивать, грабить банки, баб насиловать, на тачках гонять, картинка, как в фильмах, и все оружие в мире». Само собой, этой игры никто никогда, включая владельца, в глаза не видел. Подобное вранье было частью этикета. Как рыбаки хвастаются «во-о-от такой щукой», так и пацанва во дворе придумывала видеоигры одну круче другой. Однако была и другая легенда – о «красном картридже». История всегда начиналась по-разному: одни говорили, что это – тайный проект СССР, другие, что картридж – часть секретного плана Японии по захвату мира. Серега божился, что на него записали сатанинские заклинания в двоичной кодировке. Добыть картридж можно было ночью на кладбище – прийти одному к детской могиле и предложить ее обитателю поиграть в приставку. Картридж отличался цветом: все остальные были зеленые в оранжевой пластиковой защите, а этот – голая красная микросхема. Названия записанной на ней игры за годы существования легенды никто так и не придумал. Зато говорили, что идет она на любой приставке – плевать, «Денди» или «Сега». Чтобы сыграть в красный картридж, требовалось закрыть двери, занавесить окна и подключить два джойстика. Один следовало взять себе, а второй – закинуть под кровать, за спину или, если не хватает провода, накрыть одеялом – лишь бы не видеть. Жанр игры варьировался в зависимости от рассказчика – это был либо платформер типа «Марио», либо файтинг, как «Мортал Комбат». Но в остальном рассказчики хранили единодушие: в игре все было красное, кругом огонь, пещеры и черти. Главный персонаж оказывался твоей пиксельной копией, а «второй игрок» всегда тебе противостоял. Смотреть на него не дозволялось, потому что… Обычно добавляли что-нибудь вроде «умрешь от страха» или «сойдешь с ума». С момента запуска красного картриджа не позволялось прерывать игру, ставить на паузу или ходить в туалет, ведь «второй игрок» ждать не будет. Чтобы освободиться от красного картриджа, следовало с первого раза, без проигрышей, пройти игру до конца, и тогда «второй игрок» исполнял любое желание. Если же нет… – Тогда д-душу п-проигрываешь, – заканчивал Женька. Техника – и телевизор, в частности, – вообще породила массу легенд. Пока родители вкалывали на работе, мы были предоставлены сами себе, и телевизор с видеомагнитофоном становились одним из немногих развлечений, если, допустим, никто не хотел гулять или ты пропускал школу по болезни. Мы смотрели диснеевские мультфильмы в жутком гнусавом переводе, какое-то провалившееся в зарубежном прокате детское кино, да и вообще все подряд, вплоть до «Кошмаров на улице Вязов» и «Молчания ягнят». Весь мой двор Серега научил искать «тайную кассету», которая обязательно была у родителей – высоко на антресолях либо на дне ящика с бельем. Так, кстати, будучи у кого-то в гостях, Бажановы нередко под предлогом поисков кассеты находили родительские заначки и утаскивали купюру-другую. Иногда «тайную кассету» удавалось обнаружить, но содержимое редко соответствовало ожиданиям: обычно вместо запретной «клубнички» на пленке оказывались семейные кинохроники. Бажановы говорили, что находили какие-то совершенно дикие вещи: как на видео мужик целуется с козлом взасос и чешет ему под пузом. Или как голая девушка сладострастно скачет на лице мертвеца. Тогда я им не поверил, ведь еще не знал о существовании фильма Буттгерайта «Некромантик». Про найденные у родителей кассеты ходило много слухов, и был даже своеобразный мальчишеский «грааль» – мультфильм «как Сейлор Мун, только все голые и трахаются». Ходила среди нас и байка-предупреждение о том, что нельзя щелкать по пустым каналам, иначе можно дощелкаться до минус первого, где в облаках белого шума и помех обитают загадочные «они». Про «них» было мало что известно, но говорили, что встречи с ними заканчиваются плачевно. Якобы детей находили скрюченными, с выпученными глазами и открытым ртом напротив телевизора, передающего белый шум. А когда телевизор выключали, шипение статики не пропадало, потому что раздавалось из глоток несчастных. Часто после подобных историй я не мог уснуть, ворочался в кровати, потом вскакивал и бежал к своему столу. Дело было не в страхе. Все, о чем я мог думать, – что же видели персонажи этих баек прежде, чем встретить свой бесславный конец? В попытках представить эту неописанную деталь – «второго игрока», лицо мертвой продавщицы в ларьке, очи пламенной Богородицы и загадочных обитателей телепомех – я мог перепортить с десяток альбомных листов. Все неудачные попытки отправлялись в урну. А удачных у меня не было. В каждом штрихе сквозила фальшь, ведь я никогда в жизни не смотрел в глаза злу. Даже история про Мазурина была ложью – и это делало мои рисунки пустышкой. В глубине души, в тайне от себя самого, я страстно желал столкнуться с чем-то подобным, чтобы наконец понять, что есть ужас и что ждет героев в конце всех страшных историй. И одним августовским вечером девяносто девятого мне выдался шанс исполнить это желание. За день до этого Женька с Серегой, вызвонив меня по домофону, начали утро с очередной байки: – П-прикинь, в «Юности» по воскресеньям ночью к-кино крутят. Для деб-билов из «тринашки». Старый советский кинотеатр «Юность» находился сразу за тринадцатой школой, белел известковой поганкой посреди неухоженного сквера. Когда-то, наверное, это было достойным образцом советской архитектуры, и отец даже рассказывал, как он, будучи таким же пацаном, набирал полные карманы кислой антоновки и проскальзывал мимо билетерши на индийские фильмы и «Неуловимых мстителей». Но к началу девяностых этот осколок сталинской эпохи превратился в мрачную развалюху. Двери исписаны всякой пошлятиной, колонны изъязвлены червоточинами сигаретных бычков, угол здания осыпался и превратился в гору щебня. Женька настаивал на своем, а Серега поддакивал слишком высоким для его дюжего телосложения голосом: – Я тебе клянусь! Мы со старшаками в школу лазили, я с забора сам видел, как их училки шеренгой заводят. – Не училки, а воспиталки. – Ну, воспиталки, похрен. Ты мне что, не веришь? Я был уже стреляный воробей: – Сердцем матери поклянись! Обычно после такого сурового требования любые байки теряли в достоверности – рассказчик тушевался и не был готов отвечать «за базар». Но тут Серега решительно проговорил: – Клянусь сердцем матери! – Руки покажи! – потребовал я. Если скрестить пальцы, то клясться можно чем угодно. Но Серегины пальцы были демонстративно растопырены. – Теперь веришь? – Ну, крутят, и что? Мало ли, мож, какие-то лечебные… – А п-прикинь, им за вредность что-нибудь попокруче показывают? Какие-нибудь бо-оевики или для взрослых… – мечтательно протянул Женька. – За вредность молоко дают. – Ну, з-за инвалидность. Жалеют, короче. Тебе ваще н-неинтересно? Честно – меня тогда эта мысль не зацепила совсем. Фильмы и фильмы – у отца такая коллекция кассет, что я, наверное, за всю жизнь все не посмотрю. А вот Бажановы загорелись. Может быть, потому, что у них-то как раз не то что кассет – своего видика не было. – Короч-че, у нас мамка на с-смене завтра в ночь. Я ду-умаю, если мы в-в шеренгу к дебилам вк-клинимся – сможем пройти на-а сеанс. – А батя? – Батя… – Серега хмыкнул. – Насрать ему. Ты-то как выберешься? – Я? К приглашению я был не готов. Честно говоря, вся эта затея казалась мне глупой и опасной. Что будет, если нас поймают? Хорошо если просто выгонят с пинками. А если сдадут в детскую комнату милиции? – Я пас. – Я ж говорил, з-з-зассыт, – кивнул Женька. – Давай, п-проспорил. Серега со вздохом извлек из кармана пятнадцать рублей пятирублевыми монетами, ссыпал в подставленную руку. После с укором взглянул на меня: – Ладно, ссыкло. Ты тогда оставайся дома под маминой юбкой, а мы пойдем кино смотреть. Каким бы я ни был трусоватым, я легко велся на манипуляции. – Во сколько? – В девять начало. Поздно. Вряд ли меня выпустят в такое время. Что ж, если нет – это уже будет не моя вина и никто не назовет меня ссыклом. – Я спрошу у родителей. – Т-тупой, что ли? Тебя не п-пустят. Смотри, я все продумал. – Женька горячо затараторил, почти перестав заикаться. – Сегодня вечером наша мама п-позвонит твоей и скажет, что ты завтра ночуешь у нас. Типа, поиграем в п-приставку, и все такое. А завтра вечером ты придешь к нам, позвонишь своим, скажешь, что все нормально. Потом все вместе – к «тринашке». – Ага. И что я скажу, когда вернусь посреди ночи? – Зачем посреди ночи? К нам пойдешь, до утра посидишь. Бате похер – хоть табун приводи. Ну, забились? – Забились, – обреченно кивнул я, понимая, что попал. Вечером того же дня раздался звонок. Мама взяла трубку, защебетала: – Да, да, конечно. Без проблем. Пускай поиграют. К половине девятого? Хорошо. Что собрать с собой? Ну, спасибо тебе, разгрузила, а то сама знаешь… Договорились. Все, пока! Положив трубку, она спросила: – А чего ты не сказал, что Бажановы позвали тебя с ночевкой? – Забыл, – мрачно ответил я. Спалось мне в ту ночь гадко. Я просыпался, вертелся, сбрасывал одеяло и снова натягивал, мучаясь то от липкой жары, то от лихорадочной дрожи. Снилось, что я сижу в зрительном зале, а «дебилы», пуская слюни и сопли, смотрят на экран, где красотка елозит тем самым местом по мертвому сгнившему лицу. А потом это место оказывается вросшим в ее живот карпом, глодающим мягкие полуистлевшие щеки. Я кричу, и «дебилы» поворачиваются ко мне, открывают рты, а из них раздается оглушительный шум телестатики. Весь день я провел, как перед казнью. Ночные кошмары не развеялись, а переросли в навязчивую полуденную тревогу. Любимые вещи не приносили радости – вафли «Куку-руку» казались не слаще картона, электронный писк приставки раздражал. Даже когда начался «Дисней-клуб» с его «Утиными историями», я мог думать лишь о кинотеатре «Юность» и фильмах, которые там идут по ночам. В голове вертелось четкое осознание: то, что там показывают, – неправильное, неестественное, злое. Перед глазами мелькали картины перекрученных, извращенных сюжетов: как Хома Брут, страшный, выпучив пустые и сверкающие, как у Вия, глаза, гоняется по церкви за панночкой в исполнении Натальи Варлей. Как Ким Бейсингер из «Девяти с половиной недель» медленно опускается на колени перед Микки Рурком и вгрызается ему в живот; по-собачьи треплет из стороны в сторону, вытягивает кишки. Как мертвенно-бледный Сталин в последний раз затягивается трубкой и выпускает пулю из чекистского маузера себе в висок, а за окном его кабинета виднеется Спасская башня, на которую, словно на здание Рейхстага, устанавливают огромный красный стяг с черным пауком свастики посередине. К вечеру я был совсем измотан и выглядел настолько болезненно, что мама даже спросила, все ли в порядке и не стоит ли мне остаться дома. Я соврал, что все хорошо. Лучше разок потерпеть, чем прослыть ссыклом на весь район. Как было условлено, в восемь я отправился к Бажановым, а в полдевятого позвонил домой. В гостях у братьев я бывал нечасто и в очередной раз отметил, насколько те бедно живут: старая мебель чем-то заляпана, на полу батарея пустых бутылок, в квартире витают неистребимые запахи вареной капусты и табака. В закрытой комнате громко работал телевизор, его кто-то перекрикивал. – Опять батя с Ельциным ссорится, – пояснил Женька. – Погнали. План был таков: на заднем дворе «тринашки» перелезть через забор по приспособленному для этих целей мусорному контейнеру. Осторожно пройдя под окнами, добраться до угла фасада и вклиниться в толпу, пока «дебилов» собирают в шеренги. Потом вместе со всеми войти в кинотеатр. – А если будут проверять по фамилиям? – От-тзовемся за кого-нибудь, кто будет т-тормозить. Они ж де-е-ебилы! Но меня беспокоило другое – вряд ли после сеанса им дадут разбрестись кто куда. Скорее всего, подгонят автобус, чтобы отвезти в интернат, и хорошо если удастся сбежать раньше, ведь, насколько я слышал, выбраться из этого заведения ой как непросто. – А как мы потом свалим? – Я там окошко наметил, – ответил Серега. – Без решетки. С улицы не забраться – высоко, а наружу в самый раз. – Ноги переломаем… – А ты, когда прыгаешь, – группируйся. Контраргументы и пути к отступлению закончились. Пришлось идти к «тринашке». Летняя жара спала, но солнце не спешило садиться и даже к девяти вечера еще пробивалось золотистыми, переходящими в розовый лучами. По контейнеру я без труда забрался на забор. А вот прыгать на лысый, усыпанный окурками и битым стеклом газон застремался. Еле-еле спустился по другой стороне забора, ободрав коленки. Братья Бажановы, как настоящие десантники, ловко приземлились на ноги, спружинив коленями для амортизации. Окна школы еще светились, но в классах уже было пусто. Женька приложил палец к губам: – Уже собираются. Идем. Мы шмыгнули через кусты к углу фасада, и действительно – «дебилы» разбредались беспорядочной толпой, топтали клумбы, возбужденно мычали. Их было человек пятьдесят минимум – похоже, на сеансы собирали все классы. Две воспиталки срывали голоса, собирая стадо в шеренгу. – Сейчас! – Серега толкнул меня в спину, и я вывалился из кустов, приземлившись на разодранное колено; зашипел от боли. – Нет, ты погляди, они еще и поубиваться решили! – всплеснула руками полная воспиталка с обвисшим недовольным лицом. – А мне потом отвечать? А ну иди сюда! Быстро, кому сказала! Сердце заколотилось. Я натянул на лицо маску парализованного безразличия и нарочито неловко зашагал на зов. – А вы там чего в кустах? Клей нюхаете? Я вам! А ну-ка наружу! Братья Бажановы последовали примеру, даже немного переусердствовав, – вывалили языки на всю длину и обслюнявили подбородки. На пути к воспиталке Серега настолько натурально спотыкался, что едва не растянулся на асфальте. – Встали в шеренгу и разбились по парам, быстро! Женька с Серегой тут же слиплись, будто сиамские близнецы. Я же, растерявшись, завертелся на месте и вдруг почувствовал, как мою ладонь стиснула чья-то влажная пухлая рука. Закатное солнце закрыла тень, блеснули линзы очков. За руку меня держал тот самый хряк. На его верхней губе подсыхала кровавая корка. Вблизи он оказался еще огромнее, чуть ли не в два раза выше меня. От толстяка кисло воняло потом и прогорклым салом. Бажановы, оглядываясь на меня, откровенно потешались и корчили рожи; шептали ерунду вроде: «Теперь можете поцеловать невесту». – Всех собрала? – спросила тощая, как швабра, женщина с резким истеричным голосом. – Фух, сейчас, Надежда Васильевна, по списку сверимся. Такая морока каждую неделю… – Некогда сверяться. Опаздываем уже. Кого собрала, тех и поведем, – отрезала вторая воспиталка. Или заведующая – кто их разберет? – За мной шаго-о-ом марш! – скомандовала «обвисшая», и нестройная шеренга зашагала вслед ее колыхающимся под летним платьем телесам. «Швабра» шла замыкающей. – Ну вот, а т-ты ссал! – шепнул Женька за спину. Желудок скрутило едкой судорогой. «Ссать» я не перестал. Громадень, державший меня за руку, то и дело опускал взгляд мне на макушку и расплывался в благодушной улыбке. Промямлил, будто сквозь кашу: – Как тебя зовут? Я представился. – Первый раз в кино? Я на всякий случай кивнул. – Не иди, – доверительно сообщил он. В моих внутренностях крутанулись холодные жернова, сжали сердце зубцами. – Почему? Хряк лишь пожал плечами. Мои попытки добиться хоть какого-либо вразумительного ответа ничего не дали. Вскоре, розовые в закатном солнце, перед нами выросли колонны кинотеатра. Лепнина на фасаде скрошилась, и теперь рисунок напоминал бесформенный клубок червей. Перед входом «обвисшая» остановила шеренгу. Вперед вышла «швабра»: – Так. Новичков среди нас вроде нет, так что напоминаю: все, что на экране, – понарошку, ненастоящее. Просто смотрим и запоминаем. Смотреть надо до конца, из зала не выходим. В туалет сходили? Шеренга невпопад закивала. Я кивнул тоже. – Тогда начинаем. Вестибюля в кинотеатре не было – лишь небольшой закуток с пустующей билетной кассой. А по центру – врата в кинозал. Почему-то при взгляде на них мне пришло в голову именно слово «врата». Язык не поворачивался назвать этот темный зев и две внушительные, обшитые жестью створки дверьми. Парами нас запустили внутрь и принялись рассаживать. Кинозал выглядел обшарпанным и убогим – пыльные старые кресла, от одного взгляда на которые хотелось чихнуть; серое полотно во всю стену с дырой у нижнего края. Наклон у зала отсутствовал, поэтому хряка, Серегу, а за компанию и меня отправили на задний ряд. Женьку же – самого низкого из нашей троицы – посадили перед экраном. Краем глаза я заметил, как «швабра» вместе с «обвисшей» выходят из зала. Послышался скрежет замка. Теперь я и правда почувствовал себя в ловушке. – Серега, – прошипел я, – где окошко? Тот кивнул куда-то на другой конец зала, и я внутренне застонал: окно там действительно имелось, пускай и замазанное наглухо краской. Одна беда – видимо, предназначенное для проветривания зала, оно находилось почти в трех метрах от пола. – Как мы туда заберемся? Бажанов беззаботно пожал плечами, мол, кривая вывезет. Тут же я почувствовал, как мочевой пузырь взбунтовался и решил выставить меня ссыклом в самом буквальном смысле. Я сжал колени и заскрипел зубами, чтобы не опозориться. Меж тем медленно погас свет. Затрещала катушка проектора. На экране появились цифры, отсчитывающие секунды до начала фильма. Три… Два… Один! – Не смотри, – снова добродушно пробормотал толстяк и закрыл мне лицо пухлой ладонью, как мама, когда мы шли мимо нищенки. После сказал в сторону: – И ты тоже. Сначала было тихо. Я предположил, что фильм немой. Трещал проектор, спереди громко чавкали, полушепотом возмущался Серега: – Убери руку, не видно же! Совсем дурак? А следом раздался вой. Хриплый нечеловеческий вой, не из динамиков, а откуда-то из первого ряда. Так мог выть человек, прощаясь с собственной душой; так выл бы кто-то, кому рвут все зубы разом без анестезии; это был вой бегущего по лесу раненого зверя, слишком поздно осознавшего, что он зацепился кишками за сук. Не без труда я узнал голос Женьки. Я пытался его позвать, но вой отражался от стен, подчинял себе всю акустику, был таким густым, что, казалось, его можно вдохнуть, попробовать на вкус. И на вкус, я уверен, он был бы как кровь. – Иди за мной! – громыхнул мне на ухо хряк с ледяным спокойствием, будто ничего не случилось. – Закройте глаза. Я зажмурился, не желая видеть то, от чего Женька вопил дурниной, без слов и смысла, настолько дико и страшно, что мне захотелось ослепнуть, лишь бы не увидеть того, что видит он. Вновь ладони коснулась липкая от пота рука, и я вцепился в нее, как утопающий в соломинку. Рядом, я чувствовал, неловко перебирал ногами в ботинках на вырост Серега. Тот звал брата, звал идти на голос, но Женька вряд ли его слышал. Он был поглощенпроисходящим на экране. Казалось, это присутствовало не только в плоскости, на полотне, но как-то проникало, просачивалось в зрительный зал. Оно переступало длинными лапами меж рядов, наклоняло уродливую голову, и я почти слышал вкрадчивый хищный шепот Медузы Горгоны из «Битвы Титанов»: «Посмотри на меня!» Когда мы наконец дошли до стены, толстяк прислонил нас к холодной штукатурке, как кукол, после чего сказал: – Ты первый. Я заметался, не понимая, что имеет в виду хряк, но меня мягко оттолкнули. Значит, речь шла о Сереге. Я услышал натужное хеканье, удар и звон стекла. На меня посыпались осколки, один рассек бровь. По ресницам побежала горячая юшка. Что-то глухо шлепнулось по ту сторону стены. – Теперь ты. Толстяк взял меня за руки и положил их себе на плечи, будто собирался научить танцевать. После – шлепнул по щиколотке, чтобы я поднял ногу. Сложенные лодочкой ладони с силой толкнули меня под подошву, и я полетел вверх по стенке, вслепую хватаясь, как падающий кот. Уцепившись за край окна, я тут же изрезал себе ладони и чуть не свалился обратно. Едва перекрикивая Женькин вой, хряк крикнул снизу: – Уходи! И я хотел уйти, клянусь. Я обернулся лишь потому, что желал убедиться – Женьку не спасти, ему уже не помочь. Я открыл один-единственный глаз лишь на долю секунды. Я врал себе, что это – для очистки совести. Врал, что не хочу потом мучиться мыслями о том, что Женьку можно было спасти. Но правда в том, что я просто хотел увидеть. Залитые ресницы с чмоканьем расклеились, кровь тут же устремилась в глаз, но я успел разглядеть. Размыто, не в фокусе, в багровом фильтре собственной крови, но успел. В этом было все – и располовиненные трупы, которые облизывал безумный маньяк; и гигантские карпы, заживо пожиравшие своих жертв; и хищные телепомехи; и «второй игрок»; и одинокий старик, умиравший от жажды и голода в собственном доме; и раздувшийся труп, истекавший гноем на упаковки с чипсами и газировкой; и жуткий Хома Брут, свисавший с потолка церкви и пучивший свои пустые всевидящие очи; и Сталин, выпускавший себе мозги; и голая Сейлор Мун, оседлавшая семиглавого Зверя, – все это было тут. Все то, что осталось за кадром страшных баек, теперь присутствовало здесь, воочию, не только доступное для глаз, но и способное взглянуть на тебя в ответ. Оно вываливалось за пределы экрана, по-паучьи перебирало конечностями, словно пыталось объять весь зал, а бесконечно-единое око равнодушно проводило меня взглядом, как рыбак отпускает с крючка малька, чтобы дать тому подрасти к следующей рыбалке. Я перевалился через карниз и мешком грохнулся на бетон, не успев сгруппироваться. В щиколотке хрустнуло; из порванного носка выскочил осколок кости. Я завизжал, как заяц, попавший в капкан. Боль была такая, что хотелось отрезать ногу к чертовой матери. По штанам растеклось мокрое пятно. На визг выбежала «швабра», грубо спросила, откуда я взялся. Ответил Серега: мол, лазили за яблоками, друг упал с дерева. «Швабра», матерясь, послала его за неотложкой. Серега разрывался между тем, чтобы подчиниться указанию взрослого человека и помочь брату, чей крик еще доносился из разбитого окна. – Ну, чего застыл? – спросила воспиталка. Серега сделал выбор и рванул за моими родителями. Те прибежали спустя, как мне показалось, вечность. Ругаясь на чем свет стоит, отвезли меня в травмпункт на машине. Серегу взяли с собой, буквально затолкав в салон, невзирая на возражения, – он тоже здорово порезался об это чертово окно. В травмпункте ему наложили шесть швов, после чего он сбежал и пешком из другого конца города добрался до «Юности», но кинотеатр уже был пуст. На дверях висел большой навесной замок. Ни Женьки, ни «дебилов», ни воспиталок рядом не наблюдалось. Мать Бажановых подняла на уши весь город, но никто ничего не знал. Или делали вид. Наутро ей позвонили из районного отделения ПНД – оказывается, остаток ночи Женька провел там. Он сипло подвывал – сорвал напрочь голос. Несколько раз бедняга пытался выцарапать себе глаза, и его пришлось положить связать. Успокоился бедняга только через три месяца терапии и седативных препаратов. В обычную школу он вернуться уже не мог – врачи сказали, что когнитивная функция серьезно подавлена, – поэтому стал новым учеником «тринашки». – Такое впечатление, что он пытается уберечь свой мозг от осмысления чего-то… слишком сложного или пугающего, – говорил психиатр. Общаться с Серегой мне отец запретил. Я сменил школу, потом мы снова переехали в другой район. На все расспросы я с неохотой отвечал, что в кинотеатре «Юность» дьявол через экран пожирает души. Никто не верил, но оно и к лучшему. Вообще, вспоминая ту ночь, я чувствовал гнетущую недосказанность – я не знал настоящей концовки этой истории. Рисовать бросил. Понимал, что никаких умений и техник не хватит, чтобы воспроизвести увиденное краем глаза в «Юности». Делал наброски, скетчи, но мне не удавалось передать взор, пронзивший меня в том кинозале, ведь я побоялся взглянуть в ответ. Глаза моих чудовищ были пусты, как полотно погасшего экрана. В две тысячи четвертом у меня появилась новая компания. Я начал курить, впервые попробовал алкогольный коктейль, втюрился в чужую девушку, и за это мне сломали нос. Так я снова попал в травматологическое отделение Мытищинской ГКБ. Зайдя там в курилку, я приметил знакомую рыжую шевелюру. Курил Серега «без рук» – те были забинтованы. Рядом стоял участковый и придерживал ему сигарету. – Там – мясное рагу, – сказал Бажанов, кивнув на свои кисти. – Ожоги третьей степени. Серега явно не был рад меня видеть, но поделился: – Я сжег этот херов кинотеатр. Больше никакого кино. Конец «Юности»! Рассказал он мне и что стало с Женькой: – Он убил себя. Сидел на уроке и вогнал себе карандаш в глаз. Достал до самого мозга. – Ты узнал, что они там делали? – Нет. В тетрадях писали какой-то бред. Каждую неделю Женьку водили в кино, и ему становилось хуже. Думаю, это потому, что он родился… ну… нормальным. Не дебилом. Серега предполагал, что слабоумие – не результат воздействия, а защитный механизм, позволяющий жить дальше, не осознавая увиденного. – Он не умел отворачиваться, понимаешь? Смотрел в глаза опасности. Как тогда, с баллоном. Как и в этот раз. Но теперь все. Больше никакого кино, – довольно подытожил Серега, выплюнув бычок. – Конец «Юности». За поджог кинотеатра Сереге Бажанову дали шесть месяцев колонии для несовершеннолетних, и с тех пор мы больше не виделись.
Недавно вопрос с наследством вновь занес меня в Перловку. Перед встречей с нотариусом я решил пройтись, и ноги сами понесли меня к скверу. Теперь на месте «Юности» чернели ребра недостроенной церкви. Лесополосу очистили, облагородили и превратили в Перловский парк. В центре поставили детскую площадку с горками, окружили скамейками. Парк, похоже, не пользовался популярностью – несмотря на погожий денек, кругом было пусто, только одинокий солевой наркоман судорожно дергался на скамейке и созерцал ему одному доступные видения. Его глаза бешено вращались в орбитах, зрачки бегали из стороны в сторону, грудь тяжело вздымалась. Вспомнился Женькин истошный вой, под сердцем кольнуло. Остаток дня я провел как в тумане – ставил подписи, ходил делать копии, стоял в очереди в банке, но думать мог лишь о том чертовом фильме без названия. Загнанный на задворки памяти, теперь он занял все сознание. Мне не суждено было узнать, что я увидел тогда на экране, и это мучило меня. Решив вопросы, я зашел перекусить в отстроенный у самой станции ТЦ «Перловский». Взял кофе и пирожок, сел за столик на фуд-корте. Мое внимание привлекла невероятно тучная уборщица, собиравшая мусор со столиков. Толстые очки, полоска свернувшейся крови под носом, валики жира над трениками – за пятнадцать лет хряк почти не изменился, лишь выросла некрасивая вислая грудь. Даже сейчас, взрослый, я все еще был ниже ее. Только теперь я понял, что спасла меня в ту ночь девчонка. Спасла того, единственного, кто проявил к ней хоть каплю симпатии. Отойдя от осознания, я сорвался с места, подскочил к ней, уцепился за рукав, прошипел: – Помнишь меня? Я хочу досмотреть. Правда хочу. Уборщица шмыгнула носом, облизнула кровь на губе. Гормональная щетина влажно поблескивала. – Я знала, что мы встретимся. Зачем обернулся? Не говоря больше ни слова, она жестом позвала меня за собой. Мы шли через какие-то служебные помещения и подсобки, пока не оказались в пустом кинозале торгового центра. – Теперь они здесь, – пояснила она. Я занял место в первом ряду, там же, где сидел Женька, в котором любопытство всегда побеждало страх, и он не отводил взгляд. Я загляну в глаза чудовищ и узнаю наконец, чем на самом деле заканчиваются все страшные истории. Эти «что там было – неизвестно», «больше его никогда не видели» и «никто не знает, что случилось в ту ночь». Оставшееся за кадром городских легенд и жаждавшее воплощения нетерпеливо ворочалось на бобинах. Зажужжал кинопроектор, на экране начался отсчет. Три… Два… Один. Я больше не отвернусь.
Виртуальная машина

– А я бывал в Тихом Доме, – вырвалось у Саши. Уже через секунду он пожалел о сказанном, почувствовав на себе тяжело налипшие взгляды. После провала с компиляцией ядра ему хотелось как-то реабилитироваться, заявить о себе, сбить спесь с этих надменных миллениалов. Но нечаянно брошенная фраза вызвала пренебрежительный смех. – Да у нас тут крутой хакер! – тряхнул дредами Морф, затянувшись вейпом. Водянистые глаза его недобро блеснули: – «Цикаду Три тысячи триста один» тоже ты создал? – Бери выше! – хохотнул парень в очках и растянутом свитере, со странным именем Емельян. – Наш Нео «Силкроад» проложил, верно говорю? Что такое «Цикада 3301» и «Силкроад», Саша понятия не имел – когда он учился программированию, всего этого дерьма в Cети было гораздо меньше. Еще не так давно он был на форумах «Батей», а теперь выслушивает колкости от малолеток, которые еще пешком под стол ходили, когда он написал свое первое Hello World! От этих мерзких смешков тянуло рвать и метать, но Саша не хотел подвести Алену – если и с этой командой не выгорит, то о переводе в престижную фирму придется позабыть. Так и останется кодить за тридцать тысяч в пыльном офисе, а Алена найдет себе кого-то успешнее, импозантнее и – главное – моложе. – Ален, ну подтверди! – попытался он сохранить лицо, обратившись к худенькой блондинке в толстовке NASA. Подтверждать Алена, конечно же, ничего не стала. Сделав вид, что вопрос обращен не к ней, она отвлеклась на монитор, сосредоточенно вперившись взглядом в прогресс-бар установщика. – Ага, подтверди, Ален! – передразнил Морф измененным, густым голосом, выпуская облако пара изо рта. – И что ты увидел в Тихом Доме? Призраков, Бога, Ад? – Ну… – протянул Саша неуверенно, пытаясь спешно придумать ответ. Что такое Тихий Дом, он не знал – встретил упоминание на сайте интернет-страшилок да и запомнил неизвестно зачем. Сейчас он активно шерстил память в поисках хоть какой-нибудь дополнительной информации, чтобы не выглядеть профаном и лжецом. – Если он скажет, что это пустой чат, – я пакую манатки! – громко заявил очкарик. – Ты, Ален, конечно, извини, но работать с мракобесом – это зашквар. – Ты кого мракобесом назвал?! – набычился было Саша, но вмешался Морф: – Ты, Саня, с темы не соскакивай. Что там в Тихом Доме? Морф потянулся, его стильно порванные джинсы немного сползли, и глазам открылась резинка трусов с надписью It’s gonna be a Big Bang! натянутая меж торчащих тазовых костей. Рисуется, сволочь! Невольно Саня потер собственное немалое брюхо, которое прятал под мешковатой футболкой. – Ты у нас один такой, посвященный! Я, например, в Тихом Доме не бывал. Емеля, ты бывал? – Не довелось, – ответил Емеля, поправляя очки. – А ты, Ален? – не унимался красавчик с дредами. – Ребят, давайте уже спокойно поработаем! – огрызнулась Алена. В изгибе ее спины, в наклоне головы, в нервном пощелкивании мышкой чувствовались стыд и досада. Досада на него, на Сашу, который, попытавшись заработать авторитет, лишь вырыл себе яму в полный рост и сам же в нее сиганул. – Там, в общем, – прочистив горло, наконец ответил он, – самому видеть надо. Не описать. – Ага. Неописуемо. Лавкрафт бы одобрил, – уже со скукой отозвался Емеля, поворачиваясь к монитору. Кажется, он потерял к Саше интерес. – А ты сходи туда еще разок, а? – неожиданно, осененный идеей, предложил Морф. – И мы тебе поверим! – В Тихий Дом?.. – растерялся Саша. – Ага. Когда у нас следующая рабочая сессия? Четверг. Дня два должно хватить, – не унимался Морф. – Удиви нас, докажи, что ты крутой хакер. Забьемся? – На что? – напряженно спросил Саша, не ожидая ничего хорошего. Вряд ли Морфа устроит денежная ставка. – Ну, скажем… – Парень с дредами притворно осмотрелся, но куда целил его взгляд, Саша знал с самого начала. – А, скажем, если ты в четверг не докажешь, что был в Тихом Доме, то вот Аленка со мной на свидание сходит? Как тебе? – Совсем дурак? – отозвалась Алена, но как-то вяло, будто возмущалась не содержанием предложения, а его формой. – А если докажу? – вновь набычившись, ответил Саша. – Ну… Тогда я уступлю тебе кресло проект-менеджера. По рукам, Нео? – ухмыльнулся Морф, и, глядя на эти ровные белые зубы, аккуратно постриженную бородку, колечки пирсинга, выбритый на висках узор, Саше хотелось выбросить руку вперед. Расплющить нос, свернуть на сторону челюсть, выдавить глаз… Но вместо этого он протянул открытую ладонь и крепко сжал пальцы Морфа, надеясь, что увидит, как его лицо исказится от боли, но чертов хипстер оставался невозмутим. – Вот и славно! – осклабился он и повернулся к очкарику. – Емельян, разбей! – Придурки! – буркнула Алена, даже не глядя в их сторону.
* * *
В машине Алена с Сашей ехали, сопровождаемые тягучим молчанием. С каждым днем он ощущал все сильнее, что упускает ее. Поначалу девушке с ним было интересно и весело: когда он рассказывал про локальные сети, мемы дофейсбуковской эпохи и старые игры. Когда превосходил ее в знаниях, умениях, казался ей талантливым программистом – все было по-другому. Потом Алена закончила учебу, получила место графического дизайнера в динамично развивающейся студии по разработке мобильных приложений и… Поняла, что рядом с ней находится застрявший во времени неудачник, чьи знания давно устарели, а титулы и достижения сегодня уже ничего не стоят. И теперь Саша ее терял. Наконец oн осмелился заговорить: – Поехали сегодня ко мне, а? Куплю вина, сыр, фильм посмотрим, а? – Не хочу. Я слишком устала сегодня, – ответила Алена, даже не отвернувшись от окна. По стеклу сползали струйки дождя – видимость была почти нулевой. «Она просто не хочет смотреть на меня», – подумалось Саше. – Слушай, если ты из-за этого спора… – начал было он, но наткнулся на глухую оборону: – Я не хочу об этом говорить. Высади меня здесь, надо продукты купить. – Тебе отсюда минут двадцать идти! – возразил он. – Пройдусь! Останови здесь! – приказала она не терпящим возражения тоном и принялась отстегивать ремень безопасности. Саша притормозил у обочины перед светофором, и Алена выскочила из машины как ошпаренная. – Набери мне, как будешь дома, – я волнуюсь! – крикнул он в стену дождя, но девушка уже растворилась в толпе пешеходов, что переходили дорогу. Скрипнув зубами, Саша уронил голову на руль и просидел так минуту или две, пока за спиной не завыли клаксоны. Вскоре он с тоской окинул взглядом свою студию. Когда сюда приходила Алена, утлая однушка превращалась в уютное гнездышко, где, закутавшись в плед, можно было сидеть, обнявшись, смотреть фильмы и сериалы, целоваться и заниматься любовью, пока за окном бушевала стихия. Без нее же это было типичное, захламленное проводами, корпусами системных блоков, неработающими мониторами и пивными бутылками унылое логово холостяка. Открыв холодильник, Саша достал бутылку «Миллера» и уселся за компьютер. Огромный изогнутый монитор являл собой центр всех линий квартиры, к нему, как в Рим, вели все дороги. Матово светилась зеленым дорогущая механическая клавиатура – Аленин подарок. Мерно, точно осознавая свою мощь, жужжал кастомизированный системный блок, похожий на гигантский советский холодильник. Наивно было думать, что, придя домой и спросив у поисковика, что такое Тихий Дом, он получит ответы. Поисковик предложил массу ссылок и статей. Судя по ним, Тихий Дом лежал на самом дне Интернета и был финалом и венцом всего, пересечением Сети с ноосферой. Последней страницей книги, абсолютным знанием и пониманием всего сущего и одновременно концом любого пути. Данные разнились, но большинство статей и сайтов сходились в одном: Тихий Дом – это просто мистификация, местная легенда наподобие лох-несского чудовища. Отчаяние прокатилось опустошающим вихрем по Сашиным внутренностям и вырвалось протяжным «твою ма-а-ать!». Лишь теперь он понимал, как на самом деле облажался. Должно быть, это прозвучало как утверждение, что он водит дружбу с йети. – Ой дебил! – сокрушенно прижал он руки к лицу, представляя себе, что будет в четверг. Понятное дело, Алена откажется идти на свидание с Морфом, но это поражение пробьет очередную трещину в их отношениях… «Откажется ли?» – спросил он вдруг сам себя. В голове закрутился калейдоскоп картинок, одна гаже другой. Вот Морф ведет ее в какое-нибудь модное, навороченное кафе, заказывает смузи и моккачино, они едут в лофт, уже вдвоем. Сальные, с поволокой, рыбьи глаза скользят по туго обтягивающим задницу Алены легинсам, бледные, похожие на пауков-альбиносов руки тянутся к ее талии, обрамленные мерзкой бородкой губы приближаются к ее лицу… – Стоп! – стукнул Саша кулаком по столу. Подскочила бутылка – ее еле удалось поймать, прежде чем пенный напиток полился на клавиатуру. Алена была бы в бешенстве. Если бы, конечно, вообще еще когда-нибудь навестила его. Все началось из-за кризиса. Засидевшемуся на месте программисту найти работу оказалось не так просто. Пришлось обратиться за помощью, Алена уговорила коллегу принять Сашу в свой стартап, и тот, заинтересованный в опытных кодерах, согласился. Теперь Саша четко понимал: интересовался Морф только Аленой и, похоже, твердо намеревался воспользоваться ситуацией. Тут Сашу осенило – а что мешает обратиться за помощью и в этот раз? Наверняка среди его старых форумных знакомых есть кто-то, разбирающийся в вопросе. Так он хотя бы будет знать, что попробовал все варианты. Быстренько набросав тему на форуме, он принялся раз за разом обновлять страницу. Волнение не позволяло отвлечься ни на что другое. Перечитывая только что написанное, Саша выдувал одну бутылку пива за другой, не замечая вкуса. «Здорово, форумчане! Нужна помощь людей компетентных. Хочу спуститься в Тихий Дом. Какие подводные, с чего начать, куда идти? Киньте туториалы, ссылки, распишите, Батя в долгу не останется!» Поначалу писали всякие тролли – мол, перекинь мне сто штук деревянных, я тебе ссылку дам, и все в таком духе. Повылезали местные знатоки, принявшиеся в нелестных выражениях обсуждать «дегенерата», что повелся на интернет-легенду. Когда четвертая бутылка пива подходила к концу, а досада и отчаяние близились к апогею, при очередном обновлении страницы появилось новое сообщение. Писал некий PsychoPMP: «На людях такое не обсуждаю. Могу поработать проводником. За подробностями – стучись сюда». Ниже была ссылка. Прочтя ник еще пару раз, Саша наконец уловил тонкую иронию. – Психопомп, значит. Ну, поехали! – повеселел он и перешел по ссылке. Сайт оказался похож на одну из тысяч чат-рулеток. Высветился интерфейс, загорелся огонек вебки, хотя никакого разрешения камере Саша, конечно же, не давал, что уже нервировало. Собеседник предпочел разговаривать без изображения – с монитора на него смотрела дефолтная аватарка с темным силуэтом. – Привет, – раздалось из динамиков так резко, что Саша аж подпрыгнул на месте, снова едва не разлив пиво. Голос был программно изменен на какой-то густой и глубокий бас – сразу вспоминался фильм «Пила». – Здорово. Так, значит, ты бывал в Тихом Доме? Что там вообще? Он существует? – Я знаю дорогу туда, – уклончиво ответил Психопомп. – Вожу людей за деньги. – Какова цена вопроса? Есть какие-то гарантии, доказательства? – Никаких гарантий. Либо ты мне веришь и мы идем, либо я отключаюсь. – Так что по деньгам? – с волнением спросил Саша. На счету у него было не сказать чтобы густо. – Какие методы оплаты принимаешь? – Биткоин, эфириум, дэш. За один проход беру сто зеленых. Дополнительные расходы на тебе. Казалось, из этого голоса кто-то хирургически удалил эмоции. На секунду Саша предположил, что общается с ботом. – Оке-е-ей… – протянул он. С биткоином и прочими криптовалютами он дел раньше не имел. – Слушай, а у тебя Сбер есть? Ты из Москвы? Я бы вживую передал, если не хочешь счета светить. – Нет, мы не увидимся. Заведи кошелек, я дам реквизиты. – Я вообще-то еще не согласился… – замялся Саша. – И вообще – если я перекину деньги, что тебе мешает свалить в туман сразу после? – Найди сайт-гарант. Переведи деньги им. Составь договор, дай мне ссылку. Идет? Разумеется, Саша уже давно мысленно согласился на условия Психопомпа. Сто долларов – сумма большая, но он прекрасно осознавал, что, если упустит Алену, потратит их на то, чтобы напиться до беспамятства и, если повезет, задохнуться в собственной блевотине. – Идет. Когда приступаем? Как с тобой связаться? – Погружение завтра. Свяжемся в двадцать один ноль-ноль по Москве. Мне нужно кое-что сделать. Тебе, кстати, тоже. Я трасернул, это проксовоз? Кинь мне свой Ipsec и почту. Я дам инструкции. – Может, тебе еще и ключи от квартиры дать, где деньги лежат? – хохотнул Саша. Делиться с каким-то неизвестным типом такими данными не хотелось решительно. – Зачем тебе? – Мне нужно создать зашифрованный ВПН-тоннель, чтобы минимизировать помехи со стороны. Много кто захочет сесть на хвост, нам это не нужно. Чтобы попасть в Тихий Дом, тебе придется довериться мне безоговорочно. – Вот как? – Никакой внутренней борьбы не было. Пока Саша мысленно решался на это действие, его пальцы уже скопировали адрес электронной почты и текст бессмысленного, на первый взгляд, протокола в чат. – Надеюсь, ты правда того стоишь. Учти, если обманешь – я найду тебя. – Не найдешь, – констатировал голос. – Инструкции у тебя на почте. Я отключаюсь. Не опоздай завтра. – Подожди! – вдруг заволновался Саша. Выдав столько личной информации незнакомцу, теперь он отчаянно желал узнать еще хоть немного больше, получить хоть какие-то подтверждения добросовестности намерений этого Психопомпа, доказательства его компетенции. – Слушай, а что там? В Тихом Доме? Ответ был всеобъемлющ и одновременно бессмысленен: – Там всё.* * *
На подготовку к погружению у Саши ушел почти весь день. Инструкции были предельно четкими, некоторые казались странными, другие бессмысленными. Например – установить зеркало за спиной так, чтобы в нем отражался монитор. Требовалось установить дополнительную видеокарту и оперативную память, что звучало логично. Поставить Тор и Нексус, что было необходимо, и в то же время принести микроволновку с кухни и расположить рядом с компьютером, что казалось безумием. Также в инструкцию входила установка целого пакета эксплойтов и брутфорсеров. В поисках Священного Писания на английском Саша обежал три книжных магазина. Найти ЭЛТ-монитор было задачей попроще – с десяток таких было на «Авито». Найдя, как требовал Психопомп, самый древний, Саша поехал на другой конец Москвы. У того же продавца оказалось и несколько старых жестких дисков, также указанных в инструкции. Вернувшись домой, Саша был вынужден тащить тяжеленный монитор аж из соседнего двора – на его обычном месте, перед самым подъездом, припарковался какой-то ржавый фольцовский фургон с наглухо забитыми картоном окнами. Водителя на месте, разумеется, не оказалось. Уже дома, установив зеркало и перетащив микроволновую печь поближе к компьютеру, Саша, изможденный, повалился на диван. Часы показывали семь вечера. Обычно Алена выходила с работы в шесть и, оказавшись дома, отправляла ему сообщение. Сейчас же телефон молчал. Под сердцем заворочался гадкий червячок беспокойства. Набрав номер, Саша приготовился слушать гудки, но Алена взяла трубку необычайно быстро: – Ты чего-то хотел? – Привет… – огорошенный таким приемом, растерянно протянул Саша. – А ты где? – Мне отчитываться надо? – с холодной сталью в голосе спросила она. – Нет, но… Я просто волнуюсь. Ты еще не дома? – Я задержалась на работе, тут… – О, Нео? Передавай привет! – послышалось на заднем плане, и Саша напрягся. Последний, чей голос он хотел слышать в трубке любимой девушки, – это Морф. – Алена, это он? Что он там делает? – Он мой коллега, Саша. Мы работаем, – с нажимом ответила Алена, а Морф на заднем плане все не унимался. – Можешь сказать своему Отелло, я тебя и пальцем не трону! Если только он не проиграет спор! – глумливо прокричал он в трубку, и Сашу захлестнула волна ярости. Через секунду до мозга дошло осознание – если хипстера слышно так хорошо, значит, он орет прямо в трубку и стоит вплотную к Алене. – Ален, езжай домой, а?.. – попросил Саша, не зная, что ему делать и как себя вести в такой ситуации. – Закончу и поеду. Все, Саш, давай, у меня много работы. – Она старалась завершить разговор как можно быстрее. – Напиши, как будешь дома, ладно? – Если не забуду, я страшно устала. – Я люблю тебя! – отчаянно выкрикнул он в последний момент, перед тем как Алена положит трубку, будто пингуя подвисший сервер. Словно желая удостовериться, что связь между ними не оборвалась. – Я тоже люблю тебя… – выдохнула Алена машинально. Сервер, как и ожидалось, выслал пакет данных обратно. Вновь послышался голос Морфа, Саша силился разобрать, что говорит чертов хипстер, но девушка уже отключилась. Нужно было продолжить подготовку. Открыв корпус системного блока со всех сторон, Саша поочередно открутил винтики на материнской плате, кулерах, дисководах и прочем железе. Добавил вторую видеокарту, чтобы повысить производительность, и подсоединил параллельно четыре жестких диска, разумеется, не закручивая болты, так что те можно было легким движением вынуть в любой момент. Толстый блокнот и ручка уже лежали рядом с клавиатурой. Следом Саша заменил свой великолепный монитор на громоздкую развалюху желтого пластика. Стоило подключить этот реликт к компьютеру и запустить, как в глазах тут же зарябило. Скрепя сердце Саша удалил антивирус и отключил файерволл. Деньги уже лежали на сервисе «Гарант Про», требовавшем на редкость грабительский процент за услугу. До сеанса связи оставалось минут пять, и Саша впервые закурил в квартире. Горьковатый дым щипал глаза, и так раздраженные пятью минутами работы за древним монитором. Как он просидит за этой дрянью всю ночь, Саша представлял с трудом. Слегка ошарашенный своим поведением в последние сутки, он сокрушенно осматривал свое изуродованное рабочее пространство. И без того весьма захламленная холостяцкая однушка теперь напоминала логово обезумевшего хакера из голливудского кино. Разбросанные вокруг корпуса детали компьютера, все еще подключенные к системному блоку, напоминали внутренности раздавленного на трассе животного, которое еще не осознало свою смерть и упрямо продолжает ползти по асфальту. Микроволновая печь на табуретке, огромный том Священного Писания, мерцающий монитор, отражающийся в узком зеркале высотой в человеческий рост, которое Саша кое-как закрепил на дверцу шкафа. Три бесперебойника задорно подмигивали из темноты под столом, напоминая люминесцентных подводных тварей. Успокаивающе шумели кулеры, поскрипывали старые жесткие диски. Затушив бычок в старой чашке с отколотой ручкой – пепельницы дома не было, – он уселся за компьютер и открыл ссылку той безымянной чат-рулетки. PsychoPMP был уже в Сети – под безликой аватаркой светился зеленый кружочек. – Ты вовремя, – вновь раздался голос из колонок, заставив Сашу подпрыгнуть в кресле. – Отлично. Все подготовил? – Все по инструкции! – отрапортовал тот в радостном мандраже. Впереди ждало настоящее приключение – опасное, интересное, с обязательной наградой в финале. Также он выдохнул с облегчением, наконец увидев, что поход в Тихий Дом – не какая-нибудь афера. – Монитор, жесткие диски, микроволновка, зеркало, Библия. – Зеркало вижу. Тор, Нексус установил? Саша кивнул. Если «луковый» браузер казался ему объяснимым требованием – по-другому на неиндексируемые страницы не попасть, – то зачем было скачивать это допотопное убожество, больше похожее на окошко о ошибке? Он решительно не понимал. – Так, теперь пробрось двадцать второй порт через Sat, мне нужно недолго похозяйничать на твоем компе. – Это еще зачем?.. – протянул Саша. Полномочия незнакомца ширились с каждой новой «встречей». – Я, кажется, обсуждал с тобой этот момент. – Теперь в голосе слышалось раздражение. – Безоговорочное. Доверие. Или я отключаюсь. Деньги у «Гаранта Про» можешь выскребать сам. – О’кей-о’кей! – в примиряющем жесте воздел руки Саша. – Сейчас тебя подключу. Саша потер глаза. Этот монитор и правда был убийственным. Не зря в его детстве так много говорили, что компьютеры вредны для зрения. – Готово. Лови. А что ты хочешь сделать? – Я должен подключить тебя к тоннелю и загрузить свои виртуальные машины. – Куда? – спросил Саша, глядя, как курсор мечется по экрану, открывая и закрывая окна, а цифры печатаются сами собой, повинуясь воле таинственного Психопомпа. – Это как компьютер внутри компьютера, – пустился в пространные объяснения незнакомец. – На сервере в Сети, где-нибудь в Зимбабве, существует операционная система. Мы подключаемся туда и работаем в ней, как на обычном компьютере. Внутри мы подключаемся к еще одной виртуальной машине, а внутри – к еще одной, и еще. Всего – четыре, по одному на каждый уровень Сети. – Я знаю, что это. Я имел в виду – зачем? За нами может кто-то следить? – догадался Саша. – В том числе. Но в первую очередь виртуальные машины нужны, чтобы не умерла твоя система. – Похоже, Психопомп, обычно немногословный, любил поболтать на околокомпьютерные темы. – На каждом уровне Сети есть дыры, ловушки и просто уровни перехода, которых обычный компьютер не выдерживает. На нашем пути их встретится как минимум четыре, разного уровня. – Ты хочешь сказать, поход в Тихий Дом опасен для компа? – подозрительно спросил Саша. В ответ из колонок раздалось жуткое басовитое уханье, точно в них поселился филин. Лишь через пару секунд до него дошло, что так звучит смех, измененный преобразователем голоса. – Первая система крашнется еще на поверхности. Банальная «ось», ничего особенного. – А мои харды не сгорят? – Не ссы, салага! – задорно выкрикнул в колонку Психопомп, и даже через все компьютерные искажения Саша безошибочно определил, что собеседник лет на десять моложе его самого. – Передаю управление. – Слушай, а с монитором это обязательно? – Мерцающий динозавр, Сашин ровесник, заставлял глаза слезиться, а картинку – расплываться. – У меня скоро шары вытекут. – Обязательно. Такое качество изображения необходимо… В общем, есть в Сети такое, от чего и мозги вытечь могут. И лучше это не наблюдать в высоком разрешении. – Для того и старый браузер? – догадался Саша. – Точно. Погружаемся. Саша глубоко вдохнул, будто и в самом деле собирался нырнуть в темные неизвестные воды. – Значит, так, открой Тор и Библию. Прочти первую строфу. Постарайся сделать это одновременно. – На какой странице? – спросил Саша, чувствуя себя идиотом. – А это уже решать Дому. Мы должны получить инвайт. Подцепив краем пальца страницу где-то в середине, Саша нацелил курсор на ярлык в виде луковки и совершил чудеса ловкости, чтобы выполнить оба действия одномоментно. – «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не добрым и кротким, но суровым», – прочел Саша на английском. – Хорошо. Преобразуй это в цифры в «Си плюс плюс», – приказал Психопомп. – Введи их в строку браузера. Так мы немного срежем. После недолгой процедуры Саша разочарованно вздохнул: – Страница не найдена… – Повтори. Закрой браузер и книгу и повтори снова. – «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, до первенца узника, что в темнице», – прочел Саша и повторил все предыдущие действия. Ошибка «404» вновь светилась на экране. – Еще! Снова ошибка. – Еще! – неистовствовал голос. – Какой в этом смысл, не потрудишься объяснить? – Библия – самый популярный ключ для шифров, а в Дипвебе зашифровано все. То, что мы сейчас делаем, – почти брутфорс, только медленный. Еще! В какой-то момент Саша уже подумал, что так они просидят всю ночь, перепечатывая цитаты из Библии, как вдруг после преобразования в цифры строфы «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» страница запестрела мелким текстом. Изуродованный закорючками Юникода, он был совершенно нечитабелен, а по центру топорщилась пикселями монохромная картинка в очень низком разрешении, но у Саши все равно перехватило дух – таким резким и жутким было ее появление. – Ты чего? – спросил Психопомп, заметив его выражение лица. – Кажется, есть, – ответил Саша, не в силах оторвать глаз от архивного фото обугленного младенца с пробитым черепом. То ли смерть застала маленького человечка в движении, то ли какой-то неведомый декоратор с извращенным чувством прекрасного поработал над трупом, но младенец, казалось, полз к зрителю и указывал на него пальцем. – Отлично. Инвайт есть! – удовлетворенно хмыкнул Психопомп. – Выбирай ссылку. – Ссылку?.. – недоуменно переспросил Саша, водя курсором по неразборчивому тексту. Тот то и дело высвечивался – все это и было огромным скоплением ссылок. – Какую надо выбрать? – Ты еще не понял? Это твой путь. В Тихий Дом ведет лабиринт, и карты нет. Одна из комбинаций символов привлекла внимание Саши – если убрать перекладину тут и апостроф там, получалось что-то похожее на имя «Алена». Недолго думая, он клацнул мышью. Страница окрасилась розовым, текст потек вниз, а вместо фотографии сожженного младенца появилось масса скриншотов из разнообразных порнороликов. – Что, баба не дает? – хмыкнул Психопомп. – Не просто так тебя сюда вынесло. – Не твое дело! – огрызнулся Саша. – Что дальше? – Ты уже понял принцип. Выбирай ссылку и кликай на нее. Направление есть только одно – вниз. Здесь Саша кликнул в случайную картинку с двоящейся, с растянутыми по экрану бедрами косплеершей – кажется, порно для очков VR. Та выдавала рекомендацию на следующее видео: азиатка, явно фотомодель, давила громадными каблуками котенка. Тот жалобно попискивал, явно доживая последние секунды. Следующая рекомендация – дряблая полуголая старуха в ажурных чулках испражняется в эмалированную кастрюлю на плите. Сашу передернуло: кто мог вообще желать смотреть подобное? Пока он прыгал по ссылкам, прошло добрых часа два, не меньше – на улице успело стемнеть. Все это походило на какую-то глупую игру. Картинки менялись с невероятной скоростью, не похожие одна на другую, странные, в плохом качестве и почти всегда ужасающие. Люди, пожирающие мозги живой обезьяны. Тощие африканские дети, дерущиеся насмерть за бутылку колы. Прыщавый пацан, решивший постримить, как нюхает клей. Разнополые сиамские близнецы, туповато пялящиеся в мерцающий монитор. Плюгавый мужичок, имеющий толстуху в ее необъятные складки на животе. Гравюры с средневековыми пытками. Исламистские казни. Копрофагия. Зоофилия. Каннибализм. Скримеры, чудовища, кровь, расчлененка, порно, порно, порно… – Хватит! Сколько можно? Что мы вообще тут делаем?! – взорвался Саша. – Зачем я смотрю все это? Это и есть твой путь к Тихому Дому? – Нет. Туда ведет масса путей. Но я знаю этот. Хочешь отступить? – спросил Психопомп будто меню компьютерной игры, когда нажимаешь на кнопку выхода. – Нет, – с досадой ответил Саша. – Долго это будет продолжаться? – Мы рядом, я чувствую. Продолжай. И Саша кликал на картинки дальше, переходя по ссылке за ссылкой. Некоторые начали повторяться. Эту облысевшую обезьяну с бейсбольной битой в руках он уже видел. И это небрежно собранное, будто из лоскутов, кукольное шоу – тоже. Чаще других начали встречаться двое детей, сросшиеся затылками. Поначалу похожие на сиамских близнецов, при ближайшем рассмотрении мальчик и девочка оказались погодками, а неаккуратный, в подтеках сукровицы шов не оставлял сомнений: несчастных действительно сшили головами и, судя по лицам, засняли на камеру еще живыми. Сморщившись от вида очередного отвратительного изображения – глумливый карлик по локоть засовывал руку в анальное отверстие какому-то мужику, – Саша все же почему-то выбрал этих увечных, соединенных чьей-то злой волей детей. Он нажал на кнопку мыши, не ожидая никаких изменений, но вдруг экран застыл, а потом курсор распался на десяток самоповторяющихся фракталов. «Ну вот, какой-нибудь троян словил!» – подумал Саша и потянулся было к кнопке перезагрузки компьютера, но услышал громогласное «не трогай!» из колонок, пробивавшееся даже через жуткую долбежку зацикленного звона. – Быстро хватай ручку и записывай в блокнот ссылку, по которой перешел! – кричал Психопомп в микрофон, – Нужно успеть, пока виртуальная машина не крашнулась. Саша резко выбросил руку вперед, и ручка укатилась со стола. Под нервные «скорей!» невидимого собеседника он нашарил ее на полу и принялся спешно, небрежными каракулями выводить беспорядочный поток символов в блокноте. Стоило написать последнюю цифру, как экран посинел, выплюнул строки каких-то белых букв и погас. Наконец-то затих и сигнал об ошибке, от которого у Саши едва не разболелась голова. Или она болела от мерцающего допотопного монитора? – Успел? – раздалось из колонок. – Да. – Отлично. Значит, Сеть пропускает нас дальше! – облегченно выдохнул Психопомп. – Вирусная стена уничтожила первую виртуальную машину. Можешь ее закрыть. С горячих клавиш. Для следующего уровня нужна ось, построенная целиком на файерволлах и антивирусах, – мы отправляемся в очень грязное место. Зажав Аlt и F4, Саша немало был удивлен, увидев вполне рабочий экран Windows, но экран пестрел уведомлениями о блокировках, карантине и обнаружении угроз – удалось узнать по меньшей мере десять антивирусных программ, еще больше осталось неопознанными. В углу ехидным маленьким окошечком все так же висел его с Психопомпом чат. Тот так и не включил камеру, поэтому Саша видел в цифровом отражении только себя. За спиной его миниатюрного изображения зеркало отражало его же спину и монитор. Наверное, можно было бы разглядеть и маленькое окошко чата через гладь амальгамы, но этот полуцифровой зеркальный тоннель оказался слишком коротким из-за низкого качества изображения. – Открывай Тор и вводи ссылку! Вручную! – скомандовал незнакомец. Ломая глаза в неверном свете монитора, Саша перепечатал собственные каракули в строку, надеясь, что нигде не ошибся. – Новое правило, – наставлял Психопомп, – чувствуешь, что комп виснет или дурачится, – переписывай ссылку, не дожидаясь команды. Понял? – Да… – растерянно проговорил Саша, удивленно рассматривая открывшуюся страницу. Это был его форум – тот самый, на котором он оставил объявление о поиске проводника в Тихий Дом. Только теперь к каждому сообщению крепился дополнительный текст, подписанный пользователями вроде Anon234 или Mask905. – Что это? – спросил он, пробегая глазами по тексту. В сообщениях договаривались о продаже наркотиков, ворованных кредиток, оружия и детской порнографии. – Паразиты. Лепятся к форумам, соцсетям и чатам на изнанку, обкашливают делишки. Найди свое последнее сообщение. С этим Саша справился без труда – форум посещали нечасто, и тема все еще висела вверху. Но, кликнув на нее, он покрылся холодным потом, читая написанное неким FoxGuy345 под его «Здорово, форумчане…». Дополнительный текст, белый на черном, гласил: «Ваззап, народ. Принимаю заказы на снафф. Предлагаю: вивисекция, отравление, асфиксия, огнестрел. За отдельную стоимость добавлю износ. Стучитесь в личку». Следя глазами за ответами на это сообщение, Саша едва удержался от соблазна вырубить к чертовой матери компьютер и больше никогда в жизни не посещать это ужасное место. Анонимы спрашивали, можно ли натравить на жертву собак, будет ли изнасилование после убийства стоить дороже, можно ли устроить игру на выживание. Под сообщением самого Саши – он отвечал здесь какому-то троллю – и вовсе висел вопрос: «А можно, чтоб был ребенок, не старше двенадцати?» – Нашел? – вырвал его из кошмарного оцепенения голос Психопомпа. – Да. – Хорошо. Переходи по ссылке, которую оставили в ответ. Проскроллив страницу ниже, Саша увидел, что топикстартер написал: «Дети? Это дорого. Убедись, что готов заплатить. Вот тебе превьюшка на затравку – …» Далее шла состоящая из случайного набора символов ссылка. – Я не буду этого делать, – твердо заявил Саша. – Не хочу это видеть. Этого не будет на моем компьютере. К черту все! – Перестань. Это единственный путь. Ты заплатил триста долларов, накупил техники, притащил зеркало для того, чтобы отступить? – кажется, упрашивал незнакомец. – Неужели для этого достаточно одного превью с детским порно? Саша сопел, глядя в черный силуэт на месте аватарки Психопомпа. Что делать дальше, он откровенно не знал. Разумеется, хотелось достичь цели, доказать этим напыщенным хипстерам, что он круче их всех, но… – Нет, извини. Игра окончена. – Это не игра! – громогласно взревели колонки, после чего Психопомп сменил гневный рык на почти нежные увещевания. – Тебе не обязательно смотреть видео целиком. Как только заметишь ссылку – сразу по ней перейдешь, и все. – К черту. Ладно! – злясь на самого себя, рыкнул Саша и ткнул курсором в ссылку. Видео начало загружаться, появилась размытая мыльная картинка, но все равно удавалось разглядеть девочку лет семи, привязанную к голой панцирнойкровати. – Куда жать? – кричал он, лихорадочно шаря взглядом по сайту. Отдельные элементы прогружались очень медленно. Стоило задержать взгляд на какой-то ссылке, как та уползала вниз, сталкиваемая не пойми откуда взявшейся картинкой. – Куда?! – Ищи! В панике Саша просто ткнул наугад в случайное скопление букв и цифр, лишь бы не видеть, как ребенок хнычет в камеру, а чья-то тень уже входит в кадр. – Куда ты полез, дебил?! – ярился голос, пока на экране прогружалось новое видео. В грязной избе, в кружевах помех и полосок, некто в солдатской форме валял сапогами по полу беременную бабу. Та пыталась отползти прочь, но безжалостная тупоносая обувь всюду настигала ее. Лица солдата не было видно, но в его позе, в наклоне головы, в этих театрально-выверенных движениях чувствовалось: он знает, что на него смотрят. – Закрывай, придурок! – выли колонки. – Здесь опасно! – Сейчас-сейчас… – Саша сосредоточенно елозил по странице курсором в поисках чего-то, что привлекло бы его внимание. – Вот, есть! Одна из картинок в углу экрана изображала уже знакомых Саше сшитых затылками детей. – Быстрей! – паниковал Психопомп, а тем временем баба под ногами солдата затихла и тот медленно, демонстративно поворачивался к камере. – Ты не должен увидеть его лицо! Ор проводника навевал панику, и Саша случайно совершил несколько переходов, нажав несколько раз подряд на клавишу мыши. Клик-клик-клик-клик – и вот уже страница демонстрирует какие-то пронумерованные аудиозаписи. – А это что? – Правительственные радиостанции, – уже, успокоившись, пояснил собеседник. – Здесь потише. Надо теперь вернуться к детскому снаффу и найти правильную ссылку. – Правительственные? – Заинтересовавшись, Саша уже было ткнул курсором в один из треков, когда глазам его предстал не пойми откуда вылезший рекламный баннер. Волосы зашевелились у него на затылке, когда в бесстыдно задравшей юбку девчонке с запакованным презервативом в зубах он узнал Алену. – Чем ты занят? – настороженно спросил Психопомп, видимо, заметив у Саши на лице нешуточное волнение. Тот медленно навел курсор туда, на русый треугольник лобковых волос. Услышав то, что раздалось из колонок, он обомлел, узнав до боли знакомый голос: – Слушай, я не могу! А если Саша узнает? – Тебя это правда заботит? Второй, насмешливый и ядовитый, голосок Саша бы ни за что не спутал. Это был Морф. – Ну же, детка, это ведь будет приятно нам обоим… Липкие, будто слюни, слова Морфа прерывались дыханием и какими-то причмокиваниями. – Ну перестань, я умоляю тебя, хватит… Саша уже кипел от ярости, когда разговор любовников прервало басовитое: – Хватит! Не слушай их. – Но я хочу… – Не слушай. Это Сирены. Они покажут тебе что угодно, лишь бы ты кликнул. Они здесь, чтобы сбивать с пути, – терпеливо объяснял Психопомп. – Ничего такого на самом деле не происходит. Это все иллюзия. Фейк. – А если нет? Не слушая незнакомца, Саша с силой клацнул правой кнопкой мыши. Открылась фотогалерея. Кипя желчью, он листал фотографии, сделанные будто бы скрытно, – как Морф и Алена сидят в кафе. Его девушка улыбается, пьет латте, на следующем фото уже держит Морфа за руку. Вот ее губы приоткрываются, глаза слегка прикрыты. Следующая фотография приближает ее ноги в колготках, что видны под столом. Приближение сильнее. Еще. Видно, что рука Морфа лежит у нее на бедре и скрывается под юбкой. – Доволен? Можем идти? – раздраженно спросил Психопомп. Но прямо там, где елозила похотливая рука Морфа, неожиданно высветились еле заметные на фоне темных колготок синие символы. Совершенно автоматически Саша перешел по ссылке, даже не предполагая, что ему предстоит увидеть. Комната заполнилась стонами, хлопками и хлюпаньем. Колонки ревели, заглушая голос Психопомпа, а на экране Алена ритмично двигалась в такт бедрам Морфа, прижатым к ее ягодицам. Никаких сомнений не было – они трахались. Теперь Саша был уверен: слезы текли по щекам не от мерцания древнего монитора, а от осознания этого гадкого, низкого предательства. – Говорил же, что ты не захочешь этого видеть! – пробился сквозь стоны девушки голос незнакомца. – Это все Сирены. Идем. Нам нужно продвигаться дальше. – Это не настоящее? – спросил Саша, еле сдерживая горькие рыдания, налипшие комьями в горле. – Так могло бы быть, – прозвучал уклончивый ответ. – Идем. Но в ответ на шевеление мыши курсор отозвался лишь слабым подергиванием, его движения на экране напоминали слайд-шоу. – У меня что-то зависло. – Говорил тебе, не кликай. Сирены жрут оперативку со страшной скоростью. Поздравляю, теперь кто-то майнит через тебя эфир или использует твой кэш для временного хранения файлов. – И что дальше? – Ничего. Эту виртуальную машину придется дропнуть. Следующая в разы слабее – зато менее привлекательная для цифровых форм жизни. Саша переписал ссылку и закрыл очередное окно, а следом за ним показалось еще одно – на вид это была ручная сборка Windows 95, будто нарочито примитивная. – Поехали. Больше не отвлекайся. Дальше – жестче. Впереди Перевал. Введя ссылку, Саша с легкостью отыскал следующую ступень – короткое видео, где толстяк-клоун кормил какой-то дрянью через воронку истощенного мужика, прикованного к стулу. Досматривать, к счастью, было необязательно – ссылку грубо вырезали на спинке стула прямо внутри видео. Вглядываясь через мерцание монитора, Саша не без труда перепечатал нужные символы. Экран почернел полностью. Поначалу Саша подумал, что сдох либо монитор, либо видеокарта, но посередине еле заметно серела строка поиска. Голос из колонок скомандовал: – Тебе снова нужна Библия. Не ошибись. Саша долго листал громоздкий талмуд, но все, что ему попадалось, не казалось подходящим. Дойдя до последней страницы, он перелистнул вновь в начало, где в глаза ему бросилось «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Переведя строфу в числовой формат, он ввел получившийся набор цифр. – Тебе сегодня везет, – прокомментировал Психопомп, когда экран расцвел какими-то кошмарными психоделическими цветами. Ссылки наслаивались одна на другую, по экрану сновали, будто автомобили в ускоренной съемке, едва различимые картинки. Люди, пожирающие сырое мясо, подобно зверям. Вгнившие в свои постели трупы. Групповые изнасилования. И, подобно Белому Кролику, бегало по экрану изображение детей, сшитых головами. Саша попытался несколько раз поймать его, но не хватало скорости. – Сейчас нужно встроить Нексус. Старый браузер замедлит отображение элементов. Просто открой его через Тор, – наставлял Психопомп. – Ты же знаешь, что это так не работает? – с сомнением ответил Саша, но все же выполнил указание. К его удивлению, один браузер действительно врос в другой. – На этом уровне все работает иначе. Твой компьютер уже изменился – Тихий Дом чувствует твое приближение. Теперь картинки двигались медленнее, кислотные цвета больше не жгли глаз и можно было не спеша нажать на нужную ссылку. Дождавшись изображения искусственных сиамских близнецов, Саша уже кликнул было прямо в грубый окровавленный шов, что разделял их затылки, как вдруг из разрозненных пикселей в мгновение ока собрался тощий человеческий силуэт. Мельтешение цветов загородило ссылку и тут же исчезло. – Это что было? – Не обращай внимания. Просто не упусти в следующий раз, – ответил Психопомп, но голос его был явно напряжен. Вновь поплыли по экрану нечеткие, из черно-белых квадратиков изуродованные дети. Стоило Саше приблизить к ссылке курсор, как тощий пиксельный силуэт опять вмешался, загородил ее собой, чтобы та уползла за пределы экрана, после чего испарился. – Какого хрена?! – выругался Саша, но Психопомп не спешил с ответом. В этот момент мерцающий силуэт показался крупнее, ближе и так саданул по экрану с той стороны, что Саша даже, казалось, почувствовал вибрацию. В этом месте монитор выгорел. – Чувак, что происходит?! – в панике кричал Саша, пока фигура, выскакивая с разных сторон экрана, оставляла все больше и больше черных пятен. Теперь, разглядев ее поближе, Саша наконец смог понять, из чего собран этот слишком тощий для человека силуэт, – друг друга сменяли мириады миниатюрных аватарок из соцсетей. Рты раскрыты в безмолвном крике, глаза распахнуты так, что будто вот-вот вылезут из орбит. – Что это за херня?! – Минотавр, – обреченно ответил Психопомп. – Подцепили, сука. – Это шутка? – Открой чат. Саша послушался и развернул окошко, в котором с одной стороны темнел силуэт Психопомпа, а с другой – зернистое изображение с его вебкамеры. В какой-то момент Саша даже не узнал себя – настолько бледным и растерянным было его лицо. А в зеркале за его спиной… – Никаких резких движений. Не дергайся, если не хочешь поделиться с ним своей аватаркой. Силуэт стоял в глубине зеркально-цифрового тоннеля и медленно, покачиваясь из стороны в сторону, шагал вперед, приближаясь к Саше. Нанося удар за ударом, он разбивал отражения вебкамеры в зеркале, оставляя за собой темноту. – Так, это же на экране, да? – сглотнув, спросил Саша. – Это на экране? – Не дергайся, говорю тебе, сиди тихо. Ты настроил жесткие диски? Параллельное подключение? – Да. Он же не у меня за спиной? – Просто медленно протяни руку в системный блок и возьмись за четвертый хард в цепи. Когда скажу – дергай. И главное – не оглядывайся. Стоило Саше это услышать, как ему безумно захотелось посмотреть: что там за спиной? Убедиться, что монстр, собранный из кричащих аватарок, существует только на мониторе компьютера и там, в зеркале, окажется лишь его отражение. А что, если отражения достаточно? – Его же нет в моей квартире, так? – спрашивал Саша напряженно молчащего Психопомпа. – Его же здесь нет? – Знаешь, откуда он появился? – неожиданно спросил Психопомп. – Чувак, он у меня за спиной или нет? – Когда люди умирали перед вебкамерами, последнее, что от них оставалось, – эти две-три секунды видеозаписи, которые, словно грязная вода, сливались в глубины Сети. – Что за… – Не шуми! – приказал голос. – Так вот, скапливаясь на дне, они сформировали это создание. Никто не знает, почему он охраняет проход, – это его программа, приказ или он просто здесь охотится. Тем временем тоннель все темнел и темнел за спиной увеличивающейся твари. Из-за ее ломаных, дерганых движений казалось, что люди на аватарках двигаются, царапают себе лицо, кричат в объектив, плачут – и все это в стиле двух- трехкадровых гифок. В какой-то момент стало казаться, что нечто вышло из зеркала и его тонкие, зубчатые от пикселей руки вот-вот лягут Саше на плечи. – Он уже близко! – Суть в том, что Минотавр опасен не только на экране. Пока он существует в любом виде, пускай даже записанный на флешку, он может нанести вред. Поэтому… – Чувак, скажи, что это только на экране! Оно ведь ненастоящее? Да?! И вдруг зеркало за спиной Саши лопнуло, обдав его ливнем острых осколков. На секунду он ощутил, как чье-то прикосновение, похожее на легкий удар током, коснулось волос на затылке. Колонки взревели, шипя и фоня, паническим: – Дергай! В первый раз влажные от пота пальцы соскользнули с гладкого пластика, но Саша тут же ухватился вновь за край жесткого диска и резко вытянул его из порта, оборвав шлейф. – В микроволновку и включай! Сейчас же! Пока он записан, Минотавр все еще опасен. Лишь через секунд тридцать, когда пластик уже потек на стеклянную тарелку, а металл искрил под излучением две с лишним тысячи мегагерц, Саша понял, что не дышит. Шумно вдохнув, будто спасенный в последнюю секунду утопленник, он повернулся к монитору. Очередная виртуальная машина была мертва. – Я не записал ссылку, – горько сообщил он Психопомпу, закрывая окно. – Это уже не важно, – был ответ, – ты преодолел Перевал. В обычный Интернет ты уже все равно не вернешься. Продолжай погружение. Следующая виртуальная машина не была похожа ни на что, знакомое Саше. Какие-то серые блоки из BIOS соседствовали с ультрасовременными элементами визуального интерфейса, больше похожими на психоделические картинки художников-визионеров. – Что это за ось? – спросил Саша из профессионального любопытства. – Ты такой не знаешь. Моя собственная. Работает только на самой Глубине, используя ее ресурсы: военные серверы, чужие компьютеры, майнинговые фермы. Такие мощности необходимы, чтобы работал «Арго». – «Арго»? – Искусственный интеллект на основе нейросетей. Я написал его сам. Алгоритмов обычной системы недостаточно, чтобы ориентироваться за Перевалом. Инфоперегрузка слишком велика, «Арго» отсеивает лишние данные, ведя нас к цели. И действительно, вместо привычного Яндекса стартовой страницей оказался все тот же безымянный поисковик с черным фоном. – Куда дальше? – Ты знаешь, что делать. Просто вводи цитату. На этот раз Саша даже не стал открывать Книгу книг. «Ищущий да обрящет». – Отлично. Это последний этап. Нужно только пройти. – Что за херь? Даже в аскетичном интерфейсе Нексуса это выглядело совершенно… невероятно и хаотично. – Где мы? – Вирусный Суп. Изначальная материя, – со скукой ответил невидимый собеседник. – Все смертельные файлы, не существующие протоколы, пустые страницы, цифровые формы жизни рождаются здесь. Рекомбинируются, растут и выползают в привычную тебе Сеть. По экрану ползали ссылки-амебы, файлы-черви метались из угла в угол, шевелили лапками верткие аудиофайлы в бесконечной черноте Глубины. – Здесь потребуется брутфорсер. Запусти подбор паролей на правильную ссылку. Выбирать уже ничего не надо. «Арго» поведет тебя. Саша отнял руку от мыши – и курсор самостоятельно заплясал по экрану. Выцепив собранную из символов юникода многоножку, «Арго» самостоятельно совершила переход. Высветилась строка ввода пароля. – Брутфорс займет добрые сутки. И это если код цифровой. У меня нет столько времени, – заметил Саша, все же запустив программу. К его удивлению, когда он договорил фразу, пароль уже был подобран – многострочная белиберда из букв и цифр. Никакая программа подбора не выдала бы результат так быстро. – Как это? Я думал… – Я знаю. Время здесь течет иначе: прошлое и будущее становятся несущественными. Чем ближе к Тихому Дому, тем быстрее идет время в Сети. Это как черная дыра наоборот. Здесь вычислительные системы работают на почти бесконечной скорости. Пока ты кликаешь мышкой – в Глубине проходят годы. – Не понимаю. Это же всего лишь Сеть. В ответ прозвучал лишь пренебрежительный смешок. На экране продолжали сменяться окна набора паролей. Брутфорсер справлялся сам, и Саша просто держал зажатой кнопку подтверждения. Тем временем монитор мерцал все ярче и чаще, заставляя болезненно потирать глаза. Кулеры шумели, будто пылесосы. В какой-то момент от системного блока начал подниматься едкий дым – пахло горелым пластиком и пылью. Один из жестких дисков заискрил, и Саше пришлось выдернуть и его. – Чувак, у меня комп горит! – Частично. Это нормально. При инфоперегрузке такое происходит с любым носителем. Мало какое устройство выдержит такие потоки. У тебя сильная машина, ты должен выдержать. – Слушай, может… – Нет, отступить уже не выйдет. Перевал – как горка. Трудно забраться наверх, но на другую сторону ты скатишься уже сам. Лучше не пытайся замедлить падение, а то зацепишься и останешься здесь. И действительно, картинки на мониторе менялись с бешеной скоростью. Палец с кнопки подтверждения давно был убран – теперь, казалось, система управляет сама собой. В какой-то момент мерцание усилилось до невероятной частоты, и Саша словно провалился туда, в бесконечные глубины кишащего вирусами, информационным мусором и отвратительными видео космоса. Комната размылась, исчезла, он летел через тьму, набитую ссылками и файлами, – не было больше видно ни монитора, ни клавиатуры, лишь мерцающий хаос. С каждой секундой или с каждым тысячелетием – Саша не различал – амеб, червей и многоножек становилось все меньше, они расползались по краям, исчезали, и наконец, когда с угла экрана пропала последняя мешанина пикселей, наступила тьма. – Поздравляю, Нео, ты добра… – Окончания фразы Саша уже не слышал. Он не слышал и не видел уже ничего. Не было ощущения кресла под задницей, не было пластиковой дымной вони из микроволновки, не было мерцающего монитора. Вместо этого Саша просто знал. Знал, что сейчас сидит в своей комнате, а по подбородку текут слюни. Знал, кто скрывался под личиной Психопомпа. Знал молекулярный состав, местонахождение, плотность и температуру каждого предмета во Вселенной, который когда-либо существовал или будет существовать. Морф зашел в квартиру, воспользовавшись ключом, который стащил у Алены. Плотно заперев за собой, он обернулся к Саше: – Ну, здорово, Нео. Тот, конечно же, никак не отреагировал на визит своего соперника. Все, на что теперь хватало его мозга, под завязку нашпигованного информацией, – это функции вегетативной нервной системы. Под креслом натекла лужица мочи. – Могу поздравить – спор ты технически выиграл, – ухмыльнулся Морф, доставая ноутбук из своей сумки. Вставив мобильный модем в порт, он включил устройство. – Не волнуйся, на свидание с Аленой я бы не пошел. Впрочем, ты и так знаешь, да? Все знаешь. Вбивая пароль от системы, Морф довольно улыбался, поглядывая на Сашу так, будто увидел его с какой-то новой стороны. – Ты ведь уже все понял? Виртуальных машин было не четыре, а пять. Ни одно устройство, за исключением самого сложного – человеческого мозга, не способно вместить в себя код Тихого Дома. Всякие спецслужбы и тайные лаборатории знали это, пытались воссоздать искусственный интеллект такого уровня, чтобы он мог сравниться с настоящим. Меня одного осенило – ведь можно загрузить Тихий Дом и напрямую в человека. Обладание абсолютным знанием – слишком большая инфоперегрузка. Лезть самому в Тихий Дом – этим или другим способом – чистое самоубийство. Прежде всего потому, что Тихий Дом – не место, а состояние. Что толку все знать, если не можешь воспользоваться, верно? Зато воспользоваться могу я. Наконец браузер на ноутбуке Морфа прогрузился, и тот, размяв пальцы подобно пианисту, занес их над клавиатурой. – А я ведь почти испугался, что ты увязнешь на Сиренах. Хорошо, что тебе хватило воли. Я знал, что на роль терминала ты подойдешь идеально: у тебя хорошая башка, и ты ею не пользуешься. Знаешь, говорят, что Тихий Дом существовал задолго до появления Интернета, задолго до появления людей. Это мы до него дотянулись при помощи Сети. Архив всего – прошлого и будущего. Представляешь, какие это возможности? Давай начнем с простого: мне нужен доступ к счетам HSBC Holding. Ключ на двухфакторную идентификацию, логин и пароль. Саша не отвечал. Стеклянные глаза, совершенно расфокусированные, смотрели в пустоту. – Ну, я жду. Тело Саши, похожее на манекен, даже дышало как-то осторожно и незаметно, будто скрываясь. Стукнув кулаком по столу, Морф подошел к нему и как следует тряханул: – Я жду! Доступ к счетам, все логины и пароли, быстро! Морф пробовал хлестать его по щекам, ковырять под ногтем зубочисткой, орал в ухо и даже тыкал карандашом в глаз, но тот никак не реагировал. Перепробовав все, Морф будто что-то понял, заметив какой-то очевидный просчет во всей своей гениальной схеме. Прогнав мелкую дрожь, он вдруг что-то осознал. Засунув поочередно оставшиеся жесткие диски вместе с материнской платой Сашиного компьютера, он вскипятил их в микроволновке, следом отправился и Сашин телефон – на всякий случай. Оглядев квартиру как следует, Морф протер какой-то тряпкой все поверхности, которых мог случайно коснуться, и самого Сашу. Даже когда грязная ветошь прошлась по глазным яблокам, тот не среагировал, продолжая тупо пялиться куда-то в погасший монитор.* * *
Саша ничего не чувствовал, но четко осознавал: он лежит в отделении интенсивной терапии в Первой Градской больнице, подключенный к системе искусственного жизнеобеспечения. Обнаружила его спустя два дня соседка – Морф не стал закрывать за собой дверь. За это время Сашины глазные яблоки высохли, в области крестца и лопаток образовались пролежни, а организм серьезно страдал от обезвоживания. Причину глубочайшей комы третьей степени врачи определить не смогли, впрочем, как и объяснить зашкаливающие показатели ЭЭГ.Саша же знал все. Знал, как вылечить рак, как избавить мир от войн и нищеты и даже как вывести первый управляемый шаттл за пределы Солнечной системы и дальше к бесконечности. Знал, как появился первый живой организм во Вселенной, и знал, как умрет последний. Чего Саша не знал, так это как пошевелить хотя бы кончиком пальца. В его голове прошлое, будущее и настоящее слепились в единый клубок безвременья. Как божество, он был всеведущ и знал ответы даже на те вопросы, что смертные еще не успели задать, но как человек он был слаб и думал лишь об Алене. О том, что Морф все же нарушит свое слово, дождется, пока девушка позабудет о Саше, предложит попить вместе кофе… Сына они назовут Олегом, дочку – Лилей. Через пять лет Морф, одержимый идеей получить доступ к Тихому Дому через человеческое сознание, попытается создать терминал доступа, соединив два мозга, – в надежде на то, что один сможет извлекать информацию из второго. Материалами для эксперимента послужат их с Аленой дети. Поняв, что потерпел неудачу, он скроется в Подмосковье, где замерзнет насмерть в заброшенном деревянном доме. Алена же, вернувшись с работы, застанет Лилю и Олега уже мертвыми – Морф сошьет их затылками без анестезии, чтобы не нарушать ясности мышления. Алена же умрет в психиатрической лечебнице спустя восемь месяцев – разгрызет себе запястья и будет втирать в них собственный кал, чтобы вызвать заражение крови. Абсолютное знание обо всем вытеснило Сашину личность, его воспоминания и эмоции. Он стал ничем и всем. Не было ничего видно и слышно, Саша был будто заперт в глухом коконе. Или же он сам был – бесконечный пустой кокон. Саша знал, что пролежит, подключенный к аппарату жизнеобеспечения, бесконечно долгие шесть лет, три месяца, пять дней, восемь часов, две минуты ровно, пока не умрет от кровоизлияния в мозг. И еще больше времени пройдет здесь, в Тихом Доме, где, словно в черной дыре, часы останавливались, так что впереди ждала бесконечность. Он хотел кричать, но у него не было рта.[181]
Le châtiment[182]

14 июля 1833 Невероятная жара. Подаренный княгиней Р. платок совсем запачкался, не видны больше ни инициалы, ни сердечко; его можно выжимать, как и мою сорочку. На комфорт в своем voyage я не рассчитывал – дорога из Санкт-Петербурга до Ипсуича выдалась весьма непростой, но каково же было мое удивление, когда по прибытии в Англию выяснилось, что за место на судне мне придется конкурировать с буквально тысячами ирландских голодранцев! Благо за достойную сумму один из капитанов предложил мне место в собственной каюте; о том, чтобы получить отдельную, речи даже не шло. Ирландские бедняки набивались битком на палубу, в трюмы и едва ли не на мачты, а все новые и новые прибывали к трапу, сыпались с пристани в воду и буквально задыхались в страшной толчее. Картофельный неурожай прошлых лет согнал шебутных кельтов с насиженных мест, и теперь, если хочешь попасть из Европы в Америку, – мирись с соседством этой кривозубой, дурнопахнущей и шумной толпы. Увидев судно, на котором мне предстояло преодолеть Атлантику, я едва не решился перенести поездку: New Hope оказался самым настоящим «плавучим гробом» – одним из тех, на которых раньше перевозили рабов из Африки. Эта старая, изношенная скорлупа поначалу вселила в меня недостойную заячью трусость, но, если подумать, она же и стала символом и флагом моего путешествия. Если моя книга все же когда-либо будет завершена, то именно «Новая надежда» станет идеальным названием для этого труда. Несмотря на жалкое состояние судна, капитан-англичанин, судя по всему, славно знал свое дело, а может, сам Господь Бог Вседержитель благоволил моей святой цели. Так или иначе штормы и бури вечно беспокойной Атлантики обошли меня стороной. Сейчас происходит выгрузка ирландских мигрантов на острове Эллис – как его еще называют, острове Слез, – и во время этой небольшой остановки, когда качка наконец прекратилась, я могу позволить себе заняться своими заметками, прежде чем New Hope пристанет в порту Нового Йорка.
Этот трактат от имени титулярного советника Степана Андреевича Костюковского,1790 года рождения от Рождества Христова, призван стать исповедью, покаянием и посланием потомкам от имени всякого, чья спина гнется под кнутом. С самого детства я ощущал свой долг и вину перед каждым невольником, что лишь по праву рождения и происхождения оказался почему-то в роли понукаемого. Моя покойная maman – царствие ей небесное – своим примером сформировала мою картину мира происшествием с сенной девкой Таськой. Таська была хороша собой, заглядывались на нее и деревенские холопы, и даже баре, что приезжали с матушкой испить чаю. Даже я, в тогда еще нежном возрасте, ощущал непривычный трепет, когда Таська приходила мне поправить постель. Все это не укрылось от глаз maman. Однажды маменька во время ужина выпила лишнего и кликнула к себе Таську, а когда та подошла – подвела ее к печи, заслонку открыла и говорит: «Ты, Таисия, гляди, дрова вроде все горят, но все по-разному. Эти – сухие да ладные, тепло да свет дают. А вот эти, с краю, посырее, – токмо дым пускают да глаза застят. Вот и на тебя мущины глядят и ту же красу видят – ложную да дымную, глаза трут, ничего не разумеют. А я-то все вижу: обыкновенно испорченную девку!» Таська и понять ничего не успела, а maman кочергу из печи выхватила и по лицу Таське мазнула. Веко одно на кочергу налипло, глаз закипел и спекся, а маменька-с сказала: «Вот теперь-то все увидят, какая ты сама есть!», а после – взяла меня за руку и повела к гувернантке – английский учить. Той же зимою я и осиротел: как-то раз холодную зимою Таська, видать сослепу, неаккуратно закрыла басинуар[183], положенный под одеяло моей maman. Уголек, по всему, вывалился из жаровни и остался лежать под покрывалом. Не представляю, как матушка могла лечь в постель и не заметить дыма – возможно, выпила лишку вина, – но смерть ее постигла страшная: она не задохнулась, а прямо-таки сгорела заживо. Притом, полагаю, моя maman могла бы и спастись, но ее любимые шелковые простыни, когда горят – плавятся и липнут к чему ни попадя. Так она и погибла в этом огненном коконе, а хоронили ее в закрытом гробу – так и не смогли отодрать обожаемый ею китайский шелк от кожи. Le châtiment, как сказала тогда моя гувернантка. В тот день я задумался о том, как хитро переплетаются события и причинно-следственные связи в головах простого люда. Не из злобы, но из отчаянной надежды растет их вера в справедливость высшую, коль человеческой здесь места не осталось. Сии мысли не оставляли меня до самого дня моего совершеннолетия, когда все права на матушкино наследство законным образом перешли в мои руки. И я пообещал себе – ценою жизни ли, свободы ли – открыть глаза людские на творящееся безумие, дабы предостеречь и спастись от грядущего Le châtiment, что уже зреет в головах тех, кто гнет спину. И верно писал опальный Александр Николаевич Радищев: «Русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость…» Таким образом, цель mon voyage есть доказать власть имущим, мне подобным, но слепым в своей безбрежной алчности, что «блажени кротцыи: яко тии наследят землю». И что молитвы тех, на чьей невольничьей спине уж не осталось целой кожи от гнета и ударов плетью, дойдут до Господа скорее тех, что произнесены жирными да сытыми губами.
17 июля 1833 Наконец-то прибыл в Нью-Йорк, переоделся в свежее. Сердце молодого государства встретило смрадом и грязью. Не сравнить с выхолощенным великолепием столицы Российской империи и уж тем более с моим сонным имением: кругом крик, визг, мельтешение, носятся кареты, голосят мальчишки-газетчики. Кругом кипит какая-то насекомая, грязная суета; за смешные два пенса – paddy бросились разгружать мою поклажу. Не успел я нанять извозчика, а уж две уличных девки – обе рыжие – предложили мне свои услуги; несомненно, определили во мне богача по трости и цепочке шатлен. Улицы кишат крысами и бездомными – больше всего тех самых ирландцев. Оборванные и грязные, они хватаются за любую предложенную работу. Лошадиный навоз покрывает улицы толстым слоем, от вони можно буквально задохнуться. Перед визитом к миссис Хиггс я предложил пенни, чтобы уличный мальчишка начистил мне обувь, – в ту же секунду меня окружила конопатая толпа. Клянча и пресмыкаясь, они разве что не вылизали изгвазданные нью-йоркскими улицами туфли до блеска. К ним прибился кучерявый арапчонок – малыш совсем, лет пяти на вид, но тут же был бит, а когда, спотыкаясь, побрел прочь – вслед ему полетели комья грязи. Возмущенный до глубины души этой гадкой сценой, я не дал мелким поганцам ни цента,
Изначальным моим замыслом было жизнеописание невольничьего быта в самых его неприглядных проявлениях – голод, жестокость, невыносимые условия и непосильный физический труд. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что очерствевшие сердца помещика и дворянина не содрогнутся, но лишь позлорадствуют, поглумятся: мол, если мужика глупого розгою не сечь да барским словом не направлять, так распустится и сгинет, пустится во все тяжкие, будет пить горькую да разгильдяйничать, душе своей и плоти на погибель. Как тут достучаться до того, кто сам себя назначил судиею над душами людскими – с фальшивым пряником в одной руке, натруженным кнутом – в другой? Лишь ужас Высшего суда, лишь зеркало небесное способно отразить и взвесить тяжесть греха властей предержащих. Как «усмиряется» мужик кнутом – так усмирится и душевладелец, заслышав свист над собственной спиною. И этот свист я запишу так, как услышу, со всякого края Земли, где гнутся изувеченные спины, где стонет люд и правит глад. Невольничья молитва громче, пуще и отчаяннее всех тех, что мы бормочем в углах красных, псалтырь читая по закладам. Не зная верных слов, не зная имени Господня, их обращенья достигают адресата, минуя бюрократию Небесных Канцелярий. К сему поведаю я первый из примеров, записанный со слов одной крестьянки из Брянской губернии (в моей редактуре, дабы не оскорблять взор читателя просторечиями).
«Я сама при дворе не служила никогда. Другие-то шастали, а мне самой в поле сподручней да на мялке. Барин-то у нас хороший был, * * * – его фамилия, а вот наследничек-то с гнильцой уродился. Я от повитухи нашей слыхала, что пуповиной его обмотало, задыхался он – долго не дышал, уж отпевать думали его, так очнулся всем на беду. Матушка его через те роды отмучилась, померла – не помогли ни мыльца от преподобного, ни хваленая мазь моренковая. Барин у нас деловой был, все ездил, а барчук с мамками да няньками, но сам себе на уме. Бывало, найдет какого кутенка или куренка – и давай измываться: то лапку ему отхватит ножичком, то лучиною прижгет. А дворовые только ходили да крестились – что ж будет, когда барчук подрастет, да не лучше ли его в постели удавить? Не решились. А барчук уж новые игрушки нашел – на конюха верхом залезет и ну его кнутом стегать, чтоб, значит, катал – по двору и дальше. Иль хвать клюку хромого старосты – и прочь бегом: старик бранится, а тот вокруг скачет и потешается. Страсть началась, когда вошел барчук тот в возраст, когда на девок принято заглядываться. Сенным прохода не давал – то ущипнет, укусит, а то и вовсе под рубаху лезет. Барину-то все не до того, а барчук знай себе наглеет; а мамки-няньки-гувернантки ему давно уж не указ. Служила при дворе у нас такая Акулина – как есть ну андел, лицом бела да черноброва, с толстенною косой. Она на выданье была, у ней и жених имелся – Антипка, кузнецовый сын. Барина ждали – просить благословенья. Но судьба иначе вывернула. Барчук ее в опочивальне своей караулил – велел воды принести, умываться, мол, хочет. А как она вошла… Того я знать уже не смею, но вышла Акулина ни жива и не мертва, а токмо рубаха разодрана, да сама в крови вся и в синяках. До хаты так и не вернулась, решилась горемычная на самогубство – в сарае за конюшней накинула петлю на балку. Веревку, значит, лошади на шею, а петлю – себе. Стегнула хворостиною, да лошадь как рванет – такой тяжеловоз был, хоть три сохи запрягай, – да головушку ее от шейки лебединой и сорвало напрочь. Когда про то Антипка прознал, хотел он барчука кузнечьим молотом учить, но не успел – сдержали мужики. Барчук его велел пороть арапником, покуда кожа со спины не слезет. Три дня и ночи умирал Антип, кричал, ругался, видел духов. Говорил, что видит адские котлы, где варится его невеста, на вечные мученья осужденная: голова в одном котле, а тулово в другом. Слезает кожа, лопаются очи, и мозжечок в костях вываривается. А там и сам Антипка помер. Его отпели, омыли, как положено. Похоронили у оградки, с невестою бок о бок – с одной стороны он, а она – с другой. И воду с омовенья старая ключница в ведерко собрала да зашептала. К вечеру барчук сызнова задумывал умываться, так ключница ту воду мертвую ему велела подать. Барчук умылся, как обычно, а утром спозаранку на охоту собрался. Велел взнуздать коня поретивее и отобрал на псарне гончих – голодных, что твой волк, чтоб не филонили, значит. Того, что было дальше, сама я не видала – кажу со слов дворового мальчишки. На лесной тропе барчук завидел зайца. В азарте бросился за ним – по псиному следу. Коня до пены захлестал, а заяц в чащу уводит. И то ли барчук не увидел, увлеченный охотой, то ли засеченный конь не услыхал команды, но ровно шеей угнездился насильщик прям меж двух ветвей. Плотно засел ногами в стременах, да так, что тулово барчука дальше за зайцем поскакало. А башка висеть осталась, оскаленная, жуткая. Когда догнали лошадь – та лежала на боку со сломанной ногою, а рядом гончие тянули барчуковы сладкие кишки». Заведомо прошу меня извинить за чрезмерно макабрические сцены, коие вы будете и впредь обнаруживать в моих записях там и тут, но случай сей отнюдь не уникален. Как говорится, кто бывал в имении Измайлова, уж в подворотнях носа не зажмет. И если голь на выдумки хитра, чего ж сказать о властью облеченных: гаремы из крестьянок, что честь бы сделали султану; переодетые в наяд и нимф, уж с малолетства «барщину» свою им отрабатывать привычно. Не удивится душевладелец ни спине исхлестанной, ни властью развращенному барчуку. А важно в той истории, что le châtiment догнал-таки злодея, и здесь не место совпаденью: причину – следствие не проследить нельзя. Нельзя сказать, какой Господь ответил тем молитвам, каковые повитуха нашептала над водою с потом мертвеца, но, видно, столько сил в мольбе невольника, что их оставить без ответа невозможно. Пускай не высшее возмездие тому виною, а лишь дурной характер барчука: судьба ему подобных незавидна и печальна. Но сей урок – первый из многих – должен стать предупрежденьем тем, владевшим безрассудно: Le châtiment настигнет всех.
21 июля 1833 Спешу запечатлеть замечательный случай, что произошел со мной намедни. Сопровождая вдову Хиггс в течение ее обычного променада, мы по обыкновению обсуждали ужасы рабского Дикси. «Представляете, – с каким-то нездоровым придыханием говорила она, – после акта Джефферсона – запрета на ввоз рабов из Африки – их количество ничуть не уменьшилось. Представьте себе, плантаторы с Юга придумали такую штуку, как племенная ферма. Я слыхала о такой в Ричмонде и на востоке Мэриленда. Только подумать: конфедераты отбирают самых здоровых особей, надевают им на головы мешки и сводят их с рабынями – плевать, хоть мать, или сестра, или дочь – натурально, как породистых жеребцов. Только вообразите!» При этих словах декольте вдовы так возбужденно колыхалось, что мне стало неприятно. А она продолжала разглагольствовать: «Когда бы судьба соизволила доверить мне управление этой фермой – я бы уничтожила ее в ту же минуту, Господь свидетель словам моим! Но что может сделать одинокая женщина в мире жестоких мужчин? Право слово, я даже размышляла, не примкнуть ли мне всерьез к сообществу аболиционистов, но эти квакеры со своей чванливой дурищей Мотт окончательно помешались на трезвости!» Вдова при этом хохотнула и пихнула игриво меня локтем. В смущении я принялся смотреть по сторонам и заприметил того самого enfant noir, что был бит ирландскими мальчишками. Малыш ковырялся в мусорной куче и выглядел крайне истощенным – черная с проплешинами головка на тонкой шее, вздувшийся живот и конечности-спички. Он походил на тех как будто обгоревших человечков, что его африканские предки рисовали на кувшинах. Желая отвлечь вдову от ее неуместного флирта, я указал на арапчонка: «Не начиная с малого, нет и шанса приблизиться к великому. Сделайте маленькое добро – и тем внесете свою лепту. Вспомните, как у Исайи: „Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом“». Я подошел к арапчонку и обратился к нему: «Малыш, как тебя зовут? Ты голодный?» Арапчонок смотрел на меня мутными глазами с гнойничками в уголках и, похоже, не понимал, что я говорю. Тогда я, предварительно обмотав ладонь платком от княгини Р., взял арапчонка за руку и изумился: до чего же она хрупкая и крошечная, точно птичья. Не желая распоряжаться гостеприимством вдовы, я решил покормить малыша в знаменитом Delmonico’s, что на Бивер-стрит; кинул пенни ирландскому заморышу, чтобы тот кликнул нам извозчика. Войти в приличный ресторан с арапчонком оказалось неожиданно непростой задачей, но тут вмешалась моя дорогая вдова: одержимая жаждой добрых дел, она так рявкнула на швейцара, что того натурально «сдуло» с поста. Официант, тоже negro, оказался уже учтивее, разве что выбрал самый дальний столик на террасе; вероятно, чтобы не оскорблять взор достопочтенных господ видом заморыша. Честно говоря, я совершенно не знал, чем кормить арапчонка, поэтому решил раскошелиться и взял всего понемногу: яйца бенедикт в соусе hollandaise с ломтиком ветчины и посыпкой из трюфелей, цыплят a la Keene в сливочном соусе, ананас, устриц, различных пирожных, три куска торта, бутылку белого вина, лимонаду и, конечно же, знаменитый стейк Black & red средней прожарки. Арапчонок, явно в жизни не видевший такого изобилия яств, сидел растерянный и хлопал глазенками в странной смеси страха и надежды: наверняка думал, что джентльмен и леди решили позабавиться за его счет и едва он откроет рот – тут же все отберут, а следом вытолкнут его взашей. А снаружи еще и наподдадут завистливые ирландские голодранцы. Эти мысли вызвали во мне такой человеколюбивый порыв вкупе с умилением, что я, недолго думая, посадил арапчонка себе на колени и принялся нарезать стейк на мелкие кусочки. Поначалу малыш недоверчиво и осторожно пережевывал мясо, но вскоре, войдя во вкус, уже сам вовсю наворачивал курятину, руками прямо с тарелки, едва успевая запивать. Тут, к своему стыду признаюсь, я подлил немного хереса в его лимонад – для аппетиту. Попробовал предложить арапчонку устриц, но тот лишь недоверчиво покосился на перламутровое ложе с моллюском и продолжил обгладывать куриную кость – настоящий дичок из племени Мумбо-Юмбо. Ничего удивительного в том, что рабовладельцы видели в рабах едва ли не животных. Сложно не заметить разницу между чванливыми джентльменами в легких фланелевых костюмах, степенно разделывающими дымящиеся стейки, и этим почти первобытным зверским аппетитом. Вскоре арапчонок перешел на пирожные, но, слопав буквально пару штук, тяжело откинулся на стуле и окинул разоренный, как после налета индейцев, стол осоловелым взглядом. Судя выражению лица, он был на седьмом небе от блаженства; он даже затянул какую-то заунывную песню без слов – очень похожую на те, которыми няньки баюкают младенцев в колыбельках, но очень скоро затих. И без того круглые глаза вдруг совсем выпучились, а цветом арапчонок изменился от темного шоколада к очень слабому кофе, сильно разбавленному молоком; на лбу его выступили капельки пота.«Воистину, алчность – смертный грех!» – усмехнулась миссис Хиггс. Я же был взволнован – ребра арапчонка ходили ходуном, воздух выходил с хрипами. На ощупь он стал почти как мороженое, которым был украшен съеденный им кусок ванильного торта. Я растерялся, но тут ситуация разрешилась сама собой – пускай и не лучшим образом: арапчонок застонал и вывалил прямо на белую скатерть половину съеденного. От такого конфуза я не знал куда прятать глаза. Вдова Хиггс малодушно ретировалась, оставив меня разбираться с происшествием. Тут же подскочил метрдотель с двумя официантами, и те принялись наводить порядок, чтобы не оскорблять ни обоняние, ни взоры других гостей, уже поглядывавших в нашу сторону с презрением; какой-то тучный джентльмен сплюнул в мою сторону откушенный кончик сигары. Смущенный, я не посмел ему ответить: в Петербурге я бы, пожалуй, вызвал нахала на дуэль, а здесь, в чужой стране, был вынужден стерпеть оскорбление. Отсчитал ассигнации и выскочил с арапчонком на руках – тот не был способен передвигаться – на крыльцо ресторана. Что делать дальше, я не имел ни малейшего понятия, и мозг мой посетила даже такая микропсихия: что, если просто оставить арапчонка прямо здесь, на улице, да кликнуть поскорее извозчика? К счастью, ситуация разрешилась сама собой: на крыльце ресторана тощая и одетая в лохмотья негритянка о чем-то скандалила со швейцаром, явно пытаясь попасть внутрь. Увидев меня с арапчонком, она тут же оставила швейцара в покое и бросилась ко мне; выхватила малыша и принялась мне что-то злобно выговаривать. Не зная куда деваться от стыда, я вместе с тем испытал облегчение – ребенок воссоединился с матерью. Наспех выхватив целый квартер, я втиснул монету в ее пыльную ладонь и поспешил в ближайшую скобяную лавку, а вслед мне неслась какая-то неразборчивая брань. Полагаю, негритянка увидела во мне щедрого безумца, готового раздавать еду и четвертаки направо и налево, и твердо вознамерилась добыть еще. В скобяной лавке я старательно делал вид, что меня невероятно интересуют литые пружины, а за окном звенело: «Ti bebe! Ti bebe!» Наверняка это означало что-то вроде «дай». Я изо всех сил старался не оборачиваться, но все же не смог не заметить: по холщовому платью арапчонка ползли какие-то красно-бурые потеки. Я прождал добрых минут десять, прежде чем ее прогнали полисмены. Обсудив происшествие с вдовой за вечерним чаем, мы пришли к выводу, что доброделание без рассудительности лишь вредит тем, кого намерен облагодетельствовать. Приведу слова вдовы Хиггс: «Вы с ними по-доброму, а им, бедняжкам, эта доброта боком выходит. Сами посудите: какая у негра доля? Мыкаться по белу свету, переходить из рук в руки. И такая минутная доброта – ваша же слабость – лишь подчеркивает беспросветность их бытия. Им сколько ни дай, все не впрок. Дайте им рыбу и нанесете вреда более, чем принесли пользы. Научите ее ловить – и вам воздастся за ваши труды сторицей. Лишь под надзором белого человека они научатся быть свободными, а предоставленные сами себе лишь ожесточатся и погрязнут в пороке. Шаг за шагом! Вспомните: и евреям потребовалось сорок лет хождений по пустыне, чтобы вытравить из себя рабскую натуру, что уж говорить о ниггерах?» После ужина в постель я лег в смятенном, неспокойном состоянии духа.
21 июля 1833 (вечер) Спешу засвидетельствовать произошедшее нынешней же ночью, пока ясная картина не растворилась под рассветными лучами. Я засиделся за своими заметками, когда вдруг услышал какие-то жуткие нечеловеческие крики под своим окном. Выглянув осторожно на балкон, я увидел давешнюю негритянку и поначалу даже возмутился: неужели оборванка выследила меня и решилась попрошайничать прямо здесь? Но, приглядевшись, на руках ее я увидел арапчонка. Он был совсем белый, впору подумать, что негритянка украла чужого ребенка, но я узнал его по раздутому животу и плешивой головенке. Un petit negre лежал безвольно на коленях матери и, кажется, не дышал. Мать же смотрела прямо в мое окно – ошибки быть не могло – и выла что-то неразборчивое на неизвестном мне языке. То и дело она прикладывалась лицом и губами к вздутому животу своего дитяти, мазала его уличной грязью, точно пыталась похоронить без могилы. Я ни слова не понимал из изрыгаемой ею тарабарщины, но по заплаканным глазам и рычащим интонациям было ясно: она винит меня в смерти своего ребенка. Не могу передать, как в тот момент сжалось мое сердце. Будь я сильнее духом, я бы вышел сам на улицу и выслушал, принял весь материнский гнев лицом к лицу, но слишком страшно было мне от мысли, что может сделать обезумевшая в горе мать с убивцем собственного сына. Потерянный и раздосадованный, я позвал служанку и попросил прогнать безумную прочь от особняка. Служанка подняла с постели старика Фреда, и тот, хромая, вышел к негритянке, но женщина была будто глуха и слепа – сверлила черными буркалами мое окно, вздымала руки к небу. В свете луны покрывшая их кровь казалась черной. Приглядевшись, я не мог понять, откуда кровь: на дичке ни царапины. Конечно, не считая тех, что покрывали бы обычные мальчишеские ноги. Над спящим городом стелилась безутешная нения, пробуждая по всей округе белых господ, что незаслуженно дремали снами праведников. Раздался очередной куплет, и негритянка вцепилась ногтями в собственное лицо, оставив длинные потеки крови, – вот она откуда. Увещеваньям Фреда безутешное созданье не вняло, пришлось позвать полисменов. Те споро скрутили несчастную и увели прочь. А дичка труп остался где лежал – прямо под моим окном. Я лег в постель; душа была полна унынья. Сон не шел. Не выдержав терзаний, я спустился вниз, в каморку, где обитал старый Фред. Хромой старик еще не спал, и я спросил его: не знает ли, о чем была литания несчастной? Старик, что, на удачу, знал креольский, ответил: «Песнь была та не о скорби, масса. Зловещее то пожелание: „Да сбудутся страшнейшие твои кошмары, да плюнет Мама Бриджит ядовитою слюною тебе в душу, да станет смерть пусть слаще жизни!“» Такое пожеланье мне оставила рабыня. Надо сказать, тревога и уколы совести смешались во мне с восторгом: неужто даже здесь, на Севере, я стал свидетелем творения невольничьей ворожбы? Я думал попросить старика Фреда записать мне эти строки, но бедняга, как выяснилось, ни читать, ни писать не умел – за обучение сей науке negroes ломали пальцы. Надеюсь, там, в Луизиане, найдутся те, кто сможет мне помочь восстановить – хотя бы по памяти – те строки. Для науки и потомков.
24 июля, раннее утро, 1833 год Чтобы успеть на утренний паровоз до Балтимора, пришлось пренебречь завтраком. Слава Создателю, как говорят американцы, что препоручил подготовить к поездке мой скарб старому Фреду, а вовсе не бестолковым ирландкам – эти бы провозились до полудня. Вдова провожала меня как будто с легкой грустью: мнится мне, она ожидала от моего визита большего (вымарать, чтобы не порочить честь миссис Хиггс). Путь предстоит неблизкий – чтобы добраться до Луизианы, мне придется сделать крюк вдоль Восточного побережья до Балтимора, и эта часть поездки обещает быть комфортной. Далее мне нужно будет пересесть на пароход и спуститься южнее по реке Огайо до самого Канзас-Сити, что на границе с Миссури. Об этом пароходе также отзывались весьма недурно, а вот следом я отправлюсь через дикий Юг, в самую его глубь, и чего ожидать от этого, я не имею ни малейшего представления. Пожалуй, мне стоило брать с собою меньше багажа. В крайнем случае я смогу оставить часть в какой-нибудь гостинице в Балтиморе, а забрать на обратном пути. Думаю, поступить так разумнее всего. А пока, в комфортабельном купе, думаю, будет уместно заняться моими заметками.
В деле сломления чужой воли не стали исключением и далекие собратья-азиаты из Страны Восходов. В кровавые и темные далекие века – периоды Нара и Хэйан – они жестоко и недальновидно существовали обществом раскола: людей делили на рёмин и сэммин. Сэммин – то слово, что людей мешало с грязью; ужасен перевод – «подлые люди». А вся их подлость заключалась лишь в рождении в семье себе подобных – в касте рабов и бедняков. Но то преданья старины глубокой, не вижу толку разбирать здесь, что есть правда, а что ложь. Гораздо ближе к теме моих изысканий стоит история рабыни Нацу. Родового имени ее история не сохранила, зато известны точно даты: то были годы храбрых капитанов, морских волков и гроз ветров, когда весь мир пред человеком открывался, подобный раковине с жемчугом. То был ревущий ветром тысяча шестьсот тридцатый: галеоны португальской Ост-Индской компании приставали к берегам Японии. Покуда шли торги кораллами и серебром, матросы ринулись исследовать дома, где шли торги другого рода – весною; как называют их квартал – «юкаку». Матросы погружались в оргии разврата. Жужжала Йошивара от наречья португалов. Кто побогаче – капитаны и торговцы – возлежали головами на коленях горделивых таю, слушая сладкоголосый кото; кто победнее – матросня, солдаты – истязали плоть несчастных юдзё и хаси-дзёро, что в переводе означает «проститутка за решеткой». Немало было среди них решивших добровольно продавать свою весну, не меньше было проданных их за долги иль собственной семьею, чтоб крохи получить на пропитанье. Одной из тех была и Нацу – бедняжка родилась с одной рукою, и сироту продали, чтоб прокормить других детей, кому удача улыбнулась больше. Девчонку не ждала судьба камуро – ученицы: о-каа-сан сочла ее уж больно неуклюжей, не вышло б из бедняжки ни ойран, ни таю горделивой. Девичество ее продали за бесценок, едва несчастной стукнуло двенадцать, а после – посадили за решетку, плоть услаждать подонков и оборванцев всех мастей. Матросам португальским приглянулась Нацу – договорившись с о-каа-сан, ее купили за десяток монов. Таких рабов – всех проданных гайдзинам – именовали страшно: сейко – «живой рот». Бедняжка Нацу уж надеялась, что гайдзины окажутся добрее к ней, но на горемычную сиротку будто сыпались несчастья. Забрав девчушку на корабль, матросня не стала церемониться с бедняжкой: ей определили место в бочке. Кормили ее гнилью и соломой, куражились и мучили; доводили жаждою до исступленья, после – поили девочку морской водой. Не говорю уже о том, что пользовались ею «по назначенью» – ни дня не проходило, чтоб бедняжка не баюкала в слезах растерзанное португалами нутро. Недолго длились те мученья – Нацу вскоре захворала. И, погибая в бочке, полной нечистот, она, малышка, призывала кары на головы своих мучителей-гайдзинов, а те лишь насмехались, не понимая ее слов. Когда же неудачливая сейко отмучилась, ее все с той же бочкой швырнули за борт. А следом начался кошмар: матросы в муках умирали, их лица покрывали язвы, гнили глаза, проваливались их носы, крутил кишки понос кровавый. Дошли до порта на Гоа лишь крохи, но на берег им сойти не дали, страшного проклятья опасаясь. Эту историю нередко рассказывают старые японцы-рыбаки и молодые гейши – и в развлеченье скрыто назиданье: Le châtiment неумолим и неизбежен. Рассказывают, будто Нацу себя в невесты Умибодзу завещала: морской ёкай, водный монах, является он людям черным исполином, чья лысая глава с утес размером над волнами всплывает под луной. И Нацу свою плоть и душу отдала чудовищу пучинному – не чтобы выжить, а во имя мести грязной матросне. Само собой, виною гибели экипажа было не японское проклятье, но французская болезнь, иль по-другому – люэс обыкновенный. И помогли бы не молитвы, но простая ртуть.
26 июля, 1833 год Страшная жара. Купе похоже на самую настоящую духовую печь. Я, не сочтите за вульгарность, был вынужден остаться в одной лишь сорочке, но и это совершенно не спасает от липнущей влажности. Вдобавок я, похоже, во время поездки через Атлантику подхватил от ирландцев каких-то особенно надоедливых блох или вшей. Притом ни одно насекомое или хотя бы даже гниду мне обнаружить не удалось. Поначалу я грешил на постельное белье в купе – был уверен, что дело в клопах. После третьей смены белья зуд так и не прекратился: во время одной из остановок я купил у торговца, похожего на индейца, тисовую чесалку для спины и теперь весь покрыт четверками зудящих царапин, будто от детских пальчиков. Большая выдержка требуется, чтобы не чесаться хотя бы в тех местах, что не прикрыты одеждой. Особенно дурно приходится голове – под волосами кожа покрылась кровавыми корками от постоянных почесываний. Какой позор! Слава богу, в Америке у меня больше нет никаких знакомых и некому стать свидетелем моего позора!
27 июля 1833 год Балтимор оказался той еще дырой. С трудом мне удалось обнаружить более-менее приличное место, чтобы подкрепиться перед пароходом; даже швейцар здесь был не арап и не ирландец, а вполне себе белый не то немчик, не то француз. Проходя мимо него в открытую дверь ресторации, я не мог не отметить, как швейцар с откровенным презрением оглядывает мою плешивую исчесанную голову – от непрестанных попыток унять зуд волосы полезли клоками. Никаких чаевых он от меня, разумеется, не получил. Ловил себя на мысли – не сбрить ли мне свою каштановую шевелюру и не обзавестись ли париком, но, во-первых, качественный парик – удовольствие не из дешевых, а во-вторых, ума не приложу, как носить его на этакой жаре. В ресторации я отобедал ужасно пересушенными садовыми овсянками в мятном соусе: было не разобрать, хрустят ли то хрупкие косточки или жесткое, как подошва, мясо. Я читал, что приготовление этого французского блюда не имело никакого отношения к гуманизму: несчастной птичке выкалывают глаза и сажают ее в коробку с зерном, отчего та начинает есть сверх всякой меры и буквально заплывает жиром; после бедняжку живьем топят в арманьяке, где та маринуется, а затем она отправляется на вертел. И даже зная все это, я ничего не могу с собой поделать – слишком уж я влюблен в этот божественный вкус. Откровенно, я едва не плакал, понимая, что повар просто уничтожил мясо и буквально обесценил страдания маленьких птичек; я едва удержался, чтобы не закатить скандал метрдотелю, но мне еще предстояло немало дел в городе. Балтимор меня разочаровал до крайности – грязные улочки, заполненные бедняками; без дела слоняющиеся негры и совершенно кошмарный балтиморский английский. С ужасом предвкушаю, какая встреча меня ждет на еще более жарком и менее цивилизованном Дикси. К вечеру я нанял пару носильщиков-ирландцев, чтобы те перенесли мой багаж на пароход. Истинно говорю: столь бестолкового мужичья я не видел ни в жизнь; только природно свойственное мне человеколюбие и глубокие гуманистические убеждения удержали меня от того, чтобы отходить этих бездельников по спинам тростью. Теперь, когда пароход тронулся и вечерняя прохлада от реки несколько облегчила мои мучения, я могу, наконец, отложить чесалку и вернуться к записям.
О порочной сути крепостничества можно рассуждать долго. «Заповедные лета», провозглашенные царем Иоанном IV Грозным из рода Рюриковичей, ознаменовали долгий и длящийся поныне период нарушения всех Господних заповедей. Иезуитская логика одиозного и широко известного в определенных кругах господина Грибовского подарила дворянству своеобразную индульгенцию (далее – цитата): «Торговля идет не душами, а обязанностями, душа не имеет к этому отношения». Есть в этом, однако, и своя ирония, ведь именно «душами» именуют крепостных в официальных документах. Однако, действительно, Quae sunt Ceasaris Ceasari etquae sunt Dei Deo, то есть кесарю – кесарево, а Божие – Богу: именно духовный, внутренний мир подневольного остается единственно неприкосновенным. И нет ничего удивительного в том, что угнетенное крестьянство принялось искать защиты там, где у распоясавшихся дворян не оказалось власти: в мире духовном. Позвольте в качестве примера привести вам следующую историю, записанную мной со слов одного знакомого душеприказчика. Главным героем этой истории выступит некий помещик. Дабы не называть имен и не возводить напраслину на фамилию – все-таки это научный труд, а не сатирический пасквиль, – я обойдусь псевдонимом С. Этот С. обитал в Пензенской губернии и слыл весьма зажиточным помещиком: огромное наследство досталось ему от многочисленной родни, погибшей во время Пугачевского восстания – урока, который следовало бы усвоить. Будучи человеком суровым, можно даже сказать жестоким, С. при этом обладал достаточно изощренной фантазией и необычной страстью к коллекционированию. Крепостные у С. ходили исключительно, что называется, по струнке. Самовольство, непослушание, леность и прочие подобного рода проступки были редкостью в этом имении. Объяснялось это тем, что С., будучи не ограничен в средствах, выписывал себе из Европы самые разнообразные орудия пыток – от немецкой «железной девы» до знаменитого «испанского сапожка», да еще без счету разнообразных клещей, щипцов и «масок позора», которые используются, чтобы вливать кипяток и разогретую смолу в глотку приговоренного. В случае малейшего неповиновения С. устраивал самый настоящий «суд» над провинившимся. В качестве присяжных и адвокатов он использовал многочисленную дворню. Приговор неизменно был суров: замучивание до смерти посредством одного из многочисленных ужасных устройств, любовно собранных в коллекцию. Разумеется, подневольные столь жестокого барина не могли не пытаться хоть как-то улучшить свое положение. Были даже попытки дойти с жалобой до царя-батюшки – покойного Александра I, но безуспешно: крестьян поймали как беглых и согласно Соборному уложению от 1607 года возвернули хозяину. Полагаю, судьба неудавшихся просителей была незавидна. Но не буду ходить вокруг да около, а перейду сразу к тем событиям, которые бы я хотел привести в пример. Далее – записано со слов душеприказчика, который узнал эту историю из уст ключницы. «Долгая весна выдалась тогда, холодная. Сеять-пахать – все без толку, все едино – дождем размоет. Барин все хандрой мучился – хотел на лето поехать в Петербург, подальше от жары, да куда там: дороги раскисли – ни проехать ни пройти. Да и хозяйство участия требовало. Затосковал барин да придумал такую штуку: домашнее стрельбище. Да не просто стрельбище, а, значит, с движущейся мишенью. Велел он сарай освободить да скамейками оградить место стрельбы. А после – приказал конюхам найти какого-нибудь бобыля или сиротку, а лучше всего мальчишку, чтоб, значит, пободрее скакал да бегал. Вскоре вернулись конюхи – притащили сухорукого мальчонку. Им сказали, мол, ничейный, они и не стали разбираться. Запустили его, значит, в этот загон и наказали бегать да крякать – как утка на охоте. Славно потешился С. – сначала мальчонке в ручку выстрелил, опосля – в другую, дале – в ножку. А как тот упал, горемычный, так он его ногами и забил. А вечор вернулась с поля мамка названая, что сухоручку из жалости приютила. И давай она выть-рыдать да на все лады барина распекать. Отходили ее розгами, чтоб, значит, слух барский не оскорбляла своими криками. А после не видел ее никто. Через неделю нашли – на болотах, нагую да сумасшедшую, зверьми как будто подранную. Да только царапины и ссадины эти в письмена складывались. Никто их прочесть не мог, а голова от того болеть начинала и шепоты всякие мерещились. Вернули ее в усадьбу, отстегали, как водится, да в темничке заперли, покуда решали, как с ней дальше быть. А ночью девка дворовая слышит: барин у себя в спальне блажит да молится. Думала, сон дурной ему приснился. Зашла – глядь, а там тело сухоручки того выкопанное в креслице сидит. Глазки уж высохшие приоткрыты и на барина так страшно пялятся, а барин перед ним на животе ползает, аки червь, да прощения вымаливает. Наутро девки пришли – а тела-то и нет, только землица могильная кругом да барин на полу спит. Так и повелось ночь за ночью. Заходить уж никто не решался, да и сам барин запирался изнутри. А через неделю – бах! – выстрел. Сбежались дворовые к барской спальне, а тот не открывает. Дверь выломали, глядь – а барин-то с левольвертом во рту, а глазища такие напуганные. А напротив – сухоручка сидит и вроде как улыбается, или кожу ему так стянуло в могиле». Как я слышал, поместье С. крестьяне после всего разобрали по кирпичикам и местные еще долго давались диву страшным чудесам, обнаруженным в подвалах. Разумеется, крепостные С. были уверены, что приемная мамка сухорукого мальчика наслала на барина некое языческое проклятие – неспроста же на ее теле появились странные письмена. Крестьяне были уверены, что это – печать договора, заключенная с древними болотными силами, с которыми бедная женщина расплатилась собственным разумом, то есть самой что ни на есть душой. Здесь мы видим классический случай, как невольничий фольклор выдает желаемое за действительное: именно вера в некоего неподвластного дворянству защитника обездоленных лежит в основе данной истории, в которую одновременно заключены и предостережение для держащего кнут, и надежда для кнутом понукаемого. На самом же деле, полагаю, Струйского просто свела с ума обыкновенная падучая, которой, как выяснилось, тот страдал с самого детства. На фоне сильнейшего перевозбуждения, кое не чуждо даже самым черствым из сердец, заболевание обострилось и вылилось в такую вот по-настоящему макабрическую историю. Но Le Châtiment вновь ложится в основу этой, безусловно, занимательной фольк лорной единицы и падает в копилку представлений кротких о божественной справедливости.
29 июля 1833 года Зря я надеялся на облегчение, которое обещали холодные воды Огайо. Чесотка не прошла, а и вовсе усилилась. По утрам я начал находить под ногтями целые корки перхоти и кожи; то же самое обнаруживал я и на простынях. Полагаю, дело все же не в паразитах, а в какой-то подхваченной мной кожной инфекции. Не удивлюсь, если моя доброта по отношению к дичку в Нью-Йорке вышла мне боком: кто знает, по каким нечистотам ползал этот enfant noir[184], царствие ему небесное. Пароходный врач уверил меня, что никогда с таким не сталкивался, хотя и намекнул, что, возможно, дело в моей sexual immoderateness[185], как тот выразился. Я, конечно, принял это как личное оскорбление, а выписанные мне ртутные капсулы не потрудился приобрести. Однако появляться на публике с разодранной в кровь головой я не решался, а потому при первой же возможности – пароход встал в каком-то захолустье – купил за баснословных четыре доллара целую коллекцию соломенных шляп. Если я переживу mon voyage – из них выйдет недурной сувенир. Чесалку я, как следует поразмыслив, выбросил за борт – пользы от нее немного, а вот вред спустя время стал очевиден: на сорочке то и дело выступали капельки крови в особенно расчесанных местах. Боже, помоги мне!
3 августа 1833 года Прибыли в Канзас-Сити. Дыра дырой. Измотанный дорогой, я даже не нашел в себе сил осмотреть город. Остаток пути я мучился страшной тошнотою, будто снова преодолевал бурные воды Атлантики. Подозреваю, что все дело в неграх, работавших на бортовой кухне: не удивлюсь, если они вовсе не мыли рук перед тем, как трогать продукты. Конечно, negroes нуждаются в очень серьезном воспитании, и за это, безусловно, ответственны именно мы – просвещенное цивилизованное общество. Впрочем, довольно на сегодня работы: проведу ночь в гостинице, а утром мне предстоит пересесть на пароход до Нового Орлеана, где меня ждет финальная цель моего пути.
4 августа 1833 года Ночь выдалась ужасной. До самого рассвета меня терзали разного рода кошмарные видения: будто я вдруг почему-то превратился в того самого графа Струйского, а в руках у меня – левольверты, и я стою в его домашнем тире. А там, отгороженный скамейками, сидит тот самый арапчонок, которого я так недальновидно угощал в Нью-Йорке. Enfant noir не шевелится и только жалобно-жалобно мурлыкает ту самую жуткую песню, что выла мне под балконом его мать, – да не детским, а женским голосом. И я пытаюсь его взять на руки, вынести из этого проклятого тира, но в руках у меня неизменно оказываются левольверты. А потом я лежу в постели с maman – она протягивает обгоревшие руки и укрывает меня пламенеющим покрывалом. Я мечусь, пытаюсь вырваться, а она укутывает да укутывает. Мне нечем дышать, и я кашляю дымом. Наутро я обнаружил себя замотанным в простыни, будто в кокон. Ужасный сон. К тому же на простынях я нашел пятна крови, а на себе – следы от чертовой чесалки: по четыре красные линии. Но ведь я выкинул чесалку еще на пароходе! Безумие какое-то!
7 августа 1833 года Сел на пароход до Нового Орлеана. Сплавляться по Миссисипи мне предстоит почти две недели, и сидеть затворником в каюте не представляется возможным: в замкнутом помещении от качки и жары можно совершенно свихнуться. Посему приведу себя в порядок, насколько это возможно, и попытаюсь вести хотя бы подобие светской жизни. К тому же, кто знает, вдруг общение с попутчиками позволит мне обогатить эти заметки. В немалой степени я обеспокоен вероятностью, что диагноз пароходного врача был не столь ошибочен: на коже проявилась на редкость назойливая сыпь, а местами, особенно под мышками, взбухли не то бубоны, не то гнойники. Здесь, наверное, мне следовало все же попросить уже у здешнего доктора ртутной мази, но слухи подобного рода разносятся в закрытых обществах очень быстро; не хотелось бы, чтобы местная публика принялась шарахаться от меня, как от чумного. В исступленной чесотке я решился все же вскрыть один гнойник и едва не завыл от ужаса: кожа под ним омерзительно почернела. Преодолевая себя и шипя от боли, я залил ранку виски и забинтовал старой сорочкой от греха подальше. Остается лишь молиться, чтобы это оказалась не гангрена, а лишь необычный след экзотической болезни.
9 августа 1833 года Первый же собеседник, и какая невероятная удача! В результате чистейшего совпадения мне удалось познакомиться с сыном плантатора из округа Покахонтас, что в Западной Вирджинии. Тот ездил заключать деловые сделки в Балтимор и теперь, явно довольный результатами, возвращался обратно на Юг. Этот господин вел себя до крайности омерзительно, надрался как свинья и общался со своим черным камердинером исключительно посредством пинков. Несмотря на резкую неприязнь, вызванную во мне этим избалованным и явно до предела порочным «барчуком», я тем не менее решил воспользоваться ситуацией. Алкоголь развязал моему собеседнику язык, и выяснилось, что мистер Д. (приличий ради, его имя я оставлю в секрете) оказался не понаслышке знаком с негритянским фольклором. По словам мистера Д., его собственная матушка пала жертвой «ниггерского проклятия». Далее записано с его слов.
«Случилось это, когда мне едва исполнилось семь. Мой отец владел тогда еще совсем небольшой плантацией. Матушка моя Люсинда – на сносях, сестричка Эмили, я и десятка три ниггеров, трудившихся в поле. Еще дядюшка Тим, надсмотрщик, и его свора. Не смотрите на мой костюм, мистер. Все это заработано честным трудом; мы, сэр, простые люди, н-да. Жили ниггеры у нас не сказать чтобы хуже, чем у прочих. Я-то и по Луизиане поездил, и в Катахуле и Джексоне побывал. Так вот, мой отец, Д.-старший, был для ниггеров милосердным хозяином, даже незаслуженно добрым. Видал я плантации сахарного тростника, где на ниггеров надевали железные маски, чтобы те не смели жевать сырье; а руки у них все были покрыты ожогами от жженого сахара. Отец же был добрым христианином и никогда не поднимал ни на кого руки без повода. Помню, когда поймали одного беглого раба при попытке бежать, Д.-старший даже не стал его клеймить как беглеца. Только продержал его сутки в выгребной яме, а после – продал за бесценок заезжим работорговцам. От ниггера так смердело, что тех пришлось едва ли не уговаривать на покупку. Так вот, тот год был неурожайным. Град выпал, поди, как Божья кара за то, что мы ниггеров на эту землю привезли. Белый чистый град лупил по грязным ниггерским спинам с особой яростию, я сам это видел с веранды. В городе побило одного белого и девять ниггеров до смерти. Значит, ниггеров Бог любит в девять раз меньше, так я тогда понял. Н-да… Весь хлопок полег, вот отсюда и до самой границы штата. Негры ревели, как животные. В основном насмерть побило тех, что помельче были. Вон там, у реки, лежало четыре трупа. Гуськом. Глупые ниггеры бежали от реки, где купались, и буря била им по лицам. Они не догадались спрятаться. Так и легли. Как бежали, в рядок. Туда же и прочие ниггеры стянулись, поскулить да попрыгать, как они любят… Да… Истинно говорю, их кривляния с крестом никакого отношения к Христу не имеют. Зря мы их крестили. Бог все равно их к себе не примет, он это ясно дал понять в тот день. Н-да… А после грянула засуха. Вот видите, сэр, где сейчас берег? Так вот, вода отошла от него на сорок футов. И это были сорок футов скользкой глины и вонючей дохлой рыбы, я вам истинно говорю. Негры протоптали тропинку по обнажившемуся дну среди рогоза и камышей, черпали воду и брели обратно. Вода текла из ведер, а они натаптывали глину в мерзкую жижу, похожую на кал. И там водились черви, н-да… Ноги у ниггеров были все ими покусаны. Нам приходилось нелегко, без сырья на продажу мы едва сводили концы с концами. Долгое время отец думал, что может сохранить всех ниггеров. Но, ясное дело, прокормить такое стадо во время засухи было вовсе невозможно. Стоило продать хотя бы треть, да только кто бы их купил – у всех в округе посевы побило, а их же нужно чем-то кормить да поить… Нда-а. Тогда отец решил, что начнет кормить ниггеров так, как будто их уже меньше на треть, ниггеры всё поймут, и вскоре их станет меньше. Он перестал закупать свинину и курятину, оставив им их обычные кукурузную муку и картофель. Так был шанс продержаться до следующего урожая и не пойти по миру. Но ниггер, мистер, он жаден и неблагодарен. Собравшись толпою, они обратились к моему отцу с требованием улучшить им паек. Ясное дело, мой батюшка дар речи потерял от такой наглости; досталось им, ясно дело, крепко. Дядюшка Тим спустил свою свору, одного даже насмерть подрали, зато больше таких «делегаций» не появлялось. А тут еще дьявол надоумил одну из рабынь – кажется, ее звали Гарриет – взять да и понести от кого-то из этих остолопов. Они же, известный факт, существа донельзя развратные. Мозг ниггера, как говорят ученые, меньше нашего и даже меньше, чем у китаёзы, зато колотушки такие, что не в каждые брюки влезет. Да и зачем ниггерам брюки? В общем, кто-то из этих молодчиков ее и обрюхатил. А Гарриет у нас работала прислугой в доме, ну и начала, значит, подлизываться к матушке да лишний кусок выпрашивать и вроде даже что-то с кухни стащила. Матушка отцу пожаловалась, а он, как прознал, не буду греха таить – всыпал ей по первое число; да так, что та едва не на карачках к себе уползала. А вскоре и плод скинула. Как говорится, good riddance to bad rubbish (примечание: «баба с возу – кобыле легче»). Была у нас одна ниггерша, она на кухне работала. Отец ее уже взрослую купил на Барбадосе. чтоб она в пути ему жрать готовила. Ну и так привык к ее стряпне, что с собой привез, а не продал корабельной шлюхой, как обычно. Звали ее по-ихнему, как-то Титуба или Тапива, я не разбираюсь, мы ее Татой называли. Нда-а… Она часто с курами возилась, то перья соберет, то глаз выдерет, да к ниггерам шла, мазать этой гадостью им лбы да кости вправлять голыми руками. Как с любимыми собаками, возилась с ними. Ясное дело, к нам ее с этаким добром не подпускали, а вот ежели ниггер, скажем, подхватит лихорадку или еще какой недуг либо ногу сломает, Тата что-то намешает, нашепчет, и вот уже и лекарств никаких не надо – полезная, словом. Но, оказалось, помимо прочего, Тата умела что-то еще – гадкое да богохульное, потому что… Сейчас, мистер, верьте или нет, а произошло следующее. В тот вечер Тата наготовила к ужину настоящий пир: сочащийся кровью ростбиф, нежнейший суп из кресс-салата, жаренный на сливочном масле картофель, печеная индейка, пирожные и еще какое-то огромное блюдо, которое, кажется, состояло наполовину из приправ, а на вторую половину – из нежнейшего мяса, таявшего буквально на языке. Сколько отец ни спрашивал Тату, откуда такое роскошество и, главное, что это за мясо, она так ничего и не смогла объяснить, как язык проглотила. Наелись мы от пуза, до легкой дурноты; особенно еду нахваливал дядюшка Тим. А ночью, когда все спали, нас разбудили крики из спальни матушки. Мы с сестрой хотели броситься на помощь, но отец захлопнул дверь перед самым носом. Через замочную скважину я увидел только кровь на простыне, а еще слышал матушкины крики: «Он залез в меня! Он шевелится, я его чувствую! Он ест моего ребенка!» С того дня матушку мы живой не видели. Дверь в спальню оставалась заперта, а заходить туда разрешалось только врачу, приезжавшему из города, да рабыням – те выносили ведра, полные бурой от крови воды. Через три дня моя дорогая матушка скончалась, н-да. Перед смертью она страшно бредила, и мы слышали через стенку ее крики: она утверждала, что нерожденное дитя Гарриет залезло в нее, сожрало внутри нее плод и теперь грызет ее плоть острыми белыми зубами. Не скрывайтесь, мистер, я уже вижу этот скепсис на вашем лице. Только я вам скажу вот что: доктор с разрешения отца все же извлек плод – тот оказался черным. Черным, как ниггер! Повесили Тату, наверное, седьмого июля, если уж матушка шестого почила. А дергать ногами она перестала только девятого, получается. Нас из дому в те дни не выпускали, пока мать хоронили, да мы из окна видели, прямо из столовой. Ветра нет, а она вдруг закачается да давай ногами стучать. А по ночам будто напевать начинала. Как матушку зарыли – так оно и прекратилось. Ниггеры потом говорили: дождалась, мол. Так не терпелось ей с матушкой в аду увидеться, что в окна к нам заглядывала да пританцовывала. Н-да… Отец мой после того случая за правило взял: не пытаться исправить ниггера. Вы же не пытаетесь исправить опоссума, который куриные яйца пожрал? Он не поймет вас. Вы просто бьете черенком от лопаты ему по башке – и кидаете в яму. Есть у вас опоссумы там, в России? Нет? Повезло же вам. Избавил вас Господь от опоссумов и от ниггеров. Пусть так будет и впредь».
Я счел лишним говорить своему собеседнику, что, вероятнее всего, причиной кончины его матушки стала самая обыкновенная смерть плода в утробе. Не удивлюсь, впрочем, если смерть плода была вызвана теми самыми неизвестными приправами, добавленными в еду черной кухаркой. Пожалуй, такому грязному, гнусному отравительству действительно нет оправдания, но причину очередного Le Châtiment любой читатель без труда проследит. Как и сам, без моей подсказки, догадается, что черный цвет плода обусловлен обыкновенным гниением и, соответственно, причиной смерти матушки молодого мистера Д. стал самый обычный сепсис. Если, конечно, не предположить крамольно, что Гарриет была не единственной любительницей «колотушек». Так или иначе эти простые объяснения ничуть не умаляют этнографической ценности данной, безусловно показательной истории. Касательно же «пенькового фанданго» кухарки, как это называют в Испании: вероятнее всего, мой собеседник лукавил, говоря о милосердии своего дорогого батюшки, и тот просто избрал наиболее болезненный способ повешения для убийцы своей жены – когда тело опускают на веревке медленно, а петлю затягивают совсем чуть-чуть. Так казненный может мучиться часами и даже днями, медленно изнывая от удушья.
10 августа 1833 года Совершенно не получается думать о работе. Речная прохлада нисколько не спасает от жары; вдобавок сладкая кровь белых привлекла москитов. Negroes как будто не замечают, а вот почтенные дамы в кринолинах и господа в летних костюмах то и дело почесываются от укусов. Кажется, насекомые кусают чернокожих как-то менее больно, чем нас, белых. Впрочем, в глубине души я благодарен гнусу: мне, с моим чесоточным недугом, удалось наконец затеряться на общем фоне. Стоит запустить руку под шляпу, как под ногтями остаются хлопья перхоти с красными прожилками. Поначалу я имел привычку каждый вечер оглядывать себя в зеркале и сдирать корки, но отныне ложусь спать так, не раздеваясь, в глупой детской надежде, что если о проблеме не думать, то она исчезнет сама собой. По иронии, книга моя ровно об обратном: необходимости купировать грядущую беду в зародыше – до того как невольничьи верования переплетутся вместе и выльются в кровопролитное общемировое восстание. Здесь я ни секунды не сомневаюсь, что Франция лишь первая из многих пострадает от багровых огней la revolution. Спал плохо, постоянно вскакивал: мне снилось, что я – один из наших крепостных, матушка за какую-то провинность заперла меня в чулан, а голодные крысы лакомятся моими ушами и ноздрями. Проснулся с кровотечением и заляпал всю сорочку. Кажется, под кожей на голове что-то шевелится.
12 августа 1833 года Наутро под одеждой вновь проступили кровавые пятна – видимо, я чешусь во сне: все руки, грудь и даже спина – как я туда только дотянулся? – покрыты саднящими полосками. Неужели у меня такая маленькая рука? Пристойной, не испачканной кровью и гноем, одежды остается все меньше. Поймав одну пожилую арапку – из обслуги, – я велел ей выстирать свои костюмы от крови, но та их вскипятила, и кровь запеклась ужасными бурыми пятнами. Честное слово, едва удержался, чтобы не огреть идиотку тростью! Теперь приходится одеваться во что попало, отчего выгляжу я как совершеннейший скоморох. Вдобавок, сколько я ни прятался под маркизами и зонтами, жаркое солнце Миссисипи все же настигло меня, и мое лицо приобрело оттенок лежалой печени, даже вздулся волдырь, отчего я вынужден был ходить, пригнув голову и пряча лицо под шляпой. Эти обстоятельства привели к столь оскорбительному происшествию, что доверить его я могу лишь бумаге. А происшествие было следующим: я стоял на палубе и отдыхал после весьма обильного, хотя, признаюсь, совершенно неизысканного ужина. На горячее подавали отвратительно пересоленный гуляш, как они его назвали, «по-каджунски», и от острых приправ мне уже добрый час крутило желудок. В какой-то момент среди зарослей красного кедра мелькнула человеческая фигурка, раздался собачий лай. Вглядевшись, я различил чернокожего паренька, которому в ногу вгрызался огромный пятнистый пес. Другие собаки облаивали его с двух сторон, арап кричал и вырывался, а к потасовке уже спешили двое белых на лошадях – скорее всего, охотники за беглыми рабами или виджиланты. Так я понял, что мы пересекли границу «благословенного» Дикси. Вскоре сцена эта пропала из поля зрения, река сделала поворот, и наш пароход проследовал по течению. Вскоре я увидел эту же компанию снова – бедному арапу выкручивали руки из суставов, а он, судя по открытому рту, визжал, но совершенно беззвучно – я слышал лишь шум воды в пароходном колесе. Капризная Миссисипи снова заложила вираж, и нам пришлось обогнуть небольшую речную косу, приблизившись к ней едва ли не вплотную. Пожелай я – мог бы схватить и отломать себе ветку на память. Так я увидел злополучную компанию в третий раз: на этот раз арап словно бы висел в воздухе, с его ноги капало темное, рядом горел костер. Арап дрыгался и сучил ногами, пока один из головорезов крепил веревку за корень дерева. Второй как ни в чем не бывало подкидывал ветки в костер. Никогда еще так близко не видел я настоящей казни, зрелище поглотило все мое внимание, притянуло взгляд; парализованный отвращением, я завороженно всматривался в лицо висельника, в глаза, мерцающие сквозь тень, и пытался поймать то мгновение, когда живое становится мертвым. В душе я оправдывал свое подлое любопытство тем, что как исследователь обязан быть беспристрастным наблюдателем даже самой противоестественной мерзости. Вдруг тот, что разжигал костер, плеснул чем-то из фляжки на дрова, и пламя взвилось до самых пяток висельника. Короткой вспышки оказалось достаточно, чтобы я в изумлении и ужасе сжал деревянные перила так, что захрустели ногти, едва не ломаясь: каким-то непостижимым образом я увидел в искаженном последней гримасой лице арапа мои собственные черты, только черные и разбухшие – будто оплавленные на костре. Застыв в болезненном томлении, я не сразу понял, что грубые окрики за спиной адресованы мне. Кое-как я различил: «Эй, ниггер, ты оглох? Я к тебе обращаюсь!» Чья-то трость несильно хлестнула меня по плечу. В совершенном смятении я развернулся, чтобы увидеть перед собой красное от выпивки лицо уже знакомого мне мистера Д. Тот, осознав, что поднял руку на белого человека, тут же стушевался, принялся неловко извиняться и зачем-то отряхивать мой костюм, бормотал, что принял меня по ошибке за своего слугу. Он уговаривал выпить с ним в знак примирения, уже кликнул официанта, однако после такого позора оставаться на палубе было выше моих сил; я схватил бутылку виски с подноса и поспешно ретировался в каюту. Напоследок я обернулся туда, где должен был болтаться висельник, но ничего не увидел в густеющих сумерках – разве что искры от костра. Вечером с удивлением обнаружил, что у меня сошел ноготь. Видимо, остался в перилах. А я даже не заметил. Непостижимо. Ужасно болит лицо, как будто меня долго били. Боль расползается от носа к щекам. Не могу спать.
13 августа 1833 года Карикатурно распухли губы и язык, как у актеров в дешевых варьете, что изображают дикарей и арапов. Наверное, мой организм не привык к этим жгучим каджунским приправам. Или виновата местная рыба? Все время за ужином мне казалось, что кошмарная тварь смотрит на меня, а мясо отдавало илом и тиной. Гадость! Речь моя стала крайне невнятна, груба – будто горячей каши в рот набрал. Еще хуже обстоят дела на голове. Даже перед зеркалом мне страшно снимать шляпу: кажется, через корки перхоти пробиваются черные жесткие волоски. И следы от чесалки. Везде следы от чесалки! О боже, помоги мне! На палубу почти не выхожу – от стыда за свой внешний вид и происшествие с мистером Д. Казалось бы, сейчас идеальный момент для работы, но пальцы тоже не слушаются, ручка выскальзывает, а чернила размазываются. Пожалуй, я отдохну немного от своих научных изысканий, прежде чем снова отправлюсь в путь. Уже завтра пароход прибывает в Новый Орлеан, нужно собрать вещи и привести себя хоть в какое-то подобие порядка.
14 августа 1833 года Сошел с парохода. Меня встретил провожатый – смуглый неотесанный каджун, из тех, кто питается мясом аллигаторов и возлежит с родными сестрами. Сплюнув какой-то омерзительной рыжей дрянью, он сказал, что моя «аудиенция» назначена на завтра. Слухи о новоорлеанской Voodoo Queen расползлись далеко за пределы континента, поэтому провожатого было не удивить очередным белым, приехавшим на rendez-vous к болотной ведьме. Он посмеялся над моим акцентом: «Не думал, что вы, русские, говорите по-английски совсем как ниггеры». Думаю, мою речь исказила непроходящая болезнь полости рта или все жепостыдный люэс. Вдобавок мне казалось, что провожатый надо мной то и дело посмеивается, а прохожие на улице неодобрительно косятся в мою сторону. В гостевом доме для меня долго не могли найти комнату, а когда нашли – я буквально обомлел: это была грязная каморка рядом с кухней, под ее окном смердела мусорная куча. Добравшись до трюмо в холле, я понял причину странного к себе отношения: выглядел я как самая настоящая цирковая обезьяна, разряженная потехи ради в совершенно несочетаемые друг с другом детали туалета – это были немногие мои вещи, не пострадавшие от кровавых последствий моей чесотки. Но и лицо мое выглядело не лучше – все вспухшее, в язвах и рытвинах; из-под шляпы торчали странные вьющиеся колтуны, а шею покрывали свежие следы от чесалки, которую я, казалось, давно уж выбросил. Да уж, неудивительно, что на меня смотрели как на совершеннейшего l’épouvantail. Я счел за лучшее как следует отдохнуть и подготовиться к грядущей встрече. Здесь стоит упомянуть о финальной цели mon voyage – интервью с знаменитой Мари Лаво, которую черное население Юга считает буквально своим матриархом и едва ли не святой – как папу римского. Если верить слухам, именно она собрала воедино разрозненные детали анималистских культов, привезенные с Черного континента, перемешав их с католическими символами. Дочь плантатора и креолки, простая парикмахерша – она стригла и причесывала жен влиятельных чиновников и мануфактурщиков, что позволило ей оплести паутиной своего влияния едва ли не всю Луизиану: черные поклонялись ей, почитая едва не как богиню, а белые негласно прислушивались к ее советам – насколько мне известно, Мари Лаво была весьма сведуща в народной медицине. Будет, несомненно, презабавно попросить у нее средство от моей чесотки: какие-нибудь порошки из сушеных жаб или мазь из жира аллигатора. Все-таки сложно не заметить эту пропасть, разделяющую две цивилизации.
15 августа 1833 года Кое-как привел себя в порядок. Встретился с провожатым на выходе из гостиницы, и мы направились в знаменитую парикмахерскую на площади Конго, что во французском квартале. Разумеется, Мари Лаво – самая влиятельная женщина, пожалуй, во всем Новом Орлеане – больше не щелкает ножницами и не укладывает волосы в прически, но местные настолько привыкли к этому заведению как к месту, где у мудрой mambo можно попросить совета и покровительства, что теперь эта самая парикмахерская стала своеобразной «приемной». Со стороны улицы все выглядело чинно и благородно: кофейнокожие креолки с огромными серьгами в ушах обслуживали степенных леди, а в соседнем переулке с черного – ха-ха, какая игра слов – хода уже выстраивалась небольшая очередь из negroes, ждущих приглашения к хунфору[186]. К самой парикмахерской их никто не подпустил бы. Мой провожатый перекинулся парой фраз с рабом – настоящим великаном, покрытым татуировками. Полагаю, тот исполнял роль телохранителя для госпожи Лаво. Провожатый после испарился, велев мне ожидать, пока меня позовут. К счастью, я догадался взять с собой несколько остро заточенных карандашей и мог скоротать время за работой над записями.
Рабство – древнейшая и гнуснейшая форма взаимоотношений человека с человеком. Вселяет ужас мысль, что однажды надетый на ближнего ошейник так стремительно возвышает одного и втаптывает в грязь второго. Нет сомнений, что второй, подавленный чужой волей, уповает лишь на высшую справедливость, ведь никакого другого защитника – уж во всяком случае, на грешной Земле – у него не обнаружится. Трудно сейчас, спустя тысячелетия, перечесть всех богов, которым несчастные по всему миру возносили свои молитвы о возмездии, – их имена вряд ли остались даже в устных источниках. Но совсем несложно найти древнейший и наиболее известный случай, когда в стечении обстоятельств угнетенные неволей узрели высшую справедливость. Эти события описаны в Ветхом Завете, конкретнее – в Книге Исхода. Известен факт, что библейский Моисей был рожден рабом, но невероятная удача одарила его свободой. Тем не менее, не забыв своих корней, пророк глубоко сочувствовал своим сородичам, находившимся в рабстве. Далее, если верить Писанию, именно пророку Моисею была поручена миссия освободить народ Израилев. Фараон, как мы знаем, не внял просьбам Моисея, что и вылилось в череду бедствий, постигших египтян. «И были глад и мор, и кровью стали реки». Страшнейшей карой, согласно Писанию, обрушившейся на Египет, была «смерть первенцев» – от первенца правителя «до первенца рабыни, яже у жернов». Здесь речь идет о некоем, явно слепом и безжалостном ангеле, что по запаху овечьей крови, которой Моисей поручил евреям измазать притолоки дверей, отделял евреев и отмеченные дома обходил стороной, а в остальные – заходил и отнимал дыхание у детей. Таким кровавым наветом Моисей отделил господ от невольников, провел красную черту, определив виновных. И здесь берет свое начало история о своего рода витающем в эфире скоплении идей, некоем общем на всех образе, способном дать надежду тем, кто находится внизу. Пускай все казни были лишь чистейшим совпадением – неурожай и падеж скота очевидно привели к эпидемии среди египетского населения, рабы же не пострадали, так как жили обособленно, и все же – вот яркий пример того, как идея о мести властям предержащим объединила целый народ. А посему…
15 августа 1833 года Произошел форменный обман! Увлекшись историей исхода израильтян из Египта, я просидел буквально до заката. Negroes уже расходились, остались только я и тот, огромный, татуированный. Я был уверен, что я – следующий в очереди, как вдруг дверь отворилась и навстречу мне вышла сама Мари Лаво. Ее нетрудно было узнать по нарочито богатому, совершенно безвкусному платью – казалось, она замоталась с головы до ног в разноцветные цыганские платки. Лицо Voodoo Queen выражало надменнейшую скуку, какова свойственна светским дамам. Я рванулся было ей наперерез, но был остановлен тяжелой рукой татуированного арапа – как будто налетел на толстую деревянную балку. Он угрожающе рыкнул, что «госпожа Лаво сегодня больше не принимает». Тут, конечно, я понял, что меня обманули и, похоже, договариваться об аудиенции придется самому; шанс не хотелось упускать – не ждать же мне неделю или целый месяц, пока луизианская шарлатанка вновь снизойдет до просителей. Высовываясь из-под стволоподобной руки телохранителя, я, дабы привлечь ее внимание, обратился к ней: «Мадам, со всем моим уважением, я целый день простоял здесь, под солнцем, ожидая аудиенции с вами. Я переплыл океан и проехал много миль, чтобы увидеть вас! Не сочтите за дерзость, но я бы хотел…» Лаво действительно остановилась, пригляделась ко мне внимательно, втянула широкими ноздрями воздух и брезгливо выдохнула, будто учуяла запах нечистот. Она недобро расхохоталась и бросила что-то на непереводимой смеси креольского и французского, после чего вышла из проулка на дорогу, где ее уже ждала повозка. Арап оттеснил меня и двинулся за своей госпожой следом, а я так и остался один в заплеванном negroes переулке. Вдруг я заметил, что все же не одинок: за бочкой с дождевой водой сидела сухонькая старуха-негритянка, одетая в грязное тряпье. Из плеч торчали две гноящиеся культи. Я бы нипочем не заметил ее в тени переулка, если бы та вдруг не разразилась тоненьким, едва слышным смехом, будто сидела в бельэтаже варьете и смотрела какую-нибудь невероятно смешную постановку. Стоило мне обернуться к ней, как старуха тут же прервала смех и принялась, с удивительной ловкостью орудуя пальцами ног, запихивать в рот лежавшие перед ней куриные кости и яростно обсасывать – видимо, зубов у нее не осталось. Мне до глубины души совестно за этот поступок, но я был столь раздосадован потерянным днем, утомлен жарой, voyage и беспрестанной чесоткой, что не смог сдержать гнева. Со злобой я подскочил к калеке – та запихнула кости в рот, едва не подавившись, видимо, думала, что я их отберу, – и ткнул ее тростью. Спросил: «Что ты видишь смешного, убогая? А? Что смешного?» Старуха квохтала, давилась куриными костями и отмахивалась от меня ногами, а я тыкал ее тростью и спрашивал: «Чего тут смешного? Чего смешного?» Уже задыхаясь, вымотанная борьбой, калека ответила: «Она сказала, что не разговаривает с проклятыми… Не разговаривает с проклятыми, ха-ха! Ананси под твоей кожей переплетает твою судьбу, я вижу!» Да простит меня Господь за то, что случилось дальше, за то, чему нет места на странице этого дневника. До конца жизни я буду молиться о прощении за содеянное и… После небольшого променада я вернулся в гостиницу и сейчас, совершенно опустошенный, пишу эти строки. Непонятно, стоит ли мне оставаться еще на черт знает сколько времени, чтобы все-таки добиться встречи с овеянной славой Мари Лаво, или купить билет на ближайший пароход и покинуть эту негостеприимную страну, в которой грязные метисы даже не осознают своей удачи – в их дверь стучится народоволец, меценат и гуманист… Довольно славословий. И, проклятье, как же все зудит! Мне непременно нужно найти доктора.
* * *
Чешется. Как же все чешется, проклятье! Кажется, под кожей шевелятся чьи-то лапки. Все руки уже бурые от крови, но я не способен остановиться. Вся простыня и белье в кровавых разводах. Кожа сходит лоскутами. Адский, невыносимый зуд! На воздух, срочно на воздух – возможно, ночная прохлада облегчит эту муку. Я где-то оставил еще один ноготь. Что со мной?!* * *
Я только что снял кожу с руки, как перчатку. А под кожей рука оказалась черной! Черной!* * *
Едва не угодил в какое-то болото. Изорвал сорочку о мангровые корни. Вода немного успокоила чесотку. Кажется, будто меня скребут десятки, нет, сотни маленьких пальчиков – точь-в-точь как пальчики того арапчонка. Или я сам себя скребу? Нет, это изнутри!* * *
Это кошмары, какие-то кошмары. Отражение в воде не похоже на меня. Я сам не похож на себя. Я пишу черными руками по белой бумаге! Что со мной? Кажется, я гнию заживо. О, за что мне такое проклятие! Проклят! Я проклят! Чертова старуха из чертова переулка ухмыляется мне из воды. Если эти записи кто-то увидит – Бог мне свидетель, я каюсь за сотворенное с ней…* * *
Пауки под кожей, они скребутся! Скребутся!* * *
Я держу в руках свое лицо. Как маску. Оно расползается на лоскуты, как разваренная курятина. Что у меня теперь вместо лица? Боюсь касаться. Что теперь вместо него? Что, черт возьми, у меня вместо лица?! Рассвет. Не хочу глядеть в отражение.Август 1833 года, точная дата неизвестна Это похоже на дурной сон. Мне еле удалось добраться до дневника – если кто-то увидит в моих руках записную книжку, подумают, что я ее украл у белого, и снова накажут. Я прячу ее за ведром с нечистотами – надсмотрщики к нему и близко не подходят, брезгуют, но оно к лучшему. Прочие negroes держатся от меня подальше, называют меня каким-то странным словом, вроде detwi net, трудно понять.
Дата неизвестна Меня осмотрели. Тыкали под ребра, заглядывали в зубы, как животному. Измерили череп. Сказали: «Неудивительно, что они тупее белого человека, – посмотрите на объем. А вот стручок как у китаёзы». Я не знал, куда деться от стыда. Под конец мне на щеке выжгли английскую букву R, что означает Runaway – беглец. Я чуть было не потерял сознание от боли: как будто заживо сдирают плоть и набивают череп угольями. Не знаю, как это выдерживают их дети, женщины! После меня бросили обратно в яму к остальным.
Дата неизвестна Пытаюсь восстановить события той злополучной ночи. Я до сих пор не могу постичь произошедшего. Кажется, я погрузился в какой-то психоз и изодрал себя до крови. Когда я вернулся в гостиницу, меня даже не пустили на порог, позвали полисмена. Я кричал: «Пустите, это моя гостиница! Проверьте мои документы – они в номере!», но вместо речи выходило странное бульканье, будто мои губы и гортань как-то изменились. Надо мной смеялись и били палками. Меня закинули как был, в драной окровавленной сорочке, в какую-то яму, это и подвалом назвать язык не повернется. Благо мне хватило сноровки незаметно спрятать эти записи под одеждой. Теперь у меня есть хотя бы шанс – если и не вырваться, то рассказать миру о своих злоключениях.
Дата неизвестна Бог его знает, сколько дней я здесь пробыл. Чесотка почти прошла, но мне негде увидеть свое отражение. Чем я стал? Что со мной? Почему со мной обращаются как со скотиной? Неужели дело в старухе? Что я делаю здесь, среди этих грязных negroes? Солнце едва проникает сквозь решетку, но я уже приноровился обитать в полутьме и даже решил вернуться к записям. Если я когда-нибудь освобожусь, то этот дневник…
Дата неизвестна Кто-то пришел! Ниггеры повскакивали с мест и подошли к решетке. Ужас, что меня могут купить, как самую обыкновенную скотину, затмевает надежда, что жизнь в рабстве навряд ли будет хуже, чем существование в этой яме. Покупателя сквозь решетки мне разглядеть не удалось, по голосу я понял, что это дама. Не расслышал, то ли Альсина, то ли Альбина… Неужели русская? Тогда у меня есть надежда, шанс выбраться из этого кошмара. Шаги! Прячу записи!
Дата неизвестна Это ад! Подлинный ад! Ниспослание свыше за все мои прегрешения. Умоляю, если вы найдете эту тетрадь…
Дата неизвестна Берусь за любую работу. Другие слуги сказали: ленивых ниггеров госпожа забирает на чердак. Оттуда не возвращаются. Остальные рабы держатся от меня особняком – снова называют меня detwi net и суеверно обходят стороной. Кое-как мне объяснили, что это переводится с креольского как «выплюнутый».
Дата неизвестна Уронил корзину с яйцами – руки едва гнутся от тяжелой работы. Отстегали плетьми на глазах у всех. Я всегда думал, что чувство стыда несравненно сильнее боли физической, но в тот момент я бы пригласил всех своих петербургских знакомцев на зрелище, если бы это позволило сократить количество ударов хотя бы на единицу. Неужели не осталось во мне боле нисколько человеческого достоинства?
Дата неизвестна Не могу так больше. Если бы не смертный грех – наложил бы на себя руки. Тетрадь прячу в сарае между клетями для кролей, где меня приставили следить за порядком. Хозяйка ругается: говорит, что под видом здорового ниггера ей продали какую-то немочь. Ниггеры шепчутся у меня за спиной.
Дата неизвестна Дворовый пес прогрыз клеть и удушил двух кролей. Хозяйка даже не велела меня хлестать, но странно как-то поглядела, будто взвесила. Бежать! Бежать любой ценой! Уж лучше смерть, чем…
* * *
Заметка в газете Patriotic press за 13 апреля 1834 года.Ужасы дома Лалори: пылающее инферно обнажает кровавые тайны!
В ночь на 10 апреля в доме Дельфины Лалори случилось страшное происшествие, которое, как выяснится позже, лишь положило начало серии ужасных открытий. Хозяйка дома, светская дама, прославившаяся на весь Нью-Орлеан своими балами и приемами, оказалась тайной садисткой и душегубицей! Пожар, устроенный рабыней-кухаркой – та не смогла покинуть особняк и сгорела заживо, – не мог не привлечь внимания горожан. Сбежавшиеся на помощь жители Нью-Орлеана потребовали у госпожи Лалори ключи от чердака, чтобы спасти от огня содержавшихся там рабов. Дельфина Лалори отказалась впускать горожан. Те, несмотря на запреты хозяйки, взломали дверь и обнаружили на чердаке самую настоящую камеру пыток: в ужасных условиях, истощенные, там содержались семеро рабов, настолько изуродованных, что люди, увидев их, едва сдерживали рвотные позывы. У двоих были неестественно вытянуты шеи, у прочих троих отсутствовали конечности, одна престарелая рабыня оказалась настолько истощенной, что едва могла двигаться. Также среди них обнаружили раба с выжженной на щеке меткой беглеца, пострадавшего более всех: Дельфина Лалори вогнала несчастному палку прямо в череп, намереваясь перемешать тому мозги. От этого бедняга, видимо, повредился рассудком. Раб беспрестанно бормочет: «Я белый, я белый!» – и временами переходит на какую-то грубую тарабарщину. Также среди плетей, щипцов и прочих пыточных приспособлений обнаружилась густо исписанная записная книга, которую передали в полицию; ее содержимое уточняется. Сегодня резиденция Лалори на Ройял-стрит разгромлена разъяренной толпой нью-орлеанцев, пораженных зверствами, творившимися на чердаке дома. Местонахождение же самой Дельфины Лалори пока остается неизвестным. В очередной раз мы убеждаемся в порочности института рабства как такового, и все чаще звучат призывы аболиционистов пересмотреть практику владения одного человеческого существа другим, но не станет ли это решение той самой соломинкой, что переломит хребет американской экономике? Ответа на этот вопрос у нашей редакции нет.
Как Зинка Кольку от пьянства отучала

Пил Колька горько. И ладно б пил как все – по праздникам там, или хотя бы пиво по пятницам, так нет – запоями, да такими, что хоть святых выноси. Бывало, Зинка придет с работы – а он уж лыка не вяжет: по квартире ползает, с мертвыми сослуживцами спорит, а то и с кулаками лезет. Сам Колька нигде не работал, да и где его такого терпеть будут – только первая получка, и поминай, как звали. Все больше подрабатывал – тут дорожку от снега почистить, там с переездом подсобить, у Зинки в магазине, опять же, на разгрузке. Зинка как ни крутилась – и бутылки по дому прятала, и получку отбирала, да без толку: что-что, а выпивку Колька всегда добыть умел. Словом, был он настоящим алкоголиком. Зинка – баба неглупая, не старая еще, понимала, что жить так никак нельзя. Сперва поговорить пробовала: мол, ты, Николаша, совсем, пардон, обнаглел. Колька разорался, обиделся, ушел средь ночи, а вернулся домой лежа, на бровях. Ни посулы, ни угрозы не работали. Стала Зинка по врачам Кольку водить – но и тут сплошное расстройство. Сначала терапевт вяло, со скукой предложил: – Ему бы какое увлечение найти, знаете, хобби. Ну, чтобы отвлекаться. Против алкоголя шибко сильно культура действует, искусство. Театр, кино, ну или на худой конец карусель с музыкой. Театр Кольку не впечатлил совершенно. Руками машут, говорят чего-то, голоса зычные – словом, фиглярство сплошное. Дождался Колька антракта да так в буфете налакался, что его швейцар в ливрее взашей вытолкал и милицией грозился. Предлагали в наркологию лечь, прокапаться – Колька разбушевался. – Не позволю, – говорит, – дьяволы, ветерана в психушку упекать! В реабилитационном отделении только руками развели: мол, коли пациент в здравом уме и трезвой (относительно) памяти от госпитализации отказывается, то размещать у себя не имеем права. И вообще – уводите своего буйного, шуму от него много. У гипнотизера и вовсе неловко вышло. Тот глазищами зыркает, пассы делает и командует: – Когда я досчитаю до десяти, вы уснете, а проснетесь по моей команде. Считаю: раз, два, три… А Колька не стал дожидаться, пока тот досчитает, – сразу уснул. Да смачно так, с храпом – ему Зинка до того чекушку подсуропила, а то он нипочем идти не хотел. Гипнотизер вокруг танцует, аки девица, а Колька знай себе храпака задает да пузыри пускает. Не проснулся он ни по команде, ни после пощечины – пришлось водой в лицо брызгать. А все ж тыщонку гипнотизер не вернул, сказал: – Он же уснул, а значит, был подвержен воздействию гипноза. Вы погодите, он, может, теперь и не запьет. Куда там! Пришел Колька домой, уселся на софу – в продавленную ямку, – включил телевизор, достал припрятанную поллитрушку, и понеслась душа в рай. Плакала Зинка по ночам, слушая заливистый Колькин храп и оглядывая его широкую спину. Проводила руками по грудям – уж пообвисшим, по складкам на животе да по бедрам целлюлитным и кляла себя, дуру, и судьбу свою незавидную. Был когда-то – лет, может, десять назад – Колька первым красавцем на районе. Служил в Чечне, вернулся высоким, широкоплечим. Цельный день мог на турнике вертеться; бабы на него штабелями вешались. А Зинка тогда встречалась с Женькой – соседом своим напротив. Тот, субтильный очкарик, все больше про романтику да про цветы болтал, за ручку с ней держался, лишнего позволить – ни-ни. Любил ее больше жизни. Хороший был мальчик, непьющий, образованный. Как мама выражалась, «с перспективами». В армию не ходил – поступил на физмат с военной кафедрой, а потом рассказывал, мол, программистом будет. Говорил: – Ты, Зина, представь, скоро в каждом доме, в каждой конторе будет по компьютеру, а то и по несколько. А я буду для них программы писать, это сейчас самый коленкор! Зина в компьютерах ничего не понимала и ничем таким не интересовалась, но Женьке не верила: зачем в каждом доме компьютер? В игрушки, что ль, играть? Советовала ему: – Повзрослей, Сопленков! Пошел бы лучше ты куда-нибудь в рыбопромышленный или дорожно-транспортный! Женька Сопленков смеялся, махал рукой – потом, мол, поймешь. Зинка так и не поняла. И фамилию Сопленков как ни примеряла – никак она ей не нравилась. А тут как раз Колька Трифонов за ней приударять начал – то с цветами встретит, то на аттракционах кататься зовет. Местные бабоньки от зависти едва не шипели. Зинка и не стала кочевряжиться – красивый мужик ухаживает, приятно. Женька разузнал – не без добрых людей – и устроил Зинке сцену ревности прямо в подъезде. Разругались вдрызг. А Зинка ему назло начала с Колькой встречаться. Специально его домой к себе водила и долго с ключами у двери возилась – чтоб Женька к глазку подбежать успел. Ну и довозились с ключами – пошла у Зинки задержка. Тут и свадьбу пришлось играть. Зинка первым делом Сопленкова пригласила – чтоб разглядел как следует потерянное свое счастье. На свадьбу Женька пришел бирюк бирюком с щенком в руках. Щенок мелкий-мелкий, всего щенка-то – четыре лапы, хвост да пятнышко белое на лбу. Промямлил Женька что-то невнятное про «уют в доме», сунул Зинке кутенка, на жениха не взглянул и пропал. Только наутро Зинка узнала, что, пока она под Колькой в брачную ночь Чиччолину изображала, Женька у себя в комнате люстру снял да на том крюке и повесился. Со щенком тоже некрасиво вышло – Колька дверью спьяну хлопнул и псинку зашиб, даже имени дать не успели. Стали жить-поживать. Родители Женьки при встрече с Зинкой в ее сторону разве что не плевали, а вскоре съехали. Зинкина мать тоже свинтила на дачу, чтоб молодоженам не мешать. Стала с проводниками закрутки да наливочки передавать. С наливочек все и началось – очень к ним Колька пристрастился. Он и раньше трезвенником не был, а тут как с цепи сорвался. На завод пора, на смену, а он по коридору как дите ползает и вообще того и гляди в Ригу поедет. Раз прогул, два прогул, потом он чего-то там набедокурил в пьяном виде, и погнали Кольку с завода ссаными тряпками. А Зинке уж рожать скоро – пузо еле в двери пролазит, имя даже придумали – Машка, в честь бабки. Испугалась она: куда с таким отцом-то дитенка воспитывать? Это ладно они пока вдвоем – ты да я, да мы с тобой, а мать с дачи чуть не ежечасно звонит: когда, мол, можно приезжать внуков качать? А с таким муженьком какие внуки? Такой дитенка либо о тумбу в пьяном виде трюхнет, либо в коляске у магазина забудет. И это уж не говоря обо всяких пеленках-распашонках да кроватках детских – где на все напастись, коли папка копейки приносит, да и те – все на горькую уходят? Вызвала Зинка Кольку на разговор: мол, так и так, как хошь – или пить бросай, или собирай свои манатки да вали на все четыре стороны. Призадумался Колька, даже бутыль в сторонку отставил, а после – забожился, мол, ни капли в рот больше. И вообще как-то внимательнее стал, то приберется, то поесть сготовит, а то временами и вовсе заботу проявлять начнет: мол, как вам, Зинаида Павловна, не дует ли, не жарко? Мож, вам угодно чего? Словом, образцовым мужем стал. Но ненадолго. Занемогла вдруг Зинка. Температурит – сил нет, пот, слезы и крови пошли, будто никакой беременности и в помине не было. Щупает Зинка живот, а он, кажись, просел, и движений никаких не наблюдается. Испугалась Зинка, заблажила, вызвали скорую. Приехал фельдшер, осмотрел по-быстрому и говорит: – Собирайте ее. Паспорт, полис, тапочки, халат. На экстракцию повезем. Что такое «экстракция», Зинка не знала, но всем нутром почуяла: нехорошее что-то. И сразу так гадко потянуло в животе. В больнице Зинку уложили на кушетку, и все такие сочувственно-деликатные – аж противно. Зинка истерику устроила, металась, бледная, страшная: – А ну отойди, коновалы! Сейчас я вас тут всех распатроню! А эти, в халатах, знай себе твердят: – Антенатальная гибель плода… Срочно на экстракцию… УЗИ, рентген, общий анализ крови – и возят Зинку, как королевишну, шагу не дают ступить. Тут она и поняла, что дела ее совсем неладны. Привезли Зинку в палату, рядом ставят столик с инструментами, а там – мама дорогая – щипцы, крючья, ножи! Еле Зинку втроем санитарки удержали, пока анестезию вкалывали. Только подействовало – сковало Зинку по рукам и ногам, будто в цемент закатали, и глаза словно в череп провалились – тьма наступила. Что там с ней врач делал, она и не в курсе была, а только когда очнулась – живота совсем нет, только нашлепка белая – повязка, значит. Начала она эту повязку вскрывать – поглядеть, что там, что с ее кровиночкой, тут же со всех сторон медсестры, санитары – за руки-ноги держать. Закололи ее до состояния индийской коровы, лежит Зинка, скучает, а врачиха – толстомясая тетка лет тридцати – напутствует: – Вы, милочка, не думайте, не вы первая, не вы последняя. Оно у каждого запросто случиться может. Вы, может, покушали неаккуратно продукт аллергенный или еще какую оплошность допустили, и ребеночий организм не выдержал. Хорошо, мы вас вовремя прооперировали, а то ведь там день-два, и тю-тю. – Это «тю-тю» врачиха показала каким-то замысловатым жестом, будто мух прогоняла. – Пришлось у вас там, конечно, на нижнем этаже шороху навести, вы уж не обессудьте. Кисты, эндометриоз, сами понимаете. – Зинка не понимала. – Но нет ничего невозможного. Нынче наука семимильными шагами шагает. Вот я вам тут брошюрку про ЭКО оставила, почитаете на досуге… Выскоблили тогда Зинку знатно – раз и навсегда. Детей она с тех пор иметь не могла. Колька приезжал. Уже подшофе, как по заказу, с авоськой мандаринов и купленным у метро «веником». С порога объявил: – Мне можно, у меня стресс. Я, может, первенца потерял. Через неделю выпустили Зинку из больницы – пустую телесно и духовно. Как сквозь вату, слушала она наставления врача: мол, тяжести не поднимать, алкоголь не употреблять, и неделю еще кровить может. Домой ехала на такси – Колька почему-то ее не встретил. Из квартиры дохнуло перегаром – Колька валялся на диване и заправлялся маминой наливочкой. На полу стояла батарея бутылок. Хотела Зинка тогда вспылить, да ничего не сказала, только сама пригубила рюмашку и горько заплакала. А теперь лежала Зинка в постели ночами, гладила бесплодный свой живот, глотала слезы и мечтала о какой-нибудь другой, не похожей на эту, жизни. Чтоб Женька был жив. Пусть его с его «программизмом» – вон нынче все на этих компьютерах повернуты, у ней и кассовый аппарат в магазине как компьютер, недавно заменили. Зато он хоть не пил и любил ее, и руку бы никогда не поднял. И чтоб щенок сопел на коврике. И чтоб в брюхе ворочалось свое, родное, живое. Но вместо всего этого у Зинки был Колька, который оглушительно храпел, попердывал и приводил в движение всю постель, когда вертался с боку на бок в беспокойном хмельном сне. И давеча полезла Зинка в почтовый ящик, а внутри вместе со счетами за коммуналку и газ оказалась местная газета – ее каждую неделю почтальон клал. Хотела было Зинка ее по обыкновению в картонную коробку под ящиками бросить, да попалось ей на глаза объявление: «Излечу от алкоголизма, наркомании, сниму порчу, венец безбрачия, родовое проклятие, приворожу, избавлю от соперников. Первичная консультация – бесплатно. Потомственная ведьма, Матушка Софийская». И ниже – номер телефона. Щелкнуло что-то в голове Зинки: а вдруг? Чем черт не шутит? Принесла она газету домой и, пока Колька где-то шлялся со своими дружками-алкашами, давай звонить. Гудок-другой-третий. Зинка уж думала вешать, как вдруг… – Але? – просипел кто-то в трубку. Не поймешь – то ли мужик, то ли баба. – Вам кого? – Да я по объявлению… – растерялась Зинка. – Вот оно что! Что ж вы сразу не сказали?! – возмутился голос, после позвал куда-то в сторону: – Матушка! Матушка, тут вас! Послышалось суетливое шарканье тапочек, потом кто-то подул в трубку. Раздалось строгое, почти учительское: – Слушаю. – Я по поводу объявления в газете. Мне только спросить… – А нечего тут спрашивать, дочка! – грубо перебили Зинку. – Там что написано? Первичная консультация – бесплатно. Вот приезжай – сама все и расскажешь. У тебя ручка-бумажка рядом? Записывай адрес…
* * *
Поменялась Зинка сменами на кассе и поехала по адресу – чтобы, так сказать, в долгий ящик не откладывать. Тряслась на трех автобусах через весь город – мимо кладбища, вдоль шоссе и через район новостроек. Вышла на конечной, а кругом – пустырь, мгла и шавки уличные мусорный пакет дербанят. Словом, скучный пейзаж. Зинка даже еще раз адрес проверила – не ошиблась ли? Нет, вон и указатель торчит – на частный сектор указывает, ехидно так, в полуприседе, мол, давай, дуреха, неси свои кровные старой шарлатанке. – Первая консультация – бесплатно… – пробормотала Зина и зашагала через пустырь. Тут же шавки Зинку окружили, затявкали. Одна, системы «двортерьер», и вовсе норовит ноги рвать и не пускает. Залезла Зинка тогда в сумку, достала бутерброд и швырнула шавкам, те отстали. Дошла Зинка до поселка. Дома кривенькие, косенькие – расстройство одно, а не жилой фонд. Отыскала адрес, вошла в калитку, позвала: – Хозяева! Есть кто дома? Я тут по объявлению… Тишина. Только кусты шумят – малина, крыжовник и другие разнообразные растения. А участок ничего такой, ухоженный – тут курятник, там тепличка. И коттеджик такой стоит симпатичненький, пряничный, с резными наличниками. Только подошла Зинка к порогу – дверь отворилась, а на пороге – мужик в трусах. Высоченный, башкой по косяку скребет, да тощий такой – кожа да кости, лысый и в наколках весь, даже лицо. Лыбится, а у самого передних зубов нет, под кадыком – шрамище жуткий. Сам сипит, аж клокочет от старания: – Милости прошу, как говорится, Зинаида Павловна. – А как вы… – хотела было Зинка спросить, откуда ее по имени-батюшке знают, а лысый перебил: – Так Матушка Софийская уж все про вас знает. Вы проходите-проходите – за мной. А сам нырнул в дом, и бочком-бочком так по коридорчику. Пригляделась Зинка к татуировкам; вспомнила, что ей Колька рассказывал – такие на зоне против воли били тем, значит, кто мужеложством занимался. Зинка брезгливо подобралась, стараясь не касаться всяческих предметов, торчащих по углам, – мало ли, тут не то СПИД, не то сифилис подхватишь. – А вот сюда пожалуйте, – указал тощий на дверной проем с ширмочкой из винных пробок. Из проема тяжело шибало благовониями и вареной капустой. Зинка переступила порог – ба, как в церкву попала: кругом иконки-лампадки-свечки, а у окошка сидит такая благообразная старушечка. Ручки спрятала в облезлую муфточку, платочек у ней на плечах, тапочки с помпончиками. А глаза-то хитрые-хитрые, поблескивают. Говорит старушечка: – Проходи, дочка. Ты присаживайся, а вот хотя бы сюда, на тахту – в ногах-то правды нет. Зинка послушалась, присела на самый краешек – дюже клопами от тахты воняло. А лысый напротив уселся – прям на пол, ноги-руки скрестил, одну на другую да на третью – и лыбится, десны свои изъязвленные показывает. – Ну, Зинаида, давай знакомиться, – проскрипела старушка. – Я – Матушка Софийская буду, а это – помощник мой, Петя звать. Я его из местов ой отдаленных вызволила, теперь вот мне прислуживает. Петя поклонился одной головой – по центру лысого черепа шел вытатуированный гребень, под глазами какие-то сердечки-слезки, а над губой крупная такая, черная мушка. Сам весь в лишаях-язвах, да и вообще – глядеть на Петю интереса было мало. Зинка открыла рот, чтобы вякнуть свое «Я по объявлению», как старушка ее перебила: – Да все я знаю, милая. Мужик твой за галстук заливает сверх меры, так? – А откуда вы… Это все ваши штучки? – Мои штучки, доча, ты еще не видала. Тут и без всяких штучек все ясно. У бабы всегда две беды: либо мужика нет, либо мужик есть. У тебя-то, вон, колечко имеется – значит, второй вариант. – И… – Зинка запнулась от волнения. – И вы можете его как-то вылечить? Ауру прочистить или еще чего… – Ауру, говоришь, прочистить? – нехорошо усмехнулась старушка, показав зубы. У нее-то как раз все зубы были на месте; белые, крупные, как в рекламе жевательной резинки. – Много ль ты, милая, об ауре знашь? Хошь, расскажу, за что меня Софийской зовут? Хошь? А, хошь? И с каждым «хошь?» будто бы тени сгущались в комнатушке. За окошком стемнело, завыли шавки на пустыре. Петя весь подобрался, съежился; задрожали огоньки в лампадках, и по стенам заплясали продолговатые жуткие тени, похожие на африканские деревянные фигурки – такие же тщедушные и неестественно вытянутые. Зинке резко стало жутко, неуютно ей стало, прямо скажем. А старуха цыкнула зубом, и весь морок растворился. Продолжила беззлобно: – Ты, милая, коли за колдовство да ворожбу не ведаешь, так и не мели языком попусту. Лучше скажи, давно миленок-то твой к бутылке пристрастился? Зинка только плечами пожала: – Да сначала как все – тут стакан, там бутылка, а потом – два пузыря за вечер. Говорит, только так и засыпает, а то все блокпосты да аулы сожженные снятся. Матушка ничего не ответила – только крякнула, а потом обратилась к Пете: – Ну-ка неси, куриная твоя голова, землицу из погреба. Да мерзавчик захвати. Тощий кивнул и растворился за ширмочкой из пробок. А старуха и говорит: – А ты слушай меня внимательно. Сейчас дам тебе бутыль – ты ее припрячь хорошенько. А как у миленка твоего в глотке пересохнет – ты ему стакан с этим снадобьем-то и подсунь. Да проследи, чтоб все выпил, до капли. Запиши, чего ушами хлопаешь? Тут явился и Петя – с пятилитровой банкой, заполненной до середины чем-то темным. В другой руке – чекушка «Пшеничной». Тут подсуетилась и Матушка – взяла с полки залапанный граненый стакан. Сверху подложила марлечку, взяла банку – на боку Зинка успела разглядеть надпись: «Казаков Степан Валерьевич. 1962–1978». И рядом отдельно буква «А». – Чой-то за «а»? – полюбопытствовала Зинка. От вида банки с чьими-то годами жизни у Зинки подкатило к горлу. Неужели кости? – «А» – это «А любопытной Варваре на базаре нос оторвали». И сварили с луком, – отрезала старуха и открыла банку. Тут же запах благовоний перебил тяжелый дух сырой земли. Матушка высыпала немного на марлечку, свернула крышку на бутылочке и полила водку прямо через землю. – Пущай раб божий Казаков Степан Валерич муженька твоего уму-разуму-то научит. Здесь – страх смертный, в землицу могильную запечатанный. Глотнет твой охламон этой водочки, и вмиг ему охоту-то отобьет. Старуха ловко, как заправский бармен, перелила помутневшую, пропитанную смертным страхом водку обратно в шкалик, закрутила крышку и протянула Зинаиде: – Вот, держи. Через неделю придешь за новой. Так и будем твоего миленка смертью шугать, покудова его от одного запаха воротить не начнет. Ну и пять тыщей потрудись в кассу уплатить. Юркий Петя уже стоял наготове с треснутой по краю тарелочкой. Зинка аж обомлела: – Первая консультация ж бесплатная! Вон, в объявлении… – Так то консультация! Хошь – проконсультирую. По утрам зарядку делай, руки мой перед едой, ужин отдай врагу. Все? Зинка почувствовала себя обманутой. Обмишулили ведь на пустом месте. Чуть не плача, швырнула Зинка на тарелочку новехонькую, хрустящую – только из банкомата – пятерку и вышла вон не прощаясь. Бабка не обернулась, только Петя просипел вслед: – До встречи через неделю, мадемуазель! – Вообще-то мадам! – огрызнулась Зинка. Процедила: – Чтоб вам провалиться, мошенникам! Всю дорогу до дома Зинка злилась то на себя, то на бабку, то на Кольку. До того злая была, что дворняги на пустыре тявкнули да отбежали от греха подальше. А Зинка все песочила себя на все лады: это ж надо было так повестись! И ведь поехала, дура такая, купилась. А там, по ходу, внучок-уголовник бабку в оборот взял и простачков разводит. Имя они по определителю номера узнали, как пить дать, а там уж и про Кольку немудрено выспросить. – Ой дура ты, дура, Зина! – кляла она себя, пересаживаясь с автобуса на автобус. И вновь – новостройки, шоссе, кладбище. Зашла домой злая, усталая, а Колька уж разговевшись. На диване развалился, пузыри пускает – как есть младенец. Хотела было Зинка водку порченую вылить, а потом передумала – поставила на стол, на видное место. – И ты подавись! Пошла на кухню – ужин стряпать да и вообще свои дамские вечерние дела делать, тут Колька приперся. Глазки свиные помаргивают – ярко ему, лапищи заплетаются, пузень с-под майки висит. Попалась ему на глаза чекушка – и поплыл Колька, как теплоход по фарватеру. Крутанул крышку, понюхал, не веря своему счастью. Зинка от плиты отвлекалась, следит: а ну как сработает? Запах водки Кольку устроил, он изготовился на вкус пробовать. Уселся на табурет, взвесил бутылку в руке, оглядел так обстоятельно. Пробормотал: – Чё-то мутная… И одним махом всю ее, родимую, выкушал. Сидит, отдыхает, ощущения смакует, значит. Зинка тем временем капусту нарубила, мясо загрузила в кастрюлю, включила газ. Собралась лук жарить, слышит: свистит что-то. Будто кто надувной круг продырявил, и он через ту дырочку воздух выпускает. Испугалась – неужели утечка? Завернула газ на трубе, все равно свистит. Позвала Кольку: – Коль, а Коль, кажись, свистит чего. Слышишь, нет? Колька не отвечает. Зинка обернулась – ба, да это ж ее муженек сидит: губы вареником выпятил; воздух, значится, выпускает. – Тьфу! Напугал, черт этакий! Ты почем свистишь? Денег и так нет – хоть шаром покати. А Колька не отвечает, застыл, зенки выпучил, в одну точку смотрит и рукой печень нащупывает. – Чего-то мне… – Хотел Колька, наверное, что-то сказать, да не смог. Губы дрожат, слезы катятся, и сам весь как-то поскучнел, посерел даже. Бутылку выронил – та вдребезги, а Колька сопит, кряхтит и все то за печень, то за сердце хватается. Зинка испугалась, думала уж, уморила мужика, паленкой напоила. Она ему: «Коля, Коля!», а Коля рот раскрыл и не отзывается. А потом как вскочит – и давай Ихтиандра звать. Опосля, конечно, полегчало, когда все, что внутри было, снаружи оказалось и даже на кафеле немножко. – Я, – говорит, – такого еще никогда не испытывал. Представляешь, Зин, пью и прям чувствую: помру я через это самое скоро. То ли печень встанет, то ли селезенка. Словом, страшно мне стало. Прямо понял я, что через это запросто смерть со мной может приключиться. И отныне, Зинаида, вот те крест: токмо по праздникам и на именины, может быть, стопочку. Обрадовалась Зинка – действует все ж бабкино зелье!* * *
Радовалась Зинка, конечно, преждевременно. Первые дни оно, может, Колька и не пил. Бывало, зайдет в магазин, мазнет этак жалобно взглядом по полкам, аж трясется, и пойдет обратно фуру разгружать. А Зинка сидит на кассе, сканером пиликает и лыбится во все двадцать четыре зуба. И настроение хорошее у ней, и всем покупателям здрасьте, да спасибо, да пардон. На три дня Кольку хватило. А на третий – сорвался прям с погрузки. Бледный, руки дрожат, глаза бегают. Понесся к ларьку и сразу, не отходя от кассы, залил в себя цельный шкалик – о как проняло! Оно, конечно, сперва не в то горло, а потом – как по маслу. И мир сразу посветлел, и краски даже ярче стали. Теплынь, весна, и природные красоты! Тут – ворона, положим, коркой хлеба кормится; там – дворняга пузо себе лижет. Бомж, опять же, в мусорке ковыряется. Словом, жить хорошо, и жизнь хороша. Когда Зинка пришла со смены, Колька уже дососал три поллитрушки и залакировал это все «Очаковским», а оттого лежал и голосил в ванне – не мог вылезти. Кое-как вытащила Зинка эту тушу через бортик, а сама, значит, в такой манере думает: «Недолго действовало бабкино лекарство. Этак если с каждой бутылки по пять тыщей в неделю, это ж за месяц цельная зарплата набегает. И ведь не откажешься – иначе зазря все. В какое предприятие втравила, шельма старая!» Всю ночь Зинка ворочалась да думала-выгадывала, как бы ей на бабкиных зельях сэкономить. Уж и графики мысленно составляла: когда давать Кольке шкалик, чтоб тот на работу трезвый приходил. Думала по чуть-чуть совсем давать, по крышечке – гомеопатически, – чтоб Кольку всегда немного потряхивало. Но где его крышечкой ограничишь, когда он с одного глотка остограммиться норовит? Вертела-крутила Зинка в голове да надумала. В свой выходной оставила Кольку дома с сиськой пива – тот и рад-радешенек: по телевизору «Ювентус», в холодильнике колбаска на закусь. А Зинка села на автобус и поехала на кладбище. Приехала – никого кругом, только ветер свищет, и могилы, могилы, насколько глаз хватает. Подошла Зинка к крайней, чтоб далеко не идти. Поглядела на фото на надгробии – мужик как мужик, не старый совсем, только глаза, как у бассет-хаунда. И подпись: «Дрозденко Егор Ефимович 1947–1989. Герою – ликвидатору Чернобыльской катастрофы от жены, детей и товарищей. Вечная память!» Засомневалась сначала Зинка – а ну как земля радиоактивная? Траванет Кольку радиацией, положат тут, рядом. Потом, конечно, посмеялась над собой: за столько-то лет все, поди, уж выветрилось. Да и столик тут удобный со скамейкой – будет где водку перелить, а то Колька при виде бутылки покою не даст. Достала Зинка совочек – из детского отдела стащила, – копнула поглубже, чтоб, значит, побольше этого «страху смертного» захватить. Насыпала в марлечку, как бабка делала, положила на стакан и давай лить-переливать. Водки взяла много, с запасом, чтобы потом попусту не кататься. И ловко у нее это так выходит: тут крышку свернула, тут опрокинула, тут обратно перелила, закрутила и ни капли мимо. От этакой своей смекалки сама на себя не могла нарадоваться, хотелось с кем-то поделиться, вот, мол, экономию какую изобрела! Но поблизости никого не было, одно лишь надгробие. В азарте Зинка залихватски подмигнула черно-белой фотографии: «Знай наших, Егор Ефимович!» Но Егор Ефимович почему-то не подмигивалв ответ, а, наоборот, смотрел на Зинку грустно-грустно, как на собачку одноногую, взирал черными точками поверх набрякших под глазами мешков, точно знал что такое, что Зинке еще было не ведомо. А она тем временем закончила процедуры, сравнила бутылки на глазок – как в аптеке – и поехала домой в приподнятом настроении. Колька к ее приезду уже порядком разговелся и проветривал яйца, лежа на тахте, в костюме, простите, Адама. Горланил про какую-то «расплескавшуюся синеву». Зинка только порадовалась: не станет глядеть, куда она бутылки попрятала. Две – в туалетный бачок, еще две – на балкон, за мамины закрутки; одну в бельишко свое засунула. Так оно сохраннее будет – чтоб не все яйца в одну корзину. Последнюю Зинка поставила на стол. Колька завтра проснется, трубы горят, глаза не разлипаются, а на столе – вот, извольте, лекарство. И не такое мутное, как у бабки. – Так-то, Матушка Софийская! И нас не пальцем делали! Водка безмолвствовала. На следующий день с самого утра Зинка ушла на работу и, откровенно говоря, думать забыла об оставленном Кольке «лекарстве»: сначала приехал товар, а грузчиков не хватало – пришлось впрягаться самой; потом какая-то расфуфыренная манда позвонила на горячую линию и пожаловалась, что у Зинки в очереди больше пяти человек. Последовал втык от начальства. А под конец смены и вовсе обнаружилась в кассе недостача: сто один рубль сорок две копейки. То Зинка «манде» сдачу мелочью выдала в отместку и увлеклась. Словом, о водке со «смертным страхом» Зинка вспомнила уже на пороге квартиры. «Смертным страхом» тянуло аж из общего тамбура. Зайдя в квартиру, Зинка сразу почувствовала неладное. И точно – из-за открытой двери в санузел на нее с укором взирал унитаз, увенчанный варварски свернутой крышкой. По дому гулял сквозняк – дверь на балкон тоже была распахнута. «Дура я, дура! Надо было с собой брать или соседям на хранение оставить!» – корила себя Зинка и аккуратно, шаг за шагом, продвигалась по квартире. Под ногами хрустели бутылочные осколки – хоть сапоги не сымай. Колька обнаружился там же, где и всегда – на диване. Но творилось с ним неладное. Колька был разут, раздет и растерян. Сидит, глаза стеклянные, рот открыт, в телевизор пялится. А по телевизору – телепомехи одни, и смотреть на него, в общем-то, мало интереса. То ли дело Колька – все тело покрывают надрезы в самых неожиданных местах: под мышками, на горле, на лице. И хоть Колька и смотрел в телевизор, руками он сосредоточенно шерудил у себя в паху. – Коленька? Ты чего, а? – осторожно позвала Зинка. – Ты что же, за раз все выпил? Коленька, может, тебе скорую? Коленька издал странный звук – не то вздохнул, не то хрюкнул – и наконец отнял руки от паха. В пальцах оказался плотно зажат острый бутылочный осколок. Через секунду с чавканьем, освобожденное от мошонки, повисло у Коли между ног одинокое яичко. Тут бы Зинке, конечно, как приличной даме в обморок грохнуться, но она с этим обождала, взяла себя в руки и отобрала у Кольки осколок. Тот вновь как-то безразлично хрюкнул. Собрала Зинка поскорее осколки в совочек от греха подальше да в скорую позвонила. Приехали фельдшер с санитаром, давай Кольку ощупывать и в глаза ему фонариком светить. А Колька не сопротивляется, только хрюкает, что твой боров, да в сумку к фельдшерам залезть норовит. Наконец фельдшер молвил: – Вы, гражданочка, почем зря беспокоитесь. Органы у вашего супруга в довольно аккуратном виде, и пузырь вполне порядочный, не протекает. А что он себе мошонку открыл, так, может, ему оно так свободнее. Извините, на стационар нынче покласть никак не можем – нет местов. Мы его вам пока пластырем заклеим – езжайте-ка в травмпункт, там ваше сокровище зашьют. Накинула Зинка на Кольку простынку и вызвала такси. Таксист, падла такая, содрал по двойному тарифу, мол, сиденье кровью пачкать не хочет. Плюнула ему Зинка напоследок в опущенное окошко, да пошли к хирургу. В очереди сидели долго – то в жбан кто-то схлопотал, то кого-то дворняги подрали, то дедушка, сердешный, на стремянку встал, полез на антресоли, может быть, за огурчиками или другим каким напитком, упал и поломал свою хрупкую старческую ручку. В общем, приняли Кольку едва ли не к четырем утра. Зинка его все шевелила, в ухо дула, за волосенки дергала, а тому – хоть бы хны. Зенками только луп-луп, и хрюкает невпопад, разговаривать не могет или не желает. Подошла их очередь. Зашили Кольку, пошутили: мол, теперь уж не выпадет. И перекись выдали – сказали, обрабатывать дважды в день. Вернулись домой под утро. Хотела Зинка дома остаться, за Колькой приглядеть, да начальство вызверилось: мол, у тебя и так отгул на отгуле – либо выходи в смену, либо пиши заявление по собственному. Делать нечего – надо на работу. Зинка дверь снаружи на замок закрыла, чтоб Колька не сбег, и оставила ему на столе гречи с сосисками. Целый день просидела как на иголках, пришла домой – сосиски-греча нетронуты, и темно в квартире. Она выключателем щелк-щелк, а он, холера в бок, не включается. Посветила Зинка своей «Нокией» и как завизжит: сидит в темноте Колька, голый, бледный, страшный, и морда вся в крови. Жует, хрустит чем-то. Пригляделась Зинка – цоколь изо рта торчит. Визжит Зинка, остановиться не может, охрипла вся, а Колька знай себе хрюкает. Стала его Зинка к кровати привязывать, чтоб еще каких глупостей не натворил. С лампочек Кольке, кстати, ничего не сделалось, ушли как в сухую землю – хоть какая-то польза с этой луженой глотки. Спать Зинка укладывалась на уголке в кухне. Оно, конечно, неудобно – изогнешься этак в три погибели, башкой об стол ударишься и попробуй усни. А тут еще холодильник дребезжит и из раковины тряпкой воняет. Но все одно лучше, чем с Колькой спать. Потому что сам Колька не спал. Его уложишь, он и лежит так с открытыми глазами, и смотрит. И смотрит при этом вроде как не на тебя, а на что-то не то за спиной, не то над головой. И до того Зинке делалось жутко от этого взгляда – будто у нее за спиной не стенка с обоями драными, а какой-нибудь гнилой мертвец или чего похуже. Лучше уж так – на уголке под гул бытовой техники. Водили потом Кольку к терапевту, так тот только плечами пожал и злорадно так сказал: – А я говорил, культура ему нужна, театр. Доигрались! Обратите внимание, коллеги, – говорит, хотя в кабинете, окромя него, только Зинка с Колькой да обогреватель. – Типичный случай delirium tremens – белая горячка то бишь. Довели вы, дамочка, мужичка. Это вам не ко мне, это вам в психиатрию надо. Повела Зинка мужа к психиатру. Тот в глаза ему так внимательно поглядел, осмотрел всего, за стетоскопом в соседнее отделение сбегал и грудь послушал. После побледнел, поскучнел даже. Достал какие-то таблетки из стола, но Кольке их не предложил – сам три штуки разом заглотил. И рассуждает так грустно: – Вы, гражданочка, передайте там остальным в очереди, что я сегодня больше не принимаю. И вообще не принимаю. Потому что тут форменное безобразие. Я ж кто – психиатр. «Психо» – это у нас что по-гречески? «Дух», «душа». А у вашего муженька душа давно тю-тю. Он даже не дышит. И тут либо вы не по адресу – вам в морг надо, либо какой я, к черту, психиатр, если в трезвом виде ходячих мертвецов наблюдаю? Идите-ка вы от греха подальше, и не вносите смуту в мое бытие. Так и ушли Трифоновы из районной поликлиники несолоно хлебавши. Но Колька не выглядел расстроенным. В общем-то, Колька вообще никак не выглядел. Вроде ходит, шевелится, а пригляделась Зинка – ведь и правда, неживой он. На глазные яблоки налипло чего-то, движения дерганые, как у болванчика, да и духан от него – хоть святых выноси. Тут-то до Зинки, конечно, дошло, что натворила она что-то страшное и неправильное. А хуже того – похоже, непоправимое. Привела она Кольку домой, привязала к кровати, чтоб лампочек больше не ел, и достала ту бумажку с адресом. Деваться некуда – придется снова ехать к бабке. Кое-как одела Кольку. Шутка ли – этакого борова в штаны втиснуть. Да он еще и не слушается – куда-то надо ему, что-то хочет, хрюкает. – А ну лежи смирно, собачье жало! – ругалась Зинка. Снова три автобуса – новостройки, шоссе, кладбище, будь оно неладно! В транспорте Коля вел себя смирно – Зинка догадалась ему на всякий случай глаза завязать, чтоб ни он, значит, не отвлекался на разные всяческие факторы, ни пассажиры, увидев мертвые его буркала, не принялись протестовать и требовать ссадить их с Колькой на остановке. Зинке и самой было мало интереса в глаза его глядеть – пустые они, будто наблюдают не окружающую действительность, а что-то за пределами оной. Высадились, наконец, на пустыре. Ко встрече с шавками Зинка была готова – достала из сумки палку просроченной колбасы и позвала: – Ну-ка, эти, как вас там? Кыс-кыс-кыс! Но собаки почему-то бросились врассыпную с жалобным подвизгиванием, как кутята. Зинка так удивилась, что совсем забыла про Кольку. А тот – все еще с завязанными глазами – упал на четвереньки и неловко, выпячивая зад, погнался за дворняжками. Одна отстала – то ли лапка у нее была хроменькая, то ли она от природы своей собачьей слабенькая. Колька нагнал ее в два прыжка – как огромная жаба, дворняжка только пискнула. – Стой! Куда, куриная голова! А ну вернись, падла такая! – ворчала Зинка на бегу. За широкой Колькиной спиной ей было никак не видать, что муженек вытворяет с несчастной собачонкой. Одно было верно – судя по капустному хрусту и вялым подергиваниям лапок, шавке пришел безоговорочный, несомненный каюк. Колька обернулся на голос – на окровавленный подбородок налипла шерсть, челюсти что-то сосредоточенно измельчали. – Фу! Брось! – Зинка звонко хлестнула Кольку по губам, на землю шлепнулось полупережеванное собачье ухо. – Ну ты совсем, что ль? Ты хоть знаешь, чем они питаются? А если заразу какую в дом принесешь? Эх, вставай, горе ты луковое… Так, с грехом пополам, добрались до уже знакомого Зинке «пряничного» домика. Гостеприимным он уже не выглядел: наличники ощерились острыми щепками, в оконцах метались багровые огни, а стоящий у калитки Петя – опять без футболки – угрожающе чистил финкой свои длинные ногти. – Это откуда это к нам такую красивую тетеньку замело? Забыла чего? – жеманно, уперев руки в боки, спросил тощий. – Да я… – Зинке стало неловко. Видать, бабка прознала все о ее затее. У, шельма старая! – Мужу нездоровится. Хотела к Матушке вот… – Долго ж ты собиралась. Вон уж, – Петя кивнул на Кольку, – муженек-то твой Богу душу отдать успел. Или еще кому… Там разберутся. – Да как же ж? – со слезой отвечала Зинка. Решила покаяться. – Я все по инструкции – один в один как она, а оно вон… – Не реви. Для меня бабьи слезы – тьфу! Вода, а не слезы. Иди, в ноги кинься Матушке, глядишь, и выручит… И Петя отступил в сторону, давая проход. В Матушкиной каморке тоже было вроде все то же самое, но по-другому. Недобро смотрели закопченные иконы, чадили лампадки, к запаху капусты и ладана примешался еще какой-то едва заметный смрад – стылый, тяжелый, как в погребе или в могиле. Матушка Софийская сидела, сгорбившись, в кресле – вся напряженная, наэлектризованная, как из трансформаторной. Глазища желтые насквозь сверлят, костлявые пальцы скребут ногтями по подлокотникам. Матушка больше не выглядела милой старушечкой, скорее походила на облысевшую от старости сову. И Зинка почему-то очень четко ощутила себя дрожащей мышью. Едва она раскрыла рот, как Матушка ехидно спросила: – Так что, хошь знать, за что меня Софийской прозвали? Хошь, нет? И Зинка поняла, что меньше всего хочет знать о происхождении этой не то клички, не то фамилии; сжалась вся, стараясь казаться меньше. Одному Кольке все было нипочем – он вертелся на месте и тыкался башкой в угол. – Так присядь и послушай. В тот же миг Зинке на плечи будто мешок пыльный с картошкой взвалили. Да не один, а этак трояк. Колени подогнулись, и она плюхнулась на провонявшую клопами тахту. Хотела что-то сказать, но во рту пересохло, язык прилип к небу. – Не перебивай старших, – наставительно сказала Матушка. – Так вот, Софийская – не фамилие мое, а прозвище. Село было такое – Софийское, вот я сама оттуда… Угрожающий тон сменился старушечьей ностальгирующей напевностью; казалось, сейчас прозвучит: «Вот я в молодые годы…» – Знакомое название, поди? Кладбище, с которого ты землю своровала, – тоже Софийское. Не прочла на входе? А знашь, как оно образовалось? Я тогда ишшо молодая, видная баба была, всю округу врачевала. Кому что – кому роды принять, кому хворь отшептать. Никому не отказывала. Потом Гражданская война началась. Неподалеку белый отряд разбили, так я раненых у себя в подполе сховала и выхаживала. Компрессы, шины, травки всякие – они меня матушкой называли. Даже влюбился в меня белый офицер, Ванюша его звали, души во мне не чаял. Только скоро пришли краснопузые и давай местных спрашивать: где, мол, контра недобитая прячется? А эти сукины дети на мою хату указали. Повытягали тех, кто на ногах держался, с Ванюшей вместе – и к стенке, а хату спалили с ранеными. Меня стрелять не стали, но тоже знатно покуражились. И хоть бы одна падла слово сказала – нет, молчали, смотрели, радовались, что им на орехи не досталось. С тех пор вот, как и ты, бездетная. При этих словах у Зинки почему-то болезненно свело судорогой внизу живота. Подумала: «Просрочку больше ни в жисть». А бабка продолжила: – Никто с того села в живых не остался. Всех за неделю покосило – кому ногу в мялке смолотило, кто с пьяных глаз об угол убился, кто отравился, а кого в лихорадке скрутило. Никого не пожалела, ни деток, ни старичье – всех сгноила. Все Софийское – на корню. Легче было не на кладбище везти, а новое учредить. Так и сделали. И погост этот – мой. А ты, глупая баба, пришла, не напросившись, за моей спиной черные дела творить… Казалось, Матушка раздувается от ярости при каждом слове. Потянуло сквозняком, задрожало пламя в лампадках, вновь заплясали тени, и Зинка какой-то внутренней чуйкой поняла, что источники этих теней не в комнате, а там, под землей, на Софийском кладбище. Взмолилась она: – Погодите изуверствовать, Матушка! Я ж не со зла, я ж мужа спасти… У меня на карточке еще тыщ двадцать осталось, я Коле на реабилитацию откладывала… Все принесу, отдам, только не губите! Старушка, вздувшись, застыла, точно камень на склоне, решая, остаться на месте или обрушиться гибельной лавиной. Наконец опустилась, растеклась в кресле, выдохнула устало, сдувая жуткие тени: – Ой и дура ты, Зинаида! Знала б ты, в какой калашный ряд свое свиное рыло сунула… – И ничего не свиное! – обиженно возразила Зинка. – Цыц! Слушай внимательно. Я тебе только потому помогаю, что вижу: любишь ты своего мужика, костьми за него ляжешь. Я б за Ванюшу тоже легла, да толку? Коли тела нет, так и возвращать некуда. Не спасла, так хоть ты своего спасешь. – Матушка поскребла подбородок, оглядела как следует Кольку и вынесла вердикт: – Мертв он у тебя. Убила ты муженька, Зинаида. – Да как же мертв? Вон у него и руки-ноги шевелятся… – То невелика радость. Без души тело-то быстро в негодность придет, а душу ты-то как раз и изгнала, Зинаида. Я тебе зачем сказала раз в неделю по мерзавчику давать, а? Чтоб смертным страхом потихонечку от зеленого змия отучать. И землицу брала не абы какую, а от опойцы, чтоб, значит, муженек твой все тридцать три удовольствия цирроза прочувствовал. А ты ему с чьей могилы землю дала? – С Дрозденко Егора Ефимовича, героя-ликвидатора, – смущенно ответила Зинка. – То-то же. И не чекушечку, а сразу литр с четвертью! – Да я ж прятала… – Не спорь! Вылакал-то он все разом! А теперь представь: Егор Ефимович перед смертью с полгода раком мучился – все тело в опухолях и метастазах, сам врачей просил, чтоб ему помереть дали. А ты все эти полгода – в водку, и мужу на стол. Его душенька такого страху смертного натерпелась, что и выпорхнула вон. А тело-то – вот оно, здоровое да живое, но без души – пустышка. – И что ж теперь делать? – Что делать? Тело есть, надобно таперича душу вернуть, чтоб привесть, так сказать, организм в равновесие. – Вернете? – спросила Зинка. – Я? Да ни за что. Я если туда сунусь – уж не вернусь. Много кто меня там ждет, да, поди, не с хлебом и солью. Нет, милочка, сама набедокурила – сама разбирайся. А я подсоблю чем смогу. – А что делать мне? – Езжай домой и за благоверным следи, покуда не поранился. – Колька в этот момент как раз лакал масло из лампадки, совершенно не обращая внимания на опаляющий щетину огонек. Зинка за шкирку его оттянула. – Я к утру с Петей подъеду. И подумай заодно: готова ль ты за таким мужиком в ад спуститься. – Почему обязательно ад?! – обиженно поинтересовалась Зинка. – Потому что рай попы выдумали, чтоб десятину собирать. Петя возник будто из ниоткуда и, обдавая табачным духом, проводил Трифоновых к калитке.* * *
Звонок в дверь раздался в пять утра. Зинка открыла. На пороге были Матушка Софийская и Петя – опять без рубашки. Неужто так и через город ехал? В руках у него был большой железный кофр с красным крестом на боку. – Виделись, – коротко кивнула ведьма, повернулась к помощнику. – Раскладывайся, Петя. Тот раскрыл чемодан и выпростал из него кюветы с шприцами, упаковку ампул, достал какой-то громоздкий аппарат. Просипел: – Где тут у вас розетка? – А зачем она для колдовства-то? – удивилась Зинка. – Не для колдовства, а для дефибриллятора. Или ты думала, я тебя чаем отпаивать буду? – раздраженно ответила Матушка. – А дефибриллятор-то зачем? Петя и Матушка остановились, посмотрели на Зинку с укором. – Ты что думаешь, милая, я руками помашу, слова волшебные скажу, и все? Нет уж, чтоб попасть на тот свет, надобно помереть. – Да вы не ссыте, Зинаида Павловна, – вмешался Петя, – я вам укольчик сделаю, вызову фибрилляцию желудочков, сердечко и встанет, а вы прямо там вмиг окажетесь. Через пять минут я вам – р-р-раз – адреналинчику и дефибриллятором добью, и вы сразу на свободу откинетесь. Зинка сглотнула. Умирать почему-то ужасно не хотелось. Хитро прищурилась бабка: – Как, милая, не передумала? Зинка обернулась на диван, где обретался Колька. Через повязку было не видать его страшных мертвых глаз, и весь он был такой знакомый, домашний, родной. Дырка на носке, вытянутые коленки у треников, расплывшаяся татуировка «ВДВ 1994» с самолетиком, нос картошкой. «А хоть бы и пил! – подумала Зинка. – Лишь бы вернулся». Вспомнила, как познакомились; как он ее в кино водил на последний ряд и уворачивался от пощечин, пока лез под блузку; вспомнила, как смотрели на них, гуляющих вместе, местные бабоньки – с изнывающей завистью; вспомнила, как Колька кроет – жарко, истово. Покачала головой: – Не передумала. Давайте, Матушка, мужа моего выручать, а то мне к восьми на смену. – Тогда кофтенку сымай и на пол ложись. Скинула Зинка кофту, осталась в одном лифчике – как назло, самый замызганный надела, аж самой совестно. – И бронежилет свой снимай. – Тут мужчина… – смущенно пробормотала Зинка. – Я больше не мужчина, – просипел в ответ Петя. – Меня можете не смущаться. Зинка легла на холодный линолеум, заерзала – видать, не все осколки убрала. Сверху нависло бабкино лицо. Широкие ноздри казались выскобленными глазницами. – Слушай и запоминай. По ту сторону я тебе ничем не помогу. В место ты идешь опасное, темное. Будут пытаться тебя там оставить – и те, кто любят, и те, кто ненавидят. Есть и коренные обитатели – с ними лучше вообще не встречаться. Но ты, главное, цель свою помни и к ней иди. Как Кольку найдешь, чем хочешь завлекай, всеми правдами и неправдами уговори его пойти с тобой. Своей волей пусть идет, иначе не сработает. – А чего б ему не пойти? – удивилась Зинка. Старуха мотнула головой, точно вспомнила что-то ужасно неприятное: – Всяко быват. У тебя там – пять минут, не больше. Души из преисподней возвращаются с рассветом, а он уж скоренько. Слушай песню петуха – он как звонки в театре, его и по эту, и по ту сторону занавеса слышно. Раз пропоет – время еще есть, два – надо спешить, а на третий тебя уж и возвращать пора. Все поняла? – Ну… Зинка не успела договорить – что-то тонкое, острое ужалило ее в шею. – Как комарик укусил! – утешил Петя. Тут же грудак стиснуло, будто обручем, в сердце словно вогнали острый кол. Стало нечем дышать, глаза провалились куда-то в череп и падали-падали, точно в темный тоннель. А следом упала и сама Зинка. Шлепнулась всем телом оземь, да так, что дух вышибло. Изо рта вырвалось облачко пылинок. «Недавно ж убиралась!» – расстроилась Зинка. Огляделась – темно кругом, хоть глаз коли. Покопалась в карманах, насилу нашла телефон, потыкала кнопки. Дисплей светился ровным белым светом – никакой реакции. – Разбила! – еще пуще расстроилась Зинка. Спасибо хоть светится. Посветила вокруг себя – вроде бы и знакомо все, а вроде и чужое. Телевизор, допустим, у нее новее и к стене прикручен, а этот – старый, пузатый и на этажерке стоит. – Телевизор скоммуниздили, дьяволы! – с досадой сплюнула Зинка. – Обкололи и умыкнули, сволочи! Хотя, спрашивается, если умыкнули – зачем заместо предыдущего притащили эту рухлядь? Колыхнулось что-то в памяти: увидела Зинка перед этим телевизором себя на полу, мелкую, костлявую, сидит, мультики смотрит. Да это ж «Рубин» ейный! Колька сам его на помойку сволок, когда новый купили! Стала Зинка дальше осматриваться, и все больше узнавать: вот стенка югославская – топором рубили, чтоб выкинуть; вот занавески тюлевые. А за окном вообще ничего не видать, точно кто снаружи досками заколотил. И ни щелочки! Посветила Зинка на себя и ахнула: где ноги застолбованные, где складки, где целлюлит, куда что делось?! Талия осиная, тонкая; грудь торчком, задница – орех (на ощупь). Тут-то Зинка и смекнула, что все эти приготовления со шприцами да дефибрилляторами – не бред горячечный, а самая что ни на есть объективная действительность. Громыхнуло в голове эхо бабкиных наставлений: «Цель свою помни и к ней иди!» Точно! Кольку ж выручать надо! И времени у нее всего-ничего, какие-то пять минут. Только где ж его искать, Кольку-то? Обычно на диване всегда находила, а тут и дивана никакого нет – швейная машинка зингеровская стоит и ме-е-едленно так, лениво строчит. Посветила туда Зинка и отшатнулась: сидит за ней во тьме, еле видный, кто-то черный, тощий, словно тень без плоти и костей, и свет сквозь него проходит. Сидит, значит, и кожу человечью себе на руку нашивает, будто и ни при чем. А вместо пальцев – ножницы ржавые. И сам приговаривает: – Хорошая кожа попалась, толстая, добротная. Вот костюмчик себе сошью и пойду прошвырнусь. Бабу найду, утробу ей семенем набью, к батарее прикую – будет мне чертенят рожать. Тварь застыла, подняла уродливую голову – не лицо, а месиво, как в мясорубке, – втянула воздух какими-то отверстиями. – Живьем пахнет! И соками женскими! Кажись, бабец сам ко мне пришел. А ну иди сюда, милая, цып-цып-цып… Хотела было Зинка сбежать поскорее от жуткого швеца, да глядит – на коже той наколка синеет: «ВДВ 1994». Тут ее-то и перемкнуло – кожа-то Колькина. Как же он тогда будет без кожи? А тварь уже поднялась, встала посреди комнаты, нюхает, ножницами щелкает. – Чую-чую… Не спрячешься! А Зинке и правда негде прятаться – всей мебели что стенка да телевизор. И кожа-то, кожа на руке у этого болтается. Отшатнулась Зинка, а тень к земле припала, выгнулась вся и ее следы нюхает, аж свистит ноздрями или чем там, и кожа сзади волочится, под ногами путается. Зинка в сторону шаг – и тень за ней, прямо по следам идет. Наугад схватит – пальцами-ножницами щелкнет и дальше нюхать. – Хорошее нутро, теплое, просторное… А залезу-ка я в него целиком, как есть. Тут подкромсать, там подрезать – и готов костюмчик… Озвучив такую мысль, тень отбросила кожу в сторону, как шмотку ненужную. Теперь, когда кожа не мешалась, движения стали резче, злее. Зинка знай себе только и скачет по комнате от вездесущих ножниц, а сама к коже Колькиной подбирается. Заманила ее тварь в угол, шипит, куражится: – Не уйдешь, как на духу говорю – не уйдешь! Ме-е-дленно буду в нутрю твою забираться, чтоб все прочувствовала. До последнего живая будешь – люблю, когда бабец визжит… И хлестнет своими ножницами. Благо Зинка в последнюю секунду дотумкала – запрыгнула на швейную машинку. Та закачалась, не устояла и рухнула прямо на голову любителю чужих утроб. Тяжелый «Зингер» пригвоздил тень к полу – столешница уперлась посередь шеи, а Зинка рухнула на пол. Тварь завыла, защелкала наугад пальцами-ножницами: – У, сука, я тебе матку вырежу и сожрать заставлю, только подойди, сучка! Иди сюда! А Зинка встала, отряхнулась и ухватилась за край югославской стенки. Раскачала ее как следует, и та, гремя сервизами, похоронила под собой затихшего мгновенно швеца. – Спасибо, ужо вырезали, – сплюнула Зинка на расползающееся из-под стенки влажное пятно. Опосля подобрала Колькину кожу и пошла прочь из комнаты. За дверью обнаружился больничный коридор. Кафель, лампы люминесцентные опять же – светить не светят, так, мерцают. Словом, расстройство одно. Что-то в этом коридоре показалось Зинке знакомым, будто видела она его во сне или в кине каком показывали. Она машинально сделала шаг вперед и услышала за спиной гадкий шлепок. Обернулась – двери не было, один лишь сплошной коридор, кругом пустые каталки да капельницы. А в глубине коридора за спиной что-то неловко ворочалось и бурлило. Вновь раздался шлепок, потом еще один. Бесформенное пятно стало ближе, больше. Поняла Зинка, что пора бы и лыжи навострить – ничего хорошего от этой дряни она не ждала. Молодому, сочному телу бежалось куда как легче – не терлись друг о друга бедра, не шлепали складки на животе. Казалось бы – беги и беги, праздник, а не бег. Однако, сколько Зинка копытами ни перебирала, коридор все не кончался, а то, что шлепало сзади, похоже, нагоняло. Оглянулась она посмотреть, что за чудище такое за ней увязалось, влетела на полном ходу в каталку и повалилась кубарем на пол. А тут и преследователь во всей красе – огромный, головастый, на опухоль похож, и хвост за ним волочится, след кровавый оставляет. Заблажила Зинка, завизжала, давай отползать, а тварь за ней. Весь лиловый, пухлый, слизью покрытый, и кряхтит, сопит – подбирается. Совсем уж близко подполз. Зинка глаза закрыла – к смерти приготовилась. Задумалась на секунду даже: а как оно, если в загробном мире умереть, куда дальше-то по инстанции? Думала-думала, вспомнила какие-то передачи про культуру, Алигьери и иже с ними. Решила, что есть, наверное, какие иные, более глубокие уровни ада, где, допустим, черти не на сковородках жарят, а как-то посовременнее – в микроволновках, или и вовсе у них там молекулярная кухня. Представила: «Зинка спагетизированная под муссом из собственных кишок». Успела даже пожалеть, что сама, похоже, молекулярной кухни так и не отведает. А смерть так и не шла. «Передумало оно, что ль?» Осторожно открыла Зинка глаз, второй. Мелькнуло узнавание. Сразу стало очень больно и горько, в животе угнездилась неутолимая пустотелая резь. – Машка… Машка стояла, покачиваясь, на четвереньках и смотрела на несостоявшуюся свою мать. Потом боднула головой в колено, оставив на джинсах влажный след. – Машенька… Зинка всхлипнула, отложила в сторону Колькину кожу и неловко обняла раздувшееся свое мертворожденное чадо. Оно трубно замычало, подалось вперед, прижимаясь к матери. По кафелю, собирая пыль, волочилась изжеванная пуповина. – Прости меня, дочка. Прости… – По щекам Зинки текли слезы. – Вишь, как оно вышло. Мамка не пила-не курила, а все одно… Руки липли к гладкой безволосой голове, но Зинка продолжала гладить – хоть здесь, хоть так. Младенец подвывал в тон, оплакивая свою непрожитую жизнь. Вдруг, главенствуя над всеми иными звуками, по коридору раскатился сиплый мужской вокал. Исполняли какой-то блатняк:– В день, когда исполнилось
мне шестнадцать лет,
подарила мама мне вязаный жакет,
И куда-то в сторону отвела глаза…
* * *
Стали жить. Поначалу Женька на Кольку не отзывался и вообще на Зинку досадовал: мол, по какому праву его вырвали из положенного посмертного отдыха? Потом пообвыкся, даже паспорт передумал менять. Выпить поначалу тянуло – организм требовал, но Зинка это дело быстро пресекла. Жили душа в душу, не дрались даже почти, деньги завелись опять же. И вот как-то раз Зинка приходит с работы, а в углу стоит этот, с системным блоком, монитором, да колонки гремят. На экране шум, пальба, танки какие-то. А у Кольки – бывшего Женьки – глаза-то горят, как у прошлого муженька при виде бутылки. Словом, увлекаться стал, ночей не спал и работу прогуливал. Вздохнула Зинка: видать, придется снова к бабке идти.Симфония Шоа

«…максимум благодарностей моим бустерам и донатерам, а также вам, мои дорогие подписчики, без вас у меня, конечно, ничего бы не получилось. С вами был Максималекс, подписывайтесь, ставьте лайкосики, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые стримы! Увидимся на следующей неделе, всем максимум всего!» – видео кончилось бодрым запилом на электрогитаре. Алексу никогда не нравился собственный голос в записи, но он уже давно смирился с тем, что через микрофон звучит, как писклявый подросток. В конце концов, такие вещи уже не кажутся критичными, когда ты заработал свою первую сотню тысяч подписчиков; даже наоборот – приобретают свой шарм. Он довольно откинулся на кресле, сбросил дугу наушников с соломенного цвета шевелюры. Только после этого он услышал трель дверного звонка. На пороге стоял сосед – дряхлый носатый еврей из квартиры напротив. Когда его сиделка брала выходной, тот иногда обращался к Алексу с просьбой – сходить за продуктами или поставить укол. Алекс учился на фельдшера и никогда не отказывал старику в услуге. – Герр Шимель, добрый вечер. Чем обязан? Я опять слишком шумел? Сосед потряс лысой, покрытой старческими пятнами головой и заскрежетал: – Что вы, Алекс, мой мальчик, ни в коем разе. Извините, что в столь поздний час… Я бы хотел попросить вас об одной мелочи, если только найдется время, – еврей печально развел руками, как бы показывая, насколько его дела ничтожны по сравнению с занятиями Алекса. – Разумеется, герр Шимель, я сейчас как раз свободен, – соврал Алекс: ему предстояло еще учить анатомию перед промежуточным тестом, но выцветшие глаза старика смотрели с такой надеждой, что парень не смог отказать. «Ночью доучу» – пообещал он сам себе. – Умоляю вас – Хаим! Называйте меня Хаим, прошу. Захватите свой компьютер, пожалуйста. У меня сегодня к вам просьба как раз по вашей специальности, – скрипуче хихикнул старик. – Как скажете, герр… то есть, Хаим. Вернувшись в комнату, Алекс отсоединил ноутбук от зарядки и вернулся в коридор, где его ждала скрюченная фигурка, одетая во что-то похожее на длинную белую ночнушку. На блестящей лысине смоляным пятном чернела кипа. – Ой, спасибо вам, молодой человек, не оставили старого нэбеха в штихе, – рассыпался в благодарностях сосед. – Пойдемте-пойдемте, это ненадолго. Он долго ковырялся с ключами, сражаясь с артритом. Наконец, замок подчинился. – Следуйте за мной, юноша! – махнул рукой старик, приглашая Алекса пройти через темный, заставленный разнообразной рухлядью коридор. Запах лекарств и средства от моли забивался в ноздри. Пройдя вглубь квартиры, они оказались в кабинете. Напротив стола располагались два пухлых кресла, на стенах тут и там висели старые фотографии, а полки стеллажей были забиты всяким хламом. Дома у старика Алекс бывал уже не раз – заносил купленные продукты, посылки, мерил герру Шимелю давление и помогал с тяжестями. Пожилой еврей не скупился на слова благодарности и неизменно пытался накормить его мацой с каким-то рыбным фаршем, от чего Алекс всегда вежливо отказывался. Герр Шимель также не упускал возможности поругать современных композиторов и немецкую политику. Если старик начинал говорить о музыке – его было не остановить. Рассуждая же о сирийских беженцах, турках и арабах, он печально цокал языком и приговаривал: «Дезелбе дрек, не к добру все это, не к добру!» – Я чайку поставлю! – скрипнул герр Шимель и бодро захромал в кухню. Алекс же, не зная, чем заняться, принялся рассматривать полки, на которых под толстым слоем пыли беспорядочно громоздились самые разнообразные предметы. Книги по музыке и нотные издания соседствовали с облезлыми менорами, призовые статуэтки перемежались увесистыми талмудами по каббале. Целую полку, растолкав по краям виниловые пластинки, вольготно занимала чудовищного размера Тора, увенчанная сувенирным дрейдлом. Лишь на поверхности огромных размеров комода царил идеальный порядок – там даже ежедневно протирали пыль. На подставке из красного дерева царственно покоилась потертая, исцарапанная, траченная жучками удивительно маленькая скрипка. – Родители подарили мне ее на шестилетие. Моя первая скрипочка, – неожиданно из-за спины с тоской в голосе прокомментировал Хаим. Алекс чуть не подскочил от неожиданности. Когда старик только успел вернуться? – О, герр… Извиняюсь, Хаим, так что у вас за просьба? – спросил юноша. – Мелочь, сущая мелочь, мальчик мой. Совершеннейший пици зах. Вы присаживайтесь, присаживайтесь, – старик указал на запыленное кресло, пройдясь для вида по спинке узловатой рукой. Алекс хоть и уселся на самом краешке, но кресло все равно извергло из себя целое облачко пыли, и парень еле удержался, чтобы не чихнуть. Герр Шимель тем временем пошарил рукой по одной из полок, той, что с Торой, и извлек из пылевого ковра черную узкую флешку. Этот предмет смотрелся совершенно неуместно в захламленной, словно застывшей в давно прошедшей эпохе квартире старика. Даже, можно сказать, анахронично. – Вот, – старик горделиво приподнял кусочек пластика над головой, – работа всей моей жизни. Осторожно, словно дитя, он протянул носитель Алексу. – Для меня, юноша, все этикомпьютеры и мировая Сеть как ядерная физика; сами понимаете, человек я пожилой, дремучий. Но иногда современные технологии становятся единственной возможностью решить поставленную задачу. «Как же он тогда перебросил работу на флешку?» – спросил себя Алекс, но вместо этого кивнул: – Конечно, герр Шимель, никаких проблем. Что я могу для вас сделать? – Так уж случилось, что многие мои коллеги живут за рубежом, но их очень живо интересует возможность оценить, наконец, плод трудов моих. Можно ли как-то… Гм… – старик почмокал сморщенными губами, подбирая слово, – «подвесить» это в Интернете, чтобы другие тоже могли прикоснуться к прекрасному? – Разумеется, не вопрос. Какой у вас пароль от вай-фай? – спросил Алекс, уже понимая, что сморозил глупость. – Извините, не важно. Я отнесу к себе и все сделаю, потом верну вам. Он уже было собирался встать, когда опутанная вздувшимися венами кисть тактично опустилась ему на плечо. – Простите старого параноика, мальчик мой, но я слишком долго работал над этой вещью, чтобы позволить себе упустить ее из поля зрения хоть на минуту. Молодой человек глубоко вздохнул. На практике в доме престарелых под Энтенбахом он не раз убеждался в том, насколько капризны могут быть пожилые. Разумеется, можно было сейчас начать спорить с беднягой, довести того до истерики и все равно ничего не добиться. А можно было плюнуть на все, забрать ноутбук и отчалить обратно в квартиру, но Алексу было по-человечески жалко соседа, к которому, на его памяти, ни разу не приезжал никто, кроме сиделки. Ни родственников, ни друзей у пожилого композитора не было. – Думаю, мне хватит и этого сигнала. Будет, конечно, гораздо дольше, но, если вы никуда не торопитесь… – Вот и чудесно, юноша. – Герр Шимель радостно хлопнул Алекса по плечу, и тому в глаза в очередной раз бросились синие, расплывшиеся до полной неузнаваемости цифры, вытатуированные у пожилого еврея на запястье. Вставив флешку в ноутбук, Алекс обнаружил на ней единственный аудиофайл. Индикатор уровня сигнала издевательски показывал одну полоску. Зайдя на страницу проверенного файлообменника, парень кликнул по кнопке загрузки и скрипнул зубами от досады: «Осталось времени – 1 час, 37 минут». – Ну, вот и готово, теперь нужно только подождать, пока загрузится. – Ноутбук перекочевал с колен на край заваленного нотными листами стола. – Уже? Вы настоящий волшебник, Алекс, – восхитился герр Шимель, всплеснув руками. – Я слышал, вы тоже временами музицируете. Если позволите мне маленькую ремарочку… Алекс кивнул – он и правда время от времени брал в руки электрогитару – но исключительно чтобы записать новый джингл для канала или отпраздновать победу над боссом в игре. – Совершенно не желаю вас обидеть, но, при всем уважении, ваше легато звучит весьма по-ученически, – извиняющимся тоном скрипел старик, все еще стоя у юноши за спиной. – Если желаете, я мог бы провести для вас пару уроков – абсолютно бесплатно, разумеется, в качестве ответной услуги – то, что вы делаете сейчас, для меня крайне важно. – А вы разбираетесь в игре на электрогитаре? – удивленно спросил Алекс. Перед его глазами на секунду встала картинка, как его сосед, обряженный в лапсердак, скачет по сцене, запиливая мощные соло перед бушующей толпой, и Алекс невольно ухмыльнулся. Старик это заметил. – Вы зря зубоскалите, молодой человек! Когда посвящаешь жизнь музыке, нельзя позволить себе ориентироваться только на дремучую классику. Я являюсь весьма горячим поклонником Симмонса и Кравица, чтобы вы знали, – почти обиженно ответил герр Шимель. – Простите, пожалуйста, ни в коем случае не хотел вас оскорбить. – Алекс поднял руки в примиряющем жесте, но лицо пожилого еврея оставалось непроницаемым, храня на себе вечное выражение печальной мудрости. – Я понимаю, что в это сложно поверить, – сосед наконец-то вышел из-за спины Алекса и угнездился в кресле напротив, – но когда-то эти руки выдавали весьма впечатляющие композиции. Он вытянул перед собой увитые корнями вен и покрытые старческими пятнами кисти. Те дрожали, словно пожилого еврея бил электрический ток. – Да, много этим теперь не наиграешь. В моей жизни наступил, что называется, эндшпиль. Все, что мне остается, – это делиться накопленными знаниями и умениями с обществом. Алекс же не мог оторвать взгляда от бледно-синих раздавленных червей у Хаима на запястье. Он увидел эту наколку в первый же день их знакомства, вскоре после переезда. Тогда из квартиры напротив раздался крик о помощи, и Алекс поспешил к соседу. Старик упал в ванне, вывихнул ногу и не мог выбраться. Алексу хорошо запомнилось, как ужаснул его вид бледного, тощего тела, покрытого старыми ожогами и вспухшими келоидными рубцами. И, разумеется, от его глаз не укрылось бледное клеймо чудовищного прошлого. Конечно, он кое-что читал и слышал о подобном, но наблюдать воочию… – Извините, Хаим, а эта татуировка – то, о чем я думаю? – набрался Алекс смелости. – Это? – Сосед поднял руку и поднес поближе к лицу, подслеповато щурясь, точно видел цифры в первый раз. – Это, мальчик мой, печать скорби. Не бойтесь называть вещи своими именами. Это след Холокоста, метка прошедших через ад. Помните, как в Библии? «…И положит он всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам начертание на правую руку их…» – Мне жаль, если я затронул болезненную для вас тему… – начал было оправдываться Алекс, но герр Шимель тут же замахал руками: – Мальчик мой, все в порядке. После стольких лет… Если желаете, я могу рассказать вам, как это было. – Очень. Парень не соврал. Клепать контент для школьников, болтать на хайповые темы, перемежать речь мемами, сценами из фильмов и картинками было, безусловно, просто и выгодно. Последний игровой стрим собрал почти двести евро – тогда Алекс, весело повизгивая, прятался по углам виртуального дома от семейки Бейкеров. Но ему уже давно хотелось затронуть по-настоящему важную тему. История человека, прошедшего через концлагерь. Чем не идея для первого серьезного выпуска на канале Максималекса? – Не могу сказать, что помню все в мельчайших подробностях, но постараюсь не упустить ничего важного. – Старик как раз откинулся в кресле, когда с кухни раздался свист чайника. – Александр, бубалэ, пожалеете ли вы мои старые ноги и принесете нам чаю? – Разумеется. Я сейчас. Вам черный? – Без сахара, благодарю вас. Алекс? – Да? – молодой человек застыл в дверях, повернувшись к Хаиму. Тот, в застиранной белой ночнушке, длинноносый, большеухий и тощий, напоминал в полумраке кабинета какого-то сказочного гоблина, старого и немощного во времена, когда люди перестали верить в сказки. – Вы ведь немец, да? Чистокровный? – Баварец. Старик удовлетворенно покивал, словно клюя какие-то невидимые зерна, и Алекс отправился на кухню. Выключив огонь под помятым эмалированным чайником в горошек, он принялся искать чашки. На кухне у соседа Алекс ориентировался не хуже, чем у себя дома, и прекрасно знал, где что лежит. Чашки, как и ожидалось, обнаружились в шкафу, все разные, со сколами и трещинами, пыльные изнутри. Выбрав пару поновее, Алекс подошел к раковине и тщательно вымыл их пальцами, не решившись притрагиваться к пованивающей плесенью губке в углу раковины. Чай у соседа хранился в старой жестяной коробке из-под печенья. Там в беспорядке болтались пакетики самых дешевых марок. Алекс выбрал два, которые меньше всего пахли пылью. Заварив напиток, он вернулся в комнату, сопровождаемый ароматом бергамота. Старик так и оставался на своем месте, а вот ноутбук отвернулся дисплеем к стене. На немой вопрос в глазах Алекса Хаим ответил: – Я прошу прощения, у меня нет привычки трогать чужие вещи, но этот калькулятор уж больно светил в глаза. – Все в порядке. Лишь бы загрузка не сбилась, не то придется начинать все сначала. Кстати, а что это за «работа всей жизни», если не секрет? – Что вы, я только и ждал, чтобы вы спросили! – Композитор вскочил и поспешил выудить откуда-то с полки новехонькую виниловую пластинку. На паспорте пластинки красовалось выведенное каллиграфическим почерком странное слово «Шоа». – Можно же запустить с компьютера, – поднялся было на ноги Алекс, но был остановлен строгим, почти разъяренным взглядом старика. – Ой вей мир! Молодой человек! Как начинающий музыкант, вы должны понимать, что даже последний поц ин тухес отличит синтезированный звук от глубокого, насыщенного и неискаженного звучания винила. И я не позволю бездушной машине без абсолютной необходимости коверкать то, что я полировал и оттачивал десятилетиями! – с глубоко оскорбленным видом заявил сосед. – Как скажете, герр Шимель, – ответил Алекс, ставя чашки на журнальный столик. Никогда не знаешь, что выведет из себя стариков, с их расшатанной нервной системой. Хаим тем временем беспощадно сбрасывал с полки прямо на пол какие-то книги и папки, освобождая из-под вороха бумаги электропроигрыватель. Близоруко повозившись с иголкой, композитор наконец разогнулся и торжественно, словно дирижер, указывающий момент вступления, нажал на кнопку воспроизведения. Проигрыватель хрюкнул, и раздалось уютное, до боли ностальгическое шипение. С неистовой силой в мозг африканскими буйволами врезались тяжелые, крутобокие контрабасы. Гиенами вгрызались в мелодию валторны. Умирающими птицами стонали флейты. Черным козлом на жертвенном алтаре ревел фагот. Скорбными шершнями жалили в самое сердце альты. Минут десять они просто молча слушали музыку: старик – с гордостью, юноша – оглушенный художественной силой произведения. Одинокая скрипка загнанной ланью убегала в верхний регистр от преследующих ее хищными тенями гобоев и валторн, но те из раза в раз настигали этот колеблющийся огонек свечи, и все снова погружалось во тьму, словно скрипичная лань катилась с обрыва, пронзенная клыками под грохот литавр. – Эта часть называется «Сизифов труд», – произнес герр Шимель. После чего крутанул регулятор громкости, и давящий, тоскливый ре минор поутих, оставшись неистовствовать фоном. – Итак, Алекс, что вы хотели бы узнать о Холокосте? У нас, у евреев, это называется «Шоа» – катастрофа. Старик присел в кресло напротив и со свистом втянул одними губами глоток чая. – Расскажите по максимуму, – попросил Алекс, памятуя, что до конца закачки оставалось не меньше часа. – Пожалуй, стоит начать с того, что к тридцать девятому мне исполнилось всего лишь восемь лет. Я был обычным еврейским мальчиком из большой семьи. Мы тогда жили на окраине Львова и, слушая страшные радиосводки из Варшавы, не могли поверить, что беда когда-нибудь докатится и до нас. – Сосед глядел перед собой, но видел не Алекса, а картины своего детства. – Мой отец был музыкантом – сейчас я понимаю, что откровенно средним. Он пытался воплотить свои нереализованные амбиции через меня. В то время, пока мои дворовые товарищи играли в мяч и плескались в речке, я разучивал гаммы, штудировал партитуры и терзал эту самую несчастную скрипочку дни напролет. – Но оно ведь того стоило? Я имею в виду – вы ведь стали деканом дирижерского факультета в Мюнхенской консерватории, написали массу произведений. Коллеги до сих пор очень ценят вас как специалиста и звонят посоветоваться. – Алекс льстиво старался показать, что внимательно слушал рассказы старика, когда ставил ему уколы или заносил продукты, – Это дорогого стоит. И то, что написали вы, – Алекс кивнул в сторону проигрывателя, – это максимально круто. – Скорее, я это записал, – скромно улыбнулся сосед. – Да вы и не дослушали до конца. – Вы остановились на своем детстве во Львове, – напомнил Алекс, надеясь, что избежит долгих, набивших оскомину обсуждений музыкальных тем – в этом герр Шимель был настоящим фанатиком. – Да-да, все так. Первым звоночком грядущей катастрофы стало письмо от тети Деборы – нашей дальней родственницы из Польши. Она писала раз в год, на Хануку, и нарушение такого режима уже казалось нам экстраординарным. Как сейчас помню, письмо было написано по-польски, без единого слова на идише, что тоже настораживало. Тетя писала о некоем странном месте – каком-то рабочем лагере, где, по ее словам, прекрасно кормили, была отличная медицина, разнообразные театры, клубы по интересам и даже школа для детей. Якобы благородные немцы выстроили эти лагеря, чтобы уберечь евреев от ужасов войны. Тетя Дебора в нарочито превосходных степенях описывала, как распрекрасно проводит там время, и настойчиво зазывала к себе. Снизу письма, уже не от руки, а штампом был указан адрес. Тогда еще местечко Аушвиц не гремело на весь мир. Эти послания пришли всем еврейским семьям в нашем квартале, у кого были родственники в Польше. Одно из таких пахло мочой, и наш раввин догадался прогладить его утюгом. Текст, проступивший на бумаге, был прост и ужасен: «Бегите. Грядет гибель!» Алекс, увлеченный рассказом, вздрогнул, когда библейским Бегемотом страдальчески застонали трубы. – Евреи тяжелы на подъем. Мой отец, старый дурак, верил в силу Советов и в то, что Западный фронт отнимет у Гитлера слишком много сил и Рейх завязнет, не дойдя до Львова. Когда наш двор стал частью львовского гетто, было уже слишком поздно. – Герр Шимель помассировал глаза, словно те устали от яркого света. Тягостное молчание сопровождали нервические метания флейты в плену колючей проволоки альтов. – Если вам трудно… – почувствовав укол совести, начал было Алекс, но старик мгновенно встрепенулся и махнул рукой: – Простите, мой мальчик, это и правда болезненные воспоминания, но я считаю, вы должны знать, что происходило тогда со мной и с моим народом. Все должны знать. Ребе мы потеряли в первый же день. Через неделю какие-то молодчики из местных, с одним из них я, кажется, даже учился в школе, – увели мою сестру, Ханну, ей было тринадцать. Вернувшись, она не сказала ни слова, а ночью бросилась с крыши. Отрезанные от мира, бесправные и беззащитные, мы помирали от голода в собственных домах, не зная, что настоящий ад только впереди. Старик потянулся к полкам, и каким-то непостижимым образом выудил из-под гигантской Торы несколько старых, пожелтевших фотографий, перебрал их и протянул одну Алексу. На фото тянулась вереница одноэтажных бараков, а на заднем плане виднелись смотровые вышки. – Яновский. Раньше это было название хорошо знакомой мне улицы. Никогда не подумал бы, что самое страшное место на земле будет называться так же. Нас завозили туда на платформе трамвая, как скотину. Девять остановок, как девять кругов, ведущих в самый центр Коцита. Приказали взять с собой все ценные вещи и документы. Отец настаивал, чтобы я взял и скрипочку, но я так не хотел играть, что спрятал ее в дворницкой нашего дома. Только потому и сохранилась, – герр Шимель любовно взглянул на инструмент. Неожиданно из мелодии выпала одна из четырех скрипок – замолчала резко, будто оборвав струну. – Когда нас заставили раздеться и отправили на дезинфекцию, думаю, мы уже начали все понимать. И хотя из раструбов полилась холодная вода, а не смертоносный газ, мы осознавали, что пришли сюда не жить, а умирать. – В остальных лагерях… – начал Алекс, но запнулся. В горле образовался ком, набух, угнездился, мешая говорить. – Верно, юноша. В Треблинке, Бухенвальде, Аушвице всех делили еще на въезде – на здоровых и больных, мужчин и женщин, детей и стариков. Все, кто был слишком слаб, чтобы работать, покидали лагерь в тот же день жирным черным дымом. От них оставались лишь парики, одежда и зубные коронки, – дребезжал голос старика, и ему вторили нервные, истеричные виолончели. Одна из них вдруг взбрыкнула, выдала неожиданно фальшивую ноту и резко замолкла, словно сошла с дистанции. Остальные же, будто не заметив потери бойца, продолжили свой бег. – Нацисты действовали методично и планомерно. Когда нужно сломить волю – годятся любые средства. В чем вы, немцы, всегда были хороши – это в организации и оптимизации. Нас выстраивали в шеренгу в Долине смерти, как ее назвали позднее, и заставляли копать ямы. Бесконечные ямы, без смысла и цели. А когда яма казалась надсмотрщику достаточно глубокой, он приказывал ее закопать. Мы взрыхлили всю землю там, за Гицель-горой, это был тот самый Сизифов труд. А потом у ям появилось их страшное содержимое. Земля пропиталась кровью на полтора метра вглубь. Сбрасывая тяжелые, еще не остывшие тела в почву, я думал не об их смертях, и это самое страшное. Я думал о собственном скрученном судорогой желудке и покрытых кровавыми мозолями детских руках, не приспособленных к тяжелой работе. Герр Шимель развернул кисти ладонями вверх, и глазам Алекса предстала покрытая рубцами морщинистая кожа. Инструменты тем временем продолжали выбывать. Заглох один из надрывающихся трубачей, издал предсмертный хрип контрафагот. Музыка становилась все менее мелодичной, словно руки у исполнителей дрожали. Эта странная, агонизирующая симфония погружала Алекса в некий транс, конечности тяжелели, теряли чувствительность, голос старика обволакивал, затуманивал разум, наполняя его страшными картинами прошлого, которое юноша никогда не видел. – Каждое утро на аппельплац начиналось с переклички и проверки выносливости. «Лечь-встать-лечь-встать», без конца. Тех, кто не мог подняться, убивали пулей в затылок. Не знаю, что за воля к жизни позволяла ежедневно выдерживать это упражнение. Может, вера в то, что это когда-нибудь кончится, может, жажда мести палачам, а может, уже тогда я знал о великой работе, которую мне суждено было закончить, – старик кивнул в сторону проигрывателя. – У моего отца такой воли не обнаружилось. Однажды, зимой, он просто рухнул наземь. «Ауфштейн!» – скомандовал офицер. Папа уперся руками в мерзлую землю, попытался подняться, но не смог. Помню, когда его убили – там же, на месте, – мое сердце наполнилось странной смесью ужаса и радости. Радости – от того, что я смогу забрать его робу и буду меньше мерзнуть. И ужас – от того, что больше я ничего не чувствую. Словно автоматная очередь, прогремел барабан и замолк, точно выпал из рук музыканта. Неожиданно спину Алекса пронзила страшная боль – словно кто-то вынимал его почки, наживую, без наркоза. Он уронил голову на грудь, пытаясь справиться с ощущением, словно его собственные внутренности взбунтовались. Алекс хотел было встать, извиниться за то, что перебивает, пойти домой, но ноги не слушались. Будто незакрепленные протезы, они мертвым грузом покоились на полу. Алекс попытался упереться руками в подлокотники, чтобы помочь себе подняться, но пальцы лишь слегка дернулись. – Как вы себя чувствуете, мой мальчик? – поинтересовался герр Шимель, внимательно вглядываясь в лицо гостя. – Вам нехорошо? – Кажется, я не могу пошевелиться, – с трудом прохрипел парень в ответ. Язык казался неповоротливым куском мяса, а где-то в груди, под легкими, он ощутил неестественную пустоту. – Вызовите скорую, пожалуйста. – Конечно, мой дорогой, всенепременно, но сначала давайте все же насладимся работой, на которую я потратил больше времени, чем вы топчете эту землю. Сколько вам лет? Двадцать, двадцать два? – Старик, казалось, оставался безразличен к состоянию Алекса, глядя на того с любопытством, но никак не с сочувствием. Как рассматривают полураздавленное насекомое. – Вы не понимаете… – Воздух с трудом выходил из легких, теперь Алекс не говорил, а шептал, губы ощущались, как пришитые каким-то безумным хирургом макаронины. – Вызовите врача, мне больно… – Мне тоже было больно! – неожиданно жестко ответил герр Шимель, встретившись бесцветными слезящимися глазами с испуганным взглядом Алекса. – Было больно закапывать своего отца, слышать, как надсадно кашляет кровью моя мать, было больно, когда мне по спине проходились пятихвосткой, просто так, ни за что. И было больно, когда по ночам мне крутило живот от голода. – Что вы мне подмешали? – мозаика начинала складываться в голове Алекса. Чай. Он отравлен. Безумный старик решил убить его в отместку за свое искалеченное детство. Его, Алекса, который родился почти через шестьдесят лет после окончания войны. – Подмешал? Клоц! Я пью тот же чай, что и ты! Ты к чашке вовсе не притронулся! Неужели ты думаешь, что я, уважаемый композитор, верующий иудей, опустился бы до такого дрекшисс, как отравление? Это, мальчик мой, сила искусства! И ничего более. – Мне плохо, – стонал Алекс, надеясь, что старик все же сжалится над ним и позовет врача, но тот лишь листал пожелтевшие фотографии. Выбрав одну, он повернул ее к гостю. Сквозь пелену слез парень с трудом разглядел на фото старое высохшее дерево с петлей. – Знаешь, что это? «Древо милосердия». На него каждый день вешали новую веревку. Этакий жест доброй воли от коменданта Вильгауза. Каждое утро и каждый вечер, просыпаясь и ложась спать в холодном бараке, я видел в окно это дерево. И ежедневно задумывался – а может, самое время? Помышлял об этом, когда шел выкапывать мертвецов в период ликвидации лагеря, когда засовывал кости в дробилку; когда Вильгауз подкидывал над головой детей двух-трех лет и подстреливал их на лету, а его маленькая дочка стояла рядом и требовала: «Еще, папа, еще!». Мелкая мразь! Когда однажды на Рождество офицеры раздали нам хлеб, измазанный дерьмом, крича: «Фройе Вайнахтен, йуден! Николаус вам принес подарки!» Кто-то нашел в себе силы отказаться, а кто-то ел… Инструменты продолжали покидать композицию, теперь мелодия казалась неровной, рваной, проседающей местами. Даже сквозь страшную боль, терзающую его внутренности, Алекс чувствовал некую звенящую злокачественность этой какофонии, словно кто-то в случайном порядке отключал звуковые дорожки, играясь с эквалайзером. – Все это происходило под музыку. Оберштурмфюрер Рокито свозил еврейских музыкантов со всей Европы в Яновский, чтобы создать собственный лагерный оркестр. Если бы вы, немцы, уважали нашу культуру, Рокито никогда не собрал бы его из сорока человек. Музыка разливалась с аппельплац во все концы лагеря. Под фокстрот, танго и Бетховена мы просыпались, работали, ели, умирали… Умирали и инструменты один за другим, раздирая симфонию на отдельные звуки. Вот выпала из рук неведомого музыканта очередная скрипка, и тут же Алекс почувствовал, как в его голове словно лопнула какая-то струна. Один глаз перестал видеть, оглохло одно ухо. Алекс попытался что-то сказать, но изо рта лишь показался пузырь слюны. – Ты меня еще слышишь? – подозрительно спросил старик, присматриваясь к отекшему, принявшему дебиловатое выражение лицу гостя. Алекс силился закричать, позвать на помощь, но получалось лишь жалкое кряхтение. – Вижу, что слышишь. Но придется ускориться. Смотри! – герр Шимель извлек из стопки очередную фотографию – на той были изображены стоявшие кругом музыканты с инструментами в руках, обступившие дирижера, а за их спинами о чем-то переговаривались эсэсовцы. – Вот оно. Все, что осталось от того чудовищного дня. За это фото человек поплатился жизнью. И за восемь тактов, записанные на обратной стороне снимка. Понимаешь, с чем мне пришлось работать? В один из последних дней ликвидации Вильгауз выстроил оркестрантов по кругу и заставил играть. Играть, пока истреблял пленников. Я понимал, что нас ждет. Не знаю, как мне удалось вырваться из шеренги, видимо, Яхве отвел глаза охранникам. Я успел пробежать лишь несколько метров, после чего сиганул прямо в одну из дырок сортира, благо дверь была нараспашку. Сидя в нагретом июньской жарой дерьме, я не видел ничего, но все слышал. Слышал, как выстрелы следовали один за другим. Слышал, как деревенеют руки у скрипачей, как оглохли от собственного инструмента литавристы, как кровят губы у трубачей. А немцы продолжали убивать. Инструменты в проигрывателе бесновались, соревнуясь друг с другом в громкости, словно чувствуя, что и их ликвидируют, как музыкантов. – Когда с экзекуцией было покончено и в центре аппельплац высилась гора трупов, они принялись за музыкантов. Сначала застрелили Мунда, дирижера, мой отец знал его в прошлой жизни. Потом Линдхольма, первого скрипача. Их, одного за другим, выводили из круга, ставили на колени и стреляли в голову. Я запомнил все, каждый звук, каждую ноту. Годами я пытался воспроизвести эту отчаянную симфонию, и вот, наконец, мне удалось. То, что вы сейчас слышите, – идеальная копия той музыки, что разносилась тогда над Яновским, пока я сидел по горло в жидком дерьме. Герр Шимель вытер слезы и заговорил быстрее, слыша, что остается все меньше и меньше времени. Алекс не понимал, что происходит с его телом – оно будто отключалось по частям, постепенно, в унисон с замолкающими инструментами. В голове оформилась устрашающая в своей простоте мысль – он умирал. Умирал здесь, в соседской квартире, неспособный ничего изменить. Старик же, заметив это, уже тараторил, теряя нить повествования, выплевывая бессвязные, полубессмысленные предложения. – Четыре миньяна. Четыре раза по десять евреев, и их бессловесная молитва при помощи музыкальных инструментов – вот что вы сейчас слышите. Немцы никогда не воспринимали нашу культуру и религию всерьез. Сорок лет водил Моисей наш народ по пустыне. Как четыре точки образуют трехмерную фигуру, так четыре миньяна дают форму тому, что вошло в наш мир вместе с этой симфонией. Четыре стороны у креста, как и у света, четыре реки стекают из рая в преисподнюю и сходятся в озере Коцит. Наполняя ноты скорбью, болью, ненавистью и жаждой мести, они молились не богу, но обращались к иным сферам. Это была мольба о каре для тех, кто попрал саму суть человечности. Иуда, четвертый сын Иакова, от чьего колена израилева ведет свою родословную наш народ. Четыре миньяна – это обращение к четвертой клиппе темного отражения древа сефирот – Гогшекле, что на иврите означает «Сокрушение» И она сокрушает, не правда ли? Сокрушает ваш гнилой арийский род. Все эти беженцы, которых Меркель разбрасывает по гетто и лагерям, прячет на окраинах городов от глаз и от прессы. Тогда все начиналось точно так же – снова дезелбе дрек! Мне жаль, Алекс, что именно тебе пришлось стать подопытным в моей затее, но и я в свои восемь лет не успел сделать никому ничего дурного. Полагаю, мы все же квиты. – По лицу старика текли слезы, задерживаясь в глубоких морщинах, но тонкие губы его были растянуты в улыбке. Хозяйским жестом герр Шимель развернул к себе ноутбук, и Алекса охватил ужас, когда сквозь пелену боли, застилавшей единственный видящий глаз, он узнал свою собственную страничку на ютубе. На его канал как раз загружался новый файл. – Сто тысяч подписчиков? Негусто, – издевательски скрипнул композитор, проверяя состояние загрузки. До конца оставалось не больше десяти минут. Своими руками Алекс принес безумному старику инструмент для беспощадной мести невинным людям. Он пытался кричать от осознания происходящего, но получалось лишь сдавленное мычание. Последняя скрипка жалобно визжала, затухая, после чего затихла окончательно, одновременно с сердцем Алекса.
Зла немерено

Над рынком разносилось навязчивое «Зайка моя, я твой зайчик». Болотно-зеленый Grand Cherokee – или Широкий, как его называл сам Дыба, – затормозил в коричневой снежной каше, похожей по виду на ту, которой переложены слои в вафельном торте. Дыба осторожно перешагнул грязевой сугроб, стараясь не запачкать туфли. – Уважаемый, не соизволите материально поддержать ветерана афганской кампании? – раздался голос снизу. По наледи скреб колодками безногий инвалид в камуфляже. На запаршивевшей голове еле держался голубой берет. Дыба оглядел погоны и разбросанные по груди ветерана медальки, расстегнул молнию барсетки. – А что, сержант, где ноги оставил? – В Шутульском ущелье! – отрапортовал тот. – Сто восьмая мотострелковая. – Крепко вас тогда прижало… – Да, взяли в клещи, душманы гребаные… Слева, справа, – говорил инвалид, жадно следя за купюрами в руках Дыбы. – А у меня тридцать патронов, «Ксюха» и полные штаны дерьма… – Да нет, – наигранно удивился Дыба, – какие душманы?! Вы ж перемерзли там, что цуцики. Я помню, в цинк клали, как говядину мороженую. Взгляд инвалида потускнел, когда вместо денег из барсетки показался массивный кастет. – Ну что, мудак, значки снимешь или помочь? Полетели в слякоть медные подделки «За отвагу», «Ветеран»; среди них затесалась и не пойми откуда взявшаяся «За Чеченскую кампанию». Дыба тем временем надел кастет и сжал кулак. Лжеветеран прикрыл голову. – Не ссы. Убогих не бью. Но еще раз увижу, что наших позоришь, – будешь на бровях ползать, понял? – Понял, – угрюмо кивнул попрошайка и, дробно стуча колодками, спешно ретировался. Дыба напоследок вернулся к машине, глянул в боковое зеркало и удовлетворенно кивнул: сетка шрамов, широкая челюсть, бритый череп. В самый раз для наезда. На точки он не ездил уже давно – не для того Олег Дыбов пробивался на верх криминального мира Тулы, созывал бывших сослуживцев со всех уголков распавшегося СССР, чтобы собственноручно колотить окна и поджигать двери. Но на этот раз лох оказался с сюрпризом. Перед его появлением город наводнили афиши и объявления следующего содержания: «Торопитесь! Впервые в Туле, знаменитый Вилкас Сайдулас, целитель-гипнотизер, ученик Кашпировского, проведет сеансы оздоровительного гипноза в ДК Туламашзавод 28, 29 и 30 января!» Торопиться никто не спешил: на первый сеанс пришло полторы калеки – бабки с банками воды да парочка городских сумасшедших. Но вскоре сарафанное радио о «чудесных» исцелениях – ушедших болях, выходе из запоя и едва ли не отраставших вырванных зубах – сделало свое дело: Сайдулас задержался в городе, обратив на себя внимание местного криминалитета. Гастролеров из Москвы старались раньше времени не трогать, щупали осторожно и почти ласково, чтобы не портить репутацию городу. Но гипнотизер засиделся в гостях, и бугры волей-неволей начали раскидывать, кому с него капнет удой. Решил случай – гипнотизер облюбовал себе офис на территории рынка, что у Новомосковского шоссе, а рынок был под Дыбой. Офис располагался в бывшем пункте приема макулатуры у самой проезжей части. Потянув на себя обитую дерматином дверь, Дыба шагнул в коридорчик, устланный грязным линолеумом. У двери напротив выстроилась очередь: какая-то перекошенная бабка, студентик и семейная пара – жена с заплывшим от чрезмерных возлияний мужем. За отдельным столом сидела конторская мышь в очках с толстыми линзами. Когда Олег мимо очереди рванул к двери с нарочито медицинской табличкой «Приемная», кто-то из терпил было возмутился, но стоило Дыбе зыркнуть через плечо, и возражения утихли. Звякнув печатками, он повернул ручку двери. – Сознание покидает тело, ты чувствуешь, как снимаешь с себя руки и ноги, точно перчатки, тело становится невесомым и пустым, как плащ-дождевик… Вкрадчивый, приятный голос с легким литовским акцентом обволакивал, лился в уши и оседал внутри навязчиво-липким медом. Дыба даже ненадолго застыл, наблюдая престранную сцену. Над сидящим на высоком стуле мальчонкой лет семи водил руками, отгоняя невидимых мух, тощий брюнет в черном костюме. Увидев Дыбу, он застыл, поправил пиджак, подтянул горло водолазки и откашлялся, собираясь что-то сказать. – Мужчина, за дверью ждите, не закончили еще! – подала голос какая-то пестрая тумбочка у входа. На поверку тумбочка оказалась приземистой бабищей лет сорока. – Сейчас с Ванечкой закончат, и будет ваша очередь. – Пасть завали! Кто сидя ссыт, тот слова не имеет! – привычно включил бычку Дыба, рассчитывая шугануть, скорее, не тетку, а хозяина офиса. – Щенка в охапку, и на выход! Свиные глазки бабищи стрельнули по золотым печаткам под сбитыми костяшками, по топорщащейся под мышкой кожаной куртке, по тупоносым туфлям; мелькнуло понимание, густо замешенное на страхе. Наседка вскочила, схватила своего цыпленка и торопливо увела, лепеча: «Пойдем, Ванечка, нас дядя потом вылечит…» Захлопнулась дверь. Двое мужчин оценивающе смотрели друг на друга. Дыба оглядывал кабинет гипнотизера – авангардистские картинки со спиралями, дипломы, похвальные грамоты и совершенно неожиданный портрет Сталина над столом. Сам же Сайдулас представлял из себя архетипического лоха: неопределенного возраста – то ли двадцать, то ли сорок лет, тощий как жердь, с невыразительными водянистыми глазенками, совершенно не подходящими образу гипнотизера. Тем страннее было, что Чача и Келоид, проверенные, опытные пехотинцы, приехали от Вилкаса мутными и напряженными, мямлили что-то про «гиблое дело, неохота судьбу за яйца дергать». – Ну что, народный целитель, давай знакомиться! – первым заговорил Олег. – За Дыбу слышал чего? Новоиспеченный коммерс неопределенно мотнул головой. – Так вот, Дыба – это я. Да ты прищемись, в ногах-то правды нет. – Положив тяжелую руку на костлявое плечо гипнотизера – в чем тут жизнь-то теплится? – Олег усадил его в высокое кресло, предназначенное для пациентов, уставился глаза в глаза. – Слыхал я, ты на пацанов моих жути нагнал. Признавайся, чем пугал? Мол, загипнотизируешь, сраться под себя начнут или писька стоять не будет? – Сказал, что душу выпью, – совершенно серьезно ответил гипнотизер, и эта его фраза кирпичом запала Дыбе в сознание, стукнулась о стенки черепа. Легкое балагурство и желание договориться без рамсов тут же сошли на нет. – Ты в городе человек новый, поэтому пока отделаешься предупреждением. А впредь за метлой следи, когда с уважаемыми людьми разговариваешь! – с каждой фразой Олег наклонялся все ниже и в итоге едва ли не уперся в бледный лоб прибалта. – Теперь я – твоя крыша. Секретутке своей скажи, чтоб все бабло за февраль в пакет сложила. Это за базар твой гнилой. За остальные месяцы – порешаем, не ссы. Я не жадный. Дошло или пояснить для тупых? – Я вам, шакалам, ни копейки не дам, – с напыщенной аристократической гордостью отвечал Сайдулас, растягивая гласные. Дыба не был настроен на долгие диалоги. Инстинкты сработали раньше мозга: низкий лоб тяжело врезался гипнотизеру прямо в нос, и тот жидко лопнул раздавленной ягодой. Тощий свалился с кресла, застонал, прижимая руки к лицу. Сжав кастет в правой руке, Олег в последнюю секунду испытал гадливую жалость, левой наподдал гипнотизеру по печени, ткнул беззлобно каблуком под ребра. – Слушай сюда, вафля. Даю установку – теперь ходишь подо мной. За несговорчивость ставлю на счетчик. Завтра мои приедут, ты отдаешь им два куска зеленых. День просрочки – десять процентов. Не отдал до конца месяца – пеняй на себя. Ты усек? Гипнотизер кряхтел и отхаркивался, поднимаясь на ноги, – живой. Он отряхнулся, с вызовом поглядел на Дыбу, после чего принялся декламировать, сглатывая кровь:
Воздух воспаленный,
Черная трава.
Почему от зноя
Ноет голова?
Почему теснится
В подъязычье стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?
Духотой спаленных
Губ не освежить —
Валентине больше
Не придется жить.[187]
* * *
Сегодня у Дыбы намечалось еще одно дело, гораздо приятнее предыдущего. Припарковавшись у двухэтажного – дореволюционной еще постройки – здания, уродливо облицованного пластиком, он было подбежал к двери, но потом хлопнул себя по лбу. Вернулся к Широкому, положил кастет в бардачок. В заднем стекле машины мелькнула низенькая тень – будто мальчишка какой. Совсем обнаглели! – Э, але, вагон здоровья? Помочь разгрузить? Тень не ответила, а на разборки времени не было – импортные котлы показывали почти четверть девятого. Опоздал. Вбежав в раздевалку, Олег наскоро содрал с себя одежду, бросил на скамью и, обернувшись выданным на входе полотенцем, буквально влетел в предбанник, встреченный сытым пьяным хохотом. Вокруг деревянного стола, уставленного закуской и запотевшими бутылками, собрался весь цвет Тулы. Тряслись от смеха обвисшие, почти женские сиськи Гагика – тот держал Пролетарский округ. Рядом, ссутулившись, недоверчиво нюхал шашлык костлявый Шухер – этот отвечал за все пряничные палатки на пригородных трассах. Неловко ютился меж бугристых плеч бычков смущенный полукоммерс Женя Василенко, заправлявший производством и реализацией поддельных самоваров из крашеного алюминия. На елозящую у него на коленях рыжую ранетку он не обращал никакого внимания – не до нее, быть бы живу. А в дальнем углу одинокий, точно его окружало защитное поле, нет, не сидел – восседал – благообразный старичок с грустными добрыми глазами. Щеки его непрестанно шевелились. Варикозные вены на бледной коже перемешивались с синюшными контурами наколотых звезд, крестов и колючей проволоки. Купола православного храма на груди нежно окутывало облачко седых волос, а вот у порога было насрано раскидистым поносом старческих пятен. И когда этот старичок легонько, словно кто чиркнул спичкой, откашлялся, воцарилась тишина. Смолк Гагик, подавившись смешком, затихли проститутки, напряглись бычки, завертел головой полукоммерс. – Что ж ты, Олежа, опаздываешь? Уважаемые люди ждут, нервничают… Занервничал и Дыба, глядя в теплые усталые глаза законника. «Полны любви», – мысленно усмехнулся он. А было не до смеха. Вор в законе со смешным погонялом Юра Писка отличался крутым нравом. Бывший щипач, загремевший на кичу еще пацаном, он заехал на хату к одичавшим азерам. Южане, почуяв легкую добычу, прельстились молодым телом карманника, но тот оказался не робкого десятка. Заточенной монеткой – пиской – которую он всегда держал при себе за щекой, Юра пописáл троих человек, а потом еще час с лишним держал оборону против вертухаев. После смотрящий по камере рассудил, что Юра поступил по понятиям и спросить с него нечего. Советский суд за понятия был не в курсе и накинул ему еще двадцатку за мокруху в камере. Откинулся Юра Писка уже взрослым, заматеревшим уголовником – с репутацией, погремухой, наколками и той самой монеткой, что сейчас перекатывалась во рту законника. Электричество наполнило воздух, пропахший табачным дымом, потом братков и дешевыми духами проституток. В следующую секунду могло произойти что угодно – угодно маленькому старичку в расплывшихся наколках. Наконец тот выдохнул и огласил вердикт: – Шучу я, Олежа, чего напрягся? Штрафную опоздавшему! Ну-ка, Гагик, намути, нехер руки менять. А что все притихли? Мент, что ль, родился? И лишь после этой фразы, будто бы разрешающей времени течь дальше, гул разговоров вновь заполнил предбанник. Дыбе всучили до краев наполненный стакан, и тот одним глотком осушил его под одобрительное кряканье Гагика. Нос щекотнуло не пойми откуда взявшимся запахом гари. – Так, ну, теперь, когда все в сборе… А ты чего тушуешься, Олежа? Тоже девочку выбери, пущай пока тебе плечи помассирует – вон ты какой нервный, – проскрипел Юра Писка. – Выбирай на вкус! Проститутки дружно повернулись к Олегу. Одна под тяжелым взглядом Дыбы застенчиво подтянула полотенце на грудь; морда же другой была покрыта прыщами, как глубоководная мина, – поди, еще восемнадцати нет. Рыженькая Дыбе понравилась: и грудь, и жопа – все на месте, но лишний раз обделять безобидного, в общем-то, Василька ему не хотелось. Решение нашлось само – оно пьяно пошатывалось в темном проходе, ведущем к бассейну. – А эта тоже работает? – кивнул Олег на силуэт в коридоре. – Эй, милая, ближе подойди! – Тычего, Дыба?! – испуганно спросил чернявый Гагик, вглядываясь во тьму коридора. – Нет там никого. – Как нет? А эта… – Дыба не договорил. – Олежа, – ласково спросил вор в законе, – ты на «хмурый» подсел? Или чего похуже? – Да вы разводите, пацаны! – с деланой бодростью хохотнул Дыба, но почувствовал, как капля холодного пота сбежала по позвоночнику и затерялась меж ягодиц. Одно дело, когда Юра Писка вперяет в тебя свои омертвевшие за десятилетия лагерной жизни фары, решая, жить тебе или умереть, и совершенно другое – когда видишь что-то, чего нет и быть не должно. – Вот я сейчас схожу проверю! Смотри, Гагик, если разводишь – я с тебя спрошу! Так, бросив угрозу и придав себе тем самым уверенности, Дыба пошлепал босыми ногами по кафелю во мрак. За спиной звенела тишина. «Ну, суки, я вам устрою!» – думал он, приближаясь к тени у бассейна. – Ну что, красивая, давай знакомиться! – нарочито громко обратился он к ней и щелкнул выключателем. В помещении загорелся свет, и Олег Дыбов – младший сержант Триста сорок пятого парашютно-десантного полка, переживший бойню в ущелье Микини, успешно штурмовавший перевал Саланг, он же Дыба – грозный глава Зареченской ОПГ, которого побаивались даже цыгане, – шлепнулся на задницу, взвизгнул совершенно по-бабьи и пополз назад, отталкиваясь пятками прочь от воплощенного кошмара, что с шипением тянул к нему покрытые волдырями ладони. «Красивая» и правда была бы ничего, если бы не страшный, до обугливания, ожог, покрывавший всю левую половину тела. Левый глаз запекся вареным яйцом, правый беспорядочно вращался в глазнице; волосы продолжали тлеть, левая же грудь, вывалившаяся из легкомысленного пеньюара, аппетитно шкворчала. – Сука! Сочтя, что отполз достаточно далеко, Олег вскочил на ноги и бегом вернулся в предбанник, тряся гениталиями, чем вызвал смех ранеток. Те, однако, умолкли, едва Юра Писка цыкнул зубом. – Олежа! Что ж ты старика расстраиваешь! Вам, молодым, новое подавай, понимаю. В мои годы кокса никакого не было. Чефир там, анаша чуйская – это да. А ты, Олежа, этой дрянью не увлекайся. Ты нам живой и здоровый нужен, и при делах, – скрипуче подосадовал законник. – Да. Да… Дыба смотрел в пол, пучил глаза. «Может, в водку что подсыпали? Или приколы у них такие? Наняли актрисульку… А как же она тогда шкворчит?» В носу еще колыхались противный флер паленых волос и аппетитный аромат шашлыка. Поднять голову и посмотреть в сторону коридора Олег не решался. Перед глазами вновь темнело, как тогда на шоссе. – Мальчики, он не дышит! Синий весь! – пискнула одна из ранеток. – Дыба, ты чего, Дыба? – посыпалось со всех сторон. Олега подхватили со спины, голова погрузилась во что-то мягкое. Подняв глаза, он встретился взглядом с волосатыми ноздрями Гагика. Дыба чувствовал, что умирает, но хуже того – не знает, что с этим делать. Легкие горели огнем, тем самым, что дотлевал в волосах страшилища у бассейна. – Ему искусственное дыхание делать надо! – пискнула рыжая избранница Василенко. – Тебе-то, лахудре, откуда знать? – Я вообще-то интернатуру заканчивала! «Зачем искусственное?! – вдруг мысленно возмутился Дыба. – Я же и сам могу. Могу же?» И, чтобы проверить, вдохнул полной грудью. Тут же отступила тьма в уголках глаз, отхлынул из конечностей новокаин оцепенения. Олег встал на ноги, вырвавшись из объятий Гагика. – Прикиньте, мужики… Как дышать, забыл! – ошарашенно произнес Дыба, ощупывая горло. В сторону коридора он смотреть опасался. – Расслабиться тебе в мазу, Олежа. Может, в Сочах недельку прибалдеть, – по-отечески проскрипел Писка. – Ты мне набери завтра, у меня лепила есть проверенный… Олег ошалело кивнул и, не прощаясь, как ошпаренный выскочил из предбанника.* * *
Дыба гнал Широкого по ночной Туле, изо всех сил стараясь смотреть только на дорогу. Нужно было скорее добраться домой и проспаться от этой вездесущей дряни. «Утро вечера мудреней», – пульсировала мысль. В подъезде кто-то опять выкрутил лампочку, но сегодня Дыба, вопреки обыкновению, был благодарен неведомому хулигану – так был ниже шанс увидеть лишнее. Не раздеваясь, Олег тяжело плюхнулся на разложенный диван, отпил добрые грамм сто коньяка и уткнулся носом в подушку. Но сон, будто издеваясь, то накатывал, то вдруг отступал, наполняя сознание утренней бодростью, как труба горниста в пионерлагере. – Сука, да что ж ты будешь делать! – выругался Дыба, поднимаясь. Отправился на кухню, щелкнул плитой. Конфорка озарилась венцом синих болотных огоньков. Олег открыл шкаф над раковиной и принялся сбрасывать содержимое на столешницу – там, в глубине, должен был лежать травяной сбор, подаренный Алевтиной Михайловной. «Сама сушила, – говорила она тогда. – Ты, Олежа, как плохо спать будешь, завари и пей на ночь, и никаких больше кошмаров». В тот день он не раз пожалел, что разбередил душу пожилой женщины жалобами на гнетущие муторные сны о товарищах, что навсегда остались в степях Афганистана. Травяной сбор Олег нашел на столе – как месяц назад бросил, так с тех пор он там и валялся, завернутый в фирменный пакет «Мальборо». Потянувшись к столу, Дыба случайно посмотрел в окно и замер. С высоты шестого этажа были хорошо видны неподвижные фигурки, застывшие на снежной глазури посреди растасканной на металлолом детской площадки, – дворник не убирался уже неделю: может, запил, а может, и сгинул. Там, по колено в снегу, стояли человек пять. Их бледные лица были направлены вверх, и Дыба не сомневался: смотрят они именно в его окно. Одноногий в шапке, натянутой на лицо, и обожженная проститутка – видать, кто-то с досады приложил профуру щами к каменке – были Олегу уже знакомы. К ним присоединился обледенелый, перекрученный бомж и огромная вспухшая старуха, из которой на снег сочилась темная жижа. Пятого было не разглядеть – низкорослый жмур влез в самый центр кустарника. Твари не шевелились, не дышали, лишь, как загипнотизированные, пялились в его темное окно. Через толпу мертвецов как ни в чем не бывало прошагал дедок в брежневском «пирожке» и с авоськой. В этот момент Олег почувствовал себя предельно, бесконечно одиноким и беззащитным – один на один с этими тварями. Хотелось отойти, отпрыгнуть прочь из-под слепого взгляда жмуров, но из глубин рассудка утопленником всплыло четкое осознание: «Пока ты смотришь – они не двигаются». Так они и торчали друг напротив друга: Дыба на кухне под бешеный свист давно закипевшего чайника и жмуры – по колено в снегу, точно остатки снесенного джипом частокола. Когда в глазах начало темнеть, Олег уже знал, что нужно делать: совершив над собой усилие, он вдохнул и выдохнул, напрягая едва ли не все мышцы, чтобы расправить слипшиеся от ужаса легкие. Под взглядами жмуров вегетативная нервная система сачковала, и дышать приходилось «самому». Все решил шаг – неуверенный и неловкий шаг обожженной проститутки в сторону подъезда. Олег, вернув себе контроль над телом, рванул в коридор, вынул из висящей на вешалке кобуры верный «Тульский Токарев», прижался спиной к стене и зарычал, целясь в массивную железную дверь: – Ну, сукины дети, подходи по одному! Тут Дыба немного лукавил, подбадривая себя самого яростной бравадой. Чтобы сукины дети подходили, ему хотелось меньше всего. Поэтому, когда дверной глазок погас, загороженный чьим-то силуэтом, Олег, не раздумывая, выпустил пулю по двери. Та оставила неглубокую темную вмятину в самом центре, а силуэт пропал. Заслышался топот по лестнице, прогремело подъездное эхо: «Долбанутый!» Бессильно Дыба осел по стенке на пол, не спуская глаз с двери; он сверлил ее взглядом, пока по гофрированному металлу не поползли тусклые лучи рассвета. Олег поднялся на ноги, сбегал в ванную, умылся и спешно покинул квартиру. До офиса Сайдуласа он доехал минут за семь, едва не стесав отбойник перед самым рынком. Цой из уличных колонок настойчиво требовал: «Перемен!» Выскочив из Широкого, Олег в три шага преодолел расстояние до двери офиса гипнотизера… чтобы обнаружить промокшее, отпечатанное на принтере объявление: «Вилкас Сайдулас временно приостанавливает прием граждан на неопределенный срок. Просим прощения за неудобства. Администрация». – Твою мать! – Дыба с досады саданул по двери каблуком. «Облажался ведь, как пацан! – ругал он себя. – Надо было сначала пробить, где живет, куда ходит, чем дышит! Как его теперь искать?» Впрочем, это не проблема: один звонок, и Чача с Келоидом поднимут на уши всю Тулу и к вечеру доставят гипнотизера насаженным на самовар. Одна беда – дожить бы до вечера. Недолго думая, Дыба запрыгнул обратно в джип и рванул с места. Вырулив на Оборонную и подрезав возмущенно зазвеневший трамвай, Олег припарковался у ворот храма. Он выскочил из машины, провалился в лужу, хлебнув полный ботинок ледяной жижи, и побежал к крыльцу хлюпающей трусцой. Уже было заскочил внутрь, но опомнился. – Как там… – Олег перекрестился, тыкая двумя пальцами в случайном порядке то в лоб, то в плечи, после чего дернул дверь на себя. Храм Двенадцати Апостолов почему-то встретил Дыбу не тяжелым духом ладана, а кислой вонью половой тряпки – безвозрастная баба в платке разгоняла серую водицу по глянцевым плитам. Поп обнаружился у иконостаса; как положено: большой, круглый, с бородищей. Полный фарш. И крест на пузе такой, что иному и на могилу поставить не стыдно. Увидев Дыбу, тот сразу посерьезнел, отмахнулся от какой-то прихожанки: иди, мол, с Богом, и степенно зашагал навстречу. Олег его узнал – этот поп освящал Дыбе Широкого. – Давно не заходил, сын мой! – Поп по-мамзельски протянул руку для поцелуя, но, будто вспомнив что-то, тут же отдернулся и поприветствовал Олега рукопожатием. – Новую ласточку купил? – Здорово, отец. Да не, мой на ходу еще, тут вот… – Оглядевшись по сторонам, не слышит ли кто, Дыба интимно пробормотал в нос: – Нехорошо мне на душе последнее время, видится всякое: жмуры там и прочее… – То грехи за тобой ходят! – трубно пробасил священник, раздуваясь, как рыба фугу. – Душа у тебя грязная, кровью замаранная… – Слышь, какой кровью?! Ты за помелом-то следи! – набычился Олег. – Почиститься надо! Исповедоваться! – Ну так давай, командуй, колдуй! Что делать-то надо? – Куда ты так спешишь? – поморщился пузатый служитель культа. – Еще это «колдуй»… Тебе сначала подумать надо, в уединении побыть, грехи свои упомнить, а лучше записать… – Слышь, бать, я свои грехи тогда до старости записывать буду. Нельзя как-то, ну, экспресс-вариантом, чтобы сразу? Я вот тебе… – Дыба стащил с запястья котлы и протянул попу. Тот ловко повел пухлой ручкой; часы исчезли в складках рясы. – В принципе, если душа требует покаяния… – Требует, еще как требует! – Дыба закивал, залез рукой в барсетку, отсчитал три миллиона и обратился к бабе с тряпкой: – Эй, милая! Поди сюда! На-ка тебе… Поставь свечек на все деньги! И еще вот… сверху. На помаду-колготки, сама решишь. Растерянная уборщица приняла деньги, дождалась благосклонного кивка священника и пропала за колонной. – Ну, вставай на колени… Да не здесь, вот тут почище! – Поп принялся осенять Олега крестным знамением и монотонно гудеть: – Боже, Спаситель наш, иже пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениих оставление даровавый, в покаяние молитву приемый, Сам и раба Твоего Олега, кающагося о нихже содела… Слушать все эти непонятные слова Олегу быстро наскучило, и он принялся водить взглядом по буроватым от времени иконам. Те изображали предельно одинаковых людей в банных халатах. Вдруг в груди потяжелело, дыхание сперло: там, в черной дыре посреди иконостаса, за испачканной краской стремянкой виднелось еще одно лицо, разительно отличающееся от прочих – круглое, кипенно-белое. Волосы вперемешку с водорослями облепляли лоб пожилой тетки; глаза запали; изо рта сочилась болотная тина. Под ноздрей копошился речной рачок, похожий на крупную козявку. В метре над этой жуткой сценой висел распятый Иисус и виновато разводил руками: что, мол, тут поделаешь? – Не усрамись передо мной, я лишь свидетель, ты говоришь со Христом! – напутствовал поп, а Дыба уже поднимался на ноги, активно работая легкими, – точно к погружению готовился. – Ты куда? – Да поговорили уже… – процедил тот сквозь зубы, бегом направляясь к выходу. Дыба выбежал на крыльцо и остановился, переводя дух. Дышал носом, чтобы успокоиться, – как учил старшина. Сырой холодный воздух царапал носоглотку, «Стиморолом» прокатываясь по ноздрям. Вдруг к мятному аромату примешался гадкий привкус мышиного помета и корвалола. Раздался скрипучий голосок: – Мальчики кровавые в глазах стоят? Обернувшись, Дыба увидел перед собой сухонькую старушку, всю скошенную на левую сторону: голова на плече, плечо на уровне локтя, локоть у колена. «Черт плечо отсидел», – так кстати вспомнились слова одной из нянечек в приюте. Личико у старушки было остренькое, скуластое; глаза – умные, живые, как у хорька. Костлявые руки упирались в четырехногую трость. – Гуляй, бабка. Не до тебя. – Тебе, милок, теперь только до меня, – редкозубо ухмыльнулась та. – Подкузьмил тебе Вилкас? «Смерть пионерки», небось, читал? За глазными яблоками стало горячо; глухо бухнул молот в голове. Руки сами схватили бабку и тряханули за полы драного пальтишка: – Ты что это, бичевка, со своим глиномесом литовским меня развести захотела?! – А что тебя разводить-то, черт ты подшконочный? – не дрогнув, зашипела старуха; даже клюку не выпустила. – За спину взгляни, вот тебе и развод… Олег застыл. Велик был соблазн остаться стоять не двигаясь, в надежде, что какой бы кошмар ни ждал за спиной – тому надоест, и он уйдет, спрячется, не выдержит долгого нахождения на солнечном свету. Но серые плотные облака лишь сгущались, точно издеваясь над Дыбой. – Да нет там ничего… – решился Олег и резко обернулся. Воздух вышибло уже знакомым ударом в солнечное сплетение; по краям глаз, разрастаясь, обосновалась тьма, а навстречу Дыбе по слякотной каше неловко пробирался мальчонка с полиэтиленовым пакетом, плотно облепившим лицо. – Клей нюхал, прибалдел небось, да так в пакете и задохнулся, – прокомментировала старуха. – Вдыхай, бобер! Бабка ткнула ему клюкой в ботинок. Олег, опомнившись, запыхтел, как паровоз на разгоне. Стоило моргнуть, и жмур пропал – растворился в талой слякоти. – Что это?.. – ошарашенно просипел Дыба, потирая горло. – Шелуха, как от семечек… Отрыжка вилкасовская. Тело умирает, здесь остается разлагаться, а душа через прошлое в нижний космос падает, во тьму безвременную. Он пути эти искажает, души ловит, выпивает, а шелуху сплевывает и натравливает опосля. Вот теперь на тебя… – Кто? Сайдулас? – Пушкин, блин… – сплюнула старуха. – Душелов он, над некротическими отстойниками их хватает, а то и с живых счищает, а потом – вон, науськивает. А они, глупые, не знают, что умерли, вот их к живым тянет… Вишь, как кольцо сжимается? – Что ж делать-то? – в пространство спросил Олег, переваривая информацию. – А что, спастись хочешь? – Хочу! – горячо кивнул он. – Тогда надобно их хозяину вернуть. – А ты, мать, знаешь, как? – Э-э-э, разбежался! Мне с того какой навар? – Да я… – Позжей сочтемся, – перебила бабка. – Сама решу. – Ты, мать, лоха во мне увидела? Давай-ка на берегу добазаримся. – Недолго тебе на этом берегу осталось, скоро на тот перевезут. Так, разок выдохнешь и не вдохнешь. Дыба думал недолго. Слишком свежо было воспоминание о мальчонке с пакетом на голове. – Согласен! – гаркнул он. – Ну тогда вот тебе для начала. – Старуха покопалась в складках пальто и извлекла на свет деревянную иконку – с нее на Олега, подняв двоеперстие, требовательно взирал Христос. – С собой носи, у сердца самого. Как почуешь, что наступает шелуха, – молись, отпустит. – Да я не умею… – Эх, молодежь! – с досадой крякнула старуха. – Запоминай: «Душу тебе, Спаситель, вверяю, прибереги меня, грешного, прими меня в Царствии Твоем». Повтори! Дыба повторил, разглядывая облупившуюся краску на маленькой дощечке. И действительно стало легче – точно изнутри вынули какую-то гирю и переложили Спасителю на плечи. «Чай крест таскал и мою ношу подержит», – рассудил Олег. – И… все? Это поможет? – Скоро сказка сказывается… Это так, отсрочка. – Левосторонняя старуха пожевала губами, поправила платок на голове, прикрывая редкие седые пряди. – Ты мне скажи… Ты гипнотизеру тому должок вернуть желаешь? – Спрашиваешь! – кивнул Дыба: ай да бабка! – Тогда приезжай сегодня в три ночи на кладбище за Малеевкой, у ворот ждать буду. Тама все и расскажу. А сейчас поди – поставь свечку Сайдуласу. – За здравие, что ль? – За упокой! – каркнула старуха. С неожиданной для своего возраста прытью она заковыляла прочь. – Стой, мать! Звать-тебя как? – Марлен Демьяновна я! – скрипнула та, по-птичьи обернувшись одной лишь головой. – Как Дитрих, что ли? – Как Маркс и Ленин! – отрезала бабка.* * *
Свечку за упокой Дыба поставил в том же храме. Косясь на дырку в иконостасе, он осторожно приблизился к кануну. Почесал ежик коротких волос, подбирая нужные слова. Наконец воткнул тонкую палочку воска в подсвечник, чиркнул «крикетом» и пробормотал: – Ну… Это… Короче, Господи, это… рабу твоему Вискасу Сайдуласу чтоб земля стекловатой. Хрюкнул себе под нос – смешная оговорка получилась. От дыхания Дыбы свечка тут же потухла. Он пощелкал зажигалкой, но то ли фитиль отсырел, то ли еще что – загораться свеча никак не хотела. Сначала думал взять новую, но покумекал и решил: бабка говорила про одну свечку; раз потухла, так оно, наверное, и надо. Олег вышел из церкви, сел в машину и отправился на рынок – караулить гипнотизера. Свечка свечкой, а старый добрый наезд всяко надежней. На сердце у Дыбы было неспокойно. Сидя в Широком, который служил ему и транспортом, и офисом, и столовой, он задумчиво жевал купленный на рынке беляш и рассматривал иконку, подсуропленную кривой старушкой. Не забывал и поглядывать на дверь гипнотизерского офиса – никакого движения. Иисус пузырился, будто побывал под кислотным дождем. Иконка не казалась старой, скорее подпорченной. Жмуры подходить не спешили, словно чуяли, что теперь у Олега есть «крыша». В качестве эксперимента он зачитал, перекатывая куски недожеванного мяса по языку: – Душу тебе, Спаситель… Как там?.. Поручаю. Убереги меня, неверного, и… это… Короче, помоги мне, лады? Спаситель взирал строго и беспристрастно, помощью ближнему явно не отягощенный. Дыба прислушался к своим ощущениям. Дышать стало полегче. Может потому, что он протолкнул застрявший в горле кусок беляша хорошим глотком пепси-колы. Жмуры, впрочем, тоже не появлялись – и то хлеб. Иконку он положил на торпедо, под лобовое стекло. Успокоившись, Олег даже задремал напротив офиса Сайдуласа и, когда очнулся, понял, что опаздывает. Ядовито-зеленые цифры на приборной панели показывали полтретьего. На всех парах он погнал Широкого по трассам к кладбищу. У ворот уже поджидала Марлен Демьяновна. Пригнувшись к земле, она стояла за пределами светового пятна от единственного на кладбище фонаря. Дыбе на секунду показалось, что старушку сильнее прижало к земле, а на плече у нее сидит… – Тьфу ты, примерещится же! – сплюнул он: за спиной бабки, растопырив голые ветки, торчал стриженый клен, без листьев походивший на туалетный ершик. – Явился – не запылился! – недовольно прокомментировала старуха, сунув в руки Дыбе совковую лопату. – Пошли, тут недалече. Шагая за бабкой сквозь темень ночного кладбища, он не раз и не два запнулся о торчащие тут и там куски оград. Огонек масляной лампы неровно покачивался в руке старухи. Где-то поблизости голодно и отчаянно выли бездомные псы; низко нависало светло-коричневое, в цвет слякоти небо. – Здесь! – гаркнула старуха. Олег пригляделся и увидел грубо обтесанный деревянный крест-времянку. Бабка ткнула вниз и приказала: – Копай! – Э, мать, это мы так не договаривались! Я если бы знал – пацанов бы подтянул… – А срать ты тоже пацанов с собой берешь? Сам давай. Твоя могила – тебе и копать. – В смысле, моя? – испугался на секунду Дыба и принялся близоруко вглядываться в фанерную табличку, но ничего не смог разглядеть. – В том смысле, что копать – тебе. А выбрала я ту, что посвежее, – чтоб земля помягче. Рой давай, а то до первых петухов провозимся! Олег уперся в черенок, вгрызся лопатой в почву – пошло хорошо. Сразу вспомнилась учебка, где старшина заставлял без конца рыть окопы и траншеи. Руки помнили ремесло, работа спорилась. – А что, Марлен Демьяновна, зачем могила-то? Для Вискаса? – Для тебя! – скрипнула старуха. Услышав, что лопата остановилась, она вздохнула и принялась объяснять: – Вот скажи, милок, ты смерть-то видел? – Отож! – возмущенно выдохнул Дыба. – Я же и Афган прошел, и здесь… – Ты мертвяков видел, это да. А смерть-то саму? – Кого? Старуху с косой, что ль? – Ой, дурак… Смерть как явление видел? Ну, вот когда электричество – искру видно, когда взрыв – вспышку, когда горит что – пламя. А когда умирают? – Ну… – То-то же. А ты не думал, дурак, что целая жизнь берет и уходит в никуда? Человек же ж родился, ходить учился, маму-папу слушал, октябрятский значок получил, в пионеры посвятили, потом в армию, на завод… А потом его – р-р-раз, и на токарный станок намотало. А оставшаяся жизнь куда? – Так это… Все! – растерянно пожал плечами Олег, даже перестав копать. Весь он был покрыт сырой черной землей и теперь походил на самого настоящего черта. – Ага, щас! Ты за свои восемь классов образования про закон сохранения энергии не слышал? – Дыба аж рот открыл – не ожидал от старухи таких познаний в физике. – В никуда ничего не девается. Смерть, ты ж пойми, не отсюда она, не из нашего мира! То таинство великое, чудо мистическое! Кабы вся мощь непрожитой жизни здесь оставалась – разрывало б вокруг все к чертовой матери. А с деток – с младенчика мамкой заспанного али ребятенка утонувшего – и вовсе б котлован оставался, в них-то жизни через край. Самый что ни на есть сок! – Бабка шумно сглотнула. – Смерть – она суть-то человеческую на ту сторону переводит. А что той стороны касалось – землица могильная, доска гробовая, тушка человеческая – оно-то дыхание ее хранит, как эту вашу радияцию. – А на кой он, этот мирный атом? – На кой! Опарыши мертвячьи хвори снимают; гвоздь могильный в косяк дверной забивают, чтоб чужак без приглашения не зашел; водой, которой мертвеца омывали, уморить можно, и концов не найдут… Олег сначала усмехнулся, а потом вспомнил: была у него баба из Новосиба, так та рассказывала, как девчонкой ходила на Клещихинское кладбище собирать снег с могилы артистки Екатерины Савиновой, чтобы растопить в кастрюле и приготовить приворотное зелье. Дома обнаружилось, что часть снега была с мочой, так она не стушевалась, напоила парня желтым зельем. Сама смеялась, а Дыбе стало неприятно: на ровном месте пацана зашкварили. – И что, работает? – Чего ж не работать? Ты ж сам, считай, на трупе жируешь! – На каком трупе? – Как на каком? Страна умерла, а вы, опарыши, по ней и расползлись. Кто понаглее да похитрее – те куски покрупнее отрывают, заводы да колхозы приватизируют, переваривают, опосля землю да помои высирают. Кто помельче – вроде тебя – те по мелочи и копошатся… – А ты, мать, сталинистка, я погляжу? – А ты зря смеёсси! Раньше кресты да образа вешали, а после в красном углу Он поселился. Сколько душ погубил-сожрал, смертию жил, ею питался. Сталин-то Бога заменил, сам богом стал. – Зажмурился ваш бог! И до него добрались опарыши! – Мертвые боги всех сильней, – поставила точку старуха. «Христос-то тоже мертвый бог, выходит», – мелькнула мысль. Лопата ткнулась в крышку гроба. Та и не думала открываться, крепко засев в земле. – Ломай! – скомандовала Марлен Демьяновна. После нескольких ударов тонкие доски дешевого соснового гроба треснули. В лицо пахнуло гнилостным смрадом, к горлу подкатило. Из дыры показалось синюшное, оплывшее, будто свеча, лицо покойника средних лет. Губы и веки его были зашиты, руки – аккуратно сложены на лиловом галстуке, а под короткой, полубоксом, стрижкой явственно виднелась причина смерти: голову парню пробили тупым тяжелым предметом, как пишут в протоколах. – Доставай его! – Зачем? – Вдвоем не поместитесь! – хохотнула старая ведьма. – Ты что, мать, с дуба рухнула?! Март месяц на дворе, я оттуда с менингитом вылезу! – Ну, дождись, пока тебе отдельную выроют. Недолго осталось – отрыжка-то душеловская вон, недалече. Сомнения Дыбы развеял из ниоткуда взявшийся перекрученный бомж с сосульками на клочковатой бороде. Перебитые ноги не шевелились; жмур цеплялся поломанными ногтями за промерзшую землю и медленно, но с завидным упорством подтягивал тело вперед. Вытащив мертвеца из гроба и уперев того лицом в земляную стену, Олег улегся на доски и накрылся сверху кожанкой на манер одеяла. – Так-то, – кивнула Марлен Демьяновна. – Это как прописка. В гробу-то полежать, сны мертвецов посмотреть, поваляться, сырой землей пропитаться, чтоб пахло от тебя, как от мертвого. Поворочайся, подыши, принюхайся… Чуешь? Дыба старательно принюхивался, но чувствовал только холодные доски, запах собственного пота и вонь от прислоненного к стенке мертвеца. Слушал, как земля ссыпается с краев ямы, забиваясь в ноздри и скрипя на зубах. В какой-то момент ему показалось, что бабка принялась закапывать могилу, но та неподвижно стояла на краю ямы, и лишь сморщенные серые губы беспрестанно шевелились: – Чуешь, как меняется твоя суть? Там, внизу, тебя щупают, обнюхивают: свой, чужой ли. Там, куда падает все сущее, под грузом времен, среди отработанных пережеванных душ, в безначальной бездне ведут свое небытие мертвые боги, старые боги, забытые боги. Чувствуешь, как их взгляды ползают по тебе, взвешивают, измеряют? И действительно, в эту секунду Олег ощутил, как чьи-то ногти скребут по доскам под спиной. Застыв, он вслушивался, как чужие, нелюдские пальцы осторожно постукивают снизу, будто проверяют дерево на прочность. Под самым ухом алчно щелкала чья-то челюсть. Волосы встали дыбом, сердце зашлось в истеричном стаккато. Воздух застрял в легких и не желал двигаться ни туда ни сюда. Тем временем с левого края могилы земля осыпалась особенно сильно – над ямой появилась бородатая морда обмороженного бомжа. Расставив руки, бомж повис на краю и принялся медленно, по-паучьи, спускаться. Пальцы Дыбы дернулись к нагрудному карману с иконой, но сомкнулись на пустоте. Забыл – в машине лежит! А гадкое создание все приближалось. Перекрученные ноги перевалились через край ямы и, неестественно изогнувшись, легли на плечи бомжа. Вот его заскорузлая шишковатая кисть уже тянется к горлу Олега, а тот лежит будто парализованный и не знает, чье прикосновение страшит больше – жмура или тех, кто скребется снизу… Не по-мартовски солнечный рассвет наступил так резко и неожиданно, что Дыба на секунду поверил, что проснулся в своей постели… Но нет – его все еще окружали земляные стены, а на краю могилы однобокой корягой торчала старуха, опираясь на четырехногую клюку. К облегчению Олега, жмур все же исчез. – Все. Первых петухов дождались. Вылезай давай. Этому указанию Дыба подчинился с небывалым энтузиазмом. Он хотел что-то сказать, но слов не находилось. Оставалось лишь отплевывать комки могильной земли. – Езжай домой, – сказала бабка, – лезь в ванну, пробкой заткни и три себя губкой, как следует три, чтоб до ссадин. Потом воду эту собери и езжай извиняться. – Перед кем?.. – выдавил наконец Дыба. – Перед Вилкасом. – А если его в офисе не будет? – Будет, – уверенно кивнула старуха, – куда он денется. Ему теперь бояться нечего. Икры купи, водки, осетра там… Вертись как хочешь, а хоть рюмку той водицы он должен выпить. Сам пить не вздумай. А Вилкас тогда твою прописку примет, его по ту сторону узнают да приберут, с шелухой вместе. Понял? Дыба молча кивнул и заковылял прочь, еще не отошедший от могильного холода. Того, который, казалось, исходил из-под самой земли, из тех ее недр, о которых не пишут в геологических справочниках; упоминания о нем можно найти лишь на форзаце Ветхого Завета и на внутренней стороне древних саркофагов. Того, что остался только где-то в глубине памяти из тех времен, когда человеческий предок сидел у костра и с ужасом вглядывался в густую одушевленную тьму за пределами пещеры. Дома он долго, до болезненной красноты, драил себя губкой без мыла. Нянечка в приюте ругалась, когда кто-то задерживался в душе; говорила: «Жизнь с себя смоешь». Олег же смывал с себя смерть. Мутную водицу он собрал в трехлитровую банку, взболтал. Из серванта достал бутылку «Абсолюта», безжалостно вылил половину в раковину и заполнил под крышечку водицей из ванны. Еле дождался десяти утра – именно в это время открывался офис гипнотизера – и помчался на рынок. Закупившись так, будто собирался умасливать самого Ельцина, Дыба припарковал Широкого на подсохшей на солнце площадке и подошел с пакетами к двери офиса. Тот действительно оказался открыт. Толкнув дверь, он обнаружил мышь-секретаршу на прежнем месте. Очередь состояла из пяти человек – какие-то лошки, интеллигенты и один явный наркоман с остекленевшими глазами. В другой момент Олег, может быть, прошел бы мимо, но сейчас смиренно присел на длинную скамью и принялся ждать своей очереди. Увидев посетителя, гипнотизер откинулся в кресле: как будто и не удивился вовсе. Огромный бланш под левым глазом вошел в самый сок, расплываясь вокруг глаза лилово-желтой ватрушкой. Нос Сайдуласа перечеркивала полоска пластыря. С портрета над головой гипнотизера все так же строго взирал Джугашвили, угрожая не то Колымой, не то индустриализацией. – Явилша! – презрительно выплюнул хозяин офиса. Эффект несколько портило отсутствие двух передних зубов. – Здорово! А я вот подумал, знаешь, не с того мы начали. Ты рамсить стал, я не сдержался, ну и… Сам понимаешь, авторитет – это не базар, это дела, – говорил Олег, выкладывая закуску. – Ты меня послал, я бы повелся, и что? Уважение теряется! Скажут – Дыба размяк, Дыбу сожрать можно. А я сам кого хочешь… Об стол звякнули две заблаговременно подготовленные рюмки. Изобразив напряжение, Олег свернул горлышко «Абсолюту» и наполнил их до краев. – За примирение? – приподнял рюмку Дыба, другую подвинул к гипнотизеру. – Зашшал, да? – с удовольствием произнес Вилкас. Принял рюмку, кинул протяжный взгляд на Олега. Тот мог почти физически ощущать ненависть гипнотизера, опаляющую со всех сторон. На секунду даже показалось, что в офисе стало на пару градусов жарче. И действительно – какая-то розовая капля, видимо оттаяв, булькнулась с потолка в рюмку. Дыба было открыл рот, но промолчал – пущай так пьет. Гипнотизер отсалютовал штофом: – За швое ждоровье! И немедленно выпил. От него не отстал и Олег, опрокинув рюмку так, чтобы водка стекла за шиворот и под свитер. Хоть и мокро, зато не в себя. Гипнотизер поморщился, помотал головой, осоловело взглянул на Дыбу. – Хорошо пошла? Вилкас не ответил. Лишь продолжал пялиться на гостя, после чего приподнял руку и помахал ему. Удивленно посмотрел сначала на руку, потом опять на Олега – что баран на новые ворота. В этот момент Дыба ликовал. Поднимаясь со стула, он чувствовал, как слоями сходит с него астральная кожура, как некротический налет спадает на грязный линолеум и переползает на Сайдуласа пылевыми облаками. Тот вновь и вновь махал рукой, словно провожая кого-то в дальний путь. – Да и ты тоже прощай! Не поминай, как говорится, лихом! – Олег развел руками, схватил кусок балыка из открытой упаковки, разжевал и, по-клоунски откланявшись, навсегда покинул кабинет гипнотизера-целителя.* * *
Доехав до дома и собираясь уже выходить из машины, Дыба снова хлопнул себя по лбу: иконка так и валялась на торпедо. Взяв ее в руки, он испытал давно позабытое чувство кощунственного стыда за сделанное – как если бы, будучи еще ребенком, ударил девочку или взял чужое. Оставленная на целое утро на солнце иконка совсем облупилась, топорщилась слезающими пузырями краски. – Взял и испортил чужую вещь! – досадовал на себя Олег. Под пальцами краска спадала крупными хлопьями, открывая слой за слоем… «Адопись», – вспомнилось слово из прочитанной еще в учебке книги Лескова. С нижнего, тайного слоя на Дыбу, хитро прищурившись, взирал усатый Отец Народов в своем знаменитом мундире генералиссимуса. «Сталин Бога заменил, сам богом стал…» – пронеслись в голове слова старухи. Недоброе предчувствие заскреблось под сердцем, встал перед глазами сталинский профиль на портрете за спиной гипнотизера. – Это что же… я Сталину молился? Резко стартанув с места, Широкий за считаные минуты вернулся к рынку. Ввалившись в дверь офиса, Дыба взревел диким зверем: – Где?! Опасливо прикрываясь ручками, секретарша в слезах пропищала что-то невразумительное. Олег влетел в кабинет, игнорируя ее жалкие протесты, но никого там не обнаружил. – Говорю же, убежал, мычал что-то. Может, у него инсульт теперь…* * *
Дыбов колесил по Туле до вечера, вглядываясь в людей на улицах в надежде встретить либо Марлен Демьяновну, либо Вискаса, но, как назло, те будто испарились. Он то и дело заезжал во дворы, прижимаясь к подъездам едва ли не вплотную, пугая жителей ревом двигателя и внимательным взглядом: не сидит ли на скамейке кривая ведьма с четырехногой клюкой? Чача и Келоид с бойцами прошерстили весь город, но не обнаружили никого, даже похожего на гипнотизера или бабку. Впрочем, к позднему вечеру выяснилось, что беспокоилась секретарша Сайдуласа вовсе не зря. Его, скрюченного, обнаружили в очке рыночного туалета с финкой, застрявшей в глазнице. Дело, в целом, обычное – мало ли кому перешел дорогу новоявленный коммерсант, но способ – унизительный и жуткий, да еще и едва ли не в центре рынка – заставил всю Тулу гудеть как улей. Новость быстро долетела до Дыбы, приведя того в смятение: ведь если гипнотизер мертв, значит, вода и в самом деле сработала… Но почему тогда в кабинете Вискаса и на иконе Марлен изображен один и тот же человек? Этот вопрос заставил Олега всю ночь беспокойно ворочаться в постели, хоть жмуры уже и не стояли под окнами, а дыхание было ровным, как метроном. Сон приснился дурацкий и муторный – будто ему снова восемь и он сидит в столовой детдома. Не пойми откуда взявшаяся Марлен Демьяновна в белом халате нянечки зачерпывает половником из гигантской кастрюли жирную черную землю с червями и накладывает детям в тарелки. Вот шлепнулась порция и перед Дыбой, и красный червь, перевалившись через край, устремился на волю. А земля в кастрюле закончилась, и на дне Олег увидел бледное как поганка тело своего приютского товарища – Мишки Оборина. Глаза его были старательно выкорчеваны. Наутро Дыба, натянув шмотки поцивильней – какие-то брючки и пиджак в елочку, – спрятал ствол и кастет в сейф, а взамен вынул документы: свидетельство о собственности, договор купли-продажи, справку о выплате взноса. С этой стопкой он направился в приют. Судили и рядили с городской администрацией едва ли не до вечера. Алевтина Михайловна приходила несколько раз, приносила сладкий чай и булочки с изюмом, которые Олег обожал с детства. Чинуши явно пытались вымогать взятки, но дела приюта Дыба вел чище дембельского подворотничка. Наконец, когда дебелые тетки в бобровых шапках что-то понаотмечали в своих бланках и, цокая сапогами по асфальту, покинули территорию приюта, засобирался, наконец, и Олег. Натянул пиджак, подошел к окну, завязывая длинный лоховской шарф и… застыл: у забора он увидел скрюченную фигуру, что опиралась на четырехлапую клюку. Дыба выбежал на улицу, не застегнувшись. Он до последнего был уверен, что стоит ему приблизиться к воротам, как Марлен Демьяновна растворится, исчезнет в налетевшей вдруг вьюге, но она стояла там как обрубок дерева, срезанного молнией. – Документы на приют с собой? – скрипнула бабка, не здороваясь, и, приняв молчание Олега за положительный ответ, кивнула. – Отлично. Вот приютом и расплатишься. Страсть как деток люблю. Странное требование выбило Дыбу из колеи. Зачем ей эта богадельня? Дотаций нет, бюджет на ладан дышит; если бы Олег в свое время не выкупил здание – сироты бы уже по миру пошли вместе с педсоставом. После всего, что наговорила старуха на кладбище, в любовь к детишкам верилось с трудом. Он морщил лоб, пытаясь придумать, как соскочить с долга. – Дурь по башке не гоняй, хуже будет! – заметив его замешательство, поторопила Марлен Демьяновна. – Заводи катафалку свою. Ехать было неблизко. Старуха расположилась в тени, на заднем сиденье, по-хозяйски приобняв портфель, в котором хранилось свидетельство на собственность на здание приюта. Изредка она тыкала скрюченным пальцем в повороты, указывая дорогу. Олег же вел молча, сосредоточенно раздумывая, что делать теперь с этим опрометчиво данным обещанием. Наконец старуха скомандовала: – Тпр-ру! Стоп машина! Дыба заглушил двигатель. Жила бабка в десятке километров от Тулы в глухом поселке под названием Петелино. От вида местных красот и правда хотелось залезть в петлю: на пути встречались лишь заброшенные, утопающие в сухом борщевике коровники и облезлые домишки за покосившимися заборами. Около одного такого и затормозил Широкого. Старуха вылезла из машины без посторонней помощи – Олег почему-то теперь не желал прикасаться к ведьме. Та махнула рукой, приглашая следовать за собой, открыла калитку. У самого входа их встретила пустая конура с лежащей на земле ржавой цепью, на которую Марлен Демьяновна прикрикнула: «Фу! Свои! Не тронь!» Ни цепь, ни конура не отреагировали. Вид у придомовой территории был неухоженный; весь участок усеивали ямы – создавалось впечатление, что здесь на постоянной основе проводятся археологические раскопки. – Клад ищете? – пошутил Олег, пытаясь разогнать гнетущую тишину. – Прячу, – уклончиво отрезала старуха. Вошли в дом. Тот напоминал обычную старушечью хижину: какие-то банки, старая мебель, вязаная салфетка на телевизоре, желтые от времени тюлевые занавески. Но одновременно за всем этим чудился некий тайный смысл, загадка, словно все это – лишь притвор, а храм, видимый только с определенной точки, находится в другом, параллельном пространстве. И если занять эту точку, то кружева салфеток превратятся в оккультные узоры, в банках можно будет разглядеть тошнотворное содержимое, что вырезают у свежих трупов, а под занавесом бревенчатых стен обнаружится голодная первобытная тьма. – Садись! – скомандовала старуха, указывая на колченогий стул. – Я договор дарения принесу. – Благодарствую, я постою! – ответил Дыба. Бабка пожала плечами и ушла за договором. Олег же принялся крутиться на месте, осматривая помещение. Дом как дом, вот плита газовая – небось от баллона, вот холодильник – пузатый, уже пожелтевший «ЗиЛ». Телевизор, покрытый толстым слоем пыли. А вот… Странный предмет, привлекший внимание Дыбы, никак не вписывался в бедную обстановку лачуги и казался той самой дыркой в нарисованном очаге, ведущей за пределы объяснимой реальности. То, что выглядело случайным набором журнальных вырезок и фотографий, явно имело в себе систему и несло страшный, неочевидный смысл. С хаотичного коллажа под стеклянной рамкой на Олега глядели дети. Какие-то фото были сделаны профессионально, другие сняты едва ли не на бегу на «полароид», третьи и вовсе вырезаны из выпускных фотографий. Объединяло их одно: детские глаза были грубо, с силой проткнуты, до разрывов на плотной фотобумаге. Вместо зеркал души им оставили лишь пустоту с надорванными краями. Одна из общих фотографий заставила Дыбу затаить дыхание. На ней он узнал себя – маленького, в белой рубашке и черных шортиках. Его глаза были на месте. А вот его лучшего друга Мишку Оборина в тот год нашли в канаве мертвым, с пустыми глазницами, прямо как на фото. Смысл коллажа ускользал от Олега, терялся за своей собственной жуткой тяжестью, но одно он решил наверняка: приют старухе не достанется. Прислушавшись – старуха еще возилась где-то в доме, – Дыба осторожно приподнял крышку плиты и принялся отвинчивать вентиль газового баллона. В нос ударил едва заметный запах тухлых яиц. Теперь главное – свалить до того, как рванет. – Нашла! – проскрипело за спиной. Марлен Демьяновна помахала в воздухе красным и растрепанным, еще советским паспортом. – Я заполню. А ты пока вон – телевизор посмотри… Олег не успел среагировать. Старуха ловко щелкнула кнопкой. Экран расцвел белым шумом, и Дыба облегченно выдохнул: концентрация газа пока слишком мала, искры оказалось недостаточно. А тем временем белый шум расплывался в стороны, демонстрируя… – Вискас! – ошарашенно выдохнул Олег, глядя на черно-белое лицо гипнотизера. Над головой у того нависала кружевная салфетка, напоминая фату и придавая Сайдуласу сходство с очень уродливой невестой. Тот, впрочем, внимания на это не обращал. Глядя неожиданно темными в монохромной гамме старого «Рубина» глазами прямо на Дыбу, он громко и настойчиво прогнусавил: – Даю установку – душа покидает тело… В ту же секунду Олег рухнул как подкошенный. Экран подернулся рябью, гипнотизера заменил озабоченный покупкой ваучеров Леня Голубков. – Спасибо тебе, Марлен, выручила! – раздалось с пола с легким литовским акцентом. – Спасибо в рюмку не нальешь, – не отрываясь от бумаг, ответила старуха. – Тушу в следующий раз попроще выбери. Мороки с этим бандюганом… – Зато глянь, здоровый какой! – с интересом оглядывало себя тело Дыбы. – Тебе-то что? Напустил галюнов – и свободен, а на мне весь ритуал отчуждения. Вставай уже! Ведьма поманила Олега пальцем, и тот встал неловко, еще привыкая к телу, присел к столу. Глаза разъезжались в разные стороны, изо рта свесилась ниточка слюны. Рука Дыбы зашерудила под столом, полезла под бессчетные старушечьи юбки, ткнулась в мягкое. – А что, Марушка, не согрешить ли нам? Опробуем новое тулово? – Давай подписывай, нам еще к нотариусу ехать! – Старуха с жеманным хихиканьем отпихнула руку. – Сиротки ждут. Надоело их по одному выцеплять… Неловкие пальцы с непривычки скомкали договор с одного края. – Сначала тушу разноси, а тотебе все грешить, олух криворукий! – досадовала ведьма. – Темно у тебя… – Неуклюжая рука потянулась к выключателю настольной лампы. – И воняет чем-то… – Куплю жене сапоги! – доверительно сообщил Леня Голубков. Щелкнула кнопка, искра из пыльной настольной лампы разрослась, распространилась на маленькую кухню, а потом все превратилось в свет, огонь и звук.* * *
Олег Дыбов падал куда-то в мельтешащую белым шумом бездну. По пути ему встречались Гагик и его волосатые ноздри. Юра Писка со своим храмом, безногий лжеветеран, поп из церкви Двенадцати Апостолов. Замелькали перед глазами выкидухи уличных бойцов, засвистели над головой кирпичи, один угодил Дыбе в лицо. Его крутануло, и он оказался в ущелье Микини – кругом пальба, песок, чахлые кустики и орущие из-за скал душманы. Фугасным снарядом его сдуло в сторону, понесло дальше в прошлое. Вот учебка, траншеи, мишени… Призыв, Тульский железнодорожный техникум, аттестат с тройками, драки в коридорах, приютская спальня на сорок человек, манная каша, котлеты по вторникам. Находят тело Мишки Оборина. Перекошенная бабка ошивается у забора… «Черт плечо отсидел…» – шепчет нянечка. Мысли становятся проще, примитивнее. Искусанные деревянные кубики, кто-то поднимает его на руки, достает из колыбельки и укачивает, в лицо тычется разбухшая от молока грудь. Тьма накрывает, кругом влажно; слышатся журчание и мерное сердцебиение, со всех сторон Олега уютно обнимает материнская утроба. Из теплого мрака его вырвало чье-то гнусавое «Даю установку…», и он упал с чудовищной высоты, плюхнулся в жгучую, резко пахнущую спиртом жидкость и под странные звуки «За швое ждоровье!» отправился в неведомый красный зев. Горло обожгло разбавленной водкой. Дыба тряхнул головой, но видение не прошло. Перед собой он видел самого же себя. Тот, другой Дыба, тоже поставил рюмку на стол. Ради эксперимента Олег поднял одну руку и слегка ею помахал, но отражение не подчинилось. – Хорошо пошла? – спросило отражение. Дыба не ответил. Он чувствовал себя странно: слишком угловатым, длинным и тощим. Во рту не хватало пары зубов, левый глаз ощущался опухшим. Не веря в происходящее, Дыба вновь помахал отражению, пытаясь призвать его к ответственности. – Да и ты тоже прощай! – ответило то, не желая подчиняться оригиналу. – Не поминай, как говорится, лихом! И вышло! Отражение Дыбы просто встало и вышло из так хорошо знакомого ему офиса. Но если он все еще остается сидеть в кресле… Отражение в немытом окне приемной оказалось куда послушнее. Осматривая чужое лицо с огромным бланшем под глазом, Дыба мысленно выругался: «Сраный Вискас!» Выскочив из кабинета как был, в пиджаке, он промычал секретарше что-то невнятное – язык ворочался во рту, словно чужой, – и кинулся прочь из офиса. Широкого давно и след простыл. Что делать дальше, Олег категорически не знал. Паника захлестывала его, и он рванул в глубь рынка, в толпу, просто надеясь, что среди людей будет не так страшно. На свое счастье, у одного из рыбных прилавков Дыба увидел знакомую лысину в опушке из седых волос. «Юрий Валерьевич!» – хотел выкрикнуть Олег, но выдавил лишь какое-то бульканье, дернулся навстречу и тут же был остановлен мощной рукой одного из бычков. Произнесенное «Это я, Дыба!» превратилось во что-то вроде «Главрыба!». Юра Писка повернулся и удивленно оглядел тощего гипнотизера. Наконец вымолвил: – Извините, молодой человек, не подаю принципиально. Вместо «Это я, Дыба, не узнаешь?» получилось нечто невразумительное. Олег инстинктивно бросился к старичку. Реакция того была молниеносной – поджав губы, он плюнул чем-то острым в лицо Дыбе, и левый глаз тут же заволокло болезненной красной пеленой. По щеке потекло горячее. – Ах ты, пидор старый! – хватаясь за лицо, машинально выругался Олег. Как назло, эта реплика вышла предельно внятно. Хук в челюсть, тяжелый, как удар бампером, уронил Дыбу на деревянные палеты. – А за эти слова, молодой человек, вам придется серьезно ответить… Дальше его куда-то поволокли, скрипнула дверь, пахнуло дерьмом. Что-то блеснуло, второй глаз пронзило болью. Из разбитого зеркала души суть Олега истекла в очко общественного сортира, на самое дно безначального мрака, где уже поджидали жадно щелкающие челюсти мертвых богов.Лучший погонщик

Перед входом во дворец Амрит поправил бинты на лице. Ткань, влажная от сукровицы, липла к коже, вызывая невыносимый зуд. Дворец раджи гнездился в мангровых зарослях, окруженный несколькими расчищенными каналами. В их истоках стояли фильтрующие дамбы, превращавшие грязную болотную воду в прозрачные ручейки, однако не избавлявшие от тягучей вони разложения. Амрит зря беспокоился – у открытых настежь ворот стражников не оказалось, так что можно было немного ослабить бинты и дать раздраженной коже подышать. Ткань же на спине пришлось оставить: перед грядущим походом нужно было позволить целебной мази впитаться. Внутри дворца ослепительно-белый камень и позолота фасада сменились буровато-серыми корнями, обвивавшими коридоры так, что не было видно даже стен. Погонщик, ненадолго остановившись глотнуть воздуха и перевести дух, оперся на один особенно толстый корень и тут же отдернул руку – тот шевельнулся и застенчиво спрятался. То, что Амрит поначалу принял за корень, оказалось серой, покрытой засохшей грязью рукой. Стало понятно, почему у ворот не было охраны. Раджа, толстый параноик, не доверял живым, предпочитая держать подле себя целые армии лааш под контролем нескольких кшатриев, что приходились ему дальними родственниками. Только сейчас погонщик, привыкший к вони от собственных гниющих и мокнущих ран, заметил, что дворец прямо-таки смердит медленно разлагающейся плотью, к миазмам которой примешивался слабый аромат мирры. Амрит и раньше слышал от заезжих купцов о «тоннеле прикосновений» – рассказывали, что гневливый раджа нередко играл с жертвой, благодушно позволяя ей уйти с миром. Незадачливый проситель узнавал, что провинился перед раджой, лишь когда стены смыкались, поглощая несчастного. Коридор вывел погонщика во внутренний двор, и он зажмурился, ослепленный солнцем, бьющим в глаза, – светило не загораживали ни листья, ни кроны деревьев, а мрамор под ногами казался раскаленным добела. – Вот он, повелитель, лучший погонщик во всем Каяматпуре… Шипение, раздавшееся будто бы отовсюду, заполнило легкие, вытеснило воздух, превратило свет во тьму. Голова закружилась, и Амрит едва удержался на ногах, вцепившись в какое-то каменное возвышение перед собой. – Осторожнее, погонщик! – произнес чей-то надменный голос. – Я сам решу, когда мне кормить крокодила. Когда головокружение отступило, а глаза привыкли к яркому свету, Амрит отшатнулся от бортика бассейна, в котором среди лилий и кувшинок в мутной воде плавала кругами бревноподобная туша. Пустые глазницы пялились в небо, а вода бурлила меж ребер, когда мертвая рептилия размером с лодку лениво переворачивалась, подставляя солнцу выпотрошенное брюхо. – Достался мне от отца. Он велел лааш вытащить тварюгу из воды и держать на весу, пока тот не сдох от жажды, – пояснил раджа, закидывая в рот виноградину. – Подойди, не бойся. Амрит, почтительно склонившись, обогнул бассейн и подошел к ступенькам, ведущим к крытой беседке, где на подушках развалился раджа Хатияра, а рядом… – Подними глаза, погонщик, дай мне рассмотреть тебя! – воскликнул властитель. – Как твое имя? – Амрит, повелитель! – Чего же ты не смотришь на меня, Амрит? Тебя пугает мой визирь? Визирь был и правда страшен и одновременно великолепен. Ракшас отличался редким черно-белым окрасом, многочисленные руки его бугрились мышцами, поблескивали золоченые черепа на ожерелье, а взгляд голубых – не кошачьих, а человеческих – глаз был немилосердным, твердым, резал, точно джамбия. Даже золотые оковы, исписанные защитными письменами и подчинявшие чудовище хозяину, придавали демону вид еще более царственный и свирепый. Тонкий поводок, намотанный на запястье раджи, выглядел игрушечным на фоне его жирной руки. Правитель был до предела тучен. Голое брюхо, унизанное иглами и кольцами, расплывалось на коленях. Лысый, с выбритыми бровями и мягкими чертами лица, раджа походил на чудовищного младенца. – Да, повелитель. Мне не приходилось видеть асуров так близко, – соврал Амрит, старательно избегая взгляда визиря. – Для погонщика ты на редкость труслив. Может, тебя пугают и мои слуги? Раджа вытянул руку – ногти были такими длинными, что загибались едва не до запястья, – и безрукий лааш тут же наклонился, подставляя свою ополовиненную голову. В углублении черепной коробки покоился лопавшийся от спелости красный виноград, напоминавший груду насосавшихся клещей. – Нет, повелитель, лааш меня не пугают. – Вишва, – с усмешкой повернулся к визирю Хатияра, – ты уверен, что он – лучший? – О да, повелитель! – Тигриная морда ощерилась, обнажив крупные человеческие зубы. Цепи загремели, когда ракшас попытался продемонстрировать полупоклон. – В его распоряжении больше тридцати лааш, и управляется он с ними, как с собственными пальцами. – Это правда, погонщик? Подумай. Твой предшественник утопил заказ от паши Далала… Раджа щелкнул ногтями, и лааш за его спиной, вытянувшись по струнке, застыл и повернулся к Амриту. Труп был совсем свежий, с аккуратно пробитой головой и серыми, точно речные голыши, глазами. – Выяснилось, что опахало он держит лучше, чем плеть. – Во всем Каяматпуре, от Ачери и до самых пустынных земель, не найдется никого, чья плеть справилась бы лучше! – с гордостью ответил Амрит. – А эти бинты… Почему ты скрываешь лицо? – Бесхозные, повелитель. В одном из походов я наткнулся на большую толпу. Груз я вывел, но мне объели губы и нос. – Объели лицо, но ты вывел груз? Достойно. Хорошо, Амрит, работа твоя. Готовь лааш, выступаем завтра на рассвете! – Ваше желание – закон, великий раджа Хатияра! Поклонившись в пол, Амрит принялся медленно отступать, подавляя желание оглянуться: бортик бассейна с мертвым крокодилом был совсем близко, но к радже, как и к тиграм, нельзя поворачиваться спиной.
* * *
– Это твои гребцы? Раджа лениво прохаживался мимо выстроившихся в ряд лааш. Раб с опахалом то и дело застывал на месте, продолжая обмахивать пустое место, и Хатияра был вынужден дергать себя за кольцо в соске, чтобы тот шел дальше. В облаке мух поодаль переминались мертвецы с паланкином. Под ними скопилась небольшая горка пепла от благовоний, призванных заглушить гнилостный смрад. – Да, повелитель. Обработаны и накормлены на несколько дней вперед. – Почему они тоже в масках? – Зач-ч-чем великому радже лицезреть застывшие предсмертные гримасы? – прошипел визирь, вышагивавший рядом на тонком поводке, точно послушная собачка, – единственное разумное существо в свите Хатияра. Даже в шерсти обезьянки, что сидела на смуглом плече раджи, можно было увидеть хаотичное шевеление трупных паразитов. Глазки животного, похоже, кто-то выклевал, и теперь их заменяли драгоценные каменья. – Пожалуй. Амрит? – Да, повелитель? – Погонщик поклонился, отчего незаживающие раны на спине разошлись, по бинтам стекло несколько струек крови. Насекомые тут же облепили его плечи, но он не смел пошевелиться под взглядом раджи. – Сколько ты их водишь? Они крепкие, свежие и почти не пахнут! – Изумленный Хатияра даже не побрезговал прикоснуться к надутому, тугому как барабан, животу одной из лааш. Беременная даже не шелохнулась. Раджа бесцеремонно запустил руку под погребальное сари и пошарил в паху у мертвой. – Мягкая! Как живая! – Они мертвы вот уже одиннадцать лет, но держу я их лишь для особых заказчиков, о повелитель. Раджа покачал головой: – Одиннадцать лет? Ха! Каждые два года мои бальзамировщики сшивают из десятка бойцов одного целого, а каждые пять лет мне приходится скармливать их друг другу. Ты лжешь мне, погонщик… – Эти лааш не дышат очень давно, повелитель. Но они столь послушны и дороги мне, что я обращаюсь с ними бережно. Я немного разбираюсь в бальзамировании. Кедровое масло и обработка щелоком позволяют избавиться от присущих мертвой плоти миазмов. И я храню их в наглухо закрытых бочках… – Вот как? Знай же, Амрит, если справишься с заданием и твои лааш продержатся до конца маршрута – клянусь, я жалую тебе должность придворного погонщика и бальзамировщика, и пусть Яма сгрызет мои кости, если я лгу! – Вы столь же великодушны, сколь и мудры, повелитель! – Амрит согнулся в глубоком поклоне. По спине сбежало еще несколько кровавых ручейков. – Хорошо! Я доволен гребцами, погонщик. Можешь загружать траппагу[188]! Наконец Амрит выпрямился, расправил плечи и принялся сдергивать с тела бинты, распугивая назойливых насекомых. Обнажились рубцы, прорезавшие спину едва ли не до кости. Работа погонщика – тяжелый и болезненный труд. Открытые раны в джунглях – верный способ умереть долгой и мучительной смертью. Черви, паразиты, насекомые, грязь и болезни проникают в тело беспрепятственно, и вскоре погонщик начинает опрастываться из всех отверстий, потеть кровью и в итоге умирает в страшных корчах. Но тем и отличается хороший погонщик от плохого – умением отдать приказ, нанеся себе как можно меньше ударов. Раздался свист плети, звякнули грузики. Hа спине Амрита расползлась бурая полоса. Набухнув, она лопнула, выступило несколько капель крови. В ту же секунду лааш встрепенулись, помотали забинтованными головами и ринулись укладывать груз на траппагу. Бочки с вином и мешки с сухофруктами быстро перекочевывали с пирса на широкое плоскодонное судно, увенчанное большим шатром на корме. Амрит следил за ними с плетью в руке, готовый повторить приказ. Мертвецы лишены воли, но не имеют и сознания. Их не заманишь изысканными яствами, развратными женщинами или звонкой рупией. Что лааш понимают по-настоящему хорошо – это боль. Но что толку стегать мертвую задубевшую плоть? А поэтому приходится стегать живую. Раджа предпочел не забираться на борт самостоятельно. Вынув длинную иглу из-под кожи на животе, он долго не решался, но потом все же ткнул себя в палец. Лааш бросили паланкин и зашагали к хозяину, однако на полпути разбрелись в стороны и застыли. Раздался рыкающий смешок. – Великий раджа, – промурлыкал визирь, – для властвующего над мертвыми ты слишком боишься боли. Твой отец, да не истлеет плоть его, вел в бой целые армии лааш… – Да. А еще он лишился руки и был зарезан шлюхой-наложницей! Не ставь мне его в пример! – отрезал Хатияра. – Руку старый раджа потерял, когда пытался пленить меня в первый раз. Я помню, какова его плоть на вкус… – Вишва! – Раджа с силой дернул цепь, и громадная фигура многорукого тигра свалилась на каменные плиты, точно придавленная чудовищным весом. – Тебе лучше помнить, что теперь твой хозяин – я. И следить за языком. – Да, повелитель! – Мы готовы к отплытию! – возвестил Амрит. – Отлично! Повернувшись к гвардии, раджа махнул рукой. Стоящий поодаль офицер-кшатрий кивнул и с силой потянул себя за кольцо в носу, да так, что кровь брызнула на золоченую кирасу. Тут же отряд из шести закованных в броню лааш двинулся к трапу, сопровождаемый жужжанием мошкары. – Галакат – мой телохранитель и будет сопровождать нас! – заявил Хатияра. – Но, повелитель, нам придется проследовать через висячие болота Тикатик и обойти ямы Браштахара. Каждый живой на борту – невероятный риск. Бесхозные слышат человеческое дыхание за много акров, как и стаи плотоядных ос. – А если на нас нападут мандрилы – отбиваться ты будешь своей плетью? Нет! Тем более нужен кто-то, кто будет охранять плату паше Далалу от твоих грязных ручонок. – Раджа небрежно ткнул в инкрустированный рубинами сундучок в руках слуги-лааш. Амрит невольно сглотнул – за одну только крышку на подпольных рынках Ачери можно было бы выручить достаточно, чтобы скупить всех лааш Каяматпура вместе с бочками и миррой. – К тому же с нами визирь, что носит мои цепи. Так что, трусливый погонщик, считай, что со мной ты в безопасности. – Ваше слово – закон, о повелитель! – поклонился в ответ Амрит.* * *
Поначалу дорога была легкой. Проточные воды разбавляли эту часть болот, так что лааш гребли беспрепятственно, лишь оседали на веслах зловонные отходы, которым жители Каяматпура щедро удобряли реку. Тупой нос траппаги тыкался в пятна пепла на воде – редкие богачи могли позволить себе кремировать усопших. Большинство предпочитали продавать усопших родственников на рынке невольников. Ходили слухи, что старикам нередко «помогали» поскорее освободить тело – за дряхлый труп давали невысокую цену. Чем дальше от города, тем гуще становилось болото. Вода прекращала свое течение, закручивалась в воронки, сгребая землю, осоку и кувшинки в бесформенные комья. Мангровые заросли склоняли ветви низко над проплывавшим под ними судном, наставив свои семена-дротики на непрошеных гостей. Вскоре пришлось перейти с весел на бамбуковые шесты, которыми лааш усердно толкали траппагу вперед. Раджа с визирем сидели под просторным шатром и о чем-то негромко переговаривались, Галакат же, лишенный опахальщика, был вынужден отгонять от себя бесконечные рои насекомых, размахивая руками, точно танцор-кастрат. Амрит, как мог, оттягивал время до нового приказа – до очередного удара. Он почти видел, как крупная муха, угнездившаяся у него на лопатке, упорно проталкивает в ранку яйца. Вылупившись, эти твари начнут прогрызать себе путь наружу, подъедая мягкую, тронутую разложением плоть. Неопытные погонщики расковыривают свои раны, пытаясь извлечь личинок, чем делают только хуже, истекают кровью и гниют заживо. Амрит твердо выучил уроки родной деревни: мухи едят лишь то, что уже не спасти. Некстати вспомнилась масала, которую он пил с матерью в их последнее утро. Молоко в их доме было настоящей роскошью: в деревнях изгоев торговцы не появлялись, приходилось идти через каналы по шею в густой, точно нефть, грязи, взбираться на скалу Кобара, где обитали жуткие медноголовые монахи, и надеяться, что караван не застрянет или не сменит маршрут из-за толпы бесхозных. Амрит усмехнулся, когда вспомнил, как забрался на скалу с полным мешочком кардамона, чтобы купить натх для своей Сидиси. Он прождал торговца два дня под проливным дождем, стараясь не попадаться на глаза монахам, выползавшим ночью шипеть свои молитвы в звездное небо. Когда, наконец, натх – дешевый, медный, с крошечным изумрудом – оказался в руках Сидиси, она долго не могла поверить своим глазам. В деревне изгоев украшение, что цепляется за крыло носа, – злая насмешка и непозволительная роскошь. В ту ночь она подарила ему любовь. А он ей – дитя… – Эй, погонщик! – ткнул его кулаком в спину Галакат, выдернув из воспоминаний. – Так и будешь стоять, пока твои немощные дно ищут? У паши Далала нужно быть до заката грядущего дня, пока не грянули первые дожди. Если по твоей милости мы застрянем в его гаремах, я лично раскрою тебе брюхо и зашью туда дикую кошку! – Простите, досточтимый кшатрий, я задумался, – смиренно ответствовал Амрит, поклонившись. – Придется пустить лааш пешим ходом: шесты не справляются, болото слишком густое, пора закреплять цепи. – Так закрепляй, сучье отродье, да побыстрее – великий раджа ждать не любит! Сам великий раджа безмятежно храпел, растекшись по подушкам. По лицу его были щедро размазаны остатки фиников, которыми лакомились крупные черные осы. Лааш-опахальщик, предшественник Амрита, оставшись без внимания хозяина, усердно обмахивал блюдо с фруктами. Рядом на цепи дремал ракшас, оба хвоста беспокойно хлестали воздух. Будто почувствовав на себе взгляд погонщика, асур открыл один глаз, моргнул – сначала прозрачным веком, потом обычным – и вновь погрузился в дрему. Лааш разматывали тягловые цепи, цепляли их одним концом за крюк на борту траппаги, другим – за кольцо ошейника, после чего бесстрашно шагали в вязкие мутные воды Гандаги, чей ил кишел голодной ордой червей, болотных пиявок, рачков и слепых рыб-падальщиков. Для человека такое погружение было смертельным – зловонные омуты поглощали все, даже крики несчастных. Старый раджа, отец Хатияры, казнил своих подданных, просто изгоняя их в болота. Сам же Хатияра слишком опасался мести, поэтому всех своих недоброжелателей превращал в самоходную мебель. Теперь движение стало не таким плавным – лааш то и дело застревали в кустах, спотыкались о корни или просто ухали с головой в какой-нибудь омут, и тогда товарищам приходилось тащить их вместе с судном. Цепи шлепали по воде, натягивались и провисали. Именно в таких местах погонщик проходил проверку на пригодность – он должен был различать, когда идти быстрее просто невозможно, а когда мертвецы теряют направление или забывают приказ, и тут уж не стоило жалеть сил, и Амрит не жалел – стегал себя так, что кровь брызгала на палубу. Впрочем, тому, кто привык расставаться с плотью, бояться ран не к лицу. На ночь было решено остановиться в тихой заводи, где поменьше мошкары и от воды не так воняет гнилью. Галакат сошел на берег, ступив во влажное сплетение корней, – хотел удостовериться, что место безопасно. Развесив меж деревьями цепи с колокольчиками, он развел дымный костер из влажных веток и благовоний, чтобы отпугнуть насекомых. Лааш-воинов, вооруженных прибитыми к запястьям катарами, он расставил по разные стороны берега. С мертвецами кшатрий управлялся отменно, похоже, учился с детства – несколько поворотов кольца в носу, и часовые, получив приказ, встали на дозор. Амрит вывел лааш на край палубы, чтобы с них стекла грязь, и принялся за осмотр. В целом все было в порядке, только один сломал ногу, а другой где-то потерял целую кисть, благо тральщикам руки были ни к чему. Самых вымокших стоило заменить на свежих – если несколько дней подряд вести судно тралом, не меняя мертвецов, то по приезде их можно будет сразу продавать на корм. Мудрый погонщик всегда чередует лааш, не давая мацерации испортить подопечных. Он уже начал снимать цепи с покрытых илом и водорослями трупов, когда Галакат у него за спиной гаркнул: – Эй, погонщик! Тебя хочет видеть раджа! Амрит кротко кивнул и поспешил в ярко освещенный шатер на корме. Раздвинув полог, он опустился на колени, ожидая, пока к нему обратятся. – Повелитель, на следующем ходу этот слон лишит тебя двух колесниц, – мурлыкал ракшас, поглаживая фигурку темного золота. Та изображала свирепого зверя с целой башней лучников на спине. – Не смей подсказывать, я знаю! – обиженно ответил Хатияра. На доске для чатуранги оставалось совсем немного фигур благородного серебряного оттенка. Раджа трепал висячий подбородок, хмурил сбритые брови и тяжело сопел. Будто невзначай он потянул натх, соединявший ноздрю и мочку уха. В ту же секунду мертвая обезьянка спрыгнула на доску, разбросав фигурки, и попыталась стянуть слона прямо из руки асура. Тот расхохотался: – Мой повелитель, раз уж надумал мухлевать, тебе стоит научиться лучше контролировать слуг. Если бы бедняки знали, что тебе придется исхлестать себя с ног до головы, лишь бы заставить лааш вступить в бой, они бы уже поставили тебе… Шах… – Ракшас подтолкнул когтем неприметную пешку в углу доски, зажав миниатюрного человечка на троне меж двух колесниц. – И мат! – Как так? Ты говорил, слон… – Тебе ли не знать, мой дорогой раджа, что не стоит доверять словам демона? – прошипел визирь, после чего перевел взгляд жутких, слишком голубых и чистых глаз на Амрита. – Погонщик здесь, повелитель. – Уже? Хорошо. Игра мне наскучила. Скажи, погонщик, ты знаешь, куда мы едем? – К паше Далалу, повелитель. – Верно. А знаешь ли ты, чем занимается паша Далал? – Он – искусный укротитель асуров, повелитель. Услышав эти слова, визирь фыркнул, точно Амрит сказал что-то смешное: – Все, что он сделал, – это скупил всех моих собратьев, до которых смог дотянуться, уже закованными в цепи. Это они воплотили его пороки и грязные страсти в реальность… – Вишвасагхаат говорит правду, – кивнул раджа. – Лааш – их изобретение, и без тайной власти асуров мертвое бы оставалось мертвым. Но паша Далал – отменный бальзамировщик. По-твоему, почему у меня – самого богатого раджи от Ачери до Брахматала – нет своего гарема? Вопрос застал Амрита врасплох. После долгого дня работы с плетью он не рассчитывал на светские беседы. К счастью, раджа не ждал ответа. – Я нечасто подпускаю к себе живых людей. Моего отца зарезала наложница, против дяди взбунтовалась стража, и даже моего старшего брата отравили еще до того, как он получил цепь раджи. Никому нельзя доверять. Кроме лааш. У них нет тайных мыслей, скрытых мотивов и алчных желаний. А еще их карма чиста, как воды Гандаги в каналах моего дворца. Коснувшись лааш, я не запятнаю себя скверной, которую они несли в себе при жизни, – мечтательно разглагольствовал раджа, делая вид, что не замечает, как ракшас морщится от омерзения. – Паша Далал достиг невиданных успехов в деле бальзамирования. Он научился сохранять ткани мягкими, глаза – живыми, а кожу – теплой… – Без нас не обошлось! – рыкнул визирь. – Это не важно. Теперь у меня есть возможность обзавестись гаремом, как и положено достойному радже. Завтра на закате паша Далал предложит мне на выбор двести девственниц. К утру из тех, кто приглянется мне, он сотворит превосходных, неотличимых от живых лааш. Говорят, он может снабдить им заветное место язычками или сшить шестирукую наложницу… Пристрастия раджи не были новостью для Амрита – он прекрасно знал, кто скупает трупы девушек из бедных кварталов. – Ты не понимаешь, к чему я веду этот разговор? – Нет, повелитель. – Забудь. Лучше скажи, та, брюхатая из твоих, была сегодня в цепях? – Да, повелитель… Ей надо высохнуть… – Посмотри мне в глаза! – вдруг рыкнул визирь, и Амрит машинально вперился в холодно поблескивающие алмазы на тигриной морде. Ракшас моргнул и прошипел злорадно: – Он лжет, повелитель. – Вот как? – Ноздри раджи на секунду яростно раздулись, после чего он благодушно откинулся на подушки. – Небось, сам хотел провести с ней вечер? Признавайся! – Нет, повелитель. Сжатые кулаки Амрита дрожали, пришлось спрятать их за спину. – Давай же, ответь. Ты уже возлежал с ней? – Нет, повелитель. – Ложь! – раздалось шипение. Раджа расхохотался: – Дважды! Дважды ты соврал мне! – Происходящее явно веселило Хатияру. – Знаешь, не будь ты единственным погонщиком на судне, я бы уже заковал тебя в цепи к остальным, но сегодня, Амрит, считай, что я дарую тебе вторую жизнь. Не гневи меня больше – ступай и приведи ее. – Не возражаешь, повелитель, если и я выйду на воздух? – с просящей интонацией промурлыкал асур. – А что? Тебе не нравятся такие зрелища? Я слышал, при дворе Ямы, у тебя на родине, мертвые совокупляются с мертвыми, пока асуры поедают их плоть и отрыгивают, чтобы пожрать снова… – Те, кто перешли грань бытия и попали в наши охотничьи угодья, сами выбрали такую судьбу, погрязнув в излишествах и грехе. Те же, кто заперты в телах лааш, ничего не выбирали – они заключены в гниющие тела против воли, лишенные сознания, но способные чувствовать все. Когда ты, повелитель, развлекаешься с ними, я слышу безмолвные крики их душ… Раджа вдруг посерьезнел и натянул цепь так, что демон был вынужден улечься у его ног, словно домашняя кошка. Ошейник и кандалы на ракшасе налились багровым светом, запахло паленой шерстью. – Ты понимаешь, что в моей власти заставить тебя смотреть? – Все в твоей власти, повелитель! – задушенно прохрипел асур. – Тогда ты будешь смотреть. И не смей на меня рычать – помни, что из живущих лишь я могу снять твои цепи! Погонщик, ты еще здесь? Я жду! Амрит поклонился и, пятясь, вышел из шатра. С тяжелым сердцем он открыл бочку с беременной лааш, которой уже никогда не суждено разродиться. Погонщик привычно осмотрел труп – ни повреждений, ни признаков разложения. Женщина казалась почти живой. Поправив ей маску, Амрит взял лааш за локоть и повел к шатру. Увидев раскрасневшегося от вожделения раджу, что в окружении чадящих ароматических палочек теребил свои вялые гениталии, погонщик едва сдержал тошноту. – Только не снимайте маску. Вам… не понравится. – Я сам решу… Ну-ка, иди сюда! Вопреки сказанному, раджа вскочил сам и принялся наминать полные груди трупа, перебирая свои яички другой рукой. Амрит был уже на выходе, когда Хатияра бросил: – Погонщик! Ничего не забыл? Со вздохом Амрит снял с пояса плеть и расплел один из хвостов, достал крошечный изумруд и протянул радже. – Так-то лучше. А то вдруг эта тварь по твоему приказу задушит меня во сне! – с усмешкой принял Хатияра «сердце» лааш – предмет, что позволял владельцу диктовать свою волю мертвецу. – И помни, завтра на закате мы должны быть у паши Далала. – Да, повелитель.* * *
Утренний туман стелился над болотами Тикатик, скрывая густую жижу от глаз погонщика. Здесь полегло много людей. Государи окрестных земель делили эти воды, обильно восполняя их кровью солдат и плотью лааш, разбойники устраивали засады, подкарауливали караваны, деревенские отправляли сюда детей, которых не могли прокормить, а медноголовые монахи приходили в эти земли за свежими человеческими глазами, чтобы читать священные скрижали. Но сегодня воды Тикатик были спокойны. Лишь звон мошкары и скрип траппаги нарушали тишину. Из шатра вышел раджа, голый, весь покрытый хитрой вязью игл, колец и цепей – атрибутов власти. Зевая, он что-то скомандовал Галакату, тот кивнул и дернул себя за кольцо в носу. Воины-лааш устремились в шатер. Донеслось возмущенное: – Не здесь! Шестеро гвардейцев вытащили из шатра растерзанный труп – живот разошелся надвое, высушенные кишки разметались по доскам палубы, что-то откатилось в сторону с гулким стуком и распалось на куски. Одним мощным ударом раджа раздавил младенческую голову. – Надеюсь, лааш паши Далала будут покрепче! – усмехнулся Хатияра, выразительно взглянув на телохранителя. Тот пожал плечами, после чего скомандовал: – Можно! Дважды уговаривать не пришлось. Гвардейцы, как дикие звери, набросились на труп и принялись откусывать от него, как от куска хлеба. Амрит отвернулся и, пожалуй, в первый раз в жизни порадовался, что вынужден скрывать лицо бинтами. Покинув заводь, судно набрало скорость – здесь Гандага расширялась, на пути тральщиков встречалось меньше препятствий. Траппага прилично разогналась, и Амрит всматривался в горизонт, теребя хвосты плети. Неожиданно впереди началось какое-то бурление, пошли круги, на которых лениво покачивались ряска и кувшинки. Всплыл один череп, поодаль – второй. Следом вся поверхность покрылась торчащими из воды головами. Пустые глазницы слепо пялились в сторону траппаги. Погонщик наотмашь рубанул себя плетью по плечу, и послушные лааш встали как вкопанные, уперлись руками в борта посудины. Та затормозила так резко, что нос накренился, и по доскам палубы побежали тонкие ручейки. От послеобеденного сна очнулся раджа, закряхтел, точно гигантский младенец. – Ты что вытворяешь? Почему мы остановились? – За этими словами незамедлительно последовала пощечина. Рука Галаката запуталась в бинтах на лице погонщика, и он брезгливо стряхнул их. Амрит поспешил закрыть лицо, но кшатрий успел увидеть щеку и место, где когда-то был нос. – Мерзость! – В чем дело, погонщик? Ты разбудил меня! – капризно укорял раджа. – Тоже захотел сменить плеть на опахало? – Бесхозные, повелитель, – сообщил Амрит. – Здесь их сотни. Нам повезло вовремя заметить. – Должно быть, слуги вашего покойного дяди, раджи Пури из Дангай, – предположил визирь. – Они шли выше по течению, но, похоже, в сезон дождей их снесло сюда. – Бедный дядя Пури… Его собственный народ взбунтовался против него. Какая низость! – возмущенно воскликнул Хатияра. – Вот почему доверять можно только мертвым. – Возможно, он сейчас среди них, – оживился ракшас. – Знаешь, как он умер? Его заколотили в две лодки, чтобы только голова торчала наружу, а после – накормили смесью из меда и молока, чтобы он опростался из всех отверстий, и спустили по реке. В его кишках набухали и росли черви, насекомые подтачивали его кожу изо дня в день своими маленькими челюстями, мухи откладывали яйца в его уши, птицы клевали его глаза… А стоило всего лишь не отбирать последние запасы у крестьян для ежегодного пиршества. – Вишва! Я не нуждаюсь сейчас в твоих нотациях! Лучше скажи, что нам делать дальше. – Прости, раджа, я лишь скромный визирь и забочусь о тебе и твоих подданных… – Не ходи вокруг да около! Ты можешь их подчинить мне? – Сотни бесхозных? – Тигриная морда ухмыльнулась. – Один из моих братьев когда-то воскресил всех этих лааш и подарил их волю твоему дяде… Я могу передать ее тебе, но ты не выдержишь – они разорвут твой разум на мелкие клочки, а чтобы направить их, тебе придется снять с себя кожу и облиться кипятком… – Прекрати! – плаксиво приказал раджа. – Что нам делать дальше? – Повелитель, – позволил себе вмешаться Амрит, видя, как выпучились глаза кшатрия – он нарушал все рамки этикета. – Если позволите… Есть другой путь. Он дольше, но поможет обойти толпу. Надо свернуть у запруды, выйти к каналу, что ведет мимо скалы Кобара, а оттуда рукой подать до Браштахара. – Ты спятил, погонщик! – задохнулся от возмущения телохранитель. – Если тебе жизнь не дорога – прыгай в воду сам! Повелитель, послушай! Стоит подобраться к бесхозным, как они снимутся с места и будут преследовать нас до самого дворца! Лучше вернуться и нанять укротителей… – Он говорит правду… – прошипел ракшас. – Однако… Как близко этот канал, погонщик? Если недалеко, ровно настолько, чтобы вы, смертные, сдерживали дыхание, я мог бы отвлечь лааш. Если, конечно, повелитель согласится. – Всего три караммы, раджа! – Амрит не обращал внимания ни на визиря, ни на Галаката, смотрел лишь на Хатияру. Распаленная вчерашним вечером похоть в сердце раджи боролась с презренным шакальим страхом. Задумавшись, он капризно выпячивал нижнюю губу и натужно кряхтел. Наконец раджа сделал выбор: – Хорошо, погонщик. Я хочу быть у паши до заката. Риск не так уж велик, верно, Вишва? – Лааш не угрожают тебе, мой повелитель! – мурлыкнул асур, расправляя плечи и выпрямляясь во весь рост. Руки бугрились мышцами, сквозь густую шерсть на груди просвечивали черные шрамы, хвосты яростно хлестали по палубе в предвкушении схватки. – Это безумие! – пучил глаза Галакат, но спорить с раджой не решался. – Все вы! – бросил за спину ракшас, встав на киль траппаги. – Когда я сойду с носа – задержите дыхание и не вздумайте пошевелиться, пока не свернете в канал. Погонщик! – Да, мудрый визирь? – Хлестни себя изо всех сил… и постарайся не заорать. Размахнувшись, Амрит направил плеть высоко вверх, после чего увел ее вбок и вниз. Свистнули утяжеленные бусинами хвосты, а следом сознание погонщика наполнила боль. Мир потерял краски, разделился на черное и белое, распался на тридцать осколков – по одному на каждый глаз лааш, что стояли по шею в болотной воде. Приказ был прост и безрассуден – на прорыв к каналу, изо всех сил. В ушах звенело, спина сочилась кровью. За пеленой слез Амрит видел ракшаса – тот спрыгнул с киля и, едва коснувшись хвостами воды, перемахнул на кочку, с нее – на торчащий корень, а потом на крошечный, с поднос размером, островок. За ним от руки Хатияры тянулась бесконечно длинная цепь – звенья возникали будто из воздуха. Из воды вслед за черно-белой молнией тянулись серые тонкие руки, похожие издалека на скопления трупных червей. Погонщик набрал полные легкие воздуха, оглянулся: раджа стоял красный, как киноварь, выпучив глаза от натуги. Долго ему было не протянуть. Тральщики привели судно в движение, траппага лениво набирала скорость. Ракшас тем временем отражал натиск бесхозных. Те наступали волнами – покрытые илом и тиной, с выеденными глазами и распахнутыми пастями, они накатывали по десять-пятнадцать тел, заставляя визиря пятиться. На спину ему запрыгнула серая тень – обвисшие груди, длинные волосы, черный пучок между ног. Мертвая рабыня вцепилась зубами в мягкое ухо ракшаса, тот взревел и принялся с еще большим остервенением размахивать всеми пятью руками, вспарывая животы, проламывая головы и расшвыривая напирающих лааш, но безуспешно – визирь скрылся под неровной серой массой. Траппага медленно подбиралась к повороту, скрытому от глаз зарослями. Лааш старательно тянули судно, первый из них уже плюхнулся в чистый поток за толстым бревном, как вдруг островок под ракшасом сперва накренился, а после – ухнул под воду вместе с грудой мертвецов и визирем. – Вишвасагхаат, ты куда?! – глупо выкрикнул раджа, точно не верил в уязвимость своего слуги. Лишь мгновение спустя он запоздало заметил, как орды лааш, пробиравшиеся к добыче, вдруг замерли и медленно повернулись на голос. Осознав, что натворил, Хатияра истошно завизжал: – Гони, гони! Выдернув из рук погонщика плеть, он сам свесился с киля и принялся стегать лааш. – Шевелитесь, твари ленивые! – Плеть, повелитель! Они слушаются меня, а не вас! – Опомнившись, Амрит протянул руку за инструментом, но побоялся притронуться к радже, а на корму уже лезли мертвецы. – Галакат! – взвизгнул раджа, пятясь к борту. Телохранитель среагировал быстро – перво-наперво дернул кольцо, уже покрытое запекшейся кровавой коркой. Мгновение назад стоявшие безучастно воины выстроились в ряд, отгородив живых от голодной орды, что подобно болотной воде хлынула на палубу. Катары свистели в воздухе, отсекая конечности бесхозных, из-за спин солдат хлестал уруми кшатрия: плеть из тонких листов стали снимала пласты гниющей плоти. Траппага нехотя ползла к безопасным водам, но было уже поздно – бесхозные напирали, ползли по висящим над водой корням деревьев, шли по дну, падали с ветвей на палубу, словно перезрелые фрукты. – Повелитель, по воде не уйти! – прошептал Амрит, наклонившись к уху раджи. – И что делать? – Обезумев от страха, раджа едва ли был способен соображать. – Повелитель, я снарядил ваш паланкин моими самыми быстроногими лааш. По берегу мы сможем оторваться! – Нет, я не могу… – Хатияра недоверчиво оглянулся – туда, где Галакат из последних сил сдерживал напор черно-серой зловонной массы. – Ты знаешь, сколько лежит в сундуке? – Вряд ли больше, чем стоит ваша жизнь, повелитель, – заметил Амрит, чьи лааш уже перебросили трап на узкую травяную косу, ведущую к берегу. Хатияра колебался недолго. Едва он взгромоздился на подушки, как свистнула плеть, и носильщики проворно понесли тушу раджи в густые заросли. – Раджа! Не оставляйте меня! – Галакат не вовремя оглянулся на уходящий паланкин, и это стало роковой ошибкой – один из лааш перевалился через плечи солдат и вонзил лишенные плоти пальцы в глазницы кшатрия. Сначала раздалось чавканье, а следом – дикий, нечеловеческий визг. – Не смотрите, повелитель! – Амрит бежал рядом с паланкином, то и дело подхлестывая себя и задавая направление носильщикам. – Это его долг. Оставив позади траппагу с мертвецами, погонщик и раджа поспешили затеряться в джунглях.* * *
– Долго еще идти, погонщик? – капризно вопрошал раджа. – Я устал, голоден, а эти слепни скоро съедят меня живьем. Толстяк и правда весь был покрыт красными пятнами от укусов. Путь через густой, увитый лианами и наполненный жужжащими насекомыми лес давался ему тяжко. Амрит же, наоборот, будто воспрянул духом, шагал легко и непринужденно, даже что-то насвистывал. – Уже недалеко, повелитель! Разве ты не узнаешь эти места? – Что ты несешь, откуда?! – Неудивительно, что ты не помнишь, раджа. – Теперь в речи погонщика появились странные, наглые и злобные нотки, отчего Хатияре стало не по себе. – Прошло одиннадцать лет, любой мог забыть. Разве стоит деревенька изгоев внимания великих правителей, таких, как ты и твой отец? – Как смеешь ты хамить мне?! Останови паланкин сейчас же! – Раджа беспокойно заерзал. – Я хочу есть и пить! – Осталось совсем немного, повелитель. Позволь мне развлечь тебя историей. – Я не хочу никакой истории, я хочу вина и сластей! Останови их сейчас же! – Хатияра попытался спустить ногу с паланкина, но ближайший лааш хищно щелкнул зубами совсем рядом с пяткой. – Что происходит? – Я вырос в маленькой деревеньке, – ровно начал погонщик, словно не заметив возражений. – Многие из нас были друг другу родней, и за это боги нас покарали – наши тела гнили заживо, совсем как у лааш. – Амрит с наслаждением разматывал бинты на лице, демонстрируя уродливые наросты и розовую дырку на месте носа. – Ты – неприкасаемый! – с суеверным ужасом прошептал Хатияра. – Изгой! Я разговаривал с тобой! Ходил с тобой на одном судне! Какая мерзость! – Не волнуйтесь, повелитель, я не заразен. Кто-то сказал бы, что наша жизнь хуже смерти, но и в ней мы находили свое счастье. Когда-то я тоже нашел свое. Ее звали Сидиси. Она была особенная… Нашего сына мы хотели назвать Сундаром. – Иди ты под хвост к Яме! – вскричал раджа. – Я слезаю! Тонко взвизгнула плеть, оставив длинный багровый рубец на лице правителя Каяматпура, и тот, заскулив, постарался забиться как можно глубже в подушки. – Мы выбрали имя Сундар, – как ни в чем не бывало продолжил погонщик, – но судьба распорядилась иначе. В нашу деревню явился ракшас. Он был изранен, ослаблен. Капли его черной крови падали и превращались в ядовитых змей. А следом нагрянула охота во главе с твоим отцом. Ты тоже был там – этакий бурдюк на лошади. Я тогда подумал, что никогда не видел таких толстых людей. Раджа что-то обиженно хрюкнул, но побоялся ответить – след от плети до сих пор горел огнем. – Ракшас рассказал мне, как все будет. Неожиданно деревья расступились, и перед путниками раскинулась узкая заболоченная долина. Опустевшие хижины с провалившимися крышами медленно сползали во влажный овраг, раскинувшийся посередине. – Он знал, что загнал себя в ловушку: эта долина окружена неприступными скалами. Ракшас понимал, что его схватят, поэтому поведал мне будущее. Как, заковав его в цепи, вельможи и укротители будут праздновать победу над асуром. Какбудут пытать изгоев и глумиться над ними. Как молодой раджа возжелает юную неприкасаемую и натравит лааш на всех, кто попытается вмешаться. Он не захочет ее брать живой – побоится запятнать свою карму скверной, а потому велит удушить неприкасаемую и лишь затем возляжет с ее еще теплым телом. И ракшас предложил мне сделку. Все, что я мог делать тогда – это стоять и смотреть, как сначала ты, повелитель, а потом и солдаты из свиты твоего отца надругались над беременной Сидиси, в чьем мертвом чреве доживал последние секунды мой нерожденный Сундар… Но ракшас обещал, что я стану лучшим погонщиком Каяматпура. Обещал, что мои лааш будут самыми послушными и крепкими от Ачери до пустынных земель. Что смогу оплатить наложницу-убийцу для твоего отца, подкупить поваров, что отравят еду твоего брата. Лишь ты, оградившись толпами мертвецов, оставался недосягаемым. Однако еще ракшас пообещал, что однажды ты, раджа, обратишься ко мне с заказом… Он обещал мне месть. Последние несколько шагов мертвецы преодолели едва ли не бегом, резко затормозив у самой лужи в центре покинутого селения. Лааш наклонили паланкин вперед, швырнули груз в грязный овраг, и правитель Каяматпура шлепнулся в черную затхлую воду. Почти синхронно мертвецы размотали бинты на лицах. Под маской каждого прятались наросты, поглотившие надбровные дуги, губы и нос – точно такие же, как у Амрита. – Они… изгои! – хрипел раджа, отплевываясь… – Да, раджа, они тоже. Я забальзамировал свою семью, а ракшас научил меня, как их воскресить. Всех, кто погиб от твоей руки. Я хранил их тела ради этого дня – чтобы они тоже увидели, чем все кончится. Сидиси… По твоей милости она присутствовать не смогла. – Что? Что изгой мог предложить ракшасу? – Свободу, – промурлыкало откуда-то сверху. Асур изящно спрыгнул со скалы, приземлившись в шаге от края оврага. – Ты! – удивленно ткнул пальцем раджа. – Где твои цепи? Ты не мог сам… Тебя утащили бесхозные! – Бесхозные? Ошибаешься, раджа, – ухмыльнулся Амрит, демонстрируя пузырящиеся десны. – У них был хозяин. Тот самый, что приказал перегородить дорогу, снять цепи с ракшаса и убить твоего телохранителя. – Но как ты… – Злая насмешка мироздания – ракшасы обладают бесконечным могуществом, но сами им воспользоваться неспособны. Я не врал, повелитель! Он действительно лучший погонщик! – расхохотался Вишва. – Я не понима… Голос раджи превратился в натужное сипение. Хвосты плети врезались под висячий подбородок – куда-то, где должна была находиться шея. Глаза Хатияры лезли из орбит, он пытался ухватиться за удавку, но сознание покидало его. Лицо посинело, язык вывалился, плеть прорезала кожу, проступили рубиновые капли. Убедившись, что раджа мертв, Амрит отпустил концы плети, и туша тяжело плюхнулась в лужу. – И это была твоя месть, изгой? – поинтересовался ракшас. – Как неизобретательно. – Еще нет. Я слышал, у воскрешенных душа остается внутри тела и гниет вместе с ним. Это так, ракшас? – А я тебя недооценил… Глаза асура сверкнули, на мгновение его тело стало прозрачным, похожим на клочок утреннего тумана, запахло дождем и серой – ракшас погрузился в загробный мир за душой Хатияры. А потом все стало прежним. Вишва почти нежно коснулся затылка бывшего хозяина, и тот завозился, захрипел в луже, как большой жук. Труп встал на ноги, его глаза разъезжались в разные стороны. Амрит мстительно вырвал кольцо из соска раджи и наскоро повязал его на плеть. – Теперь все? – спросил ракшас, облизываясь. – Вот теперь – все! – кивнул погонщик, усаживаясь на широкие плечи бывшего правителя Каяматпура. Привычно свистнула плеть.Кенотаф

Женщина эта Колe сразу не понравилась. Была она как пропущенное через терку яблоко, – кислая и ржавая. – Здравствуйте, Николай, – взяла она сразу инициативу в свои руки. – Я – Тамара Васильевна, это вы со мной созванивались. У вас инструменты с собой? Голос у нее тоже был точно пропущенный через терку, – какой-то жеваный, чавкающий; слова валились из ее рта отдельными комками. – Здрасьте. А як же ж, конечно с собой! – отрапортовал он с напускной готовностью и погремел тяжеленными спортивными сумками. – Хорошо. – Она недовольно поджала губы, будто попробовала на вкус что-то неприятное. – Вы не из Питера? – С-под Ростова, там недалеко… – Вот как! – Губы втянулись окончательно, придав Тамаре Васильевне сходство с ящерицей. Она как-то нервно моргнула, и сходство стало почти абсолютным. – Ну что же, пойдемте-пойдемте. Вперевалочку женщина направилась через сквер, то и дело оборачиваясь, проверяя, следует ли за ней Коля, точно выгуливала несмышленого щенка… Тяжелые сумки оттягивали плечи, гнули к земле, пережимали конечности, словно жгуты. Шутка ли – отбойник, перфоратор, кувалда и еще множество других инструментов с квадратными, рычащими и гремящими названиями, да еще и свернутый в рулон матрас за спиной. – Вам следует знать – здание пожилое, строилось еще при царе, не чета нынешним, – пробивался через одышку голос Тамары Васильевны. – Стены толстые, кирпичные, в несколько слоев. Муж покойницы работал в гранитной мастерской, ремонт весь делал своими руками, так что я даже не знаю, чего там еще понаворочено. Шпаклевали и клеили обои сразу поверх по несколько раз, там от начального метража процентов двадцать уже откусили, так что прохлаждаться особо не рекомендую. Вы раньше сталкивались с таким? – Приходилось, – не моргнув глазом соврал Коля, старательно обходя весенние лужи. В одной, похожий на белесый корабль-призрак, тоскливо плавал пакетик из-под кефира. – Хорошо-хорошо… Тамара Васильевна продолжала выплевывать свои комковатые слова, формирующиеся в каверзные вопросы, пытаясь подловить работника на непрофессионализме. – Да не волнуйтесь вы так! Усё будет в лучшем виде! – Надеюсь-надеюсь. Двор-колодец оставлял гнетущее впечатление: огромная яма посередине, какая-то бабка, скармливавшая тощей кошке картофельные очистки, – та фыркала, недовольно тряся башкой, – и болтающаяся на одной петле скрипучая дверь парадного. – Дом старый, дореволюционный, сами понимаете, – произнесла Тамара Васильевна, жестом приглашая Колю нырнуть в смердящий прогорклым маслом и кошачьей мочой зев. Прошлепав по ступенькам на площадку первого этажа, она завозилась с увесистой связкой ключей. Рваный дерматин свисал с двери неровными клоками, будто кто-то когтистый пытался проникнуть внутрь, но сдался, встретив железное полотно под поролоном. – Проходите-проходите, – отступила хозяйка в сторону, пропуская Колю в квартиру. Воздух был затхлый, застоявшийся, с легкой примесью тошнотворной сладости. Слева – блестящий от застывшего жира, засиженный мухами кухонный гарнитур, дальше – выкрашенная масляной краской дверь. Напротив входа располагался раздельный санузел, откуда на Колю немо кричал, распахнув пасть, надколотый унитаз. – Сейчас вам покажу фронт работ. «Масляная», желтоватая, точно свечной огарок, дверь распахнулась, и клубы пыли наполнили воздух. Коля сдерживался как мог, но все же оглушительно чихнул. Тут же Тамара Васильевна бросила на него неодобрительный взгляд – будто в культурной столице и вовсе не чихают. Даже для однушки комната казалась огромной – пустые стеллажи и полки с облезшим лаком подпирали собой высоченные потолки под три метра, зарешеченное окно занимало полстены и выходило во двор. Древний темного дуба шкаф представлялся всего лишь комодом-переростком на таком просторе. Широкая панцирная кровать, почему-то без матраса, жалась к темно-бурому пятну, растекшемуся по ветхим ободранным розовым обоям в цветочек. – Так, для начала нужно избавиться от старой мебели – эту рухлядь можно снести на помойку. – Хозяйка со странной брезгливостью застыла на пороге комнаты, не спеша заходить внутрь. – Здесь моя бабка жила – вот, в наследство досталось. Екнуло что-то у Коли в мозгу, когда он услышал о бабке. Сложились детальки пазла – и сладковатый удушливый запашок, и пятно на стене, и отсутствие матраса на кровати. – А что же… Бабушка здесь, значит? – Неужели вы, молодой человек, боитесь привидений? – хитро и недружелюбно сощурилась Тамара Васильевна, точно дольку от лимона откусила. Обидно стало Колe: нешто его за такую дремучую деревенщину держат? Посуровев, он как можно более серьезным голосом произнес: – Ладно, показывайте, где тут у вас шо. – Не «шо», а «что». Значит, смотрите: мебель надо вынести, со стен снять штукатурку и обои. Перегородку между кухней и спальней необходимо снести в первую очередь – квартиру переделываем под студию, рабочие явятся уже через неделю, начнут с комнаты, а вы потом будете демонтировать в кухне. Санузлом займутся профессионалы. Оплата по факту выполнения, – прорвалась непрошеная казенная формулировка. – Евроремонт, значит, будет? – Вы не переживайте, молодой человек, для основных работ уже найдены компетентные специалисты, с вас только демонтаж. Смотрите, стремянку я вам оставила на кухне, ключ – сейчас… – Хозяйка завозилась с широким кольцом, отсоединяя длинный, со следами ржавчины, штырь с зазубренными «ушами». – Так. Вот, держите! И смотрите – у меня есть дубликат. Могу явиться в любое время. Коля изо всех сил старался сдержать рвущееся наружу возмущение: да за кого его принимают, за беглого зэка, что ли?! – А то я знаю, как оно бывает. – Хозяйка недоверчиво сверлила его этим кислым до сведенных скул взглядом. – Дело молодое, устроите здесь вертеп, потом еще милицию вызывать придется. За неделю управитесь? – Кирпич… Коля задумчиво похлопал ладонью по стенке. Обои оказались какими-то липкими, словно нарисованные цветы и стебли оплетали пальцы и цеплялись за них маленькими крючками, точно репей. – Времени на перегородку вам должно хватить. На днях я к вам загляну, посмотрю, как и что. И еще… – Мы на аванс договаривались. Она будто бы замялась на секунду, хотя Колe казалось, что эту маленькую «кислую» женщину не смутить ничем. – Так, вот ваш аванс. – Женщина с неохотой залезла в увесистую сумку из кожзама, выудила потертый кошелек и отсчитала несколько купюр. Пожевав немного губами, добавила еще одну. – Пас порт ваш давайте. Сейчас время такое, сами понимаете… У меня уже разок так бригада рабочих с авансом сбежала. – Подождите… А як же ж я… – А куда вам ходить? Ничего-ничего, у меня полежит, сохраннее будет. Давайте-давайте. Развернуться бы ему, отдать неприятной тетке обратно аванс и уйти к чертовой бабушке из этой затхлой однушки. Но жена двоюродного брата собственноручно утром выставила весь его скарб в подъезд, а денег не хватило бы даже на койку в самом задрипанном клоповнике. Таким образом, работа на Тамару Васильевну являлась не только способом заработка, но и единственным шансом провести ночь не на вокзале. – Пожалте, – угрюмо протянул он красную книжицу, извлеченную из кармана олимпийки. – Да не переживайте вы так, не съем я его, – золотозубо и как-то криво улыбнулась хозяйка. Уже у самой двери она резко обернулась, вперилась взглядом в Колю, занимавшегося распаковкой сумки, и пожевала губами. Наконец все же решилась: – Вы, молодой человек, когда унитазом пользоваться будете – там ершик сбоку… Ну, поймете. И не вздумайте курить в квартире – вычту из гонорара! Дверь за хозяйкой захлопнулась, и Коля облегченно выдохнул. Оценив поле предстоящей деятельности, он удовлетворенно присвистнул: дел максимум дня на три. Мебель он сейчас быстро поломает и вынесет, а за стены примется завтра с утреца. В зарешеченном окне небо окрашивалось в грязно-оранжевый цвет. Если под вечер начать долбить – соседи наверняка прибегут скандалить. Подождав минут пять, чтобы точно не пересечься с хозяйкой, Коля выскользнул из квартиры. В ближайшей палатке он купил у некрасивой продавщицы две бутылки «Рановы» и пару еще дымящихся чебуреков. Подумав немного и воровато оглянувшись, купил бутылку «Балтики» и пачку сухариков. Спрятав пиво под олимпийку, Коля вернулся в стиснутый со всех сторон дворик. Тот невольно напоминал ему не то гладиаторскую арену, не то гроб, который того и гляди накроют крышкой, и нужно успеть надышаться. Впечатление лишь усиливала ямища посередине. Пахнущие нагретым железом и канализацией клубы пара придавали ей сходство с какими-то адскими вратами. Думалось, что в любой момент появится из подземных недр длинная многосуставчатая рука и утащит Колю в самое пекло, где он будет вариться, пока сам не распадется на этот зловонный пар. – Ну, фантазер! – покачал Коля головой и зашел в подъезд. Старушка, видимо, таки скормившая кошке картофельные очистки, проводила его долгим и бессмысленным взглядом.
* * *
Первым делом Коля получил занозу. Щепка, отколовшаяся от полуживого шифоньера, вошла ему глубоко под ноготь, села будто влитая. Матерясь и баюкая руку под струей холодной воды, Коля корил себя, что не купил перчаток покрепче. Заноза выходить никак не желала – пришлось работать так, манерно отставляя безымянный палец, словно какой-нибудь промотавшийся аристократ. То и дело ему чудились насмешливые взгляды со всех сторон – но стоило обернуться, и глаза находили лишь вензеля изображенных на обоях цветов, в действительности похожих на выкорчеванную из мертвеца нервную систему – с бутоном мозга, завитушками глаз и стеблем позвоночного столба. Работа спорилась. Добротная, но ветхая мебель всухую проигрывала комбинации из молодецкой силы и потертой кувалды. Намертво вклеенные штыри покидали насиженные в пазах места с недовольным скрипом, хлипкие полочки переламывались надвое, рассохшаяся фанера сыпалась раскрошенным печеньем. Чтобы работалось веселее, Коля поставил на подоконник портативный магнитофон с радиоприемником – подарок покойного отца. Коллекцию кассет, предмет Колиной гордости, пришлось продать на толкучке, чтобы хватило на первое время в Петербурге. К счастью, радио здесь ловило. Правда, всего одну волну – православные гимны и молитвы чередовались с какой-то церковной мутотенью. Но так всяко лучше, чем работать в тишине, как в могиле. Стены здесь были выстроены на славу – из-за давящего со всех сторон безмолвия внутри квартиры создавалось ощущение, что находишься под водой, а пыль, медленно клубящаяся в свете тусклых лампочек, лишь усиливала впечатление. Ни работающий за стенкой телевизор, ни звук туалетного смыва, ни соседские ссоры не проникали в эту, будто застывшую во времени, однушку. Потихоньку Коля, закончив ломать мебель, принялся выносить лакированные деревяшки к мусорным контейнерам. Внутрь они бы никак не влезли, приходилось прислонять обломки к грязному ржавому железу. Меньше чем в восемь ходок уложиться не удалось, на улице уже окончательно стемнело. Старушка с картофельными очистками куда-то исчезла, ее место у соседнего подъезда оккупировал бомжеватого вида мужик. Когда Коля в очередной раз проследовал к контейнерам со своей ношей, тот его окликнул: – Э, слышь! Ф-ф-фь… – Кажется, мужик попытался свистнуть, но вместо этого обильно оросил седые усы свои слюнями. Коля, обернувшись, не смог сдержать легкой ухмылки: тот был так похож на моржа. – Ты че лыбишься? Зубы жмут? – Извините, я о своем. – С этим опухшим алкашом парень справился бы без труда, но устраивать драку в чужом дворе не было никакого желания. А если еще соседи нажалуются хозяйке – проблем не оберешься. Коля уже собирался было вернуться в подъезд, когда «морж» неожиданно ловко преодолел разделявшее их расстояние и вцепился ему в локоть. – Слышь! – Вблизи от мужика несло застарелым потом и куревом. Скосив маленькие глазки на красный, в прожилках капилляров нос, он, выдержав паузу, спросил: – Ты здесь живешь? – А тоби шо за беда? – От неожиданности Коля перешел на родной ростовский суржик. – Бендеровец! Так это ты у Авдотьи теперь обитаешься? – Ну, допустим, я. – Ага-а-а! – злорадно выдохнул «морж», обдав Колю вонью гнилых зубов и перегара. – Так это ты, значит, наследничек! Наследный прынц, значит! Выискался! Внучек без ручек! А где ты был, наследничек, пока бабка твоя в матрас вгнивала, а? Месяц без малого лежала, шмон на весь двор, а эти только под квартирку засуетились, а? Да ты знаешь, как она мучилась перед смертью?! Выла в окно – и что мертвецы на нее смотрят, и что могильная плита на нее давит, а вы, пидарасы, хоть бы раз навестили! – Ну и? – набычившись, спросил Коля. Он испытывал странное чувство вины за безразличие бабкиной родни, и от этого ему становилось не уютно. Беседу явно нужно было закруглять. В квартире еще конь не валялся, а он тут с алкашами рассусоливает. – Ну и! Помянуть надо бы! Ты вот на похоронах был? Не видел я там тебя. Значит, не помянул ты Авдотью нашу. Ну-ка, давай! Не пойми откуда в руке «моржа» появилась бутылка с оборванной этикеткой. Внутри плескалось что-то мутное с лимонными корками. Грязные пальцы ловко скрутили крышечку, и горлышко бутылки ткнулось Колe под нос. – Давай, тебе первому, штрафную! – Да иди ты на хер! Совершенно инстинктивно Коля со всей своей молодецкой удалью оттолкнул мужика локтем, тот нелепо взмахнул руками. Сперва раздался звон, а затем «морж» покатился по земле прямо в разверстую посреди двора яму. Врезавшись в какую-то арматуру, он остановился всего в полуметре от дышащей паром бездны. – Щенок! Говна кусок! Да я тебя… Дослушивать начавшуюся было тираду Коля не стал и нырнул поскорее в подъезд. Ключ, как назло, не желал входить в скважину целиком, застряв на полпути – ни туда ни сюда. Коля в панике дергал глупую железку в замке, а гневные крики все приближались: – Ты, пидарасов сын, за все ответишь! Иди сюда, ублюдок, не посмотрю, что ты здоровый! Тебя отец старших уважать не научил, так я тебя научу… Наконец в какой-то момент Коля все же поймал правильное положение ключа и влетел в квартиру, захлопнув за собой дверь. В ту же секунду крики «моржа» пропали, будто кто-то выключил звук. Это было даже удивительно: вот хриплый матерок звенит в ушах, а вот – исчезает, словно выдернули из розетки радио. «Умели же раньше строить!» – подумал Коля, как вдруг спина его покрылась холодным потом. Голоса. Приглушенные мужские голоса раздавались из единственной комнаты. – Могила не должна оставаться пустой! – грохотал кто-то. – Как пустая утроба ничтожна по сути, как пустая скорлупа бессмысленна до основания, так и могила не должна оставаться пустой, ибо жаждет себя наполнить. И взывает пустота к темным духам, бесам и теням… Как мертвая тела оболочка, привлекательна она для созданий диавольских… – Но подождите же, отец Порфирий, но разве это грех: воздавать почести и посмертную славу безвременно… – прервал его чей-то вежливый смутно знакомый голос. Будто голос диктора… Радио! Это всего лишь радио! Коля едва не расхохотался, осознав свою догадку. Вот оно как бывает – у страха глаза велики. Теперь ему было даже немного стыдно за себя и, в общем-то, жалко ни в чем не повинного «моржа», которого он едва не отправил в урбанистическое пекло. Зайдя в комнату, Коля немного приглушил радио – уж больно буйствовал батюшка, рассуждая о могилах, – и окинул взглядом стены. Из мебели в комнате осталась лишь широкая панцирная кровать. Лишенная матраса, из-за торчащих проволочных крючков она напоминала какое-нибудь гестаповское орудие пыток. Кладешь пленника, приковываешь наручниками к раме и давишь сапогом на живот, чтобы крючья поглубже впивались в мягкие ткани. А если не колется партизан – так утюг ему на живот или крысу в кастрюле. Тем не менее выносить кровать сегодня было уже поздновато, да и не хотелось по случайности вновь пересечься с «моржом». Приподняв один край на пробу, Коля охнул и схватился за спину: ложе покойной хозяйки, казалось, было отлито из чистого чугуна. Пожалуй, придется дождаться других ремонтников и избавляться от этого раритета коллективно. Несмотря на то что, кроме кровати, в комнате ничего больше не было, помещение не стало просторнее. Наоборот, теперь увитые этими ободранными цветами обои будто бы вспучились и давили со всех сторон. Склонившись над сумкой, Коля извлек наружу шпатель, собираясь раз и навсегда покончить с этой розово-коричневой дрянью, – для сноса стены сегодня все равно уже было поздновато. Но стоило выпрямиться, как что-то пребольно стукнуло его по голове. Отскочив, он направил шпатель в сторону потенциального противника, однако им оказалась всего лишь пыльная люстра. Покачиваясь от удара, она словно насмехалась над незадачливым работником, который в недоумении пялился на нее: разве потолки не были выше? Пригрозив люстре шпателем, Коля достал откуда-то со дна сумки отвертку. Обесточив квартиру, он сходил за стремянкой и принялся откручивать болты, державшие люстру. «Без плафонов, пожалуй, даже посветлее будет», – рассудил он. Вот один из плафонов накренился, и на голову Колe посыпалось что-то легкое, шуршащее и неуловимо отвратительное. – Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух! – громыхнул отец Порфирий из радиоприемника, и Коля от неожиданности потерял равновесие. Ухватившись за наполовину открученную люстру, он осознал свою недальновидность, лишь когда та тяжело грохнулась вместе с ним, отдавив многострадальный палец с занозой. – У, курва! – выругался в исступлении, шипя от боли, Коля. Плафоны разбились, мелкие осколки жалящими насекомыми вонзились в кожу на предплечье. Вдруг он почувствовал, как руку щекочет нечто – будто кто-то перебирает сотнями маленьких лапок. – Уйди! Уйди! Заорав благим матом, Коля вскочил с пола и побежал скорее в ванную, а вслед ему неслось протяжное мушиное жужжание. Закрыв за собой поплотнее дверь, он склонился над раковиной и принялся смывать с себя разрозненные останки насекомых и вынимать впившиеся в кожу осколки. В ванной комнате было темно как в погребе, поэтому пришлось сбегать обратно до щитка и включить свет, прежде чем продолжать водные процедуры. Отдышавшись, глянув в зеркало – бледный как привидение, – Коля все же взял себя в руки и вернулся в комнату: от мух надо было избавиться. Войдя в комнату, никаких мух он не обнаружил – только высохшие трупики, что осыпались отвратительными черными крошками на пол. Источником жужжания оказалось радио, антенну которого он задел при падении. Выправив сигнал, Коля тут же был огорошен скрипучим: – Как возвращается пес на блевотину свою… – Да пошел ты! – обиделся он и попытался поймать другую волну, но все прочие каналы передавали лишь мушиное жужжание. Отчаявшись, он все же настроил радио на «церковный» канал, где, к его облегчению, неистового батюшку заменило мрачное хоровое пение.* * *
Веник с совком нашлись под раковиной на кухне. Пустое мусорное ведро источало зловоние, по краешку ползал, разочарованно шевеля усами, крупный рыжий прусак. Коля, скривившись, попытался сбить его плевком, но промахнулся. – Типает ужe от этой квартирки! – возмущенно произнес он вслух, точно проверяя, будет ли слышен его голос в этих поглощающих все звуки стенах, или «правом голоса» владеет только радио. Прибравшись в комнате, он с досадой оглядел плод трудов своих – с потолка дохлым ленточным червем свисал оборванный провод. К счастью, на кухонном подоконнике обнаружилась небольшая настольная лампа – видать, усопшая хозяйка была не сильна зрением и кашеварить без дополнительного источника света не могла. Отломав плафон, Коля подключил лампу к видавшей виды желтого пластика розетке и направил ее на стену, предназначенную для сноса, отчего «позвоночные столбы с глазами» приобрели вид еще более выпуклый и зловещий. Местами обои отклеились и пузырились, что, в свою очередь, добавило объема растениям. – С этим мы швыдко! – обнадежил себя парень и хищно нацелился шпателем в самый центр одного из бутонов. Расчет оказался не совсем верным. Отковырнув кусок на стыке, Коля надеялся, что клей давно рассохся и уродливая бумага слезет сама, будто кожица с гнилого фрукта, но просчитался. Одни обои были поклеены на другие, еще отвратительнее: какие-то желтые в мелких мотыльках, больше напоминавших обычную домашнюю моль. Из-за этого слипшиеся слои сидели крепко, отходили чешуйками размером с трамвайный билетик. Работа казалась еще более монотонной и муторной из-за бесконечных пустопорожних рассуждений попа и диктора по радио. – А вот скажите, пожалуйста: а кенотафы на дорогах? Что в них, в сущности, плохого? – задавал, как ему казалось, каверзный вопрос чей-то тенорок. – Да это же вовсе самая настоящая черная магия! – бушевал отец Порфирий. – Ритуальные конторы за это под суд отдавать надо! Самая натуральная бесовщина! Нет, вы только подумайте: могила-пустышка, что само по себе богохульство, так еще и на месте смерти! Вы представьте себе, сколько зла скопит в себе эта безделица! Жадные могильщики, стервятники чертовы, расставляют их на обочинах, на местах аварий, а темным силам только того и надо! Крест святой им не помеха, ведь не благостью от него, а смертью смердит, новую смерть привлекает! – Нет-нет, подождите… – Не о чем тут рассуждать! Одна лишь сухая статистика – прямое доказательство того, что это объект языческий, греховный и богопротивный! Где на дороге мерзость эту возводят – там и аварии происходят в три раза чаще, бесы руль выкручивают, водителя морочат, на гибель толкают! Коле сразу вспомнился поворот на Грушевку под одиноким фонарем – грунтовка с насыпью. – Это же означает, что опасные участки… – пытался оправдаться тенорок, но его вновь и вновь заглушал рокочущий бас священнослужителя, от которого у Коли даже разболелась голова. Слово «кенотаф» пыльным облаком засело во рту, рвалось наружу. Коля окончил восемь классов сельской школы с пятерками по труду и физкультуре, едва-едва выправив тройки по остальным предметам, но о том, что такое кенотаф знал слишком хорошо. Непрошеным воспоминанием проколола сознание картинка: визг тормозов, темнота, грохот и аляповато украшенный железный крест на развороте в сторону Грушевки. Заныли уж полгода как зажившие ребра, Коля скорчился и скрипнул зубами, прогоняя навязчивое существительное, проглатывая его вместе со строительной пылью. – Ну, буде на сегодня! – поднялся он на ноги, разминая затекшие колени. Ободранная стена в углу у самого окна теперь смотрелась небрежно, зато представляла собой участок, лишенный, наконец, глазастых цветов. Но ощущение направленных на Колю тяжелых взглядов не пропало, а лишь усилилось. С неприязнью Коля покосился туда, где над кроватью на обоях расплылось коричневато-гнилостное пятно. Видать, старушка перед смертью прислонилась к стенке. При одной мысли, что зачищать стену нужно будет и на этом участке, аж передергивало. – Хорош! Pанок покаже, шо вичор не скаже… Настроения ужинать не было. Кисловатая теп лая «Балтика» не принесла никакого удовольствия, сухарики по твердости напоминали осколки костей, что иногда попадались в мясе. Они оседали суховатой безвкусной кашицей на зубах, не оставляя ни вкуса, ни чувства насыщения. Как назло, в доме не оказалось ни одной книги – все увезли хозяева. Коля же сплоховал и не взял с собой ничего почитать. Большим любителем литературы он не был – дома всегда находились занятия понасущнее, но с момента своего отъезда из маленькой деревеньки из-под Ростова в бесконечных автобусах, поездах, электричках и очередях Коля пристрастился к простеньким детективам в мягкой обложке. От скуки он нашел на кухне отрывной календарь за позапрошлый, девяносто шестой год, с приметами, и принялся его листать. Наткнувшись на сегодняшнюю дату, нахмурился: «На шестое апреля, в канун Благовещения, не стоит затевать генеральную уборку, заниматься ремонтом. Постарайтесь не ходить в гости, да и сами не зовите гостей. Приснившийся в ночь с шестого на седьмое покойник сулит неожиданную находку». – Бред суеверный! Коля вернул календарь на замызганную полку над плитой и, сделав последний глоток пива, принялся готовиться ко сну. Вода из крана потекла ржавая, вонючая, так что чистить ею зубы он не рискнул – сполоснул рот «Колокольчиком», от чего десны жгло и сводило. Поначалу он собирался переночевать на кухне – оконная рама в комнате разбухла и не открывалась. Коля подергал, но, услышав угрожающий треск, бросил попытки – не хватало еще выломать окно вовсе. Вдобавок в кухне не было строительного мусора и этой жуткой гнилостной затхлости. К своей досаде, попытавшись разложить тоненький походный матрас, парень обнаружил, что улечься во весь двухметровый рост у него не выйдет даже по диагонали. Коридор для сна подходил не лучше – узкий проход с боков сжимали разнокалиберные полочки и подставки для обуви, прибитые к стенам, а по поводу них Коля никаких указаний не получал. Попытавшись угнездиться между обшарпанным комодом и высокой узкой тумбочкой, он будто оказался в саркофаге, стиснутый с двух сторон. Уснуть в таком положении было бы решительно невозможно. Обреченно вздохнув, он вернулся в опустошенную им же комнату, открыв форточку на кухне и отворив «масляную» дверь нараспашку – все ж какая-никакая вентиляция. Поначалу он думал лечь прямо на пол – кровать старухи-покойницы вызывала в нем гадливую оторопь, но, почувствовав, как скрипят под сланцами песок, мелкие осколки стекла и мушиные крылышки, класть матрас на пол все же не рискнул. – Ну нет, шалишь, брат! – пригрозил Коля кровати. Ухватившись за железную перекладину, он, отдуваясь, перетащил ее в противоположный угол – туда, где не было «гнилостного силуэта», благо путь от стены до стены оказался гораздо короче, чем ожидалось. Улегшись на скрипучеe, провисшеe едва не до пола ложе, парень уставился в потолок. Стоявший посреди двора фонарь светил как раз в окно его вынужденного убежища, наполняя все помещение болезненной желтой полутьмой. Колe было неуютно, сон никак не шел, отгоняемый мыслями о предстоящей работе и мрачной петербургской неизвестности: куда податься после этой «кислой» женщины с его паспортом и навсегда впечатавшейся в стену тени напротив? Теперь, не загораживаемое кроватью, пятно стало будто бы обрезанным – ровной горизонтальной линией, что очерчивала границу, за которой мертвая старушка истекала гнилостными выделениями уже не на стену, а в матрас. В неровном свете дворового фонаря, лившемся из окна, этот силуэт, казалось, недовольно ворочался, оставшись без законного своего ложа. Коля перевернулся на другой бок, носом к стенке, сопровождаемый скрипом пружин, но ощущение чьего-то присутствия и пялящихся отовсюду насмешливых взглядов не отпускало. Близоруко прищурившись, он углядел один из источников. Это был заплесневелый «мозг» – бутон с двумя «глазами»-вензелями. Выругавшись, парень яростно перевернулся на спину, кровать застонала. Зажмурив глаза, он твердо вознамерился уснуть. Снилась ему родная Зайцевка – километров сорок от райцентра, полчаса на мотоцикле. Душная летняя ночь после промозглого Питера казалась далеким воспоминанием. Да им она и была: снова Коля несется по проселочной дороге, оглядываясь по сторонам в поисках незанятого местечка поукромнее, а к спине прижимается теплой мягкой грудью Наташка из Шахтинского текстильного училища, которую за глаза деревенские называли многостаночницей. Треск мотора почти заглушает ее мурлыканье, ветер бросает в лицо длинные русые волосы. Вот он сбрасывает скорость и начинает осторожно объезжать кустарник, чтобы подъехать к речке. Шаловливая Наташкина рука ныряет под резинку тренировочных штанов и начинает нетерпеливо наминать ему яички. – Погодь ты, дай с кущив выйду! – отмахивается Коля, усмехаясь, в ответ раздается хрипловатое пьяное хихиканье. Наташкины растрепанные волосы лезут в нос и в рот. Он притормаживает, не уклюже переступает по сырой от росы траве, зажав между ног пошарпанную «Яву», а рука проявляет все большую настойчивость, в трусах становится влажно. – Наталка, та потерпи ты! Но та не слушается, сжимает пальцы до того, что у Коли льются слезы из глаз, впивается острыми ногтями в самую нежную часть его тела, оттягивает, крутит. И в этот самый момент он понимает, что не чувствует жарковатого, пьяного дыхания, сопровождавшего его в ту ночь. Вовсе никакого дыхания не чувствует. Не вздымается мягкая неживая грудь, прильнувшая к мокрой от пота футболке, и волосы у него во рту – не русые, а какие-то… серые. И что делать – не знает он, потому что надо как-то вырваться, выкрутиться из мертвой хватки, но ужас сковывает все конечности, стоит ему представить, что там, позади… – Могила не должна оставаться пустой! – гаркнул вдруг чей-то бас, и Коля открыл глаза. Еще не рассвело – раннее апрельское утро скупилось пока на малочисленные свои солнечные лучи, – посреди комнаты вновь надрывалось радио, транслируя очередные теологические дебаты, а мошонку Коли все так же продолжали сжимать чьи-то когтистые, сильные пальцы. Воображение мигом дорисовало голую холодную покойницу, из тела которой сочится густая гнилостная жижа, чьи глаза высохли и навсегда застыли, полный личинок рот безобразно распахнут, и лишь хищные Наташкины руки, похоже, ненадолго обрели жизнь, чтобы выдрать Кольке гениталии с мясом и оставить его истекать кровью. Наташки-«многостаночницы» здесь, конечно же, быть не могло. Ведь это ему, Коле, на Шахтинском кладбище бил морду ее отчим и, точно птичка за ветку, цеплялась за локоть ногтями безутешная мать. «Моя доня! Деточка моя!» Этот крик навсегда отпечатался где-то на подкорке его мозга. А сама Наташка лежала спокойно в гробу, сложив свои обычно неугомонные руки на груди, как живая, лишь слегка наклонив голову, точно разминала шею. С тех пор Коля так и не побывал на ее могиле, а вот кенотаф видел дважды в день – по дороге в училище и обратно. Один раз положил букет собственноручно собранных луговых цветов. «А что толку-то! – раздался будто бы из-под кровати ехидный голосок. – Могила-то пустая!» Рисуясь по частям, картина эта холодила его легкие, сводила желудок, наполняла рассудок страхом. И, когда сознание его набухло, вздулось да и лопнуло, словно перезревший фрукт, а весь ужас выплеснулся, Коля закричал что есть мочи и попытался вскочить с кровати, но едва сам не оторвал себе все добро. Оказалось, тонкий матрас сполз, пока он ворочался, и самую нежную его часть тела зажало пружинами кровати и кололо крючками. Успокоившись, Коля с величайшей осторожностью высвободился из плена и поклялся больше никогда не залезать на это пыточное приспособление – пусть придется спать хоть в ванне. Такая его досада взяла на эту кровать, что, поднапрягшись, он дотолкал ее до двери и поставил на попа. Но чертово лежбище никак – ни по диагонали, ни по вертикали – не желало проходить. Коля пробовал и так и этак, но лишь намертво заблокировал выход из комнаты. Разобрать кровать не получилось бы при всем желании: широкие дуги и перекладины были приварены друг к другу намертво. – Да як же ж ее сюды затащили! – цокал языком Коля, обходя кровать то с одной, то с другой стороны. Та, даже торча из двери вертикально, занимала едва не полкомнаты – было и вовсе непонятно, как она здесь умещалась, а главное, как сюда попала. Задачка похлеще кораблика в бутылке. От отчаяния парень, наплевав на соседей, даже саданул кувалдой по одному из сварочных швов и тут же об этом пожалел – рука вся завибрировала, словно по ней пропустили ток, который разошелся по телу, неприятно щекоча нервные окончания. Оглушительный звук, вырвавшийся из неповоротливой конструкции, напоминал тоскливый похоронный набат. Наконец Колю осенило: наверняка дверная коробка была установлена уже после того, как кровать попала в помещение. Примерившись как следует, он принялся вышибать из толстого дерева, прокрашенного в несколько слоев, кусок, мешавший одной из верхних дуг. Дверная коробка казалась каменной – к тому моменту, как в ней появились два подходящих углубления, Коля уже весь взмок, руки дрожали от напряжения. – Ничего соби зарядочка! Кровать удалось разместить в углу коридора, заблокировав входную дверь в квартиру. «Если хозяйка, не ровен час, явится – крику не оберешься!» – с неприязнью подумал парень. Остаток ночи ему все же не спалось, поэтому Коля просидел до рассвета на кухне, листая глупый суеверный календарь. Из-за злосчастной кровати в коридоре позавтракать пришлось вчерашним чебуреком и выдохшимся «Колокольчиком» – забыл закрутить крышечку. Наскоро умывшись все такой же вонючей и ржавой водицей, он принялся за работу. Радио решил не включать – поповские рассуждения только забивали голову, мешали сосредоточиться, точно назойливое мушиное жужжание. – Могилы-могилы, тьфу! Хоть бы про шо нормальное поговорили! Хоть убей, но вчерашнего участка с ободранными обоями Коля обнаружить никак не мог. На него ехидно пялилась половина глазастого «позвоночного столба» – дальше стена заканчивалась углом, откуда начинался новый участок обоев. – Ну и черт с тобой! Респиратора не было, пришлось обойтись футболкой. Окатив стену водой из мусорного ведра – три раза, чтоб наверняка, – Коля взялся за перфоратор. Сначала в стене нужно наделать отверстий, равноудаленных друг от друга, – тогда кувалда будет вышибать ровные крупные куски, а не отдельные кирпичи. Старая розетка искранула, принимая в себя вилку устройства. На всякий случай парень отдернул руку – мало ли что. Дверь он закрыл, чтобы пыль не разлетелась по всей квартире. Раздалось знакомое жужжание старого, проверенного инструмента, комната тут же наполнилась тяжелой взвесью, пахнущей сыростью и вафлями. Но вдруг вгрызшийся было в стену бур ухнул на пару сантиметров внутрь, уперся и замер. Ротор крутился вхолостую, пока всепроникающее жало вяло проворачивалось в дыре. – Шоб тебя черти драли! – выругался Коля и выключил перфоратор. Вытянув сверло, парень чертыхнулся еще раз: все оно было покрыто толстым слоем намотавшейся бумаги – обои, какая-то пленка, желтые истлевшие газеты. Перфоратор он из розетки выключил – а то еще коротнет – и обреченно достал из сумки большой крепкий шпатель. Придется для начала все же ободрать этот полуметровый слой мусора, иначе, пожалуй, так можно инструмент испортить. С наслаждением принялся Коля срывать, сколупывать и отковыривать уродливые телесно-розового цвета обои с оголенной нервной системой. Этот участок стены шел легче, чем вчерашний, – парень еще раз бросил взгляд в тот угол, где он вроде бы уже избавлялся от глазастых цветов. На полу не лежало ни ошметочка. – Ерунда якая-то! – сказал он специально вслух: звук собственного голоса успокаивал и гнал прочь глупые мысли о бабкином привидении. Дело шло все тяжелее, шпатель то и дело срывался, и Коля больно стукался локтем об угол. Работа не спорилась, куски рвались, и приходилось зацепляться заново, шпатель оказался слишком толстым и не желал пролезать под ветхую, в несколько слоев поклеенную бумагу. С левой половиной стены он провозился добрые часа три. Наконец, когда розовая дрянь, а следом и желтая, с мотыльками, осела неровными лоскутами на пол вместе с какой-то сетчатой подложкой, глазам его предстал очередной слой, вырвав горестный стон из груди. Все было обклеено газетами. Желтые, осыпающиеся, с почти нечитаемыми буквами, они составляли какой-то безумный криптографический узор. – Tа вы, блин, издеваетесь! Парень осел на пол прямо там, где стоял. Если бы он курил – наплевал бы на запрет хозяйки и закурил бы прямо здесь. Неужели ему теперь сдирать и это?! Можно, конечно, рискнуть и перейти на перфоратор, но, если бумаги слишком много, порченый инструмент ему никто не возместит, а от работы кувалдой толку сейчас будет немного. Выбивать стену дома дореволюционной постройки по полкирпичику можно до второго пришествия, да и то не успеешь. Представив себя, всего в побелке, бегущего с кувалдой наперевес к Христу с криками «Подождите, не начинайте без меня!», он глупо хихикнул. Сил подняться на ноги не было, поэтому Коля стал бесцельно ползать взглядом по газетным заголовкам. «…аденiе ста… властi. Образо …нiе временнаго пр…» – кричало «Русское… ово…». «О…кущих задачах комсомола в …еревне» скучно собиралась рассказать «Комсомольская правда». «За…яжелое машиностроение!» – призывала какая-то безымянная газетенка. Глаза зацепились за неприятную черно-белую фотографию над статьей: какие-то темные волосатые комья, похожие то ли на морских ежей, то ли на раковые опухоли. Коля понял, что на ней изображено, лишь прочтя спасшийся от выцветания кусок. «…от вязаного ковра на стене над кроватью осталась лишь верхняя часть… не смогла дотянуться. После вскрытия тела в желудке было обнаружено… общей массой более семи килограммов. Парализованная пенсионерка… без ухода… чтобы не умереть с голоду…» Его затошнило. Гадкая кислина прикатилась откуда-то из горла, да так и осела на нёбе. Желая поскорее прогнать из головы жуткую картину, Коля переключился на первую попавшуюся статью. «Невский сом-людоед!»– кричал заголовок. На зернистом фото группа мужчин в милицейской форме что-то вытаскивала из воды. «…детские останки…» Дальше он читать не стал. «…хищение на сумму… более восьми… готовой продукции. Родственники усопших возмущены и требуют возмещения… виновный не был найден… гранитных памятников с гравир…» Бессмыслица какая-то. «…капище Чернобога. Безусловно, работы продолжились… слухи о смертности преувеличены… Обводной канал будет…» «…случаях каннибализма, безусловно, не имеют под собой никакой основы. Блокадный… поставки регулярны… обглоданные кости – результат диверсий и пропаганды враж… подорвать дух советского народа». «…дружественной социалистической республики Вьетнам негодуют. Тело героя… в результате военного столкновения под… „Могила не должна оставаться пустой!“ – заявляет заместитель министра…» Сильнейшее дежавю заставило Колю выйти из транса, в который его вогнало это невольное путешествие в прошлое чужого города. От этой «стены памяти» нужно было избавляться. Вновь взявшись за шпатель, он вгрызся металлом в еле заметный стык между «Известиями» и сурово обвиняющим заголовком «Безбожник», но инструмент соскочил, руку отбросило назад, и та коснулась чего-то влажного и липкого, будто слой жира на газовойплите. Обернувшись, парень с омерзением скривился, поняв, что притронулся к желтовато-коричневому силуэту на противоположной стене – к посмертной тени покойницы. – Та ну тоби! – возмутился он и схватился за перфоратор. – Хай будэ як будэ! Нащупав вилку на том конце провода, Коля, не глядя, ткнул ею в розетку, но не попал. Поелозил туда-сюда – пластиковый прямоугольник находиться не спешил. Взглянув в угол, парень обомлел: он готов был поклясться, что еще пятнадцать минут назад именно здесь, в углу у двери, торчал этот искрящий пятачок, но теперь его не было. Словно испарился, не оставив и следа. Коля глупо покрутился на месте, сделав оборота три-четыре, прежде чем заметил, что след все-таки есть: из угла на пересечении стен торчал малю-у-усенький пластиковый уголочек. – Да шо ж это такое?! По всему получалось, что, пока он изучал газетные заголовки ушедшей эпохи, стена просто взяла и проглотила розетку. Не веря своим глазам, Коля открыл дверь – та послушалась не сразу, зацепившись за какие-то выемки в дверной коробке, – и заглянул за угол. С той стороны торчал точно такой же пластиковый уголок – выходит, розетка «застряла» где-то в середине стены. – Не, ну это уже якая-то чушь! Принятое было твердое решение проветриться быстро обмякло и истаяло при виде панцирной кровати, зажатой стенами коридора и загораживающей путь на свободу. Стену нужно хотя бы начать ломать до наступления вечера, иначе соседи вызовут милицию или нажалуются хозяйке, а та вычтет из гонорара. «Последним доводом королей» стала кувалда. Размахнувшись как следует, Коля нанес первый сокрушительный удар. Казалось, стена содрогнулась. По руке прокатилась отдача, а прямо по центру «Красного скотовода» появилась внушительная вмятина-трещина. Будто с испугу включилось радио и сразу затараторило: – …могила голодна, и, покуда количество имен на стеле не сравняется с количеством усопших под ней, она останется маяком для злых диавольских сил, что зарождаются в пустотах… – Гарно пошло! – воодушевился парень и принялся долбить стену с задором и упорством, достойными строителя египетских пирамид. Кирпичная крошка, истлевшие газетенки, куски шпаклевки летели в лицо, но Колe все было нипочем. Работа спорилась, он снова был в своей среде, никаких тебе газетных статей и мертвых старушек – только он, стена и кувалда. Даже радио, казалось, оглушило силой и упорством человеческого духа, а оттого оно лишь что-то застенчиво бормотало о недобросовестности сотрудников сферы ритуальных услуг и братских могилах. Увлекшись, Коля не сразу заметил, что на улице уже стемнело, а значит, шуметь теперь нельзя. Результат работы впечатлял: добрые два квадратных метра внешнего слоя ему удалось превратить в мелкие рыжие черепки. Под хлипким советским кирпичом – пористым, со сколами, лежащим как попало, – встретить его атаку готовилась темная, с узкими, в миллиметр, стыками дореволюционная стена. Кирпичи ставили будто по линейке, создав идеально разлинованную поверхность, – хоть графики черти, как в школе. Стоило Коле выпустить кувалду из рук, как усталость, подобно хищному зверю, набросилась на него, да так, что он едва удержался на ногах. Мышцы тянуло от привычной, почти приятной боли. Руки дрожали от пережитого напряжения, мозолистые его пальцы не гнулись, и он не с первого раза открыл дверь – не получалось даже повернуть ручку. Очередной неприятный сюрприз подстерег Колю, когда он пошел отмываться от строительной пыли. Решение лечь спать в ванной оказалось весьма недальновидным – откинув длинную, во всю стену, замызганную занавеску, вместо огромного чугунного монстра с львиными ножками, какой ожидаешь найти в питерской дореволюционной квартире, в углу он узрел советскую сидячую ванну, в которой крупный деревенский парень из-под Ростова не уместился бы, даже сложись он в три погибели. Разочарование постигло его и при попытке пойти и купить себе чего-нибудь на ужин: монструозное бабкино ложе не желало пролезать и во входную дверь, подпирая ту широкими верхними дугами и блокируя путь. Попытки отодвинуть кровать не увенчались успехом: коридор словно сократился и сузился в вечерних сумерках. Теперь Коля, оттащив ложе от двери, запер себя в туалете. – Ну, была не была! – сплюнул он в раковину и шагнул прямо в скопление пружин и крючков. Разумеется, провисшая конструкция не выдержала давления его богатырской лапищи сорок шестого размера, и нога провалилась, раздираемая бесконечными ржавыми крюками до мяса. – Твою-то маму слева направо! – выругался парень, осторожно вынимая поврежденную конечность из сетки. Со злости он так пихнул кровать в коридор, что та перекосилась и встала намертво. Включив свет в ванной, Коля оценил повреждения – царапины, но глубокие, – промыл раны водой и полил из найденного на полке пузырька йода, попеременно шипя и матерясь. – Сука, шоб воно сдохло! – выкрикнул он, швыряя пузырек об стену. Тот разлетелся мелкими темными осколками, на кафеле остался внушительный скол. Ему нужно было валить из этой квартиры прямо сейчас, пока он все тут не разнес. Коля издал короткий истеричный смешок – ведь для этого его, собственно, и наняли. Вернувшись в комнату, он помотал головой из стороны в сторону – таким фантастическим казалось это видение. Там, где он буквально минут пятнадцать назад наблюдал лишь темный монолит с редкими вкраплениями желтоватого цемента, теперь выпирали по-тараканьи рыжие кирпичи. Точно обломанные пеньки зубов во рту старика, они торчали беспорядочно, где попало, будто бы заражая, оскверняя и низводя к нулю весь его труд. – Не-не-не-не, мы того не заказывали! – качал Коля головой, прогоняя дурной сон, что не желал заканчиваться. Он отшатнулся и тут же уткнулся в жирный след разложения, к рукам прилипло что-то густое, пыльное, вонючее. По-бабьи взвизгнув от омерзения, парень рывком захлопнул дверь, чтобы забрать радио и свалить к чертям из этой халупы, но застыл на месте, ошарашенный увиденным. – …одинаковое количество и мертвецов, и мест погребений очень важно для сохранения их святости. Любая пустая могила априори осквернена. Любая пустота нечиста по своей сути. Вспомните: «И берется чертовщина ниоткуда неспроста. Заведется чертовщина там, где только пустота!» Но удивлен был парень вовсе не неожиданной трактовкой цитаты из мультфильма про оловянного солдатика, но тем, что колонка приемника вещала прямо из стены – из этих омерзительных розовых обоев. Выше торчала антенна, наградив гадкий «позвоночный столб» цветка комариным носом. Страх разлился стылым комом где-то в желудке, словно Коля проглотил покрытую весенней грязью глыбу льда с улицы и она медленно таяла, отравляя его сознание, пуская по венам холодную талую воду. Не помня себя, он дернулся к выходу и изо всей дури врезался в «масляную» дверь, теперь покрытую кирпичной пылью, и вцепился непослушными пальцами в ручку. Пальцы соскальзывали дважды, прежде чем получилось повернуть обшарпанный металлический набалдашник. Коля изо всех сил насел на полотно – оно не поддавалось. «Неужели меня здесь заперли?!» – пронеслась ледяная, острая, будто врезающаяся в череп сосулька, мысль. – Помогите! Выпустите меня! – забасил он, толкая дверь плечом с твердым намерением ее высадить. Из радио кто-то засмеялся. Следом засмеялся и сам Коля, осознавая свою ошибку: дверь-то открывалась внутрь. И лишь дернув на себя ручку изо всех сил, а потом еще раз и еще, он понял: его действительно заперли. Рванувшись к окну, он споткнулся о лежащую у самой стены кувалду и растянулся на покрытом кирпичным крошевом полу, больно разодрав колени. Расставив руки, чтобы подняться, Коля не сразу понял, отчего в его мозгу точно завыла сирена, сообщая о какой-то болезненной, неуместной неправильности окружающего мира. Через секунду осознал: его руки касаются обеих стен одновременно. Вскочив на ноги, он саданул головой об узкий деревянный подоконник и рассек лоб. Кровь хлестала, заливая левый глаз, но Коля уже не чувствовал боли. Все, чего он хотел, – выбраться отсюда. Но окно будто бы перекосило в раме, и оно не открывалось. Парень подобрал с пола кусок кирпича и, прикрыв лицо, швырнул его в самый центр стекла. Во все стороны брызнули осколки, один впился в локоть, но это уже было не важно. Прижавшись к решетке, словно младенец к матери родной, сплющив лицо о ржавые прутья арматуры, он изо всех сил завыл: – Помоги-и-ите! На по-о-омощь! Умоляю! Помоги-и-ите! Темные окна напротив не спешили зажигаться. Во дворе не было никого, кроме тощей кошки, что горделиво расхаживала по краю курящейся паром ямы. – На по-о-омощь! – отчаянно звал Коля, перемежая крики рыданиями и размазывая сопли вперемешку с кровью по лицу. – Помо… – Чего голосишь?! – раздался вдруг недовольный оклик откуда-то снизу. Из-под козырька подъезда вышел вчерашний «морж» с беломориной на распухшей нижней губе. Под глазом у него наливался соком качественный, душевный фингал, а сам глаз заплыл, словно мужика покусали пчелы. – Дядько, миленький! – заблажил Коля. – Вытащи меня отсюда, Христом Богом молю, вытащи! – О, бендеровец! – ощерился недобро «морж». Со вчерашнего дня он лишился половины переднего зуба. – Чё, не в радость тебе хата бабкина? Горишь, шоль? – Не горю! Дядько, хороший ты мой, вызови милицию, пожарных, пусть меня спасут, а?! – А чё такое? Заперся? Ну, ты посиди, подумай, как старших уважать! А с утра придет слесарь – ему и кричи. Или не придет. Не кричи тогда – пупок надорвешь! Усмехнувшись, «морж» сплюнул папиросу себе под ноги и нырнул обратно в подъезд. – Нет! Не уходите! Пожалуйста! Пожалуйста! Коля изо всех своих богатырских сил схватился за прутья решетки и принялся расшатывать единственное препятствие, отделяющее его от свободы, но арматура сидела прочно и глубоко. Прутья были буквально утоплены в кирпич и накрепко сварены друг с другом. Да и в проем бы он едва ли пролез – не окно, а слуховое окошечко, как в туалете. Отпустив прутья, Коля обессиленно осел на пол, повернувшись лицом к двери. Ту всю сплющило и перекосило – дверь не комнаты, но шкафа, дерево лопалось, топорщилось острой щепой. – …могила голодна всегда. Она будет наполнять самое себя, ибо таков баланс вещей. Если люди в своей алчности и богохульстве оставили пустоту там, где ее быть не должно, то зло, сила бесовская, расставит все по своим местам, но заплачено будет душами невинных. Вспомните, как покарали безбожный Петроград в двадцать третьем за Обводной канал! «Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет!» – сказал Господь, но кровавые богопротивники не выказали уважения к древнему захоронению, разворотили гробницу древнюю, чухонскую, мертвецов на свалки свезли, как мусор, а плиты гранитные побили и на поребрики пустили! Великое проклятие навлекли на город – ступают там в воду отчаянные да безумные, зовет их могила, желает уравнять имена с мертвецами! Слушая этот бред, Коля медленно, но верно мирился со своей судьбой. Подоконник постепенно и настойчиво толкал его в спину, оголенный провод на потолке медленно опускался, будто змея за добычей. Дверь, сдавливаемая стенами с двух сторон, резко треснула пополам и вывалилась. Ненадолго, точно в качестве издевки, показался проход в коридор, такой узкий, что Коля бы и голову не просунул. Обе стены теперь топорщились кирпичами, злобные «позвоночники с глазами», уже не таясь, смотрели на него. – А бабушка та несчастная, что одна осталась, парализованная! Вот уж кто хотел пустоту заполнить! Так, что ковер весь по ниточке распустила и съела – да-да! Природа не терпит пустоты! Господь не терпит пустоты! Как мужчина заполняет пустоту в теле женщины, так труп должен заполнять пустоту могилы! – надрывался по радио уже не поп, а какое-то странное многоголосье. На секунду Колe даже послышалось, что в нем есть и Наташкин голос тоже. Что она услышала от него напоследок? Слова любви? Какую-нибудь глупую романтичную ерунду, которую шепчут друг другу летними ночами влюбленные? Или просто что-то незначительное, что поди еще упомни? Коля помнил каждое слово, каждую интонацию и одинокий фонарь на краю дороги, ослепивший его лишь на краткую секунду. «Не целуй мене, покуда зубы не почистишь!» Он тогда грубо сбил ее руку, когда Наташка потянулась к его лицу губами. До ее дома в Грушевке оставалось не больше двух километров, когда не свершившийся поцелуй, фонарь и неведомо кем брошенная на дорогу коряга все перевернули. Сначала опрокинулся мотоцикл, закрутив в воздухе лихое сальто, потом закувыркался вниз по склону дорожной насыпи и сам Коля. А следом, когда он, держась за бок, подошел к раскидавшей во все стороны руки и ноги Наташке и принялся ее тормошить, перевернулся и Колин мир. Девушка выглядела почти невредимой – пара царапин тут и там, но что-то в ее облике – то ли слетевшая кроссовка, то ли странный наклон головы – кричало, вопило на все лады, заставляя кожу парня покрываться мурашками: это больше не человек, но предмет. И, как всякий предмет, была она неподвижна и мертва. Коля и сам не сразу заметил, что из раза в раз произносит жалким подвывающим басом: – Прости меня! Будь ласка, прости меня! Бесцельно обводя взглядом свою стремительно сужающуюся могилу, он наткнулся на кувалду. – А шо, ежели… Времени было мало. Помещение уже больше напоминало куб со стороной два метра, нежели когда-то роскошную, с высокими потолками, комнату дореволюционной планировки. Действовать требовалось быстро. Стена с пятном – несущая, через нее не пробьешься, то же самое с внешней стеной дома. Остается только одна – благо с ней Коля работать уже начал. – Не боись, Тамар Васильна, – подбодрил он сам себя, – ща выполним мы твой заказ! Взяв размах пошире, Коля не рассчитал и саданул в соседнюю стену – прямо в центр гнилостного пятна. Штукатурка осыпалась единым куском, разбилась. Вывалилось несколько кирпичей, повисли обои, и стена обнажила свое неприглядное нутро. Тут же каменный мешок, в котором парень оказался заперт, наполнился застоявшимся удушливым смрадом разложения. Сплюснутые, плоские, втиснутые друг в друга, из стены торчали трупы трех человек. Коренастые, чернявые, в трениках и шлепанцах, растекающиеся трупной эмфиземой и вгнивающие друг в друга. Запавшие глаза, вывалившиеся языки, плоские, неправильной формы черепа. Стиснутые в единый комок, они злорадно скалились, сломанные кости торчали острыми осколками наружу. – Не-не-не! Ну, нет! Ни за что! – завопил Коля и принялся изо всех данных ему матушкой-природой сил долбить злосчастную стену. Зубы-кирпичи, подступавшие со всех сторон, удостаивались отмеренных ловких ударов, но главным образом парень сосредоточился на трещине, что разделяла слова «Красный» и «скотовод». Рассыпались в труху дешевые оранжевые кирпичи. Лезла в лицо неизвестно откуда взявшаяся солома, своим пыльным запахом заглушая вонь разложения. Гремела кувалда, разбивая бред, льющийся из вмурованного в стену радио на ровные кирпичики слов: – …украденный труп вьетнамского… Удар! – …героя войны Нгуена Тхай Дао… Удар! – …скрывала у себя… Удар! – …его ленинградская любовница. Удар! – …Воистину – и жизнь… Удар! – …и смерть во… Удар! – …грехе. Пока могила… Удар! – …героя на родине… Удар! – …пустовала, развратная девица… Удар! – …«хоронила» Нгуена в себе… Удар! – …ежедневно, покуда тот… Удар! – …не разложился окончательно… Удар! Левая рука у Коли отнялась. Нос и рот были набиты строительной пылью, в глаза словно песка насыпали. Места для размаха больше не хватало. Из последних сил парень методично долбил упрямый темный кирпич, ухватившись за кувалду у самого наконечника. Согнутый в три погибели, стиснутый со всех сторон наступающими стенами, он настойчиво пробивал себе путь к свободе. – А вот вы слышали про невского сома-людоеда! Говорят, раньше он был человеком – в блокаду детей к себе заманивал, накормить обещал, а сам поедал их. Говорят, когда за ним чекисты пришли, он в Неву сбросился… Но не погиб, а переродился… Вот груда кирпичей наконец покинула насиженное место и медленно, нехотя, грохнулась на пол, отдавив Коле большой палец и, вероятнее всего, раздробив его, но парень уже не мог кричать: от окна осталась лишь узкая щель, ни кислорода, ни света не хватало. Там, за кирпичами, мелькнул слабый, еле заметный блик. Коля прильнул к нему всем лицом, надеясь увидеть по ту сторону проделанной щели кухню, но… Блик исчез. Парень прижимался лицом к чему-то гладкому и твердому. Какой-то неизвестный материал приятно холодил разгоряченное лицо. Сейчас он немного отдохнет и продолжит. Радио же не отдыхало, болтая без умолку: – …выходит, что согрешил один, а страдают многие? – Ибо сказал Господь: «Строящий дом свой на чужие деньги – то же, что собирающий камни для своей могилы». Такая гнусь, вор и взяточник, не просто себе яму роет, но и другим грешникам путь прокладывает! Коля почувствовал, как что-то влажное коснулось его спины и прилипло к ней. Каким-то шестым чувством он понял, что это лицо одного из покойников, но сил пошевелиться не нашел. Вдобавок потолок пребольно давил на макушку. – …Он ведь не просто своровал гранитные заготовки – такое богохульство, чтобы заячью свою душонку от смерти спасти, стены на случай бомбежек укрепить! А это ведь уже не просто материал – там портреты выгравированы, даты, имена… А могила-то остается пустой! Голодная. Жадная. Пожирать будет могила, покуда не наполнится… И тут Коля осознал, что это за материал такой – гладкий и прохладный. Поднять голову уже не удавалось, потолок мешал, но он скосил глаза, насколько хватило сил, и посмотрел на гранитную плиту. В тусклом свете, льющемся из щели, на него благостно взирал единственным глазом выгравированный старик. Там, где должна была находиться дата смерти и где следовало располагаться второму глазу, шел косой срез, а дальше оказался уже новый обрезок могильной плиты: портрет печально улыбающейся девочки лет десяти. Глаз у нее не было – прямо под ним шел тонкий цементный шов, а следом – чьи-то годы жизни на уже новой плите. Глаза, носы, рты, звезды, кресты, имена, даты – осколки чужих смертей, которые чья-то воля превратила в эту бессмысленную мозаику. А эту комнату – в пустую голодную могилу. Все они смотрели на него, на Колю, тот чувствовал это каждой клеточкой даже в темноте. Очень хотелось кричать, но воздуха в легкие набрать не получалось – очень уж мешали упершиеся в спину грудные клетки трупов, слипшихся в жуткий гибрид. Радио продолжало монотонно бубнить про голодные могилы и что те не должны оставаться пустыми. Вдруг что-то тонкое и холодное проползло мимо шеи, слегка пощекотав парня. Тот не без труда высвободил одну руку и поймал этот предмет. У него было не больше секунды, чтобы понять, что это оголенный провод, ухватиться за него, как утопающий за соломинку, зайтись в судорожном танце и расцвести улыбкой… Все лучше, чем умереть, сгорбившись в три погибели.* * *
– Так, а паспорта мне давайте. Я теперь ученая, в третий раз на эту удочку не попадусь. Хозяйка строго, с недоверием следила, как рослые темнокожие мужчины растаскивают сапогами весеннюю грязь по паркету, занося инструменты. Бригадир – солидный мужчина средних лет в комбинезоне – устало утирал пот со лба бумажным платочком. – Тамара Васильевна, я повторяю, мы серьезная фирма, зачем вы… – Ничего не знаю! Паспорта мне. Оплата только по факту! Маленькую яростную женщину рабочие предусмотрительно обходили, предоставив разборки начальству. Бригадир открыл рот, чтобы начать новый виток спора, но передумал, после чего гаркнул так, чтобы было слышно даже во дворе: – Ладно, мужики, несите документы, сдаваться будем! – Обведя взглядом комнату, он поспешил сменить тему. – Я так понимаю, сначала нужно мебель вынести? – Да, представляете, даже этого тот бездельник так и не сделал! Поняв, что вновь поднял скользкую тему, бригадир поспешил зацепиться за любую другую. Ноздрей его достиг еле заметный, но на редкость удушливый сладковатый запашок. – Извините, Тамара Васильевна, а чем тут, простите, пахнет? – Я бы попросила! – возмутилась хозяйка, надуваясь, точно ядовитая рыба-фугу. – Да, тут умерла моя бабушка, но я требую проявить чуть больше уважения. Все-таки это… – Здесь умерла, да? Тут вон пятнище в полстены! – Нет, вон там, на кровати. А это… Не имею ни малейшего понятия. Наверное, просто пятно. Неважно – все равно эту стену надо снести. Бригадир, повинуясь какому-то странному порыву, коснулся темного силуэта, похожего по форме на человеческую тень. На пальцах осталось что-то жирное, густое, вонючее, точно стена истекала гноем. Бригадира передернуло, он вытер ладонь об штаны и повернулся к хозяйке: – Не сомневайтесь, Тамара Васильевна, за неделю управимся! – Затем бригадир обратился к нагруженному, будто ослик, молодому молдаванину: – Мирче, спальные мешки сюда заноси, места всем хватит! Мирче – новичок в бригаде, недавно из Тирасполя – с явной неохотой, осторожно обойдя хозяйку, внес спальные мешки в комнату и свалил их у подоконника. Несмотря на гигантские размеры, та все равно ощущалась какой-то неуютной, даже тесной. На секунду Мирче даже показалось, что комната оценивающе, голодно смотрит на него, но виной такой странной фантазии были всего лишь дурацкие розовые обои в цветочек. Завитые листья отдаленно напоминали злобные зенки – особенно если смотреть на них краем глаза. «Пока эту дрянь не обдеру, спать не лягу!» – решил Мирче и поспешил в машину за остальными вещами. Наконец, когда все приготовления были закончены, паспорта сданы, а специфика работ оговорена, хозяйка с явным недоверием передала ключи бригадиру. – И запомните – в квартире не курить, иначе вычту из гонорара! – Помилуйте, Тамара Васильевна, среди нас и курильщиков-то нет! – умоляюще воздел очи бригадир. – Я предупредила. Хозяйка вынырнула в подъезд и с какой-то горькой досадой рванула на себя дверь. Та, отсекая квартиру от внешнего мира, гулко захлопнулась, почему-то напомнив Мирче крышку гроба.Намощ

«Жили-были старик со старухою, и было у них три сына. Два просужи, а третий – дурак. Рожей крив, умом худ, норовом скверен. Мать бранит его: – Почем лежишь лежнем, возьми борону, огород поборонуй! – Не, матушка, не хочу я! Братья лесовать собираются, зовут его с собою: – Пойдем, братец, с нами, зверя добудем али птицу! – Не умею я, братцы, – отвечает дурак. Отец зовет: – Подите, сыновья, рубите подчеку, будем сеять репу! – Не, батько, притомился я, – отвечает дурак».
Зайцев дрожащими руками закрыл распечатку, облизнул губы, оглянулся – не смотрит ли кто. В столовой все были заняты своими делами: студенты лезли без очереди; буфетчица, отчаявшись достучаться до них на великом и могучем, принялась лаять на киргизском; Валерия Ратиборовна, завкафедрой русского народного творчества, ходячий реликт, препарировала пластиковым ножом пирожок. Мучная плоть разошлась, наружу показались разваренные мясные внутренности. Завкафедрой поймала взгляд Зайцева, воззрилась недоуменно через толстые линзы очков. – Приятного аппетита, Валерия Ратиборовна! – расплылся тот в подобострастной улыбке. «Чтоб ты сдохла, мразь старая!» Нет, изучать такое на людях было бы в высшей степени безответственно – кто угодно мог попытаться увести ценный материал. Зайцев сгреб распечатки и пулей выскочил из здания университета. В кармане завибрировал смартфон, но Зайцев звонок проигнорировал. В подземном переходе он не удержался и, распахнув папку, побежал взглядом по строчкам.
«Вошли сыновья в возраст, родители им и наказали жениться. Старший брат обженился с купеческой дочкой. Средний – с поповишной дочкою. А дурак знай себе лежит на печи и ни к одной невесте свататься не хочет – та ему лицом не вышла, у той приданого мало, у третьей коса больно худа. Крепко призадумались тогда старик со старухой, три дня да три ночи думали, ничего не надумали. И вот остановились у них на постой калики перехожие – главы пеплом посыпаны, одежи раздрызганы. Пожаловались им старики на сына непутевого, а те и говорят: – Слыхали мы про царевну одну – кожа бела-прозрачна, что снег; из косточки в косточку мозжечок переливается, очи черны, что колодезь, уста слаще меду, перси аки мать-сыра-земля необъятные, косы по всей суше волочатся да в море-окияне полощутся. А приданого у ей – на сколь глаз хватает, да еще поглыбже. Красавица писана, к ней и царевичи, и поповичи сватаются. Обрадовались старик со старухой, стали испрашивать, где ту невесту сыскать. Отвечали калики перехожие: – Искать ее за рекой да за лесом, в тридевятом царстве, тридесятом государстве. Чтоб найтить ее, надобно три посоха железных сточить, три просвиры железные изгрызть да три пары сапог железных истопать. Пошли тогда старик со старухой спозаранку к кузнецу и велели сковать трое сапог железных, три посоха да три просвиры. Собрали дурака в путь-дорогу, благословили и строгий наказ дали: без царевны не возвращаться».
От чтения отвлекла чья-то рука, вцепившаяся в полу тонкого демисезонного пальто: – Милок, сжалься, подай на хлебушек… Прислонившись к заплеванной стене, на полу сидел нищий. Безногий и грязный, седой как лунь, он по-птичьи загребал изъязвленными пальчиками край зайцевского пальто и шумно втягивал воздух сизой опухолью, заменявшей ему нос. Все лицо покрывали спелые, налившиеся гнойнички. Зайцев зашипел, вырвался из слабой хватки, поспешил к выходу. – Невесту тебе славную желаю! – хрипел вслед калека, будто сквозь кровавую пену. – Чтоб в горе и в радости, в горечи и в сладости на веки вечные и еще подольше! – Нет уж, спасибо, была уже одна… – пробормотал Зайцев под нос.
* * *
Вбежав в квартиру, Зайцев судорожно сбросил ботинки и нырнул к себе в комнату. Лишь здесь, в окружении грамот за участие в олимпиадах по русскому и литературе, за столом, за которым писал еще школьные сочинения, он наконец-то смог успокоиться, выдохнуть и выпустить из рук заветную папку. Оттягивая момент триумфа, отправился на кухню за чаем. Мать уже вернулась с работы и теперь колдовала над кастрюлями: – Ванюша, ты уже дома? Ужинать будешь? – Ма, отстань! – бросил он, брезгливо уворачиваясь от объятий. Сердце кольнула совесть, но тут же отпустила. В конце концов, это она во всем виновата. Это из-за ее гиперопеки он вырос мямлей и тюфяком, из-за нее же не поехал в Москву и теперь прозябает аспирантом в заштатном вузе, из-за нее развелся с Ирой. Скрипнул зубами, выдавил: – Чайник горячий? – Сейчас поставлю… – Я сам! Пять неуютных минут на кухне сопровождались причитаниями: «Помру, Ванечка, кто ж о тебе позаботится? Так и останешься бобылем. Девочку бы тебе хорошую найти. Да не такую дрянь, как была эта твоя хабалка Ирка! У моей подруги с работы… Павел Семенович, кстати, звонил, спрашивал, чего в гости не заглядываешь, а мы с ним так и не рассчитались…» Наконец, заварив чаю, Зайцев оказался у рабочего стола, поставил на угол кружку, щелкнул настольной лампой, открыл папку и принялся читать с самого начала: «Устное народное творчество – русское ли или любой другой народности – изобилует мифами, основанными на описании обряда инициации. Будь то долганский, египетский или новогвинейский фольклор, одним из наиболее популярных сказочных мотивов является обряд посвящения неофита, а сам миф содержит в себе характерные элементы ритуала». От тяжеловесного слога мгновенно заныли виски. Слинкина – плоскомордая заочница из отдаленного ПГТ – хоть и заканчивала пятый курс филологического, так и не научилась строить предложения по-человечески. Неискушенной колхознице казалось, что натужный канцелярит придает тексту серьезности, и Зайцев уже не в первый раз проклинал день, когда его назначили научруком для Слинкиной. Но не сегодня. Теперь он готов был носить эти пятьдесят кило бледной провинциальности на руках, ведь именно благодаря Слинкиной перед ним на столе лежала его гарантированная кандидатская. Старая манда Ратиборовна больше не проскрипит свое: «В вашей работе нет новаторства, Зайцев». Вот тебе, старуха, полный рот новаторства! Завибрировавший было телефон Зайцев безжалостно отбросил за кровать. «…то, что в обычной форме обрело бы черты жестокого избиения, клеймения, возможно, инвалидизации и – как итог – изгнания провинившегося или непригодного члена общины, также имеет право на существование в форме устного сказа. В качестве примера такого ритуала деинициации возьмем русскую народную сказку „Намощ“». Даже читая эти строки в третий раз, Зайцев не мог избавиться от внутренней дрожи, что прокатилась костяной колесницей по позвоночнику. Когда-то, когда Зайцев еще не растерял надежд и амбиций, он успел выучить наизусть всего Афанасьева, включая том с «Заветными сказками»; раз шесть перечитать «Морфологию» Проппа, проштудировал весь долганский фольклор и недурно разбирался в чукотском эпосе. Ни в одном из доступных источников он не встречал подобной сказки. Мелкие и незаметные для дилетанта элементы – вроде намекающих на загробную тематику «полощущихся в море кос» и «сватающихся поповичей» – превращали обыкновенную побасенку в самое настоящее сокровище, непонятно где и как найденное бесталанной, по сути, Слинкиной. «Основным отличием „Намощи“ от всего существующего народного фольклора является первооснова – в художественную часть вплетен ритуал не инициации, но изгнания». Зайцев торжественно занес карандаш над пухлой тетрадью и принялся делать заметки. С названием он сдался достаточно быстро – странное «Намощ» напоминало не то «немощь», не то «Макошь», но из-за отсутствия мягкого знака не удавалось даже установить род существительного. Плюнув, он двинулся дальше.«Пошел дурак через лес темный да дремучий, кругом филины ухают да волки рыскают. Страшно дураку, холодно да голодно. Вдруг – глядь: стоит избушка на куриных ножках, на бараньих рожках, вкруг – тын, а на кажной тынинке по человечьей головинке. Зашел дурак в избушку, а там – Ега-костяная нога: на печи – голова, в углу – нога, спиною – пустая, волосами – простая, нос – в потолок врос, жопа – жилена, манда – мылена. Зашевелилась, заворочалась, скрипит аки телега несмазанная: – Фу-фу, прежде человечьего духа видом не видано, слыхом не слыхано, а тут человечий дух сам в рот катится, на ложку садится. Как выпотрошу, как выварю, в муке вываляю, накушаюсь вдоволь, да на косточках поваляюся. Устрахался дурак, давай умолять: – Бабушка-Ега, ты меня не потроши да не вари. Я трое сапог железных запас, три просвиры железные да три посоха. Иду я за царевною царства тридевятого, женихом ейным быть хочу. Тут же баба-Ега присмирела, подобрела и говорит: – Коли ты к сястрице моей старшой свататься идешь, так надо тебя приодеть, попарить да за стол усадить. Захлопотала Ега, в ладоши хлопнула – тотчас из всех углов сбежались павуки – кажный с кошку, глаза что плошки – и давай ткать паутину. Выткали дураку рубаху – что печь бела, ни велика ни мала. Хлопнула Ега в ладоши второй раз – повалил из печи пар да жар, не видно ни зги – ни избы, ни Еги. Вертится дурак, а его с кажной стороны венички крапивные охаживают. Охаживают да приговаривают: – Первый парок – то ветерок; второй парок – не укусит волчок; третий парок – проберет до кишок; а четвертый парок – уж ждет червячок! Хлещут его венички, да так задорно, что дурак лишь покрикивает, а со спины кожа ременями лезет. Дурак кричит, а венички не слушают, только знай себе спину дерут. Упокоились, когда сплошное мясо на костях осталось. Хлопнула Ега в ладоши в третий раз – кувшины да кастрюли сами с полок послетали, на стол поставились. Глядит дурак на блюда – а там руки-ноги да головы человечьи плавают. Испужался он, а Ега ложку сует:
– В царстве тридевятом, кто плоти человечьей не отведал, тех аки псов в конуры садят, кто крови человечьей не лакал – в телеги запрягают. Не видать тебе тогда царевны».
Зайцев прервался, записал мысль, чтобы не забыть: «Каннибализм – причина или стадия отречения от социума?»
«Поник дурак, да делать неча – отведал плоти человечьей. Снарядила его Ега в путь-дорогу: нарядила в сотканное павуками рубище, подпоясала ременем из дураковой кожи да платком рот подвязала и наказала строго: – В тридевятом царстве, тридесятом государстве рот не разевай, разговоров избегай, руками ничего не хватай, по дороге не глазей, а то выгонят взашей. Поклонился дурак Еге в ножки и двинулся дальше в путь-дорогу».
«На роль изгнанника выбран карикатурно изображенный бесполезный член общества – лентяй и неумеха, чтобы дать четкий…»
– Ваня, щи будешь? – раздалось из-за двери. – Мам, я занят! – огрызнулся Зайцев. Пришлось вновь собирать мысли в кучу.
«Яга – явный репрезентатив жреца, совершающего подготовку изгнанника к переходу в посмертие: переодевание в саван, ритуальное избиение, омовение, похоронные угощения. Рот подвязан, как у покойника». Строка «жопа – жилена, дырка – мылена» позабавила Зайцева, но он быстро распознал это двустишие как способ подчеркнуть женственность Яги. Тут же записал: «Жрец, производивший ритуал изгнания, должен быть женского пола». Долго не давал ему покоя «нос», который «в потолок врос». Записал «великанша», поставил знак вопроса, зачеркнул. Тут же хлопнул себя по лбу и неровным почерком вывел: «Яга занимает всю избу, так как обитает в могиле. Яга определяет появление героя сказки по запаху, так как сама мертва и видеть живых неспособна».
Анализ Зайцев делал на скорую руку – выписывал беспорядочные тезисы, тут же в них теряясь и записывая заново. Тыльную сторону ладони покрыл серый слой карандашного графита, глаза слезились, голова гудела, как трансформатор, но азарт гнал дальше по тексту. Украсть дипломную работу Слинкиной для своей диссертации он решил, едва увидев начало сказки. Ему, как научному руководителю, ничего не стоило зарубить заочницу, сказать, что «тема нерелевантна», или сослаться на «невнятные источники» и заставить ее писать набившее оскомину «Устное народное творчество как средство воспитания нравственной культуры». Все равно ей в ее ПГТ Ивашкино академические успехи не грозят. То ли дело Зайцев. С такой работой даже на умирающей вместе с Валерией Ратиборовной кафедре фольклористики можно и шуму навести, и грант выбить. Нужно лишь заявить о себе. Воодушевленный, Зайцев перевернул страницу и… громко выматерился. Тут же в дверном проеме появилась седая голова матери: – Ванюш, ты чего? – Ничего, отцепись! Дверь закрылась, а Зайцев зарылся пальцами в нечесаные вихры и сдавленно застонал. То-то папочка показалась тонковатой. Дипломная работа заканчивалась словами «в путь-дорогу», а дальше – пустота, ни источников, ни заключения, ни списка литературы – ничего. – Дура гребаная! – стукнул Зайцев кулаком по столу, да так, что кружка подскочила. Вот что мешало Слинкиной прислать ему работу на электронную почту? Хотя она, кажется, говорила, что в ее часть поселка Интернет еще не провели. – Колхоз гребаный! С трудом успокоившись, Зайцев достал телефон, нашел номер. На звонок ответило какое-то быдло: – Слинкину? В жопу сходи, пришибленный! Больше сюда не звони! С испугу Зайцев бросил трубку. Разговаривать с подобными индивидами он так и не научился. Вдобавок он не был уверен, что набрал правильный номер. Сидя в кресле, он тяжело дышал. Разгоряченный разум работал вхолостую, пропуская через себя и мысленно пережевывая каждое прочитанное слово ополовиненной сказки. Сейчас Зайцев хотел лишь одного – найти продолжение текста.
В таком болезненном возбуждении он провел остаток вечера. Щей есть не стал – на вкус они показались мыльными, будто в супе растворили брусок «Хозяйственного». Оказалось, мать перепутала соль с содой. В ванной холодная вода вдруг сменилась кипятком и ошпарила ему ногу – мама решила помыть кастрюлю, пока Зайцев был в душе. Скандалили до поздней ночи. Пожилая женщина утирала глаза кухонной тряпкой и все бормотала: – Ванюша, я же для тебя… Тобой только дышу… А он в ответ матерился, визжал и пинал стулья, сам не помня, с чего разгорелась ссора. Зайцева до того занесло, что он обещался «получить Нобелевку и съехать наконец с этой ссаной халупы!». Ночью долго не мог уснуть, ворочался под одеялом, стараясь сберечь от жесткого ворса ожог, а сосед за стенкой, похоже, сошел с ума и принялся блеять на разные лады: то «бе-е-е», то «ме-е-е». Зайцев лупил ногой по стене, скрежетал зубами, но идти разбираться не решился. Уснув наконец, он бродил во сне по бесконечному подземному переходу, а за ним на культяпках полз давешний калека и кашляюще клекотал, скаля гнилые пеньки: – Кожа бела, что снег, очи черны, что колодезь, перси аки мать-сыра-земля необъятные, вихры по всей суше волочатся да в море-окияне полощутся…
* * *
Раным-ранехонько Зайцев рванул на кафедру и принялся рыскать по папкам в поисках личного дела Слинкиной. Запутавшись в бесконечных офисных шкафах, он с неохотой обратился-таки за помощью в бухгалтерию. Три тетки, окопавшиеся за широкими мониторами, напоминали ему сестер-грай из мифа о Персее – такие же древние, неповоротливые и злобные, они общались друг с другом исключительно на паучьем, шипящем языке: «Платеш-ш-шка за семес-с-стр» или «оутсорс-с-синг», «инс-с-спекция». К паучихам принято было ходить исключительно с подношениями. Вот и Зайцев, стыдливо шлепнув коробку «Коркунова» на ворох квитанций, чеков и распечаток, проблеял: – Мне бы адрес одной заочницы найти. Дозвониться не могу, а нужно дипломную работу обсудить… – Закрываем излиш-ш-шки. Зайдите веч-ч-чером. Все пары Зайцев провел как в тумане. Он не помнил, что говорил студентам, что писал на доске. Будущие филологи, впрочем, как и всегда, залипали в смартфоны, рисовали узоры в конспектах и хрустели чипсами. Наконец, когда занятия закончились, Зайцев присел на корточки напротив бухгалтерии. От нетерпения само собой задергалось колено, забилась жилка на виске. Чтобы скоротать время, Зайцев открыл папку Слинкиной и принялся читать по новой, едва воспринимая написанное: «В данном случае волшебную сказку стоит рассматривать не как воспоминание и деконструкцию ритуалов, а как ритуал в себе. В качестве аналога можно вспомнить новогвинейские инсценировки из трудов Неверманна: когда жрецы разыгрывали перед неофитами представление, посвящая их в знания племени. В данном же случае ритуал совершается посредством…» – Вот он, ваш-ш-ш адрес-с-с! – раздалось над головой у Зайцева. На папку лег желтый стикер с адресом: «Ивашкино, ул. Кривоколенная. д. 39». Паучиха просочилась обратно в дверь, а Зайцев вскочил с места и поспешил к выходу.* * *
Темнело рано. Вдобавок небо заволокло набрякшими тучами, которые то и дело поплевывали на дрянное пальтишко Зайцева гадкой моросью. Ближайшая электричка в сторону Ивашкино отъезжала аж через полчаса. Голодный (в горячке забыл пообедать), он прельстился лоснящимся от жира беляшом на вокзале, но, едва надкусив, выбросил в урну: серая кашица хрустела на зубах, точно кусок мяса пропустили через мясорубку вместе с костями. – Совсем охерели! На ровном месте кинуть норовят! – выругался Зайцев, хотел пойти скандалить, но длинный нож в руках волосатого до синевы кавказца, которым тот срезал мясо для шаурмы, заставил передумать. Мясо на вертеле, местами обугленное, медленно вращалось и формой напоминало человека. Точнее, ребенка. Сочащееся жиром, оно продолжало поворачиваться, и если бы это был человечек, то прямо сейчас, буквально через секунду, он должен был повернуться к Зайцеву лицом… – …поезд… Фш-ш-фш – …атово отправляется с фш-фш платформы! Кое-как Зайцев различил в какофонии, лившейся из динамиков, свое направление. Бросился через мост на платформу. Какой-то старик с забинтованным лбом подстерег его у самой лестницы и ткнул костлявым пальцем под ребра: – Ишь, какой тошший… – Пошел ты! Невольно вспомнилась сказка, где ведьма такими вот тычками проверяла похищенных детей – достаточно ли те откормлены для убоя. От места, где его коснулся стариковский палец, разливалось по телу судорожное омерзение. Зайцева передернуло. По пути он споткнулся, изгваздал в луже брюки и кое-как запрыгнул в закрывающиеся двери электрички. Перешагнул через клетчатые баулы дачников и сел у окна. За мутным стеклом качнулись и поплыли переплетающиеся рельсы. Вскоре их сменили безрадостные пейзажи распаханных пустырей и лысеющего подлеска. Кто-то снова пытался до него дозвониться. Зайцев нажал на красный кружок сброса. По проходу прошествовал торгаш: – Венички дубовые, березовые, крапивные. Два берешь – третий в подарок. Третий парок – проберет до кишок! Протискиваясь мимо Зайцева, случайно хлестнул его по лицу своей ношей. – Аккуратней, падла! – Чего-о-о? – протянул торговец, уставился на Зайцева. Тот промолчал. На сиденье по соседству подросток доводил, по-видимому, младшую сестру: – Хочешь сказку? – Да! – Как дед насрал в коляску! – Ну Дима! – Так ты хочешь сказку? Как дед насрал в коляску! Долго ли, коротко ли, динамик над головой прошуршал: – Ивашкино. Следующая станция… Зайцев выпрыгнул из электрички на раздолбанную платформу, огляделся. Дождь усилился, бил тяжелыми косыми струями. На выходе со станции кренился проржавевший указатель – налево к улице Складской, направо через лесопарк – просто Пучай. В голове зародилась грустная шутка-самосмейка: «Направо пойдешь – жену потеряешь, налево пойдешь – в аспирантах застрянешь, прямо…» Что будет по прямой, Зайцев так и не придумал – его внимание отвлек размокший под дождем листок у перил платформы. Мелкий шрифт и бледно пропечатанные буквы показались знакомыми. Будто загипнотизированный, он подобрал размякшую бумагу и принялся читать:«Кивнул дурак и двинулся дальше в путь-дорогу…»
– Дурища криворукая! – радостно и возмущенно выдохнул Зайцев.Это ж надо было по пути растерять собственную дипломную работу, да еще и с уникальным фольклорным элементом! «Этого, впрочем, – ехидно подумал он, – Слинкина, похоже, не знала. Дура набитая!» Он жадно впился глазами в текст и принялся читать:
«Видит, река-широка, ни вброд перейти, ни по воде проплыть, а через реку – мост Калиновый перекинут. Идет дурак по мосту…»
Тут же в шуме дождя Зайцев различил мерное журчание воды. Навигатор в телефоне четко указывал, что путь к улице Кривоколенной ведет именно туда.
«Идет дурак по мосту, глядь – плывут по воде покойнички. Сами бледные да прозрачные – дно чрез них видать. Мимо проплывают, рот что рыбы разевают: – Куда идешь, дурачок? Не ходи к царевне, у ней зубов сорок сороков, она тебя сгрызет, кости в прах разотрет! А дурак идет, не слушает…»
Моста через речку не нашлось. Впрочем, и речкой это вонючее проточное болото Зайцев бы назвать не решился. Вместо моста кто-то перекинул через канаву несколько узких бревен. Скользкие от дождя, они то и дело норовили сбросить Зайцева в пенистый коричневый поток. Где-то на середине «мостика» завибрировал телефон. Неловко подцепив его в кармане, Зайцев резко выдернул руку, и гаджет, выполнив замысловатый кульбит, плюхнулся в ивашкинскую говнотечку. Ботинок соскользнул с края бревна, и Зайцев стремительно ухнул по щиколотку. Выматерившись, он принялся шарить ногой в потоке, но натыкался лишь на какие-то ветки и палки или пальцы плывущих по воде покойничков. Невыносимо заломило в висках. Зайцев брезгливо выдернул ногу из воды и, хлюпая ботинком, перешел на другой берег. Тоскливо посмотрел на бурую пену – под ней упокоились и все фото, и заметки по кандидатской, и телефонная книжка. Да и Павлу Семеновичу он так и не позвонил. – Похер! – злобно сплюнул Зайцев. – Будет грант – будет тебе и новый телефон! Дальше путь лежал по раскисшей тропинке через редколесье. Стоило тексту на листке закончиться, как под ногами у Зайцева тут же обнаружилась следующая страница. Было в этом что-то жуткое, сказочное, точно он, как Гензель и Гретель, шел по хлебным крошкам к пряничному домику. Нервировало лишь то, что эти «крошки» разбросал не Зайцев, а кто-то другой. Черные от влаги деревья казались разбухшими, напившимися крови и едва пропускали свет. Облака-тучи черные, сбившись в стадо, грохотали над головой пуще прежнего. Сверкнула молния. На секунду Зайцеву показалось, что где-то между деревьев, пошатываясь, бродит безголовая тень. Коготки страха вцепились под лопатку, защекотали. Прогоняя жуткое видение, Зайцев принялся на ходу читать очередной отрывок:
«А дурак идет, не слушает. Видит, лежит на берегу голова – глазища навыкате, язык вынутый, из шеи кровя текет в землю-матушку. Завидела голова дурака, взмолилась: – Подсоби мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил, да по нраву ей пришелся. Она тулово-то мое за лыком-корой снарядила, а голова здесь осталась. Погляди-ка в лесу дремучем – не бродит ли где тулово мое осиротевшее».
И действительно, где-то поблизости раздался жалобный лепет, будто кто-то оставил в лесу младенца. Поодаль Зайцев заметил пенек, на котором лежало что-то вроде мусорного пакета. Из надорванного бока на труху струилось красное, похожее на томатный сок. Казалось, до ушей донеслось: – Подсоби мне, добрый молодец! – На хрен! – прорычал Зайцев сквозь зубы, затыкая уши. – Все на хрен! Лесополоса и не думала заканчиваться. Казалось, она раскинулась на многие километры вокруг, конца-края не видать. Ветер метался, что шальной, меж редких деревьев, то и дело заставляя Зайцева оборачиваться – ему слышалось, как лес шепчет его имя. Тягостная неправильность всего и вся вокруг заставляла тревожно кусать губы, оглядываться на любой шорох, искать в каждом сучке лицо, а в каждой тени – чудо-юдо неведомое. Он уже малодушно подумывал, не повернуть ли к платформе, но сказка, обещавшая кандидатскую, почет и уважение коллег, гнала в путь-дорогу.
«Идет он дальше, видит – дуб растет, высокий, ветвями небо подпирает. А на ветвях – уши человечии развешаны. Куда дурак пойдет, туда они и поворотятся. Слышит, шумят ветви: – Куда идешь ты, дурак? Не ходи к царевне, она – дочь царя потуземного, во грехе с матушкой-смертушкой зачатая, кровию вскормленная, слезами омытая. Страшно сделалось дураку».
Подняв глаза, Зайцев хмыкнул – и в самом деле, на деревьях вокруг свисали какие-то грибообразные наросты, закручивающиеся спиралью, которые издалека можно было принять за уши. Кто знает, какие ужасы мерещились необразованному крестьянину в самых обыкновенных вещах? Левая нога замерзла и почти потеряла чувствительность, а нахлебавшийся воды ботинок ощущался тяжелым, будто железным. Вскоре Зайцев встретил и следующего персонажа сказки:
«Вдруг, глядь – не то дерево растет, не то человек мыкается. Ногами в землю сырую упирается, руки ветками разрастаются, а кору жуки да мураши подъедают. Увидал он дурака, взмолился: – Подсоби мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил, да ей приглянулся. Она меня отрядила лес ее стеречь, а тут на меня жучки да мураши и напали. Не брось в беде, отгони жучков-мурашей. Дурак поглядел да прошел мимо – не зря же ему Ега рот подвязала да разговоров избегать наказала».
Этот старый вяз и правда когда-то мог походить на человека, но, видимо, стал жертвой не то засухи, не то жучков-древоточцев. Теперь же коряга казалась тенью самой себя, воющим призраком, что широко распахивал дупло-пасть, набитую пластиковым мусором и бутылками. Ветви-руки вздымались к небу синему в мольбе, а «тулово» превратилось в прогнившую труху. Зайцев из любопытства пнул корягу, и дерево со стоном выплюнуло ему на ногу с десяток белесых личинок. – Гадость! Вглядевшись в мерзкий комок, Зайцев различил нечто белое, знакомо усеянное вордовским «Таймс нью роман». Предыдущий отрывок сказки уже закончился. Брезгливо сморщившись, он отряхнул листок от личинок и почти не удивился, когда увидел продолжение «Намощи».
«Пришел дурак во чисто поле широкое, а на поле том ветер свищет: – Куда идешь ты, дурак? Не ходи к царевне, у ней коса корни земли обвивает, очи насквозь глядят, а в месте заветном горячей, чем в пекле. Совсем испугался дурак, да уж не поворотишься». Выйдя на поросший ковылем пустырь, Зайцев увидел тощую фигурку, которая то и дело нагибалась за чем-то. Нагнется молодец за ягодкой – да в лукошко. А у того дна нет – все на землицу и валится. Заметив Зайцева, человек выпрямился, помахал рукой, выпалил на одном дыхании: – Помоги мне, добрый молодец! Я к царевне свататься ходил, да ей приглянулся. Говорит, принеси ты мне полно лукошко ягод, наливных да спелых, крупных да белых. Сказала, покуда не принесу, не возвращаться. Помоги мне ягод набрать, вдвоем-то быстрее сладим.
Зайцев застыл на месте, не смея двинуться. Тощий, как жердь, и заросший по самые брови незнакомец явно был сумасшедшим. Об этом красноречиво свидетельствовала лишенная дна корзина, куда безумец исправно складывал какие-то гладкие белесые шарики, которые из корзины тут же валились на землю. Нагнувшись за очередным, он кокетливо продемонстрировал его Зайцеву, и тот задохнулся от ужаса – безумец собирал глазные яблоки. – Подсоби, братец. Как полное лукошко наберем, так и свободны будем. Мужик, тебе чего? У тебя, я гляжу, уже две ягодки есть! Смысл сказанного дошел до Зайцева, лишь когда грязная ладонь с заскорузлыми ногтями потянулась к его лицу. В руке незнакомца блеснула короткая финка. По-бабьи взвизгнув, Зайцев рванул с места, не обращая внимания на хлюпающий и норовящий соскочить ботинок. В боку кололо, в глазах плясали красные круги, в виски будто вкручивали раскаленные добела шурупы. Вслед доносилось недоуменное: – Совсем, добрый молодец, что ли?! Зайцев, хрипя, продирался через кустарник. Ветки хлестали по лицу, ноги вязли в земляной каше, а сам Зайцев напряженно вслушивался – не бежит ли безумец следом. Размякший под дождем склон выкинул его на исполосованную тракторными шинами проселочную дорогу. Видит – возник перед ним дворец. Указатель на покосившемся заборе гласил: «Кривоколенная, д. 39.» Под сердцем вновь затлел потухший было под дождем огонек азарта: «Добрался!» Вид домишко имел удручающий: маковки в камнях самоцветных, тын над горами вздымается, прохудившаяся крыша, почерневшая от гнили, готова в любой момент провалиться, врата сами собой открываются – болтающуюся на одной петле калитку мотал порывистый ветер. А из врат бросились на дурака три пса с двумя головами – один другого больше: у одного глазища – что плошки, у второго – что блюда, а у третьего – что озера огненные. Псы огнем-пламенем дышат, клыки точат, рычат. Подбежали к дураку, окружили. Двое псов – тощих, с плешивыми боками и свисающей шкурой – скалили желтые клыки, не решаясь приблизиться. А вот лежавшая в луже сука с раздувшейся утробой вскочила, рванула к Зайцеву в абсолютном молчании – с явным намерением перегрызть чужаку глотку. Слева от неестественно наклоненной головы болталась вторая – кривая и рудиментарная с заросшими глазами и смешно торчащим ухом.
«Думает дурак, что смерть-кончина его пришла, а псы – как кутята дворовые – на спину легли и пузо подставляют, скулят: – Не губи нас, добрый молодец, пощади! Ежели ты себя не пожалел – на ремни спину порезал, то нас и подавно не пожалеешь. И пропустили дурака».
Зайцев сам не понял, в какой момент его ремень оказался до предела затянут на шее двухголовой псины. Стиснутые в напряжении зубы ныли, с разодранного рукава стекала кровь – сука билась за свою собачью жизнь до последнего. От нахлынувшего вмиг приступа исступленной, патологической кровожадности не осталось и следа. Ясно было одно – теперь можно отпустить. Задушенная тварь шлепнулась в жидкую грязь, вывалившийся язык утонул в луже. Тощая свита суки будто испарилась. Путь был свободен. Он дочитал до последней буквы и аккуратно сложил размокший листок в папку. Последняя страница должна быть внутри. Миновав калитку, Зайцев зашагал через заросший сорняком садик к покрытой вагонкой дверце, потянул ручку. Пыльные сени пахли прелыми яблоками и сыростью. Входит он в палаты белокаменные, перед ним стол весь в яствах заморских на блюдах золотых, как для пира богатого, кругом каменья да злато-серебро, стены заросли мхом, в одном из углов укоренилась колония крупных, как на подбор, поганок. С крыши капнуло за шиворот. Смердело гнилью и сыростью, к горлу Зайцева подкатил ком кислятины. Над столом, несмотря на промозглый холод, вился рой мясных мух. А на троне золотом сидит царевна – ни в сказке сказать, ни пером описать: кожей бела, очами черна, уста медовые, косы как канаты вьются – конца-края не видать. В глазах Зайцева действительность дрожала и двоилась, троилась – он видел то красавицу-царевну; то какое-то землистого цвета голое обрюзгшее создание, которое не получалось увидеть целиком – оно не умещалось ни в поле зрения, ни в сознании; бесцветное, абсолютное и дебелое ничто. Губища червонные, перси наливные, ланиты румяные. Говорит, как ручеек журчит: – Вот и пришел ты, мой суженый-ряженый. Долго же я тебя ждала-тосковала, женихов к себе не подпускала, не ела-не пила, все по тебе кручинилась. Создание выбросило вперед длиннопалую узловатую конечность, ткнуло скрюченным пальцем в нетронутую снедь – окорока свиные, сгнившие до кости; икра осетровая, из которой уже вылуплялись в беспорядочном копошении мушиные личинки; хлеба румяные, покрытые пушистым слоем плесени. Смотреть на это получалось с трудом – взгляд то и дело натыкался то на гниющие стены избы, то на трухлявые половицы. Мозг, повинуясь древнему инстинкту, отказывался воспринимать увиденное в бесплодной попытке сберечь остатки зайцевского рассудка. За бревенчатыми стенами разыгрывалась настоящая буря: ливень колотил по крыше, завывал горестно ветер, сверкала молния. Заячье сердце Зайцева забилось в судорожной агонии, виски пульсировали, в голове будто колотили в колокол. Ноги обмякли, Зайцев рухнул на колени. Из горла вырвалось сиплое: – Не вели, царевна, казнить, вели слово молвить! Не гневись, не могу я на тебе жениться! – Слова помимо его воли, сами собой звучали в пустой избе, произносимые непонятно для кого. То, что необъятной тушей ворочалось во тьме и жадно разевало медовые уста, точно не было никем, а скорее, даже служило антиподом для понятия «кто». – Я трое сапог железных истоптал, три посоха железных сточил, три просвиры железные сгрыз, чтоб тебя сосватать, да вижу – больно хороша ты для меня, не достоин я красы такой. – Как же так? – спросила царевна. Квакающий голос высверливал в центре черепа дыру, заполняя ее густой тягучей пустотой. – Нас потуземный царь-батюшка благословил, землицей черной клятву скрепил, что быть нам вместе в горе и в радости, в горечи и в сладости, на веки вечные и еще подольше. Ну-ка, суженые мои да ряженые мои, явитесь передо мною, как лист перед травою, да расскажите – нешто и правда меня жених недостоин? Явились тут же суженые. Вырос из земли погрызенный жуками да мурашами молодец – занесенное бурей, ввалилось в окно трухлявое бревно, рассыпав остатки стекла и личинок. Прикатилася голова без тулова, оставляя темный кровавый след. Пришел и молодец с пустой корзинкой – пальцы беспокойно терзали воздух, будто выкручивая лампочку из узкого патрона. Заговорили: – Он мне ягоды собрать не помог. – А мне не помог тулово найти. – А от меня – жучков-мурашей не отогнал. И завопили в один голос: – Достоин, достоин! Будет он тебе суженым, а нам – братцем названым! – Нет! Зайцев отшатнулся от жуткого создания на троне золотом и от его свиты, дернулся к двери, а палаты белокаменные все тянутся да петляют, и ни оконца, ни дверцы не видать. Перед глазами заплясали багровые круги, в затылке угнездился болезненный жгучий ком; мозг закипал в попытках осознавать одновременно сразу две реальности. Одну – в которой к нему с улыбкой, как пава, плыла по мраморным полам белокожая красавица в расшитом самоцветами кокошнике, и ту, в которой, волоча по полу черные космы, к нему приближалось это. Под кожей существа с мерзким хлюпаньем из косточки в косточку мозжечок переливался. Сморщенные обвисшие перси волочились по полу, необъятные аки мать-сыра-земля. Скрежетали оглушительно кривые железные зубы – какие-то бесконечные количества, как целое кладбище из могильных плит. «Нет, не бесконечные, – возразил внутренний голос, после чего тоже исказился, стал напевным, сказочным. – Ровно сорок сороков!» Холодные пальцы обвили лицо, дохнуло разрытой могилой, вперились в самую душу бесчисленные черные, что колодезь, очи. В глотке Зайцева запузырилась подступающая рвота. – Нет! – выдохнул он и надрывно завыл. – На помощь кто-нибудь! Помогите! Завопил дурак, давай вырываться, а тут откуда ни возьмись поспешили со всех углов к столу гости – рогатые, хвостатые, с копытами да пятачками, блеют и мекают, невесту с женихом привечают. Был среди них и странный калека из перехода с лицом, похожим на пузырчатый целлофан: коснешься – и начнут один за одним лопаться набухшие гнойники. Рядом стоял огромный и волосатый, как черт, кавказец из ларька на вокзале. На плече он небрежно держал вертел с насаженным на него, еще сырым и блестящим от маринада, детским трупиком. Старик с забинтованной головой тыкал в трупик пальцем и недовольно охал: «Тошший!» То, что Зайцев принимал за бинт, оказалось похоронным венчиком с полоской церковной кириллицы. Три паучихи из бухгалтерии окончательно сбросили маскировку и в двадцать четыре лапы дербанили коробку «Коркунова», поблескивая фасеточными очками. Брат с сестрой из электрички теперь срослись в порочное двуединое нечто и в сладострастных судорогах шептали: «Жила баба с дураком, ни разу не кончала. Наша сказка хороша, начинай сначала!» Подхватили на руки дурака и в опочивальню понесли да приговаривали: – А как дурак с царевною обручилися, царю-батюшке потуземному поклонилися, будет у них терем-теремок, не низок, не высок, без окон, без дверей, под глыбокою землей, атласом оторочен, гвоздями заколочен. А как дурак с царевною обручилися, шоб у них детишки народилися, холодные да белые, как яблочки прелые. А как дурак с царевною обручилися, будет у них хер да нихера, и холодная кутья! Визжит дурак, сам шевельнуться не может, а невеста уста медовые разомкнула, и голос Валерии Ратиборовны раздался из раззявленной пасти, усеянной крупными желтыми зубами по самую глотку: – Вы снова упускаете суть, Зайцев. Эта попытка морфологического анализа – еще одно доказательство вашей некомпетентности. Смысл не в отдельных деталях и символах, содержащихся в мифе. В данном случае миф работает как цельный продукт, полностью заменяя собой ритуал. По отдельности его элементы не играют никакой роли, в то время как в совокупности работают как своего рода первобытное нейролингвистическое программирование, команда. Если желаете – заклинание или проклятие.
Произнося слово «проклятие», на букве «я» узкие сморщенные губы Валерии Ратиборовны разошлись в стороны, а челюсть вышла из пазов, чтобы Зайцев поместился в пасти целиком. Из тьмы бесконечно разрастающейся пасти, внутрь которой проваливался Зайцев, явилось лицо Иры Слинкиной – молоденькой студентки пятого курса с широкой рязанской харей и скромной улыбкой не разбитых еще губ, покорившей тогда Зайцева. Наивная провинциалка, она робела и смущалась перед молодым аспирантом, зачитывая ему свой диплом: – «Этот ритуал несет в себе две составляющие… Первая – обращение ритуала инициации вспять, как бы заставляющее посредством временной смерти члена племени перейти из статуса взрослого мужчины обратно в статус ребенка, а вторая…» Извините, Иван Валентинович, а можно своими словами? Вот. А вторая – она из доземлевладельческих анимистских культов, когда этим, ну… Вот! «Хтоническим божествам приносили требу – в форме рабов, детей или неугодных членов племени. Так изгнанник превращался в этакого жертвенного агнца и его судьба передавалась в руки дикой природы, символизирующей триединое женское божество, что вечно – дева, мать и старуха». Видите? Заучила! На букве «а» бывшая жена открыла рот гораздо шире обычного и приняла его в себя, как иногда с легким смущением принимала раньше, а после бежала мимо маминой комнаты к раковине, чтобы сплюнуть, – брезговала. Маму это страшно бесило, и Зайцев, кончив, еще долго слушал их перепалки в коридоре. Все это было до того, как Ира ушла к какому-то быдлану, доведенная зайцевскими вспышками ярости и бесконечными претензиями свекрови. Следом явилась и сама свекровь, мать Зайцева. – Мама… – прошептал он. По губам текли сопли и слезы. Кривящимся ртом Зайцев завывал: – Пожалуйста! Не надо! Помогите кто-нибудь! На помощь! На помощь! Мама, не размыкая губ, мурлыкала какую-то колыбельную без слов. Ту, что поют не в пору народившемуся или калечному отпрыску, прежде чем оставить в чаще леса под деревом. Так, мурлыкая, и проглотила царица дурака целиком. Колокол в голове Зайцева замолчал на краткий миг, а следом – лопнула веревка, и медная махина полетела вниз, круша балки и перекрытия колокольни, которой и был сам Зайцев. Из последних сил он выдавил: – На помощь! И провалился во тьму. Именно там в безбрежной пустоте собственного искалеченного сознания он не прочел, но узнал содержимое последней страницы:
«Тут же сделалась царевна беременною. Пузо гладит, да приговаривает: – Будешь моим младшеньким да разлюбименьким, буду тебя баловать да тешить. Куплю тебе леденец да свистульку и положу в люльку. Буду люльку качать, новых суженых привечать. Родила царевна дурака Зайцева маленького, кривенького да глупого. Пережеванного. Глазками – луп-луп, ножками – топ-топ, губенками – хлоп-хлоп, да слова казать не может, только знай себе твердит: – На омощ, на мощ! Намощ! Так и остался дурак жить-поживать в тридевятом доме, тридесятом государстве при царевне вечным дитем, токмо плачет горько и все „Намощ“ твердит».
* * *
– Анна Евгеньевна, ну я же вас предупреждал! – Врач-психиатр, дородный Павел Семенович, грохотал пустой бочкой, заполняя своим голосом всю маленькую кухню. – Он в диспансере когда последний раз отмечался, помните, нет? Я вчера дату глянул – ахнул. А на таблетках вы опять экономите? Мать Зайцева, будто сгорбившаяся под тяжестью чувства вины, лишь кивала и пихала ложечку с остывшей кашей в навсегда искривившийся рот сына. Сам Зайцев, совершенно седой, сидел скрюченный в кресле и, по-заячьи прижав руки к груди в паралитической судороге, пялился остекленевшим взглядом в потолок. Непослушные губы шлепали: – Намощ… Намощ… – Что это он? – спросил психиатр, кивнув на Зайцева. – Ой, не знаю, – со слезой ответила Анна Евгеньевна, – привезли его уже таким. Он местного грибника напугал, благодаря ему и нашли. Три дня искали, а он там лежал, в доме вертихвостки этой Ирки. Обгаженный, замерзший, и… Такой вот. Врачи сказали, навсегда теперь дурачком сделался. У, хабалка поганая! Мало ей было мальчика моего окрутить, так она еще и с ума его свела, лярва такая… – Не стоит. Бедная девушка здесь вообще ни при чем. Очередной приступ могло спровоцировать что угодно. Я вам говорил, что отклонения у Ивана могут приобрести совершенно непредсказуемый характер. Предупреждал, что подобные эпизоды могут запросто закончиться инсультом. Я второй раз по вашей просьбе снижаю дозировку – и вот к чему это приводит. Сначала жену едва стулом не забил, теперь сам… Понимаете, у психотика мозг в момент кризиса кипит как котел – никакие сосуды не выдержат! Ладно Иван, но вы-то взрослый, адекватный человек, могли как-то повлиять… – Да не слушается он меня! – сорвалась на рыдания Анна Евгеньевна. – Я ему – Ваня-Ваня, а ему что в лоб, что по лбу… – Ну-ну, чего теперь-то себя грызть? – Павел Семенович неловко похлопал женщину по плечу, та вздрогнула. – А почему эта ваша… как ее, Слинкина? Почему она скорую не вызвала? – Да она давно уже в город перебралась, дом забросила. Не знаю, чего Ванюша туда поехал. – Ладно. Давайте конструктивно. – Павел Семенович извлек из портфеля какие-то буклеты. – У меня есть хорошие медикаменты, качественная программа реабилитации, палата опять же индивидуальная. Чудес не обещаю, но подлечим за скромные… Психиатр назвал сумму. Анна Евгеньевна ахнула: – Да откуда у нас такие деньги?! – Не знаю. Украдите. Заработайте. Возьмите кредит, – холодно пожал плечами психиатр. – Ну или давайте я сейчас бригаду кликну – поступит в общее отделение. А что, там ничем не хуже, вы видели. Разве что мочой попахивает, ну и препараты попроще. Вы же там бывали? Анна Евгеньевна всхлипнула. Павел Семенович смягчился: – Ладно. Не убивайтесь. Есть вариант один… – Психиатр перешел на интимный полушепот. – Вам все равно на двоих этой квартиры многовато, да еще и теперь, когда Иван… В общем, я предлагаю следующее – вы на меня его долю переписываете, и я вашего сына размещаю в лучшей палате со всеми удобствами и заказываю препараты из Израиля, по внутреннему ценнику. А? Вы с решением не спешите, обдумайте все. Я позвоню на неделе. Павел Семенович похлопал Анну Евгеньевну по дрожащему плечу, встал из-за стола и начал собираться. Но хозяйка всполошилась: – Доктор, подождите! Там с ним бумаги нашли! – Какие бумаги? Вы извините, у меня скоро встреча… – Ну взгляните быстренько! Ванечка ими прямо бредил! Говорил, уникальный материал, премия едва ли не Нобелевская… – Нобелевская? – усмехнулся психиатр, но в голосе сквозил интерес. – Да, говорил, если опубликовать – будут и гранты и премии… Я сейчас принесу! – Ну несите-несите, поглядим… Стоило пожилой женщине вернуться на кухню с набухшей от влаги папкой, как Зайцев вжался в кресло и, продолжая пялиться в потолок, заверещал с надрывом: – Намощ! Намощ! Под несчастным растеклась лужа. – Ох, не опять, так снова! – с досадой всплеснула руками Анна Евгеньевна и пошла за тряпкой. Павел Семенович скорее схватил папку и отвернулся от больного к окну, чтобы не спровоцировать еще один приступ. Открыл. Заголовок гласил: «Пооытя». Искалеченное болезненным сознанием пациента слово сразу бросилось в глаза. Что это значит? «По наитию?» «Простите?» «Помогите?» Машинально психиатр принялся читать:«В стародавние времена в некоем царстве-государстве повадилось страшное чудище людей жрать. Ростом выше сосен, глазища что колодцы пекельные, пламенем адским горят, в пасти клычища да зубища железные один другого больше. Идет – земля трясется, летит – гром гремит…»
Вдруг дом будто тряхануло. Боковое зрение Павла Семеновича отметило в вечерней мгле, отделенной от кухни тонким тюлем, шевеление чего-то громадного, неповоротливого. Вспыхнули, ослепляя, два циклопических глаза, сверкнула молния. Лампочка в кухне погасла, и остался лишь болезненно-белый свет из глаз страшилища. Психиатр почувствовал себя точно на хирургическом столе под бестеневой лампой. Внутренности сжались в ожидании хищного прикосновения скальпеля. Воспаленное воображение различило что-то похожее на клыки… – Твою мать, Вадим! Куда ты дергаешься? – Да просто ручник не сработал… – Херник у тебя не сработал! Из-за тебя весь дом обесточили! Ругань рабочих с улицы отрезвила Павла Семеновича, вырвала из внезапно накатившего кошмара. Головой монстра со светящимися глазами оказалась обыкновенная люлька для высотных работ, растущая из горбатого ЗИЛа; горящими очами – прожекторы по ее краю, а за клыки он принял всего лишь прутья самой люльки. Никакой грозы, конечно же, тоже не было – искрил провод на столбе, поврежденный нерадивыми электриками. Совершенно машинально психиатр вновь опустил взгляд на текст, и света от «глаз чудовища» вполне хватило, чтобы Павел Семенович прочел следующую строчку и испытал странное щемящее чувство, будто твердая и хорошо знакомая ему реальность ползет по швам, аки рубаха нештопаная:
«И жил в том городе один жадный лекарь, что решил обобрать бедную вдову…»
Папа

Надька и Гендос расписались еще на киче, чтобы разрешили долгосрочные свиданки. Приезжала Надька всегда одна, без пацана, но оно и понятно: чего дите на зону тащить? Да и не рассказывала она про него особо, на вопросы отвечала уклончиво, мол, ребенок как ребенок, а Гендос лишний раз интереса не демонстрировал – с его статьей только чужими дитями интересоваться. Муж, по доброй русской традиции, объелся груш, а большего Гендосу знать и не надо. Загремел Гендос по-глупому. В родном Волжском он лущил лохов, как семечки, и никто ему был не указ. Тут – мобила, там – лопатник, казалось бы – живи в кайф, бухай с корешами да води мамзелей по кабакам. На мамзели он и прокололся. Встретил одну – ноги от ушей, глазища – во, рот рабочий. Был с ней какой-то шпендрик с куриной шеей, так Гендос ему быстро все объяснил – на пальцах, ну и на кулаках немного. Мамзель поначалу морозилась и ломалась, но Гендос и не такие бастионы брал. Только, значит, он ее оприходовал, как вдруг – звонок в дверь. А на пороге – тот самый шпендрик с участковым. Стоит, ватку к носу прижимает и лыбится злорадно. Гендос, конечно, за права свои в курсе, говорит, мол, гражданин начальник, все по добровольному. А шпендрик этот с гаденькой улыбочкой, Гендосом подправленной, идет к ее сумочке и паспорт достает. Смотрит Гендос и холодеет – видит не год рождения, а статью: сто тридцать четвертая, часть первая, до четырех лет общего режима. Впаяли Гендосу и за нанесение средних телесных, и за совращение круглую и бесконечную восьмеру. Сокамерники нормально отнеслись – поняли, что перед ними не поганый детолюб, а ровный пацан. Даже мобилу одалживали – на сайты знакомств ходить. Там Гендос Надьку и подцепил. Надька была эталонной «разведенкой с прицепом». На лицо ничего такая, смазливая, не потаскана, а в постели – ну чисто ураган «Катрина», да и грудь – есть за что ухватиться. За фигурой следила, бельишко всякое интересное покупала. От одних ее сообщений у Гендоса в штанах дымилось так, что предложение он сделал не думая, лишь бы поскорее на свиданку пустили. А там уж, изведав Надькины полости и прелести, Гендос всерьез решил переехать в однушку к новоиспеченной жене – в маленький шахтерский ПГТ под Ростовом, Нижнешахтинск. Тем более что дома, кроме проржавевшей за шесть лет «девятки», его никто не ждал. «Прицеп» в виде пятилетнего Валерки не напрягал. Много ли хлопот от мелкого? Лежа на нарах, Гендос фантазировал, что станет пацану батей, как в фильме «Вор» с Машковым, научит быть настоящим мужчиной, вырастит из него правильного пацана. Вышел Гендос по УДО – на два года раньше, за хорошее поведение. Надька встретила по-царски: накрыла поляну, икры раздобыла, шампусик открыла. Гендос купил на вокзале каких-то солдатиков и конфет, чтоб не с пустыми руками. Надька встретила на автовокзале; всю дорогу липла и держалась за локоть, как есть влюбленная парочка. Уже у самого дома промурлыкала: – Ты, Гена, с Лериком моим… понежнее. Он – мальчик особенный. Чувствительный. – Нежность – для телок! – отрезал Гендос. – Без мужской руки из пацана баба вырастет. Крепкую мужскую руку Валерка не оценил – скуксился, когда Гендос рукопожатием намекнул, кто в хате смотрящий. И вообще, оказался Валерка мелким, бледным, несуразным, с тоненькими ручками-ножками и вертлявой белобрысой головой – ну точь-в-точь кыштымский карлик, по РЕН ТВ показывали. Солдатиков «прицеп» тоже не оценил – даже не распаковал. Посидев недолго за столом, ускакал смотреть мультики. Гендос тогда, ясное дело, Надьке под платье полез, но та на ласки не поддалась, извернулась: – Ты чего, окно, видно же. – Кому? Так давай зашторим. – Не надо. Лучше днем, когда Лерик в садике будет. Первая ночь на новом месте не задалась. Сначала ворочался Валерка, вскакивал, подбегал к окну – пришлось прикрикнуть. Тот обиженно засопел, но улегся. Потом, дождавшись, пока дыхание пацана станет ровным, Гендос полез к Надьке – руку на бедро, повыше, и давай шею нализывать; любила она это. Но и тут получил от ворот поворот: – Ген, не надо, Валерка проснется… – Ничего, ему полезно! – томно всхрапнул Гендос, затыкая возражения поцелуем, но получил пяткой в ногу – сантиметром левее, и привет, кокушки. – Ты чё? – Ничё! Я же сказала: не хочу! Демонстративно отвернулась к стенке и одеяло прибрала. Хотел Гендос возмутиться, но не стал права качать – прижиться надо. Лежит, скучает, в потолок глядит. Темно – хоть глаз коли. Отвык Гендос за шесть лет от такого кромешного мрака: будто в гробу лежишь. Кажется, поднимешь руку – а там доска. Даже вроде землей могильной пахнуло. «Ночник надо купить», – решил он. Сон не шел: яйца опухли, поди, до синевы; стояк вздымал одеяло, а главное – баба-то рядом, вот она, своя, прикормленная; кажется – бери да пользуй, а хрен вам с маслицем. Захотелось курить. Надька вроде чего-то говорила, мол, курево – в подъезде, но теперь Гендос решил, что курить будет дома: новый хозяин – новые порядки. Осторожно, чтобы не разбудить Надьку, вылез из-под одеяла и пошлепал на кухню. Застигнутый врасплох представшим перед ним зрелищем, он саданул пальцем о порожек и шепотом выматерился: на подоконнике, белый как привидение, носом к стеклу, в одних трусиках сидел Валерка и… хихикал? Пропустившее удар сердце заколотилось с удвоенной силой. – Ты чего тут?.. – прошипел Гендос, злясь одновременно на пацана и на себя: надо ж такой херни испугаться. – Смотрю на папу. Он по стене ходит. Гендос осторожно выглянул в окно на улицу. Никого там, конечно, не было: лишь ветки настойчиво царапали стекло да мигал нервно уличный фонарь. «А пацан-то и правда с особенностями!» – Спать иди, нет там никого… – Он ушел. – Ушел-ушел. Спи давай. Валерка, шмыгнув носом, прошлепал босыми пятками в комнату. Гендос чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся. Открыл форточку, снаружи повеяло холодком; стало неуютно. Где-то вдали горестно завыла дворняга. Отчего-то тревожно защемило в груди.
* * *
Работала Надька кассиршей. Проснулась ни свет ни заря – на улице еще стелилась стылая мгла – и начала собирать Валерку в детский сад. У Гендоса тоже намечались дела – нужно было встать на учет в местном отделении и познакомиться с надзирающим офицером по УДО. Думал пойти к полудню, а до того – покемарить, ночью-то выспаться не дали. Но планам было не суждено сбыться: через десять минут вернулась растерянная Надька с нагуленышем. – Представляешь, Ген, садик на карантин закрыли – тараканов травят, а мне на смену… И ведь не предупредили. Посидишь с Лериком? Не с кем оставить совершенно. Гендос, понятное дело, таким раскладам не обрадовался. Валерка тоже выглядел ошарашенным – испуганно лупал огромными бесцветными глазенками на свою «няньку». – Блин, Надь, я так-то в воспиталки не нанимался. Да и дела у меня. – Ну Генчик, хотя бы до двух. Я отпрошусь пораньше, но сейчас кровь из носу – выходить больше некому. – И, не дожидаясь его согласия, присела перед Валериком, принялась кудахтать: – Ты же посидишь с дядей Геной, правда? Погулять сходите. Дядя Гена тебе гостинец купит. Надька незаметно вынула сотню из кошелька, бросила на тумбочку. Нагуленыш уже накуксился, но Надька чмокнула Гендоса в щетину и скрылась за дверью. – Ну что, э-э-э… Гулять пойдешь? – Так нет еще никого, – кивнул Валерка в сторону окна. Гендос вздохнул – развлекать «прицеп», похоже, придется самому. – Ладно, мелкий, пошли – экскурсию проведешь.* * *
Нижнешахтинск, надо сказать, выглядел прилично. Многого Гендос от занюханного ПГТ не ждал – сам из провинции. Однако ничего – живут люди. Кафешки там, магазинчики, автомобили не самых дешевых марок, новостройки опять же. Ленин на площади, само собой, в белой «шапке» – голуби постарались. От нечего делать зашли на базар – поглазеть. А продавщицы так и лезут – тут попробуйте, там отведайте, и мелкому полный карман конфет насыпали. Идет, грызет, слюни по подбородку – довольный. Хотел ему Гендос пистолет с пульками купить – с пацанами по двору гонять, а он шарик, вишь, запросил. Купил ему Гендос шарик с гелием в виде не то тюленя, не то мопса – круглый, болтается, бледный какой-то, невзрачный, а этот идет довольный. На выходе с рынка Гендосу подмигнул калека – сам на доске с колесиками и колодками стучит, бородищей зарос по самые брови. Гендос рявкнул: – Не подаю! Обошли поселок за пару часов. Аккуратный, уютный. Вроде на первый взгляд обычное захолустье, но такое – чистенькое, аккуратненькое. Что ни двор – то палисадничек, что ни витрина – так стекло начисто вымыто, асфальт до того подметен, что Гендос первый раз в жизни окурок до мусорки донес – неловко стало сорить. Даже зверья бездомного нет – хоть бы кошака драного встретить; у Гендоса-то по Волжскому такие стаи по весне бегали, что без баллончика на улицу не выйдешь. А тут – тишь да благодать. И кругом бабье – кто белье на веревках развешивает, кто ковер выбивает, кто в парикмахерской марафет наводит. А мужиков раз-два и обчелся, разве что окромя бомжа на базаре, да и тот не мужик, а так, половина. Вскоре Валерка захныкал, мол, устал, домой хочет. Пришлось вернуться. Во дворе, однако, пацан приободрился. На детской площадке – ухоженного вида, надо сказать, так все и блестит от свежего «Кузбасс-лака», – развлекалась с мелками стайка ребятишек. – Можно я пойду поиграю? Гендос пожал плечами. Пацан поспешил к ребятне, сам же Гендос приземлился на скамейку, закурил, от скуки принялся глазеть по сторонам. Вон баба идет. Гляди ж ты, самой уже за полтос, а брюхатая, сумки сама тащит. Гендос подорвался было помочь, потом сел обратно – еще этот малахольный сдриснет куда, потом Надьке объясняй. В конце концов, должен же у нее свой мужик быть! Вон и кольцо у ей обручальное. А мужики-то все где? Задумавшись, Гендос не заметил, как играющая ребятня забросила мелки и затеяла какую-то мудреную игру: один пацан задрал футболку и натянул на голову, после принялся гоняться за остальными. Те с веселым повизгиванием уворачивались от воды. Только салил тот не руками, а длинными ветками. Вот Валерке едва не прилетело розгой по заднице – он с хохотом опрокинулся наземь, уходя от осаливания. Что-то в движениях воды напрягало: резкие они были, нечеловеческие, будто пацан изображал какую-нибудь тварь из фильма ужасов; впечатление только усиливала белая материя вместо лица – как мешок на голове казненного. «Глаз бы не вышиб», – испытал Гендос что-то вроде беспокойства и даже заботы, аж сам удивился. Докурив третью, взглянул на часы – ба, скоро к надзирающему, а он тут в няньку заигрался! – Эу, фьить! Мелкий! Пошли мамку встречать! Валерка стянул футболку обратно на грудь – в этот раз он был водой – и, помахав приятелям, побежал к Гендосу. От того не укрылось, что остальные дети застыли и внимательно, как-то даже неприятно внимательно, рассматривают чужака. – Застегнись! Простудишься – мне Надюха все мозги выест. Пошли, у магазина встретим. Знаешь же, где мамка работает? Валерка кивнул и, взяв Гендоса за руку, потащил через площадку. Дети не спешили возвращаться к игре, а пристально глядели вслед, почти ощупывали глазами; на секунду Гендосу почудилось, словно и правда липкие и влажные глазные яблоки елозят по коже. Ребятня тоже была вся под стать Валерке: тощие, бледные, тонкокостные, будто собранные по принципу «палка-палка-огуречик», но без огурца. Серые радужки пялились жадно. Чуть отойдя, Гендос спросил Валерку: – Чего это они? Тот пожал плечами.Надьку дождались у магазина. В неожиданном душевном порыве Гендос на остатки стремительно тающего довольствия купил несколько чахленьких гвоздик у бабки с ведрами. Новоиспеченная супруга вышла – красивая, напомаженная, Гендос аж залюбовался. Чмокнула сперва его, потом Валерку. – Передаю из рук в руки, а сам это… сдаваться. С повинной, так сказать. В отделении Гендос долго сидел на скамейке напротив стенда «Разыскиваются». Стенд сиротливо пустовал. На проходной скрипела карандашом по кроссворду мордатая дежурная. В покрытом свежепостеленным линолеумом коридоре царила странная, почти мертвая тишина: не бузили профурсетки в обезьяннике, не шуршали рапортами менты. Гендос не выдержал, спросил дежурную: – А что, все уехали куда или у вас тут всегда так? Та зыркнула исподлобья, не ответила. Наконец с побуревшей изнутри от частых чаепитий кружкой в проход выглянула дебелая – как несгораемый шкаф – майорша с ярко накрашенными губами. Отхлебнула чаю, прочла из открытой папки: – Арзамасов Геннадий? За-а-а мной. Поманила в кабинет пальцем с длиннющим наращенным ногтем. «Такими только яйца выкручивать…» – обреченно подумал Гендос. Усевшись, майорша принялась листать папку, не забывая шумно прихлебывать из чашки; в рот ей попала чаинка, и женщина, недолго думая, сплюнула прямо в дело Гендоса. Тот смиренно сидел и ждал, пока к нему обратятся. И вот страницы в папке кончились. Майорша подняла глаза на поднадзорного; взгляд – на мусорное ведро добрее смотрят. – Что, Арзамасов, будем знакомиться? Я – Алла Константиновна, твой надзирающий по услов но-досрочному. – А я… – А ты – вонючий педофил, – перебила его майорша, – которого нужно было еще на зоне кастрировать, чтоб покладистей был. И на твою характеристику положительную… – Последовал еще один плевок в папку; по бумаге расползлось коричневое пятно. – Так что слушай сюда. Следить я за тобой буду внимательно и пристрастно. Надьку обидишь – пеняй на себя. К дитенку ее лучше вообще не приближайся, понял? – Да за кого ты… вы меня держите?! Вы дело читали? Ей до шестнадцати месяц оставался! – Плевала я на твое дело! Тьфу! – На бумаге расплылся еще один коричневый от чая плевок. – Вы для меня все на одно лицо. Накуролесил в своем Волжском, теперь сюда приехал? Смотри, Арзамасов, ты мне за решеткой больше нравишься, так что дурить не рекомендую. Держи-ка вот номер, запиши в телефон. Если на звонок с этого номера не ответишь – перезванивать не буду, вышлю наряд, понял? – Понял. Только мобилы у меня нету. – А что? Не отработал еще? На-ка – для таких долбоящеров специально держу. На стол шлепнулась дешевая кнопочная звонилка, явно сменившая не одного хозяина. – Зарядку на базаре подберешь. Это не подарок. До копейки вернешь. Кстати! Как у нас с работой? – Не искал пока. Так Гендоса даже следак не прессовал – нормальный мужик попался, с пониманием; после суда даже шепнул, поглядев на потерпевшую: мол, такой бы и сам засадил. А у этой то ли ПМС, то ли недотрах хронический. А колечко-то на пальце имеется! «Поглядеть бы на бедолагу, что с эдакой мегерой в кровать ложится!» – А чего тянем? Или ты Надьке на шею намылился? Давай на комбинат. Хошь – в литейный, хошь – сразу в шахту, я устрою. – Да я как-то сам, наверное. – Эт чой-то? Или правильные пацаны с кайлом не вкалывают? Нормальная мужская работа. Там еще и молоко за вредность дают. – Я сам поищу, – упрямо боднул воздух Гендос. При слове «вредность» вспомнились болезненного вида детишки во дворе. – Поищи-поищи. Через неделю позвоню – проверю. Свободен. Майорша вернулась к чаю, давая понять, что беседа окончена. Гендос было вышел, как все же задал мучивший его вопрос; кивнул на стенд «Разыскиваются»: – А что, всех уже переловили? – Вас переловишь. При деле все – некогда херней заниматься. Так что и ты давай не отлынивай, Арзамасов, не расстраивай тетю.
Из отделения Гендос вышел в настроении препоганом. Стемнело рано, так что в незнакомом поселке он быстро заплутал и оказался в каком-то гаражном кооперативе. Кругом ни души, даже собаки не воют. Пробираясь через разномастные ряды проржавевших боксов, он надеялся разыскать припозднившегося автолюбителя или сторожа, но безуспешно. Все как будто вымерло; на плечи давила неестественная тишина. Вдруг за очередным поворотом из темнотыгаражного лабиринта выступило нечто. Гендос так и замер, не веря глазам. Долговязое, тощее, словно человечек из спичек, оно тянуло длиннопалые свои лапы к нему. Шаг назад оказался роковой ошибкой – какая-то арматура ткнулась в подошву, и Гендос шлепнулся задницей в грязь. Тварь не спешила приближаться; играла с жертвой, будто кошка с мышкой. Белое, пустое и гладкое, как яичная скорлупа, лицо ничего не выражало – с таким безразличием, наверное, нападают на добычу ядовитые медузы или хищные тропические черви, Гендос документалку видел. Он пискнул: – Помогите! Но так слабо и неуверенно, точно поганочно-белые пальцы уже сомкнулись на его глотке. В обреченном отчаянии он наблюдал за тварью, а та стояла на месте, выжидая чего-то. Наконец глаза привыкли к темноте, и Гендос с досадой хохотнул: страхолюдина оказалась всего лишь мастерски выполненным граффити. Очерченные светящейся краской контуры резко выделяли фигуру на темном фоне, придавая достоверности. Подкололи на славу, шутники херовы! Кое-как Гендос все же добрел до дома. Надька заохала, увидев изгвазданные джинсы, взялась застирывать. Нагнулась над ванной; короткое домашнее платье задралось, оголив стройные бедра. Кровь ударила в голову, а после направилась ниже. Гендос выглянул в комнату – глянуть, чем там занят Валерка. Тот сидел на полу, листая какую-то книгу сказок; не читал – смотрел картинки.
Вспомнился Гендосу старый отцовский прием, еще из коммуналки. Он щелкнул телевизором. Шла документалка про львов. «Самец, устранив конкурента, также расправляется с его потомством, чтобы пробудить у недавно родивших самок интерес к повторному зачатию и возобновить их менструальный цикл. Инфантицид свойственен также другим хищникам, травоядным и распространен среди высших приматов». На экране разъяренный бегемот перекусывал визжащего детеныша напополам. Гендос переключил на региональный канал. Начинались новости. Молоденькая ведущая читала с листа. – Слышь, мелкий. Задание тебе важное. Сейчас новости будут, а мне, короче, с твоей мамкой перетереть надо. Ты внимательно смотри, потом расскажешь, что в мире делается, понял? – Мальчик кивнул. – Молодчага. Давай краба… Ну, руку. Да не левую, правую. Ща, я погромче сделаю. – Нижнешахтинский свинцовый комбинат установил новый рекорд по отгрузке, – раздалось на всю однушку. А сам Гендос прошмыгнул в ванную, тихонько закрыл дверь на щеколду. Скользнул ладонью под Надькино платье, погладил по бедру. – Гена! Ты чего? Лерик же дома! – Ничего, он делом занят. А ну-ка иди сюда… Левая рука нащупала грудь в вырезе платья. «Без лифчика!» Пальцы отыскали сосок, сдавили; раздался приглушенный стон. – Ну Гена, ну поздно же. Завтра, может, когда… Ах! Это он пробежал пальцами выше, уткнулся в мягкую плоть. По телу Надьки пробежала дрожь. Она тряхнула головой, обдав Гендоса ароматом шампуня и свежевымытых волос. – Ладно, только не громко…
* * *
Перед сном Надька наглухо зашторила окна: «Мало ли кто заглядывать будет». Кто там может заглянуть на третьем этаже, непонятно. Валерка, послушно пересказав все новости – кому-то вручили грамоту на местном комбинате, повысилась рождаемость, выплачены пенсии, – быстро уткнулся в стенку и засопел. Гендос прижался к своей женщине, в порыве чувств принялся целовать в шею, та отодвинулась: – Перестань, я возбуждаюсь. Мы же только что… – Угу, – довольно подтвердил Гендос, щекоча щетиной. – Неугомонный… Второго раунда не последовало. Надька извернулась, отодвинулась к стенке и скоро засопела. Гендос же опять не мог уснуть: чернильная тьма тяготила, вдавливала в кровать, словно толща воды на глубине океана – того и гляди череп треснет. Не выдержал – незаметно, чтоб не разбудить никого, снова выскользнул к форточке. Зашел на темную кухню, озаренную желтушным светом уличных фонарей, и застыл. Из окна смотрело лицо. Вернее, противоположность лица – гладкое белое ничто, растущее из тощего разлапистого тела. Будто гаражный кошмар выследил его до самой квартиры и теперь ждал удобного случая, чтобы просочиться неестественно сухощавым торсом прямо в форточку. Наваждение длилось едва ли секунду, но Гендос почувствовал, как холодный пот почти насквозь пропитал футболку. – Ёшки-матрешки, так и карачун схватить недолго! За окном на фоне лысых ветвей колыхался шарик – тот самый, купленный для Валерки на рынке. От уличного холода белые бока покрылись уродливыми морщинами. – На кой же ты его снаружи-то… Курить расхотелось. Почему-то дурацкий шарик за окном вызывал в Гендосе малообъяснимое беспокойство: словно он там оставлен для кого-то, будто Валерка таким странным способом «пометил» их квартиру – как домушник. Но для кого? Уж не для того ли «папы», что по стенам ходит? Гендос проворочался остаток ночи и только под утро задремал. Проснулся от звона будильника. Надьке пора было на работу, а Валерке – в детский сад. – Отведешь его? Он знает где, тут за углом буквально. Гендос вздохнул: отоспаться не удастся. Зашел на кухню – хлебнуть кофе, взглянул в окно: шарик пропал. «Ветер, наверное», – подумал Гендос. Веревочки на ветке тоже не обнаружилось.Погода стояла премерзкая – накрапывал мелкий дождик, промозглый туман промораживал до костей. На этот раз детей во дворе не было. Гендос с Валеркой направились через детскую площадку, но на середине остановились: там, где малые вчера играли с мелками, красовалось очередное жуткое художество. На этот раз тощий уродец раскинул лапы на какую-то необъятную ширину – туловище и голова сосредоточились в середине асфальтового пятачка, а конечности расходились по дорожкам, так далеко, что кистей не разглядеть. Вместо лица – все то же тщательно заштрихованное до кипенной белизны ничто. Гендос метко харкнул прямо в центр отсутствующей морды и растер плевок ботинком так, что мел размазался: в отместку за собственный испуг в гаражном кооперативе. Запоздало глянул на Валерку – тот пучил глаза, точно Гендос плюнул на икону или портретом президента подтерся. Словом, совершил нечто запредельно кощунственное. – Чё? Это супергерой какой-то ваш? Валерка промолчал, но от Гендоса не укрылось, как он осторожно – по бордюрчику – обошел голову страхолюдины: чтобы не наступить. Гендос пожал плечами. Он и сам в детстве во всякую хрень верил: и во Фредди Крюгера, и в Матерного Гномика, и Пиковую Даму вызывали – было дело. Ничего, перерастет. До детского сада дошли быстро. За решетчатым забором, точно зэки на прогулке, толпились детишки: все белобрысые, бледные и худющие, как узники концлагеря. Вместе с воспитательницей они мастерили из длинных жердей какое-то чучело – к Масленице, небось. За процессом следила дородная воспитательница. – Ну, беги. Мамка вечером заберет. Валерка нырнул в калитку; даже не попрощался. «Ну и хрен с тобой!» Сам же Гендос решил заняться делами. Следовало найти зарядку для древней несуразицы, врученной ему Аллой Константиновной. Сориентировавшись на местности, он направился к базару. Нижнешахтинск лениво просыпался: открывались магазины, загорались вывески, хлопали двери. Парикмахерши, официантки и лоточницы с любопытством поглядывали на Гендоса. «Ну чисто бабье царство! Прям Иваново – город невест!» Словно в пику его выводам, на автобусной остановке он наткнулся на целую толпу мужиков. Серолицые, в одинаковых робах, с потухшими глазами, они напомнили Гендосу зоновских опущенцев: петухов, чертей и прочую тюремную шушеру. Сутулые спины, вялые полушепотки, какие-то чмошные лица. Один за другим они погружались в красный «Икарус». Под лобовым стеклом висела картонка: «Нижнешахтинский свинцовый комбинат». «Вот оно что! Шахтеры!» – догадался Гендос. Теперь понятно, откуда землистый цвет кожи и сутулость – в забое не позагораешь. На базаре было по-утреннему шумно: торговки раскладывали товар, мясничиха принимала из грузовика замороженные и обезглавленные туши, неподалеку стучал колодками безногий бомж. Гендос отыскал палатку с мобильниками, дисками и прочими электротоварами. На раскладном стульчике, нахохлившись, сидел шкет лет двадцати – играл в телефон. – Здорово. Слушай, мне бы зарядку вот, под агрегат. – По ретро угораешь? – лениво поинтересовался шкет, взял мобильник, – Ща, покопаюсь, у меня здесь коробка была. Пока продавец ковырялся в проводах, Гендос осматривал полки. Пиратские фильмы – по восемь штук на диске, какой-то софт, порнография, игры. Своего компа у Гендоса никогда не было; разве что, случалось, по молодости стрясал мелочь со школоты, чтоб погонять в «Контру» в игровухах. Из интереса он пробежался взглядом по обложкам: какие-то маги-рыцари-монстры. Вдруг одна привлекла его внимание, да так, что внутри аж похолодело: на фоне темного леса возвышалась тощая мрачная фигура в фраке. Тьма клубилась над плечами, сплетаясь в щупальца, а вместо лица белела голая гладкая плоть. Во рту почему-то пересохло. – Слышь, это кто? – Где? – отвлекся шкет от поисков. – А, это. Ты в Слендермена не играл? Там, типа, по лесу от него убегать надо, записочки собирать. Прикольная штука, криповая, но на один раз. – Криповая? – Угу. На него, типа, смотреть нельзя, иначе с ума сойдешь или умрешь. Геймовер, короче. – Почему? – глупо спросил Гендос. – Что «почему»? – Ну, почему в лицо смотреть нельзя? – Хер знает, страшный он. На самом деле это крипипаста зафорсенная: типа ходит такая тварь по лесам, детей ворует. У него там в Интернете настоящие фан-клубы есть, мелкота по нему кипятком ссыт. – Крипипаста – это чё? – Ну, байка, типа. – То есть он не настоящий? – с облегчением уточнил Гендос и запоздало понял, какую несусветную чушь спросил. – Ты чё, дядь, с луны свалился? Еще со звонилкой этой древней! – потешался шкет. Гендос насупился, подступил поближе, склонился над наглецом, поиграл желваками. – Не с луны, поближе. Из мест не столь отдаленных. Понял? Тот сглотнул. – Зарядку нашел? Шкет протянул запутанный провод: – На. Хер знает, будет ли заряжать. У меня тут розетки нет – дома попробуешь. – Он помедлил. – С тебя пятихат. – Угу. – Гендос убрал зарядку в карман. – Ну вот узнаю, будет ли заряжать, и занесу. Добро? – Да я ж не местный, меня тетка попросила подменить, на неделю только… – Вот на неделе и занесу. Шкет не стал спорить.
Теперь надо было найти работу. О том, чтобы вернуться к старым привычкам, не шло и речи – Алла Константиновна с него живо шкуру спустит, теми самыми ногтями. Ни на комбинат, ни в шахту Гендос тоже не хотел – вон они какие все выморочные: тяжелые металлы, угольная пыль или еще чего. Этак до сорока можно не дотянуть. Лучше куда-нибудь принеси-подай или вообще как тот шкет – на базаре сидеть, работа не пыльная. Забрызгавшись пробниками в «Белорусской косметике» – теми, что подороже, – Гендос, воодушевленный и надушенный, отправился на поиски. Уже вечером он долго стоял у подъезда, не решаясь зайти. Ему отказали везде. Куда ни сунься – везде сидит как будто одна и та же начальница-кадровичка: пергидрольная шевелюра с непрокрашенными корнями, разговор «через губу» и дежурный вопрос: «А чего не на комбинат?» После десятка отказов Гендос до того отчаялся, что ноги сами вынесли к базару, но и там работы не оказалось. Разве что кто-то из молодчиков, привозивших картошку, подсказал: мол, у Заура на Ленгородском несколько точек и ему всегда крепкие мужики нужны, но это каждый день кататься аж до Ростова. Походил, посрывал объявления, кинул последнюю сотку на телефон, обзвонил. Ответил только один номер: пиццу по заказам развозить. Но зарплату предложили – тьфу, сказать стыдно. Словом, вернулся Гендос несолоно хлебавши и теперь стоял под окнами, мусолил сигарету за сигаретой и ел себя поедом: что ж он за мужик такой, коли у бабы на шее оказался? А тут еще, как назло, пачка заканчивалась. От мысли, что придется просить на курево у Надьки, аж кишки скручивало – зашкварнее некуда. Вдруг наверху – на их третьем этаже – колыхнулась занавеска в кухне, и Гендос украдкой шагнул под дерево: быть увиденным Валеркой или, того хуже, Надькой ему сейчас хотелось меньше всего. Дерево, сухая долговязая береза, вблизи оказалось жухлым и трухлявым: весь ствол испещрен дорожками жуков-короедов. У подоконника первого этажа – на уровне глаз – что-то болталось. Сперва Гендос подумал, что это Валеркин шарик – сдулся, да и сполз на два этажа ниже. Но в окне напротив загорелся свет, и Гендос опознал полиэтиленовый пакетик, а в нем малюсенькую, как у лего-человечка, ручку и вытянутую яйцеобразную головку с темными креветочными глазами. Горячая кислятина подкатила к горлу, наполнила рот привкусом недавно съеденного рыночного беляша. Мозг отказывался опознавать в бесформенной дряни несостоявшееся человеческое существо, искал объяснения: обман зрения, какой-нибудь анчоус или та же креветка. Гендос даже моргнул пару раз, но пакость никуда не исчезла – в полиэтилене, аккуратно подвешенный за нитку, как чайный пакетик, на ветке болтался человеческий эмбрион. «Да уж, иногда лучше не знать, что у бабы на уме», – подумал он невпопад. Торчать на улице расхотелось. Надька, заметив, что Гендос не в духе, не стала доставать расспросами. А вот Алле Константиновне чувство такта было несвойственно: телефон запиликал ровно в девять. – Ну здравствуй, альфонс. Зарядку, я гляжу, нашел. А как поиски работы? – Ищу, Алла Константиновна! – отрапортовал Гендос. – Слыхала я, как ты ищешь. Мне сегодня из трех мест уже позвонили, сказали, уголовник какой-то трется – не по моей ли части. – Ищущий да обрящет, как говорится. – Ты бы, Арзамасов, не затягивал. А то я сама затяну. Сам знаешь что и сам знаешь где, усек? Не выёживайся, иди на комбинат – там всегда люди нужны. Даже такие, как ты. – Спасибо, я уж сам, гражданин начальник. – Сам так сам. Гляди, часики тикают. Не попрощавшись, Алла Константиновна отключилась. Если и оставались у Гендоса еще какие-то крохи душевных сил, то теперь он был выхолощен полностью. Была б водка – нажрался бы, но в холодильнике обнаружились только Валеркины творожки и кастрюля супу. Спать легли молча, Гендос к Надьке даже приставать не стал. Сон тоже не шел: в кромешной тьме он терял ощущение самого себя – того и гляди потеряешь концентрацию и растворишься в ней, как в чернильной кислоте. Сказывалась зоновская привычка засыпать при свете неусыпной лампочки над дверью. «Ночник куплю. С первой же зарплаты», – подумал он. Покряхтев, пошел курить на кухню. За окном корчились тени, мигал фонарь. На ветке – прям напротив подоконника – что-то болталось. Маленькое, пожухшее, похожее на давно высохший до белизны чайный пакетик. «Уж это точно воздушный шарик», – решил для себя Гендос и не стал вглядываться.
* * *
Отпущенная ему неделя подходила к концу. На работу не брали – хоть кувыркайся, хоть чечетку пляши. Правдами и неправдами уговаривал Гендос пергидрольных теток, расписывал, какой он швец, и жнец, и сам себе отец, если надо. Ни в какую: везде указывали на дверь. Очередной – последний за день – отказ он получил в местечковом автосервисе. Насмешливо корчилась воздушная кукла, принимавшая похабные и нелепые позы по воле ветра, – бледно-желтая, тощая и безликая. «И здесь это!» – горько усмехнулся Гендос. Ужасно хотелось курить, но пагубная привычка слишком быстро расходовала стремительно тающую наличность; сгорая от стыда, уже приходилось пару раз залезать в Надькину сумку. Хоть бы не заметила. Домой Гендос вернулся в прескверном настроении; кнопочная «звонилка» ощущалась в кармане вредным ядовитым насекомым – уснувшим до поры до времени, но рано или поздно оно проснется, завибрирует, чтобы ужалить прямо в ушную раковину мерзким «Арзама-а-асов!». В квартиру он вошел до того загруженный, что не сразу заметил: что-то не так. Вроде и ждал на столе горячий суп с фрикадельками, вроде и Валерка прилежно что-то черкал в альбоме, развалившись на полу, но ощущалось в воздухе некое электричество. Надька сидела почему-то в уличной одежде, хотя раньше всегда переодевалась в домашнее; на приветствие Гендоса не ответила – продолжала пялиться в одну точку. – Надюх, случилось чего? Она подняла глаза, будто впервые увидела Гендоса, протянула тонкую полоску бумаги: – Я думала, перенервничала или еще что. Не идут, и все тут, а по календарю пора. Я тест сделала – так, на всякий случай, а он – вот… У Гендоса от волнения потемнело в глазах: на бумажке явственно розовели две полоски. «Это чё, я теперь батей стану? По-настоящему?» Потом нахлынул страх – такой, что гаражный ужас показался легким испугом; затылок обдало горячей волной, ноги сделались ватными. Следом поднялась из самой глубины его Гендосовой сущности какая-то безумная, бедовая радость. – Съездила на свиданку, называется. Шестая неделя пошла. Генчик, что же теперь… Что делать? – Как что делать? Радоваться! Это ж круто, Надюха! Это ж… наш будет! Надюха, мы же… Слышь, Валерка, у тебя брат будет! Или сестра! – Мальчик без энтузиазма повернул шишковатую голову к кухне. – Блин, Надюха, дай я тебя обниму! Он так и остался стоять, растопырив руки, – Надька, похоже, новости не обрадовалась. Искусанные губы дрожали, глаза были на мокром месте. – Эй, ты чего? Что с тобой? Стоило ее обнять, как рыдания мощным потоком хлынули прямо в Гендосову футболку: – Генчик… Нам же… Как мы будем? Как мы… – Ну, тише, ты чего? Валерку напугаешь, – неловко гладил он ее по волосам. – Не реви, слышишь? Завтра пойду к Зауру, устроюсь в Ростов на рынок. Да, ездить далековато, зато башляют нормально. Прокормим. И Валерку, и… Пацан будет – Вовкой назовем, в честь батьки моего, а? Заработаем, не ссы! Надька вдруг подняла глаза – мокрые, красные, вцепилась в рукав. – Надо от него избавиться. Да, избавиться. Я завтра в клинику пойду… – Дура, что ли?! – взревел Гендос, встряхнул Надьку. – Охренела? Я тебе дам «избавиться»! Не вздумай, слышь? Думать не смей! Со всем справимся, поняла? Мужик я или кто? Слышать больше не хочу! Поняла меня? Поняла?! – Ты обижаешь маму? – раздалось из-за спины. На пороге кухни стоял Валерка и пристально наблюдал за взрослыми. Только сейчас Гендос осо знал, что уже совсем не с нежностью сжимает Надькины запястья. Выдохнул, отпустил. – Все. Закрыта тема. Дурь эту из головы выкинь, поняла? Курить бросаю. С сегодняшнего дня – вся копеечка в бюджет. – Повернулся к Валерке: – Не ссы, шкет, никого не обижаю. Так, о делах перетерли. Беги – там «Спокойной ночи, малыши!» начались. Валерка недолго постоял в проходе, сверля Гендоса таким взглядом, что ему аж не по себе сделалось – казалось, мелкий готов прямо сейчас всадить ему перо под бок, только отвернись. Гендос сперва хотел ему отвесить подзатыльник, но сдержался – не при Надьке же. Перед тем как лечь, Гендос сгрыз несколько таблеток «Афобазола» из аптечки – нужно было выспаться перед долгим днем. В сон он провалился тягостный и мерзкий – будто тот самый Слендермен залез к ним в постель и запустил свои длинные пальцы под одеяло, к Надьке. Но самое гадкое – той, кажется, нравилось. Холодная плоть бесцеремонно тыкалась Гендосу в бок, точно он тут так, для мебели; безликая морда похотливо – насколько это возможно без лица – опускалась меж Надькиных бедер. Гендос хотел было возмутиться, но белесая ладонь накрыла ему лицо. Он проснулся и едва не заорал – ладонь была реальна. Хуже того – реальна была и ледяная плоть под одеялом. Вдруг на живот ему приземлилось чье-то колено. Гендос аж охнул. Глаза попривыкли к темноте, и в тощей фигурке он распознал Валерку. – Шкет, ты чего? – Я к маме, мне не спится, – сонно ответил тот, бесцеремонно перелезая через Гендоса. Нырнул под одеяло. – Иди сюда… Ой, холодный, как лягушонок! – прошептала Надька, прижимая к себе сына. Наконец все затихло, но уснуть Гендос так и не смог. Остаток ночи провел на кухне, докуривая пачку.* * *
До Заура добирался на двух автобусах – сначала с шахтерами до комбината, потом оттуда до Ростова. Заур оказался нормальным, деловым мужиком; не стал мучить вола – сразу определил Гендоса разгружать фуры; на перерыве угостил шаурмой за свой счет, в конце дня рассчитал без обмана. Воодушевленный, под вечер Гендос сел на обратный автобус, поглаживая тоненькую стопку первых своих честно заработанных денег. Записи в трудовой книжке у Заура, конечно, не получишь, да и ездить далековато, зато платят нормально, а с учетом новых обстоятельств это сейчас самое главное. Надька, правда, новостям о работе не обрадовалась – грузилась своими вопросами. За ужином снова робко подняла тему клиники, но Гендос так грохнул кулаком по столу, что разговор заглох, не начавшись. Валерка Гендоса тоже будто дичился, отвечал неохотно и невпопад. Так прошел день, второй, третий. Через неделю Заур безапелляционно заявил: – Заутра не приэзжай. Уыхадной у тэбя. На втором обратном автобусе Гендос опять ехал с шахтерами – возвращались из забоя. Все как один – черные, с потухшими глазами в пол. В целом, видок у них был какой-то «обсосный». Ехали молча, не переговаривались, даже пиво не пили. Гендос, сам с рабочего района, не раз видел такие рейсы у себя в Волжском, но там оно было как-то… поживее, что ли? А здесь создавалось ощущение, что на поминки едут, разве что покойника не хватало – на месте гроба, в самом центре, ехал Гендос. «Мож, производство у них там вредное, вот они и такие опущенные… Свинец же вроде ядовитый. То-то и молодняк такой болезный. А Валерка, поди, того же роду-племени. Значит, батя – местный. Кто-то из этих?» От безделья Гендос принялся всматриваться в лица шахтеров, пытаясь углядеть Валеркины черты, но никого похожего не приметил. «Валить надо, к Ростову поближе. Пока сам такой же не сделался…» – подумал он.* * *
Утром Гендос проснулся в отличном настроении. Алла Константиновна не доставала звонками, Валерка был в садике, Надька – на работе. До вечера он был предоставлен самому себе. Не спеша встал, покурил в форточку. «Родится – брошу!» – успокоил он совесть. Развел кофе в чашке, нарезал батона и докторской, уселся перед телевизором. По всем каналам шла какая-то муть; из любопытства включил региональный, наткнулся на рекламу: – Приходите в магазин «Панда», – убеждала его раскосая тетка из телевизора. – Приходил, даже грузчиком не взяли! – грустно хохотнул Гендос. Он просидел почти до вечера, щелкая пультом. Не сказать чтоб изысканное развлечение, но после зоны даже свобода провести день перед телевизором ощущалась как роскошь. Когда начался выпуск новостей, Гендос заскучал, решил выйти – пробздеться, заодно и Надьку встретить. Минут за десять добрался до магазина, встал неподалеку, закурил. Вот она вышла, усталая, с сумками. Гендос дернулся было перехватить ношу, как наперерез ему бросилась мелкая крысоватая бабенка, прилипла к Надьке, и он стушевался – не любил в женские разговоры лезть. А разговор меж тем происходил явно на повышенных тонах – бабенка шипела и чего-то требовала, Надька вяло отнекивалась. Вдруг бабенка размахнулась и со всей дури отвесила Надьке пощечину. Тут Гендос, конечно, подскочил, оттащил крысоватую в сторону: – Ты чё, овца?! – Ничё! Не твое дело. А ты, Надежда, делай, что должна, поняла? А то сама знаешь… Вырвалась из хватки опешившего Гендоса и засеменила прочь. Надька терла покрасневшую щеку. – Надюх, это чё было? Кто она вообще? – Никто. Неважно. – Надька увернулась от объятий и сумок не отдала. – Я устала. Пойдем, надо Валерку забрать. В детском саду воспитательница, увидев Надьку, едва ей в лицо не плюнула. Валерка, оказывается, целый день простоял в углу. Гендос хотел было включить «бычку», но Надька тихо сказала: «Не надо», и он подчинился – все ж не его пацан. Остальная малышня смотрела им вслед с холодной недетской злобой, и Гендос непроизвольно поежился. На обратной дороге молчали. Гендос пытался балагурить, даже предлагал купить чего-нибудь вкусного, но эти двое как воды в рот набрали. В целом атмосфера была гнетущая. Казалось, фонари сегодня светят как-то тускло, и чудилось Гендосу, что один из них вроде как угрожающе к ним наклонился, когда проходили мимо. Дома запиликала проклятая «звонилка»: – Арзамасов? Ну что, как дела? – Ну… – Пока не родила? – хохотнули в трубке. – А откуда вы знаете? – удивился Гендос. – Алла Константиновна, если по поводу работы, то я уже… – Насрать мне на твое трудоустройство. Слушай сюда: Надюху завтра в охапку и в женскую консультацию. Ее там по-быстрому выскоблят, и вся недолга. Пока срок ранний – безопасно. Можно даже сказать, полезно. Не хер нищету плодить. Устроишься нормально, тогда и… – Знаете, Алла Константиновна, мне кажется, это не ваше собачье дело! – рявкнул Гендос и, ошалев от собственной наглости, отключил телефон. Из кухни высунулась голова Надьки: – Кто звонил? – Так, по работе. Не важно. Смыв косметику, она казалась такой уязвимой, такой хрупкой, что сердце Гендоса буквально затопила несвойственная ему нежность. «Полезет кто – прибью!» – решил он для себя.* * *
Рабочая неделя прошла, как долгий муторный сон. Приходилось вставать засветло, а потом трястись на двух автобусах до Ростова и обратно. Надьке Гендос строго наказал, мол, если кто что тявкнет – чтоб ему жаловалась, а он разберется. Разумеется, она ничего не рассказывала, зато ее он, вернувшись раньше, едва утащил из отделения гинекологии. Долго распекал, наорал даже: – Ты думаешь, я семью не прокормлю? Или у меня гены какие-то не такие? Ну, скажи, давай! Боишься от уголовника рожать, да? – Не в этом дело, Геночка, не в этом… – А в чем, блин? Ты можешь нормально сказать? Надька отмалчивалась. А как-то ночью проснулся Гендос от странного ощущения: будто чего-то не хватает. Пощупал – и правда, Надька пропала. Вскочил, увидел полоску света из-под двери ванной. Дверь рванул так, что шпингалет не спас – повис на полутора болтах. А эта сидит над унитазом, ноги раздвинула и проволокой какой-то примеряется. Тут Гендос, ясное дело, не сдержался – залепил такую оплеуху, что аж голова мотнулась. И след от ладони во всю щеку. – Только попробуй мне! Только попробуй, поняла?! Надька плакала и кивала. На следующий день Гендос не дождался автобуса. Ни через час, ни через два. Пришлось звонить Зауру извиняться, мол, сегодня приехать не получится. Уже дома, включив региональное ТВ, узнал, куда подевались автобусы: – …В результате выброса газа числятся погибшими пять горняков, еще четверо госпитализированы, цифры уточняются. Больше пятидесяти человек оказались заблокированы в шахте, запасы кислорода стремительно тают. Ввиду спасательных работ движение транспорта по трассе М-4 затруднено, рекомендуем искать пути объезда. Нижнешахтинский свинцовый комбинат приостанавливает работу на неопределенный срок, – вещала ведущая. – В ближайшие часы МЧС Ростова придет на помощь пострадавшим, но, по предварительным оценкам, операция по спасению может продлиться… «Уф! – пронеслось в голове. – Вот это меня бы под монастырь-то! Хорошо, что не согласился!» Гендос еще поглядел телевизор, но без удовольствия. В конечностях скопился нервный мандраж – усидеть на месте не получалось; тело, привыкшее к тяжелой работе, жаждало действия. Занялся уборкой: оно пускай и не мужское дело, но коль руки заняты – голове легче. Помыл посуду, залил унитаз хлоркой, застелил постель, принялся собирать с пола книги – мелкий разбросал. «Не читает ведь, гаденыш, только картинки смотрит!» Из любопытства пролистал самую замызганную – «Сказки о нечистой силе». Среди чертей, ведьм и кикимор встретилась знакомая тощая фигура. Бледная тварь стояла у избы – спиной, так сказать, к зрителю – и заглядывала в окошко. Стилизованная под древнеславянский подпись поясняла: «Жердяй, от жерди – предлинный и претоненький, шатается ночью по улицам, греет руки над печною трубой, заглядывает в окна и пугает людей. Жалкий шатун, осужденный слоняться по свету без толку и должности. Где жердяй обитает – там царят разруха, запустение и голод; посевы не всходят, дичь не идет к охотнику, рыба не клюет. Говорят, лик жердяя настолько страшен, что, раз увидев его, – нипочем не сморгнешь, сколько ни пытайся». Все это Гендос прочел мельком, по диагонали; куда больше его внимание привлекло размашистое, по-детски старательно выведенное фломастером: «ПАПА». Почему-то Гендосу тут же стало очень неуютно, гадко – будто он заглянул в чью-то могилу или куда похуже. После уборки дома не сиделось. Выйдя на улицу без особой цели, он и сам не заметил, как ноги вынесли к Надькиному магазину. Зайдя, Гендос едва не оглох от грохочущего: – …Какой грех ты на себя берешь! Столько душ в обмен на одну! Тебе бабам-то не стыдно в глаза смотреть? У кого там брат, у кого муж! Ты сидишь здесь, самая особенная, да? – Орали опять на Надьку: какой-то плюгавый поп с крестищем на пузе распекал его жену на чем свет стоит. – Ибо сказано – коли понесешь от чуждого семени, так не пощади чрева! То не людская – Его воля! При слове «его» Гендос почему-то представил того самого «жердяя». Другая кассирша и менеджериха, тоже пергидрольная, стояли поодаль и делали вид, будто ничего не происходит. Надька уже чуть не плакала. Гендос угрожающе шагнул к батюшке: – Слышь, борода! Варежку-то захлопни, а то ненароком прилетит чего. – Он продемонстрировал пудовые кулаки. – Я не про Святого Духа. Пригляделся – на крестище вместо Спасителя, распялив руки, висело что-то тощее, безликое. Поп пискнул неразборчиво и засеменил прочь, даже покупки не забрал. Тут Надька и разрыдалась. Гендос скомандовал: – Все, дамы, перекур у нее! И вытянул Надьку из-за кассы на улицу. В спину донеслось ядовитенькое: – Беременным же ж нельзя! Гендос только плечами повел. На крыльце прижал к себе Надьку, спросил: – Чего они все как с цепи, а? – Нельзя мне рожать, Гена. От тебя – нельзя. Никак. – В присутствии Гендоса Надька окончательно размякла, еле говорила, сопли размазывала – ну чисто дите. – Поселок маленький, уже все всё знают. Не дадут нам покоя! – Так давай уедем на хрен! Насовсем. Я хату в Ростове сниму, Заур обещал… – Нет! – Надька даже прекратила рыдать, таким ее накрыло ужасом; побледнела вся, затряслась. – Нельзя никуда Валерке уезжать! Нельзя! Хотел было Гендос заикнуться, мол, можно и без Валерки, но вовремя прикусил язык. Хорош папаша: своего запузырил, и хоть трава не расти. – Ладно, не хнычь. Все ровно будет. И дур этих не слушай – завидуют они тебе. Вон ты какая – молодая, красивая; а как тебе с мужиком повезло – так вообще не в сказке сказать! Надька сквозь слезы улыбнулась, прижалась к Генке. Тот погладил ее, шепнул: – После смены заберу. Чтобы скоротать время, завильнул на базар – купить каких-нибудь фруктов или еще чего: им же, беременным, полезно. Нарочито долго бродил меж прилавков – придирчиво выбирал поспелее да покруглее. Попробовать продавщицы почему-то не давали, глядели волком и едва по рукам не били. Вышел Гендос с рынка без покупок, достал сигарету. До конца Надькиной смены оставалось всего ничего. Вдруг что-то дернуло его за штанину снизу: безногий бомж улыбался заискивающе в бороду. – Говорил же, дед, не подаю! – Какой я тебе, на хрен, дед?! – возмутился бомж. – Мы, мож, ровесники. – Чё надо, ровесник? – Гендос не был настроен на диалог. – Ты сигаретку дай, а я тебе сказочку расскажу. Гендос вынул пачку. – Давай я тебе две, а ты отвалишь, а? – Как хочешь. Только сказочка-то ложь, да в ней намек, – хитро улыбнулся безногий. Гендос пожал плечами – все лучше, чем пустые мысли по бестолковке гонять. – А случилось это в стародавние времена, когда не было еще ни царей, ни церквей. Стояла себе деревушка – три двора да два сарая. И не было печали, как вдруг посевы гибнуть начали, а кто в поле работал – тех околевшими находили. Хотели мужики лесовать идти – тоже никто не вернулся. Случились в той деревне мор, глад и беда. И ходило ночами по деревне страшное, длинное да белое, в окна глядело. Кто увидит – ум совсем потеряет. Тут же Гендосу вспомнилась жутковатая картинка из книжки – с бледной нечистью, склонившейся к избе. И подпись «ПАПА». – Стали старики судить да рядить, чего делать, – сами с голоду пухнут. Решили жертву чудовищу принесть. Выбрали девку – помоложе да покраше, отвели в лес, да там и оставили, к дереву привязали. Сработало: рыба в невод пошла, поле заколосилось, зверье само в силки лезет. А долго ли, коротко ли, вышла из лесу та девка – да не просто, а на сносях. А с собою – злато, серебро да самоцветы. И говорит: мол, договорилась она с Хозяином, не будет больше лютовать. За то, однако ж, всех девок, кто созрели, – к нему пущай отправляют. А кто уже на сносях – те плод пущай скинут да за окно вывесят, аки окорок. И больше чтоб от мужиков своих нести не смели. – Херовая сказка. И конец дерьмовый, – подытожил Гендос. – Так то присказка, а сказка впереди. Наведался в ту деревню добрый молодец. Полюбилась ему одна девка – лицом бела, щеками румяна, коса до пояса. Стал он, значит, с ней гулеванить, обженился, а там уж и отпердолил ее, как водится. Забеременела девка. И все на нее роптать, значит, стали, мол, ты нас всех тут погубишь, а та уперлась – рожу, и всё. И родила. В ту же ночь прошелся Хозяин по деревне и все дома навестил. Никого в живых не осталось – токмо потомство свое с собою в лес забрал, и никто их с тех пор не видал. Тут и сказочке конец. – И к чему ты мне это рассказал? – Да ни к чему. Тут, в Нижнешахтинске, так-то тоже голод случился. Недавно совсем, в девяностые. Зарплату не платили, комбинат встал, оборудование поломалось, да еще неурожаи… Гендосу стало смешно. – И чё, думаешь, местные с этим… со Слендерменом законтачились? – Я ничего не думаю. Ты сам думай. И вот о чем: пока Надька от тебя брюхатая ходит, он их из шахты не выпустит, там сгноит. Никакое МЧС не поможет. А там у половины поселка братья-сватья да мужья, сечешь? Меньше суток у них, потом все… – Бомж вдруг похабно облизнулся. – А Надюха все еще любит, когда ее придушиваешь, вот так? Он ухватил себя грязной пятерней за глотку и выпучил воспаленные глаза. – Чё-о-о?! – набычился Гендос, потом застыл, вновь осознавая услышанное. – Признал-таки? Так-то, брат молочный. Они на что угодно пойдут. – Безногий кивнул на свои замотанные в грязное тряпье обрубки. – Вообще на что угодно. Гендос отшатнулся от бомжа, тот хрипло рассмеялся, давясь слюной вперемешку с дымом. Нужно было срочно найти Надьку.На улице темнело. Громадины домов расцветали уютными квадратиками окон. Бегом Гендос добрался до магазина, но за кассой было пусто; лишь стояла у входа и курила пергидрольная менеджериха. – Надька где?! – рыкнул он. Та безразлично пожала плечами, поглядела сквозь него. Вдруг за дверью подсобки загремело. Кто-то выругался. Недолго думая, Гендос ворвался в маленькое помещение и поначалу подумал, что все это ему мерещится: среди полок и коробок на наспех расчищенном столе лежала его Надька, бесстыдно раскинув голые ноги. Щиколотки накрепко примотаны скотчем к ножкам стола, меж ними – жестяное ведро с загадочной надписью «панд.». Лишь секунду спустя он заметил застывшую, как статуя, врачиху – судя по белому халату. Она вынимала из сумки длинные щипцы, что-то похожее на миниатюрный пылесос и еще какие-то хищно блестящие инструменты. А рядом… – Алла Константиновна?.. – выдохнул Гендос. – Твою-то мать, Арзамасов! Вот потому и не люблю, когда вы без дела шляетесь! Гендос среагировал совершенно инстинктивно; увидел, как наманикюренные когти скребут по застежке кобуры, схватил стоящую в углу швабру и саданул черенком прямо в висок майорше. Та удивленно охнула и обмякла. Врачиха выронила инструменты, забилась в угол. Гендос немедля выхватил табельный ПМ из кобуры Анны Константиновны, направил на тетку в халате. – Только пикни! – рыкнул он. И бросился к Надьке. Та, кажется, не совсем понимала, где находится: взгляд ее блуждал, речь была невнятной – точно язык не помещался во рту. – Гема… Мимлый… – мямлила она. – Ничего, ща, Надюх, мы тебя отсюда… – Гендос отыскал на столе ножницы, принялся срезать скотч; злобно бросил врачихе: – Чем вы ее обкололи, мрази?! – Седативное, просто седативное… – лепетала та в ответ. Скотч не поддавался, лип к лезвиям, он оставлял на коже и ножках стола липкие коричневые следы. Гендос прервался, подскочил к врачихе. Ткнул стволом в дрожащие подбородки, щелкнул курком для острастки. – Зачем? Зачем, мать твою?! На хрена вы это делаете?! – Надо, так надо… – подвывала тетка, размазывая сопли. – У меня у самой там муж в забое. Если его не задобрить… он всех до единого… Жизни не даст. Ты не меня губишь, ты весь Нижнешахтинск губишь! Нельзя ей рожать, понимаешь?! От тебя – нельзя! – Кто? Кто сказал?! – Он! – Да кто, мать твою, он-то? Вжавшись в стенку, врачиха не произнесла – выдохнула: – Хозяин! В зрачках ее плескался истовый, глубинный ужас – тот, от которого люди режут вены и лезут в петлю, лишь бы не сталкиваться с источником страха. – Да вы тут все поехавшие! – вдруг осознал Гендос, даже отступил на шаг. – Чертовы сектанты! Надя! Наденька! Ты меня слышишь? – Ге-е-е… – протянула та. – Сейчас-сейчас… – Он принялся с удвоенным рвением терзать скотч. Высвободив Надьку, закинул на плечо. Вновь направил ствол на врачиху. – Машина есть? Говори! – «Опель». Черный, у входа. – Ключи где? – У Аннушки в пиджаке… – всхлипнула врачиха. Гендос чертыхнулся, положил Надьку обратно на стол и принялся обыскивать лежащую без сознания майоршу. Та застонала, всхрапнула – времени оставалось мало. Ключи обнаружились во внутреннем кармане. Подхватив Надьку, он обернулся к врачихе: – Мы валим. Вздумаете искать – сам найду и грохну, понятно? Поняла, я спрашиваю?! Врачиха закивала; поросшие едва заметным пушком подбородки затряслись. – На хер отсюда! На хер!
Машина и правда оказалась совсем близко. Менеджериха, курившая у входа, пропала – оно и к лучшему, одним свидетелем меньше. Уложив Надьку на заднее сиденье, Гендос сел за руль и, не прогреваясь, вдавил гашетку в пол. С дорогой повезло – то ли время неурочное, то ли в целом движение в Нижнешахтинске было спокойное, но через несколько минут они выехали на трассу до Ростова. – Живем, Надюха, живем! – по-щенячьи взвизгивал Гендос, охваченный горячечной эйфорией. Где-то на заднем плане уже проступали тени грядущих проблем: что делать с Валеркой, где они будут жить, а главное – как объяснить нападение на надзирающего офицера и кражу табельного оружия. Но все это маячило вдалеке. Сейчас важно было другое – увезти Надьку, беременную его ребенком, подальше от этого проклятого места. Из-за горизонта вырастала громадина комбината. Над исполинскими цехами вздымались разной толщины трубы, антенны и вышки электропередачи. Их немигающие красные огоньки будто вперились взглядами в маленькую точку на пустой трассе – черный «опель». Невольно Гендос задержал взгляд на монструозных конструкциях, и это позволило ему вовремя вильнуть в сторону, когда одна из близстоящих металлоконструкций рухнула на дорогу, разбрызгивая искры. – Сука! Следом в метре от машины приземлилась газовая труба, раздался жуткий свист – точно где-то закипал гигантский чайник. И без того темную дорогу заволокло густым, как молоко, туманом. Гендос едва успел сбросить скорость, прежде чем машина подпрыгнула, крутанулась в воздухе и со страшным грохотом приземлилась на крышу. Его ударило в грудь рулевой колонкой, да так, что вышибло весь дух. Кое-как, сквозь хрип и боль в ребрах ему удалось вдохнуть, но он тут же закашлялся – все укутал горячий, с металлическим привкусом, пар. Салон усыпало стеклянной крошкой. Казалось, осколки набились даже в уголки глаз. Смотреть стало больно. Из-за ремня безопасности – благо додумался пристегнуться – не удавалось оглянуться на заднее сиденье. – Надя! Наденька! Ты жива? Ответь мне, ну! Но Надька молчала. Ремень заклинило, сколько ни дергай. Взгляд упал на чудом уцелевшее зеркало заднего вида. И Гендос увидел Его. Хозяин оказался бесшумным – как тень, как граффити на заборе, как рисунок на асфальте. Его огромные белые руки с величайшей осторожностью вытаскивали Надьку из салона – медленно, аккуратно, так, чтобы не поцарапать о торчащие по краям окна осколки. – Не трогай ее! Слышишь, пидор?! Оставь ее в покое! Что тебе надо? Она – моя! Моя, понял? Моя! – ревел Гендос, пытаясь вырваться из плена металла и пластика, но дверь заклинило, а самого его скрутило такой буквой «зю», что не развернуться. – Сука, давай раз на раз, а? Че, зассал? Пидор херов! Она моя, понял? Моя, слышишь?! И Хозяин услышал. Просунул свою огромную голову в салон – где кричал, плевался и матерился маленький никчемный человечек; заглянул в зеркало заднего вида – ему в глаза. И тогда Гендос осознал самую важную в этот момент вещь: почему Хозяина рисуют без лица. И еще он осознал, что лицо у этой твари все-таки есть. И это было самое омерзительное, самое кошмарное, самое невыразимое зрелище – такое, что даже невозможно ни описать, ни запомнить, ни, тем более, воспроизвести. Лицо, на которое никогда нельзя смотреть, иначе рассудок просто разлетится в клочья, превратится в решето с миллионом дырок, где вместо любых твоих фантазий, мыслей и воспоминаний будет оно – это чудовищное ничто, служащее самым ярким описанием того, что ждет всех живущих. Все это за секунду промелькнуло в голове Гендоса, прежде чем он, жалобно заскулив, отключился.
* * *
Очнувшись, Гендос не сразу осознал, где находится, и по первости подумал, что умер. Но сквозь ослепительно-белое марево ему удалось разглядеть больничный кафель и простыню, прикрывающую его по горло. Единственное темное пятно пошевелилось и преобразовалось в Анну Константиновну с забинтованной головой. Слабо дернувшись, Гендос понял, что привязан. – Не рыпайся, Арзамасов. Отбегался. – И-и-и… – зашипел он, точно гусь. Гортань не слушалась. – Связки не напрягай. Ты и так всю дорогу орал, как оглашенный, пока тебе наркоз не ввели. Что, спросить хочешь? Тут ты, в Нижнешахтинске. И Надька твоя тут. После операции отдыхает. – Гендос напрягся, приподнялголову над подуш кой. Внутри затеплилась надежда вперемешку с отчаянием. – Выскребли ее, выскребли, не сомневайся. Он вновь уронил голову. В горле распух гадкий ком. – Да, Арзамасов, натворил ты делов. Тебя бы за нападение, конечно, за решетку годков эдак на десять, но… – Алла Константиновна неожиданно расплылась в хитрой улыбке. – Где ж Надька такого кавалера еще найдет, чтоб и в огонь, и в воду? Так что слушай сюда. Майорша поднялась со стула, подошла совсем близко, так, что Гендос мог чувствовать запах недавно выкуренной ею ментоловой сигареты. Наманикюренные пальцы извлекли из сумки какие-то фото. – Узнаешь? Да ты погляди-погляди. Вот еще, и еще. – С каждым новым фото глаза Гендоса все расширялись, хотя, казалось бы, дальше некуда. Он снова засипел, но Алла Константиновна накрыла ему губы пальцем. – Тс-с-с. Я знаю, что ты этого не делал. Валерка-то за мамку тоже горой. Вот, пока ты спал, и нафоткали. А теперь слушай внимательно: видел ты больно много, так что отпустить мы тебя никак не можем. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим… а хоть бы и шахтером. А попробуешь свинтить… Алла Константиновна обмахнулась фотографиями, точно веером; мелькнули глянцем переплетенные тела – Гендоса и Валерки. – Я это твое портфолио в область передам. И в розыск. А когда тебя возьмут, уедешь по педофильской статье. Двадцать лет строгача. Я еще слышала, у нас тут в Совфеде химическую кастрацию обсуждают. Кстати, об этом! Чтоб ты Надьку больше не обрюхатил, мы тебя это… чик-чик. Майорша сделала пальцами «ножницы» и шутливо сомкнула их над Гендосовым пахом. Тот в ужасе всхрапнул, забился в путах. – Да не егози ты! Не отрезали мы твое сокровище. Так, канатики перемкнули, а то ты со своей любовью геморроя на наши головы… В общем, Арзамасов, прощаю я тебя на этот раз. И за это, – майорша ткнула в бинт на голове, – тоже прощаю. Но учти – в последний раз. Алла Константиновна уже вышла было из палаты, когда Гендос нашел в себе силы, чтобы выдавить из себя одно-единственное слово: – Зачем? – Что «зачем»? – остановилась майорша в проходе, – Зачем Надьку выскребли? Не любит он, когда его бабы от левых мужиков несут. А Надьке хоть это самое зашивай – слаба она на передок-то. А он, когда чего не нравится, спуску не даст, и тут уж хоть святых выноси, мало не покажется. Особенно тем, кто в шахте. А там у кого брат, у кого сват, у кого муж. Так что, Арзамасов, ты давай нам смуту не наводи. Живи, работай. С комбинатом я договорилась, там как раз местечко освободилось – твоими-то молитвами. Так что, как выздоровеешь – милости просим. И это… – Алла Константиновна Майорша ухмыльнулась. – Надьке извиняться не мешай. Она теперь долго заглаживать будет. – Вздохнула мечтательно. – Эх, везет же дуре! Второй ведь раз… Не, не тягаться тебе с Хозяином. Среди людей нет таких мужиков, чтоб так крыли. Хоть самой от своего дурака залетай… Дверь за майоршей закрылась, отсекая Гендоса от его прошлой жизни.* * *
Дежавю – Гендос снова возвращался с шахтерами на автобусе, только теперь и он был перемазан угольной пылью, а глаза его были такие же потухшие. Теперь он знал, что видели эти несчастные рогоносцы, одним из которых он стал. Дома на всю громкость работал телевизор: – Благодаря героическим усилиям спасателей всех шахтеров удалось поднять на поверхность. Несмотря на значительные повреждения шахтенных систем, директорат комбината смотрит в будущее с оптимизмом, и предприятие возобновило работу… «Надька сжалилась, – подумал Гендос. – Сделала телик погромче». Осторожно, чтобы не хлопнула дверь и не скрипнула половица, он зашел в квартиру. Дверь в комнату была закрыта. Голос ведущей давил на уши, Гендос хотел сделать потише, но тут же в мозг тараном вклинились звуки. Внутри все сжалось, как только может сжиматься нутро мужчины, который слышит стоны своей женщины из соседней комнаты. Он налил и тут же, зажмурившись, опрокинул рюмку водки, но жжение не ослабло – лишь усилилось, подогретое алкоголем. По вечерам он не раз и не два подходил к двери, приникал ухом, слушая хлюпанье, возню и Надькины крики, представлял, как врывается в комнату и стаскивает с любимой женщины чудовищного альфа-самца, но тут же перед глазами вставало то самое лицо, что дети не смели рисовать на асфальте. И он садился обратно на колченогий табурет, делал телевизор погромче, чтобы заглушить звуки, зажимал уши, курил одну за одной и ждал, пока это закончится; пока Надька, наконец, забеременеет – уже не от него. До боли в глазах Гендос пялился на смазливую телеведущую, на архаичную рекламу дурацкого магазина «Панда», на телепомехи, на настроечную таблицу. Лишь бы не оборачиваться к окну, где, подвешенное за нитку, расчекрыженное, болталось в пакетике его, Гендоса, нерожденное дитя.Йога для мертвых (в соавторстве с Владимиром Чубуковым)

Вот и Павлуша Холодцов! На мобильник мне звонил, а потом я из окна видел, как он перебегает через двор к подъезду. Павлуша умеет вилять ногами так, что кажется, будто идет по-деловому торопливо и вместе с тем бежит этаким паучком. Сверху глянешь на него из окна – и невольно захочется раздавить, как гадкое насекомое. Павлуша, он такой: немного гадина, но полезен – всегда зловещие новости на губах у него шипят, всегда он сует нос в темные и смрадные щели, всегда в курсе всего самого мрачного, что творится на задворках мира. Вот и сейчас – что-то выкопал, поделиться спешит. По телефону Павлуша ничего толком не рассказал, сообщил только, что есть новость – «просто огонь», так выразился, – и при встрече он все выложит, а заодно и книжку мою вернет. Вошел ко мне, глаза поблескивают, кончик языка мелькает меж губ, пальцы беспокойно шевелятся. За руку я с ним не здоровался. Брезговал. Павлушина ладонь мягкая, влажная и словно бескостная. Такую ладонь подержишь в своей, а потом захочешь отмыться, будто вовсе и не руки коснулся. Павлуша, впрочем, не навязывался: не протянули ему руку – и ладно. Юркнул в гостиную, пробежал блудливо-алчным взглядом по книжным корешкам в шкафу и книгу мне вернул: сборник стихов Эмиля Верхарна, 1935 года издания. – Книга просто бомбическая! – восторженно прокомментировал Павлуша. – Стал я сравнивать переводы с теми, что в «Библиотеке всемирной литературы», и обомлел: как же они здесь хороши! Вот «Часы», к примеру, взять. В переводе Брюсова, который везде и всюду, последние две строчки: «Вы сдавили мой страх циркулем ваших безжалостных стрелок». А здесь перевод Шенгели: «Их стрелки циркулем сжимают страх, мой страх безумный». И, черт возьми, это же лучше Брюсова! – Так что за новость-то? Павлуша расплылся в загадочной улыбке, выдержал паузу и выложил: – Самосатский! Он из подполья вышел. – Когда? Новость была удивительная. – Ну, вообще-то не вышел еще. Во вторник должен на публике появиться. На Суворовской его выставка открывается, а в субботу он там с лекцией выступает. Андрей Львович Самосатский – главная знаменитость нашего города, художник с мировым именем. Живописец Ада, Русский Босх, Картограф Бездны – так его называли. Лет одиннадцать назад он вдруг пропал, дом свой продал, оборвал все контакты и спрятался в таком углу, что отыскать его не могли года три-четыре, а когда наконец отыскали, он никого не пожелал видеть. И вот – надо же! – устраивает выставку, собирается появиться на публике, да еще лекция… – Только представь, о чем лекция! – продолжал Павлуша. – Тема, тема-то какая! Называется «Йога для мертвых». Билеты на лекцию со вторника начнут продавать. Но я уже достал. Если тебе… – Конечно, нужен! – перебил я нетерпеливо. Павлуша полез во внутренний карман куртки за билетом с таким масленым видом, словно совал руку во что-то интимное.
* * *
Зал был битком. Я пришел почти за час до начала, поэтому сумел занять стул поближе к лекционному столику. Картины, развешенные по стенам, были старыми. Не все из них подлинники, больше половины – отменного качества лазерные копии работ, проданных в частные коллекции. Его картины всегда поражали меня своей бесчеловечной потусторонней мрачностью, в которой странным образом не чувствовалось ни унылого пессимизма, ни мизантропии. Они дышали одухотворенным запредельным ужасом. Перед подобным все виды обыденного мрака – та же мизантропия, тот же пессимизм, всякая там жестокость, кровожадность, злоба, ненависть, – казались детскими игрушками, играть в которые уже просто стыдно. Инфернальные сюрреалистические кошмары, покрывавшие холсты и доски Самосатского, были в каком-то высшем смысле бесстрастны, вознесены над земной грязью и похотью. Если он, скажем, изображал, как причудливые потусторонние чудовища насилуют мужчин и женщин, то в этой загробной порнографии невозможно было уловить даже оттенка сладострастия. Во всем, что касалось человеческой плоти – будь то наслаждения либо пытки, – у Самосатского веяло ангельской бесплотностью и отрешенностью. Художник, сильно постаревший, с изрезанной шрамами лысиной, вышел к столику, прокашлялся и заговорил: – Здравствуйте. Я Андрей Самосатский, художник. Но постарайтесь забыть, что я художник, потому что сегодня я хочу поговорить не об искусстве. Тему лекции вы знаете – «Йога для мертвых». Это будет вводная лекция в новый вид йоги, которую, уж простите меня, старика, я назвал так кричаще. Ни к индуизму, ни к буддизму эта йога отношения не имеет. В сущности, это и не йога вовсе, а психосоматическая методика. Никакие приемы из традиционных практик тут не заимствованы. Индуистская и буддистская антропология, всякие там чакры, гуны, скандхи, дхармы, асавы – все это принципиально проигнорировано. Так что йогой данная методика называется лишь по весьма отдаленной аналогии. Так вот, для начала следует кое-что объяснить…* * *
Выйдя после лекции на улицу, я пытался понять: что это сейчас было? К чему клонил Самосатский в своих запутанных рассуждениях? Впрочем, лекция вводная, так что, возможно, потом все прояснится. Но вторая лекция, назначенная на следующую субботу, не состоялась. И в дальнейшем лекций не было. Причину никто не объявил. Самосатский опять затворился ото всех. Но прошло чуть больше полугода, и по городу, тут и там, появились расклеенные объявления: «Йога для мертвых. Набирается группа учеников, желающих изучать и практиковать новый вид йоги, не имеющий аналогов в истории духовных практик. Предпочтение отдается смертельно больным и склонным к суициду». Фамилия Самосатского не упоминалась, зато был указан адрес: улица Луначарского, 112. Я позвонил Павлуше и спросил, не знает ли он адрес Самосатского. Тот ответил, что знает улицу, а номер дома ему неведом, улица же – Луначарского; ее последние дома подходят под западный склон старого кладбища, которое на Солнечной, вот где-то там, в конце улицы, где совсем уж дремучая глухомань, старик и живет. Что ж, похоже, объявление было дано не кем иным, как Самосатским. После той мутной вводной лекции я все думал: к чему же он клонил? Про саму методику йоги на лекции ни слова не прозвучало. Старик начал с того, что надо, мол, уточнить некоторые базовые понятия, без которых в его системе не разобраться, и вывалил на слушателей целый поток неудобоваримых философских и психологических рассуждений. Лектор из него получился никакой, дар слова у художника отсутствовал напрочь, слушать его было нелегко. Видимо, он сам это понял после вводной лекции, потому и решил с теорией покончить. Но у меня создалось впечатление, что он придумал нечто совершенно исключительное. Мне до подкожного зуда стало любопытно: что ж оно все-таки такое, эта йога для мертвых? И зачем ему живые ученики? Но если йога для мертвецов, то им-то она для чего? В голове мелькали жутковатые картинки: как бездыханные трупы усаживают в позу «лотоса», как укладывают их в позу «собаки», как растягивают им сухожилия на импровизированных дыбах; под руководством Самосатского живые ученики терпеливо и методично прислуживали беспомощным мертвецам. Были и другие картинки, совсем уж нелепые и непристойные. Любопытство стало невыносимым, и я решил записаться в ученики. Доехал до старого кладбища, на котором давно уже никого не хоронили, обошел его вдоль ограды с северной стороны и тропинкой спустился по склону. Внизу, под кладбищем, шла улица Грибоедова, а параллельно – Луначарского. Вскоре я уже нажимал кнопку звонка на калитке номер 112, слыша, как где-то в доме раздается мелодичная трель. Это был добротный двухэтажный дом, построенный, наверное, в середине прошлого века. За ним на участке виднелось строение поновее и в один этаж, с панорамными окнами. Похоже, студия. Калитку отворил молодой человек с внимательным серьезным взглядом глубоко запавших серых глаз и пригласил меня внутрь. Самосатский принимал в гостиной на первом этаже. Беседовал со мной около получаса, задавал неожиданные вопросы, к примеру: «Что, по-вашему, хуже? Первый вариант: полное небытие после смерти, абсолютный нуль. Второй вариант: ад с вечными мучениями. И третий вариант: вечный цикл перерождений, нескончаемая реинкарнация. Что хуже из трех?» Под конец собеседования мне казалось, будто старик не столько выслушивает мои ответы, сколько дегустирует меня, мою душу, как бы пробуя ее на вкус – по глотку, как сомелье. Дегустация завершилась, и он вынес вердикт: принят. Так я вступил в общество изучения йоги для мертвых.* * *
Когда я поделился новостью с Катей, сестрой, – мы случайно столкнулись в торговом центре, – она скривилась: – Митя, ну что тебя все куда-то тянет… в какой-то мрачняк? Действительно, после гибели родителей на всем, что меня занимало, лежал мертвенный, стылый оттенок – будь то живопись, литература, музыка, кино. В моей душе словно что-то вывихнулось. Я стал молчалив и заторможен, но порой делался, наоборот, слишком раздражителен и тревожен. Когда мы с Катей ездили на могилу родителей, сестра всегда была спокойна, по крайней мере внешне, меня же трясло от нервов. И в родительском доме я не мог оставаться, хотя там достаточно просторно; мне все чудилось, будто в нем поселились призраки их отсутствия. Место родителей заполнила пустота, и она жила своей фантомной жизнью, скользила смерчем над полом. Чувствуя ее, я представлял, что и за мной бродит по пятам такой же призрак – ждет, когда я исчезну, чтобы занять мое место. Потом в Катиной жизни появился Игорь – бодрый и хваткий «кабанчик» с собственным бизнесом. При этом лицо словно украдено с чужой головы: какое-то аристократическое, с тонкими чертами; такое лицо впору бы носить художнику или поэту, вот только посреди него зияли самодовольные глаза успешного коммерсанта. Я, как мог, отговаривал сестру от свадьбы, но… Вскоре молодые супруги выплатили мне мою долю за дом, даже добавили сверху, и я был выдворен в отдельное жилье. Из родного гнезда забрал только книги – внушительную библиотеку, собранную дедом и отцом. Ни Катю, ни тем более Игоря эта макулатура не интересовала. – Ну, это все-таки йога, – оправдывался я перед сестрой. – Саморазвитие! И потом, знаешь, кто преподает? Самосатский! Тот самый! – Этот психопат, который на крест себя повесил, чтобы впасть в это… в самадхи и сойти в ад, как Спаситель? – Катины губы брезгливо кривились. – А теперь он, значит, секту организовал? Ты помнишь, за что его отстранили от преподавания на худграфе? – Да это было сто лет назад! – Не важно, сколько лет. У него на курсе случился массовый суицид. И ты хочешь чему-то обучаться у этого человека? – Кать, да мне просто интересно, что за йога для мертвых такая. – Судя по названию, Мить, чтобы ею заниматься, нужно умереть. Из кинотеатра при ТЦ вернулись Игорь с Кирей – моим трехлетним голубоглазым племянником. Оба вышли в холл из лифта, спустившегося с верхнего этажа. Катя тут же оборвала беседу, лишь дежурно пообещала за мной присматривать, а я дежурно ее поблагодарил. Ее «присмотр», с ежемесячными созвонами и стандартными вопросами, в конце концов имел целью держать меня – ходячий сгусток страхов и сомнений – на расстоянии, не подпуская слишком близко к ее уютному семейному мирку.* * *
Когда занятия по йоге начались, оказалось, что Самосатский набрал девятнадцать человек. Семнадцать мужчин и двух женщин. Одна – совсем молоденькая девушка, правда, с таким тяжелым старческим взглядом, что под ним ты сам, казалось, ветшал и приближался к могиле. Вторая – напротив, непоседливая тетушка с желтыми от мозолей пятками. Такие в попытках оживить увядшую красу бегают по степ-аэробикам и скачут в лосинах перед телевизором, когда транслируют утреннюю зарядку. Проходили занятия иногда во дворе, но чаще в дальнем строении, за домом, которое и впрямь оказалось студией, приспособленной под мастерскую художника, но не использовалось по назначению. Самосатский забросил и живопись, и скульптуру. Вообще он был скрытен, о себе не рассказывал, с учениками не откровенничал. Мне даже казалось и, наверное, справедливо, что старик всех нас презирает до глубины души. Занимался он с нами с таким видом, словно ставил эксперименты на личинках или червях. Но его неприязненная холодность, как ни странно, привлекала к нему – и не только меня, других учеников тоже, словно каждому накинули на шею петлю и тянут в неуютную, но и манящую темень. Обведя всех, будто концлагерным прожектором, колким пронзительным взглядом из-под густых бровей, Самосатский провозгласил: – Предупреждаю! Если кому-то что-то не нравится, не прикидывайтесь заинтересованными, сваливайте сразу. Здесь, может, и секта, но не тоталитарная, держать вас и уговаривать не буду. Деньги ваши мне не нужны, занятия бесплатные. Поэтому если пропал интерес, тут же валите, выход всегда свободный. В чем цель занятий? Пока скажу так. Вы должны довести себя до такого состояния, чтобы после смерти могли управлять своим трупом. Подобные практики можно найти у гаитянских хунганов, у индийских агхори, даже у каббалистов. Все они пытались, с переменным успехом, черпать энергию, знания из чужих трупов и, что важнее, – управлять ими. Наша цель схожа, но мы учимся управлять вовсе не чужими трупами. Наша задача – загробная власть над собственным телом. Пока это все, что вам нужно знать. Упражнения, которые он задавал нам, были непонятны. Мы часто занимались в полной темноте, надев очки для сварки с закрашенными стеклами. Старик устраивал нам многочасовую сенсорную депривацию. Приказывал нам закапываться в кучи песка и лежать, скорчившись, под его массой, дыша через трубочку для капельницы. Заставлял испытывать половое влечение к дохлым кошкам. Солнечные дни завершались одним и тем же упражнением на растождествление с собственным «я», оно называлось «тень на закате». Мы садились в студии напротив своих теней, очерченных закатным солнцем, и мысленно переносили свое «я» в темный силуэт на стене. Двигаясь, представляли, что не мы управляем движениями тени, но тень управляет телом. Когда солнце садилось, каждый переживал маленькую смерть вместе с тенью, растворявшейся в сумраке. Казалось, исполняя эти упражнения, мы варимся в желудке какой-то полумеханической твари, методично перерабатывающей нас в продукт неведомого назначения.* * *
Я чувствовал, что за упражнениями стоит какая-то система, но понять ее не мог. Не ясно было и то, какого рода управление собственным трупом имел в виду старик. В некоторых упражнениях прослеживалась своя прогрессия. Скажем, во время упражнения «могила», как мы его называли между собой, старик клал ученикам камни на грудь, с каждым разом все более тяжелые. В упражнениях с трупами одно дохлое животное сменяло другое, и степень повреждений и разложения объекта становилась все сильнее. Поначалу я думал, что старик где-то находит кошек, погибших под колесами автомобилей, но как-то раз Володя Николаев – тот парень, что открыл мне калитку в самый первый день, – по секрету рассказал, что Самосатский сам убивает и калечит кошек. А Володя помогает ему с ними управиться, поэтому знает. Со временем я заметил, что без каких-либо усилий возбуждаюсь от вида развороченных внутренностей и обнаженных костей. Копившуюся похоть я сливал в Надю – ту девушку с тяжелым взглядом. Отдавалась она молча, без страсти, словно выполняла очередное йогическое упражнение. Только иногда у нее начинались беспричинные припадки истеричных рыданий, переходившие в спазмы удушья; это прекращалось лишь после глотка воды. Надя всегда таскала с собой полулитровую пластиковую бутылочку на случай приступа, но никогда не спешила ее открывать. Ей словно нравилось задыхаться, задерживаясь на краю смерти. Несколько раз она спрашивала меня: – Как думаешь, Дим, после смерти нам станет лучше? Там? Я не знал, что ответить. А она как будто забывала, что уже спрашивала об этом, и несколько дней спустя опять задавала тот же вопрос. В ее устах «лучше» звучало как-то по-особенному, с необыкновенной тоской и надеждой, окрашенной горьким отчаянием. Мы, ученики, погружались в лабиринты странной внутриутробной герметики, которая раскрывалась перед нами в своей изощренной сложности, где одно непонятное громоздилось на другом непонятном. Вскоре из девятнадцати учеников осталось восемь. Первой, кстати, покинула нас та бодрая тетушка с заскорузлыми пятками. Мы занимались босиком, поэтому ее пятки я успел не только хорошо рассмотреть, но и возненавидеть. Однажды она просто перестала появляться на занятиях, а потом Павлуша, это ходячее «СПИД-инфо», поведал мне, что тетушка, оказывается, насмерть забила мужа табуреткой, пока тот, пьяный, спал, после чего сама сдалась в полицию. Остальные отказники то ли разочаровались, то ли испугались, заметив патологические изменения в своей психике, и перестали появляться у Самосатского. Курс обучения приближался к черте, за которой окончательный смысл йоги для мертвых должен был наконец проясниться для ее адептов. На одном из занятий Самосатский объявил нам, что на следующей неделе, в пятницу вечером, расскажет все. А когда в назначенную пятницу я вошел в студию, то увидел посреди нее раскладушку, на которой лежал Володя Николаев. Он был неподвижен, холоден (я прикоснулся пальцами к его горлу, чтобы нащупать пульс, и ощутил этот холод), кожа пожелтела, обострившийся нос походил на птичий клюв. Перед нами лежал труп. Наверное, раньше я бы согнулся в рвотном спазме или впал в ступор, но теперь принял смерть своего товарища спокойно – как должное. Тихий Володя, единственный из учеников, который жил у Самосатского и был с ним близок, выделялся особенной отрешенностью. Она сквозила в его глазах, жестах, движениях, в редких словах и длинных паузах меж ними. Мы, семеро, стояли над телом, и мурашки предвкушения бежали у меня по коже. Сейчас что-то начнется, предчувствовал я. Вошел Самосатский, застыл над телом, долго смотрел на Володю, молчал, а мне казалось, что взгляд у него как язык и этим длинным плотоядным взглядом старик облизывает покойного. Наконец он заговорил: – Володя был первым, на ком я опробовал всю систему от и до. После того, что он узнал, он сам захотел уйти из жизни. Вообще я против самоубийства. Но Володя был так решителен, что сделал это сам – одним лишь усилием воли. Это высшая форма власти над телом – когда мыслью и психическим напряжением изгоняешь из себя жизнь. Не руки накладываешь, на что способен любой идиот, а из собственной мысли делаешь петлю и этой петлей душишь себя до смерти. Вот она, власть! Вот победа разума над материей! В закатных лучах на кожу старика лег оранжево-красный оттенок, низкое солнце блеском отразились в левом его глазу, обрисовало светлым контуром орлиный нос, и мне вдруг почудилось, что перед нами стоит не человек, а дьявол. Тот золотисто-красный дьявол, что изображен на одной из самых жутких картин Самосатского «Иерархия загробной тьмы». – Теперь, – продолжал старик, – Володя должен доказать, что не зря обучался. Ему предстоит овладеть собственным трупом изнутри смерти, задействовать его речевой аппарат и рассказать нам, что находится по ту сторону. В том-то и суть йоги для мертвых, чтобы мертвецы могли стать свидетелями и поведать живым про загробное закулисье. Сейчас мы должны помочь Володе. Сядем здесь, и каждый станет медитировать, представляя, что это его собственное тело, на которое он смотрит со стороны, посылая ему приказание встать. Мы будем стараться поднять Володино тело усилием нашего коллективного разума и воли, в то время как Володя начнет поднимать свое тело с изнанки. Когда труп станет двигаться, медитацию прекратим. Все мы, вместе с Самосатским, расселись на полу вокруг раскладушки. Сосредоточились – и начали. Казалось какой-то нелепостью, что покойник лежит на раскладушке, а не в гробу или просто на полу. Почему раскладушка? Но, когда мы приступили к медитации, я, похоже, понял: раскладушка напоминает жертвенник, этакую жаровню для огненного жертвоприношения. Старик выбрал именно раскладушку, чтобы настроить нас, медитирующих, направить наши ассоциативные связи в определенное русло. Упражнением подобного рода мы уже занимались. Самосатский однажды дал нам задание медитативно сконцентрироваться на телах друг друга. Нас тогда было больше, чем сейчас, – двенадцать учеников. Мы уселись в круг, гуськом, каждый смотрел другому в спину, чувствуя на собственной спине чужой взгляд. Концентрируясь на спине соседа, мы должны были перенести в эту спину свою волю. Следовало добиться ощущения, что спина соседа – твоя спина, а твое голое «я» вышло из тела и бесплотным призраком висит в воздухе у себя за спиной, подсматривая за собой со стороны. Чувство собственного тела при этом надлежало утратить. Концентрация на чужой спине оказалась подготовкой к нынешней концентрации на Володином трупе. Как в тот раз, когда мы с помощью воображения переносили себя в спину соседа, так теперь старались перенести себя и всю свою волю в мертвое тело, которое со всех сторон стало словно бы безликой спиной. У меня мелькнула внезапная мысль, что смерть – это искусство повернуться спиной одновременно ко всем сторонам света. В тот раз, когда мы погружались сознанием в спину друг другу, Володя сидел прямо за мной и казалось, что он вгрызся в меня, будто клещ-кровосос, и моя кровь вместе с жизнью переливается в него. Тогда я приписал все своему разыгравшемуся воображению и постарался подавить это чувство, чтобы не мешало медитировать. Но сейчас я вновь ощутил связь с Володей, словно его труп высасывал из меня силы и разум. Подавлять ощущение я уже не старался. Ведь для того мы и медитируем сейчас, чтобы помочь Володе, отдать ему часть себя, так?.. Знобящей слякотью поползла по мне тихая пока еще паника. Я как будто взглянул на себя со стороны. Черт, да это же безумие какое-то! Что мы делаем?! Ладно – все, но я-то, что делаю я?! Неужели я поверил этому свихнувшемуся старику? Пусть он хоть трижды гениальный художник, но это же безумие – то, чем он заставил нас заниматься. «Опомнись, Митя, – мысленно говорил я себе, – во что ты влип?!» Тошнотворный страх сдавил горло, как только я понял, что напрочь отвлекся от предмета медитации, что думаю сейчас в сторону, но медитация при этом продолжается, будто мной манипулирует некий оператор. Я вздрогнул, как от удара током, и попытался вскочить. Тело не подчинилось. Происходило что-то небывалое, выходящее за рамки всякой йоги. Не отрываясь, смотрел я на Володин труп, на его хищно обострившийся профиль. Мне померещилось – и хорошо, если только померещилось, – что по губам мертвеца ползет ухмылка. Нет, черт возьми, не померещилось! Труп действительно улыбался. От ужаса меня бросило и в жар и в холод одновременно. Неужели все это реальность и Володя овладевает своим мертвым телом с изнанки жизни? А остальные – интересно, они хоть что-то замечают, видят эту невозможную зловещую улыбку на неживом лице? Я хотел обвести взглядом нашу группу, но не было сил ни шевельнуть головой, ни оторвать глаз от Володи. Стало слышно, как в тишине студии громко – невыносимо громко – скрипят пружины раскладушки, на которой шевелится тело мертвеца. Внезапно труп раскрылся, словно бутон цветка, разрывая ткань футболки, в которую был облачен. Из Володиных внутренностей выпростались длинные мясистые отростки, похожие на кишки, только толще. На конце каждого раскрылась пасть, полная звериных зубов. Клочья Володиной одежды взвились в воздух, загораясь на лету. Вспыхнула ткань раскладушки. Восемь отростков бросились к нашим глоткам. Когда передо мной возник желтозубый оскал лиловой бугристой кишки, удушливая жуть лишила меня сознания.* * *
Очнувшись, я почувствовал запах гари и увидел мертвые тела. Самосатский и шестеро учеников – все лежали в лужах крови, у каждого было разорвано горло. С какой-то ревнивой жалостью я узнал в переломленном надвое трупе Надю. Смерть почти не исказила ее черт – скорее, даже сделала их более выразительными, более женственными и взрослыми. Словно при жизни Надя была еще ребенком, но вот наконец созрела и выросла – в труп. Вокруг обугленного остова раскладушки было разбросано горелое рванье, в которое превратилась одежда покойника. У окна стоял обнаженный Володя Николаев. Он тут же повернулся ко мне, будто спиной почуял, что я пришел в себя. Покрытый кровью, Володя блестел, как карамельное яблоко, но был совершенно невредим. На его теле не осталось ни шрамов, ни следов недавней страшной трансформации. Я попытался подняться с пола, и Володя как-то вдруг оказался рядом: словно перетек из одного пространства в другое, не сделав ни шага. Глядя на меня сверху вниз, он заговорил: – Знаешь, почему Самосатского не приняли даже в самых отбитых маргинальных тусовках? В отличие от их дешевого фиглярства со свиной кровью и пригвожденными к мостовой мошонками, его искусство – нечто подлинное. А это недопустимо. Фигляры нутром чуют истину и, если не могут на ней паразитировать, ненавидят ее. Йога для мертвых – тоже истина, но другого порядка. Теперь я знаю это. И она не просто опасна, она убийственна. Не только для людей – для самой реальности. Я вернулся не затем, чтобы рассказать вам загробные тайны. Я здесь, чтобы убить вас всех. – Но я… почему… – Липнущий к небу язык не слушался меня. – Ты не обольщайся. Я оставил тебя в живых как самого трусливого. Самосатский увидел в тебе то, что хотел увидеть. А я знал, что ты из страха приходишь на занятия, из подлого такого страха. Ты же боишься смерти, как целка – хера. И полез сюда, думая выгоду словить, если повезет: вдруг какой-то рецепт отыщется, чтобы смерть отодвинуть или даже с ней договориться. Что, я прав, да? Вижу. Я с самого начала тебя презирал. Но сейчас это все даже хорошо. Из трусости ты поможешь мне покончить с этим. Он протянул мне руку. Я с опаской вложил ладонь в его ладонь, сухую и холодную, как кожа рептилии. Он рывком поставил меня на ноги. – Что это было? – спросил я, глядя ему в лицо. Он все же малость ошибался насчет меня: любопытство во мне всегда побеждало страх. – Эти отростки, зубы… – Смерть полна сюрпризов, – отвечал Володя. – Психика и плоть, если не ограничены жизнью, то способны на очень многое… И хорошо, что мертвые не умеют возвращать себе контроль над плотью. Я могу, потому что готовился при жизни, а другие – нет. И тем лучше. Ты знаешь, что мертвые ненавидят живых? Не все, конечно, но большинство. Путь через смерть… особый путь. С психикой там такое творится, что личность становится пародией на человеческое «я». Все чувства замещаются страхом и злобой. Если бы не практика у Самосатского, я бы… Впрочем, сам видишь, какие методы я выбираю. Сорняк надо рвать с корнем. Йоге для мертвых нельзя позволить распространяться. Если кто-то – с любой стороны – пронюхает про нее… Его речь звучала обыденно, словно говорил прежний Володя, еще живой. Даже казалось, он стал как-то живее, что ли, по крайней мере, сделался говорливее. Обычно-то он был немногословен. – Зачем я тебе? – задал я вопрос. – Ты поможешь мне найти записи Самосатского и разобраться в них. Ты знаешь, что во сне читать невозможно? Спящий мозг плохо воспринимает письменный текст. А смерть недаром называют сном: «успение», «усопший», и все такое. Я пытался прочесть сам, но… Короче, мне нужен живой помощник, способный читать. Ты найдешь все записи – в компьютере, на любых носителях, в распечатках – и все мне прочтешь. Я уверен, старик оставил самое сладкое для личного пользования. А потом мы все уничтожим. Ты расчистишь облачные хранилища. Харды, флешки, карты памяти – все, что найдем, – сожжем в микроволновке. Никакой информации по йоге для мертвых остаться не должно. – А потом что, убьешь меня? – Нет, Димон, не убью. В награду за помощь оставлю тебе жизнь. Ты самый бесталанный и трусливый из всей нашей группы, поэтому достоин жить. Ты никогда до конца не понимал эту йогу и теперь уже не поймешь. Но смотри, я буду следить за тобой с той стороны. Всю твою жизнь. Если узнаю, что ты пытаешься возродить эту ересь, то пожалеешь, что мама тебя не выскребла вешалкой из утробы. Жить будешь тихо и осторожно, как на тонком льду.* * *
Компьютер Самосатского был сплошной помойкой. Кое-как среди схем, формул, фотографий трупов и искаженных изображений Витрувианского человека я все же обнаружил записи по йоге для мертвых. Найти их было нелегко: старик спрятал файлы среди картинок, расширения файлов изменил с doc на jpg. Если б Володя не рассказал мне про эту хитрость, я бы ни за что не догадался. До раннего утра читал я вслух тексты, а Володя внимательно слушал. Сам я постепенно перестал понимать смысл того, что читал. Сознание почти отключилось от словесных верениц, которые я заглатывал глазами и выплевывал ртом. Все эти «витальные разложения» и «аутолиз сознания» мешались в какое-то дурнопахнущее месиво. Володя слушал молча и бесстрастно, лишь на нудном параграфе про «обратное управление» его лицо исказила гримаса, словно он захотел сплюнуть что-то мерзкое. – Ты чего? – спросил я. – Что-то… плохое? – Лучше забудь об этом, если не хочешь, чтобы я и твои мозги засунул в микроволновку, – произнес Володя мрачно. И я честно постарался забыть. Когда мы закончили и микроволновка поджарила предварительно отформатированные, потом раскуроченные хард-диски – один внешний, другой из ноутбука, – Володя поднял правую ладонь, растопырил пальцы, и у него на ладони расцвел бутон пламени. – Теперь уходи. Обо всем забудь. А я тут все сожгу. – И сам сгоришь? – Жди, ага! – отвечал он с полуулыбкой, от которой мне стало не по себе. – Это тело уже не сгорит. И я в этом теле еще приду к тебе, если что. Ледяным взглядом смотрел он на меня, и не хватало сил отвести глаза. Так, наверное, обреченный кролик чувствует себя в ловушке змеиного гипноза. Наконец Володя сам отвел взгляд, точно выдернул из меня иглу, на которую я, как бабочка, был насажен, и посетовал: – Обидно, что при всех новых возможностях я теперь не способен читать. Мысли – пожалуйста. А буковки, словечки… Черт бы их побрал! Смотрю на них – и ничего не вижу. Рябь какая-то, туман. У меня даже такое подозрение закрадывается, что я и не ожил вовсе, а сплю где-то в загробной норе и это мне только снится. И ты, Димон, снишься, а самого тебя нет, и я тут беседую с фантомом во сне. – Ну, это, Володя, знаешь ли, наглость, – пробормотал я зло и с неожиданной для меня самого смелостью, – когда оживший труп так заявляет живому человеку, что тот – фантом, привидение какое-то… Володя внезапно взорвался хохотом. Звонко шлепнул меня по спине левой ладонью. Он хохотал, а я пятился. Только сейчас почувствовал по-настоящему, что он – не человек, что это кошмарное существо, выползшее на свет из потустороннего мрака. Если говорил он с обыденными интонациями, то смех – нечеловеческий, остервенело-механический, жуткий – выдавал в нем чудовище. Так смеяться не мог никто из живых. Огонь взмыл с его ладони к деревянным перекрытиям потолка, и я ощутил, как волосы скручиваются от жара. – Беги, Димон. И помни – я за тобой присматриваю. Я сглотнул, выскочил из дома и побежал – прочь от разгоравшегося пожара, прочь от жуткой Володиной улыбки, прочь из этого кош мара.* * *
С того дня я жил в постоянном страхе. Лишь изредка он затихал, чтобы вскоре вернуться. Походил на легкие почечные колики в сопровождении тошноты. Страх преследовал меня, словно хронический недуг, от которого не помогает никакое лечение. Я все время чувствовал смерть как границу, проходящую где-то рядом – где-то прямо за моей спиной. А по ту сторону границы мне мерещилась тьма, жуткая и опасная, из которой за мной следят чьи-то внимательные глаза. Меня пугала мысль о мертвых вообще и о Володе Николаеве в частности. Ведь он же наверняка способен передумать, разве нет? Пусть он обещал не трогать меня, пощадить, но надолго ли хватит обещаний мертвеца? Может быть, он уже решил – прямо в сей самый момент – все-таки расправиться со мной? И скоро придет. Или уже пришел и наблюдает из какой-то укромной тени, поблескивая бесчеловечными глазами. Эта мысль изводила меня каждый день. Из-за нее все валилось из рук, я не мог ни на чем по-настоящему сосредоточиться. Меня будто заживо пожирали черви – скользкие мыслишки и мутные оттенки чувств, порожденные страхом. Надо ли говорить, что про йогу для мертвых я никому и полслова не вымолвил?* * *
Это был муторный дождливый день, полный, как всегда, тревожных ожиданий. Я лежал дома больной, с высоким давлением, с головной болью, с температурой. В прихожей раздался звонок. Пошатываясь, я подошел к входной двери, прильнул к окуляру глазка и увидел – вот уж неожиданность – искаженное линзой Павлушино лицо. Оно походило на знаменитый кадр из фильма Мельеса «Путешествие на Луну». На вздувшемся лунообразном лике – кратеры оспин и возвышенности прыщей. Похабный кончик языка просунулся меж тошнотворных мясистых губ. Глаза в похотливой поволоке. Ноздри – как две норы, откуда вот-вот зазмеится какая-то вязкая космическая дрянь. Холодцов впервые заявился ко мне без предупреждения. Совсем не в его стиле. Отворив дверь, я никого не увидел. Пустая лестничная клетка. Черт бы побрал этого Павлушу! Вздумал шутки шутить? Или… он просто мерещился мне, когда я заглядывал в глазок? Разозленный, закрыв дверь, я вернулся в комнату и остолбенел. Павлуша стоял спиной ко мне, перед моим книжным шкафом. Он повернулся, улыбнувшись, но странная вышла улыбка – надменная, незнакомая. Так он никогда не улыбался. В руках держал книгу – солидный старый фолиант в потертом кожаном переплете. Не из моей коллекции. – Думаю, тебе интересно будет взглянуть, – сказал он, нежно поглаживая пальцами корешок. – Погоди, Павлуша, ты как здесь… – пробормотал я. Он молча протянул мне книгу, я взял ее, открыл и похолодел, прочитав на титульном листе напечатанное старомодным дореволюционным шрифтом:А. Л. Самосатскiй ЙОГА ДЛЯ МЕРТВЫХЪНаскоро я пролистал страницы – никакого текста, только схемы, пиктограммы и рисунки, будто книга писалась для дошкольников или умственно отсталых. Для тех, кто не умеет читать. Я поднял глаза на Павлушу. Он уже не улыбался. Его взгляд обжигал и подавлял. – Тут есть пропуски, которые нужно заполнить, – произнес он. – Ты, Дима, единственный из живущих, кто прочел все записи Самосатского перед уничтожением. Наживку старик проглотил, но… подавился раньше времени. Этот сучий Николаев спутал мне все карты. Благо он не стал размениваться на такое бездарное и ссыкливое чмо, как ты. Знаешь, в чем настоящий смысл йоги для мертвых? Мы искали способ овладевать телами живых с изнанки. Но, сам понимаешь, заниматься этим по ту сторону, да еще и вне тела, весьма затруднительно. Самосатский должен был развить эту идею, разработать способ… А долбаный Николаев похерил все разработки. – Так Самосатский тоже?.. – изумленно спросил я. – Мертвец? Нет, он – просто наш инструмент. Старый хрыч и сам не до конца понимал, какую штуку разработал, и уж тем более не догадывался о последствиях «обратного управления». Это я ему подкидывал идеи, озарения, сны! – не без гордости признавался Павлуша. – В чем он был действительно хорош, так это в систематизации процессов и расшифровке глубинных механизмов человеческой сути. Нам, мертвым, такие эксперименты недоступны: смерть, она, знаешь ли, расчеловечивает. Пришлось подтолкнуть его к созданию экспериментальной группы под видом секты здесь, среди живых. И вот, стоило мне отвернуться, как у вас там началась бойня. А теперь все: ни из дохлого Самосатского, ни из его учеников уже ничего не выудишь – мертвый мертвому не господин, у каждого из нас, что называется, «свой котел» в глубинах смерти. Если мертвые объединяются друг с другом, то добровольно. Там ведь не просто потусторонний мир, там хуже, потому что каждый находится по ту сторону каждого другого. А вот живыми мы можем манипулировать. Короче, если б не эта тварь Николаев… Вернее, если б не ты! Этот человек пугал меня. Словно в Павлушину шкуру влез незнакомец, и был тот незнакомец опасен до крайности. Я чувствовал эту опасность, текущую от него по воздуху, как металлический и сладковатый запах крови. – Да я ничего не помню… Я же хотел все забыть, – запинаясь, отвечал я. – Тем более не помню его записей. Я читал и как будто отключался. – Мы знаем. Но это поправимо. Я для того и пришел, чтобы реставрировать твою память. – Павлуша искривился в такой злорадной улыбке, что дрожь пробежала у меня по коже. – Я заставлю тебя все вспомнить, и знаешь, каким методом? Павлуша сделал шаг вперед. Потом вдруг как-то подскочил ко мне и, припав губами к моей щеке, близ самого уха, жарко зашептал: – Методом выворачивания тебя наизнанку. Отстранился и пронзительно захохотал. Я отшатнулся, выронил книгу, попятился и, наткнувшись на кресло, рухнул в его объятия. Павлуша тут же кошкой прыгнул мне на колени, по-женски прильнул к моей груди, а сам продолжал заливаться каркающим хохотом, от которого ледяной ужас растекался по моему нутру. Хохот был в точности как у мертвого Володи Николаева. Отсмеявшись, он поднялся, да еще так, будто брезгливо отряхивался после прикосновения ко мне. Подобрал книгу с пола, глянул на меня сверху вниз и произнес – как сквозь зубы сплевывал: – Я с тобойне шучу. Я тебя выверну. И если надо – то во всех смыслах. Физически в том числе. Я тебя загоню в змеиную яму такого ужаса, где из тебя все человеческое выпарится, всякая забывчивость тебя покинет, и ты вспомнишь. Знаешь, как перед самой смертью вспоминают всю свою жизнь до мелочей – так и ты вспомнишь, все до последней буковки. Будешь блевать памятью до опустошения. – Да кто ты такой?.. – прошептал я, ерзая в кресле от внезапных болезненных спазмов, пронзивших мышцы обеих ног. Павлуша взмахнул рукой и подбросил книгу вверх. Едва вырвавшись из пальцев, она бесследно растворилась в воздухе. – Кто я такой? – едко ухмыльнулся он. – Ты как думаешь, в загробном мире обитают одни лишь обычные мертвецы? Бесплотные тени слоняются в скорби и смертной тоске, да? Есть еще и коренные обитатели – те, что мертвы, хотя никогда не жили и не рождались, малые и великие. Некоторые – настолько великие, что в их телах, как паразиты, обитают другие мертвецы. Настолько великие, что само их присутствие в вашем мире поставило бы реальность под сомнение. Наверное, поэтому их изначально и не позвали на вечеринку, они родились в этой тюрьме без времени и пространства. Но теперь у них есть шанс выйти на поверхность. И это, между прочим, благодаря и тебе, Дима. Хочешь знать, кто я? Я тот, кто может испарить твою кровь силой мысли. Тот, кто может в один миг населить твой кишечник плотоядными червями, которые будут жрать тебя изнутри. Любые пытки, любые галлюцинации, любые кошмары. Все, что можешь себе представить, и даже больше. Хотя это все цветочки по сравнению с тем, что могут мои покровители. Поверь, лучше тебе не знать, ха-ха, лучше не знать! Я смотрел в хищное и жестокое лицо этого существа, судорожно хватая воздух, который хрупким стеклом крошился у меня на зубах. Пот затекал в глаза, все плыло и двоилось, и чудилось, что стены комнаты падают на меня, захлопываясь створками капкана, и кресло подо мной разверзается, становится колодцем, а я лечу в его темную глотку. Длинный склизкий язык высунулся из вонючего Павлушиного рта и лизнул меня в глазное яблоко. Раздался сладострастный шепот: – Но убивать тебя я не буду. Как бы ни хотел. Ты нам еще нужен.
* * *
То, что Павлуша сделал со мной, никак в сознание не вмещалось. Какой-то дурной сон, лишенный логической последовательности, дробящийся на калейдоскоп образов, и все они друг другу противоречат. Самым реалистичным был образ, в котором Павлуша, вскрыв мою грудную клетку и выломав несколько ребер, всунул морду мне в нутро, урчал и чавкал, что-то пожирая. Поднимал голову и остервенело тряс ею, чтобы оторвался зажатый в зубах кусок моей плоти, тянувшийся из обнаженных внутренностей. Прочие картины, теснившиеся в моей памяти, были еще более фантастичны. Я даже не знаю, сообщил ли я что-то Павлуше – он поглощал информацию каким-то нечеловеческим способом, напрямую из меня, высасывал ее из моей кровоточащей плоти, а когда я оказывался на грани смерти, он собирал меня из ошметков, на которые я распадался, чтобы вновь и вновь пытать, пока не выпотрошит мою память целиком. Я внимательно осмотрел себя: ни швов, ни шрамов. Ощупал ребра – все целы. Значит, никто меня не вскрывал, по крайней мере физически. А стало быть, все это… метафора? Или теперь все метафоры стали реальностью, и принципы обыденной логики уже нельзя применять к случившемуся? Пока длилась экзекуция – или как еще назвать то кошмарное и неопределенное, что творил со мной Павлуша, – пока длилась эта пытка, мне мерещилось что-то чудовищное, какие-то безобразные фигуры, ползающие по стенам, по потолку, вертевшиеся рядом. Одни мелькали, быстрые, как пронзительные болевые спазмы, другие едва передвигались, третьи цепенели в неподвижности. Фигуры нелепые, отчасти человекообразные, отчасти чудовищные. Одна была почти человеческой, только вместо глаз торчали из-под надбровных дуг два свиных рыла. Это существо смотрело на меня своими четырьмя ноздрями, и я чувствовал внимательный, умный, недобрый взгляд из черных отверстий. Менее всего походило на человека огромное насекомое вроде саранчи, кузнечика или богомола, скрещенного с каракатицей. Мне казалось, что я галлюцинирую, но пришло понимание: я вижу новую реальность. Новую – для моего зашоренного восприятия, но, в сущности, старую, ветхую, древнюю. Павлуша не просто терзал меня – он изменял саму структуру моего сознания: шаткое и зыбкое человеческое превращал в какое-то… черт его знает какое. Чтобы добыть из омута моего беспамятства затерянные сведения, следовало расчленить, а после – пересобрать заново все мое существо. Как бы вывернуть меня наизнанку, сокровенные глубины моего «я» сделать поверхностью, обнажив самое нутряное, интимное. Поэтому я и вижу теперь то, что человеку видеть не положено. И все это даже… смешно. Да, это просто смешно, черт побери! Припадки тошнотворного омерзения к самому себе, что я испытывал после ухода Павлуши, сменялись припадками злорадно-яростного смеха. Я сошел с ума? Нет, тут другое, нечто худшее. Или лучшее – это как посмотреть. Психоз отныне стал моей нормой, моей линзой восприятия. Дни, что провел затворником в стенах своей квартиры, я не считал. Мне нужно было идти в поликлинику для продления или закрытия больничного, но я никуда не пошел. Даже в магазин не выходил, на звонки и сообщения с работы не отвечал. Доедал последние крохи продуктов, которые сумел отыскать в своих запасах. Выглядывая из окна во двор, я видел то же, что и всегда, но чувствовал: теперь привычная реальность стала враждебной – враждебной для меня, а может, и для всех вообще. Весь мир казался вьетнамской ямой-ловушкой: сделай шаг – и провалится тонкая сетка с травой поверху, и в тебя вонзятся бамбуковые острия, вымазанные в нечистотах. Тревожное и грозное нечто незримо витало в воздухе. Лежа в постели, я засыпал, просыпался, вновь засыпал и не мог понять, куда попал во время очередного перехода – в явь или в сон? Когда я смотрел на часы, казалось, что время течет вспять; я проваливался из «позже» в «раньше». Конечно, не время виновато, а моя память, путавшая цифры. Где-то в глубине то ли ночи, то ли черного дня ко мне приблизилось сумрачное пятно. Став ближе, обрело черты Володи Николаева. Он тяжело смотрел на меня, на дне его взгляда ворочались каменные жернова. – Надо было тебя убить, – произнес он. – Жаль, я не успел вовремя. За временем по ту сторону сложно уследить. – Сложно?.. – глупо отозвался я. – Вы живете в бесконечном «сейчас», а нас разбрасывает и размазывает по времени. Можно пропустить века, а подумать, что отвлекся на секунду. – Теперь ты меня убьешь? – спросил я. – Раз уж я все выдал… Он брезгливо скривил губы, покачал головой: – Твоя смерть ничего не исправит. Станет просто на одного покойника больше. Йогой для мертвых уже завладели мертвецы, наверное, худшие из всех. Есть в записях Самосатского пунктик, о котором он умолчал, даже мне не открыл. «Обратное управление». Техника, с помощью которой мертвый может овладеть телом живого, если тот изучал йогу для мертвых. Жди, скоро их эмиссары в вашем мире начнут открывать центры и студии по изучению этой йоги. Знаешь, что они запланировали для всех своих учеников под видом мистического прорыва на сверхуровень? Духовный суицид. – Погоди! Как это: суицид – и духовный? – Ментальное уничтожение собственного «я», – пояснил он. – В традиционной йоге подобное вовсю практикуется. Свое «я» надо растворить в высшем «Я», в Брахмане, как у индуистов, или там в нирване, как у буддистов, в сатори, как у дзен-буддистов. Тот же эффект можно получить, приняв галлюциногенные наркотики. Тут много разных способов. Берется какая-то идея или представление, и ты стараешься растворить в ней свою личность до чувства полного уничтожения собственных границ. Это может быть идея Бога или нирваны как вечного покоя либо представление об окружающем мире, о природе, о космосе, в которых ты как бы растворяешься. Помнишь, мы у Самосатского занимались растождествлением с собственным «я»? Упражнение «Тень на закате». Это ведь как раз из той оперы. Здесь подрубаются связи между телом, психикой и самосознанием. Отсюда один шаг до духовного самоубийства. Так тело подготавливается к принятию в себя чужого «я». После таких упражнений происходит прорыв: человек перестает быть личностью и становится личиной, оболочкой с многократно заменяемым содержимым. Ради этого они собираются насаждать йогу для мертвых. Сны, галлюцинации, озарения; рано или поздно о йоге будут знать все. В итоге каждое тело станет их марионеткой. Я не рассказывал тебе, Димон, о мертвецах, что всегда были по ту сторону, потому что от этого знания у тебя мозги бы спеклись. Но теперь слушай. Эти твари заперты там с самого начала. Они были мертвы до того, как появилась первая жизнь. Быть мертвым, Димон, очень больно. Постоянно больно, на всех уровнях, на физическом, на духовном, на клеточном, на молекулярном, на квантовом и на еще более мизерном. Представь, что ты – один сплошной оголенный нерв. Представил? А теперь представь, что тут боль совершенно другого порядка и тебе даже вообразить ее не под силу. Их боль – за пределами всякой боли. Как инфразвук за пределами слышимости: его нет для твоих ушей, но он есть. И когда они выйдут… Я не знаю, что они для вас приготовили, но это точно хуже смерти. Я думаю, что ужас начнется через несколько месяцев. Эти твари слишком долго сидели в загробной тьме, пили там собственную злобу, словно кровь, сознание у них полностью извратилось, ненависть к человеческой жизни разрослась, как раковая опухоль. Они даже не существа. Они – что-то вроде загробных неправильных истин, разумные абстракции. Лучше сказать – безумные. И если одна такая хотя бы заглянет в вашу реальность – отравит ее безвозвратно, заразит, как вирусом. Белое станет черным, верх – низом, а время обратится вспять. Или что-то еще хуже. А следом в пробоину хлынем и мы, обычные усопшие. Я, по наивности, думал, что могу хоть что-то сделать. Да что теперь говорить! Прощай! Меня можешь больше не опасаться. Теперь тебе надо бояться их. Володя распадался на глазах, произнося эти слова, и на последнем, инфернальном «их» слабо колыхнулся витающий в воздухе пепел, оставшийся от него.* * *
В страшном ожидании я проводил недели. Почти не ел и не пил, даже не уверен, что справлял нужду; после сказанного Володей я словно сам помертвел. Страшно было смотреть в окно, страшно было выходить на улицу: казалось, Апокалипсис уже начался, и стоит мне выйти – как меня схватят и поставят подле Павлушиного трона, будто его глашатая, инфернального апостола, и я стану прилюдно свидетельствовать об ужасе, служителем которого стал. Нарушить уединение заставила меня сестра, Катя. Позвонила и сказала, что заедет за мной с Игорем и вместе мы отправимся на кладбище. Сначала я не мог понять, чего она хочет от меня, зачем тянет на кладбище, но вспомнил. Каждый год, в апреле, в то воскресенье, что ближе к шестнадцатому числу или совпадает с ним, мы с сестрой едем на кладбище, на могилу родителей. Это был единственный день в году, когда я брал себя в руки и заглядывал в лицо незыблемой, как надгробный памятник, правде. Там, под гранитным памятником, они лежали вдвоем, погибшие девять лет назад в автомобильной аварии, оставившие нас с Катей сиротами, правда, уже взрослыми, двадцати двух и двадцати трех лет – мы погодки. Когда она позвонила мне снова и сообщила, что машина уже во дворе, я впервые за много дней после Павлушиного визита переступил порог квартиры. И сразу начались странности. Двери лифта разъехались передо мной, и я отшатнулся от внезапного зрелища. Вместо привычной кабинки открылось помещение с длинным коридором, уходящим вдаль и там сворачивающим влево. В коридор выходили двери еще каких-то помещений. Непонятно было, как все это пространство вместилось в узкую шахту лифта, да и в сам дом. Одна из дверей в этом невозможном пространстве медленно, без звука открывалась в коридор. Из-за нее выползал мрак, и вскоре коридор наполнила темнота, несмотря на лампы, светившие с потолка. Электрический свет уже не разгонял темноту, он захлебывался в ней. И на лестничной клетке вокруг меня потемнело, хотя из окошка в стене проникал дневной свет, уже бессильный против этого сумрака. Дверь в коридоре передо мной открывалась все шире. Контур ее обрамляло какое-то гнилостное фосфорическое полусвечение. Страшно было представить, что скрыто за дверью, что готово выползти в коридор, выбросив перед собой мерцающие во мраке щупальца. Щупальца? Мерцающие? С чего это я думаю о них, воображаю их, словно уже где-то видел? Неужели я знаю, что там, за дверью? В панике я сорвался с места и побежал вниз по лестнице, стараясь не оступиться в сумраке. Наверху захлопнулись створки лифта, он зашумел, уходя – спускаясь или поднимаясь? Шум лифта не удалялся и не приближался по вертикали, как обычно, а звучал с разных сторон, перемещаясь так, словно лифт кружил, будто акула в воде, решившая окольцевать жертву парализующим страхом. Абсурдная мысль плясала во мне: что, если я не успею добежать вовремя, что, если лифт окажется внизу раньше меня и дверь, ведущая на улицу, распахнется прямо в его отверстую глотку? Этот лифт мог теперь оказаться где угодно – за дверью любой квартиры, за дверью подвала, за дверью подъезда… Несколько раз я чуть не падал, оступаясь, но все-таки удержался, успел и вырвался наружу из тьмы, настолько густой, что ее, казалось, можно пощупать. И услышал, как за спиной, во мраке подъезда, хищно лязгнули челюсти дверных створок. Ослепленный апрельским солнцем, на нетвердых ногах я растерянно добрел до автомобиля, припаркованного в дальнем конце двора. Забрался внутрь, скорчился на заднем сиденье и угрюмо застыл, рассматривая свои колени. Выглядел я, наверное, жалко. Игорь с Катей, сидевшие впереди, переглянулись. – Мить, ты в порядке? – сочувственно спросила Катя. – Неважно, – буркнул я. – Поехали быстрее. Мне следовало все обдумать. Кошмарные фигуры, что я видел во время экзекуции, можно объяснить прозрением в иную реальность, но как объяснишь то, что произошло у лифта? Когда я задал себе этот вопрос, ясно его сформулировал и приготовился обдумать, то какой-то частью себя тут же и ответил. Ответил так, словно припомнил давно мне известное. Обитатели смерти поднимаются на свет из ее глубин, из преисподних щелей и провалов, они несут с собой заразу нижних, запретных зон мироздания – богохульные, противоестественные истины. Та зараза поражает нашу реальность, саму ее структуру, превращает обыденность в адский кошмар. А поднимаются эти твари, потому что чуют добычу… Пока ехали, пока стояли в утомительной пробке, Катя восторженно рассказывала мне о своем новом увлечении, о «йоге бессмертия», которая так сейчас популярна. Всюду о ней говорят, везде рекламируют. В сущности, говорила она, это целая новая религия, только нетипичная. Знания передаются не по книгам, не от наставника к ученику, а от умерших к живым. – Что?! – встрепенулся я. – От каких еще умерших? – Ну, от махатм, – пояснила Катя. – Махатмы, знаешь? «Великие души» на санскрите. Они давно достигли просветления, поднялись в высшие слои астрала и теперь нисходят в наш мир, чтобы обучать живых йоге бессмертия. У них есть посредники – медиумы, инструкторы и проводники. Я познакомилась с одним, Павел Андреевич его зовут. Он объяснил, что если живые сами будут обучать друг друга, то все испортят. Это ведь у нас закон. Взять любую религию; во что она превращается в руках человеческих? Поэтому махатмы явились сами, чтобы исключить человеческий фактор. – И чем вы там занимаетесь? – спросил я, мучительно пытаясь вспомнить Павлушино отчество: кажется, что-то на «А»… Черт, неужели?! – В основном сейчас мы растворяем свое «я» в ноосфере, сливаемся с ней. Главное упражнение называется «Тень на закате»… – Не смей! – Я до судорог в пальцах вцепился в Катино плечо, шипел сквозь зубы еле слышно, весь воздух вышибло у меня из легких. – Не смей больше никогда… туда… этим заниматься! – Ай, Мить, отпусти, больно же! – Что там у вас? – Игорь отвлекся от дороги, машина заложила вираж, заехав на узкий тротуар и едва не вписавшись в забор одного из домишек, которые лепились к дороге. – Катя, я тебе говорю: не ходи туда больше! Забудь про это, слышишь?! – Блин, Митя, отцепись уже! Чего ты?! – Это опасно, Кать, понимаешь? Очень опасно. Недоставало сил кричать, я сипел одним лишь горлом, напрягая голосовые связки до предела. – Да ладно-ладно, успокойся только! – Я, кстати, тоже не в восторге, – произнес Игорь. – Весь этот шум вокруг «йоги бессмертия» напоминает психоделическую революцию шестидесятых годов, когда ЛСД еще не запретили, пиарили его вовсю, даже применяли в психиатрии. Это ж надо, психов лечили с помощью ЛСД!.. – Ну ты сравнил, – отозвалась Катя. – То ж химия, а тут чистая мистика и духовная практика, никаких наркотиков. Есть же разница! – До фига там разницы, ага! Ладно еще гимнастика на основе йоги, это я понимаю, но вся эта мистика… Спортом нужно заниматься. Без всякого патологического мусора. А в здоровом теле и дух здоровый, – подытожил он. Катя надулась, я был обессилен панической атакой, и дальше мы ехали молча. На кладбище увидели, что снова, как и в предыдущие три года, меж могил отца и матери пробилась из-под земли длинная лоза какого-то шипастого растения. Мы уже вытягивали эту дрянь из подземных недр, обрезали ее секатором, заливали химией, которую раздобыл Игорь, но она упорно продолжала расти на том же месте. Когда я смотрел на проклятый сорняк, мне все представлялось, как он обвивает истлевшие в могильной темноте останки родителей, пронизывает пустые глазницы, вьется под ребрами… Мерзость! Катя поставила на каждую могилу по простенькой пластиковой вазочке с цветами. Вместе с Игорем они суетились, открывали банки с краской для оградки, расчищали столик. Я не мог больше там находиться. Отойдя в сторонку, достал сигарету, хотел раскурить, но, чиркнув спичкой, замер на месте. Казалось, вспыхнула не спичка, но мое сознание. Я увидел скрытое от глаз людских. Соседний кладбищенский сектор, отделенный от нас проездом, поднимался небольшим пригорком, и на его склоне зиял огромный котлован. Сам склон был непривычно крут – раньше он всегда казался мне более пологим. Котлован прямо-таки нависал над нами отверстой пастью, будто сама мать-земля вздыбилась, чтобы пожрать своих детей. По стенкам котлована ползли из его темной глубины бескровно-бледные человекообразные фигуры. Голые, с просинью, уродливые, они двигались по-насекомому ловко. У некоторых и конечностей было по шесть, как у тараканов, и количество сочленений, и изгибы рук и ног – все казалось каким-то тараканьим. Кости выходили наружу из тел, образуя над спинами замысловатые переплетения, откуда во все стороны торчали острые шипы с нанизанными на них обрывками плоти. Похоже, эти существа где-то внизу дрались с себе подобными за право выползти наружу первыми, отчаянно рвали друг друга в клочья, взбирались наверх по чужим хребтам и головам, и лишь самые сильные, ловкие и подлые достигали порога нашего мира. Выбираясь из котлована, некоторые становились еще уродливее, их пропорции искажались: плоть этих тварей не выдерживала условий нашего существования. Но иные, напротив, тут же принимали вполне человеческий вид. Тела покрывались чем-то вроде лишайника, который постепенно превращался в подобие одежды. И вот уже я видел благообразные фигуры, облаченные в старомодные платья и костюмы. Они расходились от котлована, и выдавало их, кроме покроя одежды, только одно – неверное положение света и тени на фигурах, несоответствие углу падения солнечных лучей. Завороженный, я наблюдал за этим кошмарным зрелищем. – Мить! – Катя окликнула меня, подошла сзади. – Ты чего тут застыл? – Видишь? – спросил я, растопыренной пятерней указывая на котлован. – Вижу что? – удивленно переспросила она. А меж тем в центре котлована тяжело ворочалось нечто совсем невероятное, слишком сложное для человеческого понимания. Попытки охватить взглядом и рассудком все детали жуткой фигуры отзывались головной болью. Казалось, будто у создания больше измерений, чем способно воспринять сознание. Не получалось даже приблизительно определить форму, размер, цвет. Я застыл в ужасе, наблюдая, как это карабкается из котлована в наш мир. Я не видел его глаз, но явственно чувствовал его взгляд. Властное, голодное и в то же время беспристрастное, оно осматривало свои новые владения. В какой-то момент я понял, что оно смотрит на меня, и… провалился в темноту. Я пришел в себя на заднем сиденье автомобиля. Моя голова лежала у Кати на коленях. Она сообщила, что вместе с Игорем с трудом дотащила меня до машины после того, как я вдруг упал в обморок. На вопрос, видели ли они котлован на склоне соседнего сектора, Катя с Игорем недоуменно отвечали, что не было никакого котлована. Дома у меня начались приступы тремора: руки дрожали, прикасаясь к любой вещи. Я то и дело покрывался испариной. Мерцающие пятна плыли перед глазами. Но самое странное, что некоторые предметы начинали раздваиваться в моих глазах, а потом вдруг исчезали на короткое время и появлялись вновь, тогда как другие предметы я видел четко. На месте исчезнувших предметов метались неуловимо быстрые тени, словно бегущие от света крысы или насекомые. Глянув за окно, я вдруг увидел незнакомый пейзаж. Пустынная равнина до горизонта. Скелеты чудовищных существ – каждое размером с кита или больше. Загнутые ребра торчали к небу, будто зубья капканов. Трое суток провел я в этом мороке. Наконец, взяв в руки мобильник, увидел, что от Кати пришло сообщение. Вместо текста шла вереница бессвязных эмодзи: влюбленная парочка, ребенок, футбольный мяч, баклажан, зеленая блюющая рожица. Смысла послания я не понял, но меня бросило в холодный пот: такое сообщение набил бы тот, кто не умеет ни писать, ни читать. И если это не маленький Киря… Я взглянул на дату и время на экране мобильника. Сообщение пришло более трех суток назад. Встревоженный, я начал звонить Кате, потом Игорю, но никто из них не ответил. Так!.. Надо поехать к сестре. Тревога – за нее, за Игоря, за племянника – вгрызалась в меня изнутри.* * *
Дом моего детства и юности, в котором Катя жила со своей семьей, стоял на другом конце города, на северной окраине, в одном из пригородных поселков. Добирался я туда в маршрутке больше часа. Ностальгическая игла кольнула в сердце, когда я оказался на родной улице с красивым названием – Прохладная. Но, когда я подошел к приоткрытой калитке, обычно всегда запертой, на меня повеяло стылой жутью от каллиграфически выведенного слова «Прохладная» на деревянной табличке. С опаской прошел во двор. Позвал Катю, Игоря – ответа не дождался. Входная дверь была притворена, но тоже не заперта на замок. Войдя в дом, я прошел через прихожую и в холле увидел на полу обнаженное тело Игоря. Вскрытый от горла до паха, он лежал неестественно ровно: ноги сведены вместе, руки раскинуты в стороны под прямым углом к телу. Этакий человек-крест. Разломанная грудная клетка раскрыта, створки ощерились обломками ребер. Внутренние органы удалены и разложены на полу. Вот сердце рядом с кистью правой руки, словно мертвец держит его на ладони. Вот легкие покоятся у левого бока. Вот печень – у правого. Кишечник, уложенный под голову, похож на иконописный нимб; двенадцатиперстная кишка венчает лоб Игоря – как терновник. Тот, кто сделал все это, явно эстет и философ. И чудовище. Только сейчас я заметил, что Игорь, с его бородкой и усами, вполне мог сойти за второсортного Иисуса. Но самое страшное было то, что в его раскрытом опустошенном нутре, точно в ванночке, сидел Киря. Что-то скользкое, сочащееся кровью держал он в своих ручонках, весело играя с частицей распотрошенного отца. Я приблизился, опустился на колени – меня колотила дрожь – и спросил у племянника: – Киря, где мама? Он повернулся ко мне, и левая часть его лица, доселе скрытая ракурсом, стала видна. Не было ни кожи, ни лицевых мышц; вся плоть начисто содрана до кости. Череп, покрытый запекшейся кровью, смотрел на меня пустой глазницей, а по левой стороне лица кошмарно ползла беспечная детская улыбка. От нахлынувшего ужаса я попытался вскочить, но неудачно. Потерял равновесие, едва приподнявшись, и упал. В это время в дальнем конце холла отворилась дверь ванной комнаты и оттуда вышла голая мокрая Катя. Под шрамом от кесарева темнела аккуратно подбритая полоска волос; я смутился, отвел глаза. Потом все же взглянул сестре в лицо. Незнакомым тяжелым взглядом смотрела она на меня. Заговорила, но это был не Катин голос – мужской, низкий. Будто рептилия волочила тяжелый шершавый хвост по камням – такой голос раздался из Катиных уст. Она заговорила, и одновременно с ней заговорил Киря, произнося те же слова. Тем же низким мужским голосом. Этот двойной голос, казалось, обвивал меня с двух сторон, как цепкие побеги растения-паразита. – Ты правильно подумал. Эстет, философ и чудовище. Соображаешь. И не бойся так, не трясись. Мы тебя не тронем. У тебя ведь заслуги перед нами. Без тебя мы бы не открыли эту дверь. Сестра твоя тоже хороша. Представляешь, она себя опустошила сама – просто в ходе очередного упражнения. Решила попрактиковаться, хех. Хотя и было ее не так уж много… – Ты кто такой? – спросил я, с трудом выталкивая слоги. Я вдруг начал задыхаться. Именно так задыхалась Надя, а я словно унаследовал от нее эту неприятную особенность. – Не важно, кто я, – отвечало чудовище в теле моей сестры. – Нас тут много на каждое тело. Сейчас моя очередь, потом чужая подойдет. Вас, живых, слишком мало, чтобы всех нас удовлетворить. Но я тебе открою секрет. Всякий, кто прошел курс йоги для мертвых и убил себя, духовно и физически, тоже будет допущен к своему телу. Среди прочих. У нас ведь царство справедливости. Вот смотри… Катино тело содрогнулось от сильнейшего спазма. Лицо исказилось ужасом. Но этот взгляд – затравленный, растерянный – был настоящим Катиным взглядом. И подлинный голос моей сестры сорвался с дрогнувших губ. – Митя! – закричала она. – Беги отсюда! Быстрее! Киря замер, будто безвольная кукла, и мертво смотрел перед собой единственным глазом. Я хотел встать, но не послушались ноги, не было сил. Так и остался сидеть на полу. – Да быстрей же! – истерично выкрикнула Катя. – Они сейчас… Голос оборвался вместе с новым спазмом. Сестра конвульсивно дернулась, застыла в неестественной позе. Глаза холодно блеснули, тени вокруг глаз словно сгустились, губы утончились в недоброй улыбке. В следующий миг Катя исчезла, и я тут же почувствовал ее руки на своем теле. Она возникла у меня за спиной. Холодные пальцы срывали с меня одежду, сладострастно шарили по коже. Незнакомый мужской голос плотоядно шептал над ухом: – Хороший мальчик, милый! Люблю таких… Робких… Если будет больно – кричи, это я тоже люблю. Что-то черное, смолисто-вязкое наползало на мой разум, обволакивало, лишало сил сопротивляться, лишало всех желаний, кроме одного-единственного, которое затмевало собой все. Киря повернулся ко мне, и его уцелевший глаз стал вдруг очень усталым, почти старческим. Детские губки тоскливо произнесли до боли знакомым голосом – голосом Нади, которую убил Володя Николаев: – Знаешь, Дим, лучше там не стало.* * *
В темноте я вышел из дома на улице Прохладной. Но это, кажется, темнота совсем не тех суток, в которые я вошел в дом. В спектакле моей жизни время начало играть новую и не совсем понятную роль. Одежды на мне не было. Да и не нужна одежда такому телу. По мне ползала какая-то темная дрянь, подобная полчищам насекомых, живая плесень. Она заменяла одежду, растекалась по мне подобием ткани, сменяла один фасон и окрас на другой. Иногда плесень скапливалась в одном месте, уплотнялась и становилась плотью. Тогда я видел, как из меня выпрастываются шевелящиеся отростки, вроде щупалец. Они блуждали по телу, пронизывая ткань мнимой одежды, будто воду, потом внезапно рассыпались прахом, который грязным туманом змеился по моему телу, пока не оседал на нем, чтобы затем уплотниться вновь. Я брел темными улочками, цели не было, главное – идти. Вело меня смутное чутье. Вместо мыслей во мне кипело гнойное варево. Вместо разума – трупные черви, пожирающие мозг. Вместо воли – бесформенный ужас. Иногда мне казалось, что ног у меня становится больше – три или даже четыре, менялось и количество пальцев на руках и ногах. Оказывается, существуя в новой плоти, нужно четко осознавать, сколько у тебя рук, ног и как вообще ты выглядишь. Перестаешь об этом думать или забываешь – и плоть тут же сама начинает искать новые формы. Я не чувствовал себя предателем. Это не предательство, когда делаешь единственно верный выбор. Всех и вся ждет разложение и смерть. Глупо это – подпрыгивать и плевать себе под ноги; в итоге гравитация победит, и ты приземлишься на собственные плевки. Обитатели смерти тоже победят. Они неизбежно придут сюда, и лучше уж сразу встать на сторону победителя. Лучше – потому что умнее. Выбор ведь прост. Либо ты стал жалкой перчаткой для бесконечных чужих пальцев, либо получил сверхплоть, ни живую, ни мертвую – союз изменчивой материи и стремительного разума. Можно добиться права служить с достоинством, добровольно. Права больше не подчиняться иллюзорным условностям, которыми связана наша реальность. Права делать все, что хочешь. В том числе и с Катей. Мне никогда не нравился Игорь, но не потому, что он был самодовольным быдлом, а потому, что я желал быть на его месте. Мне просто не хватало смелости признаться себе в таком обыкновенном, по сути, желании, которое я старательно прятал и подавлял. Но философ, эстет и чудовище умел уговаривать, предлагая исполнение самых сокровенных надежд. Неожиданно, приблизившись к одному из домов, я ощутил, как дрожь электрической искрой пробежала по телу, всколыхнув мой плесневый покров. Да, сюда-то я и шел! Ловко, будто огромный паук, я вскарабкался на высокий забор, сполз во двор. Приблизившись ко входной двери, просунул в замочную скважину истончившийся палец. Ноготь на нем стал звериным когтем. Я повозился в скважине, открыл замок и проскользнул внутрь. В одной из комнат на коврике сидела женщина. Спортивный лифчик, легинсы, некрупные валики жира над ними, смазливое личико. Она сидела в позе лотоса, отключившаяся от всего, и сосредоточенно пыхтела, по-видимому, осваивая технику брюшного дыхания. Перед ней стоял на табуретке открытый ноутбук, на его экране чье-то лицо. Знакомое. Похоже, это медиум-инструктор – из этих новых проповедников «йоги бессмертия». Женщина общалась с ним по скайпу. Тут же, в комнате, стояла детская кроватка с хнычущим годовалым малышом. Молодая мамочка явно пыталась привести себя в форму после родов. Инструктор, увидев меня через камеру ноутбука, едва заметно кивнул мне, как старому знакомому. В червивом копошении моего разума сформировалась ясная мысль. Я уже знал, что делать. Знал, для чего был призван сюда. Еще немного, и малыш заставит мать очнуться от транса, поэтому его следовало заткнуть, чтобы не мешал процессу. Но убивать нельзя. Каждое тело ценно, даже самое немощное. Я пока никто, мое дело маленькое, а убийство – привилегия высших. Позволить себе превратить человека в труп могут только потусторонние иерофанты; делают они это для каких-то ритуалов, мне совершенно непонятных. Я навис над кроваткой, протянул малышу свою левую грудь. Разбавленный молоком клофелин устремился в крошечный ротик. Вскоре, оторвавшись от воспаленного красного соска, ребенок уснул. Теперь мамочке ничто не помешает закончить курс занятий. Я приблизился к женщине, к самому ее уху; моего дыхания ей не почувствовать, ведь я больше и не дышу. Высунул язык; он тут же раздвоился, и в ноздри к ней вползли два тонких щупальца. В ее черепной коробке они обратятся в черную плесень, которая покроет мозг, воздействует на нужные зоны в коре и подкорковых структурах, чтобы ускорить процесс посвящения в таинства йоги для мертвых. С каждым днем таких, как я, будет больше, и все более великие мертвые – из тех, что никогда не жили – будут занимать новые и новые тела. Таким, как я, хватает и одного тела, даже половинки, им же нужны десятки, сотни, тысячи тел. В бесконечном цикле бесстрастных совокуплений и порождений они будут покрывать планету слоем из подобных себе, пока новой плоти не станет достаточно, чтобы неизмеримые, невозможные, противоестественные Истины смогли, наконец, проникнуть в мир живых. Эти Истины посрамят Бога, погасят Солнце и пожрут саму реальность. И тогда наша Вселенная станет загробным миром – отхожей ямой высших миров. Я тоже стану этому свидетелем – как я и говорил, любопытство во мне сильнее страха. Но это случится еще не скоро, а до тех пор я могу наслаждаться правом быть самим собой, пускай даже в таком виде. Когда я закончил с молодой мамочкой, лицо Павлуши Холодцова на экране ноутбука осклабилось в щербатой улыбке.Ребут

Non, rien de rien,
Non, je ne regrette rien…
* * *
За несколько часов до этого они с Аликом сидели в Берлоге и безуспешно пытались очистить новенький смартфон Марьям от вирусов-майнеров. Багир ворвался в помещение, и тут же в бытовке, обустроенной под дележ и хранение краденого, стало тесно. Было у него, крепкого и мускулистого как племенной бычок, свойство – заполнять собой любое помещение. – Чё, сироты, как оно?! – громыхнул он, заваливаясь на скрипнувшую тахту. – Куда в обуви, чушка?! Я убиралась вообще-то! – Забей! Лучше зацените, че я на толкучке оторвал! Он распахнул куртку. По широкой груди в окружении полуголых тянок скакал юный рэпер, весь в «голде». – Она еще и со звуком! Багир что-то нажал, и по Берлоге разнеслось: «Не люблю большие сиськи, да, моя грязнуля скинни, но она имеет жопу…» – Выруби! – рявкнул Алик, саданул ногой по столу. Багир музыку выключил, поднялся, навис над щуплым Аликом. – Слышь, Альбертик, ты в себя поверил, что ль? Чё за базар? – Ничё! Футболка с анимашкой, рили? Кэш откуда? Не с общака ли? – А чё, общак не мой, что ль? – Общак – он общий, Бага. Советоваться надо, прежде… – С тобой советоваться? Тебе напомнить, кем ты в интернате ходил, пока я не впрягся? Воздух дрожал от повисшего напряжения. Марьям вмешалась: – Бага, он прав. У нас и так на донышке, у меня вообще телефон сдох, а ты еще и… – Да идите вы! – Багир обиженно уселся на тахту, та вновь издала предсмертный хрип. – Я чё, думаете, просто так?.. Я ж по делу. С Димкой виделся, помнишь, Машк, через три кровати от меня? Во. Он щас в ЧОПе. Короче, сказал, с Магницкого охрану снимают. – И чё? – пожала плечами Марьям. – По форточкам лазить пойдем? Алик стащил очки, принялся протирать; вернул на нос, спросил: – А псы? – Завтра вывезут, – подавил отрыжку Багир. – Ток завтра там вся Абердиевка будет. – Ладно, если там версия не новее четверки, то их можно… – Алик вскочил, закопошился в ящиках. – Тогда сегодня! – Чё сегодня-то?! – Марьям скрестила руки под грудью, чтобы приподнять свой третий размер, – на мужчин это всегда действовало располагающе. – Может, скажете нормально? – Альбертик, поясни, я чёт умаялся, а нам еще всю ночь… Алик прервал свои поиски: – Про Магне слышала? Магницкого? – Это который «Магниты» пооткрывал? – наморщила Марьям лобик. – Или то Галицкий? – Ну ты и дикарка! «Магницкий» – это местный бренд. А настоящая фамилия – Магне. Франсуа Магне. Он к нам бизнес перетащил, когда его в Европках комиссия по этике прижала за какие-то стремные нейросетки. Там еще комитет по правам человека полгода судил и рядил: можно ли их отключать или нет. Потом его еще за браконьерство в интернетах отменили… Вспоминаешь? Марьям тряхнула косичками – нельзя вспомнить то, чего не знаешь. – Ох! Вот голосовой помощник у тебя в смарте – его разработка. Мопеды на биотопливе помнишь, от них еще навозом прет? Тоже его. А поселился он здесь, у нас. Женился на русской косплеерше – Фокси которая, поселок элитный отгрохал… – «Магницкий», – уточнил Багир. – Блин! – До Марьям начало доходить. – Это который… – Ага. Который кукушечкой поехал, жену и сына грохнул, а потом через измельчитель мусора пропустил. И сам следом… – Трупы так-то не нашли, – поправил Алик, – так что – это версия. – Весь дом в кровище, в измельчителе одежда пополам с костями. Когда записи смотрели – говорят, блевали всем отделом, – хохотнул Багир. – И чё дальше? – Поселок заселить не успели, а потом и желающих не особо было… – Еще бы! После такой истории я и сама… – Нет, Маш, не в том дело. – перебил Алик. – Там после смерти Магне люди пропадали. Не раз и не два. Строители, бомжи. Парочка нефоров какая-то – всю полицию на уши подняли, так и не нашли. Поэтому охрану поставили и ток по забору пустили. – Но сегодня ток поселку перекрывают, – продолжил Багир. – Мы будем первыми, кто сорвет банк. Дом мультимиллиардера! Ты прикинь, че там внутри! Смарт тебе новый купим, шмотки. Да хрен с ним, в Тай поедем! Маха, хошь в Тай? Да куда хошь поедем, хоть в Вегас. И Алика возьмем, он нам все игровые автоматы взломает, да, Алик? – Угу… – Тот вновь копался в ящиках, выудил четырехлопастный коптер. – Не знаю, чё там с игровыми автоматами, но охрану точно взломаем. – А точно надо туда лезть? – Марьям снова поежилась. – Ну типа, люди пропадали, и вообще мало ли… – Малыха, ты чё?! – Багир облапил ее волосатыми руками за бедра. – Такой шанс выпадает раз в жизни. Мы выберемся отсюда! С Абердиевки, из Геленджика, из бытовки этой. Снимем хату в Сити, в Москве. Телефоны будешь хоть каждый месяц менять. Ну? Алик, скажи. – Да, раз в жизни, – кивнул тот, отвернувшись от парочки. Сделал вид, что занят железками. Покрутив в руках ставший почти бесполезным смартфон, Марьям кивнула. Двинулись ночью. Поселок за годы простоя зарос буйной южной растительностью: казалось, за опутанным вьюнком забором стрекочут, шелестят и дышат настоящие джунгли. Бага швырнул кусок проволоки в решетку забора – напряжения не было. Алик достал коптер, настроил и запустил в воздух. – Он все вызовы полиции на себя переводит – это если спалимся. А это, – продемонстрировал он что-то похожее на черный карандаш, – если вцепится. Любой хард сгрузит в ноль. – А чё сразу не поотключать? – Сто шестьдесят седьмая УК РФ – умышленное уничтожение или порча имущества, – пояснил Алик. – Да и зачем? Щас на коптера сбегутся, мы и прошмыгнем. Вскрыв рабицу кусачками, трое устремились к особняку; напрямую, через заборы. Добрались до цели – шагнули на голые бетонные плиты вместо газона. Между забором и участком особняка Магне пролегала четкая линия, разделявшая живое и неживое. Даже сверчков и цикад не слышалось. Темная громада трехэтажного особняка темнела на фоне бетонных плит – модель в 3D-редакторе на фоне пустоты. Марьям удивилась: – А чё здесь так… пусто? – Кто его знает, – пожал плечами Багир. – Растительность не любил. – И не заросло? – Мож, аллергик был, протравил чем… Дом Магне выглядел негостеприимно, зловеще – точно, подобно хозяину, страдал аллергией, но вообще на все живое.* * *
Марьям стояла посреди холла совершенно одна и вдруг отчетливо ощутила себя в полной изоляции – будто в скорлупе космического шаттла посреди бескрайнего вакуума. Стало неуютно. Попытки написать Алику или Баге ни к чему не привели – смартпускал по экрану загадочные кракозябры. А еще глаза болели, их словно кололи изнутри невидимые иголки. – Долбаные майнеры! – ругнулась Марьям. Оглядела пустой холл, залитый красным светом, будто кровью. – Ребят? Алик? Багир? Куда же он пошел? Кажется, по лестнице. Левой или правой? Вспомнить бы. Марьям наугад двинулась к правой, поднялась по ней. На втором этаже остановилась напротив огромного панно, изображавшего сцену охоты: две борзые, вцепившись зубами, висели на огромном вепре, а в отдалении охотник прицеливался из ружья с широким раструбом. Разодранные бока кабана махрились мясом, налитые кровью глаза пылали отчаянной яростью. «Ну и мрачняк. Интересно, оно чего-то стоит? Алик бы сейчас не помешал». Она ткнула пальцем в экран смарта, но тот не реагировал. Марьям от досады топнула ногой, и кабан на картине среагировал на звук: тяжко заревел, выдувая клочья кровавой пены; дернул мордой. Мощные клыки распороли бок подставившейся борзой; дымящиеся кишки намотались на бивни. Марьям вскрикнула, отшатнувшись, закрыла пальцами глаза, но все равно разглядела, как чудовищный вепрь стряхивает с себя вторую борзую и растаптывает копытами, а после – в пороховом дыму и грохоте – замирает с развороченной дырой в черепе. Спустя секунду картина вернулась к изначальному виду и застыла. «Все нормально, – увещевала Марьям колотящееся сердце. – Всего лишь анимашка, как футболка у Багира. Нечего тут бояться». Она еще раз топнула ногой – кабан вновь пришел в движение. Досматривать жуткое зрелище не стала – двинулась дальше: вряд ли это удастся отковырять от стены на продажу, да и «анимашками» уже никого не удивишь. Вдруг из комнаты неподалеку донеслись голоса. Марьям бросилась на звук, радуясь, что отыскала подельников, но, повернув за угол, поняла, что голоса принадлежат кому-то другому: один, детский, канючил, а другой, мужской, увещевал. – Но я не хочу! – Это не больно. Как le moustiqe… как же. Комaг’ик, вот! – У говорившего был сильный акцент: он ставил ударения на последний слог и раскатисто грассировал. – А потом быть как paradis. Ты игг’ать, сколько хочешь; есть сладости и никогда не быть стаг’ый. Как Петег’ Пан. А мама – как Венди. – А мои друзья? Они будут с нами? Марьям приникла к косяку, чтобы рассмотреть говорящих. Игрушки и детали конструктора на полу выдавали в комнате детскую. На кровати сидел мальчик лет пяти, а мужчину загораживала дверь, и можно было видеть лишь широкоплечую тень. – Дг’узья… не нужны. Они быть стаг’ый, скучный. А ты навсегда быть юный, mon enfant… – Papa, там… Малыш поднял глаза и встретился взглядом с Марьям. Та отшатнулась, а тень у кровати бросилась к двери. Сердце Марьям прыгнуло под гортань. Бежать! Она рванула по коридору обратно к лестнице. Или нет? Где этот чертов кабан? Знакомой картины нигде не было, а шаги преследователя звучали все ближе. От отчаяния она заорала что есть мочи.* * *
Дом, и без того огромный, в неверном красном свете казался лабиринтом аттракциона ужасов в Сочи-парке. Багир распахивал двери в поисках кабинета, но натыкался то на фитнес-зал, то на джакузи, а то и вовсе на стоматологический кабинет. – Буржуи!.. – завистливо протянул Багир. Неожиданно из дальней двери высунулась женская ножка – стройная, в атласном чулке, который, однако, оставлял обнаженной стопу и изящные пальчики. – Машка, сучка! – выдохнул Багир, в штанах стало тесно. На Марьям могло «нахлынуть» в любой момент, но особенно она обожала «это дело» в местах экстремальных; превращалась в натуральную тигрицу и сама же потом ревновала к оставленным ею в беспамятстве царапинам и засосам. – Ну, держись! Добежав до заветной двери, он распахнул ее и застыл на пороге. – Ой, извините! Девушка была Багиру не знакома. Раскинувшись на лежащей на полу шкуре барса, красавица играла пушистым лисьим хвостом, торчавшим у нее из… откуда и должен расти хвост. Накладные, лисьи же, ушки, рыжая копна волос. Зеленые глаза блестят сладостной поволокой, шоколадные соски торчат колом. Девушка игриво расстегивала молнию на латексных трусиках – медленно, по миллиметру открывался выбритый лобок. Зрелище настолько захватывало, что Багир едва обратил внимание, что обстановка комнаты не подходит для любовных утех: с потолка свисают цепи с крючьями, у стен стоят рамы с растянутой для дубления кожей. – Добыча ждет, ma chérie! Давай, освежуй свою лисичку! Багир невольно облизнулся, безотрывно наблюдая за мучительно-медленно опускающейся собачкой молнии; вот озорным язычком показался клитор… Поглощенный зрелищем, он не сразу услышал легкое жужжание за спиной – будто от бормашины.* * *
Алик заблудился. Вереницы чучел, оружия, гобеленов, пузатых комодов и замысловатых торшеров самоповторялись из комнаты в комнату. От изобилия мелких деталей, обесцвеченных багровым полумраком, начинала болеть голова. Он поймал себя на мысли, что в доме совсем нет запахов – как в стерильной палате больницы. Разве антиквариат не должен пахнуть кожей, старым деревом, хотя бы пылью? Вдалеке разнесся женский крик: – Помогите! «Марьям?!» Алик побежал на голос. – Машка! – звал он, но безрезультатно. «Дама в беде» продолжала звать на помощь, где-то плакал ребенок. Он кое-как сориентировался в пространстве, вынырнул в коридор и увидел на другом его конце окровавленную фигуру со свертком в руках. Первым порывом было убежать прочь, но зачатки мужской гордости взяли верх. – Сюда! – позвал он, и фигура, будто услышав его, побежала навстречу. Он запоздало разглядел страшную рану на животе, видневшуюся в распахнутом халате; наружу лезли сизые внутренности. Алика затошнило. Искаженное гримасой ужаса лицо было ему хорошо знакомо по многочисленным фото из тех времен, когда горячая косплеерша Фокси еще не стала женой Франсуа Магне. Та бежала, поминутно запинаясь, наступая на край одеяла со слониками, в которое был завернут какой-то, видимо, очень ценный груз. Алик успел сделать несколько шагов навстречу, когда несчастная наступила на пояс халата и грохнулась на пол. Одеяло размоталось, и содержимое рассыпалось по полу, оказавшись нарубленным на куски детским трупом. – Мой малыш! Помогите! – рыдала она в лицо скованному ступором Алику. Не до конца осознавая зачем, он протянул руку к голове, подкатившейся ему прямо под ноги. Пальцы коснулись пустоты; слипшаяся от крови непослушная шевелюра запикселила, развалилась на отдельные полигоны. Он отнял руку, и голова вернулась в нормальный вид. Алик усмехнулся и ткнул пальцем в застывший мальчишеский глаз – снова пиксели. Потом не удержался, сомкнул пальцы на торчащем соске жены Магне; и почти пожалел, что вновь ничего не ощутил. – Помогите!.. – сдавленно зашипела несчастная, тщетно пытаясь удержать лезущие наружу кишки в животе, и… пропала вместе со своим страшным грузом. Озаренный открытием, Алик пнул стоявшую рядом вазу – японскую, в журавлях и карпах. И едва не влетел носом в стену – нога не встретила сопротивления. Ненастоящим оказались и комод, и патефон на нем, и даже картина на стене – все было иллюзией. «Динамический интерьер!» – восхищенно присвистнул он. Дорогущая игрушка для миллионеров. Сотни проекторов по всему дому, позволяющие в мгновение ока обставить квартиру хоть в стиле барокко, хоть скандинавского минимализма. Порадовавшись своей проницательности, Алик тут же расстроился: брать, выходит, в доме нечего. Можно, конечно, пооткручивать голопроекторы, но без аккаунта с подпиской на рынке их примут как лом. Нужно было отыскать напарников.* * *
Уверившись, что окончательно заблудилась, Марьям бежала наугад, задевая кресла и комоды, но не чувствовала боли – видимо, все заглушал адреналин, – пока едва не полетела кубарем по лестнице. Ссыпавшись по ступенькам, она осознала, что попала в какой-то другой, незнакомый холл – даже пол здесь был не паркетный, а из керамогранита. Бросившись в первый попавшийся коридор, врезалась в кого-то. Этот кто-то облапил ее, прижал к стене. Марьям завопила, принялась отбиваться, целя ногтями в лицо. – Тихо-тихо! Перестань ты! Это я! – Алик, ты?! Она вывернулась из его объятий – тот разжал руки с явной неохотой; затараторила, тяжело дыша: – Там, наверху. Человек. Он хотел убить… Я подслушала, а он заметил, побежал за мной… Надо валить. Бага… – Спокойно. Никого тут нет. Этот дом пуст. – В смысле, пуст? Я видела, и… Надо забирать Багу и бежать. – Не надо никуда бежать. Смотри. Алик сделал вид, что пинает чучело оскалившегося енота. Нога прошла насквозь. Марьям распахнула рот: – Ты чё, привидение?.. – Попробуй! Она недоверчиво засунула руку в нутро чучела, выдернула, потом засунула снова. – Ничего не чувствую. Мы умерли? – глупо спросила Марьям. – Ну ты точно вымираешь. По крайней мере, как вид, – усмехнулся Алик. – Таких неандертальцев, как вы с Багиром, еще поискать. Это ж динамический интерьер, деревня! Сел за комп, собрал домик мечты и ходишь, наслаждаешься. Надоело – пересобрал. – Херасе! А тот мужик, что за мной гнался? – Это нейрослепки. За эту херню Магне и попячили. – Что за нейрослепки? – Посмертные. Типа как фото постмортем. Ма-а-аленькая часть их сознания. Они помнят последние часов семь-восемь жизни и переживают их по кругу. Потом забывают – и все по новой. К нему комиссия по этике на эту тему и прикопалась: что он создает, по сути, нейросеть-психопата, зафиксированную в наихудшем своем состоянии. А он хотел на их основе делать виртуальных помощников, типа. Кто-то, походу, додумался их подключить к голопроекторам, вот и… – Кто мог до такого додуматься? – Ну, угадай. Вот тебе и вся мистика: голопроекторы, метки дополненной реальности, мощный сервак. Здесь другая беда – фактически тут одни голые стены, и поживиться нам нечем. А серверную я так и не… – Помогите! – вновь раздалось из холла. Алик нарочито вальяжно повернулся на звук – не упустил шанса продемонстрировать Марьям превосходство над Багиром хотя бы в этом. Запоздалое осознание заставило внутренне похолодеть: голос принадлежал Багиру. Бедняга выглядел жалко – он полуполз-полуковылял на одной ноге, вторая ниже щиколотки была изрезана в мясо вместе с кроссовкой. За ним оставался кровавый след, как за гигантским слизнем, черный в тревожном багровом свете. – Алик, помоги! – прохрипел Багир, цепляясь за чучело росомахи, стоявшее у камина, но рука провалилась насквозь, и он свалился на пол. – Бага! – взвизгнула Марьям, бросилась к своему парню, но в полуметре от него застыла, побледнев. – Это просто голо… – Алик осекся. Длинные бледные руки, словно в фильме ужасов, высунулись из жерла камина, вцепились в Багира; подтянули к себе, распоров решеткой футболку с кривляющимся рэпером – решетка оказалась настоящей. Как и руки. – Держи! – среагировал Алик, бросился к Багиру, схватил за здоровую ногу, Марьям уцепилась за футболку. – Не отпускайте! – выл Багир. – Оно меня утягивает! Действительно, чьи-то бледные грабли тащили упирающегося Багира в отверстие дымохода. – Больно! – выл тот на одной ноте. Тот самый Багир, которого били по яйцам полиуретановыми трубками, чтобы узнать, кто вывел с интернатовского общака крипту, но он так и не раскололся и не заложил Алика; тот Багир, что вышел против троих чеченов, когда один из них ухватил Марьям за задницу в клубе. Сейчас он представлял собой жалкое зрелище: бледные руки неумолимо втягивали его в проем, скрючивая, сжимая, подгоняя человеческую анатомию под размеры отверстия. – Не отпус… Послышался жуткий хруст, весь Багир вдруг сжался, став похож на чиби-фигурку самого себя – маленький торс, короткие ручки и большая непропорциональная голова, – и исчез в отверстии дымохода. Алик и Марьям, лишившись опоры, покатились по полу. Марьям еще держала руки перед собой; в кулаке остался клочок футболки-анимашки. Ткань тоненько визжала: «Моя грязнуля скинни-кинни-кинни…» Алик что-то едва слышно прошептал. – Что? – Я говорю, здесь не было никакого камина! – На хер камин! – Марьям поднялась на ноги, пришла в себя. – Валим! Оба сорвались с места и побежали по длинному, из ниоткуда возникшему коридору. В панике они не заметили, что другой коридор, из которого явился Багир, исчез.* * *
Ориентироваться не помогали ни одинаковые чучела, расставленные там и тут, ни узор плитки, который менялся на глазах. Подобно слепцам, Алик и Марьям метались по особняку на ощупь. Переходя из помещения в помещение, они натыкались на фальшивые двери – те на поверку оказывались стенами. А внутри стен – по вентиляции, по коробам для проводов, за декорациями – с жужжанием, словно хищное насекомое, пробиралось нечто кошмарное, неумолимое. – Сюда! – Алик резко свернул, прошел сквозь стену, будто сам был призраком. – Ты где?! – завопила Марьям. Из стены выросла рука, втянула ее следом в узкую каморку. – Не визжи! – зашипел Алик. – Мы в холле, через который пришли. – В каком холле? Это кладовка для швабр! – Сейчас – да. Не верь глазам. Щупай стены. И они принялись обшаривать пространство. – Есть! – воскликнул Алик. – Хватайся! Марьям ухватилась за дверную ручку, та оказалась холодной, твердой и успокаивающе-реальной. А еще она не поворачивалась. – Не открывается! – Дергай сильнее! Марьям потянула изо всех сил, даже зажмурилась от напряжения, а когда открыла глаза, не сразу поняла, что свет погас. На потолке вспыхнули два жутких голубых огонька. Послышался звук, какой издает идущий в атаку шершень. – Врассыпную! – скомандовал Алик, оттолкнул Марьям. Та покатилась по плитке, провалилась сквозь стену и оказалась в очередном безликом помещении. Опять зажегся аварийный свет. Вот уж не думала она, что будет рада снова видеть этот дрожащий полумрак, придававший всему оттенок кошмара. Вдалеке раздалось: – На лестницу! Беги наверх! Марьям закрыла глаза, попыталась идти на ощупь. Лестницу она нашла, когда налетела грудью на перила; удар вышиб воздух. Поднялась по ступеням. Длинный коридор в красном свете напоминал родовые пути. В конце этих путей, маленький и багровый, как эмбрион, стоял… – Алик! – Машка! На потолке закачалась тяжелая люстра из оленьих рогов. От люстры отделилась тень и приземлилась на пол – между Марьям и Аликом. – Сука! – выдохнул тот. Нечто выпрямилось, цокнуло каблучками. Костюм с кружевным чепчиком и почерневшим от крови фартуком выдавал в создании горничную. Когда-то эта робогорничная стоила как целый поезд Москва – Питер, с вагонами и пассажирами, но в нынешнем состоянии ее купил бы, пожалуй, разве что аттракцион ужасов. Губы будто пропущены через мясорубку; один глаз лишился склеры и поблескивает голым фотоэлементом, местами содрана кожа, наружу торчат провода и трубки охлаждения. Лицо горничной из белого киберскина жило отдельной жизнью – дергалось, как у приговоренного на электрическом стуле. Со стоном Марьям опознала и источник вездесущего жужжания: им оказался огромный промышленный электронож в руке горничной. Та недолго покрутилась на месте, решая за кем погнаться; потом, видимо, просчитав расстояние, направилась в сторону Марьям. – Беги! – крикнул Алик, и Марьям побежала. Лестница, как назло, исчезла – или она ее пропустила. В панике она пробежала мимо одной двери, второй и уперлась в тупик. – Сука… Горничная никуда не спешила: цокала каблучками, будто собираясь поднести гостю чашечку чая, вот только вместо подноса в ее руке жужжал электронож. Марьям была готова поклясться, что разглядела ошметки плоти и костяную крошку, налипшие на цепь ножа. В голове мелькнуло воспоминание, как из другой жизни: «Где-то здесь было окно». Может, она запомнила, как выглядит дом снаружи? Неважно. Не до размышлений. Марьям нашла в кармане кусачки, загородив лицо рукавом кожанки, саданула по стене – в надежде, что не ошиблась. Раздался звон стекла; осколки посекли руки, но в нос уже бил воздух свободы, воздух жизни, пахнущий медвяными травами и морским ветром. И она вслепую прыгнула в этот воздух, свободная и живая! А потом твердый бетон встретился с левой ногой. Тело пронзило болью. Марьям упала на бок, откатилась в сторону. Попыталась подняться – безуспешно. Из глаз брызнули слезы. – Алик! – звала она, но на зов явилась горничная. Выпрыгнула через окно, спружинила ногами от бетона и двинулась за жертвой. Неумолимое цоканье приближалось, и Марьям оставалось лишь отползать, ломая ногти о лысые, без травинки, панели. Она старалась не оборачиваться и продолжала ползти. Руки нащупали густую траву давно не стриженного газона, цепляться стало легче. Марьям преодолела еще метр или два, когда жужжание за спиной стало тише. Отстала? Или манипуляторы уже смыкаются на ее, Марьям, шее? Или сел аккумулятор электроножа? Она оглянулась. Горничная топталась на краю бетонной плиты, не смея сделать ни шагу за границу участка. Клонилась вперед, словно опираясь на невидимый забор. Сначала Марьям решила, что робот заглючил или сломался, но спустя секунду до нее дошло. Истеричный смех разорвал ночную тишину. Марьям хохотала до боли в ребрах; показывала «фак» горничной, плевалась и подначивала: – Что, лахудра электронная? Ограничение по периметру? Руки коротки? Так-то! «Но Алик же еще внутри!» – мелькнула мысль. Марьям потянулась в карман за смартом. Экран перечеркнула трещина, но гаджет работал. Нужно вызвать полицию-скорую-пожарных, кого угодно. Пусть арестуют, впаяют статью, но Алик выживет, а не превратится в ком окровавленного мяса, как Багир. Однако смарт из раза в раз выдавал ошибки. – Работай ты, тупая стекляшка! – выругалась Марьям, когда услышала совсем рядом тяжелое громыхание и визг сервоприводов. Она едва успела подставить руку, когда капкан пасти полицейского робопса сомкнулся на локте. Дребезжащая, видавшая виды машина лениво пожевывала руку – до хруста в костях, а динамик бездушно диктовал: – Вас приветствует частное охранное предприятие «Кабардинец». Вы обвиняетесь в проникновении на частную территорию. Соблюдайте спокойствие и ждите приезда полиции. – Хоть так, – усмехнулась Марьям, корчась от боли: пасть сдавливала все сильнее. – Вызов наряда – ошибка. Вызов наряда – ошибка, – твердил робот. – Альбертик, мать твою! – простонала Марьям. Вспомнила, что коптер переадресовывает на себя все вызовы. Робопес застыл; в процессоре боролись друг с другом протоколы. Наконец чудище приняло решение: – Нарушитель будет препровожден к владельцу территории до приезда наряда. Пес переступил границу участка, таща Марьям за собой. – Нет, железяка тупая! Не туда! Она принялась колотить пяткой куда попало: по бронированным панелям, по безглазой голове с огромным капканом, сжимавшим ее руку. Динамик на спине машины тараторил: – Сопротивление задержанию наказывается по статье… Порча муниципального… Будут применены меры, согласно постановлению… Челюсти зажужжали, по телу Марьям прошел разряд тока, изогнув ее тело дугой. Пересилив боль и судорогу, она продолжила сопротивляться, но тело прошил еще один разряд и еще – сильнее предыдущего. Мышцы сковало судорогой, и Марьям могла лишь ощущать, как затылок колотится о бетон, пока робопес тащит ее в сторону дома. Рядом, у самого уха, цокали каблучки. В полубеспамятстве, сквозь пелену слез, она видела, как проплывают мимо фальшивые интерьеры; будто в кривых зеркалах мелькали голограммы – десятки одинаковых тел несчастной жены безумца Магне; мощная рука в садовой перчатке тащила за волосы по кафелю женщину в халате. Та цеплялась за мебель, царапалась, сучила ногами, скользя на собственном размотавшемся по полу кишечнике. В одном из холлов на медвежьей шкуре сидел малыш из детской, строил башню из кубиков. Та разваливалась – верхние кубики были крупнее нижних, – но мальчик не сдавался и с настойчивостью робота возводил ее снова. В том же порядке. Посмертные голограммы заполняли помещения, увлеченные какими-то собственными, понятными им одним заботами. Робопес протащил Марьям через очередную иллюзорную стену и потянул по лестнице вниз, в подвал. Красная мгла поглотила ее.* * *
Когда Марьям пришла в себя, все тело ломило – еще бы, пересчитать ребрами столько ступенек; по глазницам изнутри будто перекатывалось толченое стекло. Голову сдавливало гулом – как от трансформаторной будки. Марьям хотела подняться, но что-то мешало. Лишь спустя пару попыток она осознала: руку все еще сжимают челюсти робопса. Шепнули: – Не рыпайся! – Алик?.. – Тихо! Он лежал рядом. Его нога была вывернута под неправильным углом и согнута в двух местах, через штанину торчала кость. – Что здесь… Она бракованная? – Боюсь, нет, – покачал головой Алик. Лицо бледнее мела, вена на лбу вздулась – казалось, ему стоит невероятных усилий не орать от боли. – Она выполняет программу. – Какую? – Смотри. – Он кивнул на горничную, которая занималась каким-то ей одной понятным делом, больше всего похожим на готовку. В беспорядке валялись обрезки одежды и обуви Багира: нарубленные в лапшу берцы, ремень, куртка и футболка с подергивающейся подтанцовкой. Нарезая на части останки Багира, горничная погружала их в нечто, напоминающее мясорубку. «Измельчитель мусора» – догадалась Марьям. Голова Багира лежала отдельно – опутанная проводами, штекеры которых уходили прямо в череп. Два торчали из глаз, растекшихся по щекам, как недожаренная яичница. У виска висел небольшой дисплей с наполовину заполненным прогресс-баром. Почему-то Марьям очень хорошо себе представила, каково, когда жуткие иглы проходят прямо через зрачок, пробивают глазничную кость, входят в мозг… Ей захотелось зажмуриться. – Что это? Алик не ответил; его взгляд был прикован к горничной. Когда очередной кусок Багира прокрутило в костно-мясную кашицу, та вынула контейнер из-под измельчителя и залила содержимое в жерло чего-то, похожего на турбину. – Биогенератор, – пояснил Алик. – Вот откуда электричество. Как те мопеды на капусте, но гораздо мощнее. – И она… – Да. Перерабатывает нас в топливо. Когда до Марьям дошло значение увиденного, она едва сдержала рвоту. Так вот куда исчезли тела жены, ребенка и самого Магницкого. Вот почему пропадали бомжи и рабочие. Вот… – Поэтому здесь ничего не растет. Все пошло в дело, – подтвердил ее догадку Алик. – И мы… Марьям стало мучительно жаль себя – что уйдет она так бессмысленно и бесславно: превратится в пропущенную через мясорубку кашицу и станет топливом для опустевшего дома, чтобы горел красный свет, отображались динамические интерьеры и голосила Эдит Пиаф, пока аккумуляторы не сдохнут. Корм для сошедшего с ума умного дома. – Не хочу! Она забилась в пасти робопса; тот зажужжал, готовя разряд. – Не дергайся! – шикнул Алик. – Держи! – Тяжело дыша, он протянул ей «Стилет» на резинке – с штекером на конце. – Надень на руку. Там зацикленный расчет числа «Пи». Любую систему повесит. Бей в корпус и беги. Позови помощь. – А ты? Алик кивнул на свою искалеченную ногу: – Я ее отвлеку. Выиграю время. – Не смей! Уйдем вместе! Я вырублю горничную и… – Не вырубишь. Я пытался. У нее автономная зашифрованная ось – управляется с сервера. Не пробиться. – Я тебя не оставлю! – Тихо! Уходи. Сейчас. Может, успеешь, прежде чем… Маш? – Алик прижал очки к переносице – будто опускал забрало; он всегда так делал, когда нервничал. – Если не выйдет… Помнишь тот клип-валентинку? – Причем здесь… – Я его прислал. Не Багир. Он виновато пожал плечами, будто извиняясь – может, за свои чувства, а может, за то, что так и не осмелился признаться. Марьям прижалась губами к его лбу. Прошептала: – Я приведу помощь. И, извернувшись, вонзила «Стилет» прямо в центр буквы «о» в слове «полиция» на боку робопса. Словно откуда-то знала, что именно там находится электронный мозг. Робот задрожал. Челюсти сжались так сильно, что Марьям показалось, что они сейчас по локоть отхватят ей руку, но капкан открылся; от зубьев остались кровоточащие следы; Марьям не удержалась – зашипела от боли. Горничная обернулась; карбонитовые мышцы сокращались – это было похоже на мерзкую насекомую жизнь, что обитает под камнями. Она выронила контейнер с муссом из Багира и взялась за электронож, сделала шаг к Марьям. Та копошилась на полу, оскальзываясь в крови. Лодыжка горела огнем, пришлось опереться на стену. Не уйти! – Беги! – крикнул Алик и вцепился в бедро горничной обеими руками. Та недоуменно поглядела вниз; Марьям застыла, будто кролик перед удавом. Алик зарычал: – Вали уже отсюда, мать твою! Марьям нашла в себе силы сделать шаг, потом еще один и еще. Она шла спиной, не в силах отвернуться. Горничная дернулась – раз-другой. Но Алик держал крепко – вцепился из всех оставшихся сил, облапил чудо японского рободизайна, точно пылкий любовник. И тогда произошло следующее: вторая нога горничной изогнулась под немыслимым углом, недоступным даже гимнастам и балеринам. Прицелившись, она вогнала каблук прямо в глаз Алика с такой силой, что он вышел со стороны затылка. Разбитые очки отлетели в сторону. Алик булькнул – вместе с кровавой пеной вышел его последний вздох. Но рук не разжал – скованные предсмертной судорогой мышцы удерживали горничную на месте. Та дергала ногой, выкручивалась, и было ясно, что она вырвется, и Марьям не имеет права просрать те драгоценные несколько секунд, что выиграл Алик. Она развернулась и побежала. Побежала не оглядываясь, не отвлекаясь на металлическое цоканье за спиной и почти невыносимую боль в лодыжке, на повисшую плетью руку; не слыша и не видя ничего, кроме… Завибрировал смарт. По лабиринту подвала разнеслось: «Не люблю большие сиськи, да, моя грязнуля скинни, но она имеет жопу…» Эта мелодия стояла на звонок от Багира – его любимый трек. Забавно, ведь у Марьям и сиськи были что надо, и задница аппетитная. Не забавно было то, что от Багира остались лишь ведерко жижи и несколько кусков плоти. И все же в несбыточной надежде Марьям приняла вызов, не останавливая хромой трусцы. – Слушай внимательно, – раздался незнакомый женский голос, – у нас мало времени; я отвоевала немного памяти, но… – Кто вы? – Никто. – На заднем фоне у звонящей на одной ноте кричал ребенок. – Мы – последнее, что мы о себе помним. Он оцифровал нас всех. Насильно. Сделал посмертные слепки. – Он? – Магне. Видение выросло из ниоткуда. Марьям отшатнулась – женщина в распахнутом халате с распахнутым же животом. Она испуганно смотрела куда-то перед собой, когда ее глаза проткнули длинные, с проводами на концах, спицы; голопроекция вся задрожала. Марьям сразу вспомнила голову Багира – из его глазниц торчали такие же штыри. Заминка едва не стоила ей жизни – электронож прожужжал совсем рядом, срезал мочку уха, но запутался в волосах. Это дало шанс на небольшой спринт. Мочка и клок волос остались позади. Теперь кровь заливала смарт, и его пришлось прижать к другому уху. – Он заточил нас в этом доме и… Смерть – это больно. Даже если нет тела. Ты помнишь только боль и кричишь-кричишь, снова и снова, пока не забываешь почему. А потом все по новой. Умоляю, останови это! – Как?! – взвизгнула Марьям в трубку. – Отключи сервер. – Где он? – Мы укажем путь. В красном мраке загорелись зеленые огоньки – прочертили дорожку на полу; система ориентирования на случай пожара. Дорожка вела в дальнюю часть подвала. Марьям с трудом заковыляла по ней, каждый шаг отдавался болезненной пульсацией. Горничная нагоняла. Она не ускоряла шаг, но чертовой железяке этого и не требовалось – в отличие от Марьям, эта могла продолжать погоню сколько угодно. – Я не могу! – рыдала Марьям в трубку. И тут перед ней возник Алик – с еще целыми очками, без страшной дыры в голове, стоящий на своих двоих. Из-за его спины выступил Багир – мощный, крупный, еще не сжатый в кровавый ком и не пропущенный через мясорубку. Вслед за ними вырастали новые и новые голограммы – кавказец в спортивках, тетка с планшетом, парочка подростков-неформалов с пакетом бутылок, заросший бомж со свернутым матрасом под мышкой, узбек в оранжевой рабочей робе. Все они, как волна, прошли сквозь Марьям. Та обернулась – голограммы окружили горничную плотным кольцом. Тварь замерла на месте. Было слышно, как щелкают фотоэлементы, фокусируясь то на одной цели, то на другой. Визжал вхолостую электронож, рассекая иллюзорную плоть. Марьям двинулась к цели – к невзрачной двери в конце коридора. Сервер напоминал поставленный вертикально гроб. Из его боков змеились повсюду клубки проводов и терялись в многочисленных коробах. – Уничтожь его! – умолял голос в телефоне. Марьям нацелила кусачки. «Какой же из проводов?» Начала резать один за другим, выдергивать из сервера, но безрезультатно: тот так и продолжал лихорадочно мигать лампочками. «Какой же, какой?!» Вдруг перед ней выросла тень. Оформилась нечетко, словно голопроектор глючило: расплывались нос, глаза, лицо. Четко отобразились лишь желтые садовые перчатки. – Не делать этого, mademoiselle. Это пг’еступление! Le meurtre! – Не слушай! – доносилось из смартфона. – Это ад! Настоящий ад, без конца и начала! Марьям продолжала резать провода, а тень Магне мельтешила перед ней, лезла в глаза, как едкий дым. – Не надо! Мы договог’имся. Я дать лучший миг’, лучшую жизнь! Вечное счастье! Провода все не кончались, рука занемела. Визжал динамик смартфона: – Не слушай! Это как застыть в янтаре, но остаться в сознании. Мой мальчик… Он отобрал у нас будущее! Осталось лишь бесконечное «сейчас»! – Обдумайте мое пг’едложение, mademoiselle. Полная осознанность – это так утомительно. Все пг’иедаться – г’ано или поздно? Не лучше ли навсегда застыть en moment? Пег’еживать лучшее мгновение снова и снова? Обдумайте! Тень Магне росла, заполняя пространство серверной; казалось, в ней стало нечем дышать. В зрачки как будто ввинчивали острые шурупы, слезы текли ручьями. Марьям разгадала его маневр, лишь когда почувствовала, как со спины к ней подбирается горничная. Она испытала сильнейшее дежавю и даже будто ощутила, как цепь электроножа вгрызается в шейные позвонки. Решение пришло неожиданно: «Стилет», забытый, болтался на запястье. Марьям перехватила рукоять, размахнулась и вонзила со всей силы в сервер – туда, где у тени Магницкого должно было находиться сердце. – Обдумай это, обмудок! «Стилет» вошел в металл. – Есть! От куража закружилась голова. Впервые в жизни Марьям почувствовала себя победительницей. Не понукаемой сиротой, не рыночной воровкой, не динамщицей, разводящей лохов на дорогие подарки. Спасительницей, избавительницей; едва ли не мессией, что вывела из цифрового ада души праведников. Она могла почти видеть, как из искрящего сервера, освобожденные, выходят пленники Магне. – Свободны! Вы свободны! – орала она, а глаза застили слезы. Справилась! Выжила! Победила! В воздух взвилась электрическая дуга; что-то хлопнуло, голову прорезало болью до затылка. Свет вырубило так внезапно, что Марьям подумала, будто у нее лопнули глаза. Она зажмурилась, но не почувствовала разницы. Не почувствовала ничего. Попыталась провести рукой перед лицом, но… руки тоже не было. Она завизжала… и не издала ни звука. – Magnifique, не пг’авда ли? – Густой бархатный голос, похожий на ворчание тигра, звучал отовсюду и ниоткуда, точно проходил сквозь нее, как сквозь полую трубку, отражаясь от стенок черепа. – Это быть славная охота. Ты снова добг’аться до сег’вег’а. Я знать! Я говог’ить этим encule из комиссии, вы учиться! Deja vu! Вы пг’огг’ессиг’овать! «Снова? Учиться?» В голове у Марьям было пусто; события последних часов слиплись в кашу, воспринимаясь как психоделический мультфильм без конца и начала. Отключила ли она сервер? Или электронож горничной все же добрался до нее? И откуда это отчетливое ощущение, что длинные иглы погружаются в глазные яблоки, чтобы сделать слепок ее умирающего сознания? Цифровое post mortem. – Что ж, я тг’ебовать la revanche, – подытожил Магне, скомандовал: – Г’ебут системы! Марьям с трудом осознавала услышанное. «Охота»? «Реванш»? Значит, она тоже… Эту догадку прервал гнусавый вокал, накрывший, как лавина, стирая воспоминания, мысли и ее саму без остатка:Non, rien de rien,
Non, je ne regrette rien…
Отверстия

Одинокая ворона боролась с размокшей в луже коркой черного хлеба – та разваливалась и никак не желала оставаться в клюве. Меня птица словно и не заметила – она явно была не знакома ни с рогатками, ни с пневматикой. Сколько лет прошло, а во дворе моего детства ничего не менялось, разве что с каждым годом редели стайки детишек у песочницы. Теперь район почти обезлюдел. Кто-то умирал от рака, кто-то от описторхоза, кто-то и вовсе вешался или спивался. Еще больше народу просто съехало. Считалось, что в районе плохая экология – одни грешили на аккумуляторный завод неподалеку, а экоактивисты не так давно принялись продавливать теорию, что во всем виноват радиоактивный щебень. Это отпугнуло уже потенциальных жильцов, хотя квартиры и продавались, считай, за бесценок. Так или иначе теперь здесь доживали одни пенсионеры. Вот качели, на которых мы всей компанией семилеток учились делать «солнышко», вот мусорные контейнеры, из которых мы доставали картон, чтобы жечь высокие, как нам тогда казалось, до второго этажа костры. Как-то раз Женька Бажанов, мелкий и вертлявый, кинул в огонь аэрозольный баллон. Тот взорвался, кусок отлетел ему в голову, и с тех пор бедняга заикался. Где Женька сейчас – спился ли, как тетя Ната, слег с больной печенью, как Шибаев-старший, или удавился на батарее, как наша соседка, тетя Палаша, – я не знал. Да и знать не хотел, иначе и сам буду как та ворона – вылавливать то, чего нет, пока оно не превратится в размокшие крошки. Весенней слякотью зачавкала под ногами тропинка, что вела к гаражному кооперативу, – кажется, растекшись однажды, затяжной стылой весной, она так с тех пор и не засыхала. Вот узкий проход между домами, в котором мы с Мишкой Горловым, моим лучшим другом, как-то раз нашли порнографическую карточку – «даму червей». Находку мы бережно передавали друг другу, перепрятывали все в новых, более заковыристых местах как самое настоящее сокровище, пока не спрятали так хорошо, что сами не смогли найти. Вот и отцовский гараж, самый дальний в линии. Серая краска пооблупилась – надо бы обновить, на замке обрезанная пластиковая бутылка – чтобы не заржавел. Привычно скрипит длинный, похожий на гвоздь-сотку, ключ в замке, каждый раз будто открывая хранилище детских воспоминаний. – Фсини эрок! – поздоровался я на древнекоптском. Отец обожал притаскивать с работы такие вот лингвистические «сувениры». Некоторые – как этот – плотно входили в привычку домашних. На мое приветствие никто не ответил.
Произошло это за пару месяцев до моего десятилетия, почти двадцать лет назад. Вот уже три с лишним месяца я не ходил в школу – отлеживался после тяжелой болезни. Заболел я глупо. Отец, кабинетный палеограф по профессии, решил провести со мной день «по-мужски» и позвал меня на зимнюю рыбалку. Ему, наверное, в силу неопытности, показалось, что к началу декабря лед будет достаточно крепким. Он ошибся. Дотопал до середины озера, помахал мне рукой: безопасно, мол. Я только и успел сделать несколько шагов, как услышал ужасающий треск, а потом провалился под лед. Не знаю, как отец успел меня достать, – очнулся я уже дома, чуть ли не через неделю, истощенный и едва способный говорить. Мать все плакала и кормила меня с ложечки, а отец трогал за плечо, будто проверяя что-то, приговаривал: «Живой! Живой!» С тех пор родители окружили меня почти удушающей заботой – особенно отец. После смерти бабушки он вообще стал какой-то беспокойный, потерянный и относился к нам с мамой с болезненной бережностью. Сам я бабушки почти не знал, а потому запомнил только ее неестественно спокойное и кипенно-белое после трудов погребального гримера лицо, которое мне потом несколько раз снилось в кошмарах. В общем, теперь за мое выздоровление боролись, как за мир во всем мире. Первое время я то и дело впадал в беспамятство, а в груди плотно поселилось ощущение, будто в легких ползает что-то большое и скользкое. Из-за постоянного кашля – я выхаркивал пахнущую тиной слизь еще две недели – и не пойми откуда взявшихся регулярных обмороков было решено перевести меня на домашнее обучение. Тумбочка у кровати поросла таблеточными блистерами, флаконами с сиропом и непреходящей чашкой чая – мать наказала мне пить много жидкости. Отец еще повесил мне на шею колбочку из-под «Киндера», сказал не снимать. Я как-то раз открыл, думал, там будет чеснок, но не угадал – в колбочке болтался какой-то неровный дырявый камешек. По вечерам мать занималась со мной по школьной программе, чтобы я не отстал, а днем родители уходили на работу и я оставался один. Чтобы я не умер со скуки, отец скрепя сердце торжественно выдал мне пульт от громоздкого видеомагнитофона «Грюндиг» – семейной гордости. У нас первых во дворе появились «видики» – отцу привезли из экспедиции еще до развала Союза вместе с видеокамерой. Еще у Шибаевых, но те никогда никого не приглашали в гости. Вдобавок отец, наверное под давлением чувства вины, принес с рынка целую стопку кассет. Чего там только не было: «Том и Джерри», диснеевская «Белоснежка», мультфильмы Тэкса Эйвери, почему-то без перевода, и – совершенно неожиданно – невыносимо жуткий «Восставший из ада», который я так ни разу и не набрался смелости досмотреть до конца; всегда выключал на моменте, когда в начале фильма какого-то мужика заживо разрывают на части цепями. Так, упакованный учебниками и видеокассетами, я по плану родителей должен был провести дома безвылазно добрые… не знаю сколько. Каждый день они приходили домой, наскоро осматривали меня, пихали мне градусник под мышку и говорили: «Ты еще слишком слаб. О школе не может быть и речи!» Какой мальчишка не обрадовался бы таким каникулам! Но никого приглашать родители тоже не разрешали – опасались, что гости меня могут чем-нибудь заразить и я не выкарабкаюсь. Однако на то и нужны лучшие друзья, чтобы поддержать в трудную минуту. Как-то раз зазвонил телефон. Я был дома один, взял трубку. Звонил Мишка Горлов. Он страшно обрадовался, услышав мой голос и, несмотря на мои увещевания – касаемо запретов отец был очень строг, – все же напросился в гости. Первые пару раз я жутко нервничал, но с какого-то момента это стало традицией. Мишка частенько прогуливал школу, поэтому, выйдя из дома, прятался где-нибудь во дворе – в ракете или за мусорными контейнерами – и высматривал моих родителей. Дождавшись, пока те выйдут из подъезда, он пулей бежал к домофону, и я его впускал, чтобы смотреть вместе «Тома и Джерри», «Белоснежку» и пытаться сквозь пальцы выдержать хотя бы пять минут «Восставшего из ада». Так было и в тот день. Я отпер ключом дверь, и Мишка буквально ввалился в квартиру. Влетев ко мне домой, он был необычно возбужден. Спросил с порога: – Слушай, а ты у своих предков когда-нибудь малинку находил? – Где, в огороде? – удивленно спросил я. – В каком огороде? Ну, клубничку? Порево? Находил, нет? – Да не-е-е… – неуверенно протянул я. Я сомневался в значении этого слова, знал лишь, что это что-то неприличное. – Откуда у них? – Ага, все они не такие… Прикинь, я у Шибаевых дома был… – Брешешь! Как они тебя пустили? – Да у них батя преставился, на похороны уехали, а посидеть некому. – Да ладно! Этакий бычара. А чё с ним? – Какая разница? Вроде с печенью что-то, какие-то паразиты… Я вообще не о том, ты слушаешь? – Да слушаю-слушаю! Сижу тут, все новости мимо меня. – Я даже как-то обиделся на «полубандита» Шибаева, как его называл папа, за то, что он посмел умереть, пока я тут сижу в четырех стенах. – Ну и? – Ну, я мелкого перед приставкой усадил, а сам пошел посмотреть, что дома лежит… – По лицу Мишки пробежала тень. – Ну я так, из интереса чисто! – Ох, Мишка, попадешься ты однажды… – Да я не взял даже ничего! Ты дослушай! Нашел кассету. Не подписанная, без названия. Включил – а там… Блин, даже не знаю, можно ли тебе говорить вообще. – Слышь! Сказал «А», говори «Б»… – Ну, короче, там как на той карточке, помнишь? Только по-настоящему все! В движении! Прямо… все видно, прикинь! Там баба такая, в чулках, и негр… – Фильм какой-то, что ли? – не понял я тогда. – Да какой фильм, на хрен! Там этот негр ее прямо на свой кочедык насаживает! – Да ладно? Такое… наверное, не снимают. – Ты дурак, что ли? – с какой-то даже жалостью спросил Мишка. На секунду я представил себе эту сцену – получилось весьма смутно. Какая-то баба в чулках – мне увиделась тетя Ната из гастронома, а негр почему-то был дикарем с костью в носу и держал в руках огромную корягу – так мое воображение в тот день истолковало слово «кочедык». Я не удержался и прыснул. – Чего ржешь? Дурак совсем? – Да так… О своем. А с чего ты решил, что этот фильм у моих родителей тоже есть? – Он у всех предков есть. Ну, не он, а какой-нибудь навроде… – Я все кассеты пересмотрел, – кивнул я на полку. – Если бы такой был, я бы его уже нашел. – Ага. Наивный чукотский мальчик. Думаешь, они ее на виду хранят? Такое обычно прячут. И Мишка, наглый от природы, не дожидаясь моей реакции, принялся распахивать шкафы в гостиной. – Эй, это мамины вещи! – вмешался я, когда он по плечо залез рукой под стопку одежды. – Она должна быть где-то… Может, здесь? – Горлов, невзирая на мое возмущение, продолжал копошиться в родительских пожитках. Вдруг оторвался, оглянулся на меня, спросил: – А что тебе сегодня мамка оставила? – Котлеты и пюре. – Айда перекусим? От пюре Мишка благородно отказался. Отрезал нам по два куска черного хлеба и сделал два бутерброда с котлетами. Он такие называл «чизбургерами». «Макдоналдса» в нашем городе тогда еще не было, так что ему было невдомек, что в чизбургерыобязательно кладется сыр. Подкрепившись, Горлов с новыми силами бросился на поиски «малинки». Взобравшись на рискованную конструкцию из стула и стопки папиных книг по коптским культам, гностицизму и манихейству, что бы это ни было, Мишка принялся шарить по антресолям, сбрасывая на ковер целые комья пыли. Наконец воскликнул: – Есть! – и едва не полетел на пол, благо я придержал. В руках у Мишки действительно оказалась кассета без подписи. Более того – таких кассет мы оба, оказывается, никогда не видели. Толще обычной, она имела сбоку небольшое окошечко, а внутри виднелась еще одна кассета, только раза в четыре меньше – точно одна кассета была беременна второй. На ней замазкой была криво выведена крючковатая цифра «2». – Ну что, смотрим? – А может, не надо? При взгляде на эту кассету на меня нахлынула необъяснимая паника. Почему-то мне казалось, что или магнитофон ее зажует, или родители как-то еще прознают, что я брал чужое. – Да не ссы ты! Главное, момент запомнить, с которого началось, чтобы на него отмотать обратно, а то спалят! «Грюндиг» с приятным скрежетом проглотил кассету, а Мишка уже колдовал с пультом. – У тебя видик на нулевом? – уточнил он с видом знатока и тут же переключил на нужный канал. Пузатый «Филлипс» зашипел на нас рассерженной кошкой. Экран пестрел белым шумом. – Пустая… – с каким-то облегчением и странной гордостью за родителей выдохнул я. Почему-то тогда мне казалось, что, найди я у них «малинку», мое отношение к ним изменилось бы навсегда. – Погоди, ща промотаем! – с уверенностью сказал Горлов, нажимая на кнопку FWD. Магнитофон действительно издал звук, похожий на «фвыд», и пленка закрутилась быстрее. Вдруг белый шум разошелся, превратился в полоски, а на их фоне темнела какая-то картинка. – Йес-с-с! Мишка отпустил кнопку перемотки, изображение замедлилось. – Говорил же, твои тоже смотрят… Зернистое изображение показывало женщину, совершенно голую. От смущения я на секунду отвернулся, тут же почувствовав, как вспыхнули щеки. Но что-то мне подсказало, что перед нами никакое не порно. Женщина на экране не была похожа на ту памятную «даму червей», что раздвигала какие-то розовые складки между ног и сладострастно облизывалась на камеру. Вместо чулок и пояска на женщине были наручники, державшие ее руки высоко над головой, а ноги прибили к полу… гвоздями! – Я не хочу это смотреть! – с замирающим сердцем сказал я, отворачиваясь, а Мишка, наоборот, не мог оторваться от экрана: – Ни фига себе, смотри! Она же вся… Горлов почти прильнул носом к экрану, рассматривая пленницу. Рот у нее был заткнут чем-то похожим на унитазный поплавок, на ляжках с внутренней стороны запеклась неаппетитная корка. Интерес подзуживал, я не смог удержаться и обернулся. С женщиной действительно было что-то не так. Вся она была покрыта какими-то дырками, разных форм и размеров. Частые отверстия на плечах и коленях, крупные, с яблоко, воронки на бедрах и грудях. Посреди живота вертикально висело что-то похожее на крышку от кастрюли. Я почувствовал, как холод наполняет кишки, скручивает их, выдавливая наружу писклявое, испуганное: – Это же все не по-настоящему? – Не… – Мишка, завороженный, не мог оторваться от экрана. – Это ж кино. Вдруг тихое шуршание видеоряда прорезал громкий, до боли знакомый скрежет. Неверно его истолковав, я в страхе взглянул на входную дверь: не вернулись ли родители раньше времени? Но нет, звук шел из телевизора. На прикованную к стене женщину упал прямоугольник света, в кадре мелькнула какая-то дверь, и в помещение вошел… – Это ж твой батя! – выдохнул Мишка, констатируя очевидное. Отца я действительно узнал сразу. Высокий, в смешном желтом дождевике, он уверенно зашел в помещение с полным ведром воды. «Набрал на колонке», – подумалось мне. Женщина при виде его задергалась, заметалась. Из-под прибитых к полу стоп потекли красные струйки. – У него типа… любовница? – туповато спросил Горлов, глядя на телевизор. Я не смог из себя выдавить ни слова, а отец взял тряпку, окунул в ведро и принялся смывать с пленницы кровоподтеки. – Что это, а? Я не отвечал. Лишь вглядывался до боли за глазницами в спокойные, уверенные движения отца, будто тот мыл машину – этой зимой «Москвич» стоял во дворе. По словам отца, чтоб не бегать долго по холоду, да и разве сдалась угонщикам и ворам его развалюха? Теперь я понимал, что для этого была еще и другая причина: в нашем гараже, в том самом, в котором отец показывал мне, как менять масло, как выглядит карбюратор, учил пользоваться молотком и дрелью, – в этом навсегда оскверненном клочке моего детства поселилась чужая женщина. Да, стены теперь покрывали старые матрасы и картонки из-под яиц, с потолка свисали цепи и крюки, но все еще можно было разглядеть заваленный хламом верстак, тускло светила «лампочка Ильича», а знакомый скрежет издавал гаражный замок. Закончив с водными процедурами, папа… Нет, «отец». Увидев его таким, я не мог больше произносить это детское, невинное слово. Теперь это был «Отец» – тот самый ветхозаветный Бог Отец, о котором нам рассказывали на уроках «Этики христианства»; жестокий, мстительный, без лишних сантиментов решающий, кому жить, а кому умереть. Прошло уже двадцать лет, но этот холод, поселившийся в тот день в моем сердце, не растаял до сих пор. Так вот, закончив с водными процедурами, отец принялся как будто кланяться в реверансах и произносить на разные лады свое знакомое, но почему-то теперь зловещее: «Фсини эрок! Фсини эрок!» Зачем он с ней здоровался? То, что произошло дальше, придало всему происходящему странное ощущение нереальности. Помню, появилось чувство, будто летишь на карусели, – какая-то чуждая, неестественная легкость. Все происходящее перестало быть настоящим, превратилось в фильм. Ведь не мог же мой отец по-настоящему открыть живот той женщины? Снять с него крышку, словно с кастрюли! В отороченной рамкой дыре разверзлась черная пустота – глубокий мясистый тоннель, а из него набухало, лезло что-то белое, круглое… Меня затошнило, я побежал в ванную, а сзади раздался омерзительно-влажный визг дрели, сопровождаемый натужным мычанием. – …твою мать! – выругался запретными словами Мишка, после чего послышался скрежет извлекаемой кассеты. – Он ей плечо просверлил! И там червяки! Прикинь! Котлета все же не выдержала пребывания в плену желудка и выплеснулась в унитаз, следом с кашлем вылетели слоистые, уже знакомые мне, сгустки мокроты, похожие на куриные потроха. Они плескались в унитазе, как будто шевелились сами по себе. В голове тем временем завязывалась, росла жуткая в своей простоте и ясности мысль: «Мой отец – маньяк». Когда я почувствовал, наконец, как жгучая смесь ужаса и непонимания окончательно покинула мой желудок в виде не переваривавшихся хлеба и котлет, мне удалось оторваться от фаянса. Вернувшись в комнату, я увидел бледного, с большими испуганными глазами Мишку. На губах у него дрожало что-то невысказанное. Помолчав, он спросил: – Ты как? – Хреново. Сам как думаешь? – Ну и… – После непродолжительной паузы сдерживаемая мысль все же оформилась в слова: – Что делать будем? – В смысле? – Ну… блин. Походу, твой батя… ну, из этих. – Из каких еще «этих»? – спросил я со слезами, хотя ответ на вопрос знал. – Помнишь, в фильме про людоеда был такой… Баб в яме держал, потом срезал кожу. Меня снова затошнило. В голове крутилась жутковатая карусель из мельтешащих образов: дрель, прикованная женщина, негр с корягой в руках, смешное слово «кочедык». Защипало глаза. – Ну, ты чё как девчонка-то? – смущенно спросил Мишка. – Ща порешаем… – Что порешаем?! – взвизгнул я. – Что мы порешаем? В милицию пойдем, да? Чтобы моего отца посадили?! – Погоди ты… Дай подумаю. – Горлов действительно упер остекленевший взгляд в причудливые узоры ковра, задумался, даже высунул язык от усердия. – Слушай. А что, если мы ее освободим? – Кого? – Ну, бабу ту. – Как мы ее освободим? Ключ от гаража у отца! – Не дрейфь. Там же замок навесной? – Ну? – Баранки гну! Я его в два счета… – А потом что? Вдруг он поймет, что это мы? – Как он поймет? Отпечатки, что ли, будет сверять? Мы по-быстрому откроем, выпустим, и пускай бежит на все четыре стороны! Может, твой батя это… ну, нечаянно? А потом не смог остановиться. – А если выпустим – думаешь, сможет? – Не знаю, – серьезно сказал Мишка. – Но, если бы ты был на ее месте, тебе было бы плевать. Представив себя в цепях, с прибитыми к полу ногами, в ожидании хищного жужжания дрели, я сглотнул. Такого действительно не пожелаешь никому, даже злейшему врагу. – Ну что? Ты со мной? Я замялся. – Если родители узнают, что я выходил… – Я замолк, почувствовав себя глупо: там, в гараже, заперта несчастная женщина с дырой в животе, а я думаю, как бы не получить нагоняй. – Если отец узнает… – Когда он возвращается? – Обычно часов в шесть, вместе с мамой. Он заканчивает раньше, но встречает ее с работы… – Тю-ю-ю… – присвистнул Мишка. – У нас еще гора времени! Так, дома у тебя инструменты какие-нибудь есть? Болторез там, может, ключи гаечные? – Все в гараже… – растерянно проронил я. – Эх ты, тоже мне пацан… Так, жди здесь, я сейчас! Выбежав за дверь, Горлов оставил меня наедине с моим кошмаром. Зайдя в гостиную, я застыл на пороге. Телевизор шуршал белым шумом. Злополучная кассета лежала посреди ковра – черная с белыми «глазами», она, будто чудовище, просочившееся откуда-то из иных сфер, призывно поглядывала на меня белеющими углублениями: подойди, мол, ближе, дотронься. Вдруг в голову непрошеным гостем ворвалась Мишкина фраза из другого, еще не сломанного мира, где мой отец не был маньяком из фильма ужасов: «Главное, момент запомнить, с которого началось, чтобы на него отмотать обратно, а то спалят!» Теперь я разглядел кассету. Чудовище, беременное себе подобным чудовищем, она ехидно улыбалась изгибом крышки: куда ты теперь денешься? Перебарывая себя, я сделал шаг вперед. Не важно, что мы обнаружим в гараже. Возможно, там уже давно никого нет, возможно, отец записал это видео много лет назад, еще до моего рождения, когда он был совсем другим человеком… Я должен проверить. Было непросто заставить себя вновь вставить эту жуткую кассету в черный зев видеомагнитофона. Помню, после первой попытки посмотреть «Восставшего из ада» я потом боялся даже брать в руки чертов фильм. Теперь мне предстояло испытание похуже. Выкрутив звук на минимум, я отвернулся от экрана и ткнул в кнопку REW на пульте. Зажужжала пленка. Слушая, как та отматывается, я то и дело посматривал на крошечное нечеткое отражение в стекле серванта и тут же отводил взгляд – нужно было домотать до белого шума. Маленький кусочек изображения мелькал в стекле, уже пугая меня до одури, но я должен был обернуться, я должен был узнать… Набрав воздуха в грудь, я крутанулся на пятках, изо всех сил стараясь смотреть только в угол экрана: туда, где на пленке записывается дата и время. Скользнул взглядом по чему-то круглому, вываливающемуся из живота пленницы, и в ту секунду готов был поклясться, что это «круглое» тоже смотрит на меня. Дата в углу оказалась трехмесячной давности – двадцать шестое декабря тысяча девятьсот девяносто седьмого года. Вдруг дата исчезла, экран подернулся мельтешащей дымкой, изображение пропало. Я уже домотал до нужного момента? Но ведь тогда еще дырка в животе была закрыта. Или нет? Магнитофон вдруг издал какой-то жужжащий звук, замигала лампочка. Неужели зажевал? В панике я принялся ковыряться в узком отверстии, пытаясь извлечь злополучную «беременную кассету», но та крепко сидела, точно насаженная на что-то. От отчаяния я едва не зарыдал. Сбегав на кухню за ножом, я продолжил, сам не зная, что страшнее: если отец узнает, что я брал кассету, или если меня ударит током. Раздавшаяся за спиной трель домофона едва не заставила меня поседеть. Лишь запоздало я подумал, что родители не стали бы названивать в домофон, у них есть свои ключи, а значит, вернулся Мишка. Он влетел в квартиру, подобно урагану, с каким-то пластмассовым гремящим ящиком. – Ну что, пошли? – Я кассету достать не могу! – едва сдерживая слезы пожаловался я. – Эх ты, тютя! – крякнул Горлов, подошел к видику и выдернул из розетки шнур питания. Подождал с важным видом и засунул снова. Видеомагнитофон тут же презрительно выплюнул кассету. – Учись, пока я жив! С помощью Мишки добравшись до антресолей, я запихнул кассету за какие-то пыльные стопки исписанных общих тетрадей. – Все, побежали, пока твои не вернулись! Одевайся! – У меня нет зимних сапог, – вдруг осознал я и поделился этим открытием с Горловым. Обувь и одежда, бывшие на мне в день, когда я ушел под лед, то ли утонули, то ли оказалась испорченными, а новых мне за ненадобностью – выходить-то все равно нельзя – так и не купили. – Надевай мои! – благородно предложил Мишка. – Размер должен подойти. – А ты как? – Нормально. Тебе ж болеть нельзя! «Дутые» сапоги действительно сели как влитые, а Мишка, наоборот, намучился с моими ссохшимися в обувнице кроссовками. Еле-еле он втиснул носки, а пятки – одна с дыркой – так и остались свисать наружу. Вместо зимнего пуховика пришлось надеть друг на друга три свитера и накрыть все это сверху оранжевой ветровкой, отчего я сделался похожим на апельсин на ножках. – Пойдет! – одобрительно кивнул Горлов. – Айда! Чавкала слякотью тропинка под ногами. Я видел, как Мишка старательно огибает лужи, но было заметно, что кроссовки уже мокрые насквозь. Держась за стены, мы преодолели покатую черную от грязи наледь, что наморозило в проходе между домами. Там я едва не ухнул носом прямо в дохлую кошку – животное лежало взбухшими внутренностями напоказ, а среди них мельтешили бесчисленные опарыши, напоминая белый шум. Желудок опять сжался в спазме. В гаражный кооператив решили идти не через главный вход – там нас мог заметить сторож, – а через дырку в заборе. Где-то вдалеке лаяла собака, но мы с Мишкой знали, что Лайда – безобидное брехло, а вот Абхаз, здоровенный сторожевой кобель, вполне мог бы стать препятствием, но совсем недавно он бесследно исчез. Мишка утверждал, что его съели бомжи. Свежевыкрашенный отцовский гараж вздымался над нами мрачной крепостью, серой громадой. Зеленел обрезок бутылки из-под «Спрайта», накрывавший замок. – Так, гляди! – Горлов открыл пластиковый ящик, внутри оказались инструменты. Подобрав два более-менее близких по размеру гаечных ключа, один он сунул мне в руку. – Берем, упираем с двух сторон и тянем в стороны, как рычаг, понял? – Понял. Воткнув под дужку замка по ключу, мы принялись тащить, каждый в свою сторону. Шло очень туго, от холодного железа пальцы тут же потеряли чувствительность. Замок издевательски ухмылялся изогнутой надписью «Бастион» на корпусе. Вдобавок я откровенно трусил: что, если нас заметят другие гаражники? Объясняй потом, что не воры. – Сильнее тяни! – кряхтел Мишка. – Да тяну я! – Еще сильнее! Вдруг что-то звякнуло, отлетел кусок дужки, и я повалился вместе с гаечным ключом в слякоть. Тут же насквозь промокла спина. – Йес-с-с! – обрадовался Горлов. – Ну, милости прошу! Со скрипом отворилась дверь гаража, изнутри дохнуло смрадом застарелых нечистот и чего-то гнилого, мы оба зажали носы. – Ты первый! – прогнусавил Мишка сквозь варежку. – А чего это я? Иди ты! – Твой гараж! – подтолкнул он меня. Набрав морозного воздуха в легкие, я шагнул в узкую щель между створками. Внутри было темно и, странным образом, очень тепло, отчего я весь взмок в своих свитерах. Где-то впереди зазвенели цепи, заставив меня застыть на месте. – Ну, что там? – прошипел Мишка. Ткнулся сбоку, протискиваясь внутрь. – Темно… – еле слышно, одними губами произнес я. – Ща… – Послышался щелчок, и желтый луч фонарика скользнул по грязным матрасам, заваленному тетрадями верстаку, осветил видеокамеру на штативе – видимо, ту самую, при помощи которой снимали видео, – и, едва зацепив чьи-то стопы, тут же метнулся прочь. – …твою мать! – выругался Мишка. Немедленно раздалось натужное мычание, словно кто-то пытался кричать сквозь кляп. Вновь луч фонарика несмело пополз вверх – показались грязные, в какой-то налипшей дряни, стопы; бедро с отвратительным влажным кратером; свет стыдливо мазнул по темному треугольнику волос, устремился выше – на странную крышку от кастрюли посреди живота. Подняв, наконец, фонарик выше, Мишка вновь выматерился, а я вскрикнул – лицо женщины было искалечено. Единственный глаз дико оглядывал нас, место второго занимала какая-то затычка, будто винная пробка. Весь лоб опоясывала линия отверстий, точно перфорация на отрывных календарях. Пленница мычала и дергалась в цепях, явно пытаясь высвободиться. Первым взял себя в руки Горлов. – Сейчас мы вас освободим! – сказал он твердо, уверенно, точно какой-нибудь пожарный или спасатель, после чего скомандовал: – Неси гвоздодер и плоскогубцы! С облегчением я выбежал на улицу и принялся дрожащими руками вынимать из плотных пазов инструменты. Происходящее никак не укладывалось в голове. Там, на кассете, это можно было принять за монтаж, за какой-нибудь розыгрыш, но здесь кошмар обернулся объективной реальностью, с которой мне еще лишь предстояло смириться. Первым делом мы взялись за ноги. Вернее, Мишка принялся вынимать гвоздодером железки, вбитые в стопы пленницы, а я просто смотрел, не в силах пошевелиться. Каждый раз, когда у Мишки срывался инструмент, несчастная тихонько вскрикивала и дергалась на цепях. – Есть один! – Довольный Горлов продемонстрировал мне окровавленный гвоздь. Следом с немалым трудом, расшатав, он выкорчевал и второй. – Так, сейчас займемся руками. Тут все оказалось сложнее: никто из нас не доставал до цепи, пришлось подвинуть верстак. Тот неохотно полз по бетонному полу с чудовищным скрипом. Вцепившись плоскогубцами в одно из звеньев, мы по очереди плющили и крутили его, надеясь разогнуть. За дверью темнело, и я понимал, что родители уже скоро придут с работы. – Ща все будет! – невозмутимо успокаивал пленницу Горлов. – Ща! Настала очередь Мишки. Он вновь залез на верстак и принялся тянуть плоскогубцами то вниз, то влево, а я стоял внизу и ждал, пока ноющие от непривычной работы руки хоть немного отдохнут. Не знаю, что тогда было в моей голове. Наверное, я просто хотел убедиться, что не сошел с ума. Взгляд мой зафиксировался на круглой крышке посреди живота пленницы. Пальцы сами потянулись к ручке, несмотря на испуганное мычание несчастной женщины. Крутанув, я направил фонарик в открывшийся мне темный тоннель, который никак не мог уместиться в человеческом теле. – Эй, ты куда светишь? – спросил Мишка, но я не слышал, я орал или даже, скорее, пищал, потому что ужас судорогой сжал мне горло. Оттуда, из разверстой утробы пленницы, на меня смотрело то, чему я не мог найти имени. Это бесцветное лицо объединяло в себе все мои страхи, все самое жуткое, что я видел в жизни: человека без кожи из «Восставшего из ада»; дохлую кошку, обнаруженную меж гаражами – с внутренностями наружу; белую как мел бабушку в гробу с подвязанным ртом; жуткую картинку с хеллоуиновской тыквой из старой детской книжки. Все это сочеталось в кошмарном существе, что медленно пробиралось по неестественно глубокому тоннелю из плоти в мою сторону. И я готов был поклясться: где-то в груди то самое, что ползало и ворочалось в моих легких, потянулось к нему навстречу. Раздался тоненький «дзинь», и женщина повалилась на меня, накрыла своей кошмарной дырой на животе, выбила фонарик из рук. Я не мог видеть ничего, но слышал влажное шуршание, с которым наружу продвигалось нечто. Где-то позади послышался жуткий скрип, тусклый вечерний свет проник в гараж, и я со странной смесью облегчения и еще большей паники узнал отцовский голос: – Что вы тут делаете? Женщина вдруг вскочила, нависла надо мной с диким выражением лица; в руке она сжимала отвертку. Я загородился руками, ожидая, что та собирается мне жестоко отомстить за то, что я открыл крышку, за то, что я – сын маньяка, а может быть, просто за то, как несправедливо обошлась с ней судьба. Но пленница, выпучив единственный глаз, смотрела туда, где должен был стоять отец. – Ме-е-едленно опусти отвертку! – увещевал он у меня за спиной. Женщина замотала головой, слипшиеся светлые барашки на ее голове пришли в движение. Размахнувшись, пленница со всей силы всадила отвертку себе в глаз, свет вдруг сменился тьмой, и я умер.
* * *
В тот день я очнулся дома, в кровати, с сильным ознобом и долго не мог говорить. Мать поила меня горячим молоком с медом и постоянно измеряла температуру, отец же беспокойно мерил шагами комнату, то и дело заглядывая мне в глаза. Оказывается, Мишка все-таки принес к нам какую-то инфекцию, и я заболел. Все эти странные кассеты и женщины в гаражах, по словам родителей, оказались лишь горячечным бредом, а Мишка воспользовался ситуацией. Они рассказали мне, что Мишка придумал какую-то глупую сказку и заманил меня в гараж, чтобы там что-то украсть. Соседи нередко запрещали своим чадам приглашать Мишку, потому что после него якобы пропадали вещи. Теперь и у моих родителей Мишка впал в немилость – общаться с ним мне строжайше запретили. Дома я просидел еще полгода. Ключи от квартиры у меня благоразумно отобрали, так что нарушить запрет не получилось бы при всем желании. Когда я, по мнению родителей, достаточно окреп, чтобы выйти на улицу, выяснилось, что Горловы куда-то переехали, не оставив для связи ни телефона, ни адреса. Что случилось с Мишкой на самом деле, я узнал лишь тринадцать лет спустя, когда у отца диагностировали неоперабельную опухоль. В тот день я вернулся из института, зашел домой и понял сразу: что-то не так. Мать тихонько плакала на кухне, на любые вопросы отвечать отказывалась, а отец, заметив мое появление, схватил меня за плечо, отвел в гостиную и усадил в кресло. Вместо серебристого DVD-плеера под телевизором вновь стоял видеомагнитофон «Грюндиг», а рядом – картонная коробка с кассетами. – Пришло время, сынок, тебе кое-что узнать. Эти кассеты… Я записал их на случай, если со мной что-то произойдет, и ты бы мог разобраться, пока не станет поздно. Я рад, что успею рассказать тебе все сам… Первым делом он сунул мне в руки какую-то ветхую мутно заламинированную бумажку. Заголовок гласил «Справка о смерти». Дата – десятое декабря тысяча девятьсот девяносто седьмого года. Ниже – мои имя-фамилия-отчество. Еще ниже – причина смерти: «Случайное аспирационное утопление». И большая круглая печать из морга. Отец все объяснил. Объяснил, что больше всего на свете боялся меня потерять. Объяснил, что ни он, ни мать этого бы не пережили. Поэтому, когда им выдали мое белое холодное тело, в его голове уже был готов план. За день он оборудовал гараж под свои нужды, в качестве жертвы выбрал совершенно случайную женщину – подъехал на «Москвиче», сказал, что ребенку нужна помощь. Та доверчиво подошла, заглянула в заднюю дверь, а отец оглушил ее ударом деревянного молоточка для мяса и затащил внутрь. – Понимаешь, сынок, жертва должна быть жива, чтобы ритуал работал. Стоит ему прерваться – и договор будет расторгнут. Оказывается, мои полгода вынужденного сидения дома были нужны затем, чтобы родители успели путем взяток и подлогов вымарать все документальные упоминания о моей смерти. Чтобы задобрить сотрудницу ЗАГСа, пришлось даже продать «Москвич». Отец рассказал, как работал над переводами коптских текстов, обнаруженных близ Наг-Хаммади, где и описывались древние гностические ритуалы, позволяющие контактировать с тем, что обитает на самом дне древней хтонической тьмы. – Видишь ли, то, что сейчас рассказывают в школе, – про Бога, Библию… Это все очень хорошо и правильно, но упрощенно. Бог – он всемогущий здесь, на земле, в небесах, да. А за пределами… Он… как бы тебе объяснить? Он создал маленький кукольный домик, поселил нас здесь, задраил изнутри окна и двери и никого не хочет впускать. А вокруг – дети постарше и посильнее. Им тоже хочется играть с куклами… Ну, по-своему. А в кукольный домик попасть они не могут. И тогда те из нас, кто знает о существовании… назовем их «старшими»… те из нас, кто знают… они могут осторожно, чтобы никто не заметил, пустить их к нам. Даже не целиком, а… на полпальца. Им обычно достаточно и этого – тогда случаются гадкие вещи. Ребенок падает и ударяется головкой об угол тумбы, гаснет огонь в газовых плитах, безобидная родинка превращается в меланому. Такие уж у них развлечения. Но в благодарность «старшие» могут оказать услугу. В конце концов, мы для них всего лишь ничтожные куклы… Отец еще долго и увлеченно распространялся о гностических верованиях, жестоких жертвоприношениях каинитов, тайных убежищах недобитых манихейских жрецов и глубоких пещерах, где поклонялись сущностям и стихиям, у которых нет имен на человеческом языке. – Главное, сынок, что ты должен уяснить: раны – это врата. Через них они ходят в наш мир. Боль призывает их, нужно только произнести слова приглашения. Раны имеют свойство затягиваться, гнить, зарастать – тогда врата перестают работать, поэтому отверстия нужно обновлять. Поначалу я использовал для этого дрель, но такие раны быстро закрываются – бывало, ты падал замертво по несколько раз за день. Мой тебе совет – создай несколько действительно крупных отверстий на теле и открывай их по очереди. Если следить за чистотой, это совсем не опасно, человек может так прожить долгие годы, даже десятилетия. И помни: ты жив, пока целы врата. В тот день отец передал мне все свои записи, отдал ящик с кассетами и торжественно вручил длинный, с гвоздь-сотку размером, ключ. В считаные месяцы его забрал рак. Сожрал внутренние органы, как гусеница сжирает зеленый лист. Когда его клали в гроб, я изо всех сил гнал мысль, что и его жизнь «старшие» включили в свой счет. Поиграли с ним, как с очередной куклой. Следом ушла и мать. Так я остался совсем один. Ну, почти. У меня был мой друг детства.* * *
Двери у гаража теперь двойные. Закрыв за спиной первую – металлическую, скрипучую, – я открыл ключом вторую, обитую с внутренней стороны студийным поролоном. Впрочем, в нем уже давно нет нужды. Мишка если и заметил мое появление, то виду не подал. Большую часть времени он лежит на больничной кушетке в позе эмбриона, как и сейчас. Сбросив куртку, я накинул медицинский халат, застегнул на все пуговицы – когда рядом открытые раны, приходится всегда быть настороже. После смерти отца я многое здесь переоборудовал. Верстак заменил на многофункциональный стол, на котором хранятся мои инструменты. Никаких молотков, гвоздей и дрелей – только чистейшая хирургическая сталь. Обработав руки пахучим антисептиком, я подошел к Мишке и осторожно погладил его по торчащим ребрам, подхватил бережно под живот и перевернул – чтобы не было пролежней. Горлов, почувствовав прикосновение, тихонько заскулил, направил на меня резиновые пробки, заменившие ему глаза. Глазницы – естественные отверстия, и было бы глупо ими не воспользоваться. Я стараюсь каждый день чередовать раны, чтобы те не слишком заветривались – это могло бы привести к некрозу и попаданию инфекции. Сегодня нужно было закрыть живот и открыть голову – трепанацию я провел самостоятельно. Красный диплом по специализации «врач-хирург» мне выдали вовсе не за красивые глаза. Конечно, Мишка Горлов ни за что бы не бросил меня, не оставив ни адреса, ни телефона. Тогда я поверил и в горячечные галлюцинации, и в то, что Мишка хотел нас обворовать, но в то, что он меня так цинично предал, – ни на секунду. Все-таки он мой лучший друг. И каждый день с того дня он спасает мою жизнь ценой собственной. Мишка, конечно, мало напоминает храброго и суетливого мальчишку из моего детства. Теперь это обтянутый кожей скелет с дебильноватым лицом и запущенной мышечной атрофией. Питается Мишка жидкими витаминными смесями. «Макдоналдс» в нашем городе появился, и даже не один, но чизбургер моему другу детства попробовать так и не довелось. Я много раз вспоминал тот день, когда отец мне все объяснил, и спрашивал себя: а как я это принял? Почему согласился? Почему не сдал старого маньяка в милицию, почему не освободил Мишку, почему вообще поверил в этот страшный горячечный бред? Наверное, потому, что именно в этот день мне ужасно хотелось жить: сессия закрыта без троек, а со старостой курса, судя по ее томным эсэмэскам, что-то намечалось. Да и, откровенно говоря, я не знал, как потом смотреть Мишке в глаза – наверное, поэтому я вскоре решил их вынуть – так легче. Что ему сказать? Что он страдал все эти годы напрасно и я решил все-таки принять предначертанную мне смерть? Нет уж. Отец говорил, что Мишка орал как резаный каждый раз, когда он вынимал кляп. Я не стал издеваться над другом детства – посадил его на седативные, и с тех пор он ни разу не слезал с препарата. Боль он все еще чувствует, но реагирует вяло – мычит, стонет и временами скребет ногтями по простыне. Привязывать его больше не нужно: даже если искалеченное Мишкино сознание когда-нибудь очнется от тягучего фармацевтического сна, то дистрофичные конечности вряд ли смогут поднять это тело с кушетки. С той старостой мы, кстати, сошлись. Эвелина, зеленоглазая красотка, теперь порхает по свежеотремонтированной трешке на другом конце города и принимает по утрам фолиевую кислоту в капсулах – мы планируем пополнение. Тогда, наверное, и Мишке потребуется компания – я не хочу, чтобы мои близкие жили без ангелов-хранителей, оберегающих от злых глаз, что смотрят в отверстия. – Ну что, старый друг, ты готов? – Я набрал воздуха и, поклонившись, быстро по памяти продекламировал: – Тен-хос эрок, тен-асму эрок, тенсемси эммок, тен-вест аммок, фсини эрок! В переводе с древнекоптского это означает: «Тебя мы воспеваем, тебе служим, тебе поклоняемся, тебя приветствуем!» Горлов, конечно же, не ответил. Потянув за крышку, я открыл в Мишкиной голове черную дырку размером с кулак. Мозга за ней не было – лишь бесконечный тоннель из плоти, по которому карабкалось наружу то самое нечто, взглянувшее на меня из живота пленницы. Когда-то оно меня пугало, но теперь я частенько с любопытством рассматриваю существ, что вылезают из Мишкиных отверстий в наш мир. У этого, кажется, мое лицо.Всплыть из бездны Послесловие

Ну, здорово, читатель! Вот ты и прочел мой первый сборник. Здесь тринадцать рассказов. А всего я написал больше ста тридцати. Так что теперь ты меня знаешь приблизительно на одну десятую. Но я откроюсь перед тобой еще немного, сниму с себя галстук, открою забрало, покажу, какой я есть на самом деле.
А есть я самый что ни на есть обыкновенный. Одиннадцать классов общей среднеобразовательной школы № 5 в Мытищах, трижды сломанный нос, вмятина в черепе, нефорская молодость, с десяток записей в трудовой книжке в должностях «подай-принеси», три года работы в ночную смену, высшее образование в коммерческом вузе по совершенно бесполезной для меня специальности «социально-культурный сервис и туризм», раннее облысение, немного лишнего веса, щедрый букет психотравм, развод и эмиграция в Германию. Таков краткий анамнез.
Как же все началось?..
С самого детства я чувствую непреодолимую тягу ко всему мрачному, жуткому, отвратительному, странному, криповому. Доходило до того, что при просмотре безобидного мультфильма про кота Леопольда я ставил кассету на паузу, чтобы получше рассмотреть костюмы скелетов, которые надевали на себя мышата. Да, я из тех детей, кого принято тактично называть странненькими. С тем лишь уточнением, что этот «странненький» мог заставить всю смену бежать в слезах с тихого часа, просто рассказав им страшную байку. После подобных случаев, кстати, многие родители запрещали своим чадам со мной водиться. Ужасы всегда были для меня отдушиной, уютным «домом», в который я сбегал от реальности, когда та становилась страшнее любых выдумок. Как, например, в один не очень удачный для меня год.
Был день моего рождения – мне исполнялось двадцать семь. На этот день выпала рабочая смена. Я сидел за ненавистной мне стойкой отеля, во мне было лишних двадцать-тридцать килограммов, мой брак трещал по швам, а дальнейшие мои перспективы были не туманны, а, наоборот, ясны как день: сидеть мне за этой (или любой другой) стойкой отеля до седых… ну, что бы там у меня к этому моменту ни поседело. Это было самое дно, и я буквально ощущал стопами, как ворошу ил из своих несбывшихся надежд и нереализованных амбиций. Честно говоря, мысль о том, чтобы «вый ти из игры», начинала казаться мне весьма привлекательной. Не знаю, как бы закончился тот день рождения и не стал бы он последним, если бы в бесцельном серфинге в Сети я случайно не наткнулся на «Самую страшную книгу» и не открыл для себя целый новый мир, там, на поверхности, где такие же, как я, фанаты жанра уже несколько лет как творили новейшую историю русского хоррора. Я мгновенно скупил все книги серии, до которых смог дотянуться, и принялся жадно перемалывать том за томом, жалея лишь, что не узнал об их существовании раньше. Скользя глазами по строчкам, я мог думать лишь о том, что, кажется, все-таки нашел свое место. Свой «дом». И, вместо того чтобы спокойно осесть на дно и дать крабикам самоедства и морским червям комплексов обглодать меня до основания, я взялся за клавиатуру и начал подъем с глубины. Уши мне раздирало кессонной болезнью, легкие готовы были взорваться, но я не мог этого контролировать – я всплывал навстречу своему черному солнцу. Кожин, Парфенов, Матюхин, Женевский, Щетинина и многие другие – они показали мне своим примером, как удержаться на плаву. Я стал строить «мой маленький плот», но не из песен и слез, а из того, чем обладал в изобилии: из страхов, сомнений, тревог, комплексов, нереализованных амбиций и неосуществленных фантазий. Я начал писать хоррор.
Сначала я выкладывал свои весьма простецкие поделки на сайтах вроде «Пикабу» и в различных крипи-сообществах, где, давясь самомнением, проглатывал критику от многочисленных комментаторов; где-то огрызался, где-то – соглашался, но всегда делал выводы и с каждой последующей попыткой старался делать лучше. У меня появилось то, ради чего я хотел жить. Теперь я вставал ранним утром и бежал на работу на час раньше, чтобы поскорее включить компьютер и успеть набросать хоть пару абзацев. Я печатал на ходу, я записывал голосовые, я печатал во время работы (иногда прямо при госте) и после работы, колотил по клавиатуре в отпусках, даже вскакивал по ночам. Когда у моего ноутбука сгорела матрица монитора (и вместо изображения был черный экран), я подключал его к телевизору через HDMI и продолжал печатать-печатать-печатать, и не останавливали меня ни боль в сгорбленной спине, ни слезящиеся глаза. Изо всех сил я работал руками и ногами, отращивал плавники и жабры, чтобы вынырнуть из бездны сетевых авторов и наконец-то принести в мир книгу со своим именем на обложке.
«Из бездны» – моя первая книга, и, как всегда бывает с первенцами, она далась мне сложно. Подъем вышел долгим, местами – болезненным и зубодробительно-сложным. Это предисловие я пишу в свой тридцать третий день рождения. За окном свищет ветер, он треплет голый куст шиповника – нас накрыло каким-то жутким циклоном. На кухне стучит нож по доске – моя женщина готовит праздничный фуршет. Я прихлебываю кофе и торопливо колочу пальцами по клавиатуре – через полчаса у меня на канале стрим, а мне надо успеть закончить книгу. Я уже надел свое худи с нашивками из манги «Томие», побрился и постриг ногти на руках (а на ногах забыл, а теперь и некогда). Лицо у меня вытянутое, сосредоточенное на тексте, но внутри я улыбаюсь.
Уже не тот несчастный молодой человек с депрессией, залысинами и без причин к существованию. Голову я побрил налысо, всю депрессию переработал в творчество, а своей причиной жить выбрал хоррор. И тебя, читатель, кем бы ты ни был. И сам я теперь – не скучный портье в отеле, а популярный хоррор-писатель, двухкратный финалист конкурса «Чертова дюжина», успешный «проходимец» отборов в «Самую страшную книгу», владелец паблика в ВК на пятнадцать тысяч подписчиков, автор историй, чьи озвучки в совокупности набрали несколько миллионов просмотров. А теперь еще и автор собственного печатного сборника, буквы для которого я бережно сохранил на всем своем пути из бездны наверх.
Однако тот молодой человек, и тот «странненький» мальчик, и тот безбашенный нефор – они все еще со мной, и именно они – мои главные советчики в том, как сделать остро, больно, эмоционально, грустно и драйвово. Один пересмотрел десять раз «Сербский фильм», другой – знает наизусть все байки из сборников Успенского и Усачева, третий прошел все части «Резидента» и «Сайлент Хилл». Они – настоящие фанаты хоррора, и именно им я доверяю определять, что истинное, а что позерство. И благодаря им, читатель, ты держишь в руках написанную мной книгу, ты прочел ее до конца и (надеюсь) получил удовольствие. Из бездны сетературы, из тысяч мне подобных ты, читатель, предпочел именно меня. И через этот корешок (или корпус смартфона) ты наконец сжимаешь мою ладонь. У нас лопнули барабанные перепонки, а из глаз от резкого подъема сочится кровь, мы улыбаемся друг другу и, возможно, захотим это повторить. И это именно ты, читатель, не позволил мне утонуть, не позволил остаться одному. И я благодарен тебе за это. Впрочем, поблагодарить стоит не только тебя. Буквы для этих страниц помогали мне собирать по крупицам множество людей.
Мои родители – каждый по-своему. Мама подсказывала неожиданные темы для рассказов и скрепя сердце выслушивала идеи (она не любитель хоррора). Отец делился жизненным опытом из девяностых и послужил прообразом для некоторых персонажей. Лучший друг консультировал относительно работы полиции, состояния трупов на разных стадиях разложения и делился мелкими инсайдами. Моя Виктория неожиданно мужественно для сорокакилограммовой девочки-дюймовочки выдерживала мои всплески вдохновения, нередко в САМЫЕ неподходящие моменты. И читала такие сцены, которые я бы даже своему психотерапевту не показал. Дабы не останавливаться на каждом предметно, дальше пойдет список. Я благодарен: Олегу Кожину, Саше Матюхину, Максу Кабиру – за вдохновение, ценные советы и помощь по тексту и стилистике; Денису Назарову, Антону Мокину, Жене Долматовичу, Сереже Тарасову, Андрею Беляеву – за то, что всегда делились честным мнением относительно моего творчества; Лизе Бобровицкой, Марине Ботылевой, Дарье Багровой, Яне Апостол, Григорию Удальцову и многим другим – за их фанарты, рисунки и комиксы по мотивам моего творчества, вдохновлявшие меня творить дальше; Тимофею Зайцу – отдельная благодарочка (один из его рисунков я даже ношу в качестве татуировки на левом плече); Григорию Удальцову, Антону Щетину, Евгению Рубцову и многим другим, всех не перечислить, – за наши «разгоны», из которых рождались новые рассказы; Дарье Багровой, Юлии Кундик и Екатерине Насоновой за помощь в редактуре; Руслану Покровскому, Мухамету Закирову, Антону Макарову, Александру Степному, Дэну Блюзу (не знаю настоящего имени), Илье Дементьеву и многим другим за то, что превращали мои рассказы из текста в звук, чтобы еще больше желающих могли к ним причаститься; Игорю Буракову – за то, что делал лучше любые мои творения, к которым прикасался; Жене Шикову – за все его подсказки, идеи, мысли и ободряющие слова; Саше Дедову – за то, что не давал мне спуску и критиковал при любой возможности сделать лучше; Володе Чубукову – за то, что своими советами добавлял моим произведениям почти недосягаемую глубину (в том числе в соавторстве).
Моих подписчиков – всех вас, на всех ресурсах. Без вашей поддержки все это никогда не стало бы возможным. А также благодарю корректоров, верстальщиков и редакторов «Астрель СПб», которые привели в читабельный вид все, что из меня здесь высыпалось.
И отдельная благодарность от меня – Мише «М. С.» Парфенову, благодаря которому я сначала понял, где поверхность, а потом нашел в себе силы всплыть. Определил для себя цель, способ достижения и стимул. Определил себя. Спасибо ему за «пинки» и «тычки», которые заставляли меня становиться лучше. Спасибо ему за дотошные, подробные ответы и объяснения, которые помогали мне понимать больше. Спасибо за его титанический труд на благо жанра, ну и за то, что он все же взвалил на себя груз составителя данного сборника.
Почему эти тринадцать рассказов, а не другие?
Какие-то из них собрали больше положительных отзывов и даже в некоторой степени претендуют на литературность, как, например, «Симфония Шоа». Другие здесь потому, что они достигают задачи «напугать читателя» лучше прочих, – «Кенотаф» или «Отверстия». Третьи («Виртуальная машина», «Лучший погонщик») – потому, что я считаю их своими «визитными карточками».
Но главное блюдо этого сборника – новые, нигде не засвеченные рассказы. Которые я писал специально для этой книги, думая о том, что его могут купить люди, и вовсе не знакомые со мной, с ССК, да и с жанром в принципе. Поэтому я сочинил несколько разнообразных историй – о ужасе цифровом, о ужасе историческом, и даже не обошлось без ужаса юмористического. И это классические «страшные истории», ради которых обычно и покупают такие сборники.
И ты, мой читатель, – первый, кто прочитал эти рассказы, и теперь можешь дать им оценку. Если тебе понравилось – дай мне знать, что понравилось больше. Этим ты ускоришь выход нового сборника. Если не понравилось – тоже дай знать. Этим ты улучшишь качество нового сборника. И если вдруг ты хочешь больше – тебе не составит труда меня найти в Сети и потребовать. Я не откажу.
А до тех пор – ты найдешь меня там же, где и всегда. На конкурсе «Чертова дюжина», где в непримиримых баталиях оттачивается как мастерство литературное, так и словесное (даже, скорее, острословесное); в сборниках ССК, в которых помимо моих рассказов есть еще множество жемчужин от моих не менее талантливых коллег; в многочисленных межавторских проектах, на YouTube, в Telegram, на Author.Today и, конечно же, в моем паблике «ВКонтакте» «6EZDHA».
И, наконец, чего я хочу добиться этим сборником? На что надеюсь?
Я надеюсь, что он вдохновит хотя бы одного подростка, фаната жанра и закомплексованного фантазера «состранностями» попробовать свои силы, поверить в себя и использовать свои «странности» в творчестве. Если ты один из нас – мы ждем тебя здесь, в «Самой страшной книге», где собираются все не нормисы и где царит «темный вайб». Хочу, чтобы ты знал, читатель, что в какой бы ты бездне ни обретался – из нее всегда есть путь наверх. Ты же не один из моих персонажей, верно?
Антология Чертова дюжина Составитель М. С. Парфенов
На обложке использована иллюстрация Алексея Провоторова© Авторы, текст, 2020 © М. С. Парфенов, составление, 2020 © ООО «Издательство АСТ», 2021
* * *
Дмитрий Костюкевич Шуга
* * *
Ивин надевает гидрокомбинезон, натягивает маску и ласты. Коган вешает на спину Ивина баллоны, пристегивает сигнальный конец, закрепляет чугунный пояс, привязывает к руке товарища измерительную рейку, плоскогубцы, молоток. Желает удачи. Лицо Когана – пятнистое, коричневое от мороза, цвета промерзших яблок. Ивин по-утиному выходит из заснеженной палатки и семенит к лунке, которую расчистили от успевшего нарасти льда. Шахнюк как раз загребает проволочным сачком, вытрясает осколки на снег, затем распрямляется, становится рядом с Ивиным и хлопает его по плечу. – Серега, как слышишь? – раздается в наушниках. Коган проверяет связь. – Хорошо слышу, – отвечает Ивин. – Спускаюсь. Рядом, повизгивая, крутится Пак. Красивый пес коричневой масти, названный в честь паковых льдов. Он тыкается лбом в ногу, затем задирает морду и смотрит на Ивина жалобно. Затылок Пака подрагивает, будто от боли. Гидролог бросает взгляд на вздыбленные цепи торосов и ропаков – золотистые солнечные блики застыли над белым безмолвным миром – и погружается в прорубь. Какое-то время свет его фонаря плещется в глубоком колодце, пробивается сквозь поднявшуюся шугу – рыхлую ледяную кашицу, – затем вода в лунке чернеет. Ивин уходит под лед.* * *
Под ним – черная океанская пропасть. Вода обжимает костюм, шевелит резиновыми складками. Ивин скользит вниз, луч налобного фонаря упирается в бездонную тьму. Ивин поднимает голову и видит светлое пятно лунки. Начинает работать ластами – и пятно замирает, потом увеличивается. Он парит среди острых вершин. Белые, голубые, черные затаившиеся в темноте горы – перевернутые, они нависают над аквалангистом. Ледяные ущелья вглядываются зеленоватыми вертикальными зрачками. Приходит мысль: «Храм. Подводный храм». – Намутил ты, Серега, – говорит Коган по телефону. – Расчищать не поспеваем. Ивин приступает к работе. – Первый – шестьдесят семь, – диктует в ларингофон. – Второй – тридцать два… Придерживаясь ограждающего троса, Ивин плывет от репера к реперу: измеряет вмерзание или высвобождение стальных гвоздей. Диктует Когану. – Третий – сорок один… Четвертый… – Он осматривает испод айсберга, подледный рельеф. – Четвертого не вижу. Значит, выпал, когда стаял лед. Плывет дальше. – Пятый – двадцать девять… Шестой вмерз. Дрейфующий остров заглотил штырь с биркой «6». Ивин вытаскивает его как длинный податливый зуб плоскогубцами. Перехватывает молоток и забивает репер в лед. Гулкий стук разносится по восьмиметровой толще льда. Ивин знает, что его слышат наверху. Он роняет восьмой репер, и тот уходит на дно Ледовитого океана. Ивин смотрит вслед – на темную черточку, на точку, вглядывается в глубокую слежавшуюся тьму. Что упало, то пропало. – Работаешь десять минут, – сообщает Коган. Как быстро летит время в величественном подледном мире! Этот гармоничный мир, его перевернутые валы и гряды, языки и «бараньи лбы» снились Ивину по ночам. Иногда, открывая глаза, он лежал в темноте и сомневался, что все это существует где-то еще, помимо его воображения. Каждый раз – под водой – не покидало ощущение, что ты на другой планете. – Подтяни фал, – просит Ивин. Здесь, подо льдом, Ивин чувствует себя спокойнее, чем наверху, на связи, страхуя товарища, с обледеневшим фалом в руках. За того, кто погрузился, переживаешь сильнее, чем за себя. Напряжение выматывает. Мало ли что. Не в Черном море ведь ныряют. Если на глубине откажет аппарат – на остатках воздуха надо не просто выйти, а найти, куда всплыть. На прошлой станции, год назад, Ивин услышал страшное: «Нет подачи воздуха». В наушниках хрипел голос ушедшего под лед товарища. Ивин налег на лебедку, тянул как мешок. Молил, чтобы товарищ не запаниковал, не начал дергаться. Паника – это кислородное голодание и потеря сознания. Это смерть. Обошлось: вытянул живого. – Как самочувствие? – спрашивает Коган. – Отлично. Ивин медленно шевелит ластами. Продолжает обход плантации реперов. Иногда отталкивается от купола и висит, как замоченный, под ледяными «облаками». Океан красит лед в бирюзовый и голубоватый оттенки. Здесь как в космосе. «Чудеса божьи изумления достойны» – так, кажется, сказал Александр Македонский после того, как его подняли в стеклянном колоколе, подводном аппарате, из Средиземного моря. Вчера на станцию прилетели кинооператор с помощником из «Центрнаучфильма», собираются снимать кино о гидрологах, готовятся к первому погружению. Привезли с собой две камеры: тридцатипятимиллиметровую и шестнадцатимиллиметровую в специальном боксе Массарского – такой снимали «Человека-амфибию». Красивый получится фильм, уверен Ивин. – Серега, хорошо слышишь? – спрашивает страхующий Коган. – Хорошо. Ты трави сигналку. Не жадничай. – А ты не спеши. – Понял тебя. Не спешу. Он плывет к следующему штырю. Здесь подошва айсберга едва холмистая: выступы сантиметров двадцать. – Проверь фоторегистратор, – просит Коган. – Держат мои прокладки? – Понял. Сделаю. – Где ты сейчас? – У тринадцатого датчика. Ивин осматривает регистратор. – Прокладки держат. Только немного заедает спуск… В остальном норма. Двигаю дальше. – Работаешь полчаса. – Так вот чего я проголодался. – Скоро закругляться, Серега. – Понял. Ивин слышит далекий гул, будто ветер задувает в расселины, – это грохочут льды. – Что за шум? – спрашивает Ивин. – Слышишь? – Подвижки, – отвечает Коган. – Недалеко. Ивин представляет, как приросшая к айсбергу льдина взрывается изнутри и у самого края начинают ползти, взбираясь одна на другую, льдины. – Опасно? – Нет. Мы нормально. Заканчивай, будем тебя поднимать. – По… Ивина неожиданно сдавливает в талии. Кто-то сильный и гибкий сжимает ноги. Гидролог опускает глаза и вздрагивает: его обвивает арктический спрут, еще неизвестный науке монстр. Свободные щупальца тянутся к маске, загубнику. Огромные льдистые глаза смотрят на Ивина. Ноги стягивает обручем. Ивин дергается изо всех сил, и осьминог тоже ворочается, выпускает из себя рой белых кристаллов. Становится темно, все заволакивает мелкими льдинками. Хватка не ослабевает. Ивин больше не вырывается из объятий – подо льдом лучше не пороть горячку. Пока щупальца не захлестнули его руки, он тянется к ножу, одновременно пытаясь рассмотреть спрута. Обзор заслоняет рыхлая муть. Шуга. Поднятый с глубин донный лед. Он вывинчивает нож – один поворот, второй, третий… – Серега, что у тебя? …четвертый поворот, пятый… Нож высвобождается из футляра – и Ивин бьет осьминога. Но монстра нет. Вокруг – лишь приставучая шуга. Ивин разгоняет ее рукой с ножом. Страховочный фал, внутри которого пропущен телефонный провод, обвил ноги – Ивин запутался в тросе. Но это не все. Сигнальный конец натянут струной: зацепился. – Серега? – волнуется Коган. – Погоди. Тут заклинило. – Что случилось? Ивин плывет по заклинившему фалу. Фал провисает. Ивин видит причину. – Ну как? – спрашивает Коган. – Зажало. По фалу не вернусь. – Спокойно, спокойно. Серега, у тебя воздуха на десять минут. Сейчас спустим мигалку. Увидишь ее – отрезайся и выходи в запасную лунку. – Понял. Ивин смотрит на нож, но не спешит. Теперь у него есть запас троса для погружения. Где-то наверху парни – Шахнюк и Мартынцев, гидробиолог из института океанологии, – бегут к запасной лунке, чтобы утопить в ней фонарь. Коган остается в палатке, в ухе Ивина. – Видишь мигалку? – спрашивает Коган. – Пока нет. Ивин не поддается панике. Нужна ясная голова. Смотрит сквозь запотевшую маску на подошву льдины. Она давит, не хочет выпускать. Успокойся. – Теперь видишь? – Нет. Если замереть, то время остановится. Если замереть – не нужен будет воздух. Лед забудет о нем. Ивин прогоняет опасные дикие мысли. – Выступ мешает. Опустись глубже. Ивин уходит на глубину, поглядывая вверх, на изнанку льда. Высматривает мигающий свет – на глубине его не будут заслонять торосы. Он должен найти мигалку. – Отошел? Видишь? – Не вижу. – Серега… опустись ниже. Ивин смотрит на глубиномер. Циферблат фосфоресцирует, как крошечная медуза. Выступ заканчивается, Ивин погружается – и вдруг видит пятнышко света: оно подмаргивает. – Есть! Вижу мигалку! Ивин примеряется ножом к страховке. – Режу фал! – Пошел! – кричит в наушниках Коган. – Достаю! Кажется, Коган думает, что вытягивает его. Но сигнальный конец, как и прежде, зажат безжалостным льдом. Ивин не чувствует натяжения – никто не тащит его к лунке, свету, лицам друзей. – Еще немного, Серега. Давай. Видим тебя… Ивин перерезает фал – наушники замолкают. Нет времени слушать. О чем говорил Коган? Наверное, Шахнюк или Мартынцев увидел сквозь шугу свет опущенной в лунку мигалки или что-то еще – и подумал, что это всплывает Ивин… Нет времени, совсем нет времени. Скоро закончится кислород. Ивин огибает торос и всплывает к мигалке. Шахнюк и Мартынцев ждут его наверху. Он видит их сквозь толщу льда в своем воображении. Гидролог и гидробиолог сидят над запасной лункой: вода отливает свинцом – в ней кружат осколки ледяного сала. Ивин присматривается к напряженному лицу Шахнюка. Сосульки в окладистой бороде. Цепкие голубые глаза, в которых и экспедиции на ледоколах, и установка на океанском льду дрейфующих радиометеорологических станций, и подводное плавание. Рукодельный парень: если что, соберет снаряжение из подручных материалов – маску, трубку с шариком для пинг-понга вместо клапана… У Ивина сдавливает в груди. Пальцы разжимаются, и нож медленно падает вниз. Ивин смотрит на подмигивающий свет. Это не мигалка. А лампочка, которую сорвало и унесло течением с полигона. Это обман, галлюцинация. Потому что лампочка не должна мигать… не должна даже светить – кабель оборван и тянется за ней мертвым хвостиком. Мираж гаснет и исчезает в рыхлом облачке. Шуга уносит его прочь. Ивин находит рукой огрызок фала. Минуту назад он перерезал единственную связь с теми, кто наверху. Но его нить Ариадны оборвана. Надо найти мигалку. Снова погрузиться и посмотреть? Или возвратиться к торосу, где застрял сигнальный конец? Хватит ли у него воздуха? Ивин парит под ледяной броней. Над океанской бездной. Надо искать выход… надо… Перед глазами колеблются волнистые стены. Застывшие подтеки. Валы, пещеры и гроты. Ивин проверяет кислородный прибор. Он снова чувствует страх, концентрированный, спрессованный в белую вспышку, похожий на страх перед первым спуском. Решает искать запасную лунку. Слышит, что идет торошение – если сожмет льдину, то лунка схлопнется. Он разворачивается и плывет от выступа. Шуга неприятно преобразила подводные хребты и впадины. В пятнах желтого света от фонаря нижняя поверхность айсберга перестает быть удивительно-привычной. Этот мир теперь существует в новых формах, играет ими, меняется. Ивин плывет под бирюзовой долиной. По льду скользят переливы красок, но не смешиваются, не складываются в единый узор. Луч фонаря шарит во мраке, выхватывает… дерево. Ивин очень скучал по деревьям, по запаху леса, густому и живому. Но вмерзшее в айсберг дерево – мертво, одиноко. Оно переливается и ветвится в глубину. Пятиметровый коралл, слепленный холодом и течениями из тонких кристаллов. Хрупкое чудо. Удивительный мираж. В любое другое время – только не сейчас. Ивин оплывает дерево, не желая разрушить его случайным прикосновением – мираж тут же рассыплется, сгинет, – но через несколько метров оборачивается, чтобы взглянуть еще раз. Ему кажется, что он услышал коралловый звон. На дереве, выросшем посреди долины, висят мертвые люди. Дерево острое и твердое, как алмаз. Кристаллические ветви проткнули тела полярников насквозь, раскроили куртки и брюки. Начальник станции висит на самой вершине, лицом в бездну, нож-ветка торчит из его шеи под кадыком; начальник звал подводников «нырками». Ивин узнает радиофизика, узнает радиста, узнает магнитолога… Волосы мертвецов развеваются, точно водоросли. Пустые глазницы смотрят на Ивина. Тот отворачивается и плывет дальше. Этого просто нет. Этого просто нет. – Поднимайся, – слышит в наушниках. Этого тоже нет. Он перерезал фал. Он один. Но как же хочется верить… – Рома, – онемевшими губами произносит Ивин, – ты? Только на этой станции они с Романом Коганом совершили больше пятисот погружений. А ведь до этого были еще три станции. Тысячи часов под арктическими льдами. Когану всегда нравился риск. Альпинизм, горные лыжи, подводная охота. Работал спасателем в горах Кавказа. Боксировал и прыгал с парашютом. Одним из первых попросился в группу для работы на Северном полюсе. Ивин смотрит сквозь лед и видит Когана, который опускает руку в лунку, шарит в шуге, и что-то вцепляется в эту ищущую руку и тянет… Телефон молчит. Он перерезал… Ивин мотает головой, ищет взглядом мигалку и обмирает от страха. Черными глазищами на него смотрит огромная голова с длинным крючковатым носом. Ивин медленно выдыхает. Выточенная водой скульптура теряет сходство с человеческой головой, но не до конца. В воде светятся крупицы и бледные волокна льда. Такое бывает над станцией, когда летишь на самолете, но здесь, под водой? Шуга искрит в свете фонаря – уродливые города и лица. Ивин чувствует пальцы, бегущие по позвоночнику, чувствует сквозь два шерстяных костюма и гидрокостюм жесткие прикосновения, которые исследуют его. Он разворачивается и видит что-то распадающееся, потерявшее форму всего мгновение назад. Перед ним плавает облако шуги. Ивин уверен, что некоторое время назад это облако тянулось к нему чем-то похожим на когтистую лапу. Он плывет дальше. Вздрагивает, когда видит огонек. Мерцающий свет манит его в центр лабиринта. Рваные зубцы и изогнутые складки. Глыбы подводного льда похожи на звериные головы. Ивин плывет по узкому коридору, слева и справа – мощные стены. Ивин осторожно работает ластами. Каждое движение дается с трудом – мешает не только сопротивление воды, но и усталость. Ледяные чешуйки трутся о гидрокомбинезон, кружат у маски. Ледяные дебри. Под водой торосы кажутся выше поверхностных холмов. Они похожи на огромные паруса, поймавшие ветер. Но Ивину больше не кажется, что он в стране чудес. Он не чувствует себя капитаном Немо. Он по-прежнему видит подмигивающий огонек, держит на него курс, но расстояние как будто не сокращается. Он боится потерять ориентир, неверный свет. Торосы словно парят в невесомости. Только задень – перевернутся, поплывут кувыркаясь. Он действительно касается вершины одной из гряд – и рука проваливается в ледяную вату. Торос распадается мутным облаком и закрывает далекий огонек, но на секунду Ивину кажется, что он сунул руку в пасть аллигатора с мягкими зубами. Шуга пробует жевать его кисть. Перед глазами гидролога взволнованно снуют белесые кристаллы. Ивин перебирает руками в поднявшейся буче. Он должен выбраться, должен успеть, пока в аппарате есть воздух. Дорога каждая секунда, но он не спешит, плывет медленно – и мрак расступается, подводный лес остается позади. Он поднимается к исподу льдины и пробует его руками, словно ищет потайную дверь. Перед лицом оказывается глубокая впадина. Ивин загипнотизированно смотрит в лакуну. Сейчас оттуда вынырнет льдистая рука, сожмет его до хруста костей и заберет в темноту. Он видит этот жуткий образ секунду-две, а потом смаргивает. Водит «дворником» по маске – «снимает туман». Соберись. Даже если огонек – обман, он может выйти через разводье. Оно недалеко от запасной лунки: черная трещина, от которой идет пар, словно океан дышит полной грудью. Так, так… Он взял от плантации реперов вправо по выступу и, кажется, сильно не петлял… Разводье должно быть там, за подводным хребтом. Ты в это веришь? Даже если он ошибается, то уходящая в глубь океана стена, на которую он сейчас смотрит, вполне может быть вставшим на дыбы огромным обломком льдины, а значит, он рядом с разломом… Ты в это веришь? Ивин плывет к отвесной стене дрейфующего острова. Волнистая голубоватая поверхность уходит вниз. Ивин спускается. Подносит к маске циферблат глубиномера. Пятнадцать метров. Ледяная стена не кончается. Ивин вытягивает руку, скользит пальцами на льду, и сонм мелких хрусталиков отрывается от айсберга и кружит перед лицом. Сквозь дымку воды видны темные глинистые прожилки. Гранулы грунта – прошлое планеты. В следующий раз надо прихватить бур – высверлить цилиндрик на анализ. В следующий раз… Стена обрывается. Ивин подныривает, мельтешит ластами. В ушах стоит зловещий гул. Усиливается. Ивин видит, как по отвесной стене змеится трещина. Черная полоса делит мир пополам. В карманах ледяного склона едва заметно, словно дыша, шевелится тьма. Огромный обломок острова вздрагивает, отрывается и скользит на дно. Перед глазами мелькают застывшие волны голубого льда. Ивина засасывает следом. Кружит, пытается сломать. Он яростно сражается со смертельным водоворотом. Колотит по воде руками, перебирает ногами по тонущей льдине, отталкивается от края… Вырывается и летит вверх с огромной скоростью – так кажется, потому что льдина уходит вниз, а Ивин стремится в противоположном направлении. Ивин поднимает голову, и ему мерещится проталина. Он поднимает руку и упирается в лед, прозрачный, чистый как стекло лед, в котором гаснут солнечные лучи – или многометровая толща светится изнутри. Ивин колотит по льдине кулаками. Замирает и медленно оборачивается. Что-то приближается из тьмы, в которой теряется луч фонаря. За складчатым рельефом будто лежит стремнина. Фонарь испускает безжизненный свет, и Ивин спрашивает себя: что кончится раньше – батарейки или кислород? Не может быть… Он видит фигуры. Их две, они движутся в его сторону. Мартынцев и Шахнюк? Спустились на поиски? Родные мои… Мартынцев плывет немного впереди. Тянет руки. Ивин понимает, что на гидробиологе – на том, что он принял за гидробиолога, – нет маски. Видит стеклянное лицо, лишенные выражения глаза. Вторая фигура, похожая на Шахнюка, тоже без маски, и это нисколько ее не смущает. Лже-Шахнюк плывет, прижав руки к телу, и вдруг резко изгибается на девяносто градусов, будто морской лев, и уходит на глубину. Ивин отстегивает молоток. Приближающийся лже-Мартынцев смотрит на него слепыми пористыми глазами. Тянет и тянет руки – они удлиняются, истончаясь; отделившиеся от предплечий кисти плывут к Ивину. Плоское лицо торчит на длинной кристаллической шее; над головой – нимб из взвешенных в воде ледяных игл. Живые фигуры сделаны из шуги, ледяного сала и снежуры. Они серо-коричневого цвета из-за включений песка и земли, характерных для припая. Чешуйки льда очерчивают знакомую форму лица. Чересчур большую голову… Ивина накрывает волна ужаса. Закричать мешает загубник. Лже-Мартынцев все ближе. Ивин пытается отплыть. Замахивается молотком. Но фигура из шуги неожиданно распадается, превращается в кристаллическую осыпь. Вязкая масса летит во все стороны, заслоняя обзор. Ивин не хочет выяснять, куда делась вторая фигура. Но лже-Шахнюк сам напоминает о себе, выныривая из облака шуги, в которое превратился лже-Мартынцев. Фигура всплывает из тьмы под ногами Ивина. Рот лже-Шахнюка распахнут – не рот, а звериная пасть, внутри которой квадратные зубы, похожие на клавиши, зубы монстра – такие зубья образуются, если ломается нилас – эластичная корка льда. Фигура дергается, копирует позы мертвого человека. Льдистые глаза смотрят прямо на Ивина. Гидролог направляет чахлый луч фонаря в скалящееся лицо и, когда фигура замирает, будто заколдованная электрическим светом, опускает молоток. Удар похож на неспешный замах, перемотанный в обратную сторону. Молоток проваливается в голову твари. Лже-Шахнюк разлетается на мелкие куски. Ивин смотрит вниз, будто там, на глубине, еще что-то происходит. Поднимает взгляд. Куда плыть? И, будто мираж, вдруг видит в шуге над головой светлое пятнышко. Оно мигает, зовет. Ивин плывет на моргающий свет. Льдистая крупа бьется о широкие ладони гидролога. Он заблудился, но нашел выход. Он выберется. Всегда выбирался. Всегда.* * *
…Побережье океана занесло снегом. Белым-бело. Но скоро белое станет серым, потом черным – накроет полярная ночь. Ивин потерялся на пути к станции. Под полозьями нарт скрипел снег. Упряжка из восьми собак сибирских и колымских пород неслась по нескончаемой тундре. Собаки были разноцветные, как карандаши: белые, серые, бурые и черные. Глядя на них, Ивин отдыхал глазами от слепящего снега. В первой паре бежал бурый вожак по кличке Новый Год, выше остальных собак в упряжке, длинноногий, сильный, умный. Но сейчас Новый Год едва волочил лапы, оглядывался на хозяина, не знал, куда бежать. Ивин остановил упряжку: пускай передохнут. Стянул рукавицы, достал портсигар, закурил. Началась пурга. Ветер пронизывал кухлянку, залеплял глаза, пытался вышвырнуть из саней. Как тут найдешь старую охотничью землянку, оборудованную под кормовой склад, – в снежной круговерти он едва различал силуэты собак. Новый Год постоянно останавливался, пытался свернуть. Ивин швырнул в него ледышкой. Пес закрутился на месте, заскулил. Ивин спрыгнул с нарт и пошел на упрямого вожака. Отходил дубинкой по бокам. Новый Год ни в какую. Ивин сдался, спрятался от ветра за нарты. Бездумно сидел, отхлебывая из фляжки спирт. Смотрел на свои большие руки, просто огромные в рукавицах, сжимал окоченевшие пальцы. Над опущенной к коленям головой мело и выло. Неужто все… Ивин поднял голову и вгляделся в колкую серую мглу. Почти сразу заметил какое-то темное пятно. Сморгнул. Пятно не исчезло. Он тяжело поднялся и пошел к пятну. Понял, на что смотрит. Упал на колени, стал грести снег, сначала руками, потом, сбегав к нартам, саперной лопатой. Раскопал печную трубу. Вожак вывел его к землянке. Ивин раскопал дверь и впустил собак. Взял в руки морду Нового Года, попросил прощения. В землянке были дрова и керосин. Под шкурой, постеленной на нары, Ивин нашел замусоленную Библию с карандашными каракулями на полях. Заметки оставил какой-то охотник. Пережидая пургу, Ивин расшифровывал написанное: «Погода портится», «Сегодня холоднее, чем вчера», «Целое небо туч, идут с востока». На одной из страниц охотник написал: «Лопнул термометр, запасного нет». А дальше: «Сегодня снег злее». Через несколько страниц: «Слышу его, говорит со мной». В свете керосиновой лампы Ивин вглядывался в пляшущие закорючки: «Видел лицо на снегу, большое, будто кто крикнул снизу». Ивина охватило странное волнение. Последней записью было: «Меня вырвало снегом». В землянке было душно: видимо, в щели набился снег. Над крышей подвывал ветер, Ивин лежал на нарах в полудреме, с Библией на груди. Меня вырвало снегом… Пурга закончилась на четвертый день.* * *
Ивин парит между небом и землей. Между твердым небом и бездонной землей. Он видит, как бьется сердце айсберга. Огромный цельный кристалл, реликтовый лед – он сокращается, сокращается, сокращается, и шуга течет, омывая остров. Ивин парит между реальным и мнимым. Он почти готов сдаться. Заснуть в неспокойных вездесущих кристаллах льда. Заснуть и проснуться в домике под гул ветра, который бежит над бесконечным океаном, цепляется за мачты и постройки, или в палатке, разбитой на краю ледяного поля; в палатке тепло, возле двухконфорочной плиты лежит Пак, на заколоченном ящике с неприкосновенным запасом сидит Коган, смотрит с прищуром, и уже вскипает чайник и готова в кружке заварка… Нет, надо бороться. Попытаться вырваться из-под пяты ледяного острова… Мысли расплываются, тянут на дно… Пузырьки углекислого газа громко поднимаются вверх. Над ним толща льда. Под ним Ледовитый океан – трехкилометровая бездна. Я могу упасть. Я уже падаю. И буду падать… долго, очень долго. Ивина одолевает сонливость, голова кружится, в ушах шумит. Он пытается вспомнить, куда плыл. Редко, неглубоко дышит. Хочет закрыть глаза, но тут что-то жалит его в ногу. Обжигает крапивой. Он открывает глаза и смотрит вниз. В замутненной шугой воде удаляются длинные нити, развевающиеся под шляпкой фосфоресцирующего гриба. Он видит порванную штанину комбинезона – наверное, разрезал о падающий на дно обломок льдины – и чувствует подкожный жар. По коже словно провели горячей иглой. Медуза… его ужалила медуза… Откуда она взялась? Он сосредотачивается на льдине над головой. Где-то должна быть лунка, или проталина, или трещина. Снова находит глазами моргающий свет, вспоминает, что это, чем может быть, и плывет к нему. Чувствует эйфорию с примесью невнятной тревоги. Чувствует огонь в мышцах. Путешествуя на собачьих упряжках, он грезил небом Арктики. Мечтал летать на ледовой разведке. Глядя в блистер, читать льды, изломы разводий, похожие на черные рты, предсказывать по ним будущее. Но арктическая навигация начиналась и заканчивалась летом, поэтому Ивин пошел в гидрологи. Сейчас он как никогда далеко от неба. Он видит просвет над головой. Лунку, забитую ледяной кашей. Мириады кристаллов поднялись с океанского дна в колодец. Плохо соображая, Ивин лезет вверх. Работает руками, ледяные осколки рвут комбинезон. Перед глазами одна шуга, она строит ему гримасы, заползает под костюм. Идет и идет снизу. У него кончается воздух… или уже закончился? Ивина подташнивает. Он боится, что его вырвет… шугой и он захлебнется в нескольких метрах от спасения. Мышцы лица судорожно сокращаются, сводит живот. Он застревает. Нет, нет, нет! В середине лунки из-за смерзания образовалась талия. Ивин не может сдвинуться с места. Сознание пульсирует, пытается прыгнуть во тьму, но ему удается собраться. Он отталкивается и снова погружается. Баллоны расширяют проход, сбивая шугу со стенок. Он выскальзывает из колодца, начинает работать ластами и снова идет наверх. Сейчас он увидит лица ребят, солнце… Руки уже не колотят по стенам – скребут. Он снова застревает. На этот раз крепко, точно в тисках. Не может пошевелить плечами. Правая рука торчит вверх, тянется к просвету. У Ивина слуховые галлюцинации. Он слышит то звенящую тишину, то скрежет трущихся друг о друга льдов, то… безумный крик. Сердце колотится в груди, его сердце, раненое, испуганное. По телу бегут волны болезненных спазмов. Мысли путаются, но в этой карусели отчетливо проступают два слова: он живой. Лед живой… Капризное, враждебное, коварное существо. Вершина эволюции которого – айсберг. Тысячелетняя массивная глыба плывет по столбовым дорогам, покрывается голубоватыми прожилками замерзшей в трещинах воды, тает и шипит, отдавая частички воздуха, разрушается и стареет. Лед сильнее человека, всегда был и всегда будет. На дне океана лежат самолеты, под лыжами которых раскололся лед. Льдины затирают суда в каналах, с трудом проложенных атомоходами и ледоколами-танкерами. Лед коварен. Всесилен. Смотри, человек, на его мышцы, на его кости, на его кровь… Слепнущими глазами Ивин смотрит на шугу. Пытается отделаться от мысли, что она – нечто большее, чем кристаллы льда. Нечто намного большее. Нет, не кровь… а мысли айсберга. Скверные, темные, рассерженные. Ивин почти уверен в этом. Со всех сторон страшно трещит лед. Сдохни. Оживает телефон. В наушниках какой-то шум: треск, скрежет, с каким ломается припай, шуршание льдинок… и тяжелый стон, и чей-то голос, глухой, холодный. Вода умеет помнить – так почему бы ей не уметь злиться? Накапливать злость? Ивин закрывает глаза. На его руках и ногах – лед, глыбы льда. В баллонах закончился воздух. Сдохни! Теряя сознание, он понимает, что слышит голос айсберга, и уже не чувствует, как кто-то хватает его за руку.Августа Титова Многоколенчатый
* * *
В подъезде Даша встречает священника в рясе – большого и степенного, с крестом на животе, сумкой и каким-то божественным прибамбасом в руках. Он пахнет ладаном и одеколоном, спускается по лестнице к выходу, а следом семенит старуха. Она что-то говорит – он что-то отвечает, но Даша никак не может разобрать слова, будто язык, на котором они говорят, только притворяется русским. Поп большой, и Даша, пропуская его, отступает к почтовым ящикам, где курит невзрачный мужик в трениках и толстовке. – Бабуля, за что? – спрашивает мужик с укором. – За какие такие прегрешения вы решили меня выгнать? Я же плачу арендную плату. – Молчи! – Бабка в сердцах машет на мужика рукой. – Дурака кусок. Она выходит вслед за попом на улицу, и мужик говорит: – Анна Андреевна. Я у нее комнату снимаю. Решила освятить квартиру, чтобы изгнать диавола. – Тут живет дьявол? – спрашивает Даша. – Тут под нами живут чурки в резиновой квартире. На первом. Но теперь-то они съедут. Если благодать туда дойдет. Но, я думаю, просочится. В его голосе слышится скорее обида, чем злость или презрение. – Я Витя, – говорит он. – Живу на втором. Анна Андреевна нацарапала на двери огромный крест. Увидишь крест – знай, тут живу я, Витя. – А я никто, – отвечает Даша. – Я здесь не живу. Даша не живет в этом панельном сером доме уже почти четыре месяца, с перерывами на выходные и еще на те дни, когда квартира нужна хозяину. В Москве он бывает редко и пускает жить командированных сотрудников своей фирмы. Здесь три комнаты и пять спальных мест. Сейчас в квартире вместе с ней проживают два мужика, но завтра они оба уедут обратно в Питер, и она останется одна. Они бесполезны. Даша не знает, зачем их наняли, а они считают Дашу сукой. Один из них по кличке Врунгель обладает даром испоганить файл, только открыв его. От его кликов, от его идиотских рук слетает форматирование, а иногда пропадают целые страницы и куски текста, поэтому теперь Даша присылает ему документы с запретом редактирования. Потому и сука. Ну и еще она сказала, что ему нельзя доверить даже шлагбаум на парковке поднимать. На второго по прозвищу Сладенький Даша тоже однажды наорала. Его щеки порозовели, а глаза возбужденно заблестели от удовольствия, и больше Даша никогда так не делала. На часах без четверти девять. Сорок минут назад она закончила рабочий день и по пути домой купила им по бутылке пива, чтобы замириться. В коридоре ее встречает гора тапок «РЖД». Врунгель спит в кресле перед телевизором и храпит. Он ушел в шесть, но до сих пор не переодел костюм, только галстук развязал. По возвращении домой он, скорее всего, хлопнул рюмку, и его сразу развезло, как бывает с пьющими. Рубашки и носки он меняет редко. Даша смотрит на него и думает, что Врунгель – это единорог наоборот, мифологическое существо. Мужчина, который, не сняв пиджак и не помыв руки, храпит после работы перед теликом в грязных носках, – это миф из истории Средневековья. В наши дни такого просто не бывает. – Я тебе пиво купила. Врунгель вздрагивает в кресле. – Я такое пиво не пью, – хмуро отвечает он и снова отключается. Сладенький хотя бы говорит спасибо. Он всегда говорит спасибо. За пиво. За кофе. За тумаки. Даша идет в душ, а потом в свою комнату возле кухни, увешанную хозяйскими брюками. Очень хочется спать. Очень хочется, но не получается спать уже почти четыре месяца.* * *
Утром пятницы в квартиру ломятся. Крутят замок, дергают ручку. Дубасят в дверь, закрытую изнутри на хлипкую щеколду. Она лежит на полу незнакомого чужого дома, обложившись матрасами, а по безлюдной красной пустыне за окнами бесшумно рыщет чернильно-черный смерч. Он поднимает тучи пыли к небу, раскаленному добела, и грозит смять картонные стены. Мутные стекла жалобно дребезжат. Свет слепит. Вздрогнув, она резко садится. Ломятся. Дверь ходуном. Даша бросается на кухню. Еще не рассвело, фонарь на улице не горит, она не помнит, где здесь выключатель. Вот рюмки, пепельница, сахар. Все липкое на ощупь, провоняло табаком. С тупым ножом и чьей-то бутылкой из-под «Чиваса» она выскакивает в коридор и спотыкается о тапки. – Менты уже едут! – орет Даша. – Вали, а то убью! Убью!!! На лестнице становится тихо. – Дашуня… – вкрадчивый голос из-за двери. – Ты, что ли? Это Стас. Че-то Лера ключи нам дала, а про тебя не сказала… забыла, наверное. Мы думали, замок заело. А здесь ты. Открой! Нам бы с поезда умыться… Секретарша часто забывает о Даше. Забывает найти ей жилье или взять обратный билет на пятницу, чтобы Даша могла повидать родителей. Сегодня как раз такая пятница. Даша относит нож и бутылку обратно на кухню и возвращается к двери. Они смущенно входят, их пятеро. Снимают ботинки, включают свет, разбредаются по квартире. Один запирается в ванной и там харкает в раковину надсадно, как трактор, который никак не может завестись. Потом они собираются на кухне вокруг маленького стола под липкой прожженной клеенкой, заваривают кофе и тихо говорят о работе, а она лежит в комнате лицом к стене и дрожит от холода под толстой зимней пижамой. Надо вставать, вставать и идти работать над общероссийской системой государственного электронного документооборота, черпать ложкой океан. Каждое воскресенье Даша бежит на полуночный экспресс. Путь ей преграждают поддатые девки с цветными волосами, которые протягивают шляпы и просят помочь уличным музыкантам. Даша ненавидит уличных музыкантов и знает, что ненависть к этим наглым, бездарным, ленивым тварям не отступит, даже когда закончится проект. Это навсегда. Каждый понедельник она натягивает колготки и костюм в туалете поезда, шатаясь от стены к стене и стараясь не вляпаться в мочу. На выходе ее встречают осуждающие глаза ждущих в очереди. Рабочий день длится от двенадцати до пятнадцати часов. Задача необъятна и бессмысленна. Даша подолгу спорит с тремя огромными чиновницами, доказывая, что работа выполнена с должным качеством, хотя это не так, потому что выполнить ее с должным качеством невозможно ни в какой срок никакими силами. Сама она превращается в такую же бочку. Зарплату положили вдвое лучше прежней, но Даша точно прожирает минимум треть и ширится на глазах. В другие дни она безвылазно сидит в отеле или в этой квартире, устраняя замечания к отчетной документации. Даша ни с кем не встречается, не говорит ни с друзьями, ни с родителями, ничего не читает и не смотрит, не строит планов, не ходит в магазин. Задачи, поручения и замечания исчезают из памяти почти сразу, как были произнесены. Но даже без памяти, без мирного сна, с заплывшими мозгами, она гораздо лучше справляется, чем Врунгель, а значит, нужно хотя бы работать. Нужно оправдывать свое существование, зарабатывать деньги. Если сразу не получается, то прежде, чем подумать мысль, нужно себя уговорить. Или заставить. Мужики моют чашки и тихо уходят, закрыв дверь своим ключом. Даша переворачивается на спину и смотрит на хозяйские брюки, аккуратно висящие на ручке шкафа и спинке стула. Всюду брюки. Костюмные, камуфляжные, джинсовые. Шортики. Хрипят, дрожат старые трубы. В ванной раздается отчетливый хруст. Он спускается сверху, идет вдоль стены и смещается вправо. Даша с трудом поднимается с постели. В мутном зеркале отражается пучок старых зубных щеток и ее помятое лицо в обрамлении жидких светлых волос. Забыла снять на ночь золотое кольцо. Оно врезалось в отекший палец, и тот стал похож на сардельку. С помощью мыла Даше удается стащить кольцо, чтобы тут же уронить его в раковину и потерять в черном отверстии слива. Хочется скулить. Пищать, подвывать и зажмуривать сухие, облысевшие от авитаминоза глаза, пытаясь выдавить слезу. Ее лицо собирается в одну точку, сморщивается, как сухофрукт. Кольцо вылетает из слива, звякает о фарфор и соскальзывает обратно. Даша не двигается. Через несколько секунд кольцо вылетает снова. На третий раз Даша успевает накрыть его ладонью. Из трубы пахнет болотом, хруст катится вниз. Даша заглядывает в сливное отверстие, потом светит туда фонарем на телефоне, но разглядеть удается только покрытую слизью стенку трубы и несколько волосин. Видно сантиметров на пять-семь максимум. После в тот день она работает, работает и работает, переходя от одного окна, глядящего в бетонную стену, к другому и делая ошибку за ошибкой. Подсистема планирования бюджетных ассигнований на уровне Федерации и на примере Республики Коми. В эксельке с первичным описанием процессов планирования количество строк уже перевалило за восемьсот, и еще там четырнадцать столбцов. Мозги словно посыпали песком, чтобы мысли с трудом ползли по нейронам, скрипя и обдирая половину смысла об острые песчинки. В какой-то момент, часов около шести вечера, на нее накатывает. Это ощущается примерно за час, вроде приступа, но предотвратить это или подготовиться нельзя. Даша называет это «шквал». Даже неясно, с чем сравнить отчаяние и горе такой силы, с чем сопоставить. Из реальных причин – потеря ребенка, может быть. Что-то космическое, запредельное, непозволительное, несовместимое с жизнью. В Дашином случае – напрочь беспричинное, налетающее как смерч, на ровном месте. Сделать ничего невозможно – глаза вылезают из орбит. Она идет в ванную, садится на пол, скрючивается и до упора открывает рот в беззвучном вопле. Каждая мышца напряжена в попытке вытолкнуть это чувство, слезы выступают только от напряжения. Удается хватить воздуха – и по новой. Можно опустить раззявленный рот на край ванны или раковины, их прохлада и стук зубов о фаянс чуть-чуть отрезвляют. Шквал длится минут сорок-пятьдесят и проходит так же резко, как начался. Идешь после него, охая и немного враскоряку, будто родила огромного, не желающего вылезать невидимку, а лицо – словно пила весь вечер и блевала всю ночь. Красное, опухшее, с узкими воспаленными глазами и одутловатыми веками. – Дашенька, но ведь надо что-то делать, – сказала мама, когда однажды «шквал» накрыл Дашу в доме родителей. Она не могла ничего услышать – Даша заперлась в туалете и не издала ни звука. Но лицо… – Только не говори, что я ничего не делаю. – Даша притворилась, что не поняла. – Работаю с утра до ночи. Спустя час после шквала Даша выходит на улицу, бредет по лужам до забегаловки, где узбечка подает салат, стейк, картошку фри, десерт, кофе, и все это Даша ест, ест и ест до тех пор, пока влезает. Ощущение вкуса слабое, исходящее из пыльного угла мозга, похожее на знакомый, но чуть слышный голос издалека. Кажется, что скорее знаешь, какой должен быть вкус, чем чувствуешь его, и кладешь в рот следующий кусок в надежде, что с ним все вернется на свои места. У подъезда темень. Когда Даша вынимает ключи, из кармана выпадает комок черных наушников-ракушек. Подсвечивая телефоном, она безнадежно шарит глазами по асфальту и грязным стаявшим сугробам. – Закладку ищешь? – доносится из темноты. Вспыхивает и тлеет сигарета. Витя курит у подъезда. Наверное, Витя. Из квартиры с большим крестом на двери. До него метров шесть, не меньше, – плохо видно. – Наушники потеряла. – Да вон они. – Витя затягивается. – Шаг вправо. Даша делает шаг. – Еще шаг вправо. Даша шагает. – Прямо под ногами у тебя. Луч фонаря выхватывает наушники из темноты. Даша поднимает их и думает, как давно ими не пользовалась. Как надоела, как бесит вся музыка. И шорох шин, и шум города. И тишина.* * *
Утром субботы в квартиру опять ломятся. Крутят замок, дергают ручку. Дубасят в дверь, закрытую изнутри на хлипкую щеколду. Она гуляет с президентом Путиным по берегу океана, потом они круто заворачивают и оказываются у валуна на самом краю апокалиптического шторма. Смерч поднимает к черному сверкающему небу кипящие волны, и те стеной идут на пустой песчаный берег гнойно-желтого цвета. На Путине бежевый джемпер в косичку. Он смотрит на Дашу и говорит тихо, но отчетливо: «Посмотрите, что вы сделали с артисткой». Вздрогнув, она просыпается в темноте. Ломятся. Дверь ходуном. Даша снова бежит за ножом. На сей раз – домработница. Оказывается, приходит раз в неделю убирать холостяцкую берлогу. Ей тоже не сказали, что здесь кто-то живет. И Даше не сказали, что есть домработница. Та принимается гладить стираное постельное белье и раскладывать по полкам в большой комнате. Даша идет в душ. Стоя в ванне, она переворачивает на ладонь банку жидкого сахарного скраба с запахом банана. Этот запах она чувствует хорошо, в отличие от других. Он такой жирный, такой химический, такой ярко-желтый посреди вязкой серой полумглы. Она подливает еще скраба на ладонь – и огромная пахучая капля падает в слив. Даша подносит ладонь к лицу и жадно вдыхает банановую отдушку. Под ванной хрустит. Из трубы доносится звук, похожий на чавканье. Даша смотрит вниз, где в клубах пара уже теряются ее ноги и копится вода. Всего лишь засор. Она наспех размазывает по телу скраб и тут же смывает. В трубе продолжает чавкать. С удовольствием, с аппетитом – кажется, даже сахар скрипит на зубах. Еще бы, он такой вкусный, этот скраб. Даша перекрывает кран и вылезает. Вода потихоньку уходит, пахнет бананом. Она накидывает халат, дергает щеколду и приоткрывает дверь в коридор, чтобы пар вышел, потом берется за края раковины и зависает. Мозги буксуют. Она неподвижно стоит на месте с приоткрытым ртом, с трудом моргая через раз, дыша через раз и не издавая ни звука. Нет сил двинуться, нет сил одеться. Последние капли исчезают в сливе, трубы ревут и затихают. Запотевшее зеркало постепеннопроясняется. В этой «проталине» Даша видит, как из-за бортика ванны за ее спиной вылезает мясистый червь. Шириной он два-три пальца и цветом напоминает синяк. Его сизое тело, разделенное пополам пульсирующим сосудом, вытягивается, пока не поднимается на полметра над краем. Ни глаз, ни других щелей на тупой морде. Он замирает, затем дергается к углу, где стоит косметика. Тыкается в крышку шампуня, бальзама, геля для душа, пока наконец не находит банановый скраб. Когда он обвивает банку тугим кольцом, Даша издает вместо крика хриплый сдавленный возглас. Кольцо немедленно разжимается, скраб падает на дно, а червь исчезает в сливе. Выброс адреналина выводит Дашу из оцепенения. Она медленно подходит к ванне и изучает поверхность сантиметр за сантиметром, но не находит ничего, кроме капли подозрительной прозрачной слизи у самого слива. – Що таке? – кричит из комнаты домработница. – Ничего, – сипло отвечает Даша. Бананом больше не пахнет – пахнет гнилью.* * *
На воскресенье и понедельник квартира нужна хозяину всех этих брюк. Даша могла пробыть здесь до вечера, но ушла сразу же после встречи с червем, оставив часть своих вещей и с тревогой думая, что предстоит вернуться. Она бродила по городу с рюкзаком, потом заселилась в подобранную секретаршей трехзвездочную гостиницу в центре – убогое жилище стоимостью восемь тысяч рублей в сутки. По крайней мере, здесь тихо в трубах. Она выныривает из компьютера только в два часа ночи и спускается в пустой круглосуточный ресторан на первом этаже. Алкоголь давно вызывает жуткие отходняки, на которые нет ни сил, ни времени, поэтому Даша капли в рот не берет, зато собирается по обыкновению обожраться. На столах стоят аквариумы размером с чашку, в каждом из которых без движения сидит цветная рыбка. Рыбка живая, иногда открывает рот в беззвучной мольбе о помощи. По крайней мере та, что на Дашином столе. Даша пытается не смотреть, но очень скоро ей начинает хотеться блевать. – Почему вы так содержите этих рыб? – спрашивает она, подойдя к бару. – В смысле? – отвечает татуированный бармен с пирсингом в носу. – Как «так»? – Эти аквариумы слишком маленькие. Вы не видите, что рыбы не могут в них двигаться? Они вообще живые? – А вы что, из «Гринписа»? «Ебанутая жируха», – читается на его лице. «Вот бы тебя убить, – думает Даша. – Воткнуть вилку в горло и смотреть вместе с рыбами, как ты пускаешь пузыри». – Рыбы мучаются. Это как запереть вас в камере, где можно только сидеть и стоять. И вы предлагаете здесь есть? Единственный посетитель – пьяный армянин в лакированных ботинках, дремавший за стойкой, – пробуждается и глядит на них, нахмурив кустистые брови. В глазах его плескается полное непонимание. – У нас ни одна рыба еще не умерла. «Сдохни, сдохни, сдохни». Смотреть, как его четвертуют, было бы проще, чем смотреть на рыб. – У вас есть куда об этом написать? Сайт, почта. Что читает ваше руководство? – Наше руководство читает книгу отзывов и предложений. – Точно? – Железно. – Давайте сюда эту книгу. И ручку. «Я пришла в ресторан и вижу, что в крошечных аквариумах без движения, кислорода, водорослей и прочего сидят рыбы. Они могут только вращаться вокруг своей оси. Некоторые выглядят не совсем живыми, даже если еще не всплыли вверх брюхом. Это жестоко. Рыбы должны плавать. Это как запереть человека в одиночной камере, где он может только стоять и сидеть. Я сфотографирую это, опубликую и пожалуюсь, куда следует. Но главное – невозможно есть, глядя на это дерьмо. Купите один большой аквариум, оборудуйте его как следует и держите рыб в нем в нормальных условиях. Это недопустимо. Живодерство в центре Москвы». В самом начале отзыва в ручке кончаются чернила, но Даша продолжает «писать», продавливая бумагу пустым стержнем. С каждым словом она будто втыкает эту ручку бармену в глаз.* * *
В понедельник представляют нового члена команды на роль главного аналитика на все подсистемы, кроме Дашиной. Творческий мужчина, в полосатом свитере и с лохматой головой, посреди совещания он вдруг снимает ботинок и начинает делать себе массаж стопы. Даша напрягает все силы, чтобы смотреть на его лицо, а не на ногу, даже не моргает. – Спрячь глаза, – шепотом советует коллега-москвич. – В очки упираются. В обед звонит знакомая, которую Даша встречала раза три в жизни. Говорит, не ее начальник, которого она едва знает, увидел, что она идет по коридору, пригласил пройти к нему в кабинет, посмотрел, что в коридоре, кроме них, никого не было, закрыл дверь и заявил, что она совершенно не интересует его как женщина. – Началось в колхозе утро, – отвечает Даша. – Обидненько. – Что это было? – всхлипывает девушка. – Понедельник. У Даши этот понедельник неплохой. Ни шквала, ни долгих зависаний. Даже у еды вкус сильнее, чем обычно. Весь день Даша представляет себе в красках эту сцену, хотя смутно помнит Ее, совсем не знает Его и никогда не видела их офис. Вот Она, цокая каблуками, бежит по коридору в дерзкой мини. Вот Он, коренастый мужчина лет сорока пяти, с небольшим лишним весом и большим золотым кольцом на безымянном пальце, в крикливом галстуке и остроносых туфлях. Отворяет дверь своего кабинета, окликает Ее, говорит: «Зайдите на минутку». Она в растерянности, ведь они почти незнакомы. Заходит, одергивая край юбки, ворсистый ковер глушит стук Ее шпилек. За Ней закрывается тяжелая дверь. Все рыбки в Его аквариуме с любопытством прилипли к стеклу. Дашу схватывает, и она начинает громко, до боли в затылке смеяться перед монитором. Схватывает и отпускает. Отпускает – и снова схватывает. Спасибо, что сказал! Держи в курсе. Она даже думает погулять по Москве после работы, но к вечеру дневные проблески радости уже кажутся полузабытым сном.* * *
Она нагибается к раковине и отплевывается. Вместе с кровью из ее рта вываливаются коронки, мосты, неизвестные железные конструкции и зубы с маленькими, кастрированными корнями. Они со звоном ударяются о стенку раковины в желтых разводах и исчезают в черном отверстии слива, а потом вылетают оттуда обратно – и снова скатываются. Десятки, сотни зубов и железок. Стоит выплюнуть горсть – рот тут же наполняется снова. Боли нет. На краю раковины стоит пустая, до скрипа вылизанная банка из-под бананового скраба, ровно такая, какой Даша нашла ее, вернувшись в квартиру. Вздрогнув, она просыпается в темноте. В голове пульсирует мысль: «Я беззубая. Не могу кусаться». Верните зубы. Опять эта комната. Ночь со вторника на среду. Стена слабо белеет, а на стене возле выключателя – три полуметровых черных пальца, изломанных и задранных кверху, как графики зависимости ее готовности к самоубийству от времени, проведенного в Москве. Нельзя сдаваться. Слез и зубов она уже лишилась, но ей еще жаль рыб. Это еще не конец. Есть и другие формы протеста. Даша сжимает рукоятку ножа, спрятанного под подушкой. Нож – это хороший знак. Нож говорит, что она не хочет умирать, – таким чуть слышным, скрипучим голосом. Надо закрыть глаза, чтоб не блестели, но она не может отвести взгляд от пальцев. Может, это тень. Тень от брюк. По ночам квартиру наводняют полчища уродливых черных фигур, и все они на самом деле брюки. На стульях, ручках, вешалках, крючках. Пустые, безвольно обвисшие мужские штаны. Пальцы приходят в движение, скользят по стене, как змеи, и скрываются в проеме. Что-то еще более черное, чем окружающая темнота, бродит по коридору. Даша слышит легкие шлепки мокрых ног по кафельному полу. На кухне тихо скрипит дверца стенного шкафа. Желание пойти туда с фонарем и посмотреть становится почти нестерпимым. Это надежда. Надежда, что на самом деле там ничего нет. Последний островок посреди океана ужаса, такой манящий, что соблазн грозит оказаться сильнее инстинкта самосохранения. – Мы не пойдем, – одними губами беззвучно говорит себе Даша. – Мы не будем пугать и беспокоить его. Скрипит окно – и по квартире проносится сквозняк. Пахнет куревом. Тихо кашляют. Это человек. Здесь человек. Она стискивает рукоять ножа, зажмуривается и орет внутри своей головы так громко, что перед глазами взрывается фейерверк искр. Человек. Человек! Это гораздо хуже черных полуметровых пальцев. Островок надежды посреди океана ужаса сжимается – она больше не может на нем устоять. Человек – это точно реально, ведь дверь плохая, замки слабые, по лестницам бродят. Кто-то из них проник сюда и курит у окна. А что он сделает потом?.. На кухне раздается оглушительный хруст костей, такой сочный, что у Даши ноют суставы. Кряхтенье. Стон. Этот клубок звуков движется по коридору обратно – в сторону ее комнаты. В дверном проеме снова возникает непроницаемо-черный силуэт, потом скрипит дверь в ванную и плотно закрывается. Даша лежит в постели без движения, сжимая нож, до рассвета по-прежнему очень далеко. Ничего не происходит. Сквозняк так и бродит по квартире, теребя занавески. Приглушенный скрежет лифта на лестничной площадке. Еще не очень поздно. Время детское. Где-то воет сирена и тонет в шепоте ночного города. Веселые молодые возгласы вдалеке. По улице проносится такси с опущенными стеклами, оттуда звучит рэпчик – что-то про шкур, которые бесят. Снаружи зажигается фонарь, и на потолок ложатся причудливые живые тени. Даша бесшумно встает и с ножом подходит к двери ванной. Внутри темно. Она прижимается ухом к замочной скважине. Он храпит? Сопит? Хотя бы дышит? – Давай, – шепчет себе Даша, ударяет по выключателю и распахивает дверь. Свет ослепляет, но в следующую секунду она решительно бросается внутрь, готовая ударить ножом в грудь того, кто мирно спит в ванне. Ванна пуста. Выдох застревает у Даши в глотке. Он не вошел сюда, а прошел дальше, в большую комнату. Путь туда пролегает мимо входной двери. Замок выглядит нетронутым. В большой комнате – тоже никого. В воздухе стоит слабый запах гнили, и Даша распахивает окно. Порыв ветра пробирает до костей, сливается со сквозняком с кухни и кружит по квартире. Здесь никого нет. Даша зажигает свет, включает телевизор и неожиданно для себя радуется самодовольной харе ведущего ночного политического ток-шоу и собачьему лаю его так называемых экспертов. Их голоса опошляют все, делают приторно-обыденным. То, что надо. Озаренная тусклым теплым светом кухня единственная хранит следы вторжения. Даша морщится и скулит, держась за косяк, но спасительные слезы снова не идут. На подоконнике стоит несвежая лужа, в пепельнице валяется окурок, хозяйские сигареты и зажигалка. Сахарница посреди стола, днем доверху наполненная кусковым сахаром, сейчас пуста. Он был здесь. И он ушел. При полной иллюминации Даша заваривает кофе и садится работать. В девять она позвонит секретарше и попросит найти другое жилье. Если та откажет – найдет сама и оплатит из своего кармана. Эта ночь – последняя в этой квартире. Нет, последняя на этой работе. А может – просто последняя. После двух ночи Даша идет в туалет и запирает за собой дверь, забыв, что замок барахлит, как и все в этой квартире и в ее жизни в целом. Захотев выйти, Даша не может. Замок заело. В маленьком зеркале на двери она видит свое глупое растерянное лицо и прошлогодний православный календарь за спиной. Телефон остался на кухне возле ноутбука. Даша опускает крышку унитаза, садится сверху и бьет в дверь пятками. – Че там такое?! – раздается снизу чуть слышный мужской голос. Даша с надеждой прижимается лицом к трубам. – Витя! – Я Витя! А ты кто?! – Даша! Я застряла в туалете! Квартира тридцать один, над тобой! Звони спасателям! Он молчит. – Ты слышишь?! Надо ломать дверь! – Ладно! – каркает Витя. Даша плюхается обратно на крышку унитаза. – Мы будем в порядке, – шепчет она с облегчением. – Нас спасут. Она натужно смеется. Нет, так нельзя. Какая глупая была бы смерть. Буквально говняная. Спустя минуту Даша отключается. Она будто видит разряды электричества у себя в мозгу. Там все искрит под черепушкой. Настоящее светопреставление. Мозг занят чем-то сам по себе, так занят, что не может управлять ее действиями. Поэтому она просто сидит неподвижно, с приоткрытым ртом, потеряв чувство времени, глядит в одну точку и даже не моргает. В ванной за стеной раздается громкий отрывистый скрип. Даша с усилием закрывает рот и пытается отвлечься от созерцания молний в голове. Мокрый шлепок. Скрип влажной ладони об эмаль. Стариковское кряхтенье. Что-то хватается за борта ванны, стонет и хрустит множеством суставов, вылезая из отверстия слива. Даша думает: «Это в трубах», – но тут на пол падают банки с косметикой, и все мысли вытесняет ужас. Оно громко тянется, уверенно, по-хозяйски шлепает мокрыми ногами в коридор, а затем к туалету. Решительно опускается дверная ручка, щелкает замок. В скважине показывается и тут же скрывается кончик острого серого когтя, скребет в замке. На пару секунд все замирает, затем дверь беззвучно открывается. У порога стоит тухлая лужа. На кухню ведут мокрые следы. В зеркале Даша видит многоколенчатого палочника, черного и лоснящегося от сточной слизи. Его костлявое тело напоминает кривую ветку, надломанную в десяти-двенадцати местах. Он склонился над кухонной раковиной, держась за края полуметровыми членистыми пальцами и опустив в слив синюшный язык. Снизу на языке выпирает налитой сосуд, и Даша узнает в нем безглазого червя из слива, любителя сахара и бананов. Многоколенчатый нагибается все ниже и ниже к раковине, вертит узкой головой, проталкивая язык вглубь, отыскивая им путь по трубам. Тук-тук. Даша отрывает взгляд от зеркала и таращится на крышку унитаза, на которой сидит. Тук-тук, – настойчивее стучат снизу. Он поворачивает голову к туалету, чтоб убедиться, что она поняла, кто там. Бледное пятно у него на лбу смотрит. Соскочив с унитаза, Даша бежит к входной двери. Многоколенчатый с громким чавканьем втягивает язык обратно и неуклюже шлепает за ней по коридору, волоча по полу свои длинные палкообразные руки. Дверь на лестницу распахивается. Он не преследует ее, а кидается в большую комнату. Его изломанный черный силуэт проскакивает мимо работающего телевизора, наследив на паркете, и исчезает в открытом окне. Ведущий ток-шоу смеется ему вслед. Звучат аплодисменты. Даша бежит вниз и в пролете второго этажа налетает на Витю. – Я вызвал сортирный патруль, – сообщает Витя. Она с воем утыкается в его костлявую грудь. Он пахнет куревом. И болотом. Слезы льются из Дашиных глаз библейским ливнем, в голове еще сверкают молнии. Где гром?.. – Разъелась ты, – говорит он и хлопает ее по спине. – Хорошо, у меня руки длинные.Дмитрий Лазарев Фантомы
* * *
Очки, которые Ярик нацепил мне на нос, оказались ощутимо тяжелее привычных. Дужки туго обхватили голову. В правом ухе угнездилась капелька наушника. – Ну как, Миш? Не давит? Я провел пальцами по необычно толстой оправе и обнаружил коробочку, прицепившуюся к правой дужке. Нашел косые отверстия микрофона, выпуклую полукруглую линзу камеры и непонятную металлическую решетку. Нащупал торчащий сзади тумблер выключателя. – Слегка некомфортно, – признался я. – Из-за наушника. Все-таки без него лучше слышно, а это важно… – Ничего, – успокоил брат. – Дело привычки. Скоро ты убедишься, что оно того стоит. Руки Ярика источали привычную смесь запахов жидкого мыла, пота и сладкого мужского парфюма, который мне никогда не нравился. Он пару минут колдовал с прибором на очках, шумно дыша над самым ухом, потом щелкнул тумблером – и наушник ожил. – Загрузка системы. Активация модулей, – прошелестел приятный женский голос, который я мгновенно узнал. – Это что, Нина? – А то, – довольно отозвался Ярик. – Шестьдесят часов у микрофона, два гига записей. Потом голос придется синтезировать, ради экономии памяти. С расширением базы понадобится большой объем и лицензия на использование синтезатора речи, так что пока работаем, с чем можем. Впрочем, это не главное. Я дал программе ее имя. – Как романтично, – фыркнул я. – В любви и на войне все средства хороши… Я знал, что он улыбается, – со временем это начинаешь определять по голосу. – Главное, чтобы она работала, Ромео. Он шаркнул стулом по полу. – Координаты действуют по принципу часов. Думаю, ты быстро разберешься… – Часов? – Представь, что ты стоишь в центре большого циферблата, тогда прямо перед тобой двенадцать часов, справа и слева – соответственно три и девять… – О’кей, я понял. Наушник издал звуковой сигнал. – Загрузка завершена. Инициализация… Приветствую пользователя, я – Нина, ваш проводник и помощник. – Прогуляемся? – предложил Ярик. Щелкнула, распрямляясь, трость, и брат вложил в мою руку прохладную рукоятку. Запястье привычно охватил ремешок. Я нащупал край стола, аккуратно поднялся на ноги. Нет ничего проще, чем ушибиться об угол, которого не видишь… – Перед вами Ярослав, – сообщил голос в наушнике. Я вытянул руку и уткнулся ладонью в грудь Ярика. Подушечки пальцев коснулись плотной ткани рубашки. Наверное, чувства так ярко отразились на моем лице, что он рассмеялся. – Как это работает? – Компьютерное зрение, обученная нейронная сеть и немного магии, – сказал Ярик, отступая в сторону (подошвы кроссовок шаркнули под тремя шагами). Наушник оперативно среагировал: – Ярослав на два часа. – Пройдись по аудитории и скажи, как тебе. Я шагнул вперед, привычно постукивая тростью. Обошел стул, оказавшийся на пути, протиснулся промеж двух узко стоящих парт. Негромкий голос Нины комментировал: – Ярослав на три часа. Стена на двенадцать часов. Расстояние – два метра. Дверь на десять тридцать. Расстояние – четыре метра. – Не торопись, – обеспокоенно воскликнул Ярик, когда я поспешил к выходу, выставив трость. Голос в наушнике руководил. Пальцы нашли дверную ручку, и я вывалился в соседнее помещение – коридор или холл. Здание Новосибирского государственного университета, в котором брат занимался разработкой, пустовало по случаю позднего часа. Вокруг стояла тишина, и мои шаги гулким эхом отражались от стен. Между тем хотелось бежать, хотелось воспарить в воздухе… Едва ли не впервые за пять лет жизни во тьме я почувствовал душевный подъем. Проект, над которым Ярик трудился последние годы, работал! Это было не зрение… но это было уже что-то. – Впереди вас коридор. Стена на три часа, расстояние – полтора метра. Стена на девять часов, расстояние – два метра. – Миша, давай без резких движений, – голос Ярика прозвучал откуда-то сзади. – Программа еще в отладке… есть косяки… будет досадно, если ты разобьешь голову. – Спокойно, Илон Маск. У меня все под контролем! Широко шагая, я пересек коридор, коснулся пальцами противоположной стены. Обострившиеся чувства слепого, позволяющие неплохо ориентироваться в замкнутых пространствах благодаря рожденному шагами эху, подкреплялись своевременными подсказками программы, и мое нутро трепетало от восторга. Придерживаясь рукой за стену, я уверенно двинулся по коридору к лестницам, расположение которых запомнил по прошлым визитам. – Ну хорошо, пройдемся по этажу… Ярик семенил рядом, по-видимому готовясь подхватить, если что-то пойдет не так. – Скажи лучше, «Нина» видит ступеньки, ямы на дороге и все такое? – Должна, но все же используй трость, будь добр. Я форкнул базовый модуль компьютерного зрения из открытого репозитория одной израильской компании, они пишут софт для беспилотных автомобилей. Их ядро определяет крупные предметы, разметку и людей. Плюс прикрутил распознавание лиц, тоже из открытых источников. По сути, бо́льшую часть времени я тут лазил по окрестностям, обучая нейросеть… Ну и собственно на основании моей диссертации – модуль ультразвуковой эхолокации. Как у летучих мышей. Рассчитывает расстояния до объектов. – Прибереги силы для инвесторов. Я и половины не понял… как-никак, в нашей семье ты всегда был умный, а я – симпатичный. – Не льсти себе, кот Базилио… Я притворно замахнулся тростью. По правде говоря, подколки брата насчет темных очков порой поддерживали пуще иных других слов. Словно все было как раньше, когда мою жизнь еще не окутала непроглядная тьма. – И что, много людей привлекал для обучения? – Так, местный персонал… кое-кого из знакомых. Загнал в память с полтора десятка лиц. Если программа обнаруживает совпадение, Нина называет имя. Если нет – определяет пол. Ничего сложного – просто по строению тела… – Магия, не иначе. – Лестница – на два часа. Расстояние – три метра. Внимание, впереди ступеньки. – Это холл? – догадался я, раньше умной программы почувствовав расширение пространства. Звуки наших шагов улетали под поднимающийся вверх потолок. – Да, ты идешь к выходу. Я шагнул вперед, нащупывая ступеньки тростью. Помнится, здесь должны были стоять турникеты и пост охраны… – Перед вами – Палыч, – сообщила Нина. – На одиннадцать часов – женщина. Расстояние один метр. Охранник работал здесь давным-давно, еще со времен нашего студенчества. В моей памяти легко всплывал образ лысеющего невысокого мужичка. Не думаю, что он сильно изменился с тех пор, когда я еще мог видеть. – И снова мы, Вадим Палыч, – сказал я. – А я знаю, где вы стоите. – Ты смотри, – удивился хрипловатый голос. – Востро слышишь, Мишка! От охранника неприятно тянуло застарелым потом и грязными носками. Видимо, исходящие от него миазмы начисто перебивали запах девушки, которая, судя по короткому сообщению Нины, подошла вплотную ко мне. Я смутился. – Простите, я слепой, могу попасть тростью… – Я помню, – невпопад сказал Палыч. – Это ничего, все понимаю… – Я обращаюсь к девушке, – пояснил я, и охранник, смешавшись, смолк. Сзади подал голос Ярик: – К кому? – К девушке, – неуверенно повторил я. Что-то было не так. Я чувствовал Ярика за спиной и отчетливо слышал тяжелое дыхание Палыча, но никак не мог уловить присутствие кого-то третьего. В пику моим ощущениям, наушник прошелестел: – Перед вами – женщина. Расстояние – пятьдесят сантиметров. Я осторожно вытянул руку. Пальцы нащупали пустоту. – Там никого нет, Миш, – тихо сказал Ярик. – Твоя программа утверждает обратное. Сухо рассмеялся Палыч – словно рассыпали по столу пригоршню камней. – Недоработка вышла, Эйнштейн! Сколько меня фотографировал, а все одно – не фурычит… – Женщина на два часа. Расстояние – один метр, – невозмутимо продолжала Нина. Пальцы брата сжали предплечье. – Понял. Это баг, – сообщил Ярик. – Мне пока не удалось его победить – не могу понять, в чем причина… иногда Нина засекает несуществующих людей. Я их называю фантомами. То ли тепловые потоки, на которые реагирует камера, то ли что-то в воздухе, отражающее сигналы локатора. Не обращай внимания, они быстро рассеиваются… Он увлек меня обратно в коридор. Мы поднялись на второй этаж, прошли в соседний корпус через подвесной переход, воспользовались лифтом и посетили пустующую столовую. У лабораторий встретили какую-то студентку и запозднившегося профессора, с которым Ярик зацепился языками, обсуждая нюансы использования нелинейных преобразований в сверточной нейронной сети (профессор был опознан Ниной как Глазурин Тимофей Сергеевич. От него кисло пахло мелом и пирожками с квашеной капустой), а потом на площадке у информационных стендов наткнулись на еще одного фантома. – Мне как-то не по себе, – признался я, когда Нина бесстрастно сообщила, что «женщина в полуметре… в метре… в двух метрах от вас». – Еще недавно она путала двери и окна, – не особо-то успокоил Ярик. – И игнорировала открытые люки. Не переживай, я хорошо ее обучил. Скоро разберемся и с этой проблемой. Вернувшись к пропускному пункту, мы простились с Палычем и вышли к парковке, где Нина без труда обнаружила наш автомобиль. – Можешь снимать, – разрешил Ярик, заводя мотор. Салон Яриковой «тойоты» пропах освежителем-елочкой, старыми чехлами и потертой кожей. Я устроился в кресле, сжимая в руках сложенную трость. – Ну, что скажешь? – поинтересовался брат. – Чумовая штука, – признал я. – Ты будешь богат, как Билл Гейтс. – Ой ли… – он усмехнулся. – Аналоги уже существуют, но их цена… В Германии собирают протезы, передающие очертания предметов по глазному нерву напрямую в мозг. Американцы не сегодня завтра запатентуют искусственные глаза, восстанавливающие до сорока процентов зрения. Будущее из фильмов восьмидесятых сквозь призму звериного оскала капитализма. Позволить себе все это, как ты понимаешь, смогут лишь богачи. Моя же разработка может быть доступна каждому. И я рад, что могу сделать посильный вклад. Под колесами зашуршала гравийка. На повороте я высказал вопрос, беспокоивший меня с завершения испытания прототипа. – А тебе не приходило в голову, что эти фантомы… ну, типа, неприкаянные души? Брат рассмеялся. – Ты говоришь с человеком, получившим грант для молодых ученых на разработку прибора искусственного зрения. Каков шанс, что я могу верить в привидения? Мы помолчали. – Впереди еще много работы. Помимо проблемы с фантомами, качество распознавания сильно зависит от освещенности. В полной темноте максимум, на что можно рассчитывать, – замеры расстояний локатором. Я думаю над добавлением инфракрасных датчиков, и… Ярик ударился в малопонятные рассуждения. Я слушал его, все яснее ощущая, каким балластом становлюсь собственному брату, вынужденному нянчиться со слепцом в Новосибирске, вместо того чтобы строить где-то блестящую карьеру, и нахлынувшее чувство острой никчемности омрачило приподнятое настроение. – Жаль, что не в МГУ, – сказал я. – Там было бы куда больше возможностей, а ты застрял тут, из-за меня. – А, не бери в голову. Тут не так уж и плохо. – Если бы была жива мать… Я знал, что он бодрится. Мы оставались, потому что здесь мне был знаком каждый уголок – немаловажное преимущество для незрячего. Здесь прошла наша юность. Жизнь в Академгородке как будто законсервировалась – ничего не менялось вокруг, – и бывший студент Мишка, однажды проснувшийся слепым, чувствовал себя на этих улицах как рыба в воде. Однако Новосибирск вовсе не был пределом мечтаний, о чем недвусмысленно напоминали сводки новостей. В Бугринской роще стая бездомных собак разорвала восьмилетнего мальчика. Месяц назад пропала еще одна студентка, четвертая за последние полгода. В Ленинском районе произошла перестрелка – трое убитых, двое в реанимации. Подростки облили бензином и подожгли бомжа. Печальная летопись каменных джунглей, в которые превращались все крупные города. – Не вини себя, – сказал Ярик. – В конце концов, если бы я уехал в Москву, то никогда бы не встретил Нину… – Нашел бы себе другую аспирантку. В Москве их пруд пруди… Он толкнул меня в плечо. – Нина особенная девушка, а если ты будешь это отрицать, получишь тумака. – Знаешь, в чем преимущество слепоты? – спросил я после непродолжительного молчания. – И в чем же? – Для меня все девушки выглядят на десять из десяти. Ярик смеялся долго и заразительно.* * *
Однажды я проснулся незрячим. То утро никогда не выветрится из памяти, сколько бы лет ни прошло. Помню, как открыл глаза и долго не мог понять, где нахожусь, – тьма, сгустившаяся вокруг, была совершенно непроницаема, словно кто-то залил глазные яблоки гудроном, пока я спал. Потом был путь на ощупь до ванной, где я мучительно долго мыл глаза, тер их, мял как безумный, все глубже погружаясь в пучину беспросветного отчаяния. Чернота никуда не уходила. Мир в одночасье обернулся крайне враждебным и опасным местом… Позже было обследование в краевом глазном центре, где врачи сообщили, что видеть я больше не буду. Лопнула какая-то важная перемычка в мозгу, случился микроинсульт, стремительная атрофия зрительного нерва вследствие кислородного голодания… в общем, непредсказуемая и совершенно случайная аномалия, сломавшая мою жизнь. Врачи сказали, что вероятность подобного – один случай на десять миллионов. И вот они мы – слепой парнишка, едва успевший окончить университет, и его брат, молодой ученый, дописывающий диссертацию об эхолокации в системах компьютерного зрения. Двое в родном городе, из которого постепенно разъезжались все друзья и знакомые в поисках лучшей жизни где-то в столицах. Всего три года как похоронившие мать – единственного близкого человека. Черт его знает, как я протянул эти пять лет. Дни слепых тянутся долго и однообразно. По первости потерявший зрение человек беспомощен, подавлен и психически нестабилен. Самая простая бытовая мелочь превращается в неразрешимую задачу. Необходимость выйти из дома вызывает животный ужас. Уныние, апатия и пессимизм отравляют жизнь окружающим. Страшно представить, что переживал мой брат, взваливший на себя эту ношу. Постепенно, конечно, привыкаешь – на первый план выходят слух, осязание и обоняние. Чувства обостряются. Начинаешь вновь познавать мир вокруг. Все приходит в подобие нормы. Теперь это – твоя жизнь. Навсегда. Скрипнули тормоза, вырывая из печальных воспоминаний. Прибыли. Ярик привел меня домой и умчал к своей пассии – то ли увлеченной им, то ли просто флиртующей с научным руководителем аспирантке, – оставив наедине с аудиокнигами, полным холодильником и журналами, набранными шрифтом Брайля. Ах да, и с прототипом голосового помощника для слепых – «Ниной», которая ловко определяла положение стен и воображала фантомных людей. После столь насыщенного дня о сне не могло быть и речи, есть тоже не хотелось, и я нацепил на нос Яриков прототип. – Загрузка системы… Не знаю, чем закончатся похождения Ярика с его аспиранткой, но в одном я был точно уверен – нас с Ниной ожидали длительные и близкие отношения. Я прошелся по квартире, знакомой вдоль и поперек. Нина безошибочно нашла телевизор, кухонный гарнитур и стиральную машину. Указала на балконную дверь. А потом, когда я собирался вернуться в комнату, сообщила: – Женщина на двенадцать часов. Расстояние – полтора метра. Я вздрогнул. Одно дело – слушать рассуждения о багах программы от Ярика, стоя рядом с ним в коридоре НГУ. Другое – в одиночестве, в кромешной тьме тесной квартирки слышать тихий голос в наушнике, утверждающий: – Женщина на двенадцать часов. Расстояние – один метр. В тишине тикали настенные часы. – Кто здесь? Собственный голос показался мне чужим. Рука, вытянутая вперед, медленно ощупывала пустоту. Если пальцы коснутся чего-нибудь – я закричу. – Женщина на одиннадцать часов. Расстояние – полтора метра. Фантом ускользал в коридор. Я шагнул следом, ведя рукой вдоль стены (трость осталась в комнате). Нина монотонно бубнила в ухо: – Стена на два часа, расстояние – полметра. Стена на десять часов, расстояние – полметра. Женщина на двенадцать часов, расстояние – два метра. Дверь на одиннадцать часов, расстояние – два с половиной метра. Что бы это ни было, оно удалялось ко входной двери. Я сделал еще пару шагов, миновал комнату и остановился. Нина сообщила, что видит дверь прямо передо мной. Я ждал. Дом жил своей жизнью – этажом выше кто-то смотрел телевизор, приглушенно ругались женские голоса. В подъезде за дверью ничего не происходило, и прихожую наполняла вязкая тишина, настолько густая, что я слышал шорох статики в наушнике. А потом Нина сказала: – Перед вами – женщина. На какой-то миг мне показалось, что я чувствую чужое присутствие. Сердце пропустило удар, ноги предательски дрогнули. – Перед вами – женщина. Внезапно я понял: – Мама?..* * *
Мне было семнадцать, когда мы крупно разругались. Она мечтала, чтобы я шел по стопам брата, уже в те дни подающего большие надежды, – я знал, что никогда не стану ученым, хотя готовился к поступлению в тот же университет, что и Ярик. Меня тошнило от разговоров за ужином о том, чем он там занимается. От высшей математики, нейросетей и прочих генетических алгоритмов так и веяло нудной, сложной и утомительной работой. В семнадцать меня больше интересовали девчонки, компьютерные игры и фильмы ужасов, и пусть найдется хоть кто-нибудь, способный бросить в меня за это камень. Последней каплей стал ее запрет отправиться с ночевкой к новому приятелю. Тот жил в коттедже: намечалась крутая тусовка. Впереди были все выходные. Я знал, что девочка, которая мне нравилась, тоже приглашена, и это был один из тех шансов, которые выпадают не так часто. Но мама не хотела и слушать об этом. Как же так – прохлаждаться всего за три месяца до экзаменов? Тем более неизвестно с кем… Спор быстро вышел из-под контроля. Мы орали друг на друга, стоя в коридоре: я обвинил ее в эгоизме, она меня – в безалаберности и лени. Я психанул, назвал ее сукой и ушел, хлопнув дверью. Это были последние слова, которые мама услышала от меня. Тем же вечером ее насмерть сбил какой-то лихач, когда она спустилась в магазин, чтобы купить подсолнечного масла. Позже, когда слепота поразила меня, я не раз думал, что это – моя кара. За то, что смеялся, жрал чипсы и обжимался с девчонками в тот самый момент, когда мать с перебитым позвоночником умирала у ледяного бетонного бордюра… – Мама?.. – Перед вами – дверь. – Мама, подожди! Я бросился в комнату, натыкаясь на мебель. Пребольно ушиб локоть, но даже не заметил этого. Нащупал трость, прислоненную к столу, сдернул теплую кофту со спинки стула. Обулся, игнорируя подсказ в наушнике, едва не выронил связку ключей, выбрался в подъезд. Интуиция не подвела – стоило повернуться, как Нина бесстрастно сообщила: – Женщина на двенадцать часов, расстояние – два метра. Фантом удалялся, уплывая вниз по лестнице. Я двинулся следом, простукивая тростью ступеньки. Одним махом миновал три пролета, нашел кнопку магнитного замка и оказался на улице. Холодный сентябрьский воздух забрался под кофту. Во дворе было тихо, лишь где-то вдалеке шумело скоростное шоссе. – Женщина на одиннадцать часов. Расстояние – четыре метра. – Кто-нибудь слышит меня? Темнота безмолвствовала. Я шагнул вперед, ударяя тростью по асфальту. Фантом ждал, вероятно, в конце подъездной дорожки. Как Ярик мог счесть это программной ошибкой? Такое поведение не могло быть случайным… Она вела. Она хотела что-то показать мне. Наш дом стоял на отшибе, сразу за ним начинался лес. Если свернуть направо, через полтора километра будет один из корпусов НГУ. По прямой, рано или поздно, можно было уткнуться в водохранилище. По левую руку располагался ботанический сад. Когда-то я знал эти места как свои пять пальцев. Ботанический сад облюбовали спортсмены и собачники, возле университета всегда было полно студентов. Лесок, карабкающийся на холм, оставался менее исхоженным. В начале девяностых там начали строить еще один корпус, но что-то с ним не заладилось, и с тех пор пустой бетонный остов мертвого здания торчал среди деревьев, медленно разрушаясь. Фантом… нет, призрак матери удалялся в лес, и я пошел следом, будто крыса за звуками дудочки. И прежде чем сообразил, что делаю, забрался уже далеко. Когда ты слеп, расстояния скрадываются. Кажется, что шагал целую милю, а на деле не прошел и ста метров, или наоборот – думал, что кружил по округе, а сам утопал невесть куда. В городе хорошими ориентирами служили дома и дороги, в лесу же оставалось полагаться только на собственные чувства. Воздух пах влагой, мхом и палыми листьями. Тропинка под ногами, то и дело пересекаемая корнями деревьев, поднималась в горку. Нина засекала деревья справа и слева, но как-то неуверенно, сбиваясь на неопределенные «объекты», из чего я заключил, что вокруг совсем стемнело. Фантом то появлялся, то исчезал на расстоянии пяти-шести метров впереди, и я упорно шел следом. Стоило остановиться и подумать, но нахлынувшие горькие воспоминания заглушили голос рассудка. Я размышлял, как наладить контакт. Весь вопрос был в том, могли ли они слышать. Нина определяла движения фантомов; если предложить, чтобы шаг влево означал «да», вправо – «нет»… как-то так, тогда… Путь перегородило что-то массивное. Вытянув трость, я несколько раз ударил по твердому скругленному предмету, повисшему на уровне груди. Да это же бетонная труба перед заброшенным корпусом! В памяти всплыли обрывки воспоминаний: мы с Яриком прячемся в трубе, воображая, что старый недострой кишит инопланетными монстрами и наша боевая задача – найти огневую точку и отстреливать вражеских офицеров… Я согнулся, пробираясь под трубой. Нина шепнула в ухо: – Женщина на два часа, расстояние – три метра… Впереди чувствовалось скопление большой холодной массы. Где-то там возвышалось среди деревьев заброшенное здание. Зачем мать хотела привести меня сюда? Трость путалась в пожухлой траве и палых листьях. Здесь дурно пахло – прелой листвой, землей и чем-то еще – сладковато-гнилостным, тошнотворным и невыразимо отвратительным. Спереди доносилось еле слышное жужжание, будто мухи кружили над навозной кучей. Я неуверенно шагал вперед, все больше ощущая, что все это – одна большая ошибка. Хотелось позвать, но было страшно нарушить тишину. И внезапно я понял, что гораздо больше боюсь другого – что кто-то ответит мне из темноты. Азарт и надежда быстро улетучивались, уступая липкому страху. Вот он я – слепой паренек, стоящий у недостроенного бетонного дома посреди ночного леса, и никого вокруг, лишь тихий голос в наушнике, нашептывающий: – Женщина перед вами… на одиннадцать часов – стена… расстояние – восемь метров. Зазвонил телефон, заставив меня подскочить от испуга. Я совершенно забыл о нем, болтающемся на шнурке под одеждой, куда бы я ни направлялся. Маленький, почти невесомый гаджет с клавишами для слепых и функцией родительского контроля… – Миша, ты куда утопал? Ночь на дворе… – Ярик, – меня затопила волна облегчения. – Я у старой заброшки в лесу… – Чего-о? – поразился он. – Ты что там делаешь? – Долгая история… Нина что-то сказала в другое ухо, но я не обратил внимания. – Ну ты даешь, брат. Оставайся там, я сейчас за тобой приеду. Надеюсь, подъездную дорогу не перекопали… Он отключился, и я снова услышал тихое бормотание наушника: – …переди. Перед вами четыре женщины. Сердце ухнуло в пропасть. Я взмахнул тростью, пронзая пустоту. – Расстояние – один метр… Расстояние – два метра… Фантомы отлетели прочь и закружились хороводом – Нина не успевала называть расстояния. Я подошел, унимая дрожь в коленях. Жужжание усилилось. На запястье села муха и тут же унеслась прочь. Нина продолжала что-то говорить, но я уже понял, куда мне пытались указать. Сырая земля уходила под уклон, в глубокую канаву у основания бетонной стены. Вонь здесь становилась сильнее. Наконечник трости шарил в опавших листьях, зарываясь все глубже, пока не коснулся чего-то мягкого, податливого. Я вытащил трость и опустился на колени. Разворошенная листва остро пахла влажной гнилью, и откуда-то снизу пробивался тошнотворно-сладкий запах тухлятины, от которого болезненно сжимался желудок. Как загипнотизированный, я продолжал перебирать слипшиеся комки, отшвыривая в сторону скользкое, холодное, зарываясь все глубже, пока пальцы не нащупали что-то вроде мешка… нет… куска ткани. Я провел рукой, ощупывая находку, обнаружил кругляш с перекрестьем посередине. Монетка? Нет… да это же пуговица! А вот и еще одна… Рука двигалась вдоль прошитого края плотной материи. Пальцы покрылись чем-то влажным и липким. Мокрые листочки налипли на тыльную сторону ладони. Я нащупал длинное, вьющееся – сложенную сетку? Или… Указательный палец коснулся твердого края, нырнул внутрь, погружаясь в вязкое, слабо шевелящееся. Что-то осторожно, почти нежно коснулось кожи. Под подушечкой происходило движение. Большой и безымянный пальцы прошлись по краям, ощупывая почти правильную окружность, вторая ладонь обнаружила ниже провал с торчащими резцами – и через мгновение картинка сложилась. Человеческий череп! Я завопил, выдергивая палец из глазницы, и, пошатнувшись, завалился на спину. Сердце колотилось как бешеное. По запястью что-то ползло. Пальцы нащупали толстого извивающегося червяка, отшвырнули прочь. Внутренности скрутило, и я едва не вывернулся наизнанку, думая о том, чем перемазаны руки. В канаве, заваленный прелыми листьями, лежал труп. Я сел, пытаясь совладать с дрожью. Вытер ладони о штанины, провел рукой по земле вокруг себя, отыскивая отлетевшую трость, нащупал ремешок и продел в него запястье. – Перед вами – четыре женщины. Голос Нины заставил меня подскочить. Четыре женщины. Боже мой! Вероятно, все где-то здесь, в яме, среди листьев и мусора… Я отползал дальше, чувствуя предательскую слабость. Эти фантомы… мы контактировали еще в здании НГУ, и с тех пор одна из них пыталась привлечь мое внимание. Вовсе не мать, как подумалось сначала. Одна из пропавших девушек… Издалека донеслось ворчанье автомобильного мотора. Не успел я вздохнуть от облегчения, как в душу закралось страшное подозрение. Слишком быстро, он бы не успел… Это не был тихий ровный гул Яриковой «тойоты». Автомобиль, среди ночи подъезжающий к заброшенному зданию в лесу, поскрипывал, фыркал и дребезжал. Рычащему двигателю явно требовался капитальный ремонт. Согнувшись в три погибели, я неслышно вскарабкался к стене заброшки и замер, вжавшись в холодный бетон. Неизвестный автомобиль остановился где-то рядом, в десятке метров от места, где в канаве гнили убитые девушки. Водитель заглушил двигатель. Скрипнула дверца. Может быть, кто-то уже обнаружил их, вызвал сюда полицию, и… В тишине послышалась какая-то возня, затем до меня долетел протяжный стон, а за ним – глухой удар. – Заткнись, сука! Голос заставил затрепетать. Я уже слышал его… но где? Что-то увесистое упало на землю. Послышался шуршащий звук – словно волокли мешок с картошкой. Хватаясь рукой за стену, я начал медленно отступать в сторону. Через несколько шагов пальцы угодили в пустоту. Что это – окно? Или дверной проем? Я повел ногой, нащупывая уголстены. Кажется, все же дверной проем… Наверное, тот самый, сквозь который мы лазили в недостроенный корпус, когда были мальчишками. Рука шарила позади, пытаясь определить ширину прохода. Если он завален… А потом совсем рядом знакомый голос с хрипотцой произнес: – Мишка? Ты чего тут делаешь? Паническая атака пригвоздила к месту, ширясь подобно взрыву газа. Мышцы свело невероятно острым чувством собственной беззащитности. Должно быть, он оставил фары включенными, потому что в наушнике ожила Нина, коротко сообщившая: – Палыч на один час. Расстояние – четыре метра. Я застыл перед ним, словно муха, пришпиленная к обоям, не в силах пошевелиться. Где-то там, всего в нескольких метрах, стоял охранник с пропускного пункта НГУ, совсем недавно приветливо простившийся с нами. Человек, рядом с которым обнаружился первый фантом. Приехавший среди ночи к яме с трупами пропавших девушек, вместе с… О боже! Что-то с глухим звуком швырнули наземь. Он понял, что я понял. – Палыч на один час. Расстояние – три метра, – предупредила Нина. – Мишка, ты заблудился? Давай-ка я выведу тебя отсюда. Я попятился. В правую лопатку уперся бетонный угол. – Палыч на двенадцать часов. Расстояние – полтора метра. – Давай руку, не то свалишься в канаву… Пальцы сжали сделавшуюся влажной рукоять трости. Обостренный слух уловил еле слышное шуршание отточенного лезвия, извлекаемого из ножен. – Расстояние – один метр… Рванувшись, я выстрелил тростью перед собой, целя на звук тяжелого дыхания. Наконечник уткнулся во что-то мягкое, провалился, и Палыч взревел от боли. Выдернув трость, я повернулся и нырнул в проем. В спину ударили бешеные вопли. – ГЛАЗ! МОЙ ГЛАЗ! АХ ТЫ, МЕЛКИЙ УБЛЮДОК!!! Колено взорвалось болью, налетев на невидимое препятствие. Вскрикнув, я повалился в пустоту, инстинктивно прикрывая голову, прокатился по полу, чувствуя, как сквозь кофту в спину впиваются осколки битых бутылок, зажал ушибленную ногу. Коленная чашечка пылала огнем. Каким-то чудом крепкая оправа удержала очки на носу. – СУКИН СЫН! Я ТЕБЯ ПРИКОНЧУ! Превозмогая саднящую боль, я пополз в сторону, пока не наткнулся на стену. Придерживаясь, поднялся, припадая на правую ногу. Где-то здесь должен быть коридор… От удара сочленения трости сложились. Взмахом руки я распрямил ее. Ремешок впился в запястье. – Массивный объект на два часа, расстояние – три метра. – ТЕБЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ОТ МЕНЯ, СЛЕПОЙ ЗАСРАНЕЦ! Голос эхом отозвался от бетона – Палыч был внутри. Я припустил вперед со всей возможной скоростью, выставив трость. Пальцы скользили по шершавой стене. Тяжелые шаги захрустели по битому стеклу. Затихли. – Выходи, Мишка, и все закончится быстро, – донеслось сзади. – Дядя Вадим не сделает тебе больно, как этим нехорошим девчонкам. Ладонь напоролась на острый штырь, неожиданно возникший на пути, и я закусил губу, подавляя рвущийся крик. Языком приложил рваную рану, горькую и железистую на вкус. Горячая капля спустилась по запястью и заползла в рукав кофты. За спиной загремели шаги преследователя. – Впереди массивный объект, – доложил бесстрастный голос Нины. – Расстояние – три метра. На два часа – окно. Расстояние – два метра. Окно оказалось дверным проемом. Видимо, здесь, во внутренних коридорах заброшенного здания, было совсем темно, и Нина ориентировалась по локатору. Я юркнул за угол, сжимая в кулак кровоточащую руку. Замер, прижавшись к холодному бетону. Палыч пронесся мимо, бормоча ругательства, а потом звучно впечатался в стену. Наверное, у меня был шанс проскочить мимо него и ускользнуть – путь назад был более или менее известен, но момент оказался упущен. Из-за угла донеслась отборная ругань. – Подожди немного… Сейчас подсветим, и тогда… А, ЧТОБ ТЕБЯ! Палыч грохнул чем-то об пол. Мелкой дробью застучали разлетевшиеся осколки. – Вот ведь везучий сукин сын! Ну ничего, долго не побегаешь… Захрустели шаги. Должно быть, он разбил телефон, когда врезался в стену, и теперь остался без источника света. Хорошо… Я двинулся прочь, стараясь не издавать ни звука. Порезанная ладонь болезненно пульсировала, колено, казалось, вот-вот развалится на части. Совсем рядом топал ножищами Палыч, и ледяные мурашки бегали по коже – еще миг, и острое лезвие вонзится в незащищенную спину… нестерпимо хотелось бежать, хотелось оказаться как можно дальше отсюда, но любая ошибка могла стать фатальной. В углу обнаружился еще один проход. Если чувство направления не подводило, он должен был вести куда-то вглубь здания – туда, где свет луны не мог дать Палычу преимущества. В кромешной тьме он был так же слеп, как и я, – и даже больше… Носок ботинка угодил в пустое ведро или банку, стоящую на полу, и она покатилась с громким жестяным стуком. Я отшатнулся, приложившись боком о стену, ушиб плечо, но устоял на ногах. Нина шепнула, что у меня есть четыре метра до следующего массивного объекта – и я нырнул вперед словно в омут. Локаторы прототипа не обманули. Комнату огласило тяжелое сопение: Палыч спешил на звук. Его шаги стали более осторожными и неуверенными. Неожиданно нога ухнула в пустоту. Вскрикнув, я взмахнул руками, повторно ободрав кожу на израненной левой ладони. Ботинок провалился в неглубокую нишу, невесть откуда оказавшуюся в полу, – и тут очки слетели-таки с носа, повиснув на проводке́ наушника. Неловкое движение руки – и Яриков прототип улетел куда-то в сторону. – Цыпа-цыпа-цыпа, – раздалось где-то совсем близко. С протяжным скрежетом проскользило по бетону лезвие. Выпростав ногу из дыры, я успел откатиться и пополз, не смея вдохнуть. Сердце заходилось в бешеном ритме – казалось, вот-вот на его оглушительный грохот из темноты обрушится удар ножа. У дальней стены я замер, подтянув ноги к подбородку. Тяжелые шаги прошаркали в полуметре. Бетонные стены тесного коридора рождали эхо, дезориентируя и сбивая с толку. Звучно хрустнула под ногами пластиковая оправа. – Ну где ты, бесеныш, – нетерпеливо шипел Палыч. – Бесконечно убегать не получится… Чертов поганец. Ты сделал мне о-о-о-очень больно. Шаги удалялись. Вытянув руки, я нащупал проем в стене и подтянулся, затаскивая себя внутрь. Шорох волочащегося по полу тела показался оглушительным, но бормочущий проклятия Палыч, видимо, не успел сориентироваться. Трость за что-то зацепилась, и после нескольких отчаянных попыток высвободиться из ловушки я стянул ремешок с запястья и бросил ее. Это помещение было больше предыдущих – отчетливо чувствовался ток холодного воздуха, стелющийся по полу. Пахло сыростью. Возможно, где-то рядом был второй выход или окно… Паника накатила удушающей волной. Если Палыч сможет видеть, преследование окончится очень быстро. Я полз спиной вперед, готовясь лягаться, отбиваясь, как только зазвучат приближающиеся шаги… Рука ухнула в пустоту, выбив из равновесия. Затылок пребольно приложился об пол. Я замер, балансируя на краю непонятной пропасти, невесть откуда взявшейся вместо стены. Рука шарила вверх-вниз, пытаясь определить границы, и ничего не могла нащупать. Между тем дуло именно отсюда. Несколько секунд спустя я сообразил. Это же шахта лифта! – Ты, наверное, придумал себе невесть что. – Палыч нашел вход в залу. Я не двигался, обратившись в слух. Если он пойдет на меня… Шаги хрустнули пару раз и смолкли. Он стоял у входа, не думая приближаться. – Я бы на твоем месте тоже струхнул. Но все не так, как ты думаешь, Мишка. Видимо, свет все же не проникал сюда. Я принялся отползать, ощупывая каждый камешек позади. – Это были плохие женщины. Очень плохие! Ты даже не представляешь, насколько. Кто-то должен был это сделать… Спина уткнулась в стену. Я медленно поднялся, ведя пальцами здоровой руки по бетону. Нащупал угол. Судя по всему, из залы не было другого выхода. – А я сглупил, конечно, ей-богу, – звук голоса стал чуточку ближе. Неслышно ступая, Палыч выходил на середину залы. – Нужно было закончить свои дела и просто уехать – ты же все равно ни хрена не видишь… Но вот незадача, не успел сообразить. Никогда мне не везло, Мишка… Хотя сегодня больше не повезло тебе. Я начал медленно пробираться вдоль стены, обходя его по широкой дуге. Еще немного – и получится проскользнуть мимо, к выходу. Тишину разорвала звонкая мелодия. Телефон!!! Я рванул за шнурок, выпрастывая гаджет из-за шиворота – отшвырнуть прочь! – когда выстреливший из ниоткуда удар угодил в голову, сбивая с ног. На миг сознание помутилось. Телефон продолжал звонить, где-то бесконечно далеко. Раздался торжествующий крик Палыча: – Попался! Новый удар пришелся по ребрам, выбивая дух. Во тьме чиркнуло по бетону лезвие, а потом запястье взорвалось адской болью, когда неимоверная тяжесть опустилась на руку. Хрустнули кости. Я завопил. Тяжесть исчезла. – Получай, ты, мелкий… Очередной удар не случился – мазнув по лицу, подошва улетела куда-то вбок. Палыч вскрикнул, теряя равновесие, заваливаясь вперед. Вторая нога запнулась о мое распластанное на полу тело, и массивная туша с воплем ухнула вниз. Я скрючился на краю, ощущая близость невидимой пропасти. Снизу раздался глухой удар. Раздавленное запястье превратилось в пылающий очаг боли. Подавляя стон, я нащупал каким-то чудом уцелевший телефон, нашел кнопку принятия вызова. – Ярик… – Миша, ты где?! Тут связанная девушка, и… черт побери, ты в порядке? – Нет, – выдохнул я, баюкая поврежденную руку. – Нет, но не переживай. Все будет хорошо.* * *
Канава у недостроенного корпуса оказалась глубокой ямой, доверху заваленной строительным мусором, землей и палыми листьями. После тщательных раскопок полиция обнаружила восемь трупов разной степени разложения. Первым четырем было по меньшей мере несколько лет. Из-за длительных периодов между исчезновениями их и не думали связывать в серию. Впрочем, наказывать оказалось некого. Доха Вадим Павлович, маньяк-насильник, был найден мертвым на дне шахты лифта в заброшке, совсем недалеко от своих жертв. Улики, обнаруженные в его квартире, доказывали причастность бывшего охранника НГУ к совершенным убийствам. Уцелевшую девушку, спасенную моим появлением в лесу у заброшки, звали Надеждой. Неожиданно для меня мы неплохо сошлись за время, пока велось следствие. Она училась в магистратуре на физика-ядерщика, всего в двух кварталах от нашего дома, и иногда забегала поболтать. Ярик, собирающий новую версию помощника взамен уничтоженного первого прототипа, вовсю подкалывал меня, поздравляя с завоеванной красоткой. Остряк… Я всякий раз пожимал плечами и улыбался. У Нади нежный мелодичный голос, и ее общество действительно было мне приятно. Что же до внешности – я уже говорил брату свое мнение по этому поводу. Есть такая особенность у слепых. Для нас каждая девушка выглядит на десять из десяти.Оксана Ветловская Дела Семейные
* * *
Отец не любил рассказывать, что случилось с его вторым братом. Но еще в детстве из разговоров взрослых Николай узнал, что Гриша («другой папин брат») пропал без вести. «Второй, другой» – так говорилось, потому что было их трое мальчишек-близнецов, не было среди них младших и старших. В объемистом семейном архиве обкомовца Язова почему-то сохранилась лишь пара фотографий, где все его три сына были вместе: будто клонированные в фоторедакторе, которого ждать еще полвека. Одинаковые улыбки, одинаковые проборы, даже складки на мешковатых шортах по моде 50-х – и то одинаковые. Надо было как следует присмотреться, чтобы заметить между мальчиками разницу. Гриша был самым тощеньким и на обеих фотографиях стоял несколько на отшибе. Снимки Николай обнаружил, когда занялся расхламлением квартиры. Квартира ему досталась в наследство – бабушка, перед смертью в свои девяносто с лишним лет, оставаясь, впрочем, до самых последних дней в сознании до жути ясном, записала квартиру на единственного внука. Не на отца, так и жившего с матерью в однушке-малометражке, которую им когда-то сообща организовала материна родня и где прошло Николаево детство. Не на дядю Глеба, мотавшегося по общежитиям, а может, в очередной раз «присевшего». Именно на Николая. На своей памяти Николай был вообще единственным, кого бабушка признавала из своей малочисленной родни. «Николашечка» – эту карамельную вариацию своего имени он не выносил до сих пор. Лет аж до двадцати, хочешь не хочешь, Николай в обязательном порядке должен был провести у бабушки выходные. Он, вроде важной посылки, доставлялся отцом до порога (мать к бабушке не ходила никогда) и всю бесконечно длинную субботу и такое же длинное и тоскливое воскресенье обретался в громадной, как череда залов правительственных заседаний, и загроможденной, как мебельный склад, четырехкомнатной квартире на последнем, двенадцатом этаже неприступной, похожей на донжон, серой «сталинки» с могучим черным цоколем, не растерявшей своей внушительности даже на фоне новых многоэтажек по соседству. Дом был архитектурным памятником федерального значения и композиционным центром «жилкомбината» – комплекса жилых зданий, построенных в тридцатые специально для чиновников из областного правительства. При взгляде на чугунные ворота, перегородившие по-царски монументальную арку, легко можно было представить выезжающие со двора зловещие «воронки». А они-то сюда точно приезжали, причем именно за арестованными: комплект здешних советских царей не раз менялся и вычищался самыми радикальными мерами. Деду Николая, Климу Язову, второму секретарю обкома КПСС, невероятно повезло: его не коснулись никакие чистки. Бабушка (судя по фотографиям, в молодости очень красивая – яркой, но несколько тяжеловесной, бровастой казацкой красотой) была младше мужа лет на двадцать. Тем не менее в семье заправляла именно она. Сыновья перед ней трепетали. Отец, передавая Николая бабушке, ни разу не переступил порог квартиры. Дело было в том, что отец находился у бабушки в немилости с тех пор, как женился «на этой лахудре драной, твоей, Николашечка, матери». А женился он очень поздно, ему уж за сорок было. До того тихо жил в угловой комнате наверху сталинского донжона, бывшей своей детской, писал научные статьи про советских литературных классиков, получил кандидата, потом доктора филологических наук и был «хорошим мальчиком», покуда не влюбился в одну свою студентку – мать Николая. Брат отца, Глеб, к тому времени из семьи выбыл давным-давно, вроде как сам сбежал еще в студенчестве, бросив заодно с родными пенатами и вуз, в котором тогда учился. Бабушка про дядю Глеба вовсе не хотела слышать, только плевалась. У бабушки маленький Николай изнемогал от скуки: дома был видеомагнитофон, игривый рыжий кот, музыкальный CD-проигрыватель и нормальные книги, а в бабушкиных хоромах имелась лишь радиоточка, иногда вещающая насморочным голосом что-то неразборчивое, будто отголоски заблудившихся передач полувековой давности, со снотворными радиоспектаклями и унылым бренчанием рояля, да черно-белый телевизор, показывавший лишь два канала с новостями, перемежающимися рекламой. Был еще никогда не включавшийся проигрыватель грампластинок, у которого Николай иногда тайком от бабушки вращал пальцем диск, приподнимая тяжелую прозрачную крышку. И конечно, всюду, даже в коридоре и на кухне, стояли громадные шкафы с центнерами книг. Книги эти были нечитабельны. Недаром на корешках многих из них, в черных липких обложках, было написано лаконичное предупреждение: «Горький». Было еще много чахоточно-зеленых книг с кашляющей надписью «Чехов», толстенные серые тома закономерно назывались «Толстой», полно было разнокалиберного «Пушкина» – в общем, профессору литературы, автору многих монографий Людмиле Язовой так и не удалось привить внуку любовь к классике, а отец, тоже литературовед и профессор, даже не пытался. Самым интересным для маленького Николая оказались многочисленные шкафы с одеждой. Все они были заперты, и открывать их строго-настрого запрещалось, но однажды Николай подсмотрел, в каком ящике комода бабушка держит ключи, принес из дома игрушечный фонарик на слабенькой батарейке и стал играть в исследователя пещер, он даже знал, как эта профессия называется: спелеолог. Под коленками хрустели и проминались залежи картонных коробок с обувью, что не носилась уже десятки лет, лицо шершаво трогали полы тесно развешенных пальто. В шкафах было таинственно и чуть страшновато. Наиболее привлекательным для игры был встроенный, выкрашенный масляной краской в тон серым косякам, шкаф в конце коридора, трехстворчатый и высоченный, переходивший в недосягаемые антресоли. Николай долго не мог подобрать к нему ключ, а когда наконец удалось, перед ним открылась почти настоящая пещера, глубокая, с тремя рядами многослойной одежды на плечиках и какими-то дремучими сундуками внизу. Николай шагнул внутрь и прикрыл за собой дверцу, чтобы бабушка ничего не заметила. Замок тихо щелкнул, но Николай не обратил на это внимания – ключ-то был у него – и полез в недра шкафа. Фонарик светил очень тускло: садилась батарейка. Казалось, прошло много времени, прежде чем Николай добрался до задней стенки. Воняло здесь так, что слезы на глаза наворачивались: вездесущим нафталином от моли. У бабушки никогда не водилось ни моли, ни тараканов, ни клопов: любая живность избегала этой сумрачной, невзирая на огромные окна, квартиры, но бабушка все равно регулярно раскладывала свежие нафталиновые брикеты из своих запасов и ловушки для тараканов, брызгала дихлофосом в вентиляцию, забираясь по стремянке, так что в ванную и на кухню потом невозможно было зайти. Николай расчихался от шкафной вони – и тут фонарик погас: батарейка окончательно издохла. В кромешной темноте, путаясь в свисающей одежде, оступаясь на коробках, Николай полез в сторону выхода. Стукнулся об окованный угол сундука, заскулил: очень больно. К тому же захотелось в туалет. А дверь шкафа все не находилась. Кругом лишь топорщились жесткие полы старого шмотья, припасенного будто на целую роту, да ноги путались в сваленных как попало заскорузлых сапогах и калошах. Хныкая, Николай рванулся вперед и уперся в стену. Пошел вдоль нее, чудовищно долго перелезая через коробки и сундуки (мочевой пузырь уже едва не лопался), и тут выяснилось, что дверь шкафа заперта и ключ не вставляется: с обратной стороны скважины в замке не было. Наказывала бабушка сурово – могла и в угол поставить, и обеда лишить, и дедовым офицерским ремнем всыпать, но делать-то нечего. Николай стал со всей силы колотить в дверцы шкафа и кричать. Никто не отзывался. Время шло. Сначала он отбил кулаки и пятки, затем охрип от воплей и плача, и в конце концов обмочился. Сколько он тогда просидел в шкафу, осталось неясным. От духоты и вони начала кружиться голова. Именно тогда Николаю почудилось, будто он тут не один – тьма словно зашевелилась, повеяло затхлостью и плесенью, что-то отчетливо зашуршало в глубине, закачались, задевая макушку, бесчисленные пальто, хотя Николай давно сидел замерев, сжавшись в комок, привалившись плечом к злополучной двери. Кажется, что-то прохладное дотронулось до его лодыжки. Николай почти потерял сознание от страха. Таким его и обнаружила бабушка, когда отперла шкаф, – грубо выволокла за шиворот и коротко, как взрослого, ударила кулаком в лицо, аж зубы лязгнули. Она была бледно-серой, с дикими глазами. В первый и последний раз Николай услышал от нее, филологини, мат. – Ты что, совсем сдурел?! С тех пор к шкафам в бабушкиной квартире Николай не подходил. И отчаянно протестовал каждое субботнее утро – ненавистное утро очередной «ссылки». «Я туда не хочу! Сам туда иди!» Отец вздыхал: «Семейные дела – это долг. Твой долг – навещать бабушку. Ее сердить нельзя». Мать не вмешивалась. Николай часами сидел в углу дивана, на равном удалении от всех шкафов в гостиной, и пытался читать иллюстрированную энциклопедию про космос, но книга, такая увлекательная дома, здесь не затягивала. Подходил к окну, смотрел поверх высокого подоконника на улицу – в основном там было видно лишь небо, забранное решеткой. Решетки на окна бабушка заказала еще в самом начале девяностых – тогда ограбили соседей со второго этажа, залезли через окно, вынесли золото и документы. Едва ли какой-то сумасшедший акробат проник бы в квартиру через окна на двенадцатом этаже, но бабушка с тех пор боялась грабителей. Так появились эти толстые, частые, под стать тюремным, решетки и в придачу относительно новая входная дверь, тяжеленная, сварная, хоть на сейф ставь, запиравшаяся на три хитрых замка длинными ключами. В этом жилище, способном выдержать осаду, Николаю всегда очень плохо спалось. До происшествия со шкафом его лишь донимала бессонница, а темнота, такая простая и уютная дома, здесь казалась враждебной, с непонятными поскрипываниями паркета и мебели. Ну а после происшествия ночь с субботы на воскресенье вовсе превратилась в пытку. Постоянно мерещились шорохи. Оба окна (спал Николай в бывшей отцовской комнате) не были зашторены: когда бабушка уходила, он тут же отдергивал портьеры. С озаряющим потолок йодисто-рыжим светом близкого проспекта темнота не была настолько нестерпимой. Но все равно в углах – особенно заметно было боковым зрением – что-то явственно шевелилось. Николай пялился туда до сухости в глазах, почему-то уверенный, что пока смотришь, то, что там копошится, не нападет. Засыпал он под утро, когда с проспекта доносились трамвайные трели, а тьма в окнах истончалась до предрассветного сумрака. И каждое воскресенье проходило в отупении от недосыпа. В первые недели после случая со шкафом Николай умолял бабушку, чтобы та завела котенка или щенка, да хоть морскую свинку – отчего-то казалось, что в присутствии беззаботного пушистого существа ночи перестанут быть такими тягостными. Однако бабушка терпеть не могла животных. «Ни за что! Грязи от них! Мебель попортят! Не вздумай притащить кого – в окно выброшу!» С неясным, но очень взрослым чувством, в котором восьмилетке не под силу было распознать раздражение напополам с ненавистью, Николай оставил эту тему. Но однажды принес из дома отводок фикуса в горшке: бабушкины необитаемые подоконники с некрополями из громоздких статуэток, стопок пропылившихся «Октябрей» и мертвых настольных ламп нагоняли тоску. Через неделю Николай обнаружил растение засохшим и почерневшим, будто его специально выставили на мороз. Возможно, просто бабушка не закрыла на ночь окно, а к выходным здорово похолодало. – Ты вообще что-нибудь любишь, кроме вещей? – спросил тогда Николай. – Какой же ты неблагодарный! – оскорбилась бабушка. – В точности как твой отец! Я же все, все для тебя делаю! Для единственного наследника семьи Язовых она делала и впрямь немало: поспособствовала тому, чтобы троечника Николая перевели из затрапезной школы в элитную гимназию, к старшим классам нашла отличных репетиторов для поступления в вуз. Во времена студенчества стало проще: днем Николай учился, вечерами подрабатывал и на выходные приходил к бабушке отсыпаться. Детские страхи теперь казались глупостью. Впрочем, бабушкины шкафы Николай по-прежнему трогать остерегался. Он притаскивал ноутбук с играми и наушники – с таким оснащением «ссылка» сделалась вполне терпимой. Бабушка со своими причудами и горами старого барахла теперь выглядела скорее смешной, чем грозной. Ночами Николай спал и не видел никаких снов. До поры до времени. – Может, тебе разменять этот ангар на что-нибудь более компактное? – как-то раз вечером сказал он бабушке, сетовавшей на пенсию и дороговизну лекарств. – Тут же одна коммуналка жрет прорву денег. А еще гнилые трубы. И потолок вон сыплется. Купили бы две нормальные двухкомнатные квартиры – одну тебе, другую родителям, а я б в однушке остался – пока самое то. – Да ты сдурел?! – вскинулась бабушка. – Никогда я не продам эту квартиру, никогда! И ты не вздумай продавать! Это же наш дом! А дома, как говорится, и стены помогают… Той ночью Николаю приснился жуткий многослойный сон. Будто кто-то тянет его за руку с кровати, он открывает глаза и видит: его кисть обхватывают две маленькие ладошки. Детские руки. С косо отрубленными запястьями, сросшиеся местами срезов. Николай судорожно стряхивает пакость, резко просыпается, садится на кровати. И слышит дробный мелкий топот, будто по коридору бежит что-то маленькое и многоногое. Появляются на пороге эти сросшиеся детские ручки, шустро перебирают по паркету бескровными пальчиками… Николай вздрагивает, мучительно просыпается, потирает глаза. И снова слышит в коридоре легкий проворный топоток. Он вскакивает, матерясь, выбегает в коридор – совсем рядом дверь кладовки, а в ней, помимо прочего хлама, есть большой строительный лом, валяется возле самого порога. Тяжелым стальным прутом с загнутым наконечником Николай что было силы бьет мелкую нечисть, отчетливо слышит хруст тонких пястных косточек – а что потом, выбросить в мусорку?! Однако дрянь не хочет умирать и вдруг прыгает ему на грудь. Николай просыпается в липком холоднющем поту, от ужаса и омерзения его подташнивает. Тем утром он сразу запихал ноутбук в сумку, вежливо сказал ошарашенной бабушке «до свидания» («Да ты что, Николашечка, да ты куда?!») и вышел из квартиры. И не появлялся в ней больше десятка лет. Почему ему раньше не пришло в голову просто взять и уйти? Почему у него так поздно дало трещину это чертово гипнотическое повиновение взрослым? Конечно, отец негодовал, а бабушка без конца названивала по городскому телефону. Мать молчала. Двадцатилетний Николай усмехался, поводил раздавшимися плечами: «С меня хватит этих ваших семейных игр. Сами играйте. А у меня других дел полно». На этом все вроде бы закончилось. Скоро Николай съехал в съемную квартиру, в которой не было городского телефона, из родни общался только с родителями и полагал, что тоже, как отец, попал у бабушки в немилость (ну и наплевать, детских ночных бдений во имя родственной любви ему хватило на всю жизнь вперед). Годы шли, здоровье бабушки ухудшалось. Отец неоднократно передавал Николаю ее просьбу навестить. «Бабушка хочет сказать тебе что-то очень важное». Николай вежливо уверял, что непременно навестит, но даже не думал выполнять обещание. Объявился пропадавший где-то много лет дядя Глеб, принялся обхаживать отца на случай, если тому бабушка завещает свою огромную квартиру (у обоих братьев были подозрения, что их непримиримая мать отпишет квартиру государству). Николай во все это не вникал и даже на бабушкины похороны не пришел: как раз тогда, по счастью, улетел в длительную командировку. Тем удивительнее было, что по бабушкиному завещанию квартира со всем добром отошла именно Николаю. Сначала он предложил родителям переехать из однушки, пожить, наконец, с размахом, но те, вполне ожидаемо, отказались наотрез. Не отцу же с матерью горбатиться, делая в этой дыре ремонт, рассудил Николай и выставил квартиру на продажу. Прошла уже пара лет, но, удивительное дело, охотников на жилье в самом центре не находилось – ни покупать, ни снимать. Возможно, потенциальных покупателей или съемщиков приводил в ужас потолок, с которого отваливались глыбины штукатурки. Возможно, пугал статус памятника архитектуры, из-за чего, даже чтобы поменять старые окна на современные пластиковые, нужно было пройти череду сложных согласований. В квартиру Николай пришел перекантоваться, когда крупно поссорился со своей женой Иркой. Они долго жили вместе, мирно и вполне счастливо, и тут Ирку угораздило начать пилить его на тему «давай родим ребенка». Никаких детей Николай не хотел. – Слушай, ну тебе действительно так охота этот гемор? Двух котов недостаточно? – Не то чтобы охота… но пора ведь. Время-то идет. – И что? – В старости жалеть будем. – Да прямо уж. Тебе вот в самом деле хочется всей этой возни – таскать его в садик, в школу, воспитывать? – А что такого? – Ну вот он скажет: «Я не хочу в садик, там игры дурацкие. И в школу не хочу, сидеть пять уроков, свихнуться можно». А я ему скажу: «Ну и не ходи – ни в садик, ни в школу. Я и сам в детстве от всего этого говна чуть не спятил». И кто из него вырастет? Чтобы воспитывать, надо заставлять, понимаешь? А я даже котов заставить обрабатывать когтеточку вместо дивана не могу. Вопли, наказания. Не для меня вся эта тряхомудина. – Не думала, что ты такой инфантил. В общем, поссорились они всерьез. Ирка сказала, что пока хочет пожить одна, подумать, что делать дальше. Николай оставил ее в их съемной квартире, а сам пошел пожить в бабушкиной – может, хоть порядок там наведет, косметический ремонт сделает, глядишь, и найдутся на чертовы монументальные хоромы охотники. Не то чтобы он совсем не переносил детей. Просто действительно терпеть не мог на кого-то давить. И еще при одном слове «детство» в его сознании раскрывалась череда загроможденных мебелью сумрачных помещений, и вонь нафталина с дихлофосом, и бесконечные ночи с вглядыванием в шевелящуюся тьму. Первым делом Николай потратил несколько вечеров на то, чтобы вынести на помойку фантастическое количество старой одежды и обуви. Рассортировал книги, статуэтки и прочее барахло – что-то пойдет в антиквариат и букинистику, что-то на свалку. Вооружившись тем самым ломом из сна, с мстительным удовольствием разнес выгоревшие на солнце, просевшие шкафы во всех комнатах и отнес доски к мусорным бакам. Встроенный шкаф в коридоре пока оставил – на десерт. Расправляясь с жупелами своего детства, он, изумляясь самому себе, ощущал некое освобождение. Вот тогда-то к нему и пришел дядя Глеб. Видимо, узнал от родителей, что Николай сейчас живет в бабушкиной квартире. Телефон в хоромах давным-давно был отключен, как и домофон, даже дверной звонок Николай не включал в розетку (на площадке, кроме бабушкиной, было только две квартиры, и обе необитаемые: жильцы-старики давно умерли, наследников не объявилось, а кровля там была в аварийном состоянии, и все не решался вопрос с реставрацией). Так что Николай очень удивился, когда кто-то принялся барабанить в дверь. Дядя Глеб в свои семьдесят с лишним выглядел куда хуже отца – тощий, весь какой-то желтый. Хотя до сих пор они были похожи. Оба смахивали на актера Тихонова. Потому-то мать в отца когда-то и влюбилась: по стародевическим коридорам филфака курсировали лишь тетки, а тут вдруг такой Штирлиц. Тихоновская внешность досталась и Николаю. – Хлам выкидываешь? – первым делом кивнул дядя Глеб на сваленные у порога туго набитые мусорные мешки. – Поверь, все дерьмо из этой квартиры вовек не выгребешь. – Зачем пришел? – не слишком дружелюбно спросил Николай. Дядю Глеба он видел редко и знал плохо. Судя по скупым рассказам родителей, тот время от времени сидел за что-то в тюрьме. Видимо, в тюрьме же его ударили в горло заточкой: в артерию не попали, но повредили голосовые связки, из-за чего дядя Глеб не столько говорил, сколько сипел. Если честно, Николаю хотелось просто вытолкать его за порог. – По делам семейным пришел, – ответил дядя Глеб, щербато улыбаясь. – Нехорошо, видишь, получилось. Тебе целая квартира досталась… – Деньги, что ли, нужны? – скучно спросил Николай. – Вот продам я эту долбаную квартиру – отсчитаю тебе треть. Треть будет родителям, треть мне. Все честно. – С ума сошел – продавать? – Ну а чего тебе еще надо-то? – Отпиши мне квартиру, а? Все равно тебе эти деньги счастья не принесут. Вот теперь желание вытолкать наглого родственничка прочь подавить было очень трудно. Николай рефлекторно сжал кулаки. – Прям всю квартиру тебе одному? Рожа-то не треснет? С какой радости вообще? – Я хочу умереть здесь. – Так я тебе и поверил. Давай-ка уходи по-хорошему, а то выпровожу. Конечно, Николай был выше и сильнее тощего старика, но на миг у него мелькнуло опасение, что, может, дядя Глеб в тюрьме тоже навострился пользоваться заточкой и выхватит ее откуда-нибудь из-за пояса в нужный момент. Бред, конечно… – Давай-ка я тебе кое-что расскажу. – Дядя Глеб тем временем стащил башмаки и, скрипя паркетом, направился в сторону кухни. – Сам поймешь, нельзя продавать эту квартиру. – Расскажи хоть, за что тебя бабушка так ненавидела. – Николай пошел следом. – За то, что из дому сбежал? И учти, халабудину эту я все равно продам. Соглашайся на треть, пока предлагаю. Потом вообще хер получишь. Кухню Николай разобрать еще не успел. Дядя Глеб открыл угловую тумбочку возле отключенного допотопного холодильника «ЗИЛ Москва», безошибочно выудил из глубины бутылку водки с пожелтевшей от времени этикеткой. Николай заглянул внутрь и присвистнул: в тумбочке стоял солидный запас спиртного еще с советских времен. – И ты это будешь пить? Она ж древняя, как говно мамонта. – А чего ей сделается? – хмыкнул дядя Глеб. – Ты садись и слушай.* * *
В сорок пятом году Людмила – тогда никакая не Язова, не филолог, а дочь раскулаченных, робкое зашуганное существо – устроилась работать уборщицей в ДК при жилкомбинате. В ДК был небольшой самодеятельный театр, одна из актрис разглядела своеобразную красоту девушки. Так Людмила стала появляться на сцене в эпизодических ролях и заодно начала знакомство с классической литературой. На сцене ее увидел высокопоставленный партиец Язов. Мужа, годившегося ей в отцы, скучного, с жирными отвислыми телесами, Людмила, конечно же, не любила, едва терпела. Но она без памяти влюбилась в квартиру, куда муж ее привел. Влюбилась в огромные комнаты, в красивую мебель и посуду, в центральное отопление и горячее водоснабжение, в роскошную ванную, в послушание домработницы, в сытость, надежность и безопасность. Здесь она наконец распрямилась, осмелела, почувствовала вкус к жизни. Детство ее прошло на Колыме, откуда она, осиротев, уехала на товарном поезде. Четырехкомнатная квартира наверху великолепной высотки стала любовью всей ее жизни – ради этой любви можно было перетерпеть ночи, когда на нее наваливался брюхом неприятный чужой мужик. Своих детей она не любила тоже – тройню было тяжело носить, тяжело рожать, дети гадили на красивое чистое белье, позже портили прекрасные обои и ломали подаренные отцом чудесные дорогие игрушки, о которых Людмила в детстве даже мечтать не смела. Смешанные чувства у Людмилы вызывал приятель мужа – один из начальников местных органов безопасности, довольно молодой, весьма привлекательный, с приветливой, свойской улыбкой. Глядя на него, Людмила смутно подозревала, что где-то в мире бывают совсем другие отношения – где мужчину можно любить и даже желать. Офицеру Людмила, видать, тоже нравилась, потому что однажды он предупредил ее о том, что против ее мужа ведется расследование. Вроде как, прежде чем войти в обком, Язов тоже служил в органах и там фабриковал дела, чтобы арестовывать состоятельных людей. На дворе были 50-е, еще сталинские, и расстрелять по таким обвинениям могли запросто. Что станется с семьей расстрелянного, можно было не гадать, все это Людмила видела в детстве. С квартирой точно придется распрощаться, и от страха потерять любимый дом хотелось плакать. Друг семьи сказал, что повлиять на ход расследования уже не сможет, распоряжение спущено из самой Москвы, но, выдержав странную долгую паузу, понизив голос, добавил, что может подсказать надежный способ защититься от надвигающейся напасти. Если Людмила готова чем-нибудь пожертвовать. Так и сказал. Потом он долго вез ее куда-то на своей машине. Людмила предполагала, что придется с ним переспать, и даже смешно было – ну какая жертва, уж это-то она с удовольствием. Однако офицер привез ее на самые зады частного сектора с покосившимися серыми заборами. В последнем доме (дальше дорога уходила к убранным черным полям и сизо-зеленому мрачному сосняку) жила бабка. Людмила и раньше про нее слышала – к ней ездили жены партийцев выводить плод или решать еще какие-то женские дела. – Вы мне, наверное, ничем не сможете помочь, – обреченно сказала Людмила. Она зашла в избу скорее затем, чтобы не обижать друга семьи, везшего ее в такую даль, а не потому, что надеялась на что-то. – Совсем не любишь ты никого, – по-доброму улыбнулась бабка, вся круглая, румяная, как пирожок с луком, – тарелку этих пирожков она сразу сунула Людмиле. – Это хорошо, что не любишь. Тебе будет проще. – Я дом свой очень люблю, – призналась Людмила. – Вот и славно. Дом тебе и будет помогать. Вышла Людмила от бабки тихая и очень спокойная. Офицер ни о чем не стал ее спрашивать, молча довез до дома. Спустя несколько дней пропал Гриша, самый задумчивый и незаметный из троицы язовских сыновей. Как это случилось, уму непостижимо: мальчики не покидали огороженного со всех сторон и охраняемого двора. Язов не сразу заметил исчезновение сына – он впал в немилость у высокого начальства, назревали воистину смертельные проблемы, так что когда жена сообщила ему ровным голосом, что обратилась в милицию по поводу исчезновения Гриши, то обкомовец лишь наполовину вник в то, что ему говорили. Пропажа сына (самого тихого из троих, на которого он и внимания-то особого не обращал) была далеко не худшим из того, что могло произойти в ближайшее время. В квартиру приходили милиционеры, задавали испуганным мальчикам разные вопросы. Прислугу Людмила рассчитала еще в тот день, когда приехала от бабки. Нечего посторонним в делах семейных путаться. Геннадий, уже в ту пору зачитывавшийся книжками, конечно, ничего подозрительного не заметил. А вот Глеб, еще только учившийся с большой неохотой читать, был зато наблюдательным, сметливым, кроме того, в последние ночи стал почему-то очень плохо спать. Он и заметил, что мать каждую ночь проходит по коридору туда и обратно. Каждый раз чуть слышно поскрипывали петли шкафа. Ловкому Глебу оказалось нетрудно проследить, что мать, возвращаясь, прячет ключ под отломанную досочку паркета возле кровати. Выждав, Глеб прокрался в самый конец коридора, к огромному встроенному шкафу с антресолями, и услышал что-то вроде тихого сдавленного поскуливания, словно в шкафу заперли маленького щенка. Семилетний Глеб подумал, что там действительно щенок. Промаявшись весь день, он решил спасти зверька и следующей ночью, уже под утро, прокрался в родительскую спальню, чтобы взять ключ. Мать спала крепким сном человека с непробудно спящей совестью. Глеб забрал из детской припрятанные от родителей спички и свечку для игр во дворе и пошел отпирать шкаф. Медленно и осторожно вставил ключ, повернул в замке. Внутри уже никто не скулил. В предрассветном сумраке, закравшемся в коридор, открытая дверь шкафа дышала жуткой бездонной чернотой и концентрированной вонью – разило брикетами от моли, почему-то туалетом и еще чем-то тухлым, тошнотворным. Глеб достал из кармана коробок, начал чиркать спичкой. Руки сильно дрожали. Наконец зажег свечу. – Песик, ты где? Глеб шагнул в шкаф, вытягивая вперед руки, отводя полы пальто от свечи – еще не хватало пожар устроить. Золотистый свет выхватил на дне шкафа тощие детские ноги, связанные в лодыжках. Глеб шагнул дальше, наклонился. На него смотрел брат Гриша. Страшный, с невменяемыми глазами и плотно завязанным ртом – а самое дикое, кисти рук у брата были отрублены и аккуратно лежали рядом. Культи были тщательно забинтованы. Глеб заорал и выпрыгнул, да что там, просто выпал назад из шкафа, ударившись копчиком. Свечка упала рядом, брызнув парафином, огонек вытянулся к потолку. Тут же появилась мать, лицо у нее было незнакомое, похожее на маску. – Если хоть слово кому вякнешь, – прошептала она, – я тебя тоже убью. И Глеб ей сразу поверил. Безоговорочно. Мать подняла свечу, задула ее, сковырнула уже подсохшую лужицу парафина. – Ключ. Глеб отдал ей ключ, не чувствуя собственной руки. – Марш к себе. Тут Глеб наконец потерял сознание. Очнулся он утром, в детской, и первой мыслью было, что ему просто приснился кошмар. Глеб подошел к шкафу в коридоре, подергал дверь. Заперто, как всегда, впрочем. Когда Глеб был помладше, то иногда путал сон и явь, и сейчас почти успокоился. Приснилось, конечно. И тут взгляд его упал на крохотную лунно-белую капельку парафина на паркете, которую ночью не заметила мать. Тяжелый ком страха набух в солнечном сплетении, распустив по телу ледяные щупальца. «Папа, а ведь Гриша у нас в шкафу лежит», – хотел сказать Глеб за завтраком. Но мать, поджав губы, смотрела на него, ее рот был похож на узкую щель, прорезанную ножом. Язов-старший поглощал бутерброды с колбасой. Глеб промолчал. «Я правду говорю! Поди посмотри! У него рот вот так завязан, и рук нет, ему очень больно!» – хотел крикнуть Глеб отцу, но все жевали, будничное яркое солнце светило в огромное белое окно, и Глеб снова струсил. Может, все-таки померещилось? Может, там никого нет? Так и жил Глеб дальше, не понимая толком – впрямь было или почудилось?.. Действительно ли он тогда струсил или просто не стал пороть чепуху? В пользу того, что брат Гриша на самом деле долго и мучительно умирал в шкафу, связанный, с отрубленными руками, свидетельствовала особенная, неизбывная холодность матери. А еще Глебу стали сниться кошмары, в которых отрубленные руки брата бегали на пальчиках по дому, будто диковинные насекомые. Расследование относительно прошлого Язова прекратилось – двух главных его недоброжелателей нашли задушенными, с загадочными маленькими следами на шее, будто душил ребенок, но со зверской недетской силой. Так дело затухло, и больше Язова не трогали. Людмиле обычно не припоминали кулацкое происхождение, даже когда перерывали ее биографию перед тем, как присвоить ей очередную ученую степень, а те немногие, кто припоминал, долго потом не жили. Так бы и осталось все это чередой случайных совпадений, если бы Глеб не оказался единственным из родственников, кто навестил Людмилу Язову перед ее смертью. Ему-то она все и рассказала. Ведь шестьдесят с лишним лет тому назад бабка строго предупредила ее, что обязательно надо будет кому-нибудь из родни поведать тайну дома, иначе после смерти случится нечто куда хуже, чем сама смерть.* * *
– Мать говорила, он до скончания веков будет теперь защищать домашних. А если захочется его спровадить, ну, совсем, чтобы не защищал и не приходил больше, то надо, мол, принести жертву. Запереть кого-нибудь из родичей надолго наедине с ним. Тогда он насытится родственной кровью и оставит семью. Чужая кровь его досыта не накормит… Дядя Глеб выглядел ужеосновательно пьяным и заплетающимся языком нес околесицу. – Так, ладно, – сказал Николай. – Семейное предание просто зашибись, всегда подозревал, что у бабушки крыша не только в прямом смысле протекает, но и в переносном. Мне хлама еще до фига отсюда вытаскивать, дел по горло. Собирайся и уходи. – Отпишешь мне квартиру? – снова спросил дядя Глеб. – Щас, разбежался. Все, разговор окончен. Иди проветрись. Дядя Глеб, сгорбившись, пошел к выходу. – Ты это, подумай. У тебя еще есть время. Николай с силой захлопнул за ним дверь. Тишина огромной старой квартиры обрушилась, как лезвие топора, отсекая все звуки. Шумоизоляция здесь всегда была что надо, не говоря уж о том, что нижние этажи, возможно, тоже пустовали. Невольно вспомнился кошмар времен студенчества, после которого Николай навсегда прекратил вынужденные походы в гости к бабушке – что там было-то?.. Отрубленные детские руки, бегающие на пальцах по полу?.. Николаю сделалось жутко. И тут он услышал, как с глухим клацаньем поворачивается ключ в замке. В первом, затем во втором, в третьем. Второй и третий можно было открыть только снаружи. У дяди Глеба оказался комплект ключей. Похоже, получил от умирающей бабушки… Николай, криво усмехаясь – вот так шутку устроил поганый родственничек, за такую выходку не грех и морду как следует набить, – принялся искать смартфон. Сейчас позвонит родителям. В крайнем случае можно им ключи из окна кинуть, на асфальте найдут, или в службу спасения позвонить, или… Смартфона нигде не было. Николай точно помнил, что оставил его на кухонной тумбочке. Дядя Глеб унес смартфон с собой. Приступ паники был оглушающим. Николай и не помнил, когда в последний раз так пугался. Разве что во время треклятых ночевок у бабушки. – Так… Николай сел на продавленную кушетку, потер ладони. Он в самом центре большого города, пусть и запертый в квартире. Родители его точно начнут искать, если не дозвонятся. Но прежде пройдет несколько дней. Вода в доступе, а вот еды мало. Должен быть какой-то способ выбраться отсюда побыстрее. Стучать в дверь, орать бесполезно – этаж нежилой, никто не услышит. Поколотить по трубам, по батареям? Вот это вариант. Может, кто-нибудь снизу всполошится… а может, всем будет наплевать. Окна забраны прочными решетками, балкона нет. Открыть окно и поорать? Услышит ли кто – двенадцатый этаж… Фантазия Николая дошла уже до того, чтобы повыдергивать страницы из книг, написать на каждой «Я заперт в квартире №… помогите!» и сбросить эти листовки вниз. Но начать он решил с попытки раздолбать стену возле дверной коробки. Дом ветхий, штукатурка пластами отваливается, на десятом этаже пару лет назад выпала оконная рама, даже по местным новостям передавали, – может, и дверь выпадет из проема? Николай вооружился ломом, покрепче перехватил толстый железный прут и как следует шарахнул по относительно новой штукатурке возле двери. Та быстро поотваливалась, обнажились темно-бордовые, будто на крови замешанные, кирпичи и бетон. Последний, родом из 90-х, оказался, зараза, на удивление прочным, а сталинские кирпичи и вовсе были как камень. Скоро Николай выдохся. За окном темнело. Он распахнул рамы в гостиной и принялся орать, вцепившись в решетку, пока не охрип и не выстудил комнату. Гудел поблизости проспект. Редкие прохожие в переулке даже не поднимали головы. Вот тут Николаю стало уже по-настоящему страшно. «Спокойно», – приговаривал он про себя, бродя по комнатам и потирая плечи – дремучие батареи все никак не справлялись с затекшим с улицы холодом. Надо проделать номер с листовками из книжных страниц. Если листовки будут сыпаться постоянно и в большом количестве, кто-нибудь наверняка заинтересуется. Но сначала надо поесть… Вдруг Николай понял, что боится выключать свет в комнатах и особенно в коридоре. Окна уже налились темной морозной синью. Ругаясь во весь голос, чтобы заглушить нестерпимую жуткую тишину, оставив включенными везде лампы, он пошел на кухню. Подумав, включил и старое проводное радио – к счастью, оно еще работало, даже вещала радиостанция с каким-то политологическим бухтежом. Николай жевал крекер, запивая водой, когда радио вдруг умолкло. Тишина была чудовищной. – Сука, ну взрослый мужик же, – громко сказал себе Николай. – Ну какого хера так ссаться? Схватил прислоненный к ножке стола лом. С ним Николай, как начало темнеть, не расставался: потребность хоть чем-то вооружиться оказалась инстинктивной, на ней сбоил здравый смысл. Выйдя из кухни в коридор, Николай первым делом увидел на стене оборванный провод, что питал радиоприемник. И через миг услышал тихий дробный топоток в ближайшей комнате. От ужаса ноги ослабели. Николай уставился на двери встроенного шкафа. Они были закрыты. Да и вряд ли дрянь вылезла оттуда – судя по тому, что она способна достать чиновников в Москве, перемещается она не столько перебежками, сколько это… телепортацией. И если она переместится к счетчику и вырубит свет… У щитка Николай простоял всю ночь. Переминался с ноги на ногу, перехватывал лом и прислушивался. В комнатах шла некая загадочная деятельность – там тихонько, быстро топотали, скрипели мебелью. Несколько раз Николай был почти уверен, что увидел высунувшиеся из-за косяка маленькие бледные пальчики – будто щупальца или зрительные органы неведомого существа. Один раз что-то холодное отчетливо коснулось шеи, будто проверяя пульс, – Николай подпрыгнул и закружился на месте. Чуть сам щиток не зацепил. К утру, когда побледнели окна, Николай был совершенно мокрый, всклокоченный и выдохшийся – никогда в жизни он так не уставал. Должно быть, именно так ощущал себя Хома Брут после первой ночи в запертой церкви. Только у Николая не было защитного круга, да и поможет ли здесь начерченный на полу круг и молитвы? – Наверняка все это развод для лохов, – истерически хохотнул Николай. – И круг, и молитвы. Ну что, дрянь, утро настало, посмотрим, как ты устроилась? Он направил лом загнутым концом вниз и со всего маху саданул по двери шкафа. Доски проломились – лом прошел насквозь. С воплями Николай разнес шкаф и антресоли заодно, повышвыривал пальто, вешалки, старые башмаки, вдребезги расколотил сундуки – у тех только края были окованы железом, а так – картон с клеенкой. Больше в шкафу ничего не обнаружилось. На минуту Николаю показалось, что он просто слетел с катушек от страха, когда оказался запертым, и все ночные ужасы ему примерещились. Но взгляд его упал на доски на дне шкафа – грубые, неровно уложенные. Он снова замахнулся ломом. Труп лежал в нише под толстым дощатым настилом. Маленький, высохший, в сандалетках, матроске и синих штанишках. Личико – череп, копна светлых волос. Вот волосы были как живые, будто и не прошло более полувека. Кисти рук у мертвого мальчишки были отрублены. И рядом их не обнаружилось. – Так-так, – пробормотал Николай, таращась на мертвеца как загипнотизированный. Читал он о подобных обрядах. Человеческая жертва дому бытовала во многих культурах мира, и у европейцев тоже: те как раз замуровывали в стенах замков маленьких детей, чтобы замки стали неприступными для врагов. До сих пор в стенах старинных построек в разных концах земли то и дело находят людей, некогда замурованных заживо. Еще не столь давно считалось, что душа замурованного становится духом-хранителем дома. Перезахоронить его, что ли, подумал Николай, может, отвяжется? В этот миг заскрежетал ключ в замке. В первом, втором, третьем. Николай бросил лом в нишу с трупом, спешно надел куртку, шапку. В кармане куртки лежали его собственные ключи. – Ну что, надумал переписать на меня квартиру? – просипел в приотворившуюся дверь дядя Глеб. – Надумал, – громко сказал Николай. – Перепишу. – Я так и знал, мы уладим наши дела тихо, по-семейному, – обрадовался дядя Глеб. Дверь он открыл, но стоял поодаль. Опасался приближаться. – Вижу, ты уже одет. Молодец, Коля. Выходи давай, прямо сейчас пойдем к нотариусу. Всю жизнь, почитай, у меня дома своего не было. Хоть на старости лет поживу как человек… – Телефон верни, – сказал Николай. – Ты выйди сначала. – Пожалуйста, отдай телефон, мне жене позвонить надо, она волнуется. Волновалась ли Ирка? Вряд ли. Наверняка даже не думала звонить. Крупно они поссорились… Об этом думал Николай в то долгое-долгое мгновение, пока дядя Глеб доставал из кармана смартфон и протягивал ему. И вот тут-то Николай крепко схватил старика за запястье двумя руками – в точности как детские ладошки обхватили его собственную руку в памятном сне. Телефон, конечно, выскользнул из пальцев дяди Глеба, упал на советскую плитку, выложенную затейливым охристо-багряным узором. Сразу отлетела крышка и кусок корпуса. Николаю было плевать. Он рванул дядю Глеба на себя и толкнул в квартиру. Тот свалился на пол, дико оглянулся. Николай уже захлопнул тяжелую дверь, навалился на нее, прыгающими пальцами достал из кармана ключи. Первый замок. Второй. Третий. Последние два можно отпереть только снаружи. Интересно, хватит ли у дяди Глеба фантазии сделать листовки из книжных страниц? Или, прежде чем он сообразит что-то подобное, тварь с ним расправится? Насытится, чтобы уйти наконец в свое замирье, или небытие, или где подобная дрянь обитает… – Ты вроде трепался, что хотел бы умереть в этой квартире? – тихо спросил Николай у запертой двери, прежде чем развернуться и уйти. – Давай, вперед. Разбирайтесь там между собой. Тихо, по-семейному.Максим Тихомиров Младенец Сидоров
* * *
Транспортники приехали, как всегда, не вовремя. Марк как раз просунул ладонь под резинку Сонечкиных стрингов – а то, что это стринги, стало понятно еще до того, как Сонечка выскользнула из платьица, оставшись в одних чулках. Марк успел запустить руку под это легкое, в черно-красных маках, платье прежде, чем кончилась первая бутылка полусладкого, и уже насладился приятной упругостью Сонечкиной попки. Кончиками пальцев он ощутил шелковую гладкость узкой полоски ткани между чуть шершавыми от раннего целлюлита ягодицами пятикурсницы. Он как раз добрался до призывно-влажного тепла возбужденного девичьего лона – и тут над дверями в секционный блок противно задребезжал звонок. Сонечка, вздрогнув, отпрянула, выворачиваясь из-под Марка, сдвинула ноги, отрезая доступ к вожделенной щели, и рефлекторно потянула на себя простыню, пряча под нею остренькую грудь, вздымавшуюся от неровного из-за возбуждения дыхания. Лифчик так и остался висеть на спинке стула поверх небрежно сброшенного несколько минут назад платья; попыток одеться Сонечка не сделала. Это было хорошим знаком. – Это что? – спросила Сонечка и, понимая, что сморозила глупость, захихикала чуть виновато, спрятав лицо за бокалом с вином и совершенно очаровательным образом выглядывая теперь из-за него. В бокале отражался огонек ароматической свечи, которую Марк зажег для пущей романтики – ну и чтобы заглушить ароматом чайной розы привычные для него запахи формальдегида, лизола и хлорки с легкой ноткой сладковатого запаха тлена. Вино светилось мягким рубиновым цветом, подсвечивая теплой краснотой половинку Сонечкиного лица и белокурые локоны, упавшие вдоль пухлой, покрытой легким пушком щеки. Быть глупенькой Сонечке очень шло. Вполне соответствовало облику. Марка это устраивало. – Это работа, детка, – вздохнул он, с сожалением скатившись с разложенного дивана и натягивая штаны и блузу хирургической пижамы. Штаны предательски натянулись в паху, словно поднятая на опорном шесте палатка цирка шапито. Марк чертыхнулся и руками полез в штаны. Сонечка прыснула, глядя, как Марк воюет со вздыбленным хозяйством, устраивая его в боксерах так, чтобы возбуждение не слишком бросалось в глаза. – Не задерживайся там, милый, – мурлыкнула Сонечка, явно довольная произведенным на физиологию Марка эффектом, и кокетливо пригубила из бокала, не забыв облизнуть влажно-блестящие губы очаровательно-розовым язычком. Простыня словно ненароком сползла с покатого девичьего плечика, обнажив грудь. Сонечка усиленно делала вид, что этого не замечает: наращенные ресницы трогательно ходили вверх и вниз плавными взмахами. Что-что, а строить глазки Сонечка умела – Марк оценил это еще вчера, когда новая группа студентов-пятикурсников прибыла на кафедральную базу, расположенную в бюро, для прохождения секционного курса. Марк, по просьбе ассистента кафедры Орлова знакомивший студентов с устройством морга, сразу обратил внимание на недвусмысленные знаки, которые подавала ему привлекательная блондиночка, и в перерыве подкатил в курилке с предложением устроить индивидуальную экскурсию по бюро в нерабочее время – само собой, с посещением закрытых для простых смертных зон. Разумеется, Сонечка тут же согласилась. Кто бы сомневался? – Я скоро, – бросил Марк, впрыгивая в зеленые, под цвет пижамы, кроксы. Уже на ходу он залпом влил в себя остаток вина из граненого стакана – бокал в его вотчине случился только один, а посему достался прекрасной даме – и вышел за дверь санитарской как раз тогда, когда звонок издал длинную, явно раздраженную уже ожиданием трель. – Иду-иду, торопыги, – проворчал Марк, шагая к задним дверям морга по тускло освещенному коридору, пронзающему насквозь весь секционный блок. Под ногами слабо плескали лужицы воды – то ли конденсат с водопроводных труб, то ли утечка из древних, остывших за лето радиаторов отопления. В воздухе висел ровный гул – в дежурном режиме работала вытяжная система. Пахло сыростью, мышами и – совсем чуть-чуть – тлением. Запах немного усилился, когда Марк миновал здоровенные, как в бомбоубежище, стальные двери трупохранилища. Теперь по сторонам тянулись оцинкованные двери холодильных камер, над каждой из которых горела неяркая лампочка за обрешеченным плафоном. На плафонах красовались кособокие цифры от единицы до шестерки, нанесенные бог весть когда красно-багровым лаком для ногтей, изрядно пооблупившимся от времени. Внутри плафонов толстым слоем лежали дохлые, невесть как залезшие туда мухи, среди которых вяло шевелились здоровенные, едва ли не в палец, черно-оранжевые жуки-мертвоеды. У Марка еще с первого курса медицинского при одном только их виде бежал по спине леденящий холодок омерзения и шевелились волосы на голове.* * *
Тогда, полный энтузиазма и желания помогать людям, он еще только начинал постигать всю нелицеприятную премудрость взрослой жизни. Его все еще распирала гордость от того, что вот еще немного, еще чуть-чуть, каких-то еще пять с небольшим лет – ведь этот сентябрь уже перевалил за середину, – считай, семестр уже летит к концу, а там уже Новый год и снова вошедшее в моду Рождество – и вот уже и первый курс позади! – и он будет принят в таинственный орден настоящих докторов, и никому его не остановить, и жизнь будет радовать и удивлять каждый божий день, и будет она осенена великой миссией служения людям… Какой наивный бред. Иногда Марк скучал по себе тогдашнему – восторженному, открытому, готовому отозваться на чужую беду, верящему в людей и доверяющему людям. Как же давно это было… Сентябрь в тот год выдался замечательный. Лето продлилось еще на один месяц – днем жара доходила до тридцатиградусной отметки, ночи были теплыми, но отопление все равно включили на третьей неделе, согласно графику ЖКХ, и теперь в аудиториях было нечем дышать от удушливой жары. Все окна были открыты настежь, впуская в учебные комнаты и лекционные залы горячий, пахнущий разогретым асфальтом воздух – и омерзительно липкую трупную вонь, которая осязаемым облаком накрыла весь институтский городок. Судебный морг, который располагался в цоколе морфологического корпуса института, пребывал в наиплачевнейшем состоянии. Время было лихое, бандитское и безденежное. Судебные эксперты в свободное от вскрытий время мрачно сколачивали гробы в спешно созданном при Бюро судебно-медицинской экспертизы кооперативе. Предпринимались попытки официального введения платных услуг, нелепые и неуклюжие по неопытности, и денег едва хватало на зарплаты сотрудникам – ровно настолько, чтобы народ не разбегался в поисках лучшей жизни. Поэтому ни о ремонте, ни об обновлении оборудования, включая холодильники трупохранилищ, речи не шло. Надо ли говорить, что в сентябрьском зное морг благоухал? Сладковатый запах полз по этажам, перетекая по лестницам, коридорам и аудиториям, заполняя каждую кладовку и чулан. От него не было спасения. Горе-строители, спешившие сдать морфологический корпус к сроку еще при прежнем политическом режиме, впопыхах «забыли» вывести вентиляционные шахты на крышу. Они слепо завершались на четвертом этаже из пяти построенных, гоня подвальный смрад из судебно-медицинского морга прямиком на кафедру анатомии, где и начинали свое знакомство с процессом получения высшего медицинского образования совершенно необстрелянные еще жизнью первокурсники. Сентябрь пах смертью. От запаха не спасало ничто. Проветривание лишь делало удушливую атмосферу гниения еще более густой, добавляя к концентрированной вони внутри помещения не менее плотные, почти до физической осязаемости, миазмы с улицы. Запах лип к одежде и волосам, приставал к коже, ложась на нее незримой вонючей пленкой чужой смерти. Избавиться от него удавалось только приняв душ и забросив в стирку все вещи, в которых приходилось ходить на учебу, – до следующего учебного дня. Запах смерти зловонным облаком висел над институтским городком в знойном полуденном безветрии. Когда в аудиториях преподаватели переходили от теоретического опроса к практическим занятиям и из заполненных формалином ванн извлекались фрагменты человеческих тел с отпрепарированными органами, сосудами и нервами, студенты вздыхали с облегчением – режущие глаза испарения раствора формальдегида были глотком свежего воздуха в сравнении с ароматами разложения из хранилищ в подвалах. Вместе с запахом появлялись мухи. Жирно лоснящиеся, довольно потирающие нечистые лапки, сыто блестящие на солнце зеленью и синевой туго набитых брюшек, они неустанно кружили под потолками, сидели на стенах, ползали по раскрытым на изучаемых темах страницам атласов, отмечая свой путь коричневатыми лужицами экскрементов. На мух Марк научился не обращать внимания, сумев преодолеть природную брезгливость. Он просто принял условия игры, заставив себя поверить кинговскому постулату о том, что отмыть можно любое дерьмо – и мушиное в том числе. А вот с отвращением к жукам сделать он ничего не мог. Жуки были хуже всего. Они были по-своему красивы. Большие, с палец длиной, толстые, угольно-черные, с ярко-оранжевыми поясками поперек надкрыльев и брюшка, жуки копошились в пространстве между рассохшихся, давно не крашенных оконных рам, деловито роясь в толстом слое из дохлых мух и трупов собственных сородичей. В каждом окне их были сотни и тысячи – живых и мертвых. В тишине, наполнявшей аудитории в моменты, когда первокурсники с головой уходили в увлекательный процесс познания анатомии человеческих тел, было явственно слышно зловещее шуршание, с которым живые жуки протискивались сквозь толстый слой своих мертвых предшественников. Шр-шр-шр… Этот звук еще долго преследовал Марка после окончания первого курса, и после второго, и даже когда он бросил институт после четвертого, с головой окунувшись в бурный океан коммерции, – даже тогда по ночам он еще долго просыпался, чувствуя, как волосы по всему телу встают дыбом от приснившегося «шр-шр-шр…». Все как в первый раз. Тогда, без малого пятнадцать лет назад, он, безнадежно опаздывая на занятия, взлетел по лестнице на кафедру анатомии и с разбегу плюхнул на заскорузлый от множества покрасок подоконник коридорного окна тяжеленную сумку с учебниками, атласами, сменной обувью и изрядно помятым, несмотря на все усилия сложить его аккуратно, халатом. Побросал на пол сплющенные в лепешку дешевенькие дерматиновые тапочки, гордо именовавшиеся в медторге «медицинскими», и заплясал на одной ноге, сдирая с другой туфлю. Он полностью сосредоточился на исполнении этого акробатического номера, когда на периферии зрения заметил какое-то движение – некое размеренное и неторопливое шевеление совсем рядом. Марк, скользнув глазами по увешанным обучающими стендами стенам, сфокусировал на этом шевелении взгляд. И оцепенел. Шорох он услышал гораздо позже. Сперва он услышал звон. Звон – высокая пронзительная нота – заполнил все пространство под вставшими дыбом волосами, под натянувшейся до ледяной хрупкости кожей на голове Марка, под сводом его вмиг опустевшего черепа – и длился, длился, длился… Длился все то бесконечное мгновение, пока Марк, парализованный бессознательным животным ужасом, словно крошечное млекопитающее под гипнотизирующим взглядом хищной рептилии, изо всех сил пытался и все никак не мог отвести взгляд от шевелящейся перед самым его лицом черно-оранжевой массы. Жуки, неутомимо перебирая лапками, скребли о стекло, производя неслышный пока из-за звона шорох. Их украшенные лохматыми антеннами головы с невыразительными жучиными лицами были обращены к Марку. Казалось, они внимательно разглядывают его сквозь стекло своими крошечными фасетками, оценивая, прикидывая в своих запрограммированных природой жучиных мозгах, на сколько поколений личинок хватит Маркова тела, если его как следует прикопать в рыхлой земле, щедро сдобрив коктейлем из собственных слюны и экскрементов для лучшей сохранности, и обложить ячейками заботливо отложенных яиц – а потом ждать, пока из них не вылупится потомство, и долго-долго кормить личинок разлагающейся Марковой плотью, которую жуки, как настоящие чадолюбивые родители, станут спрыскивать отрыгнутым пищеварительным соком из своих желудков, чтобы будущим поколениям мертвоедов было проще переварить его большое и вкусное тело… Их разделял лист оконного стекла, толстого, не особенно ровного и давным-давно – уборщицы получили расчет и были уволены по сокращению штата еще весной – не мытого. Засиженного мухами и разрисованного выцветшей помадой: сердечки, стрелы, гениталии и надписи, разумеется надписи. «Коля плюс Лера»; «Лана сосет бесплатно»; «Позвони мне скорее, сладкий…» В верхнем правом углу, под самой фрамугой, кособоко висела пожелтевшая от времени снежинка, вырезанная из листа тетради в клетку. За эту снежинку Марк и зацепился остатками разума – той его частью, что еще не растворилась в животном ужасе, от которого нужно было орать, бежать и прятаться – хоть куда, куда угодно, только подальше отсюда, от этих шевелящихся ножек, от этих челюстей, флегматично перетирающих плоть себе подобных, от жесткого панциря трущихся друг о друга надкрылий, от шороха, с которым мертвоеды деловито погружались в слой мертвых членистых тел, чтобы остаться там навсегда и забрать с собой его, Марка… Снежинка удержала его на плаву. Он не мог объяснить почему. Была ли виновата в том строгая симметричность многократно повторенного узора или идеальная перпендикулярность линий клеточной разметки – возможно. Но позже, с содроганием вспоминая тот день, он все больше склонялся к тому, что именно желтизна выцветшей от времени бумаги позволила ему понять, что кошмар этот не будет длиться вечно и что снежинка, пережившая на оконном стекле не одну зиму, безжалостно вымораживающую пространство между рамами и год за годом погружающую в вечный сон все это членистоногое кишение, шевеление и шуршание, – уж снежинка-то знала это наверняка… Тогда, собрав в кулак волю, он смог выйти, выползти, за волосы вытащить себя из мертвенного оцепенения, на полусогнутых отшагнуть прочь от окна, скрутить одеревеневшую шею так, чтобы глаза оторвались наконец от черно-оранжевой копошащейся массы и уткнулись в плакат с изображением послойно отпрепарированной мужской половой системы и женской репродуктивной системы в разрезе. Вид рассеченных невесть чьих гениталий окончательно вернул его к жизни, прочно записавшись ему на подкорку, и еще долго после того он, ритмично двигаясь на очередной подружке, совершенно четко представлял себе, как выглядит сейчас на разрезе в продольной, поперечной и косой проекциях их объединенная биением страсти плоть. Это нисколько не мешало ему в плотских утехах, наоборот – умея отвлеченно наблюдать за своими приключениями словно со стороны, он демонстрировал разгоряченным красоткам чудеса мужской выносливости, слух о которой, как круги от брошенного в воду камня, расходился по близлежащим общежитиям институтского городка, обеспечивая Марку постоянный поток заинтересованных в близком знакомстве с ним дам. Для того чтобы финал не наступал слишком быстро, Марку достаточно было в критический момент просто подумать о жуках. Теперь, глядя на вялое копошение мертвоедов внутри плафонов, он испытывал сладкое предвкушение, смешанное с легким холодком омерзения. Он не смог бы уже ответить, к кому именно он в большей мере испытывал омерзение – к членистоногим или к себе самому. Это было как трогать больной зуб – больно и завораживающе одновременно, когда именно предчувствие этой неминуемой боли, которую ты можешь сам вызывать и контролировать по собственному желанию, и заставляет касаться больного зуба языком снова и снова, снова и снова… Перед задними дверями, не обращая внимания на непрерывную уже трель звонка, Марк остановился и закурил. Глубоко затянувшись, он отщелкнул массивный шпингалет, распахнул скрежетнувшие створки и с удовольствием выпустил струю табачного дыма прямо в помятую рожу стоявшего на крыльце и терзавшего кнопку звонка санитара транспортной бригады. Тот держал кнопку нажатой еще долгих десять секунд, ненавидящим взглядом сверля Марка, потом демонстративно убрал руку – и пала тишина. Слышно было только, как гудит лампа дневного света в жестяном колпаке фонаря да как бьются о жесть безмозглые насекомые, кружащие вокруг. – Здорово, Санек, – как ни в чем не бывало сказал Марк в этой тишине и широко улыбнулся. – И тебе, Сергун, привет. Он сделал ручкой долговязому спутнику Санька, который стоял под фонарем так, чтобы лицо его оставалось в тени. Мятая и облезлая «буханка» транспортной бригады замерла на краю светового конуса, отбрасываемого фонарем, зияя дырами в проржавевших насквозь порогах. На водительском месте, уронив голову на руль, темнела бесформенная масса спящего шофера. В ночи смутно белели кусты цветущей черемухи, которыми в изобилии зарос раскинувшийся вокруг трехэтажного здания бюро пустырь. Оглушительно пахло горьким миндалем. Марк набрал полные легкие пахнущего черемухой воздуха и блаженно зажмурился. – Ну, с чем пожаловали, братья-санитары? – спросил он, в знак примирения протянув Саньку пачку «Парламента». Санек, разумеется, угостился, по жиганской привычке заложив за ухо еще пару сигарет на потом, и кивнул в сторону своего спутника. Марк вопросительно приподнял бровь: Сергун не курил. – Вон, у него, – непонятно пояснил Санек и ожесточенно поскреб татуированными костяшками пальцев щетину на рассеченном шрамом подбородке. – Малого тебе притартали. Сергун молчаливо стоял на границе света и тени и, теперь запрокинув к небу узкое лицо с провалом полуоткрытого рта, широко открытыми глазами следил за танцем насекомых под зарешеченной лампочкой. В расслабленно повисшей руке у него был небольшой тряпичный сверток. – Смотри, этак муха в рот залетит, – привычно пошутил Марк. Он не первый раз видел эту картину. Сергуна, словно мотылька, явно манил свет, но он, будто бы памятуя о незавидной судьбе беспечных чешуекрылых, не спешил безоговорочно отдаться его чарам. С видимым усилием оторвавшись от созерцания танца крупных – явно крупнее мух; майские жуки полетели, что ли? – насекомых, он деревянно шагнул навстречу Марку и, не поднимаясь на крошащийся бетон ступеней, поднял прямую, словно стрела крана, очень длинную руку и протянул сверток. – Вот. В свертке было килограммов пять веса. Доношенный, и даже слегка пере-, привычно оценил Марк. – Интранатал? – спросил Санька. – Я хэ-зэ, как это у вас называется, – пожал плечами тот. – Мамку свою, говорят, здорово порвал, пока родился. И сам-то даже часа не прожил и ее, почитай, угробил… Она щас на аппарате в перинатальном лежит, без памяти уже. Глядишь, к утру и ее тебе привезем. Чтобы всей, так сказать, семьей на одной полке лежали. Санек гоготнул, но было видно, что бывшему зэку все же не по себе и что шутит он больше для храбрости. Сам он к свертку так и не притронулся, протянул Марку мятые бумажки. Марк принял их свободной рукой, сделал приглашающий жест: идем. – Мож, ты сам, а? – с надеждой спросил в спину Санек, и Марк не оборачиваясь отрицательно помотал головой. Сзади обреченно зашаркали подошвы разношенных говнодавов: Санек плелся следом. – Ты который год уже на транспортной работаешь, Сань? – спросил Марк, внося данные крошечного мертвеца в регистрационный журнал. – Третий, – буркнул Санек, сидя на краешке казенного жесткого стула для посетителей. Сам Марк расположился в куда более комфортабельном офисном кресле за столом регистратора. На миг он оторвался от записей, хмыкнул сочувственно. – И никак?.. – Да вот, понимаешь… Не по себе мне. Не люблю. Особенно этих вот, мелких… – А что же тогда работаешь здесь, коль тебя с души ото всего этого мертвого царства воротит? – с искренним любопытством спросил Марк. – А куда мне еще податься? – с неожиданной горечью спросил Санек. – Обратно на лесоповал, что ли? Вот уж дудки. Леса с меня теперь на всю жизнь хватит. – Тогда терпи, – подытожил Марк, возвращаясь к документам. – Терплю, – беззлобно огрызнулся Санек. – Ты пиши давай поскорее. – Та-ак, что тут у нас… – Марк сличал данные из бумаг с чернильными каракулями на клеенчатой бирке, бинтом прихваченной к свертку из байковой пеленки с рисунком из веселых желтых медвежат. – Сидоров, мужской… Мать: Сидорова… Ишь ты – Алина! Алина Сергеевна… Тридцать пять… Поздновато, Алина Сергеевна, поздновато… Вон, видите, как оно все обернулось… А теперь из-за вашего позднего залета все по шапке получат: и гинекологи, и акушеры, и заведующие, и главные врачи, и даже в министерстве всем достанется, только уже с самого верха. – Чего вдруг? – подозрительно глянул Санек. – Материнская смертность, – пожал плечами Марк. – За это и раньше-то по головке не гладили, а теперь, в свете майских заветов или чего там еще… В общем, близкая и неминуемая кончина гражданки Сидоровой Алины Сергеевны идет вразрез с национальной программой улучшения демографической ситуации в стране. Так что каждому достанется, и никто не уйдет необиженным!.. Марк многозначительно воздел к потолку указующий перст. Санек проследил перст взглядом. – И что ж, теперь не умирать, что ли? – спросил он. – Почему не умирать? Умирать. Но только когда будет оттуда, – Марк повращал пальцем в воздухе, – дозволено. – Из Кремля?! – не поверил Санек. – Ну. – Вот дела… – протянул Санек и сокрушенно покачал головой. – Чудны дела твои… Главное, чтобы нам по шапке не досталось. – Не достанется, – заверил его Марк. – Наше дело маленькое. Ты, главное, гражданку Сидорову мне к утру в целости доставь. – А чего с ней случиться-то может? – гоготнул Санек. – Знаю я вас, – в полушутку-полусерьезно отозвался Марк. – Слухи всякие ходят. Странный вы народ, транспортники. Темный. Вон хотя бы Сергуна возьми – молчит, ворон считает… Думает невесть что. Подозрительно! – На себя посмотри, – откликнулся Санек. – Сидишь среди трупья сутками, спишь здесь, жрешь… Поди, и баб шпилишь тут же… – Шпилю, – согласился Марк. – Как не шпилить? – Ну дак и вот! – обрадовался Санек. – И как ты их только сюда заманиваешь? – Зачем заманивать? Сами идут. Санек помотал головой: – Да разве нормальная по доброй воле сюда сунется? – Нормальная – вряд ли. Но мне же с ними не детей растить, сечешь? – заговорщически склонившись к бритой башке Санька, в самое поросшее жестким волосом ухо шепнул Марк. – Да иди ты!.. – Санек отмахнулся. – И пойду. Сейчас вас, залетных, провожу и пойду. И чтобы в ближайший час меня не беспокоили, ясно? – Так мы тебя что, с бабы сняли, что ли? – понимающе осклабился Санек. – Вроде того. Не надумай там себе лишнего. Просто – не беспокоить. Договорились? – Давай еще твоих покурим – и по рукам! – мигом сообразил Санек. Марк отдал ему остаток пачки. – А насчет целостности… – Санек замялся. – Ты о чем, родной? – Ну, я сразу тебя предупрежу, чтобы мыслей у тебя никаких не возникало потом. Говорят, малец мамашку в хлам разодрал… там. – Бывает, – философски заметил Марк. Ему не терпелось спровадить транспортную и вернуться к Сонечке. Та, должно быть, уже заждалась. – Ну, я это к тому, чтоб ты не подумал там всякого… На нас, в смысле. – Да пошутил я, увянь. – Но и все-таки. Она едва ли не пополам порвалась. Мне Лидка из родблока сказала. Она там кровь потом подтирала – так, говорит, весь родзал залило. Не жилец теперь, Лидка верняк сказала… – Медицина в наше время творит чудеса, – без особой уверенности сказал Марк. – Но будем ждать, раз уж Лидка сказала. – Ну! – обрадовался Санек. – Да ты сам глянь на этого… Там же черт-те что, а не ребенок! То ли переходила мамаша, то ли от ГМО и радиации – короче, у него там зубов полон рот и вместо ногтей атас просто что такое, веришь, нет?.. – Смотрел, что ли? – прищурился Марк. – Разворачивал? – Упаси господь! – Санек торопливо перекрестился. – Лидка же… – Ли-идка-а… – протянул Марк. Хитро прищурившись, глянул на Санька в упор: – А давай посмотрим, врет твоя Лидка или нет, а? И потянулся к сиротливо лежащему на столе свертку, совершая пальцами определенно угрожающие движения. – Тьфу на тебя! Санек вскочил и решительно зашагал по коридору к задней двери, на ходу раздраженно расплескивая лужи и изо всех сил топоча по бетонному полу. – Тише, Сань, жмуров разбудишь! – крикнул ему вдогонку Марк и, услышав в ответ отборнейший мат, довольно заржал. Потом пошел следом – закрываться. По пути забросил сверток с крошечным тельцем в хранилище номер четыре, на свободную пока среднюю полку. – Жди здесь. Сергун все так же стоял снаружи. Санька не было видно, но из «буханки» доносилось невнятное ворчанье, словно там ворочался сердитый на весь мир медведь. Водитель только что проснулся и теперь пытался прийти в себя, глядя вокруг осоловелыми глазами. – Давай, Сергун, – сказал Марк. – Езжайте. Сергун медленно перевел взгляд с фонаря на Марка. Он же сейчас ничего не видит, подумал Марк. Если он все это время так и простоял, разинув рот и глядя на лампочку, теперь весь мир для него – сплошная тьма. Мрак кромешный… – Ждут тебя, – пояснил Марк в ответ на выразительное молчание Сергуна. Словно в подтверждение его слов стартер «буханки» со скрежетом провернулся раз-другой, мотор схватил искру, зачихал, закашлял, застучал ровно. – До свидания, – вежливо сказал Сергун и, держа спину неестественно прямо, отшагнул от крыльца в темноту. Хлопнула дверца. Водитель со скрежетом вбил передачу, и «буханка» сгинула среди тьмы и смутно-белых клубов цветущей в ночи черемухи. Марк закурил и некоторое время бездумно стоял, пропуская сквозь себя ночь, прохладу, запах черемухи, гул лампы и стук насекомых о кожух фонаря. Что-то жесткое, но легкое ударило его в левую скулу и с сухим треском упало на бетон крыльца. Марк открыл глаза. У его левого крокса лежал на спине, беспомощно суча в воздухе всеми шестью ногами, крупный, почти в палец размером, жук. Марк без особого интереса толкнул его рантом, и жук перевернулся на брюшко. В мертвенном свете фонаря люминесцентно-ярко полыхнули оранжевым полос черные как смоль надкрылья. – Тьфу ты, – скривился Марк, чувствуя, как льдинки омерзения скользнули вдоль позвоночника, кольнув куда-то ниже крестца, отчего налился горячей тяжестью низ живота. Занес было ногу над жуком, но, передумав, просто скинул его аккуратненько с крыльца в темноту. Брезгливо отер скулу тылом ладони, щуря глаза от дыма. Ненадолго задумался. – Расценим это как хороший знак, – сказал он вслух. Так и оказалось. Сонечка, в полной уже боевой готовности, то есть без ничего на своем крепеньком юном теле, встретила его на пороге хранилища в одних туфельках, и Марку не осталось ничего, кроме как подхватить ее на руки и увлечь под ровный свет бестеневых ламп малой секционной, в царство отполированного до блеска кафеля, хрома и хирургической стали, чтобы там наклонить над решеткой стока секционного стола, свободной до утра от частичек жира, волос и мелких фрагментов кости, которые набиваются в нее на протяжении рабочего дня, и, держа за собранные в кулак волосы, вбиться, вколотиться, втарабаниться в тугое и жаркое, чувствуя животом встречное биение упругих, чуть шероховатых от целлюлита ягодиц… – Заскучала, – пояснила она, переводя дыхание после первого раза, и глубоко затянулась принятой из рук Марка сигаретой. – Ты что-то долго там. Что-нибудь интересное? И, когда Марк рассказал, попросила: – Покажешь? Сонечка явно не шутила. – Идем, – сказал Марк. Он набросил на плечи Сонечке блузу от пижамы, которая села на нее как мини-платье с очень глубоким, едва ли не до пупка, вырезом, из которого по очереди вываливалась то одна, то другая грудь, и Сонечка смешно пыталась придержать их скрещенными руками, а сам натянул на голое влажное тело пижамные штаны. В паху тут же проступило мокрое пятно – остатки недовыстреленного в Сонечку семени медленно вытекали наружу, тягучими, цепляющимися за влажные от пота волосы струйками скользя вдоль бедер при каждом шаге. Внутри было пусто и хорошо. В такие моменты даже жуки не действовали Марку на нервы. Сонечка при виде копошащихся в плафонах жуков ойкнула, но особо не испугалась. Марку это понравилось. При всей внешней кукольности облика Сонечка, удовлетворяя свое любопытство к некроромантике и некроэстетике, проявляла куда большую выдержку, чем готические девицы, время от времени залетавшие к Марку на огонек не столько по зову сердца, сколько по велению моды. Что называется, назвался готом – полезай на санитара морга… Высокомерие и спесь быстро слетали с набеленных лиц черно-белых красавиц, затянутых в кожу и кружева, стоило им только остаться на несколько минут в столь вожделенном, по их заверениям, месте – в трупохранилище или музее макропрепаратов, наедине с застывшими за стеклом двуглавыми младенцами, изуродованными опухолями органами и извлеченными при вскрытии из тел паразитами. Сонечка же держалась молодцом. Дверь трупохранилища номер четыре была приоткрыта. На средней полке лежала развернутая байковая пеленка. Желтые медвежата на ней весело улыбались Марку и словно бы даже подмигивали, говоря: ну что, съел? Вот то-то!.. – И… Где? – Сонечка обернулась к Марку, пытливо заглядывая ему в глаза. – А-а, понятно! Ты меня разыграл, противный?.. И чувствительно стукнула его в грудь неожиданно тяжелыми кулачками. – Разыграл? А, ну да, конечно. – Марк, лихорадочно соображая, обшаривал взглядом тускло освещенное помещение с голыми бетонными стенами и нечистым полом. Окованные железом полки были на удивление пусты – лишь у самой стены на нижней лежала желтая от цирроза старуха, а на верхнюю пару недель назад забросили ввиду явной невостребованности умершего от туберкулеза безродного, который ждал теперь, приобретая день ото дня все более нездоровый вид и постепенно проваливаясь сам в себя, счастливого момента, когда у ритуальщиков снова появится квота на бесплатное захоронение, чтобы упокоиться наконец в общей могиле под безликим столбиком с никому, кроме кладбищенских сторожей, ничего не говорящим рядком цифр на табличке… Марк даже заглянул под полки, всматриваясь в тени в углах, – вдруг малой туда закатился, когда разошелся узел на пеленке и тельце соскользнуло по гладкому железу на пол? Он понимал всю абсурдность такого предположения, но других разумных версий у него не имелось. Младенца Сидорова нигде не было. Сонечка потянула к себе пеленку. – Ой, смотри-ка – тут и вправду все так написано, как ты и сказал! – Ну разумеется. Я же не сумасшедший. «А вдруг…» – сказал чей-то голос внутри. Марк раздраженно распрямился, упер руки в бока и задумался. – Хо-олодно, – подала голос Сонечка, зябко переминаясь с ноги на ногу. Она с головы до ног покрылась гусиной кожей – от холода, не от испуга. – Пойдем меня погреем, а? И подмигнула Марку, ухмыльнувшись при этом особенно похабно. – Сейчас, – сказал Марк, которому в этот момент было совсем не до девичьих прелестей. – Хотя нет. Знаешь что… Тебе пора уходить. В Сонечкиных глазах полыхнула обида. – Ты чего? Тебе что, не понравилось? – Понравилось, понравилось, детка. Я послезавтра дежурю снова, давай тогда и повторим… С этими словами он машинально подталкивал Сонечку к выходу из секционного блока. Мысли у него были заняты совсем другим. Сонечка вывернулась у него из-под руки. Стащила через голову блузу, скомкала и швырнула Марку под ноги, прямо в лужу. – Дорогу сама найду. Не смей меня провожать, сволочь!.. Развернулась, всплеснув освобожденной грудью, и гордо удалилась, сверкая в лучах светильников белизной ягодиц. Грохнула дверь секционки. Марк подождал, но дверь главного входа в бюро так и не хлопнула, и предупреждающий зуммер молчал. Он позволил себе улыбнуться. Вот сейчас он отыщет запропастившегося невесть куда младенца Сидорова, и они могут продолжить. До утра еще полным-полно времени. Захватив с собой пеленку с медвежатами, в которой обнаружилась здоровенная, в два кулака, дыра с висящими лоскутами краями («крысы постарались, что ли?»), Марк прошел коридором до стола регистратора и отыскал в нижнем ящике фонарь. Еще раз осмотрел четвертое хранилище, осветив каждый из углов, в одном из которых до истошного писка напугал поспешно удравшую в очень узкий – не то что младенец, даже рука его не пройдет – проход крысу. Потом по очереди прошел по остальным хранилищам, открывая их одно за другим, – ничего. Мертвые, которым было положено там находиться, лежали себе преспокойненько согласно проданным билетам, то есть отведенным им местам. Лишних младенческих трупов не было нигде. – Вот дерьмо, – резюмировал Марк после десятиминут поисков. Мелькнула мысль, что над ним могли подшутить неслышно вернувшиеся транспортники – о, с труповозов, а особенно с Санька, такое сталось бы запросто! Для бывшего зэка отомстить за свой невольно показанный страх совсем не западло – для него это скорее дело чести… Подумав, Марк отмел этот вариант как малоправдоподобный. Даже если бы Санек был не простым гопстопщиком, а бывалым медвежатником, открыть снаружи массивный, грубо и кустарно исполненный безвестным левшой шпингалет на задних дверях было делом неосуществимым, а электрозамок передних дверей открывался с кнопки или чипа, громогласно сигнализируя об этом зуммером сигнализации. На гения-электронщика Санек тоже походил мало. О скрытых талантах Сергуна Марк, разумеется, ничего не знал, да и не хотел бы, честно говоря, но они тоже явно лежали в иной плоскости, чем взлом и проникновение. Оставалось… Да ничего у него не оставалось, кроме шести часов до начала рабочего дня, когда придется объясняться с начальством. Марк в сердцах сплюнул. Перспектива была совсем не радужная. Терять пригретое место в наше время – слишком большая роскошь. Такого он себе позволить не мог. Поэтому ему ничего не оставалось делать, как продолжить поиски. Час спустя стало ясно, что младенец Сидоров как в воду канул. Его не было нигде – ни в трупохранилище, ни в секционке, ни в лаборантских и врачебных ординаторских второго этажа, ни в занятом архивом препаратов подвале, ни на полном вентиляционного оборудования чердаке. Марк не мог объяснить себе логически, почему он ищет детский труп на чердаке и в подвале, он просто не позволял себе об этом задумываться, потому что задуматься означало бы усомниться в логичности своих действий, а следовательно, и в их разумности – а этого Марк не мог себе позволить ни под каким соусом. Та грань, которая отделяла его мир от притаившихся в подсознании демонов, была и без того крайне тонка – и он не собирался делать эту преграду еще менее надежной. Пару раз он заглядывал в санитарскую. Сонечка, завернувшись в плед и надувшись, игнорировала его визиты, тянула вино из бокала и смотрела музыкальный канал на приглушенном до шепота звуке. Уходить она не пыталась, и это Марк расценил как хороший знак. – Я скоро закончу, – ободрил он девушку, убегая на очередной этап бесплодных поисков и сам веря своим словам. Сонечка только презрительно фыркнула ему вслед. Марк в который уже раз шел по проходу между дверями трупохранилищ, когда во всем корпусе разом погас свет. Вырубились насосы, гнавшие воздух по вытяжной вентиляции, вздохнув напоследок: фх-х-х… Стало слышно, как где-то медленно капает, ударяясь о бетонный пол, вода, шипит, замедляя бег, хладагент в трубопроводах трупохранилища и устало шуршат в плафонах погасших ламп жуки-мертвоеды. Потом свет мигнул – и где-то в подвале с воем запустился было аварийный генератор, но тут же что-то оглушительно грохнуло, рассыпалось искристым треском – и смолкло. Упала непроницаемая тьма. – Вот дерьмо, – снова сказал Марк. Включив фонарь, свет которого, и без того не особенно яркий, после часа поисков потускнел еще сильнее, он направился к санитарской. – Марк? – приглушенно позвала откуда-то Сонечка. Паники в ее голосе он, к счастью, не услышал и совсем уж было собрался отозваться: иду! – как, заглушая все прочие звуки, грянула оглушительная трель звонка от задней двери. – Что за черт? – удивился Марк. «Света нет, а звонок звонит? Звонок, конечно, старый, там бог весть вообще какая схема… Может, конденсатор какой или батарея своя? Да плевать». Чертыхаясь и костеря на чем свет стоит некстати вернувшихся транспортников, Марк развернулся и пошагал обратно. Звонок умолк. Видимо, Саньку хватило ума не испытывать терпение Марка еще раз. – Вот сейчас у вас и спросим, что за дебильные шуточки, – бормотал Марк себе под нос. – Может, там никакого младенца и не было, вот дурак, надо было сразу развернуть и посмотреть, а то, может статься, эти дурни напихали в сверток просроченной колбасы с помойки, чтобы меня развести, а крысы дыру прогрызли и всё к себе в норы уперли, а ты теперь, Марк Александрович, гребись тут конем, ищи вчерашний день… Он рванул шпингалет и грозно вопросил: – Ну?! Санька и Сергуна за дверью не было. Там было темно хоть глаз выколи. Уличный фонарь не горел, а свет Маркова фонаря не добивал дальше крыльца, и все, что было там, дальше, терялось во мраке и смутном шевелении неясных белесоватых масс – не то тумана, не то ветвей черемухи, не то невесть чего еще… Луч фонаря на грани видимости скользнул по борту «буханки», которая стояла с погашенными огнями и раскрытыми дверями, за которыми чернела непроницаемая мгла, пахнущая черемуховым цветом и чем-то еще, что запах черемухи почти совершенно заглушал. – Здравствуйте, – услышал Марк совсем рядом. Едва не подскочив на месте, он мазнул лучом фонаря по сторонам. Слабое пятно света выхватило из мрака хрупкий женский силуэт. Молодая женщина, очень бледная, очень заплаканная, зябко куталась в застиранный байковый халат отвратительного коричневого цвета. Под глазами у нее чернели круги, волосы безжизненными сосульками свисали по сторонам худого, с впалыми щеками, лица. Тонкие ноги, торчащие из-под халата, были босы и испачканы с внутренней стороны и на ступнях чем-то густым и черным. В тонких пальцах женщина комкала какие-то бумаги. – Здрасте, – раздраженно бросил Марк. «Чертово бичье, день с ночью перепутала, а морг – с магазином. Понавылезали из своих теплотрасс, шарятся теперь, отбросы…» Такое время от времени случалось: бомжи, обитавшие в теплой темноте канализационных коллекторов, опившись техническим спиртом до белой горячки, временами наносили в бюро подобные визиты вежливости; как правило, им давали по шее и сдавали полиции. Видимо, придется и сейчас… – Вам чего? Поверх ее угловатого плеча он вглядывался в темноту. Темнота безмолвствовала. – У меня сыночек здесь. Сюда его отвезли. Мне бы забрать. Марк в изумлении воззрился на нее. – Утром приходите, женщина. Сейчас ночь. Никто никого вам не выдаст, особенно без документов. Протрезвеете к утру и приходите… – Вот. Документы. Тонкая рука сунула Марку под нос бумаги, и он машинально взял их, чертыхнулся, вляпавшись пальцами в какие-то липкие капли, подсветил едва тлеющим уже фонарем и начал читать. – Чушь какая-то, – без особой уверенности сказал он через минуту. – Сидоров?! – Мой, да. Мальчик. – А вы тогда, получается, кто? Женщина протянула ему паспорт: – Мама. – Сидорова Алина Сергеевна, – упавшим голосом прочел Марк. – Да что за?.. Эй! – заорал он в притаившуюся в «буханке» темноту. – Санек! Я ж тебя, суку, прибью сейчас! Что за развод, а?! Пацана нашли, что ли, да? А ну иди сюда, сучок, и ты, Сергун, иди, и водилу своего прихватите, я щас вам всем тут накостыляю!.. Так ведь и инфаркт заработать можно! Темнота загадочно молчала, и Марк, поорав, осекся. – Сыночек мой, – сказали под боком. – Мальчик. Отдайте. Марк посветил фонарем прямо в лицо сумасшедшей бабе. Сухие губы на восковой бледности лице разошлись, открывая желтоватые крепкие зубы, сужающиеся к концам. Сухие, с мутными роговицами глаза смотрели на Марка не мигая, и зрачки в них не сузились, когда луч фонаря попал на сетчатку. – Сыночек, – повторила женщина, чуть шевельнув губами. Между зубов протиснулся, полыхнув оранжевыми полосами на надкрыльях, жук-мертвоед. Марк отшатнулся, оступился, упал, выронив немедленно погасший фонарик, отполз на четвереньках спиной вперед, ударившись затылком о стальной косяк двери. В глазах полыхнули искры, в голове зазвенело. Где-то внутри бюро истошно вскрикнула и тут же умолкла Сонечка, и чьи-то маленькие босые ножки дробью частых шагов прошлепали по кафелю совсем рядом. Марк перевернулся на живот и не вставая пополз по коридору. Над головой у него с сухим, совсем нестрашным звоном один за другим лопались во мраке плафоны, осыпая его сухой трухой тел насекомых и мелким стеклянным крошевом. Марк полз и полз, не смея подняться, чувствуя, как седеют от животного ужаса волосы на голове. Под ладонями и коленями трещали, словно подсолнечная шелуха, раздавленные панцири надкрыльев, и Марк совершенно точно знал в этот миг, что, если сейчас случится-таки чудо и в коридоре вспыхнет свет, все они окажутся черно-оранжевого цвета. Оглушительно пахло черемухой.Александр Матюхин Сутки через двое
* * *
Я властитель троллейбусного маршрута номер семьдесят шесть. Никто не проедет зайцем, ни одна старушка не устроит скандал, ни один мошенник не вытащит кошелек из кармана зазевавшегося простака. Только не в мою смену. Пассажиры у меня в руках. – Граждане! – говорю хорошо поставленным голосом. – Передаем за проезд, не ленимся! Женщина, зашла на задней двери, я же вас вижу, не прячьтесь, красавица! Приятно, когда люди поворачиваются на мой зов и протягивают карточки, монетки или мятые купюры. Никто не уйдет обиженным. Я прокладываю маршрут от носа салона до хвоста: как ледокол, раздвигаю локтями строптивые льдины. Человеческие тела расступаются, а я собираю за проезд, выхватываю взглядом незнакомые лица, отрываю билетики, прислоняю валидатор к карточкам. Движения механические, отточенные за двадцать пять лет стажа. – Мужчина, – говорю, – поменьше не найдется? Ну имейте совесть? Пихать пятитысячную пожилому человеку. Салон смеется. В мою смену все всегда смеются до поры до времени. Люблю их всех, пассажиров, молодых и старых, дерзких и молчаливых, контркультурных, серых, разных. Любовь моя такая же – до поры до времени, но с самого начала маршрута, когда троллейбус выезжает из депо в пять ноль девять утра, я наполнен любовью. Кондиционеров нет, открыты окна, горячий летний ветер гуляет, высушивая пот на затылках, забираясь под юбки и в рукава рубашек. Сразу за Колхозным рынком народ редеет, я присаживаюсь на место кондуктора и быстро свожу таблицы в тетради смены. Хочется курить. Иногда позволяю себе подымить на переезде, пока ждем проезжающую электричку. Но до переезда еще двадцать минут езды. – Вам на Садовой, – говорю пожилой старушке и улыбаюсь. – Это через две остановки, не пропустите. Следующая за Садовой – остановка «Университет». Там в последний раз видели живыми моих жену и дочь в далеком девяносто третьем. Они не дождались троллейбуса и поехали на попутке. Чуть дальше остановка – «Парк Победы», место, где через четыре дня после пропажи нашли сгоревшие и закопанные тела. Потом троллейбус заезжает в депо и продолжает путь, чтобы через пятнадцать минут проехать кладбище, где покоилась моя семья. А за кладбищем – какая ирония! – через остановку растягивается забор с колючей проволокой – местная тюрьма, в которой сидел Валентин Маркович Беседин, двадцати трех лет на момент преступления, не женат, задерживаемый многократно за мелкие нарушения закона. Убийца. У троллейбуса номер семьдесят шесть прекрасный маршрут. Он не позволяет забыть о трагедии, подпитывает мою злость, оставляя ее острой как бритва.Говорят, если каждый день вспоминать один и тот же эпизод из своей жизни, то в конце концов он перестает быть реальным, начинает казаться выдумкой, станет зыбким и податливым на фантазии. Возможно, так и есть. Возможно, память подбрасывает мне ложные ощущения, а на самом деле двадцать пять лет назад все было совсем не так. Но я вспоминаю вот что. Меня не пустили в морг. Худой врач с большим приплюснутым носом сбивчиво тараторил что-то о насильственной смерти, бензине и сжигании тел. Я уяснил, что жена и дочь настолько обезображены, что опознали их по зубам, а хоронить придется в закрытых гробах. Но я сломал врачу его приплюснутый нос и прошел дальше по коридору, где стены блестели из-за влажного кафеля. Я зашел в холодное помещение, под тусклый свет желтых ламп, и увидел на операционной койке что-то, чего не смогу забыть никогда. Что-то, что несколько дней назад было моей семьей. Это начальная точка злости. Зарождение микровселенной, где правит зло. Я вспоминаю, как ушел в запой. Звон бутылок, распахнутые окна, мелкое пятно фонаря далеко внизу и мысль – надо спрыгнуть, пролететь двенадцать этажей, прямиком в объятия жены. Эта мысль не оставляет меня до сих пор, но она исказилась, стала неправильной. Еще помню холодное трезвое утро, когда больше не хотелось хлестать алкоголь. Я лежал в кровати, укрытый по пояс простыней, курил и пускал дым в потолок. За окном было тихо, серо, предрассветно. В тот момент я понял, что алкоголь вышиб память и отдалил ощущение трагедии, размягчил эмоции, которые я испытывал в первые дни. Так не должно было случиться. Выбрался из постели, оделся и вышел на улицу. Затопал к знакомому депо. Меня могли уволить за прогулы, но не уволили. Все всё понимали. Курил одну сигарету за другой. За мной увязалась долговязая тень, пробасила: «Мужик, дай прикурить», и я распалил перед скуластым худым лицом зажигалку. Мне показалось – я точно помню, – что у человека нет носа, нет кожи на щеках и над глазами. Он затянулся сигареткой, сказал: «Спасибо, друг, счастья тебе, здоровья, удачи на всю жизнь», – наваждение пропало. На кепке у долговязого желтела эмблемка: «Адедас». Он пожал мне руку и растворился в тишине утренних улиц. Еще помню, что отлично знал маршрут семьдесят шестого. Все реперные точки, которые мне были нужны. Я хотел раздражать свою память каждый рабочий день, проезжая мимо университета, парка, кладбища, а немного позже – тюрьмы. Это было необходимо, потому что как вообще по-другому? Кто-то сказал, что самые отвратительные воспоминания со временем становятся тусклее, их обволакивает влажная субстанция под названием грусть. Человек перестает злиться, он будто достает старые черно-белые фотографии, стирает с них пыль, просматривает и укладывает аккуратно назад, в альбом, который с годами будет открывать все реже и реже. Я решил, что не позволю потускнеть моей злости. Нужно было продержаться семнадцать лет и девять месяцев с момента, когда приговор Валентину Беседину вступил в законную силу. Недолгий срок по сравнению с вечностью, да?
Лето бросается в окна ярким солнцем, духотой, густыми брызгами зелени. Я в футболке и оранжевой жилетке. Говорю: – Уступите место беременной, молодежь! И еще: – Кто просил на Яхтенной? Троллейбус гремит по упругим рельсам. Сорок девять сидячих мест заняты, люди толпятся в проходах, потеют, толкают друг друга, прячутся в телефонах и наушниках, глазеют на улицу. Бурлят разговоры, шелестят газеты, кто-то громко, яростно радуется в телефонную трубку: «Родила? Сколько? Вес, рост, ну?!» Шипят открывающиеся двери. Человеческая волна растекается по остановке, а другая волна затекает в салон. Это новые запахи, новые лица, новые жизни. Я оглядываю их с неизменной улыбкой. Совсем скоро заходить почти никто не будет. Люди будто неосознанно чувствуют, что лучше подождать другой троллейбус. – Граждане, передаем за проезд, не стесняемся! – У кого карточки – прислоняем! – Проходите в середину салона, не толпитесь у дверей, мешаете другим! Следующая остановка… «Университет». Пластиковый козырек, старые деревянные скамейки, вечно полные урны, несколько киосков прижимаются с двух сторон. За остановкой офисные здания, узкие улочки, редкие фонари. В девяносто третьем тут стоял бетонный строительный забор. Я смотрю на остановку и вижу жену с дочкой. Они прождали троллейбус сорок минут. Стемнело и лил дождь. Не самые комфортные условия. Я вижу старенькие «Жигули» Валентина Марковича Беседина, которые со скрипом останавливаются у козырька. Беседин предложил подбросить мою жену и дочь до нужного места. Улыбающийся милый парень. Троллейбус трогается с места, а я чувствую, как за левым глазом внутри головы зарождается привычная тяжелая боль. Злость, родимая – а ведь успел соскучиться за два выходных дня. Радуюсь ей. – Бутылочку за собой уберите, молодой человек! Бреду среди людей, давно привыкнув к шатающемуся ритму движущегося троллейбуса. Все еще улыбаюсь, но уже скорее по привычке. Боль усиливается вместе с отрезвляющими воспоминаниями. Моргаю, накапливая злость. Замечаю за окном светящуюся вывеску супермаркета: «Питерочка». Маршрут моей злости начинается. На остановках никто не входит, тут вообще немноголюдно. Некоторые пассажиры вздрагивают в момент торможения троллейбуса, будто какая-то невидимая сила выдергивает их на поверхность реальности, оглядываются, смотрят в окно, хмурятся, потом выпрыгивают сквозь распахнутые двери в последний момент. Что-то тащит их на улицу, не дает доехать до нужной остановки. Многие забывают вещи. Я собираю их, отношу домой, аккуратно складываю. Никогда не использую и знаю, что никто за ними не придет. Проезжаем мимо огромного билборда с подсветкой. С плаката улыбаются мальчик и девочка. Их улыбки натянуты и злы. Я чувствую исходящую от них опасность. Надпись гласит: «А вы знаете, где сейчас ваши родители?» Боль переползет на виски, к носу, будто я подхватил острый гайморит. Болит скула. Пучки боли сконцентрировались на переносице и бьют туда безжалостно. Я продолжаю злиться – сильнее, сильнее. – Кому выходить? – бормочу, зная, что добровольно никто не выйдет. – Сейчас будет… «Парк Победы». Валентин Беседин грабил пассажиров. Выискивал заблудившихся или зазевавшихся прохожих, предлагал подбросить на машине до нужного места. У Беседина было природное обаяние: он очаровательно улыбался и всегда находил располагающие слова. Из него мог бы получиться отличный политик. Моя жена села на переднее сиденье, а дочку посадила на заднее. Валентин завез их в неприметный переулок и потребовал денег. Никто не знает, что произошло дальше, какие бесы одолели воришку, но через какое-то время он зарезал мою жену, а следом зарезал и дочь. Пытаясь избавиться от тел, Валентин Беседин облил их бензином и попытался сжечь. А потом собрал останки в мешки, отвез в парк Победы и закопал в роще, неподалеку от Лебединого озера. Там есть глухой, безлюдный уголок, густо заросший кустарником. Прибежище наркоманов и бомжей. – Осторожно, двери закрываются! У меня болят зубы. Пассажиры молчат, уткнулись в телефоны, книги, газеты. Никто не смотрит на улицу. Потому что на улице что-то неуловимо изменилось. Машин стало меньше. Люди на тротуарах поредели, а те, кого видно, похожи на тени, бесцельно бредущие в никуда. Дома стали как будто выше, уперлись крышами в пунцовое небо. Вывески на магазинах крикливые, яркие: «Могазин женской адежды», «Хлеп и булка», «Коффи с собой». У светофоров на перекрестках нет желтого сигнала. Красный, подмигнув два раза, мгновенно переключается на зеленый. Остановка «Кладбище». Некоторые несчастные выходят. Мне не жалко. Им не надо на эту остановку, но ноги сами выносят. Конец пути – я знаю. Пальцы водителя троллейбуса – Валерки Тихонова – белеют он напряжения. Валерка ничего не вспомнит через полчаса. Он будет жаловаться на жару, дешевую рабочую жилетку, будет втихаря курить, пока никто не видит, и раз десять выскочит купить кофе в пластиковом стаканчике на остановках. Но не вспомнит, как похолодел ветер, как со стороны кладбища прилетели едва уловимые запахи гнили, разложения, смерти. Я смотрю на черный забор и вижу только макушки тополей. А вокруг макушек – взволнованное воронье. На кладбище должен лежать Валентин Маркович Беседин, а не мои жена и дочь. Несправедливо это, неправильно. Троллейбус трогается с места. Боль усиливается. Теперь у меня болит вообще все лицо: под кожу будто влили ботекс, каждый зубной нерв яростно пульсирует. Злость – колючая штука, она раздражает. Но мне нужно накопить ее. Иду между застывших пассажиров, злюсь, бормочу привычное: – Расступитесь, дайте пройти. – Оплачиваем, кто еще не оплатил. – Это место кондуктора, уступите. За окнами никого нет, улицы пусты, дороги пусты. Жара наваливается нещадно, усиливает боль. Вспоминаю, что не проронил на похоронах ни слезинки. Слезы пришли через несколько дней, когда поймали Валентина Беседина и он сбивчиво рассказывал что-то про наваждение, внезапную ярость, про то, что не хотел оставлять свидетелей. Нес чушь, в которую и сам-то не верил. Остановка «Северный проспект». Из окон виден тюремный забор и часть кирпичного здания. Много колючей проволоки. Запрещающие знаки. Узкие запотевшие окна. Из полосатой трубы ползет вертикально вверх черный дым. Я приходил сюда много лет два-три раза в неделю. Сидел на остановке, разглядывая ворота. Ждал, когда оттуда выйдет Беседин, хотя знал про его срок, знал, что ждать придется долго. Но, если хотите, это еще одна форма подпитки воспоминаний. Форма управления злостью. Двери открываются. Я моргаю – и боль будто прокалывает мое сознание иглой. Злость, пузырясь, вытекает через глаза, ноздри и рот. На остановке «Северный проспект» кто-то заходит в переднюю дверь. Оборачиваюсь, уже зная, кого увижу. Он широко улыбается, трет ладони, осматривает салон. На кепке выцветшая эмблема: «Адедас». – Как же я рад вас всех видеть! Пассажиры, встрепенувшись, выходят из оцепенения. Головы поворачиваются к вошедшему. – Граждане, – говорю, испытывая садистскую радость. – На маршруте работает контроллер. Подготовьте билетики и проездные документы!
Валентин Маркович Беседин был освобожден через семнадцать лет, в две тысячи десятом году. Ему на тот момент исполнилось сорок, он полностью раскаялся, осознал и исправился. Выйдя из тюрьмы, он сразу же отправился домой, где его ждал пожилой отец. Валентин сел на семьдесят шестой троллейбус, доехал до стадиона, пересел на двадцать третью маршрутку, выехал за пределы города в поселок Широкий и через пятнадцать минут был в районе старых хрущевских пятиэтажек, которые построили здесь одновременно с запуском сахарного завода. Завод давно не работал, поселок тихонько умирал, населения тут было меньше двух тысяч человек. Валентин торопился домой, но заплутал среди заброшенных домиков, свернул не туда и на старой развороченной дороге встретился со мной. Я долго не церемонился. Валентин, возможно, меня узнал. Когда я ударил его кухонным ножом в живот, он хрюкнул, выпучил глаза, ухватился руками за мою руку, но ничего уже сделать не мог. Валентин умирал минут пять. Я уложил его на обочине, ударил еще несколько раз, для верности. Он сучил ногами и поскуливал. Потом замер, глядя в темноту за моей спиной. Я оттащил Валентина за руки к пролеску. Там ждала вырытая не так давно яма. Забросал тело землей, уложил сверху веток, вышел обратно на дорогу и закурил. Так повелось, что за смерть отвечают смертью. Якобы это примиряет душевную боль, заставляет злость убраться восвояси. Это не так. Я не испытал облегчения от убийства. Мне захотелось вернуться на любимый маршрут и проследовать по глубинам злости. Я хотел снова сесть на скамейке у тюрьмы и разглядывать забор в колючей проволоке. Я хотел снова выследить Валентина Беседина и воткнуть нож ему в живот. Мне нужна была новая порция. На выходе из поселка ко мне подошел человек, хриплым голосом попросил закурить. Зажигалка высветила его худое лицо с острым носом. – Вижу, у тебя хорошо получается, – сказал человек. – Что? – Выстраивать правильные маршруты в правильные места. Хочешь поработать? Так я встретился с контроллером.
Он просит называть его именно так, исковерканно – «контроллер». Как и все в этом отрезке мира, он слегка неправильный, ошибочный, странный. Грубо говоря, он вообще не человек. Я не знаю, что он такое. Контроллер одет в широкие брюки и белую пузырящуюся рубашку. Рукава закатаны до локтей. На голове – кепка, слегка оттопыривающая уши. Больше всего контроллер напоминает паренька из фильмов пятидесятых годов. Он светловолосый, улыбающийся и оптимистично-энергичный. – Товарищи! – говорит контроллер, – Предъявляем проездные и билетики! Не жмемся, не стесняемся, не вредничаем! Зайцев я не люблю, врагов народа тоже. Но ведь среди вас таких не водится, верно? Все хорошие, все милые, все мои родные друзья! Предъявляем, товарищи! Люди в салоне оживляются. Кто-то покашливает, кто-то тянется за кошельком. Троллейбус тормозит перед светофором. Контроллер достает ручной валидатор и начинает медленно продвигаться внутрь салона, проверяя билеты и проездные. К валидатору прислоняют все подряд, будто эта черная «лапка» может что-то считать с бумажного огрызка билета или пенсионного удостоверения. – Счастливый попался! – подмигивает кому-то контроллер. – Надо обязательно съесть, иначе удачи не будет! Я знаю, что происходит. Смотрю на людей, которые безразлично протягивают к валидатору удостоверения, студенческие, карточки проездных. Для них это – рутина. Кто-то не отрывается от экрана телефона, кто-то в это время смотрит в окно или не прерывает общения со знакомым. Но я-то замечаю изменения. Вижу проступающие морщинки, появляющиеся седые волоски, вижу, как увеличились мешки под глазами, набрякли веки или кожа плотнее обтянула скулы. Контроллер забирает жизни. Мелкий воришка из параллельного мира, куда я случайно пробил маршрут своей обостренной злостью. Вернее, симбиозом памяти и злости. – Женщина, у вас бесподобный маникюр! Он обаятелен, быстр, ловок. – Билетики сохраняем до конца поездки! Улыбчив и разговорчив: – Была у меня один раз ситуация. Безбилетник, значит, рванул в конец салона, запнулся и сломал себе челюсть. Обо что бы вы думали? Никогда не догадаетесь. О детскую коляску! Обычно он управляется за одну остановку, но иногда случаются накладки. Какая-то старушка внезапно начинает кричать: – Посмотрите, люди, это же какая-то тварь! Не человек вовсе! Разве вы не видите? Нас куда-то занесло! Это ад, форменный ад! Я вскакиваю с места кондуктора, высматривая кричащую. Троллейбус тормозит – и людская волна ухает, по инерции подавшись вперед. – Господи, помоги! – вопит старушка, отчаянно крестясь. Она из тех, кто зорко смотрит по сторонам в поисках бесов. – Отче наш! Сущий на небесах! На очень короткое мгновение мир за окном будто сдувает, обнажая реальность, в которую заехал троллейбус. Это разрыв между мирами, маршрут в преисподнюю. Контроллер тоже теряет свой облик, и я вижу окровавленное лицо без кожи и носа, с частоколом кривых желтых зубов, с пузырящимися от жара глазами навыкате. Одежда на нем горит. Контроллер сдавленно смеется: – Да вы, женщина, сумасшедшая! Сейчас милицию позову! Задние двери троллейбуса открываются, впуская запах серы и клочья черного смога. В салоне появляются люди в форме, на спинах написано: «Мелиция». Они хватают старушку под локти и тащат к выходу. – Вы разве не видите? – кричит старушка. – Это же черти, бесы! Это же нечисть! Господи, господи, помоги! Никто ей не помогает, никто ничего не видит. Двери закрываются, троллейбус двигается дальше, разрывая морок. Остановка «Гагаринский бульвар». Боль проходит, и я снова могу моргать. Коварная злость все еще сидит в голове, я храню ее на ужин. Осматриваю пассажиров и садистски улыбаюсь. Радостно от того, что эти бесполезные люди вокруг лишились мгновений жизни. Потому что это несправедливо, когда моя семья уже мертва, а вы все тут вокруг – нет. Наверное, в какой-то момент я сошел с ума. Контроллер, вернувшийся к своему человеческому облику, уже в хвосте салона, торопливо водит валидатором среди оставшихся пассажиров. Потом он бежит ко мне, расталкивая людей локтями. Не церемонится. – Держи, – протягивает зеленую карточку проездного. – Твоя доля, как и всегда. Сегодня неплохой урожай. – Как мог, – сухо отвечаю я. Двери открываются – и за дверьми уже нормальный мир, лето, запах цветов, пирожков с капустой. Контроллер подмигивает и растворяется среди людей на остановке. Теперь я увижу его через двое суток, на следующей смене. – Я за кофе, быстро, – чеканит Валерка с водительского сиденья. Как я и говорил, он ничего не помнит.
После смены еду домой, в трехкомнатную квартиру, которую мы получили с женой еще в восемьдесят девятом году. Это хорошая квартира в кирпичном доме – такие уже не строят. Идеальная звукоизоляция, просторная кухня, два балкона. Здесь с легкостью можно было бы жить втроем или даже впятером. Но после смерти жены и дочери живу только я. В квартире всегда негромко бубнит радио, чтобы меня не встречала тишина. Не люблю тишину. Я неторопливо раздеваюсь, иду в ванную. Под горячими струями дождя сбивается запах серы и гари. Появляется ощущение чистоты. Скромный ужин – макароны с сыром, две сосиски. Аппетита, как обычно, нет. Зато нарастает в душе приятное болезненное чувство. Поев, я, как всегда, оттягиваю момент. Иду в гостиную, кормлю рыбок в аквариуме, смотрю телевизор. Часам к десяти вечера открываю первую бутылку пива и закуриваю первую сигарету. Потом захожу в бывшую детскую комнату и включаю свет. Злость подступает, и мне приятно ощущать ее. Приятно, будто от накопленной за день хорошей усталости. Комната плотно упакована звукоизоляционными материалами. В ход пошли пустые яичные коробки, затем каркас из гипсокартона, шпатлевка и сверху обои. Никто ничего не слышит. В комнате нет мебели. Только старый матрас лежит у батареи. На матрасе – Валентин Маркович Беседин. Сейчас он мертв и разлагается. Я вижу потемневшую кожу, пятна синяков, рассыпавшиеся по обнаженному телу, вижу ножевые порезы с белыми от гноя краями, вылезающие седоватые волосы, вывалившийся язык. Матрас под Бесединым влажный и грязный. В комнате пахнет мочой и потом. Подхожу ближе, присаживаюсь перед Бесединым на корточки и вкладываю ему в руку зеленый квадратик проездного. – Держи, просыпайся. Это моя доля украденных жизней. Я волен распоряжаться ими, как захочу. А я хочу оживлять Беседина сутки через двое. Первыми вздрагивают веки. Глаза под ними начинают метаться, как две испуганные птицы. Затем по телу Беседина проходит дрожь. Он вытягивается в струнку, складывается, корчится и начинает стонать. Я выдергиваю его из прекрасного сна смерти обратно в болезненный мир жизни. Много лет назад, когда неведомый контроллер предложил «подработку» и объяснил правила игры, я думал о том, что нужно оживить жену и дочь. Это было первое и логичное решение. Я готов был смириться с тем, что краду жизни у других людей. Сделка с дьяволом, ничего личного. В конце концов, каждый решает, как ему существовать со своей совестью. То было жгучее и яростное желание. Но контроллер тут же осадил. Он сказал: «У людей не могут срастись части тела, не вырастут новые волосы или кожа. Ты не вернешь никого, кто давно умер и разложился» Идиотские правила игры. Они раззадорили еще больше. Валентин Беседин открывает глаза и, видя меня, начинает кричать. Он умоляет: – Хватит, пожалуйста! Прекрати! Прекрати это! Я молча улыбаюсь. Украденных жизней хватает на то, чтобы к Беседину вернулись кое-какие ощущения. Его сердце начинает биться, легкие пытаются раскрываться, желудок переваривает сам себя, но главное – нервы отправляют импульсы по всему телу. Нервы нельзя обмануть, они точно знают, что в данный момент нужно испытывать жесточайшую физическую боль. – Убей меня снова! – кричит Беседин. – Пожалуйста, пожалуйста! Говорят, некоторые ощущения притупляются от частого использования. Это неправда. Когда я каждый раз проезжаю по маршруту памяти, горечь от утраты не ослабевает. Когда Беседин оживает на влажном от крови матрасе – его боль такая же, как в первый раз. Возможно, она даже усугубляется разложением плоти. – Верни меня, верни! Хватит уже! Он кричит, потом стонет, потом лопочет. Я наблюдаю за ожившим мертвецом и улыбаюсь. Мне нравится. Беседин не может встать, его корчит от нестерпимой боли. Из ран на теле течет гнойная сукровица. Я достаю кухонный нож и неторопливо протираю его тряпкой. О, я не люблю торопиться. – Ты видел мою жену с дочерью? – спрашиваю. – Как они? – Замечательно! – выдыхает Беседин, не сводя глаз с лезвия ножа. – Просто прекрасно! У них все хорошо там. Дочь растет, я видел ее недавно. Поступает в институт, на искусствоведа! Жена у тебя тоже в порядке, купила недавно квартиру… что там еще?.. на права сдала!.. Он утверждает, что смерть – это другой реалистичный сон. Там нет рая или ада, а есть иная реальность, немного отличимая от нашей. В той реальности тоже вперемешку живут плохие и хорошие, гении и злодеи. Там тоже не хватает денег на коммуналку, все недовольны властью, а человеческие судьбы разрушаются из-за трамвая, который задержался в депо. Сначала мне нравилось слушать его рассказы о моей жене и дочери. Я пытался передавать привет, пытался как-то повлиять на ту, другую их жизнь. Но потом как-то понял, что все бесполезно. Мы навеки разделены нерушимой стеной смерти. Теперь Беседин мог лепетать что угодно, не догадываясь, что я раз за разом оживляю его с одной-единственной целью – сбросить злость, которая растет во мне два выходных дня, наливается соками, будто перезревший плод. Я срезаю ножом лоскут кожи с его бедра. Чувствую подступающее облегчение. Говорю: – Следующая остановка – «Университет». Беседин кричит снова. Он будет кричать, пока сила жизни других людей не вернет его к смерти. У меня есть двадцать минут. Очень неторопливых двадцать минут.
Однажды контроллер, поймав меня в переулке и, по обыкновению попросив прикурить, спросил, хочу ли я продолжать. – Я готов нанять кого-нибудь другого, – сказал он, выпуская огненный дым ноздрями. – Ты хороший мужик, ответственный. Но ты в своей злости скоро переплюнешь некоторых моих помощников. Сгоришь – и дело с концом. А мне нужен кондуктор, который четко и слаженно работает на маршруте. Маршрут не должен закрываться, понимаешь? В этом бизнесе замешаны влиятельные люди. – Много у тебя таких маршрутов? Контроллер усмехнулся. Он сказал: – Каждый раз, когда ты едешь в маршрутке, трамвае, троллейбусе или даже трясешься в поезде дальнего следования – прислушайся к своим ощущениям. Если тебе не хочется выходить на своей остановке или, наоборот, ужасно хочется выскочить прямо сейчас, ни о чем не думая, – это мой маршрут и мой мир. Имей в виду и не благодари. – Не переживай, – сказал я, подумав. – Мне незачем сгорать. Наоборот, моя злость отлично подогревает. Ну, понимаешь, чтобы хорошо отдыхать после работы. Я не хочу ничего забывать. Он улыбнулся, поправил кепку с эмблемкой и похлопал меня по плечу. – Ну и отлично. Тогда послезавтра увидимся, в час пик соберем много сладкого.
Остановка «Парк Победы». Перехожу на второе бедро, выискивая подходящий участок среди синяков, ссадин, царапин и укусов. Срезаю лоскут кожи под вопли агонизирующего Валентина Марковича Беседина. Злость сочится сквозь поры. Когда-нибудь это закончится, но точно не на этом маршруте. – Едем дальше.
Дмитрий Тихонов Варина вера
* * *
Вечером, пробираясь в темноте сквозь заросли, стуча зубами от холода и чувствуя, как сходит с ума, Варя решила, что ей стоило умереть раньше, еще днем, по дороге в Ветлынов. Например, когда пошел снег. Вряд ли это могло отвести дальнейшие несчастья, но ее бы уже не было здесь, чтобы кричать, и вдыхать запах крови, и вздрагивать от каждого шороха. Да только разве сбежишь от грехов? Варя обрадовалась, когда пошел снег. Крупные невесомые хлопья врезались в лобовое стекло, расплываясь мутными пятнами. Мир снаружи тоже мутнел, искажался. Она тянула до последнего, прежде чем врубить дворники. Оказалось, что обочины уже укрыло белым, и еловый лес за ними, еще недавно мрачный и угрюмый, смотрелся теперь светлее серого неба. – Зашибись, – сказала Ксюха на заднем сиденье. – Выехали осенью, а приедем зимой. – Скоро стает, – махнула рукой Ленка. – Успеешь в грязи до самой жопы измазаться. – Ох, все успеем! – сказала Варя. Вряд ли в крохотном рабочем поселке в доброй сотне километров от областного центра найдутся чистые асфальтированные тротуары. Там асфальта может не оказаться вовсе. Ксюха утром на всякий случай предупредила мужа, чтобы был готов мчаться на дедовском УАЗе на выручку. Тот обещал целый день оставаться на связи. – Если что, я из машины не вылезу, – сказала Ленка. – Мне и тут хорошо. Посижу, музло послушаю. – Бросишь нас на съедение бабулькам? – Брошу. Да и должен же кто-то такую красоту охранять. Я деревенским не доверяю. Это верно. За машину Варя волновалась больше, чем за себя. Ни царапины, ни вмятинки. Кредит только что выплачен. Катайся по городу в свое удовольствие, на зависть подругам и коллегам – нет же, понесло к черту на рога, разыскивать внезапно нашедшуюся бабушку. Ее единственную родственницу. Варя выросла в детском доме и за всю жизнь не встретила ни одного человека, который бы приходился ей кем-либо по крови. Ни родителей, ни двоюродных братьев, ни малейшего намека на седьмую воду на киселе. Ее семьей стали вот эти девчонки, которых она знала столько, сколько себя помнила. Покинув прохладные объятия казенной воспитательной системы, они остались вместе – уже много лет жили неподалеку друг от друга, регулярно встречались, круглыми сутками болтали в соцсетях. Чем не сестры? Да, жизнь повела их разными тропами: Ксюха выскочила замуж, родила ребенка и подумывала о втором, Варя, получив образование, утонула в работе, любимой и хорошо оплачиваемой, и только Ленка, казалось, до сих пор не могла понять, чего хочет, металась между мужиками и занятиями – но эти три тропы пролегали рядом, и в любой момент можно было остановиться, окликнуть друг друга, подставить в трудную минуту жилетку или плечо. На сей раз поддержка потребовалась Варе. В последние годы ей наконец удалось смириться с обидой на мать и позволить себе быть обычным человеком. Когда-то ее нашли грибники на опушке леса – привязанную к дереву, изможденную трехлетнюю девочку в грязной курточке не по погоде, с запиской в кармане. В записке – только имя, нацарапанное грубым почерком. Но это было очень-очень давно, целую жизнь назад. Она не помнила ничего, лишь иногда в полусне являлась ей огромная злая чаща. И голос – мягкий женский голос, поющий песню, слов которой не осталось в памяти. Разумеется, было расследование, были поиски, были статьи во всех областных и даже одной центральной газете. И никаких результатов. Выяснилось, что трехлетняя Варя, возникшая словно бы из ниоткуда, нигде прежде не числилась. Она стала местной сенсацией, но ненадолго – к тому времени как девочка подросла настолько, чтобы понимать всю странность своего положения, о ней позабыли. Варя спокойно жила в детдоме, ничем не отличаясь от остальных воспитанниц. Разве что у тех все-таки имелись семьи – пусть неполные, пусть неблагополучные, пусть даже опасные для жизни. Ленкина мать, к примеру, приторговывала героином, а когда поставщики запаздывали – собой. Ксюхин отец обычно не задерживался на свободе дольше нескольких месяцев и ничуть не смущался таким положением вещей. Они пили, скандалили, пытались убить друг друга, пытались забрать детей домой, мерли как мухи. Но – были. У Вари на их месте зияла черная яма, в глубине которой загадочная женщина пела в лесу песню без слов. С холодом, ползущим из этой ямы, она справлялась как умела. Сначала – мечтами, учебой, живописью, картинами великих мастеров, запахом масляных красок, которые не могла себе позволить; потом – работой, смелыми проектами, грантами и премиями, запахом масляных красок, которые приносила из магазина домой, в квартиру-студию в центре города. Казалось, настало время склониться над черной ямой и сказать ждущей внизу тьме: – Ты не нужна мне больше. Я сама по себе. Но иллюзии развеялись позапрошлым вечером, стоило Варе получить письмо из Ветлыновского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Большой, ослепительно-белый конверт. Внутри лист бумаги с напечатанным на плохом принтере текстом, из которого следовало, что одна из обитательниц интерната указала ее, Варю, в качестве своей единственной родственницы. Внучки. Ей предлагалось приехать, чтобы заполнить и подписать некие документы. В любое удобное время. Варя не спала всю ночь. Загуглила Ветлыновский дом-интернат, нашла его ИНН, ОГРН, ОКПО и юридический адрес, отыскала местоположение на карте, просмотрела немногочисленные фотографии, наизусть запомнила имя руководителя, а потом до утра провалялась на диване, прижимая к груди телефон. Ровно в восемь она позвонила. После первого же гудка трубку взяла женщина, назвавшаяся администратором. Голос был молодой и приятный, хотя и заметно уставший. – Все верно, – сказала женщина, когда Варя объяснила, в чем дело. – Серафима Никитична сама сообщила и ваше имя, и ваш адрес. Она поступила к нам совсем недавно, и я, честно говоря, пока еще мало о ней знаю. Тут в деревнях сплошь староверы, документов никогда не признавали, поэтому вся информация только с их слов. Сведений о другой родне, кроме вас, нет. – Понятно, – сказала Варя, чувствуя, что вот-вот или разрыдается, или зайдется в хохоте. – Это точно недоразумение, но я приеду. В ближайшие дни. Одна бы она, конечно, не поехала ни за что. Не решилась бы. Нет-нет, ни в коем случае. Но девчонки поддержали. Тем же вечером они встретились в маленьком кафе возле Ксюхиного дома. Было уютно и тихо, только на экране над баром мельтешили беззвучно танцоры в пестрых футболках. Варя сразу вывалила все, почти слово в слово пересказав письмо и телефонный разговор. – На хер, – проворчала Ленка. – Даже не суйся. – Я с тобой, – сказала Ксюха. – Макс в отпуске, без проблем с Ильей посидит. В любой день. – Э! – Ленка в притворном возмущении всплеснула руками. – Мы пока не решили ничего! – А толку зря болтать? Если сейчас не поедет, потом будет жалеть. Неизвестно, сколько бабушка протянет. Староверы от хорошей жизни в дом престарелых не сдаются. – Скорее всего, это просто ошибка, – сказала Варя. – Откуда у меня взяться родственнице? После стольких-то лет. – Вот именно! И чего неймется? – сказала Ленка. – Живи спокойно. Я бы вот матушку свою забыла с огромной радостью. – Но ты с нами? – спросила Ксюха. – Само собой. – Ленка проводила взглядом симпатичного официанта. – Вас же вдвоем отпускать нельзя. Заедете в болото и машину утопите или маньяка на трассе подберете. Без меня край вам, короче. – Спасибо, девчонки, – сказала Варя, едва сдерживаяслезы. Сейчас, двадцать часов спустя, она все еще чувствовала эту благодарность. Иногда у нее даже получалось – пусть на минуту, на пару минут – забыть о том, куда и зачем они едут, и просто наслаждаться путешествием, ползущей навстречу мокрой дорогой и обществом подруг. Хотелось верить, будто именно об этом она мечтала в детстве – везти их на машине сквозь наступающую зиму, слушать музыку и болтать о пустяках. Но это, разумеется, была неправда. В детстве у нее имелась лишь одна сокровенная мечта. Разобрать слова песни. Различить среди густых лесных теней лицо. И, может быть, плюнуть в него. – Я все-таки не понимаю, – сказала Ленка, вертя в пальцах пачку сигарет, – каким образом бабуля выяснила, где ты живешь. Они уже обсуждали это. И вчера, и сегодня. Варя не хотела заходить на третий круг. – Вот у нее и спросим, – сказала она. – Пусть поделится старушечьими секретами. – Ей бы стоило еще чем-нибудь поделиться. Переписать на тебя дом, например. – Если он есть. – Как не быть? Стопудово есть. Большой бревенчатый деревенский дом, с печкой и огородом. Красота ведь, нет? Теплицы там, грядочки, сортир покосившийся. Коза, опять же, – Ленка говорила совершенно серьезно, с деланой задумчивостью. – Молоко свое будет. Что еще нужно? Займешься хозяйством, встретишь мужичка непьющего, рукастого, он тебя на тракторе станет катать, яблоню прививать научит. Крыжовник посадите. А потом, глядишь, и корову заве… Ксюха не выдержала первой, рассмеялась тонко и заливисто. Тотчас прыснула и сама Ленка, сбросив маску невозмутимости. Варя улыбалась, несмотря на ком в горле. Только что мимо промелькнул дорожный указатель, сообщающий, что до поворота на рабочий поселок Ветлынов остался километр. Путешествие заняло меньше полутора часов. Считай, пригород. Ленка с Ксюхой все еще острили про крыжовник и трактор, когда машина свернула с трассы. Проселочная дорога оказалась асфальтированной и на удивление ровной. За прозрачными березовыми посадками чернели пустые поля, перемежаемые вдалеке грязно-серыми рощами. Снег больше не падал. Ветлынов был невелик: с десяток трехэтажных многоквартирных домов на берегу реки да рассыпанный по окружающим холмам частный сектор. Несмотря на то что навигатор на Варином смартфоне впал в ступор и отказался показывать дальнейший маршрут, отыскать нужную улицу не составило труда – она ползла по самой окраине поселка и упиралась как раз в дом-интернат для престарелых. Сразу за ним начинался лес. – Приехали, – сказала Варя, припарковавшись на квадратном пятачке в сотне метров от входа. Ее машина была здесь единственной. – Идем? – Я на стреме, – сказала Ленка. – Серьезно, на хрена нам всем туда переться? Лучше покурю тут спокойно, занюхаю свежим воздухом. Если похотливые стариканы припрут к стенке, зовите – примчусь на помощь. – Договорились. – Ксюха уже выбиралась из машины. – Только не усни на посту. – Серьезно, – сказала Варя. – Это может быть надолго. – Да мне не привыкать пялиться в пустоту, – криво усмехнулась Ленка. – Уж лучше здесь, чем на смене. – Как скажешь. Снаружи бесновался ледяной ветер. Варя с Ксюхой, втянув головы в плечи, направились к интернату. Через газоны, превращенные непогодой в болото, к крыльцу вела широкая тропа, выложенная тщательно пригнанными друг к другу досками. Варя сразу узнала длинное приземистое одноэтажное здание с фотографий в Интернете. Правда, сделаны те были не меньше десяти лет назад: краска давно сползла со стен, а крытая шифером крыша успела обильно порасти мхом. Зато все окна теперь были пластиковые. Сразу за дверью, тоже пластиковой, их ждал крохотный темный вестибюль. И запах. В первую очередь – запах. Пахло разваренной лапшой, лекарствами, прокисшим хозяйственным мылом, хлоркой, потом и дерьмом. Ксюха наморщила нос, Варя, взглянув на нее, виновато пожала плечами. Стойки администратора здесь не было. В одном углу стоял потертый диван, в другом – тумбочка с телевизором. На стенах – распорядок дня, календарь, несколько групповых снимков в рамках да пара дешевых картин типа «Вечерний звон». Часы, висевшие над телевизором, отставали почти на сорок минут. – А Ленка молодец, – сказала Ксюха. – Я ей завидую. – Угу. – Варя скользнула взглядом по фотографиям. – Это же почти… – Почти детдом, – сказала Ксюха. – Точно. – Только отсюда уже не выбраться в большую жизнь. Варя заглянула в коридор левого крыла. Пол, облепленный блестящим в свете тусклых ламп линолеумом, бугрился инопланетным ландшафтом. Тишина. Ряды деревянных дверей. Она постучала в ближайшую, подергала ручку – заперто. – Идут! – окликнула громким шепотом Ксюха. Варя вернулась в вестибюль. Из правого крыла возникла невысокая плотная женщина в белом халате поверх вязаной кофты и шерстяной юбки в пол. Сквозь некрашеные, зачесанные назад волосы даже в полумраке просвечивала кожа головы. – Здравствуйте, – сказала она. – Приемные часы уже закончились. – Здравствуйте! Я к… – Варя вдруг поняла, что забыла имя той, что назвалась ее бабушкой. – Я вчера звонила. По поводу документов. – А, внучка Серафимы Никитичны? Вы со мной и разговаривали. Варя в этом сомневалась. Голос женщины, стоящей перед ней, низкий и осиплый, ничуть не походил на молодой голос, который она слышала в трубке прошлым утром. Разве что его обладательница внезапно заболела. Или состарилась. – Пойдемте, – сказала администратор. – Сейчас все решим. Она провела их в кабинет в правом крыле, усадила в большие пыльные кресла, достала из шкафа тонкую папку с бумагами. – Смотрите, – говорила она, перелистывая содержимое папки. – Вам беспокоиться не о чем. Серафима Никитична всю жизнь проработала в колхозе, получает пенсию. Из этой пенсии и оплачивается ее содержание у нас. Но по староверческим традициям брак она нигде не регистрировала, и детей тоже. Там, в этих деревнях, вообще не разобраться, кто чей родственник. Не будем же мы проводить экспертизу ДНК для каждой поступающей… – А давайте проведем, – сказала Варя. – Расходы я готова взять на себя. Просто, видите ли, я сильно сомневаюсь, что Серафима… Никитична на самом деле приходится мне бабушкой. Это все очень странно. Я никогда раньше о ней не слышала. – Но ведь вы же сирота? – Да. – Варя похолодела. – Откуда вы знаете? – Навели справки, – поджала губы женщина. – Входит в наши обязанности. – Допустим, сирота. Это же не значит, что любая старуха имеет право называться моей бабушкой! То есть она, конечно, может ей быть, но это надо проверить. И, повторю еще раз, я готова оплатить анализ ДНК. – Серафима Никитична вряд ли согласится. Вера у нее такая, понимаете? Она за всю жизнь ни разу даже зеленкой, наверное, не пользовалась. – Замечательно. – Варя вздохнула, пытаясь подавить раздражение. – Серафима Никитична не согласится на анализ, но я должна поверить на слово, что она моя бабушка. Так? Абсурд! – Можно попытаться ее уговорить, – задумчиво сказала женщина. – Тем более что процедура, насколько мне известно, безболезненная. Однако до тех пор, пока у нас нет результатов, будем полагаться на ее слова. Вы же, надеюсь, повидаетесь с ней? Может, удастся что-то прояснить? – Повидаюсь, – сказала Варя. – Я для этого и приехала. – Сейчас у нас завершается тихий час, так что придется чуть подождать. – Хорошо. Мы выйдем на крыльцо. На свежем воздухе Варе стало легче. Она с наслаждением подставила лицо ветру. Убогое убранство дома-интерната, пропахшее нищетой и безнадегой, затягивало, словно жадная трясина. Если признать Серафиму как-ее-тамошну бабушкой, нужно будет приезжать сюда снова. Если настоять на проведении экспертизы – тоже. Куда ни кинь, всюду клин – так, кажется, положено говорить в подобных ситуациях? Ленка, курившая у машины, помахала им рукой. Варя с Ксюхой помахали в ответ. Короткий ноябрьский день заканчивался, небо стремительно темнело. Если они задержатся здесь, уезжать придется уже в полной темноте. – Может, я в машине подожду? – сказала Ксюха. – Толку от меня нет. – Останься со мной, – попросила Варя. – Пожалуйста. – Ладно. Но на обратном пути ты разрешишь мне курить в салоне. – Договорились. – И не расскажешь Максу. – Никогда! – рассмеялась Варя. – Честное пионерское. Ксюха натянуто улыбнулась в ответ. Больше они не сказали друг другу ни слова. Через несколько минут женщина в белом халате выглянула на крыльцо: – Пойдемте. Она снова повела их в правое крыло – теперь до самого конца коридора. Из-за дверей доносились приглушенные голоса. Варя на ходу прислушалась. Мешал скрип половиц под линолеумом, но показалось, будто в одной из комнат читали молитву. Разобрать слов она не успела, потому что Ксюха спросила администратора: – Сколько у вас здесь человек? – Рассчитано на сорок койко-мест, – сказала та, доставая из кармана ключи. – Но сейчас занято меньше половины. Она остановилась у последней двери, с щелчком повернула ключ в замке: – Прошу. В узкой, тесной комнате не горел свет. В сумраке можно было различить только силуэт старухи, сидевшей сгорбившись на табуретке возле плотно закрытого окна. Подойдя ближе, Варя сумела рассмотреть засаленную кофту, белый платок, завязанный узлом под подбородком, и руки, сложенные на коленях: широкие ладони, костлявые пальцы, ребристые обломанные ногти, очерченные полосами намертво въевшейся грязи. От этих рук веяло нескончаемым, неизмеримым трудом. От этих рук пахло землей. В комнате были две кровати, застеленные пестрыми покрывалами. На одну из них, ближе к старухе, села Варя. Ксюха осталась стоять у стены. – А вот Варюшка, – сказала Серафима Никитична, не поднимая головы. – Варюшка моя. – Откуда вы меня знаете? – Варюшка моя-то. Варюшенька. Тварюшенька. – Простите? – Долго же ты искала дорогу. Несладко, небось, дома-то. Все по людям да по людям. – Извините, пожалуйста. – Первая растерянность прошла, Варя начинала злиться. – Мне нужно понять, как вы узнали мое имя и мой адрес. – Грехи говорят. – Старуха подняла лицо, но во мраке его нельзя было разглядеть. – Им ведомо. Им тебя хочется. В тебя хочется. Я-то уж все, не гожусь больше. Удави меня. Гневная отповедь, которой Варя хотела прервать старухино бормотание, завязла в зубах. Вместо нее переспросила Ксюха: – Что? – Удави меня, – повторила старуха, не сводя с Вари взгляда невидимых глаз. – Я на койку лягу, а ты вот эдак подушечку к лицу моему прижми да подержи чуток. Красная смерть, хорошая. – Бред какой-то… – Эти вот, – старуха кивнула на дверь, – всё просят не торопить. Дескать, исподволь надо, тишком. А неколи уж тишить-то, недолго мне осталось. Вот-вот приберут. Давай уж, внученька, не подведи. Я вот лягу, а ты эдак подушечкой придави… – Понятно. – Варя встала. – До свидания, Серафима Никитична. Ксюха, бросив взгляд на вход, изменилась в лице. Варя не успела обернуться. Дверь за ее спиной захлопнулась, щелкнул в замке ключ. – Погоди прощаться, Варюшка, – сказала старуха, поднимаясь. Она оказалась гротескно высокой, несмотря даже на сутулость, минимум на голову выше их обеих. – Не можно тебе уезжать. Уедешь – и ищи-свищи. А времени больше не будет, внученька. Чую, скоро кончаться мне. Рука ее метнулась в сторону, впилась в Ксюхино горло. Ксюха, захваченная врасплох, прижатая к стене, захрипела, попыталась оторвать узловатые пальцы от своей шеи, но те держали крепко. – Удави меня, – повторила Серафима Никитична, все так же не сводя немигающих глаз с Вари. – Или не жить ей. Знаешь, сколько я задавила, скольким подарила красную смерть? Что цыпленку башку свернуть – что подруженьке твоей. Варя стряхнула с себя оцепенение, сунула руки в карманы куртки, нащупала в одном из них ключи от машины с брелоком сигнализации. Надавила на кнопку, закрывая в автомобиле двери. Понимая, что нужно отвлечь безумную старуху, сказала: – Хорошо, Серафима Никитична. Вижу, шутить вы не настроены. Договорились. Отпустите ее, и я сделаю, как просите. Только объясните подробнее и покажите, потому что никогда раньше ничем подобным мне заниматься не приходилось. Ужас, обжигающий ужас клокотал в ней. Неожиданное внешнее спокойствие покрывало его тонкой пленкой, и та в любой момент могла не выдержать, разорваться, выпуская наружу кипящую панику. Чтобы не допустить этого, Варя постаралась сосредоточиться на произносимых словах и на кнопке, которую нажимала в кармане, – надавить, подождать несколько секунд, надавить снова. Запереть двери, отпереть двери. Только бы Ленка сообразила, что к чему! – Дело нехитрое. – Старуха разжала пальцы, освободив Ксюхино горло, и осклабилась, демонстрируя голые десны. Только из нижней торчали два желтых обломанных пенька. – Я прилягу, а ты, знать, вот эдак подушечку мне на лицо положи да прижми покрепче. Стану супротивляться, стану сбрасывать – не поддавайся, держи. Вот и вся наука. – А почему этого не могут сделать они? – Варя указала на запертую дверь, за которой ждала и наверняка подслушивала женщина, притворявшаяся администратором. – Им нельзя, мила моя. Никому нельзя, окромя тебя. От матери к дочери эта епитимья передается, и, стало быть, от бабушки к внучке. – Понятно. – Варя не вслушивалась в объяснения старухи, просто стараясь выиграть больше времени, но следующий вопрос задала искренне: – А где же моя мать? Почему вы не передали это ей? – Дак она манда лживая, – сказала старуха спокойно. – Воровка, на геенну огненную обреченная во веки веков. Украла тебя у нас, никонианам да безбожникам отдала, слугам Антихристовым. Я ж ей потом самолично своротила шею-то. Почитай, четверть века как в земле она. Черви, поди, уж дочиста обглодали всю. – Ладно. Тогда давайте… В коридоре что-то упало, со звоном разбилось, следом послышались крики и шум. Варя узнала голос Ленки. Ксюха тоже – мгновенно сообразив, что происходит, она бросилась к двери, забарабанила в нее: – Мы здесь! Нас заперли! Старуха ринулась следом. Варя встала у нее на пути, но Серафима Никитична одним движением отбросила ее в сторону, на кровать, а сама схватила Ксюху за волосы и со страшной силой рванула на себя, уронив навзничь. От удара об пол девушка, похоже, потеряла сознание, потому что не сопротивлялась и даже не шевелилась, когда старуха взгромоздилась на нее сверху. Варя хотела столкнуть Серафиму Никитичну с подруги, но с тем же успехом могла попытаться сдвинуть с места гранитную статую – чертова карга оказалась на удивление тяжелой и плоть ее под шерстяной кофтой на ощупь была как камень. – Тоже в землю ляжете, отродья, – сказала ей бабушка. – Всем вам постелю постельки из червей, всех с собой в геенну заберу, ежели не покоришься. Дверь распахнулась. На пороге стояла Ленка с перцовым баллончиком в правой руке. Левой она прижимала к лицу шарф. Старуха обернулась и, увидев ее, зашипела, словно огромная кошка. Черные костлявые пальцы стиснули шею Ксюхи, а потому Ленка, шагнувшая было вперед, осталась на пороге. Варя подошла к ней, чувствуя, что вот-вот разрыдается. Аэрозоль, распыленный в коридоре, наполнял горло сухой шершавой болью. С каждым вдохом становилось хуже. Она закрыла нос рукавом. Серафима Никитична, не сводя с них глаз и не выпуская из рук Ксюху, медленно отползала в дальний угол комнаты. В плавных движениях ее было что-то нечеловеческое, примитивное – так двигаются игуаны или хамелеоны, древние хладнокровные ящерицы. Так ползают сытые змеи. Добычу свою она волокла без всякого труда. Варе померещилось, будто в темноте глаза ее мутно поблескивали. – Скажи ей, чтоб не артачилась, – прошипела старуха. На сей раз она обращалась к Ленке. – Заставь сделать, что должно. Или Ксюшенька пойдет со мной. Находиться в коридоре стало невозможно. Слезы текли ручьем, горела кожа, каждый вдох причинял мучения. Ленка схватила Варю за рукав и потянула в сторону вестибюля. Сделав несколько шагов, они едва не споткнулись об администратора, сидящую у стены и мучительно хрипящую. Ленка пнула ее в ребра, потащила за собой. Женщина не сопротивлялась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они выбрались на крыльцо. Варя зашлась в кашле. Ноги едва держали ее, глаза резало. Ленка же была полна сил и злости. Она встряхнула лжеадминистратора, хлестнула по щекам, заорала прямо в лицо: – Вы что творите, суки?! В ответ донеслось неразборчивое слюнявое бормотание. Ленка ударила ее еще пару раз, вцепилась в редкие волосы: – Отвечай, сучара! Грабануть нас задумали? Убить?! Женщина тихо запричитала, не поднимая век, из-под которых до сих пор катились слезы: – Нет… Серафиму Никитичну надо убить… удавить. Это должна сделать внучка. – Да, – сказала Варя. – Она просила о том же. Удавить ее. Подушкой. – Совсем края потеряли, – рычала беснуясь Ленка. – Что за чушь?! – Мы ревнители… древнего благочестия… у нас с самого раскола, считай, попов-то и не было. Некому отпускать грехи… – Женщина говорила быстро, словно боясь не успеть, боясь, что вот-вот ей в лицо снова ударит жгучая струя ирританта. – Вот и стали умирающих давить. Так-то они ж наверняка на небеса попадут… Это из поколения в поколение передается. Душила тебя душит и грехи твои на себя берет. Понимаете? Но грехи ж не отпущены – они все здесь остаются, копятся и копятся как снежный ком… – Она закашлялась, выплюнула густой комок бесцветной слизи. – Душилу тоже потом задушить надо, иначе грехи накопленные освободятся – за все поколения сразу… а никому другому нельзя, кроме дочери или внучки, к другому не уйдут грехи. Их кровь ведет… Она вырвалась из Ленкиных рук, шагнула вслепую к ошарашенной Варе, бухнулась перед ней на колени: – Виноваты мы, девонька! И в обмане, и в том, что так долго отыскать тебя не могли! Вижу, жизнь среди никониан не прошла даром, душу твою исцарапала. Нет в тебе веры, ну так это поправимо Божией милостью. Она вернется, вера-то, только сделай, о чем просим… – Я не собираюсь никого душить, – сказала Варя, вытирая краем рукава слезы. – Не собираюсь никого убивать. – Надо! – Женщина вцепилась ей в джинсы. – Надо, милая, иначе беда будет. – Нет-нет-нет. Беда будет, если вы не отдадите нам нашу подругу. Я звоню в полицию. – Звони! Куда хочешь звони, но сперва удави Серафиму. Христом Богом прошу, умоляю, удави ее! А потом звони, и я им совру, что сама задушила. Так мы и собирались сделать – сказать слугам Антихристовым, мол, моя вина. Клянусь, мы… За дверью раздались шаги. И всхлипывания. Ленка, успевшая сунуть баллончик в карман, снова выхватила его. – Беда, – прошептала администратор и, выпустив Варины джинсы, прижалась лбом к мокрым доскам пола. Дверь открылась. На крыльцо вышла Ксюха. Обе руки были испачканы красным. Даже в сгустившемся мраке Варя сразу поняла, что красным. Красное пахло медью. – Господи, – сказала Ленка. – Я ее зеркальцем, – сказала Ксюха, глядя на них широко распахнутыми глазами. – Из кармана выпало у меня. Треснуло пополам. Я взяла и вот сюда ее, – она ткнула окровавленным пальцем себя под подбородок. – А потом в сторону. Первой, спустя несколько очень долгих секунд, очнулась Ленка. Она обняла подругу, прижала к себе, пригладила растрепанные волосы, сказала: – Ты все сделала правильно. Сейчас мы тебя отсюда увезем. – И остановила Варю, подавшуюся было к дверям интерната. – Давай к машине. Уезжаем. Варя покачала головой. Больше всего на свете ей сейчас хотелось оказаться в машине, мчащейся прочь, но, несмотря на шок, она не утратила способности просчитывать последствия. Секрет ее успеха как дизайнера заключался именно в этом – понимать, какое впечатление производит на людей увиденное. – Нельзя уезжать. Это место преступления. Нужно вызвать полицию и все объяснить. – Какую полицию? – зашипела Ленка. – Что ты им объяснишь? Что мы ворвались в дом престарелых, одну старушку избили, а вторую зарезали? Надо сваливать, пока не поздно. – Куда вам, – сказала лжеадминистратор, не поднимая головы от пола. – Разве сбежишь от грехов-то? – Заткнись! – Ленка пнула ее опять. Варя, воспользовавшись тем, что подруга отвлеклась, прошмыгнула в дверь. Большая часть аэрозоля в коридоре успела осесть, и, хотя дышалось по-прежнему с трудом, теперь здесь хотя бы можно было находиться с открытыми глазами. На пороге последней комнаты Варя замерла, собираясь с духом. Серафима Никитична лежала в густых тенях, на спине, раскинув руки. Платок развязался, густые седые волосы рассыпались по полу. На запрокинутом лице застыла гневная гримаса. Из уголка рта по морщинистой щеке к уху стекала тонкая струйка крови. Увидев девушку, Серафима Никитична дернула головой. Варя взвизгнула, отступила, крикнула в сторону вестибюля: – Она еще жива! – и снова попыталась приблизиться к старухе. Та дернула головой снова – из стороны в сторону, будто запрещая внучке подходить. Желтое лицо ее при этом оставалось неподвижным. Варя нащупала выключатель, щелкнула им. Зажглась одинокая лампочка в мутном, засиженном мухами плафоне. Серафима Никитична была мертва. Из длинной раны на шее, разрывая края, выползало нечто уродливое, бесформенное, похожее на пучок переплетенных корней. Выбираясь, оно судорожно извивалось, заставляя голову старухи двигаться. Варя прикусила губу, попятилась. Существо скатилось на ковер – просто окровавленный комок грязи размером с трехмесячного котенка. Оно вздрогнуло и открыло глаза. Варя не помнила, как снова очутилась на крыльце. Вдохнула холодную темноту, резко бросила подругам: – Поехали. – И направилась к машине. Ленка с Ксюхой без вопросов последовали за ней, умостились на заднем сиденье. Ксюха молчала, глядя перед собой, а Ленка утешала ее, как умела. Теплый, почти домашний свет в салоне отрезал их от внешнего мира, сделал тьму за окнами непроницаемой. Очень хотелось забыться, расслабиться на минутку, сдаться на милость этого уютного света. Очень хотелось подобрать разумное, логичное объяснение тому, что явилось ей в дальней комнате Ветлыновского дома-интерната для престарелых и инвалидов, будь он трижды проклят. Очень хотелось отменить к чертовой матери все события последнего дня, выкинуть письмо в корзину, не распечатывая. Но таких возможностей у Вари в запасе не имелось. Все, что она могла предпринять, это вывести машину со стоянки и поехать прочь сквозь недвижный, мертвецки тихий Ветлынов, постоянно удерживая себя от того, чтобы вдавить педаль газа в пол до упора, – не хватало еще влететь в кого-нибудь на здешних узких неосвещенных улицах. Когда рабочий поселок остался позади, Варя прибавила скорости и немедленно почувствовала себя лучше. Но ненадолго. – Так старуха жива? – спросила Ксюха через пару минут. – Или все-таки сдохла? – Сдохла, – сказала Варя. – Мертвее не бывает. Даже не сомневайся. – У тебя не было выбора, – мягко сказала Ленка. – Я бы сделала то же самое. – Вы бросили меня, – сказала Ксюха не слушая. – Вы бросили меня и ушли. – Неправда, – Ленка продолжала говорить ласково, будто утешая поранившегося ребенка. – Мы собирались вернуться, как только… – Все верно, – прервала ее Варя. – Я испугалась, Ксюш. Я очень испугалась и сбежала. Извини! Извини за то, что притащила вас обеих в эту дыру. Мне очень жаль. Обещаю, что все возьму на себя. – В смысле? – В смысле, в полиции. Я сознаюсь, что сама перерезала горло той чокнутой бабке. Вы обе тут ни при чем. Сейчас вернемся в город, развезу вас по домам, а потом поеду в отделение и напишу заявление. Надо только сочинить общую версию событий, чтобы потом друг другу не противоречить. – Ты же могла просто согласиться на ее предложение, – сказала Ксюха. – Ты могла просто согласиться и задушить ее подушкой. Никто бы не задавал вопросов, правда? Очередная бабка откинулась в доме престарелых – да всем насрать! – Ксюх, послушай… – Но нет! Тебе нужно повыпендриваться! Ты, мол, не такая, и мысли об убийстве не допустишь. А сейчас вы уговариваете меня, что я все сделала правильно. Да посмотрите на мои руки – как теперь брать на них Илюшку? Как? Я даже прикоснуться к нему не смогу! Никогда больше не смогу! Она разрыдалась. Ленка попыталась было снова обнять ее, но Ксюха отодвинулась, уронила лицо в покрытые запекшейся кровью ладони. – Ты не отпустила меня, – хрипло выла она сквозь пальцы. – Я же боялась, я просила, но ты не отпустила меня. А потом отдала ей! Принесла в жертву, лживая ты манда… Варя закусила губу. Лживая манда. Мертвая старуха, лежащая на вытертом ковре, и тварь, рожденная из разорванного горла. Затряслись руки, сердце замерло. Понимая, что сейчас разревется, Варя свернула на обочину и остановилась. – Не могу, – сказала она в ответ на вопросительный взгляд Ленки. – Погоди минутку. – Зря тебя нашли тогда, – выпрямившись, отчетливо произнесла Ксюха неожиданно спокойным голосом. – Лучше бы ты скопытилась в лесу. Она открыла дверь и выскочила в темноту. Ленка, выматерившись, последовала за ней. Варя откинулась на спинку кресла и заплакала. Слезы не приносили облегчения. Жизнь рассыпалась на клочки, распалась на отдельные кусочки пазла, и из этих кусочков теперь собирался сам собой совсем иной, чудовищный рисунок. И с него злобно смотрели бесчисленные звериные глаза. – Стой, дурочка! Куда ты? Давай дома во всем разберемся! – Ленкины крики, доносившиеся снаружи, становились все тише. Через минуту они стихли окончательно. По шоссе мчались автомобили, один за другим проносились всего в паре метров от Вари, убаюкивая ее, словно морской прибой. Она утонула в этом море, начала клевать носом, задумалась о том, какое зеркальце подарит Ксюхе взамен потерянного. Завтра же закажет что-нибудь крутое в интернет-магазине. Они соберутся в том уютном кафе возле ее дома, и снег уже будет лежать, и все вокруг будет уже другое, зимнее, чистое. Симпатичный официант принесет бутылку самого дорогого вина, и Варя попросит у подруг прощения и пообещает никогда, никогда больше не знакомить их со своими родственниками, и они засмеются, и… Что-то промелькнуло перед машиной в свете фар. Что-то большое, но бесшумное. Варя вжалась в спинку сиденья. Погруженная в мечты, она не успела разглядеть существо – человек? медведь? лось? кто еще водится в этих местах? – и даже не была уверена, что оно не привиделось ей. Варя вытащила из кармана телефон, набрала номер Ленки. Долгие гудки. Чуть подождав, набрала номер Ксюхи. Модный смартфон в пестром чехле, последний подарок Макса, зажужжал на заднем сиденье. Варя, с трудом поборов вдруг возникший порыв просто уехать, вышла из машины, включила на телефоне фонарь. Ночной ноябрьский лес встретил ее полной тишиной. Лишь влажно хрустели ветки под ногами. Было холодно, воздух вырывался изо рта белесым паром. Отойдя на порядочное расстояние от обочины, Варя обернулась, убедилась, что видит фары автомобиля, и принялась звать подруг. Никто не откликался. Она прошла вперед вдоль дороги, потом вернулась назад, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, надеясь на шум шагов или голоса, но лес оставался молчалив. Углубляться в него Варя не решалась. Ленку она нашла случайно, решив сделать еще один круг. Девушка лежала в канаве, почти полностью скрытая пожухлой травой – скорее всего, поэтому Варя и не заметила ее, когда проходила рядом в первый раз. Шея Ленки была истерзана так, что виднелись шейные позвонки, куртка насквозь пропиталась кровью. Пальцы обеих рук оставались стиснутыми в кулаки. Глядя в лицо мертвой подруги, кажущееся снежно-белым в свете телефонного фонаря, Варя перестала чувствовать страх. Он просто выключился где-то внутри нее. Предохранитель полетел. От грехов не сбежать, да? Не сбежать, как бы ты ни боялся, как бы ни старался уцелеть, обмануть судьбу. Грехи – вернее любой собаки. Слышали про псов, которые преодолевают сотни километров, чтобы вернуться к хозяину? Грехи так делают всегда. Сотни, тысячи, сотни тысяч километров. Расстояние не имеет для них значения. Варя побрела через лес, оступаясь, крича во весь голос, отчетливо осознавая, что повредилась рассудком из-за потрясений этого чересчур длинного, но еще не успевшего закончиться дня. Лишившись страха и разума, она наконец поняла, что звериные глаза, горящие в темной яме прошлого, следят за ней не со злобой, а с надеждой. Что Серафима Никитична, сошедшая в преисподнюю, в адском пламени молится за нее. Что кошмар, рожденный сегодня, не остановится, пока не пожрет все, что дорого его родителям. И когда Ксюха, ошарашенная, слепая от ужаса, выбежала навстречу из чащи, она возрадовалась. И когда следом за Ксюхой из мрака возникли грехи – тоже. За какой-то час, прошедший с тех пор, как Варя видела их в доме престарелых, грехи успели вырасти и напоминали теперь огромного, вставшего на дыбы медведя – если бы медведь этот состоял из непрерывно шевелящейся массы черных корней, среди которых тут и там сверкали круглые водянистые глаза. Забитые до смерти жены, погубленные младенцы, отравленные старики – все были здесь. Сожженные избы, погнившие посевы, изведенная скотина – все было здесь. Дымные кабаки, укромные углы, треснувшие от боли зубы, сгнившие от мучений души – все двигалось, жило, переплеталось в этом большом, вечно голодном, вечно страдающем ненастоящем теле. – Постойте! – крикнула Варя грехам, заключив в объятия Ксюху. – Я ваша племянница. Я верую! Грехи остановились в нескольких шагах, обвили конечностями стволы деревьев. Взгляды десятков глаз обратились к ней. Варя поцеловала дрожащую Ксюху. – Прости, – сказала она. Не дрожащей, обезумевшей от страха женщине, а смелой девчонке, с которой когда-то убегала по коридорам детдома от разъяренных воспитателей. Ленке, с которой много лет назад выкурила первую свою сигарету. Матери, которую, не зная, всю жизнь презирала отчаянно и справедливо. Поняв, что происходит, Ксюха попыталась оттолкнуть подругу, но в измотанном теле уже не оставалось сил. Варя с легкостью удержала ее, повалила на сырую траву, обхватила руками горло, синее от пальцев Серафимы Никитичны. Да, днем она внимательно смотрела. Она усвоила урок. – Я верую! Усевшись на Ксюху, Варя душила ее, дарила ей красную смерть, а грехи нависали сверху, принимая экзамен. И когда агония прекратилась, когда Варя поднялась с трупа, растирая уставшие пальцы, грехи обняли потерянную, но вновь обретенную племянницу и стали с ней одним целым. Поколения и поколения преступлений, страстей и пороков – всего рожденного в земле и неспособного подняться к небу – облепили сердце черной глиной. Когда Варя вышла к машине и села за руль, в ее душе царил покой. Впервые за долгие годы она не хотела вспомнить слова песни, что мать – лживая манда, на геенну огненную обреченная, – пела ей перед расставанием. Впервые она была сама по себе.Елена Щетинина Вдоль села Кукуева
* * *
30 июня 1882 года, 1 час 14 минут ночи Московско-Курская железная дорога, неподалеку от станции Крестцы– По реке плывет кирпич… – хриплым голосом затянул мужик с пегой клочковатой бородой. – Фдой сейа Кукуефа! – подхватил парнишка лет семнадцати. Заячья губа превращала его речь в кашу, поэтому Николка скорее понял, чем расслышал эту строчку. – Ну и пусть себе плывет! – продолжил мужик. – Железяка ху… – Остатки фразы потонули в грубом хохоте, от которого, казалось, вагон содрогнулся и подскочил на рельсах. Николка потряс головой – левое ухо, которое он месяц назад застудил на водах, снова заложило, словно туго забило нащипанной корпией. Он вздохнул, закрыл блокнот, в котором уже часа полтора записывал частушки, шутки, байки и крепкие словечки, – и медленно встал, стараясь не сбить плечами наваленные горой узелки и корзинки: со своим ростом он чувствовал себя в этом набитом людьми и скарбом вагоне как в коробке. Ведь и Николкой-то прозвал его дядюшка Иван Сергеевич в шутку, обнаружив, что ниже племянника на целую голову.
– Ну Николка так Николка – вымахал, – одобрительно прогудел тогда, год назад, Иван Сергеевич в бороду, пытаясь подражать крестьянскому выговору. Вышло неплохо – хотя из крестьян дядюшка если и общался с кем, так с охотниками да псарями. – «Достань воробушка» еще не просят? – У нас в университете серьезные люди, дядюшка. – Николай одернул новенькую студенческую форму, пытаясь поймать натертыми до блеска пуговицами свет и пустить солнечного зайчика. – Такие шутки не по статусу. Николай чувствовал себя неловко: дядюшку он почти не помнил. Да, батюшка рассказывал, что, мол, Иван Сергеевич качал маленького Николашу на коленях – но когда это было-то! Потом они поболтали о чем-то совершенно несущественном – о погоде, о Париже, о дамах (и, прежде всего, о m-me Viardot) – и расстались, обнявшись по-родственному и пригласив друг друга в гости. Впрочем, понимая, что вряд ли воспользуются этим приглашением.
Николка тряхнул головой. В ухе что-то оглушительно чмокнуло – и оно снова стало слышать. – Ох, свят-свят, – бормотала какая-то старуха. – Не к добру мы в эту железную коробку сели, не к добру. – Да ты что, бабка, – оскалился пегий мужик. – Чай боисся? – А вот боюсь, – с вызовом ответствовала старуха и перекрестилась. – Боюсь! Потому что богопротивно это! Где видано, чтобы люди в железных коробках, запряженных змием огненным, ехали? Пламя-то адское, ась? Ась? – Дура ты, бабка, – лениво ответил мужик. – У меня кум сказывал – это анжинеры придумали! Пламя обычное, от угольев идет. – Нееет! – Старуха встала со своего места и нависла над мужиком, грозя ему скрюченным желтым пальцем. – Нееет! Сам глянь – суета, беготня, шум! Содомская суета! Бесовская! – Да буде тебе, бабка. – Мужик попытался уклониться от грозящего перста, который так и норовил уткнуться ему в глаз. – Люд рабочий возится, балагурит – всяко шум будет. – Нееет! – старуха заблеяла и затрясла головой. – Нееет! За грехи наши, за грехи эндакую штуку придумали! И несется она прямо в адское пекло! А ты сам послушай, сам! Слышь? А? Слышь? – Что? – нехотя спросил мужик. – Стон! – визгливо выкрикнула старуха. – Пропащие души в адском пекле стонут!
Николка не выдержал и захохотал. И замолчал, только когда понял, что в вагоне повисла мертвая, свинцовая тишина. Он поперхнулся смехом: тот встал у него в горле колючим холодным комом. Все, кто был в вагоне – мужики, бабы, даже дети, несмышленые младенцы с мутным взглядом – уставились на него. Воздух сгустился еще сильнее, став похожим на бланманже – но бланманже с привкусом миндаля, бланманже, которое подают на поминальных обедах. Николка нервно улыбнулся, стиснув в руках блокнот. – Не души стонут, – сказал он, пытаясь казаться уверенным. Какого черта он потащился сюда, в этот мужицкий вагон, с одним лишь блокнотиком? Хоть бы ножик для разрезания бумаги взял! Мужики, бабы, младенцы молчали. – Не души стонут. – Он хотел сказать твердо и четко, но голос внезапно осип и выдал петуха. – Не души. Это котел свистит. Пар. Просто пар. Как в бане. – Не бреши! – взвизгнула старуха. – В бане пар чистый! Он грехи выгоняет, душу очищает! А тут не пар, не пар, не пар! Змия огненного дыхание! Мы все у него в кишках сидим! Николка растерянно обернулся, ища глазами хоть какую-то поддержку. Ладно старуха – ей простительно, она слишком дремуча и не в состоянии воспринимать ничего нового, но тот пегий мужик, который пытался ответствовать ей, – где он? И где паренек с заячьей губой – они же были тут, сидели рядом на лавке, поставив ноги на тюки? Тюки лежали на месте – но там, где сидели мужик с парнем, лишь валялись какие-то узлы. – Ну это же глупо, – робко улыбнулся он разом всем. Улыбка вышла какая-то перекошенная. – Это просто поезд. – А хтой-то придумал энтот поезд? – вкрадчиво спросила старуха. – Англичане, – опрометчиво ответил Николка. – Ага! – заверещала старуха. – Бусурмане русские души погубить хотят! Они черными людьми промеж нас ходют, плевелы сеют. Кто плевелу подолом одежды зацепит, али вдохнет случаем, али проглотит невзначай – тот в тоске смертной изойдется! Вот что энтот черный дым, что змий окаянный выдыхает, делает – плевелы в себе несет! Старушечий голос – высокий, дребезжащий, надтреснутый, забился в его голове, как назойливая осенняя злая муха о стекло. Метался, истошно подвывая, рассыпаясь хриплыми вздохами, кряхтел и подвизгивал. Николка скрипнул зубами.
Угораздило же его родить эдакую придумку – сделать дядюшке к именинам подарок: записать мужицкие байки, песенки и словечки да преподнести блокнотик как сборник идеек для следующего романа. Придумка казалась хороша. И весьма легка в исполнении. Всего-то – во время возвращения домой, в Поганцево, перейти в мужицкий вагон да послушать там тихонько. Разумеется, на деле все оказалось не так-то просто. Для того чтобы показаться своим в мужицком вагоне, Николке пришлось прикинуться вусмерть пьяным: икать, рыгать, бормотать что-то неразборчивое и даже припустить слюну себе на куртку. Николка бродил среди пассажиров – и никак не мог понять: почему здесь только крестьяне и солдаты? Да, он презрительно называл третий класс мужицким вагоном, но здесь должны были быть и фабричные, и священники, и даже бедная интеллигенция. Почему только мужики и солдатня? И редкие бабы с младенцами. И эта безумная старуха. Хотя где она?
Николка вдруг только что отчетливо понял, что голос старухи все еще дрожит и мечется в прокуренном тяжелом воздухе – но ее самой уже нет. Он дернулся и оглянулся, лихорадочно обшаривая глазами лица – белые, словно вылепленные из сырого теста, темные, как старое дерево, красные, будто парное мясо. Мужики, бабы, младенцы. Бороды, косы, космы, редкие усишки. Старухи не было. Нигде. Она словно исчезла, испарилась, втянулась в спертый воздух, как сизый табачный дым. Николка едва удержался от того, чтобы не броситься заглядывать под тюки, ворошить узлы, просить подвинуться, показать – нет ли старухи за спиной. Его бы не поняли, обсмеяли, ему бы дали в зубы. Людей было много, слишком много – кажется, даже больше, чем мог вместить вагон. Куда смотрел кондуктор, когда проверял билеты? Под подошвой что-то хрустнуло – громко, отчетливо, не как шелуха. Николка отдернул ногу – птичий череп. Маленький, с детский кулачок, он раскололся надвое, как орешек, но вместо вкусного ядрышка в нем зияла пыльная пустота. Николка поднял голову. Никто уже не обращал на него внимания – курили, жевали, болтали, сплевывая на пол густую, темную, тягучую слюну. Ему показалось, или здесь уже не было ни одного из тех лиц, что он видел минуту назад?
30 июня 1882 года, 2 часа 32 минуты ночи Сад «Эрмитаж» на Божедомке, Москва Ужинать сели, когда едва-едва начало светать. Из садового кабинета антрепренера Лентовского открывался чудный вид на березовую рощу. Небо светлело, становясь оттенка табачного дыма – мягко-серого, с молочной акварельной белизной. На столе нежно розовели тонкие до прозрачности ломтики провесного окорока – Гиляровский подцеплял их вилкой сразу с полдюжины и ловко накручивал на зубцы, – манил янтарным, каким-то глубинным светом балык, подрагивал от громких разговоров упругий, блестящий галантин – ужин был скромным, но разнообразным, под стать напиткам. Отдельно, на самом краю стола, на тарелке белого фарфора одиноко тосковала ржавая сельдь. Ее принес храпящий сейчас на диване трагик Любский – даже и не помня в пьяном угаре, откуда и зачем она оказалась у него в руках, в промасленной рваной газете. Хозяин ужина, при общей молчаливой поддержке, брезгливо сдвинул сельдь подальше – чтобы не смущала и не портила аппетит. Гиляровский уже и забыл про приношение трагика – но сейчас его взгляд наткнулся на эту тарелку. Сельдь лежала на правом боку, кося мутным полувытекшим глазом. Разводы ржави на ней были похожи на недосмытую запекшуюся кровь. Отчего-то захотелось пить – но не холодной смирновки со льдом, не терпкого, вяжущего язык шампанского, не густого, тягучего лиссабонского московской фабрикации, – а воды. Обычной воды. Колодезной, холодной до ломоты в зубах – и чистой. Гиляровский пошарил взглядом по столу – воды не было. Только белый сухарный квас стоял в огромной пузатой бутыли – но при мысли о нем в горле отчего-то запершило, словно драли сухие крошки, будто забивался песок. Он протянул руку, схватил закупоренную бутылку вина, впился зубами в пробку, резко мотнув головой, выдернул – заметивший это управляющий Московско-Курской железной дорогой Шестаков лишь тихонько восхищенно охнул – и жадно, скорее вливая вино в горло, чем выпивая его, выхлебал добрую половину бутылки. Вкуса даже не почувствовал – словно воздух глотал – и только по розовой этикетке понял, что это был портвейн от Депре. Снова бросил взгляд на селедку. Та смотрела на него – как ему показалось – неодобрительно. Ей что-то не нравилось: то ли что она здесь, то ли – что он. – Что? – шепотом спросил Гиляровский селедку. – Чего зенки лупишь? По его рассуждению, разговаривать с рыбой надобно было как с извозчиками – грубо и уверенно. Сельдь разинула рот – на мгновение Гиляровскому почудилось, что он увидел мелкие и острые, как швейные иглы, зубы, – и оттуда полилась грязь. Жидкая, слизистая, с бугристыми комками, она выплеснулась на белоснежную кружевную скатерть и начала расползаться вязкой, липкой лужей. – Эй! – Гиляровский оттолкнул стол и вскочил, ища взглядом буфетчика. – Эй! Тут… Грязь исчезла. Сельдь лежала на тарелке недвижима и тихо тухла. Гиляровский нервно обтер лицо салфеткой – такого с ним не было, даже когда он пил с извозчиками водку на скорость в трактире в Столешниковом. Он осторожно ткнул в сельдь указательным пальцем. Чешуя промялась, выступила слизь, из-под жабр вышел тяжелый дух. Гиляровский аккуратно, как покойника, прикрыл сельдь салфеткой, сел обратно и стал прислушиваться к разговорам. – Отравили Михал Дмитрича-то, отравили как пить дать. – Ну так сам-то яд и принял же! Вы что, не слышали, что ли? Поговаривают, что с нигилистами связан был – и разоблачили его. А для генерала лучше смерть, чем бесчестье. – Ерунда все это, – лениво проговорил Шестаков. – Какие нигилисты, право слово. Что Скобелеву было до них? Где они – и где он, Ак-паша, равный Суворову? Бисмарк, скажу я вам, Бисмарк тут причастен. – Довольно сплетен! – Мышиный шорох перешептыванийразорвал зычный бас Лентовского. От удара кулаком стол содрогнулся, из стаканов плеснулись водка, мадера, венгерское. – Вранье! Все вранье! Белый генерал был просто пьян – и кончил разрывом сердца. Он жил славно – так давайте почтим его память! Шампанского! Шампанское запузырилось в бокалах, заскрипели отодвигаемые стулья. Встали, выпили, помолчали. Сельдь под салфеткой шевелилась. С края тарелки сыпался мелкий серый песок.
30 июня 1882 года, 2 часа 35 минут ночи Московско-Курская железная дорога, 320 верст от Москвы Поезд мчался сквозь ливень и ветер, грохоча и покачиваясь. Николка стоял в коридоре второго класса, высунув голову в окно и подставив лицо холодным и колючим струям дождя. Его мутило. В ушах до сих пор стоял старушечий визг. Идти к тетушке, которая, наверное, уже дремала, закутавшись в шаль, ему не хотелось. До рассвета еще три часа – может быть, он проведет их здесь, представляя, как преподнесет дядюшке Ивану Сергеевичу заветный блокнот. Зазевавшись и задумавшись, он высунулся чересчур сильно – вода попала в нос и рот, он поперхнулся и, откашливаясь, занырнул обратно, в тепло и тишину сонного вагона. Снаружи, за тонкой деревянной стенкой, бушевала стихия, вырывая с корнем слабые кусты, ломая тонкие деревца, вбивая в норки, как кувалдой, мышей, кротов и сусликов. А здесь было тихо и покойно, и даже время застыло – как масло в погребе. «Дядюшка сказал бы лучше, – отчего-то подумалось ему. – Дядюшка бы подобрал правильные слова». Он вздохнул и нащупал в кармане блокнотик. Глупая идея. Удалось исписать лишь с десяток страниц – и то лишь какими-то похабными шуточками про живых мертвецов, у которых отпало естество, присказками о земле-матушке да частушкой про Кукуево. Что из этого пригодится дядюшке? К тому же Иван Сергеевич болен, живет то в Париже, то в каком-то имении подле – зачем ему эти крестьянские забавы? Колеса стучали на стыках, ливень бился в стекло, швырял в стены вагона горсти мелких камней. Николке казалось, что это тикают часы – десятки разнообразных механизмов, будто собранных в одной лавке. Кто-то в дальнем конце вагона храпел, выводя сложную трель, которая заканчивалась испуганным бульканьем, – и это тоже было словно часы. Что отсчитывают они? Чье время? И, самое главное, – когда оно закончится?
30 июня 1882 года, 2 часа 43 минуты ночи Московско-Курская железная дорога, станция Чернь Кондуктор почтового поезда № 4, следовавшего из Курска в Москву, был встревожен. Он ворвался к станционному смотрителю без стука или даже простого приветствия – взъерошенный, взмыленный, мокрый как утопленная мышь. – Телеграф! – выпалил он с порога. – Телеграф, срочно! Сонный смотритель устало взглянул на него. – Не работает, – процедил. – С вечера уже как. Не видишь, что ль, какое светопреставление на улице? Утром чинить будем. Кондуктор растерянно опустился на стоявший у дверей колченогий, засиженный мухами табурет. – Но… как это… – пробормотал он. – Надо же предупредить. Второй поезд, что из Москвы идет… его же предупредить надо… Смотритель подумал немного, потом встал, подошел к маленькому шкафчику, достал оттуда бутыль с чем-то прозрачным, откупорил – по комнатушке разнесся острый запах спирта, – посмотрел стакан на свет, дунул в него – и наполнил до краев. – Что случилось-то? – спросил и протянул стакан кондуктору. Тот вяло взял и выпил до дна. – На двести девяносто шестой версте… на насыпи… – Кондуктор морщился: медицинский спирт встал в горле едким комом. – Там что-то неблагополучно… Смотритель развел руками в ответ: – Ну я ничего не могу поделать. Только если высунуться в окно и орать. Все уладится – не волнуйся. Он взял у кондуктора стакан, плеснул еще спирту – но собеседник лишь молча покачал головой и, с трудом передвигая внезапно ослабевшие ноги, вышел. Еще несколько минут – пока поезд не позвал его требовательным, нетерпеливым гудком, – он стоял на пороге, прислонившись к дверному косяку, и тупо смотрел в заливаемую ливнем ночь. Перед его глазами застыли картины того, что он увидел четверть часа назад. Черные тени, поднимающиеся из мокрой топи. Руки, бьющие по стеклу, оставляющие следы грязных распяленных пятерней. Белые – невыразимо-белые, как сваренное вкрутую яйцо, – глаза, которые смотрят из вязкой глинистой жижи. Насыпь ходит ходуном, поднимается и опускается – словно кто-то ворочается под ней, ворочается в томительном и злом ожидании. Люди – странные, незнакомые – он не проверял, не проверял у них билетов! – которые вдруг внезапно наполнили, наводнили вагон: какие-то мужики, солдаты, бабы с младенцами. Он хватает их за рукава, требует показать билет – но в ту же секунду оказывается, что он цепляется за тюк, за чей-то узел со скарбом, а того человека, которого он пытается остановить, нет и в помине. И что-то словно ползет по крыше вагона, постукивает, похлопывает – он слышит, слышит, слышит это сквозь шум ливня, сквозь токот колес, сквозь скрип осей. И он подходит к окну, и упирается горячим лбом в холодное стекло – и видит, как шевелится мокрая земля, как раззевается ямами и оврагами – и как поднимается, чавкая этими ямами и оврагами, словно жадной, ненасытной пастью. Даже когда он закрывал глаза – он продолжал видеть это. Все то, что он смог описать лишь словами «что-то неблагополучно».
30 июня 1882 года, 2 часа 54 минуты ночи Московско-Курская железная дорога, 300 верст от Москвы Николка оторвал взгляд от окна и оглянулся, когда его ноздрей коснулся странный в своей холодности запах – не влаги, не свежести, скорее даже тления, но холодный, неизъяснимо холодный, настолько, что, казалось, от него даже онемел кончик носа. Оглянулся – и вздрогнул: сразу за ним, так близко, что ему пришлось отшатнуться, стояли давешние знакомые: мужик с пегой бородой, парень с заячьей губой и бабка-кликуша. Стояли и пахли холодным. – Что вы здесь делаете? – спросил он и тут же мысленно укорил себя: что ему за дело, он же не кондуктор. Пусть тот решает, почему мужики оказались в вагоне второго класса. Пегий мужик исподлобья посмотрел на него, запустил пятерню в бороду и размашисто почесал ее. На ковер посыпались песок и пыль. Парень с заячьей губой наклонил голову – точь-в-точь как птица – и цвыкнул зубом. Старуха непривычно молчала. – Прошу прощения, – пробормотал Николка. Зачем? Что ему с того, обидел он их или нет? – Я просто не ожидал увидеть вас здесь. Я думал, что ваши места там… в том вагоне. А тут… – Он осекся и отвернулся, уставившись в окно. Пусть идут мимо. За окном проносились черные силуэты рощ, холмов, деревень. Ночное небо разрывалось всполохами молний – и на мгновение Николка видел залитые водой овраги, мокрые кусты, гнилые, брошенные давным-давно телеги. Тоска, тягучая, липкая, сжимала ему грудь от этого зрелища – и ему хотелось высунуться в окно и завыть на грозу, как усталый цепной пес. – Так и тут, батюшка, так и тут… – прогудели за его спиной. Николка обернулся. Пегий мужик продолжал чесать бороду. На полу высилась горка сухого сероватого песка, похожего на пепел от сгоревшей ткани. – Вы, это… – начал Николка, собираясь сказать что-то вроде «не надо пачкать тут, удалитесь, пожалуйста, в свой вагон», но, столкнувшись взглядом с парнем с заячьей губой, резко замолчал. Почему он раньше не замечал, что глаза у того – белые, невыразимо-белые, как сваренное вкрутую яйцо? И почему тот смотрит этими белыми глазами так, будто видит? – Так и тут наше место, – спокойно сказал пегий мужик. – Тут везде наши места. Это ты, батюшка, случайный-залетный. Так что не обессудь. – Ну и псть сбе пфыет, – мелко захихикал парень. Николка криво улыбнулся, стараясь казаться вежливым. Парень осклабился, продолжая хихикать. Это был странный смех – не рожденный в горле, на связках, как у всех, а где-то в глубине, в утробе, глухо грохоча и постукивая. «Как поезд на рельсах», – мелькнуло в голове у Николки. – Железяка, – помолчав, сказал пегий мужик. Сказал веско и четко. Одно слово – без похабного продолжения. Лишь одно слово – как решение. Как приговор. Парень продолжал хихикать, растягивая губы, как кожу старого, иссохшего сапога. – Покойнички, – вдруг сказала старуха, глядя куда-то за плечо Николке. Он обернулся. Поезд поворачивал на крутом изгибе – и был виден почти весь десяток вагонов: синие, желтые, зеленые, но все в ночи одинаково-серые. Бледные. Они ползли по поезду. Сотни – если не тысячи – людей, призрачных, мутно колеблющихся во всполохах молний фигур, раскорячившись, вывернув суставы, разбросав руки и ноги, – ползли по поезду, цепляясь за заклепки и швы, ползли, как диковинные уродливые пауки. – Покойнички, – с какой-то материнской любовью произнесла бабка. – Родненькие. Сколько их здесь полегло, пока дорогу эту окаянную строили… Пора им, пора… Покушать, родненьким… За себя покушать, за жинок своих, от болезней и голода слегших, за дитяток, некрещеными померших… Аж душами неприкаянными вернулись, чтобы плату свою взять. Николка смотрел в ночь – она притягивала его взгляд, словно густая, липкая черная лужа. Призраки – мужики, солдаты, бабы с младенцами – вылезали из окон поезда: те самые лишние пассажиры, те самые безбилетники, которых не мог бы остановить ни один кондуктор. Они карабкались по стенам, заползали на крышу – и лезли, лезли, лезли, все дальше и дальше, повинуясь какой-то единой цели. Когда кто-то из них проползал мимо окна, в которое смотрел онемевший от ужаса Николка, – можно было разглядеть холодную, пустую ухмылку: оскал без губ и десен. А еще они стояли. Стояли вдоль железнодорожных путей, выкатив белые, невыразимо-белые, как белок сваренного вкрутую яйца, глаза. Стояли и смотрели. И ливень шел сквозь них.
– Шейешяка! – раздался за его спиной выкрик. Николка обернулся. Парень хохотал, уставившись прямо на него, – а его губы все тянулись и тянулись, их краешки уже достигли ушей – точно небрежный смазанный грим у циркового клоуна. А потом они лопнули – разошлись по заячьему шраму, как по заранее подготовленному шву. Кожа ползла все дальше и дальше, распарываясь, словно старое ветхое рубище. Вот съехал на левую сторону нос, вот располовинился лоб, обнажив белесую, в желтоватых прожилках жира, кость… И тут лопнул череп, развалился надвое – как спелый арбуз, со всего размаху упавший на мостовую с подводы. Только вместо алого, мягкого, нежного в воздух поднялась горькая, едкая серая пыль. – Железяка, – неожиданно четко прошлепала рваными губами развалившаяся напополам голова. И тут Николка закричал. И как бы в ответ на его крик – а может быть, вторя ему, – раздался оглушительный, истошный, разрывающий мир на части свисток.
30 июня 1882 года, 5 часов 15 минут утра Сад «Эрмитаж» на Божедомке, Москва Солнце чуть золотило верхушки деревьев – точь-в-точь как подрумяниваются яблоки в русской печи. Чивикали пташки, переговаривались склочные сороки, выводил замудренную трель заспанный соловей. Проснулся Любский, почавкал пересохшим ртом, тупо посмотрел на лафитный стакан, из которого Лентовский угощался своим бенедиктином. – Миша, может, холодной водочки? – робко предложил. – Да и селяночка по-московски сейчас бы была как раз к столу. – Можно, – пожал плечами Лентовский. – Эй, Серега! Подскочил буфетчик – проворный, кудрявый, румяный, весь какой-то оперный, изогнулся в полушутливом – артисты ж! – подобострастии: – Чего изволите-с? – Так… – Лентовский похрустел длинными тонкими пальцами. – Сооруди-ка нам селяночку похмельную. Да на сковороде из живой стерлядки. А то видишь – шампанское уже в горло не лезет. Буфетчик согнулся еще ниже – словно заглядывал под стол: не упал ли туда какой гость? – Можно, Михаил Валентинович, а пока поднести водочки со льда? Лентовский задумчиво почесал бороду. – Добро, – пробасил. – А еще тогда и трезвиловку нам. Что там есть? – Икорка ачуевская, свежайшая. С сардинкой, лучком и лимончиком. Пять минут – и как рукой снимет. – Добро, – согласился Любский, с трудом ворочая опухшим языком.
Буфетчик резво ушуршал, что-то негромко насвистывая под нос. Вернулся он уже молча, легко и красиво балансируя сразу тремя подносами, уставленными блюдами разных размеров и форм. – Вот-с, – элегантно разметал их по столу, поклонился и, не дожидаясь ответа, снова исчез. Ноздрей Гиляровского коснулся терпкий землистый запах. «Как будто яма, – подумалось ему. – Яма, раскопанная в дождь». Эта яма встала перед его глазами, словно он заглянул в нее. Он видел ее, чуял, осязал. Жирные, плотные комья земли – сожмешь их – и они источают сок через пальцы. – Икорки не желаете? – грохнул над ухом бас Лентовского. Гиляровский вздрогнул, тряхнул головой. Лентовский протягивал ему серебряное блюдо. На нем, источая землистый аромат, плотной глыбой стояла паюсная, ачуевская-кучугур. – Не желаете? – повторил Лентовский, подсовывая блюдо Гиляровскому под нос. – Свежайшая. Еще трепещет, кажется. Земля. Жирная земля источает сок сквозь пальцы. Трепещет, шевелится, пульсирует червячьими, людскими телами. – Н-нет, благодарствую. – Он оттолкнул тарелку пятерней, словно закрывал глаза покойнику.
Грохнула дверь где-то в глубине дома, послышались спешные шаги, переходящие на бег. Старший официант, взъерошенный, с засученными рукавами, ворвался в комнату и – не сказав ни слова хозяину – метнулся к Шестакову. – Константин Иванович! Там курьер с вокзала вас спрашивает! – официант наклонился к уху Шестакова и, даже не понизив голос, простонал: – Несчастье на дороге! Шестаков поперхнулся, бледнея и трезвея на глазах. – Что? Сюда, зови сюда! Хотя нет. – Он обвел растерянным взглядом собравшихся, прочел в их лицах праздное любопытство. – Нет-нет… Я сам… Я сам выйду. – Что скажете, господа, – небрежно спросил Любский, когда за Шестаковым захлопнулась дверь. – Катастрофа? Али задавило кого? Как у графа Толстого – рыбкой на рельсы? «Несчастье на дороге, несчастье…» – звенело в ушах у Гиляровского. Сельдь разевала рот, лилась болотная жижа, на зубах скрипел песок, в голове стучали, падая – но не звонко, как на крышку гроба, а глухо, словно на живую плоть, – комья земли. Вернулся Шестаков – бледный, дрожащий, весь какой-то мертвый. – Извините, ухожу. – Руки тряслись так, что не с первого раза смог уцепить шапку. – Н-несчастье… – Зубы у Шестакова стучали, язык еле ворочался. – П-под Орлом… Несчастье. П-почтовый поезд… п-под землю… – Он всхлипнул, покачнувшись. – Под землю ушел! Пальцы Гиляровского сами сорвали с вешалки пальто и шапку, цопнули из ящика, стоявшего у двери, бутылку вина – и он опрометью бросился на вокзал: успеть, всенепременно успеть первому!
30 июня 1882 года, 6 часов 20 минут утра Московско-Курская железная дорога, 296 верст от Москвы, рядом с деревней Кукуевка 10 саженей вниз Мысли Николки ворочались медленно и тяжко. Здесь, в этой плотной, душной темноте, закованный в глиняную смирительную рубашку, глотая жалкие крохи воздуха, единственное, что он мог делать, – это думать. Вспоминать. Понимать. В тот момент, когда оглушительный свисток разорвал мир вокруг него, как мятый лист бумаги, жуткая троица, источавшая холод, вдруг мигнула – словно лампа, в которой заканчивается масло, – и исчезла. Только серый песок из бороды пегого мужика взметнулся в воздух и осыпал Николку мелким, заскрипевшим на зубах крошевом. А потом все закрутилось, завертелось, лопнуло, треснуло, раздробилось – и он полетел через черную ночь и белую воду, вниз – в бурлящую и клокочущую жижу, которая схватила его, сжала, стиснула и стала его могилой. Его – по недосмотру еще живого. Поначалу он слышал других. Оказавшихся здесь, в этой же общей могиле. Стонущих, плачущих, кричащих, проклинающих, молящихся. Их голоса метались в тесноте и темноте. Они бормотали какие-то имена, просили передать что-то родным, вспоминали свои хорошие и дурные поступки – и жить, жить, жить, они безумно хотели жить! А потом кто-то простонал: – Поднажмем. И все поднажали. С хрустом костей, с бульканьем легких, с хлюпаньем плоти – поднажали. И приподняли землю.
30 июня 1882 года, 7 часов 30 минут утра Московско-Курская железная дорога, 296 верст от Москвы, рядом с деревней Кукуевка – Свят-свят-свят, – перекрестился мужик, когда под колесами его телеги зашевелилась земля. Зашевелилась, приподнялась и опустилась. Потом приподнялась – и опустилась снова. – Свят-свят-свят, – пробормотал он и спрыгнул с телеги. Земля шевелилась, словно дышала. – Свят-свят-свят, – затараторил он, подпрыгивая и утаптывая колыхающуюся землю. – Убирайтесь, черти окаянные, обратно в пекло! Прочь-прочь-прочь! Убирайтесь, не надо добрых православных смущать! Прочь! Прочь! Прочь! С каждым «прочь» он прыгал что есть мочи и дергал лошадь, чтобы та тоже ударила копытами и успокоила тех, кто пытался прорваться из-под земли наверх. Лошадь шумно вздыхала и тяжело опускала ноги. – Свят-свят-свят, – удовлетворенно сказал мужик, когда земля наконец утихла и успокоилась. – Вот так вот. Неча к нам лезть. Так и сидите, где сидите. Он залез обратно в телегу и тронул поводья, понукая лошадь. Кобыла замотала головой, всхрапнула и покорно пошла вперед. Когда же ее возница заорал от ужаса – она даже не вздрогнула. Потому что тупо и оцепенело уставилась на месиво земли и металла, которое открылось перед ними. Полотно железной дороги – той самой, по которой носились, пыхтя и стуча, пугая ее, поезда, – было разорвано огромным глубоким оврагом. С обоих его краев свисали разбитые, покореженные вагоны, дно было усыпано обломками, залито тиной, завалено камнями и глиной – и эта пропасть уходила вниз, вглубь земли, аккурат лошади под ноги, уходила туда, откуда они пришли, где они только что топтались.
30 июня 1882 года, 21 час 15 минут вечера Московско-Курская железная дорога, 296 верст от Москвы, рядом с деревней Кукуевка Было душно, мутно и муторно. От земли поднимался густой липкий смрад – где-то там, под застывшей коркой тиной, гнили – и некоторые из них заживо! – десятки людей, пассажиров несчастного поезда. Гиляровского мутило. Он едва стоял на ногах, то и дело взмахивая рукой, чтобы удержаться за кого-нибудь из проходящих – но шлепки его огромной тяжелой ладони, заставляли людей от неожиданности приседать на корточки. Львов-Кочетов из «Московских ведомостей» вообще ушел в глину по колено, и его пришлось натурально вытягивать оттуда за пояс – как во французской борьбе. Это место – место гибели, смерти, мук и страданий – было похоже на какое-то поле для гуляний. Здесь кишели корреспонденты: «Новое время», «Новости», «Ведомости» – все газеты ближайших городов выпихнули в этот забытый уголок своих людей. Землекопы и рабочие, как трудолюбивые муравьи, копали, таскали, вытягивали, уносили. Инженер-генералы, судебные следователи и прокурор палаты ходили кругами, прикрывая нос белоснежными – но быстро становившимися маслянистыми – платками, и говорили, шептали, скрипели зубами, качали головами. Чуть дальше плотным кольцом стояла охрана, изморенная духотой и вонью. Ну а сразу за ней – чуть ли не упираясь носами в их мундиры – толпились зеваки. Ели, пили, лузгали, сплевывали под ноги. Переговаривались, ахали, ужасались, смеялись. Кто-то не поленился, принес с собой одеяло и расстелил на траве, устроив тут же небольшой пикник с пирожками и фруктовой водой. Женщины – местные помещицы, барыни и барышни – прибыли разодетыми, напоминая блестящих пестрых мух, пирующих на трупе. – Тащат, тащат… – то и дело громко шептали в толпе. И тут же она напирала, заставляя охрану вздрогнуть и плотнее сомкнуть ряды, – жадная до зрелища, охочая до мертвецов. Но это оказывалась очередная шпала или кусок дивана из первого класса – и толпа, разочарованно вздохнув, снова замирала в ожидании. Десять вагонов – десять! – лежали на дне пещеры, образовавшейся после того, как сильнейший ливень вымыл чугунную трубу, через которую шла насыпь. Как, каким образом это случилось? Что разбило ее, что разорвало швы? Почему поезд не остановился? Трясущийся от ужаса машинист говорил, что он сделал все, что надо, что он понял, заметил – но почему-то не смог, не смог, не смог остановить! Что поезд несся вперед, а потом что-то случилось. «Да ясно что, – криво усмехаясь, пробормотал судебный следователь. – Контрпар идиот дал. Поезд и разорвало» – и паровоз оторвался. Оторвался и первый вагон, и пара вагонов в хвосте – оторвались и повисли над пропастью, полной бурлящей жижи, умирающих людей и громоздящихся осколков. Все остальное – десять вагонов, десять! – залило, засыпало, перемешало, смяло… Обо всем об этом нужно было всенепременно написать в газету. – Как называется эта деревня? – дрожащим голосом спросил Гиляровский у какого-то мужика. Тот поднял голову, почесал пегую, перепачканную в земле бороду. – Кукуевка, милсдарь, – хрипло сказал он и почему-то осклабился. – Кукуевка.
1 июля 1882 года, 3 часа 5 минут ночи Московско-Курская железная дорога, 296 верст от Москвы, рядом с деревней Кукуевка 10 саженей вниз Они замолчали. Замолчали все, кого он слышал. Постепенно, один за одним, утихли все их голоса, исчезая, как листья осенью с дерева. Последней исчезла монахиня, матушка Марья, напоследок благословив всех, кто мог еще ее услышать. То есть его. Он остался в тишине, темноте – но не пустоте. Призраки. Они были тут. Мертвые давным-давно, они ходили, ползали, пробирались среди тех, кто умер только что. Переговаривались, хихикали, отпускали шуточки, рассказывали похабные анекдоты. На него упала невидимая шелуха от семечек, к щеке прилип чей-то плевок. – Касатик, – проскрипел старушечий голос – и земля, черная, тяжелая, удушающая земля надвинулась на него. И он тоже умер.
15 июля 1882 года, 3 часа пополудни Московско-Курская железная дорога, 296 верст от Москвы, рядом с деревней Кукуевка Сначала – целую неделю! – им казалось, что мертвецов нет. Что те куда-то исчезли, оставив после себя лишь тяжелый липкий дух. Потому что поднимались лишь обломки вагонов, куски диванов, треснутые двери, узлы и тюки со скарбом – но людей не было. Рабочие – грязные, изможденные, с лопатами и тачками в ободранных, гноящихся руках, поговаривали, что слышали чей-то шепот там, под землей. Что кто-то переговаривался, смеялся, шутил, что-то даже распевал! «Вода, – отвечали инженеры. – Просто вода. Еще бурлит. Размывает глину, пробивает камни. Ищет себе дорогу без трубы». Первый труп подняли седьмого июля. Не человек – кусок изуродованного мяса. Артельщик Андреев – установил следователь. Потом были сын священника Сретенский, монахиня Марья Ягинина, мценская мещанка Ирина Полунина… Восьмого июля поставили электрическое освещение. На фонари слетелись мотыльки. Они как ангелочки порхали между жирными, черными и волосатыми, блестящими и зелеными мухами, которых приманил трупный смрад. – Души это, души невинно погибших, – шептались рабочие. – Ждут, когда погребут по христианским законам, тогда-то на небо и отправятся. Привезли свинцовые гробы. Прокурор Московской судебной палаты Сергей Сергеевич Гончаров, ведший следствие самолично, не уходя с места катастрофы ни днем ни ночью, после очередного опознания дышал на свой неизменный монокль и давал отмашку – грузите. Трупный смрад масляно истекал даже из-под закрытых крышек. Гиляровский ночевал здесь же, на обломках, закутавшись в какую-то дерюгу, пропахнув мертвецкой вонью, обгорев на солнце, небритый и нечесаный – больше похожий на запаршивевшего бродягу, чем на корреспондента «Московского листка». Его будили, когда поднимали очередной труп, – и в редакцию летела еще одна телеграмма. Девятого июля достали Николая Тургенева – студента, племянника писателя, – он ехал домой, сопровождая старушку тетку. Десятого июля стало известно, что его отца, Николая Петровича Тургенева, разбил паралич в ту же минуту, когда сообщили о том, что сын мертв. Одиннадцатого июля товарищ прокурора Федотов-Чеховский предложил Гиляровскому кусок ситного с бужениной. Гиляровский поблагодарил и взял. Говядина в его ладони зашевелилась, запульсировала, обдала трупной вонью, потекла жижей сквозь пальцы. Гиляровский отшвырнул угощение с омерзением – мясо не шло ему в горло, вызывало спазмы и рвоту. Он пил водку и ел сыр, яблоки и бублики – все то, что не было из мяса, то, что не касалось земли.
Но наконец все было кончено. Все несчастные были извлечены из пропасти, ставшей им могилой, все были узнаны и похоронены. Уехал Гончаров, покинул место катастрофы Шестаков, исчезли зеваки, отбыли рыдающие родственники. Пришли вагоны с известью. Их разгружали непривычно молча, сумрачно, даже не помогая себе залихватской «Дубинушкой». Гиляровский смотрел, как рабочие засыпают землю дезинфекционными средствами, как выкладывают толстый слой едкой извести. Его дела тут были закончены. Он развернулся, чтобы уходить.
У края ямы стояли трое. Мужик с пегой бородой, щуплый, рахитичный – спину можно через колено переломить, – паренек с заячьей губой и тощая жилистая старуха. Черт с ней, со старухой, но при виде праздных мужчин Гиляровский ощутил подкатывающее к горлу горькое бешенство. – Что стоите пялитесь? – рыкнул он. – Работы нет, что ли? Старуха ухмыльнулась – нехорошо, широко, обнажив крепкие желтые зубы. – Так мы уже отработали, батюшка, – загоготал пегий мужик. – Ох и отработали! Парень пробормотал что-то невнятное. Гиляровский не мог оторвать взгляд от старухиного рта. Тот притягивал его – как притягивает иногда глубокая, кажущаяся бездонной яма. Как манит и словно шепчет тебе, стоящему на краю: «Ну давай, давай, шагни, чего же ты медлишь». Ему казалось, что да, именно так: достаточно сделать шаг – и он провалится в эту черную дыру и будет падать, падать, падать – как девочка в английской сказке какого-то математика, «Соня в царстве дива». – Работы нет, что ли… – с трудом пробормотал он, пытаясь стряхнуть с себя это наваждение. К уху приблизились чьи-то губы, коснулись его, обдали сухим жаром, кольнули острыми корками: – Так мы уже отработали, батюшка, – послышался густой, утробный шепот. – Ох и отработали. Старуха зевнула, раззявив пасть, – и Гиляровский почувствовал, как его тянет, тянет, тянет в нее. Он согнул ноги, напряг мышцы – словно пытался устоять в сильнейший ветер. Не удержался, судорожно махнул рукой, вцепился пальцами в плечо рядом стоящего – но рука провалилась, будто в птичий пух, овечью шерсть, рыбьи потроха. Ее затягивало все дальше и дальше, глубже и глубже – в слизь, холод, смерть. Он качнулся в другую сторону, выдернул руку, глянул с ужасом – ожидая увидеть содранную кожу, обнажившееся мясо. Но лишь легкий иней дрожал на волосках. Он поднял глаза на старуху. Та сделала глотательное движение – он увидел, как по горлу у нее прокатился ком размером с бильярдный шар, – и захлопнула пасть. – Ступай, батюшка, – неожиданно мягко и добро сказала она. – Ступай, подобру-поздорову. На царские гостинцы не зарься только. А то до сроку встретимся.
Гиляровский сделал шаг назад. Ноги онемели, и он скорее понимал, что сделал шаг – нежели чувствовал это. Пегий, Заячья Губа и Старуха смотрели на него – смотрели пристально, внимательно, цепко, словно пожирая его взглядами. Засосало под ложечкой, мучительно раскатилось по кишкам, поднялось едкой горечью по горлу. Что-то шевелилось над ним. Он поднял голову. Там, в вышине, промеж тяжелых, низких, напитанных дождем туч, копошились тени. Они двигались, словно что-то поднимали, перетаскивали, ставили, держали, забивали: их движения были медленными и размеренными, в них не было суетливости, поспешности или мелочности: только ширь, и сила, и мощь. Гиляровскому вдруг показалось, что это его – его! – они поднимают, перетаскивают, ставят, держат – и это по нему бьют огромными кувалдами, забивая в землю по самую маковку. Он упал на одно колено – и мокрая почва, липкая жижа с чмоканьем всосала ногу. Тени не видели его – они продолжали свой труд, упорный и тяжелый. Из-за тучи на мгновение выглянуло солнце и подсветило тени – выхватив все, до мельчайшей черточки. И тогда Гиляровский увидел. Он увидел людей, которые стояли в воде по грудь, кидая лопатами тяжелую, мокрую землю. Увидел волочивших на худых покатых плечах толстые – в обхват – шпалы. Увидел вбивавших в мерзлую, твердую – словно железо – почву огромные, с два их роста, сваи. Призраки работали – работали размеренно, вдумчиво, словно подчиняясь какому-то, слышимому только ими, ритму. Они продолжали строить – где-то там, за гранью бытия, за краем жизни – бесконечную железную дорогу, по которой когда-нибудь пойдет гигантский, дышащий свежей кровью и горячим паром поезд. Они строили, падали, умирали, гнили и рассыпались в прах – своими костями укрепляя дорогу – вечную железную дорогу. Ненасытного, алчного зверя, который лишь сделал вид, что человек его укротил, зверя, который насытился сейчас – но скоро вновь оголодает. – Ну и пусть себе, – прошелестело у него над головой, осыпав его песком и сухой землей. И тогда он закричал.
Герман Шендеров Виртуальная машина
* * *
– А я бывал в Тихом Доме, – вырвалось у Саши. Уже через секунду он пожалел о сказанном, почувствовав на себе тяжело налипшие взгляды. После провала с компиляцией ядра ему хотелось как-то реабилитироваться, заявить о себе, сбить спесь с этих надменных миллениалов. Но нечаянно брошенная фраза вызвала пренебрежительный смех. – Да у нас тут крутой хакер! – тряхнул дредами Морф, затянувшись вейпом, водянистые глаза его недобро блеснули. – «Цикаду 3301» тоже ты создал? – Бери выше, – хохотнул парень в очках и растянутом свитере, со странным именем Емельян, – наш Нео «Силкроад» проложил, верно говорю? Что такое «Цикада 3301» и «Силкроад», Саша понятия не имел – когда он учился программированию, всего этого дерьма в Сети было гораздо меньше. Еще не так давно он был на форумах Батей, а теперь выслушивает колкости от малолеток, которые еще пешком под стол ходили, когда он написал свое первое «Hello World!». От этих мерзких смешков тянуло рвать и метать, но Саша не хотел подвести Алену – если и с этой командой не выгорит, то о переводе в престижную фирму придется позабыть. Так и останется кодить за тридцать тысяч в пыльном офисе, а Алена найдет себе кого-то успешнее, импозантнее и – главное – моложе. – Ален, ну подтверди! – попытался он сохранить лицо, обратившись к худенькой блондинке в толстовке «NASA». Подтверждать Алена, конечно же, ничего не стала. Сделав вид, что вопрос обращен не к ней, она отвлеклась на монитор, сосредоточенно вперившись взглядом в прогресс-бар установщика. – Ага, подтверди, Ален! – передразнил Морф измененным, густым голосом, выпуская облако пара изо рта. – И что ты увидел в Тихом Доме? Призраков, Бога, Ад? – Ну… – протянул Саша неуверенно, пытаясь спешно придумать ответ. Что такое Тихий Дом, он не знал – встретил упоминание на сайте интернет-страшилок да и запомнил неизвестно зачем. Сейчас он активно шерстил память в поисках хоть какой-нибудь дополнительной информации, чтобы не выглядеть профаном и лжецом. – Если он скажет, что это пустой чат, – я пакую манатки, – громко заявил очкарик. – Ты, Ален, конечно, извини, но работать с мракобесом – это зашквар. – Tы кого мракобесом назвал? – набычился было Саша, но вмешался Морф. – Ты, Саня, с темы не соскакивай. Что там в Тихом Доме? Морф потянулся, его стильно драные джинсы немного сползли, и глазам открылась резинка трусов с надписью «It’s gonna be a Big Bang!», натянутая меж торчащих тазовых костей. Рисуется, сволочь! Невольно Саня потер собственное немалое брюхо, которое прятал под мешковатой футболкой. – Ты у нас один такой – посвященный! Я, например, в Тихом Доме не бывал. Емеля, ты бывал? – Не довелось, – ответил Емеля, поправляя очки. – А ты, Ален? – не унимался красавчик с дредами. – Ребят, давайте уже спокойно поработаем! – огрызнулась Алена. В изгибе ее спины, в наклоне головы, в нервном пощелкивании мышкой чувствовались стыд и досада. Досада на него, на Сашу, который, попытавшись заработать авторитет, лишь вырыл себе яму в полный рост и сам же в нее сиганул. – Там, в общем, – прочистив горло, наконец ответил он, – самому видеть надо. Не описать. – Ага. Неописуемо. Лавкрафт бы одобрил, – уже со скукой отозвался Емеля, поворачиваясь к монитору. Кажется, он потерял к Саше интерес. – А ты сходи туда еще разок, а? – неожиданно, осененный идеей, предложил Морф. – И мы тебе поверим! – В Тихий Дом? – растерялся Саша. – Ага. Когда у нас следующая рабочая сессия? Четверг. Дня два должно хватить, – не унимался Морф. – Удиви нас, докажи, что ты крутой хакер. Забьемся? – На что? – напряженно спросил Саша, не ожидая ничего хорошего. Вряд ли Морфа устроит денежная ставка. – Ну, скажем… – парень с дредами притворно осмотрелся, но куда целил его взгляд, Саша знал с самого начала, – а, скажем, если ты в четверг не докажешь, что был в Тихом Доме, то вот Аленка со мной на свидание сходит? Как тебе? – Совсем дурак? – отозвалась Алена, но как-то вяло, будто возмущалась не содержанием предложения, а его формой. – А если докажу? – набычившись, ответил Саша. – Ну… Тогда я уступлю тебе кресло проект-менеджера. По рукам, Нео? – ухмыльнулся Морф, и, глядя на эти ровные белые зубы, аккуратно постриженную бородку, колечки пирсинга, выбритый на висках узор, Саше хотелось выбросить руку вперед. Расплющить нос, свернуть на сторону челюсть, выдавить глаз… Но вместо этого он протянул открытую ладонь и крепко сжал пальцы Морфа, надеясь, что увидит, как его лицо исказится от боли, но чертов хипстер оставался невозмутим. – Вот и славно! – осклабился он и повернулся к очкарику: – Емельян, разбей! – Придурки! – буркнула Алена, даже не глядя в их сторону.* * *
В машине Алена с Сашей ехали, сопровождаемые тягучим молчанием. С каждым днем он ощущал все сильнее, что упускает ее. Поначалу девушке с ним было интересно и весело: когда он рассказывал про локальные сети, мемы дофейсбуковской эпохи и про старые игры. Когда превосходил ее в знаниях, умениях, казался ей талантливым программистом – все было по-другому. Потом Алена закончила учебу, получила место графического дизайнера в динамично развивающейся студии по разработке мобильных приложений и… Поняла, что рядом с ней находится застрявший во времени неудачник, чьи знания давно устарели, а титулы и достижения сегодня уже ничего не стоят. И теперь Саша ее терял. Наконец, он осмелился заговорить: – Поехали сегодня ко мне, а? Куплю вина, сыр, фильм посмотрим, а? – Не хочу. Я слишком устала сегодня, – ответила Алена, даже не отвернувшись от окна. По стеклу сползали струйки дождя – видимость была почти нулевой. «Она просто не хочет смотреть на меня», – подумалось Саше. – Слушай, если ты из-за этого спора… – начал было он, но наткнулся на глухую оборону: – Я не хочу об этом говорить. Высади меня здесь, надо продукты купить. – Тебе отсюда минут двадцать идти! – возразил он. – Пройдусь! Останови здесь! – приказала она не терпящим возражения тоном и принялась отстегивать ремень безопасности. Саша притормозил у обочины перед светофором, и Алена выскочила из машины как ошпаренная. – Набери мне, как будешь дома, – я волнуюсь, – крикнул он в стену дождя, но девушка уже растворилась в толпе пешеходов, что переходили дорогу. Скрипнув зубами, Саша уронил голову на руль и просидел так минуту или две, пока за спиной не завыли клаксоны. Зайдя домой, Саша с тоской окинул взглядом свою студию. Когда Алена была здесь, утлая однушка превращалась в уютное гнездышко, где, закутавшись в плед, можно было сидеть обнявшись, смотреть фильмы и сериалы, целоваться и заниматься любовью, пока за окном бушевала стихия. Без нее же это было типичное захламленное проводами, корпусами системных блоков, неработающими мониторами и пивными бутылками унылое логово холостяка. Открыв холодильник, Саша достал бутылку «Миллера» и уселся за компьютер. Огромный изогнутый монитор являл собой центр всех линий квартиры – к нему, как в Рим, вели все дороги. Матово светилась зеленым дорогущая механическая клавиатура – Аленин подарок. Мерно, точно осознавая свою мощь, жужжал похожий на гигантский советский холодильник кастомизированный системный блок. Наивно было думать, что, придя домой и спросив у поисковика: «Что такое Тихий Дом?», он получит ответы. Поисковик предложил массу ссылок и статей. Согласно большинству, Тихий Дом являлся последней точкой, лежал на самом дне Интернета, являлся финалом и венцом всего, пересечением Сети с ноосферой. Последней страницей книги, абсолютным знанием и пониманием всего сущего, одновременно являясь концом любого пути. Данные разнились, но большинство статей и сайтов сходились в одном: Тихий Дом – это просто мистификация, местная легенда наподобие Лох-Несского чудовища. Отчаяние прокатилось опустошающим вихрем по Сашиным внутренностям и вырвалось протяжным «твою ма-а-ать!». Лишь теперь он понимал, как на самом деле облажался. Должно быть, это прозвучало как утверждение, что он водит дружбу с йети. – Ой дебил! – сокрушенно прижал он руки к лицу, представляя себе, что будет в четверг. Понятное дело, Алена откажется идти на свидание с Морфом, но это поражение пробьет очередную трещину в их отношениях… «Откажется ли?» – спросил он вдруг сам себя. В голове закрутился калейдоскоп картинок, одна гаже другой. Вот он ведет ее в какое-нибудь модное, навороченное кафе, заказывает смузи и моккачино, они едут в лофт, уже вдвоем. Сальные, с поволокой, рыбьи глаза скользят по туго обтягивающим задницу Алены легинсам; бледные, похожие на пауков-альбиносов руки тянутся к ее талии; обрамленные мерзкой бородкой губы приближаются к ее лицу… – Стоп! – стукнул Саша кулаком по столу. Подскочила бутылка – ее еле удалось поймать, прежде чем пенный напиток полился на клавиатуру. Алена была бы в бешенстве. Если она, конечно, еще когда-нибудь придет в эту квартиру. Все началось из-за кризиса. Засидевшемуся на месте программисту найти работу оказалось не так просто. Пришлось обратиться за помощью: Алена уговорила своего коллегу принять Сашу в свой стартап, и тот, заинтересованный в опытных кодерах, согласился. Теперь Саша четко понимал – интересовался Морф только Аленой, и, похоже, твердо намеревался воспользоваться ситуацией. Тут Сашу осенило – а что мешает обратиться за помощью и в этот раз? Наверняка среди его старых форумных знакомых есть кто-то, разбирающийся в вопросе. Так он хотя бы будет знать, что попробовал все варианты. Быстренько набросав тему на форуме, он принялся раз за разом обновлять страницу. Волнение не позволяло отвлечься ни на что другое. Перечитывая только что написанное, Саша выдувал одну бутылку пива за другой, не замечая вкуса. «Здорово, форумчане! Нужна помощь людей компетентных. Хочу спуститься в Тихий Дом. Какие подводные, с чего начать, куда идти? Киньте туториалы, ссылки, распишите, Батя в долгу не останется!» Поначалу писали всякие тролли – мол, перекинь мне сто штук деревянных, я тебе ссылку дам, и все в таком духе. Повылезали местные знатоки, принявшиеся в нелестных выражениях обсуждать «дегенерата», что повелся на интернет-легенду. Когда четвертая бутылка пива подходила к концу, а досада и отчаяние близились к апогею, – при очередном обновлении страницы появилось новое сообщение. Писал некий PsychoPMP: «На людях такое не обсуждаю. Могу поработать проводником. За подробностями – стучись сюда». Ниже была ссылка. Прочтя ник еще пару раз, Саша наконец уловил тонкую иронию. – Психопомп, значит. Ну, поехали! – повеселел он и перешел по ссылке. Сайт оказался похож на одну из тысяч чат-рулеток. Высветился интерфейс, загорелся огонек вебки, хотя никакого разрешения камере Саша, конечно же, не давал, что уже нервировало. Собеседник предпочел разговаривать без изображения – с монитора на него смотрела дефолтная аватарка с темным силуэтом. – Привет, – раздалось из динамиков так резко, что Саша аж подпрыгнул на месте, снова едва не разлив пиво. Голос был программно-изменен на какой-то густой и глубокий бас – сразу вспоминался фильм «Пила». – Здоро́во. Так, значит, ты бывал в Тихом Доме? Что там вообще? Он существует? – Я знаю дорогу туда, – уклончиво ответил Психопомп. – Вожу людей за деньги. – Какова цена вопроса? Есть какие-то гарантии, доказательства? – Никаких гарантий. Либо ты мне веришь – и мы идем, либо я отключаюсь. – Так что по деньгам? – с волнением спросил Саша. На счете у него было не сказать, чтобы густо. – Какие методы оплаты принимаешь? – Биткоин, Эфириум, Дэш. За один проход беру сто зеленых. Дополнительные расходы на тебе, – казалось, из этого голоса кто-то хирургически удалил эмоции. На секунду Саша предположил, что общается с ботом. – Оке-е-ей, – протянул он. С Биткоином и прочими криптовалютами он дел раньше не имел. – Слушай, а у тебя «Сбер» есть? Ты из Москвы? Я бы вживую передал, если не хочешь счета светить. – Нет, мы не увидимся. Заведи кошелек – я дам реквизиты. – Я вообще-то еще не согласился, – замялся Саша. – И вообще – если я перекину деньги, что тебе мешает свалить в туман сразу после? – Найди сайт-гарант. Переведи деньги им. Составь договор, дай мне ссылку. Идет? Разумеется, Саша уже давно мысленно согласился на условия Психопомпа. Сто долларов – сумма большая, но он прекрасно осознавал, что если упустит Алену, то потратит их на то, чтобы напиться до беспамятства и, если повезет, задохнуться в собственной блевотине. – Идет. Когда приступаем? Как с тобой связаться? – Погружение завтра. Свяжемся в двадцать один ноль-ноль по Москве. Мне нужно кое-что сделать. Тебе, кстати, тоже. Я трасернул, это проксовоз? Кинь мне свой Ipsec и почту. Я дам инструкции. – Может, тебе еще и ключи от квартиры дать, где деньги лежат? –хохотнул Саша. Делиться с каким-то неизвестным типом такими данными не хотелось решительно. – Зачем тебе? – Мне нужно создать зашифрованный VPN-тоннель, чтобы минимизировать помехи со стороны. Много кто захочет сесть на хвост, нам это не нужно. Чтобы попасть в Тихий Дом, тебе придется довериться мне безоговорочно. – Вот как? – Никакой внутренней борьбы не было. Пока Саша мысленно решался на это действие, его пальцы уже скопировали адрес электронной почты и текст бессмысленного на первый взгляд протокола в чат. – Надеюсь, ты правда того стоишь. Учти, если обманешь, – я найду тебя. – Не найдешь, – констатировал голос. – Инструкции у тебя на почте. Я отключаюсь. Не опоздай завтра. – Подожди, – вдруг заволновался Саша. Выдав столько личной информации незнакомцу, теперь он отчаянно желал узнать еще хоть немного больше, получить хоть какие-то подтверждения добросовестности намерений этого Психопомпа, доказательства его компетенции. – Слушай, а что там? В Тихом Доме? Ответ был всеобъемлющ – и одновременно бессмыслен. – Там всё.* * *
На подготовку к погружению у Саши ушел почти весь день. Инструкции были предельно четкими, некоторые казались странными, другие бессмысленными. Например – установить зеркало за спиной так, чтобы в нем отражался монитор. Требовалось установить дополнительную видеокарту и оперативную память, что звучало логично. Поставить Tor и Нексус, что было необходимо, и в то же время – принести микроволновку с кухни и расположить рядом с компьютером, что казалось безумием. Также в инструкцию входила установка целого пакета эксплойтов и брутфорсеров. В поисках Священного Писания на английском Саша обежал три книжных магазина. Найти ЭЛТ-монитор было задачей попроще – с десяток таких было на «Авито». Найдя, как требовал Психопомп, самый древний, Саша поехал за ним на другой конец Москвы. У того же продавца на удачу оказалось и несколько старых жестких дисков, также указанных в инструкции. Вернувшись домой, Саша был вынужден тащить тяжеленный монитор аж из соседнего двора – на его обычном месте перед самым подъездом припарковался какой-то ржавый фольцовский фургон с наглухо забитыми картоном окнами. Водителя на месте, разумеется, не оказалось. Уже дома, установив зеркало и перетащив микроволновую печь поближе к компьютеру, Саша, изможденный, повалился на диван. Часы показывали семь вечера. Обычно Алена выходила с работы в шесть и, оказавшись дома, отправляла ему сообщение. Сейчас же телефон молчал. Под сердцем заворочался гадкий червячок беспокойства. Набрав номер, Саша приготовился слушать гудки, но Алена взяла трубку необычайно быстро: – Ты что-то хотел? – Привет, – огорошенный таким приемом, растерянно протянул Саша. – А ты где? – Мне отчитываться надо? – с холодной сталью в голосе спросила она. – Нет, но… Я просто волнуюсь. Ты еще не дома? – Я задержалась на работе, тут… – О, Нео? Передавай привет! – послышалось на заднем плане, и Саша напрягся. Последний, чей голос он хотел слышать в трубке любимой девушки, – это Морф. – Алена, это он? Что он там делает? – Он мой коллега, Саша. Мы работаем, – с нажимом ответила Алена, а Морф на заднем плане все не унимался. – Можешь сказать своему Отелло, я тебя и пальцем не трону! Если только он не проиграет спор! – глумливо прокричал в трубку Морф, и Сашу захлестнула волна ярости. Через секунду до мозга дошло осознание – если хипстера слышно так хорошо, значит, он орет прямо в трубку и стоит вплотную к Алене. – Ален, езжай домой, а? – просяще протянул Саша, не зная, что ему делать и как себя вести в такой ситуации. – Закончу и поеду. Все, Саш, давай, у меня много работы, – Алена старалась завершить разговор как можно быстрее. – Напиши, как будешь дома, ладно? – Если не забуду, я страшно устала. – Я люблю тебя! – отчаянно выкрикнул он в последний момент перед тем, как она положит трубку, будто пингуя подвисший сервер. Словно желая удостовериться, что связь между ними не оборвалась. – Я тоже люблю тебя, – выдохнула Алена машинально. Сервер, как и ожидалось, выслал пакет данных обратно. Вновь послышался голос Морфа, Саша силился расслышать, что говорит чертов хипстер, но девушка уже положила трубку. Нужно было продолжить подготовку. Открыв корпус системного блока со всех сторон, Саша поочередно открутил винтики на материнской плате, кулерах, дисководах и прочем железе. Добавил вторую видеокарту, чтобы повысить производительность, и подсоединил параллельно четыре жестких диска, разумеется не закручивая болты, так что те можно было легким движением вынуть в любой момент. Толстый блокнот и ручка уже лежали рядом с клавиатурой. Следом Саша заменил свой великолепный монитор на громоздкую развалюху желтого пластика. Стоило подключить этот реликт к компьютеру и запустить, как в глазах тут же зарябило. Скрепя сердце Саша также поочередно удалил антивирус и отключил файрволл. Деньги уже лежали на «Гарант-про», требовавшем на редкость грабительский процент за услугу. До сеанса связи оставалось минут пять, и Саша впервые закурил в квартире. Горьковатый дым щипал глаза, и так раздраженные пятью минутами работы за древним монитором. Как он просидит за этой дрянью всю ночь, Саша представлял с трудом. Слегка ошарашенный своим поведением в последние сутки, он сокрушенно осматривал свое изуродованное рабочее пространство. И без того весьма захламленная холостяцкая однушка теперь напоминала логово обезумевшего хакера из голливудского кино. Разбросанные вокруг корпуса детали компьютера, все еще подключенные к системному блоку, напоминали внутренности раздавленного на трассе животного, которое еще не осознало свою смерть и упрямо продолжало ползти по асфальту. Микроволновая печь на табуретке, огромный талмуд Священного Писания, мерцающий монитор, отражающийся в узком, в человеческий рост зеркале, которое Саша кое-как закрепил на дверцу шкафа. Три бесперебойника задорно подмигивали из темноты под столом, напоминая люминесцентных подводных тварей. Успокаивающе шумели кулеры, поскрипывали старые жесткие диски. Затушив бычок в старой чашке с отколотой ручкой – пепельницы у Саши дома не было, – он уселся за компьютер и открыл ссылку той безымянной чат-рулетки. PsychoPMP был уже в сети – под безликой аватаркой светился зеленый кружочек. – Ты вовремя, – вновь раздался голос из колонок, заставив Сашу подпрыгнуть в кресле. – Отлично. Все подготовил? – Все по инструкции, – отрапортовал тот в радостном мандраже. Впереди ждало настоящее приключение – опасное, интересное, с обязательной наградой в финале. Также он выдохнул с облегчением, наконец увидев, что поход в Тихий Дом не был какой-нибудь аферой. – Монитор, жесткие диски, микроволновка, зеркало, Библия. – Зеркало вижу. Тор, Нексус установил? Саша кивнул. Если «луковый» браузер казался ему объяснимым требованием – по-другому на неиндексируемые страницы не попасть, – то зачем было скачивать это допотопное убожество, больше похожее на окошко об ошибке, – он решительно не понимал. – Так, теперь пробрось двадцать второй порт через Sat, мне нужно недолго похозяйничать на твоем компе. – Это еще зачем? – протянул Саша. Полномочия незнакомца ширились с каждой новой «встречей». – Я, кажется, обсуждал с тобой этот момент, – теперь в голосе слышалось раздражение. – Безоговорочное. Доверие. Или я отключаюсь. Деньги у «Гарант-Про» можешь выскребать сам. – Окей-окей, – в примиряющем жесте воздел руки Саша, – сейчас тебя подключу. Саша потер глаза. Этот монитор и правда был убийственным. Не зря в его детстве так много говорили, что компьютеры вредны для зрения. – Готово. Лови. А что ты хочешь сделать? – Я должен подключить тебя к туннелю и загрузить свои виртуальные машины. – Куда? – спросил Саша, глядя, как курсор мечется по экрану, открывая и закрывая окна, а цифры печатаются сами собой, повинуясь воле таинственного Психопомпа. – Это как компьютер внутри компьютера, – пустился в пространные объяснения незнакомец. – На сервере в Сети, где-нибудь в Зимбабве, существует операционная система. Мы подключаемся туда и работаем в ней, как на обычном компьютере. Внутри мы подключаемся к еще одной виртуальной машине, а внутри – к еще одной, и еще. Всего – четыре: по одному на каждый уровень Сети. – Я знаю, что это. Я имел в виду – зачем? За нами может кто-то следить? – догадался Саша. – В том числе. Но в первую очередь виртуальные машины нужны, чтобы не умерла твоя система, – кажется, обычно немногословный Психопомп любил поболтать на околокомпьютерные темы. – На каждом уровне Сети есть дыры, ловушки и просто уровни перехода, которые обычный компьютер не выдерживает. На нашем пути их встретится как минимум четыре, разного уровня. – Ты хочешь сказать, поход в Тихий Дом опасен для компа? – подозрительно спросил Саша. В ответ на что из колонок раздалось жуткое басовитое уханье, точно в них поселился филин. Лишь через пару секунд до него дошло, что так звучит смех, измененный преобразователем голоса. – Первая система крашнется еще на поверхности. Банальная «ось», ничего особенного. – А мои харды не сгорят? – Не ссы, салага! – задорно выкрикнул в колонку Психопомп, и даже через все компьютерные искажения Саша безошибочно определил, что собеседник лет на десять моложе его самого. – Передаю управление. – Слушай, а с монитором это обязательно? – Мерцающий динозавр, ровесник самого Саши, заставлял глаза слезиться, а картинку – расплываться. – У меня скоро шары вытекут. – Обязательно. Такое качество изображения необходимо… В общем, есть в Сети такое, отчего и мозги вытечь могут. И лучше это не наблюдать в 4К. – Для того и старый браузер? – догадался Саша. – Точно. Погружаемся. Саша глубоко вдохнул, будто и в самом деле собирался нырнуть в темные неизвестные воды. – Значит, так, открой Тор и Библию. Прочти первую строфу. Постарайся сделать это одновременно. – На какой странице? – спросил Саша, чувствуя себя идиотом. – А это уже решать Дому. Мы должны получить инвайт. Подцепив краем пальца страницу где-то в середине, Саша нацелил курсор на ярлык в виде луковки и применил всю свою координацию, чтобы совершить оба действия одномоментно. – «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не добрым и кротким, но суровым», – прочел Саша на английском. – Хорошо. Преобразуй это в цифры в C++, – приказал Психопомп. – Введи их в строку браузера. Так мы немного срежем. После недолгой процедуры Саша разочарованно протянул: – Страница не найдена. – Повтори. Закрой браузер и книгу и повтори снова. – «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона до первенца узника, что в темнице», – прочел Саша и повторил все предыдущие действия. Ошибка «404» вновь светилась на экране. – Еще! Снова ошибка. – Еще! – неистовствовал голос. – Какой в этом смысл, не потрудишься объяснить? – Библия – самый популярный ключ для шифров, а в Дипвебе зашифровано все. То, что мы сейчас делаем, – почти брутфорс, только медленный. Еще! В какой-то момент Саша уже подумал, что так они просидят всю ночь, перепечатывая цитаты из Библии, как вдруг после преобразования в цифры строфы «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» страница запестрила мелким текстом. Изуродованный закорючками Юникода, он был совершенно нечитабелен, а по центру топорщилась пикселями монохромная картинка в очень низком разрешении, но у Саши все равно перехватило дух – таким резким и жутким было ее появление. – Ты чего? – спросил Психопомп, заметив его выражение лица. – Кажется, есть, – ответил Саша, не в силах оторвать глаз от архивного фото обугленного младенца с пробитым черепом. То ли смерть застала маленького человечка в движении, то ли какой-то неведомый декоратор с извращенным чувством прекрасного поработал над трупом, но младенец, казалось, полз к зрителю и указывал на него пальцем. – Отлично. Инвайт есть, – удовлетворенно хмыкнул Психопомп. – Выбирай ссылку. – Ссылку? – недоуменно переспросил Саша, водя курсором по неразборчивому тексту. – Какую надо выбрать? – Ты еще не понял? Это твой путь. В Тихий Дом ведет лабиринт, и карты нет. Одна из комбинаций символов привлекла внимание Саши – если убрать перекладину тут и апостроф там, получалось что-то похожее на имя Алена. Недолго думая, он клацнул мышью. Страница окрасилась розовым, текст потек вниз, а вместо фотографии сожженного младенца появилась масса скриншотов из разнообразных порнороликов. – Что, баба не дает? – хмыкнул Психопомп. – Не просто так тебя сюда вынесло. – Не твое дело, – огрызнулся Саша. – Что дальше? – Ты уже понял принцип. Выбирай ссылку и кликай на нее. Направление только одно – вниз. Здесь Саша кликнул в случайную картинку с двоящейся, с растянутыми бедрами бабой – кажется, порно для очков VR. Та выдавала рекомендацию на следующее видео – азиатка, явно фотомодель, давила громадными каблуками котенка. Тот жалобно попискивал, явно доживая последние секунды. Следующая рекомендация – дряблая полуголая старуха в ажурных чулках испражняется в эмалированную кастрюлю на плите. Сашу передернуло: кто мог вообще желать смотреть подобное? Пока он прыгал по ссылкам, прошло добрых часа два, не меньше, – на улице успело стемнеть. Все это походило на какую-то глупую игру. Картинки менялись с невероятной скоростью, непохожие одна на другую, странные, в плохом качестве и почти всегда ужасающие. Люди, пожирающие мозги живой обезьяны. Тощие африканские дети, дерущиеся насмерть за бутылку колы. Прыщавый пацан, решивший постримить, как нюхает клей. Разнополые сиамские близнецы, туповато пялящиеся в мерцающий монитор. Плюгавый мужичок, имеющий толстуху в ее необъятные складки на животе. Гравюры со средневековыми пытками. Исламистские казни. Копрофагия. Зоофилия. Каннибализм. Скримеры, чудовища, кровь, расчлененка, порно, порно, порно… – Хватит! Сколько можно? Что мы вообще тут делаем? – взорвался Саша. – Зачем я смотрю все это? Это и есть твой путь к Тихому Дому? – Нет. Туда ведут масса путей. Но я знаю этот. Хочешь отступить? – спросил Психопомп, будто меню компьютерной игры, когда нажимаешь на кнопку выхода. – Нет, – с досадой ответил Саша. – Долго это будет продолжаться? – Мы рядом, я чувствую. Продолжай. И Саша кликал на картинки дальше, переходя по ссылке за ссылкой. Некоторые начали повторяться. Эту облысевшую обезьяну с бейсбольной битой в руках он уже видел. И это небрежно собранное, будто из лоскутов, кукольное шоу – тоже. Чаще других начали встречаться двое детей, сросшихся затылками. Поначалу похожие на сиамских близнецов, при ближайшем рассмотрении мальчик и девочка оказались погодками, а неаккуратный, в подтеках сукровицы шов не оставлял сомнений – несчастных действительно сшили головами и, судя по лицам, засняли на камеру еще живыми. Сморщившись от вида очередного отвратительного изображения – где глумливый карлик по локоть засовывал руку в анальное отверстие какому-то мужику, – Саша все же почему-то выбрал этих несчастных, соединенных чьей-то злой волей детей. Он нажал на кнопку мыши, не ожидая никаких изменений, но вдруг экран застыл, а потом курсор распался на десяток самоповторяющихся фракталов. «Ну вот, какой-нибудь троян словил!» – подумал Саша и потянулся было к кнопке перезагрузки компьютера, но услышал громогласное «Не трогай!» из колонок, пробивавшееся даже через жуткую долбежку зацикленного звона. – Быстро хватай ручку и записывай в блокнот ссылку, по которой перешел! – кричал Психопомп в микрофон, – Нужно успеть, пока виртуальная машина не крашнулась. Саша резко выбросил руку вперед – и ручка укатилась со стола. Под нервные «скорей!» невидимого собеседника он нашарил ее на полу и принялся спешно, небрежными каракулями выводить беспорядочный поток символов в блокноте. Стоило написать последнюю цифру, как экран посинел, выплюнул строки каких-то белых букв и погас. Наконец-то затих и сигнал об ошибке, от которого у Саши едва не разболелась голова. Или она болела от мерцающего допотопного монитора? – Успел? – раздалось из колонок. – Да. – Отлично. Значит, Сеть пропускает нас дальше, – облегченно выдохнул Психопомп. – Вирусная стена уничтожила первую виртуальную машину. Можешь ее закрыть. С горячих клавиш. Для следующего уровня нужна ось, построенная целиком на файрволах и антивирусах, – мы отправляемся в очень грязное место. Зажав Аlt и F4, Саша немало был удивлен, увидев вполне рабочий экран Windows, но экран пестрил уведомлениями о блокировках, карантине и обнаружении угроз – удалось узнать по меньшей мере десять антивирусных программ, еще больше осталось неопознанными. В углу ехидным маленьким окошечком все так же висел его с Психопомпом чат. Тот так и не включил камеру, поэтому Саша видел в цифровом отражении только себя. За спиной его миниатюрного изображения зеркало отражало его же спину и монитор. Наверное, можно было бы разглядеть и маленькое окошко чата через гладь амальгамы, но этот полуцифровой зеркальный тоннель оказался слишком коротким из-за низкого качества изображения. – Открывай Tor и вводи ссылку. Вручную, – скомандовал незнакомец. Ломая глаза в неверном свете монитора, Саша перепечатал собственные каракули в строку, надеясь, что нигде не ошибся. – Новое правило, – наставлял Психопомп. – Чувствуешь, что комп виснет или дурачится, – переписывай ссылку, не дожидаясь команды. Понял? – Да, – растерянно проговорил Саша, удивленно рассматривая открывшуюся страницу. Это был его форум – тот самый, на котором он оставил объявление о поиске проводника в Тихий Дом. Только теперь к каждому сообщению крепился дополнительный текст, подписанный пользователями вроде Anon234 или Mask905. – Что это? – спросил он, пробегая глазами по тексту. В сообщениях договаривались о продаже наркотиков, ворованных кредиток, оружия и детской порнографии. – Паразиты. Лепятся к форумам, соцсетям и чатам на изнанку, обкашливают делишки. Найди свое последнее сообщение. С этим Саша справился без труда – форум посещали нечасто, и тема все еще висела вверху. Но кликнув на нее, он покрылся холодным потом, читая написанное неким FoxGuy345 под его «Здорово, форумчане…». Дополнительный, белый на черном текст гласил: «Ваззап, народ. Принимаю заказы на снафф. Предлагаю: вивисекция, отравление, асфиксия, огнестрел. За отдельную стоимость добавлю износ. Стучитесь в личку». Следя глазами за ответами на это сообщение, Саша едва удержался от соблазна вырубить к чертовой матери компьютер и больше никогда в жизни не посещать это ужасное место. Анонимы спрашивали, можно ли натравить на жертву собак, будет ли изнасилование после убийства стоить дороже, можно ли устроить игру на выживание. Под сообщением самого Саши – он отвечал здесь какому-то троллю – и вовсе висел вопрос: «А можно, чтоб был ребенок, не старше двенадцати?» – Нашел? – вырвал его из кошмарного оцепенения голос Психопомпа. – Да. – Хорошо. Переходи по ссылке, которую оставили в ответ. Проскроллив страницу ниже, Саша увидел, что топикстартер написал: «Дети? Это дорого. Убедись, что готов заплатить. Вот тебе превьюшка на затравку – …» Далее шла состоящая из случайного набора символов ссылка. – Я не буду этого делать, – твердо заявил Саша. – Не хочу это видеть. Этого не будет на моем компьютере. К черту все! – Перестань. Это единственный путь. Ты заплатил триста долларов, накупил техники, притащил зеркало для того, чтобы отступить? – кажется, упрашивал незнакомец. – Неужели для этого достаточно одного превью с детским порно? Саша сопел, глядя в черный силуэт на месте аватарки Психопомпа. Что делать дальше, он откровенно не знал. Разумеется, хотелось достичь цели, доказать этим напыщенным хипстерам, что он круче их всех, но… – Нет, извини. Игра окончена. – Это не игра! – громогласно взревели колонки, после чего Психопомп сменил гневный рык на почти нежные увещевания. – Тебе необязательно смотреть видео целиком. Как только заметишь ссылку – сразу по ней перейдешь – и все. – К черту. Ладно! – злясь на самого себя, рыкнул Саша и ткнул курсором в ссылку. Видео начало загружаться, появилась размытая мыльная картинка, но все равно удавалось разглядеть девочку лет семи, привязанную к голой панцирной кровати. – Куда жать? – кричал он, лихорадочно шаря взглядом по сайту. Отдельные элементы прогружались очень медленно. Стоило задержать взгляд на какой-то ссылке, как та уползала вниз, сталкиваемая не пойми откуда взявшейся картинкой. – Куда? – Ищи! В панике Саша просто ткнул наугад в случайное скопление букв и цифр, лишь бы не видеть, как ребенок хнычет в камеру, а чья-то тень уже входит в кадр. – Куда ты полез, дебил? – ярился голос, пока на экране прогружалось новое видео. В грязной избе, в кружевах помех и полосок, некто в солдатской форме валял сапогами по полу беременную бабу. Та пыталась отползти прочь, но безжалостная тупоносая обувь всюду настигала ее. Лица солдата не было видно, но в его позе, в наклоне головы, в этих театрально-выверенных движениях чувствовалось – он знает, что на него смотрят. – Закрывай, придурок! – выли колонки. – Здесь опасно! – Сейчас-сейчас, – сосредоточенно елозил Саша по странице курсором в поисках чего-то, что привлечет его внимание. – Вот, есть! Одна из картинок в углу экрана изображала уже знакомых Саше сшитых затылками детей. – Быстрей! – паниковал Психопомп, а тем временем баба под ногами солдата затихла и тот медленно, демонстративно поворачивался к камере. – Ты не должен увидеть его лицо! Ор проводника навевал панику, и Саша случайно совершил несколько переходов, нажав несколько раз подряд на клавишу мыши. Клик-клик-клик-клик – и вот уже страница демонстрирует какие-то пронумерованные аудиозаписи. – А это что? – Правительственные радиостанции, – уже успокоившись, пояснил собеседник. – Здесь потише. Надо теперь вернуться к детскому снаффу и найти правильную ссылку. – Правительственные? – заинтересовавшись, Саша уже было ткнул курсором в один из треков, когда глазам его предстал не пойми откуда вылезший рекламный баннер. Волосы зашевелились у него на затылке, когда в бесстыдно задравшей юбку девчонке с запакованным презервативом в зубах он узнал Алену. – Чем ты занят? – настороженно спросил Психопомп, видимо заметив у Саши на лице нешуточное волнение. Тот медленно навел курсор туда, на русый треугольник лобковых волос. Услышав то, что раздалось из колонок, он обомлел, узнав до боли знакомый голос: – Слушай, я не могу! А если Саша узнает? – Тебя это правда заботит? Второй – насмешливый и ядовитый – голосок Саша бы ни за что не спутал. Это был Морф.– Ну же, детка, это ведь будет приятно нам обоим. – Липкие, будто слюни, слова Морфа прерывались дыханием и какими-то причмокиваниями. – Ну перестань, я умоляю тебя, хватит… Саша уже кипел от ярости, когда разговор любовников прервало басовитое: – Хватит! Не слушай их. – Но я хочу… – Не слушай. Это сирены. Они покажут тебе что угодно, лишь бы ты кликнул. Они здесь, чтобы сбивать с пути, – терпеливо объяснял Психопомп. – Ничего такого на самом деле не происходит. Это все иллюзия. Фейк. – А если нет? – не слушая незнакомца, Саша с силой клацнул правой кнопкой мыши. Открылась фотогалерея. Кипя желчью, Саша листал фотографии, сделанные будто бы скрытно, – как Морф и Алена сидят в кафе. Его девушка улыбается, пьет латте, на следующем фото уже держит Морфа за руку. Вот ее губы приоткрываются, глаза слегка прикрыты. Следующая фотография приближает ее ноги в колготках, что видны под столом. Приближение сильнее. Еще. Нет никакого сомнения – рука Морфа лежит у нее на бедре и скрывается под юбкой. – Доволен? Можем идти? – раздраженно спросил Психопомп. Но прямо там, где елозила похотливая рука Морфа, неожиданно высветились еле заметные на фоне темных колготок синие символы. Совершенно автоматически Саша перешел по ссылке, даже не предполагая, что ему предстоит увидеть. Комната заполнилась стонами, хлопками и хлюпаньем. Колонки ревели, заглушая голос Психопомпа, а на экране Алена ритмично двигалась в такт бедрам Морфа, прижатым к ее ягодицам. Никаких сомнений не было – они трахались. Теперь Саша был уверен: слезы текли по щекам не от мерцания древнего монитора, а от осознания этого гадкого, низкого предательства. – Говорил же, ты не хочешь этого видеть? – пробился сквозь стоны девушки голос незнакомца. – Это всё сирены. Идем. Нам нужно продвигаться дальше. – Это ненастоящее? – спросил Саша, еле сдерживая горькие рыдания, налипшие комьями в горле. – Так могло бы быть, – прозвучал уклончивый ответ. – Идем. Но в ответ на шевеление мыши курсор отозвался лишь слабым подергиванием: его движения на экране напоминали слайд-шоу. – У меня что-то зависло. – Говорил тебе, не кликай. Сирены жрут оперативку со страшной скоростью. Поздравляю, теперь кто-то майнит через тебя эфир или использует твой кеш для временного хранения файлов. – И что дальше? – Ничего. Эту виртуальную машину придется дропнуть. Следующая в разы слабее – зато менее привлекательная для цифровых форм жизни. Саша переписал ссылку и закрыл очередное окно, а следом за ним показалось еще одно: на вид это была ручная сборка Windows 95, будто бы нарочито примитивная. – Поехали. Больше не отвлекайся. Дальше – жестче. Впереди Перевал. Введя ссылку, Саша с легкостью отыскал следующую ступень – короткое видео, где толстяк клоун кормит какой-то дрянью через воронку истощенного мужика, прикованного к стулу. Досматривать, к счастью, было необязательно – ссылка была грубо вырезана на спинке стула прямо внутри видео. Вглядываясь через мерцание монитора, Саша не без труда перепечатал нужные символы. Экран почернел полностью. Поначалу Саша подумал, что сдох либо монитор, либо видеокарта, но посередине еле заметно серела строка поиска. Голос из колонок скомандовал: – Тебе снова нужна Библия. Не ошибись. Саша долго листал громоздкий талмуд, но все, что ему попадалось, не казалось подходящим. Дойдя до последней страницы, он перелистнул вновь в начало, где в глаза ему бросилось: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Переведя строфу в числовой формат, он ввел получившийся набор цифр. – Тебе сегодня везет, – прокомментировал Психопомп, когда экран расцвел какими-то кошмарными психоделическими цветами. Ссылки наслаивались одна на другую, по экрану сновали, будто автомобили в ускоренной съемке, едва различимые картинки. Люди, пожирающие сырое мясо, подобно зверям. Вгнившие в свои постели трупы. Групповые изнасилования. И, подобно Белому Кролику, бегало по экрану изображение сшитых головами детей. Саша попытался несколько раз поймать его, но не хватало скорости. – Сейчас нужно встроить Нексус. Старый браузер замедлит отображение элементов. Просто открой его через Тор, – наставлял Психопомп. – Ты же знаешь, что это так не работает? – с сомнением ответил Саша, но все же выполнил указание. К его удивлению, один браузер действительно врос в другой. – На этом уровне все работает иначе. Твой компьютер уже изменился – Тихий Дом чувствует твое приближение. Теперь картинки двигались медленнее, кислотные цвета больше не жгли глаз, и можно было не спеша нажать на нужную ссылку. Дождавшись изображения искусственных сиамских близнецов, Саша уже кликнул было прямо в грубый окровавленный шов, что разделял их затылки, – как вдруг из разрозненных пикселей в мгновение ока собрался тощий человеческий силуэт. Мельтешение цветов загородило ссылку и тут же исчезло. – Это что было? – Не обращай внимания. Просто не упусти в следующий раз, – ответил Психопомп, но голос его был явно напряжен. Вновь поплыли по экрану нечеткие, из черно-белых квадратиков, изуродованные дети. Стоило Саше приблизить к ней курсор, как тощий пиксельный силуэт опять вмешался, загородил собой ссылку, чтобы та уползла за пределы экрана, после чего испарился. – Какого хрена? – выругался Саша, но Психопомп не спешил с ответом. В этот момент мерцающий силуэт показался крупнее, ближе и саданул по экрану с той стороны, так что Саша даже, кажется, почувствовал вибрацию. В этом месте монитор обзавелся добрым десятком битых пикселей. – Чувак, что происходит? – в панике кричал Саша, пока фигура, выскакивая с разных сторон экрана, оставляла все больше и больше черных пятен. Теперь, разглядев ее поближе, Саша наконец смог понять, из чего собран этот слишком тощий для человека силуэт: друг друга сменяли мириады миниатюрных аватарок из соцсетей. Рты раскрыты в безмолвном крике, глаза распахнуты, так что казалось, вот-вот вылезут из орбит. – Что это за херня? – Минотавр, – обреченно ответил Психопомп, – Подцепили, сука. – Это шутка? – Открой чат. Саша послушался и развернул окошко, в котором с одной стороны темнел силуэт Психопомпа, а с другой – зернистое изображение с его веб-камеры. В какой-то момент Саша даже не узнал себя – настолько бледным и растерянным было его лицо. А в зеркале за его спиной… – Никаких резких движений. Не дергайся, если не хочешь поделиться с ним своей аватаркой. Силуэт стоял в глубине зеркально-цифрового тоннеля и медленно, покачиваясь из стороны в сторону, шагал вперед, приближаясь к Саше. Нанося удар за ударом, он разбивал отражения веб-камеры в зеркале, оставляя за собой темноту. – Так, это же на экране, да? – сглотнув, спросил Саша. – Это на экране? – Не дергайся, говорю тебе, сиди тихо. Ты настроил жесткие диски? Параллельное подключение? – Да. Он же не у меня за спиной? – Просто медленно протяни руку в системный блок и возьмись за четвертый хард в цепи. Когда скажу – дергай. И главное – не оглядывайся. Стоило Саше это услышать, как ему безумно захотелось посмотреть – что там за спиной? Убедиться, что монстр, собранный из кричащих аватарок, существует только на мониторе компьютера и там, в зеркале, окажется лишь его отражение. А что, если отражения достаточно? – Его же нет в моей квартире, так? – спрашивал Саша напряженно молчащего Психопомпа. – Его же здесь нет? – Знаешь, откуда он появился? – неожиданно спросил Психопомп. – Чувак, он у меня за спиной или нет? – Когда люди умирали перед веб-камерами, последнее, что от них оставалось, – эти две-три секунды видеозаписи, которые, будто грязная вода, сливались в глубины Сети. – Что за… – Не шуми! – приказал голос. – Так вот, скапливаясь на дне, они сформировали это создание. Никто не знает, почему он охраняет проход – это его программа, приказ или он просто здесь охотится. Тем временем тоннель все темнел и темнел за спиной увеличивающейся в размерах твари. Из-за ее ломаных, дерганых движений казалось, что люди на аватарках двигаются, царапают себе лицо, кричат в объектив, плачут – и все это в стиле двух-трехкадровых гифок. В какой-то момент стало казаться, что нечто вышло из зеркала и его тонкие, зубчатые от пикселей руки вот-вот лягут Саше на плечи. – Он уже близко! – Суть в том, что Минотавр опасен не только на экране. Пока он существует в любом виде, пускай даже записанный на флешку, он может нанести вред. Поэтому… – Чувак, скажи, что это только на экране! Оно ведь ненастоящее? Да? И вдруг зеркало за спиной Саши лопнуло, обдав его ливнем острых осколков. На секунду он ощутил чье-то прикосновение, похожее на легкий удар током к волосам на затылке. Колонки взревели, шипя и фоня, паническим: – Дергай! В первый раз влажные от пота пальцы соскользнули с гладкого пластика, но Саша тут же ухватился вновь за край жесткого диска и резко вытянул его из порта, оборвав шлейф. – В микроволновку – и включай! Сейчас же! Пока он записан, Минотавр все еще опасен. Лишь через секунд тридцать, когда пластик уже потек на стеклянную тарелку, а металл искрил под излучением в две с лишним тысячи мегагерц, Саша понял, что не дышит. Шумно вдохнув, будто спасенный в последнюю секунду утопленник, он повернулся к монитору. Очередная виртуальная машина была мертва. – Я не записал ссылку, – горько сообщил он Психопомпу, закрывая окно. – Это уже неважно, – был ответ, – ты преодолел Перевал. В обычный Интернет ты уже все равно не вернешься. Продолжай погружение. Следующая виртуальная машина не была похожа ни на что знакомое Саше. Какие-то серые блоки из BIOS соседствовали с ультрасовременными элементами визуального интерфейса, больше похожими на психоделические картинки художников-визионеров. – Что это за ось? – спросил Саша из профессионального любопытства. – Ты такую не знаешь. Моя собственная. Работает только на самой Глубине, используя ее ресурсы – военные серверы, чужие компьютеры, майнинговые фермы. Такие мощности необходимы, чтобы работал Арго. – Арго? – Искусственный интеллект на основе нейросетей. Я написал его сам. Алгоритмов обычной системы недостаточно, чтобы ориентироваться за Перевалом. Инфоперегрузка слишком велика – Арго отсеивает лишние данные, ведя нас к цели. И действительно, вместо привычного Яндекса стартовой страницей оказался все тот же безымянный поисковик с черным фоном. – Куда дальше? – Ты знаешь, что делать. Просто вводи цитату. На этот раз Саша даже не стал открывать Книгу книг. «Ищущий да обрящет». – Отлично. Это последний этап. Нужно только пройти. – Что за херь? Даже в аскетичном интерфейсе Нексуса это выглядело совершенно… невероятно и хаотично. – Где мы? – Вирусный Суп. Изначальная материя, – со скукой ответил невидимый собеседник. – Все смертельные файлы, несуществующие протоколы, пустые страницы, цифровые формы жизни рождаются здесь. Рекомбинируются, растут и выползают в привычную тебе Сеть. По экрану ползали ссылки-амебы, файлы-черви метались из угла в угол, шевелили лапками верткие аудиофайлы в бесконечной черноте Глубины. – Здесь потребуется брутфорсер. Запусти подбор паролей на правильную ссылку. Выбирать уже ничего не надо. Арго поведет тебя. Саша отнял руку от мыши – и курсор самостоятельно заплясал по экрану. Выцепив собранную из символов Юникода многоножку, Арго самостоятельно совершила переход. Высветилась строка ввода пароля. – Брутфорс займет добрые сутки. И это если код цифровой. У меня нет столько времени, – заметил Саша, все же запустив программу. К его удивлению, когда он договорил фразу, пароль уже был подобран – многострочная белиберда из букв и цифр. Никакая программа подбора не выдала бы результат так быстро. – Как это? Я думал… – Я знаю. Время здесь течет иначе – прошлое и будущее становятся несущественными. Чем ближе к Тихому Дому, тем быстрее идет время в Сети. Это как Черная Дыра наоборот. Здесь вычислительные системы работают на почти бесконечной скорости. Пока ты кликаешь мышкой – на Глубине проходят годы. – Не понимаю. Это же всего лишь Сеть. В ответ прозвучал лишь пренебрежительный смешок. На экране продолжали сменяться окна набора паролей. Брутфорсер справлялся сам, и Саша просто держал зажатой кнопку подтверждения. Тем временем монитор мерцал все ярче и чаще, заставляя болезненно потирать глаза. Кулеры шумели, будто пылесосы. В какой-то момент от системного блока начал подниматься едкий дым – пахло горелым пластиком и пылью. Один из жестких дисков заискрил, и Саше пришлось выдернуть и его. – Чувак, у меня комп горит! – Частично. Это нормально. При инфоперегрузке такое происходит с любым носителем. Мало какое устройство выдержит такие потоки. У тебя сильная машина, ты должен выдержать. – Слушай, может… – Нет, отступить уже не выйдет. Перевал – как горка. Трудно забраться наверх, но на другую сторону ты скатишься уже сам. Лучше не пытайся замедлить падение, а то зацепишься и останешься здесь. И действительно, картинки на мониторе менялись с бешеной скоростью. Палец с кнопки подтверждения давно был убран – теперь, казалось, система управляет сама собой. В какой-то момент мерцание усилилось до невероятной частоты, и Саша будто проваливается туда – в бесконечные глубины набитого вирусами, информационным мусором и отвратительными видео космоса. Комната размылась, исчезла, он летел через тьму, набитую ссылками и файлами, – не было больше видно ни монитора, ни клавиатуры – лишь мерцающий хаос. С каждой секундой или с каждым тысячелетием – Саша не различал – амеб, червей и многоножек становилось все меньше: они расползались по краям, исчезали – и наконец, когда с угла экрана пропала последняя мешанина пикселей, наступила тьма. – Поздравляю, Нео, ты добра… – Окончания фразы Саша уже не слышал. Он не слышал и не видел уже ничего. Не было ощущения кресла под задницей, не было пластиковой дымной вони из микроволновки, не было мерцающего монитора. Вместо этого Саша просто знал. Знал, что сейчас сидит в своей комнате, а по подбородку текут слюни. Знал, кто скрывался под личиной Психопомпа. Знал молекулярный состав, местонахождение, плотность и температуру каждого предмета во Вселенной, который когда-либо был и будет. Морф зашел в квартиру, воспользовавшись ключом, который стащил у Алены. Плотно заперев за собой дверь, он обернулся к Саше. – Ну здорово, Нео. Тот, конечно же, никак не отреагировал на визит своего соперника. Все, на что теперь хватало его мозга, набитого под завязку информацией, это функции вегетативной нервной системы. Под креслом натекла лужица мочи. – Могу поздравить – спор ты технически выиграл, – ухмыльнулся Морф, доставая ноутбук из своей сумки. Вставив мобильный модем в порт, он включил устройство. – Не волнуйся, на свидание с Аленой я бы не пошел. Впрочем, ты и так знаешь, да? Все знаешь. Вбивая пароль от системы, Морф довольно улыбался, поглядывая на Сашу, будто увидел его с какой-то новой стороны. – Ты ведь уже все понял? Виртуальных машин было не четыре, а пять. Ни одно устройство, за исключением самого сложного – человеческого мозга, – не способно вместить в себя код Тихого Дома. Всякие спецслужбы и тайные лаборатории знали это, пытались воссоздать искусственный интеллект такого уровня, чтобы он мог сравниться с настоящим. Меня одного осенило – ведь можно загрузить Тихий Дом и напрямую в человека. Обладание абсолютным знанием – слишком большая инфоперегрузка. Лезть самому в Тихий Дом – этим или другим способом – чистое самоубийство. Прежде всего, потому, что Тихий Дом – не место, а состояние. Что толку все знать, если не можешь воспользоваться, верно? Зато воспользоваться могу я. Наконец браузер на ноутбуке Морфа прогрузился, и тот, размяв пальцы подобно пианисту, занес их над клавиатурой. – А я ведь почти испугался, что ты увязнешь на сиренах. Хорошо, что тебе хватило воли. Я знал, что на роль терминала ты подойдешь идеально: у тебя хорошая башка и ты ею не пользуешься. Знаешь, говорят, что Тихий Дом существовал задолго до появления Интернета, задолго до появления людей. Это мы до него дотянулись при помощи Сети. Архив всего – прошлого и будущего. Представляешь, какие это возможности? Давай начнем с простого: мне нужен доступ к счетам HSBC Holding. Ключ на двухфакторную идентификацию, логин и пароль. Саша не отвечал. Стеклянные глаза, совершенно расфокусированные, смотрели в пустоту. – Ну, я жду? Тело Саши, похожее на манекен, даже дышало как-то осторожно и незаметно, будто скрываясь. Стукнув кулаком по столу, Морф подошел к нему и как следует тряханул. – Я жду! Доступ к счетам, все логины и пароли, быстро! Морф пробовал хлестать его по щекам, ковырять под ногтем зубочисткой, орал в ухо и даже тыкал карандашом в глаз, но тот никак не реагировал. Перепробовав все, Морф будто что-то понял, заметив какой-то очевидный просчет во всей своей гениальной схеме. Прогнав мелкую дрожь, он вдруг что-то осознал. Засунув поочередно оставшиеся жесткие диски вместе с материнской платой Сашиного компьютера, он вскипятил их в микроволновке, следом отправил и Сашин телефон – на всякий случай. Оглядев квартиру как следует, Морф протер какой-то тряпкой все поверхности, которых мог случайно коснуться, и самого Сашу. Даже когда грязная ветошь прошлась по глазным яблокам, тот не среагировал, продолжая тупо пялиться куда-то в погасший монитор.
Саша ничего не чувствовал, но четко осознавал – он лежит в отделении интенсивной терапии в Первой Градской больнице, подключенный к системе искусственного жизнеобеспечения. Обнаружила Сашу соседка спустя два дня – Морф не стал закрывать за собой дверь. За это время его глазные яблоки высохли, в области крестца и лопаток образовались пролежни, а организм серьезно страдал от обезвоживания. Причину глубочайшей комы третьей степени врачи определить не смогли, впрочем, как и объяснить зашкаливающие показатели ЭЭГ. Саша же знал все. Знал, как вылечить рак, как избавить мир от войн и нищеты и даже – как вывести первый управляемый шаттл за пределы Солнечной системы и дальше к бесконечности. Знал, как появился первый живой организм во Вселенной, и знал, как умрет последний. Чего Саша не знал, так это как пошевелить хотя бы кончиком пальца. В его голове прошлое, будущее и настоящее слепились в единый клубок безвременья. Как божество, он был всеведущ и знал ответы даже на те вопросы, что человек еще не успел задать, но как человек он был слаб и думал лишь об Алене. О том, что Морф все же нарушит свое слово, дождется, пока девушка позабудет о Саше, предложит попить вместе кофе… Сына они назовут Олегом, дочку – Лилей. Через пять лет Морф, одержимый идеей получить доступ к Тихому Дому через человеческое сознание, попытается создать терминал доступа, соединив два мозга, – в надежде на то, что один сможет извлекать информацию из второго. Материалами для эксперимента послужат их с Аленой дети. Поняв, что потерпел неудачу, он скроется в Подмосковье, где замерзнет насмерть в заброшенном деревянном доме. Алена же, вернувшись с работы, застанет Лилю и Олега уже мертвыми – Морф сошьет их затылками без анестезии, чтобы не нарушать ясность мышления. Алена же умрет в психиатрической лечебнице: спустя восемь месяцев – разгрызет себе запястья и будет втирать в них собственный кал, чтобы вызвать заражение крови. Абсолютное знание обо всем вытеснило Сашину личность, еговоспоминания и эмоции. Он стал ничем и всем. Не было ничего видно и слышно: Саша был будто заперт в глухом коконе. Или же он сам был – бесконечный пустой кокон. Саша знал, что пролежит, подключенный к аппарату жизнеобеспечения, бесконечно долгие шесть лет, три месяца, пять дней, восемь часов, две минуты ровно, – пока не умрет от кровоизлияния в мозг. И еще больше времени пройдет здесь, в Тихом Доме, где, будто в черной дыре, часы останавливались, так что впереди ждала бесконечность. Он хотел кричать, но у него не было рта.[189]
Богдан Гонтарь Пробуждение
* * *
Каждый вечер охотники точили ножи и кормили духов, подливая в костер водку и бросая куски хлеба. Но старые ритуалы, пережившие сами народы, которые их породили, не давали результата – зверя не было. Старые широкие тропы располосовывали горные хребты, но по этим тропам уже давно не ходили бараны. Лишь валялось повсюду высохшее баранье дерьмо, виднелись полустертые отпечатки копыт, встречались редкие деревца с содранной бараньими рогами корой да попадались время от времени оплывшие от дождей заброшенные лежки. Они переходили с хребта на хребет, кряхтя под тяжестью рюкзаков, матерясь из-за натертых винтовочными ремнями плеч и покрикивая от боли, когда на исходе дня начинало сводить ноги в очередном подъеме. День за днем, уже полторы недели, они то сваливались по крутым распадкам и руслам ручьев в кишащие мошкой долины, то поднимались по зыбким серым осыпям и протискивались через частоколы скальных останцев к вершинам гор, чтобы сверху часами рассматривать открывавшиеся взору цирки и плато. Смотрели, покуда глаза не начинали болеть от изломанной паутины скальных осколков и унылой бурой палитры замшелых камней. Вечерами становились на ночлег, стараясь выбирать место повыше, чтобы спастись от мошки и комаров, но насекомые доставали даже на продуваемых всеми ветрами вершинах, и Степану начинало казаться, что в этих горах и нет никого, кроме жужжащего гнуса и их троих. На самом деле Степан уже жалел, что согласился на эту охоту. Барана планомерно выбивали много лет, и теперь все тяжелее было найти достойного трофейного зверя. А уж такого, как просил заказчик, – и в лучшие годы нелегко добывали. Сюда не вели дороги, не добивала мобильная связь и даже самые отчаянные туристы редко забредали в такую глушь. Единственной ниточкой, протянувшейся к цивилизации, был спутниковый телефон, и каждый вечер перед сном Басурман звонил по нему в поселок, ютившийся на востоке, где горные хребты обрывались и скатывались в пойму широкой извилистой реки. Басурман выходил из палатки, долго сидел на камнях, раздраженно чесал наползавшую на самые скулы черную бороду, ожидая, пока появится связь, а потом общался с вертолетчиками, которые забросили их в горы и должны были забрать вместе с трофеем: – Алло! Алло, Михалыч, слышишь меня? Да связь говно. Нет, не нашли пока. Нет. Прогноз какой? Дождь? Когда? Надолго затянет? Твою мать. Не, не надо, мы тут перештормуем. Не. Все нормально. Нет зверя, вообще ничего не видели. Да. Завтра в то же время. Все, спасибо! Семье привет передавай. А наутро они снова выходили на маршрут, и хребты для них сливались в единое целое, замыкались кругами и опоясывались туманами, превращаясь в серый сумрачный лимб. Слава охотника бежала впереди Басурмана уже долгие годы, и заказчик, конечно, обратился сперва к нему, вроде как даже лично прилетел из Москвы договариваться. Ну а Басурман уже пришел к Степану с Угаром с предложением присоединиться. Клиент просил найти пятнадцатилетнего барана, шкура нужна была целиком – на чучело. На вопрос Степана, почему сам клиент не желает охотиться, Басурман лишь пожал плечами: мол, хрен их, москвичей, разберет. Наверное, просто чучело закажет у таксидермиста да за границу загонит втридорога. Или у себя поставит. Неважно, главное, что платит. – Сам я, мужики, не вытяну, – объяснял Басурман со своим странным акцентом, по-птичьи выплевывая слова. – Если и возьму его один, то все равно не утащу целую шкуру с башкой, да припасы, да карабин. И вдвоем тоже рисково – идти далеко придется, поиск долгий будет. Надо втроем. Если найдем барана – один трофей обратно потащит, двое припасы делят. Бабки – об колено, поровну на всех. Вы парни опытные – втроем точно управимся. Угар-то сразу вписался – молодой, жилистый, как карибу, сил много, круглые сутки может по горам скакать. Оттуда и прозвище, что вся подобная работа – ему лишь шальное развлечение. А вот Степан еще долго раздумывал – и жирком заплыл, да и колени к тридцати пяти уже не те стали: суставы подразбились и ныли на погоду непрестанно. А тут вроде бы и деньги соблазнительные маячили, но и шансы на успех призрачные. И вот теперь, когда заканчивались припасы, когда все вымотались и озлобились, а не видать было даже самок с ягнятами, – сомнения только крепли. Да и успел Степан подзабыть, каково это – охотиться со старыми компаньонами – уже через три дня начало раздражать буквально все. Десять лет ходил с ними, и каждый год зарекался еще раз идти. А тут пару сезонов отдохнул от скитаний по горам, и вымылось из памяти, какое это испытание. Угару за его вечные непонятные ухмылки и шуточки хотелось прописать в морду, а Басурману – и вовсе по горлу полоснуть, в частности за оглушительный раскатистый храп по ночам. – Я уже и забыл, как эта сволочь рокочет, – ворчал Степан, застегивая перед сном спальник, а Угар лишь скалил зубы в темноте и цыкал языком. В довершение ко всему, на десятый день Степан почувствовал, что заболел. Он так и сказал товарищам: – Похоже, амба мне. Басурман обеспокоенно вскинул бровь: – Темпер? – Ну. Кости ажно ломит под вечер. – Степан смахнул со лба крупные бисерины пота. – Колеса есть? – Не брал. – И я не взял, я тут не болею в горах. Со слов Басурмана вообще всегда выходило, что он был рожден горами и для гор, и это еще сильнее раздражало Степана. Он скривился как от зубной боли. Из-за спины, лениво растягивая слова, подал голос Угар: – Потерпи до лагеря, у меня там есть таблетки. Выпьешь, водки жахнешь, с утра свежий будешь. Степан был уверен, что Угар издевательски щерится. – Дойти еще надо, – пробормотал он в ответ. К вечеру они спустились с отрогов к реке, рассекавшей на два серо-зеленых ломтя широкую долину. На берегу белели две большие брезентовые палатки – жилая и складская, – и отсюда, из базового лагеря, они выходили до этого на поиски на восток, приближаясь к поселку, и на юг, а теперь завершали трехдневный западный маршрут. Угар убежал вперед – расконсервировать лагерь, кипятить воду и накрывать на стол. Степан же лежал на склоне, тяжело дыша и проминая пальцами пульсирующую мышцу на ноге. Рядом курил Басурман, усевшись на валуне. – Не по годам уже, конечно, эта охота, – пробурчал под нос Степан. Басурман выпустил в небо струйку дыма: – Да ну, какие тебе годы. Я в тайге шесть лет прожил безвылазно – и ничего, не разваливаюсь. – Ай, не гони! Прожил, ага. От ментов шкерился по сопкам возле города. Отсидел бы с большим комфортом. Басурман лишь пожал плечами. Покосился на чугунные тучи, кравшиеся с юга: – Ты давай отлежись. Похоже, непогода будет. Угар с тобой посидит, поухаживает. А я на пару дней на север сбегаю на разведку, гляну, что да как. – Один, что ли? – спросил Степан и тут же мысленно выругался. Он и так знал ответ. – Ну а что, – задумчиво тянул Басурман. – Один я всяко быстрее пойду, чем с кем-то из вас. Мне и еды меньше надо, я только перед сном ем. И пройду побольше, и посмотрю получше. Увижу барана – или по рации выйду, или сам за вами мотнусь. – Как милосердно с твоей стороны. Басурман лишь гоготнул: – Ты лучше выздоравливай. Надо будет, и с температурой за трофеем пойдешь.Ветер трепал палатку, гнул стойки, задувал в печную трубу, так что приходилось распахивать настежь полог, чтобы выпустить дым. В унисон ветру по тенту барабанил картечью дождь. Потолок потек в первый же день, и Степан, стуча зубами и дрожа, помогал Угару натягивать тарп, который то и дело вырывало из рук ветром. Теперь сверху не капало на спальники, но брезентовые стены оставались такими же мокрыми изнутри, и чадящая сутки напролет печка никак не могла высушить палатку. На натянутом шпагате висели сырые вещи без какой-либо надежды просохнуть, а земля под ногами раскисла и превратилась в топкое болото. Угар закидал пол стланиковыми ветками, но и они постепенно погрузились в грязь. Печь топили тоже стлаником – в долине не росло ни единого деревца, зато сплошь и рядом виднелись зеленые колючие кусты. Уже на второй день Угару приходилось бегать за дровами за сотню метров от палатки – стланик сгорал моментально, и Угар рубил его практически безостановочно, лишь отогревая иногда руки над гудящей печкой. Степан ворочался в мокром насквозь спальном мешке, еле теплом от жара его тела. Вставал он, только лишь чтобы нагреть чайник, да и то пока Угар, почерневший от усталости и злости, не набрал ему сразу три термоса кипятка – газ тоже подходил к концу. Когда Степан порывался помочь товарищу с дровами, тот лишь цыкал языком и говорил: – Давай-ка лежи. Еще сдохнешь не дай бог. – И Степан послушно укутывался обратно в спальник. На третью ночь дождь стих, перешел в морось. Унялся ветер, и Степан лежал в непривычной тишине, слушая, как шелестит растянутый на веревках тарп над крышей и тяжело дышит во сне Угар. Тогда-то и вернулся Басурман. Он пришел перед рассветом. Тихо расстегнул молнию входа и, еле слышно ступая, зашел в палатку. Первым проснулся Угар и пихнул локтем Степана в бок. Степан сощурился в темноте, пытаясь разглядеть Басурмана, но видел лишь его силуэт, словно среди сумрака палатки разлилось густое чернильное пятно. Степан услышал, как ударился об землю брошенный в угол рюкзак и клацнул затвор карабина. – Я видел следы, – сказал Басурман. – Самец. Один. За два дня дойдем. – А самого его видел? – спросил Степан. В темноте сверкнули зубы – Басурман улыбнулся. – Мне и не надо. Самец старый. Осторожный. – Скрипнул стул, и вслед за рюкзаком полетели сапоги. – Держится на одном хребте. Там много чаш – переходит из одной в другую. Кормится. Прячется. Мы его возьмем. Выходим к полудню. Зашуршала одежда. Степан покосился на Угара. Тот пожал плечами. Что-то было не так. Степан не мог понять спросонья, что именно. Тяжелая голова гудела, мысли липли друг к другу, и никак не удавалось ухватить хоть одну из них. – А чего по рации не вышел? – Не брала. Далеко отсюда. Хребты закрывают. Шорох одежды стих, и черный комок отправился вслед за сапогами. Степан наконец поймал мысль. И от этой мысли ему стало очень неуютно. Настолько, что захотелось поскорее запахнуться с головой в мокрый, вонючий, но такой теплый спальник. Вместо этого он спросил: – А ты сюда шел ночью? По темноте? – И, словно боясь собственного простого вопроса, добавил: – Или неподалеку дождь пережидал? Он увидел, как сгорбившийся на стуле Басурман повернул к нему голову. – Нет. Не пережидал. Я все время шел. – Ночью? – Ночью. Басурман стянул носки и трусы и пошел к выходу из палатки. Прожужжала молния, и Степан увидел, как бледное тело выскользнуло на улицу. Ветер, словно играясь, трепал полог входа, а Степан не мог оторвать взгляд от Басурмана, застывшего у входа и омываемого мелкими дождевыми каплями. Басурман стоял, разведя руки и глядя куда-то вдаль. Глядя на север.
Степан снова проснулся уже под утро. На этот раз от тишины. Нет, все так же моросил дождь, все так же шелестел под ветром тарп, все так же трещала печка. Но эти звуки были словно не естественные, а записанные на пленку, плоские и искусственные. Будто бы, пока Степан спал, звуки тайком соткали полог, за которым укрывалась осязаемая пустота, глубокая и гулкая. От ощущения этой пустоты, всасывающей в себя все пространство вокруг, было тяжело дышать, а в груди разгорался панический жар. Степан лежал не шевелясь и всматривался в разлившиеся по палатке тени. Он сосредоточился на дыхании, силясь унять молотившее в груди сердце. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Спокойно, спокойно. Вдох. Выдох. Теперь медленнее… Рядом шмыгнул носом Угар. Степан повернул голову. Угар тоже не спал. Он округлил запавшие глаза, вскинул брови и повел подбородком, указывая за плечо Степану, туда, где лежал Басурман. Степан не стал оборачиваться, лишь кивнул в ответ. Басурман не храпел. Басурман и был этой пустотой, и от него тянуло холодом, как если бы в его спальнике лежал мокрый стылый камень.
Они уходили все дальше на север. Сначала поднимались вверх по пересохшему ручью, и палатки в долине за спиной становились все меньше и меньше. Басурман шел в полусотне метров впереди, указывая дорогу и осматривая окрестности, а Степан с Угаром плелись поодаль. Точнее, плелся только Степан. Угар шел уверенно, пружинисто, перепрыгивал с камня на камень, быстро перебирал ногами, карабкаясь по осыпям, и помогал забраться товарищу. Глаза щипало от пота, кровь била молотком в висках, надсадно ухало под ребрами сердце. Степан то и дело останавливался и глядел вверх на зазубренный срез гривки, к которому уверенно карабкалась маленькая фигурка – Басурман ни разу не остановился на отдых. Вскоре они перевалили через хребет, по пологой седловине перешли на следующий и двинулись под самой гривкой по набитой тропе. Серый скальник под ногами сменился рыжим, тот – снова серым, а хребет все тянулся и тянулся на север, словно длинный узловатый палец, и там, вдалеке, упирался в сизую хмарь неба. Дождь остался позади. Сквозь серую пелену над головой проглядывало белое солнце, и оно казалось сияющей дырой, ведущей в безрадостный холодный мир. Степан с Угаром крикнули Басурману, чтобы подождал, и остановились переодеться. На вершине дул холодный ветер, но он дул от Басурмана, а не к нему, и можно было переговорить. – Что с ним, как думаешь? – спросил Степан, стягивая мокрое термобелье и подставляя ветру бледную кожу, вмиг покрывшуюся мурашками. – Хер его знает, – пожал костлявыми плечами Угар. – Может, колпак потек окончательно. – Что потек – понятно, нормальные люди по горам ночью не ходят. – И под дождем голые тоже вряд ли стоят на холодрыге. Надо карабин у него забрать. – Ага, пойди забери – я посмотрю. – Степан расстегнул рюкзак. – Сука! Носки забыл. – На, у меня с запасом тут. Ты спроси, может, просто понести ствол? Ну, типа помочь хочешь. Степан сплюнул под ноги: – Сам спроси. Я ж еле иду, заподозрит. Угар кивнул в ответ: – Пойдем поближе. Сейчас все будет. Он махнул рукой Басурману, подзывая к себе, и сам пошел навстречу. Степан закинул за спину рюкзак с повязанной поверху курткой и двинулся следом. – Старый! – крикнул Угар. – Ты не устал все на себе волочь? Дай ствол хоть понесу – передохнешь. Басурман, так и не сдвинувшийся с места, лишь покачал головой. Его голос, несмотря на ветер, было слышно очень отчетливо: – Если увидим барана, надо сразу бить. Я впереди, мне и стрелять. Можешь взять консервы у меня из рюкзака. Угар неразборчиво ругнулся, но не отступил: – Ну, увидишь да заляжешь. А мы быстро подскочим. Давай, натирает ведь только! Басурман не ответил. Он лишь снял с плеча карабин, следом скинул рюкзак, открыл клапан и начал выбрасывать на землю к ногам Угара жестяные банки. – Свое оружие я несу сам. И их снова нагнал дождь.
На ночь на одной из безликих седловин разбили маленькую палатку, которую тащил Степан. Снова сменили термобелье, закинули мокрое в ноги и улеглись вплотную друг к другу, слушая стук капель по тенту и бесконечный ветер. Степан долго не мог уснуть. Он был измотан, просто до изнеможения, но сон не шел. В спину даже сквозь каремат и спальник впивались острые камни, а в голове бились мысли, истончившиеся за день, словно галька под волнами прибоя. Что с Басурманом? Почему он не храпит? Почему он почти не говорит? Почему он шел ночью? Как он шел ночью? Что с Басурманом? Почему он не храпит?.. Справа сопел Угар, но по дыханию Степан понимал, что он точно так же не спит и ворочает у себя в голове точно такие же мысли, перекидывает их одну через другую и старается прогнать, чтобы уснуть. И боится засыпать. Слева не доносилось ни звука. Басурман дышал – его спальник еле заметно поднимался и опускался, но дыхания не было слышно. Степану отчего-то представилось на секунду, что тот лежит с открытыми глазами, смотрит в подрагивающую стену палатки. И скалит зубы. Но Степан этого не видел и не мог видеть – Басурман лежал на боку, спиной к нему. Степан набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Все это херня. Скоро все закончится. Завтра к вечеру, если повезет, они возьмут барана. Край – послезавтра. И все. Останется только вернуться назад, собрать лагерь и вызвать вертушку. И домой. С деньгами. И никакой больше охоты. Никаких гор. Завтра. Или послезавтра. Слева прожужжала молния – Басурман расстегнул спальник. Зашуршал, выбираясь. Пополз к выходу. Степан скосил глаза вправо и встретился взглядом с Угаром. Басурман распахнул вход, выскользнул в тамбур. Снова звук расстегивающейся молнии – полез на улицу. – Поссать пошел, – прошипел Угар. – Ага. – Что «ага»? Ствол! – Что? – Ствол разряжай! Степан потянулся к карабину Басурмана и отщелкнул магазин. Дрожащими потными пальцами ссыпал патроны к себе в спальник. Прислушался, но не услышал ничего, кроме дождя и ветра. Примкнул магазин обратно и улегся как ни в чем не бывало. – В стволе проверил? – шепотом спросил Угар. – Он не держит патрон в стволе. – Ты-то откуда знаешь? – Ну, никогда не держал. – А сейчас? – Давай без паранойи. – Да какая, на хрен, паранойя? Он нас натурально порешить может! Ты не видишь, что ли, что у него фляга засвистела? – Что-то он долго ссыт. – Что? – Долго ссыт, говорю. – Ну так иди глянь! – А чего я? – А кто? – Ты иди! – Ну, на хер! – Сука. Степану вдруг показалось, будто сквозь шум дождя он услышал шорох снаружи. Буквально в полуметре от своей головы, прямо за тентом. Как будто под чьей-то ступней зашуршали камни. Как будто кто-то присел рядом с палаткой, слушая их разговор. Где-то вдалеке пророкотал камнепад. Вспыхнула молния. Степан нашарил в темноте и нацепил на лоб фонарик: – Пойду гляну. Может, заблудился. Басурмана он увидел, как только выбрался из палатки. Луч света выхватил из темноты бледную фигуру, и Степан не сразу понял, что Басурман абсолютно наг. Он стоял метрах в десяти дальше по хребту, а его одежда лежала разбросанная вокруг и напитывалась дождевой водой, струившейся меж камней. Басурман глядел вдаль, на север, приложив к уху спутниковый телефон. Степан сделал неуверенный шаг к товарищу, поскользнулся на раскисшем мху и замахал руками, пытаясь поймать равновесие. Басурман обернулся к нему и опустил руку с телефоном. Бледные бескровные губы растянулись в улыбке. – Ты видишь? – спросил он, перекрикивая дождь и ветер. – Пошли в палатку! – махнул рукой Степан. – Пойдем – простынешь, идиот! – Ты видишь? – повторил Басурман и протянул руку вперед, указывая на укутанный мглой хребет. – Что вижу? Не надо подходить к нему. Не стоит. Что-то случится. Что-то поганое. Не надо подходить. Степан двинулся к Басурману, щурясь от капель, летевших в лицо. – Пошли в палатку, кретин! Фонарь замигал и потух. На плечи опустилась темнота, рассекаемая струями дождя. Степан сделал еще пару шагов, споткнулся, упал на одно колено, тут же поднялся и обернулся, пытаясь разглядеть в темноте палатку, но тьма обволакивала все вокруг, и Степан едва мог увидеть собственные ладони, поднеся их к лицу. Он заметался и попытался позвать Угара, но из пересохшего от страха горла вышел только нечленораздельный хрип. Голос Басурмана раздался прямо из-за левого плеча. – Смотри! – Холодные пальцы обхватили голову Степана и с силой повернули туда, где во мгле угольным пятном вырисовывался тянущийся на север хребет. – Смотри! Ты видишь свет? И Степан увидел. Он увидел сквозь воду, заливающую глаза, сквозь кромешную пелену ночи, сквозь стену дождя и неразличимые во мраке косматые тучи, свисавшие с небес. Далеко, на самой кромке небосвода, наливалось беззвездной темнотой и пульсировало черное пятно. Оно ширилось, заполоняя горизонт, выпускало ленивые протуберанцы и расползалось на юг, как клякса на листе бумаги. Пустота за пологом ночи, дождя и туч. И эта пустота сияла. Степан не мог понять как, но чернота словно светилась изнутри, пронизывая все вокруг лучами и не давая при этом ни капли света, и ему было больно глядеть на нее, как если бы он пытался сквозь бинокль смотреть на солнце в безоблачный прозрачный день. Сияние заполнило все небо – и уже не было ни туч, ни темноты, ни дождя. Лишь бесконечная сияющая пустота над головой – чужая, далекая и холодная. – Свет, – сказал Басурман. – Он ответил нам. Он помнит нас. Мы не одни. Из-за спины выбился луч света и донесся лязг затвора, а вслед за ним и крик Угара: – Отпусти его! Стрелять буду! И мир окончательно померк. То ли сам по себе, то ли в голове у Степана.
Степан очнулся в палатке от того, что его трепал за плечо Угар. Приподнялся на локтях, отбросил накинутый сверху спальник и охнул от холода, охватившего все тело, когда сырая ледяная одежда прилипла к коже. – Ты в порядке? Давай вставай. Твою мать, только ж выздоровел. – Угар подхватил Степана под локоть и помог сесть. От этого движения тут же заныли застуженные суставы, и Степан вскрикнул. – Сколько времени? – спросил он. – Утро. Семь, – поглядел на часы Угар. – Я тебя еле затащил сюда, извини, что переодеть не смог, сил уже не хватило. Степан пополз к выходу и выглянул на улицу. Дождь закончился. Небо над головой было все еще затянуто облаками, но сквозь облака пробивался тихий солнечный свет. Степан поглядел на север. Туда, где ночью разливалось над горами черное сияние. – Где Басурман? – Убежал. Я шмальнул, конечно, но не в него. А он деру дал. – С такими друзьями и врагов не надо. Куда он двинул? – Извините, не сказал, – язвительно скривился Угар. Степан выполз наружу. Кряхтя, нагнулся, вытащил из тамбура рюкзак и принялся вытаскивать содержимое: – Он ночью по спутнику звонил. Может, вертолет вызвал? Пошли на базу. Угар расхохотался: – По какому спутнику? Телефон без батареи. Аккумулятор в кейсе у него в рюкзаке. Степан, хмурясь, выпрямился. Обошел палатку, глядя под ноги. Телефон валялся на земле рядом с одеждой Басурмана. Гнездо аккумулятора пустовало. – Значит, он ушел дальше на север. Надо за ним. Сворачиваем лагерь. Угар не ответил и не двинулся с места. Степан оглянулся на него и вопросительно вскинул бровь: – Чего ждешь? Угар поднял перед собой ладони в примирительном жесте: – Ты меня, конечно, извини, но я за этим больным не пойду. Кто знает, что ему в голову стрельнуло и где его теперь искать. Я на такую дичь не подписывался. Я возвращаюсь на базу и тебе советую. Ну его на хрен. Степан кивнул. Далеко не факт, что Басурман ушел дальше на север. Не факт, что удастся его найти и тем более догнать. Не факт, что его вовсе медведь не сожрал уже. – И еще, – сказал Угар. – Он голый ушел, прикинь. Там жесть, что в башке, по ходу. Вот шмотье его валяется… Он ответил нам. …голый дебил сейчас скачет по горам, – продолжал Угар. – А нам его ловить? И где? Это тупо… Он помнит нас. …он уже на полпути до города, может быть! Мы не одни. Степан посмотрел на небо. На гривку, тянувшуюся вдаль и терявшуюся в серой рассветной дымке. На соседние хребты, похожие на обломки костей, торчащие из рассеченной кожи. На Угара, растерянно крутившего смоляной вихор на затылке. – Он ушел на север, – сказал Степан. – Я иду за ним. Карабин свой возьму, а Басурманов ствол и палатку тащи на лагерь сам.
Он шел по тропе, набитой тысячами бараньих копыт под кромкой хребта. Тропа то уходила вверх, то ныряла вниз, повторяя ломаные изгибы седловин и пиков. Временами сквозь осыпь вырывались наружу изъеденные ветром пальцы скальных останцев, и тогда Степан карабкался по скалам, чтобы не терять время, ища дорогу в обход. Далеко внизу по левую руку зеленела узкая полоса долины, и где-то там, за переплетением стланиковых ветвей, журчал ручей, а за долиной вздымался соседний хребет – такой же серый и бесформенный, как тот, по которому шел Степан. Иногда Степану казалось, что он смотрит на зеркальное отражение своей гривки и вот-вот увидит самого себя там, вдалеке, карабкающегося в очередной подъем. Солнце встало в зените, и его свет омывал Степана, грел голову под скатанной шапкой. Тропе не было видно конца, она уходила вдаль, истончаясь и теряясь среди камней и обломков скал, а сами эти камни и обломки складывались в хаотичную мозаику, от которой рябило в глазах. От усталости возникало чувство, будто это не он сейчас шагает по горам, будто не его тело переставляет одну за другой натруженные ноги. Или будто это вовсе и не горы. Будто они появились не из недр самой земли. Будто все вокруг когда-то очень давно упало с неба. Будто кто-то рассыпал эти камни и скалы взмахом гигантской ладони. Рассыпал, чтобы скрыть что-то, таящееся внизу, под покровом земли. Чтобы спрятать что-то от чужих глаз. С каждым шагом все тяжелее было дышать. Все больнее натирал плечо оружейный ремень. Все сильнее тянул вниз набитый рюкзак. Все жарче горели стертые ступни. Все бледнее и бледнее становились вымывающиеся мысли, прыгавшие где-то в глубине черепной коробки. Что вообще произошло с Басурманом за эти два дня? Куда он забрел, когда ходил на разведку, и что там увидел? Почему он вернулся таким странным? Что это вообще было прошлой ночью? Действительно ли он пошел на север? Что стало с Басурманом? Почему он не храпел? Каким он вернулся? Что на самом деле изменилось в нем? Куда он пошел? Что на севере? Что с Басурманом? Куда он пошел? Свет. Что там на севере? Где Басурман? Ты видишь свет? Что ждет на севере? Что с Басурманом? Ты видишь свет? Что на севере? Он ответил нам. Что на севере? Мы не одни. Что на севере… И когда все мысли, что одолевали Степана, сократились до одной короткой мантры, когда слова этой мантры потеряли смысл и стали просто набором букв, когда глаза покраснели и веки опухли от заливавшего их пота, когда пересохшее горло болело от каждого вдоха, когда ток крови заглушил рокот ручья внизу, – тогда Степан увидел первую вещь. Это был ботинок. Коричневый кожаный ботинок. Мужской. Поношенный, но вполне целый. Он лежал посреди тропы, и вокруг не было никого, кто мог бы его оставить. Ни единого следа. У Басурмана такой обуви не было. Он ушел вообще без обуви. Степан долго сидел прямо на тропе, курил и разглядывал ботинок. Смотрел, как по потрескавшейся коже ползает одинокая мошка, привлеченная запахом человеческого пота. Когда кончились сигареты, он поднялся, обошел брошенную обувь и продолжил путь. Метров через сто он наткнулся на второй ботинок. Следом за ним – на куртку, а уже через километр вся тропа была усеяна одеждой, так что не было видно самой тропы. Брюки, свитера, кроссовки, туфли, женские блузки, футболки, нижнее белье – все многообразие одежды пестрело под игривыми солнечными лучами, сохло на камнях, – и уже невозможно было ступить так, чтобы не поставить ногу на чью-то брошенную вещь. А потом тропа забрала вверх и перевалила на другую сторону хребта. Степан уложил рюкзак между камней, скинул карабин, дослал патрон, проверил запасной магазин в кармане и россыпь патронов в другом, вздохнул и крадучись стал подниматься, поминутно прислушиваясь. Тропа сваливалась с хребта в цирк, окольцованный двумя пологими отрогами. Выходя на хребет, Степан сперва пригнулся, а затем и вовсе пополз по-пластунски, чтобы его силуэт не вырисовывался на фоне неба. Барана он увидел сразу, как только выполз на вершину. Зверь стоял буквально в нескольких десятках метров ниже по склону, перетаптываясь на набитой лежке. Баран смотрел вниз, куда-то на дно цирка, но Степан и со спины понял, что это тот самый зверь, о котором говорил Басурман. Горделивый, крупный, тонконогий, с широкой грудиной, круглым налитым брюхом и толстой шеей. Оба его рога, покрытые древесной смолой, были обломаны на самом излете витков, но Степан и так видел, что барану по меньшей мере лет пятнадцать. Шкура его, в отличие от сородичей, была не бурой, под цвет камня, а темной – как бездонное ночное небо. И на этой шкуре не было видно ни единой мушки, которые обычно кружат вокруг зверей жужжащим назойливым облаком. Степан осторожно, стараясь не шуметь, подтянул карабин и прижался щекой к прикладу, держа зверя на прицеле. Он ждал, когда баран повернется боком. Рано или поздно он повернется. Наверное, лежал после кормежки и услышал что-то внизу, вот и поднялся. Сейчас успокоится и будет укладываться обратно. Он обязательно повернется. Баран пошел вниз по склону. Он шагал все быстрее и быстрее, а потом и вовсе перешел на бег и скрылся за складкой спуска. Степан выматерился, вскочил на ноги и побежал следом. Он остановился на кромке складки, вскинул карабин, пытаясь поймать в прицел скачущего прочь зверя. Закусил губу от напряжения, щелкнул флажком предохранителя. И опустил оружие, не веря собственным глазам. Внизу были люди. Сотни людей. Они усеивали подножия отрогов, теснились на крутых берегах бегущего с ледника ручья, стояли вплотную на самой шапке ледника – так тесно, что за их телами не был виден снег. Они просто стояли и смотрели вверх, обнаженные и недвижные. Мужчины, женщины, старики, дети – все те, чья одежда осталась лежать на тропе позади Степана. Степан снова поднял карабин. Подкрутил прицел, настраивая кратность, и навелся на столпившихся внизу. Он переводил прицел от одного лица к другому, и все сильнее хотелось бежать прочь, пока держат ноги, все жарче наливался в паху страх, все сильнее сводило от ужаса ребра. Люди смотрели на него. Его отвлек стук копыт о камни. Баран поднимался обратно. Он замер напротив Степана, не дойдя десятка метров, и склонил голову набок, изучая пришельца. Степан медленно перевел ствол на барана. Тот всхрапнул и ударил землю копытом. Мотнул башкой, не сводя глаз с противника. Снова ударил копытом. Фыркнул и склонил голову, выставив вперед выщербленные от множества схваток основания рогов. Степан выстрелил, и выстрел прокатился по чаше цирка, отражаясь от стен. Зверь сделал неуверенный шаг вперед, а на втором шаге его колени подломились – и он рухнул на землю. Заскреб задними лапами, силясь подняться, но жизнь уже покидала его сквозь рану в грудине. Баран завалился на бок, из пасти тонкой темной струйкой полилась кровь, и он покатился вниз по склону. В наступившей тишине слышались лишь шуршание оползающей вслед за телом осыпи и перестук рогов о камни. Степан снова перевел прицел на людей внизу. Сотни пар глаз смотрели на него. Безучастно. Безразлично. Небо остановило свой бег над котловиной цирка. Голубой полог побледнел, словно на выцветшей фотокарточке, и за ним вытянулась в спираль воющая бездна. Сотни ртов раскрылись – и недвижный воздух раскололся от единого голоса: – ОТВЕТЬ. ТЫ ВИДИШЬ? И люди двинулись вверх по склону – туда, где стоял Степан. Они делали первые шаги неуверенно, словно только учились ходить. Они спотыкались, падали на острые камни, и камни окрашивались вишневым. Никто не помогал упавшим подняться, но они сами вставали на ноги и продолжали карабкаться вверх. И они карабкались все быстрее и быстрее, как будто их тела вспоминали нечто давно забытое и погребенное под годами неподвижности и бездействия. Как будто они проснулись после долгого, векового сна. Степан бросился прочь. – ТЫ ВИДИШЬ МЕНЯ? – билось в стенах цирка эхо. – Я ЗДЕСЬ. Я ЖДУ. Он бежал по тропе, по которой шел сюда утром, спотыкаясь и путаясь в брошенных вещах, а из-за хребта слышался грохот осыпающихся камней. Степан достиг первого скального отрога, где обрывалась тропа, полез наверх, обдирая ладони об острые края трещин и, забравшись на широкий уступ, обернулся. Волна обнаженных людских тел вспенилась на гривке и, не успев остановиться, обрушилась вниз. Люди падали и катились, раскраивая черепа и ломая кости. На первых упавших валились следующие, а на них новые и новые, и этот снежный ком нарастал и катился вниз, только набирая скорость. Люди перемешивались, перемалывались в этой давке, и к подножию сползали уже не отдельные изломанные тела, а розово-белая мешанина из того, что когда-то было людьми. Никто из них не издал ни звука, и эхо доносило лишь влажные удары, хруст костей и треск лопающихся сухожилий. Немногие выжившие бились в последних судорогах, силясь подняться, но тут же скрывались под валом новых тел. Степан сидел и смотрел, как склон усеивается трупами, и чувствовал, как внутри начинает дрожать и вибрировать зарождающийся смех. Небо над ним вытянулось в глубину, свернулось спиралью, и в центре этой спирали пульсировала темнота. Сотни глоток издали восторженный вой: – Я ЗДЕСЬ, ОТЕЦ. Я ЖДУ. Я ПРОБУДИЛСЯ. Те, кто шел следом за первой волной, выскочили на тропу и бросились по ней вслед за Степаном. Их ступни, изрезанные скальником, оставляли красные следы, и вскоре вся тропа под их ногами окрасилась в багровый. Они приближались, и Степан вскинул карабин, уже не понимая, что и зачем он делает. Первый выстрел сразил бегущего впереди мужчину, сплошь покрытого синими татуировками: того отбросило назад, под ноги остальным, и остальные втоптали его в камни. Вторым выстрелом Степан попал в ногу толстой женщине с всклокоченными волосами, и та, нелепо взмахнув руками, свалилась с тропы, заколыхалась перекатываясь, и ее голова раскололась от удара о камень ниже по склону. Третий выстрел выбил затылок парнишке лет пятнадцати, и его худосочное тело просто столкнули вниз. Ни один из бегущих не замедлил шаг. Еще один выстрел. Еще. Плечо заныло от отдачи. Сколько патронов в магазине? Щелчок. Кончились. Запасной, где запасной? Лязг затвора. Выстрел. Что с ушами? Гудит. По щеке бежит горячее. Выстрел. Заклинило. Падла! Да заряжайся ты, сука! Выстрел! Еще два патрона – и все. Останется только россыпь. Успею зарядить? Не успею. Выстрел! Мимо пролетела тень. Следом за ней еще одна. Снизу один за другим донеслись два глухих шлепка. Степан поднял голову наверх. Не все пошли по тропе. Часть людей двинулась по хребту, и теперь они ползли вниз по отвесной скале к уступу, на котором сидел Степан. Еще один человек сорвался со скалы и, падая, размозжил голову о край уступа. Степан дрожащими руками вдавил приклад в плечо. Волна докатилась до скалы, и первые ряды уже начали карабкаться вверх. Еще два выстрела – и два бледных тела скатились вниз. Первые преследователи замедлились, но по их спинам уже карабкались те, кто шел позади. Степан закинул карабин за спину и бросился дальше по уступу, пытаясь одновременно потными пальцами набить патроны в опустевший магазин. Оглянувшись, он увидел, как наверху, среди бледной паутины тел, опутавшей склон, мелькнуло лицо Басурмана, и Степан окончательно потерял над собой контроль. Животный ужас, до этого сковывавший его разум и тело, схлынул, уступив место горячей ярости. Он отбросил магазин, отвел затвор, загнал патрон в ствол и вскинул карабин. В сетке прицела тут же появилось знакомое лицо, пустое и безжизненное, вперившееся черными глазами в Степана. Степан взревел и не услышал собственного выстрела. Пуля ударила рядом с Басурманом. Степан взвыл от бессильной злобы, но тут же осекся, услышав новый звук. Это был даже не столько звук, сколько тонкое, на самой грани восприятия, ощущение. Где-то под ногами, под серой каменной толщей, утекал песок. Ярость вновь сменилась страхом, горячая удушливая пелена сжалась до размеров комка в животе, и этот комок враз остыл и покрылся ледяной коркой. Скала осыпалась. Степан бросился прочь, уже не думая о преследователях. Шорох песка усиливался, камень под ногами дрожал, и в глубине скальных трещин уже были видны стремительные серые ручейки. Уступ сузился и оборвался, и Степан, не замедляя бег, прыгнул вперед, туда, где из-под карниза вновь выныривала тропа. Приземлился на ноги, и правое колено полыхнуло болью. Степан вскрикнул, но тут же продолжил ковылять вперед, опираясь на ствол карабина. К шороху за спиной добавился скрежет ползущих вслед за песком скальных обломков, а потом эти неуверенные звуки исчезли, поглощенные оглушающим рокотом камнепада. Степан обернулся и увидел, как вся скала, закрывавшая полнеба, поползла вниз по склону, обваливаясь и осыпаясь. Огромные блоки отслаивались от стен вместе с повисшими на них людьми и плыли вниз среди стремнины из камней и песка. Сверху на них рушились новые и новые обломки, погребая под собой всех тех, кто шел вслед за Степаном, а потом все исчезло в облаке пыли. Степан неожиданно для самого себя тонко хихикнул и уселся на тропу, завороженно глядя, как поднимаются в небо серые клубы. Когда пыль осела, воспаленным глазам Степана предстала лишь широкая морена, протянувшаяся языком аж до самого ручья далеко в долине. Он еще посидел, всматриваясь в мешанину камней, но нигде не увидел ни следа человека. На краткий миг ему показалось, будто вдалеке среди серой палитры виднеется белая рука. Он глянул в прицел и понял, что ошибся. Тогда Степан равнодушно пожал плечами, встал и похромал к базовому лагерю. Он шел, глядя под ноги и используя карабин как костыль. Озадаченные куропатки, пролетавшие мимо, смотрели на странного человека, бормочущего что-то себе под нос, и тревожно перекликались в вечернем небе. Степан не обращал на них внимания. Когда день сменился ночью, а та – серым рассветным сумраком, впереди на тропе показался человеческий силуэт и до ушей донесся голос Угара: – Степан! Ты жив? Слава богу! Я думал, накрыло тебя! Грохот стоял – аж на лагере слышно было! Я пытался вертушку вызвать, но трубку никто не взял. Звонил ментам и в МЧС поселковый, но там тоже глухо. Степан тихонько прыснул. Весь поселок сейчас лежал далеко у него за спиной, погребенный камнепадом, но Угар не мог этого знать. – Ты Басурмана видел? Сам цел? – Угар остановился, в его голосе послышались тревожные нотки. – Степан? Ты чего? Вместо ответа Степан сделал еще несколько шагов, вскинул оружие и выстрелил Угару в голову. Передернул затвор, разряжая, и пошел дальше. Он перешагнул через Угара и двинулся на юг навстречу разгорающемуся дню.
Степан долго сидел за палаткой на берегу реки, глядел в темные воды, а над головой в зияющей бездне одна за другой загорались далекие ледяные звезды и складывались в неведомые, неизвестные созвездия. Он смотрел в воду и видел те недосягаемые глубины, что открылись его взору в небесах позапрошлой ночью. Те, что мерцали сейчас у него над головой. Теперь он глядел в них без страха, потому что нет смысла бояться того, что любит тебя. Того, для кого ты лишь дитя, заплутавшее в темноте, которую по ошибке принимаешь за жизнь. Степан силился вспомнить своих друзей, но их лица оплывали и выцветали в его голове. Остатками разума он желал, чтобы Басурман или Угар вышли из палатки и позвали его по имени, но он и сам уже не помнил собственного имени, а потом и это желание ослабело и убежало вниз по течению. Справа раздался стук копыт. Баран склонился над водой и долго пил, задумчиво шевеля губами после каждого глотка. Шерсть на груди его блестела там, куда ударила пуля. Баран поднял глаза на Степана, и во взгляде его клубилась та же пустота, сошедшая с небес. Глаза барана показывали Степану те же картины, что и пенящаяся у берегов вода. Степан видел, как баран, ковыряя копытом землю в бесплодных попытках добраться до воды, откопал то, что давно спало, погребенное под камнями, упавшими с неба. Видел, как зверь вышел среди бела дня в поселок и шел по улицам, а люди бросали свои дела и шли вслед за ним. Видел, как все они поднимались за бараном в горы, бросая одежду и преклоняя колени перед тем, что стояло неизмеримо выше всего людского, того, что было старее космоса. Видел, как пробудившиеся люди молили того, кто надел личину зверя и вел их за собой, принять их в свои объятия. Видел, как вышел к ним Басурман и как он бежал обратно, неся в себе частицу увиденного. Слышал хор голосов, говоривший с Басурманом по спутниковому с отсоединенной батареей и по выключенной рации. За спиной рокотали горы, осыпаясь и оползая в долины. Хребет за хребтом, отрог за отрогом, они сбрасывали песок, камни и скалы, обнажая белую пульсирующую кожу. Под бескрайним бледным пространством бугрилась плоть, пробуждаясь ото сна. В долинах вспучивалась и расползалась влажными ломтями земля, а в образовавшихся разломах распахивались бездонные рты – и из этих ртов лился единый голос, взывавший к отцу. Степан смотрел, как воды реки темнели и отблескивали красным в лунном свете, а пена все сильнее взбивалась и пузырилась между камней. Он склонился над потоком, зачерпнул ладонью и омыл лицо горячей соленой жидкостью. Баран одобрительно кивнул головой. Степан встал, скинул с себя одежду, бросил подальше ботинки и, тихо смеясь от радости, пошел туда, где на белой плоти проснувшихся гор один за другим открывались и вперялись в отчее небо подслеповатые, отвыкшие смотреть глаза, а небо холодило плоть ласковым сиянием, убаюкивая и успокаивая. Степан шел к горам, и бездна наверху видела его лучезарную улыбку. Его ждали. О нем помнили. Его любили.
Владимир Чубуков Секретарь
* * *
Рассказ этот старца архимандрита Ферапонта, скитоначальника в Предтеченском скиту нашего Свято-Успенского Верхнераевского монастыря, записан с его слов мною, послушником и секретарем его, или, как выражается старец, письмоводителем К. Л. Стриженовым. – Лет этак тридцать, а то и поболе тому, – рассказывал мне отец Ферапонт, – приключилось со мною происшествие, после которого я и решил от мира отречься. Не сразу, впрочем, но поворотная точка тут обозначилась. Шел я раз зимним вечером по Петербургу к своей любовнице, вдовице одной весьма веселой. Я ж ведь грешник был оголтелый, посему, Костенька, не удивляйтесь тому, что слышите. Иду, значит. Извозчика не брал, потому как идти недалеко, да и любил я эти пешие прогулки, особенно в непогоду, когда улицы пустынны. Снежок вокруг мокрый на ветру мечется. И примечаю барышню впереди. Приличноодета, но уж как-то слишком легко, по-летнему прямо. Идет она, бедная, и дрожит от холода. Поравнялся с ней, гляжу сбоку: а барышня-то мила как ангел, только бледна, с просинью даже. Ну, ни слова не сказавши, снял я с себя шинель да на плечи ей накинул. Молча пошел дальше, шаг ускорил. Оборачиваюсь на ходу, а она стоит на месте и шинель мою на себе руками за края пелерины придерживает. Так и ушел я, помышляя дорогой, что сотворить добро ближнему – это все равно как себя самого облагодетельствовать. Все мы, в сущности, части единого целого, капельки в океане бесконечном. Такие мысли вертелись у меня после чтения мистических книжек. Иду и вдруг понимаю с удивлением, что мне без шинели-то и не холодно ничуть и немокро от снега, будто шинель так и продолжает сидеть на мне. Ощупываю себя: сюртучишко-то на мне легонький, а мне тепло и сухо, как в шинели. Эге, думаю, да это никак единство душ людских сказывается! Плоть – она ведь человеков разделяет, а души их, меж тем, незримо совокуплены – так помышляю. Стало быть, в силу единства душ, свойства шинели, на одно тело надетой, вполне могут по сокровенным каналам душевным другому телу передаваться и согревать его так, как бы шинель сидела на нем самом. В таких мыслях и явился к любовнице своей. Ну, и как дело до самого срама дошло, разоблачился, значит, и чувствую: а ведь шинель-то невидимая так и сидит на мне, так и облегает. Я уж в чем мать родила, гол как сокол, а чувство такое, будто шинелью покрыт. В постель ложусь, под одеяло, и – как в шинели там лежу. Жарко стало, весь в испарине. Вдовица давай меня вытирать полотенцем – не помогает. А дальше постыдное началось, ну, вы понимаете, и тут уж я вовсе по́том истек. А когда, блудодейством насытившись, отвалились мы друг от дружки, то почувствовала моя вдовица, как обымает ее нечто теплое и душное. Она и так и сяк, а чувство не проходит. Поведала мне об этом, я же мыслю: вот так номер! Шинель моя, стало быть, и на нее распространилась – как инфекция. С тех пор так и пребывали мы с нею в невидимых шинелях, и стали они проклятием нашим. Снять-то невозможно, а каково в такой шинели жить, особенно летом! Мучение одно. Я, конечно, рассказал вдовице про то, как барышню незнакомую на улице шинелью укрыл, после чего и ощутил на себе незримую шинель. А вдовица заревновала. Ты, кричала, ко мне шел и на первую встречную польстился, подонок! Милосердие в нем взыграло! Похоть это твоя жеребячья, а не милосердие! Кобель ты сатирический! Мерзавец! Так она честила меня, а сама по́том обливалась от невидимой шинели. Вот тебя и наказал Бог, кричала она, за твое скверное милосердие, а с тебя, выродка, наказание и на меня перекинулось! В общем, разругались мы вконец и расстались навсегда. Поехал я тогда к старцу Никифору, который здесь, в скиту, подвизался. Выслушал он исповедь мою и молвил: «В награду за милосердие твое к несчастной незнакомой барышне даровал тебе Бог незримый покров – небесную шинельку, посредством коей вывел тебя из порочного круга, где заживо пожирал тебя демон блуда и прелюбодеяния. Не проклятие покрыло тебя, а благословение Божие, малость стеснительное, но все ж таки благословение. И мнится мне, что пребудет на тебе шинелька сия незримая до той поры, пока не сменишь ты благословение на благословение и примешь постриг и облечешься в монашеский образ». Вот так и ушел я в монастырь. Пока послушником был, шинель на мне все сидела, токмо чуток полегче сделалась, а как постригся – то и отъялась от меня совсем. – А вдовица? – спросил я. – С нее шинель снялась? – Нет. Мыкалась она в ней, изнывала да и повесилась. Видите, Костенька, как получилось: вышли мы с нею из шинели, да только я – в монастырь, а она – в петлю. – А вы когда в монастырь поступили – молились о ней, о спасении души ее? – Пробовал. Только старец Никифор мне запретил. Сказал, что это не молитва, но тайный блуд под видом заботы о спасении чужой души. Открыл старец «Лествицу», Слово пятнадцатое, и показал мне там речение: «Не забывайся, юноша! Видал я, что от души молились некоторые о своих возлюбленных, будучи движимы духом блуда, а думали, что исполняют они долг памяти и закон любви». «Выпиши это и заучи наизусть, – велел, – а о ней вовсе забудь». Я и забыл. А она мне потом, через несколько лет, явилась ночью во время молитвы. Страшная, посинелая, голая, с веревкой на шее. Говорит: «Ничего, святоша проклятый, ничего! Я тебя еще достану, всю твою душу высосу». Ну, я перекрестился и плюнул в нее трижды, она и пропала после третьего плевка. Видите, чем любовные-то восторги оборачиваются! Старец помолчал немного, вздохнул и продолжил: – Узнав, что любовница моя прежняя повесилась, а потом явилась мне в видении, старец Никифор сказал: «Мнится мне…» Это он завсегда так выражался, когда возвещал тайны, Богом ему открытые. Старец ведь прозорлив был, но, по смирению своему, никогда не говорил: «Бог открыл мне», а лишь: «Мнится мне». Так и в тот раз говорит: «Мнится мне, что барышня, которую ты шинелькой укрыл, шла в отчаянии своем топиться, на мост шла, но внезапная доброта прохожего человека, шинелькой ее одарившего, так ее, бедняжку, поразила, что согрелось оледеневшее сердце ее и сатанинское желание, к погибели толкавшее, иссякло, посему барышня жива осталась. А вдовица распутная, напротив, отчаялась и в самопожирающей злобе своей себя погубила. Противоположные исходы, гляди-ка, а ведь одним условием вызваны – теплотою согревающей, от шинельки распространяемой на телесный состав. Видишь, как одно и то же условие выявляет различные движения свободной воли человеческой? Посему не думай, будто виновен ты в погибели вдовицы, иначе чрез таковые помыслы утянет она тебя к себе на дно адово, являться тебе будет и доведет до умственного помрачения. А помышляй лучше, что поспособствовал ты спасению души отчаявшейся барышни, которую шинелька твоя удержала на последней черте». – И что, – спросил я, – вдовица мертвая вам еще являлась после сего? – Являлась. И весьма часто, – ответил старец. – Молитвой от нее ограждался, почти не спал оттого ночами, а когда изнемогал от усталости и ложился спать, так она со мною на одр возлегала. Почему и старался больше сидя спать, на стульчике, к стенке прислонясь. Тяжко было! Когда б не те слова старца Никифора, то, пожалуй, и не выдержал бы посещений ее, и ума лишился, а потом бы, чего доброго, руки на себя наложил. – А перекреститься и трижды плюнуть – уже не помогало? – Первый-то раз помогло, а потом – нет. Терпеть приходилось. А когда натерпелся, то Бог отвел от меня искушение.* * *
Записал я рассказ старца, затем показал ему записки. Старец внес исправления в нескольких местах, прочее одобрил. Но наказал нигде не публиковать эту историю до его смерти. А я-то уж собирался отослать ее Виктору Ипатьевичу Аскоченскому, в «Домашнюю беседу». Мне же вот какая мысль пришла. Дай-ка, подумал, помолюсь я за упокой души несчастной той вдовицы-самоубийцы. Старец о ней не молился, потому что ему отец Никифор запретил, чтоб не искушался молодой тогда еще монах воспоминаниями о прежней своей любовнице. Так, выходит, никто и не помолился усердно за упокой души ее, и церковного поминовения о ней сотворить нельзя, ведь самоубийц не отпевают и не поминают в храмах Божиих. А я возьму да и помолюсь о ней. Мне-то, в отличие от отца Ферапонта, молиться о ней безопасно, ведь не моей же любовницей она была, и скверных воспоминаний молитва у меня не вызовет. Я человек посторонний, и ежели стану молиться о той несчастной, то не из скрытой похоти, но из одного лишь бескорыстного милосердия. Глядишь, и легче станет погибшей душе от молитвы моей. Пусть не освободится она из ада, но хоть какое-никакое почувствует облегчение посреди адских мучений своих. Буду молиться с усердием, и, может, Бог даст, посетит меня видение, в котором откроется мне участь ее, что, дескать, стало ей легче после моих молитв, а то и вовсе прекратились ее муки. Тогда-то и старцу все расскажу: так, мол, и так, молился за упокой души несчастной вдовицы – и помиловал ее Господь… Что-то старец на это скажет? Наверняка приятно будет ему такое услыхать. Он ведь, как ангел Божий, всех жалеет, и даже такую озлобленную грешницу, как оная вдовица, ему жаль. Он бы и сам о ней молился, когда б не давнишний запрет отца Никифора, послушание которому старец и поныне хранит, исполняя все наказы почившего наставника своего. Но меня-то ведь никакой запрет не связывает. И даже такая мысль возникла: не для того ли поведал мне старец эту историю, чтоб подвигнуть меня на молитву об упокоении души злополучной самоубийцы? Просить меня прямо не стал, чтоб свободная воля моя сама проявилась, чтоб я самоохотно за дело взялся, а не из вежливости либо по принуждению, чтоб, следовательно, молитва моя была более искренняя и живая и, стало быть, более действенная. В общем, стал я поминать вдовицу за упокой. Поскольку не знал имени ее – старец ведь так и не назвал имя, – то молился таковым образом: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей, иже Ты веси, и аще возможно есть, прости ей согрешения вольные и невольные!» Каждый раз, как поминал я родных и близких, вписанных в мой синодик, молился заодно и этой молитвой, двенадцать раз кряду ее повторяя с двенадцатью земными поклонами.* * *
Однажды сосед мой по келье, монах Софроний, расхворался и отправился в нашу монастырскую больницу. Я остался один. Дело было в канун Дмитровской субботы. В тот вечер я молился о вдове-самоубийце с особенным усердием и не двенадцать поклонов положил, как обычно, а гораздо более. Сколько именно – не считал, возможно, и за сотню. Как раз перед тем читал я взятую в скитской библиотеке книгу, «Слова подвижнические» аввы Исаака Сириянина, и вычитал там, что христианское милосердие до того простирается, что начинаешь слезно жалеть не только всех людей и животных, вплоть до самых мерзких, но даже и самих демонов. Удивительные слова эти выписал я себе в тетрадку, куда заношу все, что мне особенно ложится на сердце при чтении святоотеческих писаний. Слова же таковы: «И что есть сердце милостиво? И рече: жжение сердца о всякой твари, о человецех, и птицах, и животных, и бесовох, и о всяком создании, и от поминания их, и видения их, точат очи его слезы, от многия и зельныя милостыни, содержащия сердце. И от многаго терпения умиляется сердце его, и не может стерпети, или услышати, или увидети вред некий, или печаль малу, бывающую во твари. И сего ради и о безсловесных, и о вразех истины, и о вреждающих его на всяк час молитву со слезами приносит, о еже сохранитися им, и очиститися им; подобне и о естестве гадов от многия своея милостыни, движимыя в сердце его безмерне по подобию Божию» (Слово 48 аввы Исаака Сириянина, из книги его «Слова духовно-подвижнические», в переводе старца Паисия Величковского, издание Оптиной Пустыни 1854 года). Очень меня поразило это, что сердце горит жалостью и о «бесовох» – о бесах. И тут же подумалось: ну как, в таком случае, не болезновать о нераскаянных самоубийцах? Пусть они церковного поминовения лишены за свой страшный грех, но ведь не грешней же демонов эти несчастные! Так мне стало жаль ту вдовицу, что едва начал поминать ее, как возжглось в моем сердце прямо пламя какое-то и слезы вдруг потекли из глаз, словно я молился о родной сестре либо матери, а не о посторонней особе, которую даже и не видел вовсе. И вот, после очередного земного поклона, лоб от пола отрывая, увидел я нечто, заставившее меня замереть в изумлении. Угол со святыми образами, пред которыми я молился, исчез. Стены, тот угол составлявшие, более не смыкались друг с другом, но выгибались таковым образом, что получался меж ними коридор, достаточно просторный, дабы двое прошли по нему бок о бок. Тот коридор уходил в кромешную темноту и выложен был из таких же досок, как и вся келлия, только доски в коридоре показались мне слишком ветхими. Я обонял запах гнили с примесью некоего сладковато-тошнотворного смрада. Застыл я на коленях, завороженный жутковатой и манящей темнотой, которая чем далее вглубь, тем все гуще и плотнее становилась, так что чудилось, будто в самой глубине темнота вязкая как деготь. И вдруг привиделось мне во тьме какое-то шевеление. Присмотревшись, различил я темную фигуру. Она выходила из сердцевины тьмы и приближалась, бесшумно ступая. Не звук доносился ко мне, но чувство гложущего ужаса, словно бы ужас подменил собой звук шагов. Фигура делала шаг – и сгусток ужаса летел ко мне по коридору и обволакивал хладной пеленой мое сердце. Оцепеневший, стоял я на коленях, не имея сил вскочить и бежать прочь из келлии да и не желая того. «Как чучело зверя, – подумалось мне, – уж не боится человека, хотя бы тот приближался с намерением распотрошить его». Паника, охватившая меня, была мертвенной, застывшей – то был панический паралич. А ужас, меж тем, пронизывал мое нутро, ползал пауком по коже, клубился вокруг удушливым облаком. Фигура приближалась. Вот она выходит из темноты в область сумеречного полусвета, наполнявшего начало коридора. В этом сумраке она видится не черной, как прежде, а серой. Теперь я могу рассмотреть ее. Это женщина, обнаженная и отчасти схожая с неким насекомым. Словно бы изнутри ее тела пыталась вырваться наружу гигантская саранча или богомол. Казалось, эта внутренняя тварь скоро разорвет мышцы и кожу, сбросит с себя покров плоти, как тесное одеяние, но покуда чудовище кое-как было оплетено человеческой формой, будто саваном, который удерживал его внутри. Хотел я взмолиться к Богу о помощи, но не смог. Никак не складывались в уме слова молитвы. Само имя Божие не произносилось в мыслях, выскальзывало из них, будто проворная рыбешка из пальцев, онемевших в ледяной воде. В левой руке страшная фигура держала что-то, похоже покрывало, которое доставало до пола и волочилось по нему. Приблизилась она, и покрывало в ее руке показалось мне почему-то до крайности отвратительным, хоть я и не мог понять – отчего же. А когда фигура заговорила, то первые слова ее были настолько неожиданны, что у меня от удивления даже прошел страх на несколько секунд. – Софью-то, поди, помнишь еще? – спросила она. – Софью? – пролепетал я. – Волоцкую. Софью Алексеевну. – Помню, – выдавил я тихо. Еще бы я не помнил ее, это хрупкое создание, на которой меня пытались женить, которая влюбилась в меня и голову потеряла от нежных чувств. В позапрошлом году я навсегда с нею распрощался, объяснив, что не люблю ее, а только искренне уважаю, да и не имею права любить, поскольку принял твердое решение во что бы то ни стало уйти из мира и постричься в монахи. Никогда не забуду ее глаз, в которых распахнулась такая глубина отчаяния, что у меня защемило сердце и я чуть было не поколебался в своем решении от жалости к несчастной девушке, которая растерянно предо мной стояла и в то же время словно падала в пропасть с обрыва. И теперь вдруг жуткий призрак, явившийся мне, произносит ее имя. – Это тебе от нее. – Фигура взмахнула левой рукой и швырнула покрывало мне под ноги. Тошнотворным смрадом обдало меня, когда на пол предо мной упало… нет, не покрывало – теперь-то уж я разглядел! – а содранная кожа человеческая, снятая от макушки до стоп. Искаженное, но притом знакомое мне лицо лежало на полу, глядело на меня страшными пустыми глазницами. Складки, проходившие по лицу, придали ему выражение какого-то диавольского ехидства. Всматриваясь в него, я все больше убеждался, что лицо принадлежало Софье Волоцкой. Господи, как захотелось мне в тот миг закричать и проснуться. Нервы не выдержали – я закричал. Но крик не помог, не выдернул меня из кошмара, не перенес на твердую почву – лишь опустошил. – Думал, я тебя благодарить буду за молитвы? – произнесла фигура. Она стояла совсем близко, и мне было видно, как в опрокинутом вершиной вниз треугольнике черных волос у нее в промежности ползают жирные белесые черви. – На благодарность рассчитывал? Так я тебя отблагодарю! Она нагнулась и, подхватив содранную кожу, ловким движением расстелила ее на полу. Села на нее и поманила меня к себе. Словно заколдованный, я опустился рядом с нею, сел на Софьину кожу. Привидение обвило меня холодными руками за шею, поцеловало в уста. Так страшен и сладостен, так холоден и в то же время жарок был поцелуй, что все мое тело пронзила дрожь. Не помню, чьи руки – мои или мертвеца – срывали с меня одежду. Я словно падал в омут и камнем шел ко дну. Раз за разом целовала она меня, и во время особо страстного поцелуя, когда язык ее извивался у меня во рту, будто щупальце спрута, почувствовал я, как в меня переползает из нее трупный червь – через рот в горло и оттуда в самое нутро. И вместе с этим червем словно бы вполз в меня диавол. Да оно так и было: диавол поистине проник в меня тогда. Чувствуя, как этот червь копошится у меня внутри, я обезумел. Казалось, я вспыхнул факелом. Все горело во мне. Схвативши вдовицу за плечи, я грубо прижал ее к покрывалу из кожи, навалился, будто зверь на добычу, и овладел ею. Самое кошмарное и мерзкое было в том, что плоть моя чувствовала, как внутри ее лона извиваются черви. Прикосновение к этим скользким червям доставляло мне неистовое наслаждение. Кожа покойницы покрывалась трупными пятнами, признаки разложения всюду выступали на ней. Всякая миловидность, бывшая в ее лице и телесных формах, стремительно таяла, будто ветер сдувал ее. Но меня это не останавливало – напротив, сильнее распаляло. И, когда наслаждение достигло наивысшего пика, я увидел, что подо мной шевелится в сладострастных корчах омерзительный труп в сильной стадии разложения.Скитский послушник Стриженов Константин Львович был обнаружен в своей келье в состоянии совершенно невменяемом. Скорчившись, он лежал на полу, обнаженный, закутавшись с головой в чудовищное покрывало из содранной человеческой кожи. Когда принялись эту кожу с него стаскивать, он цеплялся за нее руками, бормоча: – Софьюшка, прости меня, прости, ради Бога! Софьюшка, милая, прости! Было установлено, что кожа, как и утверждал обезумевший Стриженов, принадлежит девице Волоцкой, Софье Алексеевне, дочери генерал-лейтенанта Алексея Дмитриевича Волоцкого, скоропостижно скончавшейся в своем родовом поместье, в селе Осанино Грязовецкого уезда Вологодской губернии. За семнадцать дней до происшествия со Стриженовым она отошла ко Господу от последствий некогда с ней приключившегося сильнейшего нервного расстройства, перешедшего в паралич. Раскопав ее могилу на семейном кладбище, обнаружили, что останки Софьи Алексеевны почивают в гробу без кожи. Заподозрить в надругательстве над телом усопшей послушника Стриженова, неотлучно пребывавшего в монастырском скиту, более чем в тысяче верст от поместья генерала Волоцкого, не представлялось возможным. Стриженов даже и не знал о смерти девицы Волоцкой, о чем его никто не удосужился известить. Убитые горем родители почитали Стриженова виновником нервного расстройства, поразившего их дочь после размолвки с ним, и не сочли нужным извещать юношу о кончине Софьи. По словам самого Стриженова, кожу с тела девицы Волоцкой сняла некая страшная мертвая вдова, имени которой он не знал. Не будучи извещен о смерти Софьи Алексеевны, Стриженов считал, что кожа была содрана с нее заживо. Это заблуждение, похоже, и явилось основной причиной его помешательства. Каким образом кожа попала к Стриженову – кто на самом деле снял ее с тела, кто доставил в скит, – все это осталось загадкой, ответ на которую так и не был найден. Рассказы Стриженова про мертвую вдову выглядели не иначе как болезненным бредом, плодом умственного расстройства. Эту вдову он называл блудницей и самоубийцей. Говорил, что бездна обвенчала его с ней. Также говорил, что вдова понесла и вот-вот родит от него: мертвые-де вынашивают куда быстрее живых. А почившая Софья Алексеевна якобы обещалась быть восприемницей для их чада. Говорил, что дитя воспитают по всей строгости законов загробной тьмы, что в свое время это дитя будет явлено миру. После чего весь мир сойдет с ума и добровольно отправится в бездну, врата которой откроются повсюду. Мертвецы восстанут из праха земного и займут опустевшие города, покинутые людьми. Но не смогут поместиться на Земле – не достанет места. Тогда мертвецы построят железные летательные машины и отправятся к Солнцу, заселят его, и Солнце, от обилия мертвецов на нем, почернеет. А раскаявшиеся из числа живых, сбежав из бездны, вернутся обратно, проклиная загробный мир, но на поверхности земной встретит их ледяная тьма, полная кошмарных существ, которые вышли из недр смерти, дабы наполнить Землю. Увидят беженцы из загробного мрака в черном небе черное Солнце с черной Луной. И уже никому не дано будет отличить мир земной от бездны преисподней.
Юрий Погуляй Вешки
* * *
Сигареты намокли. Игорь раздраженно скомкал сырую пачку, сунул в боковой карман рюкзака и повернулся к Дракоше Тоше. Тот спрятался в капюшоне куртки, по которому стучал дождь, и вовсю дымил. – Дай папироску-у-тебя-штаны-в-полоску, – устало сказал Игорь. Дракоша медленно пошевелился. Залез куда-то под куртку, вытащил пакет с пачкой. Неуклюже развернул мокрый полиэтилен, бережно выудил сигарету и зажал ее в зубах. Игорь подвинулся чуть ближе, содрогаясь от холода. Пока шли из долины – промокли насквозь. Плюс ближе к выходу на перевал поднялся ветер, и теперь скотская стихия вколачивала в «непромокающую» мембрану ледяные капли. Походные ботинки, тоже из современных материалов, теперь весили по несколько килограммов минимум. Хорошо бы слить из них воду, но тогда туда наберется новая. Холодная. Пусть лучше так. Тоша прикурил сигарету и протянул Игорю. – Спасибо. От влажности дым казался гуще, чем обычно. Вдувая в себя струйку тепла, Игорь смотрел на долину, в которую пришел ветер. Рваные облака-медузы тащились над озером, скрывая макушки чахлых северных берез. Седловину перевала было вообще не видать. – Вляпались, – резюмировал Игорь. Тоша выдохнул сигаретный дым, цокнул языком и подмигнул: – Прорвемся. Дождь барабанил по капюшону, такому же мокрому внутри, как и снаружи. Черт, да у Игоря даже трусы были насквозь. Подфартило с погодой. Он угрюмо смотрел в сторону перевала. Реальность сливалась в блеклое полотно. Дождь, камни, облака. Даже скрюченные севером деревья казались серыми, недружелюбными. Выл ветер. По уму надо возвращаться назад, ставить лагерь и пережидать непогоду. Но Стас и Юля ждут их на перевале. И у них нет ни палатки, ни горелки. В радиалку ведь вышли, по дороге домой. «Чего лишнее на себе переть, – сказал Стас. – А озерцо там, на плато, уникальное, с гольцом!» Юля смотрела на мужа с обожанием, всецело разделяя его стремления. Исследователи херовы. Игорь затянулся, пряча огонек от дождя. Глаза слезились. Тучи ползли мимо, огибая замшелый валун, за которым два туриста прятались от ветра. А ведь небо приключений не обещало. Да, вечером солнце ухнуло в красное зарево, но с утра все было хорошо. Поэтому вылазку не отменили. Стас и Юля ушли, Игорь и Дракоша Тоша остались. Лень-матушка. Поход подошел к концу: впереди оставался крайний перевал, после которого лишь выброска да плацкартный вагон домой, с чаем в подстаканниках. Хватит загонов. Только цивилизованное гниение. Они договорились встретиться на седловине. Стас спихнул на приятелей скарб, тепло попрощался, приказав считать его коммунистом, ежели не вернется, а затем две крошечные фигурки в рыжих куртках двинулись вдоль берега озера, растворяясь в прибрежных зарослях. Игорь же и Дракоша покинули лагерь после полудня. Когда стало накрапывать. – Алга? – сказал Толик. Игорь молча показал ему сигарету. – Понял, – кивнул друг. С прищуром посмотрел вдаль, будто что-то мог разглядеть в хмари.Когда окурок обжег пальцы, Игорь отклеился от камня, к которому прижимался рюкзаком. Лямки натянулись, прижимая отсыревшее тело к земле. Поясница заныла. Проклятье, сколько литров воды он уже несет? – Алга, – буркнул он Дракоше.
Шли молча. Ветер выл, кидался ледяными порывами в лицо, пронзая до костей. Игорь тяжело ступал по камням, опираясь на трекинговую палку. Цоканье наконечника придавало движению некий ритм. Цок-цок-цок. Они медленно забирались по тропе на перевал. Слева и справа шумели ручьи, вода гремела камнями. Последняя растительность осталась позади, и теперь два одиноких путника оказались с ветром практически наедине. Тот взялся за них всерьез. Толик топал сзади, напевая себе под нос что-то. Игорь считал шаги. Считал цоканье палки и старался не думать о плохом. Пройдут и по такой погоде, куда денутся. Тоже мне неурядица – дождик на перевале. Порыв ветра ударил с такой силой, что Игорь чуть не повалился назад. Почувствовал толчок в спину – Дракоша уперся, удержал. – Спасибо, – перекрывая вой ветра, крикнул ему Игорь. Мысли лезли разные. В молоко, в такую погоду, в горы лезть нельзя. Самоубийство. Стас не дурак и, почуяв неладное, точно спустился к руднику. Поэтому разумнее всего вернуться назад, найти место, поставить палатку и отогреться. Выудить из гермомешков теплые вещи и хоть немного побыть в сухости. Вот только… Что, если Стас таки дурак? И они с женой там, на седловине, под ледяным дождем ждут своих друзей? Ветер крепчал. Теперь он бил горизонтально в лицо, острые капли секли воспаленную кожу. На камнях оседал белый налет. Снег. И не скажешь, что июль на дворе. Игорь остановился, переводя дух. Обернулся на Дракошу. Того била крупная дрожь. – Ты как? – Стоять н-н-нельзя. Д-д-двигаемся! – ответил тот. Губы бледные, но глаза живые, веселые. – Ай лайк т-т-ту мув ит мув-в-в-в итс-с-с. – Скоро поднимемся. – Игорь ткнул палкой наверх. Едва видная тропа уходила к ступеньке, огибала ее слева. За ней уже и седловина может быть. Холод обнимал все сильнее. Сковывал мышцы. Игорь тяжело двинулся с места. Жара от усталости он не чувствовал. Обычно идешь и думаешь, как бы с себя все снять – настолько разогревается тело под рюкзаком. Сейчас хотелось лишь натянуть на себя что-то и прижаться к горячей батарее. Цок-цок-цок. По седловине идти нужно осторожнее. Там курумник, много живых камней. Зато пути по нему всего два километра, а затем три по склону вниз, к руднику. К теплу. К людям. Расстояние плевое. Детские шалости. За ступенькой начался следующий склон. Едва заметная тропка, по которой бежали ручьи, теперь поднималась справа. Игорь разочарованно вздохнул, смахнул текущие из носа сопли и побрел наверх. Рюкзак весил не меньше тонны. Ноги по центнеру каждая. Он двигался по горам, как созданный из сырости и холода голем. Неумолимо и медленно. Цок. Цок. Цок. Горы Игорь любил. Всегда любил. Но чем старше становился, тем больше комфорта хотелось телу. Сейчас бы хорошо сидеть на застекленной террасе с чашкой кофе и круассаном, в тепле, в уюте, с книгой и смотреть сквозь стекло на то, как ветер гоняет облака по долине. Было бы отличненько. А не вот это вот всё.
Когда-то отец взял его в Хибины и снял в долине посреди гор номер в гостинице. Игорю было лет шесть, может чуть больше, но тот поход он запомнил навсегда. Даже убранство в комнате – стены, отделанные вагонкой, двухъярусная кровать, простенький душ. До чего же было чудесно сидеть у окна и смотреть на то, как снаружи ревет буря! Деревья гнулись под ударами ветра, от дождя дрожали стекла, а над столом горела лампа, и в кружке с нарисованной лисичкой стыл только что налитый чай. – Папа, а почему ураган опасный? – спросил тогда маленький Игорь. Отец вздрогнул, посмотрел на сына. Его словно выдернуло из другого мира, и он с удивлением обнаружил, что здесь не один. – Ну… Сам по себе он не так опасен, – сказал папа. – Вот мы с тобой же в домике, и ничего нам не страшно. Вот были бы мы на улице – тогда да. Сорвет и унесет далеко-далеко. – Как девочку Элли? – Да, – улыбнулся отец. – Как девочку Элли. – Я хотел бы побывать в Изумрудном городе. Папа хмыкнул, отхлебнул из чашки. – А ураган сильнее тебя? – Сильнее. – А медведя? – И медведя, – улыбнулся папа. Его вечно усталое лицо, набухшие синяки под глазами и неизменно тусклый взгляд еще ничего не говорили ребенку. Так же, как и то, что только здесь, вдали от дома, отец казался живым. – И тинарозавра? – ТиРАННОзавра, – мягко поправил папа. – Да, и его сильнее. – А ты смог бы побить ти-ран-нозавра? – Игорь старательно разделил сложное слово, чтобы сказать правильно. – Смог бы. Нет таких чудищ, Игорек, которых не смог бы победить человек. Но плохая погода сможет погубить даже самого умелого охотника. И вот ее победить невозможно. Только защититься, как мы с тобой сейчас. Запомни это. Игорь запомнил. Отец ушел из семьи через четыре года после той вылазки, проиграв бой с чудовищем по имени быт и навсегда исчезнув где-то в холодном городе. Но оставил на память страсть к горам, этот странный разговор, да еще вкус деревенской яичницы с луком, что готовила по утрам хозяйка той гостиницы.
Цок… Цок… Цок… Ветер швырнул в лицо ледяные осколки. Игорь зашипел, остановился, промаргиваясь. – Сука… – процедил он, почти не чувствуя опухшие губы. – Сучья ты зараза, а… Обернулся. Дракоши позади не было. Холод отступил. Изнутри рванулся жар, ударил в лицо. Черт… Черт! Игорь сбросил рюкзак, и ледяной ветер сразу же напомнил о себе. Пока тяжеленная ноша висела на спине – там оставалась последняя цитадель тепла. Теперь она пала. – Сука… – повторил Игорь. Зашагал вниз по тропе, выглядывая среди камней зеленую куртку друга. – Толя! – хрипло крикнул он. Но ветер выл громче, раздирая слово на тысячи холодных кусочков и разбрасывая над камнями. – То-о-о-оля-я-я! Цок-цок-цок. Колени болели. Тянуло голеностоп справа. Прихрамывая, Игорь брел по тропе и выглядывал впереди зеленую куртку товарища. Сорвался? Ветром сшибло? Ногу сломал и лежит где-то? Сценарии в голове возникали так обильно, будто в мозгу взорвался фейерверк с трагедиями. – То-о-о-оля-я-я! Ветер взвыл, разбирая слова на буквы и разбрасывая их по снегу. Игорь добрался до взятой было ступеньки, морщась от боли, спустился по камням и увидел Дракошу. Друг скорчился в щели между мокрыми валунами, прячась от ветра, и курил, содрогаясь всем телом. – Ты охренел, обезьяна? – гаркнул на него Игорь. – Чего расселся? – Я упал-с-с-с, – улыбнулся ему друг. Губы его тряслись. – Вс-вс-встать не мог-с-с-с. А ты-с-с-с идешь-с-с-с. Еле всталс-с-с-с. Его колотило. Все слова стали сипящими, едва слышными. – Думалс-с-с все-с-с-с. Игорь содрал с себя мокрую куртку. Бросил сверху на скрючившегося друга. Тот подтянул ее поближе, благодарно глянув. Подниматься оказалось труднее. Ветер свирепствовал. Игорь торопился, почти бежал, оскальзываясь на камнях. В животе растекался холод. Горло как оледенело и в груди расцветал снежный цветок. Добравшись до рюкзака, он подхватил его, ахнул от тяжести. Затем зашипел от холода, когда остывшая спинка плюхнулась на сырую флиску. Спотыкаясь, поспешил вниз. Поскользнулся. Лодыжку прострелила боль. Ветер толкнул в спину, и Игорь едва не рухнул с тропы на склон. – Сука! – снова рыкнул он. Собрался с силами, похромал дальше, опираясь на палку. Дракоша закрылся курткой с головой. Дым сигареты, густой из-за холода, валил из салатовых рукавов. – Терпеть! – просипел Игорь и выпотрошил рюкзак. Сейчас уже было не до размышлений. Сейчас все нужно делать быстро. Коченеющими руками он вытряхнул палатку из чехла. Ветер вцепился в тент, дернул его по склону. – Да стой, тварь! – гаркнул Игорь. Схватился за веревку растяжки, подтянул бьющуюся тканевую медузу поближе, набросал сверху камней. Затем принялся собирать дуги. Из своего угла выполз Толик, дрожащий так, словно его били током. Друг молча потянул ткань, придерживая ее. – Тоша хороший-с-с-с, – чуть слышно произнес Толик. – Сейчас! – просипел Игорь. – Сейчас. От холода удары сердца отдавали уколами. Ветер вопил над головой, видя, как ускользает добыча. Ткань билась, пока оледеневшие пальцы проталкивали дуги сквозь крепления. Сферу палатки чуть не вырвало из рук. Обвязав растяжки вокруг камней, Игорь махнул рукой: – Лезь. Дракоша вяло ткнулся во вход. Заскрипела молния. Ветер драл полог так, словно хотел его оторвать. Друг рухнул на пол палатки, подтянул ноги. Игорь бросил в разинутый зев гермомешок с одеждой, затем со спальником. – Переодевайся! Сам он двинулся к рюкзаку Тоши. Выпотрошил и его, вытащил еще одну герму. Зубы клацали так, будто в рот запихали заводную челюсть-шутиху, судьба которой прыгать по столу и веселить людей. Из носа лило не переставая. Едва соображая, Игорь вернулся к палатке, ввалился внутрь, пребольно ударившись о камень. Застегнул тент, который тут же прижало ветром. Стихия билась о тканевые стены, проминая их. Но тут «современные материалы» свое дело знали хорошо и ветер не пропускали. – Хер тебе, – просипел стенающей буре Игорь. Онемевшими пальцами принялся сдирать с себя мокрую одежду. Рядом дрожал раздевающийся Толик. Стуча зубами, они быстро переоделись в сухое, а затем забрались в спальник. Вдвоем, словно любовники. Еле втиснулись, но все же. Голова ныла, дрожь в теле притихла, но накатила слабость. – Жопа жопенская, – вдруг вяло проговорил Дракоша. – Но учти. Секса не будет. Я не в настроении. – Пошел на хер, – буркнул Игорь. Дождь стегал палатку, как разъяренный псих, упустивший добычу. Они лежали, прижавшись друг к другу спинами. Камни впивались в бедра, в плечи, в ребра, но это было лучше, чем сырость и холод. Дрожь отступала. Пальцы стало покалывать. Тепло разливалось по телу. – Стас не дурак, да? – сказал Игорь. – Свалил ведь, как думаешь? – Стопудово, – ответил Дракоша. – Хера себе июль. – Тут в семидесятых в январе группа погибла. Десять человек, – поделился зачем-то Игорь. – Померзли все. Тоже на перевал в бурю ломанулись. – Очень жизнеутверждающе, – спустя паузу сказал Тоша. – Спасибо за это. У меня и без этого в кишках каток открылся. Игорь сам чувствовал лед внутри. Холод застрял в костях, в желудке, в сердце, превратив его в анатомический замороженный атлас. – Сколько там сейчас? Минус стопятьсот? – спросил Дракоша. – Не думаю, что ниже минус пяти, – не отреагировал на шутку Игорь. Они замолчали, слушая воющий ветер. Где-то покатились камни. Палатку хлестанул еще один порыв ледяного дождя. Крошка врезалась в ткань и разочарованно осыпалась. – Вещи предлагаю бросить, – сказал Игорь, когда отогрелся. – Иначе не дойдем. – Поддерживаю. А что, если не распогодится? – Тропу я видел. Если снегом заметет – по вешкам двинем. Я их видел. – Собранные из камней пирамидки шли вдоль тропы, обозначая направление для туристов. – По турам. Правильно говорить – по турам, – поправил его Дракоша. – Ты, смотрю, отогрелся, обезьяна? – Ага. Как думаешь, надолго это? – сонно произнес Тоша. – Не знаю, – признался Игорь. В спальнике было тесно, но тепло. Ноги, правда, стыли даже в шерстяных носках. Дракоша засопел. Да и у Игоря веки смыкались сами собой. Организм выработал свой ресурс и требовал перезагрузки. Но спать нельзя. Если там ребята… ждут, то… Он проснулся от стука камня о камень. Где-то совсем рядом. Приподнял голову, вывернул руку и глянул на часы. Стрелка показывала на девять. Черт! Игорь завозился, выбираясь из спальника. Вечер сейчас или утро вообще? С этим заполярным летом всегда сложно понять время. Ветер молчал. Дождь стих. Снаружи царило безмолвие. Игорь глянул на сопящего Дракошу. Пополз к выходу. Колено уперлось в камень под палаткой. Цок. Он замер. Цок. Палка еще раз лязгнула о камни. Затем послышался едва различимый скрип, какой бывает, когда под чьим-то весом продавливается снег. Игорь застыл, словно застигнутый врасплох сурикат. Повернул голову, вслушиваясь. Цок. – Стасик, – визгливо проскрипело где-то рядом с палаткой. Противный, высокий голос, как у попугая. Говоривший находился в метре от Игоря. Будто кто-то присел рядом, заглядывая под тент. Во рту стало горько, тело прошиб холод. – Кто здесь? – гаркнул он. Рванулся к выходу, вцепился в молнию. Собачку заклинило. – Кто здесь, – повторили снаружи. Совсем-совсем у полога, почти у земли. – Кто здесь. Кто здесь. Кто здесь. – Что это? – дернулся Дракоша. Игорь рванул застежку, срывая молнию. Вывалился наружу. Что-то шумно бросилось наутек, разбрасывая камни. Цок-цок-цок-цок. – Что это? – чужим голосом прохрипел из палатки Дракоша. Непробиваемый Толик – испугался. Игорь отбросил тент, выпрямился. Холод облепил его мелкой противной пленкой. Вокруг клубилось белое марево. В молоке таяло рыжее пятно. – Стой! – заорал он. – Стас? Юля? Цоканье затихло. Все звуки исчезли. Облако опустилось на перевал, уже в десяти метрах видимость резко падала. – Что это было? – Из палатки показался изумленный Тоша. – Наши? Игорь присел, запихивая ноги в мокрые насквозь ботинки. – Не знаю! Он вновь посмотрел в сторону, куда убежал рыжий гость. Потом глянул на раскуроченные рюкзаки, почти засыпанные снегом. В них кто-то рылся. Палка исчезла. Игорь зашнуровал ледяные ботинки, встал. Приблизился к следам, оставленным гостем. Птица? Три длинных пальца, один короткий. Размеры только не птичьи совсем. – Что это за херня? – вырвалось из груди. Дракоша выбрался из палатки, встал рядом. – Есть идеи? – спросил у него Игорь. Друг покачал головой. – Оно сказало: «Стасик». Ты слышал? – Я проснулся, когда ты заорал. Но «кто здесь» уже слышал, да. Херня какая-то. Игорь добрался до рюкзака. Снял с него топор. Затем раскурочил пакет с котлом, вытряхнул на снег утварь. Разгреб ее в поисках ножа. Протянул оружие Дракоше. – Держи. Тот молча взял нож, огляделся, спросил: – Что за зверюга такая? – Я таких не знаю. – Игорь сбросил защитный чехол с топора. Пластик звонко стукнул по камням. Звук весело рванулся на свободу, попал в голодную пасть тумана и там затих. Сейчас даже шума реки, бегущей чуть ниже, не было слышно. Царство тишины. И тишина эта пугала. – Валим отсюда, – решил Игорь. – Не возражаю, – поддержал его Дракоша. Он прошел по похрустывающему снегу. – Документы забирай. Все самое ценное. Пойдем так. Тоша посмотрел на раскиданные вещи с сожалением. Вздохнул: – Ну да, это всего лишь деньги. Прорвемся. Затем шумно высморкался в пальцы, сплюнул. Игорь же продолжил: – Спустимся в долину, найдем какой-нибудь лагерь. Иначе коней двинем. Здесь оставаться не вариант. Дракоша замер. Переспросил: – В долину? Раз уж налегке, так давай через перевал сразу и ломанемся. Быстрее выйдем. Это ж седло уже. Идти-то осталось фигню. – Куда идти? – ехидно спросил его Игорь. Дракоша огляделся в поисках ориентиров. Белое безмолвие наблюдало за растерянным человеком. – Наверх, – выдавил из себя Тоша. – Вон камень, за которым я прятался, оттуда и наверх. Ты сам говорил про туры. – Не дойдем, – помотал головой Игорь. – Заблудимся. Тропу замело. Молока стало больше, вешки не найдем. Сам видишь. – Компас? – Я Стасу его отдал. – Ты вообще за меня или за медведя? – шутливо возмутился Дракоша. Огляделся, расплылся в улыбке: – Вон, смотри. Тура! Он ткнул рукой с ножом куда-то за спину Игорю. Тот обернулся. В ползущем по камням тумане проступали очертания вешки. Она едва виднелась, скрываясь за рваными белесыми лохмотьями. – Не просто так их тут понатыкали. Мы на седловине. Направление выдержим – и алга. Игорь внимательно смотрел на приятеля. Сказать, что он до чертиков испугался рыжего незнакомца? Так сильно, что сама мысль идти в том же направлении была омерзительна. И уж тем более оставаться. – Та херь и в долину может спуститься. – Тоша проявил таланты телепата. – До рудника быстрее доберемся, чем до озера. – Оно сказало «Стасик», – выдавил из себя Игорь. – Почему оно сказало «Стасик»? – Слушай, и без тебя стремно. Не накручивай! – возмутился приятель. – Берем документы, телефоны и валим к руднику. Часа за два дойдем. Связь, кстати, есть у тебя? Игорь выгреб из верхнего клапана рюкзака герму с документами и мобильным. Включил аппарат. Пальцы подзамерзали, но сухая одежда пока спасала от холода. Загорелась голубая заставка, на фоне проступили буквы производителя. Укол цивилизации в горную глушь. Сразу захотелось домой. Подальше отсюда. – Нет, – сказал Игорь. – Связи нет. Телефон даже оператора не определил. – Юля и Стас точно уже внизу, – убежденно проговорил Дракоша. – Стопроц! «Стасик», – скрипнуло в памяти то странное создание. Игорь посмотрел в ту сторону, куда ускользнуло рыжее пятно. Почему рыжее? Почему Стасик? В груди неприятно заныло. Он плотнее сжал рукоять топора. Еще раз оглядел вещи. – Бери свой рюкзак. Покидаем туда спальники и палатку. По очереди понесем. Вдруг вновь зарядит. Без палатки коней двинем. Дракоша кисло кивнул.
Вышли уже минут через десять. Рюкзак взял Толик. Палку отдал Игорю взамен пропавшей, улыбнулся: – Все равно я их не люблю. – Алга, – сказал Игорь и зашагал к вешке. Без тридцати килограммов за плечами идти было гораздо легче. Пальцы немели от холода, но топор Игорь держал крепко. Густой туман дышал, протекая бледной плотью по каменным склонам, сливался с выпавшим снегом. Из носа снова потекло. Мокрые ноги давали о себе знать. У вешки они были минут через пять. Вдвоем отыскали очертание еще одной пирамидки. Правда, Андрею показалось, что она находится немного правее, чем им надо. Но как ориентироваться в молоке, без солнца и без компаса – он не знал. Пытался выдержать направление по офлайн-карте и GPS, но синяя точка прыгала, как одуревшая. Дракоша шагал позади молча, даже без обычного мурлыканья под нос. Игорь видел, как друг настороженно смотрит по сторонам. Да и сам вслушивался, всматривался. Иногда ему казалось, что где-то в тумане бьются друг о друга камни да что-то звякает. В такие моменты он оборачивался к приятелю, молясь, чтобы послышалось. Дракоша встречал его взгляд поднятыми в немом вопросе бровями, и Игорь отворачивался. Показалось. Просто показалось. Шли по прямой, осторожно минуя курумник, выбираясь на редкие проплешины скал. От вешки к вешке. От вешки к вешке. Забираясь все выше и выше. – Мы слишком вправо уходим, – наконец сказал Игорь. Встал. Опять сверился с картой. Точка прыгнула вообще в долину. Сука. – Туры же не просто так стоят? – Может, они тропу на другой перевал показывают. Тут же горы старые, по плато можем назад выйти. Ветер бы, чтобы разнесло эту хмарь. – Игорь подул на пальцы. Глаза уже слезились. Нога болела страшно. В груди жгло зачатками кашля. – Не надо ветра. Без него Дракоше Тоше лучше, – сказал приятель. Очередная вешка была метрах в пятидесяти. – Идем давай, – подогнал друга Дракоша. – Дубею уже. Игорь кивнул, перехватил топор, вдел в лямку трекинговой палки задубевшую ладонь и двинулся к вешке. Взгляд упал на что-то рыжее впереди, припорошенное снегом. Адреналин мигом прочистил голову. – Твою мать… – вырвалось у него. На камнях, распахнув рукава, придавленные камнями, лежала штормовка Стаса. Дракоша встал рядом. Игорь осторожно смахнул снег со значка «Sex-инструктор». Юля нацепила мужу пару походов назад. – Твою мать… – повторил он. – Валим, – хрипло сказал Тоша. – Валим, валим, Игорь! В тумане что-то отчетливо цокнуло. Справа. Там же вдруг посыпались камни. Игорь поднялся, сжимая топор. Он вдруг четко понял, что все это время тварь наблюдала за ними. Что это она подложила им куртку. Она знала, куда идут люди. – Это ведь не по-настоящему? – спросил Игорь. – Это ведь не может быть по-настоящему. Со Стасом они дружили с детства. Нахальный, дерзкий, самовлюбленный герой их двора. Единственный, кто разделял страсть Игоря к горам. В горах он и остался. Потерять штормовку Стас никак не мог. Хотя… Свою-то Игорь оставил в лагере – мокрую, обледеневшую и тяжелую как гиря. – Может, как мы? Из-за непогоды? Переоделись в сухое, а это бросили? – поделился он соображениями с Дракошей. Черт, как хотелось подтверждения. Пусть иллюзорной, но надежды. – Игорь, ВАЛИМ! – вместо этого рыкнул друг. От былого балагура не осталось и следа. Лицо Толика вытянулось, глаза сузились, и за ними плясала смесь из страха и злости. Игорь поспешил вперед, к вешке, чувствуя, как сжимается нутро от осознания, что это ведь не дорога на свободу. Это путь в ловушку. Что эти пирамидки построила скрывающаяся в тумане мразь! Дракоша сбросил рюкзак. Вытащил нож. Губы друга были плотно сжаты. Из носа текло, лицо покрылось пятнами. – На хер это все, – процедил Толик. Игорь взял чуть левее от вешки. Подальше от цоканья из тумана. Под ногами перевернулся камень. Лодыжка прострелила болью аж до глаз. – Живой? – буркнул в спину Дракоша. – Да, осторожнее. Подуло прохладой. Затишье заканчивалось. – Валим. Валим. Валим, – закаркало откуда-то спереди. В тумане мелькнула горбатая фигурка, по-паучьи перебирающая лапами. Пародия на согнутую годами старушку. Карликовую, хищную бабку. Звякнула брошенная существом палка. – Вон она! – заорал Дракоша. – Вон она! – Вон она. Вон она. Вон она, – ножом по стеклу повторила тварь и растворилась в тумане. Ветер подул чуть сильнее. – Что это за говно? – выдохнул Игорь. – Что это за говно, Толя?! Друг не ответил. Он, тяжело дыша, буравил туман взглядом. Рука, сжимающая нож, побелела. – Она ставит вешки, Толя. Это она их ставит! – сказал Игорь. – Надо влево уходить. Тот коротко кивнул. Сверху закапало. Стихия выползла из засады.
Теперь они шли вместе, в паре шагов друг от друга. Пару раз миновали останки пирамид. Заботливо выложенные туристами камни были разбросаны поверх свежевыпавшего снега. Даже гадать не нужно, чья работа. Прячущееся в молоке существо явно обладало зачатками разума. Уклон пошел вниз, и это придало сил. Дракоша пер вперед как танк, не разбирая дороги, не оглядываясь. Пару раз он упал, но тут же поднялся и не отряхиваясь продолжил путь. Когда впереди в тумане проступил уводящий наверх курумник – Игорь сплюнул. Была надежда, что они уже спускаются к руднику. Была. Но, черт возьми, снова подъем! Сверху посыпались камни. Подул ветер, снося со склона рваные клочья тумана. Сдирая покров с согбенной фигуры, застывшей наверху. Игорь даже на таком расстоянии увидел, как бесформенная тварь поднимает тонкой лапой камень и кладет его на другой, сооружая пирамидку. – Смотри! – окликнул друга Игорь. – Наверху! Существо замерло, повернуло к ним голову, словно сова. Визгливо крикнуло: – Вон она! И бросилась наутек. Недостроенная вешка осыпалась, камни с шорохом покатились вниз. Рыжего в ней не осталось. Но это была та же тварь, что шаталась возле палатки. Просто рыжее она положила им позже, на выстроенном ею пути из чертовых вешек. Со значком «Sex-инструктора». – Куда нам? – спросил Дракоша. – Не знаю… – признался Игорь. – Не знаю… – Тогда алга, – зло бросил друг и полез наверх, за тварью. – Что бы это ни было – я это грохну. Игорь отбросил наконец палку, оставив только топор, и поспешил следом. Дракоша вырвался вперед, шустро помогая себе руками. Лезвие ножа то и дело лязгало по камням. Игорь едва поспевал за другом. Нога отзывалась болью на каждый шаг. Первым наверх вскарабкался Толик. Встал, распрямился. И в этот миг камень, на который ступил Игорь, пошел вниз. Следом за ним, лавиной, поехал склон. Что-то врезалось в голову – и в глазах потемнело. Плоть гор осыпалась, увлекая Игоря за собой. Плечо взорвалось болью. Что-то хрустнуло в колене. Мир перекувырнулся, еще один камень прилетел в лоб, но движение остановилось. Сверху что-то кричал Дракоша. Звуки булькали, но потихоньку прорывались наружу. – …е? …е? И…. ы…е? Пока наконец не оформились в: – Игорь, ты живой? Живой? Игорь, ты где? Игорь пошевелился. Левое плечо отозвалось резкой болью. Ему ответило колено. Только не перелом. Только не перелом! – Я иду! Игорь, ты где?! – донеслось сверху. Дракоша медленно спускался, вглядываясь в низину. Видел ли он его? Игорь попытался сесть. Отбросил в сторону камень, навалившийся на грудь. Повернулся на правый бок. В колене стрельнуло. Черт. От боли выступил пот. Игорь посмотрел наверх, в поисках друга. Сердце екнуло. За спиной Тоши стояла горбатая фигура. Она росла, поднимаясь над приятелем. – Толик, – прохрипел Игорь. – Сзади! Ветер унес слова прочь. Дракоша будто бы услышал предупреждение, обернулся. Поднял руку с ножом, но застыл. Паучьи лапы твари распрямились, существо, покачиваясь от ветра, поднялось над человеком и… засветилось. Розовый свет разлился по камням. Тоша не шевелился. – Толик… – просипел Игорь. Рванулся, поднимаясь. Зашипел от боли. – Толик! Дракоша медленно встал на колени перед тварью. Задрал голову, завороженно глядя в лицо монстра, изрыгающее свет. Существо укрыло приятеля собой, словно зонтиком, и стояло над ним без движения, пока Толик не упал. Розовое свечение погасло. Игорь поднялся на ноги. Колено резало, словно в него натолкали гвоздей. Плечо горело огнем. Жидкий металл разливался по телу, но топор все еще был в руке. Все еще в руке. Тварь на четвереньках спускалась по склону, осторожно пробуя камни тонкими лапами. Теперь она не боялась. С одним путником такие чудища расправляются без проблем – это уж точно. Может, она жила в этих горах всегда, загоняя по одному туристов, охотников и каких-нибудь других чудаков, забредших в безлюдный край. Может, прилетела откуда-нибудь из космоса и так устанавливала контакт с местной фауной. Не важно. Нет таких монстров, которых не смог бы победить человек. – Игорь, ты где? – проскрипело существо. – Игорь, ты где? – Здесь я, сука. Здесь, – ответил он и поднял топор.
Тварь стала расти уже на подходе. Лапы вытянулись, поднимая серое склизкое тело ввысь. Три глаза зажглись розовым светом, и Игорь, запоздало, попытался заслониться ладонью, но тело не послушалось. В груди дернулась паника. По коже скользнула волна тепла. Свет становился все ярче, все сильнее. Он согревал и обещал покой. Игорь бился в тюрьме порабощенного мяса и безмолвно орал от ужаса. От одежды поднимался пар. Тварь сделала шаг, другой, покачиваясь, как акробат на ходулях. Нависла над Игорем. Ее образ дергался, таял в застилающей взор пелене. Существо становилось еще одной пляшущей кляксой перед глазами. Он задрал голову, покорно впитывая в себя свет. С чудища капало. Ноги подкосились, и Игорь грохнулся на колени, попав больной чашечкой прямо на камень. – Сука… – вырвалось из горла. Боль разорвала наведенный дурман, Игорь зажмурился и вслепую рубанул топором. Тук. Сипящий визг резанул уши. Попал! Игорь врезал еще раз. Зашуршали камни, тварь отпрянула, заваливаясь на бок. – Стоять, сука, – прохрипел он. Приоткрыл глаза, готовый отвернуться, если увидит розовый свет. Существо грохнулось на камни, лапы дергались, втягиваясь в хлипкое тело. Игорь рванулся к поверженному противнику. Колено резануло, нога подкосилась, и он рухнул на тварь сверху. Под пальцами оказалась склизкая плоть. – Стоять, сука, – заверещало создание. – Стоять, сука! Топор вошел в тело твари с чавканьем. – Сука-а-а-а-а-а…. – завизжала та. В лицо что-то брызнуло – холодное, едкое. Игорь с остервенением выдернул инструмент из монстра, размахнулся и ударил еще раз. Затем еще. И еще. Среди камней одиноко завыл ветер. Лапы существа дрожали в агонии, вороша мелкие камни. Игорь отвалился в сторону, отер лицо, не отпуская топора. Голова кружилась, мысли путались. Он попытался встать, но вспышка боли вернула его на место. – Сука… – выдохнул Игорь. Вывернул шею, чтобы посмотреть на склон, но не смог разглядеть среди камней тело Дракоши. Над ложбиной ветер гнал рваные щупальца облаков. Черная лапа монстра дернулась еще раз и медленно распрямилась. Порыв ледяного ветра швырнул в лицо мокрый снег, но Игорь даже не дернулся. Продрогший, уставший, израненный, он нашел положение, в котором было комфортно. Почти тепло. Очень хотелось спать. Игорь положил голову на камень, показавшийся мягче любой подушки. Умом он, конечно, понимал, что отключаться нельзя. Что надо подниматься. Но… Вряд ли получится добраться даже до тела Дракоши. Вспомнились слова отца про то, что даже великие охотники бессильны перед стихией. – Хер… – выдавил из себя Игорь. Шумно выдохнул и перевалился на бок. Отбросил топор, оперся рукой о холодный камень. Увидел в нескольких метрах от себя трекинговую палку и пополз к ней.
Подъем до Толика занял не меньше получаса. Друг лежал на боку, из уголка рта свисала струйка слюны. Игорь осторожно присел рядом. Проверил пульс, хоть и понимал, что ничего не услышит. Нахмурился. Даже замерзшими пальцами он почувствовал, как бьется жилка на шее друга. Живой… Толик заворочался, перевернулся на спину и всхрапнул. – Обезьяна… – с улыбкой выдохнул Игорь. – Сучья ты обезьяна. Он сунул руку в карман абсолютно сухой, почти горячей, Тошиной флиски, откуда торчал пакет с пачкой сигарет. Посмотрел вниз, на сломанное тело монстра. Достал зажигалку. Та плевалась дохлыми искрами, но огня не давала. Игорь непослушным пальцем крутил колесико, вкладывая в движение всю накопившуюся в душе злость, и, когда огонек задрожал, втянул его в сигарету. Откинулся на камни, втягивая вязкий дым. Уставился в небо. В тумане проступила далекая вершина. Ветер чуть притих, будто впечатленный случившимся внизу. Игорь смотрел ввысь, понимая, что уже не встанет. Вяло пыхтя сигаретой, он наблюдал за несущимися там облаками. Голубые пятна неба, прорывающиеся сквозь хмарь, оставили его равнодушным. Когда окурок ожег губы, Игорь вяло сплюнул его и закрыл глаза. Тело теряло чувствительность. Плохой признак. Но хотя бы не холодно. Глаза сомкнулись сами собой.
* * *
– Стасик! – вскрикнула Юля, проснувшись. – Стасик?! Перед глазами таял розовый свет, вымывая из памяти что-то важное. Что-то необычное. Девушка потрясла головой. Пещера?! Как она очутилась в пещере?! Юля поднялась на ноги, слушая влажный метроном подземных капель. – Стасик? – А, – отозвался муж сонным голосом. Через миг дрема в нем уже исчезла: – Юля? Где мы? – В пещере, – чувствуя себя полной дурой, ответила девушка. Под ногами сухо зашуршало. Песок? Слева виднелся просвет. – Я тебя не вижу, – сказал Стас. Он был совсем рядом. Юля полезла в карман штанов, где лежал перочинный нож со встроенным фонариком. Слабенький луч света скользнул по влажным стенам. Выдернул из темноты белое лицо Стаса. – Что за пещера?! – закрылся тот рукой. Пол был покрыт скелетиками. Крошечные черепа, тонкие косточки. – Ой, – сказала Юля. – Чье-то логово, – успокоил Стас, оглядываясь. – Мелкий хищник. Леммингов жрет. Крупных костей нет, не бойся. Юля медленно пошла в сторону просвета, морщась от хруста под ногами. Осторожно выглянула наружу. Широкая расщелина вела куда-то наверх, где по синему небу неторопливо плыли облака. Последнее, что она помнила, – это как их накрыла непогода. Стас пробовал найти прямой путь, не возвращаясь к перевалу, но они вышли к скальным отвесам. Затем отправились по компасу южнее, надеясь найти спуск. Насквозь промокли. На коже от воспоминаний о страшном холоде высыпали мурашки. Она потрогала себя – одежда сухая. Да как это вообще возможно? А потом Стас сорвался. Точно. Сорвался. Она отчетливо помнила рыжее пятно на камнях, где он лежал. Помнила, как звала его. Как искала путь вниз. И все. Больше ничего. – Стасик?! Ты цел. – Голова болит, – ответил муж. Он встал рядом с ней, на лбу багровела шишка. – А где моя куртка? Они выползли из расщелины и оказались на плато. Потеплело. Ветер ласково касался волос, будто знал о чем-то. Будто пытался поддержать. У входа стояли их рюкзаки. Мокрые насквозь. Рядом кто-то собрал пирамиду из камней. Такая же тура стояла метрах в пятидесяти правее. – Как ты меня туда затащила-то? – сказал Стас. Приобнял супругу, чмокнул в щеку. – Спасительница! – Это не я… – сдавленно произнесла Юля. – Тогда кто? – удивился он.В небе, словно смеясь, закричала птица.
Ринат Газизов Три правила Сорок Сорок
* * *
Сорок Сорок унесли меня ночью вместе с пазиком, который водил мой отец. Он бросил машину на проселке в полях, он был штатным водилой «Приневской фермы»; почему отец взял в ту поездку меня – неизвестно, куда он делся – тоже. Сорок Сорок не умели строить жилища. Не жили подолгу на одном месте. О них знал лишь тот, кого Сорок Сорок украли. Они предпочитали воровать. Они только и делали, что воровали, могли утащить что угодно. Несущих сил хватало даже на то, чтобы летать по ночам с заброшенным бараком в лапах. Смутно помню, как меня несло в автобусе: то захватывало дух, то клонило в сон. Наверно, Сорок Сорок чудом меня не заметили, когда шарили черным глазом по окнам, вот и взяли – так-то они людьми не интересовались. В том пазике я поселился вместе с младшими – я спал на сиденьях в третьем ряду слева, – а топили мы его, подкидывая валежник в буржуйку, что пробила трубой кузов на месте водителя. Со мной вышло удобно: комбинезон пришелся от сироты, который не выжил прошлой зимой, а обувь мне смастерил старый Еся из солдатских ремней. Я сдружился с тремя ровесниками. Они были слишком малы, чтобы попасть в Сорок Сорок, они говорили: надо ждать, пока трое старших окочурятся, тогда появятся свободные места. А мне вообще путь внутрь заказан – я чужих кровей. Все трое умничали, но так и не смогли мне объяснить, откуда пришли. Когда мне стукнет семь, приемная тетка скажет, что это меня похитили цыгане. Варвара махом раскроет дурацкую книгу – сразу на нужной иллюстрации, но я не узнаю в Сорок Сорок ни черных кудрей, ни куриц под мышкой, ни гитар, ни золотых серег. Мои похитители куда древнее цыган. До пяти лет я слонялся по нашему биваку, разбитому на прогалине в сосновом бору: ходил себе между краденых изб, краденых фургонов, краденых палаток, от загона с крадеными гусями и курами до тарахтящих бензиновых генераторов, от краденой цистерны с бензином до краденой бытовки, где Сорок Сорок наедались грибами и любили друг друга; по лесу и до озера; однажды стянул у рыбака ведро пескарей; видел, прячась за березой, вертолеты; видел пожар, который уперся в ров, умело вырытый лапищами Сорок Сорок; видел лося, рога которого были как сосновые корни; видел падение звезд (кайфово, но слишком быстро); видел клеща размером с пятак; я постоянно просился внутрь Сорок Сорок – и обижался, когда меня не брали. Их действительно было сорок, по-человечески сорок. Тонкокостные, черноглазые, у них бездонные плоские животы. Они прекращали есть, только когда в гнезде не оставалось еды, и эту особенность я у них перенял: ел как не в себя и не толстел. Они долго-предолго странствовали по земле. Оборванцы – кто в медицинских халатах, кто в тулупе, в женском пальто, распахнутом на всю волосатую грудь, – им было без разницы, в чем ходить. Я еще не сразу понял, что пестрота вещей вокруг меня, она не потому, что воруют всё подряд, а она как раз от того, что воруют в одном экземпляре. Никогда Сорок Сорок не подбирали подобное дважды. Я кричал: «Возьмите меня с собой!» – когда поздним вечером эти сорок странников собирались у костра, брались за руки, обнимались, чуть пританцовывая, лепились в дрожащую кучу тел, ртами издавали: чарк! чарк! чарк! а потом – щелчок в суставе бытия! – и вот они коллективный оборотень. Огромная до усрачки сорока. Их семья так выживала. Нужно очень долго жить вместе, нужно быть очень родными, чтобы так делать. Я разглядывал Иришку, Янку, Агнессу: они ли птичьи лапы с когтями как грабли? Они ли немигающие глаза, как две кастрюльки, они ли птичий клюв, в который упихалась бы моторная лодка? А костистый Еся с хромыми старикашками образуют птичий хребет? Морщинистая старуха, что заставляет меня таскать мусор за всех и тщательно закапывать, она своей висящей кожицей обтягивает всю семью? А толстые неулыбчивые мужики из сарая, которые только и делают, что лежат на соломе и дуют воду из бадьи, которую я им таскаю, – они в Сорок Сорок играют роль птичьих потрохов?.. Наверно, гадать бессмысленно, никто из них – не часть. Они все сразу – единое целое новое качество. Умная книжная мысль, я ее тоже у кого-то украл.Думаю, беду на Сорок Сорок накликал я: хотя разве это беда – нет, это их привычка. Я стал проситься в город, когда в украденном багаже (а Сорок Сорок умудрились обворовать товарняк) я нашел книги с картинками, и там был город с нормальными людьми, как из рассказов Еси: были мосты, ровные невероятные дороги, словно прочерченные на земле суперфломастером; были еще дома из кирпича. Я клянчился туда, убеждал, что украду и вернусь из города с сырокопченой колбасой, с калькулятором, с футбольным мячом и зефиром, политым глазурью. Украду бездну крутых вещей. Я заснул, кожа на щеках была стянута от соли, потому что старый Еся меня наругал. А ночью проснулся от грохота, который прошивал лес вдоль и поперек. Я уставился наружу из окна родного пазика. Посреди нашей поляны стояли двое чужих в хаки – я знал, что такое хаки; они лупили из винтовок – я знал, что такое винтовки, – лупили по стремительно уносящейся на восток Сорок Сорок. Город сам явился в мой дом. Вот и все прощание со второй семьей. Два зверя, разрушивших мое детство, были из оружейно-охотничьего клуба «Левша». Им никто не поверил про Сорок Сорок. Они везли меня в Питер в уазике, у них были отупевшие лица людей, которых миновала большая беда. Они ругались плохими словами, повторяли по дороге: «Ты только подтверди, малец, что динозавр был наяву, – он сорвался и улетел, пацан, ты только не молчи!..» Но я чуть не умер еще на въезде. У меня была истерика, «стрессовая реакция организма», скажут потом. Очнулся я уже в детдоме. Полегчало: в детдоме есть стены, и не видно, какой же это огромный город, как много в нем выставлено для кражи. За неделю я усвоил от воспитательницы Инны Витальевны основы своего положения. Что два года я прожил «как маугли», в стоянке бомжей в пятнадцати километрах от Люблинского озера; что про этих бомжей уже все газеты писали: они, может, сектанты или старообрядцы какие. Непонятно, как они доставляли в свою глухомань тачки, топливо, дачные бытовки – ведь ни дорог, ни троп в том лесу нет. Врачи меня, спавшего, осмотрели и не обнаружили следов насилия – это новость хорошая. А еще я «чрезвычайно хорошо социализировался», но меня бьет паника в городе, и это нормально. Мои настоящие родители пока не нашлись, но могут объявиться, ведь меня покажут по телику, зато нашлись вши, глисты, грибок кожный, грибок ногтевой, какая-то зараза в левом ухе, но все это пустяки. Меня угостили зефиром с глазурью. Жизнь среди чужаков стала приемлема. Многие в детдоме были настоящие уроды. Но Танька была уродом из-за усохших ног – как будто из пяток, как из тюбика, невидимая тварь высасывала жизнь и пока остановилась на пояснице. Выше пояса Танька очень даже ничего. Глаза голубые, как стекло. Лицо по форме, как мастерок. Руки крепче, чем у меня, увиты венами. Танька передвигалась на них ловчее меня, а я не раз вызывал ее: кто быстрее доползет от чулана до столовки? Я был шустрый, тонкий, как змей, но она в этом прирожденный талант, я пыхтел, она смеялась и уносилась, девчонка-инвалид оставляла меня позади каждый день, и это ползанье наперегонки по вспученному линолеуму было самым счастливым временем моей жизни. Потом Инна Витальевна объяснила, что девочки так себя не ведут. Танька какое-то время глядела на меня свысока и сидела в коляске как на троне, но это быстро прошло. В детдоме я делал куда больше вещей, чем у Сорок Сорок. Мы учились читать-писать в группе подготовки, мы учились делать уборку, мы устраивали «праздники и спортивные соревнования» и гостям детдома рассказывали, что мы любим «праздники и спортивные соревнования»; я видел рыб в океанариуме; я видел депутата, который подарил детдому деньги, я мыл таксистам машины за пятьдесят рублей и на пятьдесят рублей покупал чипсы со вкусом бекона; я был в Эрмитаже, я видел там золотого павлина, я был в Спасе на Крови, я видел там тетю в короткой юбке, под коленом у нее синяя-пресиняя вена; я плавал на прогулочном катере по каналам, я боялся, что Конюшенный мост сорвет мне башку, но пронесло; я украл у чаек их крики, чтобы кричать самому, а над водой страшно стихло, Инна Витальевна всю дорогу обратно пыталась мои чаячьи вопли заткнуть, я украл ее злобу, она успокоилась как сама не своя, я проглотил ее злобу в свой живот, под язык накатила тревожная, мающаяся кислинка, которую через несколько лет я научусь называть изжогой, но я вытерпел до ночи и с помощью этой злобы выбил замок долбаной двери, Сорок Сорок никогда не запирались, я вышел в коридор, хотел найти Таньку и сказать ей, что я, наконец-то, научился красть и прятать украденное в животе, смотри! – Сорок Сорок были бы мною довольны, я даже хотел нащупать, попробовать украсть ее «врожденное прогрессирующее заболевание», но меня поймал ночной сторож Геннадьич, и первый подзатыльник я пропустил, но второй я украл и спрятал, чтобы вернуть ему на следующий день, увы, я думал о мести для Геннадьича и совсем забыл о той интересной мысли, ну, про Таньку и ее ноги… В такой суете промчался год. Я чутка поумнел. Я делал зарядку вместе с другими детьми. Мы по команде приседали, двигались по кругу на карачках, как курицы, а мне думалось, что мы никогда не слепимся в одну целую прекрасную Курицу Куриц – нетушки, слишком разные и неродные. Потом Таньку удочерили. Потом пришла Варвара, сказала воспитательнице, что на пятидесятилетие хочется подарочка, такого, чтоб ей по сердцу пришелся, ну и я пришелся ей по сердцу. Эта сладкая парочка вошла к нам в комнату. Павлуха как раз на руках стоял у стенки, языком облизывал стык между обоев, вдобавок свесил трусы на грудь – это он умел, – Павлуха был совсем дурной, а тетки даже не восхитились, сказали мне: собирайся. Я оценил Варвару. Похожа на Фрекен Бок, мужицкая баба, руки-батоны. Собраться я рад: я мигом вынул из шкафчика крылья из пенопласта, обшитые фанерой, а поверху ручкой намечены перья, я крылья мастерил и дорабатывал весь июль, продел кисти в лямки, подбежал к окну, запрыгнул на батарею – и меня тут же сбили с лету. – У него воображение, – предупредила воспитательница мою будущую опекуншу. – У меня решетки, – успокоила воспитательницу моя будущая опекунша. Но с Варварой оказалось не так уж стремно. У меня появились личные шмотки из комиссионного, хуже, чем у одноклассников, зато мои, только мои! Теперь я должен был ходить в школу, держа ее за руку, выполнять домашние задания, уборку, читать книги или делать вид, что читаю, смотреть старые мультфильмы, подставив голову Варваре, чтобы она, сидя в кресле, а я – у нее в ногах, могла мне по голове гладить. Я должен был выходить «ровным степенным шагом», расчесанный, накормленный, к ее подругам, чтобы она говорила, что она – благодетель, а я – тот самый мальчик, которого бросили в лесу, что скитался и жил с цыганами, и подруги целый год штамповали одним тоном, какой я бедный мальчик. В школе многие были нормальны, уродов поменьше, чем в детдоме, но самое главное – Танька оказалась неподалеку. Я жил на Большом проспекте рядом со сквером, где памятник Добролюбову, я понял, что увековечили мужика, который любит добро, а Танькина новая семья жила рядом с Ораниенбаумским садом, про него ничего не ясно. Когда я уходил на «волю», только Павлуха, глядя выше и правее моего лба, попросил беречь Таньку, она же привозила ему конфеты «Аленка». Я заверил, что с Танькой все будет чики-пуки, и он заржал, обдав меня радостными слюнями. Пролетел еще год. Первый класс: косички нормальных ходячих девчонок, мел на пальцах, мои неповоротливые мозги, чужие избалованные дети. Я задул восемь свечей, воткнутых в пирожное, от одной свечи надломился зефир; я сидел с теткой на кухне, она смотрела передачу, где людей женили по очереди, а я грустил, потому что за год ничего не украл. Я скучно жил. Наверно, я стал нормальным ребенком, выполняя Варварины указания. На следующий день после школы я отправился в гости к Таньке. Меня не пустили. Ее приемные родители ругались. Отец кричал «нельзя увольняться, нельзя!», а мать кричала «уйди, уйди, уйди, уйди!». Я не уходил, и Танька знала, что я из тех, кто долго не уходит, я ведь мог у парадной двери в детдоме стоять часами, ожидая, когда прилетит Сорок Сорок и закроет окно черным глазом. Танька знала: она выглянула из своей комнаты на втором этаже, помахала; только я мог понять, а никто из прохожих и не подумал бы, придурки, что Танька, как атлет на брусьях, подтянулась – в смысле, на подоконнике, – легонько оторвалась от коляски, а потом перенесла вес на левую руку, чтоб правой так беззаботно помахать, – и ничегошеньки, у нее лишь вены на шее вздулись. Я обожал наблюдать, как она справляется с такими вещами. Ее глаза были как фары ночной тачки, от которой Сорок Сорок наказывали бежать. Танька тоже могла включать дальний свет в глазах (я думал, что он только для меня, а ближний свет – это для прочих). Танька смотрела на меня, и город казался уже не таким огромным, Варвара – сносной, воздух – теплым, и даже желтый дом с зубастой решеткой арки, пялящийся страшными окнами на двор без детей, вдруг казался красивым и таинственным, как сказочный сундук из книжки… а потом ее приемная бабушка дернула занавеску. Но мне хватило: я успел украсть одиночество Таньки. С ее одиночеством я продержался до ночи. Никогда еще не было так хреново. Зато к Таньке нагрянули знакомые ее приемных родителей, они радовались ей по-настоящему, потому что ее день рождения был позавчера, а дошло до них вдруг только сейчас; я видел эту гурьбу, внезапно ввалившуюся с тортиком и цветами к ним домой, стихли крики ее приемной семьи, я стоял под окном, держался за живот, услышал, как Таньке позвонили из двенадцатого детдома, она, оказывается, подружилась с какими-то инвалидами, ее пригласили на выставку песчаных скульптур, а я держался, держался, спрятался за дворовой скамейкой и согнулся пополам, сглатывая кислую слюну, она немедленно отправилась на Заячий остров вместе с бабушкой, которая внезапно ей так услужила, бабушка-то не сахар, они вообще водятся только двух сортов – либо бабушки-ангелы, либо бабушки-злыдни, серединки нет, они произошли от неродных доисторических существ, – ну а я все держался, я сидел на корточках и был один на весь двор, потом Танька возвращалась радостная, коляска дребезжала колокольчиками, на ее тонких ногах лежали тонкие пионы. Стемнело. Больше я не мог. Ее одиночество вытошнилось из меня тугой струей, и с утра у Таньки начался обычный хреновый день. Варвара отхлестала меня по заднице за то, что я шлялся невесть где. Про Таньку ей нельзя говорить, иначе Варвара заревнует.
В школе я украл красивую толстую ручку у Антохи. В ней сразу десять разноцветных стержней, можно переключать, ее искали всем классом на перемене, и только я жевал бутерброд. От такой кражи дух захватывало, тело ныло от нового ощущения, похожего на то, что я открыл на физкультуре: лезешь под потолок и, крепко обнимая ногами бугристый канат, млеешь, когда в тазу рождается болезненно-сладкое чувство. Кража ручки была такой же, только никто не косился: чего он там застрял на канате?.. Я пожал плечами на вопрос Антохи, тот сам порылся в моем рюкзаке, осмотрел парту, глянул на мои карманы: такая ручка бы здорово оттопыривалась. Я ему не нравился, этому плохишу, который будет «держать» класс до выпуска, а потом, наверно, купит пистолет и станет крутым, но ему было не по себе, ведь я постоянно жру, и предъявить было нечего, не мог же он заглянуть ко мне в живот. Возвращаясь домой, я украл у дворовых котов голод, чтобы коты пухли, и к вечеру они вправду отожрались. Варвара запихала в меня тройную порцию макарон по-флотски, приговаривая, что корм идет не в коня. Я не был голоден. Просто я был выкормышем Сорок Сорок. В следующий раз я своровал пятерки по математике и, конечно, сглупил: надо было красть четвертные, а не просто за домашку. У Сорок Сорок было правило: КРАДИ ОДНУ ВЕЩЬ ОДИН РАЗ, не повторяйся – в этом вся соль, и я это ощутил так же верно, как свои кости. Повторюсь – поймают. Иногда Танька помогала бабушке, которая работала в ларьке на перекрестке Большого проспекта и Ленина. Там надо было продавать газеты, леденцы, пустяки. Детский труд запрещен, я-то знаю, но иногда бабушка отлучалась домой, а Танька, сидя в будке, ее заменяла, никто не видел снаружи в окошко, что она в инвалидном кресле, руки были длинные, по лицу лет шестнадцать, и дотянуться она могла до любого товара, и сдачу вернуть. Я украл у нее жвачку из распахнутой коробульки, зеленую, со вкусом яблока и наклейкой-тачкой. Потом она получит выговор от бабушки, расплачется, даже пожалуется мне. Все будет чики-пуки, заверю я Таньку. Жвачка была сладкая только в одно мгновение: она, как и все краденое, сразу очутилась в моем животе, я же никогда особо не прожевывал, сразу сделалось приятно, но кто-то провел когтем по хребту, и я задумался: кто меня может судить и могу ли я сам себя судить. В Библии сказано: «Не укради». А я крал. Сорок Сорок крали. Сорок Сорок были до Библии – так говорил Еся, слушая Пугачеву по радиоприемнику. Мы были всегда – так говорили Иришка, Янка, Агнесса, сцеживая из цистерны топливо, чтоб залить в генератор и врубить автомат для жарки попкорна. Мне было хорошо, и это все, что я умел. На этом мои терзания закончились. Второе правило я придумал сам в шестом классе: КРАДИ КАЙФОВОЕ. Безделушки вроде денег, ювелирки, мобильников меня не интересовали. Нет, я поступал иначе. Например, к Таньке стал наведываться Федор, он был из моей школы, они познакомились на отчетном концерте, где – ненавижу эти мероприятия! – каждому школьнику отводилась своя роль. Кто-то пел, кто-то бренчал на гитаре, кто-то танцевал или актерствовал, самые тупые микрофоны выносили, а я там себе места не находил, и даже классуха меня никуда не приспособила; я только думал, что вся эта тусовка не срастется в одного целого прекрасного зверя по имени СОШ № 51, который мог бы одним прыжком на мягких лапах перевалить с Петроградки в Кронштадт. А Федор на концерте был звездой: светлая голова, осанка как у царевича, и вещал стихи он медленно, с расстановкой, а не чирикал-бормотал, как я на уроках. Танька мне часто про него говорила, когда мы давили ледяную корку луж, я – пяткой, она – палкой, – и всегда я злился пуще прежнего. Она уже не хотела ползать наперегонки по снегу. Она говорила, что я как дитя малое, она и вправду повзрослела, интересовалась, черт возьми, этим Федором. Я решил открыться Таньке, только чтоб сбить эту болтовню. Я рассказал про Сорок Сорок: как они становились одной огромной птицей, неуловимые, великие и немного бестолковые воры, никому не нужные, ничего не хотящие, кроме еды и уединения. Танька почему-то захохотала. Самое страшное, что я был, видимо, идиотом, с которым забавно дружить, а она становилась все красивее, и дальний свет ее глаз отнюдь не сошелся на мне: он распахивался на весь мир. Мобильник ее пиликнул. Я готов был поклясться, что это пришла юморная эсэмэска от Федора. Она сказала, что я инфантильный и про сороку гоню фольклорные выдумки. Сорока на самом деле никакая не воровка, а вполне себе умная птица из семейства врановых. А на латыни вообще красота: сорока – это pica pica. Танька видела по телику, что сорока настолько умна, что единственная из всех птиц узнает себя в зеркале. Вот это реальный научный факт… А то, что я навыдумывал, это потешно, конечно, только… Тут я вконец разозлился. Я поинтересовался между делом, в какой вечер они с Федором пойдут на набережную Карповки, чтобы посмотреть на Иоанновский монастырь, ну то есть как пойдут – он будет катить ее трон, а она, раскрасневшаяся, прижимать к груди какой-нибудь цветок, ну и дурацкий повод, думал я, сосаться можно у подъезда, а так будете еще смущать монашек – им тоже захочется. Она назвала день свидания. Я появился загодя, еще не зная, что бы вытворить. Танька уже стояла на крыльце, а Федор шел к ней от арки. Тут я вывернулся из-за двери, она вздрогнула, очень удивилась, что я гуляю здесь без предупреждения, Федор подходил ближе, ближе, и так открыто улыбался, как я не умею: его душа изливалась из глаз. Я поморщился и украл то, что Танька готовила для Федора, она даже сама не знала, что готовила, – такое поймешь, только когда заберешь, – я украл ее поцелуй. В животе вспыхнула невесомость. Пятки мои на миг расстались с землей. А в ровной походке высокого Федора, которому я так завидовал, что-то сбилось… Нет, конечно, они отправились вдвоем к Карповке. И вроде бы посмотрели, как подсвечивается этот скучный храм, но все было не то. Через два месяца Федор уехал в Москву, чтобы там учиться в продвинутой языковой школе. Помню, перед отъездом он помаячил у подъезда Таньки с бумажкой в руке, где был написан его адрес и какое-то глупое признание: Федор думал, что в будущем они встретятся, у него были сомнения и радость, он остро испытывал надежду и страх, – я его знал нараспашку, но не потому что я одаренный юноша, а лишь потому, что его чувства сами представлялись мне для кражи. Я прошел за ним и в дверях вестибюля украл эту бумажку с адресом и телефоном. Вдруг еще надумает, вернется, подарит. Он не вернулся. Танька горевала. Она так не горевала, даже когда врач сообщил, что болезнь прогрессирует: руки уже слабеют, к шестнадцати у девочки откажет диафрагма, дышать сможет только с аппаратом ИВЛ, а потом умрет. Свет в глазах Таньки теперь светил внутрь. Приемные родители стали лучше себя вести, потому что видели впереди освобождение от груза. К тому же Танька успела им помочь: она же стала третьим ребенком, поэтому родителям одобрили ипотеку с пустяковой ставкой. Я украл их лицемерие и подлость. Я не знал, куда это сплавить, поэтому подсунул их лицемерие и подлость Антохе, а тот рассказал-показал на всю школу, что Сашка из «Б»-класса – не девственница. Потом Антоха подрался с ее братом, точнее, собрал шайку, чтобы справиться, – у нее был крепкий брат, – потом он врал милиции: подлости было так много, что Антоха не мог вычерпать ее зараз. Танька не держала обиды на меня, ведь я не попался с поцелуем. Я был как эти воробьи: пронесутся, заденут висок краешком крыла, что-то украдут, шепнут о чем-то – вот и куда ты шел? какую мысль думал?.. Я понял третье правило Сорок Сорок: НИКОГДА НЕ ПОПАДАЙСЯ. Знал утробой: попадусь – исчезну я, все исчезнет, ну и Танька, возможно, расстроится.
В седьмом классе я украл клевые движения у Михи, который танцевал как бог, и всю дискотеку он был сам не свой, зато я подцепил Веру, хотя раньше она и не смотрела на меня. Я выпил литровую пластиковую бутылку джин-тоника, просто чтобы похвастаться, и тут же украл у прохожего трезвость, а тот сел мимо скамейки. Затем я ускорился: я украл обаяние, я украл надежность, я украл силу, я украл слезы, я украл ворчливость, я украл вдохновение, я украл тепло рук (у меня всегда холодные), я украл воодушевление, я украл восхищение, я украл внимание, я украл глупость, я украл гордость, я украл любознательность, я украл остроумие, я украл трудолюбие, я украл высокомерие, я украл какие-то слова, я украл какие-то мысли – и все уместилось у меня в животе. В этой суете пролетел еще год. Все реже я видел Таньку, потому что гулял с Верой, а потом забыл ее где-то. Мне снились Сорок Сорок, тайно летающие по ночам над городами. За Варварой стал ухаживать надутый старпер, вроде ботана из «Что? Где? Когда?», линзы у него на носу были такие толстые, что хоть в иллюминатор вставляй, но я ему радовался: квартира чаще была в моем распоряжении, правда, все скучнее было жить. В восьмом классе наша руководительница представляла родителям психологическое резюме. Она вела журнал с характеристиками подопечных – оригинал журнала я украл, но эта зануда делала копии, – там было сказано про меня общими фразами, а в конце: «Тайный лидер (?). Себе на уме. [Зачеркнуто], [зачеркнуто], хамелеон, пу-[зачеркнуто]…», и я готов был дать руку на отсечение: она выводила слово «пустышка» и опомнилась. Такая похвала меня неприятно поразила. Дома я остался один, потому что Варвара с тем знатоком улетела к родным в Ростов. Был зимний месяц безделья, я хотел развлечься, и меня не отпускали эти характеристики: «хамелеон, пустышка». На следующий день я увидел во дворе пару. Они приехали на шикозной «вольво», достали здоровенный глиняный горшок с пальмой и, смеясь, обнимая его, понесли в дом. Они чем-то напоминали Федора и Таньку, но гораздо старше. Они лет пять как поженились. Девушка мне понравилась. У нее длинный прямой птичий нос, черные глаза, плоский живот, тонкая кость: тонкие щиколотки (она была в туфельках, как с бала), тонкие запястья, тонкий юмор, тонкая сигарета – она мне подходила, я решил обладать. Я столкнулся с ними в дверях их дома и украл их любовь. Аксинья была кайфовая, она запомнила меня. Мы увиделись на следующий день, когда она одна шла на работу, и я истратил на нее чужое остроумие, чужой опыт, чужие повадки. На второй встрече я рассказал Аксинье про Сорок Сорок, немного прифантазировал, и она смеялась в голос, удивляясь самой себе, она вообще была тихоня. На третьей встрече я напялил на себя неотразимость (обворованный театрал через полгода сопьется), а от Аксиньи узнал о проблеме ранних браков, но ничего не понял. Оставалось три недели до возвращения Варвары, поэтому я ускорился и украл у девушки здравый смысл. Жизнь тут же закрутила пленку на своих бобинах вдвое быстрее. Через четверть часа после наших страстных лобызаний на лестничном пролете она поднялась к себе в дом и сказала мужу «с меня хватит», они поговорили, они покричали, они что-то уронили, он ушел проветриться, она переехала в мою квартиру со всеми своими вещами и – арфой. Аксинья играла на арфе. Чужая жена сидела на скрипучей табуретке Варвары посреди нашей нафталиновой гостиной. Между ног Аксиньи с нежной величественностью устроилась арфа. Арфа была ясная и теплая, словно клен в бабье лето. От самой толстой струны ее подпрыгивал сервант и дребезжали окна. Волосы Аксиньи струились по плечам, вторя тому изгибу арфы, что с декой и колками. Крутой прогиб ее стоп вторил тому резному рисунку на раме, что припадал к ее груди, когда от ее груди отрывался я. Мы находили во всем сложную тайную композицию. Любая вещь и часть тела – ее или моя – всегда поэтически друг с другом соотносились, а иначе в квартире Варвары можно было подохнуть от бытовой убогости. Но у нас была «романтика». Я стащил ее у студентов «Ленфильма», студия тут неподалеку. Я перестал ходить в школу. Лежал днем на диване, сложив руки на животе, тщась согреть холодными ладонями краденое богатство, а вечером чужая жена возвращалась с работы. Мы принимали душ, лепились ненадолго в зверя о двух спинах, затем я наблюдал, как она длинными тонкими пальцами с узловатыми суставами перебирала струны. Она говорила, что силы натяжения в этой малышке столько, что, порвавшись, струна способна пробить пол или потолок – как повезет. Что я должен беречь арфу от сквозняка, закрой форточку, она костенеет от холода, да-да, лежал я, не шелохнувшись и подложив ладонь под щеку, а Аксинья играла, шепотом пропевая: ми-соль-си-фа, ля-ре-фа-ми, а потом ми-соль-ля-ре – из «Ромео и Джульетты», – и мерещилось мне, как Меркуцио перерубает пополам струна Тибальда, а она шептала так тихо-тихо эти ноты, будто по чуть-чуть выпуская из себя дикое дыхание, будто освобождаясь от меня. Вот Танька такой красотой не владела. Танька умела продавать газеты в ларьке на перекрестке Большого проспекта и Ленина; ну еще убираться по дому. Я знал, что она даже обниматься не умела, потому что ее не обнимали. И я почему-то не мог уснуть. Я думал о том, на что похожи ноги Таньки, если стянуть с них старые джинсы: годы шли, а джинсовые подвороты внизу не разматывались. Ее ноги ни с чем не соотносились. И руки были как руки. С мозолями, рабочие такие. Образ Таньки не удавалось втиснуть в мечту, я бесился и будил по ночам Аксинью, но один целый прекрасный зверь возникал лишь на считаные мгновения. Через неделю краденая любовь кончилась. Из меня она вырвалась внезапно, вместе с протухшим говяжьим филеем, купленным в сомнительном продуктовом, у которого я чуть позже, в отместку, украду лицензию и пожаробезопасность. Чужая жена опомнилась, решила, что ей пора возвращаться, что надо прекратить это, она сделала ужасные вещи, а я совсем маленький, выпейсолевой раствор, мой мальчик, вытрись, это безумие, это невозможно. Я пожал плечами, надел штаны, помог Аксинье отнести вещи. Но я еще хранил другие штуки, которые украл у тех искушенных, что сильно старше, которым от моей кражи стало сильно легче: отвязные притягательные штуки – они умножались от моей юности. Эту последнюю дозу, отвал башки, я держал при себе, поэтому через три дня, опять разругавшись с мужем, Аксинья вернулась, звенящая и натянутая, как басовая струна, неискушенного меня она могла бы и перерубить, но я был усилен чужим пороком, и этой струне я устроил агонизирующее тремоло, но, увы, через неделю иссякли даже эти желания, которым и названия нет, и она ушла опять. Тревога от безнаказанности взяла меня за горло. Ноги сами понесли к Иоанновскому монастырю. Что я тут забыл? Не придумав ничего лучше, уставился на белую голубку, летящую на одной иконе: то ли она бежала из Ноева ковчега искать землю посредь океана, то ли неслась обратно. От ладана я расчихался. Потом какая-то бабка, показывавшая прихожанам, как правильно ставить свечку за упокой, взглянула на меня с яростью, высекла в воздухе знак от сглаза. Скрутило мой живот – и я убрался. Внутри было совсем пусто. Я позвонил Таньке. Она была как бы в помешательстве, не могла и двух слов связать. Возможно, у Таньки мозги съезжали набекрень, она предупреждала, что это при ее склерозе рано или поздно случится. Я позвал Таньку гулять. Я пообещал прийти в гости с коробкой конфет. Я хотел вспомнить анекдот, хотел ее рассмешить, я пытался смеяться, только она молчала, алло! Алло? Танька положила трубку. Февраль я прожил как на иголках, совсем не крал. В марте поставил чайник. В апреле вымыл кружку. В мае мне опять захотелось женщины, но так, чтоб ничего и никого не ломать. Я возвращался домой после школы, я собрался купить журнал для взрослых и остановился у ларька – ларька, где работала бабушка Таньки. Перейти с Аксиньи на такой журнал было все равно что отменить эволюцию и залезть на дерево, но я был пуст, мне не было стыдно. Силу духа, достоинство, порядочность я уже когда-то у кого-то украл и истратил. Пока бабушка Тани прикидывала, можно ли продать журнал мне (конечно, нет), я украл у нее вчерашний день (бабушка это спишет на Альцгеймера). Из ее вчерашнего дня я узнал, что Танька больше не выбирается из постели и для бабушки теперь огромное счастье побыть на воздухе, не видя ее мучений. Танька должна умереть до Нового года, потому что не владеет телом, нарушается пищеварение, ей тяжело дышится, надо только перетерпеть, – советовала на завтрак ее приемная бабушка ее приемным родителям, – все-таки бэушный ребенок с таким пороком, с таким пробегом – это маета, скорее бы уже… а там жизнь начнется с чистого листа… Я смотрел, как ее бабушка, поджав губы, шарит по глянцевым обложкам с красотками, делая вид, что ищет мой журнал. Пустота во мне раскалилась. Я отказался; она вздохнула с облегчением. Значит, Танька будет мучиться до Нового года… Я любил Новый год больше своего дня рождения, а дни рождения не любил, потому что всегда был один, Варвара не в счет, а красть у самого себя… в общем, двойная печаль.
Ночью я обошел дом Таньки и полез по водосточной трубе. Труба отчекрыжилась, я спрятался, сторож выбежал. Он назвал меня ишаком, хотя и не знал обо мне. Я полез по дереву – а это просто: надо лишь красть у гравитации силу. Извини, земля, – хэллоу, веточки. Силу гравитации лучше всего выпукивать, оставишь в себе – лопнешь, а так реактивное движение. Я пролетел от дерева до заветного окна не хуже, чем Питер Пэн. Чуть не промахнулся, но все-таки ухватился за створки, втащил себя вверх, они рассохлись и вздумали заскрипеть (на пластиковые стеклопакеты денег тут не водилось), но я украл звук и спрятал его в живот, у меня тугой живот. Живот надежно удерживает звук, когда дело не касается гравитации. В форточку пролез, ведь я был худ. Я украл гуттаперчевость у акробата Цирка на Фонтанке, а он обрюзг и остался без работы; до этого я украл билет у толстого ротозея, чтобы сходить в Цирк на Фонтанке, а он скуксился и остался без радости. Волосы Таньки прилипли ко лбу, как намазанные клеем. Под одеялом стыковались какие-то несуразные детали. Не могли срастись в одно целое тело, взлетающее каждое утро из кровати в день, сквозь дни – в года, унося нуждающихся в своем клюве или неся в клюве еду своим птенцам. Танька никак не могла лететь. На тумбочке была упаковка снотворного и пенал с Микки-Маусом. Из пенала почему-то торчали таблетки, много таблеток. От Таньки скверно пахло. Я сел рядом. Долго-предолго на нее пялился безо всякой мысли. Потом я вдруг испугался, что родители войдут и увидят меня, а я – хоть и гибкий плут, но под ее кровать не влезу, а зрение их я красть не хотел – хватит уже. – Однажды я украл у тебя жвачку, – сказал я, быстренько засучивая рукава. Почему-то я подумал, что в такой ситуации надо извиниться, ведь я обещал Павлухе, что присмотрю за Танькой, а оно вон как обернулось. Но до сих пор не знаю, за что тут извиняться: мне было хорошо, я не попался, Танька не узнала, бабка бы ее за другое наругала, а жвачке безразлично. – Когда нам было по тринадцать, я украл твой поцелуй, и ты не сблизилась с Федором. Он уехал в столицу, а ты осталась дурой. Нет, все равно извиняться не буду. Твои губы пахли чечевицей, обожаю чечевицу. – Нам скоро будет по шестнадцать, и ты умираешь, все по плану: чики-пуки там, pica pica здесь. Я оглянулся в окно, куда мне уже следовало убираться: там, как и всегда, манила луна, я же когда-то хотел соревноваться с чертом – украсть ее или нет? Но это глупости. Туда не достану. – Это ты. Да-да, я, только усни, так сподручнее. – Как здорово, что ты пришел. Ну очень здорово, ты чего очнулась. Но я промолчал, потому что в комнате потемнело, ну и комок в горле: сами понимаете, я тут все видел, короче, я видел, к чему идет. – Помнишь, – сказала она, – ты украл чужую жену? – Как тут забудешь. Кража выдающаяся, ибо человека спер. – Ее звали Аксинья. Она красивая, играет на арфе, трынь-трынь, а ты, ты – самый гадкий человек на свете… или существо. Но знаешь что?.. Я бы тоже украла Аксинью. И, поверь, украла бы ее лучше тебя, я же всегда была лучше… Танька беззвучно засмеялась. Это правда. Я вспомнил, как был счастлив, как ее ноги в красных колготках маячили у меня перед носом, когда волоклись по вспученному линолеуму детдома, как она с гиканьем опережала меня на дистанции от чулана до столовки. – Так ты понял, почему она все-таки ушла, и опять стало хорошо? – Потому что я не удержал чужую любовь в своем животе? – Да потому, что не спрятать навсегда краденого человека, дебил. Какой же ты дебил и выдумщик. – А-а. Резонно. Живот поурчал, подтверждая, что людей он в себе еще не прятал и не способен на такое, нет, это к женщинам. Танька зажмурилась, сделала губы куриной гузкой, плакать вздумала, что ли?.. – Знаешь, Федор ведь маялся под этим окном. – Он такой, такой, – быстро закивала она. Я достал постаревшую бумажку, положил ей на снотворное, лишь бы не ныла. Там были адрес и телефон Федора. – Если он переехал в другой дом, то в Москве, Танька, ищи его, где такая воронка в небо поднимается. Воронка умных мыслей. А их закручивает желание скорей-скорей жить. В эту воронку засасывает птиц, да так, что они рожают раньше срока. Оно сразу видно – Федор идет. Сведения я украл у ветра, чистая правда, слышишь?.. Я произнес это, с трудом влезая на подоконник, потому что смерть Таньки весила как брейтовская свинья. Невообразимая тяжесть в пузе. Я нелепо перевесился наружу, взмолился о том, чтоб Танька встала, наконец, хоть подтолкнула меня. Но еще рано, все-таки рано; к тому же она опять забылась и уснула. Силы мои иссякли – я просто спрыгнул и разбил пятки вдребезги. Земля явила себя в подлинном, адски твердом великолепии. Как теперь ходить по осколкам костей? Я пополз домой почти по-пластунски, с разочарованием узнавая, как же слабы мои руки, собирая бесценным животом пыль, окурки, помет. На третьем пешеходном переходе тихо шуршащие колеса проверили мою пустоту на прочность. Вот тебе и выводок Сорок Сорок, какая ты птица? – ты теперь змей. У одного ночного прохожего я вздумал украсть прямохождение, но смог лишь рыгнуть, и отрыжка была пахучая, как гнилое яблоко. Не мог я красть – нагрузился до упора. Я оставил дверь квартиры приоткрытой – так было гигиенично. Взвился по гладильной доске, по ручке шкафа, подцепил зубами крюк вешалки и сбросил на пол новый костюм для выпускного, проскользнул в него, а затем лег смирно. Кажется, впервые в жизни успокоился. Свет ночного фонаря, льющийся в гостиную, перебивала полетом какая-то птица, отчего мое лицо то уходило в тень, то вспыхивало. Прошла пара дней, за которые я ничего не ел, а даже и наоборот – в пятки мои впилась какая-то невидимая тварь и засосала, затем я утратил подвижность и дыхание, далее ввалились нахальные люди, подняли и положили меня на один стол, перенесли на другой, потом на третий, самый холодный, потом я качался-качался, потом со мной прощались – все это была дикая скука, в голове моей роились запоздалые мысли и абсурдное желание скорей-скорей жить, возможно, даже птицы рожали над моргом, а взбодрился я, только когда голос внутри шепнул. Голос был сладкий, как та жвачка, но и тяжелый, как та свинья. – Теперь укради жизнь вон у того мальчика. Укради – и ты вернешься, гарантирую. Ты все можешь, вечный сирота. – Это не мальчик, – отозвался я, хоть и не видел, кто там наведался на похороны, – это сто пудов Павлуха из приюта, он просто даун, у него щетина не растет. Зато Павлуха здорово на голове стоит. Я прям почувствовал, как смерть махнула на меня рукой. – Ты можешь все, – повторила смерть, рисуясь и подлизываясь, а впрочем, уже не надеясь, что я станцую твист на крышке гроба. – Все злодеи, все жуткие убийцы, – подумал я проникновенно и слегка не в такт предыдущей жизни, – выглядят именно злодеями и убийцами, пока не закроют глаза. – Так-так, ну и? – Смерть, с закрытыми глазами-то не крадут. О, это была шпилька. Крышку опустили, смерть ушла не попрощавшись, я сам оказался в чужом животе. Честно говоря, долго-предолго я крутил в уме сладкую фантазию о том, как Танька ворует чужую мою чужую мою чужую жену. Что они там вытворяли, ой-ей, арфистка и инвалид: руки музыкальные, руки работяжные, вот эти вот прогибы… Темнота наполнилась светлой грустью. Почему я никогда не спал с женщинами по-македонски? Всегда остается такая галочка-птичка: не сделал, не успел, не дожал, пустота во мне смеялась, хотя, безусловно, то был признак помешательства… Я мог существовать так вечно. Но она пришла. И зарыдала. Танька была далеко наверху, на свету. В звуке было что-то необычное: наверно, так рыдает человек, у которого за пару дней в отсохшие ноги с упрямой болью ростка, пробивающего асфальт, вошла жизнь. Одна-одинешенька ревела на кладбище эта крепкая девица. И я скорбел: не видать мне, какие у нее отрастут ляхи и зад – он сердечком нальется? А в профиль зад будет как доска или закруглится гудящим диким ульем?.. Она же годами его отсиживала, а теперь просто обязана как следует размять!.. Нет, такое одиночество невыносимо. Там, где у меня когда-то было сердце, засверкала, отозвавшись на Танькин плач, пустота. Свет ее глаз вонзился в землю, добурился до меня – и темноты не стало. Раз пришла – значит, догадалась. Я вспомнил о третьем правиле Сорок Сорок. Потрескивая белым шумом, как радиоприемник Еси, я начал исчезать. Молодчина Танька, ты завершила все. Я попался.
Последние комментарии
8 часов 24 минут назад
10 часов 50 минут назад
11 часов 24 минут назад
11 часов 37 минут назад
11 часов 44 минут назад
12 часов 2 минут назад