Василий Павлович Козаченко «Молния» (сборник)

Василий Павлович Козаченко Биография
 Василий Павлович Козаченко родился в 1913 году в селе Новоархангельское нынешней Кировоградской области в крестьянской семье. После школы учился в Уманском институте социального воспитания, учительствовал, был на комсомольской работе. В 1938 году он закончил филологический факультет Киевского университета и до начала Великой Отечественной войны работал в редакции журнала «Радянська литература».
Для творчества В. Козаченко характерен глубокий психологизм, стремление раскрыть духовный мир советского человека в наиболее драматических поворотах его судьбы. Уже в первой повести — «Пегас» (1938 г.) автора привлекают напряженные конфликтные ситуации, борьба с пережитками старой психологии, становление нового отношения к труду, к культурным ценностям, к личности и коллективу.
Творчеству В. Козаченко всегда было присуще пристальное внимание к актуальным проблемам современности. В 1940 году он закончил повесть об освободительном походе Красной Армии в западные области Украины и Белоруссии — «Первый взвод». Книга эта проникнута ощущением грозы, кануна исторических битв.
Писательская судьба Василия Козаченко знаменательна для его поколения. Участник обороны Киева, а с 1942 года участник подпольной борьбы и партизанского освободительного движения на Кировоградщине, он снова увидел человеческие отношения в самой напряженной ситуации, когда обнажаются сокровенные стороны человеческих характеров. И хотя в предвоенное время в 1939 году вышел первый сборник его рассказов «Золотая грамота» и повести «Данило Скоробогатько» и «Первый взвод», сам Козаченко считает, что как писатель он родился в тяжелом ноябре 1941 года. Жизненные впечатления, опыт партизанской борьбы определили пафос партизанских повестей и рассказов. Начав работать над ними еще в годы войны, в 1945–1947 годах Козаченко опубликовал повести: «Цена жизни» (позже переработана), «Три лета», «Аттестат зрелости», «Сердце матери». Его герои — мирные советские люди, часто не подготовленные к вооруженной борьбе. Но характеры их закаляются в условиях военного времени. Для этих произведений, написанных по горячим следам, в значительной мере характерно романтическое восприятие событий — личная самоотверженность, смелость, находчивость являются главным обстоятельством, решающим успех борьбы. Фашистской военной машине противостоит моральная сила советских людей.
В 1948–1956 годах, издав ряд повестей о послевоенном восстановлении народного хозяйства («Новые Потоки» — 1948 г., «Заре навстречу» — 1951 г.), о моральных проблемах советской интеллигенции («Сальвия» — 1956 г.), писатель в 60-е годы вновь обращается к теме партизанской войны, рассматривая события уже с исторической точки зрения.
«Горячие руки» — 1960 г., «Молния» — 1962 г., «Письма из патрона» — 1967 г., «Яринка Калиновская» — 1969 г., «Белое пятно» — 1970 г. — цикл повестей, посвященный героическому подвигу народа на фронтах, в подполье, в фашистских концлагерях. Три партизанские «Молнии» передают друг другу эстафету борьбы. Погибают комсомольцы — организаторы первой «Молнии», но в районе начинает действовать другая организация под этим названием («Яринка Калиновская», «Горячие руки»), а советский парашютный десант устанавливает связь уже с третьим составом «Молнии» — хорошо организованной и руководимой из центра («Белое пятно»). Новая мораль человека, воспитанного социалистическим строем, советский патриотизм, ставший привычной нормой жизни, — в этом видит писатель духовные истоки мужества его героев.
Большое внимание В. Козаченко уделял и уделяет переводам произведений братских народов на родной язык, был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР за переводы белорусских авторов.
Заслуги писателя высоко оценены народом. В. Козаченко награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и другими. За повести о «Молнии» удостоен Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко и республиканской комсомольской премии имени Н. Островского.
Василий Павлович Козаченко родился в 1913 году в селе Новоархангельское нынешней Кировоградской области в крестьянской семье. После школы учился в Уманском институте социального воспитания, учительствовал, был на комсомольской работе. В 1938 году он закончил филологический факультет Киевского университета и до начала Великой Отечественной войны работал в редакции журнала «Радянська литература».
Для творчества В. Козаченко характерен глубокий психологизм, стремление раскрыть духовный мир советского человека в наиболее драматических поворотах его судьбы. Уже в первой повести — «Пегас» (1938 г.) автора привлекают напряженные конфликтные ситуации, борьба с пережитками старой психологии, становление нового отношения к труду, к культурным ценностям, к личности и коллективу.
Творчеству В. Козаченко всегда было присуще пристальное внимание к актуальным проблемам современности. В 1940 году он закончил повесть об освободительном походе Красной Армии в западные области Украины и Белоруссии — «Первый взвод». Книга эта проникнута ощущением грозы, кануна исторических битв.
Писательская судьба Василия Козаченко знаменательна для его поколения. Участник обороны Киева, а с 1942 года участник подпольной борьбы и партизанского освободительного движения на Кировоградщине, он снова увидел человеческие отношения в самой напряженной ситуации, когда обнажаются сокровенные стороны человеческих характеров. И хотя в предвоенное время в 1939 году вышел первый сборник его рассказов «Золотая грамота» и повести «Данило Скоробогатько» и «Первый взвод», сам Козаченко считает, что как писатель он родился в тяжелом ноябре 1941 года. Жизненные впечатления, опыт партизанской борьбы определили пафос партизанских повестей и рассказов. Начав работать над ними еще в годы войны, в 1945–1947 годах Козаченко опубликовал повести: «Цена жизни» (позже переработана), «Три лета», «Аттестат зрелости», «Сердце матери». Его герои — мирные советские люди, часто не подготовленные к вооруженной борьбе. Но характеры их закаляются в условиях военного времени. Для этих произведений, написанных по горячим следам, в значительной мере характерно романтическое восприятие событий — личная самоотверженность, смелость, находчивость являются главным обстоятельством, решающим успех борьбы. Фашистской военной машине противостоит моральная сила советских людей.
В 1948–1956 годах, издав ряд повестей о послевоенном восстановлении народного хозяйства («Новые Потоки» — 1948 г., «Заре навстречу» — 1951 г.), о моральных проблемах советской интеллигенции («Сальвия» — 1956 г.), писатель в 60-е годы вновь обращается к теме партизанской войны, рассматривая события уже с исторической точки зрения.
«Горячие руки» — 1960 г., «Молния» — 1962 г., «Письма из патрона» — 1967 г., «Яринка Калиновская» — 1969 г., «Белое пятно» — 1970 г. — цикл повестей, посвященный героическому подвигу народа на фронтах, в подполье, в фашистских концлагерях. Три партизанские «Молнии» передают друг другу эстафету борьбы. Погибают комсомольцы — организаторы первой «Молнии», но в районе начинает действовать другая организация под этим названием («Яринка Калиновская», «Горячие руки»), а советский парашютный десант устанавливает связь уже с третьим составом «Молнии» — хорошо организованной и руководимой из центра («Белое пятно»). Новая мораль человека, воспитанного социалистическим строем, советский патриотизм, ставший привычной нормой жизни, — в этом видит писатель духовные истоки мужества его героев.
Большое внимание В. Козаченко уделял и уделяет переводам произведений братских народов на родной язык, был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР за переводы белорусских авторов.
Заслуги писателя высоко оценены народом. В. Козаченко награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и другими. За повести о «Молнии» удостоен Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко и республиканской комсомольской премии имени Н. Островского.
«Молния» Перевод Э. Хайтиной
Ой ви, слова, страшна, двусічна зброє…Леся Українка

1
Едва Савка из-за разбомбленной, покосившейся набок водокачки выбрался в степь, сразу стемнело. Будто провалились, исчезли позади серые хаты местечка, станция, высокая, расколотая пополам стена элеватора и даже острие трубы сахарного завода. Черная земля слилась с затянутым тучами небом. Ни одна звезда не пробивалась сквозь непроглядный мрак. Но на груди у Савки, укрытый ватником, пиджаком и двумя сорочками, никому постороннему не видимый, горел, освещая путь, теплый неугасимый огонек. Конечно, можно было не возвращаться такой глубокой ночью в Петриковку. Можно было переночевать на заводе или у Насти-самогонщицы, у которой Савка выпил натощак два граненых стакана рыжей, как ржавчина, самогонки, закусив недопеченным ржаным коржом да синей головкой, такой злой, что даже слезы выступили на глазах, цибули. Но с того мгновения, как Савка нащупал в кармане своего ватника и потом перепрятал за пазуху то, что сейчас горело у него на груди, он уже ни минуты не мог усидеть на месте. Ему распирало грудь, жгло, перехватывало дыхание, тянуло куда-то вперед, что-то властно приказывало: «Иди, беги, неси, похвались, расскажи!» Рассказать об этом ни одному человеку в райцентре Савка не смог. Был еще трезвый и… остерегался все-таки, побаивался. Несло его без дороги, полем, напрямик — подмерзлым, ломким и звонким, как тонкое стекло, жнивьем. Он угадывал направление чутьем, выработанным с детства. А ноги сами знали, где ступали и куда шли. Тут жнивье, твердые, как железо, кукурузные листья, закоченевшая на морозе ботва, пеньки одеревеневших бураков, там клочок взошедшей озими и, наконец, дорога, вся перепаханная колеями, в глубоких замерзших лужах. Спотыкаясь о затвердевшие комья земли, Савка перебрался через дорогу и остановился на ровном месте. Он ничего не видел, не различал впереди, но знал, что стоит на выгоне, возле новых, с ободранными крышами колхозных коровников. Над притихшим в темноте, будто вымершим, селом стыла непривычная, небывалая тишина. И если бы он не знал наверняка, то ни за что бы не поверил, что стоит на краю села, в каких-нибудь двадцати шагах от крайней хаты. От этой глухой, даже без собачьего лая, тишины пьяному Савке на миг стало как-то не по себе. За все свои сорок три года он не помнил таким родное село. Ни одной живой весточки не долетало сюда из окружающего мира — ни письма, ни газеты, ни слова по радио. Будто находилось это село на необитаемом острове посреди океана, да еще огородили его кругом глухой стеной. И ни одного слова правды о том, что происходит во всем перекореженном свете! Только свист ветра в оборванных проводах, свисающих с покосившихся, вывороченных из земли телеграфных столбов. Конец ноября сорок первого года. Очень короткий день, очень долгая и глухая ночь. И время самое глухое, самая глухая ночь гитлеровской оккупации на Правобережье. Ночь, в которую не по себе бывало и не таким людям, как Савка Горобец. Ни десять километров, которые одолел он часа за два нетвердыми своими ногами, ни крепчавший с каждой минутой мороз так и не протрезвили Савку. Хмель накатывал на него волнами. В голове то совсем затуманивалось, то вдруг прояснялось. Каждая новая волна смывала, уносила куда-то отрывочные, не связанные друг с другом клочки мыслей и приносила вместо них другие, такие же беспорядочные и быстротечные. И только одна мысль твердо держалась в голове, всякий раз упрямо выныривая из мутных волн. То, что лежало на сердце, не давало ее смыть, грело грудь, будоражило все его существо. Утирая рукавом взмокший лоб, размазывая соленый пот по всему лицу, Савка стоял, глубоко вдыхая холодный воздух, впиваясь глазами в темноту и на все лады поворачивая в голове одну неотвязную и окрыляющую мысль: «Они там все… не знают ничего… ничего… А я знаю…» Кто это «все» — Савка представлял себе довольно-таки туманно. Еще, наверно, не было и семи часов вечера, но во всем большом селе тускло просвечивал, — должно быть, из неплотно занавешенного окна — один-единственный огонек. Да и тот был чуть виден. И все же цепкий Савкин взгляд нащупал, вырвал его из темноты и уже не отрывался от него. Глубоко надвинув на лоб солдатскую, с переломанным лаковым козырьком фуражку, Савка набрал полную грудь морозного воздуха и, не задумываясь над тем, что это за окно и чья это хата (ему сейчас море было по колено!), качнулся на шатких ногах, зачем-то широко распластал руки и кинулся вниз, к плотине, прямо на тот далекий, подслеповатый и неверный огонек.2
Внизу, на плотине, огонек исчез. Савка перепрыгнул через канаву, выбрался картофельным полем на улицу, постоял у чьего-то плетня, подождал и снова пошел наугад, в ту сторону, где, как ему казалось, должен быть свет. Пьяное чутье не подвело и на этот раз. Длинная извилистая улочка вывела его на небольшую площадь. Посреди этой площади Савка мысленно видел колодец с потемневшим срубом и высоким журавлем. Слева должно быть приземистое зданьице бакалейки, а справа — сельсовет, по-теперешнему сельская управа, а прямо, подмигивая Савке пробивающимся сквозь реденькую занавеску желтым светом, висело в темноте окно. Когда Савка, по деревенскому обычаю не стуча, подергал и отворил незапертые двери сначала в сенцы, а потом и в хату, свет ему после темной ночи показался таким ярким, что его даже ослепило, хотя горели там две обычные керосиновые лампы. Время от времени они потрескивали, потому что за неимением керосина заправлены были присыпанным солью немецким бензином. Подвешенные к черным, вбитым в потолок крючьям, обе лампы, как в мутной воде, плавали в синеватых клубах табачного дыма. Било в нос крепким самосадом, тошнотным, как от плохого мыла, запахом немецких сигарет, самогонным перегаром, солеными огурцами и квашеной капустой. В просторной хате было полно людей. Все сидели на длинных дубовых лавках за двумя сдвинутыми вместе столами. По беспорядку на столе, по пустым на две трети большим бутылям с синевато-лиловым, как марганец, либо желтым, как разведенная глина, самогоном, по густому приглушенному гомону видно было, что сидят здесь уже давно и выпили не по первой и не по второй. В красном углу, опустив кудлатую голову на плечо грудастой простоволосой молодки в зеленом платье, с оголенными полными руками, сидел петриковский полицай Дементий Кваша. Рот у Кваши был перекошен. Осоловелыми, бессмысленными глазами он уставился куда-то перед собой и время от времени цедил сквозь мокрые губы: — Уб-бью… Варька, ты тут? Уб-бью! Краснощекая, с темными и блестящими узенькими глазками Варька, пьяненькая, размякшая от самогона, пухлым плечом подпирала Дементьеву голову, а сама разомлело шептала что-то прямо в ухо статному, с черными тонкими усами старосте сельской управы Ничипору Полтораку. Почти трезвый, только слегка побледневший, Полторак не слушал горячего Варькиного шепота и хихиканья. Встряхивая то и дело головой, будто отгоняя надоедливую муху, он тянулся мутным граненым стаканом к соседу по лавке и как заведенный повторял: — …Шнапс… Чуете, пане Шнапс?.. Да здравствует немецкая красная армия! Но пан Шнапс, он же солдат немецкой дорожной службы «Тодт», шофер Вилли Шульц, в свою очередь не слушал и как будто совсем не замечал Полторака. — Варрька! Уб-бью! — нудно тянул, причмокивая мокрыми губами, на Варькином плече Дементий. — Хи-хи-хи! — пьяненько бормотала Ничипору в ухо молодка. — Хай живе немецкая красная армия! — расплескивая самогон на колени Шульцу, повторял Полторак, считая, по-видимому, что все армии на свете, в том числе и гитлеровская, непременно должны называться «красными» и что тем самым он выказывает свое глубочайшее уважение к солдату этой армии Шульцу. Но Вилли то ли игнорировал его, а может, вправду не слушал. Расстегнув потертый, засаленный мышасто-серый мундирчик, так что выглянула на свет грязная нижняя сорочка, надув впалые, землистые щеки, он самозабвенно выдувал из губной гармоники нескладный мотивчик солдатской песенки. Большие бесцветные глаза Вилли неподвижно смотрели куда-то в стену. А лихой, чуть не в пляс, мотивчик «Лили Марлен» звучал у него совсем не весело, слышались в нем печаль и горький надрыв. В углу, опрокинувшись навзничь на низенькие нары, в кителе, в сапогах, с пистолетом на боку, храпел, разинув рот, один из двух жандармов районного жандармского поста — Гуго Хампель, или просто Веселый Гуго. Было тут еще трое полицаев из районной вспомогательной полиции, несколько соседок, уже в летах, а то и совсем старых, с испуганными лицами и тревожными глазами. Четверо стариков сидели в конце стола, ближе к дверям. И между ними, под самым поставцом, седой дед с розовой лысинкой на темени и большим, в синих прожилках носом — Варькин отец Онисим Калита. Все были либо совсем пьяны, либо сильно навеселе. Разговаривали, не слушая друг друга, зычно, но вместе с тем вяло, будто опасались чего-то. Не было в этих разговорах той живости, задора, той буйной веселости, какая положена за праздничным столом. Среди общего гама выделялся лишь по-мальчишески ломкий, резкий голос молоденького полицая с белым, точно выгоревшим на солнце, чубом и белесыми, холодными и злыми глазами. Белобрысый что-то горячо доказывал коренастому, в рыжем свитере, с белой повязкой на рукаве. Коренастый не соглашался, а белобрысый распалялся все больше, тыкал рукой на печь и то и дело грохал кулаком об стол так, что дребезжала посуда. И каждый раз, как он грохал, старухи пугливо втягивали головы в плечи, а глаза их тревожно метались между порогом и печкой: там в углу, вместе с кочергами и ухватами, небрежно были свалены винтовки, немецкий автомат без магазина и три немецкие гранаты с длинными ручками. Неожиданное Савкино появление никого не удивило. Один только старый Онисим Калита как будто обрадовался, увидев Горобца. Живенько подался ему навстречу и залопотал скороговоркой: — А, Савка! Заходи, заходи, голубчик! Гостем будешь. Вот сюда, сюда прошу, к столу! Грех, говорю, не выпить ради такого дела, грех! Ведь дочку, Варьку ведь замуж выдаю. Совсем уж сиротою, да, сиротою останусь… В другой раз довелось выдавать… по немецкому закону! Можно сказать, от живого мужа, от живого… Лицо старика искривилось, и он, все еще как будто усмехаясь, вдруг заплакал, не вытирая частых пьяных слез. — Заплачь, Матвейко, дам копейку! — сердито вытаращился на него молоденький белобрысый полицай и грязно выругался. — Да где он там… Христа-господа и святой пятницы… живой! Ежели на фронте еще не кокнули, так за фронтом, в плену, кончится… И передразнил старого: — «От жи-во-о-го-о»… Нежданно-негаданно с пьяных глаз Савка попал на свадьбу. И не на простую свадьбу, а на полицейскую. Полицай Дементий Кваша брал за себя сельскую шлюху, теперешнюю кухарку кустового петриковского крайсландвирта Мутца Варьку Калиту. Невеселая, словно вымученная была эта свадьба. Все гости пьяны, кто поменьше, а кто и до беспамятства. Все что-то говорили, перебивая друг друга, даже кричали, но веселым не был никто, ни один человек. Будто справляли эту свадьбу по принуждению где-нибудь в вымершем селе или на кладбище.3
Остановившись на пороге, Савка от неожиданности на миг даже протрезвел. И не понять ему никак, куда его принесло. Не думал и не гадал, что застанет в хате полным-полно немцев и полицаев. Стоял, морщил свой и без того сморщенный узкий лобик с рыжими остриями бровей, шарил по хате остекленевшими от водки глазами, которые казались чересчур большими на его маленьком личике. Впалые Савкины щеки обросли короткой седовато-рыжей щетиной, а жиденькие желтые усы на морозе превратились в ледяные сосульки и совсем прикрыли синие, шершавые от ветра губы. «Ну что ж, раз уж попал, теперь никуда не денешься, говорила-балакала», — думал Савка, с натугой пересиливая хмельное помрачение и остро ощущая, как нестерпимо выворачивает все его голодные внутренности от запаха квашеной капусты, житного хлеба и свежего подсолнечного масла. Он понимал, что из этого положения ему надо как-то выкручиваться, найти слово-другое, чтобы оправдать свое появление и («чтоб тебя паралик, говорила-балакала…») снова нырнуть в спасительную темноту. Савка знал хорошо — не из больших он храбрецов. А тут еще… Надо же было так влипнуть! Нет, тут уж давай бог ноги… Но как? Хотя, в конце концов, никто тут на него и внимания не обращает. Ведь ни один немец или полицай ни о чем даже и не догадывается. На дворе холодина, в своей пустой хате не топлено, да еще, кажись, стекло вышиблено… А масло это проклятущее так пахнет, так пахнет, что даже в кишках царапает… Так ведь он, правду говоря, и не ел еще ничего сегодня, кроме цибули да куска черного, как макуха, коржа… Да еще эта Настя чертова подсыпала, должно быть, чего-то в самогонку. Мутит, разваливает всего. Так и ходит все перед глазами, как в тумане… А в хате тепло. Да и не укусят же эти немцы. Сами вон как храпят — даже стекла дребезжат! А тут еще этот Калита неотвязный. Как дитя плачет. Просто жалость берет. К столу просит. Зеленый стакан по самый венчик наполняет дрожащими руками. И как это так — возьмешь да и обидишь старого ни за что ни про что… И снова наплывает, бросается в голову и заливает, смывает все думки угарная, мутная волна. И… «А, чего там, говорила-балакала!.. До чего ж масло это треклятое пахнет! Да и потом — должен же человек поесть хоть когда-нибудь!..» Однако когда еще там закуска будет, а закоченевшая от холода Савкина рука уже стиснула зеленый стакан. — Ну, как говорят, говорила-балакала… За твое, Варька, за твое, Дементий! — Варрька! — настораживается осоловевший Дементий. — Уб-бью! Варька хихикает и стреляет глазами в Ничипора. — Будем! Да здравствует немецкая красная армия! — кричит Полторак. С бульканьем, с присвистом храпит, захлебывается Гуго Хампель. Раздув щеки, с пьяным старанием, никого и ничего не замечая вокруг себя, выдувает Вилли Шнапс тоскливую песенку «Лили Марлен». Вонючая «марганцовка» обжигает огнем даже закаленные Савкины внутренности, свисает капельками с мокрых усов, стекает по бороде на грудь. Страх куда-то пропадает, смывается новой мутной волной, и опять Савке море по колено. Опять его куда-то тянет, подмывает на что-то, распирает грудь. И несет, мчит, как в паводок на быстрине. Не остановишься, хоть бы и хотел. Накатит — и отхлынет, и на какое-то время Савка забывает, где он и что с ним. Однако то, главное, стоит нерушимо, не исчезает и не забывается. Наконец Полтораку надоело изливать свое восхищение гитлеровцами одному только Вилли. Он жаждает более широкой аудитории. Небрежно, как от надоедливой мухи, отмахивается он от Варьки и рывком становится на ноги. — Тихо! Эй, вы, все там! Заткнуть глотки! — легко, не напрягаясь, перекрывает он общий гам густым и почти трезвым баском. — Дементий, Оверко и ты, Дуська, — кивает он белобрысому молоденькому полицаю, — приказываю сейчас же налить всем, всем поголовно, по полной… Слышь ты, Дуська! Эй, Савка, оглох! Всем по полной, и выпить до дна за нашего освободителя, за Гитлера! Правильно я говорю, пане Шнапс? Да здравствует немецкая… Но закончить ему так и не удалось. Поднятый какой-то горячей волной, высокой, такой высокой, что с ее высоты Полторак виделся ему где-то внизу и совсем-совсем маленьким, Савка вскочил и отчаянно, напропалую, грохнул кулаком об стол: — Стой, говорила-балакала! Теперь я скажу… И сразу все стихло. Только храп жандарма и жалобные всхлипы равнодушной ко всему гармошки нарушали настороженную тишину. Савку совсем понесло. Сразу почувствовав себя смелым, здоровым, молодым и всесильным, — да-да, всесильным, неуязвимым, непобедимым! — еще раз грохает он кулаком об стол и высоко поднимает стакан, до краев наполненный искрящейся фиолетовой влагой. — Всем налить по полной! — властно командует он. — Предлагаю выпить до дна за здоровье… товарища Сталина! А ну! Пусть только кто попробует не выпить! Теперь уже и жандармского храпа не слышно (повернулся на бок, устроился поудобнее, а может, проснулся?). Но все, кто есть в хате, будто и вправду подчиняясь Савкиному приказу, молча подымаются со своих мест. Старики, кто с чаркой, а кто руки по швам, опускают глаза к полу, пряча блеснувшие страхом и любопытством взгляды. Опасливо перебегают от человека к человеку глаза женщин. Варька глуповато озирается вокруг и никак не может понять, что это вдруг случилось в хате. Даже Дементий вроде протрезвел маленько и, словно проснувшись, вытаращил недоумевающие глаза. Полторак, захлебываясь, втягивает в себя воздух, а его правая рука медленно, непослушно, словно парализованная, жмет, комкает краешек жесткой домотканой скатерти. И одна только «Лили Марлен» так ничего и не замечает (Вилли не понимает украинской речи) и все всхлипывает да всхлипывает меланхолично и сосредоточенно. По тому, как задыхался и судорожно терзал скатерть Полторак, как вытягивались и каменели лица полицаев, как вдруг хищно сузились и заблестели холодные глаза молоденького Дуськи, видно было — сейчас, в одно какое-то мгновение, эта гнетущая тишина лопнет, взорвется. Но она не взорвалась. Белобрысый Дуська взглянул прищуренным глазом на коренастого, в свитере, с белой повязкой на рукаве полицая и многозначительно повел бровью. Коренастый понял его. Не поворачиваясь, положил свою квадратную, с толстыми пальцами ладонь на руку Полторака. И эта рука перестала мять скатерть, успокоилась. Полторак наконец перевел дух и сразу как-то осунулся, завял. Держа в руке стакан с желтой самогонкой, Дуська перешагнул через лавку, за спинами людей подобрался к Савке. Протягивая правой рукой свой желтым стакан к синему Савкиному, левую руку положил ему на плечо и, всверливаясь суженными зрачками прямо в Савкины остекленевшие, навыкате глаза, спросил: — Что, думаешь, испугаюсь? Всем пить! — приказал он, оглянувшись. И снова повернулся к Савке: — Только до дна! До последней капельки, слышишь, Савка? А на Савку снова накатило. Он едва уже понимал, что говорит ему Дуська. Но чувство приподнятости, отчаянной смелости не покидало его, и он решил, что и вправду надо показать им, этим… Надо пить! Задрав острый подбородок, Савка пил — очень медленно, короткими глотками, порою останавливаясь, чтоб передохнуть, но не отрывая стакана от губ. В горле у Савки размеренно и методично булькало. Так же размеренно, словно в такт этому бульканью, всхлипывала «Лили Марлен». А все, кто был в хате, молча стояли у стола и испуганно, не моргая, глядели, как быстро, вверх и вниз, точно шатун в машине, бегал вдоль тощей, жилистой Савкиной шеи большой, острый кадык… Когда Савка наконец допил и непонятно зачем, будто соображая, что с ним дальше делать, поднес стакан к глазам, все почему-то подумали, что самый острый, самый страшный момент уже миновал, и, переступив с ноги на ногу, разом, как по команде, тяжело перевели дух и молча, но дружно выпили. — Ну вот, — криво усмехнулся Дуська, стискивая костлявое Савкино плечо, — я так и знал, что ты, Савка, из этих самых… Молодец, одно слово — герой! Я ведь давно хотел просить, чтобы ты меня свел с вашими хлопцами с железной дороги или с сахарного завода. Какое-то мгновение затуманенными глазами, словно узнавая, вглядывался Савка в Дуську. Не узнал, тряхнул головой: — С сса-ххарного заводу! Вот, говорила-балакала! И вдруг энергично, рывком стряхнул с плеча Дуськину руку. Слегка оттолкнув Дуську ладонью, скользнул рукой за пазуху и сразу же взвил ее над головой со сжатым в пальцах белым бумажным лоскутом. — Вот! Глядите! Капут!.. Чтоб все знали!.. — Савка негромко и хрипло победно рассмеялся. От молниеносного Савкиного жеста да еще после отчаянно смелого тоста полицаи испуганно шарахнулись в сторону и на какую-то секунду оторопели. Кто знает, что у него там могло быть, за пазухой! Да и глубокая ночь на дворе. А он у самых дверей и, может, только прикидывается пьяным. А они все и на самом деле пьяные, безоружные… Все оружие там, среди ухватов, брошено. Качнувшись от толчка, Дуська сразу выпрямился и, не подавая виду, что испугался, ловко перехватил Савкину руку, крепко стиснул запястье. Все еще смеясь, Савка выпустил из руки бумажку и медленно, будто утомленный тяжкой работой, опустился на лавку. Дуська подобрал вчетверо сложенный листок, поднес его к лампе и осторожно развернул. А Варька, решив, наверно, спьяна, что Савка с Дуськой борются в шутку, подтолкнула Дементия плечом, игриво ткнула кулаком Полторака под бок и визгливо расхохоталась. — Ого! — впившись прищуренными глазами в листок, выдохнул Дуська. И если бы не глубокое, граничащее с растерянностью и даже страхом удивление, можно было бы подумать, что это «ого» относится к Варькиному хохоту. Но, видно Дуське сейчас было не до смеха и не до Варьки. Он скользнул откровенно испуганным взглядом по окнам и даже заметно побледнел. — Ого! — повторил он тише. — А что там? Покажи! — только теперь встревожился Полторак. Но Дуська, сдерживая волнение, снова сложил бумажку вчетверо и спрятал в нагрудный карман. — Ничего… Тебе нельзя! — ответил он Полтораку с напускным равнодушием. Потом приказал коренастому, с белой повязкой: — Слышь, Оверко, ты бы сел там, поближе к оружию, а то разгулялись все, как на свадьбе. Точно вам и войны нет… А вы, — попробовал он успокоить совсем уже перепуганных баб, — вы себе не обращайте внимания. Гуляйте. Тут, видите, дело служебное… Эти слова никого не успокоили, только еще больше напугали женщин. Один только Савка снова нырнул в мутные волны. Уже совсем забыв, что натворил, он с блаженным видом набивал себе рот, прямо пятерней хватая из миски щедро политую подсолнечным маслом капусту. Дуська подошел к нарам и что есть силы затормошил спящего жандарма. Толкал его под бока, тряс за плечи и за грудки. — Слышь, Гуго, вставай! Слышь… Ну, шнеллер, доннерветтер, вставай, говорю! Но Гуго даже ухом не повел. Лишь минут через пять, когда в его затуманенное самогонным угаром сознание пробилось-таки, что ему мешают спать, жандарм перестал храпеть и, буркнув что-то, повернулся на бок, лицом к стенке. — Гуго, доннерветтер, проснись, слышишь! — еще сильней затормошил его Дуська. — М-м-м! — замычал Гуго и, подогнув левую ногу, так энергично двинул кованым сапогом назад, что если бы попал Дуське в живот, кататься бы тому по полу и визжать недорезанным поросенком. Но Дуська вовремя и ловко увернулся. — Сволота, ферфлюхте швайн! Плюнув с досады, он злобно выругался и подошел к Оверку, который с автоматом в руках примостился на стуле у самого порога, подальше от людей. — Слышь, Оверко, — прошептал ему Дуська на ухо, — давай советоваться… На, прочитай. Только про себя. — И он достал из кармана Савкину листовку. Оверку достаточно было только взглянуть на эту бумагу, как глаза у него полезли на лоб, а толстые коротенькие пальцы задрожали. Это была типографским способом отпечатанная советская листовка, и начиналась она хорошо известными словами: «Смерть немецким оккупантам!» Первая для полицая Оверка за четыре месяца оккупации советская листовка. И не просто заброшенная или занесенная откуда-то из-за фронта, нет! Листовка была здешняя. Может, даже где-то в районе напечатали. Говорилось в ней про дела и про жизнь Скальновского района.«Товарищи! Не верьте лживой немецкой пропаганде. Все, что говорят вам гитлеровские холуи, — будто Красная Армия разбита и уже не существует, будто гитлеровцы взяли Москву, — все это наглая и бесстыдная ложь! А ложью, как известно, занимаются не от хорошей жизни!»Дальше в листовке коротко сообщалось о ходе боев на фронтах за последний месяц, об Октябрьском параде на Красной площади, о том, что немцы под Москвой остановлены, а наши перешли в наступление, а под конец листовка обращалась непосредственно к населению района и призывала саботировать все приказы и распоряжения немецких властей:
«Не давайте гитлеровцам хлеба, скота, фуража. Уничтожайте склады, немецкие средства связи. Не давайте восстанавливать взорванный сахарный завод в райцентре. Уничтожайте оккупантов и продажных полицаев! Вместо хлеба, скота, сахара — пулю фашистским головорезам!»Подпись под листовкой была короткая, загадочная: «Молния». Холодно, неприветно стало у полицая на сердце. И страшно… Словно протянулась из ночного мрака чья-то невидимая железная рука и, медленно, но неудержимо сжимаясь, сомкнулась ледяными клещами на Оверковом горле. — Где он, гад, ее взял?! — прохрипел Оверко, осторожно, с опаской, будто взрывчатку, возвращая Дуське листовку. — Ш-ш-ша… выпытать надо, пока пьяный. Напоить до́ смерти… Давай сядем к столу… Но добиться от Савки ничего больше не удалось, как ни старался, как ни улещивал его Дуська. Все, что только мог, Савка уже «выдал». А теперь сидел вялый, размякший, разморенный домашним теплом, осоловевший от еды и самогона. Казалось, ничего не понимал и не слышал. — Что уж там ему подливать! — осмелев, вздохнула беззубая бабка, покачав головой на полицаеву настойчивость. — Душа меру знает… Взяла свое, а больше и не примет, хоть ты ей что… — Эге! — подхватил Онисим Калита, совсем уже пьяный. — Черево не дерево, а рубаха меру знает… Хихикнула Варька. Савка, как себя ни пересиливал, уже в самом деле ничего не мог. На какую-то секунду в нем еще раз что-то вспыхнуло, он даже вскочил на одеревеневшие свои ноги, шагнул к дверям, чтобы идти куда-то. Но Дуська толкнул его, не рассчитав силы; Савка пошатнулся и уже не попал на лавку, а свалился, как подкошенный, под припечек, на солому. Еще раз дернулся, почмокал губами и, свернувшись клубочком, сразу же тихонько засвистел носом. В угарной от дыма и самогонного смрада хате залегла гнетущая, настороженная тишина. Не слышно было громового храпа Гуго Хампеля. Перестала хихикать Варька, почуяв что-то неладное, замолк и Ничипор Полторак. Только Вилли Шнапс тянул да тянул из гармоники нескладный, тонюсенький, как ниточка, мотивчик навязчивой солдатской песенки…
4
Что случилось, никто в хате, кроме Дуськи да Оверка, толком так и не разобрал. Листовку Дуська никому больше не показал, и присутствующие могли лишь догадываться, что стряслось что-то гораздо более важное и страшное, чем Савкин тост. Но что? Пришибленные решительным и властным Дуськиным «нельзя», Дементьевы гости расспрашивать про это не решились. Однако те, кто еще способен был хоть что-нибудь соображать, понимали: добром для Савки все это не кончится. И как бы там Дуська к нему ни поддабривался да ни подмазывался, можно было сказать про Савку «пиши — капут». Поняв, что из Савки ничего не вытянешь, Дуська отпустил наконец очень довольных этим соседей и приказал полицаям стеречь Савку по очереди, предупредив, что отвечать будут за него головой. «Молодой» Дементий Кваша где сидел, там и заснул, уронив голову в миску с недоеденной капустой. Онисим Калита, споткнувшись о Савку, упал на солому и тоже сразу захрапел. Нацедив из кувшина кружку рассолу, Дуська выпил его единым духом, достал из кармана колоду засаленных карт и уселся с Оверком играть в «двадцать одно». «В банк» он выложил «реквизированные» где-то часы с разбитым стеклом. Когда полицаи втянулись в игру и умолк, задремав, даже Вилли Шнапс, Варька сняла с колена Дементьеву руку, перескочила через лавку и шмыгнула за печь, в темную кухоньку с узеньким, завешенным пологом входом. А через несколько минут, покосившись на Дементия и потянувшись до хруста в плечах, не спеша прошел следом за Варькой и Ничипор Полторак. На рассвете, когда от мощного храпа в окнах дребезжали стекла, всех поднял пронзительный, истошный визг. Всех, кроме Савки, который спал так крепко и сладко, что его не разбудил бы, кажется, и пушечный выстрел. Высунув из-за печки взлохмаченную голову, вопила Варька. А посреди хаты, сорвав с прохода занавеску, перевернув столик с немытой посудой и топчась на битых черепках, молча боролись Дементий с Полтораком. Полторак обхватил одной рукой Дементия за поясницу, а другой старался перехватить его руку со сжатым в ней кривым, сделанным из старой косы, кухонным ножом. Дементий вывертывался, левой рукой упираясь Полтораку в лицо, пытаясь освободить для удара правую — с ножом. У Полторака из носу стекала на подбородок красная змейка. Оба топтались молча, не проронив ни слова. Только сопели — тяжело, с присвистом, как кузнечные мехи. Спокойно, с брезгливой невозмутимостью наблюдал эту сцену Вилли Шульц. Наблюдал, по-видимому, уже давно, потому что глаза у него были не заспанные, а китель застегнут на все пуговицы. Истошный Варькин визг вывел наконец Шульца из равновесия. Он вскочил на ноги и, криво усмехаясь, кинул: «Поединок рыцарей на шпагах! Цвет петриковского рыцарства развлекается!» — и с омерзением плюнул. Зато Гуго Хампель был от этой сцены в полном восторге. Насладившись поединком и вдоволь нагоготавшись, он приказал полицаям разнять драчливых соперников. Наскоро опохмелившись, полицаи вынесли из хаты обмякшего Савку и, так и не разбудив, кинули на дно разбитого кузова старенькой эмтээсовской полуторки. Дементий выходил из хаты последним и уже на ходу «попрощался» с молодой женой. Проходя мимо стоявшей у печи Варьки, он неожиданно что было силы ткнул ее кулаком в переносье и, когда она откинулась назад, ударил раз-другой сапогом в живот. Заслонив лицо руками, Варька присела от нестерпимой боли и какую-то минуту так и сидела, не в состоянии перевести дух, хватая воздух как рыба на суше. Наконец отошла, поднялась на ноги и, не затворив за собой дверь, как была, босая, в юбке и разодранной на груди сорочке, выбежала за порог. Сухие глаза ее горели черным, диким огнем, голова была растрепана, на лице кровь. Подняв над головой стиснутые кулаки, она яростно погрозила вслед Дементию, который уже стоял в машине: — Ну, запомнишь ты меня, вшивая собака! Ты у меня еще поплачешь, кровавыми слезами умоешься. Но в эту минуту зафыркал мотор, и никто, наверное, ее слов не услышал. Машина выкатилась на площадь и помчалась через плотину вверх по дороге, к райцентру. Через полчаса она пересекла на переезде железнодорожную колею и, сделав крутой поворот, покатила вниз, к видневшейся в лощине неширокой речке. Там, внизу, по спаленному не так давно и снова наспех настеленному деревянному мостику, дорога перебиралась через реку и по крутому склону карабкалась в гору между белыми, крытыми жестью и гонтом хатами. Вел машину Вилли Шульц. Вид у него был какой-то опечаленный: глаза грустные, лицо посерело, щеки впали. Из нагрудного кармана кителя поблескивал краешек губной гармоники. А внизу, под гармоникой, сложенная ввосьмеро, притаилась точно такая же, как та, что вчера отобрали у Савки, с подписью «Молния», листовка. Даже и не догадываясь об этой листовке, рядом с Вилли в кабине сидел, сжимая между коленями автомат, Гуго Хампель, Веселый Гуго, — невысокий, широкоплечий детина с кривыми, «кавалерийскими» ногами и неестественно длинными, сильными руками, с тяжелым, выпяченным вперед подбородком и темными, пронзительно острыми глазами. От левого угла губ чуть не через всю щеку Хампеля тянулся вверх, к уху, глубокий синий шрам, он словно продолжал линию рта, и казалось — с лица Гуго никогда не сходит кривая, жутковатая усмешка. Выспавшийся, как всегда выбритый, подтянутый, Гуго выглядел так браво, что никто, глядя со стороны, и не поверил бы, что он перед тем сутки напролет глушил стаканами спирт вперемежку с самогоном. В кузове машины, держась руками за расшатанные борта, стояли вооруженные полицаи. Впереди упирался ладонями в верх кабины стройный, по-мальчишески тонкий Дуська Фойгель. Болезненный, желтоватый оттенок лежал на его сухом, будто окаменевшем, лице. Белесые холодные глаза презрительно щурились. Тонкие, красиво очерченные, бледные губы плотно сжаты. Большое районное местечко Скальное, или, скорее, небольшой городок — с железнодорожной станцией, сахарным заводом, несколькими мельницами и элеватором, — медленно пробуждалось после долгой осенней ночи. По улицам навстречу жандармской машине изредка попадались люди. Они неторопливо брели по обеим сторонам мостовой — кто за водой к речке, кто на станцию, а кто и на мост, к центру местечка. И никто из этих людей, уступающих машине дорогу, наверно, и подумать не мог, что на дне кузова, на охапке перетертой соломы, трясется, в пьяном сне стукаясь на ухабах головой о доски, петриковский бобыль Савка Горобец.5
Проснулся Савка от холода. Еще не продрав глаз, потянулся и почувствовал во всем теле тупую, ноющую боль. Лежал он на чем-то нестерпимо холодном и твердом. Казалось, что левый бок и плечо примерзли к льдине. «Где ж это я?» — подумал он почти бессознательно и открыл глаза. Открыл и ничего не увидел, потому что кругом было темно. Только сверху откуда-то пробивался бледный тусклый свет. Во рту у Савки совсем пересохло, в груди жгло, голова кружилась. «Где ж это я?» — еще раз подумал он и попробовал сесть. Но сразу, чуть только шевельнулся, такой острой болью ударило в голову, словно она раскололась пополам. Какую-то минуту надо было полежать, чтобы немного стерпеться с болью. Боль не удивила и не встревожила Савку. Такое случалось с ним не раз, было знакомым и привычным. «Перепил», — мелькнула в голове бледная тень мысли и сразу провалилась куда-то. На ее место явилась другая, отчетливая, ясная: «Пить!» Эта мысль уже возникла в конкретно-осязаемом образе — большая, позеленевшая, сделанная из снарядной гильзы медная кружка, доверху наполненная холодным рассолом. Он тяжело поднялся на ноги. Выставив впереди себя руки, двинулся в ту сторону, откуда пробивался неясный свет. Ступил несколько шагов и уперся в голую, холодную стену. Не задумываясь, еще полусонный, пошел вдоль стены, постепенно приходя в себя и все яснее убеждаясь, что попал в незнакомое место, в какую-то совсем пустую, промозглую комнату с цементным полом. Вот под рукой оказалось что-то холодное, гладкое — вроде обитая железом дверь. «Где это я? Когда и как сюда попал?» — подумал Савка и задрал голову кверху. Вверху, так высоко, что и рукой не дотянуться, серело неясным, уже, наверно, дневным светом маленькое, переплетенное решеткой продолговатое окошко. «Скажи ты, говорила-балакала… Тюрьма! Да неужто вправду? Когда? Где? За что? А может, мне все это только снится? Проклятая голова! Гудит, как порожняя бочка. Вот-вот расколется!..» Все ускоряя и ускоряя шаг, Савка забегал вокруг, старательно и нетерпеливо ощупывая холодные, гладкие стены. И с каждым шагом все глубже и глубже проникал в него панический страх. Где он? Как сюда попал? Где был, с кем и что до этого делал? Как ни напрягался Савка, вспомнить ничего, ну решительно ничего не мог. Словно не было позади никакой жизни, ничего… кроме этих холодных стен. А недоброе, страшное предчувствие все росло и росло, наполняя Савкино существо чем-то загадочно жутким. И самочувствие у него было как раз по настроению — паскудное, гадкое, как, впрочем, и всегда с похмелья, после большой пьянки. Точно вываляли его в вонючей грязи. И слабость, и тело все какое-то липкое, противное, и руки дрожат, и голова так трещит и гудит, что прямо жить неохота. И страх. Отвратительный и безудержный… И это бессилие — во всем теле, в голове, бессилие собственной памяти, которая не в состоянии вырвать из темноты забвения хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь мелочь… Долго, сам не зная, как долго, кружился Савка во мраке, тычась слепым котенком в темные стены, боясь остановиться и передохнуть. И только вконец измучившись, разогревшись так, что даже лоб стал влажным, Савка, совсем уже не держась на ногах, опустился на пол. В распаленном мозгу что-то кружилось, мерцало, гудело и ныло. Когда холод стал донимать сильнее, Савка опять затоптался и забегал вдоль стен. Потом снова лихорадочный полусон-полузабытье… И так много раз. Ему казалось, что это тянется уже давно, что прошли дни, недели… Наконец где-то близко по-настоящему загудело, оглушительно загрохотало, широко открылся прямоугольник двери. Открылся в бесконечную темную пустоту, в глубине которой далеко-далеко мигал слабый желтоватый огонек. Кто-то, кажется, даже не одни, зашел, бухая сапогами по цементному полу. Чья-то железная рука нашарила Савкину грудь, скрутила ватник, раз-другой ударила Савку об стену. Потом рука скользнула по груди вниз, и ослепительная, как огненная вспышка, нестерпимо острая боль вдруг пронзила все тело, на какой-то миг совсем погасив сознание. Держа за грудки, его снова несколько раз больно ударили по лицу и, отпустив наконец, швырнули к стене. Савка упал навзничь. Прямо в глаза ударил резкий, яркий свет, — верно, от электрического фонарика. Потом погас… Пинок сапогом в бок, стук кованых каблуков по цементу. Грохнула дверь, и Савка опять остался один. Все это произошло в какой-то страшной тишине. За все время те, что приходили, ни словом не обмолвились и ни одного звука не проронили. Он лежал, растянувшись на полу, прислушиваясь, как постепенно стихает острая боль в теле, и… отчетливо вспомнил листовку, найденную в кармане, выщербленный граненый стакан, из которого пил самогон у Насти, скованное морозом ночное поле, лампу с треснувшим, заклеенным бумажкой стеклом, сухое, настороженное, злое лицо Дуськи, его колючие, суженные — совсем близко от Савкиных глаз — зрачки… Больше Савка уже ничего, совсем ничего не мог припомнить. Но довольно было и этого. Холодный, тяжелый страх камнем навалился на Савку, придавил его, слабого, беззащитного, к земле. И Савка заплакал. Заплакал по-детски горько, беззвучно, всем существом, каждой клеточкой своего жалкого, хилого тела.6
Ганс Шропп попал вдействующую армию не совсем по своей воле и не совсем по мобилизации. Шроппу было сорок пять лет. Высокого роста, уже располневший, с гладким, холеным лицом и темно-рыжими «фюрерскими» усиками под мясистым носом, он выглядел значительно старше своих лет. Отец большой, но не совсем удачной — четыре дочери! — семьи, Шропп уже лет десять служил комендантом маленькой тюрьмы в небольшом городе на западе Германии. Служил бы, наверное, и до сего времени, принимая во внимание возраст и то обстоятельство, что с началом мировой войны тюрьма в родном городе начала расширяться и вообще становилась довольно-таки перспективным учреждением. К несчастью, несколько лет назад Шропп имел неосторожность продать за очень большую сумму одному богатому человеку еврейского происхождения документы другого человека, арийского происхождения. Еврей успел удрать в Швейцарию, но все это каким-то образом открылось. Шроппа отдали под суд, обвинили в измене нации и ограблении рейха. Решили было закатать в концлагерь, но потом смилостивились (как раз началась война с Советским Союзом) и отправили в действующую армию. В армии Шропп попал в корпус полевой жандармерии. А уже оттуда, когда служба в «победоносных войсках рейха» принесла полную реабилитацию, Шроппа откомандировали начальником жандармского поста оккупированного Скальновского района. Штат его состоял из двух жандармов — рядового Фрица Бобермана и унтера Гуго Хампеля — и отряда вспомогательной полиции во главе со старым, еще царских времен, стражником Софроном Тузом. Кроме того, Шропп имел право в определенных случаях призвать под свое командование охрану концлагеря для советских военнопленных, расположенного в местечке, и солдат дорожно-строительного подразделения службы «Тодт», которые занимались восстановлением разрушенной узкоколейки. Мог Шропп мобилизовать и обслуживающий персонал железнодорожной станции, да и вообще каждого военного или штатского немца, если того потребуют фюрер и интересы оккупационного режима. Жизнь Шроппа вошла в желанную и привычную колею. Беспокоило и внушало некоторые опасения (как свидетельство неполного доверия) лишь то обстоятельство, что он до сих пор не был представлен к очередному званию обер-фельдфебеля, а так и остался в довоенном — фельдфебелем. Кроме того, самолюбивому Шроппу было досадно, что его подчиненный Гуго Хампель имеет хотя и незначительное, а все же эсэсовское звание — унтершарфюрера. Теперь, после неприятной истории с документами, да еще на пятом десятке, да еще с четырьмя дочками, две из которых уже невесты, Шропп особенно радел о своей службе и о своей карьере. А тут — на тебе! Во вверенном ему районе, за который он головой отвечает, — большевистская листовка! И не сброшенная с самолета, не откуда-нибудь принесенная, а, как не без основания твердят его подчиненные, отпечатанная здесь, может быть, даже где-то рядом с помещением жандармского поста. «Этого мне только недоставало! „Смерть немецким оккупантам!..“ В моем районе… „Разрушайте… не давайте! Препятствуйте восстановлению сахарного завода, моста и железной дороги!..“» Шропп испугался и… растерялся. Растерялся потому, что в своей достаточно долгой тюремно-полицейской практике никогда еще не сталкивался близко с таким оружием, как вражеская листовка, хотя, разумеется, Шропп знал про существование такого оружия, слышал про него и даже мысленно представлял его себе как что-то крайне неприятное и особенно грозное. Гораздо более грозное, чем огнестрельное оружие. Пока что появилась одна-единственная листовка, но Шропп почувствовал себя в положении человека, попавшего на минное поле: он знает, что вокруг все заминировано, но не видит ни одной мины и потому боится сделать шаг, боится шевельнуться. Шропп вообще не слишком часто сталкивался с печатным словом, и задумываться над тем, кто именно в таком вот Скальном, может печатать листовки и вообще как эти листовки печатаются, ему никогда не приходилось. Он совсем упустил из виду, что тут, в Скальном, существует случайно уцелевшая маленькая типография, за которую он, Шропп, отвечает и куда ни разу собственной персоной не заглянул, поручив это крайсландвирту Шолтену и Фрицу Боберману. Они поместили эту типографию в надежном месте, в помещении комендатуры и районной управы, в комнате, расположенной между кабинетом начальника района и кабинетом заместителя крайсландвирта. Окна этой комнаты смотрели прямо на полицейский участок. Печатали в типографии какие-то финансовые, бухгалтерские бланки, которые совсем его не интересовали. Но чтобы листовки?! Шропп потерял голову. Он просто не представлял, что нужно сейчас делать, с чего начинать. В общих чертах оно, конечно, понятно: поймать, раскрыть, уничтожить. Но… где? Кого? Как? Допросить задержанного? А что, если это только навредит? Тут, можно сказать, его карьера и все будущее Гретхен, Лорхен, Лизхен, Берти на волоске висит. Нет! Тут осторожность требуется, сугубая осторожность… А все-таки, пока там дойдет до высокого начальства, с чего-то надо самому начинать, доннерветтер! Но как? С чего? Ведь если не все, так очень многое зависит от первого шага… Может, сначала посоветоваться с крайсландвиртом Шолтеном? Но… слишком он еще молод, много чести! И вообще отношения у них прохладные… С Гуго? Но кто же и когда обнаруживает свою растерянность перед подчиненными? Нет, побольше таинственности и побольше туману! Надо дать им понять, что он просто не считает нужным заблаговременно разглашать свои намерения. Не следует суетиться. Лучше всего ничего не предпринимать, а первым делом позвонить в гебитскомиссариат. Всего только доложить, констатировать факт, довести до сведения. А уж потом из разговора, замечаний, даже прямого приказания сделать выводы и действовать уже наверняка в желательном для начальства направлении, темпе и с соответствующим размахом. А тем временем, чтобы поскорее спровадить подчиненных, особенно этого пройдоху Гуго Хампеля, и в уединении связаться с гебитом, Шропп для отвода глаз и во избежание возможных упреков в бездействии решил все-таки отдать кое-какие приказы и распоряжения. Приказы эти гласили: гарнизону усилить бдительность, выявлять, конфисковать и немедля доставлять в жандармерию каждую листовку, а также людей, если такая листовка будет обнаружена у кого-нибудь еще, объявить комендантский час и запретить кому бы то ни было появляться на улицах городка с шести часов вечера до семи утра, а кроме того, проверить все, какие есть в райцентре, пишущие машинки и представить ему, Шроппу, образцы печатной продукции этих машинок. Последнее, правда, свидетельствовало о полной неосведомленности шефа жандармов в типографской технике, но, к счастью, и подчиненные не слишком глубоко разбирались в таких тонкостях. На звонок Шроппа в гебите отозвался знакомый оберштурмфюрер службы СД Пауль Йозеф Форст. Голос у Форста был вкрадчивый, бархатистого тембра. Разговаривал обер-лейтенант, как всегда, приветливо, как будто не было для него большего удовольствия, чем поболтать со Шроппом. Впрочем, сколько помнит Шропп, Форст всегда был в хорошем настроении и веселом расположении духа. И на этот раз тоже (если так можно сказать о телефонном разговоре) Форст встретил Шроппа с распростертыми объятиями. Но вместе с тем от старого волка не укрылось, что история с листовкой не на шутку заинтересовала и, больше того, встревожила оберштурмфюрера. Шропп мысленно похвалил себя: «Правильно я понял, что это дело не шуточное! Да еще когда под Москвой такое завязывается… Теперь держи нос по ветру…» А Форст внимательно, со всеми подробностями, расспросил фельдфебеля обо всем, что относилось к листовке и человеку, у которого ее отобрали, искусно маскируя все это потоком ласковых и учтивых слов, сказал наконец: — Слушайте, дорогой мой, что я вам посоветую. Нет, собственно, не посоветую, попрошу, Христом-богом молить буду: что хотите, только без истерики, без шума… Не вспугните мне пташек. Никто до времени, решительно никто, кого это не касается, понимаете, герр Шропп, не должен знать, что эта листовка уже у нас. Никто не должен знать, что вы арестовали этого… как его… Кулика. Ну-ну, Горобца… Никто не должен знать, что вы его арестовали в связи с какой-то листовкой. До нашего распоряжения по своей инициативе ничего не предпринимайте. Полицию к следствию и близко не подпускать! Ну, и того… Так, слегка, профилактически, чтоб этот человек понял, в чьи руки он попал, и готовился к худшему. Но только для страха, потому что эта… ну, как его там… эта птица сейчас на вес золота. Ниточка! Ну что ж, следите за всем и ждите нас в гости, батенька Шропп!7
На следующее утро оберштурмфюрер Пауль Йозеф Форст собственной персоной прибыл в Скальное на немецкой фронтовой машине, на которой обычно перевозят мотопехоту. Брезент, натянутый на железные дуги, напоминал цыганский шатер. В кузове на деревянных лавках разместился целый взвод солдат. В местечко машина въехала очень рано, когда еще не закончился введенный Шроппом комендантский час. Машина остановилась во дворе райпотребсоюза, где теперь находилась дорожная войсковая часть «Тодт». Солдат разместили в казарме охраны концлагеря — переоборудованном помещении районной библиотеки. Они сразу разбрелись по местечку. Одни толкались на железной дороге среди пленных и людей, выгнанных на строительство колеи, другие шатались по базарной площади, скупая за бесценок, а то и просто отбирая все, что попадалось на глаза из съестного. Все они были в обычной солдатской форме. Да и вообще — кто там разберется, где солдаты, а где СД. К тому же никто про это СД еще и не слыхивал. Пауль Йозеф Форст также приехал в обычной, без знаков различия, солдатской форме. Хотя каждому, кто захотел бы приглядеться к нему повнимательнее, не могло не броситься в глаза, что вид у этого «рядового» слишком уж выхоленный. Форсту было около тридцати лет. Довольно полное, в меру румяное, с правильными чертами лицо, большие серые глаза. Белокурые, чуть рыжеватые волосы коротко острижены и старательно приглажены. На темени виднелась небольшая продолговатая лысинка. И хотя толстяком его не назовешь, но весь он какой-то сдобный. Всегда веселый, говорливый, приветливый. На пальцах выхоленных рук несколько перстней. Сразу же по приезде Форст зашел к фельдфебелю Шроппу. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой! — еще с порога, весь сияя, проговорил он. — Очень, очень рад вас видеть! Прошу извинить за беспокойство. Я ненадолго. Всего на несколько минут. Прежде всего, если не трудно, покажите мне эту самую… ну… листовку, или, выражаясь по-здешнему, поэтичнее, мотылька. «Мотылек», который, как драгоценное сокровище, хранился в сейфе за семью замками, он осмотрел внимательно, со всех сторон. Потом спросил: — Больше вам таких не попадалось? — Ни одной, никому и нигде! — ответил Шропп. — Еще появятся. Наверное, в такие руки попали, которые кому не надо не показывают, прячут. Вот увидите, что я прав. — Он повертел в руках листовку, посмотрел на свет. — Кустарщина, конечно, но… сделано не так уж плохо. Рука опытная. Вы мне, дорогой мой, если, конечно, вам это будет не трудно, добудьте-ка продукцию вашей типографии — какие-нибудь там бланки или еще что… А всего лучше, если это возможно, найти бы их районную газету. Выходила тут такая, называлась «Колхозная правда». Ну вот, пока что все. Арестованного я сейчас смотреть не буду. И вам не советую утруждаться. Разве только… ну да, на ночь один-единственный разок проверить. С профилактической, конечно, целью. Знаете, когда человек крепенько уже заснет, приподнять и так слегка всыпать… Но чтоб свеженький мне был, как молодой огурчик. Да-да, здоровый и со здоровой памятью. Думаю, что лучше бы покуда ни Гуго, ни этого вашего Дуську к нему не подпускать. Пусть кто-нибудь другой, кто на руку полегче. Вы, конечно, его не допрашивали, как мы условились?.. Нет?.. Вот и спасибо, и чудесно. Ну, не буду вас больше задерживать. Спасибо. Адью, дорогой! Не волнуйтесь и принимайтесь за свои повседневные дела. На меня не обращайте внимания. Я тут у вас хочу немного отдохнуть, погулять, знаете, на свежем воздухе денек-другой. Так обер-лейтенант СД Форст представился в Скальном рядовым писарем какой-то тыловой части. Он довольно-таки неплохо говорил по-русски и по-украински, потому что среди его предков была, видите ли, какая-то не то русская, не то польская бабка. Потому-то он вступал в разговоры с каждым встречным и любил, даже настаивал, чтобы к нему в беседе обращались по-нашему — Павел Иванович (он выговаривал: «Павиль Ивановитш»), ему это очень нравилось. В Скальном его сразу заприметили и даже передавали от соседа к соседу: — Какой-то такой немчик тут приблудился, как оса настырный… А так ничего себе, приветливый, вежливый. Да такой говорливый, как тетка Химка! Вот уж, где ни посей, там уродится! И все ему интересно, и про все расспрашивает. Бывает, и купит что, коли выгодно, а так, чтобы самому взять, как другие, — не возьмет. Видно, и среди них иной раз попадаются с совестью…
День, когда приехал Форст, был как раз базарный. Не обнаруживая своих познаний в украинском языке, он часа два шатался среди людей, ко всему приценяясь, прислушиваясь к разговорам теток и дядек, которые, конечно, не боялись, что «немчура» может их понять. Много чего услышал Форст, но вот про листовки — ни слова… Позднее его видели на заводе. Он бродил между искалеченных взрывом машин, познакомился с вновь назначенным директором, который вернулся в родные края из самой Саксонии и хорошо знал немецкий язык. «Павиль Ивановитш» заинтересовался заводом. Не доводилось еще как-то, говорил, на таких заводах бывать. Расспрашивал, сколько могло тут вырабатываться сахару, когда немецкие власти надеются закончить восстановление и выгодно ли ввозить сюда машины из Германии. Мимоходом заговаривал с людьми, которые лениво, не спеша ходили взад-вперед вдоль стен с выбитыми стеклами, разбирая завалы. И особенно дотошно выспрашивал, кто работает на заводе и есть ли тут люди с образованием, разбирающиеся в технике, — инженеры, мастера. И все ли местные, а может быть, есть и такие, которых пригнало сюда войной из других городов или еще откуда-нибудь… Побродил «Павиль Ивановитш» и по железнодорожной ветке, ведущей от завода к станции, где немцы также пытались расчистить завалы, чтоб восстановить мост. Потолкался, поговорил с людьми и даже угостил кое-кого сигаретами. Военнопленные, которых пригнали сюда выравнивать разбитую насыпь (они работали неподалеку от моста), дотошного «писаря» не заинтересовали. Потом он пообедал в специальной столовой и довольно долго бродил в центре местечка. Зашел в аптеку, в которой не было никаких лекарств, заглянул в пустую школу. В небольшой мастерской, которую хромой Максим Зализный оборудовал себе в одной из уцелевших комнат сожженного банка, «писарь» постоял несколько минут, поговорил с хозяином. Невысокий, широкоплечий Максим сидел на низеньком стульчике, вытянув искалеченную, не сгибающуюся в колене ногу, и копался в каком-то старинном, большом и круглом, как арбуз, будильнике. «Писаря» он встретил молча, даже головы в его сторону не повернул. Дескать, если надо что, так и сам скажет, а мне баклуши бить некогда. Да и ходит тут этих разных — и рядовых и офицеров — ой-ой сколько! Форст на такую встречу не обиделся. Постоял, закурил и предложил сигарету хозяину. Тот поднял от работы лохматую голову в черных до синевы кудрях, внимательно, будто стараясь не пропустить ни одной мелочи, оглядел гостя и небрежно мотнул головой: не курю, а может, и не хочу — думай, мол, как хочешь. «Писарь» спросил, нельзя ли достать здесь хорошие дамские часы. Максим снова мотнул головой — не знаю. Тогда «писарь» осторожно оглянувшись на дверь, сообщил, что сам мог бы кое-что продать герру мастеру. Ну вот, например, он, как писарь, имеет дело с бумагой. Мог бы также достать сапоги, белье и, если потребуется, бельгийский, трофейный, ну совсем игрушечный, «как куколка», пистолет. Уж очень ему хочется приобрести золотые часики для невесты. А деньги солдатские известно какие. Максим еще раз исподлобья взглянул на немца и чуть-чуть усмехнулся уголками четко очерченных губ. — Нет, нет, это все мне ни к чему. А вот сигарет я бы купил. Но сигарет у пана «писаря» не было. На следующий день, слоняясь по коридорам районной управы, любопытный ко всему «писарь» открыл дверь в комнату, где разместилась типография с ручной печатной машиной и несколькими кассами со шрифтом. Высокая, стройная девушка удивленно обернулась на скрип. А низенький толстяк в парусиновом фартуке поверх плисовых штанов поклонился и приветливо спросил, чем господин военный интересуется. — О, прошу прощения! — извинился «писарь». — Мне нужно разменять деньги, и я решил, что здесь расчетная касса. Ошибся, выходит, дверью… Но двери не закрыл, а зашел в комнату, вежливо расспрашивая, чем это они тут занимаются, и с неподдельным любопытством всем интересующегося человека заглядывая во все углы. Забрел Форст и в комнату, в которой помещалась «биржа труда». Встретили его там очень учтиво и, удовлетворяя «писарскую» любознательность, показали даже списки населения района, которые он разглядывал, скорее изучал, довольно долго. Шатаясь по местечку, он порой изъявлял желание купить у кого-нибудь из крестьян то курицу, то десяток яиц. Почему-то часто ошибался и вместо крестьянского двора заходил то к учительнице, то к старенькому агроному. А может, его, «писаря», человека как-никак интеллигентного, тянуло к людям образованным и интеллигентным? Да и одного Скального, как видно, ему было недостаточно. Потому что «писаря» вдруг понесло в Петриковку. Поехал он туда на машине, побыл часа два, зашел в несколько хат, навестил кустового крайсландвирта Мутца и, говорят, в сельской управе довольно долго беседовал со старостой Ничипором Полтораком. На третий день, когда оберштурмфюрер Пауль Йозеф Форст снова явился в кабинет Шроппа (перед этим у него был еще разговор со своей командой и некоторыми полицаями), он имел уже достаточно сведений о Скальном, его жителях, постоянных и пришлых, молодых и старых, почти обо всех, кого можно было считать интеллигенцией и заподозрить в способности заниматься такими делами, как антифашистские листовки. И конечно, многое знал и про Савку Горобца. — Ну, герр Шропп, как вы себя чувствуете? А я, знаете ли, чудесно у вас тут погулял, отдохнул и узнал много интересного и поучительного, — весело сияя золотозубой улыбкой, приветствовал Форст фельдфебеля. — Так что, с вашего разрешения, я не прочь сегодня же вечером начать беседу с этим вашим Савкой Горобцом… Хотя, правду говоря, ничего особенного я от него не жду. Не та птица… Разве только какая-нибудь случайность… совпадение.
8
Никто в районе, за исключением нескольких полицаев, так и не заметил, что Савка Горобец куда-то пропал, а он сидел, никому на свете не нужный, до смерти перепуганный, в строго изолированной камере жандармского поста. Больше всего Савку мучила, разъедала, как ржа, неизвестность. Никто с ним не говорил, никто ни о чем не допытывался, никто не отвечал ни слова на вопросы, где он и что сейчас на улице — ночь или день. За время, что он тут сидел, ему только дважды дали какой-то баланды, потом поставили ковшик с водой, затянутой ледяной корочкой, и трижды больно и так же молча избили. Бить приходили всегда в то время, когда, обессиленный страхом, он наконец забывался в кошмарном сне. Они появлялись из темноты, подымали сонного и, ослепляя электрическими фонариками, били ладонями по лицу и короткими резиновыми дубинками куда попало. Уже со второго раза Савка почувствовал в этих появлениях какую-то систему. И в мучительном страхе, сходя с ума от предчувствия того, что снова свалится ему на голову это «нечто» неожиданное и зловещее, он стал дожидаться их почти с нетерпением, стараясь не заснуть, чтоб его не застали врасплох. Но сколько он ни ждал, они не приходили. Когда же Савка, не выдержав, все-таки засыпал, вваливались, ослепляли, молча били и исчезали. Иногда Савке казалось, что он сошел с ума и все это только чудится ему и будет чудиться до самой смерти. Где он? Зачем? Для чего? И докуда все это будет тянуться? Почему ему ничего не говорят? А он, хоть убей, так и не помнит, что с ним случилось, как и когда он сюда попал. Выщербленный стакан, листовка, остренькое Дуськино лицо… Нет, ничего больше он не сумел припомнить… А может, вообще ничего не было? Может, этот бандит Дуська и эта листовка ему только приснились?! Вот уже снова скрипнула дверь, грохают сапоги и мигают фонарики. На этот раз они не дожидались, пока Савка уснет… Савка, Савка, разнесчастная, пропащая твоя головушка! Неужели же это конец, неужели тут тебе и капут? А ты ведь еще как будто и не жил и ничего хорошего в жизни не испытал. Все только собирался жить по-настоящему. Родился ты Савкою, и парнем был — Савкою звали, а теперь вот до сорока трех лет дожил, а так Савкой и остался. Такое уж у Савки несчастье — все у него из рук валилось. Всегда ему было море по колено, и что бы с ним в жизни ни случилось, на все он, махнув рукою, отвечал: «А, говорила-балакала, как-нибудь да будет!» Слишком уж весело да легковесно смотрел он на жизнь. Так весело, что ни одна девка так и не захотела связать с ним свою долю. Смолоду Савка больше толкался подле комитета бедноты. Позднее крутился возле колхоза, высиживал на всех собраниях и даже на правлении, а вот за какой-нибудь колхозной работой никто Савку не видел. Чего-чего, а этого с ним не случалось. Не любил гнуть спину, и не только в колхозе. Уже давненько, когда Савке было лет двадцать или около того, выучился он неожиданно для всех (да, наверно, и для себя самого) на хорошего сапожника. Было даже такое время, когда первые на селе франты домогались, чтобы только он, Савка, сшил им сапоги на ранту и со скрипом. Но эта слава держалась за ним недолго. Как только начал Савка самостоятельное житье, так сразу потянуло его к водке. Сначала пил в меру, только по случаю магарыча. Потом втянулся, и скоро на глазах у всего села стал Савка самым обыкновенным пьяницей. Всегда навеселе, с красными, как у кролика, глазами, всегда в грязи, а то и просто валялся где-нибудь под забором или в канаве. Любил Савка повсюду вылезать вперед, всюду совать нос, всем интересоваться и по любому случаю давать советы. Особенно любил он пофорсить на разных собраниях. Собраний не пропускал. Сразу — еще никто и слова сказать не успел — кричал: — Гальченко просим! Товарища Гальченко! В президиум он всегда выдвигал самое высокое из всех присутствующих начальство, старался выкрикнуть кандидатуру первым. А потом сидел, сияя довольной улыбкой, вертя во все стороны головой и победно поглядывая на соседей, словно это он, Савка, товарища Гальченко и председателем райисполкома назначил и усадил в президиум. У Савки была такая беспокойная натура, что спокойно и молча высидеть на собраниях он не мог ни минуты. Вертелся, громко хохотал, если кто из начальства выказывал хоть малейшую потугу на остроумие, а когда говорил свой брат сосед, презрительно посмеивался. Любил бросать реплики, и не как-нибудь, а к делу. — Верно, правильно говорит товарищ Гальченко! Темный мы народ, факт! И пренебрежительно, даже с жалостью обрывал какого-нибудь деревенского оратора: — Эх ты, говорила-балакала! Что же ты мелешь, темный ты человек, если уж сам товарищ Гальченко… Совсем недавно, уже при немцах, когда полицаи согнали к управе все село, чтобы напустить на людей страху за оставленные на поле бураки и растащенный по дворам колхозный подсолнух, Савка по старой привычке попытался было крикнуть: — Просим товарища Полторака, прос… — но поперхнулся и смолк, испуганно втянув голову в плечи. — Ищи себе товарищей на свиноферме! — прогудел бас Полторака. Этот бас так перепугал Савку, что он долго еще не мог опомниться. Ведь, кроме всего прочего, был Савка, как и полагается всякому «порядочному» пьянчужке, просто жалким трусом и тряпкою. С месяц назад, когда немцы взялись восстанавливать дорогу к сахарному заводу, Савку вместе с другими пригнали в Скальное на работу. Здесь ему большей частью приходилось таскать шпалы и разбирать на станции железный лом. Иногда его посылали на завод или в местечко. А ночевал он то у знакомого деда-сапожника, то у самогонщицы Насти. В тот день, когда он обнаружил в своем кармане листовку и его неудержимо потянуло домой, в Петриковку, чтобы похвастаться перед знакомыми и первым оповестить о такой необычайной новости, Савка работал на путях возле станции. Вот таким был Савка Горобец. И все это про него уже знал приезжий «писарь» Форст. Когда Гуго и Дуська привели Савку к Форсту, в кабинете Шроппа было почти темно. На чистом столе тускло светила большая керосиновая лампа с привернутым фитилем и широким, сделанным из какой-то темной, жесткой бумаги абажуром. Первое, что увидел Савка, был светлый, сияющий круг на черной поверхности стола и в нем мраморный пресс, пистолет и пара положенных одна на другую белых, холеных рук с кольцами на пальцах. Лицо Форста было над абажуром, и Савка сначала его даже не заметил. Только блеснули неожиданно и хищно оттуда, из темноты, золотые зубы. Савка похолодел. Форст, усмехаясь, молча кивнул головой. Жандарм взял совсем ослабевшего, безвольного Савку за плечи и втиснул в кресло перед столом. Только тогда Форст отставил в сторону лампу и долгую минуту внимательно вглядывался в Савкино лицо, словно изучая и запоминая каждую черточку. Он сразу, с первого взгляда, понял, что перед ним малодушный трусишка, которого темная камера и ночные истязания почти доконали. Долго с ним возиться не придется, вот только если б он хоть что-нибудь знал… Все еще усмехаясь, Форст не спеша закурил сигарету. — A-а, Савка, тот самый… Ты, я вижу, стреляный воробушек. Активист. Можно сказать, герой… Ну, вот ты нам сейчас все и расскажешь… Савке подкатило под сердце что-то гадкое, скользкое, холодное, а язык точно одеревенел. — С-с-с-с… — неожиданно засипел он, шевеля побелевшими губами, — с-с-святым богом… божусь, ни в чем не виноват. — Подожди, Савка, подожди. Послушай, а тогда уже подумаешь. Каждое слово падало на Савку словно удар обуха по темени. — Вот ты только представь себя на моем месте. Приводят к тебе вот такого типа — большевистского агитатора, может быть, умышленно оставленного подпольщика. Ну-ну, допустим, что об этом ты только догадываешься. Однако сам подумай: даже случайно найденная, но не сданная властям подстрекательская листовка — уже расстрел… Только теперь, словно от вспышки молнии, Савка вдруг припомнил ту ночь в хате Калиты, свадьбу Кваши и даже заелозил от счастливой мысли. — Вот, говорила-балакала! Как это не сдал? Сдал! Да я ее специально и занес к Кваше — знал ведь, что там вся полиция! Форст с минуту помолчал, уже с настоящим интересом вглядываясь в Савкино лицо. — Гм… А ты, Савка, не так прост, как я думал. Как это у вас говорят, в тихом болоте чертики водятся? Ты, Савка, оказывается, фрукт. Так вот, не сданная вовремя листовка это расстрел, а публичная агитация за Сталина, против фюрера и великой Германии — это уже не расстрел… нет… это уже, Савка, петля, виселица! Так что ты не спеши, лучше подумай, пока есть чем думать! Потому что, если ты не поможешь нам покончить с этой неприятной историей с листовками, то… А поможешь мы сможем посмотреть на все твои грехи знаешь как? Вот так! — Форст поднес к глазам ладонь. — Сквозь пальцы… Вот, иди да подумай. И учти, что я человек покладистый, интеллигентный и даже одного вида крови не терплю. Мне лучше, чтобы все уладилось мирно, тихо, без шума… И нам хорошо, и тебе лучше. Иди, Савка, думай, что и как, а часа через два я тебя позову.9
Одна-единственная листовка, выплывшая на поверхность мутного водоворота оккупационной жизни, сложной, полной опасности, явных и тайных ловушек, всколыхнула немецкую оккупационную администрацию целого уезда. Сразу заработала, закрутилась военно-административно-полицейская машина. За розыском неизвестной типографии следил сам начальник жандармерии гебитскомиссариата. Подняли на ноги полицию и жандармерию во всех районах. Тайные и явные гестаповские агенты, выслеживая, вынюхивая, выпытывая, шныряли по городам и селам. Листовок гитлеровская администрация боялась как огня и считала опаснее динамита или аммонала. Страшная сила таилась в этих невинных по виду беленьких, серых или синеньких «мотыльках», которые начинались и кончались словом «смерть». Держать такую взрывчатку в тылу гитлеровской армии было крайне опасно. Советская листовка была сама по себе страшной, а эта была еще и местной. В ту глухую и страшную для оккупированной Украины пору она была первой в тех краях листовкой. Уже потом, много позднее, к весне сорок второго года, трудно было найти район или город, где не появлялись бы советские листовки. А сейчас она была страшна еще и тем, что стала опасным, тревожным буревестником грядущих партизанских бурь, первой молнией на далеком небосклоне. А тут еще со всей ясностью и очевидностью рушится гитлеровский блицкриг, фронт стабилизировался, и триста тридцать три раза уничтоженная в сводках немецкого верховного командования Красная Армия остановила-таки фашистское нашествие. И не только остановила. Развернувшиеся на подступах к Москве события сеяли среди гитлеровцев тревогу, будоражили и остужали опьяневшие от крови головы. В таких условиях армейский тыл мог сыграть особенно важную, решающую роль. Для обеспечения надежности фронта в тылу должно было быть спокойно и тихо, как на кладбище. Появление же такого «мотылька» означало реальную угрозу и могло обернуться серьезной опасностью. Вот почему сразу же развернулась такая широкая охота на «Молнию». Ее нужно было уничтожить еще в зародыше, любой ценой. Головой отвечал за ликвидацию никому не ведомой таинственной «Молнии» «Павиль Ивановитш», он же Пауль Йозеф Форст. Пока что оберштурмфюрер даже приблизительно не представлял себе, что кроется за этим романтическим названием «Молния». Но, кто бы это ни был и сколько бы их ни было, всех нужно было накрыть внезапно, захватить и ликвидировать сразу, с одного захода. Форст основательно познакомился с обстановкой и многими людьми района, которые могли его интересовать и которые, к слову сказать, про это «знакомство» ни сном ни духом не ведали. Обстановка была сложная, достаточно запутанная, а людей, которые могли бы быть причастны к этому делу, не так уж и мало, чтоб можно было всех их разом «накрыть» и ликвидировать. Только в одном Форст был совершенно уверен: «они» — «Молния» — должны быть где-то здесь, недалеко, может быть, совсем рядом. И у «них» должна быть пусть совсем небольшая, какая-нибудь там портативная, но настоящая и довольно-таки совершенная типография. Потому что такой листовки, набранной типографским способом на сравнительно большом листке, кое-как и кое-чем не сделаешь. Бесспорно, эти листовки ни при каких обстоятельствах нельзя было отпечатать и в местной типографии, хотя шрифт очень похож. Правда, такие шрифты можно было обнаружить в каждом районе и в каждой районной типографии. Разумеется, только время покажет, что Форст предвидел и угадывал правильно, а в чем ошибался. А возможно, он так никогда и не увидит той сейчас только приблизительно представляемой типографии. Да нет, не может этого быть! Он должен их обнаружить! Как напавшая на след охотничья собака, Форст уже чует запах жертвы, и ему не терпится поскорее вцепиться зубами ей в горло. Но в таком деле прежде всего нужны большая выдержка и расчет. Потому что перед опытным оберштурмфюрером из СД пока что, кроме «запаха» жертвы, была все-таки только задача со многими и многими неизвестными. И в сущности, «известным» был в этой задаче один лишь Савка Горобец. Чтобы обнаружить «Молнию» и ликвидировать ее одним ударом, Форст, опираясь на большой разведывательный аппарат полиции и возлагая определенные надежды на Савку, плел невидимые сети. Он изучал людей, создавал план внезапного нападения с таким расчетом, чтобы из этой его сети не могла выскочить ни одна рыбка.10
Галиного отца, младшего лейтенанта запаса, призвали на двухмесячную военную переподготовку в начале мая сорок первого года. Отбывал свою службу Петр Очеретный в летних лагерях где-то на Киевщине. Там, в лагере, и застигла его война. С тех пор семья Очеретных не имела от отца ни письма, ни весточки. До войны отец работал трактористом в Скальновской МТС, а мать — звеньевой на свекле в колхозе «Заря победы». Жили Очеретные в собственном доме на далекой окраине Скального, за самой станцией. Держали корову, поросенка, птицу. И был у них небольшой, в четверть гектара, огород. Галя училась в первой (потому что была еще и вторая) скальновской десятилетке. Школа стояла у сахарного завода, в парке, и потому называлась еще и «заводской». Ходить в школу было далеко. Особенно тяжело давалась дорога осенью, когда вдоль разбитой мостовой месяцами стояла непролазная грязь. Дни осенние коротки. А возвращаться домой надо было часа два, через все местечко. Сначала парком, мимо заводской стены, потом плотиной через широкий пруд, к центру, или, как его называли, Горбу. Оставив по левую руку тоненьким ручейком вытекавшую из пруда Песчанку, Галя шла еще добрых три километра, теперь уже вдоль села, вверх, по дороге к станции. И наконец, миновав переезд и эмтээсовский двор, добиралась до Вербового оврага, над которым, повернувшись огородами к речке, и стояла их хата. По ту сторону Вербового оврага уже были Выселки — десятка два глиняных хаток на голом степном юру. За Выселками — степь, широкая долина Черной Бережанки, далеко за холмами — отлогие, поросшие одичавшими кустами бывших хуторских садов склоны Казачьей балки. Галя была девочкой усердной, работящей, аккуратной до педантизма, но в учении, как говорится, звезд с неба не хватала. Больше брала старательностью. В седьмом классе Галю приняли в комсомол. На следующий год она решила бросить школу. «Хочу работать, — настаивала она на своем, — никакого ученого из меня все равно не выйдет, а так, для себя, хватит уже, выучилась». К этому времени она как-то незаметно вытянулась — в январе ей минуло шестнадцать, — стала высокой, красивой, статной. Вышло так, что в школу Галя пошла с опозданием, потом из-за болезни год пересидела в третьем классе, и теперь ее однолетки уже работали или учились в десятом. Отцу очень хотелось, чтобы дочка училась дальше, но приказать ей, заставить не мог: Галя была его любимицей и всегда умела настоять на своем. Ну, а мать во всем по отцу равнялась: «Мне что, как отец скажет, так пускай и будет». Так вот и не пошла Галя в девятый класс. В октябре ее зачислили ученицей наборщика в районную газету. В начале войны все мужчины из типографии и редакции, начиная с редактора, ушли в армию, и осталось на всю типографию только три человека — она, Галя, новый ученик, паренек лет четырнадцати, да наборщик Панкратий Семенович, пожилой, круглый, как бочонок, человечек с крадущейся походкой и тихим голосом. Теперь Галя работала уже самостоятельно, одна набирала целую газету. Панкратий Семенович заправлял в типографии за все и за всех. Печатное дело Панкратий Семенович знал досконально и, как человек квалифицированный и старательный, пользовался в редакции уважением. Однако вел он себя немного странно. Всегда словно побаивался чего-то, избегал громких разговоров, да и вообще обращался к кому-нибудь только по делу и в случае крайней необходимости. Одевался Панкратий Семенович тоже странно. Ходил всегда в плисовых штанах, а поверх рубашки и зимой и летом надевал короткую меховую безрукавку. «Вам же, наверное, жарко, Панкратий Семенович?» — скажет, бывало, Галя. «Э, не скажите… У меня грудь слабая, легкие, знаете… Страшно боюсь сквозняков…» — шепотом, как большую тайну, сообщал он. Зимой Панкратий Семенович носил круглую шапочку из вытертого черного каракуля, а поверх нее еще толстый клетчатый платок, под каким-то незнакомым Гале, явно дореволюционным названием — плед. Галя знала, что у Панкратия Семеновича есть жена, но никогда не видела ее. А так ничего больше о нем не знала, не знала даже, где он живет. Слышала только, что где-то на Киселевке. Да, собственно, она и не интересовалась ни Панкратием Семеновичем, ни его жизнью. Каждый вечер после работы Галя бегала на курсы медицинских сестер, мечтая втайне от матери о фронте, о сумке с красным крестом и полевом лазарете. Гитлеровцы начали бомбить станцию и мост через Черную Бережанку на пятый или на шестой день войны. Третьего июля бомба попала в станционную водокачку. Потом, когда через Скальное пошли эшелоны с войсками и оружием, вражеские самолеты стали налетать каждый день. Пятнадцатого июля большая бомба, предназначавшаяся, по-видимому, для элеватора, взорвалась в конце их огорода, у самого берега. Галя в это время была дома, промывала и перевязывала четырехлетней сестренке Надийке раненную колючкой ножку. Она не услышала приближения самолета. Взрыв был внезапным. Взрывной волной распахнуло настежь дверь и ударило Галю спиной об стену. От неожиданного грохота Надийка на миг окаменела и сразу в голос заплакала. А тринадцатилетний Грицько, внимательно прислушиваясь к тому, как утихает, замирает взрывное эхо, сказал: — В нашем огороде… или у тетки Палажки. — В огороде! — испуганно вскинулась Галя… Спустя мгновение, гонимые ужасным предчувствием, не разбирая дороги, они мчались на огород. В конце огорода, там, где стлались кабачковые плети и краснели первые помидоры, зияла глубокая черная воронка. В нескольких шагах от нее, в картошке, наполовину засыпанная свежей землей, навзничь лежала мама. Платье на ней было разорвано и точно обуглено, руки неестественно заломлены над головой, а широко раскрытые глаза как-то страшно отчужденно застыли. Еще несколько минут тому назад она приказала Грицьку накопать молодой картошки, а сама с решетом в руках вышла на огород набрать спелых помидоров… Жизнь мчалась каким-то сумасшедшим вихрем. Через несколько дней после того, как похоронили маму, Галя, оставив детей на соседку, пожилую вдову Мотрю, уехала рыть окопы. В степи, километрах в двадцати от Скального, тысячи людей прокладывали широкий и глубокий противотанковый ров, он тянулся бесконечным валом свежей земли через перестоявшиеся хлеба, куда-то за далекий горизонт. Дорогами и прямо по хлебам — напрямик — отступала армия, запыленная, задымленная, усталая. Везли раненых. Гнали куда-то на восток колхозные стада. Вырытый за неделю ров, такой глубокий и такой, на вид, неприступный, вдруг оказался никому не нужным. Немцы, которых ожидали с запада, из-за лесов, вдруг очутились позади, на востоке. По ночам совсем недалеко трещали мотоциклы, стрекотали автоматы. Небо в той стороне мерцало тревожными белыми сполохами, пунктирами трассирующих пуль, и приглушенный расстоянием грохот долетал до самого Скального. На третий день измученная, перепуганная Галя вернулась в родные места. Кругом все было чужим, незнакомым. Разбитая станция, взорванные пути, разрушенный элеватор, пущенный на воздух завод. А в хате, как у себя дома, хозяйничают наглые, самодовольные завоеватели. Вскоре серо-зеленая гитлеровская саранча хлынула дальше на восток. Местечко опустело. А в загаженной солдатами хате осталось трое сирот. Им нужно было как-то жить, на что-то надеяться. Были они из цепкого крестьянского рода, сложа руки сидеть не привыкли и, несмотря ни на что, помирать не собирались. Первым высказался о «программе» дальнейшего их житья Грицько. Стоя посреди хаты, заложив руки в карманы, он деловито, по-хозяйски оглядел выбитые стекла, расковыренные стены, потом коротким энергичным ударом босой ноги зафутболил в рогачи какую-то немецкую картонку и, совсем как взрослый, как старший, заявил уверенно и безапелляционно: — Ты, Галька, думаешь, не проживем? Ого… А к зиме и наши вернутся… И был он сейчас — босой, давно не стриженный, с шапкой светло-русых волос, спадающих соломенной копной на лоб и на затылок, с озабоченным выражением кругленькой веснушчатой мордашки и недетским раздумьем в карих глазах — таким родным, таким смешным и милым и таким по-ребячьи уверенным в своих силах, что от любви и гордости за него, за эту его «взрослость» ей захотелось расцеловать брата и расплакаться. Но сдержалась и выплакалась немного позднее, в саду за хатой… Так нежданно-негаданно, сама еще почти ребенок, стала Галя не только старшей сестрой, но и матерью своим младшим. Хотя на самом деле младшей была одна Надийка, а Грицько, признавая за Галей ее несомненное старшинство и не скрывая своей любви и уважения к сестре, все же от своей роли мужчины в доме, «главы семьи», не отказывался. И это свое положение взрослого он не только декларировал и отстаивал на словах, но ежедневно и ежечасно доказывал делом. Не раз и не два, наблюдая за тем, как ее братишка ловко и умело чинит окна, носит воду, копает картошку и неутомимо, смело, несмотря ни на какие запреты, таскает с поля и потом обмолачивает в сенях снопы пшеницы, Галя с боязнью и признательностью думала: «Ну, что бы я теперь делала, если бы не Грицько, золотой мой, разумный и такой работящий?..» Галя почти все время хозяйничала дома. Кое-как они с Грицьком починили окна — где застеклили подобранными на станции битыми стеклами, а где просто заколотили картоном и фанерой. Потом убрали огород, выкопали картошку, лук, свеклу, собрали фасоль и горох. Прямо через улицу от их дома, за железнодорожной линией, начиналась степь. Грицько нашел тропку к пересохшему подсолнуху, и они натеребили целый мешок семечек. Потом добровольно, не дожидаясь, когда погонят, стал ходить на работу к молотилке. Возвращался с поля запыленный, усталый, но довольный и неизменно приносил в подвешенной под пиджачком полотняной торбе несколько килограммов пшеницы. Однажды Грицько вместе с пшеницей принес домой новенький пистолет и две обоймы с патронами. — Зачем это? — не на шутку испугалась Галя. — Мало разве горя и без этого? Лучше выбрось! — Тоже мне комсомол! — Грицько укоризненно покачал головой. — «Вы-ы-брось»… Теперь такая штукавсегда может пригодиться. Мало ли что… Так и не послушался, смазал пистолет машинным маслом и, завернув в бумагу и тряпицу, закопал под сливой, в двух шагах от порога.11
Как-то в воскресенье в левадах, возвращаясь с полными ведрами от колодца по протоптанной босыми ногами стежке меж пожелтевших уже верб, Галя встретила Максима Зализного. Он шел ей навстречу, опираясь на толстую, до блеска отполированную руками и временем сухую грушевую палку, едва касаясь земли искалеченной левой ногой. На нем была белая, подпоясанная узеньким ремешком рубашка. Отложной воротник открывал широкую, загорелую на солнце грудь. Ветер играл кольцами черных волос на красивой, гордо поднятой голове. — Вот так встреча! С полными ведрами — к счастью! — Максим остановился, опустил на тропинку какую-то тяжелую железяку, которую нес в правой руке. — Ты или не ты, Галя? Ишь, какая красивая вымахала, и не узнать! Теперь тебя небось и Сторожуковым щенком не напугаешь! — Какой уж там щенок… Теперь от настоящих собак никак не отвяжешься… Максима девушка знала давно, еще с того времени, когда он был таким же, как Грицько, озорным и непоседливым парнишкой. Сын паровозного машиниста Карпа Зализного, он частенько околачивался на станционных путях, по нескольку раз на день встречался ей по дороге в школу и на обратном пути домой. И там, в школе, тоже. Они ведь вместе учились, только когда она поступила в первый класс, он был уже в пятом. Слава о нем шла по всей школе, потому что был он и первым учеником и первым озорником в классе. Потом, когда он учился уже в десятом, Галя помнила Максима серьезным, сдержанным секретарем школьного комсомольского комитета. А в последний раз, кажется, прошлым летом, повстречала его уже студентом политехнического института. И вот теперь встретились… когда Галя о нем и не думала, считая, что он должен быть где-нибудь за сотни километров отсюда… — Откуда ты взялся? — Да так вот, жив курилка! — Он улыбнулся, видимо обрадованный этой встречей. — Где ж мне, горемыке, голову приклонить? Вот и потянуло в родные края. Хоть и нет у меня здесь никого, а как-никак «дым отечества». Максим говорил о совсем невеселых делах, но говорил весело, словно насмехался над самим собой, над своим положением и даже над Галей. Насмешка эта не показалась девушке обидной — была в ней явная теплота, участие. И кажется, впервые с тех пор, как сюда пришли немцы, Галю потянуло спросить, поделиться самым затаенным, самым важным, что всегда жило в ней и о чем она еще не решалась, а может, просто не нашла с кем поговорить. — Ну, Максим, хоть бы ты мне сказал: что же это такое делается? И что ты обо всем думаешь? Максим вплотную подошел к девушке, так, что она совсем близко увидела его красивые темные, широко открытые глаза. — «Родимый город может спать спокойно»? Так? — спросил он уже без иронии. — Теперь об этом не одна ты думаешь. — И ответил серьезно, неторопливо, нажимая на каждое слово: — Я, Галя, и сейчас думаю обо всем этом так же, как и раньше, как всегда думал. Одним словом, как у Шевченко: «Перекрестился, трижды плюнул и опять начал думать о том же, о чем и раньше думал». Максим усмехнулся и снова посуровел. — И еще верю я, Галя, что все это временно. А ты?.. — Ну, а как же иначе могла бы я думать, Максим! — искренне и печально ответила Галя. Они еще немного постояли, расспросили друг друга о родных, поговорили о разном… Скоро девушка узнала, что Максим открыл в развалинах банка какую-то не то слесарную, не то часовую мастерскую. В этом не было ничего удивительного — ведь Максим был, можно сказать, потомственным мастеровым и с детства возился со всяким железом. Только странно и даже немного смешно было думать о Максиме, которого она знала, как о кустаре-одиночке и, как она его шутливо окрестила, «мелком капиталисте». В конце сентября Галю неожиданно навестил Панкратий Семенович. Тот самый, а вместе с тем совершенно другой, неимоверно изменившийся Панкратий Семенович, которого Галя сначала просто не узнала. От старого Панкратия Семеновича остались теперь одни только плисовые штаны, да и то, наверно, не те, а только похожие, но гораздо новее. Вместо меховой безрукавки на нем была плисовая жилетка, и по ней через весь живот, от кармана к карману, протянулась толстая золотая, а может, позолоченная цепочка. Под жилеткой белая сорочка с твердым воротничком и черным галстуком. На плечах слежавшийся пиджак с бархатным воротником, а на голове черная, с выцветшей лентой шляпа. В руке зонтик. Да и не только одежду, всего человека словно подменили. Он ожил, помолодел и разговаривал теперь не шепотком, а уверенно, громко, безапелляционным стариковским басом. Еще только увидев старика, Галя вдруг встревожилась, даже испугалась какого-то еще неясного, но недоброго предчувствия. А Панкратий Семенович пришел, как он сам выразился, с «радостной весточкой». Светясь от удовольствия, он сообщил, что «наши господа освободители», немецкие власти и районная управа, задумали возобновить работу типографии и оказали ему, Панкратию Семеновичу, высокое доверие. А он в свою очередь приглашает, как способную и старательную работницу, ее, Галю, и даже закрывает глаза на ее комсомольское прошлое. Он, дескать, давно заприметил ее старательность и, если будет нужно, засвидетельствует ее благонадежность перед высоким господином комендантом. Панкратий Семенович не только не скрывал, а, наоборот, афишировал свое удовлетворение, даже восхищение «освободителями». А в перспективе, в не очень далеком будущем, видел уже осуществление своей заветной, десятки лет вынашиваемой мечты. Как выяснилось, еще до революции, молодым человеком, имел Панкратий Семенович не то в Одессе, не то в Ростове собственную и довольно порядочную типографию и многоэтажный дом. И все это отобрали у него «товарищи», да и сам он едва уцелел! А все-таки уцелел, выжил и теперь надеется с помощью гитлеровцев вернуть назад или хотя бы заново приобрести свою собственность. Да, они, немцы, должны ему все это вернуть. Не сразу, конечно, а потом, после войны, после окончательной победы. Нужно только заслужить их доверие добросовестной службой и преданностью. А за этим у него дело не станет. Галя растерялась, услышав неожиданное предложение. Холодея от пронзительно-острого, теперь уже совсем осознанного страха, тихо и растерянно спросила зачем-то непослушными, побелевшими губами: — А что же… что же там будут печатать, Панкратий Семенович? Спросила для того только, чтобы сказать что-нибудь, чтобы перевести дух, оттянуть свой ответ. — Гм… Как это что? Что хозяева скажут, то и напечатаем! Что нам, не все равно… Ему все равно! А ей, комсомолке, дочери фронтовика, ей, у кого эти «хозяева» отобрали все — свободную жизнь, мать?.. Чтоб она работала для врагов, убийц ее матери?.. — Нет, Панкратий Семенович… Спасибо вам, что не забыли… Только мне сейчас не до работы… — А это уж напрасно, Галинка, совсем напрасно! Ко мне не пойдешь — в Германию заберут. Война, сама видишь… Молодых всех забирать будут. — Так у меня же дети, сироты… — Э, что там! — уже не скрывая своего неудовольствия, откровенно угрожающе протянул Панкратий Семенович. — Что сироты! Для сирот какой-нибудь приют найдется. А тебе все равно не миновать этого. Подумай лучше, девушка, и решай! Скорее решай, пока не поздно! Чтобы потом не пожалела… Когда Панкратий Семенович ушел, так и не дождавшись определенного ответа, Грицько, слышавший весь этот разговор, сердито плюнул ему вслед. — «Освободители»! — передразнил он старика. — Гнида старорежимная! Вот бы такого на мушку! — И с укоризной повернулся к сестре: — А ты говоришь — не надо пистолета!.. Галя улыбнулась на эти слова и снова задумалась. Ей действительно надо было на что-то решиться, потому что не просто стращал ее Панкратий Семенович, тут была прямая угроза. Надо было решать. В семнадцать лет судьбу свою, может, жизнь свою до последнего дня, до последнего дыхания решать! Без отца, без матери, без учителей. «Вот уж правда, деваться некуда. Хоть бы с кем-нибудь своим посоветоваться, — растерянно думала Галя. — Со своим…» И тут невольно всплыла в ее памяти встреча в левадах. В тот же день она разыскала Максима в его темной конуре-мастерской. Парень копался в каком-то старом, ржавом ломе. Выслушав Галю, долго не раздумывал, сказал твердо, решительно: — Иди! Советую тебе, Галя. Иди к этому, как его… Панкратию… — Но как же я тогда людям в глаза погляжу? Отец… Максим подошел к девушке, взял ее за руку, сжал твердыми, как клещи, пальцами, близко заглянул в глаза. — С людьми договоримся… потом… И с отцом… Я тебя туда посылаю, понимаешь? Приказываю тебе, и мой за это ответ. Ясно? Он так смотрел на нее, говорил так властно, твердо, уверенно, что девушка не могла не почувствовать — Максим имеет какое-то право так говорить! — Ты думаешь, это пригодится и что-нибудь из этого получится? — спросила она его. — Попробуем…В старое помещение редакции и типографии попал снаряд. Из двух печатных машин уцелела только одна — старенькая «американка», которую крутили ручкой, как веялку, и на которой до войны уже почти не работали. Когда начальник районной управы и крайсландвирт задумали восстановить типографию, они согнали полицаев чуть не со всего района, разобрали завал, выбрали шрифты и уцелевшие кассы и все это вместе с «американкой» перенесли в помещение управы, в комнату, которая всегда была под наблюдением и считалась поэтому целиком и полностью надежной. Печатали там бланки финансовых отчетов, какие-то ордера и кассовые квитанции. Как потом узнала Галя, весь шрифт полицаи взяли на учет и даже перевесили вместе с кассами. Когда Галя Очеретная в первый раз вышла на работу, Панкратий Семенович ткнул пальцем в кассу и недвусмысленно предупредил: — Гляди! Каждая буковка — как патрон или пуля. На вес золота! Недостанет хоть одной — виселица!
12
Прошло почти два месяца. В среду, возвращаясь с работы, Галя очень торопилась, почти бежала. Несколько дней назад в Скальном был объявлен комендантский час, а на улице уже темнело. И, хотя до начала запретного времени оставалось еще около часа, нужно было успеть дойти до дому. Мост перешла еще засветло. А когда вышла к станции, на переезд, совсем стемнело. На пустой улице возле МТС от телеграфного столба отделилась вдруг темная фигура. Направо — пустой двор МТС, налево — безлюдная насыпь железной дороги. А фигура двинулась прямо наперерез Гале. Девушка даже остановилась от неожиданности, не зная, что делать: идти вперед, бежать назад, а может, звать на помощь? — Не бойся, девушка, — успокоил ее женский голос. Полная, невысокая женщина в валенках, черном пальто и толстом, зимнем платке пошла рядом с Галей. — Слушай, девушка, ты меня не знаешь… — начала она приглушенным голосом. — Совсем не знаю. Чего вам? — испугалась Галя. — А я тебя знаю, — не обратила внимания на ее вопрос женщина. — Ты ведь в типографии работаешь, да? — Да. Но… — Погоди. Послушай. Может, ты и не знаешь ничего, но мне непременно надо кому-нибудь сказать. Предупредить. А кого — не знаю. Ну вот и подумала: дай скажу девушке, потому что делать это могут только там. — Женщина говорила торопливо, будто не договаривая чего-то, но спокойно. — Может, знаешь, так скажи кому надо. В воскресенье утром в Петриковке арестован Савка Горобец… — Слушайте, я не знаю никакого Горобца! — совсем уже перепугалась Галя, подумав про себя: «Кто она? Зачем? Из полиции? Провоцирует?.. А что же еще может быть?.. Нет, конечно, провоцирует!» — У него отобрали листовку, — не обращая внимания на Галины слова, продолжала женщина. — Из города в Скальное понаехала куча гестаповцев. Разыскивают «Молнию»… — Да о чем это вы? Я совершенно ничего не понимаю, — отбивалась от нее Галя, впервые услышав про какого-то там Горобца, листовку и молнию. При чем тут молния? Может, эта женщина сумасшедшая? Мороз прошел по спине девушки. А женщина не отставала: — Мне бы только предупредить. Больше всего надо опасаться полицая Дементия Квашу! Он самый опасный. Он знает много и до всего докопается, до всего, если его не убрать… — Отстаньте от меня! Чего вы ко мне пристали?! — ускоряя шаг, ответила Галя. — Берегитесь, ой берегитесь Кваши! — не отставала женщина. — Передай кому следует… или мне посоветуй, кого предупредить. — Сейчас же отстаньте! Слышите?! — уже бежала Галя. — Я вас не понимаю. Слышите, не понимаю! Не приставайте ко мне, а то я буду кричать. — Твое дело, — совсем спокойно сказала женщина и, остановившись, продолжала говорить вслед Гале: — Мое дело — честно предупредить. Кваша! Дементий Кваша! Некому мне больше сказать. Думаю — ты там работаешь, может быть, знаешь. А так или не так — гляди сама. Отстав наконец от девушки, жена полицая Кваши (это была Варька) шмыгнула в боковой переулок и исчезла, будто растаяла в вечерней темноте…Два дня после свадьбы Варька ходила с распухшим, синим носом. Два дня нестерпимо что-то резало в животе и не давало свободно вздохнуть. Два дня все клокотало в ней лютой ненавистью. И два дня лелеяла Варька мысль о мести, придумывая для своего нового мужа самые злые кары и самые страшные муки. В понедельник вечером вернулся домой Дементий трезвый, весь какой-то помятый, словно побитый пес. Приплелся пешком из самого Скального — просить прощения. — Не хочу тебя ни знать, ни видеть! — кричала Варька. — Зачем ты мне, бандюга такой! Иди и на глаза мне не попадайся, потому как пожалуюсь пану коменданту! Ты у меня еще вот такими слезами заплачешь! Хорошо зная, что никакой комендант не будет путаться в ее дела и что даже Полторак за нее не вступится, Варька еще больше свирепела и еще жарче грозила: — Иди прочь, постылый! Не растравляй мое сердце, потому что я тебе не знаю что сделаю! Все нутро отбил, злодеюга ты, пьяница беспросыпный! Два дня ни разогнуться, ни вздохнуть не могу! От обиды, злобы и бессилия Варька заплакала. А Дементий не уходил. Он сидел у стола, одетый, в шапке, подперев голову кулаком, и скулил, сетуя на свою долю, клял «того котюгу» Полторака и доказывал, что сама она, Варька, виновата. Упрашивал ее, укорял, жаловался на трудную службу в полиции, чтоб хоть как-то разжалобить: мол, из-за каждого угла подстрелить тебя могут, как собаку, так и жди, оглядывайся, а тут дома такое творится, что свадьбы отгулять не успели, а уж… — Убьешь тебя, — кинула Варька. — Прочитала б, что пишут! В твоей же хате у Савки Горобца отобрали. «Молния» подписано. Оверко сам читал. Вчера на дежурстве все дочиста рассказал. А ты спьяна с этим Полтораком и не поняла ничего! Тут Дементий начал пересказывать с Оверковых слов листовку, особенно напирая на слова «уничтожайте оккупантов и предателей полицаев», добавив еще и от себя пострашнее подробности, чтоб разжалобить молодую жену и вызвать к себе сочувствие. — Все теперь боятся. Вон гестаповцев в Скальное полно понаехало, чтобы эту «Молнию» ловить, да и те боятся. А что же наш брат полицай? Только и поспевай во все стороны озираться. За село страшно нос высунуть. — А что же! Могут и убить! Это им раз плюнуть! — наконец заинтересовалась Дементьевым рассказом Варька. — Моего дядьку Софрона в восемнадцатом партизаны в селе убили. Может, помнишь, в гайдамаках был. — А как же! Тогда еще клуня у Ступаков сгорела… Партизаны — это такие, они могут. — А только какие же сейчас партизаны? — засомневалась Варька. — Где они? — Гм… Где! Все они теперь партизаны! Все как есть! Только молчат до поры. Ходит вокруг тебя, разговаривает, а только зазевайся — тут он тебе и всадит пулю. — Жаль, что до сих пор никто не всадил, — опомнившись и поймав себя на мирном разговоре с ненавистным мужем, криво усмехнулась Варька. — Ну, да еще всадят! Будет тебе и гром и молния! А я вот нисколечко не пожалею! — Дура! Шлюха! — вспыхнул Кваша. — Подстилка Полторакова! А тебя они, думаешь, по головке погладят? Не дай боже вернутся — на одной виселице висеть будем! Или, думаешь, муженек твой тебя пожалеет, как вернется? Жди! Он же первый и пристрелит! А ведь и правда! Варька только виду не подала, а сама, услышав об этой «Молнии», испугалась не хуже самого Дементия. Листовка, или, вернее, то, что рассказал про нее Дементий, заставила Варьку, несмотря на все ее легкомыслие, задуматься. Выходит, брехали немцы, когда говорили, что Красной Армии уже не существует, что Москва взята и войне вот-вот конец. До сих пор в пьяном угаре Варьке было просто ни к чему над этим задумываться. И только страх принудил ее оглянуться вокруг. А что, если Красная Армия, а с нею, гляди, и муж действительно вернутся? Да что там, по всему видно, что могут вернуться! Особенно пугали Варьку слова, которые призывали уничтожать предателей полицаев. А ведь она теперь, выходит, полицаиха, полицаева жена! (И откуда только взялся на ее несчастную голову этот пьянчуга Дементий!) Да еще и комендантская кухарка! «Не посмотрят, что я беззащитная женщина, — жалела себя Варька, — придут — да сразу и в тюрьму! А может, пока те вернутся, тут найдутся такие, что пулю влепят! А что, разве не предупреждал меня кто-то, встретив ночью на плотине, чтобы остерегалась, чтобы звания людского не позорила… Не узнала кто — темно было. Да и не очень-то внимание обратила. Думала — Дементий защитит… Да, как же! Защитил! Наверное, печенку отбил… Ну, подожди же, собака, не забуду тебе! Ты у меня еще поскачешь!» И уже зароились в голове мысли, ища спасения, выхода. Чтобы и сейчас хорошо было и потом не проиграть. И этому ненавистному Дементию так отплатить, чтоб до новых веников помнил! А то… А то хорошо бы и совсем от него отделаться. Варька так была зла на него, что, кажется, заплясала бы, если б он подох ненароком! «Ишь, собака, наговорил тут, настращал, чтобы разжалобить, а теперь опять разбрехался! И гляди-ка, еще грозится, предупреждает, чтобы про все это никому ни звука! Боится, что выболтал, секреты ихние раскрыл! Нет, голубчик, сам виноват. Не надо было трепаться! Вот расскажу про тебя жандармам! Или нет, лучше Мутцу, а он уж сам дальше… Попрошу, чтобы не говорил, откуда узнал про Квашину трепотню! Ох уж и всыплют ему, ох и отлупцуют! А то и вовсе порешат… Вот бы… А что, если не убьют, а только выдерут, а он потом узнает, откуда это на него?! А вот если бы и немцам, и тем, партизанам: остерегайтесь, мол, Кваши, он много знает и немцам продает… Чтобы на него, ирода, с обоих боков, чтобы никак уж не выкрутился! Вот было бы!.. Эх, знать бы, где они, эти партизаны! А рассказать есть что! Берегитесь, Кваша по следу вашему идет. Ничего вы еще не знаете, а тут уже и жандармов понаехало, чтобы молнию ловить… А потом, если придется, всегда можно сказать: „А помните, вот тогда, как Савку Горобца арестовали, это ж я вас предупредила!“ Вот только где их найдешь? Если бы знала, так уж нашла бы, сумела б им рассказать… Было бы тебе, Дементий, на бублики, знал бы, как беззащитную вдову обижать да мучить! Но кто же это и где мог выпускать эту „Молнию“?!» И уж ласковее обратилась к рассвирепевшему Дементию: — Тю, бешеный, уже и разорался? Сам побил, а мне — и слова не молви. Еще и грозит! И без тебя страшно. Ты вот скажи лучше, что это за люди такие, чтобы тут у нас эти листовки делали? — «Де-е-лали»! — передразнил ее Дементий. — «Де-е-лали»! Тоже мне голова, соломою набитая. Не «делали», а как это… печатали! Печатали! Понимаешь? — Печатали? — Ну да! Знаешь, как в Скальном до немцев редакция газету печатала? — Редакция? А где же у них эта редакция? — А я знаю? Может, там, где и была, да и печатают потихоньку. Погоди, наши еще разберутся! — А разве и теперь там что делают? — Да, как будто делают… Одним словом, Варька вдруг пошла на переговоры, и в этот вечер они с Дементием вроде бы и помирились. Рассказать коменданту Мутцу, как Дементий выбалтывает гестаповские секреты, пересказывает советские листовки, твердит, что Красная Армия скоро вернется, а может, сам тайно связан с партизанами-подпольщиками, Варька решила еще в тот же вечер твердо. Но и мысль о «Молнии», о ком-нибудь, кто бы мог передать этим таинственным партизанам про Дементия и предупредить об опасности, тоже не шла у нее из головы. Потому что после того, как вернулся старый сожитель Полторак, да еще после недавних пинков Дементий стал ей нестерпим, и она хотела убрать его с дороги во что бы то ни стало. Целую ночь эти мысли не давали ей покоя. И где-то уже под утро стукнуло в голову: «А что, если и вправду в той редакции в Скальном кто-нибудь тайно выпускает листовки? Посмотреть, дознаться, сколько их там, прикинуть, кто самый ловкий, да и предупредить втемную, наудачу, не открывая себя. А вдруг? Гляди, кокнут-таки моего Квашу! Вот тогда уж я знать буду, где ниточка от клубочка. Тогда уж все будет в моих руках. Куда захочу, туда и поверну…» Вот эти ночные «раздумья» после целого дня, проведенного близ управы, и привели Варьку к Гале. Потому что из тех двух, что работали в типографии, Галя, по Варькиному мнению, больше всех походила на партизанского подпольщика.
…Домой после этой загадочной встречи Галя уже не шла, а бежала. И дома долго не могла успокоиться, почти до самого утра не спала, ожидая чего-то, прислушиваясь к каждому шороху, звуку за окнами. Что же все это значит? Кто эта женщина? Друг? Враг? И почему она привязалась именно к ней? Что за этим кроется? Чем это грозят и чем кончится? На работу она вышла пораньше и по дороге забежала в мастерскую Максима. Максим обтачивал рашпилем зажатую в тиски железную трубку. Когда на пороге своей полутемной конурки он увидел девушку, лицо его мгновенно отразило все, что он в эту минуту почувствовал, — тревожное удивление, радость и… неудовольствие. Все это не укрылось от девушки, потому что Максим просиял, вспыхнул и сразу же потемнел, нахмурился. — Галя, мы ведь, кажется, уговорились… Ясно? — Меня никто не видел… — Все равно. Приходить сюда тебе категорически запрещено. — Я не могла ждать ни минутки… — Все равно. Мы уговорились и… — Потом, потом! — взволнованно и нетерпеливо перебила его Галя. — Сначала выслушай. Это волнение и нетерпение сразу же передалось Максиму, хотя теперь уж ничего нельзя было прочитать на его сосредоточенном и замкнутом лице. Внимательно выслушав Галин рассказ о вчерашнем странном приключении, Максим вдруг улыбнулся. Улыбнулся и так поглядел на девушку, что она сразу почувствовала себя спокойнее, увереннее. Волнение ее мало-помалу улеглось, и все это приключение здесь, рядом с Максимом, стало казаться не таким уже страшным. — Так, ясно! — Улыбка сошла с Максимова лица, но глаза его вдруг блеснули веселыми, задорными огоньками. — Странно, конечно, да… может, и небезопасно. Но… — Он говорил таким тоном, словно его радовало и веселило то, что случилась такая таинственная и, наверно, небезопасная штука. — Но кто бы ни была эта женщина, ее сообщением заинтересоваться стоит, очень даже стоит. Они перехватили листовку. Переполошились, подняли всех на ноги и… хотят поймать «Молнию»… Скажи: к вам, часом, не заходил такой выхоленный немчик, рядовой, с золотыми зубами и с кольцами на пальцах? — Золотозубый? Погоди… Да, кажется, заходил. Ну да! Еще сказал, что хочет разменять деньги в кассе и не в те двери попал… — Я так и думал, что он должен зайти к вам. Но пока можно не волноваться, в типографии ему зацепиться не за что. Женщина эта сказала правду. Наехало их тут немало. Вот они и прислушиваются, вынюхивают, хотят напасть на след. Значит, ясно! Надо быть осторожнее и глаз с них не спускать. И ни на какую провокацию не поддаваться. Даже если тебя и уверят в чем-нибудь, все равно молчи. Без дела встречаться со мной тебе не нужно. А насчет той женщины… Опять же… Кваша, конечно, не самая яркая звезда на темном полицейском горизонте. А про листовку — это важно. Пожалуй, и правда, есть она у них, но до времени прячут. А кто такой Савка Горобец? Ты не знаешь такого? — Да нет! — пожала Галя плечами, с удивлением прислушиваясь к Максимовым рассуждениям, походившим скорее на мысли вслух, чем на разговор. Девушка не все до конца поняла, о чем он толкует. Поколебавшись, осмелилась и спросила: — Слушай, Максим, ты так говоришь, будто и до меня обо всем уже слышал. Я ничего не пойму. Какой-то Горобец, листовка, и что это, в конце концов, за молния? Почему ее ловят? — Видишь ли, Галя, сейчас каждый из нас должен знать только то, что ему крайне необходимо знать. А что касается «Молнии»… Ну, если хочешь, ты тоже «Молния». Пока что… Но будет на них еще и гром. Ясно? Вот только надо бы сейчас все-таки выяснить: кто же это Савка Горобец?
13
Максиму было тогда лет тринадцать, он начал ходить в пятый класс. Жил на Горбе — так называлась эта часть Скального. Дом их был восьмым от края на центральной улице, по которой проходил старый Волосский шлях. Налево от этого шляха, за крайними домами — широкая базарная площадь. Ниже, за базаром, кладбище, дальше — долина Бережанки. А направо, как раз напротив базара, стояла вторая скальновская (ее, в отличие от «заводской», называли «сельской») десятилетка. За десятилеткой протянулся покрытый леском лог, а дальше, за логом, раскинулись поля пшеницы, высились над Волосским шляхом древние степные курганы. Левее шляха, как раз напротив школы, за базаром дугою до самого леса выстроились высокие тополя; по-над яром еще с десяток глиняных хаток — хуторок, который с давних времен звался почему-то Куриными Лапками. За хуторком — мелкий и на самом деле поросший терном Терновый яр, а за яром, левее, шла дорога на сахаросовхоз «Красная волна». От второй, сельской школы до Максимова дома улицей идти меньше километра. Но Максимов отец, известный на все Скальное паровозный машинист, отдал сына в первую, заводскую школу, до которой идти надо было километра три. Во-первых, в заводской учились дети всех отцовых друзей и коллег — «станционных», а во-вторых, почему-то Карпу Зализному казалось, что в «заводской» учителя и умнее и ученее, потому что они были «солиднее», то есть лучше и совсем по-городскому одеты…Как-то пасмурным, дождливым днем в конце октября Максим понес отцу на станцию обед в плетеной соломенной кошелке. В конце улицы, недалеко от переезда, разлилась после вчерашнего дождя на всю мостовую мутная, разболтанная десятками подвод лужа. Пройти можно было только узенькой тропкой мимо глухих высоких ворот багажного кассира Ивана Сторожука. И как раз у самых этих ворот молча, опасливо озираясь по сторонам, стояла маленькая девочка с большим, сбитым из фанеры зеленым ранцем за спиной. На пухленькой левой ручонке болталась на веревочке в полотняном мешочке «невыливайка». А напротив девочки, загородив дорогу, сидел у ворот тощий, с облезлым боком, пестренький щенок. Широко расставив кривые передние лапы и присев на задние, щенок, явно заигрывая с девочкой, лениво, но довольно громко тявкал. Зальется, потявкает и смолкнет, подождет, наклонив голову набок, — одно ухо кверху, другое свисает на глаз, — и с любопытством смотрит на девочку. А девочка стоит, испуганная, растерянно озирается и, не видя, кого бы можно позвать на помощь, и не решаясь громко кричать, молча заливается горькими слезами. С ходу, не глядя, Максим двинул щенка сапогом. Тому, видно, не раз уже попадало от мальчишек, и он, обиженно взвизгнув, умолк и юркнул в подворотню.

— Ну, шагай, мамина кислятинка! — хлопнул ладонью по зеленому ранцу Максим. Но девочка, ступив несколько шагов, снова в нерешительности остановилась — лужа в этом месте переливалась через тропку нешироким ручейком. Максим повесил кошелку на забор, взял девочку под мышки, и мгновенно непреодолимая преграда осталась позади. Потом снял кошелку и, уже совсем машинально дернув кончик белой, в горошек, видимо материной, косынки, провел им по пухленькой детской рожице, стирая частые слезы. И тут же, словно устыдившись своей сентиментальности, показал девочке язык. — Бе-е-е! Мамина кислятинка! — Сам ты кислятинка! — обозлилась спасенная и тоже высунула язык. — Сам! — И снова выступили из глаз и покатились по щекам большие, как весенняя роса, сердитые слезы. Потом Максим встречал эту девочку уже часто. В школе, по дороге в школу, а порой возле станции, через которую ходила маленькая первоклассница. И каждый раз при встрече Максим напоминал девочке о противном Сторожуковом щенке и дразнил ее, строя рожи и показывая язык. Тянулась эта игра годами. Давно уже вырос в кудлатого, всегда облепленного репьями, лениво-добродушного пса Сторожуков щенок, давно перестала бояться его Галя Очеретная, а Максим при встрече все дразнил и дразнил ее. Девочка долго обижалась, какое-то время просто ненавидела Максима, плакала и, издалека завидев его, старалась избежать встречи. С годами осмелев, она стала отвечать ему тем же. А уже в четвертом классе, когда Галя как-то вдруг стала вытягиваться, а Максим вернулся в школу после больницы, это взаимное подшучивание превратилось в своеобразную игру, забавлявшую обоих. Теперь, завидев Максима, Галя нарочно останавливалась и, широко улыбаясь, ждала, когда он передразнит ее или просто напомнит о тощем щенке…
Сын известного на всю дорогу машиниста, Максим рос почти без отцовского глаза, веселым, живым и озорным сорвиголовой. Кипучая энергия, случалось, била в нем через край, и тогда остановить ее мог только отцовский широкий, с медной пряжкой ремень, который в равной мере хорошо и бритву правил и, как средство чисто педагогическое, направлял в надлежащее русло сыновнюю энергию. Но обращался отец к этой воспитательной мере не часто. Бабушка Вустя, мать отца, которая, собственно, выходила и воспитала Максима, была мягкой, удивительно покладистой по характеру и так любила и жалела своего единственного, рано осиротевшего внука, что помехой ему быть никак не могла. Отца Максим очень любил и гордился им перед товарищами, хотя вечно занятый, молчаливый, даже на первый взгляд угрюмый, Карпо часто уезжал в рейс и потому дома бывал мало. Разговаривал он с сыном не часто. Случалось это, только когда отец бывал немного выпивши или работал на маневровом паровозе, куда иногда пускал мальчонку. Паровозу на маленькой станции развернуться было негде, и он больше простаивал. Да и вообще со всей работой отлично справлялся помощник, а отец тем временем беседовал с сыном — показывал, объяснял машину. Там, на паровозе, от его угрюмости и молчаливости не оставалось и следа. Выпив, отец становился разговорчивым, ласковым, даже веселым. Выпивал он изредка, обычно в получку, в свободное от рейсов время выпить мог порядочно, но пьяным Максим его никогда не видал. Так только, навеселе. Тогда у него можно было спрашивать и выпрашивать все, что угодно, даже складной ножик с пятью лезвиями, штопором, вилкой и ножничками. Правда, только поиграть. Матери мальчик совсем не помнил. Так вышло, что от нее не осталось даже фотокарточки. Он только слышал, что была она красивая, но болезненная. Да еще однажды за выпивкой приятель отца и бывший его учитель на паровозе, а теперь старенький путевой сторож Яременко удостоверил по-своему, что Максим вроде очень похож на мать. — Этот у тебя счастливым будет, — сказал захмелевший Яременко отцу, кивая на Максима. — Лицом в мать, а силой и характером в тебя. Такой висельник растет, — земля под ним горит! Учился Максим хорошо, хотя почти никогда за уроками дома его не видели. Зато часто встречали то на станции, то около завода, на речке, а то, случалось, и в чужом саду «шкодил», как говорила бабушка Вустя. Громкая слава озорника и сорвиголовы годами сопутствовала Максиму. Хотя «шкодил» он не со зла, часто сам понимал, что хватает через край, даже каялся, но такой уж у него был нрав — непоседливый, горячий, ко всему любопытный. Мальчик рос смелым и правдивым. Прыгал с десятиметрового мостка в реку наравне со взрослыми парнями; темной ночью один, к удивлению и восхищению девчонок-одноклассниц, проходил через большое кладбище, заросшее кленами, вязами и бузиновыми кустами. И если случалось, что за его проказы наказывали другого, он не боялся встать и громко, не хвастаясь, но и не без мальчишеской гордости сказать: — Это сделал я. Но порою, когда этого требовали нерушимые законы мальчишеской дружбы, от Максима нельзя было добиться слова — ни просьбами и обещаниями, ни отцовым ремнем. Время от времени этому ремню приходилось-таки исполнять свои педагогические обязанности. И исполнял он их, надо сказать, со всею добросовестностью. Заметных результатов обычно не оказывалось, но этим обстоятельством отец не слишком огорчался. В душе он даже хвалил сына за твердость и стойкость. — Каторжник сибирский, но молодец! — неторопливо разглаживая густые усы, говорил старик, когда Максим уже не мог его услышать. — А крепкий все-таки казачище растет… Были у Максима и свои мальчишеские мечты: побороть не только всех своих соучеников по классу, но и стать чемпионом своей улицы среди однолеток; переплыть широченный заводской пруд на сколько-нибудь секунд быстрее абсолютного чемпиона этого дела молодого механика МТС Вани Павлюченко; иметь собственный велосипед, настоящий радиоприемник и научиться самостоятельно водить если не автомашину, то хотя бы трактор. Но самой заветной была, разумеется, мечта стать, как отец, паровозным машинистом. До конца, до самозабвения захватывали Максима две вещи — кино и техника. Кино могло заменить ему все, все возможные и доступные для него виды искусства и наук, за исключением, конечно, техники. Он ни про одну кинокартину ни разу не спросил, интересная ли она, а только где и когда идет. Все фильмы казались ему чудесными. И были среди них такие, которые он умудрялся посмотреть по два, три, а то и по пять раз. Если у какого-нибудь шофера спускал посреди дороги скат, Максим обязательно ему помогал. А когда ему выпадало счастье видеть, как шофер разбирал или собирал в моторе какую-нибудь деталь, это было для него настоящим праздником. Он останавливался, смотрел, советовал и приходил в себя, только когда мотор был собран, карбюратор прочищен, а колесо смонтировано. Тогда только Максим вспоминал, что наступил вечер и что бабушка, пославшая его за солью, должно быть, не дождавшись, уже несколько раз бегала на базарную площадь, обошла всех соседей, изболелась душой… И хорошо, если, возвращаясь домой, Максим знал, что отец придет из рейса только послезавтра. Так ведь не всегда в жизни все удается. И еще одна любовь была у мальчика — любовь, правда, тайная, которой он почти стыдился. В третьем классе учителем у них был Трохим Трохимович. Наверное, учитель хорошо знал свое дело — достаточно сказать, что дети все как один любили его. А вот взрослые — те считали, что Трохим Трохимович чудак и вообще слегка «тронутый». Кое-какие основания у них, взрослых, для этого имелись. Однажды осенью, в начале учебного года, Трохим Трохимович принес в школу «Кобзаря» и… четыре часа подряд, вместо того чтобы объяснять ученикам премудрости четырех арифметических действий и склонение имен существительных, читал детям шевченковскую «Катерину». Поступок с педагогической точки зрения более чем странный. А вот ведь недаром говорят, что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. После того чтения Максим, сколько жил, был Трохиму Трохимовичу благодарен. «Катерина» произвела на Максима необычайное, просто ошеломляющее впечатление. Еще много дней после того он был словно в чаду. Потом выпросил у путейского сторожа, отцова приятеля Яременко, старое, еще дореволюционное издание «Кобзаря». И с тех дней навсегда полюбил поэзию. Максима развлекало все — и Сторожуков щенок, и первоклассница Галя, и войлочный мячик, и пруд, и речка, и завод, и перронная суматоха, и дальние и ближние поезда, и грузные, тяжеловесные, как слоны, паровозы, потеющие блестящими каплями смазки и чихающие клубами горячего пара… Так и шла эта исполненная веселых происшествий, маленьких неприятностей и больших радостей жизнь, пока несчастный случай внезапно и преждевременно не оборвал Максимово детство.
14
Это случилось сразу после того, как Максим перешел в седьмой класс и школу закрыли на летние каникулы. Они решили большой ватагой пойти за Казачью балку, в лесок, собирать землянику — ребята из двух классов, вот уже второй день ставших седьмым «А» и седьмым «Б». Сбор назначили на мосту. Собрались все, человек пятнадцать. Недалеко от моста, чуть выше по течению, решили сначала искупаться. А накупавшись досыта, выбежали на дорогу. Тут и встретилась им груженная большими белыми мешками машина. Обгоняя ребячью ватагу, она медленно, тяжело поднималась в гору, к станции. С чем эти мешки — зерном, сахаром или мукой, — Максим так и не разобрал. Главным было сейчас то, что сверху, на мешках, — ни живой души. Не задумываясь, просто от избытка энергии, которая бурлила в нем после купания, Максим бросился вдогонку за машиной. Пружинистый скачок вверх — и руки цепко ухватились за задний борт, левая нога повисла в воздухе, а правая уперлась в чуть выступающий стык зеленых досок. Одно усилие — и вот уже мокрый, растрепанный Максимов чуб торчит над бортом. Еще мгновение — и сидел бы уже Максим на самой верхотуре, помахивая товарищам рукой и победно улыбаясь… Но тут случилось неожиданное. Точно вынырнув из мешка, перед Максимовыми глазами появилось чье-то лицо. Максим не разглядел, не запомнил, что это был за человек. Запомнил только черную, с пуговичкой кепку и глаза, прищуренные в злой ухмылке. — Ах ты висельник! — И человек протянул руку. — Вот я тебе!.. Он и вправду, казалось, хотел толкнуть, ударить или, может, схватить Максима за чуб, но парень инстинктивно отпрянул назад. Нога не удержалась на борту, соскользнула, тело рванулось вниз, он тяжело стукнулся о борт подбородком, и руки сами собой разжались. Наверное, он все-таки ушибся, упав на дорогу. Но боли не почувствовал, сразу же пружинисто вскочил на ноги. Кинулся с дороги в сторону, и… откуда взялась тут подвода, запряженная парою пугливых молодых лошадок? Максим услышал испуганный всхрап, треск, чей-то тревожный вскрик. Что-то тяжелое упало ему на ноги, зацепило, потянуло и с силой откинуло в сторону. Все это произошло в один миг. Скатившись по прибрежному склону в кусты дерезы, Максим добрую минуту лежал, ничего не соображая. Потом сгоряча вскочил на ноги и, ослепленный болью, полетел вниз головой на дорожку. Наверно, на какое-то время он все-таки обеспамятел, потому что, когда ребята подбежали к нему, лежал неподвижно. Густой, холодный пот выступил на побелевшем лбу, глаза были закрыты. Но вот веки затрепетали, глаза открылись, и он обвел товарищей затуманенным, изумленным взглядом. Испуганные ребята нерешительно топтались возле него, не зная, что делать. Максим попросил: — Поднимите меня. Но стать на ноги или хотя бы сесть он уже не мог. От острой боли потемнело в глазах, выступили слезы. Но Максим не плакал. Сжав зубы, он даже не стонал. Минутку передохнув, снова глянул на товарищей и твердо, отдыхая после каждого слова, приказал: — …Отцу… никому… ни слова. Пусть только… кто посмеет… Тогда берегитесь… — Убедившись, что сам не поднимется, сказал: — Перенесите меня на берег. Степан Горбенко, живший неподалеку, сбегал домой и принес рядно. Максима осторожно снесли вниз и положили в холодке под вербою. Больно ему было ужасно, но теперь он уже начал различать, где и как болит. Огнем жгло левое бедро, и точно сверлом крутило в колене вдруг отяжелевшей и словно омертвевшей левой ноги. В правом боку сильно кололо. Ребята осторожно стянули с него штаны. Весь он был в синяках, левая нога от колена и ниже посинела до черноты и начала опухать. Из разодранного до кости бедра сочилась кровь. — К врачу надо, — испуганно прошептал кто-то из ребят. — Не надо… Полежу тут до вечера, отдохну… оно и пройдет… Пока отец вернется… дома уже буду, в постели. Вот только, может… кто йоду достанет… Отец должен был вернуться из рейса часов в двенадцать ночи. Значит, целый день еще впереди, потом ночь, а может, еще и следующий день, потому что снова на работу отец уйдет очень рано. Пусть хоть как болит, он будет крепиться. Поболит и перестанет. И отец ничего не узнает. Но ни йод, ни горячая вера в то, что как-нибудь обойдется, не помогли. Через час нога совсем почернела, одеревенела и стала вдвое толще. Закусив до крови губы, Максим лежал с закрытыми глазами, часто и тяжело дышал. Даже от того, что нужно было втягивать в себя воздух, была сильная боль. Иногда он будто проваливался в сонное забытье. А немного погодя Максим стал бредить. Испуганные ребята поняли, что нельзя дальше скрывать случившееся от взрослых. Когда Карпо Зализный вернулся из рейса, он еще на станции узнал, что сын его лежит в больнице в бессознательном состоянии. Целое лето, осень и часть зимы, до самого нового года, мальчик пролежал в гипсе. Потом два месяца лечился в специальном детском санатории-интернате в областном городе. И наконец, весь апрель и начало мая долеживал или, вернее, досиживал дома, под присмотром бабушки. Все время, пока Максим лежал в больнице, и после того, как дела пошли на поправку, его навещали учителя и товарищи. Он радостно встречал всех, но никакого сочувствия не терпел. Попросил, чтобы ему передали тетради и учебники за седьмой класс, и, не теряя времени, стал заниматься — тут же, в больнице. Но на учение уходило у него не все время. Да и вообще занятий ему всегда было мало. Тут, в больнице, снова с остротой и свежестью первого впечатления припоминалась ему прочитанная Трохимом Трохимовичем «Катерина», вспыхнула с новой силой любовь к поэзии. Тут до конца ощутил он радость от прочитанной книжки. И разгорелась новая, может быть, самая сильная, его страсть. Максим читал все, что попадалось под руку, читал каждую свободную минуту. Если запрещали, читал украдкой. Если не давали книжек, просил у соседей по палате, а то и из других палат. Если не было новой книжки, перечитывал старую. Десятки стихотворений, а то и целые поэмы заучивал наизусть. Именно здесь, в больнице, попался ему «Овод». Прочитал он его один раз, потом другой. Максим уже знал, что останется калекой. И в Артуре, битом-перебитом жизнью, впечатлительном, израненном, нежном, но несломленном и несгибаемом, словно выкованном из железа, Максим нашел длясебя опору. Тогда, в больнице, Артур подействовал на него так же, как и впервые услышанная «Катерина». Замкнутость, колючесть Артура, его мужество, жертвенное романтическое отношение к людям, к любимой женщине — все это рождало в Максиме желание следовать герою «Овода», который не оставляет себе в жизни ничего, а всего себя, до конца, до последнего вздоха, отдает другим! Еще ближе Максиму был Павел Корчагин. Он понимал, конечно, что они разные, эти люди, и все-таки в его представлении они были братьями, людьми одной судьбы, одного характера, стремления, цели. Третьей после Артура и Павки героиней, к которой втайне примеривал свою жизнь мальчик, была Леся Украинка. Читать и перечитывать Лесю стало для него душевной потребностью. В каком-нибудь давно знакомом, не раз читанном стихотворении находил он раньше незамеченное, глубокое, впечатляющее. Навсегда сохранилось в нем удивительно яркое ощущение обновления, величия и красоты мира, которое он испытал под воздействием Леси в первую весну возвращения к жизни. Он сидел в постели у раскрытого окна и читал стихи. За окном цвели вишни, остро пахло свежим черноземом и первой зеленью. На глаза ему попалось стихотворение:Но шепчу я упорно: «Не верю весне!»
Только тщетным неверие было —
Всколыхнулись и слезы и песни во мне…
О весна! Ты меня победила. [1]
15
Осенью Максим пошел прямо в восьмой класс. За лето он отдохнул, набрался сил, занимался с учителями. С экзаменами за седьмой класс он справился за два осенних месяца, а еще за два, как раз к зимним каникулам, догнал свой класс. Он по-прежнему много читал, учился старательно, порою просиживая над учебниками целые дни, вечера и выходные. Все, казалось, вошло в прежнюю колею, как будто ничего и не случилось. Но сам Максим был уже не тот. В классе он был по-прежнему первым учеником. Но веселого, неуемно-кипучего, острого на язык заводилы и сорвиголовы не стало. Изменился Максим до неузнаваемости и внешне. Похудел, вытянулся, раздался в плечах. И в глазах появилось что-то новое, вдумчивое, сосредоточенное и как будто просветленное. Никогда и никому не показывал Максим, как удручало его увечье. Но оно сильно удручало его и мучило. Юноша загонял эти чувства на самое дно своей души, даже самому себе в них не признавался. И все же чувства эти прорывались, может быть, даже неосознанно, прорывались в несвойственном для такого подростка, почти взрослом аскетизме. Когда-то Максим не делал разницы между парнями и девчатами. Ему все равно было, кого довести до слез — первоклассницу Галю Очеретную или второклассника Леню Заброду, с кем переплывать наперегонки пруд — с однокашником Петром Забиякой или со старшеклассницей Ниной Чебанюк. Теперь он обращался с девчатами сухо и вежливо. Всем своим поведением он хотел показать, что совершенно к ним равнодушен. «Ну что ж, — словно говорил он, — я действительно калека, однако то, как вы на меня смотрите, может, даже жалеете, абсолютно меня не интересует. Не нужно мне ни вас, ни вашего сочувствия. Сильным сочувствие ни к чему. Даже калекой я хочу быть и буду сильнее вас. Да и не только вас». Как и прежде, он плавал в речке и на пруду, прыгал чуть ли не лучше всех с десятиметровой вышки. Выжимал тяжеленные гири, подтягивался, крутил «солнце» на турнике и добился того, что пожатия его руки не выдерживал никто из товарищей. Максим приучал себя к купанию во всякое время года. Начинал в марте, заканчивал уже поздней осенью, когда берега схватывались ледяными кристалликами. Закалялся, чтобы потом купаться и зимой. Легко одетый, зимой он большей частью ходил с непокрытой головой, ежедневно обливался до пояса студеной колодезной водой, а то и натирался снегом. Иногда такая тренировка оборачивалась простудой, но молодой организм выдерживал. Из всех озорных ребячьих игр, которыми раньше так увлекался Максим, он оставил теперь только одну — «кто дольше вытерпит». Кто дольше вытерпит раскаленный докрасна уголек на ладони, кто дольше выдержит, когда чрезмерно сжимают руку, кто дольше задержит под водой дыхание. Чаще побеждал в этой игре Максим, а если чего не выдерживал, долго потом тренировался в одиночестве. Не было уже в этих играх прежнего веселого и безудержного ребячьего азарта. Теперь он был сосредоточен, молчалив и тяжело, не скрывая досады, переживал «проигрыш». С отцом они стали большими друзьями. Дошкольный отцов ремень быстро забылся. Пришло непривычное отцовское уважение к серьезному, вдумчивому сыну, который знал теперь много такого, о чем отец никогда и не слыхивал. Претерпели большие изменения и сыновнии идеалы. Нет, отцова паровоза Максим не разлюбил, но о том, чтобы стать кочегаром или машинистом, уже не мечтал. Теперь он думал о политехническом, видел себя инженером-конструктором, а может, изобретателем. Ни перемены в жизни, ни любовь к поэзии не убили его увлечения техникой. Все, что пахло окалиной и машинным маслом, было его стихией. И только в девятом классе на место тракторов и двигателей пришло радио. И вот оно, это радио, тесно сдружило Максима с соседским мальчиком Леней Забродой. Выписав множество пособий и схем (различные детали возил ему из города отец), Максим начал мастерить детекторные приемники. И, как когда-то он сам, теперь при нем стал сначала постоянным болельщиком, потом пылким помощником сын скальновского стрелочника, белобрысый пятиклассник Леня Заброда. Проворный, настойчивый Леня оказался на редкость смекалистым в технике. Спустя какое-то время он уже сам конструировал, «читал» различные схемы и монтировал радиоприемники не хуже Максима. Руки у Лени всегда были в ссадинах, рубашка замаслена, а то и прожжена, а глаза на счастливом лице упоенно сияли. — У тебя, брат, просто золотые руки, — бросал ему Максим. Леня в ответ только расцветал широкой, благодарной и счастливой улыбкой. В Максима паренек просто влюбился. Они возились с деталями, подгоняли, монтировали, свинчивали, а потом, затаив дыхание, забывая обо всем на свете, ловили в эфире ближние и дальние станции. Максим, хвастаясь иногда в школе силой своего приемника, никогда не забывал похвалить Леню. — Карапуз, пятиклассник, — говорил он, — а уже талант! Самый настоящий Радиобог! Леня дневал и ночевал в маленькой, заваленной железом каморке во дворе у Зализных. Жили они с Максимом душа в душу, дружили, словно однолетки. Но, как известно, полного счастья на свете не бывает. У Лени была такая натура: увлекшись чем-нибудь одним, до конца этому отдавшись, он обо всем остальном забывал совершенно. И вот схватил двойку по физике. А через какое-то время — по математике. Испугавшись матери, Леня переделал двойку на пятерку. Но преступление вскоре раскрылось. Мать вызвали в школу. Сам директор просил ее присмотреть за сыном и повлиять на него. Она поняла это по-своему. Взяла хорошую хворостину и, выкинув предварительно из хаты все, что хоть немножко напоминало радио, так исполосовала Радиобога, что он два дня и сесть не мог. Это еще было бы, как говорят, с полгоря, если б немедленно не проведали обо всем пронырливые соседские мальчишки. «История» стала известна сначала на своей улице, а потом дошла и до школы. — Радиобог, Радиобог! — кричали откуда-то из-за заборов замурзанные, в чернилах второклассники, когда Леня возвращался из школы. Так и осталось за ним это прозвище. Чувствуя и свою вину во всем этом, Максим исхлопотал прощение у Лениной матери и начал подтягивать друга по математике и физике. Постепенно неприятный инцидент забылся и отношения выровнялись. И все-таки, уже студентом, услышав как-то, что Леня бросил десятилетку и пошел учеником слесаря в МТС, Максим подумал с легким раскаянием: «Уж не я ли этому причиной?» Осенью тридцать седьмого, отлично окончив десятилетку, Максим поступил в политехнический институт. С первого же года его избрали секретарем курсового бюро. Потом факультетского и, наконец, заместителем секретаря комсомольского комитета института. Большой город, новая, студенческая среда, новые, гораздо более широкие интересы и общественные обязанности целиком захватили парня и заполнили все его время. Учился Максим хорошо. К нему быстро привыкли, стали уважать, полюбили. Он почувствовал себя равным среди равных. За учением, за множеством других обязанностей — собрания, заседания, библиотека, театры — иногда и оглянуться было некогда, и даже поесть времени не хватало. И Максим не то чтобы привык, нет, просто начал забывать о своем увечье. Оно ему как будто и не мешало совсем, и парень уже не замечал его, как привыкли не замечать и другие… Но вот вспыхнула война. Нескончаемыми колоннами шли мимо института на запад войска. За три дня общежитие почти опустело. Около военкоматов, райкомов партии и комсомола выстроились длинные очереди. Шли на фронт запасники, резервисты, шли добровольцы, формировались студенческие и молодежные батальоны, истребительные и ополченские подразделения. Все это кипело, бурлило тут, рядом с Максимом, на его глазах, но шло мимо него, обтекало, как вода обтекает стоячий камень. И тут-то прорвалось вдруг стремительно, как когда-то в детстве, обидное, нестерпимо острое ощущение своей неполноценности. Мучаясь этим, он просил взять его связистом, радистом, техником, кем угодно — только чтобы попасть в армию, чувствовать себя бойцом. В военкомате с ним просто не захотели разговаривать. А в райкоме комсомола сказали: — Иди и учись. Народу у нас хватает, силы свои надо распределять разумно, и учиться тоже кому-то нужно. Все это было правильно, но Максим не успокоился. Враг рвался на восток. Наши отходили, оставляя позади родную землю, бросая села и города. В начале июля немцы были уже совсем рядом. Бои шли на окраинах города. И тут Максим узнал, что формируются и перебрасываются на оккупированную территорию подпольные диверсионные и партизанские группы. Пролежав ночь с открытыми глазами, он прорвался утром к первому секретарю областного комитета комсомола. — Я прошу направить меня во вражеский тыл на подпольную работу. Ясно? — Не совсем, — усмехнулся невысокий русый толстяк с мелкими веснушками на переносье. Он задал Максиму несколько вопросов: откуда сам, кто родители, с какого года в комсомоле, почему захотел именно в подполье? Выслушав, спросил: — А может, с институтом эвакуируешься? Тяжело тебе будет, и… потом, откровенно говоря, я не уверен, что тебя утвердят. — А я уверен. Только ты не возражай. Ясно? — Немножко яснее! — Видно было, что секретарь сочувствует Максиму. — Садись, — сказал он, помолчав. — Заполняй анкету, пиши заявление и мотивируй. Через два дня Максима вызвали, но не в обком, а в военкомат. Трое в новеньком военном обмундировании долго с ним разговаривали. Беседа свелась к одному уже знакомому совету — хорошенько подумать и отказаться от своего намерения. — Ни за что. Я все обдумал и решил твердо. — Ну что же, — пожав плечами, сказал пожилой, с проседью полковник, — мы вам не отказываем, но и обещать наверняка тоже не можем. Идите и еще раз все как следует взвесьте. Когда надо будет, вызовем. Ночами вокруг города кольцом вспыхивали красные зарницы. Дрожали от взрывов окна, горели подожженные с воздуха дома. Вторую неделю на подступах к городу шли затяжные бои, а Максима все не вызывали. Наконец в начале августа, когда он уже перестал ждать, его вызвали в обком комсомола. Проинструктировали, обеспечили необходимыми документами, деньгами, сказали пароль и отзыв и приказали добираться до родного местечка. В Скальном Максим должен был появиться как беженец из прифронтовой полосы. Его задача организовать явочную квартиру и ждать, пока к нему явится секретарь Скальновского райкома комсомола Федор Кравчук, оставленный там в подполье. От него Максим и получит все дальнейшие указания. Из города он выбрался на попутной военной машине. Потом по железной дороге добрался до станции Сыроежки, ближайшей к линии фронта. Тут переждал двое суток, затерявшись в толпе беженцев, и пешком отправился в Скальное. В селе Петриковка он впервые столкнулся с фашистами. Это была какая-то маршевая часть. Танки, машины, мотоциклы забили все улицы, и в хатах, в садах и огородах кишмя кишело нахальной, прожорливой солдатней. На том берегу пруда, на горке, горела колхозная конюшня. Слышался шум, крики, гогот, тревожно ревела скотина, лаяли собаки. В хатах хлопали двери, звенели ведра, трещали кругом плетни и перелазы, дрожали как в лихорадке деревья, груши и яблоки градом осыпались наземь и на мышастые спины гитлеровской саранчи. Но то, что увидел Максим в центре села, возле школы, ранило его еще больше. Школа была пустая, с распахнутыми настежь дверьми и вышибленными стеклами. Крыльцо и двор усеяны битым стеклом, сломанными рамами, изорванными книжками. А на белой, исклеванной пулями школьной стене, на самом видном месте, кто-то повесил два портрета — Ворошилова и Тимошенко. Под портретами белел какой-то лозунг, писанный, как видно, черными чернилами от руки. Максим подошел и прочитал: «Войне конец! Красной Армии конец! Тимошенко и Ворошилов отдали приказ прекратить бесполезное сопротивление непобедимой немецкой армии». Заработала лживая, наглая геббельсовская пропаганда. И хотя она была примитивной, хотя перед ним было только «собственное творчество» какого-то малограмотного ортскоменданта, сердце Максима болезненно сжалось. Враг уже хозяйничал на нашей земле, как хотел. И уже нельзя было безнаказанно подойти, сорвать этот лозунг и крикнуть в голос ошеломленным внезапным вторжением и трагическим поворотом войны людям, что все это ложь, что не быть им тут хозяевами, что все это только временно… Подходя к Скальному, он еще издали увидел развороченную бомбой, покосившуюся станционную водокачку… Первым живым существом, встретившимся Максиму в родном городе, был Дуська Фойгель, сын скальновского аптекаря. А первой новостью — размноженное под копирку и расклеенное на телеграфных столбах и на заборах объявление «местной» немецкой жандармерии о задержании и расстреле «большевистского агента-диверсанта, секретаря Скальновского районного комитета комсомола Федора Кравчука…».16
Он увидел это объявление, едва ступил на перрон возле багажного склада. Глаза как будто ослепило ударом, на миг показалось, будто кто-то внезапно выстрелил ему в грудь. Опустив голову, минуту стоял так, ошеломленный, сдерживая расходившееся сердце. Федора Кравчука он лично не знал. Его избрали секретарем уже не при Максиме. Да и был Федор не скальновский, а, верно, из областного центра. И все-таки Максим чувствовал себя так, словно потерял вдруг самого родного человека и остался совсем один в чужом и незнакомом месте. С первой же минуты один, без связи и руководства… «Держись, парень, ясно?» — подумал он, усилием воли принуждая себя успокоиться. — Т-так! Интересуешься, значит, Зализный! Слова прозвучали настороженно и злорадно. Максим поднял голову. В двух шагах от него, сузив глаза, стоял Дуська Фойгель. С винтовкой за плечом, с белой повязкой полицая на рукаве черного пиджака. Взгляд тяжелый, пронзительный. Когда-то Дуська учился не в «заводской», а в «сельской» — второй школе, но встречались они не однажды и хорошо знали друг друга. Знал Максим и о том, что Дуськин отец был из херсонских немцев-колонистов и года два назад его арестовали органы безопасности. Максим сдержанно усмехнулся: — О, Фойгель! Ну, винту, ты тут ворон не считал! Дуська не принял шутки. Слегка кивнув на объявление, так, словно Максим и не сказал ничего, переспросил: — Знал дружка? — Нет, не довелось. Видно, не здешний? — Ага, — теперь и Дуська криво усмехнулся одними тонкими губами. — «Дружок» мой. Из комсомола меня за отца исключил. Маскировочку с меня сорвал. Через него, гада, никуда учиться не пустили… Ну и я с него тоже маскировочку содрал. Засек… И ваших нет! — И, посуровев, с издевкой и угрозой спросил: — Ну, а ты? Отвоевался, говоришь? Максим ответил равнодушно, чтоб хоть что-нибудь сказать: — Вояка из меня… сам видишь… Начали эвакуировать институт, а я — домой. — Документы! — властно приказал Фойгель. Долго разглядывал паспорт, «белый» военный билет, студенческое удостоверение. — А в мешке что? Оружие есть? Развяжи! Возвращая после старательной проверки документы, сказал: — Ну, иди… пока что… а там посмотрим. Но только чтоб немедленно, сегодня же, зарегистрировался в управе! «Конечно, посмотрим!» — с отвращением подумал Максим, понимая, что Дуська берет его «на пушку», куражится, хочет власть свою показать. Пропустив мимо ушей последние Дуськины слова, он спросил: — Про старика моего не слыхал? — Все железнодорожники дали драпака, угнали их с эшелонами. Ну, да все равно далеко не уйдут, вернутся скоро, если не разбомбят. Он ведь у тебя, кажется, беспартийный? — Вернется, — не отвечая на Дуськин вопрос, подтвердил Максим, вкладывая свой смысл в это слово. — Обязательно вернется.Во время боев Скальное дважды переходило из рук в руки, его обстреливала артиллерия, и потому много домов в городке было разбито и сожжено. Почти что вся нагорная часть Максимовой улицы выгорела, только в нижней части ее уцелела хата Кучеренков. За Кучеренками, отделенная от соседней вишневым садом, стояла хата Зализных. Вернее — бывшая хата. Как раз на том месте, где было когда-то родное гнездо, лежали теперь поваленные стены и одиноко торчала уцелевшая, расписанная синими цветами печь. Вишни вокруг хаты были иссечены осколками, зеленые листочки на них высохли и свернулись. Дальше, вверх по улице, чернели пепелища еще шести хат. Долго стоял на пожарище Максим, раздумывая, что же ему теперь делать. Отец повел эшелоны на восток и сейчас где-то за линией фронта. Бабушка еще в прошлом году умерла, хата сгорела, секретаря райкома Кравчука расстреляли. Единственным близким человеком, если только он уцелел, был путевой сторож, старый Яременко, да и тот живет в будке где-то за городом. А тут — ни одного родственника, ни одного близкого человека, никаких связей. Так, словно после кораблекрушения выкинуло его на чужой и пустынный остров. Холодная, тяжелая печаль сдавила сердце болью, отозвалась во всем теле. На какой-то миг он даже заколебался: а может, лучше вернуться в город? Там у него, наверное, найдутся хорошие знакомые, там легко возобновить утраченные связи, да и проще затеряться в городской толчее. А тут… стоишь будто у всех на виду (в памяти встали прищуренные, холодные Дуськины глаза), и со всех сторон тебя видно. Стараясь сосредоточиться, не растеряться, попробовал взглянуть на себя, на свое положение со стороны, трезвыми и беспристрастными глазами. Поискал даже, нет ли в этой ситуации хоть капли юмора. Но оснований для юмора не было. И все-таки — вымученно, со злостью — усмехнулся. «Так, ясно… Великий конспиратор! — подумал он про себя. — Сам напросился, а теперь сразу и растерялся. Что ж, этой глисты испугался? Не хватало еще, чтобы ты, не понюхав пороху, не испробовав ничего, ноги на плечи — и драпанул? Нет, право, весело поглядеть на такое со стороны!..» Максим издевался над самим собой, и от этого на душе у него становилось как-то спокойнее, увереннее… А из окружающих его развалин, из пепелищ поднимались и вставали рядом Артур, Павка Корчагин, нежная и волевая Перовская, мужественная и суровая Леся. Они стояли рядом, смотрели на него и… ждали.
Нет, и в горе я петь не забуду,
Улыбнусь и в ненастную ночь… [2]
17
Дней через пять после того, как Заброды перебрались на Выселки, бои вокруг Скального затихли и немецкие войска продвинулись куда-то дальше на восток. Тетка Соломия решила: «Схожу-ка я в Бережаны да проведаю сватов Микитюков. Живы ли они там? Что-то в той стороне так гремело, так гремело…» Вышла она из дому после полудня, а вернулась на другой день, к обеду. Микитюки были живы, а в узелке у тетки Соломии объявилась необыкновенная находка. — Возвращаюсь я через Казачью балку, а там, недалеко от Стоянова колодца, машина поломанная брошена. А на машине — ящики. Один разбит, и в нем полнехонько мыла. — Развязав узелок и оглянувшись на окна (гляди, чтоб кто из соседей не зашел!), показала матери твердый, похожий на ракушечник, желтый брусок. — Это же какое богатство! Сходим под вечер, чтоб затемно вернуться. Ведь где ты теперь раздобудешь такое! Мать повертела брусок перед глазами, плеснула на него водой, потерла. — Ой, что-то оно на мыло не похоже. И не мылится вовсе. — А может, оно такое, что только в горячей воде мылится, — предположила тетка. — Ох, как бы это мыло не оказалось как та лапша, которую Семинишина Юлька нашла! Чиркнула, спичку, а оно как шарахнет! Начисто всю трубу разнесло! Подошел Леня, тоже повертел в руках брусок, понюхал и усмехнулся: — Факт. Так тебе намылит, что не только трубу — всю хату разнесет. Тетка перепугалась. — Выкинь его, Леня, к бесу. Сейчас же выкинь. В воду его лучше, беги на речку… Леня взял «мыло» и подался огородами, вниз, к реке, но в воду не бросил. На мелком песчаном перекате перешел речку и выгоном, мимо разрушенной мельницы, двинулся в гору, за село, на животноводческую ферму свеклосовхоза «Красная волна». Дружок его Сенька Горецкий лежал на расстеленной дерюжке в маленьком палисаднике (чахлая слива, рядочек петушков, два куста георгинов, любисток и шелковая травка), грыз зеленый еще подсолнух и читал толстую, словно разбухшую, засаленную книгу. Горецкие жили в совхозной постройке. Дом не дом, но и бараком его не назовешь. Это было длинное одноэтажное здание под шифером, в котором жило несколько семей. У каждой была своя отдельная квартира — две комнаты с кухней, свое крыльцо и свой старательно огороженный низеньким штакетником палисадник. От чтения Сенька оторвался неохотно. Не поднимаясь, только повернув круглую, как арбуз, коротко остриженную голову, хлопнул по книжке ладонью. — «Красные дьяволята»! В клубе нашел, на чердаке. Пальчики оближешь! Еще от Степана слыхал про нее, пять лет искал… Как утверждал старенький Сенькин отец, чтение и погубило парня. Все свое время он посвящал книжкам, и после мушкетеров, графа Монте-Кристо, Шерлока Холмса и других героев, которых на каждом шагу подстерегали необычайные приключения, школьные науки казались ему сухими и неинтересными. Так что хочешь не хочешь, а после седьмого класса пришлось школу бросить. Не сидеть же третий год в одном классе! И он устроился учеником к совхозному киномеханику. Эта работа его удовлетворяла. К осени Сенька должен был уже самостоятельно разъезжать киномехаником и подбивал своего друга, тракториста и комбайнера Леню, которому раз плюнуть было получить права, идти к нему шофером… Однако война решила иначе, и оба они, и киномеханик и комбайнер, оказались безработными. — А еще Степа сказывал, — продолжал Сенька, приглашая Леню широким жестом сесть рядом, — еще была такая книжка, толстенная-претолстенная! Называлась: «А… А… А… А… Е…»! Понял? — Нет, — откровенно признался Леня, вытаскивая из-за пазухи желтый брусок. — «Азия, Африка, Америка, Австралия, Европа». Вот такой романище! Дошло теперь? Пять частей света, и повсюду разные чудеса случаются с героями. Пальчики оближешь. — Теперь приблизительно дошло. — Леня протянул другу брусок желтого «мыла». Сенька постучал по нему ногтем, понюхал и безапелляционно заявил: — Тол! Таким кусочком знаешь что можно сделать? Любую машину как фуганет — зубов не соберешь! — И, сразу забыв про «А… А… А… А… Е…» и про «Красных дьяволят», спросил: — Где? Леня рассказал. Круглое, все в рыжеватых веснушках Сенькино лицо загорелось. — Может, махнем? — Давай, — согласился Леня. «Красные дьяволята» полетели в сенцы, а подсолнух — под крыльцо. — Мам, я мигом! — крикнул Сенька в открытое окно. Ребята перешли вброд речку, поднялись вверх на Выселки и степной дорогой через холмы направились к Казачьей балке. Когда-то давно Скальное кончалось сразу же за станцией (возле первого железнодорожного моста), от него до Казачьей балки было километров восемь. А позднее, в начале двадцатых годов, когда поделили помещичью землю, много скальновской бедноты стало селиться дальше, вдоль речки. Так и образовались Выселки — новая улица, протянувшаяся на два-три километра. Казачья балка — широкий, длинный, километров на пять, овраг — тянулась вдоль степной равнины. В начале ее стоял когда-то хутор богатея Стояна. В тридцатом Стояна раскулачили и выслали, потом и хутор снесли. Осталось только несколько старых, недорубленных в голодном тридцать третьем вязов, одичавший, низенький вишенник и колодец, который и теперь еще звали Стояновым. Колодец был глубокий, но воду из него брали только для скота, потому что никто за колодцем не следил и его уже несколько лет не чистили, а сруб совсем сгнил и наполовину обвалился. Вода отдавала илом, и плавала в ней всякая нечисть… На косогоре, на том месте, где когда-то был сад, стояла, осев на спущенные камеры, грузовая машина. Вокруг валялось два-три десятка отстрелянных гильз. В кабине кто-то оставил плащ-палатку и противогаз. А в кузове лежало с десяток зеленых касок, два больших мотка телефонного кабеля и, прикрытый огромным, в несколько раз сложенным полотнищем брезента, разбитый ручной пулемет Дегтярева. Тут же стояли ящики с толом — четыре целых и один разбитый. Ребята все оглядели, покопались под сиденьем, надеясь найти уцелевший пистолет или гранату. Не нашли, уселись оба в кабине и взглянули друг на друга. — Ну? — промолвил Леня. — Что «ну»? — спросил Сенька. — Что же мы, так все тут и оставим? — А чего ж тогда приходить сюда было? Они еще не успели подумать, зачем им эта взрывчатка, что они будут делать с нею, только знали: нужно непременно спрятать ее. — Что же, тут, в овраге, закопать его, что ли? — вслух подумал Леня. — Долгая, брат, история. Еще, гляди, и не успеешь. Прибежит кто-нибудь за «мылом». — Значит, так и оставим? — Опять двадцать пять! Кто же говорит, что оставим!.. Я так думаю: давай в колодце утопим. По-быстрому, а? Воды там метра два, да еще сучьями закидаем… Еще бы дохлую галку сверху — и ни один черт не догадается! — А он в воде, не того, не испортится? — Что? Тол? Вот это сказанул! Сто лет пролежит! …Назад они возвращались не торопясь. Оставили в машине все как было (брезент, пулемет, плащ-палатку с касками и противогазом), чтобы никому и в голову не пришло, что кто-то здесь уже похозяйничал и что в кузове были ящики с толом… Долгонько дожидалась Сенькина мать сына. Валялись забытые «Красные дьяволята», и воробьи давно уже расклевали брошенный под крыльцо подсолнух. Хлопцы медленно шли вдоль дороги, притихшие, сосредоточенные, будто даже погрустневшие. Словно еще больше сдружил их, связал чем-то брошенный в колодец тол, им сейчас совсем не хотелось расставаться. Неожиданный этот случай разбудил в обоих глубоко скрытые, неясные еще для них самих чувства. Он тревожил, словно подталкивал: «Действуйте дальше, беритесь за дело!» Но как и куда идти и за что браться, они еще не знали. Шелестит под ногами пересохший бурьян, осыпается, куда ни кинь глазом, переспевшее, вытоптанное жито. Вокруг стоит предвечерняя степная тишина, — кажется, будто и войны никакой нет. Только трещат кузнечики да закричит порой перепел… Душевно звучит их непринужденный разговор о родных где-то там, на фронте, и — может быть, впервые — о том, как это получилось, что фашистов вон куда допустили, и скоро ли их остановят. И долго ли еще быть им тут под Гитлером… — Если бы фронт был фронтом, можно б туда податься, — мечтает вслух Леня, — а то и непонятно, где он. — Это верно, — откликается Сенька. — Немец уже раз приходил сюда. Так ведь тогда советская власть только на ноги становилась. И техника была не та. Но и тогда партизаны были. Тогда, только захоти, к партизанам можно было податься. — А сейчас, думаешь, нельзя партизанить? — Вроде техника не та. Машины, мотоциклы, самолеты, танки, минометы, — не так-то легко из-под всего этого вывернуться. Попартизанить тут с винтовкой или хотя бы даже с пулеметом!.. — Ну, с винтовкой, конечно… Да ведь на технику можно тоже техникой… — А как ты думаешь? Есть тут у нас такие,которые остались? Ну, в подполье или в партизанах? Вот Федор Кравчук. Как ты думаешь? Случайно или оставили его?.. — На засаду-то он напоролся наверняка случайно. А что тут остался, так это, может, и неспроста… — Вот был бы жив да нам повстречался… — Хоть бы слово живое услышать о том, что на свете делается, и то… Они подходили к Выселкам. Возле канавы, под акацией, остановились. Обо всем, кажется, поговорили, а расходиться не хотелось, будто должны были сказать друг другу что-то особенно важное… Сенька попрощался, а все не уходил. Постоял, помолчал. А потом вдруг сказал: — Услышать слово — это не штука… — Не штука? Ого! А где же ты его услышишь? — Слушай, Леня, чего скажу. Только — могила. Понял? — К могиле можно еще крест и маузер, — с досадой протянул Леня. — Только это, брат, из монте-кристов, а мне сейчас что-то не до того. — Тю! Не веришь? Правду скажу. Есть приемник, есть питание. Все есть. Как началась война, приказали всем приемники сдать. Ну, сложили их в нашем клубе, там они и остались. А перед тем, как полицаи их забрали, я стянул один и в конюшне, что от Курьих Лапок крайняя, замаскировал. Вроде все в нем на месте, а не действует. Никак не пойму, отчего… — Так чего же ты молчал, Шерлок Холмс несчастный?! Кого Радиобогом звали, меня или не меня? Приемник Леня наладил без особых усилий на следующий же день, и живое слово Москвы и Киева, который тогда еще стоял и боролся, сблизило и объединило их — своих и пришлых, старых и молодых, знакомых и совсем до того незнакомых. Слушал эфир Сенька. Услышанное запоминал или записывал и пересказывал Лене, а позже — бабкиному Петру, «цыгану», как его тут называли. От Петра узнавал новости доктор-окруженец из совхозного медпункта Володя Пронин. Приемник работал прекрасно, и никакой помощи от Максима Лене не требовалось — просьба помочь ему наладить приемник была предлогом для разговора более значительного и важного. Леня был уверен, что Максим может ответить не на один его тревожный вопрос, а может, и не только ответить… Пойманное в эфире живое слово не погасло, не развеялось в воздухе. Рано или поздно оно должно было вызвать отклик. И в конце концов так оно и получилось — совсем незаметно, само собой, так же естественно, как растет трава, распускаются и цветут сады, как тает весной лед на реках. Настал момент, когда Сенька рассказал Лене и про бабкиного Петра и про врача-комсомольца Пронина. А Леня уже про всех трех — Сеньку, Петра и Володю — рассказал Максиму. И еще Пронин и Петр ничего не знали о Лене, еще у Пронина, Петра и Сеньки мысли не было о Максиме и никто, кроме Максима, даже и не думал о Гале, а все они уже теснее, чем самые близкие люди, были связаны между собою этим живым словом.18
Подпольную группу по единодушному соглашению возглавил Максим. С легкой руки Володи его стали называть командиром. Слово «командир» сразу же наложило свою печать на группу не то чтоб военной, но уже и не гражданской организации. Во всяком случае, считалось, что дисциплина у них должна быть воинская, потому что существовать и действовать на оккупированной территории группа могла только при условии железной дисциплины и беспрекословного подчинения воле и приказам старшего. Группа сложилась только из парней, Галя Очеретная о ее существовании даже не знала. При первой же встрече Максим и Володя Пронин поспорили. Максим определял профиль работы группы как пропагандистско-диверсионный, а Володя настаивал на военно-диверсионном. — Агитировать нам некого и некогда, — сказал Володя. — Все давно без нас сагитированы, все за советскую власть, и вообще бумажками против танков не навоюешь. Надо начать против гитлеровцев вооруженную войну, убивать комендантов и полицаев, устраивать диверсии. Это будет самая надежная агитация и самая настоящая помощь Красной Армии. Максим возразил: — Да ты в обстановку вникни, в конкретные обстоятельства. Так можно рассуждать, если смотреть на все издали, со стороны. Взять хотя бы самую простую вещь. Там, за фронтом, читают газеты, слушают радио, а тут скоро два месяца никто даже сводки не слыхал. На это закрывать глаза не надо. Вооруженное выступление нашей группы для гитлеровской армии — все равно что комар для слона. — Но ведь на захваченной территории не одни мы воевать будем, — не сдавался Володя, — это же только начало. — Верно, начало. Вот потому-то, чтоб не остаться в одиночестве, и важно открыть народу правду о войне, рассказать, что делается в стране. Каждый день разоблачать геббельсовскую брехню и созывать на борьбу — вооруженную и диверсионную, на массовую борьбу. Звать, сплачивать и показывать пример. Это и есть самое главное. Ребята поддержали Максима. Обычно мягкий и уступчивый, Володя на этот раз остался при своем мнении, но человек он был дисциплинированный, да еще и бывший военный, и подчинился большинству. Бабкиному Петру поручили подумать об оружии. За Сенькой Горецким так и оставили радио. Лене Заброде — до войны он работал в МТС и был связан со многими ребятами — поручили подбор новых людей и связь с окрестными селами. И только Володя Пронин, вчерашний студент и лейтенант медицинской службы с двадцать шестого июля сорок первого года, остался как будто без поручений. Его решили считать заместителем Зализного, но не действующим, а так, вроде бы командиром запаса, на тот случай, если Максим почему-либо выйдет из строя. А пока что работать ему, как прежде, заведующим и главным и единственным врачом совхозной амбулатории, жить тихо, незаметно, не привлекать к себе внимания. Казалось, иначе жить Володя не может. Похожий на подростка, худенький, молчаливый, он был живым воплощением скромности, вежливости, аккуратности. Серые глаза на худощавом, с чуть запавшими щеками лице всегда глядели спокойно, немного печально и как будто говорили, что парню во всем довериться можно. Он не из тех, кто будет лезть на рожон. Но чувствовалось, что, если потребуется, от слова своего не отступится. Никто не мог им сказать, правильно они действуют или нет. Все ли, что надо, они предусмотрели, все ли, что необходимо, учли. И сами они этого не знали. Ведь еще каких-нибудь два-три месяца назад никто из них не думал о том, что придется ему стать подпольщиком. Уставов по организации подпольных групп не было, а о конспирации они только читали — в лучшем случае в революционно-исторических или в приключенческих романах. И теперь они должны были действовать, опираясь на этот книжный опыт и на собственное знание и понимание обстановки и условий, которые продиктовала им жизнь, а главное — на зов горячих своих сердец, на чувства сыновней обязанности перед отчизной. Они поступали так потому, что не могли поступить иначе; потому, что все они были комсомольцами, детьми своей страны, своего самого лучшего на свете строя. Старшему, Володе Пронину, было двадцать четыре года. Самым большим военным специалистом считался сержант Красной Армии Петр Нечиталюк, стройный, восточного типа юноша со смуглым лицом, густым смоляным чубом и горячими, цыганскими глазами. Первый и единственный раз собрались они все вместе на, так сказать, организационное собрание в воскресенье. В хату бабки Федоры прошли незаметно, по одному. Кто через базарную площадь, а кто совхозной дорогой. Потом, когда случалось Максиму вспоминать это собрание, он видел перед собой прежде всего их сосредоточенные лица. И глаза их, будто обращенные в собственную душу, — уверенно-спокойный, все оценивающий взгляд, деловой, совсем не детский вид. Никто из них, даже восторженный Сенька, не говорил громких слов. Никто и словом не обмолвился об опасности, которая их подстерегает, никто не предупреждал о сохранении тайны, о верности организации даже в самый страшный час. В час, который, может быть, страшнее смерти… Никто не говорил об этом, не повторял слова присяги, потому что никто им эту присягу не сочинил, а сами они не догадались. Она жила, эта присяга, в сердцах, как нечто совершенно естественное, неотделимое от их жизни и от того, что они собирались делать. Потому и говорили они не о ненависти к врагу, не о верности долгу, родине. По-деловому тихо, но горячо обсуждали будущую свою программу, которую заранее, применительно к местным условиям, разработал Максим, наметив цель, задачи и направление главного удара. — Надо, чтобы они не имели ни минуты покоя, — говорил Максим. — Каждый день напоминать, что мы настороже, что мы не успокоимся, пока жив будет хоть один оккупант… Не давать им спокойно спать, ходить, есть, жить! Ясно? Они должны бояться, дрожать и озираться по сторонам, даже если нас и близко не будет. И главное — помощь фронту. Оттягивать побольше сил, саботировать, срывать снабжение. Они хотят вывезти нашу пшеницу? Не дадим им пшеницы! Саботировать, растаскивать, раздавать населению, жечь! Они хотят восстановить станцию и мост? Сорвать им строительство! Хотят выкопать свеклу? Пускай в поле вымерзнет! Не дать им восстановить завод! А если все-таки восстановят — снова взорвать! Людей наших гонять будут на строительство? Что ж, и мы туда пойдем, будем говорить с людьми, направим куда нужно народную ненависть. За Леней — эмтээсовская молодежь, а через нее агитировать в селах, в колхозах. Горецкому идти на станцию или на завод. Петру — на железную дорогу. Трудно нам будет иной раз. Ведь за каждого убитого фашиста десятки наших расстреляют, будут жечь села. Это так. Но трудно только начать. Увидите, мы еще доживем до того времени, когда их начнут здесь убивать не поодиночке, когда они целыми эшелонами к своему «Mein Cott’y» взлетать будут… Однако наивно было бы думать, что все это сделает, поднимет на свои плечи одна их пятерка. Ясно, что нет. А только кто-то ведь должен начать. Вот потому, не зная и не гадая, есть еще какое-нибудь подполье в Скальновском районе и поблизости или нет его вовсе, они должны поднимать, сплачивать и вести за собою молодых и старых. Для того они и объединились! Но только не будет их видно и слышно без живого, вдохновенного слова, без призыва! Сейчас, именно сейчас больше, чем когда-либо, людям требуется правдивое, искреннее слово. Слово! Никогда Максим так глубоко не задумывался над этим. Только сейчас, впервые в жизни, по-настоящему понял он, какая это великая сила. Понял и со жгучей досадой ощутил, как им недостает чего-то гораздо более важного, может быть, более действенного, чем оружие…19
Эти Максимовы взгляды на силу слова оберштурмфюрор СД Пауль Йозеф Форст разделял целиком и полностью. Больше того — он значительно раньше уразумел вес и силу печатного слова. У Форста выработалось свое особое мнение на этот счет. Вот только представления Форста о Скальновской подпольной типографии значительно расходились с действительностью, сбивая все его логические схемы совсем не на тот путь. Форст верно рассуждал, что листовка, которая попала ему в руки, вовсе не единственная, что есть еще и другие — они передаются из рук в руки, их читают, о них знают. И только для гитлеровцев и полицаев эти листовки остаются «невидимками». Верно рассуждал Форст и о том, что листовка — призыв к организованной борьбе, весть о том, что в борьбе с гитлеровцами появилась направляющая сила. В представлении Форста листовка связывалась с какой-то настоящей, быть может, заранее, еще до прихода гитлеровцев, как это и бывало во многих случаях, подготовленной и законспирированной подпольной типографией. Она, видимо, небольшая, ее шрифты можно спрятать в обыкновенном маленьком чемодане — такие он видел в странах Западной Европы. Ну, и, конечно, работали в ней взрослые люди, большевистские конспираторы. За два посещения управы — днем, а потом еще и ночью — Форст внимательно все проверил, изучил все обстоятельства дела. И когда узнал, что Панкратий Семенович с первых дней оккупации является тайным агентом гестапо, у оберштурмфюрера почти не осталось сомнений в том, что связь между подпольной типографией и типографией управы исключается, она просто невозможна. И действительно, как можно было незаметно набрать и отпечатать листовку в комнате, которая помещалась в одном коридоре с комендатурой и районной управой? Даже если бы в этой комнате работали не Панкратий Семенович и Галя Очеретная, а двое отчаянно смелых подпольщиков?…Поработав под самым боком оккупационной власти, Галя Очеретная убедилась окончательно и твердо, что ничего она тут сделать не может и только даром себя погубит. И от этого у девушки было такое ощущение, будто она сознательно дала себя заманить в западню. Грустно, обидно и горько было у нее на душе. Работа сразу опостылела. Нестерпимо ненавистным, противным, как облезлый пес, стал Панкратий Семенович. Галя не могла его видеть, терпеть рядом, в одной комнате, слышать его елейный, ехидно-сладенький голосок: — Ох, смотри, голубка! Ведь за одну-единственную буквочку головы на плечах не сносим… «Сама бы тебе ее скрутила, тварь ты вонючая, — со злостью думала Галя, — в самую рожу бы плюнула!» Она решила любой ценой вырваться отсюда. Но когда сказала об этом Максиму, тот рассердился. — И не думай! — отрезал он категорически. — Сторожукова щенка испугалась? Если мы с самого начала отступать начнем, у нас и правда ничего не получится.
Но Максим и сам видел, что Галя ничего сделать не сможет. А делать надо было непременно! И никто другой этого сделать не мог, потому что нигде поблизости, кроме Скального, типографии не было, да еще такой, где работал бы свой человек. Дни, недели проходили впустую. Извелась, нервничая, Галя. Не спал ночами Максим. Перебирал в голове десятки самых разных — от простых до совершенно фантастических — вариантов и отбрасывал один за другим, как ненужный хлам. Вытачивал зажигалки и мундштуки, починял старые ведра, разбирал или собирал ходики, будильники, бродил по местечку, а думал все об одном. Думал и ничего путного придумать не мог. «Ясно… „Велики духом, да силою малы!“ — думал он. — Конспиратора из тебя, пароль, подпольщика не получилось! Бездарный ты, видать, человек. Ехал бы ты лучше в Кзыл-Орду или там в Уфу да и зубрил бы свой сопромат…» Особенно досадно становилось в те дни, когда Леня пересказывал ему сводки Советского Информбюро. Неутешительные сведения, а все-таки правдивые, все же не такие, какими забивали народу голову оккупанты. В своих сообщениях гитлеровцы не раз штурмовали Москву и Ленинград, с ходу брали Киев и Одессу, взбирались на Кавказский хребет и вообще в ближайшие две недели собирались победно закончить войну. Однажды осенним утром Максим возвращался от Кучеренко, где иногда ночевал, в мастерскую. Шел огородами, потом по берегу реки, до взорванного и позже кое-как настеленного оккупантами моста, пересекавшего Бережанку в центре города. Мастерская Максима находилась немного дальше, за мостом. Взбираться на насыпь было трудно, идти низом, по болотистому берегу, тоже не хотелось. Максим решил повернуть на центральную улицу, не доходя до моста, через двор управы. Длинный одноэтажный дом райисполкома, в котором была теперь управа, фасадом выходил на центральную улицу, а задней стеною, с двумя крылечками и низенькой пристройкой, — на просторный пустой двор. Двор этот упирался одной стороной в обрывистый, хотя и не глубокий, заросший дерезой овраг. Узенькая стежка, срываясь с обрыва, мимо большой дощатой уборной, крытой ржавым железом, сбегала к самой речке. Ковыляя вытоптанной стежкой, что вилась меж тронутым осенней ржавчиной лозняком и вербами, Максим думал о том, как наладить выпуск листовок, которые рассказали бы людям правду, пробились бы к их сердцам, вселили мужество, а может, и заставили бы включиться в борьбу… Повернув от речки, Максим перешел через чей-то огород, по оврагу поднялся к управе и вдруг остановился на краю двора, в дерезе. Оглянулся кругом, повел взглядом по окнам и… повернул назад, к уборной. Подергал одну дверь, другую, внимательно оглядел крючки, зачем-то пошарил рукой между досками и ржавым, прибитым поверх них железом… А через несколько минут, уже в своей мастерской, Максим вырвал чистый листок из тетради, куда заносил заказы клиентов, и написал текст небольшой, давно обдуманной листовки. Она начиналась призывом: «Смерть немецким оккупантам!»
«Дорогие товарищи! Поздравляем вас с наступающим Октябрьским праздником. В прошлом месяце Красная Армия сражалась с фашистскими ордами в районах Ржева, Брянска, Можайска, Орла, Ростова. Сейчас идут тяжелые бои в районах Калинина, Волоколамска, Тулы. Наступление гитлеровских армий приостановлено. Блицкриг провалился. Скоро Красная Армия перейдет в наступление и погонит оккупантов с нашей земли. Помогайте Красной Армии громить врага. Не давайте оккупантам вывозить народное добро!»Вместо подписи листовка заканчивалась словами: «Наше дело правое — победа будет за нами!» Только основное, только самое главное. Коротко, сжато, как зов, как лозунг, как выстрел в ночи. Кончив писать, Максим оторвал от листка узенький чистый клочок бумаги и начал подсчитывать, сколько в тексте больших и маленьких «о». Подсчитав, записал: «„О“ больших — одно, малых — тридцать». Больших «а» было три, маленьких — пятьдесят три. Больших «р» было два, маленьких — тридцать… Бумажку с цифрами положил в карман, а листовку закопал под стеной, в развалинах банка. Вечером в глухом переулке за МТС он встретил Галю и пошел рядом с ней. — Ты мне, Галя, вот что скажи: смогла бы ты вынести из типографии десяток… ну, не десяток, хотя бы пять букв в день? Галя остановилась, подумала, представила себе, как она стоит около кассы, берет две буквы и одну незаметно опускает в грудной карман синего халатика. И только потом вопросительно взглянула на Максима. — Ну, допустим, что могла бы… Даже двадцать. — Ясно! — А что ты с ними потом делать будешь? И каких именно букв? Все равно каких или нет? — Нет. Вот только таких и столько, — он показал Гале бумажку с цифрами, — а как да что я буду с ними делать, это уж забота не твоя. Твое дело — взять буквы, вынести их во двор, в уборную. В тряпочку какую-нибудь или в бумажку завернешь и засунешь в средней кабине в щель между досками и крышей… Ясно? Засунуть надо так, чтоб ничего не было видно. И выносить тогда, когда точно знаешь, что совершенно безопасно. Если помеха какая случится, лучше отложи. Много букв сразу не набирай. И лучше всего выноси не больше одного, ну, от силы двух раз в день…
Галя не очень-то понимала, что будет делать с этими буквами Максим, не очень верила, что из этого что-нибудь получится, но для нее это уже было настоящее, связанное с явным риском и опасностью дело. Как ни экономил Максим, всего со шпонами надо было вынести больше пятисот литер. За один раз Галя могла захватить четыре-пять десятков. Бывали дни, когда ей удавалось вынести буквы в первой половине дня, и тогда еще два-три десятка она выносила вечером, уходя домой. Каждый раз, когда Галя прятала в щель новую порцию шрифта, предыдущей там уже не было. Так продолжалось семь или восемь дней. Галя в те дни испытывала напряжение, страх и все-таки жила радостно-приподнятой, возбужденной жизнью. Даже Панкратий Семенович теперь не казался ей таким противным. А когда вынесла последнюю порцию, нервное напряжение спало, и Галя сразу почувствовала усталость и… облегчение. Еще день или два ходила довольная, потом встревожилась: «Как там, вышел из этого хоть какой-нибудь толк? А может, так ничего и не вышло и весь заряд пропал впустую?» Но Максим исчез куда-то, словно его и на свете не было. Встретились они только за неделю до Октябрьских праздников. — Хотел спросить, вернуть тебе шрифт или нет? Может, не стоит рисковать — таскать его туда-обратно? — Да я его взяла так мало, что незаметно совсем, даже если кассы перевесят, — обрадованная встречей, взволновалась Галя. — А… как же?.. Вышло что-нибудь? Ответ показался ей жестким. — Ясно. А об этом… Видишь ли, Галя, нам никогда и ничего не надо друг у друга спрашивать. Нужно будет — я сам скажу. Вместе с чувством обиды и недовольства собой пришла горечь неясного, неосознанного разочарования. И хотя Максим, вымолвив эти обидные слова, усмехнулся, взял ее руку в свои и сильно-сильно сжал, чувство досады и горечи не проходило. Почему-то в его ответе ей почудилось невольное признание в том, что у них ничего не получилось. И опять Гале стало не по себе. И опять ее стала нестерпимо раздражать ненавистная елейная физиономия Панкратия Семеновича.
20
Бывает так: живет рядом с тобой, встречается чуть не ежедневно, учится вместе, а потом и работает человек — ребенок, подросток, нескладная, длинноногая девчонка, с острыми локтями и худенькими плечиками, наконец, уже как будто и взрослая девушка. И ничем, решительно ничем не выделяется она среди других твоих знакомых, ничем особенным не привлекает твоего внимания, ничего в твоей душе не трогает. Однако же приходит такая минута… Еще вчера ты спокойно разговаривал с этой девушкой, спокойно попрощался и забыл про нее. А на другой день, встретив ее, вдруг останавливаешься, удивленный, взволнованный: «Как же это я раньше не видел, не замечал?» Стоишь и чувствуешь себя так, словно сию минуту на твоих глазах свершилось чудо. Что-то похожее случилось с Максимом, когда он случайно встретился с Галей в левадах. Она стояла перед ним с полными ведрами на коромысле и сдержанно усмехалась. А он глядел на нее и не понимал: вправду ли перед ним та самая девчонка, которую дразнил он когда-то Сторожуковым щенком, или это ему только кажется? Другие, может быть, этого и не видели. А Максиму девушка показалась такой милой, так сияла она молодой красой, что ему вдруг даже как-то страшно стало. Он растерялся, смутился, а потом встревожился при мысли, что Галя, кажется, заметила это его неожиданное восхищение и растерянность. Как хорошо, что в запасе оказался этот спасительный, из далекого-далекого теперь детства, Сторожуков щенок! Он снова вспомнил про него, но теперь уже не затем, чтобы подразнить Галю. Нет, просто щенок этот помог ему перебороть себя, скрыть смущение. А может быть, Галя ничего и не заметила? Внешне все как будто оставалось по-старому. И все же отношения между ними с того времени стали складываться совсем по-другому. Каждый раз, встречая Галю, Максим чувствовал теперь этот тревожный испуг. Он скрывал это еще непонятное ему, неосознанное чувство за подчеркнутой деловитостью, порой излишней резкостью и сухостью слов и выражения лица. И кто его знает, какие сложные чувства владели юношей, когда он так резко отвечал на вопросы Гали. Он понимал, конечно, что для собственной ее безопасности не нужно Гале знать больше того, что связано с выкраденным из типографии шрифтом. Галя — единственный человек, который вооружает организацию самым острым сейчас оружием. И по всем неписаным законам конспирации Максим должен оберегать, жалеть ее, уж коли на то пошло, как товарища, который выполняет чрезвычайно важное задание, как друга вообще, как человека, на руках которого двое осиротевших детей. И все же… все же не только потому, что этого требовали суровые условия подполья. Ясное дело, это было главным, но… к тому же была жалость, был страх именно за ее судьбу. И наконец, было смущение, потому что рассказать Гале, как он не умеючи бился, пока наконец у него что-то получилось, Максиму было просто неловко. Раза два или три в своей жизни он бывал в типографии областной газеты (как-то несколько недель замещал редактора институтской многотиражки) и теперь думал: был бы только шрифт, а остальное приложится. Ну что там, действительно, сложного — собрать буквы все вместе, перевязать, чтоб крепко держались, шпагатом… На деле оказалось, что без сноровки да без оборудования не так-то легко их собрать. Они расползались, как живые, эти буквы, растекались, как вода, между пальцами. И связываться они почему-то не хотели, и вставали не так и не туда. А тут еще делать это все надо было с оглядкой. Ведь он не на практике в своей типографии, а на оккупированной территории, в подполье, где не то что выпущенной листовки, а только этой кучки шрифта достаточно, чтобы угодить на виселицу. Можно было, конечно, при малейшей тревоге все это выбросить через разбитое окошко в заросшую бурьяном, лебедой и лопухами яму банковского подвала. И там бы оно так рассеялось, что сам черт не найдет. Да разве мог он вот так просто раскидать шрифт, добытый такой дорогой ценой! Почти целый день мучился с непослушными литерами Максим, рискуя каждую минуту быть накрытым, не раз, увидев подозрительного посетителя, вставал перед выбором: оставить шрифт на столе или выкинуть в яму? На смену шпагату, который так и не выдержал испытания, пришла маленькая, аккуратная деревянная коробочка из-под колесной мази, с фанерным дном. Теперь наконец прижатые обломком металлической ученической линейки буквы улеглись одна к другой, строчка за строчкой. Их можно было легко переставлять, менять, можно было наглухо закрепить, заполнив свободное место в коробочке деревянными планочками. Набор выглядел вполне пристойно. Но… отпечатать листовку не удавалось, потому что поверхность набора из-за неприметных неровностей фанерного дна была волнистой — одни буквы запали, другие выпирали наружу, прорывая бумагу. Чтобы выровнять набор, Максим выстелил дно совсем уже, казалось бы, ровной тоненькой железкой, вырезанной из консервной банки. Но и это не помогло. Буквы, хоть плачь, ложились волнами, и отпечатка не получилось. Максим пришел в отчаяние. Еще с час промучился он, размышляя, так и сяк выравнивая и без того ровную блестящую железку, гладенькую как стекло… Как стекло! А что, если и вправду положить на дно кусочек обыкновенного стекла? Наконец-то поверхность набора стала действительно идеально ровной. — Ясно! — обрадованно вздохнул Максим. С типографской краской, к счастью, тревожить Галю не пришлось. В развалинах бывшей редакции газеты Максим нашел целую коробку этой краски. Переложил немного в баночку из-под ваксы, и она так и хранилась у него в мастерской на подоконнике, не привлекая ничьего внимания. Смастерил Максим сам и два маленьких валика, натянув на деревянные палки по куску обыкновенной велосипедной камеры… Потом еще муки были с краской, которая под валиком никак не хотела ложиться ровным слоем, заливала буквы и жирными черными пятнами расходилась по бумаге. И нужно было еще придумать «подушку», искать для этой «подушки» суконную тряпку и втирать в нее краску и уж только потом легонько наносить ее на литеры. Наконец, уже на другой день утром, Максим осторожно положил на шрифт чистый листок бумаги, прикрыл его сверху сложенной вчетверо газетой и, аккуратно, равномерно прижимая, провел валиком дважды. Потом снял газету, перевернул бумажку, поднес к глазам и, забыв на миг, где он, широко взмахнул руками и запел:Пусть ярость благородная вскипает, как волна!
Идет война народная, священная война!
«Смерть немецким оккупантам! Дорогие товарищи! Поздравляем вас с наступающим Октябрьским праздником!..»
21
Настоящего своего имени Петр Нечиталюк не сказал никому. Не знала его даже родственница бабки Федоры Поля, которая отдала ему паспорт своего мужа Петра, ушедшего с начала войны на фронт. Настоящий Петр на фотографии тоже был черный, кудрявый и с первого взгляда казался похожим на этого неизвестного солдата, что поселился в хате бабки Федоры в Курьих Лапках. — Правда, очень уж ты цыгановат против Петра, — смеясь, сказала Поля, передавая паспорт. — Ну да все равно. От своих не спрячешься, а чужие, если задумаешь куда податься, недоглядят. Появился новый Петр в Скальном, когда еще все гремело и грохотало вокруг, а в городе рвались снаряды и горели дома. За городом, в амбулатории совхоза «Красная волна», разместилась войсковая санчасть. Никто не заметил, сам ли он пришел или его привели и почему-то оставили одного посреди двора, только мать Сеньки Горецкого нашла Петра под шелковицей, в каких-нибудь десяти шагах от амбулатории, уже беспамятного, с насквозь пробитым левым плечом. Сознания он лишился, наверное, от потери крови. Был он смуглый до черноты. Но и через эту смуглоту проступила на лице смертельная бледность. С трудом высвободили женщины из закостеневшей руки ремень автомата, отнесли раненого в амбулаторию. Положили прямо на пол, на разостланную солому, — больше некуда было. Сухонький, невысокий лейтенант медицинской службы (фамилии его тогда никто из женщин не знал) разрезал ножом сорочку, обработал рану, а медицинская сестра тетя Даша, лет пятнадцать заведовавшая лабораторией, перевязала. Помогала им Сенькина мать, старая Мария Горецкая, да еще три молодицы из совхоза. А раненых набралось уже человек двадцать. Вокруг грохотало все сильнее и сильнее. И никто — ни женщины, ни врач — не знал, что происходит, где сейчас свои, а где чужие. Откуда-то принесли еще двух. Пока их перевязывали, во дворе неожиданно появились немцы. Пришли они не от речки, где гремел бой, а откуда-то из степи, от Волосского шляха. Зазвенели и посыпались оконные стекла. Двое без шапок, в зеленых расстегнутых мундирах, вбежали в помещение. Лица у них были разгоряченные, глаза испуганно и настороженно бегали. Врач бросился им навстречу, чтобы заслонить собой раненых. Передний немец, высокий, с рыжими усиками, автоматом с размаху двинул доктора в грудь, тот не удержался на ногах и упал навзничь, ударившись головой о косяк. Другой — низенький, с бритой головой, в очках — крикнул: — Рус, польшевик! Сдавайс! — и сразу застрочил из автомата вдоль комнаты. Двух красноармейцев, которых привели последними, немец убил сразу, Петру прострелил левое бедро. Тетя Даша бросилась к невысокому немцу в очках и толкнула его автомат кверху. Он молниеносно ударил ее сапогом в живот, выстрелил в грудь и снова застрочил автоматом, уложив еще пятерых раненых. Немец с усиками что-то крикнул, тот, в очках, огрызнулся, но оба сразу же выбежали из комнаты. В одну минуту все утихло. Пропали куда-то, как сквозь землю провалились, немцы, и только за станцией все еще погромыхивало, словно отдаленный гром. Первой опомнилась Мария Горецкая: — Бабы! Надо их по хатам прятать, а то вернутся — всех порешат. И, не дожидаясь ответа, кинулась через двор к чьему-то окну, заколотила в раму, созывая людей. Следом за Марией выбежала еще одна — подалась полем на Курьи Лапки. Спустя час, когда сбежавшиеся отовсюду женщины вынесли почти всех раненых, появилась возле амбулатории глухая бабка Федора. — Тут, кажись, где-то солдатиков раздают? — будто и не случилось ничего, загудела она, как из бочки, басом. — Так, может, и мне одного дадут, будет с кем покалякать…«Калякать» с бабкой Федорой было непросто: собеседника она не слышала, сама без передышки говорила и говорила, лишь бы перед ней было живое существо, человек — так человек, теленок — так пускай и теленок. Было ей за семьдесят, но, высокая и коренастая, она чувствовала себя еще крепкой. Недавно она схоронила своего деда Родиона и осталась в доме совсем одна. В ее хату на Курьих Лапках и отнесли смуглого, цыгановатого азербайджанца. Раны его оказались «удачными». Под бабкино «каляканье» и под присмотром молодого врача Володи Пронина солдат понемногу поправился. Соседи к нему привыкли и стали звать «бабкиным Петром». А сама бабка про него говорила «мой цыганенок». Болея за всех раненых, которых приютили люди, Мария Горецкая не раз посылала к бабке Федоре Сеньку — поглядеть, как он там, а то и занести какой-нибудь еды посытнее. Так и началось близкое их знакомство, а потом и дружба. Бабка Федора жила на самом юру. За хатой с десяток вишенок, груша-дичок возле крытого красной глиной погреба, низенький облупленный сарайчик. Дальше, по-над Терновой балкой, поле, за полем кладбище. Наискосок, через овраг, километра за два, длинные постройки — совхозные конюшни. Пережила бабка Федора двух мужей. Детей у нее не было. Через силу не трудилась, но и ленивой ее никто не считал. Нрав у нее был мягкий, разум сметливый, хотя с недавнего времени, как начала глохнуть, часто забывала, где и что лежит, порою не узнавала соседей и не все уже могла понять из того, что происходит вокруг. Может быть, на все Скальное она одна осталась неграмотной. Смолоду не выучили, а когда начались ликбезы, сама не захотела: «Оно мне теперь ни к чему. Так уж как-нибудь доживу». И потому первая книжка попала к ней в хату только теперь, вместе с Петром. Днем бабка что-то негромко бормотала себе под нос и неторопливо, однако ни на минуту не останавливаясь, хозяйничала — ковырялась в огороде или в хате убиралась. Без дела сидеть не могла. Спать бабка укладывалась в одно время с курами, чуть только начинало темнеть, а вставала вместе с солнцем. Оттого и огонь в ее хате почти не зажигали. Даже настоящей лампы никогда у нее не было. Так только, какая-то скляночка с фитилем. Да и та лишь теперь пригодилась, когда поселился у нее раненый солдат. Сначала, когда Петр еще лежал, бабка Федора, копошась у печки, подробно и подолгу рассказывала ему про своего деда, который у пана за что-то там самого лучшего пса прикончил, про отца — николаевского солдата, про то, как она в первый раз замуж выходила, а то еще про какого-то петриковского Свирида, который пьяный середь зимы замерз у самого своего порога. Бывало, и Петра спрашивала, кричала, как глухому: — А ты, сынок, сам-то издалека? Петр отвечал. Бабка прикладывала руку к уху, вслушивалась и, ничего не разобрав, качала головой. — Так, так… А после царской, когда Махно с Деникой вот туточки проходили, так тоже не знай откуда человек до нас прибился. Не наш. Вроде бы заграничный, аж из-за Умани. И опять начинала рассказывать о чем-то своем, забыв, о чем спрашивала. Когда Петр уже почти поправился (плечо зажило, и только рана на бедре еще не совсем затянулась), Сенька затеял с ним в карты играть. Ну, бабке что, керосин сами где-то достают, пускай себе забавляются. А сама забиралась на печь. — Мне, должно, пора уже. А вы — как знаете. Хотите погулять, так гуляйте. Так-то… Только глядите, чтоб хату не спалить, — говорила бабка. Еще какое-то время она, укладываясь, шуршала на печи. Что-то бормотала себе под нос — то ли молилась, то ли кого поминала. А потом утихала, и через минуту в хате раздавался ровный бабкин храп. Теперь уже до самого утра не разбудить ее, хоть ты тут из пушек стреляй.
— Сигнал, — усмехаясь, говорил Сенька и вносил в хату зеленую вылинявшую сумку от противогаза. И в тусклом свете ночника, при завешенных окнах начинало в бабкиной хате твориться такое, что, наверное, ни одному человеку в Скальном, а прежде всего самой Федоре, и в голову никогда бы не пришло. Да и правда, трудно было поверить, что в самой обычной сумке от противогаза помещается настоящая подпольная типография, которая вскоре вступит в единоборство с целым потоком бумажной геббельсовской лжи, запугиваний, провокаций и хвастовства. Добившись наконец своего, Максим с сожалением уничтожил первую, самую дорогую на свете листовку, сложил типографию в сумку и передал ее Сеньке. Печатать листовки нужно было именно в хате неграмотной бабки Федоры, куда за десятки лет даже случайно не попадала ни одна книжка и никакая напечатанная бумажка, кроме разве паспорта да налоговых квитанций. Бумагу из ученических тетрадей собирали где только можно было. Если кто кинется проверять, такую бумагу можно встретить в каждой хате, где были ученики. Один листок разрезали на три равные части, на таком лоскутке как раз и умещался текст листовки. На день типографию вместе с напечатанными листовками закапывали под терновыми кустами в овраге. К ночи снова откапывали. Удобнее было работать вдвоем. Один подкладывал и держал за края листок, а другой, крепко и равномерно нажимая, несколько раз проводил по нему валиком. Шрифт время от времени смазывали краской. Но печатать вдвоем они не могли. Кто-то должен был все время дежурить во дворе. А брать третьего Максим категорически запретил. Когда приходил вечер и бабка с печи «подавала сигнал», типографию выкладывали на сундук, служивший бабке столом, а сумку вешали на гвоздик у окна. Затем Сенька усаживался на бугре за воротами. Осенние ночи стояли темные, тихие. Отсюда хорошо было слышно, кто бы и откуда ни подходил — от кладбища, с базара, с Волосского шляха или из оврага. Шел конец октября, уже начались ранние в том году морозы, и, посидев или потоптавшись часа три, Сенька промерзал до костей. Зато «бабкиному Петру» в хате порою становилось по-настоящему жарко. Печатать одному было трудно. Бумага сползала набок, перекашивалась, и тогда листовка либо совсем не годилась, либо получалась неаккуратной, некрасивой. Склонив над сундуком цыганскую голову, Петр нажимал и нажимал, пока не начинали ныть руки, а лоб не покрывался испариной. Дело подвигалось медленно. К тому же еще в первый вечер Петр натер валиком мозоль на указательном пальце правой руки. Они попробовали с Сенькой поменяться местами, но ослабевший после ранений Петр на холоде долго выдержать не мог… Оба работали с увлечением, только Петр делал все молча, аккуратно и сосредоточенно, а Сенька, если бы и хотел, не мог сдержать своего буйного восторга. Печатали четыре вечера подряд, пока не извели всю, какая была, бумагу, напечатали больше четырехсот листовок. Потом «типография» снова была уложена в зеленую сумку, сверху положили листовки, застегнули. В ту же ночь Сенька отнес сумку в совхоз и отдал Володе Пронину. Тут, в амбулатории, стоявшей на отшибе между пустыми коровниками и наполовину пустыми жилыми корпусами, и решено было ее хранить. Несколько десятков листовок сразу взял с собой Сенька. Живой, общительный, да еще проработавший несколько лет помощником киномеханика, он был в Скальном довольно популярным человеком и мог бы распространить листовок гораздо больше. Но Максим разрешил ему взять только незначительное количество и приказал передать лично двум-трем самым верным и надежным товарищам. Ему очень хотелось, чтобы эти листовки прежде всего попали к людям, которых немцы гоняли на железную дорогу и на завод. А если удастся — и работавшим там военнопленным. Остальные листовки (не сообщая, конечно, откуда они взялись и где хранятся) Сенька небольшими порциями за несколько дней перетаскал от Пронина к Лене Заброде. Леня должен был раздать листовки товарищам из тех сел, где ему приходилось работать от МТС на комбайне или на тракторе. Пока что в пяти селах соседних Скальновского, Терногородского и Подлесненского районов нашлось у него шесть таких настоящих, надежных друзей. Он дал им листовки, ничего не объясняя, но уже одно это крепко связало юношей с неведомым еще им подпольем. Фамилии своих «агентов» Леня не раскрывал никому, даже самому Максиму. Потом будет видно. Время покажет, кто из них выдержит первую проверку и на кого можно будет опираться в дальнейшем. Дорога была каждая листовка. Ни одна не должна была пропасть понапрасну. Максим приказал своим и велел передать это «агентам»: — Листовок не расклеивать и не разбрасывать. Ясно? Раздавать только надежным людям и предупреждать: «Прочитай и передай товарищам!» Белыми мотыльками выпорхнули листовки из юношеских рук и… пропали, будто в воду канули. Максим чувствовал себя как молодая мать, которая впервые отправила в далекий путь свое дитя, а теперь и беспокоится, и гордится, и тревожится о его судьбе, не зная, где оно и что с ним. А листовки гуляли по районам, мотыльками порхали из рук в руки; скрытые от вражеских глаз, они ободряли советских людей, разрушая гитлеровскую ложь и провокации. Люди тихонько переговаривались между собой: «Брешут! Ленинграда и Москвы они не взяли. И „приказ“ Тимошенко и Ворошилова — их выдумка. Красная Армия воюет. Немцы вон, сами видим, эшелонами раненых везут…» Лишенные возможности знать правду, люди с жадностью набрасывались на листовки и, передавая из рук в руки, зачитывали их до дыр. И ни одна из них, как видно, за все это время так и не попала в руки гитлеровцев. И уже Максиму казалось недалеким то время, когда из их пятерки вырастет не одна и не две подпольные группы, когда они наконец смогут достать из Стоянова колодца Ленькино «мыло» — и на много километров кругом полетят под откос эшелоны, станции, железнодорожные колеи, загорятся жандармские и полицейские управы и насмерть перепуганные оккупанты не будут знать, куда им податься, где и кого ловить. И вынуждены будут на него, Хромого Максима, и еще многих таких Максимов, Ленек, Петров и Галь отвлекать с фронта полки, а то и целые дивизии. Веселее, увереннее и смелее почувствовала себя теперь пятерка.
22
И только Галя Очеретная ничего этого не слышала, не знала и даже ни о чем не догадывалась. Камнем на шее у нее висела ненавистная работа. Все нестерпимее становилась мысль, что торчать тут, в этом змеином гнезде, — напрасная, просто безнадежная затея. Все гаже, противнее становился Панкратий Семенович, который стал уже поговаривать о том, что управа собирается выпускать какую-то газетку. Галя нервничала, стала угрюмой, худела и чахла на глазах. И дома девушка покоя не имела. Грицько хоть и был, как прежде, послушным и внимательным, а все-таки… Лицо у парня обветрилось, глядеть он стал исподлобья, не то настороженно, не то со злостью. На глазах дичал, шастал где не следует, таскал со станции уголь, а из-под молотилки зерно. Носился с патронами, с каким-то белым, похожим на вермишель, порохом. Когда этот порох горел, то прыгал по всему двору, словно на пружинке. Грицько набрал где-то цветных ракет, начал с мальчишками меняться и однажды притащил настоящую гранату. А тут еще простудилась маленькая Надя. И сразу, будто кто-то только и ждал этого сигнала, посыпались неприятности одна за другой. Как-то в воскресенье, перед Октябрьскими праздниками, недалеко от МТС она встретила свою школьную подружку, дочь лесника из соседнего, километров за сорок, Подлесненского района, Яринку Калиновскую. В коротенькой меховой шубке, шапке-ушанке, невысокая, круглолицая, хорошенькая Яринкабежала куда-то к станции, постукивая по мерзлой земле каблучками на подковках. Завидев ее издалека, Галя обрадовалась и бегом поспешила навстречу. — Яринка! Здравствуй! Как ты тут очутилась? А Яринка даже не улыбнулась. С явной неохотой остановилась, даже отшатнулась, боясь, что Галя бросится обнимать ее. И стояла, видно, недовольная встречей, досадуя, смущаясь и стараясь скрыть свое смущение. — Ты что, Яринка? Не узнаешь меня? — Нет, чего же… Просто так… Спешу… На станцию. Машина там как раз в нашу сторону идет. — Ну как ты, где? Что делаешь? — все еще ничего не понимая, но уже чуя что-то недоброе, спрашивала Галя. — Живу дома. А делать… Что теперь будешь делать? К чему и для кого?.. Помолчала с минуту и с явным осуждением, не то спрашивая, не то утверждая, сказала: — А ты, я слышала, в немецкой типографии работаешь? Или в управе? — На слове «немецкой» она сделала заметное ударение и сразу же, обойдя Галю, шагнула куда-то в сторону. — Ну, прощай… Спешу… Галя так и осталась стоять посреди улицы, как оплеванная. Досада, тоска и обида душили ее. Ей хотелось броситься вслед за Яринкой, крикнуть: «Постой! Послушай, как ты могла подумать такое?» Но она сдержалась. Домой она уже не шла, а бежала. Оскорбленная, растерянная, она с ужасом вспоминала о том, что не только Яринка так на нее глядела, и до этого она не раз ловила на себе странные, непонятные взгляды. Бывало, увидев ее, кто-нибудь из знакомых или школьных подруг пожмет плечами и заторопится дальше. «И чего это они? Неужто я так изменилась, что люди стали меня обходить?» — спрашивала себя Галя. А оно, выходит, вон что! И хоть бы какой толк был от этой работы — не жалко и потерпеть, а так… Эх, послушалась Максима, теперь, гляди, еще не раз покаешься! А Максим вон уже сколько времени и глаз не кажет. Издали только раза два видела его. Верно, ему сейчас не до нее. Под вечер следующего дня в типографию забрел заместитель немецкого коменданта, белобрысый и долговязый лейтенант Клютиг. Шнырял по комнате, расспрашивал о чем-то, моргал круглыми желтыми, будто сонными глазами. Вертел во все стороны стриженной под бокс маленькой головой на длинной шее. Клютиг заходил в типографию не в первый раз. Зайдет, повертится немного и выйдет. Галя на него внимания не обращала. Он и сейчас прошелся из угла в угол, поковырял зачем-то шрифты в кассе и, когда Панкратий Семенович отвернулся, воровато обхватил девушку за талию. Панкратий Семенович тоненько, угодливо хмыкнул. А Галю морозом по спине сыпануло. Вывернулась и в один миг оказалась у самого окна. «Только этого мне еще не хватало!» — подумала она тоскливо. Дома, уткнувшись лицом в подушку, целый вечер проплакала, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться в голос и не растревожить детей. Утром поднялась осунувшаяся, с красными опухшими глазами. На работу не пошла. Осталась дома присмотреть за больной сестренкой. Три дня, пока Надийке не стало легче, сидела дома. Готовила обед, ходила по воду, стирала и таким образом немного отвлеклась от тяжких мыслей. Но чуть только переставала заниматься домашними делами, опять на глазах выступали горькие слезы. Удрученная своими заботами, она и не заметила, как прошли Октябрьские праздники. Не раз она порывалась пойти к Максиму или хотя бы Грицька к нему послать, но так и не решилась. Не осмелилась нарушать его запрет и… стеснялась почему-то. Не хотела ому такой на глаза показываться — растерянной и зареванной. На четвертый день за ней из управы прислали полицая с приказом завтра с утра выйти на работу. Панкратий Семенович с недоверчивым видом выслушал рассказ о больной сестренке и все бурчал. Работы накопилось много, пришел заказ из управы соседнего района, еще какие-то отчетно-финансовые формы для гебита приказано напечатать. Дело стоит. Хозяева могут разгневаться, в неблагонадежности заподозрить. Галя, закусив губу, молчала. Но атмосфера в типографии становилась с каждым часом напряженнее, над девушкой явно сгущались тучи. Гром грянул уже под вечер. Панкратий Семенович в одном из бланков заметил вдруг опечатку и обнаружил ее только тогда, когда половину бланков уже отпечатали. Виновата была Галя. Недоглядела. Не до того было. Старик схватился за голову, забегал по комнате и впервые, кажется, за все время раскричался: — К черту! К чертовой бабушке, прошу вас, с такой работой! Это вам не при большевиках! От голодной смерти спас, пожалел — и вот тебе благодарность! По-комсомольски — косо, криво, абы живо! Вот как выгоню… заберут в Германию, там тебя выучат. Сразу б вас в хозяйские руки надо! Только вот характер у меня мягкий… Галя не сдержалась, сверкнула на него горячим от ненависти взглядом и так стукнула об пол набивной щеткой, что старик даже подскочил от неожиданности и испуганно втянул голову в плечи. — Провалиться вам с вашей работой и с вашими хозяевами вместе! Хоть в Германию, хоть к черту на рога — только бы вас не видеть! — Тю, сумасшедшая! Сбесилась! — отступил от нее Панкратий Семенович и, сверля девушку настороженно-пытливым взглядом острых, как иголки, глаз, проговорил уже примирительно, сладеньким голоском: — Уж и слова ей не скажи! Эта кротость не обманула Галю. Она уже знала, как мстителен был этот продавшийся немцам Панкратий Семенович. Но сейчас ей было все равно. Она была в таком исступлении, в такой ярости, что хоть к черту на рога, хоть на виселицу. Домой она возвращалась в тяжелом настроении — и на белый свет не смотрела бы. Не выдержали, сдали нервы. Ломило голову, боль сжимала сердце. Все впереди казалось беспросветно-темным, мрачным. Что теперь будет с ней — не знала. Твердо решила: в типографию к этому постылому Панкратию, к гадюке Клютигу она не вернется. Ни за что не вернется — пусть ее хоть на куски режут… И не оккупанты были ей теперь страшны, не Панкратий, не полицаи. Так у нее закаменело сердце, что и самой лютой смерти, кажется, не побоялась бы! Она сейчас боялась одиночества, безысходности и безнадежности, которые сразу завладели ею. А тут еще и день такой выдался, хмурый какой-то, хоть и морозный, гнетуще серый, тоскливый. Когда Галя перешла деревянный мостик и повернула в гору, к станции, начало смеркаться. На улице было пусто, только по дворам кое-где еще виднелись люди. Дома стояли здесь только по правой стороне, на крутом берегу речки. Слева почти отвесной стеной поднимался над мостовой глинистый, заросший густой дерезой обрыв. Невдалеке от того места, где мостовая сворачивала влево на переезд, зияла почти на всю улицу глубокая впадина. Обходя ее, Галя взглянула на старенькие, почернелые от времени дощатые ворота и сразу узнала их. Так это же Сторожукова хата! Те самые ворота, где когда-то не давал ей пройти щенок! Вот тут, в этой впадине, и лужа стояла… Что-то теплое, ласковое шевельнулось в ее груди. Галя подняла голову, глянула вдоль улицы и — в нескольких шагах впереди себя увидела Максима. Еще глазам своим не поверила, а уже ударило ее в грудь хмельною волной, прошло по всему телу, пламенем залило щеки. Максим вышел на дорогу снизу, из переулка. В коротеньком сером пальтишке, без шапки, он шел ей навстречу и сдержанно улыбался одними глазами. На миг Гале показалось, что где-то сквозь серую пелену туч пробился солнечный лучик. Она так обрадовалась этой встрече, так ей, оказывается, недоставало сейчас именно его, Максима, таким он показался ей родным, близким, что девушка даже и не пыталась сдержать охватившую ее радость. Они поздоровались, не сговариваясь, молча поняв друг друга, свернули в переулок и пошли вниз, к реке. Приглядываясь к девушке, Максим замедлил шаг. — Ты что, не заболела? Нет?.. Что-то осунулась с тех пор, как мы виделись в последний раз. Слушай, Галя, а как ты вообще живешь? Как дети? Может, чего надо? Денег, дров, хлеба? Тут такие хлопцы есть: скажу — и помогут. Ничего Гале пока не надо было, кроме одного: чтобы он, Максим, был тут, шел рядом, приглядывался к ней, чтобы она слышала его ровный, участливый голос. Нет, больше ей ничего не надо. Внизу, уже в лозняке, Максим показал Гале крошечный, густо исписанный клочок бумаги. — Что ты принесла в прошлый раз, я уже использовал. Но надо еще столько таких вот букв, — провел он пальцем по бумажке. — Новости есть, очень важные, Галя. Максим коротко рассказал Гале о положении на фронтах, о горячих боях под Москвой, о параде седьмого ноября на Красной площади. Ничего лучшего, ничего более дорогого нельзя было и придумать. Галя снова почувствовала, что она жива, что она не одинока. Физически ощущая, как спадает с ее плеч тяжелый груз, как легко и вольно становится на душе, Галя поднесла к глазам Максимову бумажку и внимательно стала всматриваться. «А — 11, а — 87…» — Так-так, — прикинула она вслух. — Тут добрых два-три килограмма шрифта пойдет. — Думаешь, заметят? Опасно? — насторожился Максим. — Да кто ж его знает… Волков бояться — в лес не ходить! Максим помолчал, подумал. — Ясно! Ты пока что начинай… С завтрашнего дня и начинай, чтоб не носить большие порции. А я что-нибудь придумаю. Если они и взаправду все там взвесили, придется обеспечить общий вес. Они шли узенькой тропкой вдоль берега, Галя — впереди Максима. Над ними, касаясь плеч и головы, свисали голые ветки верб, хлестали по рукам бархатистые прутики краснотала, шелестели под ногами, потрескивали пересохшие стебли трав. Быстро темнело. В густой чаще прибрежных зарослей было пусто и глухо. Но Галя об этом не думала. Ей было хорошо. Чуть позади себя она слышала Максимовы шаги, ощущала совсем рядом теплое его дыхание, даже, кажется, слышала размеренные удары сердца. Горечь, тоска, беспросветность — все забылось, развеялось. Галя не расспрашивала Максима, но про себя думала: «Нет, значит, все-таки вышло. — И подтвердила привычным Максимовым словом — Ясно!» Теперь она опять знала, что ей делать, как держаться, для чего жить на свете. Когда они уже простились и Галя повернула тропкой через свой огород к дому, ее вдруг укололо что-то досадное, неприятное. Сначала она не поняла, в чем дело, но потом, через минуту, вспомнила: Панкратий Семенович, ссора, взрыв ее неистовой ярости, решение никогда в типографию не возвращаться. «Ох, и наделала ж ты делов, девка! — от души покаялась она самой себе. — Хорошо, что хоть Максиму не сказала. Все бы прахом пошло. Как бы я ему тогда в глаза поглядела?» Но сейчас даже ссора с Панкратием Семеновичем не казалась ей такой страшной и непоправимой. — Как-нибудь помиримся! — подумала она вслух и усмехнулась весело и задорно.23
С фанатической страстью отдавался Максим созданию подполья и того же требовал от друзей. Укорениться, обрастать людьми, портить нервы врагам и неустанно вместо с тем искать связей с настоящим, большим подпольем, а может, и (если назреют такие условия) с Большой землей. Термин этот начал уже бытовать тогда в радиопередачах, как символ советской родины, находившейся по ту сторону фронта. События предоктябрьских дней на фронтах и особенно под Москвой, парад на Красной площади, всенародная мобилизация там, за линией фронта, давали в руки Максиму острое и разящее оружие. Наступил самый благоприятный, момент для хлесткого удара по немецкой пропаганде, и пропустить это время было бы преступлением. Выслушав Сенькину информацию и просмотрев все, что тот успел записать, Максим сел сочинять новую листовку. Он обдумывал каждое слово, чтобы возможно экономнее использовать бумагу, шрифт и сказать как можно больше. Писал, а потом старательно подсчитывал буквы, запятые, точки. Возбужденный, взволнованный, бормотал себе под нос, сам того не замечая:Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе…
Сияньем молний, острыми мечами
Хотела б я вас вырастить, слова!
24
Максиму хотелось увидеть свое «оружие» в деле, но идти на преждевременное открытое и сознательное «замыкание» он не торопился. Ему важен был разговор со своими людьми, а не с жандармами. Однако Максим понимал, что такое «замыкание» может произойти неожиданно, помимо его желания и воли. Он готовился к этому, и теперь, когда оно, по-видимому, произошло, его это не удивило и не испугало. Он только хотел знать, где, как и почему это случилось и кто такой Савка Горобец. Листовка попала к жандармам на четвертый или на пятый день после того, как ее отпечатали. Значит, они уже знают, что где-то тут существует типография и подпольная организация «Молния». И все, кто прочитал листовку, об этом знают. И неизвестная женщина, которая вчера на улице остановила Галю и рассказала ей про Савку, Дементия Квашу, Дуську и о том, что прибыл взвод СД во главе вот с этим золотозубым… Что в этом рассказе правда и что неправда — определить сейчас трудно. Но ясно одно: золотозубый рыскает по местечку и к нему, Максиму, в мастерскую заходил не случайно… Сперва Максиму, как и всякому человеку, которому угрожает опасность, казалось, что все догадки и подозрения падают именно на него. А он — как под стеклянным колпаком, отовсюду его видно, стоит лишь пошевелиться — и он схвачен. Но это казалось Максиму лишь до тех пор, пока он не попробовал поставить себя на место тех, кто ищет… Да, он на виду, но ведь у тех, кто его ищет, глаза завязаны. Они могут только предполагать, а точно знать никак не могут. А он, Максим, знает, что его ищут. Он может следить за каждым их движением и вовремя избегать расставленных ловушек. И не только избегать, но и нападать: путать, сбивать со следа, наносить неожиданные удары! Но для этого прежде всего надо все знать. И первым делом узнать — кто этот Савка Горобец? Надежная стена стала между «Молнией» и гестаповской командой золотозубого или тонюсенькая пленка из стекла, в которую только пальцем ткни — и она рассыплется? А может, просто случайный, ничего не знающий человек? Галя до сих пор никогда не слышала о Савке Горобце, а у той тетки спрашивать не могла. Леня Заброда и Сенька тоже никак не могли вспомнить такого имени. Володя Пронин и Петр Нечиталюк ничего не могли сказать о Савке, они впервые о нем услышали. Всем было сказано: прислушиваться к каждому слову врага, следить за каждым шагом полицаев и немцев, глаз не спускать с золотозубого — и обо всем как можно скорее докладывать ему, Максиму. И было приказано: держаться настороже, чтоб никого не захватили врасплох. Лучше дома не ночевать, а если негде больше, так, по крайней мере, ложиться спать в таком месте, чтоб в любой момент можно было ускользнуть из рук. Соблюдать комендантский час, затемно не шататься и лишний раз никому не попадаться на глаза. А если кому-нибудь — или всем им — придется бежать, пусть собираются в левадах под Бережанкой, на сто пятнадцатом километре. Максима они найдут в железнодорожной будке путевого сторожа Яременко. Как-то Максим встретился со стариком на базаре и на всякий случай предупредил его. Не застанут в первый раз, пусть зайдут к старику через день. А если он там не объявится, что ж… Они об этом услышат. Всякое сейчас может случиться. Они ведь тоже воюют, а на войне как на войне… Одно только не может и не должно попасть в руки врагу — шрифт. Да что шрифт! Ни одна добытая с таким риском буковка не должна попасть в руки жандармов. Ни одна не должна пропасть. Если даже только один из них останется на свободе, он должен спасти и сберечь типографию. Потерять ее, отдать немцам — все равно что на фронте сдать оружие врагу или сдаться в плен с оружием в руках. Все эти приказы и донесения шли от Максима и возвращались к нему по «цепочке» через Леню Заброду. В тот день, когда Максим узнал от Гали, что произошло «замыкание», в брезентовой сумке под порогом амбулатории осталось всего двадцать пять листовок. Остальные Леня уже передал друзьям в селах или распространил через Сеньку по всему Скальному. Оставшаяся пачка ожидала посланца из соседнего Подлесненского района. Кто должен был прийти, Максим не спросил, только приказал Лене забрать у Пронина листовки и как можно скорее передать в Подлесненский район и попросить товарища две-три из них наклеить там в самых людных местах. Пусть золотозубый или еще кто пошевелит мозгами, где эти листовки напечатаны — в Скальном, в Подлесненском, а может, в каком другом месте. Кроме того, Максим приказал Лене наклеить одну листовку на видном месте возле станции, а Сеньке Горецкому — на стене или на воротах сахарного завода. Клеить их надо было «насмерть» — так крепко, чтобы их нельзя было оторвать, чтоб целыми в руки жандармам они не попали. — Пусть сдирают по кусочку, пусть поработают… Ясно?.. Так-то, Радиобог. И еще скажи Сеньке, чтобы к приемнику в эти дни не подходил…Ночевать в тот вечер Максим пошел к Кучеренкам. О том, что он там иногда ночует, знали только Леня Заброда и Сенька Горецкий. Спал Максим в тесной кухоньке, в углу между печкой и глухой стеной. Единственное крохотное кухонное окошко выходило в сад. Кроме двери в хату был в этой кухоньке еще выход в сени. А уже оттуда можно было вылезти на чердак или перейти на другую половину, которая так и осталась недостроенной и теперь служила Кучеренкам коровником… В полночь, когда Максим, начитавшись изодранного, без начальных и последней страниц «Тиля Уленшпигеля», погасил коптилку, сдернул с окошка занавеску и начал уже было засыпать, кто-то тихо стукнул в раму. «Пепел Клааса стучит в мое сердце», — спокойно, сквозь сладкую первую дрему подумал Максим. Он угрелся на своем твердом топчане, и вылезать из-под одеяла не хотелось. Он еще полежал, уговаривая себя, что этот стук ему только приснился. Поднялся, когда стукнули еще. Тихо, чтобы не побеспокоить хозяев, вышел в сени и оттуда уже выглянул в сад. Ночь стояла тихая, мороз крепчал, и небо было чистое и звездное. Снегу не было, но легкий иней прикрывал промерзшую землю, стволы и ветви вишен. У самого окна под раскидистой грушей виднелась чья-то невысокая фигура. Максим сразу узнал круглоголового и коренастого Сеньку Горецкого. — Что-нибудь случилось? — спросил его Максим уже на кухне. — Да нет! — ответил Сенька. — Просто решил, что переться сейчас через город домой не конспиративно. Перебуду у тебя ночь, а на рассвете в левады. Никто и не заметит. — Нечего шляться по ночам, — упрекнул его Максим. — В таких случаях лучше дома сидеть. Ясно? — Ясно-то оно ясно, но… И Сенька высыпал на Максима ворох новостей. Сначала похвалил немцев за то, что всех собак перестреляли и теперь гуляй ночью, где хочешь. Листовки удалось расклеить, и их приклеили так крепко, что зубами даже не выгрызешь! Одну — около завода, другую — на стене дома, как раз напротив заводской площади. Ну а третью Ленька, наверное, на станции прилепил… На улицах повсюду парами разгуливают полицаи («боятся по одному, собаки!»), а на дорогах при выезде из города патрулируют в засадах немцы. Он сам прошел низом, огородами, незаметно, так, что нигде ни звука не было.

Потом Сенька сказал, что вчера утром, наверное случайно, забрел к ним в хату незнакомый полицай, спросил, не ночевала ли у них какая-то женщина, и больше не возвращался. Но самая важная и интересная новость касалась Вилли Шульца, о котором Максим слышал от Сеньки и раньше. Уже больше двух недель Сенька работал на железной дороге. Вместе с другими грузил на машину, а потом сваливал около завода песок и гравий. Шофером на этой машине был Вилли Шульц, которого все называли Шнапсом. Вилли человек живой, общительный. С Сенькой он быстро «подружился», и теперь они даже на «ты». У всех, у кого только можно, Вилли выменивал на сигареты и на кремни от зажигалок самогон и не скрывал, что полицаев, жандармов и даже, кажется, самого Гитлера сильно недолюбливает. Как-то Сенька спросил у него в шутку: — Вилли, а разве ты не нацист? — Нет! — Вилли вроде бы даже обиделся. — Ну, так, может, социал-демократ? — Нет. — Выходит, беспартийный? — констатировал Сенька. — Нет! — снова запротестовал Вилли. — А кто ж ты такой? — удивился Сенька. — Человек. Прежде всего — человек, — сделал Вилли широкий жест рукой. — А нацисты, — отважился Сенька, — выходит, по-твоему, не люди? — Нет. Дерьмо! — расхохотался Шнапс. И вот сегодня этот Шнапс отвел Сеньку в сторону и выложил удивительные вещи. Конечно, Сенька мало что понимал по-немецки, однако же уловил, что ему надо быть поосторожнее. Дальше выяснилось, что в районе появились «партизанен» и «листофка» и золотозубый, Пауль Форст, привез сюда целый отряд СД. Золотозубый — вонючая свинья. И притом страшная и очень опасная свинья. А он, Вилли, — война не гут, фашизм не гут — не хочет, чтоб Сенька думал, будто все немцы зер шлехт, как этот Форст. Под конец Вилли сказал, что жандармы арестовали какого-то Савку, и Сенька сразу понял, вернее, догадался, кто такой этот таинственный Савка Горобец. В прошлую субботу Сенька прихватил на работу двенадцать оставшихся из его доли «Молний». Сложенные вчетверо и перевязанные тонюсенькой ниточкой, они под толстыми отцовскими штанами, над правым голенищем, лежали незаметно вместе с плоским алюминиевым портсигаром. Правый карман в тех штанах был нарочно разодран, и, закуривая, Сенька всякий раз засовывал руку почти до колена, так что всегда, если нужно было, мог прихватить вместе с портсигаром и «бумажку». В тот день из Скального и окрестных сел согнали на станцию много народу. Надо было разобрать завалы на запасных путях. Люди работали вяло, нехотя, как сонные. Впереди, напротив элеватора, копались на путях военнопленные. Слоняясь между разбитыми вагонами и разбомбленными станционными постройками, Сенька ткнул две листовки знакомым ребятам и три передал бывшей соседке по парте Клаве Некраш, которая жила на территории завода. Передавая листовки, Сенька пояснял: — Видел? Кто-то под вагонами раскидал. Между прочим, интересные известия… Пальчики оближешь. Возьми почитай, передай знакомым, коли охота… Шестую листовку Сенька отдал молча, без объяснений. Двое немецких солдат из тодтовской команды вели через перрон к водокачке четырех военнопленных с лопатами в руках — то ли грузить, то ли закапывать что-то… Когда пленные проходили мимо Сеньки, один из них крикнул по-русски: — Братцы, табачку нет у кого?! Они замедлили шаг. А гитлеровцы как-то на это совсем не отреагировали. Должно быть, уже понимали, что значит русское слово «табачок». И Сеньку сразу, как говорится, осенило. Он сунул руку в бездонный карман, вытащил вместе с портсигаром листовку и, развернув страничку, высыпал на нее весь, какой только был, табак. Потом, секунду поколебавшись, поверх табаку положил еще пару газетных листочков, разрезанных на завертку. Смял все это в один комок, метнулся к пленным и сунул в первую протянувшуюся ему навстречу руку. Немец что-то вяло буркнул и, верно, больше для порядка отпихнул парня локтем. Но сверточка у пленных не отобрал. Стоя на шпалах, Сенька видел, как высокий, чернобородый, с запавшими желтыми щеками на ходу бережно развернул сверток и какое-то время внимательно, дольше, чем это было необходимо, вглядывался в него. Потом быстро смял в кулаке и спрятал в карман. К концу дня у Сеньки оставалось еще шесть листовок, а никого, кому бы он решился отдать их прямо в руки, казалось, уже не было. Он было хотел нести их назад, домой. Но минут за двадцать до конца работы на перрон въехал знакомый грузовик и остановился против зеленого вагона, стоявшего на путях возле разрушенной станции. Машину вел Вилли Шнапс, а в кабине рядом с ним сидел жандарм со шрамом на лице. Как только машина остановилась, жандарм открыл дверцы и, не захлопнув их, побежал через пути. Вилли Шнапс пересел от руля на его место, повернулся спиной к станции и, спустив ноги на ступеньку, вытащил из нагрудного кармана губную гармошку. Жандарм подбежал к Сеньке, который первым попался ему на глаза. — Ком! — слегка хлестнув его по плечам тоненькой лозинкой, буркнул он и приказал стать рядом. Потом стал сгонять этой лозинкой к Сеньке и других: — Ком, ком, ком! Когда набралось двенадцать человек, жандарм подал им знак следовать за ним. — Марш, марш! Шнеллер! И быстро зашагал к зеленому вагону. В вагоне стояли длинные зеленые ящики. Грузили их в машину по двое. И все-таки перетаскивать их было так тяжело, что после второго захода у всех чубы взмокли. Первым сбросил черный, сильно изношенный ватник пожилой, усатый человек, работавший в паре с Сенькой. За ним поскидали верхнюю одежду все остальные. И все это — ватники, шинели, пальто — сложили в ряд на низеньком штакетнике станционного палисадника. Вот тут-то, верно, на четвертом заходе, когда его напарник заковылял следом за остальными к вагону, а Сенька остался возле машины передохнуть, вытереть рукавом потное лицо, на глаза ему попался оттопыренный карман первого от края ватника, висевшего на заборе. Сенька насторожился, оглянулся вокруг. Жандарм возился с чем-то в вагоне, люди толпились перед широко раскрытыми дверьми, а Вилли Шнапс, повернувшись спиной к станции, самозабвенно наигрывал на гармошке «Лили Марлен». Сенька нашарил листовку, быстро сунул ее в карман ватника, а сам опрометью кинулся через пути к вагону. На всякий случай он стал в пару с другим, тонкошеим пареньком в обшитых кожею валенках. Пока грузили машину, Сенька успел разложить по карманам все шесть листовок, а чуть только закончили погрузку, первым схватил свое пальто и, одеваясь уже на ходу, юркнул вниз, под вагоны. — Ясно! — коротко заключил Максим, когда утих горячий Сенькин шепот. — Это все, конечно, очень смело и очень романтично, но при чем тут Савка Горобец? — Ну как это при чем? Да тот пожилой, усатый, в ватнике и был Савка Горобец. Это я теперь припомнил. В общем, кто-то его там так называл. — Ну и что, какой из себя этот таинственный Савка? — Обыкновенный дядька. Из Петриковки, кажись. Только, видно, такой, из пьянчужек, — нос у него как слива. — Нос, говоришь? — смеясь, переспросил Максим. — Это уже кое-что! А как же листовка попала к жандармам? Сам отдал или… — Да вот толковал мне Шнапс, а что — я так и не разобрал. Вроде был он при этом и видел, как Савку арестовали. А почему да где… — А если случится что… как думаешь, узнает тебя твой Савка или нет? — А черт его знает… — Сенька заколебался. — Вроде бы не должен. Ну, а если бы даже узнал? Я ведь там не один был!
25
Форст вызвал Савку на допрос не через два, а через пять часов, уже в полночь. За это время Савка успел десятки раз обдумать и случай с листовкой и всю свою жизнь. И так перетрусил, так перетлел своей заячьей, отравленной алкоголем душонкой, что когда его снова привели в комнату с затененной абажуром лампой, Савка Горобец мог только дрожать. За столом, будто прошло всего несколько минут, по-прежнему сидел Форст. Он был такой же, как и при первой встрече, свежий, подтянутый, оживленный и так же поблескивал золотозубой улыбкой. — Извините, пожалуйста, что задержал. Все, знаете, дела, — заговорил Форст. — И прошу прощения еще раз, но, поскольку час уже поздний, давайте, милейший, перейдемте сразу к главному. Отодвинув слегка лампу, Форст налег грудью на стол и какое-то время молча всматривался в Савкино лицо. Он так и забыл сомкнуть губы, и блеск золотых зубов бил прямо в глаза, гипнотизировал Савку. «Ну, Савка, что ж ты знаешь? — думал Форст, изучая арестованного. — Если знаешь что-нибудь, долго у нас не продержишься, не из таких». — Подумать вы успели. Времени было достаточно, а молчание ничего хорошего вам не даст. Тут ведь все наоборот, сказанное слово — золото, а не сказанное — дерьмо!.. Начинай про «Молнию»… Но перепуганный Савка вряд ли понимал и слышал что-нибудь. Он сидел неподвижно и только бессмысленно смотрел на золотые зубы гестаповца. — Ну, хватит! — вдруг заорал Форст и стукнул кулаком об стол. — Говори! Долго я с тобой тут цацкаться буду? Савка от неожиданности даже подскочил на стуле и, придя в себя, умоляюще скривился: — Не виноват же я, ей-богу, не виноват! — Я тебя не спрашиваю, виноват ты или нет. Я тебя про «Молнию» спрашиваю! Савка глядел на Форста так, словно спрашивал: кто из них двоих сумасшедший? При чем тут молния?! — Н-не знаю. Е-е-й-богу, н-н-е видел… — затрясся он. Он не заметил подписи на листовке, а может быть, просто забыл о ней. — Кто тебе дал листовку? — Вот… говорила-балакала… — Савка начал что-то соображать. — Только кто ж мне ее давал? — Где ты взял листовку? — не понял его ответа Форст. — Кто и где ее напечатал? — Не знаю, н-и-ничего не знаю… — Не крути, Савка. Запомни: я все уже знаю, но только мне хочется, чтобы ты сам сознался. Я хочу смягчить твою вину… Ну, где взял листовку? — Нашел в кармане. — Очень правдоподобно! А кто ее туда положил? Святой дух? — Н-н-не знаю… — Да ты что? Колода деревянная? Тебе в карман лезут, а ты и не слышишь? Смешно! Но допустим на минуту, что ты действительно такой теленок. Тогда как думаешь, когда тебе ее подкинули и где именно? — Не помню! — Ты что, раздевался где-нибудь, спать ложился в тот день? — Не помню. — А что же ты помнишь? — Ничего не помню. — Так-таки ничего и не помнишь? — почти что искренне удивился Форст. — Ничего, — так же искренне ответил Савка. Он уже собрался с мыслями, казалось, нащупал под ногами твердую почву и решил ничего не объяснять. — Так-таки ничего? — Ничего. — И давно это с тобой? — посочувствовал Форст. — Всегда, — грустно покачал головою Савка. — Как это всегда? — уже и вправду заинтересовался Форст. — Если выпью, так ничего уже не помню, — выложил наконец Савка свой последний козырь. — Ага, — понял Форст. — Только ты, Савка, не туда попал, скажу я тебе… Выходит, что тебе эту листовку подсунули, когда ты пьяный был? — Не знаю. Может, и так. — Ага. Наконец-то хоть какое-то предположение… А где же ты пил? — Не помню. — А не кажется тебе, Савка, что все это уж слишком? — Форст начал терять интерес к допросу. Савка помолчал… Молчал и Форст. — Вот что, Савка. Я тебя предупреждал, и вина, значит, будет не моя. Я тебя хотел пожалеть, а ты… Человек я больной, нервы у меня ничего такого не переносят, но… ты сам виноват. Я должен помочь тебе все припомнить. Такая уж у меня обязанность. У нас есть возможность помочь тебе припомнить все, день за днем, час за часом, с того времени, когда мамочка завернула тебя в первую пеленку… Ну, в последний раз спрашиваю: будешь говорить? — Так, ей-же-ей, не знаю… — захныкал Савка. — Ну, хватит! Форст постучал карандашом по абажуру. — Возьмите, — приказал он по-немецки. — Только слегка, так, чтобы он почувствовал, понял, что ожидает его впереди. Одним словом, покажите ему перспективу. Савка ничего этого не понимал, только почувствовал, как чья-то твердая, железная рука скрутила назад его руки, сдавила их жесткими пальцами… И Савка словно сам собой встал на ноги и двинулся к двери, не к той, через какую его ввели сюда, а к противоположной. Кто-то, кого Савка за спиной у себя не видел, втолкнул его в соседнюю, ярко освещенную — так ярко, что от сильного света резало глаза, — комнату с белыми стенами. Посреди комнаты Савка успел еще заметить большой пустой стол. Больше он ничего не увидел, потому что в следующий миг его резко крутанули на месте, и прямо перед собой он увидел лицо Веселого Гуго. Гуго какое-то мгновение внимательно всматривался в Савкины глаза. Губы его шевельнулись, и шрам стал потихоньку растягиваться. Гуго действительно усмехался. Усмехался почти добродушно, почти что ласково, по крайней мере довольно. И усмешка эта была такая страшная, что у Савки потемнело в глазах. Потом Гуго стал неторопливо связывать Савке за спиной руки тонкой, врезавшейся в тело бечевкой. Связывал и ласково, как кот, увидевший перед собой сало, мурлыкал: — Ну вот, вот и хорошо! Ну, а теперь, детка, держись! Держись, птенчик… Страшное, усмехающееся лицо Гуго поплыло куда-то вбок, и вместо него Савка увидел Дуську. Тот стоял перед ним без пиджака, в одной нижней, с засученными рукавами сорочке. И вдруг связанные за спиной Савкины руки с неимоверной силой рвануло вверх. Раз, другой, третий… Что-то хряснуло, нестерпимо острая пронзительная боль огнем залила все тело… Когда Савку вывели, Форст, не вставая из-за стола, устало потянулся, откинувшись на спинку стула, выдвинул ящик, нашел какую-то пилюльку и, кинув ее в рот, запил водой. Потом из того же ящика достал клочок ваты и принялся старательно затыкать уши. Заткнул, снова откинулся на спинку кресла, закурил и, пуская через ноздри дым, стал прислушиваться. Поначалу за стеною было тихо. Потом Форст услышал приглушенный шум (видимо, отодвигали стол), потом опять тишина — и вдруг… нечеловеческий, прорвавшийся сквозь вату, зверино тонкий визг обезумевшего от боли человека. Закусив сигарету, Форст пальцами крепко прижал вату в ушах. Посидел так немного, отнял пальцы — визг не прекращался, только стал еще тоньше, нестерпимее. Форст снова заткнул уши. Он повторил это несколько раз, пока наконец визг не прекратился. Что-то там, за стеною, тяжело стукнулось об пол, затопало, и все стихло. Форст закурил новую сигарету, прищурился. Дверь скрипнула, на пороге встал Веселый Гуго. Вид у него был несколько смущенный, а ужасная его усмешка казалась сейчас растерянной. — Дохлый, стерва! — Гуго с досадой пожал плечами. — Сразу, сволочь, сомлел! Форст помолчал, подумал, потом рывком поднялся на ноги. — Ну что же… Отлейте… и на сегодня хватит. Повторить завтра в шесть, а потом привести ко мне. Нет, Форст совсем не был уверен, что Савка и есть та самая ниточка, которая приведет его к заветному клубку.26
К утру ситуация изменилась. Накануне у Форста была в руках только одна, отобранная у Савки, листовка. И был Савка, который, разумеется, за свою выходку на Квашиной свадьбе уже заслуживал самой суровой кары, однако про «Молнию» мог и не знать. Кое-какие подозрения падали на полицая Квашу: ведь Савка именно к нему принес листовку. К тому же комендант Мутц доложил Форсту о подозрительной болтовне Кваши. А кроме того, в истории с «Молнией» могло быть замешано еще довольно много людей, участие которых опять-таки было неясно. За всеми этими людьми Форст установил негласную слежку, а Квашу поручил лично Дуське Фойгелю. Пока что эта слежка ничего еще не дала. Конечно, можно было бы по известному и проверенному способу «густого сита» сразу же арестовать всех этих подозреваемых, а потом уже выбивать из них «Молнию». Но «Молнию» можно выбить, а можно и не выбить. А ему в этой ситуации нужно было не просто наказать несколько десятков людей, а непременно раскрыть, захватить, уничтожить и «Молнию» и ее типографию. Однако напасть на след «Молнии» оказалось не так просто. И если Максим с того времени, как листовка попала в жандармерию, чувствовал себя словно под стеклянным колпаком, если ему казалось, что все и всюду только на него и смотрят, то и Форсту было не так уж легко. Он должен был выбирать среди тысяч, искать, по существу, иголку в сене. И Форст опасался, что один его неосторожный шаг так насторожит «Молнию», что она станет неуловимой навсегда, хотя бы он, Форст, и уничтожил население целого района. Но его сюда послали не для того, чтобы уничтожить кого бы то ни было. Это и без него умели делать — и делали неплохо. Ему поручили раскрыть и выловить определенных людей, вот эту самую «Молнию». Форст не подозревал, что «Молния» уже следит за ним. А у него пока не было никаких определенных данных о подпольщиках, Савка попался ему в руки случайно. Все прочие только подозревались, не больше. Если бы Форст когда-нибудь получил возможность сравнить свои подозрения с реальными фактами, он убедился бы, что напрасно оставил без внимания и Выселки и совхоз. A уж про хату бабки Федоры и говорить нечего: сто лет ходил бы мимо — и в голову бы не пришло подумать о ней. В сущности, по-настоящему он подозревал только Галю и Максима. Да и то без всякого основания. Галю просто потому, что она работала в типографии, а Максим был студентом и в Скальном появился внезапно и уже во время войны. За Галей следил Панкратий Семенович. Форст сам вместе со Шроппом придирчиво проверил и перевесил ночью все кассы. Ничего подозрительного он не обнаружил и почти уверился, что взять что бы то ни было и вынести из типографии совершенно невозможно. Ничего не дала и слежка за Максимом, которую вели Дуська, Шропп да и сам Форст. Итак, накануне в руках Форста была фактически одна-единственная и к тому же не очень надежная, гнилая ниточка — Савка. Но утро сразу принесло неожиданные новости. В поле зрения жандармерии попало еще три листовки с подписью «Молния». Начальник полиции Туз обнаружил две листовки около завода, а Дуська — одну на станции. Было еще очень рано, не закончился даже комендантский час, и Форст, отложив утреннюю беседу с Савкой, приказал, пока не появились на улицах люди, сиять эти листовки и немедленно принести к нему. В ожидании посланных на эту «операцию» полицаев Форст сидел в кабинете и размышлял. «Чем объяснить, — думал он, — что листовки расклеили только через несколько дней после того, как ими уже хвастал Савка Горобец? Что это? Попытка, к тому же наивная, отвлечь внимание от Савки? Неопытность или беспечность неумелых конспираторов? А может быть, вызов? Может, эта „Молния“ так уверена в своих силах, что отважилась действовать под самым носом жандармерии и отряда СД?» Полицаи возвратились ни с чем. Листовки «живыми» в руки не давались. Они были приклеены каким-то дьявольским красноватым клеем навечно, и отдирать их со стен можно было только маленькими клочками. Таким образом, у Форста в руках по-прежнему оставалась одна-единственная, отобранная у Савки, листовка.Но все это сразу забылось, едва лишь вернулся со станции Дуська. Вместо листовки, которая ему тоже «не далась», он принес совсем уж неожиданную и, как показалось Форсту, многообещающую новость. И была эта новость связана с Дементием Квашей и его молодой супругой. На обратном пути со станции, уже на мосту, Дуська встретился с Дементием. Кваша сменился с дежурства еще в среду вечером и теперь, пробыв дома четверг и ночь на пятницу, возвращался из Петриковки в Скальное. Дуськин дружок и поднадзорный заплетал ногами, как пьяный, хотя был совершенно трезв. Голову опустил, лицо осунулось, даже посерело. — Ты что в землю смотришь, молодожен? — спросил его Дуська, сразу поняв, что с Квашей творится что-то неладное. — Варька выспаться не дала? — Эх, — вяло отмахнулся Кваша, — не знаю, как тебе и сказать… — Да так прямо и скажи, — посоветовал Дуська, почуяв что-то интересное. — Думал промолчать, — продолжал Кваша с тоскою. — Мое горе, думал, мне и терпеть. Как говорится, взялся за гуж… А сейчас гляжу, как бы чего похуже за этимне крылось… — А ты не молчи, — поощрил Дуська. — Ежели так, молчать нельзя! И Кваша рассказал.
В среду вечером, на третий день после того, как он сказал Варьке про листовку и они вроде бы помирились, Дементий сменился с дежурства в полиции. Собираясь домой, решил зайти в управу, узнать, не будет ли там петриковской подводы. Шел, видимо, пятый час, на улице было пасмурно, быстро темнело. Спускаясь вниз по улице, Дементий издали увидел на крыльце управы наглухо укутанную в теплую шаль женскую фигуру. «Тю, ну совсем с Варькой схожа! — подумал Кваша. — Гляди! Да это и вправду Варька! Откуда она тут взялась? Вроде бы и не говорила, что в Скальное собирается…» Удивленный Дементий уже было и рот раскрыл, чтобы окликнуть жену, но тут же спохватился, раздумал. В полицаевой груди вспыхнуло ревнивое подозрение, он остановился, прислонился к телеграфному столбу. Сразу зароились в голове десятки разных предположений, черных, неприятных. И в каждом из них он, Дементий Кваша, видел себя набитым дураком, каждое тут же переходило в уверенность. «Ну, погоди же, — все больше распалялся Кваша, всем телом прижимаясь к шершавому, холодному столбу, — погоди, ты у меня не выкрутишься теперь, шлюха Полторакова!» А Варька торопливо зашагала от управы вниз и повернула вправо, на мостик. Она была чем-то, видно, озабочена, не поднимала головы и не оглянулась ни разу. Сумерки сгущались, но Кваша пока хорошо видел, как Варька перешла мост и двинулась дальше — только не по той дороге, которая, перерезая насыпь, вела на Петриковку, а правее, по мостовой, куда-то к станции. Дементий кинулся следом. Прижимаясь к плетням, воротам, кустам дерезы, он крался за Варькой, пока та, миновав переезд, не остановилась под чьим-то забором в глухом проулке возле МТС. К тому времени стало совсем темно — то ли не было видно луны, то ли она поздно всходила, да и небо затянули рваные, косматые тучи. Дементий присел за густым кустом дерезы, в неглубокой канаве как раз напротив проулка. Кругом — ни души. Варькина фигура по ту сторону мостовой почти сливалась с глухим и высоким забором. Кажется, она поджидала кого-то. Не иначе, как свидание тут назначила. Но кому? Ясно, не Мутцу. На черта она ему? Полтораку? Так тому и в Петриковке хватает места… Тогда… Тогда, чего доброго, может, самому начальнику полиции Тузу? Он, гад, так к бабам и липнет, так и липнет… А может, что-нибудь и того хуже? Может… Одним словом, воображение у Кваши так разыгралось, что даже пот на лбу выступил. Вдруг совсем близко от него застучали по мерзлой земле шаги. Кваша от испуга и неожиданности чуть не убежал куда глаза глядят. Однако удержался. Мимо быстро прошла женщина, и так близко от него, что Дементий мог бы поклясться — это была девушка, которую он не раз встречал в управе. Кажется, она работала в типографии вместе со знакомым Дементию Панкратием Семеновичем. «Как бы она не вспугнула Варьку…» Дементий замер, стараясь сдержать гулко колотившееся сердце. О том, что эта девушка может интересовать Варьку, Кваша даже и не подумал. Тем удивительнее было видеть, как Варька кинулась к ней. У Кваши голова пошла кругом от такой неожиданности. Варька пошла рядом с девушкой по темной, глухой и пустой улице. Они тихо о чем-то говорили, даже как будто спорили. Но о чем именно — Дементий расслышать не мог. А когда, спохватившись, вскочил на ноги и осторожно вдоль канавы двинулся следом за ними, было поздно. Девичьи сапожки затопотали еще быстрее, а Варька, круто повернув назад, вынырнула из темноты в двух шагах от Кваши. Все это, таким образом, чуть не закончилось полным провалом, и на самом интересном и самом непонятном месте. Хорошо еще, что Дементий, скорее с испуга, чем из осторожности, мгновенно присел и замер под кустами дерезы. Варька пробежала мимо, чуть не задев его по лицу юбкой. И все-таки, пересиливая страх и внезапно охватившую его слабость, Кваша решил не отставать от Варьки, выследить ее до конца. На улице стояла уже темная осенняя ночь. Варька снова нырнула в глухой проулок и направилась вниз, к речке. Дементий заторопился следом за нею. У сожженной мельницы по льду она перешла на другой берег. Потеряв в темноте Варьку, Дементий постоял на берегу, прислушался, уловил едва слышные, уже приглушенные расстоянием шаги и пошел на них в гору, тропинкой, по чьим-то огородам и канавам. Левады, огороды, переулки, улицы вели вверх, в гору, уводили от центра, казалось в самую степь. И все удивительнее и непонятнее, все страшнее казалось Кваше это неожиданное путешествие… Наконец Варька вышла в степь, пробежала мимо кладбища, через Терновую балку, к совхозу и, взойдя на одно из семи крылечек длинного, под шиферной крышей здания, тихонько постучала в дверь. За дверью кто-то отозвался. Дементий не расслышал, но ему показалось, что отозвалась женщина. Варька тоже подала голос. Дверь тихонько скрипнула, и Дементий остался один посреди огромного двора. Напротив в здании ни одного огонька. И в той квартире, куда зашла Варька, тоже было темно, — там, видимо, тщательно завесили окно. Он мог потребовать, чтоб отворили дверь, а то и просто выломать ее. Но сделать это Кваша не решался… Минул один час, проплыл другой, на исходе был уже и третий, а Варька все не выходила, да, верно, и не собиралась выходить. «Ночевать останется», — с покорной и тупой тоской подумал промерзший Кваша. Стоять так дальше было глупо, холодно и… страшно. Мало ли что могло случиться, что могла выдумать, с кем связаться Варька! Кваша отправился в полицию уже под утро, до окончания комендантского часа. В караульном помещении было тепло и накурено. Поздоровавшись с дежурным полицаем Степкой, Кваша уселся на табуретку, за деревянный некрашеный стол, снял шапку, подложил ее себе под щеку, решил подремать часок. Но только упала на стол тяжелая голова, усталость, волнение и тепло сразу разморили его, и в ту же минуту Дементий провалился в тяжелый, непробудный сон… Проснулся он оттого, что не хватало воздуху. Чем-то, словно водою, залило рот и нос. «Тону!» — с ужасом подумал Кваша и рванулся с места под громкий гогот, от которого зазвенели стекла. Гоготали Степка и Оверко, только что вернувшиеся с патрулирования: они засунули Кваше в нос зажженную цигарку. Дементий водил вокруг вытаращенными глазами, долго откашливался, потом глянул на окно, все сразу вспомнил и молча бросился к двери. — Э, гляди, не одурей! — все еще гогоча, закричал вслед Оверко. До совхоза Дементий бегом бежал. Прямо с ходу, без стука влетел в сени и встал на пороге узенькой кухоньки. В плитке весело пылал огонек, а старая Горецкая, сидя на низеньком стульчике, перед раскрытыми дверцами, чистила над миской картошку. Увидев полицая, который вломился в хату незваный, непрошеный, она побледнела: Сенька сегодня дома не ночевал. И так и осталась сидеть на стуле со стиснутым в руке ножом и недочищенной картошкой. — Где она? — не здороваясь и ничего не объясняя, накинулся на Горецкую Кваша. «Она»? Значит, дело не в Сеньке. Горецкая пришла в себя и побледневшими, но уже послушными губами спросила: — Кто это «она»? — Ну, женщина! Та, что ночевала тут. — Женщина? Да господь с вами! Никакой женщины тут не было и нет. Со сна, что ль, привиделось? — Я тебе покажу — со сна! — кинулся через кухню в комнату Кваша. — Ты гляди, старая, говори лучше правду, а то хуже будет! Но Горецкая поняла уже, что речь идет не о Сеньке, и только плечами пожала. — Тут что, больше никто не живет? — вернулся из комнаты Кваша. — Я живу. И сын живет. Сенька. — Сын? А где же он? — На работу погнали, на станцию. Больше она ничего объяснить не могла, как ни приставал к ней Кваша. Еще, правда, сказала, что слева, в шестом номере, живут старики, родители совхозного зоотехника, а справа, в четвертом, — бывшая продавщица из совхозной лавки. Не совсем доверяя своей памяти, Кваша решил заглянуть и в шестой и в четвертый. Старики из шестого номера тоже ни о какой женщине не знали. Квартира бывшей продавщицы была уже на замке. Сбитый с толку, злой Кваша растерянно топтался на крылечке. «Может, я и правда что-то напутал, — сомневался он, ругая себя. — Да нет! Сам же видел. Не повылазило же мне! Сюда она зашла, в пятый!» Так ни с чем и побрел Кваша в город. Шел не торопясь, лениво, устало. Не дойдя до середины Терновой балки, отделявшей совхоз от Курьих Лапок, остановился закурить. Вынул из кармана кисет, скрутил цигарку, повернулся спиной к ветру, чтобы чиркнуть зажигалкой, и… увидел Варьку. Она вышла из ворот совхозной амбулатории, повернула направо, к оврагу, и сразу же пропала где-то за кустами. Уже не прикуривая, как был, с цигаркой в зубах, Кваша снова бегом припустился за женой, но не догнал. Раза два мелькнула перед глазами Варька: один раз — за оврагом, на озимом поле, другой — возле кладбища. И потом как провалилась в узеньких окраинных проулках. Поколебавшись, Дементий решил прекратить наконец эту дурацкую беготню, вернуться в Петриковку и поговорить с Варькой как следует, в открытую, напрямик…
— Ну, и что же она сказала? — едва сдерживаясь, чтобы не обнаружить свою заинтересованность и нетерпение, спросил Дуська, выслушав рассказ Кваши. — А ничего, — растерянно махнул рукой Дементий. — «Иди, говорит, подальше. Залил, говорит, буркалы, черт те где прошатался, а теперь мне заливаешь? Нигде, говорит, не была и ничего не знаю». — Бил? — Какое там! Самому чуть глаза не выцарапала. — Правильно. Сразу бить — это, брат, нельзя. Сначала выведать надо. Дело такое, знаешь… может, за ним что и политическое кроется. И Дуська, не заходя в полицию, повел раздосадованного Квашу прямо к Форсту.
27
Выслушав Дуську, Форст сразу же, как гончая, напавшая на след, насторожился. Больше всего его поразило то, что Савка с этой своей листовкой так поспешно, глухою ночью подался из Скального в Петриковку и пришел именно в Варькину хату. Может, эта Варька и к коменданту Мутцу устроилась с какими-то определенными намерениями? Встречалась же она потом с Галей Очеретной, да еще при обстоятельствах более чем подозрительных. Теперь, в связи с новыми данными, все — и Очеретная, и появление расклеенных листовок, и Савка Горобец в особенности, — все предстает в совсем ином свете. Варькины странствия и свидания состоялись как раз перед тем, как появились расклеенные листовки. Так не связано ли это с теми людьми, с которыми она встречалась минувшей ночью? Утренний допрос Савки Форст отложил. Вместо этого допросил Дементия Квашу. Еще раз уточнил, когда, где, с кем встречалась Варька, что отвечала, когда Дементий потребовал у нее объяснений. Не намекал ли ей Дементий на связи с подпольщиками, не напугал ли ее? Нет, Дементий даже и не подумал о таком, у него ведь в голове совсем другое было. За это Форст Квашу похвалил и снова стал допрашивать: не догадался ли он, Дементий, незаметно обыскать Варьку, — может, она с собой что-нибудь принесла? Например, листовку? Нет, до этого Дементий тоже не додумался — и заработал легонько в зубы. Совсем легонько, и было бы, наверное, совсем не больно, если бы на пухлой Форстовой руке не было колец. Закончив таким манером с Квашей, Форст, по своему обыкновению, вежливо предупредил: — Тысяча извинений, но супруге о нашем разговоре ни словечка. Заруби себе на носу. И чтоб глаз с нее не спускал. Головой ответишь. И сразу же взялся за тех, кого, по сведениям Кваши, позапрошлой ночью навещала Варька. Это было расследование детальное, придирчивое, но скрытное — такое, чтобы у поднадзорных не могло возникнуть ни малейшего подозрения. За Галей Очеретной гестаповцы следили с самого начала, хотя встречи ее с Максимом они и проворонили. Семья Горецких тоже была изучена довольно основательно, но это ничего нового Форсту не дало. Зато совхозный медпункт, лекарь-окруженец Пронин и его подопечные раненые — от всего этого Форста просто в жар бросило. Он радовался, что наконец-то, как ему казалось, напал на правильный след, и досадовал, что с самого начала не обратил внимания на такой махровый «цветочек», проворонил его и заметил теперь совершенно случайно.Приказав Шроппу и Дуське следить за каждым шагом Кваши, Варьки, Горецких и в особенности Пронина, Форст уже только к полуночи вернулся к Савке Горобцу. — Ну вот. Тысячу извинений, что приходится опять тебя беспокоить, Савка, — встретил он Горобца. — Садись, не доводи себя опять до неприятностей, рассказывай. Измученный, до смерти перепуганный Савка, услыхав эти слова, умоляюще взглянул на Форста и не выдержал, заплакал. Слезы, как ртутные шарики, нечасто, одна за другой, выступали на глаза и по усам скатывались на грудь. — Вот хоть верьте, хоть нет — и рад бы сказать, так, ей-же-ей, ничего не знаю и не помню. Хоть убейте… — Э, нет, Савка! Чего нет, того нет. — Форст перегнулся через стол. Золотые зубы заблестели перед самым лицом Горобца. — Так легко ты, Савка, не отвертишься, нет! Ты нам скажи все, что знаешь, все, что нам надо! Потому что ты ведь много знаешь, Савка! А Савка в этом золотом блеске увидел страшную усмешку Гуго, бледное, сухое лицо Дуськи и сразу почувствовал, как все у него внутри обмякло. — Вот, говорила-балакала, — отчаянно крикнул он, — ну, что я там знаю? Лучше бы вы меня сразу убили. — Нет, Савка, ты подумай: будешь говорить или нет? Не до утра же нам с тобой тут сидеть. И плакать дело не мужское. Да и… есть же у вас такая поговорка — Москва слезам не верит. — Да если бы я знал, про что говорить-то… — Ну, например, про «Молнию». Савка только тяжело вздохнул. — Или про тех, кто тебе дал листовку… Савка пожал плечами. — И чего это тебя именно к ней понесло, к Варьке? Варька у вас кто, связная или тоже листовки распространяет? Или, может, вы ей какое особое задание дали и с этим коменданту Мутцу подсунули? Ну! Говори! Про Варьку! От этих вопросов у Савки и вправду голова пошла кругом, и он только глаза вытаращил. Так, молча, с раскрытым ртом, и сидел. — Ну что же, Савка, выходит, ты еще но готов к ответу? Форст стукнул перстнем о графин. Сразу же за спиной у Савки скрипнули двери, и, словно два архангела, возникли сзади Гуго и Дуська. — Ну, деточка, ну, птенчик… — склонилось над Савкой в соседней комнате искаженное лицо Хампеля. И Савка, не помня себя, дико, беспамятно заверещал на какой-то неслыханно высокой, безумной ноте. Нестерпимо острая боль привела его в чувство, и Савка, весь в поту, как в росе, жалобно глотнул воздух и по-детски умоляюще забормотал: — Не надо, не хочу… Скажу, все скажу. Что хотите, скажу! Но сказать хоть что-нибудь Савка действительно не мог. С короткими перерывами Гуго и Дуська пытали Савку до самого утра. Савка снова терял сознание, но теперь Гуго ловко и быстро, со знанием дела приводил его в чувство, и все начиналось сначала. Наконец бесконечно повторяющиеся допросы, истошные Савкины крики, хрипение и стоны, бледное, будто высосанное Дуськино лицо и мертвенная усмешка Гуго — все это до смерти надоело Форсту. Стоя над распростертым на цементном полу, мокрым с головы до пят, бесчувственным Савкой, Форст убедился: ни в чем таком, что связано с «Молнией», Савка действительно не замешан. Если бы Савка знал что-нибудь и что-то делал, он давно бы уже тут рассказал. И все же с ним еще не покончено. Если взяться за него с другого конца, из этого ничтожества можно еще, наверно, кое-что выудить…
28
Дав отдохнуть себе и Савке часа два, Форст снова начал допрос. Обвисший, обмякший Савка едва держался на стуле. Где-то там позади, за спиной у него, стояли Дуська и Веселый Гуго. Форст сидел на своем месте за столом. Он долго сосредоточенно и серьезно разглядывал Савку, будто в первый раз увидел его. Казалось, что-то даже участливое светилось в его взгляде. И Савка ловил этот взгляд «Павиль Ивановитша» с собачьей преданностью, словно это была единственная теперь сила, которая могла защитить его, отвести все страшное, ужасное, что притаилось там, за спиной. Сознание у Савки совсем померкло. Остался один только страх перед теми, кто сзади, и готовность все, все сделать — хоть сапоги лизать тому, кто был сейчас перед ним, кто сам ни разу еще его не ударил и от кого зависело все. Форст разжал губы и как-то вяло, гадливо усмехнулся. — Ну, знаешь, Савка… Даже смотреть на тебя неловко. Какой-то ты… ну, как дитя малое. Вижу, без моей помощи тебе из этого дела не выкрутиться. Хочешь, я тебе помогу. — Хо-очу, — всем существом своим потянулся к нему Савка. — Вот и хорошо! Тогда давай вместе будем припоминать весь тот день: где ты ночевал, когда встал, что делал, где был, с кем встречался? Когда именно обнаружил листовку? С кем встречался из тех, кого можешь вспомнить и опознать? Кого подозреваешь?.. Ну, будешь говорить? — Буд-д-д-у, — протянул Савка, чувствуя за спиной усмешку Гуго. И они действительно проследили весь тот день, минута за минутой и шаг за шагом, припоминая все самые незначительные подробности, все мельчайшие детали. «Припоминал» и делал из этого выводы больше Форст. Но Савка усердно прислушивался к его соображениям и старался как можно точнее отвечать на вопросы. Больше всего Форста заинтересовал эпизод с выгрузкой зеленых ящиков. — А сколько там было народу? — спросил Форст. Савка заколебался. Но тут из-за спины отозвался Веселый Гуго. Он сам сгонял грузчиков к вагону, и, если он не ошибается, их было двенадцать. Мог ли он их опознать? А кто его знает! Он находился в вагоне и лиц не запомнил, но попробовать можно. Да и Вилли Шнапс, то бишь Шульц, мог бы помочь — он все время сидел в машине. Гуго говорил по-немецки, и Савка ничего не понял, хоть и напрягал зачем-то (скорее всего от страха) все свое внимание. Форст снова повернулся к Савке: — А если б тебе их показать, опознал бы ты тех, кто грузил с тобой зеленые ящики? Понимаешь ли, надо, обязательно надо их опознать. — Опознать? — На мгновение словно какой-то колючий лучик пронизал затемненное Савкино сознание. Опознать — выходит, еще кого-то отдать в руки этого Гуго и Дуськи на нестерпимые муки. Савка вздрогнул, как от холода повел плечами, заколебался. Форст заметил это. — Только смотри… Малейшая ложь — и… — он кивнул головой куда-то поверх Савки, в ту сторону, где были Гуго и Дуська. Лучик сразу погас. — Опознать? — еще раз переспросил Савка. — Да, да… Я попробую, обязательно постараюсь… опознать.В тот же день Савку привезли на станцию в крытой черной машине с одним узеньким окошком. Медленно провезли вдоль заводской колеи, на несколько минут останавливаясь то возле элеватора, у моста, а то около завала на путях. Вел машину немецкий солдат из отряда СД, тот самый, который привез в Скальное Пауля Йозефа Форста. Рядом с ним в кабине расположился начальник полиции Туз. В кузове, скрытые от посторонних глаз, сидели четверо — сам Форст, Веселый Гуго, Савка Горобец и Вилли Шульц. Из всех четверых один только Вилли Шульц не был заинтересован в этой операции. Он почти демонстративно уселся спиной к оконцу и на людей не смотрел. Явился он изрядно навеселе, в машину сел только после строгого приказа Шроппа и решительно заявил, что никакие там грузчики его не касаются, никого из них он не запомнил и не запомнит никогда, потому что все они тут на одну рожу. И сразу достал из кармана губную гармошку. Форст, хоть и понимал, что пользы от Вилли никакой нет, играть все-таки категорически запретил, чтобы не привлекать внимания к машине и важное дело не превращать в балаган. Вилли Шнапс явно обиделся и откровенно заскучал. Остальные трое «охотились» со вниманием и старанием. Последний проблеск, последняя искорка человеческого мелькнула в Савке, когда он углядел через окошко невысокого, круглоголового парня с веснушками на лице. Парень стоял на путях, как раз в том месте, где в субботу находился вагон с зелеными ящиками. Стоял, опершись на лопату, и, будто нарочно открыв лицо жандармам, с интересом разглядывал черную машину. Достаточно было одного взгляда, чтобы Савка сразу же узнал его. Он твердо был уверен, что парень этот в субботу в паре с ним таскал ящики. Но… вдруг как-то стало Савке не по себе. Стало жалко этого паренька и совестно. Не мог он, не хотел его опознавать. Несмотря на весь свой страх перед Форстом, перед жестокой, застывшей усмешкой Гуго, плечо которого сейчас касалось его плеча, Савка твердо решил не выдавать парня. На беду, было в этом пареньке что-то такое, что запомнилось не одному Савке. Его заметил и Веселый Гуго. В ту минуту, когда Савка уже поверил, что машина вот-вот двинется дальше, железная рука больно стиснула Савкино плечо. — Узнал? Перед самыми глазами, закрывая собой весь белый свет, встала холодная усмешка Гуго. И сразу угасла в Савкином сознании вспыхнувшая было искорка. — Да, д-да… узнаю, — испуганно забормотал он. И тут вдруг сорвался со своего места, затопал сапогами к двери пьянехонький Вилли Шнапс. Он ухватился за ручку, ему непременно и безотлагательно понадобилось выйти. И Форсту пришлось потянуть его за полу назад, чтобы утихомирить и успокоить «это пьяное ничтожество». Машина отъехала немножко дальше. Туз вышел. Вилли снова рванулся за ним, но Форст и на этот раз его не выпустил. Минут через десять Туз доложил Форсту, что этот хлопец и есть Сенька Горецкий, тот самый парень, в доме которого, по сведениям Кваши, после подозрительной встречи с Очеретной ночевала Варька Калита… Для Форста это было уже что-то. Такое совпадение, по его мнению, случайным быть не могло.
29
Убедившись, что Савка ничего больше не знает, Форст не решался все-таки отправить его в концлагерь. Что-то беспокоило его, когда он думал о Савке. Почему именно Савке подкинули «Молнию»? Почему, обнаружив у себя листовку, Савка помчался именно к Варьке? И почему именно там стал хвастать листовкой? Не менее загадочной была для Форста и связь с «Молнией» Гали Очеретной. Поверить в то, что Галя в типографии могла набирать и печатать (хотя бы даже только набирать) листовки, Форст мог только в том случае, если допустить, что агент гестапо Панкратий Семенович ведет двойную игру и она делает это с его согласия. Да, но эта ночная встреча с Варькой… И почему сразу после той встречи рано утром Очеретная побежала вдруг к хромому Максиму Зализному? Может, какая-нибудь романтическая история? Но почему никто, даже Панкратий Семенович, раньше ничего не замечал? А выследил, что Галя забегала рано утром к Максиму, именно он, Панкратий Семенович. Еще когда Галю брали на работу, Шропп приказал Панкратию следить за каждым шагом девушки. Сначала это был приказ вообще, для порядка. Потом уже с определенной целью. Но что значит приказ в сравнении с тем наслаждением, с каким следил за девушкой обиженный ее «неблагодарностью» Панкратий, сам, по собственной, так сказать, охоте! А Галя, высказав все, что думала, прямо в глаза Панкратию Семеновичу, и не подозревала даже, каким мстительным был этот человечек и какого смертельного врага нажила она в его лице. После того взрыва, когда Галя решила не выходить на работу, Панкратий Семенович, пожалуй, даже стал ласковее, чем прежде. А уже после того, как с ним поговорил сам Форст и они ночью перевесили и проверили все кассы, сделался Панкратий Семенович таким сладеньким, таким мягоньким, что хоть к ране его прикладывай. Слушая, как выпевает он своим елейным голоском, как сюсюкает: «А не подашь ты мне, доченька, вон ту бумажку, будь так добренька?», «А теперь вот эту формочку будем набирать, дочка», — Галя едва скрывала усмешку. «Если бы эти твои слова да собаке понюхать, сразу, наверно, сдохла б», — думала она про себя. Затаив злость, не доверяя девушке ни на маковое зерно, Панкратий Семенович следил за каждым ее шагом, взвешивал каждое слово. Всякий раз, когда Галя хоть на минутку выходила из комнаты, рылся в ее пальто, а когда она уходила домой, следил за нею из окна до тех пор, пока она не скрывалась за домами. Утром приходил на работу еще затемно и сразу прилипал к окну. А однажды, когда над рекою встал туман, вышел во двор и спрятался в густой дерезе за уборной. Вот тогда-то и увидел Панкратий Семенович Галю. Она показалась на берегу почти за час до работы, перешла мостик, не выходя на улицу, спустилась с насыпи вниз и тропинкой прошла к Максимовой мастерской. Форст узнал про это посещение тут же и сначала не придал ему большого значения. Но теперь, когда обнаружил, что перед тем была у девушки ночная встреча с Варькой, ее причастность к «Молнии» показалась ему несомненной. В чем выражалась эта причастность, Форст понять не мог. Но все же это уже был шаг, и немалый. Еще недавно у Форста в руках был один только сомнительный Горобец и одна только листовка загадочной «Молнии». А потом сразу, с двух сторон, от Горобца и от Варьки, потянулась ниточка к Сеньке Горецкому. Затем эту самую ниточку Варька протянула к лекарю Пронину. А дальше совсем уже нетрудно было проследить и выяснить, что у лекаря Пронина есть целая компания клиентов-окруженцев, а у Сеньки Горецкого имеется старый приятель Леня Заброда (кстати сказать, бывший сосед Зализного). Еще, правда, не доказано, был ли этот Максим Зализный связан со всеми с ними — с Горецким, Прониным, Варькой. Зато несомненна его связь с Галей Очеретной, а через Галю… Одним словом, все они между собой связаны, и только от него теперь зависит, когда потянуть за веревочку и накрыть их сеткой. Но для Форста главное не это, главное — выследить типографию. А тут нужны спокойствие, собранность, ловкость. «Без паники, мой друг, без шума и истерики! Торопиться особенно некуда. Семь раз отмерь, один отрежь! Чтоб не насторожить их и не напугать! Только б начальство не торопило!..» Да, Форст имел все основания чувствовать себя игроком, сидящим за шахматной доской. «Только не горячиться! Еще один ход, еще… еще десять ходов, двадцать! Но только твердо, неумолимо… Ох, если бы не начальство!..» И вдруг на́ тебе, неожиданность! Глупая, слепая, а ведь в один миг может все перепутать — все ходы и все фигуры — и начисто испортить всю игру!30
Расклеить листовки в соседнем Подлесненском районе так и не удалось. Завернув эти двадцать пять листовок в вощеную бумагу из-под противоипритной накидки да еще сверху окутав тряпицей, Леня сунул сверток под большой камень за оградой МТС, на самом углу улицы. Ждал воскресенья, чтобы передать их Яринке Калиновской. Утром назначена была встреча у ее дедушки, на окраине Скального. Леня выскочил из дома еще затемно, даже не позавтракал, — думал, вернется через час, не позже, — и зашагал вдоль железной дороги к МТС. На улице едва-едва серело. С вечера ударил сильный мороз. А теперь, под утро, словно бы на оттепель повернуло. Терновые кусты, березки, клены, рядки абрикосов покрылись густым синеватым инеем. Низко над землей ползли темно-сизые, тяжелые, клубящиеся снеговые тучи. От утреннего, пронизывающе-сырого холода Леня поеживался. То, что идти надо вдоль путей почти через весь город, на самый конец Киселевской улицы, его не радовало. Скорее бы отнести листовки, отдать их Яринке и вернуться домой… Втянув голову в плечи, спрятав руки в рукава коротенького ватника, парень все ускорял шаг, почти бежал. Когда дошел до МТС, перед ним — в долине и на холмах по обоим берегам речки — открылось Скальное. Воздух стал прозрачнее. Сиреневые столбы дымов на той стороне не поднимались в гору, как вчера в морозном воздухе, а тянулись наискось в сторону речки — к снегу, а то и к большой оттепели. В этой прозрачной предрассветной рани холод казался еще пронзительнее и резче. Уходя из дому, Леня сказал матери, что хочет заскочить на базар (по воскресным дням базар начинался очень рано), купить какие-никакие подметки или хоть набойки для ботинок. Он и вправду туда собрался, потому что договорился встретиться с Сенькой. Возле МТС, оглядевшись и ничего подозрительного не заметив, парень отвернул тяжелый, белый от изморози камень и сунул пакет с листовками за пазуху. Минутку поколебался: идти мимо станции или прямо, через пути? Решил — прямо, чтобы никому и в голову не пришло, что он прячется. Перед вокзалом посреди пустых, покрытых инеем путей пыхтел бело-сиреневыми клубами паровоз. Кругом не видно было ни души. Даже возле паровоза Леня никого не заметил и пошел напрямик, через пути, к водокачке. Когда до паровоза оставалось несколько десятков шагов, откуда-то с перрона вдруг донеслось: — Стой! Эй, ты, слышишь, стой! Нельзя сказать, чтобы этот окрик застал его врасплох. Леня готов был ко всяким неожиданностям. В первый момент он подумал даже, что кричат не ему. Потому не оглянулся, не ускорил шага. Шел по путям, чуть скосив глаза в ту сторону, откуда кричали. Сбоку, шагов за сто от него, наперерез двинулись двое полицаев с винтовками. — Эй, оглох? Стой, тебе говорят! Теперь сомнения не было, кричали ему. Лене до паровоза оставалось шагов двадцать, а полицаям — больше сотни. Значит, только там и можно укрыться, на паровозе. «Будут обыскивать», — подумал Леня и, уже сознательно делая вид, что окрик этот к нему не относится, стараясь не ускорять шага, шел своей дорогой, незаметно сворачивая к паровозу. — Стой! Стой, говорю! — кричал низенький полицай. Сзади послышалась грубая, грязная ругань, застучали по мерзлой земле сапоги. Полицаи, наверно, бежали к нему, но паровоз уже встал между ними и Леней, скрыл от них парня. Два прыжка — и Леня схватился обеими руками за поручни, подпрыгнул, легко подтянулся и вмиг очутился на тендере. Внутри никого. В лицо пахнуло жаром. Ослепляя, гудело в топке белое, с синими переливами пламя. Где-то за спиной, на рельсах, ударил выстрел. Леня вырвал из-за пазухи пакет с листовками, бросил в топку и повернулся лицом навстречу полицаям. Впереди, легко перескакивая через рельсы и шпалы, взъерошенным, злым псом прыгал Дуська. За ним, сопя и тяжело топая кирзовыми сапогами, бежал Оверко. С паровоза навстречу им, чуть побледневший, но широко улыбающийся, спокойно и неторопливо сходил Леня Заброда. — Ты что, глухой? — А что? — усмехнулся Леня. — Сказано тебе — стой! Значит, стой! — А это мне разве? — «Разве»! — передразнил Дуська. — Чего в топку Кинул? — В топку? В какую топку? — с искренним удивлением повел плечами парень. — Придуривайся! — ткнул его винтовкой Дуська. Он вскочил на паровоз, быстро, по-собачьи обнюхал все углы, ничего не нашел и оттого насторожился еще больше. С другой стороны паровоза появилась вдруг голова в темной ушанке, с седыми усами и измазанными сажей щеками. — Ваш? — сердито кивнув, спросил Дуська. Машинист, верно, возился где-то под колесами, никого не видел и только плечами пожимал от удивления: откуда взялись на его паровозе все эти люди? — Ты кто такой? Чего здесь шляешься? — схватил Дуська Леню за рукав. — Здешний, скальновский, — все еще усмехался Леня. — На базар шел. — «На базар»! — снова передразнил полицай. — На базар через паровозы не скачут и от полиции не утекают. Айда! Мы тебе такой базар покажем — сразу язык развяжешь. Дуська ударил парня в лицо острым, сухим кулаком, потом дулом винтовки — в грудь. — Руки назад. Идти — не оглядываться. А бежать попробуешь или перемолвишься с кем — уложу на месте. Еще удар, прикладом по спине. И вот Леня, еще минуту назад уверенный, что очень скоро вернется домой, в теплую хату, шагает посередине мостовой, в сопровождении двух полицаев с винтовками, направленными ему прямо в спину. Уже совсем рассвело. Блестит, искрится на деревьях густой иней. Розовеют над крышами космы дымов. Во дворах и на улице появляются люди. Они останавливаются и молча, долго провожают глазами парня под конвоем полицаев. — Забродиного парня за что-то схватили. Ведут куда-то. Должно, в полицию. — За что ж они его? — А теперь разве спрашивают, за что? Весть переходит из уст в уста, со двора во двор, эстафетой передается вдоль улицы и наконец доходит до базарной площади.31
Леню втолкнули в камеру, где сидел Савка Горобец. Сдержав невольную дрожь при виде этого истерзанного, видно не раз уже битого человека, Леня поздоровался. Савка, обрадовавшись свежему человеку, радостно ответил на приветствие и сразу же спросил: — Это за что же тебя, а? От этого вопроса Леня насторожился, ответил неохотно, хмуро: — Не знаю… Разговор не клеился. Савка еще спросил что-то и, не получив ответа, подумал, что парень, должно быть, до смерти перепугался, так же как он, Савка, и лучше его сейчас не трогать. Но Леня не был ни растерян, ни подавлен, ни даже испуган. Короткое, как вспышка молнии, мгновение страха он пережил только тогда, когда вскакивал на паровоз и кидал листовки в топку. А уже в следующую секунду, поворачиваясь лицом навстречу запыхавшимся полицаям, думал: «Черта лысого теперь они мне пришьют что-нибудь». И от этой мысли сразу успокоился и заулыбался. Сейчас он тоже молчал не от испуга. Сразу, как увидел Горобца, вспомнил: в тюрьмах к арестованным часто подсаживают провокаторов. Об этом он не раз читал в книжках, слышал от старших и от Максима. Да и не до разговоров ему было сейчас. Совсем другие мысли тревожили его. Ничего страшного не произошло. Ничего они не видели, подержат да и отпустят. А вот… передаст кто-нибудь из тех, кто ему сейчас встретился на пути, о его аресте домой? И домашние, догадаются они сказать об этом Сеньке Горецкому? И можно ли сделать что-нибудь, чтобы предупредить Максима, если он не узнает об этом сегодня? Втолкнув Леню в камеру, Дуська сообщил об этом случайном аресте начальнику полиции Тузу. Тот все выслушал, но дальше докладывать не торопился. Ему самому не терпелось выслужиться, засвидетельствовать перед начальством свое усердие и сообразительность, и для начала Туз своей властью послал к Лене домой Дуську и Оверка — нагрянуть, застать врасплох, произвести в хате и во дворе обыск, и при этом родным про арест Леньки — ни слова. Но внезапный этот обыск, длившийся около часа, не дал почти ничего. Дуська вел себя так, словно о существовании какого-то там Леньки и не подозревал, а просто обыскивал хату с одной-единственной целью — убедиться, не спрятано ли где оружие или краденый подсолнух. Однако ж, не найдя никакого оружия, Дуська прихватил с собой стеклянный пузырек со столярным клеем. Клей этот для Дуськи и Туза был уже убедительным вещественным доказательством, потому что цветом и крепостью он весьма напоминал тот, каким приклеены были листовки у завода и на станции. Добыв такие доказательства, Туз доложил об аресте начальнику жандармского поста Шроппу. Шропп с такими делами не тянул. Потратив ровно столько минут, сколько нужно было, чтобы коротко расспросить Туза, он тут же доложил обо всем Форсту. Оберштурмфюрер приказал немедленно привести арестованного. Позже Форст так и не мог объяснить себе, отчего при взгляде на этого высокого, худощавого юношу с продолговатым лицом и красивыми, большими глазами он вдруг почувствовал какое-то странное, острое волнение. Внимательно вглядываясь в спокойное Ленино лицо, Форст нарочито небрежным тоном спросил: — Ты чего по ночам шляешься? Полные, еще по-детски пухлые губы юноши растянулись в улыбке. — А я не шляюсь. — Как это не шляешься?! Ты что, про комендантский час не знаешь? — Знаю, — еще шире улыбнулся юноша. — Но меня ведь после комендантского часа задержали. — А за что же тебя задержали? — А я и сам не знаю. — Как так не знаешь?! — А вот так. Не знаю — и все. — Ты мне, парень, не крути! Я этих фокусов-покусов не люблю, — начал неожиданно для себя сердиться (что с ним случалось очень и очень редко) Форст. — Ты лучше честно признавайся. Помолчав с минутку, сдержав внезапный гнев (потом он понял, что парень раздражал его своей улыбкой, спокойствием, твердыми, независимыми ответами), спросил: — Местный? — Да. — Как зовут? — Леонид. — Да… Нет, подожди, я не про то. Name, то есть я хотел сказать — фамилия? — Заброда. — Как? Как? — словно ужаленный, подскочил Форст. — Заброда. — Ленья Запрода? — переспросил жандарм, чувствуя, как в груди что-то оборвалось и он, охваченный мгновенным страхом, теряет в себе уверенность, потому что все, что он так старательно подготовил, гибнет, ускользает у него из-под рук. Пусть этот Леня только ниточка, пусть даже самая тоненькая, но если ее неосторожно оборвать, Форст навсегда потеряет след, который ведет в типографию «Молнии», к центру основного гнезда большевистских конспираторов. — Когда его задержали?! — выпучив глаза, закричал Форст. Оказалось, что уже больше трех часов назад. — Кто?! — окончательно теряя выдержку, проревел Форст. — Кто… Кто его арестовал?! На лисьем Дуськином лице отразилось замешательство. Он смущенно и все-таки браво вытянулся. — Ты?! С неожиданной для его солидности легкостью и гибкостью Форст выскочил из-за стола, остановился перед Дуськой и, нагнув голову, какое-то мгновение сквозь стеклышки очков внимательно в него вглядывался. Глаза его стали узенькими и колючими, как два гвоздика. Он крепко сжал губы, в их уголках набухали и лопались пузырьки. — Ты, ты… — Он просто задыхался от ярости. — Кто тебе позволил? Ты что, приказ забыл? И в лицо не запомнил? Да ты знаешь, что натворил? Знаешь? И, сбив с Дуськиной головы шапку, Форст обеими руками вцепился в реденький полицаев чуб и, волоча Дуську за собой по комнате, выкрикивал: — Знаешь? Знаешь? Знаешь, скот-тина?! Все застыли, вытянувшись в струнку, как громом пораженные. А Форст, протащив Дуську по комнате, бил его изо всей силы пухленькими кулачками в морду, потом дал пинок в зад и наконец, совсем уже обессилевший, завизжал: — Вон! Вон с глаз моих! Все вон! Полицаи и жандармы, подталкивая впереди себя вконец пораженного Леню, еле протиснулись в дверь. «Сбесился он или что? — думал Леня, сдерживая усмешку. И про себя решил: — Теперь меня, наверно, отпустят». Но он ошибся. Его снова втолкнули в камеру к Савке Горобцу.Форст, оставшись в комнате один, грузно опустился в кресло. Идиоты! Дураки! Кретины! Не спросить разрешения! Так все перепутать! Вместо того чтобы проследить, загнали на паровоз и все сорвали! Теперь все может прахом пойти, а то и пошло! Три часа! Конечно, они уже все предупреждены, насторожились, приготовились… Может, еще удастся задержать и арестовать кое-кого… Но типографии ему уже, наверно, не увидеть. Они спрячут ее, перенесут или уничтожат. И он, такой всегда осмотрительный, изобретательный, он останется с носом… Нет, надо действовать! Сразу! Немедленно! Но как? Что делать? С чего начинать? Отпустить парня и дать им время успокоиться? Но где гарантия, что они будут действовать именно так, как ему хочется? Нет! Не годится! Одна-единственная остается неверная, а все-таки надежда, что они еще не успели известить друг друга, что… А может, они действительно ничего не знают про этот идиотский арест? Значит… Значит, бить тревогу сию же минуту, напасть и арестовать, обыскать. Пока не спохватились…
За полчаса все силы жандармерии и полиции были подняты на ноги; всего под рукой оказалось вместе с отрядом Форста и несколькими надежными солдатами из «Тодта» (охрану лагеря военнопленных Форст трогать побоялся) тридцать пять человек. А этого, чтобы сразу, одновременно накрыть девять «точек» (так выходило по его расчетам), было явно недостаточно. Надо ведь не только арестовать десять — двенадцать человек (которые, кстати, могут оказать вооруженное сопротивление), но и обыскать, причем обыскать молниеносно. Стало быть, хочешь не хочешь, операцию надо разбить на два этапа. «Ударить всей силою по центру, — решил Форст, — а те ребятишки никуда не денутся». Центром «Молнии» он считал совхозную амбулаторию. Самыми опасными силами — клиентов доктора Пронина, окруженцев, живших на Курьих Лапках, поблизости от совхоза, а руководителями, во всяком случае одним из них — Володю Пронина. Максиму Форст отводил роль хотя и важную, но, учитывая его инвалидность, второстепенную. «Ребятишками», которые «никуда не денутся», он считал Леню, Галю и Сеньку. Варьку он вообще решил не трогать. Пускай не подозревает, что ее раскрыли. Еще при случае может пригодиться в качестве приманки… Кто знает, какие там у них связи да разветвления… Приняв решение, Форст провел короткий инструктаж с подчиненными. Операцию, которую Форст назвал про себя «Операция „Молния“», оберштурмфюрер начал в половине первого. Начал с тяжелым сердцем и без всякой уверенности в успехе.
32
— Полицаи парня какого-то поволокли… — Забродиного парня арестовали… Слух этот шелестом прошел вдоль улиц следом за Леней, которого вели под винтовками Оверко с Дуськой, и наконец докатился до базара. — Полицаи поймали Леньку Заброду! От кого первого услышал Сенька эти слова, он потом припомнить не мог. Знал только, что стоял возле длинного, сбитого из неструганых досок стола, меняя у какой-то старой спекулянтки поношенную отцову сорочку на несколько стаканов синеватой крупной соли. Сначала слова эти как-то не дошли до его сознания, и только через две-три минуты он тревожно насторожился. — Кого? — переспросил он, надеясь, что ошибся. — Леньку Заброду. У них еще хата сгорела! Рука, державшая стакан с солью, дрогнула. Но пальцы сразу же крепче стиснули холодное стекло. «Спокойно, — приказал себе Сенька, чувствуя, как сводит кожу на черепе, — спокойно! Ни о чем больше не расспрашивать. И сейчас же к Максиму… Немедленно, как можно скорее!» Он нашел в себе силы не спеша, будто ничего и не случилось, отмерить пять стаканов соли, завязать в мамин белый, с синей каемкой платок, отдать спекулянтке сорочку и только тогда незаметно рвануть с базара. Пораженный этим, как ему казалось, просто немыслимым арестом, парень с какой-то особенной ясностью припоминал все, что писалось про такие ситуации в книжках, как в подобных случаях действовали опытные конспираторы… Этот самый «опыт» конспиратора натолкнул его на мысль, что главное сейчас — не повредить каким-нибудь неосторожным поступком своим товарищам, внимательно смотреть, не следит ли за ним кто-нибудь. Прежде всего нужнонемедленно известить Максима. Но так известить, чтоб ни одна душа его сейчас с Максимом не увидела и об этой встрече не узнала. К хате Кучеренко он подкрался снизу, с огородов, постучал в кухонное оконце. К счастью, Максим был именно у Кучеренко. Сенькин сигнал услышал сразу и немедленно вышел к нему в сад. Они укрылись за погребком, и Максим молча, сосредоточенно выслушал тревожное сообщение Сеньки. Выслушал так спокойно, что ни одна черточка не дрогнула на его лице. Еще какую-то минуту подумал, бросил свое привычное: — Так, ясно… — И, словно посмеиваясь над собой, добавил: — Ясно, что ничего не ясно. Где, когда и как его арестовали? — Вели, говорят, рано утром. А где и как — не знаю. — А за что? Как думаешь? — Не знаю. — Так… Обо всем этом мы должны разведать как можно скорее. — Лицо Максима потемнело, густые брови сошлись на переносице. — А сейчас… — Максим поглядел на часы — было ровно половина первого. — Случайно это или не случайно, все мы должны быть готовы к худшему, А для начала попробуем пустить на «верный» след золотозубого. Ну что ж, дорогой товарищ Шерлок Холмс, принимая во внимание, что обе ноги у тебя целы, на тебя вся надежда. Соль оставь у себя для маскировки (да и мать ведь, наверно, ждет), но домой тебе возвращаться пока что некогда, да и небезопасно. Сейчас ты должен как можно скорее предупредить Петра, потом связаться с Прониным, забрать у него «гвозди» и любой ценою вернуться с ними так, чтобы ни один человек ничего не заметил… Нет, нет, не сюда! Дважды возвращаться на одно место нам сегодня не рекомендуется. Ты Галю Очеретную знаешь? — Это ту, что к немцам пошла работать? — Да, ту самую девушку, что работает в немецкой типографии. Где она живет, знаешь? — Ага. На той стороне, за МТС, туда, к Выселкам. — Так вот… «гвозди» отнесешь прямо к Гале Очеретной. А я уже там буду. Ясно? Сенька, в первый раз услышав от Максима про Галю Очеретную, сначала заморгал глазами, потом сразу все сообразил и утвердительно кивнул головой. — Гляди, чтоб в засаду не попасть, — предостерег его Максим. — Если у Гали что не так, ищи меня на кладбище, возле склепа Браницких. Там не найдешь, — значит, я у Яременки на сто пятнадцатом километре, ну, а если и у него меня не будет, — Максим усмехнулся, — тогда, брат, я уж и не знаю где. Только помни — ни один «гвоздь» не должен попасть к немцам! Любой ценой спрятать и сберечь. Даже ценою жизни. А теперь дуй, парень! — Я мигом! — Сенька выскочил из погреба, скользнул мимо хлева в соседний вишенник и подался огородами в гору, к базару. Максим постоял, подождал, пока скрылась за садами Сенькина фигура, и, не заходя в хату, захромал тропинкой за терновыми кустами вдоль оврага, вниз, к речке.33
«Операция „Молния“», как и опасался Форст, началась неудачно. Две машины (на одной из них сидел сам «Павиль Ивановитш») в половине первого выскочили из местечка и двинулись к почти уже пустой базарной площади. Завидев на машинах немцев и полицаев, даже самые заядлые базарники и спекулянтки пособирали свой немудреный товар и стали разбегаться кто куда. Перескакивая через канавы, они бежали в огороды, на кладбище, а двое или трое — к Курьим Лапкам. Этот непредвиденный инцидент Форсту не понравился. В его план входило ударить тихо и молниеносно. Но делать было нечего. По его приказу машины, свернув с базарной площади одна — влево, а другая — вправо, охватили Курьи Лапки с флангов. Из пяти намеченных к аресту окруженцев троих на месте не оказалось. По словам хозяев, постояльцы с утра ушли на базар и еще не возвращались (забегая вперед, можно сказать, что с этого дня они так и сгинули из Скального навсегда и больше про них никто, по крайней мере из немцев и полицаев, ничего не слышал). Четвертый, приземистый здоровяк из сержантов, сверхсрочник, жил у совхозного пасечника деда Лагоды на правах внука. Степан был дома, но живым в руки жандармов даваться не хотел. Хата деда Лагоды стояла на крутом пригорке, огородом к балке. Степан, сидевший у окна, увидел цепь эсэсовцев и полицаев, когда они уже подошли к воротам. Гранату-лимонку, наверно, он носил всегда при себе. Не колеблясь ни минуты, выскочил в чем был во двор и с порога метнул гранату к воротам, эсэсовцам под ноги. Пока они, хотя и невредимые, только поцарапанные щепками от дощатых ворот, опомнились, помчался что было духу вниз, в балку, рассчитывая, верно, затеряться в терновых кустах. Бежал ровным, открытым местом, не защищенный ничем от автоматных и винтовочных пуль, шмелями загудевших ему вдогонку. Вконец разозленный и раздосадованный таким неудачным началом и излишним шумом, кляня на чем свет стоит своих вояк, Форст приказал прекратить стрельбу, обойти и взять Степана живым, но за общим гамом никто его слов не расслышал и чья-то автоматная очередь скосила Степана. Он упал руками вперед на мерзлые комья, не добежав всего нескольких шагов до терновых кустов. И сразу же, неожиданно для Форста, загорелась подожженная кем-то из ретивых эсэсовцев хата деда Лагоды. Форст пришел в ярость, глядя на весь этот устроенный его командою тарарам…Посчастливилось ему в Курьих Лапках только с бабкиным Петром. Да и тут не обошлось без осложнений — они прямо-таки преследовали сегодня оберштурмфюрера. Петр сидел, не ожидая никакого лиха, у стола и читал какой-то засаленный, принесенный Сенькой приключенческий роман. В хате было тепло, в печи полыхали, потрескивая, подсолнечные стебли, и на душе у парня было покойно. Застучали за стеной шаги по мерзлой земле. Чья-то тень мелькнула за окном, стукнули двери в сенях. Видно, бабка Федора, хлопотавшая у печки, на минутку выбежала в хлев за подтопой или в погреб за картошкой. Когда рывком раскрылись двери в хату, было уже поздно. Первыми ввалились Туз, Дуська и Оверко. Позади — сам начальник жандармского поста Шропп. Не помня себя от радости, что им не оказали сопротивления и что Петр, которого они и не чаяли застать, сидит-таки дома, они, не давая парню опомниться, накинулись на него и свалили на пол. Дуська и Оверко скрутили Петру назад руки бабкиным полотняным полотенцем, а Шропп и Туз начали обыск. Шропп заинтересовался посудником с обливными мисками, надбитыми тарелками, деревянными ложками и еще бог весть какой пропастью всякого бабкиного добра. А Туз взялся за старый, обитый железом сундук — еще бабкиной матери приданое. Он поднял тяжелую крышку, нагнулся и, сунув голову в сундук, стал перебирать лежалые штуки домотканого полотна, старое, латаное, чисто выстиранное белье, занавески, полотенца, тряпочки. И в эту-то самую минуту встала на пороге глухая и грозная бабка Федора. В крапчатой, с засученными рукавами кофте; широкая старая юбка подоткнута, голова повязана толстым коричневым платком, на ногах шлепанцы, а в руках охапка подсолнечных и кукурузных стеблей. Бабка выходила в хлев за подтопой и не заметила, как проскочили в хату непрошеные гости. Не слыхала глухая ни топота сапог, ни шума, ни хлопанья дверей и, войдя, просто оторопела от неожиданности. Стебли выпали из бабкиных рук, рассыпались по полу. Метнувшись к рогачам, она ухватила кочергу потяжелее. — Ах ты нехристь поганый! Серед белого дня в чужой сундук лазить? А ты его наживал, добро это? А ты его туда положил? — И так вытянула Туза кочергою, что тот даже подскочил, выпустил из-под руки тяжелую крышку, и она, больно стукнув его по плечам, прищемила полицаеву голову. А бабка, не видя и не слыша ничего кругом, снова и снова била Туза кочергой по пояснице. От стремительного бабкиного наступления Дуська и Оверко на какой-то миг оторопели и только глаза таращили, не выпуская, впрочем, из рук Петра. Шропп опомнился первый. Уразумев, что Тузу приходится солоно, подскочил к бабке и изо всей силы двинул ее прикладом автомата в бок. Придя от боли в исступление и не глядя уже, кто перед ней, бабка бросила Туза и так хватила Шроппа кочергою по рукам, что тот уронил автомат и бросился из хаты; бабка рассвирепевшею тигрицей с тяжелой кочергой в руках понеслась за ним. Еще дважды проехалась по начальнику жандармов кочерга: раз — по плечам, на пороге в сени, и второй — по голове, уже посреди двора. Ноги у Шроппа подкосились, он стал оседать. И в третий раз занесла над ним бабка кочергу, но в это время откуда-то сбоку, от хаты, протарахтела автоматная очередь. Теперь пошатнулась бабка Федора. Но все же нашла в себе силы оглянуться и, занеся еще раз кочергу, ступила два шага навстречу Веселому Гуго. — Я тебе стрельну, нечистый! На третьем шагу бабка, будто сломившись в поясе, грузно, всем своим отяжелевшим телом, осела на землю, чтобы не подняться с нее уже никогда. Бросив связанного Петра в кузов и подпалив бабкину хату, карательный отряд двинулся дальше, к амбулатории. Машины шли тесно, одна за другой, почти впритык. Форст сидел в кабине передней машины, рядом с шофером.
Снова повернули на базарную площадь, перебрались через Терновую балку Волосской дорогой и повернули налево, в совхоз. Когда подъехали к первому совхозному коровнику, Форст с удивлением заметил: на ветровом стекле, словно на водной глади, вскакивают какие-то странные пузырьки. В один миг стекло покрылось тоненькой паутинкой трещин, а на месте пузырьков встала полукругом пронизь дырочек. Еще не успев сообразить, что к чему, Форст почувствовал, как больно рвануло его за левую руку. И сразу же после того шофер зачем-то крутанул влево, машина осела на правый бок и со скрежетом остановилась. Уже открыв дверцы, Форст скорее догадался, чем расслышал за шумом мотора треск автоматной, а может, и пулеметной очереди. Остановилась и вторая машина, стукнувшись фарами о борт передней, и тоже осела на задние колеса. В первой машине было прострелено и разбито ветровое стекло, ранен в ногу шофер, продырявлены оба правых ската. Во второй простреленным оказался один только задний скат, тоже правый. Немцы и полицаи растерялись, не слыша команды, так и сидели, оцепенев, в машинах, будто ожидали новой очереди из-за облупленной стены коровника. Только Веселый Гуго автоматически отозвался на это новое происшествие очередью зажигательных пуль по крыше коровника. А Форст, оглядевшись кругом выкатившимися от ярости глазами (неожиданные выстрелы почти никогда его не пугали), грохнул такой отборной, такой изысканной русской матерщиной, что даже самый большой знаток дореволюционных босяцких трущоб мог бы ему позавидовать. И лишь после этого немцы и полицаи опомнились и запрыгали из машин через все борта. Посыпались на землю, как переспелые груши на ветру.
…Через каких-нибудь сорок минут Форст с забинтованной рукой уже стоял перед выломанными дверями амбулатории, на том самом месте, где зарывал Пронин типографию «Молнии», и, закусив нижнюю губу, глядел на часы. Хмуро светился пасмурный и короткий осенний день, один из последних дней ноября. Над Курьими Лапками, сливаясь с низкими тучами, стлались клубы белого дыма. Горела во всю свою длину сухая крыша совхозного коровника. С начала операции прошло уже полтора часа. Вся территория совхозных построек была полностью прочесана и обыскана. Но не только «Молнии» с ее типографией — куда там! — даже того, кто стрелял из-за угла, найти не удалось. В амбулатории тоже никого не оказалось. Военный врач Пронин исчез бесследно. И Сенька Горецкий тоже (взамен Форст решил задержать его мать, Марию Горецкую). Столько времени потрачено, так много излишнего шума и перестрелки, а арестован только один, да и то сомнительный участник «Молнии» — Петр Нечиталюк. И к тому же прострелены скаты, ранен сам Форст, и его шофер. Теперь, когда взбудоражен, наверное, весь район, когда крайне необходимо задержать «ребятишек», у которых, весьма возможно, находится типография, он вынужден торчать здесь, тратить время на замену скатов. Драгоценное время, которого у Форста не хватает даже для того, чтобы провести обыск в каждой совхозной квартире. Успеть бы до ночи накрыть тех, кто остался. Разбить отряд на две группы. Одну бросить на станцию за Очеретной, другую пустить на розыски Зализного. И окружить село, перекрыть все тропки, чтобы за ночь и птица из Скального не вылетела. И немедленно по телефону вызвать к утру собак-ищеек!..
34
Опасность надвинулась внезапно. Как все сложится дальше, этого пока никто не знал. А конца не знаешь, откуда надвигается опасность, что она несет с собой, — спеши всюду успеть первым. Только бы опередить врага — и победа останется за тобой. Так всегда поступали самые ловкие и самые предусмотрительные герои прочитанных Сенькой романов. Так думал и так хотел действовать и Сенька. Когда Сенька сказал Максиму: «Я мигом!» — эти слова прозвучали для него самого совсем по-новому. Раньше, если мать посылала его за водой, за топливом, вообще за чем-нибудь по хозяйству, он тоже отвечал: «Я мигом!» — и сразу же за очередным приключенческим романом забывал обо всем. Теперь Сенька действительно торопился, вкладывал в это всю свою энергию. Он должен, несмотря ни на что, прийти как можно скорее и вовремя предупредить товарищей об опасности. Зажав в руке узелок с солью, Сенька мчался огородами, перепрыгивая через плетни и канавы, цепляясь ногами за пересохший бурьян и тыквенные плети, спотыкаясь о мерзлые комья. С огородов, внимательно кругом оглядевшись, перебежал глухою улицей на кладбище и, скрывшись за земляным валом, подался в гору. Втягивая холодный воздух, шмыгая носом, он бежал, отирая пот с разгоряченного лба. В конце кладбища Сенька остановился, передохнул и, сняв с головы шапку, осторожно выглянул из-за насыпи. Сразу же за рвом вверх к базарной площади тянулся потемневший на морозе озимый клин. За ним виднелись серые точечки ларьков и дальше под клубящимися пепельными облаками рядок застывших в безветрии тополей над Волосским шляхом. Слева за базаром были видны почерневшие крыши Курьих Лапок. Добраться до них можно либо прямо — через озимь и базарную площадь, либо, сделав крюк, снова кладбищем до Терновой балки, а потом по балке в гору. Минута, пока Сенька соображал, куда ему лучше податься, стала решающей, потому что в тот самый миг, когда он уже твердо решил — лишь бы скорей! — рискнуть и броситься прямиком, с базара во все стороны стали разбегаться люди. Их было не много, и они быстро исчезли из виду. Но вслед за ними на площадь с Волосского шляха вырвались два грузовика. Они круто развернулись на площади — даже сюда, на кладбище, донесся вой моторов — и помчались прямо на Курьи Лапки. Обе машины были набиты вооруженными людьми. Взмокшему от пота, обмякшему от усталости Сеньке стало так досадно и горько, что просто захотелось плакать. «Неужто к Петру? А может… может, это просто случайно?» — со слабой надеждой подумал Сенька. И с отчаяния, — кажется, в первый раз в своей жизни, — громко и горько по-мужски выругался. Выругался и снова бросился через кладбище налево, к балке. Мчался, не разбирая дороги, вслепую перескакивая с могилы на могилу, цеплялся полами за почерневшие кресты. Где-то напоролся на колючки, расцарапал щеку и разорвал платок. Сквозь дырочки посыпалась крупинками соль, но этого он уже не замечал. Только когда перескочил поле и побежал, прикрытый высоким бурьяном и кустами, в гору, заметил, что держит в руках пустую косынку. Машинально вытер ею пот со лба и спрятал в карман. «Может, а может, еще…» В смертельном отчаянии, как дикая птица в силках, билась одна только эта мысль. Но навстречу ему от Курьих Лапок эхо уже донесло отрывистую дробь автоматных выстрелов. «Поздно! Выходит, не случайно… И с Леней не случайно… Но как, откуда?» Однако размышлять сейчас было некогда. Не теряя времени, Сенька выскочил из балки и, невидимый из Курьих Лапок, уже из последних сил помчался через Горб, в совхоз, прямо на совхозные конюшни и коровники, белевшие впереди облезлыми, сухими стропилами. «Хоть сюда не опоздать… Лопнуть, а предупредить Пронина и выхватить у них из-под носа „гвозди“…» Страх, холодный, непреоборимый, такой, какого он прежде никогда не испытывал (даже читая самые кошмарные эпизоды в приключенческих романах), с каждой минутой все сильнее терзал Сеньку. Не за себя и не за свою жизнь. Об этом он вообще не думал. Сенька смертельно боялся, что снова опоздает, что не сумеет предупредить Пронина и захватить «гвозди»! И тогда — куда ж, на что он годится и как в глаза товарищам посмотрит?..Только когда они с Прониным вытащили из песка сумку от противогаза, когда отошли от амбулатории и остановились за стеной разрушенной кузницы, где уже никто не мог захватить их врасплох, только тогда этот холодный страх отпустил Сеньку. В Курьих Лапках все утихло. Лишь мутно-белые клубы дыма тянулись волнами через холм, вниз, к балке. Володя Пронин стоял с непокрытой головой, держа в руке измятую воинскую фуражку. Прядь белокурых волнистых волос спадала ему на белый высокий лоб. Небольшой, сухощавый, с запавшими щеками, Володя сейчас еще больше походил на мальчишку, и ни короткая кавалерийская куртка, ни заправленные в хромовые, офицерские сапоги галифе не мешали этому сходству. Говорил Володя тихо, неторопливо. И на вид был совсем спокойный, как будто даже равнодушный ко всему, что творилось вокруг. Только глаза, глубокие и лучистые, глядели на Сеньку сочувственно и откровенно грустно. Оба они понимали, что дела оборачиваются гораздо серьезнее, чем это казалось на первых порах. — Похоже, что этот арест не случайный, — тихо говорил Володя. — И Петра, наверно, тоже накрыли. А то бы он уже прибежал, предупредил. Похоже, они напали на какой-то след. А может, организовали массовую, как они говорят, «акцию» и хватают подряд всех подозрительных, прямо по списку. Ты так и передай Максиму. — А ты?.. — все еще не отдышавшись, взглянул на него Сенька. — Ты что, тут разве остаешься? — Да. Попробую выяснить, что и как. Если удастся, встретимся, как уговорились, на сто пятнадцатом километре. Скажи Максиму, что я их тут задержу как можно дольше. Володя кашлянул, сейчас только заметил в руке фуражку и глубоко натянул ее на голову. — Ну, тебе тут долго задерживаться не стоит. — Володя положил руку парню на плечо. — Поспешай! До встречи! Сенька только тут почувствовал, как он устал, как врезается ему в плечо лямка от спрятанной под пальто сумки с тяжелыми «гвоздями» и как ему не хочется оставлять Володю одного в опасности, которой, наверно, не избежать. А может, лучше обоим отсюда податься? Но ведь Максим не давал приказа возвращаться с Володей. Да и Пронин человек военный, сам знает, как лучше. Сенька молча сжал Володин локоть, круто повернулся и, не оглядываясь, юркнул за угол кузницы.
Ему надо торопиться, опередить эсэсовцев с холма. И он опять спустился в балку, побежал через терновые заросли и озимь, через кладбище, поросшие сухим, подмерзлым бурьяном пустыри, крутой, весь в дерезе, пригорок, огороды, левады… Спина взмокла, воздуху не хватает. Каждый шаг отдается болью в голове. А брезентовая лямка все глубже впивается в плечо, и все тяжелее становится сумка с «гвоздями», будто в нее все время подсыпают чего-то. Перебежав по тонкому льду речку выше плотины, возле сожженной мельницы, Сенька остановился перевести дух. Перевесил сумку на другое плечо, оглянулся назад, за речку, прислушался. Кругом тишина. И там, за левадами, за кладбищем и Терновой балкой, тоже тихо. Только клубящийся дым, казалось, гуще, чем прежде, уходил в холодное небо. За холмами таяли в дыму и пламени Курьи Лапки, скрылись совхоз, амбулатория, длинный, с семью крылечками, дом. Мать, наверное, ждет не дождется Сеньку к обеду. И жареная картошка давно уже перестоялась, доспела и переспела в духовке тыквенная каша, а его все нет да нет. И казалось, уже давным-давно он выскочил наспех на базар. — Куда ж ты, не евши? — крикнула мать от плиты. — Я, мама, мигом! — кинул свое обычное Сенька, закрывая за собой дверь. Думал — вернется через полчаса. И вот уже вечереет, а он так и не вернулся. Может, и не вернется никогда, не ступит на родное крылечко, не увидит матери, братьев, отца и так и не дочитает «Зверобоя»? Может, было это последнее «мигом», которое услышала от него мать?..
35
Володя Пронин был немножко пессимистом и считал себя человеком невезучим. Характер у него был мягкий, уступчивый, «нежный и гордый», как говорила мать. Володина мама предпочитала слова возвышенные, выражения романтические и вообще любила, как говорится, показать «эрудицию». Все вокруг звали ее «докторшей». Володин отец, Клим Климович Пронин, в своем городе очень уважаемый врач-терапевт, дома отходил на второй план, в тень. На первом всегда была мать. Привыкнув за долгие годы к тому уважению, которое оказывали ее мужу люди, она полагала профессию врача самой лучшей на свете. И хотя в школе Володя больше любил физику и числился в классе одним из лучших математиков, по окончании школы, в тридцать шестом, он поступил все-таки в медицинский. В институте он хотел стать хирургом, но мать считала, что лучше ему быть терапевтом, и опять-таки настояла на своем. После сдачи государственных экзаменов Володя в звании старшего лейтенанта медицинской службы сразу попал в армию. Несколько дней прослужил в тыловом госпитале, потом его направили на санитарный поезд, а еще через неделю, когда их поезд в районе Винницы разбомбили, — в медсанбат. На фронте Володя окончательно уверился, что жизнь его пошла не по той колее: во-первых, он врач, а скажем, не артиллерист, а во-вторых, не хирург, а терапевт. С первого же дня медсанбатовской службы ему стало ясно, что лечить грипп, ангину и даже язву желудка на фронте не потребуется. Таких болезней тут, оказывается, и в природе не существовало. И пришлось ему вместо выслушиваний и выстукиваний обрабатывать раны — огнестрельные, колотые, резаные, рваные — и ампутировать, ассистировать при сложных операциях. И теперь Володя страдал от недостатка знаний и практики. Но и это было еще не самое горькое. Неожиданно, не успев даже оглянуться, попал он в окружение и оказался на оккупированной врагом территории. Впечатлительный и чуткий, Володя чувствовал себя почти преступником, дезертиром, чуть ли не изменником. И это мучило его так нестерпимо, что задушило всякий страх перед врагами да и перед самой смертью. Все время, пока Володя жил в совхозе под Скальным, лечил своих раненых и работал в амбулатории, он обвинял себя в нерешительности, безынициативности, даже трусости. Почему он тогда не схватил автомат, который спокойно стоял за приоткрытой дверью палаты, и не уложил на месте тех двоих, что первыми ввалились в помещение и стали расстреливать больных? Почему не выбежал во двор, не убил там еще нескольких и сам не погиб на месте от вражеских пуль? Как случилось, что он, комсомолец и командир, сразу не бросился на врагов, которых, кстати, ненавидел самой горячей ненавистью, не уложил их на месте? Смелости не хватило? Растерялся? Испугался? Сейчас трудно все это представить — тогдашнее свое состояние, свои мысли, чувства, действия. Все случилось тогда так внезапно. Увидев немцев, ворвавшихся в амбулаторию, Володя в первую минуту действительно немного растерялся. Однако уже в следующий миг почти бессознательно бросился за автоматом. Но тут, прижав дверь спиною, загородила ему дорогу Сенькина мать, Мария Горецкая. Володя остановился. Почему она его не пускает? Что делать? Оттолкнуть? Но додумать всего этого Володя не успел — безоружный, кинулся наперерез немцам, заслоняя собою раненых. Удар автоматом в грудь отбросил его в сторону. Он покачнулся и, пытаясь удержаться рукою за стену, упал навзничь, больно ударившись головой о порог. Перед глазами поплыли желтые круги, и все вокруг потемнело. Наверно, какое-то время он был без сознания, потому что ни выстрелов, ни криков не слыхал. И ничего, что стряслось тут, — ни того, как расстреливал раненых гитлеровец и как была убита тетя Даша, ни того, как немцы ушли, — он уже не видел. Очнувшись, понял, что сидит на полу, упираясь плечами в дверной косяк. В голове словно сотни моторов гудят, нестерпимо трезвонят какие-то колокола, и кто-то льет ему на голову холодную воду. Потом, немного придя в себя, увидел склонившееся над ним лицо Марии Горецкой. Она прикладывала к его голове холодный компресс и, хоть и перепуганная, в голос кляла… нет, не немцев, а его самого, военного врача Пронина… — Мальчишка, как есть мальчишка! Доктор, а соображение как у ребенка! Да где это видано! Тут больных полно, раненых, люди кровью истекают, а он и сам туда же… Разве это докторово дело — за автоматы хвататься? Людей спасать, вот что делать надо! Ты бы хоть сообразил своей головой: как они без тебя? И вот с того времени тетка Мария взялась его, точно дитя малое, опекать, заботилась, как о родном сыне, и приказывала, что и как делать, будто он, Володя, так и оставался врачом, а она по меньшей мере стала начальником медсанбата. Сначала по ее приказу женщины разобрали по хатам всех уцелевших раненых, потом тут же, во дворе, похоронили убитых. А через несколько дней, когда вокруг все утихло, фронтовые части прошли и немецкое командование установило «вспомогательную власть» из разных «бывших» и прочего отребья, тетка Мария, разузнав по людям, что и как, пошла к самому шефу района. На «прием» к нему она, к своему удивлению, попала очень легко и сразу выложила все свои жалобы. Была у них в совхозе фельдшерица тетя Даша, так ни за что расстреляли, и вот теперь сколько людей без медицинской помощи осталось. И все «совхозные» послали ее просить, чтоб он посодействовал — определил к ним врачом «окруженца». Бывший гуртоправ и свинарь Рядненков, которого скальновцы не баловали ни вниманием, ни посещениями, уже несколько дней одиноко торчал в своем кабинете, не зная, с чего начать и за что браться. Тетка Мария была у него первой посетительницей, и потому он ей даже обрадовался. Внимательно выслушал, подумал для порядка, чтобы показать, что он все-таки «настоящая власть», и… согласился на ее просьбу. Согласиться должен был и Володя Пронин. А что еще он мог сделать, оглушенный, пришибленный, не понимающий, что творится вокруг него и как это он вдруг у себя дома, на советской земле, попал в окружение, по существу в плен? Плен! Какое страшное, позорное слово! Ну чем оно лучше дезертирства, даже измены? Там, за фронтом, который сейчас уже далеко, про него, Владимира Пронина, так, наверно, и думают: трус, дезертир, изменник… Потом, если, конечно, не умру раньше, перед своими за все отвечу. А сейчас… сейчас я должен думать не о себе. Где бы ни был, пока я жив, пока я врач и около меня больные и раненые, я должен думать о людях, спасать жизнь раненых, выхаживать своих бойцов. И правду говорит тетка Мария — как я могу бросить их на произвол судьбы? Но эти мысли не могли успокоить растревоженную Володину совесть. Что там ни говори, но ему вообще отчаянно не везло в жизни и теперь тоже не повезло ужасно. Но обязанности врача, мучения раненых, чувство ответственности за их судьбу отвлекали Володю от тяжелых мыслей, заставляли забывать о себе. И вот, старательно припрятав автомат в яме возле амбулаторного порога и перекинув через плечо санитарную сумку, Володя ходил окраинами Скального от хаты к хате, перевязывал, лечил, ухаживал за больными и ранеными бойцами. А в свободное время заходил в его амбулаторию и кое-кто из местных. Он помогал всем, чем мог. Жил тут же, в пустом амбулаторном помещении, а питался как придется. Тетка Мария, сын которой Сенька вскоре подружился с Володей, заботилась об его одежде и белье и вообще относилась как к родному. Работы у Пронина хватало, и это спасало его от черной безнадежности. Время от времени Сенька стал пересказывать ему сводки Совинформбюро. А когда вступил в подпольную группу, Володя почувствовал себя куда лучше. Но… так уж, видно, на роду было написано, чтобы ему всегда и во всем ужасно не везло. Мало того, что организация не совсем согласилась с ним насчет вооруженной борьбы и завела свою «типографию», так еще и отвела ему самую пассивную роль — «сторожа», хранителя этих «гвоздиков» и «мотыльков». Прошло почти три томительных месяца. Встали на ноги, выздоровели его подопечные. Эсэсовцы напали на след «Молнии». Где-то там, всего за несколько сот шагов от него, может быть, снова льется кровь, горят хаты, и кто-то из его бойцов, возможно, уже в руках жандармов. А он, военврач Пронин, стоит на новом распутье. Предупрежденный об опасности, но не связанный никаким определенным заданием и уже, собственно, почти свободный от прежних своих обязательств перед бойцами — разве он не имеет права действовать теперь по собственному усмотрению? Теперь у него, бойца подполья, комсомольца Владимира Пронина, на какое-то время развязаны руки, и, выходит, он может хоть перед самим собою, перед совестью своей выполнить свой самый главный долг. Выполнить и показать всем, кто его знал тут и оставшимся по ту сторону фронта, что он хоть и виноват в том, что попал в плен, но совесть его чиста и умереть за родину он не боится! Боевой автомат вместо сумки с красным крестом сейчас тут, при нем. А враги, если только они сюда заявятся, двигаться будут непременно оттуда, с запада, вот этой единственной проезжей дорогой с Волосского шляха на совхоз. Выйдя из-за кузницы, Володя пересек совхозную улицу, перелез через ограду и пошел напрямик между пустующими конюшнями и коровниками. Он шагал твердо, уверенно, спокойно. Порой останавливался, прислушиваясь, не доносится ли из-за Терновой балки отзвук далекой стрельбы и шум моторов. Автомат держал открыто, по-солдатски за плечом, не боясь, что кто-нибудь может увидеть его вооруженным. Оружие придало ему бодрости, и он снова почувствовал себя по-настоящему свободным человеком. Последним в ряду совхозных построек, у самой дороги, стоял длинный, крытый соломой коровник. За ним с левой стороны раскинулось свекольное поле, с правой — озимь, балка, кусты и далекие, затянутые дымом крыши Курьих Лапок. Оглянувшись кругом и убедившись, что никто за ним не наблюдает, Володя вошел в коровник, влез на чердак и устроился в углу. Крыша над ним была дырявая, но от постороннего глаза все-таки укрывала. Володя проделал под стропилами еще одну дыру и просунул в нее дуло автомата. Теперь ему видно было все вокруг и далеко вперед — и балку, и до самого горизонта свекольное поле, и обгорелые, задымленные крыши Курьих Лапок, и дорогу, на которой вот-вот появится враг. И он действительно появился. Две машины, одна за другой, вырвались с Волосского шоссе и, подскакивая на кочках, объезжая глубокие выбоины, казалось, медленно, но неотвратимо приближались к совхозу. От машин до коровника остается не больше сотни шагов. В кузове передней машины сидят в несколько рядов вооруженные немцы. В задней — полицаи. В кабинах по двое — шофер и, видимо, офицер. Володя дает первой машине поравняться с коровником и, когда до гитлеровцев остается метров десять, бьет короткой очередью по передней кабине. Потом переносит прицел на колеса — одна, вторая очередь, и когда машины с пробитыми скатами останавливаются, наскочив одна на другую, Володя поднимает дуло автомата чуть повыше, целится в немцев, сидящих в кузове, жмет на гашетку и… вмиг теряет всю свою выдержку и спокойствие. Снова с болью, с лютой досадой чувствует себя самым разнесчастным на свете человеком. Он даже не замечает автоматной очереди, которой Гуго прострочил солому и дерево над его головой.
Да, так оно и есть, неудачник. И ничего уж с этим не поделаешь. Сколько хочешь жми на гашетку, все равно автомат молчит — и все тут. Еще надеясь на что-то, — может, просто заело, — Володя вырывает диск из гнезда. Нет… Просто все патроны, которые оставались в нем, он отстрелял. А запасного диска не было. Единственное, чего ему сейчас хотелось, швырнуть в гитлеровцев ненужный теперь автомат, уткнуться в руки головой и зареветь в голос, по-детски. Но он не заплакал, лежал как каменный. А в лицо уже потянуло дымком. Где-то рядом, над головой, вспыхнула сухая солома. Володя опомнился. Сунул зачем-то пустой диск в карман, отполз в глубь чердака и, пригибаясь под стропилами, побежал в противоположный угол. В темном углу запутался ногами в соломе, ударился обо что-то твердое и упал. Под руками скользнула ровная, отполированная грань какого-то ящика. «Неужели приемник?» — успел еще подумать он и вскочил на ноги. Там, позади, занялось и охватило коровник пламя, галдели, стреляя во все стороны, немцы. Но Володя уже спрыгнул с чердака и скрылся за соседней постройкой. Бежал, не оглядываясь и не прислушиваясь. Обогнул конюшню, пролетел вдоль невысокой каменной ограды. Потом, наткнувшись на калитку, выбежал на летний ток и затерялся между высокими скирдами соломы. За лесопосадкой Володя остановился, вскинул на плечо автомат, который все время почему-то держал в руке, перевел дух, оглянулся, прислушался и понял, что за ним никто не гонится. Сзади, за деревьями, над совхозом, сине-черными клубами валил дым. Бледное в свете сумеречного, угасающего дня, трепетное пламя, перекинувшись с коровника на конюшню, разливалось по крышам. «Собак у них, наверно, нет», — подумал Володя. И тут же без связи с предыдущим вспомнил и пожалел, что не смог забежать к Марии Горецкой хоть на минуту. Стоял среди пустого поля, тяжело дышал и с жалостью, с сыновней благодарностью думал о Марии Горецкой, словно о родной матери. «Как она там? Что теперь передумает, перетерпит? И у кого спросит, с какой стороны нас обоих высматривать?»
36
Когда Максим среди белого дня появился на пороге Галиной хаты, она и обрадовалась и, вспыхнув вдруг осенней калиной, смутилась. Максим сразу заметил это и, усмехнувшись, пошутил: — Ходит гарбуз по огороду, ищет своего рода: а живы ли, здоровы ли все родичи гарбузовы? В хате Очеретных недавно пообедали, прибрали и помыли посуду и теперь, видно, отдыхали. Галя сидела на лежанке с маленькой Надийкой на коленях — читала ей книжку с цветными картинками. На домотканом половике посреди комнаты возился со старыми, заржавевшими коньками Грицько. Максимова шутка понравилась мальчику. Всегда серьезный Грицько, взглянув на Максима, улыбнулся. Галя улыбнулась тоже. И только курносенькая, толстощекая Надийка была явно недовольна появлением незнакомого человека, который стал нежданно-негаданно на пороге и перебил рассказ про Ивасика Телесика на самом интересном месте. Максим подошел к Грицьку, взял в руки конек и с непритворным интересом оглядел его со всех сторон. — Снегурки? — как равный равного спросил гость мальчика. — Угу, — дружелюбно глядя на Максима, ответил Грицько. Он знал, что это сын паровозного машиниста Зализного, студент, который держит в городе мастерскую. Так что особых причин для восхищения у мальчика не имелось. Но было что-то в Максиме такое, что вызывало к нему симпатию всех мальчишек-подростков.Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед… —
37
Листовка должна была начинаться словами:«Товарищи! Свободные советские люди! Помогайте Красной Армии уничтожать фашистскую погань! Пусть наша родная земля горит под ногами оккупантов!..»Была она действительно короткая, всего на десять строк, и заканчивалась привычным лозунгом: «Смерть немецким оккупантам!» И подписью: «Молния»… План у Максима был такой: набрать и закрепить листовку здесь, у Гали. Самое сложное и кропотливое — набор. Это минут двадцать — тридцать, если работать вдвоем. Потом, уже с готовым набором, они с Сенькой, ни минуты не задерживаясь, спускаются вниз, к речке, в тальник, и в любом первом попавшемся удобном месте печатают ну хоть десяток листовок. Итак, листовки должны и могут быть готовы еще к вечеру. Ночью Сенька расклеит их в нескольких местах в самом центре Скального, и наутро (как раз, может быть, к этому времени в жандармерии станет известно еще и про листовки в Подлесненском) гестаповцы убедятся, что арестованный Леонид Заброда к «Молнии» никакого отношения не имеет, что «Молния» живет, действует, борется и после его ареста. Грицько прибежал в хату как раз тогда, когда Максим уже дописывал на сером клочке обложки ученической тетради текст листовки. — В совхозе пожар! Что-то большое горит, наверно, конюшни! А низом, от плотины, сюда вроде пробирается какой-то… — В темном, пальто? — спросил Максим, заканчивая писать. — Угу… На полицая не похож… Этот «какой-то» оказался Сенькой Горецким. Раскрасневшийся, разгоряченный, весь он будто дымился от быстрой ходьбы. Пот стекал по щекам на подбородок, волосы на голове слиплись, намокли, а глаза блестели радостью оттого, что он все-таки успел и снова видит перед собой Максима. — Ну, как? Что там? Что горит? — с ходу забросал его вопросами Максим. — Сейчас, — вместо ответа бросил Сенька и, не здороваясь, направился прямо к кадке с водой в углу, под посудным шкафом. Достализ шкафчика литровую кружку и зачерпнул воды. — Две машины с немцами и полицаями перегнали меня около базара, — сказал он, напившись. — Наскочили на Курьи Лапки. Слышно было — стреляли, потом запалили какие-то хаты. Я уже решил туда не забегать… Возбуждение Сенькино улеглось, румянец с лица стал сходить, и на переносье резче выступили крапинки веснушек. Заговорил он тихо, спокойно, словно о самых обычных вещах. Рассказывая о Курьих Лапках, снова подумал о Петре — что там с ним? — пожалел, что не успел предупредить, но вслух об этом не сказал и мыслей своих не выдал. — …Подался напрямик к Володе. Предупредил, забрал «гвозди» — и сюда. А в совхозе загорелось, уже когда я через речку перешел… Володя передавал: коли что — задержит их. Теперь стало ясно, что угроза гораздо серьезнее, чем думалось сначала. Но лицо Максима оставалось бесстрастным, только глаза блеснули. — Ну что ж, — сказал он тихо, — выходит, листовка наша еще нужнее стала. — И перевел на Галю прищуренный взгляд. Ему хотелось успокоить, подбодрить девушку. Но Галю не надо было успокаивать. Максим понял это по ее лицу, вдруг напомнившему ему ту зареванную девчонку, которую он спас от грозного щенка, а она вспыхнула, разозлилась и (куда только девался ее испуг!) сердито показала ему язык. Галя спокойно пересадила на теплую лежанку Надийку, дала ей в руки книжечку и быстро подошла к столу. — Ну что там у тебя? — спросила она Максима. — Показывай. Время не ждет… Было их тут, в этой хате на краю села, трое. Восемнадцатилетний паренек, девушка, его ровесница, да еще двадцатидвухлетний калека. И с ними двое детей — мальчишка тринадцати и девочка четырех лет. На дворе угасал один из самых глухих дней поздней осени сорок первого года. Наступали сумерки. Предзакатное солнце пряталось где-то за непроглядными, темными тучами. Казалось, будто его вообще сейчас не было. Вокруг на сотни километров залегла черная ночь фашистской оккупации. Их преследовали, нескольких уже задержали. Вся могучая военная машина гитлеровцев была сейчас направлена против них, и все же они не отступали. Они могли спрятать, раскидать, наконец, уничтожить шрифт, убежать, укрыться где-нибудь и переждать. Но они даже и не думали об этом. Оторвав взгляд от бумажки и не отвечая на Галины слова, Максим спросил ее, Сеньку, а может, самого себя: — А все-таки, чертяка им в глотку, очень бы я хотел знать: то ли это мы дурни, то ли они так уж хитры? Как они напали на след? Неужели мы такие никудышные подпольщики? Или нас выдал кто-то?! Просто не верится, чтобы гестаповцы сами оказались такими умными, а? Никто ему на это не ответил. Да он и сам понимал, что времени для размышлений нет. Нагнулся над столом и быстро стал подсчитывать количество литер в новой листовке: — «О» — двадцать пять, «т» — тринадцать… Сенька снял с плеча тяжелую сумку, достал из нее и положил перед Галей закрепленный в деревянном ящичке набор предыдущей листовки. И только теперь Галя поняла, для чего был нужен шрифт, который она с такими усилиями выносила, и уразумела Максимову «технику» печати. — Вот уж никогда бы не додумалась до такого, — похвалила она Максима. — Беда хоть кого научит калачи есть, — Максим на миг оторвался от подсчетов. — Выбей ножом одну шпону, ослабь набор и разбирай шрифт на отдельные кучки. А ты, Сенька, оденься потеплей — и к Грицьку… Быстро сориентировавшись, Сенька залез на чердак полуразвалившегося сарайчика — он стоял повыше хаты и ближе к улице. Через дырявую крышу видно было в одну сторону станцию, а в другую — Выселки, долину Бережанки и противоположный берег. Грицько остался на улице, у ворот.
38
И вот между Максимом и Форстом началось невидимое состязание на быстроту, состязание на жизнь или смерть. Форст и Максим в ту минуту ничего друг про друга не знали. И ни один из них не знал, что думает, что собирается делать в следующую минуту другой. Форст хотел напасть внезапно, а если это не удастся, то разыскать и вместе с другими задержать и Максима Зализного. Максим вначале только догадывался, а теперь уже твердо был уверен, что «Павиль Ивановитш» будет его разыскивать, а может, уже и бросился на розыски. Знал, что мог бы еще убежать, но не имел права и не хотел оставлять поле боя. Он шел навстречу опасности, подкладывая на пути преследователей своеобразную «мину», чтобы запутать, сбить их со следа, посеять неуверенность в их душах. Форст и Максим словно мчались к одной точке, где пути их должны были скреститься. Выиграть мог тот, кто первым дойдет до этой невидимой точки скрещения. На стороне Форста был перевес в силе и оружии, и действовал он на чужой земле открыто. Максим должен был действовать тайно, скрываться на своей родной земле. Но у него было и преимущество: он знал, чего добивается Форст. И хоть издалека, но все-таки следил за тем, что он делает. А Форст об этом еще не догадывался. Пока Максим в Галиной хате писал первые строчки новой листовки, автоматная очередь уже продырявила стекло кабины, в которой сидел Форст, и пробила гестаповцу левую ладонь. В то время, когда Максим подсчитывал количество букв, а Галя выбирала литеры из старого набора, Форст старательно прочесывал со своей командой территорию почти совсем опустевшего совхоза. Ни в совхозе, ни в амбулатории жандарм ничего не нашел. Он не только не поймал, но даже издали не увидел того или тех, кто обстрелял машину, Форст топтал ногами песок, в котором прятали типографию, и даже не догадывался об этом, как не догадывался и о том, что в коровнике, возле которого он стоит, горит радиоприемник, снабжавший подробной и правдивой информацией «Молнию». Ничего, кроме неприятностей и непредвиденной задержки — нужно было менять два ската, — «операция» в совхозе «Красная волна» Форсту не принесла. Задержка, которую нельзя было предвидеть, случилась и у Максима. Когда все литеры были подсчитаны и Галя быстро разобрала знаки на отдельные кучки, выяснилось, что не хватает, четырех «т», трех «н» и семи «м». Значит, надо было заново обдумать и переписать листовку, так, чтобы обойтись наличными литерами… Тем временем Форст, чтобы не растягивать операцию, решил сначала заменить скат у задней машины. Потом приказал Шроппу с полицаями ехать назад, с ходу, не ожидая его, Форста, окружить развалины банка и прилегающие здания, все там обыскать и, если вдруг посчастливится, непременно задержать Максима Зализного. А потом, независимо от результатов, всех полицаев и незанятых немцев бросить на перекрытие улиц и вообще всех возможных выходов из Скального. Когда наученный уже горьким опытом Шропп остановил машину за несколько сот метров от развалин банка и полицаи боязливо, а потому медленно окружили мастерскую, Максим наконец скомпоновал листовку так, что теперь ее можно было набрать из имеющихся литер. Закончив раскладывать нужные знаки на отдельные кучки, Галя высыпала остатки набора на дно брезентовой сумки. Теперь в пустой деревянный ящичек со стеклянным дном можно было набрать текст новой листовки. Первую машину с полицаями Сенька Горецкий не увидел и о том, что она уже в центре, около развалин банка, не знал. То ли он не был еще тогда на чердаке, то ли прозевал — неизвестно. Зато вторую, которую он посчитал первой, заметил сразу. И хотя людей в ней издалека различить не мог, но что машина, несшаяся вдоль главной улицы, то скрываясь, то вновь выныривая из-за сожженных хат, и есть одна из «тех», в этом он был совершенно уверен. Когда посланный Сенькой Грицько прибежал в хату, были набраны две первые строчки новой листовки:«Товарищи! Свободные советские люди! Помогайте Красной Армии…»— Галя! — крикнул еще с порога Грицько. — Тот Сенька говорит — машина с немцами уже к мосту идет! Выпалив все это единым духом, Грицько остался стоять на пороге, ожидая, что последует дальше. Но Максим даже головы не поднял. Галя быстро оглянулась на мальчика и тоже ничего не сказала. С минуту в хате стояла непонятная, удивительная для Грицька тишина. Он ведь не знал, что в эту самую минуту Максим и Галя прикидывают в уме, через сколько времени машина будет тут. Выходило так: с горы по плохой дороге проехать через все Скальное вниз к мосту, потом, уже по этой стороне, подняться вверх, к станции, и мимо станции, мимо МТС доехать до хаты Очеретных (если только эта машина не задержится у Максимовой мастерской или еще где-нибудь) понадобится пятнадцать — двадцать минут, а набор закончить можно минут за восемь — десять. Первой отозвалась Галя. — Слушай, Максим, — привычно, не глядя на свои пальцы, она продолжала набирать в коробочку литеру за литерой, — ты на меня не сердись. Сам понимаешь, тебе не так просто будет отсюда выбраться в последнюю минуту… Уходи немедленно. Договорись с Сенькой, где ты его ждать будешь. А я, чего тут да как, знаю и управлюсь сама. Сенька тоже всегда успеет выскочить и догонит тебя. Ладно, Максим? — вкладывая в последние слова всю свою теплоту, закончила девушка. Какое-то время в хате слышно было только Надийкино всхлипывание. И в этот миг во второй раз Максим болезненно и остро ощутил свое увечье, увечье, которое стало помехой не только для него, а может, вот как сейчас, обернется и для других бедою. Этих горьких его мыслей Галя не узнала. Максим замкнул, спрятал в себе свою боль — он хорошо понимал, что сейчас надо послушаться Галю… — Ясно. Пойду! — коротко сказал он, вставая из-за стола. — Когда закончишь набор, закрепи его вот этой дощечкой. — Он взял свою грушевую палку, вышел на середину комнаты и снова остановился. — Слушай, Галя, ты тоже не обижайся. Но на войне как на войне. Что бы ни случилось, но «гвозди», — он кивнул головой на шрифты, — ни один «гвоздь» не должен попасть к немцам в руки. Их нужно беречь, как оружие. Потому что лучше смерть, чем это… И, как ни будет трудно, если до того дойдет, лучше все уничтожить, раскидать, утопить… Это я, конечно, так, на всякий случай. Но если что случится, стоит только сказать: «гвозди» там-то, — и каждый из наших поймет. — Максим помолчал. — «Гвозди» и «мыло». Теперь тебе надо знать и об этом. «Мыло» в Стояновом колодце на Казачьей балке… А ты тоже не задерживайся. Пересиди где-нибудь, может, у той же тетки… А меня искать на сто пятнадцатом километре. У Яременко. — Торопись, Максим! Они говорили, совсем позабыв о Грицьке. А он так и стоял на пороге, точно окаменев от любопытства, лишь глаза у него горели. Максим заметил Грицька, только когда ступил на порог. Ласково сжал ему руку выше локтя и молча, не прощаясь, вышел в сени. Во дворе он задержался минуту. Сказал Сеньке, что будет ждать его с «гвоздями» в лозняке, возле сожженной мельницы, повернулся и захромал огородом, вдоль обсаженного вишнями рва, вниз, к речке… На улице смеркалось. Куда девалась машина, разглядеть с чердака было уже невозможно, так же как мост и отрезок пути к переезду. А дорогу, на которой могли появиться немцы, когда проедут мост, хорошо было видно и от ворот. Проводив взглядом Максима, Сенька соскочил с чердака и стоял теперь рядом с Грицьком под старой акацией у ворот. В предвечерней морозной тишине где-то далеко за станцией, должно быть, на подъеме у переезда, заревел и сразу стих мотор. Сенька, оставив Грицька у ворот, вбежал в хату. — За переездом слышно машину. — Ладно. — Галя работала быстро, сосредоточенно, спокойно. — Зови сюда Грицька… Если до МТС доедут, а я еще не кончу, беги вниз и жди меня в лозняке или немного подальше, возле плотины. Я уже кончаю. Когда Грицько вернулся в хату, Гале осталось набрать только несколько слов. — Одевай, Грицько, Надийку, — сказала сестра. — Скоренько одевай… А там, на улице, уже ясно слышался нарастающий гул моторов. Машина появилась из-за станции и помчалась вдоль лесопосадок к МТС и тут остановилась. В густых сумерках можно было скорее угадать, чем увидеть, как прыгали на землю из машины во все стороны человеческие тени. «Боятся», — подумал Сенька, метнувшись от ворот к хате. — Немедленно, сейчас же вниз! — приказала Галя. — Чтоб тебя даже издали никто не заметил. Не бойся, пока они дойдут, я успею. Теперь уже не нужно было посылать Грицька к воротам. Немцы уже высадились из машины. Они приближались. И Галя могла тут, в хате, рассчитать до последнего шага, сколько они прошли, сколько им еще осталось пройти… Размеренно, неторопливыми, ловкими движениями она вложила последнюю литеру, подперла строчку деревянной палочкой с наклейкой «Молния», заклинила дощечкой, закрепила, туго завязала все беленьким платочком, чтобы не выпала ненароком какая буква, и вложила в брезентовую сумку. В хате было почти темно, чуть только серели окна. — Ну, Грицько, ты ведь у меня братик разумный и не такой заметный. Бери эту сумку и беги вдоль рва на берег. А там тропкой к плотине. Сенька будет ждать тебя. Отдашь сумку и стой возле дуплистой вербы. Я подойду туда. — Галя нагнулась, нацепила мальчику сумку через плечо и поцеловала его в щеку. Таких «телячьих» нежностей Грицько обычно не терпел, но сейчас промолчал. — А если меня не дождешься, домой лучше не возвращайся. Иди низом прямо к тетке Килине в Петриковку. Там меня и жди. Галя взяла Надийку на руки и пошла к дверям. — А ты куда? — уже в сенях спросил Грицько. — Я на минутку только к тетке Мотре. — Смотри ж не копайся! — рассудительно, как старший, приказал мальчик и сразу исчез, будто растаял где-то за хатой в глухих сумерках. У соседки, пожилой тетки Мотри, уже светил масляный каганец. Мотря сидела на низкой табуретке перед лежанкой и шелушила над решетом кукурузу. — Хочу у вас Надийку на часок оставить. Грицько днем куда-то на станцию подался, да так и не вернулся. Пойду поищу, а то как бы чего не случилось… Уже не думала, похоже это на правду или нет, — не до того было. Торопливо раздела сестренку, поставила на пол и кинулась к дверям. Надийка потянулась ручками вслед и заплакала. Но у Гали, чтоб оглянуться, уже не было ни времени, ни сил. На улице было совсем темно. Спотыкаясь о какие-то комья, девушка перебежала двор, вышла на тропку меж огородами и, не пройдя и десяти шагов, остановилась от неожиданного хриплого окрика: — Хальт! Прямо в глаза блеснул фонарик. — Хенде хох! — заверещал кто-то из темноты уже другим, высоким и испуганным голосом…
39
Старательно выполняя все, что ему приказывали Галя, Максим или Сенька, Грицько ни разу не спросил, не заикнулся даже о том, что они, собственно, делают, чего опасаются. Заходя время от времени в хату, он даже нарочно глаза опускал или смотрел в сторону, чтоб ненароком не взглянуть на стол. Он ведь не девчонка, чтоб подглядывать и выпытывать. Да и вообще Грицько был не из тех ребят, которым надо долго все разъяснять. Что ни говори, а ему уже тринадцать. Кое-что в жизни своей он повидал. Как это не знать, что такое «гвозди», тринадцатилетнему человеку, который живет в 1941 году на Украине, в райцентре, где есть типография и газета да еще родная сестра этого человека в этой типографии работает. Нет, тут уж и вправду надо быть растяпой, чтобы сразу же не смекнуть, что именно и против кого затевается в их хате… Когда Грицько Очеретный с тяжелой сумкой через плечо шустрым мышонком шмыгнул с порога за угол хаты, а потом в вишенник и очутился на дне заросшего густой промерзшей травой рва, он хорошо понимал, какая на него возложена ответственность. Может быть, всего несколько минут назад он и вправду был еще мальчишкой. Но сейчас, вот тут, в вишеннике, притаился уже совсем взрослый, сосредоточенный, осторожный Григорий Очеретный. Прижался, слившись с землей, затаив дыхание, никому не заметный, даже если прошли бы за шаг от него, и огляделся. Ему надо было пронести сумку через огород на берег реки и там, в лозняке, отдать Сеньке либо Гале — и только. Но все равно он должен быть осторожным и чутким, как птица, и проползти, если нужно будет, ужом по траве между вражеских ног, да так, чтобы и стебелек не колыхнулся. Ни один «гвоздь» не должен попасть в руки немцев, потому что будет это хуже смерти. Он ведь хорошо слыхал Максимовы слова да и сам знает, что это значит и чем грозит. Тихо вокруг. И в этой тишине ясно слышно, как шумит внизу вода возле плотины, где речка еще не успела замерзнуть, да размеренно пыхтит на станции паровоз. Грицько знал — тишина и темень всегда могут подвести — и крался вдоль рва так неслышно, что под ногами ничто не шелохнулось. Продвигался медленно, останавливаясь и прислушиваясь через каждые пять — десять шагов. Уже на середине огорода, как раз возле куста шиповника, вдруг насторожился, свернувшись тугим клубочком: то ли показалось, а может, и вправду где-то впереди в лозняке звякнуло что-то и глухо вскрикнуло… Грицько замер, но услышал только, как колотится собственное сердце — так сильно, что его, наверно, можно было услышать даже издали. Затаив дыхание, он прислушался. Ждать пришлось недолго. Внизу что-то глухо стукнуло, кусты зашуршали и… вверх забухали чьи-то сапоги. Ближе, еще ближе… Грицько распластался по земле, почти совсем не дыша. Шли соседним огородом. Старались, видно, ступать как можно тише. Вот они уже совсем близко. Грицько слышит, как тяжело, с присвистом, дышит один из них. Наконец различает неясные очертания человеческих фигур. Сколько их — разобрать трудно. Может, только двое, а может, и трое. Идут не гуськом, а в ряд. Вот-вот крайний наступит мальчику на голову или на руку. Грицько даже глаза зажмурил, но тут, верно, крайний наткнулся на колючки шиповника, с досады приглушенно вскрикнул, шарахнулся в сторону и… «Что там у них звякает? Оружие! Немцы или полицаи?.. Они идут вверх, а там ведь Галя…» Они прошли. Заглохли шаги, а Грицько все еще лежал, распластавшись, во рву, и, может, впервые в жизни его детскую грудь раздирали тяжкие сомнения. Крикнуть бы! Предупредить! Предостеречь Галю, а потом в сторону. Кто там, в темноте, поймает… Да не поймал бы, конечно, если бы не эти «гвозди»… Да и потом… Разве он имел право рисковать тем, что дороже жизни? Нет, нет! Они ему доверились… А может, удастся все-таки? Нет… Эти прошли, а поблизости другие могут быть. Да и одно дело, если Галю без ничего задержат, а другое — если еще и он с «гвоздями». Не услышав больше ни одного подозрительного звука, никакого шелеста впереди, Грицько пополз дальше, в конец огорода. Недалеко от первого куста остановился. Еще послушал, подумал. Сразу лезть в кусты не решился. Ведь если эти появились, могут быть и другие. Хорошо бы где-нибудь здесь затаиться и выждать. Но где же спрятаться? Пока доберешься до кустов, шуму наделаешь… И кто его знает, ждет тебя там Сенька или, может, кто другой? Грицько осторожно поднял голову, ничего не услышал, не увидел и… вдруг вспомнил. Неслышно переполз через вал и спрятался в глубокой воронке в двух шагах от рва. В той самой воронке от бомбы, где была убита летом его мать. Теперь осталось перейти самое опасное место — из огорода в кусты, за которыми его могло подстерегать все, что угодно. Припав к пологому склону и высунув голову из ямы, он слушал и вглядывался в темноту так долго, пока привыкли глаза и можно было различить черные силуэты стволов верб на фоне затянутого тучами неба. Шли минуты. Парень уже утратил ощущение времени. А кругом все так же стыла ночная тишина, нигде ничто не шелохнулось, и только шум воды на плотине будто приблизился, стал слышнее. Наконец ему надоело ждать, он устал. Ведь если бы кто-нибудь был поблизости, здесь, в кустах, так уж, наверно, ворохнулся бы. Но он, Грицько, опять-таки на всякий случай переползет потихоньку в кусты и там еще прислушается. Не до утра ж ему, на самом деле, сидеть тут! Грицько глубже натянул на голову шапку, расправил на плече брезентовую лямку, сильнее уперся носком правой ноги в мерзлую землю и… В эту самую минуту где-то позади, наверху, раздался оглушительный свист. Он словно выстрелом пронзил мальчика и снова пришил его к земле. Грицько еще и подумать ничего не успел, как сразу, будто только этого свиста ждали, зашелестели совсем рядом кусты… И хотя Грицько все время был настороже, он вздрогнул и крепко сжал зубы. А в кустах затопали, кто-то закашлял. — Комм, комм! — отозвался поблизости чей-то хриплый басок. — Все! Можно идти. Зовут. Слышно было, как кто-то, бухая сапогами, вышел из кустов. Один, за ним через секунду другой. Задний, видно, за что-то зацепился, споткнулся. — О, доннерветтер! — Кочки какие-то, — отозвался первый. Блеснул на миг лучик карманного фонарика, прошел над самой головой Грицька. — Брось-ка, слышишь? — испуганно зашипел тот, что вышел первым. — А то пальнет из кустов на свет, и зубов не соберешь. Должно быть, он толкнул своего напарника-немца под руку, потому что фонарик мгновенно погас. «Боится, сволота», — подумал Грицько, и от этой мысли ему как-то сразу стало легче, совсем не страшно. — Тут какая-то яма. Бери левее, — послышалось совсем рядом. Потом топот стал отдаляться, затихать, пока совсем не пропал где-то в кустах. «Видно, засаду какую-то сняли», — понял Грицько. И все-таки, перед тем как выйти из своего укрытия, еще подождал и послушал, а потом стал пробираться сквозь кустарник так осторожно, что ничто за ним даже не шелохнулось. Никто в лозняке Грицька не ждал. Не было там ни Сеньки, ни Максима… Если бы кто-нибудь был, так он ведь тоже бы услышал, что те ушли, дал хоть какой-нибудь знак. Еще немного посидев, Грицько ощупью нашел старую, дуплистую вербу, просунул руку в дупло и там, на самом дне, под сухими листьями и гнилой древесной трухой, нащупал завернутый в тряпочку пистолет «ТТ». Тот самый, который он летом закопал под сливой, позже перенес в сарайчик, а уже глубокой осенью решил спрятать в дупле, чтобы не узнала Галя. Мальчик колебался одно мгновение. А потом решительно переложил пистолет за пазуху и, осторожно ступая, пошел вдоль речки, в гору, к размытой плотине. Возле плотины, присев на камень под холмом, долго, наверное с час еще, ждал, тщетно вглядываясь в темноту. Ждал, пока не начали мерзнуть ноги и холод пополз по взмокшей в дороге спине. Никого не было ни видно, ни слышно, только шум воды на быстрине между камнями будто ватой закладывал уши. Мальчик сидел, мерз все больше и больше, думал про Галю, Максима, Сеньку. Соображал, что могло с ними случиться, что теперь ему делать дальше. На душе у Грицька становилось все тяжелее. И такая горькая, такая жгучая досада охватила его, что, если б не было стыдно, впору заплакать. Из-за реки потянуло ветерком. Сперва Грицько почувствовал его дыхание на своем лице. Потом, когда ветер покрепчал, в стороне, над водою, зашелестел кустарник. Шелест этот рос, приближался, словно вдоль берега катилась невидимая воздушная волна, и, наконец, заволновались, закипели кусты рядом. Впереди, как будто чья-то невидимая рука раздвинула темный занавес, тучи внезапно расступились, и в просвете между ними выглянул бледно-желтый серпик молодого месяца. Стало светлее. Сначала из темноты проступила, тускло поблескивая чистым льдом, речная гладь с темной полосой клокочущей воды возле плотины. Потом можно стало различить силуэт сломанной вербы, кусты, очертания крутого берега. Впереди угадывался голый пустырь бывшего мельничного двора. От мельницы уцелели только остатки каменного фундамента, да под берегом, в том месте, где когда-то были мельничные колеса, кипела сейчас шапка пены, а из нее торчали три черные, низко, у самой воды, срезанные сваи. Кругом было пусто, безлюдно. Так пусто, что Грицько не выдержал и свистнул дважды. Никто на его свист не отозвался. В небе тревожно клубились тучи, и серпик месяца мелькал меж ними, будто желтый листочек на темных волнах. Грицько стоял на берегу, притопывал, согревал ноги и, глядя на белую кипень вокруг черных свай, думал о том, что никого он, видно, не дождется и только даром теряет время, надо что-то делать, куда-то идти… А куда он пойдет? Только туда, куда ему приказала Галя. К тетке Килине! Стало быть, надо вернуться назад, идти снова берегом до самого моста или по улице на тот конец Скального. А потом пройти около трех километров до хуторов, которые в последние годы слились с Петриковкою. А тетка Килина? Она, собственно, никакая ему не тетка. Была когда-то женой маминого брата, дяди Нилина. Дядя давно умер. А у тетки, сколько Грицько ее помнит, другой муж — дядька Онисим. Они уже с Очеретными мало роднились. И конечно же тетка Килина удивится. Что это вдруг он заявился среди ночи, да еще с сумкой? А что он ей скажет? Раздумывая, Грицько машинально расстегнул сумку, сунул в нее руку и перебрал все, что там было. Буковки-гвоздики, завязанный в платок брусок набора, два резиновых валика с деревянными ручками, коробка из-под ваксы… Хорошо хоть ни мороз набор не возьмет, ни сырость в земле, ни вода… Знать бы куда, отнес бы хоть на край света… Но куда нести? А то, гляди, еще на какого-нибудь черта наскочишь. Отберут, и выйдет тогда, что провалил он, Грицько, все дело и родную сестру немцам выдал. Желтым листочком ныряет меж тучами серпик-месяц. Тускло поблескивает лед на реке. Кипит, пенится вода возле плотины, струится под берегом узенькой черной полоской, взбивает вокруг черных свай холмики пены и через несколько метров вниз по течению уходит под лед… Первая свая торчит у самого берега, вторая — как раз на середине пенистого потока. И метра за три от нее — третья, самая высокая. Сразу за ней, уже на тихой заводи, волнистыми бугорками застыл лед… Попусту ждать больше нечего. Может, Галя давно уже у тетки и ждет его там? А может… А что, если без сумки подкрасться осторожно к хате и прислушаться? Грицько отходит назад, вниз по течению метров двадцать, пробует осторожно носком сапога ступить на лед. Убедившись, что лед крепкий, выпускает из рук лозину, за которую уцепился, и, держась подальше от берега, идет обратно к плотине, пока снова не подходит к сваям. Здесь он поворачивает к берегу, пружинисто сгибая ноги в коленях, подпрыгивает, — нет, лед крепкий, не дрогнул даже. И все же, ступивши еще несколько шагов, Грицько на всякий случай ложится на живот и ползет все ближе и ближе к третьей свае. Чем ближе к воде, тем лед бугристей, а над самой бурлящей полыньей вздымается высоким горбом. Убедившись, что лед под ним не подломится, Грицько снимает сумку с плеча, забрасывает брезентовую лямку за сваю и, подтянув, тихо сталкивает сумку в воду. Без плеска проваливается она в глубину. Какое-то мгновение перед глазами Грицько поблескивает еще темный кружок воды, а потом его снова быстро затягивает пеной. Теперь сумка со всем шрифтом лежит, зацепившись лямкой за сваю, где-то на дне. И никто не догадается об этом, не найдет ее. Должно быть, не напечатают этой ночью листовку. А так торопились с нею и так рисковали и Максим, и Галя, и Сенька, и Володя Пронин. Зато Грицько теперь твердо уверен — никогда уже «гвозди» не попадут в руки немцам. Все-таки он их обдурил. Он сам или кто-нибудь другой, кому он расскажет про сумку, возьмет, если надо будет, самую обычную палку и легко ее вытащит… Если узнает обо всем этом Максим Зализный, наверняка похвалит его. И сразу, почувствовав себя свободным, как птица, вырвавшаяся из западни, Грицько отползает от полыньи, выходит на берег и, не чуя холода, легко и бодро шагает назад, такой знакомой, что даже ночью с нее не собьешься, прибрежной стежкой. Поравнявшись со своим огородом, Грицько долго стоит возле дуплистой вербы. Прислушивается, колеблется. Может, подползти к хате? Может, положить пистолет назад в дупло? Зачем он ему теперь, когда «гвозди» лежат спокойно на дне? Но, хоть его так и тянет подойти к родному дому, сделать это Грицько не решается. Не может он ослушаться Галю. И раз уж она приказала к тетке, то никуда, а только к ней и надо идти. А с пистолетом — тут уж дело другое. Тут ему никто ничего не приказывал, его воля. И пистолет так и остается у Грицька за пазухой… Через час мальчик был уже на другом конце села, на Киселевке. Узенькая, пропаханная мерзлыми колеями улочка, приземистая старая груша возле поваленного плетня, а дальше, прямо на голом юру, чья-то неогороженная хата. За нею в темной, пустой степи вьется извилистый шлях на Петриковку. Поравнявшись с грушей, Грицько остановился передохнуть и оглядеться, перед тем как выйти в степь. Разгулявшийся было по-настоящему ветер начал теперь стихать. Притаившись позади, спало, а может, притворялось только, что спит, Скальное — большое, темное, словно вымершее. Ни огонька, ни звука. Нигде ничего не шелохнется, даже собака не гавкнет. Ветер разогнал тучи, и длинные тени испуганно метнулись вдоль улицы. Сразу так посветлело, что можно было даже разглядеть кружевное переплетение ветвей, тенью упавшее на мерзлую землю. В небе за спиной Грицька светил, сползая к горизонту, раскалившийся докрасна месяц. А впереди, в каких-нибудь двадцати — тридцати шагах от мальчика, четко вырисовываясь на фоне проясневшего неба, стояли двое с черными под козырьками фуражек лицами и с винтовками через плечо. Увидев мальчика, полицаи на миг остолбенели от неожиданности. Молчал, боясь пошевелиться, и Грицько. Первым опомнился кто-то из полицаев. — Тю! — воскликнул он приглушенно. — Что за наваждение! Ты откуда взялся? — все еще не решаясь тронуться с места, спросил он. Голос этот словно вывел Грицька из столбняка. Грицько только теперь понял, в какую страшную беду он попал. — А ну, давай сюда! — приказал полицай. «Конечно, можно бы и подойти, — мелькнуло у Грицька в голове, — ну, потаскали бы, побили…» Но неслышный до того пистолет за пазухой вдруг, казалось, обрел и вес и форму и холодной тяжестью налег на грудь! — Ну, тебе говорят! — уже сердито крикнул полицай. Грицько послушно ступил шаг, другой и… вдруг, крутнувшись на месте, рванул назад. Мчался вдоль улицы, и впрямь не чуя под собою ног, да и всего своего такого легкого, будто разом утратившего вес тела. В ушах свистело, а земля мягко пружинила под ногами. Полицаи на миг растерялись и, только когда Грицько отбежал уже на порядочное расстояние, завопили в два голоса: — Стой! Стой! Стой! С криком они кинулись вслед за мальчиком. — Слышь ты! Стой, говорю, стрелять буду! Вот, гром меня разрази, сейчас стрельну! Мальчик слышал за собою топот сапог по мерзлой земле, слышал крики, но все это доходило до него будто сквозь туман. Хорошо расслышал лишь слова «стрелять буду». Слова эти сбили его с пустой улицы в сторону в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Через низенькую жердинку перескочил он в чей-то двор. Что было у него справа, Грицько не видел. Может, хата. Глаза видели одно: в конце пустого прямоугольника, по которому он бежал и никак не мог перебежать, что-то серело. Не то дереза, не то еще какие-то кусты, а дальше темнели густые верхушки деревьев. Ближе, еще ближе, вот уже прямо на него надвинулись серые кусты. Еще один прыжок… И вдруг тяжелый удар в спину оторвал его от земли, отбросил в сторону. И Грицько, теряя сознание, полетел в какую-то глубокую яму. Падая, успел еще услышать где-то за спиной далекий-далекий, совсем не страшный звук выстрела. Потом все стихло. Туча заслонила луну, вокруг все снова потонуло во тьме. Запыхавшиеся полицаи остановились, осторожно заглянули в огороженный жердями двор. — Попали или не попали? — спросил писклявый голос. — Эге. Так ты и попадешь! — с насмешкой ответил низкий басок. — И что за наваждение? Откуда он взялся? — Кто его знает. Мальчишка какой-то. Может, от соседей возвращался. — Гм… А чего ж ему было бежать? — А я знаю? — А может, подойдем к саду, глянем? — Ага. Еще стрельнет оттуда между глаз. — Да ну! Так вот и стрельнет! Подойдем! — Так он тебя там и дожидается! Нашел дурака! Он уж, наверно, где-нибудь на другой улице. На печь залез… Зайти во двор, подойти к кустам малины полицаи так и не отважились. Постояли немножко и, нарочито громко топая сапогами, побрели вдоль улицы. Но Грицько ничего этого уже не слышал…40
Яринка оторвала усталые глаза от книжки, глянула в простенок между дверями и посудным шкафчиком, на потрескавшийся, засиженный мухами циферблат часов. Прислушалась. Старые ходики с привязанной к цепочке вместо гири подковой показывали четверть одиннадцатого. И в хате и на улице — казалось, во всем мире стояла такая тишина, что размеренное тиканье маятника отдавалось в ушах, словно стук молота по наковальне. Спать не хотелось. Какое-то чувство настороженности, охватившее девушку с самого утра, все не проходило. Яринка Калиновская приехала в Скальное из Подлесненского района под вечер в субботу. Она уже заранее знала, что получит от Лени Заброды какое-то важное задание, возможно, «специальную передачу». Переночевала она у дедушки Нестора в хате. На рассвете вышла на берег, к старому вязу, на свидание. Лени Заброды на условленном месте не было. Не пришел он ни через десять минут, ни даже через тридцать. Не явился и через час. Вернувшись к деду, Яринка решила подождать здесь до обеда, потом до вечера. Внешне спокойная, но вся настороженная, Яринка поприбрала хату, приготовила обед, постирала и вывесила на мороз дедово белье. После обеда наносила в кадку воды и, пока дед рубил в сарайчике сухую вербу на растопку, села кое-что ему зашить и поштопать. Медленно угасал день, а Леня так и не объявился. И тогда она решила, что останется здесь еще на одну ночь и на рассвете в понедельник опять наведается в условленное место. По старой привычке, дед залез на теплую печь сразу же после ужина. Поговорил немного с внучкой о том о сем и быстро уснул. Спал тихо, дышал ровно, словно ребенок. А Яринка, зная, что ей теперь не уснуть, тщательно завесила одеялом и рядном маленькие оконца, заперла на засов дверь в сени и зажгла каганец. Из стопки, которую она оставила тут еще со школьных времен, вытащила книжку с оборванной первой страничкой, накинула на плечи кожушок, присела на низенький стульчик у натопленной лежанки и зачиталась. Оторвалась от книжки только тогда, когда почувствовала, что в глаза будто песок попал. Прислушалась к тишине, к ровному дыханию деда, прошлась по хате и подтянула цепочку ходиков, потом дунула на коптилку, отвернула угол рядна и выглянула на двор. Тучи, с вечера затянувшие небо, сейчас расступились. Прямо над крышей сарайчика в глубоком просвете плыл, протыкая острым рожком встречные облака, уже покрасневший серпик месяца. Стало так светло, что можно было увидеть белые столбы забора, соседский плетень через улицу и глубокие колеи на дороге. От сарайчика упала черная полоса тени, протянулась через весь выбеленный лунным светом, будто присыпанный снегом, двор и затерялась в кустах малины и смородины, неясно сереющих на темном фоне густого вишенника. Мертвая тишина стояла над притаившимся городком и, казалось, над всем опустевшим, словно обезлюдевшим миром. И Яринка сначала даже не поверила, когда до ее слуха донесся какой-то неясный шум, голоса, топот. Шум приближался, вот уже отчетливо простучал по мерзлой земле топот бегущего человека. Яринка уперлась горячим лбом в холодное стекло. За минуту до того пустая, безлюдная, улица сразу ожила. Чья-то легкая тень метнулась через невысокую изгородь за сарайчик и пропала в темноте. Звонко затрещали ломкие от мороза стебли малины, блеснула на улице короткая вспышка, и оглушительный выстрел разорвал тишину. Вслед за ним сразу бабахнул второй… Где-то за огородами, по замерзшей речке, гулко прокатилось клокочущее эхо. И опять все утихло. На улице, у ворот, показались два вооруженных человека. Чуть слышный, пробивался сквозь стекла невнятный отзвук то ли разговора, то ли спора… «Полицаи, — только теперь опомнилась Яринка, — гонятся за кем-то…» Все это было так неожиданно, что Яринка даже испугаться не успела. Только сердце вдруг словно оборвалось в груди и гулко заколотилось. Она так и осталась стоять, будто окаменела, прижавшись к окну и не сводя глаз с полицаев. Что они будут делать дальше? Зайдут во двор, пойдут в сад? А что же тот, кого они преследуют? Убежал? Может, уже далеко где-нибудь? А может… может, он там, в кустах? Минуты, пока полицаи стояли и спорили у ворот, показались Яринке вечностью. Когда их шаги утихли, девушка оторвалась от окна, накинула на плечи платок и как была, не одеваясь, бросилась в сени. Тихо отодвинула засов, осторожно, чтоб не звякнуть щеколдой, приотворила дверь и, припав ухом к узенькой щели, долго прислушивалась. Во дворе опять потемнело. Тоненький серпик месяца заволокло тучами. Снова, как и прежде, стояла над селом глубокая тишина. Неслышной тенью выскользнула Яринка во двор. Какое-то время постояла под кустом сирени, прислушиваясь и приглядываясь, и только когда убедилась, что никого поблизости нет, а шаги полицаев отдаются эхом где-то на околице, возле кузницы, решилась перейти в малинник. На беглеца она наткнулась сразу, чуть только ступила в кусты. Неподвижным холмиком он темнел среди полегших стеблей малины. Яринка склонилась над ним, провела рукой. Он лежал лицом к земле, может, убитый, а может, только без памяти. Раздумывать было некогда. Подхватив беглеца под мышки, Яринка перевернула его на спину и, к удивлению своему, легко оторвала от земли… И вот уже снова дверь на засове, а окна тщательно завешены. Снова мигает желтым язычком каганец. Так же тикают в звонкой тишине старенькие ходики и по-прежнему сладко и тихо, как ребенок, спит на печи дедушка Нестор, Но в хате теперь появился еще один человек. За пазухой у него, замотанный в белую тряпочку, лежал новенький пистолет «ТТ». Правое плечо оказалось насквозь простреленным. На груди зияла черная, рваная рана. Нижняя и верхняя сорочки, серенький пиджачок и даже пола ватного пальтишка — все пропиталось кровью. Лицо бледно-восковое, нос заострился, глаза закрыты. Но тело теплое и сердце в груди хоть и совсем слабо, чуть слышно, а бьется… В шкафчике нашелся пузырек давно забытого там йода, в печи в горшке еще не простыла вода, а в сундуке было много чистых, еще бабушкиных, слежавшихся полотенец. Через несколько минут раздетый, обмытый и туго перевязанный мальчик лежал, прикрытый одеялом. Он так и не пришел в себя. И только теперь, когда напряжение немного спало, Яринка решилась разбудить деда. Долгую минуту дедушка Нестор спокойно, без удивления, будто такое среди ночи случалось с ним не однажды, всматривался в лицо мальчика и наконец легонько вздохнул: — Ох-хо-хо! Достукались, иродовы души! С детьми уже начали воевать… Чуб у дедушки, борода и усы белые-белые и даже на взгляд мягкие, точно пух. А глаза большие и синие, как у ребенка. — Крови, видно, много потерял, — словно сам с собой рассуждал дед. — Ему бы чего-нибудь горячего к ногам да укрыть потеплее. Да напоить бы горячим молочком или чаем крепеньким с калиной или с малиной. А на лоб мокрую тряпочку — у него жар, видно, начинается. Дед, покряхтывая по-стариковски, неторопливо оделся, сунул ноги в теплые валенки. — Ты, внучка, растапливай печку, а я тряпки эти кровавые уберу с глаз подальше. Да и малины заодно наломаю… Прошло, наверно, больше часа, пока мальчик глянул на свет помутневшими глазами. Зрачки его были неподвижны, лишь веки дрогнули да затрепетали, словно крылья мотылька, ресницы. Яринка стояла около него с чашкой горячего, настоянного на малиновых веточках чая. Всматриваясь в восковое лицо, видела, как постепенно, будто возвращаясь откуда-то из бездонных глубин, яснеет взгляд и проступают на щеках еле заметные розовые пятна. И в тот момент, когда его взгляд, уже совсем прояснившийся, встретился с Яринкиным, девушка узнала мальчика. Ведь она не раз когда-то заходила к Гале Очеретной. И сразу возникло ощущение неловкости: «А может, я зря Галю обидела тогда… А что, если…» Яринка не додумала, переполненная жалостью к мальчику, который вот среди ночи, неизвестно почему и как, очутился на другом конце Скального. А Грицько тоже не отрывал прояснившегося взгляда от лица Яринки. Он тоже узнавал и, узнав, слабо усмехнулся. Выражение радостной успокоенности и облегчения появилось на его не по-детски напряженном, посуровевшем лице. — Галя, — слетело с посиневших губ, — Галя… «гвозди» в речке, на третьей свае… около Волковой плотины… Я… Он глубоко втянул в себя воздух, захлебнулся, и лицо его сразу перекосилось от нестерпимой боли. Взгляд снова погас, помутнел, и мальчик начал бредить. Он все время повторял про какие-то гвозди, утопленные близ Волковой плотины, про мыло в Стояновом колодце Казачьей балки. Забывал об этом лишь на короткое время, и то лишь для того, чтобы позвать Галю, остеречь от выстрелов маму или покликать маленькую Надийку. Не хотел или не мог выпить ни одного глотка чаю и, как ни подносила ему к губам ложечку Яринка, отворачивал голову. Слова его стали сливаться в неясное, слабое бормотание. Щеки покрылись пятнами, в горле заклокотало, и на губах вдруг выступила кровь… Глухой ночью, не приходя в себя, Грицько тихо скончался. В хате дедушки Нестора не спали до утра. Но никто — ни сам дедушка, ни Яринка — так и не заметили, когда из-за низких туч начал щедро сеяться первый в том году густой, пушистый снег. Шел он не прекращаясь, обильный и тихий, несколько часов подряд. И к утру, чуть только выкатилось из-за синего горизонта ясное солнце, все вокруг — поля, село, реку и даже черные пожарища и развалины — прикрыла девственно чистая, искристо-белая пелена.41
В полдень из города привезли двух собак-ищеек. Но они уже были не нужны. Глубокий снег запорошил все следы, искать типографию стало невозможно. А выловить людей Форст успел раньше. К концу операции он стал гораздо осмотрительнее. Отправив из совхоза к мастерской Максима первую машину, он сразу же приказал послать низом, напрямик через речку, трех полицаев и одного жандарма в засаду близ огорода Очеретных. Сам же на другой машине, как только заменили скаты, помчался через мост к МТС и там, уже в темноте, остановившись и приказав всем рассыпаться цепью, повел «наступление» на Галину хату. Правду говоря, он уже ни на что не надеялся. Даже и не думал, что как раз тут ему больше всего повезет. Сеньку внезапно оглушили чем-то тяжелым, когда он пробирался в заросли лозняка. Быстро связали руки, забили тряпкой рот и, оттащив в сторону от тропинки, бросили на мерзлуюземлю. Потом его вместе с Галей (ее схватили минут на пятнадцать позднее) втащили в кузов грузовика и повезли в полицию. Максим (Галя словно чувствовала это) успел уйти незамеченным всего за несколько минут до засады. Не задерживаясь, берегом подошел он к разрушенной Волковой плотине. Там долго ждал, пока совсем не стемнело. Потом, зная, что быстро двигаться не может, перешел по льду на другую сторону реки и просидел здесь еще час. Издали до него доносился приглушенный шум, в темноте возле станции несколько раз вспыхивали и сразу же гасли желтые полосы автомобильных фар. Не хотелось верить, что их там захватили врасплох. Уж кто-кто, а Сенька сможет ускользнуть от них. И все-таки чем дальше, тем больше Максима охватывала тревога. Он сдерживал ее, придумывал для собственного успокоения всевозможные объяснения. Мало ли по каким дорогам ушли его друзья из Галиной хаты. Все не предусмотришь. Может, горою пришлось убегать или еще как-нибудь. Возможно, Сенька давно уже на кладбище, ждет его возле склепа Браницких, а Галя с Грицьком где-нибудь далеко в степи, торопятся на хутор к тетке? Но и на кладбище у склепа Браницких Максим никого не встретил. Стараясь согреться, он прохаживался среди могилок и терпеливо ждал. Было уже далеко за полночь. Максим промерз до костей, передумал все, что только мог придумать, и мало-помалу убедил себя в том, что если Сенька не явился до сих пор, значит, он сюда вообще уже не явится. Ветер совсем утих. Тучи, ненадолго раздвинувшиеся, снова заволокли небо, и из мрака на замерзшую землю, на голые кусты и могилы посыпался непроглядно густой снег. Теперь, в снежной мгле, можно было проскочить незаметно куда угодно прямо под носом у врага. Но куда?.. Ни в мастерскую, ни к Гале, ни к родственникам своих товарищей, а тем более к Кучеренкам Максим вернуться не мог. И не только потому, что боялся засады! Нет! Он не хотел наводить на след, бросать тень на новых людей. А больше… больше ему здесь, на родной земле, кроме Яременко, сейчас идти некуда… Снег сыпал все гуще и гуще, холодными пластами оседал на плечи, спину, голову. Максим сначала стряхивал его, потом перестал. «Надо двигаться, — думал он. — До утра успею. Погреюсь, разведаю, что и как, а там…» Он вышел в степь и пошел холмами вдаль почти вслепую. Где-то уже далеко, за Казачьей балкой, перешел речку, вскарабкался на крутой береговой склон и пошел напрямик, вдоль железнодорожных лесопосадок. Идти было все тяжелее. Снег, вначале только припорошивший жнивье и озимь, становился все глубже, ноги вязли почти по щиколотку, но Максим упорно пробивался вперед. Шел, останавливался, прислушивался, отдыхая минутку, и снова шел… Он не представлял себе, сколько прошел и где находится. Чувствовал только, что блуждает уже, верно, несколько часов. Над степью сквозь густую пелену снега начал пробиваться серый, мутный рассвет. Все дальше и дальше в степь, медленно рассеиваясь, отступала от Максима темнота. И наконец совсем рассеялась. Незаметно, как-то вдруг, перестал идти снег. Еще не совсем рассвело, но степь, незапятнанно чистая, чуть-чуть подернутая сиреневой дымкой, расстилалась перед Максимом далеко-далеко, насколько хватал глаз, — до ясного, словно вымытого, горизонта. И нигде ни пятнышка на этой яркой белизне. Только за Максимом тянулся по бело-сиреневой степной равнине черно-синий глубокий след. Убегая от этого предательского следа, Максим взял круто вправо, и снова с фатальной неумолимостью след потянулся за ним вдогонку. — Так… — Максим остановился, вытирая ладонью взмокший лоб. И, не петляя уже, не оглядываясь, подался вперед. Синий след, не отрываясь, будто привязанный, потянулся за ним верным псом. По этому следу и нашли его получасом позже жандармы и полицаи, патрулировавшие на ручной дрезине дорогу. Когда Максима привели в полицию, Володя Пронин был уже там. Его забрали еще ночью. Местности Володя совсем не знал и, оказавшись ночью в степи, долго бродил, выбиваясь из сил, по холмам и оврагам, пока не захватил его в поле снег. Измученный, ослепленный непроглядной снежной завирухой, он совсем запутался в белой круговерти и, побродив еще с час, пришел почти на то же самое место, откуда начал свои странствия, — попал прямо в руки к Дуське и Веселому Гуго. Он набрел на них, тоже ослепленных снегом, недалеко от сожженной конюшни. Столкнулся грудь с грудью, так что ни отступать, ни бежать было некуда. Они так и вцепились в него разъяренными псами. Хорошо хоть, что ненужный уже автомат он успел потихоньку выпустить из рук. Он остался где-то там, засыпанный снегом и никем не замеченный. Листовка, которая должна была появиться в эту ночь, запутать жандармов и помочь выпутаться Лене Заброде, так и не была отпечатана. За теми, кто мог и должен был ее выпустить, наглухо закрылись двери тюрьмы… Мгновенная, трагически короткая вспышка молнии во мраке — и затем еще непрогляднее, еще чернее ночь… И все-таки Форст понимал, что торжествовать ему еще рано. Он знал, что конец чего-то одного может таить в себе начало другого, что вспышки молний всегда предвещают большие грозы.42
От непонятной ему самому тревоги и нетерпения оберштурмфюрер не мог дождаться, пока стемнеет, — приказал первым привести на допрос Максима. Допрос происходил в том же кабинете, где перед тем пытали Горобца. Тот же большой стол посреди комнаты, тот же стул перед ним и затененная бумажным абажуром лампа, кресло, в котором удобно устроился Форст, поблескивая золотыми зубами. И все-таки что-то изменилось. Что-то появилось новое, хотя, на первый взгляд, и неуловимое. Левая рука Форста туго забинтована. А правой он, сам того не замечая, нервно выстукивал какой-то нескладный мотивчик. У Максима руки были свободны. Жандармы отобрали у него суковатую грушевую палку, с которой он никогда не расставался, и теперь Максим прихрамывал заметнее, чем обычно, с непривычки не зная, куда девать руки. Привели его на допрос Дуська и Веселый Гуго. Открыв дверь, Максим задержался на секунду на пороге, окинул быстрым взглядом комнату, понял и оценил обстановку и, не дожидаясь приказа или приглашения, пошел, припадая на ногу, прямо на Форста, к столу. Заранее зная, что пустой стул предназначен для него, повернул его, опять-таки не дожидаясь приглашения, чуть наискось и, отодвинув подальше от стола, сел, вытянув вперед искалеченную ногу. Откинувшись назад, оперся о спинку стула, положил сильные руки ладонями вниз на колено здоровой ноги и только потом, внимательно, не скрывая интереса, взглянул прямо в лицо Форсту. Смотрел не мигая, спокойно и вопросительно, как человек, который ждет без нетерпения и тревоги, чтобы ему объяснили, зачем его сюда привели. Этот взгляд захватил Форста врасплох. Только теперь он вдруг заметил, какую нервную дробь выбивала на столе его рука. Оборвав постукивание, убрал зачем-то руки под стол, чувствуя разом и досаду на себя и непонятную еще, почти беспричинную, «непрофессиональную» злость на того, кого он собирался допрашивать. Хищная золотозубая усмешка из-за притененной абажуром лампы запоздала, получилась не в меру деланной и на Максима не подействовала. Форст это понял сразу. «Не смей! Отвернись и гляди в землю!» — вдруг захотелось ему крикнуть на Максима, чей взгляд все больше выводил его из себя. Однако Форст сдержался. «Удивительно, — подумал он про себя, — я как будто нервничаю». — Вот что, пане Зализный, или, если вам так больше нравится, товарищ Зализный, прошу прощения за беспокойство, но должен вас предупредить абсолютно откровенно — вас выдали. Выдал один человек, который сидит тут у нас… вы будете иметь с ним очную ставку… и одна женщина, которую мы оставили на свободе в качестве приманки. Одним словом, я хочу, чтобы вы со всей серьезностью уяснили себе одно: мы знаем все. Лицо Максима оставалось непроницаемым. Он слегка подался вперед и, не отрывая взгляда от Форста, чуть заметно, одними уголками губ, усмехнулся. — Что касается этого, пане… извините, не знаю вашего чина, у меня нет никаких сомнений. Я уверен, что вы знаете все. Да так оно и должно быть. Но, к сожалению, я-то ничего не знаю и, заметьте, абсолютно ничего не понимаю. Сказано это было таким ровным, искренним и даже несколько наивным тоном, что Форст даже заколебался. На какой-то миг ему удалось сдержать злость и вернуть свою обычную наигранную словоохотливость. Опять сверкнула широкая золотозубая усмешка. — Вот что, голубчик, послушайте моего искреннего совета — и вам же лучше будет. Вы знаете, за что вас арестовали. Не надо притворяться, затягивать дело и доводить себя до ненужных… гм… как бы это сказать… эксцессов. Я человек мирный. Предпочитаю, чтоб все было без истерики, без скандала, и не терплю, просто видеть не могу крови… — Удивительное совпадение! — уже открыто усмехнулся Максим. — И я тоже! Вот только не могу понять: чем бы я мог быть вам полезен? Уловив в этих словах иронию, Форст снова разозлился и, не сдержавшись, грохнул кулаком об стол. — «Молния»! Нас интересуют кое-какие подробности о «Молнии». Рассказывайте! Сейчас же! — Молния? — В Максимовых глазах мелькнул и сразу погас огонек не то насмешки, не то удивления. — Видимо, я не так понял? При чем тут молния? — Вы меня очень хорошо поняли. — Может быть. Но ведь… молния… А не лучше ли было бы обратиться с таким вопросом непосредственно к специалистам? — Каким таким специалистам? — насторожился Форст. — Ну, для начала Ломоносов, Франклин… Да в любой энциклопедии, если ее раскрыть на слове «молния»… Форст вскипел и — чего с ним на допросах не случалось — вскочил на ноги. — Слушайте! Я бы не советовал вам шутить в вашем положении… — Нет, отчего же? — искренне удивился Максим. — Я просто к тому, что сейчас вроде бы и правда время не то, чтобы самообразованием заниматься. Но если вы хотите, чтобы я, так сказать, своими словами… то пожалуйста! Молния — это обычное в наших широтах, однако очень сложное явление природы. У наших крестьян есть по этому случаю даже старинная поговорка: голыми руками молнии не возьмешь… — Довольно! — Форст медленно опустился в кресло и сдержанно, с холодной злостью процедил: — Вы сами очень хорошо знаете, что мы ее уже взяли. И… потом… я вас предупреждал по-хорошему. Таким образом… Таким образом, не моя будет вина, если… если ты… вынужден будешь все-таки заговорить. Форст подал незаметный знак Гуго и Дуське. Этот знак Максим скорее почувствовал, чем заметил. Почувствовал потому, что знал: так должно быть, готовился к этому. Ни тюрьма, ни этот допрос не поразили Максима. Он был готов ко всему, что ожидало его. Когда Гуго, подскочив сзади, схватил Максима за правую руку, чтобы заломить над головой, Максим мгновенно засунул для равновесия здоровую ногу под ножку тяжелого стола. Потом дал возможность жандарму отвести свою руку немного назад и неожиданно для Гуго одним движением сильных, натренированных мускулов рванул его на себя. Пораженный и разозленный отпором, Гуго клещом вцепился обеими руками в руку парня. Но Максим недаром гнул железо, фехтовал и крутил «солнце». Согнутая в локте рука его стала железной. Гуго уперся ногами в пол, согнулся, напрягаясь изо всех сил, тянул к себе, но разогнуть руку Максима так и не смог. А тот, выждав, вдруг молниеносно отпустил руку, и Гуго, никак того не ожидавший, грохнулся на пол. В тот же миг Дуська, попробовав вцепиться в левую руку Максима, легким перышком перелетел через всю комнату, до самой стены. Для него хватило короткого, почти незаметного толчка в грудь. Форста будто пружиной подкинуло с кресла, он схватился за кобуру. Люто заревел, поднимаясь с полу, Веселый Гуго. Откуда-то от самых дверей заверещал Дуська. Казалось, еще минута — и Максима пристрелят, растопчут, разорвут на куски. Но и на этот раз Форст неимоверным усилием сдержался. Оторвав руку от кобуры, он вдруг высоко задрал голову и громко, неестественно весело расхохотался. Гуго и Дуська так и застыли там, где застал их этот неожиданный приступ веселья, и долгую минуту смотрели на своего шефа как на сумасшедшего. А Форст хохотал все сильнее. — Гут! Зер гут! — отрывисто кидал он, захлебываясь смехом. — Гут, партисан! Очень карашо, партисан! Ох-хо-хо-хо! И так же неожиданно, как начал, оборвал смех, сказал: — Ну, хватит. На сегодня достаточно! Надеюсь все-таки, что мы еще договоримся. — И, как бы подчеркивая свое превосходство, уверенность в своих силах, добавил: — Отведите в камеру. И чтоб там никто его и пальцем не тронул. Что ни говори, а мужество надо уважать. Я по крайней мере привык уважать мужество. Нравятся мне вот такие боевые парни! Бросался бодрыми, даже веселыми словами, но глаза с холодной злобой и едва скрытой растерянностью смотрели Максиму вслед. «А что, если все они окажутся такими?» — подумал со страхом Форст. И мысль эта была еще страшнее оттого, что он все больше и больше убеждался: задержанные и есть те самые, за кого он их принимает, та «Молния», которую (как выразился только что этот калека) «голыми руками не возьмешь».43
Уже первые допросы показали, что его предчувствия сбываются. Леня Заброда широко усмехался своей детски искренней улыбкой и удивленно пожимал плечами. Клей? Да! Его клей. Вернее, их, они заклеивали на зиму окна в теткиной хате. А при чем тут какие-то листовки, он просто не понимает. И на станции он, конечно, был. Шел в МТС. Все ведь знают, что он там работает. А сейчас самый ремонт в разгаре — тракторы починяют. Ну, ясное дело, слышал — кричит сзади кто-то, так ведь и не подумал даже, что это ему. А на паровоз вскочил, чтоб не обходить. Что-то в топку бросил? Что же бросать, если в руках ничего не было? А вот когда стрелять начали, он, конечно, остановился. И сам пошел навстречу… Леня отвечал на вопросы скупо, сдержанно, степенно. А Сенька Горецкий — тот заговорил охотно, даже весело: — Вот я вам сейчас все расскажу, вы только послушайте… Рассказывал Сенька много, но только не о типографии и не о «Молнии». Он так горячо и так уверенно обосновывал каждый свой шаг, каждое слово и поступок, что минутами Форсту начинало казаться: а может, этот словоохотливый, простоватый паренек действительно ни к чему не причастен? А Сенька без умолку все выяснял, объяснял, время от времени выражая удивление и даже негодование, что вот его, человека, который день и ночь у всех на глазах, на немецкой работе, вообще могли арестовать! Разве что с кем другим по ночному времени спутали… Галя Очеретная перед допросом очень боялась. А когда переступила порог кабинета, вся сжалась в комок. Форст это сразу заметил и, чтобы окончательно запугать девушку, накинулся на нее с бранью и угрозами: мы, дескать, тебе такую работу дали, доверили, а ты… И тут — совершенно неожиданно для него — Галя вдруг рассердилась… Куда и страх подевался! — На черта ей сдалась эта работа! — закричала она. — Пускай они подавятся этой работой! И пусть лучше скажут, за что ее арестовали! Ведь они сами хорошо знают, и шпион их Панкратий Семенович тоже: в типографии той, чтоб ей провалиться, не то чтобы печатать, а дотронуться до литер нельзя. Так для чего же было ее арестовывать и детей сиротить? Мало того, что мать убили?.. — От обиды и лютой ненависти Галя заплакала. Петр поразил своим апатичным, как подумал про себя Форст, равнодушием. Невозмутимо, флегматично он твердил одно: он действительно Петр Нечиталюк, а больше ничего не знает и не понимает… Он и правда мало что понимал. Форст, раздражаясь, так калечил и уродовал и русский и украинский язык, что Петр понимал его речь только с пятого на десятое. — Кто ты такой и откуда? — Не понимаю. — Национальность? — Украинец. — Да какой же ты украинец? — Украинец. — Да ведь ты и говорить по-украински не умеешь. — Украинец, украинец… А Володя Пронин решил твердо идти напролом и ни в чем не хитрить. — Да, я из окруженцев, — сказал он Форсту. — Военный врач. Остался тут для того, чтобы лечить и выхаживать раненых красноармейцев. Этим тут, в Скальном, и занимался. Больше ничего не знаю и знать не хочу. И, чтобы в дальнейшем не было между нами никаких недоразумений, предупреждаю заранее: ни на один ваш вопрос отвечать не буду! И Форсту оставалось только скрывать свое бессилие да злобно удивляться. Эти юнцы, по существу дети, встали перед ним какой-то глухой, непреодолимой стеной. Он снова и снова думал в тревоге: «А не наделал ли я в самом деле сгоряча непоправимых глупостей?» Именно теперь, когда они все были у него в руках, когда он мог делать с ними все, что захочет, — именно теперь Форст утратил всю свою самоуверенность. Да, это ему не Горобец. Форст знал уже точно — тайну типографии у них не вырвать ни за что, никакими силами. «„Молнию голыми руками не возьмешь“, — с досадой вспомнил он Максимовы слова. — Ну что же, может быть, и так, но вы у меня еще запоете, птенчики! Не возьму? Тогда я из вас эту „Молнию“ выбью!»44
К ним никого не допускали. Никому из родных и знакомых ничего о них не говорили. Когда через два дня выпустили, по приказу Форста, из тюрьмы Марию Горецкую, ей даже не сказали, что Сенька арестован и сидит тут же, в полиции. Никто толком не знал, за что их арестовали и отчего поднялась вся эта кровавая кутерьма. За что убили маленького Грицька, и окруженца Степана, и бабку Федору, почему сожгли совхоз и Курьи Лапки. А Форст тем временем все допытывался о связях, о типографии и со злобой и яростью выбивал из арестованных «Молнию». Связей у них, собственно, не было никаких. Никто никого не мог предать, даже если бы и не выдержал пыток. А что касается типографии, так ведь все, кто имел к типографии хоть малейшее отношение, все были уже в тюрьме. Конечно, они могли бы сказать: все мы тут, никакой специальной типографии нет и не было, а делалось все очень просто — вот так-то… И все. И пусть даже смерть, но с нею настал бы конец страданиям и мукам. Но никто из них не подумал об этом. Пока живы, пока в руках у них есть оружие, они должны бороться. Это оружие — их тайна, их типография. До последней минуты, до последнего своего дыхания они будут надеяться, что еще используют когда-нибудь это оружие… Самой большой, самой заветной мечтой их было: пусть хоть кто-нибудь из них спасется, выберется из Форстовых лап и наперекор всем жандармам, всем эсэсовцам выпустит листовку, пусть даже только одну… Но не одна только эта надежда поддерживала их. Им придавала силы еще и мысль, уверенность в том, что они хотя и были на воле плохими конспираторами, но тут, в тюрьме, тут они должны остаться и останутся победителями. Они молчат и будут молчать до самой смерти. Молчать, гордясь тем, что самого важного, самого основного жандармы не знают и так никогда и не узнают. Тут жандармы со всей своей силой и властью бессильны. В камере они помогали друг другу как могли. На допросах держались независимо и с достоинством, пока не теряли сознание от нечеловеческих мук. Всегда кичившийся своей уравновешенностью, Форст в в конце концов потерял выдержку. Он стал нервничать, срываться. И, уразумев наконец, что может забить их всех до смерти, но так ничего и не выпытать, решил изменить тактику — поселить между ними недоверие, «расколоть» изнутри… Начал он с Гали. Девушка сидела отдельно от всех, в одиночной камере вспомогательной полиции, и ей, наверное, было тяжелее всех. Встречалась она с товарищами только изредка, случайно, большей частью на допросах. Форст приказал привести к себе девушку как-то среди дня. — Ну вот, деточка… Будем с этим кончать наконец, — сказал он будто спокойно, равнодушно. Галя насторожилась. Эта настороженность не укрылась от жандарма. — Варька рассказала мне все. А потом уж, делать нечего, «раскололись» и все ваши товарищи. Сначала Галя не поняла даже, о чем он говорит, и, пересиливая себя, попробовала улыбнуться. — Не знаю ни о какой Варьке… И не слыхала никогда… — Не только слышали, но и очень хорошо знаете! Это та самая Варька, с которой у вас была встреча в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое ноября у МТС. Вы сами это очень хорошо помните. Форст говорил равнодушно, как о чем-то совсем неинтересном. А Галя сразу все вспомнила и содрогнулась. «Так это та, что встретила меня ночью и невесть что плела про полицая Квашу? Выходит, ее Варькой зовут? И она, наверно, все время следила за нами? Значит, он и вправду знает что-то…» За все время следствия Форст в первый раз заговорил с Галей вежливо, обращался на «вы». Это тоже было подозрительно и опасно. «Что-то выведал», — с горечью подумала Галя. А Форст продолжал тихо, даже сочувственно: — Нет, нет, не думайте, что я вас провоцирую. Что я снова буду вас допрашивать… Нет! Мне уже совсем ничего не нужно. Просто вызвал вас формальности ради. Может, имеете что заявить? Нет? Тогда я вас отпускаю. Можете отдыхать… И тут бы Форсту, заронив в душу девушки первое сомнение, остановиться. Но, выбитый из колеи, он уже плохо следил за собой. — Да и потом, если хотите, ваше положение просто по-человечески вызывает у меня сочувствие. Правду говоря, я был чрезвычайно поражен поведением ваших товарищей. Никогда бы я не подумал, что они так… я бы сказал, дружно станут валить все на одну вас… Но… об этом потом… Идите отдыхайте. Форст не отрывал взгляда от Гали, но ничего на ее лице не прочитал, хотя в груди у нее все ожило, затрепетало от радости. «Брешет, все брешет, мерзавец! И сам себя выдает!» — подумала девушка, успокаиваясь. На этот раз Форст не заметил изменения в ее настроении. «Поверила! Лед тронулся! — подумал он, довольный собою. — Теперь — в одиночку и дня два не трогать. Пускай думает, терзается сомнениями». В официальном, так сказать, следствии Варька была упомянута впервые. Ей и не снилось, что жандармы, полицаи и даже собственный муж считают ее чуть ли не самым главным участником подпольной организации. И она спокойненько разгуливала себе на свободе, стряпала в кустовой комендатуре. Для оберштурмфюрера она была приманкой, червячком, который и не догадывается, что давно уже посажен на крючок. Оставляя Варьку на воле, Форст чуть ли не самого себя хотел перехитрить. Хотел, чтоб никто из тех, кого он пока еще не обнаружил, не догадался, что раскрылось все именно через Варьку. И чтоб именно через нее, если от арестованных ничего не добьется, распутывать дальше клубок «Молнии», держаться за эту ниточку, и она непременно приведет его к типографии. За Варькой следили, наблюдали за каждым шагом, к каждому ее слову прислушивались и родной отец, и собственный муж, и два любовника… В свою очередь за Квашей следил дружок Дементия, полицай Оверко, а за ними двумя пристально наблюдал Дуська. А уж за всем этим тесно сплетенным клубком — сам Форст. На допросы Галю больше не вызывали и стали прилично кормить. Делал это Форсг демонстративно, так, чтобы заметили остальные. Чтобы убедились — Галя «раскололась». Изолировав таким образом девушку, Форст поместил всех ребят в одну очень тесную и холодную камеру, посадил на голодный паек, по два дня не давал ни хлеба, ни воды. Расчет его был прост: уже от того только, что они невольно в этой тесноте будут толкаться, задевать и бередить свои раны, — от одного этого они в конце концов возненавидят друг друга. А он неторопливо, опытной, уверенной рукой будет усиливать и направлять этот процесс. Дрожжами в тесте должен был стать Савка Горобец. Подсадив Савку к ребятам, Форст на другой же день «подбросил» через Квашу доказательства того, что это именно он, Савка, выдал Горецкого. Как угодно, любым способом, но внести в камеру распрю и злобу. Пусть все это сначала обратится только против Савки, один вид его, изменника и провокатора, станет возбуждать их ненависть. Эта ненависть разъест их, как ржа железо. Пусть они мстят Савке, пусть (как раз на это Форст и рассчитывал) Савку задушат, убьют. Пусть. Савки не будет, а ненависть останется, будет искать выхода и наконец в тесноте, боли, холоде, голоде неминуемо выльется на своих. И снова насмерть перепуганного Савку стали водить на допросы. Били, заставляли доносить обо всем, что делается в камере, учили, что говорить на очных ставках. И он покорно бормотал ребятам при Форсте, что своими глазами видел, как Сенька напихивал людям полные карманы листовок, как Галя передавала листовки Варьке и как Максим к этой же Варьке привозил ночью какие-то «железные машины». Форст делал вид, что искренне во все это верит. И после очных ставок приказывал отнести Савке еды повкуснее, а главное — поароматнее. Полицаям приказано было следить, чтобы Савка съедал свою порцию сам, на глазах у голодных ребят. И Савка ел. Ел, трясясь всем телом от жадности, давясь, чавкая… Уже за одно это можно было его возненавидеть. Но и этих фокусов Форсту показалось мало. Он сфабриковал протокол, в котором якобы со слов Гали было записано, что она выносила из типографии готовый набор и передавала Максиму. А Максим где-то (где именно — она не знает) печатал листовку и возвращал набор обратно в типографию. Каждый день Форст по два и по три раза вызывал к себе двух, а то и трех ребят на допрос. Сначала приводили Леню. Форст «допрашивал» его минут двадцать — тридцать, а затем Гуго с Дуськой вводили в кабинет Максима и Сеньку. Ребят ставили в угол, лицом к стене, а Форст, будто продолжая спокойный, давно уже начавшийся разговор, негромко, но четко выговаривал каждое слово: — Итак, гражданин Заброда, вы говорите, что в то утро Зализный послал вас передать пачку листовок Пронину? Так и запишем! Листовки эти вы вынуждены были бросить в топку паровоза, потому что… — Ничего я не говорил и не скажу, — бросал Леня. — Брешете вы все! Но Форст не обижался. Слова его были адресованы Максиму и Сеньке. Именно в их души хотел он заронить недоверие к Лене. А еще через несколько часов или следующей ночью Форст уже сеял зерно сомнения в Ленину душу. Да, Форст готовил свое адское варево со знанием дела, с учетом психологии и всех возможных слабостей человеческой натуры. Изготовил, поставил на огонь страданий и страстей и поджидал, пока оно закипит. Ждать спокойно у него не хватало времени — торопило начальство. Час проходил за часом, день за днем, а в поведении арестованных не замечалось никаких перемен. По-прежнему стояли они твердо на своем, по-прежнему спокойно и тихо было в камере. Никто ни с кем не ссорился, не кидался с кулаками, и никто по-прежнему не пытался убить Савку Горобца. На пятую ночь Форст не выдержал и решил собственной персоной явиться в тюрьму и самому проверить, что там происходит. Стояла глухая декабрьская ночь. Мороз свыше тридцати градусов зло щипал щеки. Скрипел под ногами сухой снег. Шропп, Гуго и Дуська проводили Форста до тюрьмы, а сами остались в теплом кабинете начальника полиции. В ту половину здания, где были камеры, с оберштурмфюрером пошел один только Туз. Осторожно приотворив двери, они зашли в узкий, темный коридорчик и прислушались. Холодно тут было, как в ледяной пещере, и тихо, как в могиле. За глухими дверями камеры никто не ругался и не дрался, даже голоса не подавал. «Неужели они могли заснуть на таком холоде?» — подумал Форст. На цыпочках он неслышно подкрался к двери, осторожно приложил ухо к холодному ржавому железу. Долго, внимательно вслушивался, пока наконец не уловил: в камере что-то тихонько, чуть слышно журчало тихим лесным ручейком. И только если сильно напрячь слух, можно было распознать в этом журчании человеческий голос, даже отдельные неразборчивые слова. В камере беседовали. Собственно, не беседовали, говорил кто-то один. Да словно и не говорил, потому что слишком уж плавно и ровно, действительно как ручеек, текла его речь. Пел? Нет, на песню это не похоже. Тогда… Неужто и вправду там, в этом ледяном аду, во мраке, кто-то еще мог читать стихи?45
Да, Форст не ошибся. В кромешной тьме ритмично лился, журчал весенним ручейком слабый и все-таки страстный Максимов голос:Я не затем, слова, растила вас
И кровью сердца своего поила,
Чтоб вы лились, как вялая отрава,
И разъедали душу, словно ржа.
Лучом прозрачным, лунными волнами,
Звездой летучей, искрой быстролетной,
Сияньем молний, острыми мечами
Хотела б я вас вырастить, слова!
Чтоб эхо вы в горах будили, а не стоны,
Чтоб резали — не отравляли сердце,
Чтоб песней были вы, а не стенаньем.
Сражайтесь, режьте, даже убивайте,
Не будьте только дождиком осенним,
Сжигать, гореть должны вы, а не тлеть! [4]
…В первый же день, как только их посадили в одну камеру и полицай шепнул, что это Савка их выдает, Максим сразу насторожился. А приглядевшись к истерзанному, потерявшему человеческий облик Савке, предупредил товарищей: — Ребята! Им зачем-то нужно натравить нас на него. Ясно? А когда их стали убеждать, что Галя не выдержала и «раскололась», Максим сказал: — Ясно! Какой-то философ утверждал: когда человек перестает верить товарищу, он перестает верить себе. И тут уже всему конец. И обломком кирпича, случайно попавшимся ему в руки, нацарапал на стене: «Но пасаран!» Максим сразу же установил в камере строжайшую дисциплину и режим. Каждый, несмотря на тесноту, по нескольку раз в день должен был делать зарядку (разве уж так был избит, что и подняться не мог). И каждый в течение суток, независимо от настроения или состояния, должен был непременно рассказать своим товарищам не менее двух интересных историй из своей жизни или вычитанных из книг. Девизом и программой группы стало: «Все за одного, один за всех!» Твердым, нерушимым законом: «Еду — самому голодному, тепло — самому слабому. Сам погибай, а товарища выручай!» Максим большей частью рассказывал о великих людях, о подвижниках духа, творцах и изобретателях. Леня порывался в космос, в межпланетные путешествия. Сенька чуть не дословно запомнил целые тома приключенческих и шпионских романов. Володя увлекался полководцами (а вовсе не Пироговым и Пастером). Петр раскрывал товарищам сокровища восточных сказок и легенд. Кромок того, каждому разрешалось рассказать о своем крае, о родных и близких, о своем детстве и своих мечтах. Но хочешь не хочешь, а наставало время, когда все должны были выговориться, притомиться и умолкнуть. А ночи, нестерпимо холодной и голодной, конца-края не видать. И тогда выручал Максим. Он начинал читать стихи:
Коль взор я поднимаю к небосводу,
Светил там новых не ищу, тоскуя;
Увидеть братство, равенство, свободу
Сквозь пелену тяжелых туч хочу я,
Те золотые три звезды, чей свет
Сияет людям много тысяч лет…
И тернии ли встречу я в пути
Или цветок увижу я душистый,
Удастся ли до цели мне дойти.
Иль раньше оборвется путь тернистый,—
Хочу закончить путь — одно в мечтах —
Как начинала: с песней на устах! [5]
Спасаясь так и оберегая друг друга, ребята не обходили и Савку Горобца. Разумеется, они знали, что Савка вел себя в тюрьме не только не мужественно, а просто гадко, знали, что как-то он причастен все же к их аресту, — а на Форстов крючок не пошли, не поймались. Когда полицаи кормили Савку и он по-животному жадно чавкал, а они корчились от боли в голодных желудках, не ненависть, нет, жалость рождалась в их чистых сердцах. А ненависть… ненависть они оставляли для других, для тех, кто пал так низко, что мог довести человека до такого состояния. Поначалу, оказавшись в одной камере с незнакомыми ему ребятами, Савка ни на что не обращал внимания. Собственно, он и не жил уже, а только существовал. Стонал и кричал, когда его били, ел, когда давали, и говорил только то, что приказывали. И все-таки какая-то искорка тлела еще в нем и даже однажды вспыхнула в этом измученном побоями человеке. Случилось это на третий день их пребывания в общей камере, сразу после трехчасового допроса, на котором Форст с помощью «свидетельств» Савки старался как можно крепче связать окруженцев с Максимом и типографией. У Гуго с Дуськой в тот день работы было достаточно — били Савку, били Максима с Володей, били Сеньку, но больше всего били Петра. Окровавленного, бесчувственного, его окатили с головы до ног водой и бросили в камеру. Мокрая одежда сразу задубела, надо было немедленно спасать парня. Его раздели и, поделившись кто чем мог, переодели в сухое. Тесно прижавшись, отогревали своими телами, дышали на руки, осторожно растирали грудь возле сердца, пока наконец Петр не отошел и не открыл глаза. А потом подтащили Петра в угол, привалились к нему со всех сторон, опять согревали. Он сидел, свесив голову на грудь, и тяжело, прерывисто дышал. В этот момент широко распахнулась дверь, вошли Гуго, Оверко, Дуська и Кваша. Они принесли Савке еду — полный котелок горячего, пахучего варева из пшена, картофеля, капусты и еще каких-то овощей. Как и прежде, они усадили Савку на пороге, поставили перед ним котелок и дали в руки ложку. Дуська встал у него за спиной, Кваша и Оверко — возле двери, а Гуго — чуть дальше, в темном узеньком коридорчике. Казалось, вся тюрьма наполнилась запахом вареной картошки, и от этого запаха — палачи знали — у узников начнет сводить желудок от боли. Один Савка оставался глухим ко всему, что тут происходило. Торопливо, обеими руками придерживая ложку, он жадно ел и громко чавкал. Немного приглушив горячей пищей голод, Савка, видимо, случайно, оглянулся. Оглянулся и… так и застыл с повернутой в сторону головой. Парни сидели, крепко стиснув губы и сжав кулаки. Они опустили головы, отвернулись, даже зажмурились, чтобы ничего не слышать и не видеть. И только Петр исподлобья, пристально глядел на Савку. Что-то страшное было в этом горящем, обжигающем взоре, и Савку вдруг будто насквозь прожгло, пробудило ото сна. Он испуганно отвернулся. Казалось, впервые за все эти дни Савка понял, где он и что с ним делается. Что-то дрогнуло в Савкиной груди под ненавистно-голодным обжигающим взглядом Петра, — казалось, оборвалось сердце. Савка снова зачерпнул ложкой из котелка, но ко рту ее не поднес — не слушалась рука. — Ишь, стерва, налопался так, что и не лезет! — злобно выругался Дуська. Полицаи исчезли, грохнув железной дверью. Казалось, все шло как прежде. И все-таки что-то изменилось. Что-то произошло с Савкой. На следующий день Горобца после допроса бросили в камеру избитым и бесчувственным. И уже его, а не Петра обогревали своими телами и спасали от смерти узники. Придя в себя, Савка не мог уже не удивляться тому, что вот они и его спасают и согревают. Он все теперь замечал и — думал, не мог не думать. Савка все больше убеждался в том, что эти мальчики, которые в дети ему годятся, совсем не такие, как он. Они живут в этом аду своею жизнью, бесстрашно делают свое дело. Нет, тюрьма не пришибла их. Да что там! Кажется, даже самое страшное их не пугает. Неужто в самом деле они ничего не боятся? Так понемногу стала отогреваться темная Савкина душа. Будто вместе с теплом своих тел ребята передали ему и какую-то частичку своих смелых душ. И уже не такой страшной стала казаться Савке смерть, впервые он решился на какое-то противодействие своим палачам. Пусть этой Савкиной смелости поначалу не на много хватало, но только поначалу. Тяжелее всех переносил голод и холод Петр — он совсем ослаб и обессилел. И Савка, чтоб хоть немного искупить свою вину перед ребятами, решил: будь что будет, а надо изловчиться, обмануть своих палачей и припрятать хотя бы картофелину, хотя бы кусочек хлеба для больного Петра. Форст все еще на что-то надеялся, даже после того, как подслушивал ночью под дверью камеры. Как раз после этого он приказал совсем ничего не давать ребятам, даже воды. И вот на шестой день, когда у ребят уже вторые сутки капли воды во рту не было, Савке принесли особенно пахучий обед и большой кусок белого хлеба в придачу. И Савка решил рискнуть. Хлебнув несколько ложек, он разломил краюху пополам и довольно ловко сунул один кусок за пазуху уже истлевшей, засаленной стеганки. Но разве могло что-нибудь укрыться от зоркого Дуськиного ока? Мигом все поняв, ястребом налетел он на Савку, опоясал его по плечам нагайкой и вырвал из-за пазухи хлеб. И тут вдруг произошло нечто необычайное. Савкины глаза засверкали, лицо злобно перекосилось. Он отпихнул от себя Дуську и швырнул через голову, в камеру, на ребят, оставшийся у него в руках кусок. Дуська стремглав кинулся в камеру. Но не успел. Хлеб, мгновенно разорванный на кусочки, уже оказался в голодных ртах, и Дуська, растерявшись, неподвижно застыл посреди камеры, не зная, на что решиться. Воспользовавшись этим, Савка бросил и другой кусок. На этот раз Дуська изловчился, перехватил хлеб и выскочил в коридор, на ходу пнув сапогом Савку под бок. Савка взвился от боли и в ярости, ослепнув от злобы и ненависти, швырнул вслед, Дуське котелок. Пшено, картошка, капуста — все разлетелось по цементному полу. Савку нещадно избили, о его поведении немедленно было доложено Форсту. И вот Савка опять в страшном кабинете. Сидит перед столом со знакомой до отвращения лампой, чернильницей и мраморным прессом. За спиной у него Веселый Гуго и Дуська. А за столом Форст. Он уже не улыбается, не поблескивает золотыми зубами, он брызгает пеной и выливает на голову Савки поток грубой ругани и самых страшных угроз. Но Савка не отвечает на вопросы. Сжавшись в клубок и втянув голову в плечи, он непривычно молчит, ощетиненный, видно, готовый ко всему. Страшное, отекшее, обросшее бородой лицо его покрылось пятнами, а за узкими щелками глаз прячется что-то до беспамятства яростное, жгучее, острое, как лезвие. Савка упрямо молчал. Так упрямо, что Форст наконец не выдержал этого молчания. Вскочив на ноги и обежав вокруг стола, он остановился перед Савкой и наотмашь ударил его унизанным перстнями кулаком в подбородок. Голова Савки подскочила кверху, как неживая, и сразу же упала на грудь. Форст замахнулся снова, но ударить уже не успел. Собрав все свои последние силы, Савка бросился на Форста. Метил он в горло, но не рассчитал и обеими руками вцепился в воротник френча. Он скрутил его со всей силой, с последней, дикой энергией так, что Форст даже захрипел. Стягивая воротник со всей ненавистью, которую вызывала в нем золотозубая рожа, Савка повис на Форсте и вместе с ним повалился на пол. Остолбенев от неожиданности, Веселый Гуго на какую-то секунду замер у стула. Потом кинулся отрывать Савкины руки от Форстова воротника. Но оторвать не мог. Свирепо бил полумертвого Савку по голове кулаками, коваными сапогами пинал в грудь и в живот. Но и это не помогало. А Форст уже хрипел и задыхался. Тогда Веселый Гуго схватил со стола мраморный пресс и, размахнувшись, ударил Савку в висок. Савка обмяк, тело его конвульсивно дернулось, и он затих. Но и после этого нелегко было Гуго оторвать скрюченные Савкины пальцы от воротника эсэсовца… И вот он лежит на полу, этот неприкаянный пьянчужка Савка Горобец, мертвый, лицо залито кровью. А над ним белый, как стена, с вытаращенными от испуга глазами стоит Форст. Тяжело отдуваясь, растирая шею левой рукой, он никак не может опомниться от удивления, что так вот закончился его хитроумно задуманный «психологический эксперимент». Всем своим существом чувствует, что и типография, и «Молния», и все большевистское подполье так же недосягаемы для него, так же далеки, как и в самом начале этой, казалось бы, такой несложной истории.
46
Уходили последние дни декабря. Приближался новый, тысяча девятьсот сорок второй год. Начальство из гебита не понимало, что случилось с оперативным и проницательным Форстом. Начальство торопило, а следствие явно зашло в тупик, тянуть с ним дальше не имело смысла. Теперь уже просто из упрямства старался Форст выбить из арестованных хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь крохи, только бы ускорить свое уязвленное самолюбие и реабилитировать свою «профессиональную честь». Уже не для фюрера, а для себя самого хотелось ему приподнять хоть краешек завесы над этой таинственной «Молнией». Так и не дождавшись, пока клюнет кто-нибудь на его приманку, Форст решился наконец арестовать Варьку. Но Варька только подтвердила все, что Форсту было уже известно, и вконец разочаровала рассказом о своих ночных похождениях. Вся эта история, напугавшая Дементия, никакого интереса (если не считать разговора с Галей) для Форста не представляла. А как раз о самом существенном, разговоре с Галей, Варька (хоть и перепуганная, но хитрющая, как всегда) даже словом не намекнула. Только припомнила, что возле МТС встретила однажды какую-то девушку и спросила, где лучше перейти через речку. И это Варькино упоминание удивительно совпало с теми показаниями, которые все время давала на допросах Галя. А шла тогда Варька в Скальное затем, чтобы пожаловаться на своего разбойника Квашу и показаться хоть какому-нибудь врачу. Правда, идти жаловатьсяв управу она раздумала и на другой день, как известно, про все рассказала своему коменданту Мутцу. А с доктором… Все в Варькиных показаниях было чистой правдой и объяснялось до чрезвычайности просто. Когда она поговорила с Галей, на улице уже совсем стемнело. Возвращаться в Петриковку было поздно, да и боязно. И Варька решила заночевать у своей старой подруги Саньки Середы, с которой еще до войны трудилась сообща на ниве торговли. Санька работала в совхозном ларьке и жила в совхозном доме рядом с Горецкими. Вечером, тщательно завесив окна, подруги долго беседовали, поведали друг другу о своем житье-бытье за последние полгода. Среди всего прочего Варька рассказала Саньке, как «ни за что» побил ее новый муж, Дементий Кваша. Саданул сапогом в живот, и у нее с этого часу так в боку печет и колет, что она который уже день разогнуться не может… «Еще, не доведи боже, печенку отбил», — даже слезу уронила Варька. А Санька посоветовала ей с этим не шутить и завтра же с утра пойти к доктору. У них тут, на медпункте, как раз и доктор есть, из окруженцев. Да такой знающий, что люди просто не нахвалятся им. Утром, чуть только рассвело, они с Санькой попрощались. Санька собралась на базар в соседнее село — в Покотилиху, а Варька подалась сразу же на медпункт. Только Володи Пронина она там не застала (его еще затемно вызвали к больному ребенку). Покрутилась у дверей, подождала и, промерзнув, решила отложить посещение до другого раза. Прошла через балку в Скальное, а уже оттуда, низом, назад в Петриковку. Санька подтвердила показания Варьки. Отыскался и дед, который тем утром позвал Володю к своей внучке. А на очной ставке с арестованными Варька попросту никого из них не опознала. Всех она видела впервые. Не узнала даже замученную Галю Очеретную, хотя прежде видела ее дважды. Кляла на все корки своего супруга Квашу, пьянчуг Оверка и Дуську, первейших, по ее мнению, врагов немецкой армии, злодеев и хапуг. И вообще несла что-то такое несусветное, что Форст решил — если это и не совсем полоумная, то по крайней мере безнадежная кретинка — и приказал гнать ее к чертям из тюрьмы, к превеликому удовольствию самой Варьки, ее мужа, старосты Полторака и кустового коменданта Мутца.А в это время в соседнем Подлесненском районе полиция обнаружила у какого-то пожилого окруженца еще одну листовку, подписанную «Молния». В тот же день Максима, Володю и Галю поздно вечером бросили в крытую машину и повезли на очную ставку в соседний район. Машину, чтобы она не очень бросалась в глаза, мобилизовали в «Тодте», вел ее Вилли Шульц. В кабине рядом с Шульцем сидел сам Форст. А в кузове с высокими бортами и брезентовым верхом охраняли арестованных Веселый Гуго, Фриц Боберман, Дуська, Кваша и Оверко. Уже около полуночи добрались до небольшого, вытянувшегося вдоль глубокого оврага села, и тут-то выяснилось, почему пойманного с листовкой человека не привезли в Скальное: боялись, чтобы не умер в дороге. Местные «власти» так за ним «поухаживали», что человек был уже чуть теплый. Пожилой, заросший густой черной бородой, он лежал на полу посреди большой комнаты сельской управы и — не то чтобы узнать кого — вряд ли вообще видел что-нибудь перед собой. Опухшее лицо его было залито засохшей уже кровью. Ему выбили зубы, сломали ребра и железным шкворнем размозжили левое колено. По всему видно было, что несчастный не дотянет до утра. Ни о каком следствии и очной ставке и речи быть не могло. Форст, постоянно теперь пребывавший в раздраженном состоянии, с досады набил морду какому-то местному полицаю, отобрал конфискованную листовку и, решив, что вернется в Скальное рано утром, пошел ночевать к местному старосте.
Арестованные остались в чьей-то с виду нежилой, но натопленной хате. Всех троих завели и бросили на мягкую солому в маленькой, с одним узеньким оконцем кухоньке. Дуська засветил и поставил на припечек, под самым потолком, сделанную из разбитой склянки тусклую коптилку, обшарил, оглядел, даже обнюхал, как собака, стены и каждый уголок. В узком проходе в большую комнату посадил Оверка с винтовкой наготове. В первый раз со времени ареста Максим, Галя и Володя попали в теплую хату, на мягкую солому. Обессиленные, измученные, разомлевшие, они не почувствовали, как погрузились в глубокий, но тяжелый и тревожный сон… Разбуженный каким-то грохотом, гамом, хохотом, первым проснулся Максим. Воздух в кухне был тяжелый, каганец под потолком беспокойно мигал. В узком проходе на стуле сидел уже не Оверко, а Дементий Кваша. Рядом на соломе спали товарищи. Галя лежала на левом боку и глухо сквозь сон стонала, вздрагивала. Володя спал на спине. Нос у него, верно, был совсем заложен, потому что дышал парень через открытый рот и в груди у него что-то хрипело, булькало и клокотало. А в большой, ярко освещенной комнате за плечами у Кваши шло веселье. Целые облака синего махорочного дыма стлались под потолком, слышен был громкий разговор, хохот, выкрики, звон посуды, шарканье сапог: это местные полицаи принимали у себя приезжих коллег и жандармов. Шумный банкет тянулся уже, верно, не первый час и, по всему видно было, заканчивался. Иногда только прорывался сквозь общий гам деревянный, отрывистый хохот Гуго и петушиная трескотня Дуськи. И, пронизывая весь этот гам, тоненько, надсадно попискивала губная гармоника. Шофер Вилли Шульц, не слыша и не замечая никого вокруг себя, сосредоточенно и грустно тянул свою любимую «Лили Марлен». «Ликует буйный Рим…» — мелькнуло в голове Максима. И сразу же на смену этой пришла острая и злая мысль: «Эх, выхватить бы сейчас автомат да перестрелять всю эту сволочь!» Он хорошо понимал, что ничего, к сожалению, из этого не выйдет — слишком они слабые, замученные, еле держатся на ногах. А шум и гам тем временем понемногу утихал. Первым, отяжелев от плотного ужина и выпивки, удобно примостился в уголке на полу Веселый Гуго. Прилег и сразу же уснул. Его примеру последовали немцы из зондеркоманды. Оверко, сменившись с дежурства, давно уже спал, свернувшись калачиком под лежанкой. И даже Дуська не выдержал. Приказав Кваше глядеть в оба и, коли что, бить тревогу, он поднял воротник кожуха и вытянулся у кухонного порога, прямо возле ног Кваши. — Подремлю немного, — сказал он, зевнув, и через минуту уже посвистывал носом. И только двое местных полицаев о чем-то устало и неохотно пререкались над миской с солеными огурцами да тоненько и хрипло попискивала «Лили Марлен». Наконец умолкла и она. Скрипнула лавка, и внезапно вынырнул из-за Квашиной спины, заслонив собою проход, Вилли Шульц. Блеснул лучик карманного фонаря, резкий свет ударил Максиму в глаза — он отвернул голову. Лучик сразу погас, а немец куда-то исчез. Но не прошло и минуты, как Вилли, держа в одной руке глубокую миску, а в другой тарелку, переступил через сонного Дуську, локтем бесцеремонно оттолкнул Квашу и вошел в кухню. Поставив перед удивленно насторожившимся Максимом еду (в тарелке было нарезано сало, а в миске — огурцы, квашеная капуста и вареная картошка), Вилли снова вернулся в комнату и принес хлеб и недопитый самогон. — Буди своих, и ешьте, — тихо приказал он Максиму. По-видимому, он не был уверен, что парень его понял, ткнул себе пальцем в рот, тряхнул за плечо Володю и повторил: — Эссен. Максим недолго колебался. «А почему бы и не поддержать свои силы, коли случай подвернулся? А что к чему, видно будет потом». И стал будить товарищей. Не осмеливаясь ни в чем перечить немцу, Кваша молча наблюдал за всем этим. Вилли стоял тут же, рядом с ним, прислонившись плечом к стене. Арестованные, отказавшись от самогонки, ели несмело, старательно пережевывая еду и время от времени украдкой поглядывая на этого странного немца. Вилли переступил с ноги на ногу, закуривая сигарету, спросил: — Может, кто из вас говорит или хоть понимает по-немецки? Максим мгновение подумал и, решив, что ничего страшного в этом нет, ответил: — Немного… Вилли сразу оживился: — Слушайте! Чем я могу вам помочь? Я очень хочу хоть чем-нибудь быть вам полезен. Максим с досадой поморщился. «Опять обычная, примитивная провокация!» Но повода грубо отвечать человеку, который дал им, голодным, поесть, у него не было, И потом — нужно было выиграть время и, используя такую неожиданную возможность, подкрепиться. — Вы уже помогли нам. И за это мы вам очень благодарны. — Ну что там… Вы же понимаете, я не об этом. Я хочу помочь по-настоящему. — Не знаю, что бы вы могли еще. Разве только воды дать. — Может… Может, вам сообщить кому-нибудь надо о себе? Может, какие-нибудь вещи нужны? Я передам… — Нет, нечего нам сообщать и ничего особенного не нужно. — Слушайте, — настаивал Вилли, и в голосе его угадывалась настоящая искренность, — слушайте, я знаю о вас очень многое. По крайней мере больше, чем Форст. И немножко догадываюсь. Я видел, как ваш товарищ, мой товарищ, подкладывал людям на станции в карманы листовки. И видите, я никому ничего не сказал. Я даже взял незаметно одну себе. Но, к сожалению, прочитать не могу. — Мы ничего не знаем ни о каких ваших листовках. Оставьте нас с этими листовками, если вы действительно хотите нам добра. — Я искренне хочу вам помочь, сочувствую вам… — Спасибо… Но я не знаю, что вам ответить на это… Нет, мы не знаем, к сожалению, чем бы вы могли нам помочь. Может, вы имеете влияние на ваших начальников? Так уговорите их, чтобы не держали нас напрасно в тюрьме и отпустили! — Я понимаю… Вы мне не верите и не можете поверить, Я понимаю. И мне очень горько от этого. И стыдно. Вы мне не верите, потому что я немец. И мне сейчас стыдно за немцев, стыдно оттого, что я зовусь немцем… Жандармы спали. Кваше и во сне бы не приснилось, что немец может говорить подобное. Для него это была пьяная болтовня чудного шофера, про которого давно уже слух идет, что у него не все дома. На последние слова Максим решил совсем не отзываться. Он только пожал плечами, не скрывая своей досады. «Передал бы ты мне лучше, парень, автомат, — подумал Максим. — Но ведь этого я у тебя не попрошу, Может, тебе только это и нужно. Может, только и ждешь…» — Я знаю, — горько усмехнулся Вилли, — вы не примете моей помощи. Но я найду все-таки, чем вам помочь. И всем, кому только можно будет, расскажу, какие вы смелые и мужественные люди.
47
Дальше тянуть было невозможно. И Форст решил хоть как-нибудь, хотя бы для вида и для начальства, положить всему этому конец. Вернувшись из Подлесненского района, он пришел в комендатуру, покрутился в управе и так, чтобы его никто не заметил, забежал на несколько минут в типографию к Панкратию Семеновичу. А потом, уже среди ночи, вдруг приказал Веселому Гуго немедленно привести старика в жандармерию. Гуго, по обыкновению, прихватил с собой Дуську, поднял Вилли Шульца и, вытащив Панкратия Семеновича из постели, через несколько минут доставил его к Форсту. Вилли приказано было ждать возле жандармерии, и он, наверное, с час проторчал на морозе. Наконец Гуго появился снова, уже без Дуськи, и приказал отвезти Панкратия Семеновича домой. Промерзший Вилли злился: — И что это за цаца такая, что его еще и возить надо! Уж если отпустили, дорогу домой сам найдет. — Не твоего ума дело. — Ну, если не моего, тогда пусть его кто поумнее везет. А я, дурак, пока посплю! — Не ерепенься и делай, что говорят. Это наш человек! — Ну, еще бы не наш! Чистейшей воды ариец! — Ариец не ариец — это дело другое. А все-таки помогает нам разоблачать врагов фюрера. — Этот? — удивленно сплюнул Вилли, заводя мотор. Панкратий Семенович ехал домой на немецкой машине, довольный, с сознанием добросовестно выполненного долга. Форст передал ему листовку, подписанную «Молния», и приказал сделать точно такой набор. Панкратий Семенович выполнил этот приказ со всей тщательностью. Он радовался, что может отплатить этой неблагодарной девчонке, да еще услужить при этом немецкой власти. Правда, с подписью было немало мороки. Никакие шрифты тут не подходили. И где только они взяли такие литеры? Но Панкратий Семенович справился и с этим — вырезал литеры из линолеума. Набор был готов только к ночи. Панкратий Семенович заправил его, смазал типографской краской и отвез Форсту. Еще добавил к набору — уже от себя — два резиновых валика и коробку типографской краски. Все это в протоколах следствия, которые за ночь сфабрикует Форст, должно было служить вещественным «доказательством», обнаруженным при аресте у Гали Очеретной. Таким образом, вся тяжесть «преступления» должна была пасть в первую очередь на Галю. Это она тайком, используя служебное положение, сделала набор, передала его Максиму Зализному и Пронину, а те уже делали отпечатки и поручали Заброде, Горецкому и Нечиталюку их распространять. Панкратий Семенович же, заподозрив что-то неладное, стал следить за девушкой, выследил и вот поставил в известность жандармерию. К этим «вещественным доказательствам» Форст добавил еще две попавшие ему в руки листовки, подшил сюда же протоколы следствия, которые — это он знал наверняка — начальство читать не станет, и написал коротенькую докладную. В докладной всему этому делу придавалось сугубо местное значение. Группа фанатично настроенной молодежи выпустила несколько листовок, сразу же была открыта и обезврежена и теперь в полном составе предстала перед лицом немецких оккупационных властей для ответа по законам военного времени. Докладную записку начальство прочитало внимательно. Осмотрело и вещественные доказательства и немедля вынесло приговор. Сначала решено было всех шестерых повесить в ближайшее время на базарной площади в Скальном. Повесить, широко оповестив население об их преступлении, чтобы навсегда отбить у других охоту к подобным делам. Но случилось так, что эта хоть и неприятная, но сравнительно незначительная история совпала по времени с крупным поражением под Москвой. И… стоит ли, «когда наша армия вынуждена отойти на заранее подготовленные позиции, испытывая при этом значительные потери», стоит ли в этой ситуации так уж широко оповещать, что тут, в глубоком тылу, на давно завоеванной и освоенной территории, кто-то — пусть дети — осмелился поднять руку на немецкий «орднунг», на великую Германию? Какое впечатление это произведет на местное население и, в конце концов, на усталых и измученных русскими морозами солдат фюрера? Не лучше ли в такой ситуации убрать этих молодых фанатиков без лишнего шума? Расстрелять тайно, чтобы никто ничего не знал. И даже родным сказать, что арестованные вывезены в Германию или еще куда-нибудь. Наконец, и Форсту следует посоветовать, когда он приведет приговор в исполнение, сделать так, чтобы и могила их осталась никому не известной. Потому что могут найтись фанатики, для которых эта могила станет могилой героев!.. Форсту поручили приговор привести в исполнение на месте. Но, пока этот приговор дошел до Форста, в Скальном случилось еще одно не такое уж значительное, а все же досадное и загадочное для Форста происшествие. На другой день по возвращении из жандармерии внезапно умер в своем доме заведующий районной типографией Панкратий Семенович Рогачинский. Эта смерть никого в городке не удивила. Умер старый человек — что тут особенного? Удивился и насторожился один только Форст, чуял за этой смертью какую-то тайну. Но как ни бился, а тайны разгадать не смог. Ни соседи, ни жена Панкратия ничем помочь ему не смогли. Пришел с работы здоровехонький и даже веселый. Ночью куда-то отлучался, но вернулся тоже бодрый. А на другой день ему стало плохо. Закололо в груди, схватило сердце, и он скончался. Доктора не звали — растерялись. Да и где их, докторов, найдешь теперь? Жандармерию не известили — не знали, что это надо сделать. Так и похоронили. Вот и все, что мог выпытать Форст. Но встревожился он неспроста, и предчувствия его были не напрасны. Тайну своей смерти Панкратий унес с собой в могилу. А кроме него на всем белом свете о ней знал только один человек. И он совсем не собирался кого бы то ни было посвящать в нее. Этим человеком был немецкий шофер Вилли Шульц по прозвищу «Шнапс». Когда Вилли вез Панкратия Семеновича домой, он уже твердо был уверен, что этот плюгавый старикашка выдал смелых ребят, которым он, Вилли, так хотел хоть чем-нибудь помочь. Выдал, а теперь помогает Форсту уличить их окончательно. И наверное, старая гнида, загубит еще не одного честного и хорошего человека, если только не положить этому конец. Шел второй час ночи. По небу проплывали высокие рваные тучи. Притихшие улицы Скального опустели. Первой мыслью Вилли было выстрелить Панкратию в затылок, а потом завезти куда-нибудь к речке и кинуть эту падаль в заснеженный ров. Вилли скосил глаза вбок. Втянув шею в жирные плечи, зябко спрятав руки в рукава, Панкратий трясся, как студень, рядом на сиденье. Вилли стало противно, и он передумал. Надо ли поднимать шум вокруг этого слизняка? Да и стоит ли он пули? Хватит с него и одного путного удара, ну хотя бы молотком, например. И все-таки сделать это тотчас Вилли не решился. Отвез Панкратия Семеновича домой. Постоял, пока тот стучал в запертую ставню. И только когда Панкратий Семенович, гремя засовами, запер за собой наружную дверь, тронулся назад. В гараже, загнав машину на место, Вилли отыскал под сиденьем тяжелый французский ключ. Выйдя из гаража, перекинулся несколькими словами с дежурным около ворот, спросил, не холодно ли ему, и зашагал — только не к казарме, а в ту сторону, откуда только что вернулся. К дому Панкратия Семеновича на Киселевке. Шел смело и уверенно пустыми улицами. Знал, что никого, кроме какого-нибудь полицая или немца, сейчас не встретит. А этих, особенно полицаев, Вилли не боялся. Даже если бы они и заподозрили что-нибудь, всегда можно выкрутиться, а на худой конец прикинуться пьяным. Но никто ему за всю дорогу так и не встретился. Подойдя к дому, Вилли так же, как Панкратий, постучал в боковое окно и сразу, обходя кусты сирени, прошел к дверям и встал на большом плоском камне, вкопанном перед порогом. Сначала в доме было тихо. Потом чуть скрипнули двери. Едва слышно — будто мышь пробежала — прошелестела солома на земляном полу уже у наружных дверей. И снова все стихло. Кто-то там, в сенях, стоял у двери, отделенный от Вилли одной только струганой доской, и долго не решался отозваться. Вилли тихо, но нетерпеливо несколько раз постучал в дверь. — Кто? — отозвался наконец испуганный, хриплый от волнения старческий голос. — Открывай! От коменданта Форста, — приказал по-немецки Вилли. — Скорее там, некогда! Немецкая речь, по-видимому, успокоила хозяина, хотя вряд ли он разобрал, что ему говорят. Загремел один засов, другой, брякнул большой, наверное в сельской кузнице кованный, крюк, заскрежетал ключ в замке, и дверь немного, на узенькую щелочку, приоткрылась. Потом совсем распахнулась. В темном проеме дверей, в одном белье и накинутом на плечи тяжелом одеяле, в валенках на босу ногу, перед Вилли стоял, согнувшись, Панкратий Семенович. Он весь дрожал, Руки, придерживающие концы одеяла, тряслись. — Что? Что такое? Кто? — прошелестел он тонкими темными полосками губ. Вилли не ответил на вопрос. Нащупав правой рукой в кармане холодную сталь тяжелого ключа, левой он крепко ухватил Панкратия за грудки, перетащил через порог и прислонил к стене. Тот не сопротивлялся — от страха его совсем будто парализовало. Он мелко, всем телом, дрожал, склонив голову на левое плечо, и тоненько высвистывал носом. Оставалось лишь достать из кармана ключ. Но Вилли захотелось, чтобы этот подлец узнал перед смертью, за что его казнят. Но как это сделать? Панкратий, видимо, ни слова не знал по-немецки. — Шпрехен зи дейч? Панкратий дрожал и не отвечал ни слова. И тогда Вилли, до предела напрягая память, перебрал весь запас известных ему украинских слов. Арсенал у него был небольшой, он знал всего семь-восемь общих для всех славян, исковерканных слов: «курка», «яйка», «водка», «масло»… «Нет, не те… Ага, вот это, кажется годится». Он подтянул к себе поближе обмякшего Панкратия и, горячо дохнув ему прямо в ухо, выговорил четко, выразительно, выделяя каждое слово: — Шмерть немецкий оккупанта! Панкратий под его рукой вдруг затих, перестал дрожать. Тело его сразу отяжелело и медленно поползло по стенке вниз. Не удержав, Вилли выпустил из рук смятую сорочку, и Панкратий мешком осел в глубокий снеговой сугроб перед самым порогом. «Что за черт?! — подумал удивленный Вилли. — Притворяется или…» Он еще раз приподнял Панкратия Семеновича за воротник, встряхнул, отпустил, и тот снова, как мертвый, сполз в снег. «Может, и вправду об него даже и ключа не придется марать?» Но разгадать эту загадку Вилли уже не мог. Чувствуя, что так или иначе, а ударить эту груду костей и мяса он все равно не сможет — не побороть ему в себе отвращения, — Вилли сплюнул, отер руки о полу шинели и, оставив Панкратия Семеновича на снегу, быстро направился к калитке. Только через полчаса, не дождавшись мужа и вконец растревожившись, старуха Рогачинская вышла во двор и нашла Панкратия уже окоченевшим. Сперва у нее с испугу отнялся язык. Потом, когда она немного отошла, кричать, звать соседей все равно не осмелилась. Побоялась, что, если наделает шуму, и сама, чего доброго, пойдет за мужем вслед. Она молча втянула мертвого в хату. А уже утром рассказала соседям, что помер сам, в постели, неожиданно и тихо. Кое-что зная, а еще больше догадываясь о мужниных делах, старуха сочла за лучшее для себя попридержать язык. Все равно ведь старика уже не вернешь, а, гляди, свою голову потеряешь…48
В третьем часу ночи с тридцатого на тридцать первое декабря их вывели из камер, втолкнули в грузовик. Борта машины сразу же со всех сторон густо облепили солдаты из команды СД. Машина была та самая, на которой однажды утром приехал в Скальное Форст. И, как тогда, вел ее сухощавый и молчаливый немолодой шофер, из тех, которым такие выезды были уже не в диковинку. В кабине рядом с шофером примостился Веселый Гуго с автоматом в руках, парабеллумом в кобуре и двумя гранатами на поясе. Из полицаев на «операцию», чтоб не было лишних разговоров, взяли только двоих — Дуську и начальника полиции Туза. Дуська примостился на борту грузовика вместе с немцами, а Тузу приказали сесть на заднее сиденье легковой машины. За рулем этой машины сидел Шропп, а рядом с ним, проверив все и отдав приказ двигаться, уселся Форст. Он так же, как и все остальные, кроме пистолета был вооружен еще и автоматом. Мороз крепчал. Небо было чистое, звездное, ночь тихая, а воздух такой прозрачный и звонкий, что каждый звук, даже скрип снега под сапогами, отдавался эхом на том берегу широкого пруда, за заводом. Далеко на востоке из-за темных контуров станционной водокачки несмело выплыл в звездные просторы серп луны. Ступали все осторожно, будто крадучись. Разговаривали тихо, почти шепотом, точно воры. Перед тем как двинуться в путь, Дуська приказал осужденным лечь на дно кузова лицом вниз и угрожающе прошипел: — Без разговоров! Скажете слово или шевельнетесь — пуля в затылок без предупреждения. Никто не оглашал им приговора. Никто не посчитал нужным сказать, куда их везут. Да они и без того безошибочно сразу все поняли. Машины — грузовая впереди, сзади на небольшом расстоянии легковая — выехали с глухого полицейского двора в переулок, повернули на центральную улицу и мимо управы, мимо развалин банка с мастерской Максима, мимо пожарищ, где стоял когда-то его двор и двор Лени Заброды, помчались в гору, к Волосскому шляху. Шли с погашенными фарами. Молча горбились, подскакивая на ухабах и хватаясь руками за борта и друг за друга, солдаты конвоя. Молчали узники. Только моторы ревели оглушительно и надсадно, и этот рев отдавался эхом по всему городку. Максим не мог видеть, куда их везут, но по тому, как напряженно ревела, поднимаясь в гору, машина, догадывался, какой дорогой они едут, представлял себе родные места и мысленно прощался с ними. Машины взобрались на гору, пересекли базарную площадь, прошли дорогой вдоль выгоревших Курьих Лапок, спустились в Терновую балку и, выехав из нее, повернули налево. Ехали теперь узкой, заметенной снегом, непробитой дорогой мимо обгоревшей совхозной конюшни. Мороз становился все сильнее, острые струйки холода пробивались сквозь узенькие щелочки в дне кузова и насквозь, казалось, пронизывали тело. Руки и ноги осужденных закоченели, холод становился все нестерпимее. И хотя дорога была короткой, слишком короткой, потому что была последней в их жизни и каждого из них вела к смерти, все-таки они хотели, чтоб она поскорее кончилась. Да и вообще чтоб кончилось скорее все — все эти муки. Наконец, когда самому слабому из них, больному Петру, стало уже казаться, что из машины он попал вдруг в теплую хату бабки Федоры и начинает согреваться, когда Галя до крови закусила задубевшие пальцы, чтоб не заплакать от жгучей боли, а Володя Пронин — терять уже нечего! — готов был, собрав остатки сил, кинуться на немцев и пускай не убить, так хоть сбросить одного под колеса, тогда машина остановилась. Со скрежетом отвалился кованный железом задний борт, на все стороны посыпался с машины конвой. Им тоже приказали сойти на землю. Теперь, среди степного безлюдья, Дуська стал как будто смелее и громко приказал встать по трое, чтобы дальше идти уже пешком. Но так неестественно, так жутко прозвучал здесь громкий Дуськин голос, что он и сам это почувствовал и опять перешел на полушепот. Галю мучил нестерпимый холод и боль во всем теле. В голове гудело. Но и теперь она думала не о себе. Она думала о том, что Максиму так и не вернули его грушевую палку и идти ему по глубокому снегу будет тяжело, почти невозможно. И Гале хотелось пройти этот последний в ее жизни путь, все равно, долгий он или совсем короткий, рядом с Максимом. Однако исполниться этому последнему в ее жизни желанию не было суждено. Когда ребята сняли с машины почти беспамятного, пышущего сухим жаром Петра, тот, взяв девушку за руку, судорожно стиснул ее и так и не отпустил. Освободиться от него, отнять руку можно было только силой. Но этого сделать она не могла — боялась в последнюю минуту обидеть товарища. И Галя осталась с Петром. Рядом, поддерживая товарища с другого бока, стоял Володя. А Максима взяли в середину Леня и Сенька. Положив им руки на плечи, он ступил больной ногой в снег. Ребята двинулись вместе с ним, Галя и Володя с Петром — на шаг сзади. Впереди узников выступали Гуго и Дуська. С боков и сзади широким полукругом их окружал вооруженный конвой. Форст и Шропп замыкали шествие. Шли напрямик ровной степной целиной, по колено увязая в глубоком снегу. Высоко над мглистым горизонтом светил рожок луны, и все кругом было хорошо видно. Вслед за людьми тянулись по зеленовато-белому искристому снегу черные тени. Шли медленно, тяжело месили сухой, сыпучий снег, с трудом переставляя непослушные ноги и мало-помалу согреваясь на этом трудном пути. Теперь узко они все видели, куда их привезли и куда ведут. За спиной, там, где чернели на снегу машины, остался совхоз. Левее тянулась заросшая терновыми кустами и шиповником, засыпанная снегом балка, вдоль которой пробирался когда-то с тяжелой противогазной сумкой Сенька. А дальше темнело и терялось в ночи кладбище. Впереди, еще невидимая, но уже близкая, пряталась за снеговыми сугробами речная низина. А справа до самого мглистого горизонта искрилась ровная, заметенная снегом степь. Узники, хотя никто их теперь не останавливал, не угрожал им, по-прежнему шли молча, каждый думал о своем. И никто из них не знал, что думает, что чувствует, о чем вспоминает сейчас другой. Но вот впереди, за последней извилистой грядой, снежные сугробы вдруг сразу оборвались… Вся процессия без приказа, точно обо всем уже было договорено, вслед за Гуго и Дуськой повернула вправо, и широкая, казалось — бесконечная, залитая лунным светом, перекрещенная густыми тенями долина распахнулась перед ними. Максим на миг даже остановился, словно от толчка. Чем-то до боли знакомым, родным повеяло вдруг на него. Долина переливалась в лунном сияния зеленоватым светом. Тени от деревьев и сугробов казались не черными, а темно-синими. Внизу неровной широкой полосой по обе стороны скрытой под снегом речки тянулись к самому горизонту седые от инея заросли верб и лозовых кустов. А вдалеке, не густо разбросанные по склонам прибрежных холмов, сказочным зеленовато-синим цветом цвели раскидистые столетние груши. И Максим остро ощутил на миг, как пахнуло на него из этой глубины тонким, горьковатым запахом весеннего цветения. Вырванный на этот короткий миг из прошлого, встал перед Максимом тот далекий, особенный, весенний день его детства, когда после тяжелой и долгой болезни в первый раз он вышел из дому, встал у перелаза и как-то по-новому увидел эту давно знакомую долину, эти лозы, вербы и древние груши, все в кипении белого весеннего цветения, и впервые в жизни всем своим существом почувствовал, как прекрасна и неповторима жизнь.Всколыхнулись и слезы и песни во мне…
О весна! Ты меня победила!

49
Они погибли, как неизвестные солдаты. Никто, кроме их палачей, не слышал и не видел, как они умирали, не знал, где они похоронены. Мерзлые комья на дне глубокого оврага покрыли их тела. Замели, заровняли следы глубокие в том году снега. Родным было сказано, что их за антигерманские выступления осудили и вывезли в концлагерь куда-то в Германию. И долго еще о них думали как о живых, высматривали, выплакивая очи, со всех дорог. А потом еще много лет говорили и писали как о без вести пропавших. Даже те трое или четверо, которые получали от Лени листовки и потом раздавали их дальше, не знали, что сталось с ребятами. Они могли только догадываться, что арест группы молодежи в Скальном связан именно с этими листовками. Никто, казалось, не знал, что остались от ребят «гвозди» в сумочке от противогаза, затопленные Грицьком в реке, и ящики «мыла», брошенные в Стоянов колодец. И никто не догадывался, что это они живут и еще долго будут жить в слове «Молния». В слове, которому суждено было стать грозой для захватчиков и остаться в памяти людей в этом краю еще на долгие и долгие годы. Молодые, сильные, красивые, они погибли, а листовки, подписанные словом «Молния», напечатанные на непрочной бумаге и непрочными красками, сохранились. Они оказались бессмертными. Листовки те пошли в народ. Их сберегали как самое драгоценное и передавали по одной из района в район, из села в село и из дома в дом. Они переходили из рук в руки, несли людям слово правды, укрепляли веру в победу, будили дух непокорства и борьбы. Листовки путешествовали по Скальновскому, Подлесненскому, Балабановскому и еще по многим районам. А иные долетали даже в Умань, Первомайск, Винницу… Их берегли, читали, видели или только слышали о них и пересказывали друг другу еще долго, неделями, месяцами, всю долгую и суровую зиму, до самой весны. И казалось, что кто-то невидимый и неуловимый еще и теперь, весной, печатает те листовки, что таинственная «Молния» живет, действует и борется…50
Оправившись от катастрофы под Москвой, немцы снова почувствовали себя господами на оккупированных территориях. Грабили и вывозили народное добро, чинили скорый суд и расправу, карая, высылая в концлагеря и расстреливая всех, кто был или казался непокорным. Они хозяйничали и вели себя так, будто пришли сюда если и не на веки вечные, то по крайней мере на тысячу лет. В Скальном немцы отремонтировали железную дорогу, сахарный завод, мельницы, маслобойни. Им нужно было на месте перемалывать украинскую пшеницу, жать из подсолнуха масло и делать сахар из украинского бурака. Они вывозили все — муку и сахар, масло и железо, награбленную мебель и дверные ручки, сгоняли людей в каменоломни, развозили по дорогам камень и песок, чтоб проложить на весну своей армии надежные дороги. Как раз перед Новым годом, вечером тридцать первого декабря, Форст вернулся со своей командой в гебит. Доложил, что приговор приведен в исполнение, передал в уездную жандармерию изготовленный Панкратием Семеновичем набор, две листовки, валики и банку с клеем, отобранную у Лениной тетки во время обыска. И на этом дело «Молнии» было закрыто и, казалось, закончено навсегда. Но для самого себя закрыть историю с «Молнией» Форст так и не смог. Еще долгие месяцы мысль об этом вызывала в нем беспокойство, тревогу, рождала скверные предчувствия и смутный страх. Ведь ни одного убедительного доказательства того, что открыта и уничтожена та самая «Молния», которая выпускала листовки, у него не было. Он только догадывался, но по-настоящему так и не знал, где и как печатались листовки, подписанные этим словом. Никакой типографии он не нашел, и никто ему, если не считать фантазий Савки Горобца, ни разу о ней не сказал. Перед глазами Форста вставали иногда как страшные призраки большевистские конспираторы-подпольщики, в существование которых он еще и до сих пор не без оснований верил. И эти призраки долго портили ему настроение, мешали спать по ночам. Оберштурмфюрер боялся, что в один из дней появятся новые листовки, подписанные «Молния», что так и не раскрытая им подпольная организация снова и громко заявит о себе. Тогда-то и обнаружится, что он обманул начальство… и дальнейшей его карьере и славе ревностного и опытного разведчика и следователя придет конец. Позорный и бесславный конец. Но проходили дни, недели, даже месяцы, а «Молния» так и не подавала никаких признаков жизни. И Форст понемногу стал успокаиваться. Успокаиваться и даже, за отсутствием других дел, забывать об этом неприятном инциденте в его «блестящей практике». Он убеждал себя в том, что эта так и не попавшая в его руки подпольная типография, в конце концов, только мертвая техника, которая лежит сейчас где-нибудь никому не нужным, неопасным грузом. А ему, Форсту, и на этот раз повезло, и он таки выследил, открыл, уничтожил настоящую «Молнию» — тех самых, кто создал типографию и печатал листовки. Конечно, не все в гебите шло так тихо и гладко, как этого хотелось бы и как старались показать оккупационные власти. И конечно, Форсту было не так уж спокойно. То здесь, то там будто сами собой вспыхивали фуражные склады, что-то слишком уж часто выходили из строя машины, исчезало из колхозных складов и токов зерно и случались всякие иные происшествия — антинемецкие разговоры и надписи, утаивание продуктов, предназначенных к сдаче гитлеровской армии, тайный забой скота. Но все это шло своим порядком и ничего общего с загадочной «Молнией» не имело, как не имело и происшествие, случившееся с Форстом в конце апреля, когда его в лесу по дороге от Кочержинцев к Гречаной обстреляли из автомата, к счастью для него без последствий. Миновали январь, февраль, март. Наступила середина апреля. На смену долгой, холодной, с глубокими снегами и сильными морозами зиме пришла дружная весна с давно не виданным в этих краях разливом рек, непролазными болотами и топкими дорогами. Как-то уже под вечер в гебитскомиссариат пришло неприятное известие — в Скальном убит начальник районного жандармского поста Шропп. В шифрованном извещении не было сказано ни слова о том, как это произошло. Вечером Форста вызвали к начальнику жандармерии. Он только что по фантастически трудному, черноземному бездорожью вернулся из соседнего района и не успел еще даже умыться с дороги. Был злой, утомленный,голодный и заляпанный грязью. Не думал, совсем забыл за это время даже о существовании Скального с его шроппами, тузами, дуськами и веселыми гуго. Но смерть Шроппа сразу напомнила ему о «Молнии». В Скальное Форст выехал в полночь, с воинским эшелоном, который отправлялся на запад по проложенной уже колее. Ехал он в солдатской теплушке. Было холодно и очень неуютно. Поспать по-настоящему так и не удалось. На рассвете он сошел на станции Скальное, весь помятый, с задеревеневшими ногами, промерзший насквозь. А тут еще, как назло, и стакана чаю негде было достать. Потому и приказал Форст жандарму Фрицу Боберману, который приехал за ним вместе с полицаем Оверком на пароконной подводе, чтобы вез его прямо на жандармский пост и там согрел чаем, а то и чем-нибудь покрепче… Солнце должно было взойти еще не скоро. На улице стыл серый, мутный рассвет. По колени увязая в жидкой, залившей всю мостовую грязи, пара крепких гнедых коней еле вытянула со станции на переезд тяжелый, кованый фургон. Потихоньку стали спускаться вниз. Слева, тусклым оловом разлившись по всей долине, поблескивала речка. На том берегу, меж темных полосок огородов и вишенников, чернели стены и крыши домов. Прямо в низине, за мостом, перелившись через плотину и соединившись со взбухшей рекой рябил желтоватой рябью пруд. А за ним, на фоне сиреневого неба, уходила вверх высокая труба сахарного завода, вырисовывались тяжелые контуры серого здания. Поблескивала красным новая, свежепокрашенная крыша, чернели темные провалы окон. Сахарный завод всего только несколько дней назад расчистили, восстановили железнодорожную колею к нему и подъездные площадки, старые, разбитые машины заменили новыми, привезенными с соседнего Пищанского завода. Через день-два завод должен был начать переработку перемерзшей, но все-таки уцелевшей до весны в буртах свеклы. Почернев от холода, зябко ежась, Форст с отвращением озирался кругом, Щурил заспанные глаза на мутную воду, на далекое заводское здание, недовольно, сквозь зубы расспрашивал Бобермана, что же тут произошло. Под ложечкой у него сосало, все тело ныло от усталости и холода, в голове шумело, а перед глазами все будто расплывалось и двоилось… Монотонно бубнил приглушенный и, казалось, какой-то ненатуральный голос Фрица. Боберман рассказывал, что фельдфебель герр Шропп был убит при несколько загадочных обстоятельствах и совсем не тут, в Скальном, а в Петриковке. Что и как — сам Боберман еще точно не знает, еще с ночи (герр Шроппа убили вечером) там герр крайсландвирт Шолтен, и Веселый Гуго, и Дуська, и Туз со всей своей полицией. С чувством досады и злого разочарования Форст подумал сперва не о Шроппе, а о том, что вот придется-таки на этой подводе тащиться непролазным болотом в проклятую Петриковку. В которой раз уже с застывшей раз и навсегда в глазах усталостью и скукой обвел взглядом все вокруг — мостовую, голые черные пригорки с огородами, широко разлившуюся речку… Глаза на миг задержались на далеком красном пятне заводской крыши, и… Форст вдруг начал торопливо протирать заспанные глаза. Что это? Неужели галлюцинация от бессонницы и усталости? Черт! Мерещится ему эта ненавистная молния… А может, и правда далеким ослепляющим сполохом блеснула над красной крышей в темно-лиловом небе настоящая молния? На миг Форсту показалось, что он помешался. Над крышей, быстро расходясь во все стороны и кверху, взвился гигантский клуб черно-серого дыма. И… крыша на глазах у Форста сначала очень медленно стала подниматься, а потом с сумасшедшей быстротой рванулась кверху, подержалась какую-то секунду в воздухе и… вся окутанная дымом, вместе со стенами рухнула вниз. И сразу же завод, будто там, за прудом, его и не было, растаял, развеялся, исчез из глаз. Через несколько секунд издалека, как бы в подтверждение того, что Форсту это вовсе не чудится, эхом прокатился по воде, сотрясая воздух и понемногу замирая за далекими холмами, оглушительный гром… В утренней тишине, в сельском безмолвии этот гром был таким неожиданно оглушающим, что даже кони, будто натолкнувшись на невидимую стену, разом остановились. Трое на телеге испуганно переглянулись. Посиневшие щеки Форста отвисли, нижняя губа отвалилась, открыв золотые клыки. Несколько минут стояла кругом неправдоподобная, одуряющая тишина. И только через какое-то время Боберман, спохватившись, хлестнул по конским спинам, и фургон, грохоча колесами по камням, разбрызгивая во все стороны жидкую грязь, помчался вниз, к мосту. У заводской ограды, во дворе и вокруг завода не было ни одной души. Все будто вымерло. Только клубилась еще в воздухе смешанная с желтым дымом пыль да остро пахло чем-то горьковато-кислым. От большого заводского здания остались одни разбитые, расколотые стены. Пустой двор густо засыпан мелкими каменьями, толченым кирпичом, скрученным железом. …Через час растерянный, перепуганный Форст бегал по комнатам жандармерии. Опасаясь еще какой-нибудь неожиданности, а то, может, и нападения, он никак не мог решить: ехать в Петриковку, возвращаться в гебит или послать туда жандарма? Связаться по телефону он не мог ни с кем. Где-то, наверное взрывом, оборвало провода. А послать кого-нибудь проверить это просто не догадался. Немного успокоился Форст только тогда, когда в жандармерию пришли Веселый Гуго, Туз и Дуська. Все трое с головы до ног были забрызганы грязью, лица их вытянулись и посерели. Поздоровавшись, Веселый Гуго еще с порога начал докладывать. Они вернулись из Петриковки и привезли с собой мертвого Шроппа. Обнаружить преступника или хоть напасть на его след не удалось. Но за убитого Петриковка поплатится. Она уже окружена немецкими солдатами и полицаями, ждут только приказа. Шропп был убит накануне вечером, еще даже как следует и не стемнело. Они — Шропп, Гуго, Дуська и Туз — кончали ужинать у кустового крайсландвирта Мутца. Потом сразу должны были выехать в Скальное. На улице было еще так светло, что никто и не подумал зажечь лампу и выставить дозорных. Шропп поднялся из-за стола первым. Подошел к окну, чиркнул спичкой — хотел закурить, и в эту самую минуту кто-то швырнул в окно гранату. Шроппа сразу убило. Мутцу разворотило плечо, а Тузу поцарапало щеку и ухо. — А когда я выбежал во двор, — закончил Веселый Гуго, — никого нигде не было. И можно было бы подумать, что граната брошена какой-то таинственной силой, если бы я не подобрал на крыльце вот это… Форст с опаской взял у Гуго вчетверо сложенную бумажку, развернул, взглянул и… отшатнулся, пораженный. В руках у него была свежая листовка. Совсем коротенькая, всего в десять строк. Начиналась она словами: «Товарищи! Свободные советские люди! Помогайте Красной Армии уничтожать фашистскую погань!» И заканчивалась привычным и властным, как приговор: «Смерть немецким оккупантам!» И подпись, четкая, страшная своей лаконичной выразительностью: «МОЛНИЯ»!1962
Горячие руки Перевод автора
Я на сторожі коло ïx Поставлю слово…Тарас Шевченко

1
Его бросили к нам ранней весной страшного сорок второго года. Белокурый и сероглазый, с лицом открытым и задорным, какой-то нездешний, появился он неожиданно на пороге «салона смерти». Особенно остро поразила нас, привыкших видеть вокруг только искаженные ненавистью, страхом или муками лица, его широкая, по-детски искренняя улыбка. Улыбка, с которой и началась эта необычайная даже для гитлеровских концлагерей история. Истощенные, вконец обессиленные, мы уверены были в то время, что дотягиваем свои последние дни. Уже ни на что не надеялись, ничего не ждали. О том, что люди могут улыбаться, да еще вот так широко и беззаботно, мы просто забыли. Мы — остатки ранее довольно большого лагеря советских военнопленных. Двадцать два неопределенного возраста, высохших, обессиленных человека. «Салон смерти» — комната для доярок с одним окном, небелеными стенами и потолком в большом, крытом соломой колхозном коровнике. В углу этой комнаты была наскоро сложенная из кирпича плита, на которой когда-то грели воду, и над ней широкое окно, где уцелело только одно верхнее стекло. В плите еще и теперь можно было развести огонь. А окно наглухо забито досками, и щели между ними законопачены соломой и какими-то истлевшими лохмотьями. Раньше, когда пленных было еще много и попасть в эту закрытую комнату большинство из нас могло лишь в мечтах (попадали сюда совсем слабые, тяжело раненные смертники), кто-то из мрачных острословов, которые встречались даже в таких условиях, назвал это помещение «салоном смерти»… Еще с лета сорок первого года, после печально известного уманского окружения, под крышей коровника, превращенного гитлеровцами в концлагерь, томилось, наверное, несколько сот голодных, тяжело, а то и смертельно раненных пленных. А теперь осталось в живых только двадцать два. Голод, донимающий осенний холод, лютые морозы, вши, гангрена, тиф, цинга, дизентерия и множество других болезней сделали свое дело. И вот теперь все те, кто еще остался в живых, разместились довольно свободно в «уютном» «салоне смерти». До поздней осени, пока не оставили людей последние силы, нас согревали горячие надежды, придавала сил твердая вера в себя и в неминуемое спасение. Мы верили в то, что нас поддержит местное население, пока вернется Красная Армия, или развернут борьбу партизаны. Или, наконец, подлечившись, набравшись сил, мы организуемся и освободимся сами. Однако время, казалось, работало не на нас… Гитлеровцы, с наглой развязностью мнимых покорителей мира, устроили концлагерь в самом центре районного местечка Терногородки у дороги между Уманью и Кировоградом. Одной стеной наш коровник выходил на главную улицу села, к мощеному шоссе. Фасадом повернут был к просторному двору, на углу которого, между шоссе и узким переулком, стоял большой, на две половины, крытый железом дом. Глухой же стеной коровник тянулся вдоль размытого талыми водами неглубокого оврага. За противоположной от улицы узкой стеной — голый участок огорода, вытоптанный скотом песчаный берег, речка, и за ней, почти до самого горизонта, — степь. Весь обширный прямоугольник с домом и коровником гитлеровцы обнесли двойной высокой оградой из колючей проволоки. Потом такой же, но уже одинарной оградой, с калиткой посередине, отгородили коровник от дома. И, оставив ворота против дверей, обнесли проволочной оградой еще и сам коровник. Наконец, посреди площадки, которая образовалась в центре между двумя оградами, чуть ближе к калитке, вкопали гладко обструганный, низко подпиленный телеграфный столб. Строили все это старательно, аккуратно, прочно, казалось, на десятки лет. В доме поселился комендант и эсэсовская охрана лагеря. За домом, над самым шоссе, выросла высокая, раскоряченная, сбитая железными скобами из толстых горбылей пулеметная вышка. О каком-либо контакте с местным населением не могло быть и речи. Женщин и детей, которые пытались через ограды передавать или перебрасывать нам еду, эсэсовцы сначала разгоняли, а когда это не помогло, начали стрелять прямо в толпу. Увидев однажды белоголового мальчика в солдатской гимнастерке, повисшего на проволоке с простреленной грудью, а на следующий день — труп пожилой женщины на мостовой, мы поняли, что единственной едой для нас, да и то изредка, остается только подмерзшая сахарная свекла. А Красная Армия так и не возвращалась. Пока что она отходила от нас все дальше и дальше на восток… Партизаны?.. Кажется, нам очень не повезло и с этой последней нашей надеждой… Сначала, где-то в конце сентября, гитлеровцы тщательно прочесали весь район, задержали и расстреляли несколько сот советских граждан. Расстреляли всех активистов, всех бывших партизан восемнадцатого года, всех, кого подозревали в принадлежности к Коммунистической партии. Гитлеровская метла была очень густой, мела подряд, с тем расчетом, чтобы выловить и уничтожить всех, кто хоть и не был, но мог быть участником партизанской или подпольной борьбы с оккупантами. Вот почему с глубокой печалью и сожалением думали мы, что с уничтожением такой большой группы людей района почти полностью погиб первый отряд самых активных народных мстителей. А среди них могло быть немало тех, кого специально оставили в подполье… И вот они погибли, не успев даже начать борьбу… Однако за первой шеренгой бойцов, за первой волной, которая разбивается о скалы, неминуемо накатывается вторая, еще выше… И действительно, во время Октябрьских праздников сорок первого года в области произошло несколько одновременных и, казалось, организованных партизанских выступлений. Выступления эти были пока что больше демонстративными, чем чувствительными для немцев, а все же оккупантов они застигли врасплох и не на шутку напугали. В одну ночь во многих районах были расклеены и разбросаны советские листовки; над крышами нескольких учреждений вспыхнули красные флаги; в трех гитлеровских районных комендатурах взорвались гранаты, ранив, к сожалению, только одного коменданта, а в самом «гебите» — уездном центре — расстрелян был предатель — начальник вспомогательной полиции. Гитлеровцы ответили на это жестокими репрессиями: массовыми арестами и расстрелами, сожжением большого села и виселицами. В сплошной облаве в одном из самых глухих сел попали в жандармское кольцо и пять товарищей из районной руководящей верхушки — пять организаторов народной борьбы с гитлеровцами во главе с первым секретарем Терногородского райкома партии. Они отстреливались из подожженной и охваченной огнем хаты до последнего патрона. И уже только их изуродованные и обгоревшие до неузнаваемости трупы жандармы подвесили на виселицу, возведенную посреди базарной площади в райцентре. Так погибла в районе вторая группа бойцов, а самому движению сопротивления нанесен был, казалось, непоправимый, чуть ли не смертельный удар. И надолго, неизвестно на какое время, все утихло. Гнетущая, свинцовая тишина залегла над оккупированным селом, над нашим концлагерем. Потянулись короткие, тусклые дни — и нескончаемо долгие, непроглядно темные осенние ночи. Вокруг только черная, холодная земля, а вверху мутное, набухшее, свисающее, казалось, над самой головой небо. Хмурую осень сменила лютая зима с трескучими морозами. Голод, холод, болезни и пули немецких охранников начали косить нас целыми десятками. Одна за другой, как обмороженные, увядали, и осыпались, не успев расцвести, наши надежды. Страшный концлагерь высасывал из нас последние капли сил, холодил кровь и замедлял биение сердец. Теперь каждый наш шаг, каждое движение требовало почти героических усилий и отнимало последние остатки энергии. С нами оставалась только острая, как тончайшее стальное лезвие, и жгучая, как огонь, ненависть. Если бы эту ненависть можно было собрать в какой-то линзе, как солнечные лучи в стеклянной лупе, она прожигала бы насквозь и поражала бы насмерть. Она была такой жгучей, что, может, одна только и согревала нас, держала на свете, спасала от смерти. Эта безграничная ненависть ко всему пришлому, оккупационному, ко всему фашистскому сконцентрировалась теперь на ближайшем к нам олицетворении всего этого — коменданте Иоганне Рудольфе Пашке… И можно было только удивляться тому, что он еще ходил по нашей земле и не падал, насмерть пораженный раскаленными добела стрелами ненависти, которые летели из наших горячих глаз!..2
Но гауптшарфюрер войск СС Иоганн Рудольф Пашке не падал. Он продолжал топтать нашу святую землю. И топтал довольно-таки самоуверенно и надменно. Среднего роста, плотный, но подтянутый, он не ступал, а, рисуясь, словно пружинил обутыми в хромовые сапоги ногами. Посаженная на короткую пружинисто-резиновую шею голова блестела узкой, ото лба через все темя и чуть не до затылка, продолговатой лысиной. Лысина прикрывалась огромной, точно сито, залихватски выгнутой эсэсовской фуражкой, и неширокий чистый лоб почти весь прятался под лакированным козырьком. Удлиненное лицо с ровным, четко очерченным носом и большими холодными глазами портили только тонкие, сердито сжатые губы и тяжелый, деланно, подчеркнуто тяжелый, презрительный взгляд. Если вспомнить еще офицерский френч с большими накладными карманами, орденскую ленточку в петлице, черный, широкий ремень на животе, тяжелую черную кобуру парабеллума, погоны старшего унтер-офицера и короткую, толстую резиновую дубинку в руке, то о внешности гауптшарфюрера будет сказано почти все. Правда, зимой он еще носил теплую, на вате, офицерскую шинель с воротником какого-то темно-рыжего эрзац-меха. Вместе с Пашке в другой половине дома под железной крышей размещался его гарнизон: два помощника в чине унтершарфюрора и пять рядовых эсэсовцев. А неполный взвод мадьяр-хортистов, который также охранял лагерь, располагался напротив, через улицу. Набранный из разного сброда десяток местных полицаев выходил на дежурство прямо из дому. Гарнизон, охраняя нас, больных, истощенных, голодных и замерзающих, имел на своем вооружении два станковых и несколько ручных пулеметов, автоматы, гранаты, винтовки и собак-овчарок… Сам Пашке на территории нашего огороженного коровника появлялся не иначе, как в сопровождении огромного серого волкодава на поводке, одного из своих помощников, полицая с винтовкой и хортиста с автоматом. Должность свою комендант считал, наверное, очень высокой, а своей ролью владыки жизни и смерти сотен людей откровенно кичился. Чувство неограниченной власти опьяняло его и не раз толкало на необдуманные, изредка даже… «гуманные» поступки. Да в таких случаях всегда спасал его от опасности погрешить перед своим фюрером, все уравновешивал железный, впитанный с молоком матери прусский педантизм. Педантизм этот проявлялся во всем, начиная от зеркально-начищенных сапог и до тех порядков, которые установил в подвластном ему концлагере гауптшарфюрер. Лагерь наш был хоть и явно временным, а все же лагерем смерти. Все здесь, в конечном счете, должны были умереть. Но даже в лагере смерти, даже отправляя нас на тот свет, Пашке сурово и педантично придерживался раз навсегда заведенных правил. И умирать люди должны были только согласно с этими правилами. Там, в самом коровнике, несмотря на то что он без потолка, стоит нестерпимый смрад, там кишат вши, не только в одежде, но и в перетертой соломе на земляном полу. Однако это совсем не должно мешать тому, чтобы пространство перед коровником, площадка вокруг вкопанного в землю столба, дорожки к дому и к воротам были всегда старательно подметены, зимой расчищены от снега да еще и посыпаны речным чистым песочком. Кормил нас Пашке чаще всего мерзлой сахарной свеклой, так же строго придерживаясь однажды установленного режима. Подвода со свеклой въезжала во двор ежедневно: первый раз — ровно в девять часов утра и второй — ровно в четыре дня. И никогда — позже или раньше. Зимой, в лютые морозы, когда долбить ямы в мерзлом грунте было почти невозможно, трупы умерших или расстрелянных лежали незахороненными до тех пор, пока их не наберется не менее двадцати. Трупы, по строгому приказу Пашке, должны быть обязательно раздетыми, вынесены за ворота на главную улицу и сложены аккуратным штабелем под оградой. Так и лежали эти жуткие штабеля на морозе по нескольку суток, наводя ужас на все село. Особенно же педантичность Пашке проявлялась в придумывании бесчисленных надоевших и бессодержательных правил жизни и поведения пленных. Можно сказать, что он был настоящим поэтом предупреждений и предостережений. От слов «Hait», [6] «Verboten» [7] и «Todt» [8] на территории лагеря и вокруг него даже в глазах рябило. Запрещалось, и никак не меньше, как только под страхом смерти: подходить к проволочной ограде ближе, чем на пять шагов; к немецкому начальству, если оно появлялось за оградой, ближе, чем на шесть шагов. Запрещалось также печь или варить свеклу без чрезвычайной необходимости и специального на то разрешения, разжигать, даже в самые лютые морозы, костры, вырывать из стрехи солому, выламывать слеги из крыши коровника, отправлять естественные надобности не в указанном месте, переговариваться с людьми через проволоку и еще многое и многое другое. Все предупреждения выписывались густой черной краской на заранее заготовленных фанерных дощечках. И выписывались большей частью старательной и аккуратной рукой самого Пашке. Предупредив и удовлетворив таким образом свое пристрастие к порядку, Пашке уже, вероятно, с легкой душой постреливал из парабеллума по живым мишеням. Стрельбу по людям он превратил в своеобразный спорт для собственного развлечения. Подчиненные его могли действовать плеткой, вчетверо сплетенной из проволоки, палками, прикладами автоматов и винтовок, каблуками сапог. А стрелять — только в исключительных обстоятельствах и в крайнем случае. Они, правда, развлекались еще и тем, что натравливали на пленных злых волкодавов, которые впивались в икры и вырывали куски тела, как настоящие волки. Но стрелять в человека, который беспечно приблизился к ограде на недозволенное расстояние, любил сам гауптшарфюрер Пашке. Это было лишь его право, его забава, которую он, шутя, называл «маленькой войной».
Иногда, если жертва не хотела умирать и оказывала сопротивление или кто-нибудь пытался бежать из лагеря (а осенью, когда у нас еще сохранилось немного сил, это бывало нередко), гауптшарфюрер устраивал по такому поводу настоящие «представления». Первым делом того, кто провинился или поднял руку на арийца, вне программы, избивали до крови и потери сознания. Потом его привязывали к столбу, вкопанному посреди лагеря, и выстраивали у стены коровника весь лагерь. Выходить должны были все: живые, полуживые. Тех, кто не держался на ногах, должны были поддерживать товарищи. Люди часто простаивали на лютом морозе по нескольку часов, а иногда и целый день. И пока они, стоя, мерзли на ледяном ветру, под теплой крышей комендантского дома готовился пышный велеречивый и напыщенный приказ. О силе и мощи третьего рейха, который в веках будет существовать на нашей планете, повергнув себе под ноги разные там мизерные племена и народы. О мудрости фюрера. О карающей деснице провидения, которая безжалостно с точностью автомата карает каждого, кто только попытается поднять руку на представителя третьего рейха, доверенную особу самого фюрера или на его законы. И о том, что любая подобная попытка будет заранее обречена на провал самим всевидящим арийским богом. В назначенное время во дворе выстраивалась также вся свободная от нарядов комендантская команда. В торжественной тишине через переводчика, оглашали именем фюрера и третьего рейха приказ и тут же исполняли приговор. В большинстве случаев и здесь виновного выстрелом из парабеллума убивал сам комендант. После этого, уже без приказа, расстреливали еще нескольких пленных на выбор, по два-три с правого или левого фланга. И, под конец, остальных загоняли в коровник, лишая на сутки, двое или трое (в зависимости от случая и настроения) еды, воды, и даже снега, и права растапливать печку в «салоне смерти»… А впрочем, есть ли необходимость пояснять и далее, почему из сотен людей, населявших наш лагерь, к концу марта сорок второго года осталось нас всего двадцать два?.. Теперь мы все свободно размещались в закрытом «салоне смерти», хотя это уже не возбуждало в нас никаких чувств. «Салон смерти» так «салон смерти»! Кое-кто из нас еще мог слабо двигаться. Правда, очень вяло, через силу, как весенние мухи. А многие уже и не поднимались с перетертой за зиму ржаной соломы, которая всем нам должна была стать последним, смертным ложем. Человек — пока он живет — все еще на что-то надеется. Но наше положение назвать жизнью в любом смысле было трудно. Это уже была агония, последняя степень безразличия к себе, к своим желаниям, надеждам. Ибо не хватало уже сил даже думать и надеяться. И взгляды наших, теперь необычайно больших на высохших лицах, помутневших от страданий глаз могли потянуться разве только к теплому, привораживающему поблескиванию огня в плите, если его удавалось разжечь. В тот мартовский день, когда в нашем лагере появился он, юноша, о котором пойдет рассказ, во дворе ослепительно светило солнце, вызванивали и журчали весенние ручьи, остро, возбуждающе пахло оттаивающей землей и горьковатой свежестью вербы. Да нам было не до этих запахов. Потому что чувствовали мы только надоевшую холодную сырость, которая обычно пронизывала наши беззащитные тела до самого нутра. И холодное, хотя и яркое, мартовское солнце не могло, не в силах было согреть нас. Оно только ослепляло. В обед кому-то из более крепких заключенных удалось обмануть бдительность полицаев и утащить с крыши несколько пучков почерневшей соломы и сухих вербовых слег. В плите запылал веселый, животворный огонь, во влажном воздухе «салона смерти» запахло печеной свеклой. И никто почему-то не препятствовал нам, не лишал нас этого маленького счастья, никто даже не заглянул за прикрытые, сбитые из неструганых сосновых досок двери. Все мы неподвижно, оцепенев, лежали на соломе, повернувшись лицом к плите, и только живые отблески трепещущего пламени тревожно мерцали в наших широко раскрытых, немигающих, словно остекленевших, глазах. Никого и ничего хорошего для себя мы не ждали в эту минуту. К нам мог заскочить разве что полицай с приказом погасить огонь. Но и это нас теперь уже не беспокоило и не пугало.
3
Тяжелая дверь нашего «салона смерти» на толстых, кованных в сельской кузнице петлях сильно и неприятно скрипела. Мы давно уже привыкли к этому неприятному скрежету и совсем по обращали на него внимания. Так было и на этот раз… Когда дверь вдруг резко заскрежетала и потом как-то неожиданно, будто на полслове, скрежет затих, никто из нас даже и головы в ту сторону не повернул. Из гулкой, холодной пустоты уже наполовину ободранного коровника потянуло острым ветерком. Минуту стояла глубокая, настороженная тишина. И вдруг ее разорвал звонкий, бодрый и… приветливый голос: — Здравст-т-т-вуйте, товарищи! Приветливый незнакомый голос и слово «товарищи»! Если бы из глиняного потолка внезапно ударил весенний гром, он, наверное, поразил бы нас, давно привыкших к самым неимоверным и самым страшным неожиданностям, значительно меньше. Потухшие глаза наши невольно загорелись любопытством, и все, кто еще только мог повернуть голову, обратили свои взгляды на дверь. В прямоугольнике раскрытых дверей стоял удивительный, нездешний, бесспорно пришедший из какого-то иного, настоящего мира незнакомый парень. Не полицай, не мадьяр, не немец, но и не пленный. Позади парня, сквозь дыры в крыше коровника, били в землю ослепительно яркие столбы солнечных лучей. На минуту показалось, что он спустился к нам откуда-то именно по этим столбам. И мы смотрели на него с изумлением и недоверчивой боязнью, как на какое-то необычайное явление, степное марево, плод нашего больного воображения, которое через какое-то мгновение исчезнет бесследно так же неожиданно, как и появилось. А он все еще стоял в дверях и, широко растягивая полные губы большого волевого рта, улыбался как-то задорно и в то же время жалостно. На голове у юноши кругленькая кроличья шапчонка. Из-под шапчонки на гладкий, но уже с глубокой бороздкой лоб спадают густые кудри буйного русого чуба. Почти белые, широкие брови, большие серые веселые глаза. Твердый, четко очерченный подбородок, румяные, чуть впалые щеки и заметные, упрямые выдающиеся скулы. И еще — курносый, смелый, задорный нос. Невысокий, но, видно, жилистый. Кисти длинных рук, непомерно большие, привыкшие к работе, покраснели от холода. На нем коротенький дубленый, не первый год ношенный кожушок, туго подпоясанный солдатским ремнем, зеленые солдатские брюки и солдатские кирзовые сапоги. В правой руке крестьянская полотняная торба, набитая чем-то чуть ли не под самую завязку. Постоял вот так какую-то минуту пришелец — ему, видно, было не больше двадцати пяти, — овеянный молодостью и мартовским солнцем, и, не дождавшись от нас ни единого слова в ответ, неохотно пригасив улыбку, вдруг помрачнел, будто на его лицо упала тень пробегающей тучки. — Т-т-а-а-ак! Невесело живется вам, товарищи! Порывисто переступил через порог, подошел к плите и бросил свою торбу на почерневшую, истертую доску, служившую нам столом. Мы неотрывно следили за ним глазами, видели, что происходит что-то необычайное, невиданное, и ничего не могли понять. А он уже разрывал своими большими, красными руками на ровные небольшие куски ржаную буханку и совал их по очереди каждому из нас. Разломав первую, взялся за вторую. И все же не рассчитал, хлеба на всех не хватило. Тогда он достал из торбы десяток выпеченных из кислого теста пышных деревенских пирожков. Взял один на ладонь, осмотрел зачем-то его, немного поколебался и, быстро разломав пополам, выковырнул и высыпал из него на расстеленную торбу начинку. И снова широко и жалостно улыбнулся. — Вам, тов-в-в-арищи, фа-а-соли сейчас нельзя, — пирожки, оказывается, были с вареной фасолью. — М-может очень повредить. Нет, он не заикался, только разговаривал несколько замедленно, растягивая некоторые буквы и отдельные слова, как человек, получивший контузию. Когда разносил разломанные и выпотрошенные от фасоли пирожки, тянул левую ногу. Нам сразу бросилось в глаза, что она у него не сгибается в колене. Раздал нам все, что у него было, оставив при себе пустую торбу и кучку начинки из вареной фасоли. Оперся плечом о стену и теперь уже довольно улыбнулся. И кто бы там что ни говорил, но это было настоящее ошеломляющее своей неожиданностью чудо. Мы — кто лежал, а кто уже и сидел на соломе — смотрели на приветливого пришельца, который неизвестно откуда и как здесь очутился, держа в руках куски настоящего пахучего, такого пахучего, что у нас даже дух захватило, ржаного, сытного хлеба. Хлеба, которого мы не видели даже издали вот уже несколько месяцев. — Ешьте, тов-варищи, прошу… Не беспокойтесь. Яринка обязательно передаст еще, об-бязательно! Она чуд-дес-ная, чтоб вы знали, дивчина — Яринка… И мы, веря и не веря, слушали, удивляясь и ничего не понимая в том, что произошло и при чем тут чудесная девушка Яринка; как завороженные, покорились, схватили каждый свой кусок и набили себе полные рты чем-то невыразимо сладким, необыкновенно пахучим и мягким… Один только Володя Сибиряк, двадцатилетний парень, прозванный так потому, что, несмотря на свое украинское происхождение, и вправду был родом из Сибири, лежал, как и перед тем, неподвижно. Хлеб держал, сжав в кулаке, близко у самого рта, но не ел. Не мог есть. Не воспринимал уже, наверное, померкшим сознанием того, что у него в руке хлеб, не знал, что с ним делать. И только тяжело, с хрипом вдыхал впалой грудью свежий запах хлеба. На запекшихся, тонких, как шнурки, губах его играла слабая детская улыбка, а из широко раскрытых больших глаз, которые бессознательно уставились в потолок, одна за другой выступали и скатывались по желтым, запавшим щекам круглые, прозрачные горошинки слез. Должно быть, острый запах свежего хлеба вызвал в угасающем сознании дорогие видения родного края, и, может, в это мгновение перед его потухшими, немигающими глазами возникли родной дом, родители, любимая девушка… И мы, заметив эти слезы и эту слабую пронзительную улыбку, уже не хотели тревожить парня. Да и сами мы были словно оглушены или заворожены. Молча, с голодной жадностью глотали самый сладкий, какой мы только ели когда-либо в жизни, хлеб, каждый из нас боялся только одного — очнуться, боялся, чтобы все это не оказалось самым обыкновенным голодным сном. Конечно, можно было просто расспросить этого внезапно появившегося парня, кто он, откуда и как попал сюда, за эту колючую ограду. Но это нам тогда и в голову не пришло… И пришло не скоро. Потому что тот день валил на наши головы одну неожиданность за другой и задавал нам такие загадки, разгадать которые мы были не в состоянии. Не успели мы прийти в себя от удивления, не успел развеяться запах ржаного хлеба, как дверь снова широко распахнулась, и два полицая, сопровождаемые помощником коменданта унтершарфюрером Баэром, овчаркой и хортистом в желтой шинели, внесли в «салон» на толстой палке огромное, закопченное черное ведро. И было в этом ведре что-то горячее, так как над ним клубился белый пар и снова наполнил «салон смерти» кислым запахом ржаного хлеба. — Эссен, эссен, ферфлюхтен швайн! [9] — гаркнул Баэр. — Эссен! — повторил хортист. — Гув, гув! — вслед за ними залаял злющий волкодав. В ведре была заварена на воде хорошо прокипевшая баланда из настоящих ржаных отрубей. Знакомое нам уже, но в последние зимние месяцы почти не виданное лакомство! Удивительно! С чего бы это так расщедрились немцы?! Но как бы там ни было, а что-то горячее было нам сейчас, как никогда, кстати. И, долго не раздумывая, мы взялись за свои уже давно не употреблявшиеся и заржавевшие жестянки из-под консервов. Несколько ложек горячей баланды совсем разморили нас. Обессиленные и истощенные, мы просто опьянели от еды. И уже словно сквозь сон слышали какой-то необычный шум во дворе: команды Пашке, выкрики полицаев и глухой лай овчарок. Оглушенные, молча смотрели мы из-под тяжелых век сонными глазами на то, как под полуразрушенной крышей коровника ближе к вечеру расположилась целая толпа каких-то одетых кто во что горазд, новых, шумливых людей — в шинелях, кожушках, а то и в стареньком пальтишке или свитке. У всех были с собой торбочки или сумки с едой. Новички курили цигарки из ядовитого самосада и переговаривались свежими, бодрыми, непривычными тут голосами. Снова нас угощали хлебом, луком, пирогами и даже солеными огурцами и яблоками. Однако наш «старый» знакомый, сероглазый парень с русыми кудрями, вдруг строго и категорически запретил нам съесть хоть кусочек чего-нибудь: — В-в-вам это только по-о-вредит! Слышите вы, тов-варищи! Это опасно! И отобрал, спрятал в свою торбу все, что кому досталось. Он ни с того ни с сего начал просто командовать нами, приказывать, а то и покрикивать. А мы, вместо того чтобы удивляться, восприняли это как должное и подчинялись парню, как малые дети, точнее, как больные распоряжениям врача. Да, впрочем, такими вот больными мы и были на самом деле. Он остался с нами и на ночь, не присоединившись к тем, которых пригнали к вечеру. Места в «салоне смерти» было достаточно, и теперь нас там было уже двадцать три.4
А наутро снова осталось двадцать два. Ночью тихо умер, так и не приходя в сознание, Володя Сибиряк. Мертвый, он лежал с широко раскрытыми глазами, с застывшей улыбкой на высохших губах и с зажатым в костлявой детской руке кусочком хлеба. Вынесли его во двор новоприбывшие товарищи. У нас на это уже не было сил. Их у нас, да и то лишь у некоторых, хватило только на то, чтобы выползти за ним и проводить мертвого побратима на залитый утренними розовыми лучами двор. То, что мы увидели во дворе, снова поразило и до крайности удивило нас. Правда, сегодня было первое апреля, как мы узнали от прибывших, однако то, что творилось у нас на глазах, никак не вязалось с первоапрельской шуткой. На улице у самой ограды толпились женщины и дети. Люди заглядывали сквозь проволоку во двор, суетились, что-то кому-то кричали, а потом притихли и начали выравниваться в длинную очередь вдоль ограды. И оккупанты не кричали на них, не стреляли и не спускали с поводков злых волкодавов. Да только ли это! В воротах стоял сам командир мадьярского взвода и отбирал у женщин передачи, просматривал и потом отдавал полицаям, которые уже непосредственно вручали их заключенным. А в стороне, совершенно равнодушный и спокойный, словно так и надо, стоял гауптшарфюрер Иоганн Рудольф Пашке, и свирепый волкодав также спокойно лежал у его ног. Нет, в самом деле, что это вдруг произошло с гитлеровцами? Но со своим запоздалым вопросом нам пока что не к кому было обратиться. Вновь прибывшие (теперь мы увидели, что было их, наверное, с полсотни) разбрелись по двору, стояли группками ближе к воротам, ожидая передач, а наш вчерашний русый спаситель вцепился руками в колючую проволоку и, забыв обо всем на свете, оживленно переговаривался с круглолицей бойкой девушкой, стоявшей по ту сторону двойной проволочной ограды и сверкавшей темными, искристо улыбающимися глазами. Вероятно, это и была упоминавшаяся вчера «чудесная дивчина Яринка». Как раз между ней и парнем на одном из кольев ограды была прибита фанерная дощечка, а на ней предупреждение о том, что подходить сюда запрещено и что нарушитель, который попытается подойти, будет наказан смертью. Странно! Почему терпел такое нарушение Пашке? Почему не разрядил им в спину свой парабеллум?.. И снова в тот же день были вдобавок к печеной, а не сырой свекле хорошо сваренные отруби, свежий хлеб, пирожки, сочные головки лука, чеснок и даже табак. Но… пока мы наблюдали в лагере и на улице эти необычайные события, в «салоне смерти» навеки уснул еще один наш товарищ — старшина стрелковой роты, бывший тракторист Павло Репьях. И ни крошки сегодня не могли взять в рот истощенные молодые парни узбек Бахрам и чуваш Петро… Целый день они лежали неподвижно, уставившись глазами в потолок, не реагируя ни на что окружающее даже взглядом… Под вечер осталось нас в «салоне» только девятнадцать… Женщины за воротами разошлись. Потом пригнали еще группу новых заключенных. Пашке, избавившись от посторонних свидетелей, приказал немедленно всех заключенных, прибывших сегодня и вчера, загнать во внутреннюю ограду, а затем и в коровник. Во дворе снова лаяли псы, раздавались удары палок и резала ухо гортанная немецкая ругань охранников. Когда укутанные в старое тряпье застывшие останки Бахрама и Петра выносили из «салона», новенькие столпились под стеной коровника, замолкли, заметно сникли. Тоскливые, тревожные огоньки замелькали в их глазах, казалось, будто что-то тяжелое, гнетущее легло им на плечи. И были они уже не прежние, оживленные, только что «с воли» люди, а такие же заключенные, бесправные пленные, в глаза которым уже заглядывала и дышала в лицо могильным холодом смерть. И хотя в нашем «салоне» еще было довольно просторно, на дворе, а значит, и в коровнике — сыро и холодно, никто из вновь прибывших так и не решился зайти к нам. Только двое-трое с нескрываемым трепетом переступили порог, обвели с каким-то почти мистическим страхом перепуганными глазами наш закуток, передали что-то съестное, что должны были передать, и, явно не в силах скрыть вздоха, в котором чувствовалось облегчение, торопливо вышли. Должно быть, очень уж страшными были мы для свежего глаза. И наш когда-то такой желанный «салон», вероятно, тоже казался им не теплым уголком, а могильным склепом. Целый вечер в коровнике господствовала гнетущая тишина. А если кто-то изредка и заговаривал, то произносил слова только шепотом. И один лишь наш «старый» знакомый, наш русый паренек, который первым с улыбкой на губах переступил порог этого ада, остался с нами. Добровольно взяв на себя обязанности нашей сестры милосердия, он присматривал за нами, как за детьми, подкармливал, следил, чтобы мы не съели лишнего и не пили воды; подбадривал словом и своей искренней жизнерадостной и немного жалостливой, такой разительно необычной в этом царстве смерти улыбкой. Расспрашивал каждого, если только тот хотел и мог рассказывать ему, кто он и откуда. А если иногда и не отвечали на эти вопросы, его это не смущало и не обижало. С такой же мягкой, дружеской приветливостью поведал он о себе, о том, что происходит сейчас и происходило на протяжении всей зимы в окружающем мире. Назвал он себя Дмитром. Сообщил, что служил с начала войны в одной армейской газете корреспондентом. И тут, правду сказать, нас, стреляных-перестрелянных, удивило такое его откровенное, без особой необходимости, признание. Ведь мы-то знали, что эсэсовцы и гестаповцы охотились за такими людьми с не меньшей настойчивостью, чем за политработниками и офицерами. Мучили, пытали, стремясь выжать какие-то показания, беспощадно уничтожали… Так что же это он? Рисуется как мальчик? Или еще ветер в голове гуляет, и он просто выдумывает? А может… Может, ему уже и скрывать нечего? Может… Не очень хотелось так думать. Обезоруживала эта искренняя улыбка, эти чистые глаза. Хотя… всякое ведь бывает. А он… Сделав, не имея к тому никакой необходимости и основания, ужасное в наших условиях признание, продолжал вести себя так спокойно, словно сказанное относилось лишь к мерзлой свекле, а не к жизни и смерти, чести и бесчестью человека. Накрыло его миной недалеко от Умани, на опушке, где-то между Подлесным и Скальным. Так и остался лежать в глубоком, поросшем бурьяном рву, подплыв кровью и потеряв сознание. Раздробило колено, ранило в плечо, контузило. Только на следующее утро подобрал его случайно проходивший лесник. Уже в то время, когда наших и близко не было… У лесника-вдовца — старенькая бабушка и дочь Яринка, чудесная девушка-комсомолка. (Так, будто спрашивает его кто — комсомолка она или нет! Еще, чего доброго, и о себе выболтает.) Ну, подобрали его, перенесли к себе, положили на сено в каморке, врача какого-то старенького разыскали даже. Яринка сразу у потерявшего сознание Дмитра все, что было, из карманов вынула, комсомольский билет надежно спрятала (выболтал-таки, как и предчувствовали!), во все отцовское его переодела. Ну, одним словом, выходили, вынянчили, только нога теперь так и не сгибается в колене. Целую зиму у них за племянника считался. Даже когда полицаи из района, из Подлесного, наведывались, так и те уже привыкли и будто верили. Хотя, как выяснилось после, был он на примете, они глаз не спускали с него на всякий случай. И он, этот случай, и обрушился неожиданно на голову, как гром с ясного неба… Прозевал, вовремя не сориентировался и не успел исчезнуть. Думалось, до весны побыть у Яринки, пока нога заживет, а там уже по весне и дело нашлось бы. Как-то тогда и в голову не приходило, что фашисты тоже заблаговременно к весне готовятся. Кто же могзнать, что так оно одно с другим совпадет! Первое то, что не посчастливилось Гитлеру, как думалось, войну не только до зимы, но и к весне закончить, и конца-края ей еще не видно. А второе — таких, как он, Дмитро, по окрестным селам не одна сотня сидела. Вот и поняли гитлеровские заправилы: много еще им рабочих рук потребуется, чтобы эту войну продолжать! А чтобы не разбежались даровые руки весной по зазеленевшим партизанским лесам, лучше своевременно собрать их, а потом неожиданно и бросить в концлагеря. Да и в лагерях, вместо того чтобы без пользы уничтожать пленных, лучше подготовить тех, которые не умерли за зиму, и пусть умирают на необходимой третьему рейху работе. Теперь немецкое командование подчинило все окружающие лагеря организации «Тодт». И мы теперь должны быть рабами вдвойне: эсэсовцев и тодтов, которые взялись нашими руками на наших костях проложить шоссейную дорогу до самого непокоренного Севастополя. Именно теперь и прибирает «Тодт» к своим рукам наши лагеря. А рабочих на весну и лето ему потребуется много. Вот оно, выходит, все как просто! Заменить мерзлую, вонючую свеклу, хотя бы частично, отрубями и макухой. Без видимой причины в такого рабочего, который еще может держаться на ногах, не стрелять. Населению, которое будет подкармливать пленных, не запрещать этого. Как-никак, а «Тодту» экономия. Ну вот и пошли хватать каждого встречного, чтобы пополнить лагеря. Многие из окруженцев и местных все же успели скрыться и уйти. А он, Дмитро… Еще издали в окно заметил полицая и даже не подумал ничего. Потому что заходил этот полицай к леснику уже не раз. Зачем же бежать? Только подозрение да беду на своих спасителей накликать! А он, полицай, вошел, поздоровался, посидел, пока еще и другой откуда-то не подоспел, и: «Собирайся немедленно, пойдешь с нами!» Хорошо, что хозяин самогону им налил, и они не отказались. А Яринка тем временем выпытала, что к чему, и в дорогу собрала как следует, ничего не забыла. Даже в подкладку (снова поразила нас эта ненужная откровенность!) кое-что зашила. Дмитро хлопнул себя ладонью по кожушку, под которым где-то был еще ватник с той подкладкой, в которую что-то там зашито, широко улыбнулся ясной, обезоруживающей улыбкой: — Если бы знал, где упадешь, говорил когда-то мой дед, соломки бы подстелил! Да… оно, может, не так уж и плохо, что я именно к вам попал. Весна же на носу! А дорога — не ограда из колючей проволоки! Конвой, наверное, будет не без оружия! Да и в компании всегда лучше, чем одному… Что он хотел сказать этими словами? На что намекал? Просто болтал? Или что-то знал? А может… (не хотелось, очень не хотелось так плохо думать!) сознательно провоцировал? Удивительный человек! Привлекает к себе, душу отогревая, и… беспокоит, настораживает…5
А на другой день он нас совсем удивил и еще больше насторожил. С обеда и до самого вечера все мы вынуждены были сидеть в своем «салоне». Вновь прибывшие, как и мы, жались тесными группками вдоль нашей стены, под уцелевшей еще частью крыши. На дворе, не утихая вот уже несколько часов, шумел первый весенний апрельский ливень. По всему было видно, что лютая зима окончательно уступила место ранней и буйной весне. Исчезали, смывались дождевыми водами последние клочки рыхлого снега. Где-то там, на полях, по оврагам и ложбинкам, извивались тысячи ручейков. По улице, вдоль шоссе мчался клокочущий мутный поток и настоящим водопадом срывался в овраг за стеной нашего коровника. По сотням таких оврагов и буераков талые и дождевые воды с шумом, шипеньем и звонким бульканьем неслись к реке, наполняли ее вровень с высокими берегами, поднимали на своих могучих волнах шершавый, позеленевший лед. Река вскрылась. В воздухе, как после летнего дождя, чуялся нам уже запах луговых трав, волновал воскресшими надеждами… А тот, кто стал словно первым вестником этих неожиданных, пусть даже и призрачных надежд, присмотрев наших лежачих товарищей, подошел к плите, степенно стянул с головы кроличью шапку, тряхнул русым чубом и этим движением будто смыл со своего лица вместе с улыбкой и всю свою приветливость. Милое, задорное лицо его заострилось и стало вдруг холодно-строгим, каким-то сухо-торжественным. И совсем неожиданно, с полной серьезностью, властно, отрывисто, будто отдавая команду, он приказал: — Achtung! [10] Прошу ваше внимание слушать на меня сюда? Отчеканил каждое слово старательно и уверенно. Так, как только и мог выговорить эту фразу природный немец, который самоучкой изучил наш язык и твердо убежден, что знает его блестяще. Проговорил с такой естественностью, что в то мгновение не одного из нас невольно укололо сомнение: «А что, если и вправду к нам подослали какого-то фольксдойчика? Вот только зачем? Кому мы, такие страшные, нужны?» А «фольксдойчик» в это время, незаметно достав откуда-то листик бумаги, держал его в руке и провозглашал тем же деревянно-торжественным голосом: — Хайль Гитлер! Обращение высокоуважаемого господина гебитскомиссара нашего гебита, доктора Ернста герр, фон Кранкенмана!«К туземному населению! Те, которые здесь, на завоеванных войсками фюрера территориях, туземное население люди есть, навсегда запомнить должны… Фюрер великой Германии Адольф Гитлер сказал: отныне называемая туземцами Украина только географическое название будет есть. Все на восток и запад от Днепра завоеванные земли на веки вечные собственностью третьего рейха считаться будут…»И далее таким же тоном, тем же деревянным языком провозгласил: туземцы должны быть счастливы, потому что их завоевала такая культурная и великая нация, что это для них высшее счастье. Теперь надо жить и работать, не жалея своего здоровья для великой Германии. И что «все, которые хоть в мыслях будут поднимать руку на третью империю или нарушать приказы назначенной боготворимым фюрером власти, немедленно уничтожены беспощадно и безжалостно будут есть…». И что «самой святой обязанностью каждого туземца есть»: выдавать немецкой власти скрываемых и беглых пленных, коммунистов и партизан, выдавать тайные склады оружия. И что каждый, кто не только сам знает или видел, но только слышал от другого что-то о партизанах и не донес законной власти, «расстрелян будет есть». И в таком духе вплоть до подписи гебитскомиссара. Так был прочтен, как говорят, на «полном серьезе», торжественно-бессмысленный бред. Бред без складу и ладу, сочиненный по логике сумасшедшего. Но за этим бредом таилось все же страшное и кровавое содержание. Двое из нас не выдержали, поднялись на ноги, подошли к Дмитру и заглянули через плечо. Нет, он не мистифицировал и ничего не выдумывал, он читал так, как оно действительно было написано и даже напечатано. Дочитав, обвел всех вопрошающе-суровым, изучающим взглядом, и… вдруг лицо его снова озарилось мягкой, привлекательной улыбкой: — Не поняли? А фокус, между прочим, довольно интересный. Прошу убедиться и взглянуть собственными глазами. Как настоящий фокусник, провел ладонью по листку, взял его кончиками пальцев за уголки, встряхнул, словно платочек, и, мгновенно повернув обратной стороной, медленно провел перед нашими удивленными глазами. Вначале мы увидели только какой-то очерченный толстыми черными линиями рисунок. Потом пригляделись внимательнее и, как-то невольно, словно подчиняясь внутреннему ведению, все сразу оглянулись на двери. А уж затем снова впились взглядом в этот клочок бумаги и уже не могли отвести от него глаз. Несмелые поначалу, непривычные в «салоне смерти» улыбки, помимо нашей воли, постепенно, скупо, а потом все яснее и яснее озаряли наши измученные, заросшие лица. Никогда еще такие ясные улыбки не освещали этого скорбного жилища, и никогда еще давно знакомые каждой своей чертой лица товарищей не представали перед каждым из нас такими непосредственными и человечными, открыто озаренными двойной радостью: радостью от того, что все же не ошиблись в человеке, и от того, что увидели. На листке бумаги, на обратной стороне обращения гебитскомиссара к «туземцам» был нарисован самый обыкновенный большой узловатый кукиш. А острый, как серп, ноготь большого пальца этого кукиша энергично упирался прямо в нос Гитлеру! Упирался, вдавив нос Гитлера, как кнопку, между щетинистыми усиками и испуганно выпученными глазами. Для каждого, кто хоть немного разбирался в этом, было ясно, что рисунок на обороте обращения напечатан типографским способом. Гитлер на рисунке, конечно, карикатура, но вместе с тем это был точный портрет. Такой, каким его узнает каждый, кто только посмотрит на рисунок. Сделан рисунок просто, но это не помешало художнику показать, что Гитлер перепуган, что он поражен внезапным отпором. Нарисовано было четко, ясно, умело. Одним словом, перед нами была художественная вещь, остроумная и язвительная. Под рисунком вычерчен четкими черными буквами скупой текст:
«ТУЗЕМЦЫ — ГИТЛЕРУ! ОТ ИСКРЕННЕГО СЕРДЦА — С ПЕРЦЕМ!» «Молния»Можете себе представить, что с нами происходило! Кому довелось волей судьбы и обстоятельств попасть в наше положение или побывать на оккупированной территории, во вражеском окружении, тот нас поймет. Поймет, потому что и сам, вероятно, ощущал ту молниеносную силу, с которой действует на человека, давно не слыхавшего правдивого родного слова, каждая весточка от своих, каждое слово и особенно печатное слово — листовка! Нас будто пронзило, будто встряхнуло электрическим током. И от этой встряски мы, казалось, даже окрепли. Как-то светлее, чище стало и вокруг нас. Мы не думали теперь о том, что могут войти фашисты, забыли, где мы находимся, и какое-то время только молча улыбались… Наконец послышался чей-то глубокий вздох. Кто-то шевельнулся и, опомнившись, приказал: — Спрячь! Слышишь, спрячь, чтоб не отобрали… И уже потянулась к белой бумаге чья-то тонкая, синевато-прозрачная рука, придерживая, боясь, как бы не исчезло, словно марево, это неожиданное, вселяющее надежды чудо. — Где? Где ты достал? Как? — Где взял — так, как говорил мой дед, там уже нет. — Дмитро не спеша сложил вчетверо бумажку. — Да сейчас еще такого и вообще нигде нет. А вот завтра или послезавтра несколько сотен вот таких «обращений» гебитскомиссара герра Кранкшнапсграбмана полетят по всей области, из района в район, от села к селу… Услышав такое, мы лишь недоуменно переглянулись… — Ловко нарисовано! — уже погодя вымолвил один из нас. — И это наверное же где-то тут, под немцем… Ведь… не похоже что-то, чтобы такое с самолета сбросили… — С самолета? — Спрятав бумажку, Дмитро поднял с земли обугленную палочку и провел ею раз и второй по гладенькому оштукатуренному квадратику стены над плитой. — Нет… Рисовано тут! — Механически, словно забавляясь, он водил угольком по стене. — Рисовано тут… Рисовал один… ну, скажем, один неизвестный… А на стене из-под его руки, неожиданно для нас, словно прорезавшись из глины, вырисовывалось человеческое лицо… Заросшее бородой, скуластое лицо макеевского шахтера Степана Дзюбы, который лежал здесь же рядом, опершись на локоть, возле самой плиты, с пристальным, все возрастающим удивлением следя за рукой Дмитра. — О-о-о! — густо, будто шмели, загудели мы, вконец пораженные. Потому что не узнать Дзюбы на стене было просто невозможно. Услыхав наше гудение, Дмитро непонимающе обвел взглядом всех нас, потом внимательно присмотрелся к стене и… будто даже растерялся или смутился. Нет, нет, можно было со всей уверенностью сказать, что он не рисовался, не думал нас удивлять или демонстрировать перед нами свое умение. Ибо он и сам немного удивился, вполне искренне удивился, взглянув на то, что вышло из-под его руки. Вышло почти непроизвольно, случайно. Так, как бывает, когда человек глубоко задумается над чем-то, а рука тем временем привычно делает что-то совсем иное, уверенными, давно выработанными, механическими движениями. И, еще не осознав всего до конца, мы уже почувствовали, поверили, что этот рисунок, в котором угадывалась сила настоящего искусства, прорвался у него непосредственно, действительно непроизвольно, так, как иногда вырывается песня из переполненной чувством груди. И так же как окружающие люди никогда не спрашивают у человека, почему он запел, так и мы — жители «салона смерти» — восприняли поступок Дмитра, — каким бы удивительным кому-то это ни показалось теперь, — и его рисунок словно что-то вполне понятное и естественное. Только молчали немного дольше, чем это полагалось. Нарушил молчание тот же Дзюба: — А что бы это могла означать вот та подпись — «Молния»? — «Молния?» — Дмитро так же машинально водил рукой по стене, только теперь уже размазывая ладонью свой рисунок. — «Молния»… Но закончить он не успел. — Хопиць! [11] Слово это прозвучало резко, решительно, как команда, хотя низкий голос того, кто его произнес, был тихим и слабым. Прозвучало, сразу заставив вспомнить, где мы находимся и что вокруг нас происходит. Из-под стены тяжело поднялся Микита Волоков. С трудом переставляя шаткие, негнущиеся ноги в грубых, порыжевших армейских ботинках, он подошел к плите. Поднял на Дмитра из-под высоких надбровий глубоко запавшие, но еще острые глаза, протянул к нему руку и… захлебнулся надрывным, глухим и долгим кашлем. Был Микита Волоков, как нам тогда казалось, человеком уже немолодым. Было ему, наверное, лет под сорок. Характером отличался ровным, сдержанным и порой даже суровым. Говорил всегда кратко, скупо, мысли высказывал трезвые, взвешенные, такие, к которым не прислушаться было нельзя. Советы его всегда были уместными, разумными. Мы давно начали прислушиваться к ним; стало уже привычным считать Микиту за старшего среди нас, мы слушали его, словно командира. О себе Микита почти никогда и ничего не рассказывал. Знали мы только, что он белорус, что где-то есть у него жена и дочь. А вот откуда он, что делал до войны, где служил в армии и имел ли офицерское звание — не знали и расспрашивать не решались. Кашель долго бил Микиту, сотрясая все его тело и надрывая грудь. Жилы на его худой длинной шее вздулись веревочками, запавшие щеки налились кровью, покрылись сизоватой, нездоровой синевой. Шрам, пересекавший левую щеку от виска до подбородка, стал совсем белым. Когда приступ кашля прошел, Микита вынужден был еще какую-то минуту отдохнуть, тяжело переводя короткое дыхание. — Ты… прости, парень, — положил он руку, которая мелко-мелко дрожала, на рукав Дмитрова кожушка. — Но… Видишь ты нас впервые… Дмитро смотрел на Микиту немного растерянно, но внимательно, пытаясь понять, чего от него хотят и почему перебили разговор. — Ну, впервые… — А вот рассказываешь… Будем говорить откровенно, неосторожно рассказываешь… Да и, если ты действительно так много знаешь, дано ли тебе право всем этим делиться, снова, скажем так, без всякой необходимости… — Неосторожно? — Дмитро обвел наш «салон смерти» долгим, пристальным и внимательным взглядом. — Неосторожно? Гм… Просто как-то не подумалось, что здесь, среди вас, может умирать от голода и холода какой-то там шпик немецкий или провокатор. Не подумал. Лицо его вдруг снова озарилось той откровенной и приветливой улыбкой. Улыбкой такой удивительно искренней, такой ясной, что пред нею тут же развеивались все сомнения и тревоги. И эта улыбка доброго, большого ребенка сразу обезоружила не только нас, но и строгого Микиту Волокова. — А вот имел ли право… — Дмитро, все еще улыбаясь, снова поглядел на всех нас, будто советуясь и проверяя самого себя. — Вот, ей же богу, как тут и сказать… Может, и в самом деле что-то прорвалось… Но… увидел я вас, своих, родных, и так мне захотелось хоть немного вас порадовать, хоть чем-то поддержать… Не только добрым словом, но и хорошей вестью подбодрить… А если, может, и правда что-то не так… Нет, такому душевному, такому откровенному человеку и с такой детской беззащитной улыбкой нельзя было не поверить! И можно было бы многое простить, если бы и действительно он что-то сказал не так. Ведь все у него шло только от искреннего желания сделать как лучше. — Да ничего же я такого и не сказал, чтобы кому-то могло повредить! — уже и в самом деле с какой-то детской наивностью начал оправдываться перед нами Дмитро. — Листовки те, «Молния»… Я же ни одной фамилии не сказал, ни места… — Да ты на меня не обижайся, — стал успокаивать его Микита. — Я так, на всякий случай, потому что и сам знаешь, где сидим… А ты нам действительно будто праздник какой здесь устроил, надежды умершие оживил. — Он взял из рук Дмитра вчетверо сложенную бумажку. — Если бы ты знал, какое это счастье, какая радость для нас увидеть этот белый мотылек! Слов таких не найдешь, чтобы поблагодарить и ту руку, которая эти бумажки достала, и ту, которая рисовала и писала правду поверх немецкого вранья. Дух ты нам, хлопче, поднял, и большое тебе за это спасибо! И там, в народе, такие мотыльки будут радовать всех и силы умножать… И вот теперь, когда наша судьба стала и твоей, общей нашей судьбой, когда ты спас нас не так от голодной смерти, как от смертельной безнадежности, то именно теперь и надо быть во сто крат более осторожным и бдительным. Чтобы то, что сейчас принесло нам самую большую радость и уже сделало свое большое дело, не обернулось для нас всех большой бедой. Думаем так, что не стоит нам беречь эту листовку, ежеминутно подвергаясь опасности. Не лучше ли ее, ну… уничтожить, что ли… Ведь перестреляют, замордуют всех до одного, концы к клубочку искать будут, если что. — Уничтожить? — Дмитро произнес это слово, как и Микита, с каким-то усилием, видно, выговорить его было больно. — Ну что ж… — он подошел к плите, протянул бумажку к пламени, и все мы, будто за магнитом, потянулись за его рукой. Широко раскрытыми горячими глазами следили за тем, как жадно лизнули бумагу желтые язычки, как темнела она на наших глазах, коробилась и оседала серыми хлопьями на тлеющие угли. Следили молча, долго, пока не исчез последний, крошечный лоскуток, который был зажат в пальцах Дмитра. Чувствовали мы себя так, будто совершили все вместе какое-то преступление, будто оскорбили, а то и убили кого-то близкого и родного… — Ну что ж, уничтожить так уничтожить… Да только вот бывают такие вещи, что их и уничтожить нельзя… Разве что… Дмитро не закончил. Сел на солому и торопливо начал стягивать с правой ноги кирзовый сапог. Стащил, бросил взгляд на дверь, за которой не утихал апрельский ливень, и старательно взялся перекусывать острыми молодыми зубами серые нитки, которыми была подшита к кирзовому голенищу грубая холщовая или даже брезентовая подкладка. Перекусывал, разрывая пальцами и зубами, бормоча сквозь стиснутые зубы: — Морока вам со мной. А только иначе нельзя. Тут уж действительно не имею права. Хотите или не хотите, а помочь должны. Такую задаю вам мороку…
6
Морока, на наш взгляд, вначале показалась нам не такой уж и большой. В сапоге, между голенищем и подкладкой, была зашита общая тетрадь в клеенчатой обложке. Достав ее из разрезанного голенища и победоносно потрясая над головой, он хлопнул ладонью по левому голенищу и, словно и не было перед этим предостерегающего разговора с Микитой и предупреждения не говорить о том, о чем можно и не говорить, протянул: — О! А тут еще одна! Еще тогда, когда понемногу начал поправляться и ковылять, попросил Яринку. Вот она это и зашила. На всякий случай. Чтоб всегда было под рукой… Время такое ненадежное, — начал он оправдываться. — А я, знаете, без этого как без рук. Ну, вот, не зашила бы Яринка, то как бы я теперь?.. Короче говоря, он должен был всегда, везде и при любых условиях рисовать. По правде говоря, нам, далеким от окружения, в котором создавалось искусство, людям, которые в своей жизни и близко не встречались с настоящими художниками, казалось это его стремление обязательно рисовать при любых обстоятельствах причудливым, возможно, нарочитым. Только подумать! В этом аду, где внезапная смерть является еще не худшим из того, что в любой момент может свалиться тебе на голову, мечтать о каких-то рисунках! Да, да, именно о рисунках! Не о листовках, которые призывали бы к борьбе, даже не о карикатурах, а об обыкновенных, ежедневных зарисовках из окружающей жизни. И это на пороге смерти, которая глядела в глаза из любого парабеллума в руках первого встречного гитлеровского ефрейтора и угрожала сейчас ему так же, как и нам! И нужно, действительно, быть очень молодым, очень наивным и очень верить в свою звезду, чтобы иметь желание рисовать в этом царстве смерти, крови, вшей, голода и холода! Мы еще не могли понять, что руководит его поступками. Но он был таким искренним, таким славным и симпатичным парнем! И это ж именно он осветил, словно солнечный луч, наш мрачный «салон смерти», отогрел и оживил наши души! Так как же мы могли не помочь ему? И мы все как один стали помогать ему словом, советом и делом. Кто-то разыскал тонкую заостренную дощечку, кто-то вырыл в углу под стеной ямку и выстлал ее соломой, обернул тетрадь грязной портянкой. Тетрадь спрятали в ямку, прикрыли фанеркой и засыпали землей. А чтобы ее не выгребла собака в случае обыска, не пожалели доброй полугорсти подаренного нам самосада и посыпали это место. Вторая тетрадь так и осталась в голенище. А эта всегда должна быть под рукой. Выпадет подходящая минута, подними фанерку, примостись за плитой и рисуй! И мы только радовались тому, что могли хоть чем-то отблагодарить парня за все, что он сделал для нас. Пусть рисует, если это доставляет ему удовольствие, пусть будет для него в этой кровавой яме хоть какое-нибудь развлечение, которое отвлекало бы его от тяжелых мыслей о нашем невыносимом существовании. Пускай забавляется! В конце концов, если даже его рисунки попадутся на глаза немцам, что они увидят там? Что они, эсэсовцы, убивают или расстреливают пленных? Что гибнут за колючей проволокой люди? Да на фоне таких картин эсэсовцы сами охотно фотографируются! Ничего злонамеренного не заметят, следовательно, и в его зарисовках. Ну, уничтожат, ну отберут, ну, наконец, самое худшее, могут избить! А что, если и убьют?! Но они в любой момент могут убить и без этого, просто так, под настроение. Нет, пусть у парня будет это развлечение! Так думали мы. Но думали так недолго. Действительно, он был молодым и вправду еще наивным. Был он, если уж говорить откровенно, кое в чем даже легкомысленным, вернее — неосторожным. Но вместе с тем он был очень чистой и цельной натурой. И еще — он был художником. Настоящим, талантливым художником! Не потому только, что где-то за год до войны закончил художественный институт, что где-то там что-то уже иллюстрировал и выставлял. Нет, он был художником от рождения, по призванию. Искусство было его жизнью, делом, без которого нельзя жить, как без воздуха! И верил он не только в свою звезду, но и в нашу, верил в силу своего народа, своего государства, верил в нашу победу. Верил искренне, глубоко, не колеблясь, всем сердцем. Попав в такие обстоятельства, он сам вынес такие муки, видел собственными глазами такие падения и такие взлеты бессмертного человеческого духа, которые мог видеть и чувствовать далеко не каждый художник. Судьба дала ему в руки такой «жизненный материал», что он, как настоящий художник, не мог обойти его и не воспроизвести, даже с риском для жизни, даже перед лицом видимой смерти. Он встретился с тем, о чем должно было потом узнать и не забыть все человечество. И верил в то, что еще придет время, когда его зарисовки станут бесценными человеческими документами, пусть даже не произведениями искусства, пусть только живым, правдивым материалом, который поможет уже не ему, а другим в создании волнующих картин о неслыханных в веках преступлениях фашизма и борьбе с ним, о неслыханном человеческом героизме, о торжестве жизни над смертью. Пусть они взывают к тем, кто останется живым в этой войне и кто еще только родится после нее. Смотрите, до чего могут дойти люди на земле, если их превратить в животных, если они утратят человеческий облик. Смотрите, чем является и что несет с собой фашизм! Не забывайте! Не оставьте безнаказанным и не дайте повториться этому снова! Пусть не будет больше войн. Покончить с ними! И пусть этой великой цели хоть немного, хоть на маковое зернышко послужит он своими правдивыми зарисовками из-за колючей проволоки, из лап смерти, из когтей фашистского чудовища. Нет, оказывается, это все же не было развлечением! Это писался рукой художника одновременно и обвинительный акт, и приговор фашизму, и наше письмо в вечность, к тем, кто останется жить, кто родится после нас. Письмо, которое вырвет нас, наши страдания, муки, борьбу, самую нашу гибель из небытия, из мрака неизвестности и обессмертит ее. Это мы поняли очень скоро. Поняли даже те из нас, кому никогда в жизни не приходилось задумываться о назначении, даже о самом существовании того, что называется искусством. Поняли после первого, небольшого, в одну страницу тетради, рисунка карандашом: на фоне паутины из колючей проволоки — гауптшарфюрер Пашке с разряженным парабеллумом в одной и с собакой на поводке в другой руке. И согнутое, повисшее на проволоке тело пленного с простреленной головой. Скупо, торопливо было нарисовано все это. И ничем, ни единым штрихом наш художник не исказил Пашке. Но господи! Как разительно повеяло от этой фигуры чем-то дремуче-диким, ужасающим. И какой это был правдивый, точный и глубокий документ. Судьба человека, отданная в руки цивилизованному людоеду-дикарю. Люди, будьте бдительны, берегитесь, чтобы человечество не попало в когти гауптшарфюрера Пашке! Даже несведущий начинал понимать, что у него перед глазами что-то страстное, истинное, талантливое и впечатляющее! Нет, мы, конечно, тогда не философствовали и не раздумывали. Не так-то уж мы разбирались в искусстве, не те были у нас возможности, да и не до того нам было. Но все мы, пусть не осознавая того до конца, почувствовали, что с появлением юноши в нашем «салоне» поселилось что-то необыкновенное, что-то небудничное и неповторимое. Что-то такое, что не встречается повседневно, а иногда, и за всю жизнь не каждому встретится, что возвышало наш дух над нашими обессиленными телами, над кровью, грязью, смертью. То, что помогало нам смотреть с презрением на наших вооруженных палачей, смотреть сверху вниз, с высоты неодолимого человеческого духа. И мы теперь должны были поддерживать, оберегать и отстаивать то необычайно яркое, что появилось среди нас. Мы теперь должны были нести за него ответственность перед кем-то, кто придет, возможно, лишь после нас. И эта ответственность совсем не отягощала. Наоборот, она поддерживала нас и придавала силы. Между нами и нашими врагами еще резче обозначилась пусть незримая, но настоящая линия фронта, на которой мы стояли насмерть, чувствуя себя снова не замученными жертвами, а бойцами-воинами. А Дмитро рисовал, используя каждую свободную и удобную минуту. Рисовал в тетради, рисовал на влажной земле, прямо на полу, если не было возможности достать тетрадь. Он был необыкновенным, страстным до самозабвения художником. Не мог не рисовать, должен был творить, потому что, не рисуя, он, собственно, не жил. Творчество было потребностью его души, так же, наверное, как пение у птиц. И кто знает, что бы он отдал, на что бы пошел, лишь бы только рисовать. Кажется, и не жил бы, если бы его лишили такой возможности. Перед этой его страстью, перед этой жаждой творчества бледнели, забывались его наивность, легкомысленная неосторожность, эта его беспечная, несдержанная откровенность и доверчивость. Жили мы теперь двойной жизнью. Одной — в нашем «салоне смерти», где работал Дмитро, покой и безопасность которого мы охраняли, а другой — в концлагере, жизнь которого текла своим обычным руслом. За колючей паутиной проволоки над широким миром подымался прозрачный теплый апрель. Раскрывала крылья нежная, ранняя весна. Да никто теперь не замечал ни ее красоты, ни ласковой нежности. Потому что красота эта, пробуждая давние, счастливые воспоминания, больно терзала сердце и тревожила волнующими запахами оттаивающей земли, глубокой синевой перекрещенного колючей проволокой неба. Солнце за проволокой, небо за проволокой, свобода за проволокой. Жизнь за проволокой, и… смерть на проволоке. Обо всем этом скупыми, четкими и остро разящими штрихами пел и пел художник на страницах обернутой в клеенку тетради. А мир вокруг нас по-прежнему ограничивался проволокой, ободранным коровником, «салоном смерти», овчарками, парабеллумами, резиновыми дубинками и по-первобытному дикими рожами эсэсовцев. Фашисты продолжали вылавливать в окрестных селах, на дорогах и хуторах каждого встречного. Лагерь снова быстро пополнялся, и «жизнь» его входила в свою «нормальную» колею. Снова восстановил свои строгие запреты Пашке, снова карал за малейшее нарушение. Новички быстро потеряли свой долагерный вид, с которым они пришли «с воли», и почти догоняли нас. Двое из них стали жертвами «маленькой войны», неосмотрительно и невежливо поведя себя с комендантом. А одного так искромсали натравленные унтерами псы, что он умер, не протянув после этого и трех дней. Сидеть и умирать без дела, как это было зимой, нам уже не разрешалось. Теперь с самого утра нас выстраивали на поверку, выдавали положенную порцию баланды, а затем заставляли расчищать от грязи, подметать, мостить камнями и посыпать песком весь лагерь, комендантский двор и часть улицы перед воротами. Песок и камни возили военным фургоном с речки. Запрягали эсэсовцы в этот фургон десятка два людей и заставляли тянуть по вязкой грязи, подгоняя кольями и резиновыми дубинками, галдя, глумясь и натравливая собак. Иногда нас уже всем лагерем, — оставляя в «салоне смерти» только тех, кто действительно не мог подняться на ноги, даже под угрозой расстрела, — выводили на дорогу в село, а то и в степь. Приказывали расчищать от грязи мостовую, по которой торопились на восток, обдавая нас жидкой грязью, немецкие грузовики, приводили в порядок подмытые весенними водами мостики, расчищали площадку под скалой на берегу речки для будущего каменного карьера. В лагерь мы возвращались уже на закате солнца, плотно окруженные сворой собак и вооруженными конвоирами. Возвращались очень утомленные, избитые, едва вытягивая из грязи ноги. И больше, чем издевательства, чем усталость, терзали наши сердца боль и стыд оттого, что мы вынуждены работать на врагов, расчищать и мостить дорогу для их наступления на нас, на все наши надежды и чаяния. И все же настроение у нас было не то, что зимой, когда мы просто гибли, потеряв всякую надежду на спасение. Кроме того, что силы наши хоть как-то поддерживались отрубями и дертью из прелой кукурузы, к воротам лагеря по крайней мере раз в неделю прорывались группки женщин и детей. Они приносили передачи новичкам, а те по-братски делились с нами всем, чем только могли. И таким образом сохранялись наши силы, и мы держались на ногах. А поправившись, все мы, жильцы «салона смерти», убеждали себя в том, что никаких дорог мостить для оккупантов не будем. Мы уже начали верить, что на тех дорогах ждет нас весна, а с ней и освобождение. Верили, что час нашего возвращения к активной вооруженной борьбе с врагом наконец пробьет и что это не за горами. Вера эта снова была связана с Дмитром, который вдохновил нас новой надеждой. Теперь он, под влиянием Микиты, становился более рассудительным, меньше говорил о том, о чем можно было не говорить, стал даже немного осторожнее, иногда перешептываясь о чем-то лишь с Волоковым и Дзюбой. Но все равно мы тоже знали или по крайней мере догадывались об этом. Узнали, хотя и с запозданием, как дали наши гитлеровцам по зубам зимой под Москвой. Знали, что крепнет и с наступлением весны будет расширяться сопротивление оккупантам на захваченных территориях. Знали уже, что существует какая-то «Молния», и догадывались, что это название подпольной организации. Хотя не знали, какая она, хотели верить, что это сила, с которой связано патриотическое движение во всей области. За подписью «Молния» появились в окрестных селах две-три советские листовки. По всему было видно, что это именно «Молния» подорвала в соседнем, Скальновском районе сахарный завод, убила коменданта, вывела из строя несколько немецких машин, обезоружила полицейский пост и подорвала один из мостов через речку. Можно было догадываться также, что «Молния» готовит наш побег и что именно эта чудесная девушка Яринка через Дмитра должна поддерживать нашу связь с «Молнией». И будто были даже попытки, но пока что неудачные, подсунуть немцам в полицию, охраняющую лагерь вместе с оккупантами, кого-то из своих комсомольцев. И мы уже мечтали о побеге, об отобранном у конвоя оружии и о партизанском отряде где-то там, немного дальше на северо-восток, в лесах… Микита с Дзюбой уже прямо предупреждали нас, чтобы были наготове, чтобы осторожно, намеками, готовили к мысли о побеге новичков, среди которых было немало смелых и горячих голов. Их надо было подготовить к тому, чтоб они не растерялись в решающую минуту, знали, что и к чему, и сразу же подчинились единой команде и единому, пока никому еще не известному плану. Каким должен быть этот план, сколько в нем реального и сколько юношеской романтики и нашего желания нанести врагу удар, трудно было сказать. Но мы верили в этот план будущего освобождения, жили им и тем держались на свете. Дмитро наравне со всеми нес гнетущее бремя нашей страдальческой жизни. Вместе со всеми мерз, голодал, тяжело работал, выносил оскорбления и издевательства. Наравне с нами мучился, выбивался из сил и все же в каждую свободную минуту рисовал, рисовал и рисовал. Не мог не рисовать. Не представлял своего существования без этого. И сохранил свою мягкость, приветливую сдержанность и жизнерадостность. Казалось, ничто не могло изменить его жизнелюбия и стереть с лица искреннюю, ясную улыбку. И только в те счастливые для него, а значит, и для нас дни, когда за густой паутиной проволоки на улице показывалась коротенькая цигейковая шубка и обшитая лисьим мехом шапочка Яринки, когда девушка подходила к воротам, Дмитро терял всякое самообладание и прямо-таки становился сам не свой. Нарушая все запреты Пашке, он пробивался до самых ворот, сгоряча, очертя голову, бросался на проволоку, громко кричал, руками, глазами, подавал девушке какие-то знаки, принимал от нее ему одному понятные сигналы, не замечая в это время вокруг себя никого и ничего. И нелегко было нам тогда успокаивать его, сдерживать, спасать от коварной, притаившейся рядом пули гауптшарфюрера. Проводив Яринку погрустневшими глазами и щедро разделив между нами ее передачу, Дмитро с такой же неодолимой жаждой тут же брался за свои заветные карандаши и тетрадь. Рисуя, он был до конца предан одной, раз взятой теме и ни в одном рисунке не изменил своей строгой, правдивой музе. Рисовал не просто так, как рисуют для собственного удовольствия, а вкладывал в работу всего себя. К работе относился, как к высокому делу и нелегкому, но радостному подвигу. В типах врагов, которые рождались на бумаге из-под его руки, воплощал всю свою ненависть и неудовлетворенную жажду мести. Всегда писал только правду. Выражая мысль рисунка, старательно обрабатывал форму. Но суровая правда его искусства постоянно была беспощадной, острой, разоблачительно-насмешливой. Основной же чертой образов наших людей в его всегда трагических рисунках была героическая жертвенность, решительность и сила духа. Он не утешал и не приукрашивал. Умел передать правду жизни, неподдельную, суровую, мужественную, не скрывавшую ничего. Не холодными размышлениями ума, а скорее всем своим существом художника чувствовал, что живет в такое переломное время, на таком высоко-трагическом взлете эпохи, когда решается судьба человечества. И его голос, голос рядового бойца, должен донести до будущих лет, а может, и веков одну лишь трагическую и страшную, но святую истину нечеловеческих страданий и титанической борьбы за будущее человека. Было ли здесь место лирике, искушению минутных и скоропреходящих настроений усталости и неверия? Один лишь раз за все то короткое время, которое прожил с нами до этих трагических событий, он позволил себе только на миг отойти от своей скорбной и суровой, темы. Один лишь раз сорвалась из-под его мужественной руки нежная, лирическая нота, может, и свойственная ему, но сурово загнанная на самое дно души твердой волей и обстоятельствами. Именно с этого невинного рисунка все и началось.7
Яринка, неизвестно как и через кого, может, с едой, может, через какого-нибудь полицая, встретившегося на дороге, передала Дмитру маленькую бутылочку густых, как тушь, чернил. И будто нарочно в тот же день, ремонтируя на дороге мостик, Дзюба, вместе со щепками и стружками на растопку, принес в «салон» прямоугольный кусочек доски. Доска была новая, ивовая или липовая, белая, на редкость гладко обструганная, словно отполированная. А ко всему этому было еще, наверное, на нашу беду, и соответствующее, навеянное весной настроение. С дороги мы вернулись под вечер, почему-то значительно раньше, чем обычно. Были так утомлены, что уже не чувствовали ни рук, ни ног. Выбившись из сил, живыми колодами повалились на полу «салона смерти». В плите, потрескивая, тепло мигали белыми язычками пламени пахучие щепки. Сквозь раскрытые двери и окно — доски мы недавно сорвали и сожгли — неслись с реки волны ароматного, по-весеннему пьянящего степного воздуха. За рекой, спускаясь к горизонту, плавилось в предвечерней сиреневой мгле кроваво раскаленное солнце. И какой-то приглушенный, тревожно-возбужденный, предвечерний клекот-гул стлался над большим селом. Он делал свое, тот весенний вечер и тот волнующий клекот, как-то помимо человеческой воли и сознания проникая в наши страдальческие души. — У нас на юге теперь уже и посевную заканчивают, — отозвался кто-то без всякой связи с предыдущим. — А по степи, где не вспахано, или на межах — петушки. Синие и красные… — А в этих краях первыми расцветают подснежники. Еще и снег не везде сойдет с земли… Белые-белые, как снег, цветочки, а корешок — кругленькая сладкая луковичка. Заговорил один, продолжил другой. И этого уже было достаточно, чтобы наши мысли и наши разговоры сбились и коснулись очень и очень далекой от нас жизни, недостижимой, но родной и милой, как давно минувшее счастливое детство. Вспоминалось, как расцветают, разливаясь голубыми озерками, пролески, как пробиваются из-под прошлогодних листьев ворсистые синие глазки сон-травы, как горит желтым пламенем горицвет и оранжевыми полотнами устилает берега рек и топкие трясины одуванчик. И пошло, и пошло… Как, где и когда вздымаются льды и вскрываются реки. Как хорошо ловится наметкой вялая весенняя щука у берега, когда посредине реки идет лед. Какое половодье бывает на Днепре и какие чудесные, заросшие непроходимым камышом и татарником тихие плесы попадаются на Десне. И как легко идут на червяка из-под густых листьев кувшинок полосатые окуньки. Нашла на нас такая неожиданная лирическая минута. Тихо вспыхнула эта мечтательная беседа. Во время этого разговора мы так и не заметили, когда у Дмитра, который лежал возле самой плиты, оказался в руках тот желтовато-белый прямоугольничек гладенькой дощечки. Он всегда должен был что-то держать в неспокойных, ненасытных руках, и они, эти руки, всегда что-то рисовали, даже тогда, когда человек забывался и думал совсем не о том, что делает… Парень в наш разговор не встревал. Наверное, поддавшись его убаюкивающему, ровному течению, мечтал также о чем-то своем. Мечтал и, обмакивая время от времени тоненькую щепочку в чернила, неторопливо и сосредоточенно водил ею по ровной поверхности доски. Мы так и уснули, незаметно убаюканные усталостью и своей тихой беседой. И законченный рисунок заметили только утром, когда на дворе уже хрипло горланили полицаи, ворчали немцы и лаяли проголодавшиеся псы. За стеной — проволока, овчарки, до умопомрачения ненавистный, омерзительный ералаш. А перед глазами, на белой глади доски, черные, тонкие штрихи, которые иногда сливаются, вырисовывая четкий силуэт дерева или куста. Рисунок… Черным по белому. Но если бы он был написан даже красками, то, пожалуй, и тогда не произвел бы на нас большего впечатления своей выразительностью и тихим, глубоким лиризмом. Трудно сказать теперь, действительно ли он был написан так талантливо, или только так остро восприняли его наши наболевшие души, жадные ко всему, что только напоминало свободу. Да еще и теперь можно поклясться, что на том рисунке каждый из нас воспринимал не только форму, но и сочность, буйное кипение воспроизведенной черным зелени. Это был какой-то прелестный уголок в лесу или на лугу. Озеро или залив, заросший по берегам вербами, осокорями, стеной камыша. На воде — густые листья кувшинок. Местами — белые цветы лилий. Посредине — чистый плес, на плесе — лодка, от лодки на воде — тень. И вода в том месте кажется глубокой-глубокой… В лодке девушка с заплетенной косой. В косе — цветок, в руках — весло… Такая простая, необычная и слишком уж идилличная для Дмитра картина. Когда она пошла по рукам, парень объяснил, что такое озерко есть тут, неподалеку, в лесу. В лодке сидела его случайная хозяйка-спасительница, чудесная девушка Яринка. Для нас же в этом было что-то большее, что-то более значительное. За стеной клокотал ненавистный шум концлагеря. Он усиливался, нарастая… И тем острее веяло на нас от этого рисунка утраченной свободой, чем-то мирным, довоенным и таким сейчас недосягаемым, что при одной мысли об этом сердце заходилось от жгучей, почти физической боли. Девятнадцатилетнему волгарю Александру Воронову, или, проще, нашему самому младшему, Сашку, рисунок пришелся по душе больше всех. Насмотревшись, да так и не выпустив дощечки из рук, он попросил, чтобы рисунок повесили на стену и чтобы на него всегда можно было смотреть. Надо бы было, разумеется, подумать, прежде чем согласиться с этим, но… Призванный в армию сразу после окончания школы, молодой парень менее чем за год после призыва успел побывать солдатом, тяжелораненым, окруженным и, наконец, пленным. В плену раны его заживали плохо, он все время болел, и поддерживала его до сих пор лишь наша забота и присмотр товарищей. Болел Сашко и теперь. Снова опухла и угрожающе посинела раненая, плохозалеченная нога. На работу он не выходил, лежал, одинокий, весь день в «салоне смерти», и отказать в просьбе ему было невозможно. Да и минута была такая грустно-мечтательная. И никому из нас не показалось тогда ни странным, ни необычным то, что мы, собственно, решили придать нашему «салону смерти» хоть какой-то намек на домашний уют. Может, и смешно, но мы поддались на это искушение и повесили рисунок на шершавую нештукатуренную стену, поближе к окну. Висел он там всего одни сутки. На следующий день, возвратившись с работы, рисунка на стене мы уже не нашли. Сразу же, как только нас погнали на дорогу, в «салон» забежал с собакой на ремешке тоненький, как девушка, белокурый красавчик с маникюром на ногтях — второй помощник коменданта, унтершарфюрер Курт Каммлер, или, по-нашему, просто Хорт. Сашка это совсем не удивило. Ведь теперь каждое утро кто-нибудь из охраны проверял, все ли вышли, не остался ли кто случайно и не произошло ли в «салоне смерти» каких-нибудь недозволенных перемен. Остановившись в дверях, Хорт окинул быстрым, профессионально острым взглядом все помещение и, заметив рисунок, подошел ближе. Придерживая пса, который рвался с поводка, постоял какое-то мгновение молча, приглядываясь внимательнее. Потом удивленно, протяжно свистнул, что-то сказал, возможно, даже спросил. Говорил он очень быстро, и Сашко не понял, да и не старался понять. Не дождавшись ответа, Хорт выругался — это Сашко уже хорошо понял, — сорвал рисунок, бросился к дверям и снова остановился. Постоял, будто колеблясь, потом подбежал к Сашку и бросил ему в лицо две сигаретки. Еще раз, теперь уже более или менее доброжелательно, выругался и стремглав вылетел в дверь, рванув пса так, что тот даже заскулил от боли и неожиданности. Первое ощущение было такое, будто нас обокрали. И еще не давала покоя какая-то неосознанная неловкость или даже стыд. Так, словно обнаружили перед врагом свою слабость, раскрыли что-то такое, чего перед врагом, из гордости и презрения к нему, никогда не раскрывают. Кто-то высказал предположение, что рисунок понравился Хорту. Дмитро в эту фашистскую сентиментальность не хотел верить. Обругав их мерзавцами и тварями, он утверждал, что сделано это умышленно, чтобы лишить нас даже такого маленького утешения, и что его рисунок уже превратился в пепел в комендантской плите… А вообще особого значения этому случаю парень не придавал, и через день-два вся эта история и забылась бы… если б Дмитро не ошибся, запамятовав о врожденной немецкой сентиментальности, от которой еще не успели избавиться даже эсэсовцы. В следующий же вечер выяснилось, что рисунок не сгорел. Целый-целехонький висел он на стене в унтер-офицерской половине дома. Дзюба видел это собственными глазами, когда, вместе с другими пленными, заносил в сени дрова. Дмитра от этой вести всего даже передернуло. Парень впервые, с тех пор как прибыл к нам, крепко, крутыми словами, выругался и, раздраженный, забегал из угла в угол: — Этого еще только не хватало! Ублажать эсэсовские «души» своими рисунками! От одной мысли о том, что его работа ласкает глаз эсэсовцев, он просто в ярость приходил, злился, возмущался, стыдился самого себя, искренне веря, что хотя и без желания, хотя и невольно, но поступил позорно. Проклинал свою неосмотрительность и свои неспокойные, видно, уже не раз подводившие его руки. Откровенно говоря, все это казалось нам очень уж преувеличенным. — Если бы только и горя, — бросил кто-то из присутствующих. Кто-то попытался превратить все это в шутку. Другой успокаивал и утешал парня. А Дзюба даже накричал на него, чтобы он успокоился и не раскисал. Все это расстроило Дмитра еще больше. Сгоряча он обвинил всех нас в том, что это будто мы довели его до такого позора, и, не на шутку взволнованный, выбежал из «салона». Бродил где-то там во дворе минут десять, но вернулся к вам, так и не успокоившись. — Так опозориться! — бормотал он, зачем-то роясь в соломе и пепле возле плиты. — Просто позор!.. Ну, хорошо же! Подождите, я вас еще не так потешу! Мы не задумались над тем, к кому были обращены эти слова. Может, даже к нам. Угроза была, разумеется, немного странной, но чего только не скажет человек, разволновавшись! Да еще при таких обстоятельствах и в таких условиях. Тут порой и старшие, с более закаленными нервами, не выдерживают. Мы просто не обратили внимания на его слова, так же как не придали значения и тому, что Дмитро снова вышел из «салона смерти» во двор или к коровнику. Как и всегда, полумертвые от усталости, измученные, мы в тот вечер уснули рано. Спали каменным, хоть и каким-то болезненным, который так и не приносил отдыха, сном. Вообще находились в таком состоянии, когда все время хочется спать, и, если б можно было, мы засыпали бы где угодно и когда угодно. Да и ночь тогда выдалась довольно теплой. С вечера небо затянуло тучами, ветер утих, и все в природе замерло. Стало даже душно, хотя была только середина апреля. Сквозь сон ночью кое-кому из нас послышалась близкая пулеметная очередь. Однако никого она не разбудила, и, проснувшись утром, товарищи решили, что это был обычный болезненный бред. Утром нас почему-то выстроили в две шеренги вдоль ограды коровника и, не давая «завтрака», не выгоняя на дорогу, держали так добрых полчаса. Мы начали уже тревожиться и недоуменно переглядываться. Но… тут следует сказать еще несколько слов о нашем концлагере. Как уже известно, двор его был разделен надвое. Чтобы выйти на улицу из коровника, надо было пройти две калитки и ворота. Калитка, которая вела из концлагеря к комендантскому двору, была почти всегда запертой. Вторая, тоже узенькая, в ограде коровника, закрывалась только в исключительных случаях, когда комендант карал нас, приказывая загнать в коровник и держать там, не выпуская во двор. Именно посреди «нашего» двора, между двумя калитками, и был вкопан в землю печально известный, гладко отесанный и немного укороченный телеграфный столб. Под тем столбом — лобным местом концлагеря — расстреливали наших товарищей, к тому столбу нас прикручивали колючей проволокой, часами выдерживая на жгучем морозе, секли плетями и травили собаками для устрашения лагеря, а то и всего села. Там же, на том столбе, комендант вывешивал свои письменные предупреждения и угрозы. Для этого вверху на столбе были прибиты три планки с пазами. В пазы верхних планок входил большой, почти метровый лист дикта. В пазы нижних — в три раза меньшие. Планки, пазы, размеры, дикт — все было пригнано и обдумано с классической педантичностью. Гарнизон концлагеря получал продукты и разное имущество в больших и малых всегда одинаковых, стандартных диктовых ящиках. Неструганные деревянные планки этих ящиков шли на топливо, а верхние и нижние листы фанеры, к размерам которых и были подогнаны планки с пазами на столбе, комендант использовал для своих предупреждений и запретов, большей частью старательно, можно сказать, с любовью, выписывая их собственноручно какой-то черной густой смолой. Слова запрета писались большими латинскими буквами, а перевод их по-русски дописывал уже переводчик где-то сбоку мелкими, которых снизу и не прочтешь, каракулями. Четко размеренные в пазах планки давали возможность легко и удобно вставлять и вынимать из них диктовые листы. Красовались на тех листах почти всегда одни и те же надоевшие нам слова: «Achtung», «Verboten», «Hait», «Todt». Возвышаясь над оградой, они легко бросались в глаза каждому не только из окон и дверей коровника, но даже с улицы… Со времени появления в лагере новых заключенных большой лист фанеры на столбе почему-то не менялся и производил впечатление довольно-таки запущенного, что явно было не в характере гауптшарфюрера. «Achtung» и «Verboten» уже почти совсем смыли весенние ливни. Да и вообще мы на них не обращали никакого внимания, понуро проходя мимо лобного места. Точно так же, опустив головы, стояли мы и теперь лицом к комендантскому двору. За речкой, из-за далеких, покрытых синеватым маревом холмов, красным гигантским мячом выкатывалось солнце. Ночные тучи расступились, и над селом нежно светилось голубизной высокое небо. Прозрачным, синевато-розовым туманом дымилась влажная земля. Звонким, кристально чистым, поднималось над миром весеннее утро. А мы стояли невыспавшиеся, неотдохнувшие, даже после сна голова была тяжелой, словно налитой свинцом. Боль волнами переливалась по нашим истощенным телам, колола в сердце, ломала грудь и сводила мышцы. Холодно и неуютно было нам. И тревожно оттого, что не знали и не могли понять, чего еще хотят от нас наши палачи. Вот наконец из хаты вышел комендант. Отглаженный, хорошо сшитый мундир, высокая новенькая фуражка, старательно выбритые розовые щеки. Самодовольный, упиваясь своей властью, шел, пружиня ногами, похлестывая себя по начищенному голенищу резиновой дубинкой, левой рукой таща на поводке здоровенного темно-серого ленивого волкодава. За волкодавом на расстоянии нескольких шагов, вкрадчивой походкой шел высокий, тонконогий верзила в черном костюме и с белой повязкой на рукаве — переводчик. Лицо у него было какое-то птичье, с большим, как бы сплющенным носом. Под носом — щеточкой — черные, гитлеровские усики и лоснящиеся красные губы. Сверля каждого из нас наигранно-пронизывающим взглядом больших холодных глаз, Пашке прошел вдоль ряда. Мы, как и перед тем, стояли потупившись. Охрана, особенно полицаи, при приближении начальства торопливо вытягивалась. Пес уже рвался к нам и, припадая на задние лапы, люто рычал. Переводчик, с подчеркнутой почтительностью, строго придерживаясь дистанции, вкрадчиво ступал вслед за комендантом. А тот, повернувшись назад, остановился как раз на середине шеренги. Еще раз окинул всех каким-то будто испытующим, удивительно спокойным взглядом. Затем усадил пса на задние лапы и неторопливым, но властным движением руки с зажатой в кулаке резиновой дубинкой неожиданно указал на столб: — Кто?! Не понимая, что и к чему, мы перевели взгляд на столб, на диктовый лист, и… в первое мгновение так ничего и не поняли, потому что приготовились увидеть все, что угодно, но только не то, что увидели. Большой, почти метровый лист дикта, вставленный в пазы на столбе, отражал и повторял точно ту же картину, которая предстала сейчас перед нашими глазами на земле: на дикте точно так же красовался эсэсовец с резиновой дубинкой в руке, а рядом с ним сидел волкодав… Правда, лицо эсэсовца на дикте не походило на лицо коменданта. То был самый обычный, так сказать, типичный эсэсовец. Но зато пес на дикте был очень похож на живого. Только казался крупнее, так как был нарисован в один рост с эсэсовцем. Самым удивительным на рисунке было почти неуловимое в чертах, но разительное в настроении сходство выражения морды пса и эсэсовца. Во всем же другом — эсэсовец как эсэсовец: хорошо пригнанная форма, сапоги, фуражка, парабеллум и даже по две буквы «СС» на воротнике! Те же буквы «СС» повторялись на жетоне у пса, висевшем на его шее. Картина написана на дикте обыкновенным углем из перегоревшего дерева. Внизу — четкими фигурными буквами надпись: «Сучьи сыны!» Еще ниже, в виде перевода, — «Shütz Staffeln». — Кто? — еще раз сдержанно-холодным голосом повторил комендант. И хотя все было ясно и без этого, переводчик, выпрямившись и еще больше вытягивая длинную шею, перевел одно это немецкое слово пышной фразой: — Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке спрашивает: кто посмел учинить это непотребство?! Новички молчали, так ничего и не понимая и еще больше удивляясь. Они еще не постигли и не могли постичь трагизма увиденного и услышанного, трагизма, который сразу остро ощутили мы — жильцы «салона смерти». Все мы сразу, как только улеглось первое впечатление от неожиданности, ясно поняли, чьих это рук дело. И только еще ниже опустили головы, чтобы ненароком, неосторожным взглядом не выдать виновника, который, на удивление спокойно, с откровенно довольным выражением лица, стоял тут же, среди нас. Комендант бросает еще несколько слов. И в голосе его слышатся уже нотки нетерпения и раздражения. Переводчик, глядя ему прямо в рот, снова переводит этот скупой выкрик целой тирадой: — Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке дает две минуты на размышление и предупреждает, что если вы будете молчать, то он вынужден будет всех вас строго наказать. Альзо! Нестерпимо долго тянулись эти тяжелые минуты. Они гнули нас к земле, словно чугунные гири. Казалось, что в эти короткие минуты земля проваливается у нас под ногами и снова гибнет все: горячие ожидания, надежды на жизнь и освобождение, гордое желание уберечь, спасти этого чертовски щедро одаренного, но легкомысленного и отчаянного парня, который даже в этом написанном углем на дикте шарже оказался таким способным и таким остро наблюдательным, не говоря уже о его смелости и ловкости, с какой все это было проделано. «Не уберегли того, чем только и жили все эти дни. Прозевали!» — угнетала каждого тоскливая мысль. А надоевший голос переводчика уже снова въедался в сознание, как холодная осенняя изморось сквозь одежду: — Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС, господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает лишить всех вас еды на трое суток. Гауптшарфюрер… слушаю, герр комендант! Герр комендант обещает отменить свой приказ, если через две минуты преступник объявится. Если же он не дождется ответа на свой законный вопрос, тогда… Bitte, герр комендант… Слушаю! Тогда комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает своему заместителю, унтершарфюреру войск СС господину Курту Каммлеру отобрать десятого с левого фланга и отвести его к столбу. Если еще через две минуты преступник не объявится, десятый с левого фланга будет расстрелян. Все стояли недвижимо, как стояли и до этого. Но… две минуты. Две бесконечно долгих и молниеносно коротких минуты! Невидимый ледяной сквозняк пронизывает грудь. Две минуты. Как же дознаться… кто? Кто — десятый с левого фланга? Я, сосед или вот он? Сосед или я? А не все ли равно?.. — …гауптшарфюрер войск СС… предупреждает заранее, что если через две минуты после расстрела десятого с левого фланга преступник не объявится, господин комендант прикажет именем великой Германии и боготворимого фюрера немецкого народа Адольфа… Но закончить переводчик уже не успевает. — Я рисовал! — звонко бросает Дмитро и, твердо ступая на искалеченную, будто одеревеневшую ногу, решительно выходит из ряда и останавливается в трех шагах от Пашке. Овчарка, зарычав, натягивает поводок. Переводчик округляет глаза, да так и застывает с раскрытым ртом и вытянутой шеей. Дмитро, глядя прямо в лицо эсэсовца отчаянно-решительным взглядом, повторяет: — Я рисовал! Пашке тоже, верно, не ожидая такого, удивленно поднял брови. Какую-то минуту непонимающим и холодным взглядом недоверчиво ощупывал Дмитра, будто прикидывая, можно ли ему верить. Потом совсем просто, скорее из любопытства, чем гневно, спросил: — Ты? — Я! — звонко и горячо, боясь, что ему могут и не поверить, отвечает Дмитро. — Ферфлюхт! А ты — смелый! — Комендант тычет палкой на рисунок: — А что там написано? — Известно что, — говорит Дмитро уже тише. — Эсэсовцы, то есть Shütz Staffeln, только по-нашему… — Не там! Выше! Дмитро, к нашему удивлению и страху, даже ухмыльнулся: — Ну, я же и говорю… То же самое, только по-нашему! Пашке пожал плечами и взглянул на переводчика. Тот мгновенно вытянулся и опустил взгляд. — Так? — спросил Пашке. — Т-так, — соврал переводчик, смертельно боясь сказать эсэсовцу такую дерзкую и страшную правду. — Зер гут! — неожиданно бросил Пашке и, вдруг потеряв интерес ко всем нам, да и ко всей этой церемонии, нетерпеливо махнул дубинкой и приказал гнать пленных на работу.8
Нетрудно представить себе, что это была за работа и с каким нетерпением ждали мы вечера, едва не выходя из себя от охватившей нас тревоги и волнения. Что там в лагере? Что там с Дмитром, который стал теперь для нас самым родным на свете человеком? Жив ли он еще?.. Может, уже там Пашке с него, живого, кожу сдирает?.. Каких только ужасов не представили мы себе за день, чего только не передумали! Что-то очень значительное, что-то несказанно дорогое вошло в нашу жизнь в этом адском закутке с появлением Дмитра. И потеря Дмитра теперь казалась нам потерей чего-то большего, чем собственная жизнь, чего-то такого, что нам никогда и никто не простит. Не только та чудесная девушка Яринка или его родные, о существовании которых мы ничего не знали… Нет, еще и кто-то более значительный, чем они! А мы бессильны, ну совсем ведь бессильны хоть чем-то помочь этому горю, бессильны спасти товарища… В лагерь, этот постылый, ненавистный лагерь, мы впервые с того дня, когда нас туда бросили, спешили как в родной дом, летели, словно на крыльях, не чувствуя усталости. Тревога, страх, отчаяние, безысходность и бессилие заглушали и усталость, и все иные чувства. А Дмитро, живой и даже не избитый, а только очень опечаленный, стоял в дверях коровника, встречая нас своей ясной улыбкой и искренне радуясь тому, что снова нас видит. Произошло чудо! Такое чудо, что если бы вместо живого и нераненого Дмитра стал пред нашими безбожными глазами вторично воскресший Христос, мы были бы этим менее удивлены. Видеть Дмитра было для нас таким счастьем, такой радостью и такой ошеломляюще счастливой неожиданностью, что нервы наши не выдержали. И все мы от этой большой радости начали ругать пария и корить его самыми язвительными словами. Обзывали его мальчишкой, психом, полоумным, сумасшедшим и даже дурнем. Упрекали в легкомыслии, анархизме и нетоварищеском поведении. — Ты ведь только подумай, сумасшедший ты человек! — отчитывал Волоков. — Разве ж можно в наших условиях выкидывать такие фокусы, да еще и не посоветовавшись с товарищами? Второй раз, если сделаешь что-нибудь подобное еще, — и видеть тебя не захотим! — Ну да! Так, бывало, и мой дед говорил: если, говорит, утонешь, хлопче, то и домой не возвращайся! — совсем не обижаясь, еще шире улыбнулся Дмитро, будто мы говорили ему бог знает какие приятные вещи. — А смеяться тут, между прочим, нечего! — уже по-настоящему вскипел Микита. — Ведь вместе со своей глупой головой ты рискуешь тем, что должно принадлежать не только тебе… Ты и весь коллектив, весь лагерь подводишь своим легкомыслием! Ты же единственная ниточка, связывающая нас всех с внешним миром. И ты, по собственному легкомыслию, хочешь ее сознательно оборвать. А это уже хуже чем легкомыслие, сам подумай! Надо было тебе дразнить этих псов без надобности… Услыхав это, Дмитро сразу приуныл. Улыбка постепенно сошла с его лица, голова склонилась на грудь, и, глубоко огорченный, он начал оправдываться: — Как же это — без надобности? Мне, разумеется, очень больно и стыдно, что мог подвести всех вас… Очень мне неприятно… Но я не мог… Вот хотите — верьте, хотите — нет, но не мог! Я должен был, слышите, должен был смыть со своих рук и совести грязь той картинки! Должен! — повторял он упрямо, возбужденно, со страстной убежденностью. — Должен! Пока я еще живу, я живу не для того, чтобы делать приятное эсэсовцам! — И все же ты должен сейчас дать слово всем нам, что ничего подобного больше не сделаешь, не посоветовавшись с нами. Ты должен считаться с волей коллектива, если… — Если только это не будет задевать моей совести и не будет противоречить моим убеждениям. — Ты что ж, думаешь, что мы будем толкать тебя на позорные поступки? — возмутился Микита. — Да что вы! — даже ужаснулся Дмитро. — Вы меня просто не так поняли. Я только о том, что отступать перед «ними», спуску давать «им» не буду, пусть хоть убьют! — Но и анархия тут ни к чему. Сам же сказал, что комсомолец! Должен понимать. Спасти и поддержать нас и нашу честь может здесь только железная дисциплина. Согласен? — Да, согласен, — хмуро кивнул головой Дмитро, через силу преодолевая свой вспыльчивый характер. — Я привык отвечать за свои поступки сам, но… соглашаюсь… Тут один за всех и все за одного. Только так… — То-то же, — уже мягче отозвался Микита и, только теперь вспомнив, что мы еще так ничего и не успели расспросить, приказал: — Ну, давай рассказывай скорее, как это ты отколол такое и как оно тебе с рук сошло? — Эх, если бы только сошло! — грустно, почти с отчаянием воскликнул Дмитро. Мысль поглумиться над сентиментальными садистами пришла неожиданно тогда, когда он, разъяренный, выбежал из коровника и на глаза ему попался комендантский столб. Все, что он должен был сделать, возникло в его представлении внезапно и ярко, как вспышка молнии. Не раздумывая и все еще волнуясь, Дмитро лихорадочно взялся за дело. Забившись среди товарищей, которые жили в коровнике, Дмитро так и не вернулся в «салон», выждал, пока все уснут и в лагере станет тихо. Ночь была лунная, но выдалась ветреной и темной, все небо обложили тяжелые, клубящиеся тучи. Ветер, темень и незапертая на этот раз калитка во внутренний двор позволили парню незаметно вытянуть диктовый лист из пазов. Но после того, когда хлопец с этим листом очутился в безопасном месте за стеной и немного успокоился, он должен был с досадой убедиться, что рисовать в такой темноте, даже углем, даже линиями едва не в палец толщиной, даже на метровом куске дикта, можно разве что вслепую… Только теперь, поостыв, понял, что весь его пыл пошел насмарку, и, сникший, обессиленный, растянулся на только что вытащенном дикте. Лагерь спал. Скованные усталостью, пленные вокруг стонали, скрежетали зубами, что-то выкрикивали и всхлипывали, мечась в кошмарных лихорадочных сновидениях. Дмитра терзала, не давала уснуть досада, злость из-за неудачи. Он лежал на спине, с широко раскрытыми глазами и под свист и завывание ветра в возбуждении мысленно рисовал себе далекое, неимоверно далекое, почти сказочное время, когда в родном и каком-то новом Киеве, в солнечном, с широкими окнами зале откроется скромная выставка эскизов, этюдов, зарисовок, писанных на том материале, который попадался ему под руку. Выставка, которая потрясет, должна потрясти сердца глубиной человеческих страданий, умопомрачительной дикостью фашистских злодеяний, силой и непоколебимостью духа простого, ослабленного физически человека; человека, который из любви к своему народу, отчизне, преданности высокой, гуманной идее может одолеть неодолимое, такое, что, казалось бы, не под силу человеческому терпению, выдержке, психике; человека, которого ничто не сломило и который выдержал самое страшное… И будет на той выставке только одна-единственная большая картина. Картина, которая и через сотню лет правдиво засвидетельствует перед тем грядущим, счастливым, неизвестным поколением, которое, возможно, уже не будет знать ни войн, ни мук и страданий, которые несет с собой война, — засвидетельствует перед ними, что… такая страшная война в самом деле была, что такие «цивилизованные» человекоподобные чудовища, называвшиеся фашистами, действительно существовали; и что человек, пройдя сквозь неимоверное, может, даже и непонятное людям будущего, нового, только что нарождающегося мира, выдержал, не сломился, не утратил веры и победил. А он, Дмитро, был рядом, все это знал, слыхал, чувствовал и видел собственными глазами. И поэтому такая картина его или, может, кого-то другого должна быть и действительно будет когда-нибудь после победы. Потому что как бы ни было трудно, а победить обязательно надо, пройти через невозможное, ценой самого большого напряжения сил, ценой страшнейших испытаний, ценой самой жизни. Ведь нельзя же и в самом деле оставить мир в лапах этих гауптшарфюреров и ефрейторов! В пылу воображения рисовались картина за картиной, летели и исчезали в безвестности час за часом, и смотрели куда-то вдаль, прозревая сквозь темноту, широко раскрытые глаза. Смотрели далеко-далеко, не сразу замечая, что тут, над головой, ветер уже разогнал тучи, что выплыл полный месяц, стоит, как в песне, ночь — «місячна зоряна» и «видно, хоч голки збирай…». А Дмитру иголок собирать не нужно. Ему нужно сделать хотя бы то, что он в силах сделать сейчас, — написать большими кусками угля на дикте остроумную, едкую и язвительную сатиру. Рисовал он при лунном свете, примостившись под стеной коровника. Рисовал увлеченно, лихорадочно, с наслаждением мстителя. Стер на дикте горсть твердых, мелких угольков и закончил еще задолго до рассвета. Луна уже садилась, скрываясь за хатами и деревьями. По земле тянулись длинные густые тени. Но вставить дикт снова незаметно между планками на столбе не удалось. Парень неосторожно согнул фанерный лист, и тот, распрямляясь, бахнул так, словно кто выстрелил. Часовой, сидевший на вышке возле ворот, услыхал какой-то треск, заметил возле столба движущуюся тень и, не особенно встревожившись, а так, больше для порядка, полоснул в том направлении очередью из пулемета. Пули с сочным чмоканьем впились во влажную землю где-то совсем близко от распластанного на земле Дмитра. Назад, в коровник, пришлось ползти на животе, таща вдруг отяжелевшую, негнущуюся ногу. Правда, паники фашисты не подняли. Из окна о чем-то спросил спросонок унтер, солдат с вышки что-то крикнул ему в ответ. Унтер вышел во двор, обошел вокруг столба, зевнул, посвистел, повернул к хате, и все стихло. Утром нас выстроили, как по тревоге. Комендант разыскал виновника ночного инцидента, потом приказал вывести пленных на работу без завтрака, и… Дмитро остался в эсэсовских лапах, одинокий и безоружный. Как только закрылись за нами тяжелые, обитые железом и опутанные проволокой ворота, двое эсэсовцев схватили готового ко всему — на смерть и на муки — Дмитра и привели прямо в комнату коменданта. Эта комната была плотно набита награбленной и отобранной у расстрелянных или интернированных мебелью и коврами. Она напоминала скорее небольшой, забитый антикварными вещами комиссионный магазин, чем обычную комнату. А над всем этим хламом возвышался в тяжелом бронзовом багете сам пучеглазый фюрер. Пашке сидел уже в большом ковровом кресле, которое стояло перед тяжелым, резным дубовым столом. Слева от него примостился неизменный его спутник волкодав, справа стоял, вытянувшись, долговязый, словно заморенный, переводчик. Эсэсовцы остановились на пороге, крепко держа Дмитра за руки. Дмитро стоял потупившись, прикусив губы и думая, что привели его именно сюда не случайно, что здесь его подвергнут каким-то особенным, неизвестным еще пыткам и истязаниям, что будут о чем-то выспрашивать, и очень боялся, что закричит, а может, и заплачет, не выдержав тех мук. При одной мысли об этом он весь вскипал от возмущения и поклялся себе: «Ни одного стона, ни одного звука…» А комендант сидел совершенно спокойный, чем-то даже явно довольный. В руках вертел дощечку с тем злосчастным идиллическим рисунком, который, по всему видно, действительно пришелся по вкусу сентиментальным эсэсовским душегубам. — Ты? — лаконично кивнул на дощечку комендант. — Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке спрашивает, ты ли нарисовал это безобразие? — как заведенная пластинка, затараторил переводчик. — Я, — решил не отпираться Дмитро. Пашке настороженно (не врет ли?), но с интересом осмотрел парня с ног до головы и резко, от себя, махнул правой рукой. Эсэсовцы сразу же выпустили Дмитра из рук и приняли более свободные позы. — Ты… — комендант с ударением произнес это слово. — Ты умеешь рисовать? Переводчик, хотя Дмитро понимал все и без него, снова перевел этот краткий вопрос по привычному трафарету с полным титулом эсэсовского унтера. — Да… немного, — неуверенно отвечал Дмитро, с боязнью и чувством горькой досады догадываясь, что происходит тут что то совсем не то, чего он боялся и ожидал; что его торопливый, лихорадочный выстрел не попал туда, куда он целился, и Пашке прикидывается просто, что ничего не понял. А может, может, и в самом деле ничего не понял? Подпись ему не перевели, побоялись, а рисунок… Оскорбительное содержание его могло и в самом деле не дойти, ибо СС — охранные отряды — сами считают за честь служить фюреру со слепой, собачьей преданностью. И ничего оскорбительного в этом не усматривают. И он, выходит, вместо того чтобы донять, просто подчеркнул самое существенное, чуть ли не польстил? Чем дальше, тем больше походило на то, будто так оно и есть, потому что вообще все пошло черт знает как. — Ты учился рисовать? — спросил Пашке, вертя в руках дощечку. — Где? — Да, немного… Самоучкой в школе. От неожиданных поворотов, которые бросали парня от жизни к смерти и снова будто к жизни, Дмитром овладела слабость. На лбу большими каплями выступил пот. — Ты имеешь образование? — Да… обычное школьное. Дмитру было стыдно за свою слабость, пот и вялые невыразительные ответы. Ведь со стороны можно было подумать, что все это от страха перед никчемным унтером. Парень злился на самого себя; он мог держать себя в руках, мог даже отвечать спокойно, но слабость и пот не зависели от его воли, и предотвратить это у него не было сил. — Гм… Доннерветтер! У тебя, пожалуй, могло бы что-то выйти. — Комендант поднес дощечку к самому носу. — Если бы это была настоящая картина, — широко развел он руками, вероятно, считая, что настоящая художественная ценность картины заключается в величине размеров полотна, — это выглядело бы совсем неплохо. Гм… А ты это сумел бы нарисовать? — не поворачивая головы, он взял со стола и показал Дмитру обычную, размером в почтовую открытку, фотокарточку. Только теперь, наконец, Дмитро сообразил, что к чему! Опьяневший от крови и безграничной власти, унтер вдруг почувствовал себя чуть ли не герцогом или курфюрстом, которому только не хватало еще личного, придворного живописца, чтобы увековечить свою и своих близких драгоценные персоны. — Надо это, понимаешь, увеличить так, чтобы застеклить вот в этой рамке, — показал унтер-курфюрст на пустой, наверное, около метра высоты, багет. А с фотокарточки на Дмитра таращила глаза еще довольно молодая, но неприлично раскормленная фрау с бюстом портновского манекена и физиономией интеллигентной торговки. Фрау манерно позировала, сидя на гнутом венском стуле на фоне нарисованного пейзажа — замок, водопад и лебедь — и придерживая за руку золотушного киндера, у которого были глаза и нос унтера Пашке. Чувствуя, как кровь приливает ему к лицу от возмутительной, страшной перспективы докатиться до придворного маляра унтера СС, Дмитро какую-то минуту бессмысленно переводил глаза с фотографии на бронзовый багет и, наконец, сосредоточившись, собрав всю свою выдержку, ответил: — Боюсь, господин комендант, — прикинувшись косноязычным, дерзко посмотрел он прямо в глаза Пашке, — боюсь, что не справлюсь с таким почетным заданием. Я никогда еще не рисовал портрета жены гауптшарфюрера, у меня просто не выйдет… — Доннерветтер! — принял это за чистейшую правду унтер. — Ты должен. Ты рисовал какую-то грязную украинскую девку, и это тебе было нетрудно. То как же может не выйти, если ты будешь иметь честь рисовать благородные арийские лица жены и сына твоего коменданта? Сознание такой высокой чести уже само поддержит тебя и поможет! — Вот именно этой высокой чести я и боюсь… — Ферфлюхт! Завтра ты будешь иметь настоящие немецкие цветные карандаши и настоящую немецкую бумагу. А немецкие карандаши и бумага, как и все немецкое, самые лучшие в мире! Ты никогда не рисовал немецкими карандашами на немецкой бумаге и даже представить себе не можешь, какое это огромное наслаждение! И ты не бойся. Если сначала у тебя что-то будет и не так — я наказывать не буду. А теперь — хватит! Иди пока что и отдыхай! Освободить его от работы и выдать… выдать десяток картофелин. Ну, можно и пять сигарет, — уже окончательно расщедрился Пашке. — Иди! Ты все же нарисуешь это, доннерветтер!
9
— И ты все-таки будешь маляваць гета паскудства, — твердо сказал Микита, когда мы выслушали Дмитра и начали советоваться, как ему быть. — Думаете, что я должен марать руки этой гадостью? — выслушав наш приговор, умоляюще переспросил Дмитро. — Руки твои останутся чистыми. И весь грех, так сказать, мы возьмем на себя, а тебе просто приказываем сделать это. Поручаем, если хочешь знать, как боевое задание… — Если надо, я могу пойти на самые опасные задания, полезть на проволоку, броситься с голыми руками на Пашке, но рисовать эти рожи, унижать перед ними то, что я не имею права унизить… — Во-первых, ты сам безрассудно впутался в эту историю и поставил под угрозу и себя, и весь коллектив, а во-вторых, — в белых перчатках победу не одерживают. Как хочешь, но ты должен усыпить настороженность эсэсовцев, развеять их подозрения… — Усыпить? — Да. Это — если хочешь — приказ. И, наконец, нам тебя не учить. Проявлять свои способности в этом деле никто тебя не принуждает. Таким удрученным и расстроенным Дмитра мы еще ни разу не видели. Он был более веселым даже там, во дворе, когда, казалось, решался вопрос о жизни и смерти. Да и мы чувствовали себя далеко не так хорошо, как делали вид. Нам жаль было парня и неловко перед ним. Но что мы могли сделать? Рисковать его жизнью и единственной надеждой на освобождение всех? Нет, пусть уж будет так, пусть его умение послужит общему делу. И пусть совесть его будет спокойна. Пока мы живы и будем жить, мы никому не позволим даже в шутку укорять Дмитра. А комендант, мы полагали, тем временем отстанет, даст нам хотя бы временный «покой», и, наконец, так или иначе мы одержим победу над эсэсовцами. Так мы тогда думали, даже не подозревая, какие еще тяжелые испытания ждут нас впереди. Долго стоял Дмитро, опершись плечом о стену и низко опустив голову. Потом порывисто тряхнул чубом и обвел всех долгим печальным взглядом. — Ну что ж… Хорошо. Если уж надо рисовать, то вынужден рисовать. Обязательно нарисую, — сказал он с нажимом на последнем слове. И улыбнулся. Улыбка эта нас не успокоила, еще больше опечалила и насторожила. Чувствовалось — неладное что-то творится с Дмитром и вообще все идет, как по пословице: беда беду перебудет, одна минет — десять будет… На другой день мы снова выходили на работу без Дмитра. «Придворный художник унтера-курфюрста» не по своей воле провожал нас таким печальным взглядом, будто мы бросаем его одного на страшные мучения. Не погнали Дмитра на работу ни в тот, ни на следующий, ни на третий день. Настоящими немецкими карандашами, на настоящей немецкой бумаге он должен был рисовать настоящую арийскую семью, настоящего эсэсовского гауптшарфюрера, или, проще говоря, старшего унтера. И единственной живой душой на весь долгий весенний день оставался с ним тяжело, возможно, даже смертельно больной Сашко, который ни утешить, ни успокоить его уже не мог. Хотя, правда, как-то отвлекал от мрачных мыслей одним своим присутствием. Да еще тем, что у Дмитра теперь была возможность постоянно присматривать за больным товарищем. Парень страдал. Его мучила эта неожиданная, навязанная комендантом (а в конце концов, и нами) работа. Он едва сдерживал свое возмущение и сгорал от стыда. Смущаясь, просил нас, чтобы его «позор» скрывали, хотя бы до поры до времени от остальных товарищей, которые жили в коровнике. Пусть это будет только, так сказать, семейным позором нашего «салона смерти». Рисовать он начинал лишь после того, как мы выходили за ворота, и заканчивал заблаговременно, пока мы еще не возвратились с работы, скрывал все от товарищей из коровника, которые уже освоились и начали без страха заглядывать в наш «салон». Чтобы отдалить конец этой позорной работы, тянул как только мог. Простодушный, теперь вынужден был изворачиваться и пускаться на хитрости. Так как должен был думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем (мало ли что взбредет в опьяневшую от власти голову унтера!) и поэтому должен был доказывать, что он самый обыкновенный самоучка, от которого трудно требовать чего-то заслуживающего внимания и достойного «высокого» вкуса эсэсовского унтерфюрера. Легкий на руку, смелый и, бесспорно, блестящий мастер рисунка, он применил тут, можно сказать, интернациональный «метод», присущий, наверное, всем халтурщикам-копиистам мира, которые в поте лица когда-либо трудились на потребу и удовлетворение вкусов и безвкусицы мирового мещанства. Ибо эта «метода» и «техника», будучи единственно доступной «высокой» образованности и художественным вкусам гауптшарфюрера, должна была бы засвидетельствовать и дилетантство художника. Фотокарточку Дмитро плотно обернул прозрачной тонкой бумагой (Пашке ради высокой цели удовлетворил все его требования) и по ней, чтобы не испортить ценного оригинала, остроочиненным карандашом нанес густую квадратную сеточку. Такую же, соответственно увеличенную сетку нанес и на большой лист александрийской бумаги, приколотой кнопками к тому дикту, на котором были нарисованы «сучьи сыны» и которых не понял или прикинулся, что не понимает, Пашке. Трудился Дмитро над этой сеткой чуть ли не два дня. Потом долго, нудно, с муками и ошибками наводил с помощью той сетки контуры фигур высоких особ. Особенно старательно обводил и выписывал экзотический ландшафт, на фоне которого должны вырисовываться главные действующие лица: замок на островерхой горе, водопад, озеро, пышнокрылого лебедя. Не просто выписывал, а глумился, артистически издеваясь и над тем, что делает, и над высоким заказчиком, и… над самим собой. Тянулась эта мука и первый день, и второй, и третий. Мы со скрытым сожалением и сочувствием наблюдали его терзания, успокаивали и подбадривали Дмитра, как только могли. В душе же сами страдали и чувствовали себя так, как чувствует человек, на глазах у которого бесчестят и позорят что-то очень дорогое, родное тебе, а ты бессилен чем-либо помочь. Напрасно притворялись мы и перед ним, и перед собой, что твердо убеждены в том, будто он делает крайне необходимое дело. Дело, которое должно усыпить бдительность врага и нанести ему поражение, спасая для жизни и борьбы самого художника и целый коллектив советских людей. Слабое это было утешение и успокаивало лишь так, для вида. На самом же деле мы терзались муками неспокойной совести, в душе так и не решив окончательно: правильно или неправильно поступили, навязав парню свою волю и лишив его возможности достойно, не идя ни на какие компромиссы со своей совестью, умереть? Вопрос этот так нас мучил, и переживали мы его так глубоко, что не сразу и заметили, как наш художник, не выдержав роли самоучки-халтурщика, неожиданно заинтересовался своим типажом. Вошел, как говорят, во вкус и… по-настоящему увлекся этой ненавистной, навязанной ему работой. Начиная с четвертого дня, парень менялся прямо на глазах, имел довольный вид и уже должен был сдерживать себя, чтобы не спешить с этой ремесленнической халтурой. Не все еще понимая в этой его оживленности и упоении, мы с удивлением следили за тем, как Дмитро, совсем уже поразив нас, выдвинул встречный план, предложив дорисовать на картине между супругой и сыном еще и «высокую» персону самого Пашке. А у ног «благородной арийской семьи» посоветовал примостить также и любимого комендантского пса. Откровенно польщенный, комендант согласился на все и передал Дмитру собственное фото, на котором был сфотографирован в эсэсовском мундире. Но это уже было черт знает что! С парнем творилось что-то непонятное. Увлечение его было каким-то лихорадочным. Он теперь уже не думал ни о том, чтобы оттянуть работу, ни о том, чтобы выполнить ее в срок. Он неожиданно начал проявлять редкие способности, выписывая одежду, мундир, собаку с артистическим блеском настоящего художника. Возможно, его опьяняли бумага, цветные карандаши, которых он давно не держал в руках? Мы пытались его угомонить, но он уже настолько увлекся, что никого не слушал. Необычная работа в необычных условиях медленно подходила к концу. Не без любопытства, с нетерпением следил за ней Пашке. Заранее, видимо, радовался тому, как угодит этим портретом своей фрау, как соседи и родственники будут удивляться и завидовать гауптшарфюреру, с которого уже рисуют на завоеванных восточных территориях портреты. Его подчиненные, увидев картину в золотом багете, будут завидовать тому, что у него такая красавица жена. Радовался бесспорно! Так как рассказами о том, что его жена — необыкновенная красавица, давно уже набил оскомину своим подчиненным. Но за работой следил, надо сказать, сдержанно, оберегая достоинство эсэсовского мундира и не позволяя себе никакого панибратства с неарийцем, пусть даже и художником, а все же только самым обыкновенным «диким туземцем». Но зато его подчиненные, и не только какие-то там полицаи или венгерские хортисты, а и самые настоящие арийцы, только пониже рангом и рядовые, к большому сожалению, оказались далеко не такими выдержанными, как бы им полагалось быть. Как только услыхали, что именно затеял их унтерфюрер, как только убедились, что пленный, у которого не сгибается в колене нога, действительно что-то такое умеет, все эти унтеры, ефрейторы, просто эсэсовцы, хортистский офицер, который подчинялся немецкому унтеру, его унтеры и даже кое-кто из полицаев, забыв о субординации, рангах и мундирах, почувствовали в себе призвание настоящих меценатов и потянулись, как овцы за бараном, подражать своему старшему «фюреру». Все они были настырными и прилипчивыми, как голодные мухи. Обступив Дмитра, который иногда рисовал в укромном уголке коровника над оврагом, они совали ему фотокарточки с изображениями своих киндеров, тучных фрау, пучеглазых фрейлейн, растрепанных, с оскаленным ртом и замороженной улыбкой любовниц и невест. Перебивая друг друга, забыв о своем арийском достоинстве, чуть ли не унижаясь перед каким-то калекой-туземцем, просили иметь их в виду сразу же после гауптшарфюрера, расхваливали привлекательность своих фрау и фрейлейн и уверяли, что рисовать их будет очень приятно… А ефрейтор Цункер подступался к Дмитру наедине. Бледный, с прыщеватым лбом и огненно-рыжими, как факел, волосами, говорил он тихим, вкрадчивым голосом и беспокойно шарил вокруг зеленоватыми, пристальными глазами, в которых время от времени вспыхивали и исчезали, блуждая, бездумные огоньки. В петлице у Цункера желтела нашивка за какое-то давнее ранение. Цункер, озираясь, показывал фото своей невесты, которая стояла поддеревом в декольтированной блузке, узеньких клетчатых брюках и улыбалась всем своим круглым пампушкообразным лицом. Поведав, что он женится на ней на второй же день, как только фюрер победит и закончится война, Цункер в то же время почти с мольбой упрашивал «герр майстера», чтобы тот нарисовал ее, только не просто, а «обнаженной», чтобы на ней совсем ничего не было. Герр майстер, мол, имеет способности, и сделать это ему вовсе нетрудно. К тому же у фрейлейн Гильды чудесный бюст, и герр майстеру тоже будет приятно… Все они обещали горы всякого добра, прельщали Дмитра сигаретами, маргарином, галетами, кроличьими консервами, горохом, залитым настоящим смальцем, и даже свежим пшеничным хлебом. Сначала Дмитро не мог от них ни отбиться, ни спрятаться. А потом, правильно рассчитав, что педантичный и до крайности ослепленный субординацией немец проверять этого не осмелится, парень начал «совершенно секретно» сообщать всем этим «меценатам», что комендант под страхом суровой кары запретил ему что бы то ни было и для кого бы то ни было рисовать. Больше того, комендант также грозился наказывать даже и тех, кто воспользуется услугами художника. Отупевшие солдафоны — эсэсовцы и хортисты — хоть и не до конца поверили этому, все же надоедать Дмитру перестали. Некоторое время приставал к нему только огненно-рыжий Цункер. Он, со своим назойливым желанием во что бы то ни стало «раздеть» невесту, готов был идти на обман и подбивал Дмитра совершить это «раздевание» тайно, вопреки приказу гауптшарфюрера. За это рыжий жених обещал, кроме всех прочих благ, целое кольцо домашней колбасы. Чтобы отвязаться от этого сумасшедшего, Дмитро пообещал ему в ближайшее время обратиться к господину коменданту и попросить официального разрешения на это «раздевание». Ефрейтор почувствовал угрозу и наконец отстал. Парень рассчитал верно, но не подумал, что с этого времени Цункер станет его лютым и непримиримым врагом. А картина том временем завершалась довольно быстро. Уже великолепно, на вкус гауптшарфюрера, был воспроизведен красочный и экзотический «немецкий» пейзаж, тщательно выписан мундир унтера и одежда его семьи. Как живой, лежал на переднем плане, положив голову на лапы, остроухий волкодав. Белыми пятнами отсвечивали пока что только лица. Чем ближе было к завершению, тем мягче становился Пашке. Началось с того, что однажды (просто неслыханная вещь) он позволил себе угостить Дмитра сигаретой из собственных рук. А потом уже пошло так, что Дмитро мог беспрепятственно ходить по всему двору лагеря, просить то чистый бинт, то каких-то лекарств, и ему почти никогда не отказывали. Теперь его никто не осмеливался даже пальцем тронуть, а не то чтобы толкнуть или ударить. И хотя прыщеватый Цункер и поглядывал на него с нескрываемой ненавистью, но тронуть не решался. Так явно чувствовалось и охраняло художника невысказанное, невидимое, но железное комендантское «табу». Но и это все померкло и выглядело будничным после того, как Пашке, сам Пашке, по собственной инициативе, заметив, как во время дозволенных передач Дмитро, размахивая шапкой, подавал какие-то знаки Яринке, спросил: — Кто? Не дослушав неизменной формулировки переводчика: «господин комендант и т. д. и т. п. спрашивает», Дмитро, не колеблясь, выпалил: — Сестра! Родная сестра, господин комендант! — Можешь подойти к воротам и поговорить с ней. Да, да. Иди и не бойся. Я позволяю, — маршальским жестом, властно и милостиво, указал унтер правой рукой на ворота. Дмитро и Яринка разговаривали, может, пять, а может, и десять минут. Разделяла их колючая ржавая проволока, но они держались за руки. Жадно всматривались друг в друга, радуясь этой встрече, тревожась и отыскивая те изменения, которые должна была оставить на лицах тяжелая жизнь и разлука. И оба улыбались. Дмитро своей ясной, по-детски ясной улыбкой, а Яринка — своей стыдливо-сдержанной, пробивавшейся сквозь большие, скупые слезы, будто солнечный луч — сквозь крупные капли летнего дождя. Какие чувства вызвала, что принесла им обоим эта неожиданная встреча, сказать трудно. Но для нас, заключенных в концлагерь, она, наверное, значила очень много. Во время беседы, собственно, решалась наша судьба, хотя и узнали мы об этом уже значительно позже, потому что Дмитро на этот раз рассказал обо всем лишь двоим: Степану Дзюбе и Миките Волокову. Ну и немного больному Сашку. Да и то с единственным желанием, собственно, по необходимости, поднять его настроение надеждой и разбудить у него угасающую волю к жизни. И хотя наше положение в целом немного улучшилось и все мы понемногу поправлялись, Сашку с каждым днем становилось все хуже и хуже… Яринка рассказала Дмитру, что со времени их разлуки случилось много нового. Листовка с воззванием гебитскомиссара и кукишем Гитлеру на обороте с успехом была распространена в нескольких районах и наделала много шума. После того были напечатаны и пущены по рукам еще две листовки с краткими сводками Информбюро. «Молния» живет, крепнет и развертывает борьбу. Уже удалось установить очень важные связи. Много нового должна принести весна. А пока что самым ответственным поручением «Молнии» является освобождение заключенных нашего концлагеря. Подготавливаются два варианта, которые в лагере тоже надо основательно обдумать и предложить свое мнение: побег с дороги, когда пленные будут работать в степи, с помощью боевой группы «Молнии» и подосланных в охрану своих людей, и побег из лагеря через подкоп под проволокой к оврагу из-под глухой стены коровника. Это в том случае, если в овраге и за ним удастся установить хотя бы два поста из своих людей. «Молния» постепенно накапливает оружие. Принимаются меры к тому, чтобы устроить одного-двух своих парней в полицию. Оказывается, что это не так-то и просто. И парней трудно уговорить натянуть полицейскую форму, и фашисты да и полиция очень осторожны… Она, Яринка, все время будет поддерживать связь с лагерем. Если им не удастся больше поговорить, они будут обмениваться знаками и зашифрованными записками, которые она будет оставлять в условленных местах на дороге или в карьере. Дмитро издали познакомил Яринку с Дзюбой и Волоковым, чтобы она, когда будет необходимо, могла связываться и непосредственно с ними. Все подробности, а также и сигнал о том, что побег подготовлен, должен подать новый «полицай», который, наверное, все-таки вскоре появится в конвое и о котором Яринка своевременно предупредит. Трудно было сказать, как долго осталось ждать этого предупреждения и когда осуществится наше освобождение (если вообще осуществится). Тем временем Дмитро уже писал лица «высокопоставленной гауптшарфюрерской семьи». И то, как он писал, убеждало, что окончание работы ничего успокоительного в нашу жизнь не внесет. Парень так увлекся, что уже ничего не слышал и не замечал вокруг себя. Работал люто, упорно, на совесть. Добиваясь самого точного, самого глубокого сходства с оригиналом, он воспроизводил заново одну за другой характернейшие и внешне не всегда уловимые черты характера своих «натурщиков», он, собственно, уже и не писал, а с вдохновением разоблачал, выворачивал наизнанку самую сущность, самое глубокое «содержание» явления. Уже заранее догадываясь, к чему это может привести, не скрывая ни своего изумления, ни страха, не имея сил ни остановить, ни предупредить событий, ждали мы завершения этого необыкновенного группового портрета. Наконец, как и во всяком деле, работа была завершена. Теплым апрельским вечером, на закате солнца, утомленные, голодные и избитые, едва волоча ноги, возвратились мы в лагерь. Первым делом бросились искать Дмитра. И нашли его совсем другим, не похожим на вчерашнего. Он уже не работал. Безразличный, какой-то тихий, лежал на соломе в коровнике и сквозь дыру в крыше смотрел куда-то в высокое небо. Лежал рядом с Сашком, которого сам же и перенес сюда, на свежий воздух, и рассказывал ему о чем-то очень мирном, ласковом и очень далеком от всего того, что нас окружало. А картина (на которую художник уже и не смотрел), вполне завершенная, приколотая к дикту, стоит поодаль, у стены. Стоит, ожидая своего заказчика, которого как раз под вечер вызвали в ортскомендатуру или контору «Тодта», удобно разместившуюся в центре местечка. Собравшись вместе, мы молча, долго и сосредоточенно смотрели на эту картину. И видели, что, собственно, и нужно было видеть, то, что и хотел сказать Дмитро. Сказать, разумеется, не коменданту, а нам и самому себе. Сказать и… дать ответ на свой собственный внутренний и очень важный вопрос. Кроме нарочито утрированного и подчеркнуто ремесленнического фона, перед нами на бумаге была группа из трех человек и собаки. Мастерски выписанная одежда, поразительное, если судить по живому Пашке, портретное сходство. Отчетливо охарактеризована спесивая горделивость «арийских» поз, почти «героическая», старонемецкая надменность осанки унтера подчеркнута детально выписанной эсэсовской униформой. Одним словом, сходство внешнее и сходство, так сказать, внутреннее, скрупулезное, которого не отрицал бы самый придирчивый заказчик. Но… Взглянув на эту картину, даже менее осведомленному из нас, далекому от какого бы то ни было понимания искусства, вернее — каждому, кто только посмотрит, сразу же ясно и недвузначно бросится в глаза то, что из всех четырех живых существ, изображенных на бумаге, единственным более или менее симпатичным, единственным, так сказать, «человечным» существом является только пес, который осмысленно смотрит на вас с переднего плана картины. А кто хотел — мог бы увидеть на той картине гораздо больше, почувствовать в ней нечто более значительное и глубокое. Перед нами была «сфотографирована» где-то у провинциального местечкового фотографа типично-средняя «положительная» семья третьего рейха. Ничего ей художник ни убавил, ни прибавил. Он только талантливо, по-настоящему раскрыл, безжалостно и откровенно, многое такое, что на обычном фото могло быть скрыто, что, судя по этой картине, властно призывало с тревогой и страхом думать о судьбах всего мира… Сквозь тупое самодовольство этой эсэсовской семьи, сквозь выродившиеся черты их лиц проступала холодная жестокость уверенных в своей правоте моральных дегенератов. Да, это была семья эсэсовца, семья «национал-социалиста», одна из сотен тысяч тех семей, в окровавленные руки которых бесноватый ефрейтор хотел передать судьбу большинства человечества нашей планеты. Да, перед нами была только одна клеточка. Но она была опорой, почвой, психологической и «духовной» базой фашизма. Нет, что ил говори, а все это было здорово схвачено! Дмитро разоблачал и осуждал. Он воевал! И это вдохновляло и вселяло гордость и бодрость во всех нас. Но… не могли, никак не могли мы в эту минуту забыть хоть на мгновение о судьбе товарища, талантливого юноши. Мы знали, чем это ему грозит. Знали, что и искусство, и наше дело — непобедимы. Но сам художник может погибнуть в этой неравной борьбе. Об этом мы не говорили. Только отводили глаза, чтобы парень не прочел в них преждевременно правду о том, что мы чувствуем и думаем о его и о своей судьбе. Но обмануть Дмитра было трудно. Он сразу понял все: и наше настроение, и наши мысли. Поднявшись на ноги, он подошел к картине. Постоял, подумал и заговорил тихо, словно размышляя с собой: — Души у них остались нетронутыми, зверино-первобытными. «Хейнкели», «мессершмитты», эрзац-резина, в которую они обули свои машины, и «майн готт» на железной пряжке. Обросшая кабаньей щетиной душа в панцире новейшей техники двадцатого века. Слушайте, он же просто не знает, зачем ему нужен Бетховен, если достаточно «Хорста Весселя»! Они никогда не читали и не будут читать ни Гёте, ни Шиллера. «Майн кампф» и сокращенный, сжатый до размеров казарменного афоризма в «Soldaten Buch» [12] эрзац «Нибелунгов». Ремарк, Манн… Для них это только пустой звук. В крайнем случае — имена врагов великой Германии… Кстати, Ремарк или Хемингуэй… Я не знаю, что будет с теми СС, которые останутся в живых после нашей победы. Уверен только, что муки самоанализа, тонкости душевных переломов «погибшего поколения» первой войны — еда не по их зубам. А мы? Те, кто останется? Даже такие, как мы… Те, что видели и слышали это все, самое горькое, самое страшное? Даже слепые, безногие и безрукие — мы не будем «погибшим поколением»! Не будем знать понятий, которые выражают эти слова. Потому что мы будем поколением победителей. Потому что в неискалеченных, чистых душах наших будет жить ощущение созидателей и поборников нового, справедливого мира, и оно сделает нас победителями… Это ощущение делает нас такими сильными, что нас не испугают и не сломят самые страшные их пытки… И как бы нас ни истязали эти палачи, они всегда где-то у наших ног, как слепые кроты. А мы — крепки духом. Мы стоим высоко над ними и видим то, чего они, слепые звери, видеть не могут. Мы уже видим солнце на далеких горизонтах. Не всем суждено дойти к этим счастливым горизонтам. Кто-то должен пасть… Но даже и те, которые падут, — падут непокоренными и сильными духом. Дмитро умолк, задумался. С удивлением, с нескрываемым восторгом и уважением смотрели на него растроганные товарищи, будто впервые увидев и поняв, кто перед ними. Ведь это впервые парень говорил с нами такими необычными, гордыми и печально-торжественными словами. В этих словах раскрывалась смелая, чистая, гордая душа, и чем-то остро-тревожным, крылатым, таким, что чувствуется только перед боем, повеяло на нас от его слов. — А оружие сильных — правда! — не дав нам опомниться, снова заговорил Дмитро. И добавил совсем тихо, будто извиняясь перед нами, будто просил не ставить ему в вину невольного проступка: — Ребята… товарищи, я написал правду. Иначе я, честное слово, не мог… Что мы могли ответить ему? Успокаивать? Подбадривать после этих его слов или укорять? Ни в том, ни в другом он, сильный своей верой, своим искусством и ясностью духа, не нуждался… А больше — что же мы могли?! И если правду говорят, что талант обязательно требует публичного признания, похвалы или даже славы, как корабль моря, то Дзюба, будто почувствовав своим простым сердцем то единственное, с чем теперь только и можно было обратиться к Дмитру, сказал: — А руки у тебя, сынок, просто чудо! Золотые, можно сказать, руки! И Дмитро улыбнулся на эту похвалу, восприняв ее, наверное, не без удовольствия и вырвав из нашей груди сдержанный, горький вздох. Позже мы советовались между собой, кое-кто даже высказывал мысль: а не уничтожить ли, мол, эту картину, как-то так будто ненароком, пока не возвратился Пашке? Но сразу и отвергли ее. Кто знает, что взбредет в голову рассвирепевшему унтеру! Еще кого-нибудь и пристрелит. А Дмитру прикажет рисовать заново. И здесь уже никто не скажет заранее, как отнесется к этому и как поведет себя Дмитро. Да и, кроме того, и рука ни у кого из нас не поднялась бы… Оставалась лишь одна сомнительная и непрочная, как утренний летний туман, надежда на унтерову тупость, на то, что Пашке, может, и в самом деле не все поймет. А если картина ему и не понравится, то, может, воспримет все это за промах, неопытность художника-«самоучки» — и, как и пообещал, на первый раз наказывать не будет?10
И не наказал. Все же сдержал свое унтерское слово и не наказал. По крайней мере собственноручно. Хотя и понял сразу же, что не с самоучкой имеет дело, что вышло что-то не так, как он думал и надеялся. Понял с первого же взгляда, сразу же по возвращении в лагерь. Неизвестно, правда, как он там воспринимал — глубоко или неглубоко, но то, что стоило только сделать одно неосторожное движение — и он станет посмешищем всех своих подчиненных, это Пашке осознал молниеносно. Собственноручно снял он с дикта картину, свернул ее в трубочку и, не проронив ни слова, ушел к себе. Уходя, чувствовал, бесспорно, на спине испытующие и недоуменные взгляды нескольких подчиненных эсэсовцев, которые намеренно подошли ближе к коровнику, надеясь на торжественную церемонию приема картины. Но потом стали догадываться, что произошло тут что-то более серьезное, нежели обычная «унтеркурфюрстерская» церемония. Нюхом учуяли, что с картиной что-то не то, что хромой туземец нарисовал комендантскую семью, по меньшей мере ничего не приукрасив, и что вместо писаной красавицы фрау Эльзы, которой так хвастался Пашке, на картине, как это и должно быть, красовалась просто упитанная торговка с моложавым, но тупым и даже дегенеративным лицом. Чтобы не выдать того, что они обо всем догадались, не ставить своего шефа в неудобное положение, эсэсовцы потихоньку разошлись, сдерживая иронические ухмылки. Они были отомщены и испытывали от этого удовольствие. Увеличенный групповой портрет гауптшарфюрерской семьи в бронзовую раму под стекло не попал. Но ни своих чувств, ни своего отношения к этому Пашке так и не проявил. Он не только не наказал за глумление над арийской семьей, даже словом пригрозить Дмитру не решился. Потому что попал в трудную ситуацию. И в этой ситуации у него все же достало ума ни одним словом, даже жестом не выказать того, что его сильно задело. Ведь о картине знали, за тем, как она рисовалась, следили, и коменданту завидовали почти все подчиненные. И Пашке понимал, что, открыто наказав художника, он тем самым публично признает его правоту и выставит на посмешище всю свою семью перед подчиненными. Не наказал, ибо не хотел показать и самого себя несусветным дурнем, не хотел признаться даже самому себе, что какой-то там туземец может оскорбить целую арийскую семью и высмеять мундир и особу неприкосновенного эсэсовца. Нет, на это пойти он не мог! Лучше было, затаив обиду, сделав вид, что ничего особенного не произошло, отомстить, как говорится, обычным путем, даже не вспоминая этой картины. Так, будто ее и не было. Так, будто его и не было, «обычным», «естественным» в концлагере путем должен был исчезнуть и Дмитро… Хотя Пашке даже не намекнул об этом своим подчиненным. Он только приказал отобрать у Дмитра (и вполне естественно!) остатки настоящих немецких карандашей, поскольку работа уже выполнена и всех теперь надо выгонять на строительство дороги. Да еще утром, когда нас вывели из лагеря, приказал унтершарфюреру Курту Каммлеру произвести в «салоне смерти» обыск, чтобы выявить запрещенные предметы, в том числе и предметы для рисования. Хорт, как мы его называли, взял двух хортистов и одного пса и, учинив тщательный обыск, но так и не найдя спрятанной тетради и собственных карандашей Дмитра, обнаружил на плите и конфисковал бутылочку с остатками чернил. И только… Однако этого «только» вполне хватило для того, чтобы вся эсэсовская свора поняла, что незримое «табу» с Дмитра снято и он снова стал беззащитным, обреченным пленным. Первым сразу понял это огненно-рыжий ефрейтор Цункер. Еще в тот же день, пригнав пленных в карьер, он сразу заподозрил обессиленного Дмитра в одном ему — Цункеру — понятном «саботаже». Люто сверкая глазами, подкрался из-за спины, с размаху, смакуя, неожиданно ударил Дмитра по голове втрое сплетенным кабелем и пронзительно заверещал: — Ты еще меня запомнишь, смердячий саботажник! Я выбью из тебя проклятый большевистский дух! Парень даже присел от неожиданности, но на ногах удержался. Еще не поняв, что и к чему, оглянулся, а из рассеченной брови на щеку у него медленно скатилась густая рубиновая капля. От одного вида крови в зеленоватых зенках Цункера бешеные искры вспыхнули еще сильнее. Да ведь и кровь эта была не просто одного из пленных, нет! Перед ефрейтором, безоружный и беззащитный, стоял именно тот «грязный художник», который осмелился уклониться от выполнения приказа и даже пренебречь просьбой эсэсовца, так и «не обнажив» ефрейторской невесты… Вот почему зацепка и первопричина — саботаж — больше и не вспоминалась. Осатанелый Цункер открыто, ничего не скрывая, вымещал свою злобу и истязал парня до тех пор, пока тот, совсем уже окровавленный и потерявший сознание, не упал на спорыш. Рыжий ефрейтор, начав первым, подал сигнал. А уже за ним со злорадством и садизмом набросилась на художника и начала истязать беззащитного и вся эсэсовская свора. Травля Дмитра вскоре превратилась в спорт. Она приносила садистам истинное наслаждение. Им доставляло удовольствие и то, что комендант, этот высокомерный хвастун, как-никак, а все-таки попал в смешное положение, и то, что теперь можно было поглумиться и над художником, который осмелился пренебречь волей и желанием настоящих арийцев. Наконец, может, только подсознательно, их радовало и то, что вот они — солдаты, ефрейторы, унтеры, и не больше — имеют силу и власть, чтобы вершить судьбу настоящего художника. Могут беспрепятственно и сколько угодно проявлять над ним свое превосходство, вымещать свое недовольство тем, что он смеет знать, умеет чувствовать то, чего не знали, не умели и не чувствовали они. Инстинктивно ощущали потребность самым диким способом доказывать свое превосходство еще и по другой причине. Поняв далеко не все в той картине, которую рисовал Дмитро, думая, что художник поглумился только над комендантом и его «красавицей», они все же хотя и неосмысленно, но чувствовали, что это было издевательство и над ними всеми. И чем невнятнее чувствовали они своим темным инстинктом, за что должны травить, тем больше и злее преследовали. Слово «художник» стало теперь для них презрительным и бранным словом. «А подгони-ка эту свинью художника!» «Почему это не видно того художника?» «А ты случайно не разрисовал бы спину художника?» С Дмитра на протяжении целого дня не спускали глаз, ставили на самую тяжелую, непосильную для одного человека работу. С садистской придирчивостью, тумаками, издевкой выбивали из него дневную норму. Его пинали и били и просто так, от безделья. Утром за то, что будто он опаздывает к построению, или же за то, что торопится впереди всех. Потом били за то, чтобы не отставал на марше или не высовывался вперед. Когда же мы, прилагая неимоверные усилия, чтобы защитить, оборонить и спасти, брали его в середину колонны и закрывали своими телами, его снова били за то, что он, мол, умышленно прячется от «справедливого наказания». Били его на дороге, били, когда возвращался в лагерь, били во время раздачи баланды и особенно когда подозревали, что он пытается что-то рисовать. Кроме первого случая, когда бешеный Цункер избил его до потери сознания, били с расчетом, смакуя, квалифицированно, чтобы не убить сразу или не сбить с ног так, чтобы он уже не мог подняться. Делали все, чтобы как можно дольше длились издевательства, чтобы человек как можно глубже ощущал свою медленную смерть. Сам Пашке, так сказать, собственноручного участия в этих истязаниях не принимал. Он вел себя так, будто и забыл уже совсем о существовании какого-то там художника, и «не замечал» ни его самого, ни того, что делают с Дмитром его подчиненные. Хотя, разумеется, все это видел очень хорошо и не только одобрял, но и незаметно направлял. Да и сам отомстил Дмитру не побоями, но еще более чувствительно и жестоко. Ибо не кто иной, а именно он, Пашке, приказал не принимать недельных передач для Дмитра ни от Яринки, ни от кого бы то ни было другого. А это лишало парня не столько физической (потому что Яринка отдавала передачу для Дзюбы), сколько большой моральной поддержки, одновременно усложняя нашу связь с окружающим миром и задерживая надолго, если не навсегда, дело подготовки к побегу из концлагеря. Тоже, наверное, не кто иной, как только Пашке, приказывал со всей строгостью следить за тем, чтобы Дмитро ничего, совсем ничего и никаким образом не рисовал. Именно по его приказу производились систематические обыски, которые держали всех нас в постоянном лихорадочном напряжении. Для Дмитра это было самым мучительным из всего того, что только можно было придумать. Потому что не рисовать, как мы уже твердо убедились, он не мог. Должен был рисовать по какой-то внутренней, жгучей потребности творить, в каком бы тяжелом положении ни находился. Такое уж было у него сердце и такие горячие руки. Руки, которые перестанут творить только тогда, когда навеки застынут. Разгорелось страшное, смертельное состязание. Дмитро так, будто в нем пылал какой-то неугасимый, ненасытный огонь, со сверхчеловеческим упорством рисовал, а немцы с бесчеловечной, садистской жестокостью преследовали и наказывали. И чем яростнее наказывали, тем все более упорным, несгибаемым становился Дмитро. А чем упорнее становился парень, тем все больше бесила эсэсовский сброд его непокорность. Раньше наш «салон смерти» был спокойным местом, куда охранники заглядывали лишь изредка, да и то весьма неохотно. Теперь мы этот относительный покой потеряли окончательно. Неожиданные частые наскоки и обыски посыпались на нас как снег на голову. Каждая спокойная минута теперь ценилась на вес золота. Вернее, на вес жизни. И если только выпадала такая минута, Дмитро всем своим существом тянулся к спрятанной тетради и карандашу. Он, словно в каком-то предчувствии, торопился воплотить все, что видел вокруг себя, все, что мы переживали, все, чем и как жили. Мы организовали целую систему охраны, пикетов и сигналов, привлекли к этому и новых товарищей, с тем чтобы каждый раз своевременно предупреждать Дмитра об опасности. Мы уже, так же как и он, больше, чем собственную жизнь, ценили эту тетрадь с остротрагическими зарисовками, с портретно точным воспроизведением наших товарищей, наших палачей и наших неслыханных обстоятельств. Эта тетрадь была уже документальным дневником нашей жизни, только написанным не словами, а поражающими, чрезвычайно лаконичными и островыразительными рисунками. Мы охраняли ее так старательно, что художник, как только ему удавалось взять в руки карандаш, предупреждался не только о каждом шаге, но, кажется, и о каждом намерении эсэсовцев. Разработали мы также и совершенную систему хранения тетради и карандашей. Самая изобретательная эсэсовская проницательность оказалась бессильной перед этой системой, она так и не обнаружила дорогих нам вещей. Однако рисовать, да еще более или менее спокойно, Дмитро почти не мог. Эсэсовцы, как надоедливые голодные псы, так и сновали вокруг нас. Каждый раз, как только парень пристраивался что-нибудь написать, его преследователи, словно учуяв это, сразу же появлялись на горизонте. Они забегали в «салон» утром и вечером, через пять минут после того, когда мы возвращались с работы, и за десять минут перед тем, как должны были выйти на работу. Иногда врывались целой толпой среди ночи. Порой — только подозрительно принюхивались, иной раз метались по коровнику с собаками. А бывало — заставляли полицаев и хортистов обыскивать каждого из нас с ног до головы. Разумеется, они ничего не находили, но удовлетворить жажду творчества Дмитру не давали, достигая в какой-то мере этим своей цели. Дмитра это ужасно мучило. Эсэсовцев и наказания он не боялся. Но остерегался-боялся рисковать тетрадями и карандашами. Поэтому, когда уже не было другой возможности, рисовал открыто, на глазах у охраны, где придется и чем придется. Рисовал на двери углем, на стенах царапал заостренными щепочками, чертил палкой на влажной, утоптанной до блеска стежке у дороги. Из-под его руки тогда выходили исключительно эсэсовцы — острые, едкие, портретно схожие шаржи и карикатуры… Его били, над ним издевались, а он писал каждый раз, как только выпадал удобный случай и свободная минута. Рисовал, отвечая каждый раз ударом на удар. Мы уже не могли ни отговорить, ни предостеречь его, потому что и сами втянулись в эту войну и осатанели. Это уже было сильнее нас, нашей осмотрительности, трезвости и рассудительности. Война эта была подобна какой-то безумной игре, в которой ставкой была жизнь, а увлечением — нестерпимо-жгучая ненависть. Но война эта была неравная. Дмитра просто убивали. Медленно, неторопливо и методично. Парень день ото дня таял на глазах. Все наши самые отчаянные усилия как-то помочь и хоть немного облегчить его муки не достигали своей цели. Если кто-нибудь из нас подставлял под удар себя, чтобы прикрыть Дмитра, его били. Но, ударив или избив, снова возвращались к Дмитру, не отвлекаясь и не забывая о нем. Дмитро за несколько дней весь как-то высох и стал похожим на мальчика-подростка. Он исхудал, осунулся, кожа на лице сделалась желтой и будто даже просвечивалась, обтягивая резко выдающиеся теперь скулы. Нос заострился, губы запеклись, а глаза на измученном лице округлились и потускнели. С жалостью и болью, со страшной ясностью видели мы, что конец здесь будет только один. И что, по-видимому, конец этот близок. Дмитро долго так не протянет. А спасти его тут, в концлагере, уже не сможет ничто и никто. Спасти парня мог бы только побег. Да не так-то просто складывалось с этим побегом. Яринка подала было весть, чтобы ждали в ближайшее время сигнала. Но сигнала этого мы так и не дождались. «Свяжемся через полицая», — подбросила она нам записку еще через несколько дней. И вот какое-то время мы с надеждой присматривались к каждому полицаю: не «он» ли, не «наш» ли? Присматривались, напрасно стараясь разглядеть в тупых, озверелых рожах хоть намек на что-то человеческое, по чему можно было бы понять, что это не изменник, а свой человек. Но… рожи садистов так и оставались рожами садистов. И ни на одной из них не было и не могло быть ни намека, ни проблеска… А тем временем, пока мы вглядывались в полицаев, как-то на рассвете в нашем же овраге был расстрелян по всем правилам эсэсовского «искусства» человек в темно-синей форме полицая. Привели откуда-то, наверное, из тюрьмы, и расстреляли чуть ли не на наших глазах. Кто? За что? Почему?! Никто ничего не знал и ответить не мог. Расстрелян кто-то в форме полицая. И все, и конец… И кто может подтвердить, уверить, что это был не «наш» полицай? Что это был не тот самый комсомолец, которого «Молния» с такими трудностями устраивала в полицию? Такое подозрение в какой-то мере подтверждалось и новой записочкой от Яринки. Девушка сообщала, что не будет показываться и не сможет подать о себе вести до следующей пятницы, — целых пять дней! Стечение обстоятельств? Нет, пожалуй, если и стечение, то не случайное. Видимо, там что-то произошло. Что-то такое, что снова отдаляет наше и, что самое худшее, спасение Дмитра. Дмитро становится все слабее и слабее. Он тает с каждым днем. Он уже даже редко разговаривает с нами. Все больше сосредоточенно молчит. И все же рисует. Рисует, используя каждую удобную, такую скупую и такую драгоценную минуту. Словно чувствуя свою смерть и то, что надо до этого времени успеть сделать как можно больше… Только ночью, когда уже укладываемся спать, слышим его неразборчивый, лихорадочный шепот. Это Дмитро, жизнь которого уже держалась на тоненькой ниточке, нашептывает что-то успокаивающее, что-то подбадривающее умирающему Сашку. С каждым часом, чем хуже становится Сашку и чем невыносимее Дмитру, — тем крепче их близость. Дмитро с такой душевной настойчивостью отстаивает каждый миг Сашковой жизни, с такой любовью поддерживает его угасающий дух, что, кажется, от Сашка зависит не только его собственная, но и жизнь Дмитра. Порой, когда все стихнет в ночной темноте, напрягая слух, можно было в шепоте Дмитра различить и отдельные слова. Это были слова надежды, какой-то ясной уверенности. Не было в них ничего такого, чем жили мы теперь. В них был родной дом, синее небо, зеленые поля… И от них у нас так болезненно, так тоскливо сжимались сердца. Знали ведь наверняка, что никогда уже не увидит юный Сашко ни родной Волги, ни зеленой колосистой степи, ни того синего, ласкового, мирного неба… А Дмитро! Еще день, еще два, еще три… Если ничего не случится за это короткое время, мы уже не спасем и его. Его добьют, замучают, или же он сам упадет однажды на усеянную острыми камнями землю карьера и уже больше не поднимется. Да, мы могли и мы должны были бы пойти на риск и организовать побег одному Дмитру. Наконец, если бы встали все за одного… По дороге с работы или на работу. В карьере или в самом лагере возможность такая не исключалась, и повод можно было бы найти. Устроить шум, свалку, кутерьму… Все отвлекают внимание, а он тем временем бежит. Бежит через подкоп под проволокой, бежит с дороги… Но вот куда? И далеко ли он убежит, истощенный, обессиленный, с его искалеченной ногой? И чем ты тут поможешь, хоть и рискуешь многими головами? Попытаться, конечно, можно. Но это будет попытка, в которой почти сто на сто за то, что мы толкнули бы товарища на неминуемую и немедленную гибель. Так вот, как ни крути, а головой стену не прошибешь. Оставалось только одно: ждать спасения от Яринки, ждать пятницы и спасительного сигнала. Пятница пришла, однако ни изменений, ни облегчений не принесла. Потому что Яринка в эту пятницу не появилась и вести о себе не подала. Не отозвалась она ни в субботу, ни в воскресенье. А в понедельник умер наш Сашко. Когда уходили утром на работу, он попросил Дмитра принести с поля, с воли, хотя бы цветок одуванчика. А вечером, возвратившись с карьера, мы застали его уже мертвым. Мы видели, что Дмитро тяжело переживал исчезновение и отсутствие Яринки. Но виду не показывал, почти не говорил об этом, крепился. А смерть Сашка, неминуемая и предвиденная, на наших глазах просто ошеломила пария. Дмитро стиснул зубы и весь замкнулся в себе, даже на вопросы не отвечал. Что-то словно оборвала в парне эта смерть, убила в нем что-то такое, без чего человек жить не может. На лице Дмитра появилось даже какое-то несвойственное ему выражение обреченности, которое говорило, что человек уже не дорожит своей жизнью и перестал думать о ней. Но сказать, что он просто не дорожил жизнью, — значит ничего еще о Дмитре не сказать. Нет, его не сломили. Он только не замечал уже самого себя, ибо в нем, как прежде в нас, умерла вера в собственное спасение. В его глазах еще блестел холодный огонь. Но это уже был не огонь жизни, а стальной отблеск холодной ненависти и жажды мести. Казалось, в нем отмер, исчез и забылся даже намек на естественный инстинкт самосохранения. За холодным блеском глаз этого мягкого юноши теперь стояло что-то отчаянное и страшное. Он не только не боялся, не только не избегал, а даже искал встречи со смертью. И это сразу заметили не только мы, но и наши враги. Фашистов, казалось, раздражало, даже пугало ледяное безразличие Дмитра к их издевательствам и пыткам. Они удвоили свои преследования и истязания, но художник уже как будто утратил самое ощущение физической боли. Нас тоже пугало и тревожило это целенаправленное упорство, с которым Дмитро шел навстречу смерти, и мы утроили свою бдительность. Теперь уже ему вовсе не давали ни рисовать, ни вообще покоя. Оторванный от того, чем жил, затравленный, он лез прямо на рожон. Однажды в карьере мы едва успели окружить его и вовремя вырвать из ослабевших рук железную кирку, которую он собирался вогнать в голову рыжему Цункеру, в другой раз пришлось отобрать острый обломок гранита, который он спрятал за пазухой, готовя его, как видно, для самого Пашке. Но вот, к сожалению, ни гитлеровцам истязать, ни нам отбирать у Дмитра неопасные в его ослабевших руках орудия смерти было уже совсем нетрудно. Парень таял прямо на глазах, он уже совсем ослабел, силы окончательно покидали его. Последние несколько дней он еще кое-как передвигал ноги. На карьере приходилось всем нам не столько терпеть от каторжной работы, сколько от сознания своего бессилия хоть чем-то помочь Дмитру и защитить его от издевательств и побоев. С работы мы уже почти волокли его, а то и просто несли, взяв под руки. Наконец, наступил и этот роковой вечер. Не дойдя до порога коровника, Дмитро пошатнулся, цепляясь руками за стену, упал на землю и подняться сам уже не мог. Когда его перенесли в «салон смерти», парень впервые с того времени, как умер Сашко, заговорил с нами слабым, но выразительным голосом. — Больше я уже не поднимусь, — немного запинаясь, отдыхая после каждых двух-трех слов, сказал он. — Пусть себе как хот-тят… сохраните тетра-ди и… передайте… лучше всего передайте Яринке… А если что… Да в-вы и сами все… знаете… Мы утешали себя тем, что случилось это уже в лагере, что пришлось упасть ему не на дороге, не на глазах у эсэсовцев, и что впереди еще целая долгая ночь и надежда на отдых. Но, к сожалению, ранним утром придут эсэсовцы. А Дмитро поступит так, как сказал. Он даже не попытается подняться. И они «будут поднимать» его палками, вытащат во двор или добьют на месте… Еще одна, не первая, а уже кто знает какая, невыносимо долгая и вместе с тем молниеносно короткая, гнетущая ночь. Не первая и наверное же не последняя ночь, течение которой остановить мы не можем, точно так же, как не можем остановить того, что принесет страшный рассвет… А так хотелось иметь хоть какую-то надежду! И мы все-таки надеялись, хотя и знали, хорошо знали, что надеяться не на что и спасения ждать теперь не от кого. Утром забили в железный рельс, подняли галдеж охранники. Защелкали нагайки, и громко залаяли овчарки. Пришли эсэсовцы, выстроили нас вдоль ограды коровника и продержали так около часа. Затем появился в сопровождении пса и неизменного переводчика сам Пашке. А Дмитро так и не поднялся, он лежал в «салоне» на истертой в труху соломе. Пашке появился неспроста. Он хочет собственной персоной засвидетельствовать или, вернее, утвердить смерть непокорного художника. Значит, и смерть Дмитру уготована не такая, как всем, если уж за это берется сам Пашке… Пашке обвел нас всех долгим, неторопливым взглядом, закурил сигаретку, щелкнул себя резиновой палкой по блестящему голенищу и что-то буркнул, кивнув переводчику. — Комендант лагеря, гауптшарфюрер войск СС господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает… — Переводчик сделал паузу, передохнул и, повысив голос, закончил: — Военнопленному номер восемьдесят семь на работу не выходить. Военнопленному номер восемьдесят семь выйти из колонны и остаться в лагере! Военнопленный номер восемьдесят семь из колонны не вышел. Военнопленный номер восемьдесят семь лежал в «салоне смерти»… Это был Дмитро, это — его номер. Отсутствие номера восемьдесят седьмого в колонне Пашке явно не встревожило. Пашке, как видно, все знал. Почему же не «поднимал», как всех других, не убивал сразу? Что еще мог придумать Пашке? Зачем Дмитра оставили в лагере?!11
Зачем Дмитра оставили в лагере, мы узнали нескоро. Не знал ничего об этом и сам Дмитро. Никто его уже не трогал, не бил, не ругал, никуда не гнал. И никто ничего не говорил. Пленного номер восемьдесят семь оставили в покое, будто все забыли даже о его существовании. В первый день мы еще ждали чего-то особенно коварного. Пытался поначалу угадать свое будущее и сам Дмитро. Но скоро выбросил все это из головы и просто отлеживался, отдыхая ночью на истертой соломе «салона смерти», а днем, когда пригревало апрельское солнце, сидя на потеплевшей, утоптанной нашими ногами земле, под стеной коровника. Наши палачи теперь его совсем не замечали. Он почему-то их уже не интересовал и не раздражал. Хотя сказать — не замечали — не совсем точно. Можно сказать, что о нем начали даже беспокоиться. Три раза в день выдавали ему увеличенную порцию баланды и каких-то эрзац-концентратов. А как-то навестил его даже немецкий санитар из конвойной команды. Он слегка пнул парня носком ботинка под бок, потом опасливо оглянулся по сторонам и, словно извиняясь, сунул ему за пазуху целую пачку сигарет. Бормоча что-то себе под нос, называя кого-то там свиньями и животными, санитар пощупал у Дмитра живот и заглянул в рот. Выходило так, что кого-то интересовало даже здоровье Дмитра! Мы хоть и радовались неожиданной передышке, но все время были настороже… Дмитро относился ко всему этому с холодным безразличием. Но все же неожиданный отдых, весеннее тепло, кое-какая еда и молодой организм взяли свое. На третий день этого отдыха Дмитро снова потянулся к своим карандашам и тетради. Парень уже поднимался и прогуливался под стеной коровника, всей грудью вдыхая ароматы просыпающейся земли, которые неслись из-за реки мощными волнами на лагерь. В тот же день ему, кроме баланды, дали еще миску настоящей картофельной немецкой «зупы», заправленной маргарином, и кусочек черного невыпеченного солдатского хлеба. Разрешили снова принимать передачи, хотя носить их, собственно, было некому. Яринка почему-то больше так и не появлялась возле лагеря. Двадцать пятого апреля (мы навсегда запомнили этот день), в семь часов вечера, как раз тогда, когда нас пригнали из карьера, Дмитра вызвал к себе сам гауптшарфюрер Пашке. Этому вызову, как мы узнали уже значительно позже, предшествовали определенные значительные события. В мире кипела самая страшная из всех войн, которые когда-либо знало человечество. И уже перед всем миром абсолютно ясно определилось то, что гитлеровский блицкриг провалился окончательно и бесповоротно. К весне сорок второго года дело шло уже не о блицкриге, а хотя бы о каком-то частичном продолжении наступления. Стало понятным, что настоящая война, в сущности говоря, только теперь завязывается, что конца ей еще не видно, и, судя по тем потерям, которыми Гитлер платил за свое временное продвижение на восток, немецкий солдат понемногу стал задумываться над тем, чем и как вообще закончится война и кому же, в конце концов, может угрожать пусть и не молниеносный, а все же бесславный конец. Зимний разгром гитлеровцев под Москвой, ожесточенные бои в Белоруссии, на Украине и в районе Ростова нанесли ощутительный удар немецкой экономике, «немецкому духу» и уничтожили веру в непобедимость немецкой армии. Гитлер с маниакальным упрямством лихорадочно готовил новое наступление на Кавказ и Волгу, что в свою очередь требовало окончательной ликвидации наших крымских группировок и взятия Севастопольской крепости, которая возвышалась по существу уже в тылу гитлеровских армий. Надо было наступать любой ценой. А колоссальные потери осенне-зимней кампании уже тогда остро ощущались: давала о себе знать нехватка резервов, свежих пополнений для армии и рабочих рук для промышленности. Гитлер выходил из себя, вылавливая для пополнения потерь в армии буквально все живое в стране, а тем временем в концлагерях, дорожных отделах и различных тыловых военизированных организациях на тепленьких местах сидели здоровые, откормленные и выхоленные на легких европейских блицкригах различные эсэсовские гауптшарфюреры и просто рядовые «фюреры». Мог ли в таком сложном положениине обратить внимания на это самый главный фюрер? И мог ли не учесть этого и не позаботиться о своей шкуре верный слуга самого главного фюрера гауптшарфюрер Пашке? Не мог… Потому что сама жизнь подсказывала, требовала каких-то мер для сохранения собственной драгоценной арийской шкуры. Ведь мало того, что фюреру крайне необходимо было сейчас свежее пушечное мясо вообще, это касалось теперь непосредственно и персонально его, преданного своему фюреру до последней капли крови, Иоганна Рудольфа Пашке… Кто-то из верноподданных самого Пашке, кто-то из ближайшего его окружения начал настырно подкапываться под гауптшарфюрера. В различные инстанции стали поступать анонимные письма, или, проще говоря, доносы, о том, что гауптшарфюрер Пашке вконец разленился, проворовался, забыл присягу, бога и своего фюрера и так уже распустился и обнаглел, что, связавшись с какими-то сомнительными туземными элементами, приказывает рисовать с себя портреты. Словно он не обычный слуга боготворимого фюрера, а бог знает какая персона! Уже раза два за последнее время деятельностью Пашке с какой-то подозрительной загадочностью интересовался сам гебитскомиссар, намекая на какие-то «гуманистические» выходки коменданта и какие-то его «художества». Напуганный Пашке бросился к другу и соседу, начальнику районного жандармского поста Гессе. И тот по-дружески рассказал ему об этих анонимных письмах. Неизвестный аноним писал чуть ли не ежедневно в инстанции, намекая, что за различными «художествами», которые завелись в лагере, скрываются какие-то коммунистические козни. Гессе сказал также, что кое-что из этих анонимок будто стало известным уже и самому бригаденфюреру войск СС Брумбаху. Одним словом, для Иоганна Рудольфа Пашке запахло фронтом. А на фронт преданный своему фюреру до последней капли крови Пашке идти не хотел. Считал, что его кровь может послужить фюреру с такой же безграничной преданностью и в тылу. А опасность все приближалась и приближалась. И наконец, нависла вполне реальной угрозой над самой головой гауптшарфюрера. До него дошли абсолютно верные сведения, что «сам» бригаденфюрер войск СС Брумбах, уполномоченный самого фюрера, разъезжает по восточным территориям и переворачивает ближние и глубокие тылы вверх дном, высвобождая для великой Германии и фюрера свежие резервы. Он уже совсем близко. Брумбах приближается, он уже разъезжает в своей бронированной танкетке по той магистрали, на которой размещен концлагерь. По той самой магистрали, на которой работают его — Пашке — пленные. Он, Брумбах, лютый, как тигр, и жалит, как оса. Не случалось, говорят, на его пути еще ни одного коменданта, ни едкого крайсландвирта или начальника жандармского поста, которому бы встреча с бригаденфюрером прошла безнаказанно. Одни ему не угодили тем, что мало умертвили за зиму пленных, другие, наоборот, тем, что много уничтожили рабочей силы без надлежащей пользы для фюрера и великой Германии. Если в каком-то районе обнаруживались признаки подпольной или партизанской деятельности, генерал хаял подчиненных за то, что допустили до такого. Если же подобных явлений не замечалось, бранил за то, что партизан или подпольщиков не сумели выявить. Больше всего доставалось всем за неудовлетворительное, крайне плохое строительство дороги — военной магистрали, которую немцы гордо называли «Р — К», то есть Петербург — Крым. Это была одна из важнейших артерий коммуникаций и снабжения армий, которые нацеливались на Севастополь и Волгу. И доходили слухи, что Брумбах собственноручно расстрелял уже двух начальников участков организации «Тодт» за развал дорожного строительства. А уж сколько погнал с постов на передовую комендантов, крайсландвиртов, жандармов — просто ужас! Для Пашке неутешительными были не только эти слухи, но и сами дела, от которых могла зависеть его судьба. Работа на строительстве дороги подвигалась крайне неудовлетворительно. Колхозники из окрестных сел, несмотря на самые крутые меры, работу на дороге саботировали. Пленные работали по старому правилу: что убьешь — то и найдешь. Почти за весь апрель удалось только расчистить место для карьера да исправить несколько мостиков. А на самой магистрали еще не замощено ни одного свежего метра дороги. Да к тому же еще и эти разговоры о его, Пашке, «художествах»! Одним словом, можно было ожидать не только фронта, но и чего-то более страшного. А Иоганн Рудольф Пашке совсем не хотел идти на фронт. Ему хорошо было служить своему фюреру и здесь, в концлагере. И он, извиваясь вьюном, цеплялся за каждый повод, за любую зацепку, лишь бы только спастись или хотя бы отдалить на определенное время эту перспективу. Желая сразу замести следы своих «художеств», он чуть было не отдал приказ немедленно пристрелить Дмитра. Но спохватился и, помозговав ночь, решил, что, учитывая слухи или доносы о «художествах», лучше выбить клин клином. Может, именно и надо спасаться тем, от чего заболел? По-своему, по-эсэсовски, Пашке, бесспорно, был незаурядным психологом. Чувствовал и знал, что спасти его может только что-то совершенно неожиданное, какое-то «чудо»! На строительстве дороги, до того неопределенного часа, когда его внезапно застигнет Брумбах, такого чуда, разумеется, не произойдет. Значит, нечего его и ждать там. Чем же тогда еще можно удивить бригаденфюрера, которого, кажется, вообще ничем удивить нельзя? Брумбаха можно только ошеломить или напугать. Ошеломить же или напугать генерала можно только одним — перспективой потери доверия у фюрера и… Вот почему гауптшарфюрер Иоганн Рудольф Пашке решительно отбросил мысль о расстреле Дмитра. Он оставил парня в лагере и приказал поддержать, подкормить, подлечить его. И никому даже пальцем к нему не прикасаться. А сам тем временем отбыл на весьма серьезное совещание со своими ближайшими друзьями — крайсландвиртом и жандармским начальством, которым точно так же угрожала опасность. На этом совещании были окончательно намечены меры против нежелательного, но вместе с тем неизбежного визита бригаденфюрера СС Брумбаха и выработан детальный план спасения собственных арийско-эсэсовских голов. Идею плана предложил Иоганн Рудольф Пашке. План этот — план спасения эсэсовцев — целиком и полностью зависел от воли и желаний советского художника-комсомольца, пленного красноармейца Дмитра… Хотя, как известно, воля пленного в гитлеровском концлагере существенного значения и не имела… Мы тогда ничего об этом, разумеется, не знали.12
Ничего не знал и даже не догадывался об этом и Дмитро, когда его двадцать пятого апреля приказал привести к себе гауптшарфюрер Пашке. Истощенный, такой худой, что казалось, просвечивался, но внутренне собранный, решительный, готовый ко всему, хладнокровный, равнодушный к смерти, стоял Дмнтро на пороге комендантской «комиссионной» комнаты. Напротив него, глубоко опустившись в старинное кресло и широко расставив ноги, сидел Пашке. С обеих сторон Дмитра почетной стражей стояли два эсэсовца с автоматами. Пашке, как и всегда, охраняли долговязый переводчик и пес, который лежал, положив голову на лапы. Дмитро молчал, безразлично и устало глядя на коменданта. Пашке говорил, иногда помогая своим словам жестами и щелканьем прута по блестящему голенищу. Конвоиры Дмитра внимательно слушали своего коменданта с подчеркнутой учтивостью. Переводчик повторял с неизменным дополнением слова своего шарфюрера, пес вилял хвостом по земле, а иногда, в самых патетических местах речи коменданта, слегка повизгивал. Пашке говорил вдохновенно, с подъемом, он рисовал картину со всем жаром самой буйной эсэсовской фантазии. — Хайль Гитлер! Гауптшарфюрер войск СС, комендант лагеря господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает сообщить тебе, что он еще раз хочет спасти тебя, ничтожного и неблагодарного, от смерти. Господин гауптшарфюрер приказывает сообщить тебе, что он, из особенного расположения к твоим способностям, решает поручить тебе чрезвычайно важную работу. И хотя ты недостоин этого, но господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает тебе нарисовать портрет боготворимого фюрера великой Германии, портрет величайшего человека всех веков и всех народов. Ты должен радоваться и вечно быть благодарным господину коменданту за такую большую честь и доверие… Переводчик перевел дух и остановился, возможно, ожидая от Дмитра если не благодарности, то по крайней мере какой-то реакции на услышанное… Но Дмитро стоял, как и до того, неподвижно, с лицом непроницаемым, словно окаменелым. Переводчик, ничего не дождавшись, продолжал говорить дальше: — Гауптшарфюрер войск СС, комендант лагеря господин Иоганн Рудольф Пашке приказывает тебе написать великого фюрера во весь рост и на резвом белом коне. Фюрер будто выехал на заснеженное поле боя. Все вокруг усеяно разбитой техникой и трупами вражеских солдат. Позади фюрера выстроились непобедимые войска великой Германии. Впереди, в долине, прямо под копытами коня фюрера, шпили пылающей, побежденной Москвы… А фюрер, глядя поверх этих шпилей, правой рукой указывает своим воинам на новые пространства, которые они должны завоевать для великой Германии. Господин комендант создаст тебе для этой большой работы все необходимые условия. Господин гауптшарфюрер уже послал в Умань человека с приказом разыскать масляные краски, полотно и все прочее. Господин Иоганн Рудольф Пашке не спрашивает тебя, будешь ли ты или не будешь рисовать, он только спрашивает: что еще необходимо тебе для того, чтобы ты быстро и как можно лучше исполнил эту почетную работу? — Передай коменданту, — даже не дослушав, пока толмач переведет последние слова, спокойно ответил Дмитро, — передай ему, что он может не беспокоиться. — То есть как? — не понял переводчик. — Ну, что мне ничего этого не нужно. Дмитро не знал и не догадывался, зачем коменданту потребовался этот портрет. Он и додуматься не мог, что портрет «великого фюрера», если он только будет написан на большом, многометровом полотне, — ибо величие картины Пашке оценивал по величине полотна, — всегда будет стоять наготове в комнате коменданта. В это время за селом на дороге в обоих направлениях днем и ночью будут дежурить и заблаговременно поднимут тревогу полицаи и эсэсовцы. И как только покажется на дороге генеральский броневичок и тут же об этом сообщат в местечко по заранее разработанной беззвучной сигнализации, тогда на улице возле лагеря соберутся все военнослужащие концлагеря, ортскомендатуры «Тодта» и жандармерии. А Пашке, начальник жандармского поста Гессе и крайсландвирт Веббер вынесут навстречу бригаденфюреру (который тоже появится в сопровождении немалой свиты) поразительно большой и необычный (да белом коне!) портрет боготворимого фюрера. И унтер Пашке, приподнося эсэсовскому генералу портрет бесноватого ефрейтора, скажет сладеньким и покорным голосом: — Господин бригаденфюрер, примите от нас, верных солдат фюрера, которые несут свою службу во имя третьего рейха здесь, на завоеванных территориях, этот подарок в знак нашей преданности и любви к нашему великому фюреру и родному фатерланду. Хайль Гитлер! И ни слова больше. Что же (Пашке уже заранее улыбался от удовольствия) тогда будет делать бригаденфюрер Брумбах? Злой, как тигр, и грозный бригаденфюрер? Ему останется только принять портрет фюрера и поблагодарить своих верных и преданных вояк. Ибо как же иначе? Не принять? Портрет самого фюрера? Нет, это исключается категорически. Принять! Только принять и поблагодарить. Ну, а приняв и поблагодарив, что он должен делать дальше? Расстреливать? Гнать на фронт, как штрафников, солдат, которые ему преподнесли портрет фюрера? А что, если это, пусть даже спустя некоторое время, дойдет до самого фюрера? Ведь бригаденфюрер имеет немалую свиту, помощников, заместителей. И кто может дать бригаденфюреру гарантию, что в один прекрасный день фюрер не спросит неожиданно: «Брумбах? Это тот бригаденфюрер, который когда-то уничтожал моих верных людей? Людей, которые преподнесли ему мой портрет?» Нет, бригаденфюрер Брумбах не такой уж дурень! Он сразу поймет, что попался, сделает вид, что растрогался, поблагодарит, потом для порядка наорет, попугает, покривится и уедет с тем, с чем и приехал. А все они (и он, Пашке, прежде всего) останутся на месте. И драгоценная жизнь гауптшарфюрера до конца, до последней капли крови, отданная своему фюреру, сохранится. И кто знает… Может, еще когда-нибудь слух об этом патриотическом поступке, об этом портрете и дойдет до самого фюрера! И может, сам фюрер когда-нибудь вспомнит его, именно его, гауптшарфюрера Иоганна Рудольфа Пашке. И может… Не знал, естественно ничего не знал об этих далеко идущих мечтах молодой художник. Даже и не подозревал, что не только должность, но и голова коменданта зависит теперь от Дмитра, от его воли. — Ничего мне не надо. И никакого фюрера рисовать я не буду. Сказал спокойно, тихо, ровным голосом, так, будто разговор шел о чем-то очень обычном между двумя равными по положению людьми, а не комендантом и его пленным. Пашке от этого ровного тона даже оторопел на какое-то мгновение. Ему и в голову не могло прийти, что туземец осмелится отказываться. И поэтому он какое-то время молча смотрел на Дмитра больше с удивлением, чем с раздражением. — То есть как? — наконец пошевелил губами. — Не понимаю. Как это — не будешь? — Просто. Не буду. Не справлюсь с таким «почетным» заданием, — как бы смягчил удар Дмитро. — Не сумею, понимаете, так написать. Да к тому же… — Дмитро усмехнулся слабой, но многозначительной улыбкой. — Правда, слишком много «чести» для меня. Пашке наконец по этой улыбке понял все. Уже не ожидая, пока ему до конца переведут сказанное Дмитром, он рывком поднялся на ноги и, как кот, одним прыжком стал перед Дмитром. Так же, одним прыжком, очутились возле Дмитра пес и толмач. Сдерживая ярость и возмущение, кипевшие в груди на какого-то там туземного художника, который осмелился на такой ответ, зная, что жизнь пленного зависит от одного слова коменданта, Пашке поднес железно сжатый кулак к самым глазам Дмитра: — То есть?.. Как… как это не будешь? Равнодушно глядя на этот кулак, сжатый так крепко, что даже пальцы у Пашке побелели, Дмитро снова тихо, но твердо и отчетливо повторил: — Не буду. И комендант спохватился, снова сдержал себя, опустил руку и даже криво усмехнулся. — Бу-дешь! — сказал он притворно-спокойным голосом, но с нажимом. — Бу-дешь… Не для того я позвал тебя, чтобы выяснить, хочешь ты рисовать или не хочешь. Я позвал тебя только для того, чтобы предупредить: не думай, что я не понимаю тебя или не понял тогда! Я вижу все и хочу сказать тебе одно: довольно. Если только что… только что не так… замучаю. Живым на огне сожгу. А теперь иди отдохни, обдумай все и готовься к работе. — Не бу-ду, — еще тише и еще упорнее повторил Дмитро. — Иди, — не обратил внимания на его слова Пашке. — Завтра начнешь работу.Мы тоже не знали, еще не понимали, что кроется за поступком Пашке. Однако ясно чувствовали, что стоит за этим что-то очень серьезное и страшное. И тем из нас, кто думал, будто то, что Дмитра оставили в лагере, это спасет ему жизнь, радоваться было еще очень и очень рано. Многое было неясно, а все же веяло на нас от этого приказа Пашке холодом смерти. Хотя мы и подумать тогда не могли, что парню придется выбирать между портретом ненавистного Гитлера и смертью. Но выбора тут быть не могло. Не только для Дмитра, но и для всех нас. Потому что есть в жизни человека, как и в жизни целого народа, такая межа, которую никак нельзя переступить, не потеряв своего достоинства, даже если на этой меже и грозила неминуемая смерть. На то, чтобы писать портрет Гитлера, не мог пойти не только Дмитро. Никогда, ни при каких условиях не могли бы позволить ему сделать это и все мы. — Нет! — выслушав рассказ Дмитра, спокойно, но решительно сказал Волоков. — Никогда! — горячо подтвердил и Дзюба. Одним словом, если бы Дмитро даже согласился, то мы бы ему запретили писать эту мерзость. Запретили, если б надо было, ценой нашей жизни. Пусть бы нас всех на месте, вот тут, расстреляли, лишь бы только он не рисовал. Да что там и говорить! Мы бы запретили ему даже ценой его жизни, потому, что здесь речь шла о чем-то гораздо большем, чем мы и он. Дело шло о таланте, за который мы вместе с ним отвечали перед своей совестью и своим народом. Талант, который мы, пока живы, не имели права отдавать на позор и поругание врагу-иностранцу. Это был наш талант. Талант нашего народа! И он должен остаться гордым, белоснежно-чистым даже тогда, когда уже и пепел наш ветер развеет. В тот вечер, хотя все были до крайности переутомлены, а Пашке, готовясь к приезду бригаденфюрера, выжимал из нас последние силы, мы долго не могли заснуть. Горячо, возбужденно обсуждали положение, гневались и возмущались. Молчал только один Дмитро. Неподвижно, будто речь шла не о нем, лежал он на спине у порога, и даже в темноте видно было, как поблескивают тусклыми ночными озерками его глаза, уставленные в усеянное звездами небо. Верно, что-то большое, неведомое до этого и глубоко значительное творилось с ним. И он, прислушиваясь к самому себе, к голосу своей души, взвешивал теперь всю свою жизнь, оглядывал ее сквозь глубины десятилетий. Поэтому не могли дойти до него сейчас наши самые жаркие, тревожные, но земные слова. Только в полночь, когда мы все немного угомонились, он, углубившись в какие-то свои затаенные мысли, как бы ответил нам на все наши разговоры: — Умираем только раз. И лучше умереть человеком, чем жить пресмыкающимся. Потом, будто вернувшись к нам из какого-то далекого путешествия, повторил свою просьбу: сберечь его тетради и комсомольский билет, который хранится у Яринки, а тогда… когда-нибудь все это передать домой. И обо всем, что бы с ним ни случилось, рассказать Яринке при первой встрече. Помолчав, вздохнул и уже, верно, самому себе, а не нам проговорил еле слышно: — Ни за что не буду. Пусть хоть на огне живого жгут. И снова затих, казалось, забылся в тяжелом, который находит и на человека с широко раскрытыми глазами, сне. Всю короткую весеннюю ночь мы терзались мыслями, так нисколько и не отдохнув. Кажется, никто не спал, но никто и не услышал, как Дмитро ночью пытался искалечить себе руку. Где-то достал тупой заржавленный гвоздь и поранил ладонь правой руки. Говорят, утром, когда коменданту доложил об этом его заместитель Курт Каммлер, Пашке сразу побледнел. Ведь этак, из-за каприза упрямого туземца, мог провалиться его блестящий замысел. Дмитра не повели, а прямо потащили к коменданту. Разъяренный Пашке сам осмотрел его руку и, убедившись, что рана не опасная, глубоко вздохнул и даже улыбнулся с облегчением: — О, ничего! Рука распухла, но за день опухоль пройдет, и можно будет работать! Ранку промыли спиртом, залили йодом и старательно перевязали. А чтобы и впредь не случалось таких неприятных неожиданностей, чтобы Дмитро снова не навредил коменданту таким образом, его вывели к лобному месту, — отвели локти назад, привязали телефонной проволокой к столбу. Пашке отыскал совсем новенький, белый, почти метровый лист дикта и собственноручно написал сверху черной, как смола, краской: «Не подходить!» Подумал и приписал ниже, как раз посередине листа, огромнейшими буквами: «Смерть!» Засунул дикт в пазы, полюбовался на свое «художество» и, проведя палкой под носом у парня, насмешливо улыбнулся: — Ну вот. Завтра уже и рисовать будешь, упрямая скотина… — Не буду. — Бу-у-у-удешь! — с нажимом протянул Пашке. — Сам попросишь. — Не дождешься, фашистская падаль! Дмитра лишили еды, воды, сна. К нему запрещено было подходить, разговаривать, подавать хоть какие-то знаки. Был он теперь на положении важного государственного преступника, который совершил покушение чуть ли не на самого Гитлера. И каждый, кто пытался общаться с ним, считался таким же преступником и должен был отвечать наравне с ним. В каждого, кто будет подходить к столбу, к которому привязан художник, приказано стрелять без предупреждения. И вот снова вспыхнула борьба не на жизнь, а на смерть между Пашке и Дмитром, между нами и охраной лагеря. Дмитро стоял насмерть. К самому себе и ко всему, что происходило вокруг него, относился с холодным безразличием. Не имея ни возможности, ни сил для какого-то активного физического сопротивления, парень твердо решил победить своих врагов смертью. А раз решил, внутренне подготовив себя к этому, он перестал их замечать, стал безразличным и к бешеной злобе своих врагов, и к собственным мукам и страданиям. Пашке же нервничал. Боялся, что смерть вырвет из его рук такой, казалось бы, легкий способ к спасению. Однако держался он спокойно, иногда даже улыбался, разыгрывая из себя этакого кота, который держит мышь в лапах, но не торопится, твердо зная, что теперь все зависит от него самого. Все мы тоже упорствовали и, не обращая внимания на опасность, использовали любую малейшую возможность, чтобы хоть словом, подбадривающим выкриком, хоть обещанием помочь, поднять дух товарища. Пока что только обещанием, ибо самые осторожные и самые неожиданные для охраны попытки подойти к Дмитру, поддержать и облегчить его муки хоть глотком воды успеха не имели. Лагерная охрана снова нашла для себя в этой затяжной борьбе развлечение. Превратила ее в игру, в которой ставкой была чужая, не их смерть. Эсэсовцы отвечали выстрелами на каждую попытку приблизиться к Дмитру и даже на каждый обращенный к нему возглас. Дмитро стоял насмерть. И чем несокрушимее и тверже закалялся его дух, тем все слабее и слабее становился он физически. Руки у него быстро затекли и онемели, ноги подкосились, а голова упала на грудь. Не знаем, не видели, что делалось с ним на протяжении целого, уже довольно жаркого дня, но к вечеру, когда мы возвратились из карьера, Дмитро уже окончательно выбился из сил. Обмякнув, он свисал на связанных руках, едва шевелил головой и время от времени, видно было, лишался чувств и терял сознание. После захода солнца, в сумерках, когда лагерь, улица и все село затихли, с запекшихся губ Дмитра сорвался уже не сдерживаемый помраченным сознанием стон: — В-о-оды… Послышалось это только один раз и, видимо, сорвалось у человека, терявшего сознание. Но и этого одного-единственного звука было достаточно, чтобы поразить каждого из нас в самое сердце. Его стон мог свидетельствовать о силе наших врагов и радовать их. Молча терпеть и видеть то, как мучается товарищ, мы уже не могли. Надо было что-то делать, обращаться к каким-то необычным, самым отчаянным мерам… Микола-младший, которого звали так в отличие от другого — Миколы-старшего, — невысокий, жилистый и еще не изнуренный парень, из тех, которых пригнали в лагерь в марте, решился открыто, на глазах у охраны, помочь Дмитру. Он наполнил водой банку из-под консервов, пригнулся, как на старте, возле ограды коровника и, улучив удобную минуту, со всех ног бросился к Дмитру через пустой, освещенный луной двор. Гитлеровцы такой дерзости не ожидали и своевременно отреагировать на нее не успели. Первая автоматная очередь запоздала, а вторую посылать уже не было возможности. Микола успел проскочить к столбу и тесно прижаться к Дмитру. А стрелять в Дмитра или даже поблизости, рискуя его жизнью, было строго запрещено. А пока эсэсовцы шумели, пока трое из них, толкаясь в узенькой внутренней калитке, добежали до столба, Микола успел напоить товарища. Эсэсовцы сначала не спеша, со всей надлежащей арийской педантичностью, били Миколу кулаками, прикладами автоматов и сапогами, пока он не потерял сознание. Потом, и пальцем не тронув Дмитра, вызвали самого гауптшарфюрера. Пашке появился при полном параде: пес, толмач, палка и заранее расстегнутая кобура парабеллума. Посветил фонариком в лицо Дмитра, пнул носком сапога в бок Миколу и приказал выстроить нас всех в темноте уже вдоль внутренней ограды. Миколу Пашке расстрелял собственноручно тут же, на глазах у Дмитра. Труп приказал оставить посреди двора нам в назидание и на устрашение. Еще раз посветил в лицо Дмитру: голова Дмитра была поднята, глаза блестели — и исчез в своем помещении. Всех нас снова загнали в коровник, заперли обе калитки внутренней ограды, плотно прикрыли за нами двери и выставили возле них охрану. Теперь мы не могли помочь Дмитру решительно ничем. Даже рискуя жизнью, не могли переброситься хотя бы словом. Парень остался один на один с врагами. Слабый, обессиленный, с полуугасшим сознанием. Единственно, что хотелось от всего сердца пожелать ему теперь, — скорой и легкой смерти. Смерть могла прийти к Дмитру в любую минуту. Она уже жила в нем, ходила вокруг, вырядившись в мундир эсэсовского гауптшарфюрера. Можно было ждать ее вечером, ночью или к утру… И мы были готовы к этому, не ожидая и не думая лишь об одном — о том, что Дмитро сможет согласиться на предложение Пашке. Поэтому пустой двор и голый столб — позора или славы? — поразили и напугали нас утром, пожалуй, больше, чем если бы мы увидели Дмитра мертвым. Да… только одинокий труп расстрелянного Миколы темнел посреди пустого двора. А того, за кого Миколу расстреляли, уже не было. Высился голый, старательно обструганный, будто отполированный, столб с большой, в целый лист дикта, табличкой: «НЕ ПОДХОДИТЬ! СМЕРТЬ!» «Куда же девался Дмитро? — каждого из нас и всех вместе пронзила остро-тревожная мысль. — Умер?.. Убили?.. А может… Нет! Не может быть, чтобы он согласился!..»
13
Но… Дмитро все же согласился. Ночью, как только нас загнали в коровник, к нему снова подошел Пашке. Посветил в лицо фонариком и тихо, почти мягко спросил: — Так ты уже соглашаешься? Дмитро злобно сверкнул глазами. — Нет! — гневно, с открытым вызовом бросил он, вкладывая в этот ответ, может, уже свои последние силы. — Хорошо… — спокойно ответил Пашке. Он отошел от столба, остановился возле трупа Миколы-младшего, постоял, помигал фонариком и позвал переводчика. — Гауптшарфюрер, господин Иоганн Рудольф Пашке, — в минуту выпалил толмач, — в последний раз предупреждает тебя: ты должен начать работу утром! Если же ты и впредь будешь отказываться и не приступишь к работе, комендант будет вынужден приказать выстроить всех пленных и расстреляет на месте каждого десятого. Так будет каждый день, до тех пор пока ты не согласишься. Все. Конец. Хайль Гитлер! Дмитро низко-низко, на самую грудь, опустил чубатую голову. — Теперь будешь? — ткнул ему в подбородок фонариком Пашке. Дмитро знал — эсэсовец не шутит. Помолчав долгую минуту, он с трудом поднял непослушную голову и со жгучей ненавистью посмотрел прямо в глаза эсэсовцу. — Бу-ду! — глухо выдавил из себя. И крепко, страшно, как только мог, выругался. Пашке снисходительно улыбнулся и, кивнув головой, подал какой-то знак эсэсовцам. Дмитра отвязали и, боясь оставить одного или пустить к товарищам, затащили в караульное помещение. К утру, отдохнув, Дмитро подтвердил свое согласие писать бесноватого ефрейтора на белом коне и выдвинул свои условия. Сводились они к требованию работать только в закрытом помещении, без свидетелей и чтобы никто не следил за его работой и не вмешивался, пока картина не будет закончена. Довольный победой, комендант не особенно вдумывался в эти требования и не возражал. Он только добивался, проявляя в этом как свои, эсэсовские, представления о работе художника, так и нетерпение и страх перед неизбежным, что надвигалось на него в лице генерала Брумбаха: — Три, ну четыре дня, самое большее… И смотри мне! Я тебя знаю и вижу насквозь. Но и ты меня знаешь. Если что… Не договорив, Пашке скрутил в руках свою резиновую дубинку. Но Дмитра уже ничто не пугало и не удивляло. Он только сказал, чтобы ему было позволено сейчас же попросить себе в помощь кого-то из пленных. Безразлично кого, только такого, кто сам согласится ему помогать. Утром, навестив Дмитра, все эти неутешительные новости обрушил на наши несчастные головы Степан Дзюба. Мы долго молчали. Смотрели в землю, чтобы не встречаться взглядами. Потом кто-то тяжело, глубоко вздохнул: — Сломил-таки, собака. — Берегли, да и… не уберегли… — Как это сломил? — вдруг рванулся к Дзюбе Микита Волоков. — Как это не уберегли? — Ему не хватало воздуха, и, произнося эти слова, Микита задыхался. — Иди, слышишь, Степан, иди снова к нему! — Глаза его на побледневшем лице горели, как два уголька. — Иди и скажи… Скажи, что он… не будет этого делать… ценой нашей жизни! — Почему ж это не будет?! Почему?! — неожиданно раздался тоненький, как иголка, визгливый голос. И на Микиту двинулся из толпы невысокий, хрупкий человечек с большими, смертельно перепуганными и все же, на удивление, как-то по-женски красивыми, голубыми глазами. — Как это не будет?! Почему не будет?! — тянул он на высокой ноте. — Не даю на это моего согласия! Не даю! Я не буду рисковать головой из-за какой-то там вашей прихоти! Нашлись герои! У меня, может, мать, жена, дети! Не имеете права, если я не даю на то согласие! Не хочу быть десятым! Не хочу, и вы меня не заставите! — Он сорвался и перешел на хрип. — Плетью обуха не перешибешь… Его руки от этого не отсохнут. Люди! Но почему же вы молчите? Зачем соглашаетесь, чтобы вас убивали из-за дурной головы?! Хриплый, истеричный визг раздражал, будоражил, взвинчивал и без того больные нервы. Вокруг человечка поднялся шум, завязался короткий, горячий спор, послышалась ругань. Повеяло холодным дыханием чего-то панического, слепого, инстинктивно-животного. Лицо Волокова еще больше побледнело, а глаза стали вдруг колючими и сосредоточенно злыми. — Смирно! — вдруг неожиданно на весь двор могучим, командирским голосом гаркнул он, ошеломив всех неожиданностью. — Тише! Без паники! Сябры! Нас и на фронте порой подводили трусы и паникеры! С ними нам не по пути и здесь! Кто хочет ползать перед врагом, спасать свою шкуру, кто хочет заставить нашего товарища писать портрет Гитлера, выходи сюда, вперед! Кто?! Подними руку, пусть мы все увидим в лицо паникеров и трусов! Ну?! Он так властно и угрожающе протянул это «ну!», что шум сразу утих. Никто не вышел вперед. Никто не поднял руки. Даже тот, кто только что кричал, испугался или забыл подтвердить свое требование движением руки. Да так и оцепенел с вытаращенными глазами и перекошенным, ртом. Микита снова обратился к Дзюбе: — Иди, Степан! Иди и скажи, что мы запрещаем! Слышишь, за-пре-ща-ем! Что нам лучше умереть. Все это произошло так молниеносно, что фашисты даже не поняли, что у нас случилось. В тишине, которая воцарилась после Микитиных слов, слышно было, как у кого-то от глубокого дыхания тихо поскрипывает в простуженной груди. И странно, и неожиданно прозвучал спокойный ответ Дзюбы: — Я сейчас, Микита, в самом деле пойду к нему. И останусь с ним. — Он зачем-то взял в свои ладони правую руку Микиты и крепко, крепко пожал ее. — Спасибо тебе, Микита. За мужественное, за искреннее слово спасибо. Но рисовать Дмитро будет. Теперь он уже должен рисовать. Совсем сбив с толку этими словами и нас, и Микиту, Дзюба, не выпуская руки Волокова из своей, повел его, ошеломленного и покорного, в сторону от толпы, ближе к «салону смерти», на ходу о чем-то тихо рассказывая и убеждая. Дзюба возвратился к Дмитру и остался с ним. А вечером, когда пленные пришли в лагерь, в «салон смерти» ни одного из нас уже не пустили, приказав расположиться в коровнике или под открытым небом вдоль стены. Дверь в «салон» была наглухо закрыта. А перед ней с автоматом на шее и проволочной плеткой в руке, сверкая на нас безумными глазами, караулил огненно-рыжий Цункер. За дверью, верно, уже совершалось то, что наполняло нашу грудь холодом, а сердца болью, бессильной злостью и жгучим стыдом. За дверью уже начал рисовать, а может, еще только отдыхал, приходя в себя от вчерашних пыток, готовясь к работе, Дмитро. Кто-то где-то слыхал, а потом нехотя передал другим, что туда же, в «салон смерти», принесли двухметровое, натянутое на подрамник полотно, краски, кисточки и еще кое-что. Что именно — нас мало интересовало. Как не интересовало и то, где взял все это Пашке. Нам было не до этого. Да и вообще не до разговоров. Молчаливые, хмурые и раздраженные, стараясь как можно меньше обращаться друг к другу, мы поспешно укладывались спать. Устроившись, сразу смыкали веки, делая вид, что уже спим. Хотя, разумеется, тревожный сон бежал от нас куда-то далеко-далеко… Вход в «салон смерти» был категорически запрещен. Говорили, что Дмитро выговорил себе такое право, чтобы до окончания работы туда не заходил ни один немец, ни один эсэсовец и даже сам Пашке. Право находиться с Дмитром имел один только Дзюба. Он почти все время просиживал в помещении. Чем-то там, верно, помогал парню, носил ему еду, воду и все прочее. Показывался Дзюба во дворе очень редко, да и то только по крайней необходимости. Выходя, озабоченно спешил по своему делу, а потом снова торопливо закрывал за собой дверь. Был хмурый, молчаливый. Ничего не рассказывал и никого ни о чем не расспрашивал. Да мы, правду говоря, не очень и приставали к нему со своими разговорами и вопросами. Какие уж там разговоры! Мы молчаливо делали вид друг перед другом, что вообще ничего особенного не произошло. Со стороны могло бы показаться, что ничто тут нас не касается, что нас просто не интересует то, что делается в нашем привычном, почти родном, который вдруг теперь стал далеким, чужим, не нашим, «салоне смерти». В действительности же каждый из нас и на минуту не переставал думать ни о той двери, ни о «салоне», ни о том невыносимом, позорном и возмутительном, что там делалось. То один, то другой из нас нет-нет да и бросит украдкой тяжелый взгляд на эту дверь, чувствуя себя так, будто за нею лежит близкий нам покойник, родной человек, утрата которого для нас была горькой и невыносимой. За двое суток Дмитро ни разу так и не выглянул из «салона смерти». Под конец третьего дня Пашке начал проявлять признаки болезненной нетерпеливости и волнения. Раз или два он даже пытался заглянуть в «салон смерти». Дмитро предупредил его категорически и недвусмысленно: чуть только Пашке переступит порог, Дмитро немедленно, в один миг, измажет, испортит незаконченную картину, и тогда его пусть хоть стреляют, хоть вешают или хоть режут живого на кусочки. Пашке отступил, притих, но разволновался еще больше. Ему уже совсем не терпелось, его жгла тревога. Были, верно, какие-то точные сведения о времени проезда бригаденфюрера Брумбаха, которые не позволяли старшему унтеру тянуть дольше с этой картиной. Пашке начал переговоры через Дзюбу, приказывая Дмитру как можно скорее, пусть уж как там выйдет, заканчивать портрет. Если же Дмитро затянет, то портрет запоздает и будет ни к чему. И он, Пашке, все равно покончит тогда с художником, хотя портрет и будет написан очень хорошо. Если же… если же портрет будет закопчен вовремя, то Пашке (дошел даже до того) обещал похлопотать, чтобы Дмитра, как инвалида, «незаконно» взятого в лагерь, выпустили на свободу. После горячих переговоров, угроз, приказов и обещаний Дмитро, наконец «поняв» комендантову поспешность, обещал работать в этот день допоздна, даже при свете фонарей, с тем чтобы хоть как-то закончить картину и показать ее заказчику на следующее утро. Пашке, в свою очередь пообещав содрать шкуру, «если что», немного успокоился.14
Утром, еще до восхода солнца, в лагере поднялась необычная суетня. Как только рассвело, к Пашке в концлагерь прибыли его коллеги и друзья. Начальник жандармского поста Гессе, директор участка дорожного строительства «Тодт» — Гебль, шеф района, местный, фольксдойч Фрич, крайсландвирт Веббер и начальник местной вспомогательной полиции Цуркович. Гости прибыли со всей своей свитой: помощниками, секретарями, толмачами. А шеф организации «Тодт», франтоватый, уже лысый и золотозубый панок, привез с собой даже какую-то высокую и страшно худющую фрау. Все, кто собрался во дворе у комендантского дома, были заметно возбуждены, взволнованы. Переговаривались между собой отрывисто, часто посматривали то на часы, то на улицу.
Мы наблюдали за всем этим из дверей и выломанных окон коровника. Можно было, правда, подойти и к проволоке, чтобы видеть все еще ближе. Но никто из нас на это не решился, не желая быть видимым свидетелем эсэсовской победы. Конечно, зная характер Дмитра и то, что с ним все время находился Дзюба, в какое-то полное торжество Пашке мы все же не хотели верить. Но на всякий случай лучше было делать вид, что все это нас не интересует и не касается. Так было лучше, так словно бы меньше страдало наше достоинство. И мы все до одного решили не выходить из коровника. Пашке вышел к гостям в новой, с неимоверно высокой тульей, эсэсовской фуражке и белых перчатках. Вежливо со всеми поздоровался и пригласил во внутренний двор. Переводчик вынес за ним и поставил под самой надписью: «Не подходить! Смерть!», возле «позорного» столба, тяжелый дубовый стул. На этот стул никто из присутствующих не сел. Комендант подал какой-то знак своему заместителю, и тот открыл калитку в ограде коровника. После этого, как по писаному, рыжий Цункер распахнул, наконец, дверь «салона смерти». Дмитро и Дзюба, будто специально ожидая этой минуты, вынесли оттуда, пронеся за несколько шагов от нас и не глядя на нас, большое, двухметровое, натянутое на подрамник полотно. Несли они его обратной стороной вверх, так что рисунка ни мы, ни гитлеровцы пока что не видели. Дмитро был бледный и ужасно худой. Смотрел он куда-то поверх наших голов, каким-то отсутствующим взглядом. В первых лучах утреннего солнца глаза его блестели холодным огнем готовой ко всему решимости. А лицо… Глядя на это лицо, просто нельзя было поверить, что еще совсем недавно оно могло улыбаться такой искренней, широкой и теплой, почти детской улыбкой.
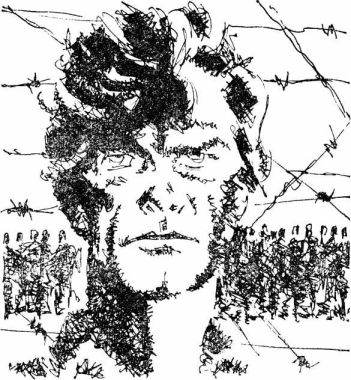
Рыжий ефрейтор Цункер отпер перед ними калитку и снова запер ее. Отгороженные от нас колючей проволокой, Дзюба и Дмитро вышли на внутренний двор, поставили картину на стул, прислонив ее к «позорному» столбу. Прислонили и, отойдя на несколько шагов в сторону, остановились рядом, плечом к плечу. Вытянулись и замерли, словно окаменелые, с высоко и смело поднятой головой. Все это мелькнуло в наших глазах и в наших чувствах чем-то подобным черной молнии. И, как от яркого света, мы на мгновение даже прищурили глаза, отшатнувшись в тень коровника. Там, во дворе, мгновение, второе, третье, а может… может, целую бесконечную вечность стояла какая-то особенная, оглушающая тишина. Разорвал, пронизал эту тишину истошный, пронзительный, на одной высокой ноте, визг. Лишь на какое-то мгновение мы увидели и поняли, что истерично визжит смертельно перепуганная высокая, худющая фрау. Визжит, сжимая кулаки и исступленно топая ногами о землю. Воет так, что у нас начинает трещать в ушах. И так долго, будто в ее плоской, как доска, груди скрыт целый баллон сконденсированного воздуха. Она визжала, не переводя дыхания, казалось, целую вечность… А мы, словно громом пораженные, неотрывно, жадно, со страхом и злорадством вглядывались в картину, наконец, поняв все… На полотне, в лучах солнца, которое только выкатывалось из-за сельских крыш и не покрывшихся еще первой зеленью садов, ошеломляюще четко вырисовывалась недвусмысленная, поразившая всех картина. Как она была написана, мы, правду говоря, не запомнили. Но все же, кажется, Дмитро и тут старался не идти на компромисс с искусством. Светлая, лунная ночь. Белая, заснеженная степная даль. Высокое чистое небо. Снег утоптан, усеян солдатскими трупами и мечеными белыми крестами, разбитыми и обгоревшими машинами. Посреди поля боя, на снегу, на переднем плане, в центре картины, сидит облезший, шелудивый пес. Сидит, опершись на одну переднюю лапу. Вторая — висит перебитая. Пес как пес. Только перевязан он поперек живота широкой лентой фашистского флага со свастикой. И голова у пса не собачья, а… Гитлера. Побитый пес — Гитлер, держа в зубах кость, задрал голову, поджал хвост и тоскливо воет на яркий диск недосягаемой в высоком небе луны. По кругу луны, зубцами Кремлевской стены, выступает силуэтами букв слово «М-о-с-к-в-а»… Дотянув крик до какой-то неимоверно безумной высокой ноты, плоская немка наконец срывается с места и первой бросается с кулаками на Дмитра и Дзюбу. Вторым, опомнившись от ужаса и неожиданности, разъяренный, осатаневший, бросается на пленных комендант, а за ним и его гости с подчиненными эсэсовцами. Никто не стреляет, от ярости и замешательства забыв об оружии. Лишь остервенело, опережая друг друга, рвут, бьют, истерически дергают и терзают беззащитных пленных. Поднимается неимоверный шум, визг, давка. Все толкаются, мешают друг другу, иногда попадая кулаком или локтем по своим. Фигуры Дмитра и Дзюбы исчезают в клубке скрюченных злобой и истерикой вражеских тел. Шум, вопли, драка туманят нам головы, надрывают больные нервы, и мы тоже слепнем от злости и ненависти. Мы прорываемся из коровника, вслепую натыкаемся, падаем грудью на колючую проволоку, кричим, ругаемся, проклинаем гитлеровцев и швыряем в яростную вражескую толпу комья земли, палки и все, что попадает под руки. Весь этот галдеж и истерию вдруг обрывают три неожиданно гулких выстрела. Они неожиданны не только для нас, но и для наших врагов, которые вдруг отскакивают от сшибленных на землю Дмитра и Дзюбы, затихают, смолкают, непонимающе поводя вокруг мутными, одичавшими глазами. А посреди двора, неизвестно когда и как появившись здесь, с парабеллумом в руке, стоит низенький, сухонький человечек в генеральской униформе. Остроносое личико искажено недоброй, презрительной улыбкой, глаза черными угольками перескакивают с фигуры на фигуру. Генерал, а это, бесспорно, он, грозный бригаденфюрер Брумбах, медленно засовывает парабеллум в кобуру и, на ходу сбивая со стула на землю портрет пса-Гитлера узеньким носком начищенного сапога, короткими, энергичными шагами подходит к Пашке. Безошибочно верно узнав в нем коменданта и автора «художеств», генерал поднимается на носки и с размаху бьет худеньким, костлявым кулачком в рожу гауптшарфюрера. Пашке судорожно глотает слюну, испуганно дергает головой и… покорно вытягивается… На работу нас после всего, что произошло, не погнали.Загнали в коровник, заперли дверь и вокруг, несмотря на колючую проволоку, выставили дополнительную охрану. Держали так целый день, не давая ни пищи, ни воды. Дмитра и Дзюбу бросили в грузовую машину и сразу же куда-то увезли. Позднее выяснилось, что в жандармерию. Целый день, под надзором самого бригаденфюрера, их допрашивали, подвергая зверским пыткам. Взбешенный и напуганный неслыханной дерзостью, Брумбах сразу же начал наводить порядок и в райцентре, учинив настоящий разгром всей немецкой администрации. В районе действовала команда личной охраны бригаденфюрера. Наблюдая за их действиями, можно было подумать, что район теперь оккупирован вторично. Всю прежнюю администрацию, во главе с крайсландвиртом, начальником жандармского поста и директором конторы «Тодта», Брумбах отправил на фронт. Пашке с обоими своими помощниками за особенные «художества» попал в штрафники, лишившись не только должности, но и чина гауптшарфюрера. В полдень за «бунт и непослушание» среди нас были схвачены десять товарищей и немедленно же расстреляны в овраге за стеной коровника. Больше десяти Брумбах расстреливать не хотел, учитывая острую потребность в рабочей силе на строительстве дороги. Да и расстреливал с холодным расчетом, приказав выбрать десятерых наиболее слабых. Таким образом, под расстрел попали самые старшие заключенные лагеря, все десять — давние жители «салона смерти». Теперь осталось нас только шестеро. Перед вечером, собственноручно пристрелив на допросе в помещении жандармского поста Степана Дзюбу, бригаденфюрер вихрем исчез из района так же неожиданно, как и появился. А вечером, совсем уж для нас неожиданно, в лагерь вернули Дмитра.
15
Его привезли на грузовике с открытыми бортами, под охраной десятка эсэсовцев и трех овчарок. Сначала хотели было снова привязать к столбу, но передумали и бросили прямо на землю. Привязывать Дмитра не было никакой необходимости. Замученный, весь залитый кровью, без сознания, неподвижно лежал Дмитро под табличкой «Не подходить! Смерть!» рядом с забытым дубовым стулом. Вдоль ограды, от улицы и от коровника, выстроилась вся наличная в лагере вооруженная охрана: эсэсовцы, хортисты, полицаи и собаки… И тогда из дверей комендантского дома вышел и торжественно промаршировал к столбу, с высоко задранной головой и радостно-безумными огоньками в глазах, огненно-рыжий ефрейтор Цункер. На голове у него вместо пилотки была теперь огромная эсэсовская фуражка, возможно, та самая, что торчала утром на Пашке, а на рукавах старенького кителя — новенькие нашивки унтер-офицера. В руке новоиспеченного рыжего унтершарфюрера была плетка Пашке, за поясом — парабеллум, а за спиной — худющий долговязый толмач. Пес, как потом стало известно, отказался слушаться нового «фюрера» и его приказу не подчинился. Рыжий, отставив ногу и важно подперев бока руками, встал над распростертым телом Дмитра. А нас выпустили из-за проволоки и приказали цепочкой, один за другим, обойти вокруг столба. Мы проходили мимо истерзанного товарища, низко опустив головы, как у гроба, когда отдают последний долг, хотя грудь потерявшего сознание Дмитра высоко вздымалась от болезненного дыхания — он был жив. Глаза наши смотрели на товарища неотрывно, со страхом и слабой надеждой. Но все видели только одни его руки. Золотые, горячие руки художника. Все пять пальцев правой руки Дмитра были напрочь отрублены. А кисть левой — изуродована так, будто ее перемололи между тяжелыми шестернями. У запястья эти руки, с подчеркнутой педантичностью палачей, были крепко перехвачены уже набрякшими от крови марлевыми жгутами. Когда нас снова загнали за ограду коровника, рыжий эсэсовский дегенерат, не удовлетворившись тем, что́ уже показал нам, решил еще произнести соответствующую случаю «комендантскую» речь. Да слушать его речь мы не хотели и не могли. Услышав первое «хайль!», все мы самовольно и решительно двинулись к коровнику. — Хайль Гитлер! — бросал нам в спины толмач. — Новый комендант лагеря, унтершарфюрер войск СС господин Отто Цункер сообщает… совершил самое большое преступление, какое только можно представить, против рейха, фюрера и нового порядка… обманул доверие своего непосредственного начальства… Ни одно злодеяние против рейха и фюрера не может остаться и не останется без наказания! Немецкий закон — твердый закон! Строжайший и справедливейший в мире закон! Личный доверенный нашего боготворимого фюрера, бригаденфюрер войск СС, господин Брумбах строго наказал преступника, но даровал ему жизнь. Чтобы он всегда помнил о преступлении и имел возможность покаяться перед богом. — Дмитро-о-о! Дмитро-о-о! — послышался вдруг полный отчаяния женский крик, заглушив слова переводчика. Мы остановились и встревоженно оглянулись. Еще не сообразив, что и к чему, не увидев, почувствовали уже, кто это мог быть, и замерли. Кричала, несомненно, Яринка. Давно ожидаемая и, собственно, забытая нами в последние трагические дни, она вдруг неожиданно появилась неизвестно откуда в эту, может, самую страшную, самую напряженную минуту в жизни всего концлагеря. Где-то о чем-то уже разузнав по дороге сюда или только предчувствуя беду, она вцепилась обеими руками в колючую проволоку, с тоской и отчаянием жалобно закричала чайкой: — Дми-и-тро! Дми-и-итро! Внезапно застигнутые этим неожиданным появлением, этим отчаянием девушки, эсэсовцы на какое-то мгновение притихли, даже растерялись. Но тотчас затем поднялась невообразимая суматоха, крик и шум. На какое-то время забыв и о нас и о своем новом коменданте, эсэсовцы все сразу закричали на «дерзкую» девушку, ругая ее и приказывая отойти от проволоки. Однако отчаяние и страх за судьбу близкого человека были сильнее страха перед врагами и их угрозами. Взывая к Дмитру, дергая руками проволоку, девушка на эти угрозы и внимания не обращала. Словно и не слыхала их. Опомнилась на какое-то мгновение, лишь когда заметила, что караульный эсэсовец у ворот спустил на нее здоровенного серого пса. Яринка опомнилась, но не отступила. Только повернулась лицом к опасности и втянула голову в плечи. Волкодав бежал по улице вдоль ограды, по-волчьи немного бочковатый, легкими и пружинистыми прыжками. А девушка, прижавшись спиной к колючей ржавой ограде, съежившись всем телом в маленький комок, неподвижно ждала, повернувшись лицом навстречу опасности. Еще несколько прыжков… Еще два… еще один — и пес вдруг остановился перед девушкой. Нюхнул воздух, внезапно поджал хвост и, явно сбитый с толку, откровенно удивленный, постоял немного, не понимая, зачем его спускали с поводка, и неторопливо побрел назад к воротам. Эсэсовцы, негодуя, злобно закричали, заулюлюкали. Но волкодав так их и не послушался. Он только виновато и растерянно скулил и все больше поджимал хвост. Натасканный охотиться за пленными, он так и не мог понять, зачем его науськивают на человека, который никуда не бежит. Дальше мы уже ничего не видели. Потому что нас снова загнали в помещение, закрыв не только калитку в ограде, но и двери. Всю ночь всех нас мучило желание хоть чем-то, хоть капелькой воды помочь потерявшему сознание, искалеченному товарищу. До самой полуночи терзал наши сердца, время от времени пронизывая темноту, надрывный, отчаянный крик обезумевшей от тоски Яринки. Возможно, это нам только показалось. А может, вправду после полуночи откликнулся на ее зов и Дмитро. Откликнулся, если только это нам не послышалось, слабо, неразборчиво… И, возможно, Яринка даже услыхала его. Потому что после этого все утихло, и почти до самого утра ни одного звука больше не долетало к нам. Только дохнуло, вдруг повеяло в наше логово из мрака сельской улицы, из-за оврага, чем-то терпким, прохладно-свежим… Мы ощутили почти неуловимые, горьковатые запахи то ли каких-то давно забытых нами цветов, то ли свежесть первого чистого снега, а может, первых легких заморозков. Повеяло вдруг чем-то удивительно родным, милым сердцу, чем-то таким, что отозвалось в наших душах далеким-далеким детством. Всю ночь, до самого утра, терзали нас эти непостижимые, холодноватые, почти неуловимые и все же осязаемые запахи, наполнившие собой в эту ночь, казалось, весь окружающий мир. Под утро стало прохладнее, терпкие, тонкие, свежие запахи стали еще более ощутимыми, и, наконец, в серовато-сиреневой мгле рассвета мы увидели сквозь выбитые окна и ржавую проволоку: этой страшной ночью в селе зацвели вишневые сады. Дмитро сидел на забытом еще вчера под столбом стуле. Сидел, вытянув искалеченную ногу. Изувеченными руками обнял, прижавшись к нему грудью, столб. Низко, так, что чуб касался колен, свесил кудрявую голову. Спал? Охрана куда-то исчезла, и теперь уже никто не задерживал нас, когда мы выходили группами, открыв дверь и калитку, во двор. Под плетнями и заборами, по ту сторону улицы, торопливо и далеко обходя страшное место — концлагерь, — иногда проходили сельские жители: дед с заступом на плече, молодица с вихрастым мальчиком, бабуся с кошелкой. Как и всегда, украдкой бросали они на лагерь испуганные взгляды. Но сегодня в поведении этих случайных прохожих было что-то такое необычное и тревожное, что невольно привлекло наше внимание. Бросив взгляд куда-то поверх столба, дедок неожиданно, будто не по своей воле, остановился, постоял какое-то мгновение ошеломленно, а потом быстро-быстро заторопился дальше, время от времени опасливо оглядываясь. На деда мы не обратили внимания, так как не до него и не до улицы нам было сейчас. Но когда за дедом так же остолбенело остановилась вдруг и молодица, а потом даже бабуся, мы невольно, поспешая к Дмитру, друг за другом тоже задирали головы и глядели туда, куда смотрели люди с улицы… И тихо вскрикивали и останавливались, чувствуя, как немеют ноги и холодеет в груди. Замерев на месте, словно оцепенев, все мы, весь лагерь, толпой стоим посреди двора, уставившись на дикт, что был прилажен вверху на столбе еще вчерашним комендантом. Там под словом «Смерть», выведенным черной краской еще рукой Пашке, на всю нижнюю половину листа горят ярко-рыжие, неровные, тревожные буквы: «фашистам»… Буквы эти написаны еще свежей, едва загустевшей кровью… Внизу, прижавшись грудью к гладкому столбу и вытянув одеревеневшую ногу, сидит на стуле Дмитро. Сидит уже застывший, мертвый. «Смерть фашистам!» — читаем мы беззвучно, одними губами, каждый про себя и все вместе, произносим как клятву, как присягу. И низко-низко склоняем непокрытые лохматые головы. За оградой из комендантского дома выходит во двор рыжий унтер. Но мы не хотим сейчас видеть его, не замечаем и стоим, как окаменелые, с низко опущенными головами. Новый комендант обводит тревожно-безумным взглядом нас, улицу, мертвого Дмитра, лист дикта, надпись… И, поняв все, не сумев скрыть своего испуга, снова торопливо исчезает за дверью. Утреннее безмолвие, глубокая весенняя целительная тишина стоит над селом. А в этой тишине белым, удивительно чистым и нежным цветом торжественно цветут вишневые сады…* * *
С того времени прошло уже семнадцать лет. А нам, тем немногим, кто остался в живых, и теперь верится, что тетради Дмитра когда-нибудь найдутся. Ибо мы, к великому нашему огорчению, его просьбу так и не выполнили. Тетрадей из «салона смерти» так и не вынесли. Не посчастливилось. Только в сентябре сорок второго года, через несколько месяцев после трагической гибели Дмитра, с помощью «Молнии» мы подготовили массовый побег. Осуществился он не так, как планировалось, и не в тот день, на который готовился. Случилось так, что освободились мы на два дня раньше намеченного срока, использовав благоприятную ситуацию на дороге, и ни в лагерь, ни в «салон смерти» никто из нас больше не вернулся. Не так давно мы с Волоковым навестили навеки памятное нам с сорок второго года местечко Терногородку. И не узнали его, будто попали в совсем новый, незнакомый поселок. Совсем новые улицы, новые дома… Старые, говорят, сожгли в сорок четвертом году при отступлении гитлеровцы. И новые, незнакомые люди… От нашего концлагеря даже следа не осталось. На том месте теперь построена школа и разбит молодой пришкольный сад. Свежему человеку теперь и поверить трудно, что тут когда-то стоял наш кошмарный «салон смерти», кипела отчаянная борьба, лилась кровь и гибли люди. Да и вообще во всем местечке, если на него взглянуть со стороны, только один высокий гранитный обелиск над братской могилой напоминает о тех временах и о тех страшных утратах и жертвах, которые понес наш народ в борьбе за свою свободу… Мы разговаривали со многими людьми, расспрашивали. Нам рассказали, что после нашего побега в концлагере еще мучилось и погибло много людей. Пригоняли и держали здесь пленных из других мест, держали по нескольку дней и недель огромные колонны людей, которых гитлеровцы, отступая, сгоняли с Левобережья, стремясь превратить его в зону пустыни. О нашем побеге знало и помнило немало людей. Потому что о таком событии, да еще связанном с деятельностью местной «Молнии», просто нельзя было не знать и не помнить. Слух о гибели Дмитра, о том его слове, написанном на пороге смерти собственной кровью, вырвался на волю из-за колючей проволоки лишь отзвуком почти нереальной, хотя и страшной народной легенды. Легенды очень романтичной, очень сказочной для того, чтобы казаться правдивой людям, не видевшим всего этого собственными глазами. Старого лесника, Яринкиного отца, рассказывали люди, арестовали, расстреляли, а хату его сожгли. Погибла, пропала без вести и сама Яринка. Помнили ее теперь лишь некоторые, да и говорили о девушке разное. Не только след, но и сама память о ней затерялась где-то на кровавых дорогах войны. О тетрадях Дмитра никто там ничего не слыхал, ничего не знал и даже не догадывался об их существовании. Но все же нам хочется верить, и мы верим, что они где-то есть, что их подобрал, спрятал и сберег какой-то неизвестный, незнакомый нам человек и они еще найдутся. Потому что не может же, в конце концов, бесследно исчезнуть человеческая душа, плод горячих людских рук, большая одаренность, а может, и по-настоящему большой талант. А впрочем, кто сможет подсчитать, сколько одаренных, талантливых, гениальных даже бесследно сгорело в адском пламени войны и какой мерой, на какое время обворовал и обеднил все человечество фашизм?!1959
Белое пятно Авторизованный перевод И. Карабутенко
Степ охрестять блискавками…Микола Чернявський

Капитан Сапожников
Нас было семеро. Самому старшему, мне, в то время исполнилось уже двадцать шесть. Самой младшей, Насте, — семнадцать. Я, Александр Сапожников (или Сашко Чеботаренко), — командир в чине капитана. Двадцатитрехлетний лейтенант Парфен Замковой — комиссар. Двадцатипятилетний старший лейтенант Семен Лутаков — начальник штаба. Двадцатилетний старшина Левко Невкыпилый — начальник разведки. Рядовые Петро Гаркуша и Павло Галка (которых мы экономии ради называли просто «святые»), оба девятнадцатилетние, — минеры-подрывники. Настя Невенчанная, конопатая хрупкая девчонка, — радистка в чине ефрейтора. А все вместе составляли мы организационно-партизанскую десантную группу, которая была выброшена с парашютами на временно оккупированную территорию во вражеский тыл примерно в двухстах пятидесяти километрах от линии фронта. Командировал нас туда в начале августа сорок третьего года отдел партизанского движения штаба одного из Украинских фронтов для осуществления диверсионных акций на коммуникациях врага и ведения разведки. Я один из всей группы направлялся во вражеский тыл уже в третий раз. Все остальные — в первый… Двадцать пять лет незаметно пролетели с того времени. Давно распрощался я со своей военной профессией, и военкомат перевел меня в запас второй очереди. Работаю главным агрономом совхоза. Есть у меня двадцатилетняя дочь — студентка университета. Мои же годы неуклонно и неумолимо, хотя опять-таки как-то словно бы и незаметно, приближаются к пенсионным. Все чаще, как говорится, дают о себе знать к погоде старые раны. Вечером не сразу приходит сон. Подолгу лежу я с открытыми глазами в темноте и все чаще вспоминаю те времена, всех своих тогдашних товарищей и ту короткую августовскую ночь. Чаще всего представляю себе тогдашнюю Настю, Петра и Павла, Яринку Калиновскую, и не раз и не два от этих мыслей и воспоминаний становится мне по-настоящему… страшно. Тогда, хорошо помню, никакой страх меня не брал. Привык к опасностям, втянулся. А вот теперь, через двадцать пять лет, когда мысленно ставлю я на место семнадцатилетней Насти или девятнадцатилетней Калиновской двадцатилетнюю Яринку, родную дочь… Ставлю и спрашиваю себя: а вот если бы сейчас, сегодня, возникла такая необходимость, приказал бы ты Яринке идти на службу к гитлеровскому коменданту или средь ночи выброситься с парашютом на оккупированную врагом территорию? Спрашиваю и… не решаюсь ответить себе даже мысленно, ощущая, как мороз проходит по коже… Почему же? Неужели потому лишь, что Яринка — родная дочь, а Настя или Калиновская — чужие? Но нет ведь! Все мое существо протестует против этой страшной и позорной мысли… Уже тогда Настя была для меня, может быть, роднее всех на свете! Да и другие… Все они — и Яринка Калиновская, и Петро с Павлом, и Парфен с Левком… Значит, все это — и настроения, и чувства, и мысли, — наверное, от старости! А страх… Страх — от более глубокого осознания естественной для пожилого человека, простой и потому такой действительно страшной сегодня мысли: ну в самом деле, как можно было сбрасывать с самолета в тот кровавый ад, в пекло, в то звериное логово беззащитную, хрупкую семнадцатилетнюю девчонку, в сущности еще ребенка! Но ведь и сегодня я не отважусь поставить на место Насти родную дочь, потому что Яринка совсем, ну совсем ведь девочка… Дитя, да и только. Стоит лишь посмотреть, как она играет во дворе с котенком или гоняется по лугу за мотыльками. Ребенок… Ребенок?! Но ведь ей уже двадцать! А Насте тогда было всего лишь семнадцать. А казалась она мне в ту пору совсем взрослой девушкой. Может, потому, что и мне сровнялось всего лишь двадцать шесть? Да и не приказывал я Насте, не толкал ее из самолета! Ни я, ни кто-либо другой. Сама рвалась туда этаким ангелом-мстителем на шелковых крыльях парашюта, ни на минуту не задумываясь, какие опасности подстерегают ее… Все мы тогда не задумывались над этим. Не было ни времени, ни условий, ни возможностей. Все мы тогда — и четырнадцатилетние, и двадцатишестилетние — чувствовали себя одинаково ответственными за судьбу, жизнь, честь нашей Родины, Земли, Народа… Все это до времени сделало нас взрослыми и мужественными. И наверняка в тех условиях моя Яринка действовала бы точно так же, как и Настя… И все же, когда я вспоминаю ту ночь, глубокое звездное небо и белый купол парашюта над притаившейся, загадочно темной землей, ощущаю вдруг запоздалый страх. Даже теперь становится страшно за них, как за собственных детей. За Яринку и особенно, как это теперь ни странно, за Настю… А вот тогда чувство страха, особенно чувство такого страха, было для меня, в самом деле, совершенно неизвестно. Для меня да, собственно, и для всех моих боевых товарищей. Потому что тогда бояться должны были не мы, а нас. И действительно, враги нас боялись. Мы падали сверху, как гром с ясного неба, на их поганые головы и сеяли во вражеском стане панику и ужас.Впервые меня забросили во вражеский тыл минером-подрывником на железнодорожную линию неподалеку от Курска. Тогда из нашей группы остался, выполнив задание, в живых и возвратился на Большую землю лишь я один. Вторично — уже начальником разведки — меня забросили в апреле сорок третьего на Сумщину. Во время приземления гитлеровцы в воздухе расстреляли командира и комиссара, и я вынужден был возглавить группу. Уже в середине мая меня, раненного в ногу, вывезли из партизанской зоны на самолете. Лечился я около двух месяцев, А потом дал согласие выброситься за линию фронта в третий раз. Назначили меня командиром группы и откомандировали Украинским штабом партизанского движения в распоряжение штаба одного из Украинских фронтов. Линия фронта в то время почти надвое рассекала Донбасс, а штабные службы размещались в портовом городе на побережье Азовского моря. Вся группа, пройдя необходимые тренировочные занятия, уже ждала меня. Вместе готовились мы недолго. Ровно столько, сколько нужно было, чтобы ближе познакомиться и, как говорят, притереться друг к другу. Хотя члены группы в таком деле были новичками, они казались мне надежными, подобранными удачно. Все шестеро добровольно изъявили желание направиться во вражеский тыл, собирались на задание охотно, даже с энтузиазмом. Парфен Замковой перед войной служил в пограничниках, до этого был секретарем комсомольской организации одного из сталинградских полков. Он имел уже двухлетний партстаж и происходил из шахтерской семьи. Семен Лутаков, человек молчаливый и сосредоточенный, что называется, врожденный штабист, пошел в десантники с должности адъютанта батальона. А молоденький красавец с тонкими черными усиками, Левко Невкыпилый имел уже три медали «За отвагу» и успел заслужить репутацию лучшего разведчика одной из дивизионных разведок фронта… Правда, меня поначалу беспокоила показная «партизанская» удаль и беспечность наших подрывников Гаркуши и Галки и вызывала некоторую тревогу хрупкая, гибкая, как подросток, радистка Настя Невенчанная… Однако я вскоре убедился, что хлопцы в совершенстве овладели своим минерским делом, а Настя, всегда замкнуто-серьезная, даже слишком суровая на вид девчонка, была просто талантливой, можно сказать, незаменимой радисткой, радисткой по призванию. К тому же все они были хорошо тренированными, смелыми парашютистами. На Украине в то время уже действовало множество подпольных организации, партизанских групп, отрядов и даже соединений. Не со всеми из них, особенно с теми, которые возникали стихийно, была связь у штаба партизанского движения. И вот в помощь им штаб тщательно готовил и посылал через фронт все новые и новые организационные, диверсионные и разведывательные группы. Нас должны были сбросить в одну из степных областей, почти всю войну, по сути, остававшуюся недосягаемой как для штаба, так и для нашего командования вообще. Задачи перед нами ставили самые широкие и, так сказать, комбинированные: связаться с руководством подпольного обкома, который (доходили такие сведения) уже в третьем составе организовывался и действовал в городе К. или где-то поблизости от него; разыскать в лесу на севере области партизанский отряд имени Пархоменко и, наладив связь со штабом, во всей своей деятельности базироваться на этот полумифический отряд; организовывать систематические диверсии на железнодорожной линии с двумя стратегически важными железнодорожными узлами; разведать пути передвижения немецких подразделений, расположение фашистских гарнизонов, характер и систему возможных оборонительных сооружений в верхнем течении Южного Буга. Кроме того, устроившись и укоренившись, мы должны были приступить к изучению и посильному «оживлению» «Белого пятна», постепенно продвигаясь в глубь его степных просторов, налаживая связи с сельским населением, распространяя сводки Советского Информбюро, организовывая партизанские, подпольные разведывательные и диверсионные группы. «Белое пятно»… Название это возникло не сразу. Хотя сам по себе факт привлек наше внимание, встревожил и насторожил с первой минуты, как только перед нами открыли карту. Огромная, почти во всю стену, карта К-ской области, занавешенная черной шторкой, висела в недоступной для посторонних комнате партизанского отдела штаба. Показывали нам эту карту за время учебы всего лишь несколько раз. Верхний левый угол ее выделялся волнистым зеленым клином северных лесов, которые, перейдя границу соседней области, подходили чуть ли не вплотную к городу К. Весь этот зеленый угол был утыкан красными флажками, обозначавшими группы и отряды, уже известные штабу из тех или иных источников. Три-четыре флажка возвышались и вокруг самого города. Неплотной цепочкой вытянулись они и вдоль западной границы области. А вся центральная и юго-восточная часть карты была немой. Зияла как-то особенно резко подчеркнутой флажками жуткой пустотой. Когда черная шторка раскрылась перед нами впервые, мы молча, с чувством какой-то неосознанной тревоги рассматривали эту немую пустоту. Стульев в комнате не было. Изучали мы карту стоя, прижимаясь плечом к плечу и лишь изредка обмениваясь короткими фразами. Я изучал карту особенно пристально и тщательно. Но не только карту. Одновременно я изучал, конечно, и своих будущих бойцов, незаметно следя за каждым из них и за всеми вместе — такими еще молодыми, оживленными. Следил за выражением их лиц, ловил слова, прислушивался к замечаниям, мыслям, предположениям и просто шуткам. Будущий начальник разведки, всегда подчеркнуто сдержанный, Левко Невкыпилый небрежно и чуточку покровительственно (от желания казаться более взрослым и солидным) повел рукой вдоль разноцветных разводов, значков, букв и цифр карты и тихо, но многозначительно произнес: — Terra incognita. [13] Как потом выяснилось, Левко вообще был не прочь исподволь подчеркнуть свою образованность и начитанность. Он, вероятно, был высокого мнения о себе, своей славе опытного разведчика, своем владении немецким языком. И при случае напоминал об этом не совсем обычными или не часто у нас употребляемыми словами. Любил, между прочим, чтобы и звали его не просто Левком, а Львом. И что самое странное, его манера никогда не вызывала у нашей чуткой и насмешливой молодежи желания посмеяться. Более того, поведение Левка даже чем-то нравилось нам. Хотя именно в ту минуту у карты его глубокомысленная латынь не попала, как говорится, в цель. Потому что как раз в этот момент светловолосый и редкозубый Петро Гаркуша, растянув в широкой улыбке свои полные розовые губы, ткнул пальцем в центр «Белого пятна» и звонко воскликнул: — Настя, посмотри-ка сюда! И когда Настя приблизила свое сосредоточенно-строгое веснушчатое лицо к карте, хмыкнул и весело добавил: — Это именно здесь!.. — Что здесь? — не поняла Настя. — А жаба! — Какая жаба? — А вот, написано! Попадешь вот сюда, тут она тебе и даст прикурить! Жабы, они конопатых любят! Следом за Петром, присмотревшись к карте, весело хмыкнул чернявый горбоносый Павло Галка. А Настя и не рассердилась, и не улыбнулась. Да она и вообще, кажется, никогда не улыбалась. Лишь пренебрежительно прищурилась на «святых» шутников и тихо, сквозь зубы, бросила: — Говорила — макухи, макухи вы и есть!.. «Макухи» — это было у Насти почему-то самое крепкое ругательство. Не поняв немудреную остроту парня, я тоже невольно взглянул на карту. Там над плоским ногтем Петра на пересечении степного тракта и крохотной речушки с каким-то татарским или половецким названием Кагарлык еле виднелся кружочек маленького села в самом деле со смешным названием Жабово. Отодвинув обоих «святых», а вместе с ними и Настю в сторону, вплотную к карте подошел наш будущий начальник штаба, приземистый, коротко остриженный Семен Лутаков. — Век здесь жил и ничего смешного в этом не видел, — уперся он указательным пальцем в карту. — Вот! — медленно начал водить пальцем вокруг села Жабова. Водил и вслух читал: — Новобайрацкий, Терногородский, Балабановский, Скальновский районы. Все это мои родные, знакомые места. Среди ночи с закрытыми глазами могу пройти. Вокруг, как в песне поется, «ни лужочка, ни лесочка». Только вот здесь, за Подлесным, стало быть, изрядный для того края лесок, урочище Зеленая Брама. Лутаков на минутку умолк, задумался. И все мы вдруг устремили взгляд на его круглое, полное лицо. А он, не замечая этого, пожал широкими плечами и тихо, будто к самому себе обращаясь, закончил: — Одним словом, не то что партизанам, зайцу здесь негде укрыться. — Ну, что же, — вздохнул почему-то в ответ на его слова наш будущий комиссар Парфен Замковой. — Так, значит, и запишем. — Он круто свел густые смолистые брови, и острые скулы под сухой смуглой кожей его сурового лица резко обозначились. — Так, значит, и назовем… как это и положено на всякой карте, «Белым пятном»…
Мы должны были приземлиться в полутораста километрах от «Белого пятна», у Каменского леса, в котором действовал отряд имени Пархоменко. Почти вслепую, без видимых ориентиров, так как связь с отрядом наладить до сих пор не удалось. Имели мы о нем лишь отрывочные сведения от командира партизанской кавалерийской бригады, которая в марте этого года прошла рейдом где-то неподалеку от этих мест. А знали все мы и помнили только одно: выбрасываемся над Каменским лесом, в районе села Казачьего. Место сбора — озеро Сорочье. На случай встречи с руководством подпольного обкома меня вооружили определенными полномочиями и соответствующим документом. Документ этот — обыкновенное удостоверение личности командира группы с печатью, авторитетной подписью и просьбой непременно способствовать и помогать нам — был написан на обыкновенной пишущей машинке в несколько необычном месте: на желтоватом подоле моей нижней солдатской рубашки. И, чтобы предъявить этот документ, нужно было подол рубашки опустить в кипящую или, по крайней мере, в очень горячую воду или подержать над пламенем. Нескольких товарищей из группы вооружили еще и другими документами. Настя, например, имела паспорт с харьковской пропиской и удостоверение от бургомистра, что она-де эвакуируется к своей тетке, которая живет в К-ской области. Всем другим выданы были документы на имя макеевских, горловских и таганрогских полицаев, которые эвакуируются вместе с немецкими учреждениями в далекий тыл, за Днепр. Наконец меня вызвали в штаб и назначили время вылета: в ночь с третьего на четвертое августа сорок третьего года. Лето стояло сухое, погода на удивление лётная. Хотя, правда, не для десантников: в тех краях по-настоящему темнело только в десятом часу, а рассветать начинало около пяти. Следовательно, продолжительность ночного полета самое большое — шесть часов. Лететь же туда и обратно около шестисот километров, учитывая разные неожиданности и вынужденные отклонения от курса над линией фронта или во вражеском тылу, так как небо — насколько хватал глаз — чистейшее, луна полная и светит с десяти вечера и до самого утра. До степного аэродрома мы добирались на двух «виллисах» часа три в сплошном облаке пыли, так была разбита машинами и танками степная дорога. На выгоревшей полынной земле аэродрома несколько часов отдыхали в холодке, под крылом какого-то искалеченного самолета. Поднялись в воздух, когда уже совсем стемнело, в половине одиннадцатого. Самолет, старенький тесный ТБ-3, со скрипом набирал высоту. Сначала было в нем тесно, темно и невыносимо душно. Особенно в нашем нелегком снаряжении, с парашютами. Когда поднялись выше, стал уже ощущаться холод. Курить командир самолета запретил строжайшим образом, а разговаривать никому не хотелось. Угомонились, умолкли даже наши «святые» Петро и Павел. Сбившись поплотней, прижимаясь друг к другу, молчала вся моя группа, углубившись, быть может, в самые важные сейчас для каждого мысли. В общих чертах я представлял себе, с чем мы можем столкнуться. Имел определенный опыт и, несмотря на то что именно этот вылет представлялся сложнее предыдущих, чувствовал себя спокойно. Конечно, настолько, насколько вообще можно быть спокойным в подобной ситуации. Я догадывался, какие мысли и чувства тревожат сейчас каждого из новичков. Кто-то волнуется и, сдерживая это волнение, больше всего боится показать его перед другими. Другой страстно желает, чтобы полет закончился как можно скорее. Третьему хотелось бы растянуть его как можно дольше. И у каждого в темноте перед глазами целый мир, сложный, многокрасочный и переливающийся, как в калейдоскопе. Мир родных, дорогих лиц, яркий мир уже прожитой жизни и призрачный, запутанно мерцающий — жизни будущей. Я уже переживал все это. Однако ни советовать что-либо, ни делиться своим опытом, ни тем более утешать кого-нибудь сейчас не мог и не хотел. В конце концов, все, что надо и можно сказать, уже сказано. А опыт… Не всегда твой опыт пригоден для другого. К тому же бывают подчас такие минуты, когда просто бестактно навязывать кому-то себя и свои чувства. Парашюты у нас были автоматические. Хотя, в случае необходимости, можно было воспользоваться и кольцом. Обо всем остальном твердо договорились со штурманом еще на земле: «приготовиться» — открытый бомбовой люк; «прыгай» — сирена; чтобы приземлиться наиболее плотно, прыгать друг за другом, не задерживаясь ни на миг, одновременно с крыла, через боковую дверь и через бомбовой люк… В какой-то миг (бывает такое ощущение), когда самолет уже набрал высоту, показалось, будто он остановился на месте и неподвижно повис в воздухе. Повис и висит. Невыносимо долго, бесконечно и, главное, неизвестно, когда тронется с места. Вышел я из этого состояния, вероятно, через час. Привели меня в чувство странные и беззвучные вспышки каких-то шаровых молний в темноте, справа и чуточку ниже, под крылом самолета. Спустя час, вероятно, мы вышли на линию Днепра, нас обстреливали зенитки, и где-то слева метался в серой мгле, нервно вылавливая нас, луч прожектора. А самолет круто забирал вправо и вверх… Через полчаса нас обстреляли еще раз. Самолет забрался еще выше. Стало невыносимо холодно. А потом, не уловив мгновения, когда это случилось, я заметил прямо у себя под ногами открытый люк. «Приготовиться!..» Когда же именно он открылся? Как это я не заметил? Быть может, уже давно? Быть может, была и сирена, которую мы за шумом мотора не услышали? И вот… в темноте тесного самолета возня, общее движение. В лицо резко бьет холодная струя. Усиливается шум мотора. Пронзительный воющий звук с болью врывается в уши. Перед глазами на миг возникает тусклый прямоугольник дверцы с голубоватой точечкой далекой звезды в верхнем углу. Первым, как и было условлено, исчезает в этом прямоугольнике начальник разведки Левко Невкыпилый. За ним бесплотными тенями почти одновременно прыгают Петро с Павлом. Настя, что-то там на себе поправляя, задерживается на несколько секунд. Парфен Замковой и Семен Лутаков бросаются следом за нею тоже почти одновременно: Замковой в дверь, а Лутаков в люк. В самолете сразу же становится просторно. Чья-то рука ложится мне на плечо. «Штурман», — мгновенно фиксируется в голове, и я, уловив свою очередь, рывком бросаюсь к люку. Бросаюсь и… зацепившись ногой, останавливаюсь… Да… Лутаков… Приземистый, широкоплечий Лутаков в ватной стеганке, с вещмешком, автоматом, гранатами и тяжелой, килограммов на двенадцать, батареей питания для рации, которую мы, нарушая инструкцию, отобрали у Насти, застрял в узком для него люке. И, на какой-то миг растерявшись, вместо того чтобы оставить начальника штаба на попечение штурмана и скорее выбрасываться в дверь, я начинаю помогать Лутакову. Нащупываю у него за спиной и поправляю автомат, проталкиваю мешок с вещами и продуктами… А тем временем проносятся секунда за секундой. Проходит, быть может, целая минута, а то и вечность. Лутаков в конце концов проваливается в отверстие люка и мгновенно исчезает… А я, вместо того чтобы броситься следом за ним, почему-то возвращаюсь назад и вываливаюсь на крыло… Короткий миг плавного сползания. Знакомый уже резкий провал, когда кажется, будто все внутренности подкатили к самому горлу, чувствуешь острый, болезненный свист и рев в ушах. После этого такой сильный, что отдается болью во всем теле, рывок, громкий, будто выстрел, удар распустившихся строп и… тишина. Внезапная, неожиданная, всегда, сколько ни прыгал, поразительно полная и глубокая тишина. Будто все и сразу куда-то провалилось… Над головой, заслонив все небо, белый купол парашюта. А сам я, кажется, неподвижно повис над мутновато-серебристой, залитой призрачным лунным светом бездной… Вниз, в ту загадочную и страшную бездну, которая встретит меня неизвестно чем — кустами, деревьями, столбами, речкой или автоматными очередями, — лечу, кажется, дольше, чем следовало бы… Кажется?.. Или же наш самолет и в самом деле забрался так высоко? Ночь лунная, тихая, безветренная. Я стремительно падаю вниз. Земля сереет подо мной невыразительно, тускловато. Что там? Лес, на который нас планировали сбросить? Однако то, что виднеется внизу, на лес словно бы не смахивает. Что же тогда? И где он, этот Каменский лес, в котором, по нашим расчетам, должен базироваться партизанский отряд имени Пархоменко?.. Но, что бы ни было, прежде всего на всякий случай нужно предохранить глаза… Закрыл лицо согнутой в локте рукой. Подогнул ноги, вытянул носки и почти в тот же миг коснулся ими мягкой земли. От неожиданности упал на колени, резко отбросил корпус назад, не удержав равновесия, свалился на правый бок, и… парашют сразу же прикрыл меня сверху. Несколько секунд, всего несколько секунд в темноте под парашютом. Слух напряжен до предела. Вокруг тишина. И в тишине, никем, вероятно, не пуганные, рьяно свиристят, заливаются кузнечики. Подо мной сухая высокая стерня… Опасности, кажется, нет. Выползаю из-под парашюта и, не освобождаясь от строп, не поднимаясь на ноги, всматриваюсь в часы. Стрелки светятся в сумерках. Хотя потребности в этом фосфорическом свете и нет. Ночь такая лунная, что на часах можно прочесть даже мелкие цифры. Десять минут третьего. Эге!.. Выходит, летели мы изрядно, чуть ли не четыре часа. Хотелось бы только знать, куда же нас занесло. Лежа освободился от парашюта, еще какой-то миг прислушивался и, не услышав ничего подозрительного, поднялся на ноги и огляделся вокруг. Степь… Ровная, бескрайняя — голая сухая стерня — степь расстилалась во все стороны. И ни малейших признаков жизни: ни человека, ни зверя, ни птицы. И не то что леса, ни единого деревца или кустика! Какие уж там развесистые дубы, орешник, клены, лесное озеро! Какой там отряд имени Пархоменко! Вот, оказывается, чего стоит одна минута! Застрял человек в люке, и пожалуйста! А ко всему этому еще и значительная высота — могли рассеяться на много километров! Степь, стерня. Тускло-невыразительный, размытый горизонт. Ни овражка, ни лощинки. И даже намека на какое-либо жилище, лесок или хотя бы лесополосу… Ну, лесополоса-то, конечно, где-то должна быть! И человек… По крайней мере, один! Начальник штаба Семен Лутаков. Ведь я выбросился почти следом за ним. И — странно! — так нигде и не заметил его. Ни в небе с парашютом, ни здесь! Еще раз с надеждой осмотрелся. Пустота, тишина, стерня. Кузнечики стрекочут. Да луна, полная и веселая, скатываясь уже к западу, повисла на звездном небе, уставилась на меня и улыбается насмешливо: ну, дескать, что ты теперь делать будешь? Не то что копны, валочка, охапки соломы нигде не оставлено! Парашют и тот негде спрятать. Придется тащить с собой. А куда? Поднял глаза к небу, нашел Полярную звезду, сориентировался по ней… Стоять да размышлять долго — нет смысла. Ничего путного, стоя на месте, не придумаешь. До утра ведь не так уж и далеко. Значит, надо трогаться. И трогаться, если уж думать о лесе, обязательно на север. Лесополосы, если они здесь есть, все равно должны тянуться вдоль и поперек. В этой ситуации на жилище набредешь, по всей вероятности, лишь случайно. Точно так же случайно, но вполне вероятно, можно наткнуться… ну по крайней мере на Лутакова. Можно было бы подать условный сигнал свистком. Но тут и так каждый стебелек виден чуть ли не за версту! А любопытно все же, черт возьми, куда это я попал?! Кое-как свернул парашют, перебросил через плечо, автомат перевесил на грудь, пистолет вложил в верхний карман зеленой куртки и тронулся на север. Луна оказалась у меня за спиной и чуточку слева. А тень моя, все удлиняясь и удлиняясь, продвигалась передо мной, скошенная чуточку вправо. Под ногами тихо шелестела шершавая стерня, и кузнечики, разбрызгиваясь во все стороны из-под сапог, умолкали на краткое мгновение лишь для того, чтобы тотчас же продолжить свою песню у меня за спиной. Иду десять минут… полчаса… уже почти час, а вокруг так ничего и не изменилось. Степь и степь. Голая стерня и монотонное, какое-то мертвящее стрекотание кузнечиков. Луна опускается все ниже, ее зеленовато-белый диск заметно тускнеет, наливается вишневой краснотой, и от этого тень моя все удлиняется и удлиняется, очертания ее блекнут, стираются. Иду. Неизвестно где, неведомо куда. Неприятное ощущение, хотя это в моей практике не впервые. А как же они? Настя, «святые» да и все остальные? Ведь они в такой обстановке впервые! Не сказал бы, что очень удачно все у нас началось. Только что нас было семеро. И вот за какой-то миг — никого. Словно их и не было. Луна все увеличивается, опускаясь к самому горизонту. Будто я незаметно поднимаюсь вверх по склону какого-то огромного пологого бугра или косогора. И это ощущение не обманывает меня. Через некоторое время впрямь замечаю, что горизонт передо мной поднимается все круче, все выше и приближается. Ровный, темный, будто по ниточке обрезанный. Вот он — рукой подать! И сразу же над ним, прямо перед самыми глазами, звездный занавес неба. Шагаю энергичнее, все ускоряя и ускоряя ход. И горизонт, вместо того чтобы отдаляться, уходить от меня, как это бывает всегда, приближается, движется навстречу с жуткой неправдоподобностью. Останавливаюсь, встряхиваю головой, но, как только трогаюсь с места, сразу же трогается мне навстречу и четкая линия горизонта. Шаг… десять… сорок, быть может пятьдесят… Под сапогами затрещал сухой бурьян. Стерня закончилась, осталась где-то позади. Мелкая борозденка, сухие будылья, снова бурьян, глубокая, по колено заросшая чертополохом канава, и… горизонт вдруг исчез, провалился, упал прямо мне под ноги. Высокий пустынный степной грейдер тянется вдоль хребта длинного степного пригорка. По одну сторону стерня. По другую, прямо передо мной, низкорослая разреженная кукуруза. Ровными рядками сбегает она вниз, теряется в предрассветной мути. Горизонт исчез, отошел, отбежал далеко-далеко, бог весть куда. Мрак вокруг какой-то белесо-мутный и непроглядный. Егоуже не пробивает свет низкой луны. Только где-то очень далеко, вероятно на самом дне этой мути, полыхает пожар. Что же это горит? Скирда соломы, копна, стожок или, быть может, несколько домов одновременно? Дыма отсюда не видно. Одно лишь беззвучное, жутковато-тревожное пламя переливается, мерцает то белыми, то красноватыми языками. И такая же жуткая, такая же тревожная тишина вокруг. Ни звука, ни голоса. Если, конечно, не считать мертвенного, сухого свиристения кузнечиков. Напрасно напрягаю я слух и зрение. Лишь непроглядная мгла, далекие тихие пожары и кузнечики… А я блуждаю тут уже более часа. Скоро уж, пожалуй, начнет светать. И что тогда делать в голой, незнакомой степи?.. Решаю свернуть направо и держаться дороги. Глядь, и попадется какая-нибудь вешка, какой-нибудь ориентир… Переступаю глубокий кювет и двигаюсь вдоль кукурузы. Она еле достает моих колен. В случае чего хоть слабое, но все же укрытие. Прилег, и тебя уже не видно. Иду вдоль дороги. Слева далекий пожар. Справа четкая темная линия грейдера и телеграфные или телефонные столбы с оборванными… да, и здесь, казалось бы в глубоком тылу, с оборванными проводами. Возможно, какая-то старая, забытая богом и людьми линия. Закончилась кукуруза. Твердое, заросшее хилой травой, вероятно, несколько лет не паханное поле… Хоть бы крохотный, самый ничтожный ориентирчик! И вдруг — острый смрад горелой резины. Такой здесь неожиданный и… знакомый, будто на каком-нибудь прифронтовом шоссе… Этот запах словно бы пробуждает от сна, снимает усталость и настораживает. Останавливаюсь и сразу же осознаю — светает! А впереди в кювете, перевернутая набок, лежит разбитая обгоревшая машина. И впечатление такое, что горела она еще этой ночью. Хотя дорога по обе стороны и безлюдная, а степь пустая. И разливается вокруг тебя такая глубокая, извечная тишина, что не верится, будто здесь мог произойти взрыв, всего лишь несколько часов назад уничтоживший эту машину. В серебристом рассвете становится хорошо видна вся дорога впереди. Мягко изгибаясь, спускается она к неширокой пойме узенькой речушки. Дальше через бетонный, чудом уцелевший здесь мостик вырывается на противоположный пригорок и, прорезав небольшое, молчаливо замерзшее сельцо, исчезает в бескрайней степной дали. Пойменный луг начисто выкошен или вытоптан. Лишь кое-где низенькие обломанные кустики лозняка. Да еще темные лоскуты осоки над водой. И сельцо голое, ободранное. Хаты в большинстве своем без крыш. Просто потолки и на них вороха почерневшей соломы. Даже деревьев, не говоря уже о садах, не густо. А улиц всего две. Одна вдоль дороги, а другая поперек, через огороды к речке. Село дворов на пятнадцать. Черт возьми, интересно все-таки узнать, куда я залетел!.. Слева от дороги пригорок, седой от полыни, которая росла здесь, вероятно, еще при половцах, глубоко пропахан узким, с глинистыми обрывами оврагом. Наконец я избавлюсь от парашюта! Место для него нашлось в глубоком русле пересохшего ручья на самом дне оврага. Вкладываю его туда, прикрываю глыбой влажной рассыпчатой глины, притаптываю ногами (теперь никто на него не натолкнется, по крайней мере до первого дождя) и направляюсь дальше. По глубокому буераку прохожу к лугу, ложусь за кустом пожелтевшего, привядшего конского щавеля, присматриваюсь и прислушиваюсь. Над поймой белыми хлопьями туман. И справа, где-то вдали, в излучине речушки, торчат сиротами три старые-престарые, узловатые и обломанные вербы. Слева мостик. Тот самый, на бетонных опорах, с цементным настилом. А сбоку, на высокой насыпи, столбик и широкая дощечка, прибитая поперек… На противоположном пригорке, совсем рядом с мостиком, ощерилась ободранными стропилами одинокая хатенка. Прилепилась одна, в сторонке от улицы. Неогороженный дворик. Несколько вишенок. Старый перекосившийся хлевушок с обвалившейся стеной. Узенькая полоска огорода вдоль насыпи к речушке. И от хлевушка чуть ли не до самого берега темная ленточка конопли-ма́терки. Село пустое, будто брошенное людьми. Ни лая собак, ни пения петухов, ни даже скрипа дверей не слышно. Немного переждав, решаюсь и неторопливо, уверенно, не пригибаясь, иду через луг напрямик к этой избушке. Перейдя речушку вброд (вода достигает только до щиколотки), поднимаюсь на насыпь. Присев на корточки, всматриваюсь в столбик перед мостиком. На почерневшем от солнца и дождей прямоугольнике доски четко, ясными, хотя и малость выцветшими латинскими буквами написано: «Schabove». Что же это по-нашему? Ша́бове или Шабове́? И где оно может находиться?.. Карту, конечно, здесь разворачивать и рассматривать никак невозможно. Уж потом, где-нибудь там… Да и не помню, чтобы на карте было такое… А все же… Постой! Что-то, однако, словно бы знакомое! Где-то уже вроде бы слышал нечто подобное… Шабове… Шабове… Что-то словно бы вертится на языке… Но вспомнить при всем желании никак не могу! С досадой и надеждой пристально всматриваюсь в эту пометку и… в правом уголке доски, в самом низу, замечаю совсем уже выцветшие корявые разводы химического карандаша. Буквы маленькие, бледные, писанные, видимо, давно и торопливо, однако постой, постой… наши буквы! Ша… бово… Да нет же! Какое там «ша»! Ну да, в самом деле! «Жа»! Ну конечно же только так: «Жабово»! И вот, скажи на милость, прежде чем постичь весь ужас того, что связано с этим словом, в голову приходит глуповатая, брошенная кем-то из моих «святых» еще там, по ту сторону линии фронта, у той карты, фраза: «…тут она (то есть жаба) тебе и даст прикурить!» …Ну и ну! Нужно же такому случиться!.. В самом деле Жабово. Ни за что бы не поверил! Наверняка то самое Жабово! Та самая terra incognita — неведомая земля! Самый, можно сказать, ее пуп. Получается, выбросили нас, как слепых котят, по крайней мере в полутораста километрах от того места, в которое целились. Как же это произошло? Но… Разве теперь, в эту минуту для меня не все равно? Сразу же чувствую, как я устал, выбился из сил, проголодался, как тяжкий груз многодневной усталости от тренировок, странствий, самолета, прыжков и ночных блужданий давит мне на плечи и пригибает к земле. Но… спокойно, спокойно. Главное — без паники. Еле пересиливая себя, свою усталость, почти отчаяние, разочарование, я медленно, грузно сползаю с насыпи. Сползаю и, скрываясь в серой мгле рассвета, пригибаясь, с трудом шагаю вдоль полоски высокой конопли. Ноги еле-еле передвигаются, поясницу ломит, ремень автомата больно трет шею, а в ноздри, в грудь набивается резкий, густой — кажется, и не продохнешь — запах перезревшей конопли… Вот тебе и Каменский лес, вот тебе и Сорочье озеро, вот тебе и отряд имени Пархоменко!.. Однако же и воняет эта проклятая конопля! Но деваться мне некуда. Сворачиваю с еле протоптанной дорожки и пробираюсь в заросли конопли. Конопля жесткая, густая и высокая, как лес. Пробиваюсь к середине, стараясь не ломать стеблей и не оставлять после себя следа. Потом осторожно ложусь у самого краешка напротив перекосившегося хлевушка. Расстегиваю воротник, располагаюсь поудобнее и, отодвинув от глаз жесткие стебельки, затихаю. Теперь (если, конечно, за мной никто не следил) меня не видно никому, а я вижу и могу следить почти за всем. Прямо передо мной, всего в нескольких шагах, хлев. Ободранные рыжие стены, возле двери несколько снопиков кукурузы, вязанка сухих подсолнухов. Дальше неогороженное подворье, густо заросшее травой. Курчавится она до самой улицы, почти совсем затягивая две, наверное, очень давние, теперь еле заметные колеи. Справа давно не мазанная, исхлестанная дождями хатенка. Два окошка, некрашеная дверь сбита из четырех досок, истертый порог и перед ним плоский темный камень. И прямо из-под самого камня трава-мурава. Густая, зеленая, на которой даже и тропинки не видать. Быть может, здесь никто и не живет? Однако ж… от улицы две вишенки, дальше кусты смородины, под окнами яблонька, и на нижней, срезанной ветке совсем еще новый кувшин. А прямо перед моими глазами — заметил я это не сразу, — у самой грядки конопли, рукой можно дотянуться, что-то длинное (не поймешь что), прикрытое чистенькой полосатой дерюжкой. Ну что ж… Полежим, подождем, посмотрим… На дворе уже совсем рассвело, день, вот-вот взойдет солнце. Стало быть, торопиться, а главное, деваться мне все равно некуда. Но солнце, оказывается, всходит не так уж и быстро. Пока оно брызнуло ослепительно белым веером из-за бугра, належался я и натомился в этой мертвой, словно бы завороженной тишине! Вымерли они все здесь или, может, их выселили гитлеровцы? Если так, можно отлеживаться тут хоть до второго пришествия. Однако не лежится! Снедает нетерпение, мучат сомнения, хочется двигаться, хочется поскорее что-нибудь выяснить. И я не удержался: помимо воли, забыв об опасности, подтянулся на локтях и, осторожно просунув руку, тихонько потянул за кончик полосатой дерюжки. Потянул и… сразу же инстинктивно с испугом отдернул руку… Чего-чего, а вот чтобы из-под дерюжки показалось лицо… мертвое… конечно же мертвое человеческое лицо… никак не ожидал! Ну и ну! Соседство в самом деле неожиданное, ничего не скажешь! Лишь через несколько минут пересиливаю оторопь и заставляю себя присмотреться повнимательнее. Уже закостеневшее лицо. Желтый ровный нос заострился. Восково-желтое ухо. А щека потемнела и втянулась. Рыжеватые, коротко остриженные, с челочкой на лбу волосы. На висках запеклась кровь. Молодой… Под голову подложена пилотка. Обтянутое голубовато-серым мундиром острое плечо, и на нем измятый ефрейторский погон… Немец! Торопливо прикрываю его дерюжкой и отползаю подальше в коноплю. Вот тебе, оказывается, и «Белое пятно»! Вот тебе и terra incognita! А в голове уже цепляются одно за другое и этот мертвый немец, и опрокинутая обгоревшая машина, и вчерашний (или, вернее, сегодняшний) далекий пожар! И вместо того чтобы впасть в отчаяние от этого ужасного соседства да и вообще от положения, в котором я оказался, я вдруг нежданно-негаданно ощущаю острый прилив бодрости. А на душе от этого становится яснее и надежнее… Вот тебе и глухая степь… Вот тебе и окрестят ее молниями…
Положение мое, однако, все же безвыходное. И как только я попал в эту вонючую коноплю? Никто, конечно, не смог ответить на мой вопрос. Даже и потом, через двадцать пять лет. Неверный расчет маршрута? Сбились с курса во время обстрелов? Повреждены зенитками приборы? Или же и в самом деле не хватило времени, не выдержали нервы штурмана, и он, чтобы успеть возвратиться через фронт затемно, выбросил нас в спешке где пришлось? Кто знает! Тайна эта так и останется нераскрытой. Ибо в тот же предрассветный час, быть может, даже именно в те минуты, когда я пробирался к своей конопле, на аэродроме с нашего самолета приняли последний сигнал. Где-то в районе Запорожья попал он под плотный огонь зенитных батарей, был подбит, загорелся, и экипаж — летчик и штурман-радист — погиб. Лежу в соседстве с мертвым гитлеровским ефрейтором. Положение складывается довольно трудное. Ведь если кто-то пристроил здесь этого укокошенного гитлеровца да еще и дерюжкой прикрыл, так должен за ним явиться. Неизвестно когда, в любую минуту. Взвесив все это, принимаю единственно возможное в этих обстоятельствах решение: оставаться в конопле, лежать тихо и наблюдать. И ежели эти наблюдения не подскажут иного выхода, пересидеть в конопле до следующей ночи. План не хуже и не лучше всякого другого. Но… что, если явятся за ефрейтором немцы? И если с ними будет еще и собака? Можно, правда, понадеяться на эту удушливую коноплю, острый, невыносимо острый запах которой станет для меня спасением. Однако лучше уж приготовиться к худшему. И я, пока вокруг тишина и безлюдье, устраиваюсь поудобнее. Под руку пистолет, перед самым лицом автомат, ослабляю пояс, поудобнее прикрепив на нем гранаты в расстегнутом подсумке. Потом, не снимая с плеч мешка, достаю бутерброд из «энзе» и принимаюсь завтракать, не обращая внимания на соседа. А тем временем из-за хлевушка-развалюшки, из-за крутого, седого от полыни и чабреца бугра, выкатывается красное заспанное солнце. С первыми лучами сразу же, словно по команде, начинается в селе какое-то движение, возникают явные признаки жизни. Конечно же не полные, не те характерные для летнего сельского утра, к которым я привык. Ни лая собак, ни мычания коров, ни веселой переклички голосов, ни даже куриного кудахтанья или пения петухов я не слышу. Хотя, правда, и странно было бы услышать такое в конце второго года оккупации… Вместо всего этого где-то там, в глубине улицы, гулкий, неожиданный удар: дверь хлопнула, свалился ли какой-то столб или ударили топором по бревну, кто ж его знает! Затем послышался скрип. И теперь уже наверняка можно было сказать, что это колодезный журавль, потому что сразу после этого звонко брякнуло ведро. Донеслись приглушенные человеческие голоса. Раздались частые-частые удары топора. В другом месте косу начали клепать, и гулкие удары железа по железу раскатились вдоль поймы, понеслись гулким эхом за степные бугры. — Микита! Слышь, Микита! — вдруг звонко стрельнуло словно бы у меня над самой головой. Я даже вздрогнул. С улицы из-за хлевушка выскочила, проложив за собой на влажной от росы траве темный след, девочка. Стройная, высокая, с туго заплетенной косой. Ноги босые, загоревшие на солнце до черноты. На ней коротенькое, явно городского покроя синенькое платьице, из которого девчонка давно уже выросла. Вбежала с улицы, остановилась посредине двора и зовет громко да весело, так, будто ничего не случилось — и войны никакой нет, и нет этого мертвого ефрейтора: — Микита! Слышь, Микита!.. Это было первое живое существо, которое я увидел здесь. И оно так не гармонировало с окружающим, суровым и мрачным, что мне даже не по себе стало. На голос девочки, будто проснувшись, щелкнула задвижка. Скрипнула, приоткрывшись, медленно отошла в глубь сеней дверь «моей», до этого, казалось, нежилой хаты. Переступив через порог, остановился на темном камне парень или мужчина, только очень щупленький и сухощавый. Прядь непричесанных темных волос спадает ему на глаза; вылинявшая, с расстегнутым воротником солдатская гимнастерка не подпоясана. Широкие рыжие латаные брюки и стоптанные сандалии на босу ногу. Настороженно, коротко глянул он в мою сторону, вернее, в сторону того, что было под дерюжкой. — А эта дрянь еще здесь? — перехватив его взгляд, так же звонко спросила девочка. «Ого!» — радостно отметил я. И потом каждый раз, когда вспоминалась мне эта девочка в городском платьице, уже ставшем ей тесным, девочка, которую встретил и увидел я в самом центре неведомого и загадочного «Белого пятна», у меня всегда становилось как-то радостно на сердце. На ее вопрос хозяин хаты, которого звали Микитой, не ответил. Вместо этого, отведя взгляд от дерюжки, спросил сам: — Ну, зачем звала, Оксанка? — Пойдем мы сегодня за колосками или не пойдем? — А почему же?.. После полудня, может, и пойдем. — Я могу и одна… Только бабуся не пускает. Боится! — Да, да… Я и говорю… Туда, к полудню, — как-то невпопад или словно бы не расслышав, продолжал Микита. — Я тогда зайду. — Я буду ждать! — звонко бросает Оксанка, поворачивается и сразу же исчезает так же неожиданно, как и появилась. Ну вот, есть, оказывается, в этой хатенке живые люди. Теперь внимание! Следить, запоминать, делать выводы: сколько их здесь, что будут делать? Чем дышат? Если судить по той девчонке, люди здесь хорошие. Хотя торопиться с выводами рискованно. Микита ступил на росистую траву и неторопливо побрел за хлев. Вышел оттуда с охапкой сухих будыльев в руках. Вошел в сени, не прикрыв за собой дверь. Сразу же после него появилась во дворе женщина с ведерком и лопатой. Она прошла неподалеку от меня в огород, нарыла картошки и быстро вернулась, старенькая, но крепкая еще, высокая и сухощавая бабуся. В рябенькой, перехваченной поясом кофтенке и широченной, длинной, почти до пят, синей поношенной юбке. На ногах чуни, на голове темная косынка. Лицо строгое, тяжелое, с крупными выразительными чертами. Этот Микита, если бы поставить его рядом с женщиной, казался бы мальчонкой, такая была она стройная и величественная, несмотря на худобу. Вскоре из трубы повалил легкий синеватый дымок, и долго, возможно час, из дома никто не показывался. Второй раз Микита вышел из хаты уже в серой фуражечке с козырьком. В руках держал серп и топор. Прошагал мимо меня, и теперь я смог убедиться, что это скорее молодой парень, чем взрослый мужчина. Вероятно, сын, а то и внук этой бабушки. Вот только очень хлипкий, замученный, и не определишь сразу, сколько же ему лет — двадцать или все тридцать? И с левым глазом у него что-то неладно… Микита пошел куда-то вниз, а немного погодя вышла из хаты старуха. С плетеной корзинкой, с решетом и ножом. И, насколько я мог разглядеть, начала собирать на огороде помидоры, рвать фасоль. Подворье несколько часов оставалось пустым. В хате, кроме этих двух, словно бы никто больше не жил. Примерно в десятом часу они возвратились снизу, с огорода, вместе. Он нес снопик осоки и вязанку сушняка, она — полную корзину и решето. Потом она с ведрами на коромысле и узелком тряпья направилась вниз к речушке, а он пошел вверх, в село. Вели они себя так, будто и не лежал у них на подворье под полосатой дерюжкой мертвец. Так, словно все это было совсем будничным… Старуха через какой-нибудь час возвратилась с полными ведрами воды и выстиранным тряпьем на коромысле. Сын — я почему-то уже думал о нем как о сыне — не показывался до самого вечера… Боже мой, каким невыносимо тяжелым и длинным был для меня этот день! Более длинного я, кажется, не запомнил за всю свою жизнь! Чего только не пережил и не передумал, как только не перемучился я за тот летний день, неподвижно изнывая в конопле! И меньше всего думал я о собственной безопасности. А если иногда и появлялась назойливая мысль о том, чем все это для меня закончится, старался отгонять ее, потому что и в самом деле… ну, что может со мной случиться в конце концов на родной земле, среди своих людей? Да еще после всего, что я испытал во время двух первых вылетов во вражеский тыл и нескольких месяцев пребывания на оккупированной земле. А вот что растерял позорно, по-глупому всю группу, что остался один-одинешенек, как пень… Ведь у меня опыт! А они попали в такую ситуацию впервые! Ни один из них о таких обстоятельствах до вчерашней ночи и представления не имел. Для них все это в самом деле — terra incognita. Да где там… просто геенна огненная, в которой, как кажется в первое время, всюду лишь и поджидают тебя одни гитлеровцы да полицаи. Невыносимая досада грызла меня. И все же нужно было держаться, держаться до вечера, по возможности изучать обстановку, делать из этого выводы и потом действовать. Обстановка, как говорится, в близком радиусе была несложной. Пустое подворье, мертвый ефрейтор и двое незнакомых, по всей вероятности, своих людей. И больше ничего живого. Но то что курицы там или собаки, даже кошки, кажется, у этих людей не водилось. За весь день во двор, кроме Оксанки, ни один человек из сельских, из соседей, так и не зашел. Интересно только — вообще сюда люди не заходят или же их отталкивает сейчас этот мертвый ефрейтор? Из села до меня не доносилось ничего определенного. Правда, можно было составить хотя бы какое-нибудь представление о движении на дороге. Судя по всему, ее можно было бы считать магистральной в этих краях, но движение было довольно слабым. За все время протарахтели два мотоцикла, проехали поодиночке четыре военных грузовика да еще простучал кто-то на телеге. Одним словом, не густо… А солнце поднималось все выше и выше. День разгорался над безбрежной степью знойный, августовский. И ко всем моим мукам и страданиям начали присоединяться новые, досадные, нестерпимые и, казалось, непреоборимые. Прежде всего — это опасное соседство и постоянное, ежесекундное напряженное ожидание, что вот-вот кто-то появится. Потом неподвижность, от которой деревенеет тело. А шевелиться, двигаться, даже позу изменить опасно! Погода безветренная, а высокая конопля на открытом месте просматривается со всех сторон. Стоит только шевельнуться, а она уже и задрожала вверху над тобой, заходила ходуном. И получается, ветра нет, а конопля мотается. А тут еще солнце так припекает, так парит, семь потов из тебя выжимает. А еще вонь разомлевшей на солнце конопли… Невыносимо хочется то покурить, то воды напиться. Со мной ведь было только немного еды… От всего этого так умопомрачительно разболелась голова, что казалось, не выдержу боли, волком взвою. А тут еще за мертвяком ефрейтором, как я и предполагал, в самом деле приехали. Приехали в открытой запыленной легковушке. Примчались с дороги на открытое всем ветрам подворье и остановились у самой конопли. В машине, кроме водителя, пожилого усатого солдата, были еще двое молоденьких немцев и… (ну да, так и я знал, так и думал!) огромная, с высунутым от зноя красным языком, клыкастая овчарка. Она сидела, тяжело дыша, рядом, всего в нескольких шагах от меня, но так и не учуяла ничего, не встревожилась. Один лишь раз передернула шкурой, словно бы воду с себя отряхивала, и чихнула. Видно, и в самом деле ей, как и мне, очень уж неприятен был густой, острый дух перезревшей и распаренной на солнце конопли. Водитель так и не поднялся из-за руля. Молодые немцы, ничем не интересуясь, никуда не заглядывая, не посмотрев даже на хату и хлевок, соскочили с машины и сразу же к мертвецу. Стащили с него дерюжку и старательно расстелили на траве. Потом вдвоем — один за колени, другой за плечи — уложили на нее ефрейтора, втиснули в кузов. Сами вскочили следом, стали по бокам, держась руками за борта. Машина фыркнула, газанула, рывком взяла с места и мгновенно исчезла… А мне нужно было все это перетерпеть, выдержать и пережить… Правда, фактор неожиданности был бы тут в мою пользу. Автомат наготове, гранаты под рукой. Живыми бы они не ушли, но… что бы из этого потом получилось? Всему на свете, оказывается, бывает конец. Солнце, надолго задержавшись в зените, постепенно принялось сползать вниз, ближе к горизонту. Жара не спадала до самого вечера. А духота осталась невыносимой и с наступлением сумерек. Однако день — тот день! — все-таки закончился… Под вечер старуха на летней плите, которую я только теперь заметил возле хлевушка со стороны улицы, сварила что-то похожее на кулеш. Перед заходом солнца возвратился домой Микита с котомкой за плечами. Зашло наконец солнце. Старуха залила водой огонь и понесла чугунок с пахучим варевом в хату. Микита пошел следом. Грохнула, наглухо закрывшись за ними, дверь, и все снова стихло, будто вымерло. И в селе, и в степи. Снова затянули свою древнюю, мертвенно-однообразную песню кузнечики. Дождавшись, пока совсем стемнеет, я встал. Отсиживаться тут дольше я уже не имел права. Действовать! Во что бы то ни стало действовать! И чем скорее, тем лучше! Нужно уходить из этой опостылевшей конопли!
Двери в сени и в горницу открылись легко и почти беззвучно. В горнице, оказывается, тускло мигает каганец. Справа большая печь, слева, напротив, старенький поставец да вдоль стены под окошками длинная скамья. За печью, вероятно, полати или кровать, в углу напротив двери голый стол. Сын сидел на низеньком стульчике возле скамьи и крутил ручные жернова. Мать — на скамье, рядом. Брала из ведерка зерно и медленно сыпала из пригоршни в отверстие посредине верхнего подвижного камня. Оккупационная «мельница» скрежетала, шипела и слегка погромыхивала. На скрип дверей мать и сын повернули головы. Мать — неторопливо, сын — порывисто. Мать смотрела на меня со спокойным любопытством, казалось, совсем не удивляясь, как будто узнавала в сумерках кого-то из соседей. Сын вытянул тонкую жилистую шею, хмуря сухонькое, с острыми чертами личико. Лишь теперь я понял, что ему не больше двадцати. Он был очень истощен и потому казался преждевременно состарившимся. Левого глаза у него не было. На его месте темнела глубокая впадина, прикрытая синими, навеки сомкнутыми веками. Правый, здоровый глаз казался округленным, как у птицы, и очень напряженным. Они смотрели на меня, не торопясь задавать вопросы. Вместе с ними смотрела на меня изо всех углов единственной полупустой горницы откровенная, ничем не прикрытая бедность. От этого больно сжалось сердце. Прикрыв за собой дверь, я шагнул от порога и, прислонившись спиной к стене, стал между дверью и поставцом. Автомат поперек груди, рука, стиснувшая рукоятку пистолета, в кармане, гранаты в открытом подсумке на поясе. Держа и обитателей комнаты и окна хаты под прицелом, приказал: — Сидеть на месте. Не бойтесь. Молчите и слушайте внимательно. Я советский парашютист… Парень еле заметно, но словно бы с привычной уже досадой пожал плечами. На темном, будто вырезанном из дуба, лице матери не дрогнула ни одна черточка. — …Я советский парашютист. Вчера ночью выбросился с самолета возле вашего села. Вы советские люди и должны мне помочь. Вы меня поняли? Тонкая шея сына дернулась, а единственный глаз стал еще более напряженным. — Я не понимаю, чего вы от нас хотите? — высоким, по-детски писклявым голосом, с досадой и раздражением сказал он. — Мы ничего не знаем, ничего не видели. Оставьте нас в покое. — Вы мне не верите? — Мы ничего не знаем и знать не хотим, — уже со злостью бросил одноглазый. — Чего вы к нам пристали? Уходите! — Мне некуда идти. Я действительно советский парашютист, и вы обязаны мне помочь. — Мы ничего не знаем и знать не хотим, — как-то глуповато тянул одноглазый. — Чего вы к нам пристаете? Полиция и жандармерия запретили нам впускать в хату незнакомых людей и выходить на улицу от заката и до восхода солнца. Они, когда ворвутся, будут стрелять без предупреждения. Мы ничего плохого не делаем. Нас не за что стрелять. Мы ничего не слыхали, ничего не знаем и знать не хотим. Мать все еще молчала, спокойно, без особого любопытства, но внимательно рассматривала меня. Одноглазый говорил приглушенно, неторопливо, как-то заученно. А единственный глаз его словно бы рос и наливался все большей тревогой. Мне только теперь стало по-настоящему жутко. Охватили неуверенность, непонятное подозрение. — Слушайте, — предупредил на всякий случай. — Я тут не один. Мои товарищи здесь… неподалеку. Они знают, что я зашел в вашу хату. И если вы меня… если со мной что-нибудь случится, они безжалостно покарают вас как предателей. Кроме того, уже скоро здесь и вообще будут наши. Они тоже будут знать, как вы принимали советских парашютистов. Мне крайне необходима ваша помощь. Слушайте… — Чего вы от нас хотите? Мы боимся, — продолжал одноглазый, сердито сверля меня круглым глазом. И тут вдруг порывисто, по-молодому поднялась со скамьи старуха. — Подожди, Микита, помолчи, — властно приказала она. Стояла против меня, высокая, стройная. Лицо ее вдруг удивительно изменилось. Исчезло, словно его и вовсе не было, выражение спокойно-равнодушного любопытства. Вместо него сверкнуло во взгляде что-то сосредоточенное и решительное. Это грубоватое, обветренное крестьянское лицо показалось мне вдруг не только мужественным, но и красивым. Перемена эта произошла так внезапно, что я и сам невольно умолк и даже смутился. — Подожди, Микита, — повторила старуха ровно, однако безапелляционным тоном. — Помолчи. А ты, хлопче, — обратилась она ко мне, — нас не пугай. Пуганые… Есть кому пугать, благодарение богу, и без тебя. Лучше послушай меня… Если ты и в самом деле наш человек, поверь нам и не бойся… А если ты… паскуда какая, все равно терять мне нечего. Нажилась, слава тебе господи! Если же ты в самом деле, как говоришь, свой и оттуда, буду тогда, сколько жить придется, проклинать себя за то, что своего родного человека не поддержала, бросила на произвол судьбы. Мне тогда и жизнь такая не в жизнь!.. Говорила она отрывисто, но явно в глубине души волнуясь. А голос был ровным, звучал властно: — Говори, чего тебе нужно. Поможем всем, что только будет в наших силах. Смотрела, пронизывая меня острым, молодым взглядом, и я просто не узнавал в ней той забитой, измученной женщины, которую видел минутой раньше. Ни тени страха, ни следа забитости. И сын тоже… Сидел, так и не поднимаясь со стульчика, переводил взгляд с меня на мать, с матери на меня и… смотрел ясно, умно, а лицо, сухощавое и болезненное, стало сосредоточенным и каким-то просветленным. — Садись, рассказывай и не бойся, — властно, негромко приказала мне женщина и сама снова села на скамью. А я… В груди у меня что-то вдруг задрожало и оборвалось. Видимо, сказалось вдруг все: и непреоборимая усталость, и голод, и стыд, и волнение… И мне, взрослому человеку, который вот уже третий год играет в жмурки со смертью, вдруг стало ясно, что если я не сделаю сейчас чего-то особенного, чего-то необычайного, то обязательно… разревусь. Разрыдаюсь здесь, на глазах у этих незнакомых, но уже родных мне людей. — Мама, — сказал я, — спасибо вам, мама… Скажите, нет ли у вас случайно горячей воды? Довольно живо для своего возраста она метнулась к печи, открыла заслонку и прямо руками, большими и узловатыми, вынула из печи и поставила на шесток большой кувшин. — Вот… Приготовила Миките голову помыть. Такая горячая, пальца не удержишь… И тогда я, теперь уже, наверное, по-настоящему удивляя их, по-настоящему рискуя показаться сумасшедшим, совершил недозволенное. Отвернувшись к шестку, высвободил из-под ремня подол сорочки, скомкал его и погрузил в горячую воду, прямо в кувшин… Подержав так, слегка отжал воду и, подойдя к каганцу, расправил мокрое полотно. — Посмотрите и… верьте мне, мама… На мокром желтоватом подоле теперь ясно, как на проявленном негативе, выступали слова моей секретной, сверхсекретной, предназначенной лишь для подпольного руководства справки. С фамилией, званием, полномочиями, печатью и подписью высшего начальника. Единственный глаз Микиты так и прикипел к этому диву. А когда наконец он посмотрел на меня, его губы растянулись в широкой детской улыбке. И глаз, утратив недавнюю напряженность, сверкал откровенным и искренним восторгом… Женщина, один лишь раз взглянув в мою сторону, тотчас же с каким-то вежливым и сдержанным достоинством отвела глаза: — Не нужно мне этого, сынок. Зачем оно!.. Да и читаю я еле-еле… При таком свете и разглядеть-то ничего не сумею. Говорила она, как и раньше, ровным, спокойным голосом, хотя ощущались уже в нем и какие-то новые, более теплые нотки. А я стоял перед нею с автоматом на шее и мокрым подолом рубашки в руках. Выглядел, вероятно, со стороны дурак дураком, а чувствовал себя счастливым. Зачем я совершил это безрассудство, поддавшись внезапному порыву? Сказалась нечеловеческая напряженность последних суток? Непредвиденные осложнения? Сдали нервы? Не знаю, не могу сказать! Может быть, потому, а может, и нет. Не знаю… Знаю лишь одно. И уверен в этом твердо и непоколебимо и по сей день. Если бы тогда в той хате я поступил иначе, то всю жизнь чувствовал бы угрызения совести. Мне и сейчас кажется, что я должен был поступить именно так, и только так. Это было какое-то необычайное прозрение, что-то тогда еще не до конца осознанное. Прозрение и большое духовное потрясение. Как будто я по-настоящему, ощутимо прикоснулся к душе моего народа. Поэтому и должен был поступить так: на душевность ответить душевностью. Тогда эта старая крестьянка из маленького, затерянного в степной безбрежности села Жабова стала для меня всем: высшим начальством, матерью, родиной! Она олицетворяла в себе все самое святое, чем я тогда жил, олицетворяла всех, кто боролся и страдал там, на фронте, и тут, в степи, на бесконечных просторах этого «Белого пятна». И я передал в ее руки свои главнейшие полномочия, будто в руки самого народа, ради которого и прибыл сюда… Когда я невзначай обмолвился, что, сидя целый день в конопле, видно, пропитался ее запахом на всю жизнь, Микита признался: — А мы догадывались… Еще утром, когда Оксанка забежала, я заметил, что в конопле кто-то есть. Думал только, из полиции, чтобы за нашей хатой следить. — А почему должны были следить именно за вашей хатой? — Да, верно, не только за нашей. Они тут за всеми следят. Как только тебя прозевали? — Не иначе потому, что вышел я к вам засветло. Не ждали уже… А почему так зорко следят именно за вашим селом? — Может, и не только за нашим… Но ведь случилось-то с этим Рихардом где-то здесь, совсем близко. — А что же случилось? — Так убили же его вчера вечером! — Это тот, который со мной в конопле лежал? Кто он такой? Кто его убил? — Рихард?.. Да сам-то он только шофер. А возил шефа новобайрацкой жандармерии Бухмана. — Ну и чьих же это рук дело? — Да кто его знает… Ловят… А убит совсем неподалеку отсюда. Возвращались они из Солдатского поселка вчера, когда уже совсем стемнело. Этот Бухман, сволочь, смелый, ничего не боится, даже по ночам рыщет. Ну и… Видел я сегодня эту машину. Вот здесь, на дороге. Только промчались они, значит, через Жабово, выскочили туда, на ровное, слышим, взрыв какой-то. Даже стекла зазвенели. То ли гранатой, то ли чем-нибудь другим, этого я еще не знаю. Машина вверх тормашками и сразу же загорелась. Рихарда — насмерть, а Бухману хоть бы что. Постоял на дороге, дождался, пока какая-то немецкая машина появилась, остановил, Рихарда подвез и уложил возле нашей конопли, а сам назад, в Солдатский поселок… Помчался туда с немцами, а вскоре и заполыхало там. — И кто же это сделал? — Кто его знает, — покосился куда-то в сторону Микита. — Ну, кто не кто, а уж что «Молния», так наверняка! — вдруг спокойно сказала старуха. — Много вы знаете! — недовольно буркнул Микита. — Лучше бы помолчали. — А чего мне молчать? Кому же еще, как не «Молнии»? — То есть, как — молния? — ничего не понял я. — Да-а… — протянул неохотно Микита. — Есть тут якобы в наших краях такая «Молния». Партизаны или подпольщики, кто его знает!.. Где бы что ни случилось, все сразу же: «Молния» да «Молния»! Вот как в сорок первом было: Калашник да Калашник, так теперь «Молния». — Мне бы сейчас напасть хотя бы на какую-нибудь искорку от этой «Молнии»… Микита промолчал, будто не расслышал. Потом пожал плечами и заговорил совершенно о другом: — Про вас тоже уже знают… Оксанка слышала, как полицай Гришка Распутин хвастал, будто где-то утром нашли парашют. Только не здесь… Где-то дальше, аж возле Подлесного, туда, к Зеленой Браме. Теперь, говорят, облава большая собирается. — А людей? Не слыхал, никого не задержали? — Нет, об этом не было слухов. «Эге, вот оно, выходит, как, — думал я. — Пятно, пятно, да не такое уж и белое!.. Есть и тут к чему руки приложить. Вот только бы ниточку какую-нибудь…» Достаю из планшета карту и, развернув ее на столе, ориентируюсь, время от времени обращаясь с вопросами. — Выходит, сейчас я вот здесь… Ага!.. Совсем неподалеку Новые Байраки… — Да до Новых Байраков рукой подать… Но только ты обходи их за версту! Жандарм там — что лютый тигр. И староста Макогон — собака из собак! — добавляет старуха. — Дальше, чуточку в сторону, и опять-таки недалеко, Терногородка, потом Скальное… — Тоже местечко, прости господи! Есть, говорят, там такой Дуська! Начальник полиции. Детей им стращают. Сотни людей собственной рукой перестрелял. А Подлесное и Зеленая Брама, оказывается, аж вон где! Далеко же кого-то из моих занесло, если это и в самом деле наш парашют найден. Видать, безвыходное положение было, если даже и припрятать не успел… Сразу же, как только будет возможно, разведать все в той местности. Быть может, и не один, быть может, и еще кто туда попал… Думаю я обо всем этом, но в то же время и бабусиных слов мимо ушей не пропускаю. Запоминаю на всякий случай и названия сел, и фамилии, и характеристики. И жандарма Бухмана, и того Дуську (какое-то странное для мужчины имя! Или, может, прозвище?), и того старосту, собаку из собак, Макогона. На веку, говорят, как на долгой ниве… гора с горой, говорят… Однако у меня уже голова, кажется, кругом пошла. Да и неудивительно. Вторые сутки не сплю, не ем, да и обстановочка, сказал бы, не очень уютная… «Молния», значит. Неплохо сказано: «Молния»… Старуха о чем-то перешептывается с Микитой возле печи. О чем это они?.. Заставляю себя сосредоточиться, но это не совсем мне удается… Так и клонит в сон… — …Послушай, сынок! — трясет меня за плечо женщина. — Малость передохнул, и хватит! Если уж просишь, чтобы помогли, то слушай нас. Уходить тебе пора. Потому как место у меня такое, сам видишь… Долго не насидишься… Собирайся, Микита, и айда!.. Прямо через обрыв к Соленой балке, а там левадами вдоль посадки… Возле «Незаможника» будьте внимательнее. Пройдете, а там уже и до Панька рукой подать… Есть тут такой Панько, свой человек…
И вот я снова в степи, снова лунная ночь. Только путешествую уже не один, а с этим еще вчера совершенно неизвестным мне одноглазым парнем. Двигаюсь уже не наобум, а словно бы зная, куда и как. Идем большей частью молча, придерживаясь балок, левад и лесополос. Только иногда переговариваемся шепотом. — …Это твоя мать? — спрашиваю парня. — Нет! — сразу отвечает мне Микита. — Бабушка… Я сирота… Отца бандиты убили в двадцатом. Грызло тут такой был, атаман. А мать в тридцать третьем от голода… Долго обдумываю, а потом все-таки решаюсь. — А с глазом у тебя что? — спрашиваю. — С глазом? Да… ничего! Теперь без глаза еще лучше… В Германию не возьмут. — И, так и не ответив на мой вопрос, торопливо спрашивает сам: — Скажи, а наши близко? — На Донбассе, — отвечаю. — Миус, Кальмиус, слыхал? — Не приходилось… А как ты думаешь, наши тут скоро будут? Наши говорят, что осенью могут быть… — А кто это «наши»? — Ну, так… хлопцы, девчата. Есть такие, наше радио, Москву ловят. — А из этой самой «Молнии» ты хоть кого-нибудь знаешь? Только говори правду. Мы идем вдоль какой-то молодой посадки по заросшей пыреем меже. Под ногами шуршит трава, еле слышно потрескивает сухой бурьян. Микита долго-долго молчит, тянет почему-то с ответом, обдумывает. Потом бросает скупо: — Да… так, разве догадываюсь малость. Расспрашивать же о таком не будешь. — И снова переходит в наступление: — Скажи, а это правда, что наши теперь все в погонах, как когда-то?.. А автомат у тебя тоже новый? Да?.. Я такого еще и не видел… А «катюши»? Видел ты их хоть раз? Ох и боятся же их немцы! Только услышат — «катюша», так сразу и драпают… А там, справа, видишь, темнеет?.. Солонецкие хутора были. В мае немцы сожгли дотла. Бой был. Чуть ли не всю ночь стреляли. Облава. Из наших так никого и не поймали и убитых не нашли. А немцев убитых аж четверо… «Молния» даже мотылька такого, листовку, значит, пустила… — А та девушка, Оксанка, которая ефрейтора дрянью называла, чья она? — Оксанка? Соседки нашей, бабушки Ганны, внучка. Она не здешняя, из Киева. Ее отец майор. Может, теперь уже и генерал. Приехала в гости к бабусе, а тут война, немцы. Вот и застряла… — Боевая, видать, девчонка. Сколько ей? — Да, пожалуй, около пятнадцати будет. А так, чего же, боевая! Они с бабкой Ганной обе боевые. В сорок первом от немцев нашего раненого командира спасли и выходили. Да и так… Что «так», Микита уже не закончил, умолк надолго. Уже, вероятно, перевалило за полночь. Низом широкой балки мы вышли к старой разреженной лесополосе. Взобрались на высокий бугор, и там Микита велел остановиться. — Ты тут присядь, подожди, а я сейчас, — шепотом сказал он и сразу же легкой тенью перемахнул через межу, исчез бесшумно в темных кустах. Садиться я побоялся. Земля под ногами была мягкая, будто нарочно распушенная цапкой, и теплая. Присяду — и сразу же засну… Встал за кустом бересклета, оперся плечом на ствол старого, скрученного степными ветрами абрикоса. Напротив, за межой, вниз по косогору сбегали, теряясь в серой мгле, какие-то кусты. В самом низу, в широкой балке, сверкал в лунном свете плес. Еще дальше, за плотиной, виднелось высокое белое здание, вероятно, мельница. За ним вверх и направо четко распланированные ряды яблоневого сада и черными пиками на звездном фоне неба с десяток тополей. А тут, на этой стороне, куда сбегают темные кусты, в которых исчез, затерялся Микита, в сумерках деревьев — дом под железной крышей и силуэт высокого колодезного журавля. Микита появился неожиданно, как и исчез, вынырнул передо мной, будто из-под земли. — Пошли, — сказал шепотом. Кусты за межой оказались крыжовником и смородиной, посаженными несколькими рядами вдоль огорода. Между ними картофель. Ноги увязают в мягком черноземе, запутываются в картофельной ботве. Но через минуту шагаем уже по узенькой, хорошо утоптанной тропинке. Сад — яблони, груши, вишенник. Сколоченная из жердей ограда, невысокий перелаз, большое подворье. Хата с крыльцом, на две половины, хлев, амбар, колодец с выдолбленным корытом возле. Посредине двора бричка. Пара серых коней, головами к передку, жуют, аппетитно похрустывая. А возле калитки невысокая коренастая фигура в белой неподпоясанной рубашке, в темных штанах, заправленных в сапоги. На голове широкий брыль. Лицо затенено. Виднеется из-под брыля лишь клинышек короткой бородки. Встретив нас, мужчина молча поворачивается и направляется через двор к крыльцу. Мы следуем за ним. Две деревянные ступеньки, темные сени, дверь налево. Освещенная лишь призрачным светом луны огромная комната. Шкаф, еще какая-то мебель, высокий, под самый потолок, с большими листьями фикус. — Хотите перекусить? — приглушенно, будничным голосом спрашивает мужчина. — Благодарю… сейчас не хочется, — отвечаю тоже приглушенно. Он не настаивает. — Дядя Панько, — шепотом говорит Микита, — так я, пожалуй, побегу. — Давай, — спокойно, даже равнодушно соглашается дядька Панько. — Спокойной ночи, — шепчет Микита. — Спокойной ночи, — говорю я, ловя в темноте его руку. Нашел, пожал. — До свиданья. Спасибо, Микита. Передай бабусе мое огромное спасибо. Не ответив, Микита исчезает. Так тихо, что за ним даже и дверь не скрипнула. Дядька Панько тянет меня куда-то направо. — Прошу теперь сюда… Отгороженный простыней темный закуток с одним-единственным, прикрытым занавеской окошком. В углу топчан, на нем постель. — Можете раздеться и спокойно отдыхать, — гудит где-то за стеной дядька Панько. Через минуту, помолчав, добавляет: — Я буду спать здесь, рядом, за стеной на диване. Без меня ни ночью, ни утром на дворе не показывайтесь. На той половине ночуют новобайрацкий комендант и начальник полиции. Побоялись на ночь глядя домой возвращаться. «Да,да, — с каким-то удивительным равнодушием, сквозь непреоборимую сонливость, ломоту во всем теле и шум в голове лениво думаю я. — Соседство снова — ничего не скажешь. Действительно, можно спать спокойно. — Нащупываю узенький деревянный топчанчик, присаживаюсь на краешек, а потом, наткнувшись на высокую подушку, падаю навзничь. Складываю руки на автомате. — Нужно обдумать, сориентироваться, что к чему… В это крохотное окошко не пролезешь никак. Не лучше ли присесть возле стенки у входа и подождать до утра? Ну да, так и сделаю», — думаю и… сразу же проваливаюсь, будто под воду, в глубокий, неодолимо глубокий, без сновидений сон… Дядька Панько, невысокий, приземистый, с рыжей бородкой и ясными синими глазами мужчина лет под пятьдесят, будит меня около девяти часов утра. За окном весь мир залит ослепительными, сверкающими лучами солнца. За окошком в кустах бузины яростно спорят о чем-то воробьи. Комендант и полицай уже давно уехали по своим делам. Дядька Панько побывал на мельнице, — он, оказывается, мельник, — извлек из вентеря на пруду большую щуку и ждет меня к завтраку. На столе шипит только что поджаренная яичница с салом, лежит непочатый душистый каравай и стоит кувшин с простоквашей. О парашютистах дядька Панько еще ничего не слыхал. Ни от своих людей, ни от кого-либо другого. О том парашюте в Подлесном, правда, между комендантом и полицаем шла речь за ужином. Но чего-то большего и они пока не знают. Если же что-нибудь будет, кто-нибудь объявится, его люди обязательно сюда сообщат. Ведь это же не иголка в сене. От немцев, возможно, и спрячешь, а от своих ни за что! Ему же покамест приказано укрыть меня здесь. Место, дескать, совершенно безопасное. Пересижу до вечера, а там уже кто-то, кому положено, явится за мной и поведет куда следует. В Новые Байраки или еще куда… Этого он уже не знает… Да и вообще больше ни о чем не расспрашивает и не рассказывает… Будто и не догадывается… кто я… Странный человек. На самом деле так же и не интересуется мною и тем, что в мире происходит, или же прикидывается?.. Или, быть может, знает больше меня?! Так или иначе, в моей судьбе его роль ограничивается тем, что продержит день и передаст кому-то другому. Очень, очень хорошо! Большущее спасибо ему и за это! Но… впереди еще один трудный, невыносимо трудный день бездеятельности и неизвестности. И можно только представить себе, что думают сейчас о нас там, за линией фронта, как приникают к приемникам, напрасно вылавливая в эфире наш голос. А я, командир группы, даже и приблизительно не представляю, где теперь мои люди, что с ними происходит. Быть может, кого-нибудь уже и в живых нет!.. Невыносимая, усугубленная тоской и нетерпением неизвестность, от которой хоть головой о стену бейся… Поскорее бы уж встретиться с кем-то таким, с кем можно было бы повести серьезный разговор о розысках десантников и о том, ради чего я сюда прибыл. А что такие люди тут есть, у меня уже не было никаких сомнений. На всякий случай дядька Панько все-таки велел мне забраться в амбар и спрятаться на чердаке. Там, под соломенной крышей, было довольно просторно. Света, пробивавшегося в небольшое отверстие между стропилами, тоже хватало, особенно когда глаза уже привыкли к сумраку. В углу, вероятно именно для такого случая, была постелена солома и брошены сверху рядно и подушка. Рядом корзинка с яблоками и грушами и кувшин с водой. Создавалось впечатление, что до меня здесь уже бывали и, вероятно, не раз. Короче говоря, устроился я довольно комфортабельно. Не было, к тому же, ни малейших сомнений или предчувствий и в отношении дядьки Панька. Но день, который снова тянулся для меня на этом чердаке целую вечность, оказался еще более трудным, чем вчерашний. Вот только осточертевшего запаха конопли не было… В отверстии, у которого я простаивал часами из осторожности, тоски и просто из любопытства до невыносимой ломоты в пояснице, открывались передо мной часть пруда, плотина, мельница, противоположный бугор и часть дороги, теряющейся где-то за редкой лесополосой, за подсушенными солнцем кленами, ясенями и вязами. Хозяин меня не беспокоил, надолго исчезая со двора. Казалось, жил он здесь одиноко. Потому-то лишь благодаря отверстию в крыше имел я в тот день возможность «развлекаться». Примерно около двенадцати часов из-за пригорка на той стороне плотины послышались далекий топот и перестук колес. А через минуту на дороге показалась и подвода, спускавшаяся вниз к плотине. На подводе сидели, свесив ноги, несколько человек. Все с винтовками. Сердце мое, признаюсь, екнуло: конечно, полицаи, кто же еще! Невольно оглянулся в сумрак чердака. Что же делать? Оставаться здесь или выйти во двор? Со стороны мельницы, вероятно, совершенно не видно того, что происходит во дворе. И, пока они пересекут плотину, можно еще успеть спуститься вниз, а потом через сад и кусты смородины перебраться в лесополосу. У меня оставалось еще несколько минут на размышления. Поэтому преждевременно решил не паниковать. А тем временем из-за лесополосы на дорогу выкатила вторая подвода. За нею третья. И когда первая была уже возле мельницы — четвертая. На двух средних, груженных большими рыжими мешками, полицаев не было. Только по одному ездовому. На задней, тоже груженной мешками, рядом с ездовым сидел еще и полицай с винтовкой. Мешки действовали успокаивающе, и с побегом я не торопился… Вот если они проявят какие-нибудь подозрительные намерения, направятся на плотину… Подводы остановились на утоптанной площадке возле мельницы. Полицаи соскочили с телег и сразу же разлеглись под стеной в холодке на травке. Один подошел к пруду, оперся на заставки и начал энергично бомбардировать воду камешками. Ездовые, ослабив на конях сбрую и привязав к оглоблям торбы с овсом, начали вносить мешки на мельницу. Работали неторопливо, отдыхая и перекуривая. А закончив дело, тоже прилегли в холодке под каменной стеной. Потом напоили коней, сами перекусили, развязав узелки, и, наконец оставив в карауле одного из полицаев, отправились в обратном направлении. Тянулось все это примерно часа два. И все это время я неотрывно следил за ними из своего укрытия. Но вот наконец подводы скрылись за лесополосой и я, несмотря на одного оставленного полицая, который, кстати, вошел в мельницу, решил немного отдохнуть, прилег на солому, закрыл глаза. Лежал, размышляя, стараясь осмыслить свою странно-неожиданную тревогу и… не заметил, как задремал… Разбудил меня какой-то внезапный грохот. Я вскочил на ноги и бросился к стрехе. Со сна и от неожиданности сердце у меня неистово стучало, глаза слепило солнце. Лишь через какой-то миг, освоившись, увидел: в широко открытые ворота, у которых стоял в своем брыле дядька Панько, въезжала во двор, приглушенно шумя мотором, легковая немецкая машина. Проснулся я, вероятно, тогда, когда она газанула, взбираясь с плотины на каменистый косогор, уже возле самого дома. Остановилась машина посреди двора, на том самом месте, где вчера ночью стояла бричка. Из нее вышло двое немцев. Один — толстый, с большим животом. Таким, что полы коричневого широкого френча не сходились. Другой — худощавый, длинношеий, в обычной немецкой форме пехотинца. У обоих на поясах большие черные кобуры. У толстого на голове пилотка, у армейца — большая, с высокой тульей фуражка. Толстый потянул за собой с сиденья автомат. А с переднего места, из-за руля, тем временем выпрыгнул еще и третий — водитель. Хотя, наверное, по профессии и не шофер, потому что одет был слишком уж нарядно: хорошо подогнанный серо-голубой мундир, новенькая фуражка в на плечах новенькие небольшие серебристые погоны. Немцы разгуливали по двору, разминая ноги. Толстый что-то кричал дядьке Паньку, который закрывал ворота, или же полицаю, который торопился к воротам снизу, со стороны плотины. Я невольно подумал: «Теперь бежать уже некуда… Теперь придется повоевать». В том, что уложу всех троих при первом же их подозрительном действии, я был абсолютно уверен. Вот только что будет потом… это уж другое дело… Однако гитлеровцы (какие-то, вероятно, чины из района или области) вели себя мирно. Размявшись, все, кроме полицая, вошли в дом. В комнате они долго, очень долго, если учесть мое положение, обедали. Полицай все это время торчал с винтовкой у ворот. Снова на подворье немцы вышли с шумом, возбужденные, с расстегнутыми френчами, из-под которых белели нижние рубашки, с раскрасневшимися (даже издали видно), лоснящимися мордами. Весело перекликаясь, они некоторое время расхаживали по подворью и саду. Рвали с деревьев сливы, груши, трясли яблони. Лениво лакомились созревшими плодами, иной раз лишь надкусив яблоко или грушу, с хохотом швыряли ими друг в друга.

Чуточку позже они вышли на берег пруда, принялись раздеваться. Толстый, в коричневом мундире, разоблачился совсем, догола, шагнул в воду, блаженно, по-женски писклявым голосом заохал и захлопал себя широкими ладонями по отвисшему тяжелому животу. Двое других остались в трусах. Подкравшись, они внезапно обрызгали толстяка водой. Тот взвизгнул, подпрыгнул и с хохотом и криками помчался вдоль берега. Опьяневшие, они долго и весело гонялись друг за другом, хохотали так, что эхо звонко раскатывалось над прудом. Полицай, все стоявший с винтовкой у ворот, хохотал угодливо, по-холуйски, хотя они его и не видели. А у меня чесались руки. Меня оскорбляла вся эта суета, то, как они весело развлекались и безнаказанно резвились на нашей земле, возле нашего пруда. Особенно возмущал толстяк. И я еле сдерживал острое, почти непреоборимое желание полоснуть по ним очередью из автомата. Набегавшись и накричавшись, они искупались и, наконец, утихомирились. А через час, приказав бросить в машину два мешка муки, уехали. Уже совсем под вечер из мельницы во двор вышли полицаи (их там оказалось трое), поужинали, покурили и, как только зашло солнце, возвратились на мельницу, вероятно, на свои посты. Наконец все вокруг — пруд, голые бугры, сад и дорога на той стороне — окуталось синими, густыми вечерними сумерками. И дядька Панько разрешил мне выйти из моего укрытия.
Затемно, перед самым восходом луны, дядька Панько молча повел меня по тропинке мимо хаты вниз, к плотине. Тихо было вокруг. Мельница над нами, вверху, призрачно белела, словно бы совершенно безлюдная. Лишь в лотках пенилась, клокотала вода, срываясь с колес, несколькими упругими струями падала на огромные плоские камни, разбросанные вдоль речушки. Речушка эта бурно вытекала прямо из-под мельницы и затихала, входя в низкие ровные берега в двадцати — тридцати шагах от плотины. Пробираясь в густых зарослях аира и чернотала, прикрытая сверху высокими вербами, текла дальше, в темноте неслышимая и невидимая, давая знать о себе лишь влажностью и прохладой ночного прибрежного воздуха. Мы шли по узенькой, хорошо утоптанной тропинке. Через некоторое время остановились под развесистой, с молодыми ветвями и старым стволом вербой. — Теперь идите прямо за этим вот парнем и не сумлевайтесь, — сказал дядька Панько. Я присмотрелся внимательнее. Парень в чем-то темном, из-под чего светилась белая рубашка с расстегнутым воротником, без головного убора, коротко остриженный, стоял, прислонившись спиной к вербе. Оказался он мальчишкой лет четырнадцати. Услышав слова дядьки Панька, он сразу молча повернулся ко мне спиной и направился в сумрак скрытой кустами тропинки. Я не удержался, спросил: — А куда идти? — Не сумлевайтесь, — ответил мне уже где-то за спиной дядька Панько. — Придете куда следует… И исчез, неслышно растворился в ночи. Шли мы, наверное, около трех часов, а то и больше, все время молча. Чем дальше, тем светлее и светлее становилось вокруг. Где-то у нас за спиной взошла и неторопливо поднималась вверх по крутому косогору звездного неба огромная, преступно беспечная и ясная луна. Мальчишка шагал по-взрослому широко, не оглядываясь. Коротко предупреждал: «Ров. Камень. Пенек…» Лишь в одном месте произнес несколько слов: — Здесь у нас родник. Вода очень вкусная. Напейтесь, если хотите. Воспользовавшись этим приглашением, я растянулся на холодной траве и приник губами к источнику. Вода и в самом деле была удивительно вкусной, словно бы сладкой, и такой холодной, что зубы заломило. После меня напился и мой провожатый. Тронулись дальше. Из балки в балку, с пригорка в ложбину. Берега пошли преимущественно голые. Лишь кое-где темнели лоскуты притоптанной скотиной осоки и торчали низкие ободранные кустики. Под ногами сухой бурьян, стернище. Порой на тропинку склоняло тяжелые метелки просо. Повстречались две скалы. Выступали, выразительно темнея, еще издалека видные, выпирали над самой речкой округлыми крутыми гранитными лбами. Перед тем как обойти такую скалу, мальчик останавливался, выжидал и прислушивался. Пересекли небольшой луг с несколькими копнами сена. За ним тропинка снова нырнула в левады, в заросли верб, лозы, лопухов, чернобыла и конского щавеля. Остро-знакомо, тревожно ударило в ноздри запахом конопли. Мальчик остановился. Оглянулся. — Тут будем переходить улицу. Присядьте, а потом поодиночке. — А где мы? — спросил я, приседая. — В Новых Байраках. Он пригнулся, сделал шаг, шмыгнул куда-то за кусты и исчез. Через минуту после этого издалека донесся тихий свист. Приняв его как сигнал, тронулся и я. Перешагнул через неглубокий ров и вышел на дорогу. Справа, на открытом месте, речушка разлилась широким плесом. Над этим плесом деревянный мосток, далее колодец с высоким журавлем, вербы. Из-за старой вербы подошла к нам высокая женщина. — Ты? — спрашивает мальчика, не называя имени. — Я, — тихо отвечает мальчик. — Все в порядке? — Ага. — Хорошо. Возвращайся домой. А вас прошу за мной. Идем теперь куда-то вверх. Кусты остались позади, начался огород. Картофельная грядка, по ней то тут, то там высокие подсолнухи, несколько развесистых старых деревьев, вероятно груш. Впереди в лунном свете выступает какое-то огромное приземистое здание… Рига? Да, рига. С низенькими, утопающими в лопухах стенками и высоченной, но провалившейся крышей. Навстречу нам выходит мужчина. Рослый, плотный. — Иди, Парася, поспи, — слышу шепот. — Ничего уже больше не нужно. Женщина, не задерживаясь, идет дальше. Мужчина молча и сильно стискивает мой локоть… И ведет. Мимо риги, по картофельным грядкам, по густой высокой ботве кабачков. Переступаем через белую жердь и входим на подворье. Большая, с крытым крыльцом хата. Темные сени. Узенькая дверца в кухню завешена еще и плотным одеялом. Она закрывается за нами, и я оказываюсь в сплошной, непроглядной темноте. — Одну минутку, — доносится откуда-то сбоку густой спокойный бас. — Сейчас я ее, проклятую, разыщу… Легкий шорох. Стук. Потом вспыхивает зажигалка. Мужчина засвечивает керосиновую лампу и пристраивает ее в закутке. Из темноты выступают просторная кухня, печь, стол. На столе что-то горбится, прикрытое полотняным рушником. Окно наглухо закрыто чем-то темным. Возле печи, повернувшись ко мне лицом, мужчина. Ему лет под сорок. Высокий, статный, хотя уже и чуточку грузноватый. Бритое, полное, спокойное лицо с крупными четкими чертами, негустые, опущенные усы, умные, внимательно-спокойные глаза. Хотя взгляд их тоже какой-то тяжеловатый, твердый. На голове темная суконная фуражка военного образца; темный, с накладными карманами китель, синие широкие галифе и хорошо начищенные новые сапоги. Стоит, рассматривает меня и, наконец, произносит низким, густым басом: — Ну, а теперь… здравия желаю, капитан… капитан Сапожников, если не ошибаюсь? — Он широко улыбается и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Чудесная, скажу я вам, фамилия для конспирации. При случае и необходимости можно назвать, например, и по-нашему — Чеботаренко. Все остается так, как и было. А вместе с тем звучит как совершенно новая фамилия… — Не переставая улыбаться, подходит ближе ко мне. — Но прежде всего познакомимся… Я староста села Новые Байраки Макогон… Последнее слово для меня как неожиданный удар. Оно внезапной и неудержимой дрожью пронизывает все мое существо. Вероятно, и на лице что-то такое отражается — улыбка на его губах гаснет… Он неторопливо протягивает мне руку, а я подсознательно тянусь к своему карману. «Неужто совпадение? Неужели тот самый?.. Тот самый, „собака из собак“? Макогон?..» Фамилия такая нечастая, что сразу, как только произнесла ее Микитина бабушка, засела в моей памяти… — О-о-о! Да вы уже, вижу, успели кое-что прослышать, — сразу же меняет тон мужчина, и лицо его становится замкнутым. — Только прошу вас, не нужно… — добавляет он поспешно и не без иронии. — Я говорю, не нужно выстрелов. В конце концов черт не так уж страшен, как его малюют. Макогон грузно опускается на стул, так и не дождавшись моего рукопожатия. — Хорошо… Садитесь вот сюда, — указывает рукой на топчанчик. — Нам, вероятно, и в самом деле следует сначала объясниться. Он хмурит густые брови, морщит высокий лоб, собираясь с мыслями. А я так и стою на месте, не зная, как себя вести дальше. Не понимая, как же это так случилось, что привели меня прямо в руки тому самому «собаке из собак», от которого предостерегали. — Дело такое… — наконец неторопливо, тяжело начинает он. — О себе ничего не буду говорить. Не уполномочен, понимаешь, — переходит он на «ты». — А вот о тебе… Дело в том, что там очень обеспокоены вашим молчанием. Не знают, где вы и что с вами. Прошлой ночью снова сбросили человека на Каменский лес к пархоменковцам… К розыскам подключили и меня. Имею приказ разыскивать и, если что, связать с обкомом или хотя бы известить его. Обо мне же отныне и в дальнейшем будешь знать только ты. Раскрываюсь, понимаешь, лишь перед тобой в связи с вашими непредвиденными обстоятельствами. Ни один человек из твоих ничего обо мне не должен знать. — Т-так, — крайне обескураженный, бормочу я, неуклюже усаживаясь на топчан. С острой тревогой, страстной надеждой и страхом оттого, что сразу же могу утратить эту надежду, спрашиваю: — А вы?.. Есть у вас какие-либо сведения?.. Хотя бы о ком-нибудь из моих людей… Спрашиваю, а у самого все еще не выходит из головы — Микита, бабуся, ее слова о «собаке из собак»… — Нет… покамест… Да и вообще, вероятно, этим будете заниматься, по крайней мере в ближайшее время, без меня. Но… сначала я все-таки должен удостовериться… Ты же, наверное, сможешь дать мне какие-то доказательства того, что ты настоящий капитан Сапожников? А чтобы поверил мне, скажу, что родился ты на Курщине, посылал вас сюда триста двадцать шестой, в твоей группе, кроме тебя, шестеро. И он одну за другой называет фамилии моих товарищей, а я… — Собственно… — медленно тяну я, учитывая все, что произошло со мной за эти двое суток. Твердо взвесив все «за» и все «против», прихожу к выводу, что не поверить этому так обстоятельно информированному человеку все равно что не поверить уже теперь, задним числом, Микитиной бабушке… И вот староста села Новые Байраки внимательно рассматривает подол моей солдатской рубашки. Осмотрев мою «справку», Макогон помолчал, потом сказал: — Ну что ж, капитан Чеботаренко, думаю, что этот документ тебе тут больше не понадобится. Снимай во избежание лишних хлопот рубашку, а я найду тебе какую-нибудь другую… А эту, думаю, лучше всего просто уничтожить. Хотя… можно, конечно, и припрятать где-нибудь в надежном месте, чтобы потом внукам показывать. Лучше всего — вырезать этот лоскут, в бутылку да в землю. Хороший, проверенный способ. Сто лет будет храниться… Великий будет подарок внукам, если… конечно… доживем. — Макогон теперь улыбнулся скупо и как-то грустновато. И, немного помолчав, начал уже о другом. — О твоих покамест нигде никаких слухов. Кроме того, подлесненского, парашютиста. Однако где-то они есть. Живые или мертвые, но на свободе. В руки гитлеровцам, по крайней мере в ближайших районах, не попал ни один. Гитлеровцы, найдя парашют, организовали облаву чуть ли не по всей области. Несколько дней каждый уголок будут прочесывать. Ну а мы свое: всем группам и организациям «Молнии» велено быть на страже днем и ночью, разыскивать, укрывать, спасать. Особенно в направлении Каменского леса. Не исключено, что твои, сориентировавшись, будут пробираться все же к месту сбора… Макогон закурил, расстегнул ворот кителя и, сдерживаясь, чтобы не зевнуть, закончил: — Ну что ж… утро вечера мудренее, как говорят умные люди. Давай поужинаем чем бог и моя Парасочка послали — и на боковую. Живому человеку положено хоть малость поспать не только в мирное время. Ночевал я в той самой риге, мимо которой недавно проходил. В уголке, на свежей соломе, настеленной за ворохом ржаных снопов. Спалось мне, откровенно говоря, плохо. Не выходили из головы товарищи: где они сейчас, что с ними? Не совсем к тому же укладывалось в голове и все то, что творилось сейчас со мною. Как же это так?.. Неужели же эта старушка или, по крайней мере, внук ее Микита так и не знают, к кому меня спровадили?.. Ибо, если бы знали… Тогда к чему бы было говорить о «собаке из собак»? Одним словом, было о чем подумать в этой риге. Да и времени хватало. Вся ночь, да еще и предстоящий день!.. Только уже под вечер, возвратившись со службы домой, Макогон, отпустив ездового, поставил коней головами к бричке, прямо посредине двора, подбросил им в передок свежей викосмеси и тогда уже позвал меня в дом, чтобы вместе пообедать. Детей у моего случайного хозяина не было. Жили они вдвоем с женой, и чувствовали мы себя в доме почти в полной безопасности. Хотя, на всякий случай, дверь в сенях закрыли на задвижку и автомат я, как всегда, держал под рукой. Обедали мы вдвоем, в большой комнате; два закрытых кружевными занавесками окна во двор, одно — на широкую, центральную в селе, улицу. За обедом, хорошо понимая, что действую не конспиративно, а то и просто по-глупому, я все же не удержался: — А знаете ли вы, товарищ Макогон, какого мнения о вас все те, кто направил меня сюда? — Могу лишь догадываться, — насторожился Макогон. — А разве что?.. Однако потом, выслушав мой рассказ про «собаку из собак», не удивился. Лишь улыбнулся сдержанно и грустно. — Ни я их, ни они меня, эти люди, вовсе не знают… Возможно лишь, как старосту. Да и то издалека, понаслышке… А если уж ты крайне хочешь знать правду, капитан… — Ну, чтоб так уж непременно… — пошутил я, — то не скажу. Так, какой-нибудь обрывок… — Вся правда заключается в том, — продолжал совершенно серьезно Макогон, — что правду обо мне, да и то не всю, знают тут лишь трое: моя Парасочка, тот мельник да еще один добрый человек, к которому я вас через некоторое время и отправлю… Ты ведь случайно натолкнулся на одно из звеньев подпольной цепочки «Молнии» в том, наверное, месте, где она, эта цепочка, в какой-то мере переплетается с моей… Конечно же, если бы этот одноглазый мальчик знал, к кому направил тебя мельник, — не сносить бы Паньку головы… Да ты уж его на этот раз не выдавай!.. Потому что, если бы у тебя все шло так, как было задумано с самого начала, мы могли бы и не встретиться. А если бы и встретились где-нибудь значительно позднее, то только по одной-единственной линии — линии разведки, капитан… И говорю я тебе об этом совершенно сознательно, на всякий случай… Ну, а тут, когда вдруг исчез целый десант во главе с капитаном госбезопасности неизвестно где и как, кто-то там вверху решил побеспокоить и меня, но не успел еще я и подумать, а мельник уже обратился к моей жене: так и так, мол, настоящий советский парашютист объявился! Куда его?.. Так что, несмотря на то что и подполье и партизаны интересуют меня прежде всего и только именно по линии разведки… то что ни говори, а тебе, капитан, со мной все-таки повезло. Магарыч с тебя причитается! Когда обед близился к концу, я уловил какой-то неопределенный однообразный, все нарастающий гул или, вернее, топот. А когда понял, что это такое, на улице вдруг раздалась песня. Не очень громкая, не очень бодрая и слаженная. Но пело, несомненно, много людей. Первым бросился к окну Макогон. Отвернул уголок занавески, взглянул на улицу и, повернувшись ко мне, непонятно улыбаясь, сказал: — Не хочешь ли, капитан, полюбоваться, кто за тобой охотится? Посмотри!.. Вдоль улицы, громко стуча сапогами, поднимая розовую в лучах низкого уже солнца пыль, двигался строй не строй, но изрядная, на сотню, а то и больше людей, колонна. Одеты кое-как: в немецкое, полунемецкое, военное и полувоенное, гражданское, с белыми повязками на рукавах, но все до единого вооружены винтовками, карабинами, автоматами. Было у них даже два или три ручных пулемета. — И все это, брат, на тебя одного, — улыбнулся Макогон. — Охотились целый день, да так ничего и не обнаружили. Я не без любопытства и, откровенно говоря, не без жути проводил глазами эту собранную ради облавы на меня и моих товарищей колонну полицаев, ведомую толстым, с большим животом немцем в коричневом мундире, удивительно похожим на того, который вчера носился по берегу пруда нагишом. Полицаи были, видать, до крайности утомлены, вымотаны, однако еще бодрились. Тяжело шагая по мостовой, они широко раскрывали рты и истошными хриплыми голосами выводили:
Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет!..
Ать, два, горе не беда!
Канареечка жалобно поет!..
Старшина Левко Невкыпилый
Случилось это, вероятно, потому, что людям в тот момент было не до неба. Хлопот хватало и на земле. В центре села жадно и беспрепятственно хозяйничал пожар. Пламя охватило добрый десяток дворов. Время было сухое, самый разгар жатвы. И все, к чему прикасался огонь, сразу же вспыхивало и горело с какой-то особой яростью, потрескивая и постреливая: хаты, амбары, стога, пристройки над погребами, заборы, кучи сушняка и хвороста. Недолго сопротивлялись огненной стихии даже зеленые вишни, яблони и груши-дички вокруг хат. Листья на них сначала лоснились, потом сразу же начинали увядать, сворачиваться в трубочки и мгновенно, дружно вспыхивали. Перекрывая клокотанье огня, пронзительно визжала в хлеву свинья, тревожно мычала корова, испуганно кудахтала где-то одинокая, случайно уцелевшая курица. Время от времени над всем этим прорывались короткие автоматные очереди, грубые выкрики немцев. И только люди, согнанные к колодцу, молча стояли тесной толпой. Окруженные десятком полицаев с автоматами и винтовками, взрослые и дети, женщины и мужчины, старые и помоложе, стояли, прижимаясь друг к другу, скорее настороженно, чем испуганно наблюдая за тем, что происходит вокруг. Молчание было жутким, потому что не плакали, потрясенные несчастьем, даже дети. В зареве пожара выступали словно бы отлитые из меди застывшие лица да иногда короткой красноватой вспышкой сверкали широко открытые глаза…А с чистого, звездного, лунного неба прямо на головы людей, прямо в огонь стремительно опускался пышный белый парашют… Начальник разведки партизанского десанта старшина Левко Невкыпилый падал прямо в огонь и уже ничего не мог изменить. Огни он заметил сразу, как только раскрылся парашют. В первую минуту они показались обыкновенными кострами. Поэтому Левко верилось, что самолет шел не очень высоко, а костры эти, по счастливому стечению обстоятельств, являются партизанскими сигнальными знаками. Но он почему-то все летел и летел. А огни, быстро вздымаясь ему навстречу, занимали все большее и большее пространство, разливались во все стороны и превращались в настоящий пожар. Можно уже было различить, что внизу горят дома, пылает чуть ли не все село, а он, Левко, летит с очень большой, оказывается, высоты… Все, что происходило с ним, укладывалось в быстротечные минуты. И сама жизнь решалась теперь одним мгновением. Но мысль работала точно так же молниеносно, фиксируя тончайшие ощущения и малейшие перемены. Он опускался, видимо, в самый центр действий карательного отряда. Значит, прежде всего оружие! Самое главное — не даться в руки живым, уничтожить как можно больше врагов, если уж так сложились обстоятельства. Если уж погибать, так погибать, как говорится, с музыкой. Левко так и подумал: «С музыкой», всем существом, всем телом ощущая только свое оружие: автомат, гранаты, пистолет… Стрелять нужно сразу, еще даже не приземлившись как следует, не обращая внимания на парашют, не освобождаясь от него… Огонь стелется по земле. Густыми космами клубится дым. И все это летит прямо на Левка. Только бы не попасть в огонь, не утонуть в нем… Но кажется, он летит прямо в пламя, прямо в центр огромного пожарища. И теперь уже ничто его не спасет! Вспышка отчаяния! Боль бессильного бешенства, от которой темнеет в глазах… Всего на какую-то долю секунды… долю секунды, которая, собственно, решает все… Земля сильно толкает его в кончики пальцев. Колени привычно, автоматически пружинят. Его обдает жаром. Парашют валится и тянет куда-то в сторону. Левко механически срывает стропы, и они летят вслед за парашютом. Сам он падает на спину и сразу же вскакивает на ноги, будто ванька-встанька. И бросается в сторону от невыносимой жары, пышущей ему в лицо… Лишь потом уже, значительно позже, он восстановил в памяти все, что с ним случилось…
Летел он, оказывается, на охваченную пламенем огромную ригу. Высокая, крутая, покрытая снопами пересушенной соломы, крыша ее уже прогорела и провалилась внутрь. Однако огонь еще не утихал. Имея, вероятно, какую-то пищу (снопы, дрова или сено) в самой риге, пламя, ослепительными языками пробивая шлейфы дыма, взвивалось высоко в небо. Левко приземлился всего лишь в нескольких метрах от глиняной стены. Парашют воздушной струей потянуло в огонь. Какой-то миг он, еще сопротивляясь этому сквозняку, развернутым зонтом висел над стеной. Но потом качнулся в сторону и мгновенно вспыхнул. Левко успел лишь оторваться от строп и пустить их вслед за парашютом. Был он в каком-то странном состоянии. В каком-то предельном напряжении всех физических и душевных сил. Будто при вспышке молнии, которая каким-то чудом не погасла, а так и осталась гореть… Все казалось совершенно нереальным. Как в тяжелом, но очень ярком сне… Вокруг было на удивление пусто и тихо. Никто не нападал, вообще никого и не было. Трещало, гудело и постреливало лишь пламя. В обе стороны тянулась длинная низенькая и глухая рыжая стена. Внизу вдоль стены заросли лопухов, крапивы, лебеды. Бессознательно Левко попятился подальше от огня. Нога провалилась в какой-то неглубокий окоп. Чуть не упал. Покачнулся, задержался и осмотрелся вокруг… Терновые кусты, негустой, с обгоревшими и пожухлыми уже листьями вишенник. Светло как днем. А позади, за спиной, темнота. И из этой темноты он, конечно, виден как на ладони. Оттуда, из темноты, из вишенника, что-то сверкнуло. Где-то близко, совсем рядом. Сверкнуло и погасло. Левко сделал еще два шага назад. То, что было невидимым, ясно выступило из темноты. Под кустом неподвижная, застывшая, съежившаяся в клубочек человеческая фигура. Девчонка лет двенадцати или пятнадцати… Сидела, простоволосая, охватив руками колени и положив на них подбородок. И в этой позе было что-то обреченное, что-то от загнанного звереныша, которому уже некуда бежать. Хотя, возможно, не только это. Возможно, еще и напряженность и упорство… Когда старшина остановился рядом, девчонка даже не пошевельнулась. От этого ему стало вдруг жутко. — Ты почему здесь? — спросил машинально, бессмысленно. В ответ холодное и, показалось, презрительное молчание. Лишь глаза сверкнули живыми огоньками и снова погасли. — Ты… видела? — спросил уже определенней, имея в виду себя, свое появление, парашют. — Ничего я не видела, — невозмутимым, глуховатым, даже сердитым голосом ответила девочка. И в ее ответе сквозило то, что она уже ничего не боится и даже его появление ее уже не удивляет. — Что здесь происходит? — Угоняли в неметчину… Кто-то немца убил… Теперь жгут село… — А люди где? — На улице. Возле колодца. — А немцы? Много их?.. — Наверное, много… Тоже на улице. Сюда, в сады да в огороды, боятся… — А ты? — Что я? — Почему здесь, одна? — Вы что, не знаете, почему сейчас люди прячутся?.. Он промолчал. А она добавила, уже не ожидая вопроса: — Хлопцы в степь да на посадку подались, а у меня мама с Мишкой возле колодца… Мишка больной… — Что за село? — Солдатское. — А там, дальше, что? — кивнул он головой куда-то в глубину сада. — Ковтюхов огород, а за ним поле… — Так ты что же, так и будешь сидеть здесь? Девочка промолчала. — Тебя тоже ловят? В неметчину? — Да, будь они прокляты. — Ну, что же… На всякий случай, ты ничего не слыхала и не видела. — Не беспокойтесь… — А может, пойдем вместе? — он снова кивнул куда-то на север, почувствовав вдруг, что не может оставить эту незнакомую девочку. — Нет! — энергично повела она плечом. Потом, помолчав немного, посоветовала: — А вам лучше бы не задерживаться здесь… Шли бы, пока темно… Он постоял еще минуту и потом, понимая, что любое его вмешательство сейчас не поможет, ничего, кроме новых осложнений, не даст, тихо шагнул в заросли сада. Встретились двое. Незнакомые, неизвестные друг другу, встретились на миг, как родные, и разошлись, возможно, навсегда, навеки… Но остался в сердцах след на всю жизнь — память об этой ночи и об этой встрече…
«А все же, дружище, судьба к тебе покамест милостива!» — подумал Левко, остановившись уже за селом в кукурузе и только теперь придя в себя. Он сориентировался по компасу, нашел в небе ярко мерцающий огонек Полярной звезды, передохнул и попытался осмыслить, что же случилось. Солдатское… Солдатское… Неужели так далеко? И так неточно?.. Почему? По карте выходит, до Каменского леса около тридцати километров. Далековато, что ни говори! Солдатское… Солдатское… Вот поди предугадай, что с бухты-барахты попадешь в какое-то там Солдатское! В штабе на большой карте, которую он старательно изучал несколько дней, Левко запомнил десятки населенных пунктов севернее города К. вдоль южной границы Каменского леса. Среди них было и небольшое сельцо Солдатское… Где-то приблизительно в районе предстоящих действий. Левко и сейчас, закрыв глаза, четко видит эту карту. Отметки, кружочки, надписи — большими, маленькими и мельчайшими буквами. Среди них Солдатское. Среди самых мельчайших… И все же Левко запомнил и его. Поэтому сейчас вспоминает: до леса отсюда около тридцати километров. И прямо на север, в район Сорочьего озера, к месту их сбора. Далековато, ничего не скажешь! Но решение может быть только одно: к месту сбора! Топтаться до утра, разыскивая своих здесь, и неразумно и крайне рискованно… А кроме того, встречи с товарищами могут произойти и по дороге. Ведь, если уж случилась такая неточность, все равно место сбора остается неизменным. Следовательно, вперед на север! И чем скорее, тем лучше. Больше успеешь пройти до утра.
Он шел напрямик в стороне от дорог, по стерне через кукурузные плантации, свеклу, просо или подсолнухи. Порой по нескольку километров тянулись затвердевшие, заросшие редким сорняком — осотом, молочаем, чертополохом, — непаханые поля. Шел, не особенно и остерегаясь, твердо зная, что среди ночи не встретит здесь ни полицая, ни гитлеровца. Да и видно было в открытом поле далеко. Лишь под утро, когда закатился за горизонт необычайно большой, докрасна раскаленный диск луны, на короткое время потемнело. Через два часа после того, как он вышел из Солдатского, начало светать. Нужно было подумать о том, где провести день. Вокруг — открытая степь. Только впереди, вдалеке — невысокий, осевший, уже, вероятно, не раз распахивавшийся, а теперь заросший седой полынью курган. На макушке, как оказалось, курган этот был разрыт, и, судя по всему, очень давно. Незасыпанная яма заросла полынью, деревеем, чабрецом. Быстро светало. На востоке над далеким горизонтом багрово прояснилось небо. Низко над полями тревожно пламенела утренняя заря. На западе, в нескольких километрах от кургана, обозначилось в долине какое-то сельцо… Если верить карте и если он, Левко Невкыпилый, не ошибается, сельца этого в данном месте быть не должно… От этой неясной еще догадки в груди глухо защемило. Но… что поделать? Должен оставаться целый день именно здесь. Одинокий, ничем не защищенный, открытый любой неожиданности… Левко распахнул стеганку, сбросил на землю мешок и лег в полынь. Потом снял с головы старый картуз и положил перед собой автомат… Почти весь день степь вокруг него была безмолвной, пустой. Лишь коршун над головой да треск кузнечиков в бурьяне. И эта тишина, казалось бы такая сейчас желанная, с каждым часом все больше тревожила и пугала. Уже под вечер на востоке степь вдруг ожила, зашевелилась сотнями темных мелких фигур. На зеленом фоне кукурузного поля они, как муравьи, возникали из оврага и длинной цепью рассыпались по степи. Двигались, не увеличиваясь и не приближаясь, мимо его одинокого кургана куда-то на север… А позже такой же муравейник зарябил и на западе от него, в направлении того сельца, не отмеченного почему-то на карте. «Облава! Безусловно, облава! — с каким-то даже облегчением подумал Левко. — Выходит, о нас тут уже узнали! И наверное, никто из наших не попался, раз идут облавой…» Этот бесшумный муравейник справа и слева прокатился мимо Левка и через каких-нибудь полчаса исчез, рассеялся где-то на севере по оврагам и ложбинам. «Теперь вслед за этой облавой и мне будет безопаснее двигаться», — подумал Левко, до предела измотанный длительным напряжением. Дождавшись, наконец, сумерек, разбитый так, словно бы он от восхода до заката размахивал цепом, старшина Невкыпилый тоже тронулся дальше на север. Целый час он брел по кукурузному полю и выбрался в разреженное, вытоптанное полицаями просо. Впереди из-за посветлевшего горизонта высунулся краешек полной луны. Навстречу из-за бугра вынырнули дубы. Старые, кряжистые дубы… Наконец-то лес! Но ведь с момента ухода с кургана не прошло и двух часов! Нет, радости этот лес Левку почему-то не принес. Лишь тревогу да настороженность. Не мог же он, в самом деле, ошибиться в расчетах. А если так, если не ошибается, то леса здесь, на этом месте, быть не должно… Лес оказался, правда, всего лишь небольшой рощицей в широком степном овраге. Посадка, а не лес. Левко пересек ее за каких-нибудь полчаса. И все же… все же на карте этой рощицы не было. И это обескуражило и даже напугало старшину больше, чем огонь, в который он летел с неба, и облава, которую каким-то чудом пронесло мимо него.
Но потом, кажется, все начало складываться более благоприятно. И степная равнина, и грейдер, широкий, хорошо накатанный, с востока на запад, и даже пересохший ручеек в кустиках аира — все это не рассеивало сомнений, что он твердо шел по намеченному маршруту. И вот в половине четвертого впереди на фоне звездного неба показались зубцы далекой темной стены леса… Теперь уже, наконец, настоящего, того самого долгожданного Каменского леса! Левко сначала заторопился, почти побежал. Потом спохватился, замедлил шаг и, не доходя с полкилометра до лесной полосы, залег в густых зарослях подсолнуха. Впереди до самой лесной опушки простиралась голая стерня. Ярко и неутомимо разливала вокруг свой зеленоватый свет луна. При этом освещении каждая былинка видна была как на ладони. Левко пролежал минут десять, осмотрелся, прислушался и, не обнаружив ничего подозрительного, двинулся дальше к спасительной, такой желанной и, наконец, достигнутой лесной черте. Чистую, заросшую сочной лесной травой полянку с двумя развесистыми узловатыми дубами посредине надвое пересекает узенькая, хорошо утоптанная тропинка… А по-настоящему лес начинается с кустов орешника. Дальше черноклен, граб, молодой дубняк… Тропинка, огибая кусты, вьется куда-то вниз. Мягкая прохлада освежает разгоряченное лицо. Пахнет прелыми листьями, грибами и еще чем-то лесным, горьковато-мятным. Узенькая глубокая лощина, заросли папоротника, бузины. Крутой пригорок, и за ним сплошной дубовый лес… Тропинка сбивается куда-то в сторону и выводит Левко к длинной и ровной, будто по линейке проведенной, лесной полосе. От быстрой и долгой ходьбы ноги гудят, тело сводит судорогой. Спина и лоб мокрые. Лес негустой, перекрещенный темными тенями, какой-то по-домашнему уютный. Безветрие. Ни шелеста, ни шума. Тишина особенная, глубокая, как самый крепкий сон. Удивительная, торжественная тишина, как в заколдованном царстве. По карте до Сорочьего озера оставалось километров десять. И если идти от Солдатского строго на север, оставив справа село Казачье, обязательно на него выйдешь. Покамест можно было идти вдоль полосы. Неизвестно, правда, сколько. Какой-нибудь километр-два или до самого озера? Квадраты или лесные кварталы на карте не обозначены. Но прежде чем пробиваться дальше, нужно было отдохнуть и перекусить, хотя сейчас Левку совсем не хотелось есть. Старшина выбрал уютное место возле старого дуба. Сел на голую, устеленную лишь прошлогодними, спрессованными в лепешку листьями землю. Достал из мешка плиточку шоколада, отломил кусок, положил в рот и, расположившись поудобнее, прислонился к шершавому и теплому стволу… Проснулся он внезапно. Вероятно, от холода. Вздрогнул всем промерзшим телом и широко раскрыл глаза. Все вокруг него в сизой густой изморози — выпала крупная роса. Было влажно и прохладно. Меж стволов запутались синие космы тумана, пронизанные розовыми полосами не жаркого еще, низкого и невидимого солнца. Верхушки деревьев звенели заливистым, оглушительным птичьим щебетом. В правой руке Левка стиснута надломленная плитка шоколада. Сплошным подвижным слоем ее облепили желтые лесные муравьи. Левко огляделся. Как это он только позволил себе заснуть? Вокруг все спокойно.Кроме птичьего щебета, никаких других звуков. Парень постепенно успокаивался. Сдул с шоколада суетливых муравьев, брызнул себе в лицо росой с большого папоротника, растер ее ладонью и, перекусив шоколадом, двинулся дальше. Он долго шел вдоль узенькой межи. Потом, когда она исчезла, пробивался напрямик через лес, который с каждым шагом становился все гуще и плотнее. Шел ровно три часа. И тут внезапно из-за кустов орешника открылось перед ним озеро… Оно сразу же ему не понравилось. Не таким представлял его себе, не таким выглядело оно на карте. По крайней мере, там оно было значительно больше. А тут в глубоком овраге, плотно окруженном лесом, почти круглая небольшая впадина, до отказа наполненная черной тяжелой водой. Обыкновенный пруд. И вода показалась Левку такой же, как она обычно бывает в пруду, охваченном по краям ряской и водорослями. С одной стороны озеро упиралось в ровный зеленый вал, похожий на старинную, сплошь заросшую водяными и лесными травами плотину. Левко остановился на пригорке, под кустом орешника. Снизу, со стороны озера, тянуло прохладой, густо замешенной на холодной мяте, бузине и валерьяне. Остановился и, сдерживая в себе внезапную тревогу, пытался понять, что же его здесь насторожило. Быть может, Сорочье озеро где-то чуть дальше? Вон там, за теми дубами? А это лишь его начало, исток, почему-то не обозначенный на карте? Но бывают ли такие неточности на картах? Одним словом, как бы там ни было, а обходить его он все же не имеет права… Местность кажется очень глухой, безлюдной. Тем лучше… Он достал из кармана свисток. И несколько раз с условленными интервалами просигналил: «Пить-пить, пить-пить!» Слабенький писк утонул без ответа в зеленых зарослях и птичьем щебете. Левко долго стоял, затаив дыхание, прислушиваясь и всматриваясь в заросли. Не обнаружив ничего подозрительного, решил обойти озеро вокруг. Весь путь, от места первой остановки и обратно, прошел довольно быстро и без особых трудностей. В зарослях насыпи, похожей на плотину, нога человеческая не ступала, вероятно, уже десятки лет. Сотню шагов, которые отделяли его от противоположного берега, Левко одолевал дольше всего, минут двадцать, острекавшись крапивой, исцарапав себе лицо и руки. В конце плотины Левко заметил в густых зарослях следы какого-то очень старого, истлевшего уже сруба. И сразу же за ним в побегах высокой бузины притаился каменный фундамент какого-то здания: кладовки, погреба?.. Вероятно, здесь когда-то, очень давно стоял дом. Все заброшено, почти сровнялось с землей, проросло бурьяном и многолетними кустами, совершенно одичало. А все же… что-то тут было настораживающее. Непостижимое и неуловимое. И вместо того, чтобы тронуться дальше, как он уже было решил, старшина попятился глубже в кусты. Присел на какой-то старый, тоже насквозь прогнивший пенечек. Оттуда ему хорошо видны были гать, место, где укрывался под бурьяном старый сруб, и весь противоположный берег. Сидел долго, вслушиваясь в монотонный лесной шум. И все пытался понять свою тревогу, которая с каждой минутой все острее давала себя знать… Вокруг тишина, глушь, безлюдье. Уже с большим трудом Левко подавлял в себе желание подняться, снова обойти пруд, окликнуть кого-то в полный голос, подать о себе весть. Он почему-то был уверен, что на этот раз непременно услышит ответ. Наконец все-таки поднялся. Обходя заросли орешника, подул в свисток: «Пить-пить!» Повернулся лицом к черной воде, держась рукой за гладенький ствол черноклена, шагнул по крутому склону вниз: «Пить-пить!» И, будто в ответ, что-то внезапно треснуло, взорвалось у него в затылке. В глазах вспыхнула, мгновенно угаснув, ослепительная молния. И все вокруг поглотила тьма…
Сначала в помутившееся сознание пробился однообразный гул человеческих голосов. Потом шум и тупая боль в голове. Левко вздохнул, попытался вытянуть руки и вдруг почувствовал, что они у него связаны за спиной. Что за странный сон? Лежит, вероятно, неудобно, и оттого ему мерещится черт знает что! Так иногда бывает… Нужно заставить себя проснуться… Однако на сон это словно бы не похоже… Тогда где ж он? Ага… Ночной пожар, костер, на который он падает с неба. Да, да… потом лес… черное озеро… Звук свистка: «Пить-пить!» Так ничего больше и не вспомнив, Левко опять глубоко вздыхает и широко раскрывает глаза. Под правой рукой у него что-то жесткое и колючее. Пахнет сухим сеном. Он лежит на боку, и руки у него… в самом деле крепко связаны. Так крепко, что левую он даже не ощущает. Онемела… Сейчас, вероятно, ночь… Какое-то еле освещенное слабым желтоватым светом помещение. Он пробует повернуть голову, и резкая боль, сразу возникнув где-то в затылке, острой вспышкой бьет в темя и распирает виски. Невыносимо тоскливое ощущение зарождается в груди и отвратительной вялостью разливается по всему телу. Что же с ним случилось? Здесь, кажется, кто-то есть… Кажется, он слышал какие-то голоса… Желтоватый свет, приближаясь, становится ярче. Кто-то невидимый подошел из сумерек и нагнулся над ним, держа в руке обыкновенную керосиновую лампу. Свет ослепляет, и Левко закрывает глаза. — Ну что?.. Очнулся? — слышится откуда-то из-за спины молодой голос. — Кажется, — неторопливо отзывается прямо над Левком глуховатый, с хрипотцой басок. — Здорово ты его!.. — Ничего… Смерть ему суждена не от этого… Ну как? Немного очухался? Из-за руки, которая держит лампу, из сумрака появляется над ним незнакомое лицо. В глазах, отражаясь от лампы, два колючих огонька. Густо нависшие брови. Кончик носа острый. Запавшие темные щеки и сухой, костлявый подбородок. Резко очерченные, твердые губы выталкивают неторопливо и скупо: — Ты кто такой? Левко молчит. Прищурив глаза, лихорадочно размышляет: «Где я?.. Кто они?.. Полицаи?.. Или… может… может, партизаны? А что, если они нашли у меня „справку“? — по-настоящему ужасается он. — Что я им скажу? Не поверят… Как же узнать, кто они? Ничего, ни слова определенного первым не говорить. Не отвечать прямо ни на один вопрос… Даже тогда, когда они будут признаваться, кто такие. Даже тогда… До тех пор, пока не будет убедительных, твердых доказательств!» Резко очерченные губы кривятся в еле заметной улыбке: — Гордый… Даже не отзывается. — А может, он еще оглушен? Может, дать ему воды? — слышится молодой голос сбоку. — Почему бы и нет?.. Воды не жаль. Кто-то рукой поддерживает ему голову. Левко не отказывается, пьет. Вода капает из обливной кружки, стекает по подбородку на шею. Напившись, Левко откидывает голову на сено, крепко зажмуривает глаза. Какой-то неведомый до этого страх холодит ему сердце. От сознания этого страха на душе у парня тоскливо и муторно, ему становится стыдно самого себя… Некоторое время все молчат. Лишь немного погодя — тот же хрипло-глуховатый басок: — Так что же ты, так и будешь безмолвствовать? — А где я? — решается наконец Левко. — Сам должен знать, куда тебя несло. Никто тебя сюда не звал. — А вы кто такие? Молчание. Потом еле слышное коротенькое «гм», за которым кроется, вероятно, скупая ироническая улыбка. — Вот что… голубь сизокрылый… Задаем вопросы здесь мы. А твое дело только отвечать. — Я ничего не буду говорить, ни слова, пока не узнаю, где я и кто вы… — Гм… героический парнишка! Надолго ли только хватит твоего героизма? А нам с тобой возиться недосуг… Лучше бы говорил по-хорошему. А то, когда шлепнем, разве лишь деве Марии будешь рассказывать. Тебя кто послал? Дуська? Туз? Или сам Мюллер?.. Левко молчит, не отвечает. Но эта немецкая фамилия… Мюллер… Тогда получается… он у партизан… но в чем же они его подозревают? Мюллер? Неужели?.. Неужели они нашли его распроклятую «справку»? Возможно. Возможно, нашли, а возможно, и нет. Во всяком случае, он должен молчать до тех пор, пока не удостоверится окончательно… Мюллер… Ох, черт, как ломит затылок!.. Интересно, чем это они его так угостили?.. — Так что же, будем молчать? — Я сказал, — тихо, но твердо отвечает Левко. — Ну… дело твое… Только запомни, времени у тебя не так уж и много. Только и успеешь в грехах исповедаться и покаяться. Посиди, остынь да подумай, пока мы добрые. Лампа плывет куда-то вверх и исчезает. Цепкие сильные руки хватают старшину за плечи и тащат куда-то в сторону. Усаживают в углу, спиной к стене. Напротив, высоко вверху, в нише лампа. Фитиль прикручен… Двое — один, щуплый и невысокий, и второй, массивный и плечистый, — неслышными тенями промелькнув перед его глазами, пропадают в темном отверстии. Они не появлялись очень долго. Левко сидел в полутьме, медленно привыкая к фантастическому свету, осваиваясь в незнакомом помещении. Он, оказывается, в глубоком погребе, стены которого обшиты прогнившими, покрытыми плесенью досками. Чадит лампа. На полу толстый слой сухого свежего сена. Справа ниша. Большая, на полстены, и, вероятно, глубокая. Отверстие ее заложено деревянными ящиками и мешками. Прямо перед глазами узкое темное отверстие — вход. Виднеется и несколько обыкновенных земляных ступенек с настеленными сверху дощечками. Ступеньки теряются где-то вверху, в сплошной темноте. Итак, не что иное, как глубокий и темный погреб. С неба и… прямо в яму. Забавно все-таки. Неужели это где-то поблизости от того черного озера… Возможно даже, что сейчас совсем и не ночь… Возможно, где-то там, наверху, ясный солнечный день… Чем они его так оглушили? И откуда они взялись? Сколько уже прошло времени? Они, вероятнее всего, партизаны из отряда имени Пархоменко. Ведь именно здесь, в этом лесу, им надлежит быть. А вот погреб… Нет, на землянку что-то не похоже. Какое-то укрытие, какая-то секретная база. И потом этот Мюллер, который якобы должен был послать Левка сюда! Местный фюрер? Комендант? Гестаповец? Командир карательного отряда? Похоже, именно они и являются партизанами. Но… рисковать, довериться, не имея твердой убежденности, поверить на слово он не имеет права. Надо выждать. Подойдут (если уже не подошли) наши, свяжутся с партизанами, услышат, что его задержали. Увидят отобранное у него снаряжение, и… все станет на свое место. Хорошо бы проверить, что они у него отобрали и что оставили. Самое главное, конечно, та «справка»! Если они уже знают о ней, если они в самом деле партизаны, тогда… Известно же, что партизанам негде держать пленных. Значит, стоит лишь нашим, нашему командиру где-то задержаться на одни или двое суток, тогда, чего доброго, могут в самом деле шлепнуть, как говорит этот высокий. Чертова ситуация! Хоть бы узнать, что же со «справкой». Проверить это он не имеет никакой возможности. Руки у него скручены назад, связаны крепко, умело, и попытки освободить их не дают ни малейших результатов. Ох, не перехитрить бы самого себя с этой «справкой»! Ведь настоящее удостоверение имеет один лишь командир! А что, если с командиром случится что-нибудь непредвиденное? Гм… Будто в слепом полете можно что-нибудь предвидеть! Чертова «справка»! Вот так ситуация! Время тянется невыносимо медленно и невыносимо нудно. Хоть бы часы! Но он не может нащупать даже, оставили или не оставили они ему часы… Беззвучно отделяется от стены, становится между ним и светом какая-то тень… — Если хочешь, можешь подкрепиться, — раздается над головой молодой голос. Да, это он, тот самый, низенький и щуплый. — Было бы чем… — коротко бросает Левко. Незнакомец становится на нижнюю ступеньку и на цыпочках тянется к лампе. Чуть-чуть увеличивает свет. В подвале становится виднее. Этот незнакомец в самом деле низенький и худенький, будто мальчик. В каком-то коротковатом свитере. На голове темная фуражка со странным большим козырьком. Лица не видно. Оно скрыто в тени. Из-под козырька виднеются лишь тонкая, с острым кадыком шея и пятно округлого подбородка. Неслышно, будто тень, неизвестный делает два или три шага, и на колени Левка ложится что-то завернутое в бумагу. — Ешь! — А чем я его возьму? Носом? — И то правда! Повернись, развяжу тебе руки. Все равно ничего сделать не сможешь и никуда отсюда не убежишь. Руки совсем онемели… Некоторое время Левко размахивает ими над головой, разгоняя застоявшуюся кровь, потом растирает. Заодно убеждается в том, что часы ему все же оставили. Интересно, который час? Но выдавать свое любопытство в присутствии постороннего не торопится. Разворачивает бумагу — обрывок газеты, — достает оттуда свой же, кажется, бутерброд (на ржаной краюхе жирная американская тушенка и ломтик голландского сыра) и неторопливо, но с аппетитом жует… Незнакомец в странной фуражке снова тянется к лампе, прикручивает фитиль. — Перекусишь и, если хочешь, можешь поспать, — бросает он и точно так же, как и появился, исчезает. Покончив с бутербродом, Левко вытирает клочком газеты замасленные пальцы и, смяв сложенную вчетверо бумажку в кулаке, долго-долго сидит, опершись о холодную стену, присматриваясь и прислушиваясь. Есть ли здесь еще кто-нибудь, кроме него? Сидит и ждет так долго, что тот, кто мог бы здесь таиться, уже не выдержал бы и должен был выдать себя если не словом, то хотя бы каким-нибудь движением или дыханием. Но, кажется, сейчас в погребе и в самом деле никого нет. Левко поднимается с земли. Переступает с ноги на ногу, размахивает руками, выгибает спину, разминает онемевшее тело. Потом осторожно, неторопливо, почти ощупью обходит свою неожиданную тюрьму по кругу. Обшивка истлела и в некоторых местах даже проваливается от прикосновения пальцев. Ниша, размеры ее трудно установить, плотно забита мешками и ящиками. Какие-то, вероятно, продукты… Если бы в этих ящиках было оружие, тогда ему не развязали бы рук или, по крайней мере, не оставили бы одного. Земляные ступеньки круто поднимаются вверх, и конца им не видно… Левко становится на нижнюю. На ту самую, на которой недавно стоял незнакомец. Точно так же тянется рукой к лампе. Однако выкручивать фитиль не решается. Просто подносит часы к слабому желтоватому огоньку. Без пяти двенадцать… Гм… двенадцать… А может, двадцать четыре? Следующего или, кто его знает, какого дня… или ночи? …Лоскут газеты… Пол-листа. Низ. Вся верхняя часть с заголовком оторвана. Газета немецкая. И, судя по какому-то случайному подзаголовку (больше ничего старшина при таком свете прочесть не может), довольно устаревшая: «Эластичное и плановое сокращение фронта на Северном Кавказе… Героические немецкие орлы под Новороссийском…» Следовательно, отзвук Сталинградского котла. На другой стороне — фюрер с оторванной головой. Один лишь мундир и рука с зажатой перчаткой и свастикой на рукаве… Более крупные буквы заголовков: «Провидение господнее всегда с немецким народом! Наше время — впереди. Тотальная война и тотальная мобилизация…» Да… Немцы или гитлеровские холуи — пускай даже эта газета и старая — подобным образом обращаться с изображением «обожаемого фюрера», вероятно, побоялись бы. А впрочем… Эта далекая глушь… И третий год войны как-никак… Левко еще и еще раз обходит вдоль стены погреб — всего какой-то десяток коротеньких шагов. Потом располагается на старом месте. Сидит, полудремлет, прислушивается… В погребе тихо, нигде, кажется, никого. За ним не следят, не прислушиваются. Но береженого и бог бережет. Левко словно бы невзначай, спросонок кладет руку за борт стеганки, еле заметно шевелит пальцами. Боковой большой карман между подкладкой и верхом расстегнут и совсем пуст. Да… Но в том же кармане под самым бортом куртки пришит еще один маленький тайный карманчик. И в нем прощупывается сложенная вчетверо бумажечка. Удостоверение на имя шахтинского полицая Бабченко, который по приказу местных гитлеровских властей передвигается на запад, в Винницкую область… Никем, оказывается, не обнаруженная, не замеченная, лежит себе эта бумажечка спокойненько на месте! Так! Что же дальше? Наверное, лучше всего уничтожить, пока есть время и условия. Но ведь стопроцентной уверенности нет! Уничтожить? Или оставить? Нет, уничтожить он всегда успеет. Лучше с этим подождать…
Его будит свет. Лампа поднесена к самому лицу. Левко оторопело хлопает глазами, прищуривается и отворачивается. — …Такой еще, оказывается, молодой, — спокойно констатирует где-то рядом хриплый, глуховатый басок, — и уже такой стервец. Левко молчит. — Ну, так как? Может, уже поговорим? А? Левко по-прежнему молчит. Потом, будто не услышав вопроса, переспрашивает сам: — Кто вы такие? — А ты не догадываешься? — Нет. — Ну, тогда пускай тебя разбирает любопытство… Ты откуда же знаешь немецкий язык? — А вам откуда известно, что я знаю немецкий язык? — удивляется Левко. «Во сне что-то, наверное, сболтнул?» — Мы, голубь сизокрылый, все знаем. — Тогда должны знать и то, откуда я знаю… — А нам вот хочется, чтобы ты еще и сам рассказал. — Ну, в школе учил, в институте. Студент я… — Оно и видно… А эта школа или институт в Берлине, Мюнхене или Вене? — В Харькове! — сердито бросает Левко, говоря на этот раз чистую правду. — Так я тебе и поверил, — гудит басок, кажется, совсем добродушно. — А он, может, из тех самых, из хвостдойчей, — подбрасывает сбоку щуплый молодым голоском, — как Генрих или Дуська. «Вот тебе новая морока, — сокрушается Левко. — Дался им мой немецкий язык! Можно было бы, конечно, возражать… Но если они и в самом деле что-нибудь знают, что-нибудь подслушали? Тогда можно по-настоящему запутаться. Пускай уж лучше так. И все же кто они? Почему не говорят об этом прямо? И о парашютистах ни слова. Неужели еще ничего не слышали или хотя бы по моему снаряжению не догадываются? Какая-то хитрая игра. Фашистская разведка? Ей пальца в рот не клади… Ну, а если наши… Должны же они быть бдительными и оберегать себя от гестаповских шпионов? И о десанте их никто не предупреждал. Слепой ведь прыжок!..» — …Так вот что, голубь сизокрылый, ждать тебе уже недолго. А перед смертью покаяться следует. Давай не стесняйся… Кто тебя сюда послал? Что ты тут у нас потерял? И чего искал? Кого еще знаешь из таких вот «искателей», как ты? Кто предупредил гестаповцев о Балабановке? Кто выдал скальновчан? Не знаешь? Рассказывай лучше правду. Легче на душе будет… когда предстанешь пред ясными очами немецкого господа бога… Ну так как? — Кто вы такие? — Ага… Значит, не желаешь! Ну что ж! Времени у тебя еще немножко есть. Подождем… И снова исчезают. Кто они? Почему так мягко допрашивают? Они (и за это — девять из десяти) партизаны. Но все тут какое-то странное. И они тоже странные. На военных не похожи, скорее на ночных сторожей в колхозе, что ли! И почему они все предупреждают, угрожают, что нет времени, а сами тянут? «Исповедуйся», — говорят. Ха! Может, они кого-то или чего-то ждут? Но кого и чего? Какие «грехи» имеют в виду? Грехов у Левка на душе немного. Точнее, один, двухгодичной давности. Соврал в военкомате… Отец у Левка — учитель, физик. Мать — врач. А он у них единственный. Что ни говори, а воспитывали они его. Научили читать, когда ребенку еще и пяти лет не исполнилось. Тогда же начали учить немецкому языку. В школу отдали в шесть лет. В институт приняли его как отличника, когда ему шестнадцать стукнуло, а первый курс закончил — не было еще и семнадцати. Без нескольких недель. Тут — война! Нюся, секретарь из деканата, которой он поплакался, что забыл паспорт дома, механически отстучала справку. «Студент второго курса, год рождения такой-то, для предъявления в военкомат»… То, что он прибавил себе целый год, в военкомате не заметили, послали в запасной учебно-резервный батальон… Ну, за эти два года отслужил он и отвоевал этот свой грех добросовестно, ничего не скажешь… А теперь вот, выходит, еще один грех. Возможный грех. В зависимости от того, как дальше пойдут дела. Все же, что ни говори, а лежит в потайном кармашке еще один, теперь уже по-настоящему поддельный документ. И нужно же, чтобы так случилось! И как все это кончится?
— …Ничего он тебе не скажет! Левко очнулся и насторожился. Голос резкий, властный. Такого тут он еще не слыхал. Прозвучал словно бы над самым ухом. Что это?.. Галлюцинация? — …У него, понимаешь, нет выбора. А посулам твоим он не поверит. Дураков на такое не посылают. Что-то прогудел уже знакомый хрипловатый басок. Откуда доносятся эти голоса? — …Допрашивать по-ихнему мы не умеем и, вероятно, не научимся… — снова звучит тот, властно-резкий голос. — А тебя сюда послали не к теще на блины. Сам знаешь, чем рискуешь. — Так я же разве что? — оправдывался басок. — Я тебя ожидал. Отсюда все равно никто никуда не выйдет. Могила. — Ждал и дождался. А сейчас пора кончать… Дальше рисковать мы не можем. «Могила»… «Пора кончать»… Слова, от которых мороз подирает по коже. «Партизаны, ясно же, партизаны! — лихорадочно пробует убеждать себя Левко… — Но как с ними объясниться?» — А Галина сказала — доложить Викентию и чтоб без него не решать, — говорит щуплый. — Ну да! Близкий путь! Кругом облавы, а мы тут у моря ждем погоды! Пора! Как в кошмарном сне, от стены опять отделяется темная тень. Приближается, становится человеческой фигурой. Среднего роста, в чем-то вроде военного. Крепко сбитая, энергичная, подвижная. Даже тогда, когда стоит спокойно, Левку кажется все же, что она двигается. Двигается непрерывно, куда-то торопится. Левко про себя, бессознательно так и называет эту фигуру: Подвижный… — …Ты уж надумался и, конечно, будешь говорить! — скорее утверждает, чем спрашивает Подвижный, будто команду подает. — Я не знаю, что и, главное, кому должен рассказывать. — Запомни. Нам не до шуток. Нет времени для них. Будешь молчать, расстреляем. — А если не буду молчать, тогда что? Все равно я должен знать, с кем свел меня случай. Иначе… — Предположим, ты попал, куда хотел, нашел, чего искал, — резко, иронично бросает Подвижный. — Предположим, мы партизаны… Ну и что? — Тогда естественно, — отваживается Левко, — естественно будет предположить, что я советский парашютист. — Гм… А ты, вижу, любишь пошутить. Гляди, чтобы плакать не пришлось. — Нет, почему же! А если я серьезно? — Ну, ежели ты серьезно, то и мы серьезно. — В голосе Подвижного слышится явная ирония. — Нам скрывать нечего. Хозяева положения тут, как видишь, мы. Да, мы советские партизаны. — Пархоменковцы! — не удержавшись, радостно восклицает Левко. — Гм… Так тебя, оказывается, послали разыскивать их? — Да. Именно их. Я в самом деле советский парашютист. — Ну, вот! Я так и думал. Так и знал! — почти победоносно, насмешливо тянет Подвижный. — Как же иначе! Теперь тут таких «парашютистов» из гестапо знаешь сколько за дураками охотится? Только дураки, дорогой мой, теперь уже все перевелись. — Так вы не верите?! — Допустим, не верю. Как ты нам докажешь? Попытайся, докажи, а мы послушаем. Например, вот: объясни, как же это ты так обмишулился, попав не к пархоменковцам, а к нам? — Как это, не к пархоменковцам? — А так… Где Крым, а где Рим! — Не понимаю. — Допустим… Тогда рассказывай подробно, как и что. Где приземлился, куда шел, что видел и… чего искал. — Приземлился в селе Солдатском… Определился по азимуту, ну и… вышел на Каменский лес, к Сорочьему озеру… — Гм… И долго же ты шел? — По времени? Или по расстоянию? — Все равно. — Ну, пожалуй, километров тридцать — тридцать пять… — Гм… Подожди. Что-то я не пойму. Нескладно врешь… Можешь мне хоть что-нибудь рассказать про Солдатское? — Ну как же!.. В ту ночь немцы подожгли село. Я чуть было не угораздил прямо в огонь. — Вернее, угораздил и выскочил невредимым. Ну что же, бывает! В сказочках, конечно. Но теперь уже кое-что проясняется. Новичок ты, видать, в этих местах. Не ориентируешься… И «легенду» плохо усвоил. Неграмотно, можно сказать. А еще карту в планшете носишь, сопляк! — Как это, — по-настоящему обиделся за «сопляка» Левко, — ничего не понимаю? — То-то и оно!.. Подожди, поймешь. Мне тоже еще не все ясно. А что касается Солдатского, как ты говоришь, тут действительно… должно было бы иметь место, как говорят… Могло быть! В ту ночь действительно горело, действительно немало было там твоих дружков! Вот они и направили тебя к нам по азимуту, как ты говоришь. — Ну, если так… если не верите… — Так трудно же и поверить! Пойми! — с какой-то даже досадой воскликнул Подвижный. — А что здесь непонятного?! — бессознательно почувствовав эту досаду, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку, воскликнул Левко. — А вот то́! Давай не горячись и скажи мне лучше, куда ты девал свой парашют? Говори правду, ибо мы сразу же все выясним и проверим. Не думай, мы не побоимся и пойдем туда, где ты его припрятал. Знаем, не сегодня на свет родились, нас твои дружки на этот раз не тронут. Очень уж им хочется, чтобы мы тебе поверили. — Так нет же парашюта! — тяжело вздохнул Левко. — Нет? Как же это? Парашютист — и вдруг без парашюта? — А так… Нет, и все. Сгорел парашют на пожаре. — Гм… А ты веселый парень! Знаешь, я так и догадывался, что он сгорел. Что же это гестапо на такую операцию да парашют пожалело?! Как-то не верится. Или просто не было под рукой советского? — Я правду говорю!.. — Хватит! — сурово крикнул Подвижный. — Всю правду скажу теперь тебе я! Засыпался ты, парень! С головой. Неудачливый вышел из тебя разведчик. Если хочешь знать правду, хотя она тебе уже ни к чему, Солдатское, и Сорочье озеро, и эти пархоменковцы отсюда по крайней мере в полутораста километрах! Плохо ты, видать, слушал, чему тебя учили. — Так девчонка же сказала: Солдатское! — задетый за живое и оскорбленный в своих лучших чувствах разведчика, забыв даже о смертельной опасности, почти умоляюще воскликнул Левко. — Возможно… Девчонка, возможно, и сказала. Действительно, то село, которое подожгли в ту ночь твои дружки, отсюда недалеко, около тридцати с гаком километров, и называют его у нас коротко Солдатским… А на карте обозначается оно чуточку иначе: Солдатский поселок!.. — Господи, боже мой! — почти застонал от отчаяния Левко, хватаясь обеими руками за голову. — Неужели же и в самом деле так?! Это восклицание было таким неподдельно-искренним, столько было в нем удивления, боли и отчаяния, что даже Подвижный снова, кажется, внутренне заколебался и очень долго молчал, будто не зная, что на это ответить. — Представь себе… — наконец произнес он тихо. И сразу же коротко приказал: — Хватит! Нечего тянуть кота за хвост! Обыщите его… и как можно тщательнее.
Потом сразу куда-то исчез. Растворился в темноте, будто его и не было. Левко снова остался один. Долго сидел просто так, ни о чем не думая, прибитый и оглушенный. Потом подумал: неужели это правда? Неужели их могли сбросить так далеко и так неточно? Если только это правда, тогда… и надеяться напрасно! Он, разведчик, поверил, как дурак, какой-то девчушке, ничего у нее даже не переспросив. А вот все другие, совершенно неопытные, не разведчики, конечно же сориентировались правильно. Да и на этот Солдатский поселок ни один из них не натолкнулся… Сориентировались как следует и направились себе в настоящий Каменский лес, к настоящему Сорочьему озеру. Это не важно, что далеко. Все равно дойдут. Всегда дойдут, когда знают точно, куда именно нужно идти. А он… Никто, вероятно, из них даже и не догадывается, что… «Хватит!.. Тянуть дальше нечего! Обыскать! И как можно тщательнее!» Обыскать! Мама родная! А «справка»! Если и есть еще хоть какая-нибудь капелька надежды, то… Обыщут, найдут удостоверение шахтинского полицая, и… чем он им тогда докажет? Как они после того ему поверят?.. Уничтожить! Немедленно и как можно осторожнее уничтожить! Стараясь скрывать каждое движение, заложил правую руку за борт стеганки, указательным пальцем нащупал в потайном карманчике проклятую бумажонку, поддельный документ, который должен был бы в других условиях спасти его, а теперь вот… Зажал его двумя пальцами. Потянул потихоньку. Вытащил. Опустил руку с бумажкой на колени. Подвинул осторожно к правой левую руку. Взял обеими. Р-р-раз! Рванул… И в тот же миг что-то юркое и упругое, что-то темное метнулось от стены и тяжело упало ему сразу на грудь, на руки и на колени. — Ух ты, гад! — пригрозил молодой, знакомый уже голос щуплого. Так произошло непоправимое. И теперь уже все, теперь конец! Спасти его может только чудо. Но чудес, как известно, не бывает… Его обыскали. Теперь уже действительно отобрали все подчистую. Оставили в одной рубашке и штанах. Отобрали и часы, которые указывали в ту минуту ровно половину пятого утра или вечера неизвестно какого дня. Фитиль в лампе подкрутили, в погребе стало хорошо видно. Хотя он все равно никого из них не увидел. Ибо тот, Подвижный, приказал стать лицом к стене и не оглядываться. Предупреждение было излишним. Левко и сам уже не интересовался никем и ничем. Он стал теперь абсолютно равнодушен ко всему на свете. Весь мир был на одной стороне, а он, Левко Невкыпилый, на другой. Он еще что-то вспоминает, прощается с родными, товарищами и знакомыми. Прощается с землей и небом, облаками и травами, солнцем и луной. Со всем-всем, о чем успел узнать и что успел увидеть в свои, оказывается такие короткие, двадцать лет. Он думает обо всем, что еще стоит у него перед глазами, но для него уже недостижимое, далекое и равнодушное к нему. Он теперь один-одинешенек во всем мире, один на один со своим огромным одиночеством. Вот получается как! Выходит, в твою последнюю, в твою смертную минуту остаешься ты с самим собой! Все еще словно бы рядом, возле тебя, но уже будто за толстой, непроницаемой стеной прозрачного стекла… Ты один. Этот миг ты должен пережить, эту грань перейти лишь сам-друг. Никто этого с тобой не разделит и не переживет, хотя тех, кто рад был бы своей грудью защитить тебя от смерти, нашлось бы немало… И в этом одиночестве, которое чувствуешь с глазу на глаз со смертью, и таится то, что люди называют страхом. Великим страхом… И все же Левко не должен, не может, не имеет права поддаваться страху! Он не смеет выказать его перед ними… Пускай эти хлопцы — свои люди, к которым он спустился на парашюте, чтобы оказать им помощь, пускай они все же подумают о нем хорошо, как о смелом, мужественном человеке! Пускай даже не теперь, пусть вспомнят тогда, когда все выяснится, когда узнают о том, что он, Левко, в самом деле свой! Но, в конце концов, «страх вовсе не в опасности, он в нас самих…». Левко вычитал это когда-то у Стендаля, и фраза засела у него в голове. «В нас самих…» А если в нас самих, то, выходит, мы сами можем его и преодолеть! Конечно, не бояться смерти — очень высокое искусство, и владеет им далеко не каждый. И менее всего самые большие жизнелюбы. К сожалению, очень часто открывается оно именно перед тем, кто уже не дорожит жизнью. Или вот как и ему, старшине Левку Невкыпилому, постигшему неизбежность, окончательную, неотвратимую свою обреченность. Ну что же, спасибо, что оно, это искусство, открывается — собственно, уже открылось! — ему хотя бы и таким вот образом!
Ему заламывают руки назад и снова крепко связывают. Кто-то там берет конец веревки и слегка дергает. Левку кажется, что это может быть тот высокий, с глуховатым баском. Подвижный спрашивает, не хочет ли он в последний раз что-нибудь сказать. — Я хочу, чтобы вы запомнили: я советский парашютист. Моя фамилия Невкыпилый Лев Никанорович. Отец — Никанор Петрович, до войны жил… — А что-нибудь другое ты не хочешь сказать? — прерывает его голос Подвижного. — Правда могла бы еще кое-что изменить: кто послал? Кто выдает вам подпольщиков? Кого и чего искал ты здесь? — Нет… все… — тихо подытоживает Левко. — Тогда действительно все!.. Слушать приказ, не оглядываться… Ведите! Оказывается, ведут его вовсе не по тем ступенькам, которые все время маячили перед его глазами, поднимаясь куда-то вверх, в темноту. Перед ним чья-то нога отодвигает снопик соломы, и в полу у самой стены открывается узенький, освещенный снизу слабеньким лучом лаз. Высокий (а это, оказывается, в самом деле он) слегка дергает за веревку и толкает Левка в плечо: — Давай… Ногами вперед. Туда, вниз. Левко осторожно, послушно опускает в лаз левую ногу, нащупывает ступеньку и тогда уже смелее ставит рядом с левой и правую. Ага! Так вот какое дело! Вот где, выходит, они скрывались! Хотя могли прятаться и там, в темной глубине верхних ступенек. Ступенька за ступенькой по узкой щели (в одну стену упираешься спиной, а противоположной касаешься носом) протискивается Левко куда-то вниз, в какое-то подземное царство. На глубине человеческого роста внизу, еле-еле освещенный, теряется в сумраке настоящий подземный ход. Этакая узенькая пещера, вдоль которой, согнувшись почти вдвое, может пройти человек. Шагов через десять в неглубокой нише — лампа, источник того слабого луча. — Вперед! — командует глуховатый басок. Левко продвигается, сгорбившись, вдоль стены. Путешествие это для него особенно тяжкое, даже унизительное. И бесконечно длинное. Хотя успел он сделать не более двадцати шагов. Под ногами скользко. Чем дальше, тем все ощутимее. Склизкое болотце, слякоть, потом вода… Впереди серое светлое пятно. — Не останавливаться! — команда за спиной. Под сапогами хлюпает вода. По щиколотки, выше, вот уже почти вровень с верхом голенищ. — Не останавливаться! Впереди все больше проясняется, светлеет. И вот уже можно догадаться, что там отверстие, а свет естественный, дневной свет, хотя и какой-то тусклый. Вода, поднявшись вровень с голенищами, так и держится на одном уровне. Дно твердое, песчаное. Еще несколько шагов и… Левко наконец выпрямляет спину и невольно останавливается… Справа и слева от него густой стеной стоит высокий камыш. Полузалитый водой вход в подземный лаз маскируется этим камышом почти наглухо. Перед глазами ровная, черная гладь лесного озера. Того самого озера… Над озером клубами серой ваты низкий бесцветный туман. Прямо из тумана — крутой противоположный берег. Темная зелень осоки и камышей, густые заросли лозняка, зеленые кудрявые купы дубняка и темно-голубое, чистое, рассветное небо. Ослепленный утренним светом, Левко плотно смежает веки и глубоко, полной грудью вдыхает живительную смесь по-особенному сейчас острых, неповторимо ароматных лесных запахов… — Не останавливаться! — рывок за веревку. — Не оглядываться!.. Может, все-таки завязать ему глаза? — Да… пускай уж! — Налево и прямо вдоль берега! Еще два-три десятка шагов по колено в холодной утренней воде, мимо камышей, через осоку, пробираясь в водяных лилиях, под нависшим над самой водой шатром вербовых ветвей. Потом еле заметная в лесных зарослях узенькая тропинка. Спускаясь с пригорка, она срывается прямо в воду. — Налево. На тропинку. Прямо, по тропинке. Не оглядываться! …Не оглядываться!.. Не оглядываться!.. Ни дуновения ветерка, ни малейшего шума. Спят деревья, травы, спят вода и воздух, спят птицы. Или же только притаились в ожидании близкого уже солнца… Над самой водой — куст калины, весь в гроздьях покрасневших ягод. Сомкнулись над тропинкой ветви буйнолистного орешника. Почти в рост человека вымахали папоротники, побеги бузины. Колючая ежевика с синими, будто бы повитыми туманцем, ягодками густо заплела длинными колючими плетями темный ивняк. …Не оглядываться!.. Не оглядываться!.. Узенькая тропинка крутыми витками продирается среди кустов куда-то вверх… Шагает по этой тропинке Левко Невкыпилый. Мягко ложатся ему на плечи шершаво-холодные лапы орешника, касаются щек, скатываются за воротник холодные тяжелые шарики росы. Лес тихий, окутанный утренним сном, весь в серебристо-синей измороси… Вот-вот под первым, несмелым еще солнечным лучиком заискрится, заиграет это синеватое серебро мириадами золотых огоньков, засияет всеми цветами радуги… Вот только успеет ли увидеть все это старшина Невкыпилый?.. …Идти прямо… Не оглядываться!.. Он идет, так и не видя своих конвоиров, так и не взглянув в лица своим друзьям-врагам, которые провожают его сквозь эту лесную сказку в последний далекий путь. Такой далекий, что из него никому и никогда не было возврата. Правда все это или только мерещится ему? Неужели это он, Левко Невкыпилый, старшина Невкыпилый, Лев Никанорович Невкыпилый (он любил и настаивал, чтобы называли его именно так — Лев!), полный сил, молодости, энергии, желаний, надежд и планов, идет по этой сказочной тропинке для того, чтобы всего лишь через несколько шагов превратиться в ничто?! Он, наполненный горячим трепетом жизни! Человек, в сознании которого может вместиться вся необозримая вселенная! Он, кто был уже студентом, читал Толстого и Шевченко, знал наизусть огромное множество чудеснейших стихов, изучал философские системы и строение атома, постиг величие и бесконечность невидимых миров! И виноват, наверное, в этом ужасном, что с ним сейчас происходит, он сам. Только он! Чего-то недосмотрел, чего-то недодумал. Где-то в чем-то не так повел себя. Перехитрил, выходит, самого себя… …Не оглядываться!.. Не оглядываться!.. И самое бессмысленное, самое невероятное, что все отнимут у него свои, родные люди, ради которых он не жалел даже самого дорогого — жизни! Как это по-настоящему страшно, когда — свои. Нет, вероятно, ничего страшнее, ничего трагичнее. Но не нужно, не нужно… Страх, он, оказывается, в нас самих. И не бояться смерти — великое искусство. Быть может, самое великое и самое страшное из искусств! …Не оглядываться!.. Не оглядываться!.. А так ведь хотелось бы дожить до нашей победы! Только бы до победы! Страшно даже подумать, что он не доживет до этого времени, не увидит и не почувствует победы! Нашей! Его победы!.. …Не оглядываться!.. Не оглядываться!
Лейтенант Парфен Замковой
Ночь лунная. Небо звездное, чистое. А внизу — бездонная темнота. Летишь — и не знаешь, когда, куда и как долетишь. Нужно подготовиться к приземлению, а определить приземление можно лишь приблизительно. Что там внизу, под ногами? Где-то сбоку, под необычайно большим, густо-малиновым шаром луны, сверкнули и сразу же исчезли из глаз какие-то костры. Мелькнули, и сразу же что-то заслонило их… Куда он падает? Сильный, неожиданно острый удар снизу в левую подошву так, будто кто-то выстрелил с земли и пуля прошила все тело до самого темени. Левую ногу сразу же перестал ощущать. Правая же как будто все еще летела в пропасть. Успел еще понять, что резко заваливается на правый бок. На какое-то время потерял сознание. Сколько это длилось, не мог бы сказать даже приблизительно. Однако, вероятно, не особенно долго. Хотя бы потому, что, опомнившись, увидел: стоит над ним все та же луна, только вроде бы еще огромнее, еще багровее. Инстинктивно рванул левую руку (хотел взглянуть на часы), и сразу же в глазах потемнело от нового, невыносимого приступа боли, которая остро отдалась где-то в надбровье. Пока преодолел эту боль, прошло много долгих мгновений. Потом попытался хоть как-то сориентироваться. Вокруг невысокие, в человеческий рост, редкие кусты и старые, потемневшие пеньки. Поблизости от Парфена таких высоких пней пять или шесть. Именно на одном из них он вывихнул, а может, и сломал ногу. Теперь лежит на боку, заломив под себя левую руку, запутавшись в стропах парашюта. Под боком, врезаясь в ребра, жестко, неприятно давит граната или пистолет. Пошевельнуться боязно. Каждое движение причиняет такую боль, что от нее мутится в голове, а перед глазами вспыхивают ослепительные искры. Однако нужно что-то предпринять. Хотя бы замаскировать парашют. Ведь он так откровенно белеет, так нахально светится, распластавшись на кустах! Перемогая боль, слабость, горечь неудачи, пересиливая самого себя, Парфен все-таки высвобождает левую руку, правой достает из кобуры пистолет. Потом из кармана — гранату и, заняв таким образом «круговую оборону», затихает и прислушивается. Ночь стоит беззвучная, будто завороженная призрачным, угасающим уже светом полной луны. Вокруг темные кусты и мертвые пни. Вверху жуткая звездная пустота. Ощущение такое, будто на всей планете, кроме него, комиссара партизанской десантной группы лейтенанта Парфена Замкового, нет ни единой души. Однако свои-то, наверное, должны все-таки быть где-то поблизости! Быть может, стоит лишь подать голос, и товарищи сразу же поспешат на помощь? Свисток из нагрудного кармана достать не так уж сложно. Парфен зажимает его губами: «Пить-пить!» Короткая пауза, и снова: «Пить-пить!» Потом умолкает и ждет ответа. Ни единого звука, ни шелеста. Вокруг все мертво, притаилось, словно заколдованное. А время не ждет. Ночь, какой бы она ни была, идет на убыль. Пускай и заколдованная, пускай и неслышно, незаметно, а все-таки с каждым мигом уплывает она в вечность, приближая утро… Утро, которое не должно захватить его врасплох! Он обязан перебороть обстоятельства, помочь самому себе, во что бы то ни стало выйти из этого страшного положения! А покамест еще раз: «Пить-пить! Пить-пить!» Тишина, пустота, безлюдье.И все же Парфен Замковой здесь не один! Сразу же, как только в звездном чистом небе раскрылся таинственный белый цветок парашюта и стал приближаться к темной земле, три пары глаз зачарованно, испуганно, с восторгом следили за ним. Следили, пока не увял он, опадая мягкими белыми волнами на темные кусты.
Аполлон Стреха, Тимко Цвиркун и Марко Окунь, остолбенев от удивления, плотно прижавшись друг к другу, сидели на гребне косогора и смотрели на белый купол парашюта, как на чудо, как на что-то сверхъестественное даже и в такую, далеко не обычную, страшную ночь. Вот уже почти два года с нетерпением ждали они встречи с чудом: с Калашником, с настоящим подпольщиком из «Молнии», с рейдовым отрядом Наумова, который, был слух, прошел поблизости где-то в марте, с советским разведчиком-парашютистом, с каким-то загадочным самолетом «оттуда»… Ждали они долго, упорно, терпеливо, хотя терпение их уже иссякало и в конце концов начало лопаться… И вот… именно тогда, когда они меньше всего ожидали этого, когда вовсе и не думали об этом, озабоченные делами более земными, значительно более сложными и опасными, чем те, которые возникали в их героических детских мечтах, чудо свершилось! Хлопцы даже растерялись, не зная, как к этому отнестись, с чего начинать и что же делать с этим долгожданным «чудом», которое объявилось вот здесь, в зарослях орешника, клена и шиповника, в зарослях бывшей Карапышевой левады, всего в каких-нибудь двух-трех десятках шагов от них! К чести «великих конспираторов» из седьмого «А»,следует сказать, что свое «чудо» они заработали честно. И не только терпеливым, почти двухлетним ожиданием. Нет, потому что ждали они активно, желая встретить его не с пустыми руками. Горячее желание «чуда» и вместе с тем желание действовать появилось у них давно, у всех троих сразу, еще в ноябре сорок первого на терногородской дороге. По этой дороге, осенней, болотистой, как раз на Октябрьские праздники немцы куда-то перегоняли пленных из Терногородского концлагеря. Быть может, в Новые Байраки, быть может, еще куда… А они втроем стояли в толпе женщин возле мостика в Жабовом. Пришли туда за пять километров, чтобы передать хотя бы узелок сухарей голодным, а может, и спасти кого-нибудь из своих или «чужих», все равно… Одним словом, мало ли что могло случиться! Ведь отцы и Марка и Тимка с самого начала войны служили в Красной Армии, где-то, может, неподалеку воевали… Своих отцов среди пленных они, к счастью, не встретили, а сухарей голодным так и не смогли передать. Вместо этого хлопцы увидели такое, чего не забудут всю свою жизнь, о чем люди потом с ужасом будут рассказывать друг другу по всей области… Они собственными глазами увидели, как гитлеровский фельдфебель убил человека. Пристрелил в упор, в спину, обессилевшего красноармейца… Добил и, как потом выяснилось, еще живого столкнул с мостика в речку сапогами и прикладом винтовки… Через несколько минут красноармеец вдруг поднялся из воды, ловя руками воздух, ища, за что бы ухватиться. И фельдфебель опять стрелял и не мог попасть, а потом подбежал к берегу и бил красноармейца по рукам и по голове прикладом… Именно в ту минуту мальчишки почувствовали: произошло что-то невероятное, и не только тут, на жабовском мостике. Почувствовали, что так вот просто, как до сих пор, ни они, ни никто другой жить уже не смогут… Что жизнь вдруг перевернулась, стала невыносимой и что они сразу, в один лишь миг стали взрослыми. И должны что-то делать, что определило бы теперь их новое место в жизни, оправдало бы их существование в этом мире… Было им тогда, если разделить поровну, по тринадцать лет. Только самому щуплому — Аполлону Стрехе — перевалило уже три месяца на четырнадцатый. Высокому круглолицему Тимку Цвиркуну исполнилось ровно тринадцать, а Марко Окунь не дотянул до «юбилея» около трех месяцев. Жили они по-соседски в одном конце Солдатского поселка. Все трое — единственные сыновья. Аполлон Стреха — без отца, Тимко Цвиркун — без матери. И лишь у Марка Окуня до самого начала войны были и отец, и мама, и даже две бабушки. Аполлон своего отца не помнил. Был батька командиром-пограничником. И погиб где-то на границе в стычке с бандой, когда сыну не было еще трех лет. Мать после этого возвратилась в родное село. Работала в аптеке. Сына любила без меры. И это опостылевшее мальчику, необычное в селе имя Аполлон дала ему именно она. Мать Тимка умерла в больнице во время тяжелой операции за два года до войны. Отец его — тракторист, так же как и отец Марка. Оба пошли в Красную Армию еще в июне сорок первого года. И теперь Марко и Аполлон жили при матерях, а Тимко — при старенькой бабушке. В школу их отвели вместе. С первого же дня они и там по-соседски устроились все втроем на одной скамье. И учительница Людмила Потаповна так и не смогла их рассадить… Держались все время своей группкой, обособленно, за что уже в четвертом классе приклеили им прозвище «великие конспираторы». Весной сорок первого все трое перешли в седьмой класс. Но учиться дальше им уже не довелось. И кто знает, доведется ли вообще.
Сразу же после той страшной сцены у жабовского моста появилась надежда на желанное «чудо». Появилась уверенность, что вскоре в их жизни что-то изменится. Они найдут нужных людей, которым будут помогать, вместе с которыми будут бороться с оккупантами. Как-то в декабре Аполлон Стреха принес и показал друзьям листовку: «Товарищи, не верьте лживой фашистской пропаганде!..» Подпись под листовкой была странная и чуточку загадочная: «Молния». А из самого содержания можно было догадаться, что выпустил листовку кто-то здешний, что действует в их местах какая-то «Молния». И что, ежели по-настоящему захотеть, можно эту «Молнию» разыскать. Хлопцы стали настойчиво готовиться к встрече и упорно разыскивать тропинки к «Молнии». Зимой в бывшем помещении сельского Совета, от которого остались одни обгоревшие стены, они обнаружили в завале и потом перепрятали в более надежное место четыре ведра винтовочных патронов и целехонькую пулеметную ленту. Позднее добыли еще две гранаты-«лимонки» с детонаторами, ящик взрывчатки, похожей на мыло, и даже пистолет ТТ. Его они выкрали на той же терногородской дороге у смертельно пьяного жабовского полицая, который уснул в кювете. Однако шли дни, недели, месяцы. Промелькнул год, а «Молния» так и оставалась для них недостижимой. Такая досада! Если бы ее не было! А то ведь действовала! Безусловно действовала! Ведь в последнее время, точно так же, как в сорок первом о Калашнике, только и говорят повсюду о «Молнии» да о ее делах!.. А вот ребятам почему-то никто из этой «Молнии» не встретился. Не хотят связываться? Обходят? Быть может, даже остерегаются? Но почему же? Потому, что Аполлонова мама работает в аптеке?.. Как-никак, а теперь и аптека словно бы немецкая и для немцев! Кто его знает! А время, хотя и невыносимо медленно, все же шло себе да шло. Дожили наконец и до великой победы под Сталинградом. И хотя ребята нигде не могли об этом прочесть, все-таки слух о радостном событии докатился и до них. Невидимой, но могучей волной прокатился этот слух по всей оккупированной земле. Стало быть, скорее уже можно было надеяться на встречу с Красной Армией, чем на какое-либо другое «чудо» — на «Молнию», разведчиков или подпольщиков. А все-таки хлопцы надежды не теряли. Жили незаметно, как и все. Хлопотали дома на огородах, помогая матерям и бабушке, выходили работать на «общественное хозяйство», унося оттуда с немалым риском все, что под руку попадется: зерно — так зерно, а нет зерна, то подсолнух, кукурузу. Если не было и этого, хоть немного свеклы. С особенной старательностью разыскивали и собирали на зиму скупое степное топливо. Однажды, насыпав песок в подшипники, вывели из строя комбайн. Потом, когда гитлеровцы вывозили зерно на станцию, прокололи камеры у трех машин. А как-то ночью, перед тем как должны были угонять в Германию очередную группу девчат и парней, обошли до утра все хозяйства, все дворы и ото всех, какие были, телег пооткручивали с колес и припрятали гайки… Молодежь собирали и отправляли в Германию уже не раз и не два. И вот совершенно незаметно дошла очередь и до них. Никто этого не ожидал, когда вдруг забегали по дворам полицаи, приказывая второго августа собираться в сельуправе всем шестнадцати- и пятнадцатилетним. Правда, был это уже не сорок первый, и не сорок второй, и даже не начало сорок третьего года, — поэтому в срок не явилась в сельуправу ни одна живая душа. На следующий день после повторных угроз пришло в разное время человек десять. Покрутились, повертелись, а тут и вечер наступил. Куда же на ночь глядя? На третий день к обеду согнали к сельуправе уже порядочно ребят. С мамами, бабушками и дедушками. И с котомками. Даже несколько подвод уже подъехало. Стоял на выгоне напротив бывшей церкви шум, плач, крики. Вертелись полицаи, с кем-то переругивался староста: оказывается, с лошадьми была неувязка. Суетились, хлопотали до самого вечера, и снова никто никуда не выехал. Еще и потому, что теперь, в августе сорок третьего, и полицай, и староста пошел не тот. Теперь старосты и полицаи были напуганными и растерянными. И никого никуда, как это было раньше, не торопили. Да и сами не торопились. На четвертый день налетел в Солдатский поселок сам шеф районного жандармского поста из Новых Байраков Бухман. Прихватил с собой нескольких немцев и свору свеженьких, бежавших из-за Днепра полицаев. Сразу же «закрутил» все гайки, пригрозил кому расстрелом, а кому виселицей, некоторых избил. Навел, одним словом, порядок. Всех детей, которых успели согнать, закрыл на замок в сельуправе. Вместе с ними загнал туда же и кое-кого из родителей, которые успели своих ребят припрятать, и только под вечер вскочил в машину и помчался назад, в Новые Байраки. Отъехал недалеко, каких-нибудь два-три километра за Жабово, и… неожиданно уже в сумерках возвратился в Солдатский поселок. Вихрем ворвался в тихое, никем не предупрежденное село. Полицаи и гитлеровцы окружили весь центр, вытолкали, выгнали из домов всех, кто в чем был, и тогда Бухман приказал своим поджигать дома. Улица, подожженная сразу в нескольких местах, запылала. А смертельно напуганные люди, окруженные полицаями, сбились у колодца, недоумевая, за что на них такая напасть, почему так беснуются оккупанты.
Знали об этом, по крайней мере в первый час после облавы, изо всего села только трое: Аполлон Стреха, Тимко Цвиркун и Марко Окунь. Что очередь может дойти и до них, если не подоспеет к тому времени Красная Армия, хлопцы, конечно, допускали. Однако о том, чтобы их угнали в Германию, не могло быть и речи. А чтобы они оказались хитрей, нужно было подготовиться и встретить опасность во всеоружии. Главным у них во всем был самый маленький ростом, неказистый Аполлон Стреха. Он и внес очень уместное предложение — окопаться, соорудить такое тайное укрытие, чтобы их днем с огнем никто не нашел. Ну, а место подходящее разыскали уже сообща. Подошла для тайника бывшая Карапышева левада, крутой, некогда засаженный редким дубняком и кленами косогор над речушкой. Дубы и клены давным-давно, еще до войны, украдкой и на скорую руку были вырублены. Остались высокие почерневшие пни и обломанные скотиной кусты. Обыкновенная непригодная для пахоты земля, «неудобь», до черноты выбитый скотом выпас, который теперь уже называли просто тырлом, совсем забыв, что когда-то был он, особенно там, внизу у речушки, возле глубокого оврага, и в самом деле зеленой левадой. Овраг, узкий и глубокий, размытый талыми водами, быть может, за многие сотни лет, делил леваду надвое. Снизу, от речушки, переходя с бугра на бугор, окаймлял ее вырытый в сорок первом противотанковый ров. Копать свое укрытие хлопцы решили именно в этом овраге, в нескольких метрах от крутого обрыва. Как раз среди кустов шиповника, в зарослях чертополоха и полыни. Копали по ночам, когда в эти пустынные места не то что гитлеровца, и собаку калачом не заманишь. Копали не торопясь, наперед зная, что осуществить задуманное будет нелегко. Поклявшись страшной клятвой никому никогда не выдавать своей тайны, копали с начала мая и чуть ли не до середины июля. Сначала — небольшой колодец, вглубь метров на шесть. На дне этот колодец расширили, сделали более просторным и начали долбить узенький лаз в сторону, к обрыву. Копать, лежа на животе в тесной штольне, не имея возможности повернуться, мог лишь один человек. Они сменяли друг друга. Пока один долбил твердую глину, орудуя коротенькой саперной лопатой, двое других вытаскивали землю ведрами и рассыпали в противотанковом рву… Продвигалось дело крайне медленно. К тому же копать имели возможность не каждую ночь. Случалось, работали только двое, а иногда и кто-нибудь один. И все же незаметно дело подвигалось… Колодец углублялся быстрее, рыть его было все удобнее. Боковая штольня в твердой, спрессованной глине особенно трудно поддавалась. Иногда бывали такие минуты, когда Марко или Тимко теряли терпение. Только Аполлон с настойчивостью и упорством, которые ни разу не изменили ему, не отступал. — Как хотите, — говорил он товарищам в трудные минуты. — Бросите, все равно буду рыть один! Штольню — боковой выход из колодца к обрыву — до самого конца не докопали. Старательно измерив, оставили слой глины с полметра толщиной. В случае необходимости его можно было пробить несколькими ударами лопаты и незаметно выбраться в овраг через узенькое отверстие. Верхний лаз колодца маскировали дерном в старой деревянной бадье. Бадью «утопили» вровень с землей. Дерн в ней время от времени поливали, чтобы трава ничем не отличалась от окружающей. Потом, когда закончили возню с колодцем и штольней и начали расширять подземную пещеру, дело пошло веселее. В июле просторная, с широким лежаком-завалинкой вдоль стены пещера была уже вполне закончена. В ней могли стоять почти во весь рост, сидеть и лежать несколько человек. Закончив рытье подземелья, хлопцы перенесли туда набитые соломой мешки, старые дерюжки, две бутылки растительного масла, каганец, все наличное оружие и уже более или менее спокойно ожидали дальнейших событий. Во избежание риска Аполлон приказал товарищам всегда иметь при себе тертый табак. — А это еще зачем? — удивился недогадливый Марко, зная, что никто из его товарищей еще не брал цигарки в рот. — Голова! — презрительно процедил сквозь зубы Аполлон. — А про собак забыл? Посыпь каждый раз здесь вот, вокруг ямы, ни одна тебе овчарка след не возьмет!..
…Но перед этим была еще история с миной, с небольшой магнитной миной с часовым механизмом. Несколько ящиков таких мин везли на машине на фронт трое молодых гитлеровских солдат. Заночевали в Солдатском поселке у близких соседей Аполлона Вергунов, напротив, через улицу. Остановились они там еще засветло. Вели себя более или менее пристойно. Хотя и пристрелили последнюю на подворье у Вергунов курицу, но потом навязывали все же старой Вергунихе свои не «ост», а настоящие рейхсмарки и целых два куска мыла. От денег Вергуниха отказалась, а мыло, поколебавшись, взяла. Немцы приказали тогда старухе достать еще и шнапс-самогон, а курицу зажарить. Шнапс откуда-то принес немцам двенадцатилетний Вергунихин внук Микола. Оказалось сразу же, что этого шнапса завоевателям мало. Выпив его, они снова достали из машины, сбросив на траву какие-то ящики, мыло и снова послали хлопца за шнапсом. Выпили прямо во дворе, сидя на деревянных ящиках. Громко разговаривали, быстро пьянея, пытались заводить песни, на всю улицу хохотали. Уже перед заходом солнца к Аполлону забежал Тимко, и они, присмотревшись к этим немцам, решили на всякий случай подойти поближе. Ведь можно услышать или увидеть что-нибудь интересное, нужное! Опьяневшие немцы встретили «кляйн польшевик партизан», как они говорили, весьма приветливо. Хохотали, хвастались, кого-то бранили, предлагали мальчикам сигареты и шнапс и все допытывались о каких-то «гут русише фройляйн»… Так и не объяснившись с «туземцами», ржали еще громче. Потом тыкали хлопцам под нос мыло. Белое и непривычно зернистое, будто из глины. А один, со шрамом через всю щеку, тот, который более твердо держался на ногах, достал из ящика, на котором сидел, какой-то металлический предмет. — Пиф-паф! — ткнул Тимку под нос и расхохотался на все подворье. — Рус Иван бу-бу-бух! Тимко отпрянул и тем еще больше развеселил немцев. Аполлон же, сразу сообразив, что это мина, начал присматриваться к ней внимательнее. Немцу это почему-то неожиданно понравилось, и он принялся даже рассказывать, где тут что следует подкрутить и как эту мину устанавливать. Объяснений его Аполлон почти совсем не понял, а вот что это за мина, скумекал. Тем более что слышал уже о таких минах и раньше. Немец поиграл с миной и потом, когда игра эта ему надоела, сунул куда-то позади себя за ящик… Когда немцы, переночевав, на рассвете тронулись дальше, одной мины (если бы захотели проверить) они не досчитались бы. Возвращаясь домой от Вергунов, ее прихватил с собой на всякий случай Аполлон. Прихватил просто так, на всякий случай. Прихватил потому, что «плохо лежала», не зная еще, не думая наперед, зачем она ему и что он с нею будет делать. Спрятал в лопухах под каменным фундаментом аптечного домика. И некоторое время о ней и не вспоминал. …В тот день, когда налетел на село новобайрацкий жандарм, Аполлонова мама посоветовала ему немедленно скрыться с глаз, пока все затихнет. Невысокая, сухощавая, с большими грустными темными глазами на бледном лице, она была болезненной. А в тот момент, когда стояла на крыльце, запирая на замок аптеку, показалась сыну какой-то особенно бледной и утомленной. У Аполлона даже сердце непривычно сжалось от жалости к маме. Но он, конечно, и виду не подал. А мама постояла на крыльце, прислушалась к шуму на улице и потом словно бы между прочим сказала: — Если бы не жандармы, «наши» тут ни за что вас теперь трогать не посмели бы. Посуетились бы вот так некоторое время, да все и затихло бы… Красная Армия, говорят, уже к Днепру подходит… И именно тогда Аполлон вдруг вспомнил о своей мине… Мамин совет он выполнил лишь наполовину. На глаза никому не попадался. Но из села никуда не ушел. Все слонялся за заборами, по садам и огородам, поблизости от подворья сельского старосты… А в удобный момент, когда жандарм со всеми своими немцами, умаявшись наконец, зашел к старосте на поздний обед, Аполлон быстро сунул мину в его автомобиль, прямо к шоферу под сиденье… Взрыв хотя и произошел, да пострадал не жандарм, а всего лишь шофер, как потом выяснилось. А Бухман только лишь рассвирепел пуще прежнего.
И теперь вот, среди тихой ночи, захваченное врасплох, его родное село, его Солдатский поселок, вспыхнуло, взорвалось огнем и горит, как сухая щепка. И неизвестно еще, что с людьми будет… Они — Марко, Тимко и Аполлон — все трое, как всегда, начеку, выскочили из села и легко и беспрепятственно. Сидят теперь на пригорке под шиповником рядом со своим надежным укрытием. Сидят, еще не зная толком, что же там случилось. Почему уцелел жандарм? Чем же это закончится? И как бы получше обо всем разведать? Сидят, тревожатся за родных, ничего еще не зная об убитом шофере, вовсе и не подозревая, что о сожженной жандармской машине мгновенными кругами, будто волны по воде, расходятся всякие слухи и догадки. И что люди, все до одного, кто только узнал об этом, поступок Аполлона приписывают «Молнии». Той самой «Молнии», встречи с которой хлопцы так долго ждут, будто счастья какого или чуда! Ждут, даже и не подозревая, что сами уже становятся легендой и чудом… И что вообще «чудо», которого они так ждали, уже здесь, с ними, совсем рядом, расцветает над головами в ночном звездном небе белым колокольчиком гигантского ландыша. Лунная августовская ночь в степи. Глухая степная балка. Вокруг — полно немцев и полицаев. Фронт, вероятно, за тысячу километров отсюда. Гитлеровцы подожгли твое село. Сам ты, спасаясь от неволи, а то и от смерти, притаился на гребне косогора, под ненадежными редкими кустами. Ночь. Безлюдье. Тишина, звездное небо. И вдруг в этом звездном небе, прямо у тебя над головой, раскрытый парашют! Откуда? Как? Ведь перед тем — ни малейшего звука, даже намека на шум самолета! Или, быть может, им было просто не до того?.. Но как бы там ни было, видение это потрясло хлопцев своей невероятностью, неожиданностью. Первым заметил в небе раскрытый парашют Аполлон Стреха. Он даже глазам своим не поверил. Только подумал испуганно: «Что это со мною?! Задремал или спятил?» Быстро-быстро замигал глазами, но видение не исчезло. Попытался заговорить, но, как это бывает в кошмарном сне, горло ему сдавило, а губы стали сухими и непослушными. Он только и смог, что расставить остренькие локти (сидел посредине) и слегка, осторожно, будто за ним мог наблюдать кто-то невидимый, толкнул товарищей. Цвиркун и Окунь, неизвестно почему, правильно поняли этот жест, подняли глаза к небу. И сразу же заприметили то, что первым увидел Аполлон. Инстинктивно теснее прижались друг к другу и втянули головы в плечи. Парашют с темным пятном под белым куполом стремительно и неудержимо летел прямо на них. А они, как завороженные, сидели неподвижно и оцепенело. Они были так потрясены, что, вероятно, продолжали бы сидеть на месте, даже если бы парашют и в самом деле шлепнулся прямехонько им на головы… Лишь после того, как между ними и луной промелькнула темная тень, все трое, словно по команде, зажмурились… В лицо дохнуло легким ветерком. Прошелестели, будто спросонок, кусты неподалеку. Что-то тяжело, глухо ударилось о землю и… все вокруг снова замерло, затихло. Веря и не веря, Аполлон робко раскрывает глаза, осторожно осматривается по сторонам… Лица товарищей в лунном свете непривычно бледные, чуточку даже зеленоватые. Глаза расширены, и в них тревожные искорки. Тишина. Степь. Чистое, звездное небо. Будто минутой раньше вовсе ничего не случилось. Но ведь что-то все-таки было: шум, ветерок, шелест! Подавляя острый холодок испуга и неуверенности, все трое одновременно искоса смотрят в сторону, осторожно направляя взгляд вниз. Смотрят, боясь натолкнуться на что-то страшное. Видят все те же привычные, замершие кусты. Только на кустах, на их черной поверхности, застыло невероятно белое волнистое пятно. Между тем первым, потрясающим, и следующим мгновением, когда (по крайней мере, так им показалось) шевельнулся край белого полотнища, прошла, кажется, целая жизнь. Полотнище шевельнулось бесшумно, одним краешком и снова замерло. Они сидели еще довольно долго. Снизу, из кустов, донесся пронзивший их еле слышный, скорее угаданный, чем услышанный, вздох-стон… — Хлопцы, а что… — сказал Аполлон робко, дернув правым плечом, будто сбрасывая с себя оцепенение. — …если там наш! — закончил за него Марко тоже еле слышным шепотом. — А кто же еще! — вдруг, будто его разбудил этот шепот, встрепенулся и Тимко. — Может, человек там сильно ударился или… — произнес Марко. — … получил ранение и нуждается в помощи, — докончил Тимко. — А мы тут!.. — резко, уверенно, как будто это и не он сидел здесь в оцепенении еще минуту назад, вскочил на ноги Аполлон. Из-под ноги у него сорвался комок сухой земли. Совсем маленький. Сорвался и зашуршал по косогору в сухом бурьяне. В другой раз, возможно, никто бы этого и не услышал, но теперь, в напряженной и таинственной тишине, звук этот прогремел настоящим громом…
Услышав этот неожиданный шорох, Парфен Замковой, понимая, что он с парашютом все равно виден отовсюду, громко предупреждает: — Не подходить! Стрелять буду. Шорох обрывается, затихает и больше не повторяется. Парфен, держа пистолет в руке, минуту выжидает, закусив губу, пересиливая боль. Не дождавшись отклика на свое предупреждение, допуская, что шорох, быть может, исходит вовсе не от человека, на всякий случай еще раз произносит твердым и на редкость ровным голосом: — …Почему ты прячешься? Я знаю, что здесь кто-то есть! Кто?! И, к величайшему своему удивлению, сразу же слышит в ответ: — Дядя, не стреляйте, это мы! Голос мальчишеский, ломкий, но страха в нем вроде бы нет, только волнение. Кажется, даже радость. Вот так оказия! Не хватало сейчас только детей! Откуда они здесь взялись? Или, вернее, куда это он так неудачно (а может, и удачно?) приземлился? — Кто же вы такие? — Стреха, Цвиркун и Окунь! — поспешно, как когда-то в школе, отвечает Аполлон. — Гм… — довольно растерянно резюмирует Парфен, не зная, как ему с этими цвиркунами [14] быть дальше. — А сколько же вас? — спрашивает просто так, лишь бы выиграть время. — Да трое же!.. — удивленно отвечает все тот же голос. — Гм… тогда так… тогда двое стоят на месте, а один — ко мне! — уже по-военному приказывает Парфен. — Только не вздумайте чего-нибудь!.. Я вас вижу, шутить не буду… Ежели что, не успеете и «мама» сказать. — Да вы ничего не думайте, мы свои! — А чего ж тут думать! Давай сюда. — Сейчас я! — После этого приглушенный короткий шепот и снова громко: — Иду!.. Только вы не стреляйте! Руки у меня пустые. Вот! Смотрите сами. Парфен, конечно, ничего не видит. Он слышит только голос мальчика, шепот, опять голос, а потом шелест. Щуплый, низенький мальчик с острым носиком быстро выныривает из-за куста. Останавливается в двух-трех шагах, освещенный луной. Руки протянул ладонями вперед. В узких темных штанишках, рубашка заправлена за пояс, на голове круглая кепчонка, а из-под нее прядями давно, видно, не подстригавшиеся волосы. Какое-то мгновение молча, внимательно он рассматривает незнакомого человека, который упал к ним прямо с неба. Потом, удовлетворив первое любопытство, тихо спрашивает: — Вы, дядя, с самолета? — С самолета, конечно… Можешь теперь руки опустить. — А самолет наш? — А чей же, ты думал? — Ну… — Вот тебе и «ну»! Зачем же это прыгать сюда кому-нибудь другому, сам подумай. — Оно-то так… Только мы этого самолета почему-то не услышали. Хлопец говорит тихо, глуховато, отдельные буквы произносит чуточку шепеляво, с еле заметным присвистом. — Не прислушивались, вот и не услышали. Высоко шел. А больше никого вы здесь не заметили? — Нет, не видели. А разве?.. — Да… ничего… А вы почему же здесь?.. — А мы — от Германии! — Прячетесь? — Ну да. — И много вас? — Здесь? Трое пока. — Выходит, теперь будем вчетвером. Зови товарищей, чего же… Оружие у вас есть? — Сейчас при себе нет. — Гм… А вообще, выходит, есть? — Вообще, конечно. Без оружия теперь сами знаете! Война!.. Фю-ю-ють!.. Хлопцы, сюда! Они подходят по одному и останавливаются рядом с первым. Один чуть выше шепелявого, в пиджачке, без фуражки. Другой — долговязый, туго обтянутый тесноватым, с короткими рукавами свитером, в изношенной пилотке. Останавливаются и тихо здороваются. Шепелявый, подойдя первым, кажется, только сейчас понял, что человек с неба лежит неподвижно неспроста. Словно бы опомнившись, встревоженно спрашивает: — А с вами, дядя, что? — Да… — по-мальчишески «дакает» Парфен. — С ногой что-то… Оступился на ваших пеньках. — Болит или как? — мгновенно присев на корточки, склонился к его ноге шепелявый. — Да и болит и… Кто его знает! Вывихнул, подвернул, а может, и сломал, — жалуется Парфен, вдруг почувствовав себя с этими мальчишками как с давнишними знакомыми и оттого совсем уже успокоившись. Так, будто он прыгнул в самое что ни на есть безопасное место на всей земле, чуть ли не в дом родной. — Немедленно нужно осмотреть! Которая? — потянулся рукой к сапогу хлопец. — Нет, сначала парашют… Скорее парашют… Сможете вы его где-то тут хотя бы временно припрятать? — Ого! — откликается теперь низким баском долговязый. — Еще и как припрячем! И парашют и вас, если нужно. Так припрячем, что ни одна собака не найдет! Год будут искать и не догадаются!.. Парашют, стало быть, теперь не проблема. Да и вообще, попав после приземления к своим (пускай это всего лишь мальчики, но мальчики местные, сами прячутся от оккупантов), Парфен успокоился. Мальчики пообещали припрятать его так, что ни одна собака не найдет. А это для начала решало многое, давало простор для маневра, возможность выигрыша во времени. Хлопцы эти, его новые друзья, ознакомят Парфена с тем, что происходит вокруг. Они станут его глазами и ушами, его разведкой. Именно они могут скорее всего услышать что-либо о его друзьях-десантниках. А там, чего только не случается, помогут напасть на след местных подпольщиков, а то и связать с партизанами из отряда имени Пархоменко. Дело теперь лишь во времени. Не зная еще даже того, где, в каком месте он находится, Парфен уже верил твердо: дело только во времени! Нужно только как можно категоричнее предупредить хлопцев, взять с них пионерское слово, чтобы они вели себя осторожно, держали язык за зубами. Ну и с ногой… с ногой, надо думать, тоже все будет в порядке. Обычный, хотя и очень болезненный вывих. Надо будет разуться, туго забинтовать ее, приложить холодный компресс, и, глядишь, боль утихнет. Однако все началось именно с ноги. Сразу же после того, как хлопцы на скорую руку свернули парашют, Парфен попытался подняться и… не смог. — Это здесь, совсем недалеко, — подбадривал Аполлон. Но комиссар не мог идти. Малейшее движение отдавалось болью прямо в мозгу. И такой невыносимой, что голова шла кругом. Даже луна в небе испуганно растягивалась гармошкой и прыгала куда-то вниз! Хлопцы попытались поддержать его под руки. Он, мол, будет передвигаться на одной ноге, опираясь на их плечи, один даже сможет поддерживать поврежденную ногу. Но сразу же, как только ребята взяли его за плечи и попытались посадить, Парфена бросило в пот, и он почувствовал, что теряет сознание… Это было уж совсем плохо. Просто позор! Крепкий, закаленный, тренированный лейтенант ведет себя, будто какая-нибудь неврастеничная барышня! Передохнув, Парфен попросил ребят осторожно стянуть с ноги сапог. Однако довольно просторный сапог теперь словно прирос, прикипел к больной ноге. Тогда он велел снять у него с ремня финку и разрезать голенище. Кирзовое голенище поддавалось туго. Операция была нелегкой, болезненной. Выдержал ее Парфен, до крови закусив губу, благодаря одной лишь солдатской гордости. Когда стянули разрезанный до твердого задника сапог, оказалось, что резать нужно еще и штанину… Нога выше щиколотки уже заметно распухла. Острая боль не затихала ни на миг. Парфен попросил ребят взять из мешка два индивидуальных пакета и, не обращая внимания, если он будет стонать или дергаться, туго перебинтовать. Откинувшись на спину, стиснув зубы, выдержал и эту операцию. Да и хлопцы, его спасители, действовали более ловко и толково, чем он ожидал. Аполлон, например — как-никак, а все-таки сын заведующей аптекой, — знал, что в таких случаях нужно было бы применить йод и холодный компресс, но о йоде сейчас и думать было нечего, а бежать по воду далеко, понадобилось бы много времени. Обошлись прохладными листьями сочного степного подорожника. Все это длилось довольно долго. Слишком даже долго, как показалось Парфену. Держался одной лишь мыслью, что множество людей в этой войне и даже в эту минуту испытывают куда более сильные, поистине невыносимые, по-настоящему адские муки. «Что ни говори, — пытался он мысленно перебороть жгучую боль, — мне еще хорошо, совсем хорошо… Мне еще вон как повезло! Мало сказать: повезло! Я просто-таки, как говорится, в рубашке родился!..» Но все же, когда мальчишки обвязали его под мышками стропами парашюта и начали спускать в темный колодец, открывшийся вдруг на ровном, заросшем сухой травой месте, Парфен надолго потерял сознание…
«Что ни говори, а мне в самом деле везет! — подумал Парфен, придя в себя и осмотревшись вокруг. — И вообще, и с этими мальчишками! Это ж только подумать! Попасть в такую неприятность с ногой и вдруг…» Эти дети, это надежное укрытие, которое словно бы специально было приготовлено для него! Мягкая солома, одежда, пища, вода и даже лампа. Настоящая керосиновая лампа, которая вполне прилично освещает каждый угол этой пещеры и лица его новых боевых товарищей. Молодцы хлопцы! Молодцы! И теперь уже ясно, что он сможет довериться им целиком. Парфен, казалось, совсем уже приободрился, настроение у него улучшилось, на душе снова стало надежно, появилась уверенность, что все будет хорошо: он вскоре встретит своих, и задание командования будет выполнено… От этих мыслей даже боль, казалось, чуть затихла… Он лежал на соломе, под головой у него был мешок, тоже набитый соломой. Справа от него на глиняной завалинке сидели хлопцы. Слева светила лампа, бросая желтоватый отблеск на их совсем еще детские лица. Самый маленький только что убрал у него со лба влажную тряпочку, поставил на лежак кружку с водой, и теперь все трое сидят молча. Внимательно, с любопытством посматривают на человека, который упал на них прямо с неба. Оказался этот человек вовсе не дяденькой, а молодым, слишком даже молодым парнем. И это было еще значительней и интересней. При других обстоятельствах они с таким, конечно, были бы просто на «ты», а вот поди же… Парашютист, и отважный какой! Где уж там на «ты». Парфен отпил несколько глотков, передохнул. Еще раз присмотрелся к их сосредоточенным лицам. — Ну что же, партизаны, давайте познакомимся поближе… Это «партизаны» хлопцам явно понравилось. Однако ни один из них и бровью не повел. Их лица так и остались замкнутыми, сурово-сосредоточенными. — Начнем с тебя, — продолжал Парфен, обращаясь к самому высокому и, как ему казалось, самому старшему. — Тебя как зовут? — Тимко, — низким баском прогудел высокий и добавил, сдержанно улыбнувшись: — Тимко Цвиркун. — А тебя? — перевел взгляд на среднего, с вихрастыми, русыми, давно не стриженными волосами. Тот вздернул редкие рыжеватые бровки, отчего личико его с большим ртом и сухими острыми скулами обрело недетски-строгое выражение. Буркнул скупо, коротко: — Марко… Окунь… — А тебя? Самый маленький ростом, который оказался самым старшим и носил фамилию Стреха, насупился, помолчал. Потом было открыл рот и снова крепко стиснул губы. У него, оказывается, не было переднего зуба, и поэтому некоторые слова он произносил с присвистом. — Я к тебе обращаюсь, — повторил Парфен. — А! — дернул плечом Стреха. — Что «а»? — Его Аполлоном зовут, — опередил других высокий, широко и словно бы даже насмешливо улыбаясь. — А!.. — уже по-настоящему сердито буркнул Аполлон. Чувствовалось, что имя это ему совсем не по душе, что причиняет оно ему одни лишь огорчения и что он так и не может простить этого «скверного» имени своей хорошей матери. — Ну почему же? — успокоил его Парфен. — Имя как имя!.. Нормальное. А скажите, хлопцы, это все вы сами вырыли или помогал кто? — Сами. — А как же вы рыли? — Ночами. — А кто еще знает об этом укрытии? — Никто. Только мы втроем. — А долго копали? — Да почти три месяца. — И никто не заметил? — Никто. Мы понемногу. И сразу же все прикрывали. — А матерям что говорили? — А что им говорить? Все равно целое лето ночуем то в степи, то здесь, только не дома. Чтобы, значит, в Германию не захватили внезапно. — А почему к партизанам не ушли? — спросил Парфен, помолчав. — К партизанам? — Аполлон даже свистнул сквозь дырочку в зубах. — Если бы мы знали, где они, эти партизаны! — А что, нет разве партизан? — Есть-то они есть, почему же. А вот только где… — Откуда же вы тогда знаете, что есть? — Ну, как же!.. Всюду только и слышно: «Молния» да «Молния»! Говорить о них говорят повсюду, а вот разыскать — не разыщешь. — А про отряд имени Пархоменко ничего не слыхали? Все трое приумолкли и задумались. — Пархоменко? — переспросил Аполлон. — Нет, что-то не слыхали… Правда, никогда не слыхали… — Ну, как же! А где Каменский лес, знаете?! — Ле-ес? — удивился Аполлон. — Каменский?! Где же это у нас такой лес? — Нет у нас такого леса! — добавил и Марко. — У нас только Подлесненский, Зеленая Брама! И там, говорят, бывали и партизаны из «Молнии». Да вот разве еще «Круглок»? Так там и леса кот наплакал! — закончил Тимко. — Всего десятин восемь! — Постойте! — воскликнул Парфен. — Что-то вы не того. А ну возьмите-ка планшет, карту. И лампу давайте сюда. Ну, вот же он, Каменский лес! — постучал ногтем по зеленому пятну севернее города К. — В самом деле есть такой! — протянул Аполлон, склонив голову, чуть не касаясь острым носиком карты. — Только это вон где!.. — То есть как это «вон где»?! — А так и есть. Километров полтораста отсюда, если не больше. — Ка-ак?! — воскликнул, поднявшись на локоть, Парфен и сразу же упал на спину от боли. — Полтораста километров?! Быть того не может! А мы, по-вашему, сейчас где? — Может, не может, — нахмурился Аполлон, — а только где же нам сейчас еще быть! Вот здесь! И он ткнул тоненьким, с черной каймой грязи под ногтем, розовым пальцем в какую-то точку между Новыми Байраками и Терногородкой… Долго с недоверчивым удивлением смотрел на это место ошарашенный Парфен. «Так это же… так это же… — думал он, вспоминая огромную карту в штабной комнате и разговор у этой карты, — так это же, выходит… „Белое пятно“!» И, обескураженный неожиданным горьким открытием, надолго умолк. После катастрофы с ногой это был второй тяжелый удар. Парфен лежал молча, с закрытыми глазами, тяжелые думы не давали ему покоя: «Как же это так? Как могло случиться такое? И что же теперь делать?» Если бы не нога, он мог бы как-то выйти из положения и сориентироваться. А так? Выходит, их выбросили вовсе не туда, куда нужно, а прямо в самый центр неразведанного «Белого пятна». Да еще и рассеяли бог весть на сколько километров друг от друга. Именно потому и не оказалось тут поблизости никого из своих… Все они, конечно, здоровы. Не каждому же ноги ломать! Каждый в свое время сориентируется и, поняв что к чему, примет единственно правильное решение, станет пробиваться к Каменскому лесу… А он? Он, выходит, так вот и останется, если с ногой что-нибудь серьезное, с этими мальчиками. Не сможет в первое время и весточки своим подать. Единственная надежда — на мальчишек, на то, что рано или поздно, а свяжут они его с кем-нибудь из здешних подпольщиков. А тогда работа для него обязательно найдется. Ведь теперь у каждого честного человека работа одна и самая главпая… И хватает этой работы всюду, где бы ты ни оказался. Связывайся со своими людьми, организуй и действуй!.. — Хлопцы! Послушайте, хлопцы! Стало быть, выходит, что придется вам, друзья, постараться, поработать… Дело очень срочное… Ребята с готовностью ждали его распоряжений. — Нужно, хлопцы, на люди, в разведку. Послушать, присмотреться, разузнать. Обязательно нужно разыскать хотя бы одного нашего парашютиста. Ну и, конечно, хоть кого-нибудь из этой, как вы говорите, «Молнии»… — Гм… — задумался Аполлон. — Конечно же будем искать, — расшифровывает Марко. — День и ночь будем! — прибавляет и Тимко. — И «Молнию», — продолжает Аполлон. — Будем искать и «Молнию». Мы ее вот уже второй год разыскиваем… Будем искать дальше… Но…
Располагая настоящей большой тайной и чувствуя свою ответственность, хлопцы теперь не решались выходить из укрытия днем. Сидели в пещере, изнывали от безделья в темноте, так как лампа пожирала много воздуха и керосина. Ухаживали за больным, кормили, поили, сменяли на ноге холодные компрессы. Перебивая друг друга, поведали со всеми возможными подробностями о том, как хотели угнать их в Германию, как подложил Аполлон новобайрацкому жандарму мину и как тот возвратился в Солдатский поселок, живой и невредимый, не раненный даже, и сжег их село. Они рассказывали, а Парфена грызла досада. Беспокоился, тревожился за судьбу этих неизвестных ему людей из незнакомого села, с которыми, быть может, уже расправились гитлеровцы. А притихшая было боль в ноге снова вспыхнула. Не помогали и компрессы. К ноге нельзя было даже прикоснуться, не то что вытянуть, как это часто делали при вывихе. А вдруг это не просто вывих, а перелом?! Как только в степи начало темнеть, Аполлон и Тимко отправились в разведку. С Парфеном остался Марко. Только сидел он теперь главным образом не в укрытии, а сверху, под шиповником, возле открытого входа. Ночью Парфен не сомкнул глаз. Мучили неизвестность, необычность положения, не давала уснуть нога. Да и нетерпение донимало. Думал: что принесут ему хлопцы из разведки? Ребята вернулись уже под утро. Утомленные, но довольные. Принесли буханку хлеба, корзинку помидоров, кувшин простокваши и сумку яблок и груш. Парфену было не до еды. Его то знобило, то бросало в жар. Потом снова начинало лихорадить, и он натягивал на себя все, что только было в пещере, прикрываясь сверху еще и парашютом. Новостей у ребят было немного, и радости особой разведка не принесла. Всего-навсего один только слушок о том, что где-то на порядочном от этого места расстоянии немцы наткнулись на советский парашют… Подробности неизвестны. Вот и все! А в Солдатском поселке вроде бы затихло. Улица догорела. Людей, продержав до утра возле колодца, «просеяли», отобрали десяток помоложе, а остальных распустили. Отобранных, говорят, погнали в райцентр и держат в тюрьме при полиции. Запертые же в сельуправе ребятишки выбрались ночью через чердак и разбежались кто куда. Их никто уже почему-то и не разыскивал… По всему было видно, что оккупационная власть на глазах распадается. Полицаям и разным старостам уже не до ребят. Не появлялся больше в селе и жандарм. Не хватало у него рук, не хватало сил. Вероятно, были более важные дела в других местах. Все вокруг взбудоражил слух о советских парашютистах. Стало быть, жандарм должен был готовить, снаряжать и выводить в степь облаву. А эта облава напугала всю оккупационную нечисть еще сильнее. Пронесся новый слух о каком-то советском десантном батальоне…
За ночь состояние ноги значительно ухудшилось. Не было и намека на то, что опухоль спадет и боль затихнет. Наоборот, нога подозрительно одеревенела, покрылась сизовато-черным налетом, и опухоль начала подбираться к колену. Усиливался жар. Парфен все время был словно к каком-то тумане, в полубреду. Окружающее воспринимал как сквозь густую сетку. В голове гудело. Порой начинало невыносимо звенеть в ушах… Новости же от хлопцев поступали малоутешительные. В районах вокруг проводились широкие полицейские облавы. Гитлеровцы напуганы и потому хватают каждого, кажущегося им подозрительным… Возле села Жабова (это почти рядом) найден еще один парашют. По всем селам объявлено о вознаграждении тому, кто задержит, убьет советского партизана-парашютиста или хотя бы укажет его местонахождение. И как завершающий удар — потрясающая весть о том, что новобайрацкий староста Макогон задержал и выдал жандармам сразу двух советских парашютистов… Получалось так, что не только с ним, но и со всем десантом, на который возлагалось столько надежд, творилось что-то неладное. А он, комиссар десанта, лежал в пещере. И не мог хоть чем-нибудь помочь ни товарищам, ни самому себе. Правда, у него были его хлопцы. Они его оберегали, поддерживали, кормили и даже пытались как-то лечить. И все же в главном, в самом важном, вот уже третий день не могли помочь ничем. Боль в ноге с каждым часом все нарастала и нарастала. Парфен явно начал ослабевать. Все реже возникали промежутки, когда он мог трезво размышлять, четко воспринимать окружающее. Все чаще впадал в беспамятство, погружаясь в какой-то жаркий, удушливый туман, утрачивая ощущение реального, начинал бредить. Бред причудливо переплетался с действительностью, с окружающим. Мечась в жару, он все настойчивее просил, даже приказывал ребятам разыскать парашютистов, отвести его к Сорочьему озеру, призвать на помощь «Молнию». Приходя в сознание, покрывался по́том, пил воду, спрашивал, нет ли чего нового, а потом снова начинал метаться и говорить что-то такоестрастно-настойчивое и путаное, что у хлопцев даже мороз по коже пробегал. В бреду проходили перед ним события реальные и фантастические. Одни видения посещали его лишь раз и исчезали навсегда, другие повторялись. Часто грезилось ему, будто он летает, широко раскинув руки, свободно и плавно парит высоко в темном, очень синем небе. Под ним широкий, ярко-зеленый простор, вверху — синева неба, он чувствует себя сильным, на душе от ощущения свободного полета восторг и радость. Особенно мучительно было одно видение. Он, Парфен, карабкается, цепляясь пальцами, ногтями, на обрывистую, крутую скалу. Под ним — страшная бездна. Он обязательно должен взобраться по этой почти отвесной стене на далекую вершину. Должен… ибо иначе — смерть… И он карабкается изо всех сил. Знает: единственное спасение — взобраться наверх. Но знает также, что не сможет. Изнемогая от страха, он карабкается, вгрызаясь ногтями в гранит… Страшный миг надвигается неумолимо, руки слабеют, тело начинает сползать вниз… И все же не срывается, не проваливается в бездну, лишь кричит, пугая ребят, и приходит в сознание… Лежит весь в поту, измученный. И сердце в груди стучит так, будто вот-вот разорвется на части… В бреду над ним однажды склонилась мать. Что-то ему говорила, но он, как ни напрягал слух, ни одного слова не разобрал… В другой раз он видел себя правофланговым в первом взводе студенческого батальона, под Черкассами, в лагерях. Шел мимо высокой трибуны. На трибуне стоял, принимая парад, сам комкор. Парфен шагал легко, с радостным ощущением праздничности парада, красоты слаженного строя. Он, Парфен, хоть и некадровый военный, любил четкий солдатский строй, марши. Любил летние армейские лагеря, вообще службу армейскую. Вот и сейчас… Шагая в колонне, он смотрит на невысокого комкора, который поднимает руку к козырьку, готовясь приветствовать их. Но именно в этот миг нога Парфена становится вдруг тяжелой, он сбивается с шага и с ужасом видит, что он, лучший курсант батальона, ломает строй, нарушает торжественность момента… Парад в Черкассах сменяется маршем по заснеженной улице приволжского города, в котором после Сталинградской битвы и первого ранения Парфен учился на ускоренных курсах среднего комсостава. А потом он видит себя в блиндаже, в котором его принимали в партию перед боем… Вместо партбилета кто-то дает ему в руки старую отцовскую буденовку. Зеленая, с большой красной звездой, она всегда висела после смерти отца в маминой комнатке над черными выгнутыми ножнами именной — за взятие Перекопа — сабли…
На четвертый день подземной жизни «человеку с неба» становится еще хуже. Он быстро-быстро говорит что-то неразборчивое, потом хрипло, страшно вскрикивает и отчужденно смотрит на Аполлона безумными покрасневшими глазами. Аполлону боязно. И Тимку и Марку боязно и жутко. Теперь хлопцы теряются, не зная, как вести себя, с кем посоветоваться. Опасность с каждой минутой становится все более грозной. Может стать и смертельной. К кому же обратиться за помощью, кому открыть такую великую тайну, доверить такую драгоценную жизнь? Вот если бы у них, хотя бы у кого-нибудь, был отец или старший брат! Или кто-нибудь близкий из учителей!.. А так… Одна бабушка и две мамы. Зачем втягивать этих беспомощных и без того растерянных женщин в такие опасные и важные дела? Да и что они смогут? Хотя, правда, одна из этих мам — а именно мама Аполлона — как-никак аптекарь, фармацевт. Все же какая-то медицина. Но… не лежит, совсем не лежит душа у Аполлона к тому, чтобы впутывать в такое дело еще и маму. И не потому, что он боится выдать ей свою тайну. Нет! А все-таки… И слабенькая она у него, какая-то болезненная… К тому же, если правду сказать, далекая от всего этого. Если и вовсе не равнодушная. Только и знает: «Берегись, не лезь куда голова не влазит, и без тебя вода освятится! Осторожно, ежели что, так и знай, не переживу я!» Если бы она была просто колхозницей, как вот у Марка! А то жена командира Красной Армии, да еще и пограничника, женщина с образованием! А вот фотографии отца зачем-то недавно убрала со стены и неизвестно куда девала! Может, спрятала, а может, и… Это одно. А вот другое: то, что мама хотя и не совсем на немцев, но все же при немцах работает, Аполлону совсем не нравится! Он давно простил бы ей даже опостылевшее свое имя, если бы мама не якшалась с плюгавым врачом из Паланки, который, где только ни появится, сразу же заводит одну и ту же песню: о еде, о сале, о масле. И терногородский Роман Шульга, который иногда наведывается в аптеку, тоже ему не очень нравится. Здоровый такой, как бык! Нарочно, видать, прихрамывает. Прикидывается. Остался здесь, в МТС, работает на немцев и даже не стыдится! Да еще этот случай с немцами новобайрацкими… Надо же ей было яйца в селе покупать, чтобы у немцев на какие-то никому не нужные лекарства выменивать! Грех ему, конечно, свою мамку осуждать — любит он ее и жалеет. Чтоб не расстраивать ее еще больше, не скажет он ей о больном парашютисте. Нет, не скажет. Они еще немножко подождут и, может, все-таки что-нибудь придумают. Но ждать дольше некуда. Хлопцы не такие уже маленькие и неопытные, чтобы не понимать, чем все это может закончиться. В пещере мечется в жару и бредит их парашютист. Вверху, поджав ноги и положив подбородок на колени, молчит, думает тяжелую думу Аполлон Стреха. Заводила Аполлон, который не привык молчать, который всегда все решает первым и слово которого всегда бывало окончательным. Теперь он молчит. Молчит и Марко. Молчит и Тимко… Хотя нет! Это они тогда, раньше молчали, потому что Аполлон говорил всегда первым. А теперь, не дождавшись слова от Стрехи, наконец решается и первым подает голос Марко Окунь: — Как ни крути, Стреха, а придется все-таки сказать… — Что сказать? — А то… — Кому? — Кому, чему! Кого, чего! Маме твоей! — наконец выпаливает Марко. — Больше некому. — Что ни говори, а она самая близкая нам. И опять-таки в этих делах что-то понимает, — добавляет Тимко. Аполлон еще некоторое время возражает им, доказывает, что его мама ничего сама не сможет сделать, а связей у нее никаких. Хлопцы настаивают. Аполлон долго молчит. Потом, не ответив ни «да», ни «нет», поднимается и все так же молча идет в степь. Хлопцы сидят и смотрят ему вслед…
Внезапное известие о парашютисте, как это и предполагал Аполлон, сначала сильно испугало маму. Но потом, немного придя в себя, она быстро положила в кожаную сумку какие-то инструменты и, никого не разыскивая, ни к кому не обращаясь, сразу же велела сыну вести ее в степь… Еще сильнее она пугается, когда они втроем спускают ее, обвязав парашютными стропами, в какой-то колодец. Лишь на дне его она отходит и оглядывается вокруг. Оглядывается с любопытством, не скрывая того, что эта нора ей по душе и все это она мысленно одобряет. Потом на ее лице еще раз вспыхивает страх, когда она осматривает опухшую уже выше колена, почерневшую, с набрякшими, раздутыми венами ногу парашютиста. Осматривает недолго. Сразу же, забыв о своем страхе, приступает к делу. Срывает грязные бинты, чем-то обмывает ногу, протирает, смазывает йодом и пробует осторожно, чтобы не причинить боли, прощупать… Парфен пришел в сознание, наверное, именно от боли. Некоторое время он внимательно и сосредоточенно рассматривал миниатюрную темноволосую женщину с остреньким, очень похожим на Аполлонов носиком. Рассматривал молча, потом глубоко вздохнул. — Здравствуйте! — встретившись взглядом с парашютистом, громко поздоровалась женщина. — Я мама Аполлона! — Здравствуйте, — ответил Парфен. — Рад вас видеть, спасибо! — И добавил: — Быть может, скажете, что там у меня такое? — С полной уверенностью сказать сейчас трудно. Но… слушайте, товарищ… я сегодня найду знающего, надежного врача. Вы еще подержитесь. Он сделает все, что необходимо и что от него будет зависеть. Хотя прямо скажу, вы солдат, скрывать от вас нечего. Уж лучше знать все наперед… Понимаете, может оказаться, что обычных мер, простой помощи будет недостаточно… Возможно, ради того, чтобы спасти вас, придется… Одним словом, вы меня понимаете. — Она умолкла и перевела дыхание. — Лучше готовить себя к худшему… — И вдруг, уже обернувшись к хлопцам, добавила с упреком: — А вы… тоже мне «великие конспираторы»! Ребята молчат, опустив головы. Особенно неловко чувствует себя Аполлон… «И почему я не сказал ей сразу?!» — думает он, даже и не подозревая в ту минуту, что уже на следующий день мама приведет к больному парашютисту именно того подслеповатого врача из Паланки, а его, Аполлона, пошлет ночью не к кому-нибудь, а к Шульге, тому самому хромому Шульге из Терногородки… И что все они — и врач, и Шульга, и даже его мама — окажутся из той самой «Молнии», связи с которой они так настойчиво и так неудачно искали больше года!..
Рядовые Петро и Павло
Война затягивалась, входила уже в третий год, и они были детьми этой войны. Им было всего по девятнадцать. По-настоящему смелые, они обладали глубоким чувством долга и поэтому охотно, чуточку даже бравируя этим, играли со смертью. Ведь молодым не верится, что смерть может коснуться их даже сейчас, когда смерть уже нахально заглядывает в глаза. А как просто, даже счастливо все начиналось! В тот июньский день, они — школьники одной из ворошиловградских школ, — не имея еще полных семнадцати, заявили в райкоме о своем желании оставить школу и пойти на завод, чтобы заменить родителей, которые ушли на фронт. Правда, у них самих родителей не было: отец Павла умер еще в двадцать шестом, а Петро воспитывался в детском доме. Однако эти обстоятельства для общего дела существенного значения не имели. Пусть на фронт ушли не их отцы, а отцы и братья других ребят, но ведь на заводе, который теперь должен работать исключительно на войну, кто-то же должен был оставаться! Сравнительно легко (им не хватало тогда нескольких месяцев до восемнадцати) в труднейший момент эвакуации Донбасса, в сорок втором, они добились того, что их зачислили добровольцами в армию. Сначала хлопцев отправили на Волгу в резервный полк, где их знакомили со всеми видами оружия, обучали военному делу. В резервном полку им было не по себе, им не давало покоя желание поскорее вырваться на фронт. Однако старательно учились. На фронт их не послали. Вместо этого предложили школу парашютистов-разведчиков. Они согласились. Дело свое освоили быстро и хорошо. Но и теперь во вражеский тыл их не отправили. Снова послали в глубокий резерв, как оказалось позднее, в одну из частей будущего Юго-Западного фронта. Вместе с этим фронтом они прошли большой и нелегкий путь, участвовали в операциях по окружению вражеских армий под Сталинградом как рядовые бойцы-автоматчики. На родной Донбасс возвратились победителями, с медалями за оборону Сталинграда. И только после этого нынешним летом вспомнили о них, предложили работать во вражеском тылу. Они охотно согласились. Довольно долго еще после этого готовились и тренировались в группе на побережье Азовского моря. Были очень довольны тем, что и дальше тоже будут воевать вместе… Последней в их группу явилась миниатюрная, комичная в своей по-детски строгой замкнутости, веснушчатая радистка Настя Невенчанная. Потом прибыл командир — капитан Сапожников, и они, наконец, вылетели… С самолета, услышав команду, выбросились они почти одновременно. И лишь теперь, впервые за два последних года, да и то, как оказалось, совсем ненадолго разлучились. Опускаясь, они почему-то не заметили в небе других парашютистов. Оба, коснувшись земли, испытали гнетущее чувство одиночества, затерянности в совершенно незнакомом, чужом месте.Петро Гаркуша стоял средь ровного поля в просе, метелки которого не доставали ему даже до края кирзовых голенищ. Освещенное тусклым светом луны, просо стелилось во все стороны, казалось бы, бесконечной равнины. И лишь в одном месте этого пустынного пространства темным силуэтом выделялось дерево. Высокое… И не какое-нибудь там, а дуб! За ним еще какие-то деревца или кусты. Опушка леса… Наверное, опушка! Петро даже не особенно и обрадовался. Ведь именно так и должно быть. Это тот самый Каменский лес, в котором он, Петро, встретит своих, в котором где-то здесь поблизости уже ждут его Павло, капитан Сапожников, все товарищи. Следовательно, и этот чертов парашют, белеющий здесь на все поле, можно будет там понадежнее пристроить. Петро бодро, решительным и уверенным шагом направился к лесу. Дорогу ему преградила межа с глубокими колеями и высоким, в ромашках, гребнем посредине. За межой был ров, заросший травой, терновыми кустами, шиповником, боярышником и бересклетом, одним словом, всем, чему и положено расти на любом порядочном лесном валу… Петро решает, что лучше всего сейчас пойти по меже вдоль рва. Достает из нагрудного кармана маленький свисток и подает тихий условный сигнал: «Пить-пить!» Будто какая-нибудь маленькая лесная птичка пропищала спросонок и умолкла. А через минутку снова: «Пить-пить!» И прислушивается… Вокруг тишина. Глубокая ночная тишина. И поле и лес безмолвствуют. Петро идет вдоль лесного оврага, то отходя, то приближаясь к лесу, то скрываясь под густой тенью деревьев, то снова появляясь на освещенной опушке. «Пить-пить!..» А в ответ — мертвая, плотная тишина. «Пить-пить!» Он идет уже пять, десять, пятнадцать минут… «Пить-пить!» Спина покрывается потом, ремень автомата врезается в плечо. И без того тяжелый парашют кажется совсем уже невыносимым грузом. Бросить его нельзя. А закопать покамест еще негде!.. Межа, а за нею и ров сворачивают круто влево. Луна остается за спиной. Петро идет… Сколько же это он идет? Километр, два или больше? «Пить-пить!» Заросли терна переползли через ров прямо на межу. Над ними раскинул свой колючий шатер боярышник. Дальше кусты. Невысокие. Недавняя, видно, вырубка. Петро кладет парашют в тень, под куст боярышника, усаживается на него и какое-то время отдыхает, расстегнув ворот. Сняв пилотку, вытирает ею мокрый лоб. Потом, передохнув, снова сигналит: «Пить-пить!» И вдруг в ответ раздается тихое, но вполне отчетливое: «Пить-пить!» Такое в этот миг неожиданное, что ему даже не верится. Быть может, почудилось? Он долго ждет, вслушивается, не просвистит ли еще. Но никто не подает голоса. Странно! Тогда он, рассердившись и не придерживаясь уговора свистеть только дважды, заводит продолжительное: «Пить-пить, пить-пить, пить-пить!» И точно так же слышится в ответ: «Пить-пить, пить-пить!» Ах ты! Смеется над ним кто-нибудь, что ли? Он с досады опрокидывается спиной на парашют и какое-то время лежит уставившись на звезды, вслушиваясь в тишину. Попробовать посвистеть еще раз, что ли? «Пить-пить!» — «Пить-пить!» — сразу в ответ. И откуда-то с противоположной стороны неожиданно оглушительный голос: — Ну и долго вы собираетесь тут свистеть? Голос Павла! Петро вскакивает, бросается на этот голос… В самом деле Павло! Поднимается из-под куста. Хлопцы трясут друг друга за плечи так, будто расстались по крайней мере несколько лет назад… Наконец, опомнившись, успокаиваются. — А кто там еще? — шепотом спрашивает Павло. — Где? — Ну там! — кивает в сторону кустов Павло. — А разве это… не ты?.. — Что? — Ну… свистел, сигналил. — И не думал. — Гм… Странно. Эй, а ну, кто там? Чего дуришь? Тишина. До неправдоподобности глубокая тишина. Хлопцы ждут. Ждут, пока не надоедает ждать. «Пить-пить!» — сигналит теперь уже Павло. «Пить-пить!» — сразу же откликается из кустов. Павло решительно (ведь они теперь вдвоем!) шагает через ров и углубляется в заросли кустов. Петро бросается за ним. Но Павло успевает сделать всего лишь несколько шагов… Фр-р-р-р! Из куста прямо перед его носом выпорхнула какая-то птичка и сразу же скрылась из глаз. Хлопцы останавливаются, ждут. «Пить-пить!» — сигналит Павло. В ответ — тишина. «Пить-пить!» — повторяет он. И снова тишина. — Тьфу!.. Чтоб ты сдохла! — с досадой плюет Петро, и хлопцы возвращаются к меже. Оба они уверены, что перед ними Каменский лес и что они после того, как малость передохнут, встретятся со своими и разыщут партизан. И что свои где-то здесь, совсем недалеко, в лесу или в поле, и точно так же уже разыскивают их. «Пить-пить!» — сигналят хлопцы по очереди, идя вдоль лесного буерака. Но в ответ не откликается даже птица. Долго идут сигналя и встречают за все это время лишь одно живое существо — ежа! Он намеревался пересечь перед ними межу, не успел и свернулся в колючий комок прямо в колее… Межа и овраг снова круто сворачивают влево. Навстречу тянет влагой, низинной прохладой. «Пить-пить!» Крутой спуск. Тропинка сужается, огибает кусты осоки, какие-то лужи, болотца. Зеркальце воды в зарослях. И только здесь, наконец, осмотревшись как следует и измерив глубину водоема палкой, избавляются они от своих парашютов, утопив их в глубоком болотном окошке. Вдобавок они засыпают еще это место кувшинками и ветками вербы. Миновали несколько крохотных озер, пересекли какой-то ручеек. Тропинка вьется вверх и сворачивает все влево и влево. Луна светит теперь им прямо в лицо, потом постепенно сворачивает направо, а позже скрывается за их спинами… На часах уже сорок минут третьего. Они блуждают около двух часов. Скоро, вероятно, и рассветать начнет. Идут, идут, и наконец: — Слушай, так это же тот самый дуб, от которого мы начали! Проходят еще несколько шагов, чтобы убедиться окончательно. — Ну да!.. То же самое место. Терн и боярышник! Останавливаются, утомленные и обескураженные. — Так это, выходит, и весь лес? — с досадой говорит Петро. — Это ничего не значит… Может быть, просто перелесок. А лес где-то там, дальше… Давай-ка лучше малость перекусим. Все равно ведь день придется провести здесь… — Не хочу я, — возражает Петро, покорно переступая ров вслед за товарищем. Они углубляются в кусты, продираются на полянку и устало ложатся на траву в густой тени знакомого им развесистого дуба. «Пить-пить!» — пробует еще раз Павло. Но лес вокруг молчит. Спят они по очереди, прислонясь спиной к стволу. Утро, прохладно-росистое, искристо-солнечное, оглушает их разноголосым щебетом. Всходит солнце, и птицы приветствуют его радостным пением. Только хлопцам не весело. Они до предела устали. В пояснице стреляет. Лица бледные, заспанные и осунувшиеся. Горбатый нос Петра еще более заострился и словно бы увеличился. Неподвижно, будто у птицы, смотрят на белый свет его подернутые пленкой усталости глаза. Полные крупные губы Павла словно бы увяли. Глаза на безбровом лице запали. Но держится он бодро. Чуть растерянно улыбаясь, предлагает: — Давай для начала чего-нибудь поедим. — Да не хочется. Не лежит душа, — опять отказывается Петро. — Душа солдату по уставу не положена, раз! — возражает Павло, широко сверкнув своими редкими зубами. — Опять же, так дело не пойдет, два! Когда собираются вместе двое солдат, один должен быть старшим, три. Следовательно, назначаю себя старшим, четыре! Приказываю завтракать, пять! И… вышел зайчик погулять! Заставил-таки Петра улыбнуться… Достали из мешка банку тушенки, кусок хлеба, позавтракали и закурили. Потом еще раз неторопливо, теперь уже хоронясь в кустах, обошли лесок… Вокруг раскинулись пустые, кое-где пересеченные мелкими овражками поля. Совершенно чистые, открытые. До самого далекого, подернутого сиреневой дымкой горизонта не за что глазом зацепиться. Только на севере, где-то на самом окоеме, в густой синеве еле виднеется низенькая зубчатая гряда… Лес? Ну конечно же лес! И именно тот, который им нужен, Каменский! Днем пересекать открытое поле опасно. А вот как только стемнеет и если все будет благополучно, они направятся в ту сторону… На всякий случай прочесали этот небольшой, почти сплошь дубовый лесок с орешниковым, грабовым и кленовым подлеском еще и поперек. Тропинка завела их вниз, в балку, к холодному лесному источнику. Здесь было множество кустов орешника, густо облепленных плодами. Хлопцы полакомились орехами, напились ключевой воды и, не встретив ничего интересного или подозрительного, возвратились назад, к своему большому дубу. Время тянулось и долго и нудно. Однако радовало их главное — они были вместе, чем могли развлекали друг друга, поочередно отдыхали. Примерно в полдень Петро поделился своим недоумением: — Послушай, Павло, как ты думаешь, почему это за весь день в поле не было ни одного человека? Павло встал на ноги, в который уже раз окинул взором поля: массивы проса, стерню, заросшие бурьяном и желтым донником полосы, низкую кукурузу, подсолнухи, всю раздольную, подернутую легким прозрачным маревом степную даль. — А и в самом деле… Степь действительно поражала странной в эту пору пустотой, угнетала непривычным безлюдьем. В этом таилась какая-то скрытая опасность, тревога. Тревога эта, как потом выяснилось, была не напрасной. Люди из окружающих сел не вышли в поле сегодня, не выйдут завтра, возможно, не выйдут и послезавтра. Притаились, держатся как можно дальше не только от лесных опушек и левад, но и от поля. Поближе к дворам и родным порогам, пока пронесет беду, — ведь по безбрежным степным просторам нескольких районов из края в край перекатывались гитлеровские облавы. Выискивали, выслеживали не только неизвестного, который убил жандармского шофера, но и советских парашютистов…
Смертельная опасность пришла именно с той стороны, откуда они ждали спасения. Накатилась с поля, в глубине которого, где-то на синем горизонте, темнел зубчатой стеной вожделенный Каменский лес. Сначала из-за далекого пригорка, что за участком проса и желтой стерней, появилось несколько подвижных точек. А через какую-нибудь минуту сыпануло по горизонту, будто горохом из пригоршни. Живые темные точечки сыпались и сыпались, разливаясь поперек поля. Они двигались, приближались, росли на глазах, затемняя, заслоняя далекую синюю полоску леса живым плотным частоколом. Павло вскочил, вытянул шею. Толкнул спящего товарища. — Петро, Петро, погляди! — Что это?.. Какие-то люди… — бормотал Петро, протирая глаза. — Войско какое, что ли? — И оживленнее, с надеждой: — А может, пархоменковцы, а?! Павло молча присматривался, как там, в поле, этих подвижных точек становилось все больше и больше. Они вытягивались длинной-предлинной цепью. И уже можно было различить отдельные фигурки. Становилось все очевиднее, что это какая-то вооруженная, организованная масса, продвигающаяся вперед с определенной целью. Продвигающаяся, как и надлежит продвигаться военным, цепочкой, с установленной дистанцией, как бывает при наступлении или… — Боюсь, Петро, — наконец заговорил Павло, — не партизаны это… Скорее, немцы и полицаи. Боюсь, что похоже оно… Парень умолк, заметив, что справа, значительно ближе к ним, выкатывается из-за низкой кукурузы еще одна цепь, направляясь мимо леса вниз к балке. — …похоже оно, Петро, на облаву, — заканчивает Павло. — Тогда нам отсюда нужно сматываться, и как можно скорее. Но цепь перед ними уже удвоилась. Часть ее движется через просо прямо на лес, а другая сворачивает все дальше в сторону, обходя лес слева. И уже отчетливо видны вооруженные полицаи. — Сматываться, Петро, нам уже поздно. Долина просматривается с обеих сторон. Пока пересечем лес, ничего, а на тех голых буграх окажемся перед ними как на тарелочке. Петро резко встряхивает головой, отводит со лба прядь черных волос и глубже натягивает измятую пилотку. — Тогда нужно обмозговать, — говорит он, стряхнув с себя остатки сна и сосредоточившись. — Обмозговать и, лучше всего, подождать их здесь. — Или залечь во рву. Там такой естественный бруствер. Пока они нас… знаешь, сколько мы их успеем скосить! — Да нет! — уже окончательно придя в себя, пожимает плечами Петро. — Стрелять мы покамест не будем… Стрелять в самом крайнем случае… — Как это — не будем? — удивляется и настораживается Павло. — А так… Сначала давай малость поиграем с ними в жмурки. У них там теперь, знаешь, всякой твари по паре. Разного сброда отовсюду. Видишь, сколько? Из нескольких районов, вероятно, согнали, да еще и из наших краев, из-за Днепра, беглых подобрали. Недаром же нам давали эти справки. Можно так незаметно втереться к ним, что будь здоров! Прежде всего проверим, на месте ли документы, потом достанем из мешка белые повязки… Вот так! Цепь, растянувшись широким фронтом, уже сотнями ног топчет просо. Она приближается, фигуры людей увеличиваются на глазах, постепенно, неумолимо. Павло, прищурившись, различает уже лица, винтовки за спиной. Какая-то веселая злость стискивает ему горло и холодит грудь. — Играть так играть, — цедит он сквозь зубы, соглашаясь с предложением товарища. И со страшной ясностью понимает, что ничего другого не придумаешь. Что надежды на спасение нет почти никакой, но… пострелять и умереть они еще успеют, а тем временем… рискнем! Авось и пронесет! А Петро тем временем как бы размышлял вслух: — Так… Значит, с мешками придется распрощаться. Можем затолкать их в это вот дупло… Никто не найдет… Вишь, как хорошо! А сверху еще и листиками посыплем. Будем надеяться, что собак у них тут не густо и что не к каждому дубу, да еще и на опушке, они будут этих собак пускать. Теперь каинову печать на левую… нет, кажется, надо на правую руку. — Он вытаскивает широкую белую повязку с надписью «Schutzmann», уже порядком заношенную и грязную. — Смотри!.. Еще и так лихо выходит. Ну, «лимонку» прямо в карман, автоматы в руки и… отойдем чуточку дальше, за те вон кустики… Вот так. Встанем за этими кустами и подождем… Они-то ведь не из железа. Тоже смерти боятся. Да еще и как боятся. Ого! Обязательно будут в лесу жаться друг к другу. А мы затеряемся среди них и — вперед, в облаву. Будем искать, преследовать самих себя… Прочешем лесок до самой низины, а когда на пригорок начнут подниматься, малость «устанем». Незаметно оторвемся от общей колонны, отстанем и… приляжем. Они пойдут себе дальше, а мы останемся. Если, конечно, какая собака, четвероногая или двуногая, шуму не поднимет. Ну, да все равно… выбирать не из чего… Они отходят в глубь вырубки. Над почерневшими дубовыми пеньками, утонувшими в высоком папоротнике, густое переплетение пышных кленов, ясеней, грабов, орешника. Высоко поднимают белые зонты кусты болиголова, валерианы и деревея. Останавливаются за кустом терна. Собственно, не за кустом, а в зарослях переплетенных между собою многолетних корневищ. Петро притаился между кустом терна и буйными побегами молодого вяза, Павло — в пяти шагах, скрывшись за кустом заплетенного ежевикой шиповника. Совсем, выходит, неплохая позиция. С поля, с опушки их не видно, прямо через кусты терна не продерешься. Хочешь не хочешь, обходи с боков… И где только Петро научился? Вроде бы с виду и не очень оборотистый, а вот, поди же… врожденный разведчик! Напряженно, затаив дыхание, хлопцы ждут… В лесочке, среди деревьев и кустарников, пронизанных золотистыми лучами предвечернего солнца, все еще стоит глубокая тишина… Глубокая и жуткая. Петро выжидает — напряженный, подтянутый, готовый к любой неожиданности: побежать, упасть на землю, нажать на спуск автомата или швырнуть гранату. Он весь — внимание, весь — слух и зрение. Глаза широко открыты, ноги как пружины, одна рука сжимает гранату, другая — автомат… Как это начнется? И чем закончится? С чего придется начинать — с автомата или с гранаты?.. Ожидание долгое, напряжение невыносимое. Время тянется очень медленно, минуты кажутся часами. А потом все закружилось вихрем, так что разведчик не успевает фиксировать в памяти свои и чужие действия. Все происходит как бы само по себе. А он — Петро — просто стоит и слушает, наблюдает все это со стороны… Разом возникает, надвигаясь, монотонный однообразный гул. Будто дружный дождь по соломенной крыше топот ног… И, прорываясь сквозь этот топот, где-то совсем близко хриплый, скрипучий голос: — Дистанцию!.. Мать вашу так… Не разрывайся! В отару не сбиваться, болваны!.. Дистанцию!.. Рядом, всего в трех шагах, качнулась и отошла в сторону ветка бузины. И, будто из воздуха появившись, высунулась чья-то харя… В почти такой же, как и у Петра, пилотке, только надетой почему-то поперек, под круглым носом тараканьи рыжие усы, круглый разинутый рот и такие же округленные, испуганно-застывшие глаза. На какой-то бесконечно длинный миг эта физиономия упирается невидящим взглядом в лицо Петра, будто ожидая чего-то необычного — взрыва, выстрела, и потом вдруг облегченно вздыхает: — Фу!.. Ну, что там?.. — А что? — внешне спокойно, но каким-то деревянным голосом переспрашивает в свою очередь Петро. — Что ты там видишь? — Тебя вижу. — Э!.. Слушай, давай лучше вместе… Ближе друг к другу. Не так страшно. — Давай! — охотно соглашается Петро, сбрасывая внезапное оцепенение. — Эй, Павло, давай-ка ближе! Рыжий полицай с тараканьими усами, пожилой уже мужчина, медведем проломившись сквозь кусты, подходит к хлопцам. — Тю!.. — восклицает не то с досадой, не то с удивлением. — А я думал… — Индюк думал и сдох, — почти механически парирует Петро. Где-то позади, удаляясь, вероятно двигаясь вдоль цепи, сыплет матом обладатель скрипучего голоса: — В отару, в отару не сбивайтесь, как овцы… так вас растак!.. Рядом с хлопцами и рыжим уже ломятся через кусты еще четверо или пятеро. В синем мундире, в изодранном немецком кителе, в черном пиджачке с белой повязкой на рукаве, а один в зеленой, такой, как и у парашютистов, стеганке. — А я думал, Петро, — совсем уже осмелев среди людей, закапчивает усатый. — Так я же Петро и есть! — улыбается в ответ Гаркуша. — Гы!.. Может, и Петро, да только не тот. Тот вон он!.. А вы, хлопцы, откуда же? Терногородские или из Скального? — Бери еще дальше, — включается в игру Павло Галка. — А ты? — Я что. Я здешний. Новобайрацкий. А вы не иначе откуда-нибудь из Гуманя? Слово «новобайрацкий» на миг чудно как-то вспыхнуло в голове Петра, кольнуло тревожно и коротко, будто тонкой иглой, и сразу же, не задерживаясь в сознании, сгладилось. Задумываться некогда. — Нет, дяденька, мы, почитай, из самого Донбасса! — теперь уже прямо отвечает полицаю парень. — Хе! Занесло вашего брата куда! — заключает усатый, совсем не удивляясь, а радуясь, что пробивается сквозь опасный лес не в одиночестве и что есть с кем душу отвести. — А в Балабановку четверо аж из Харькова прибилось! А у нас тоже есть один, из самого Ростова топает… А на Донбассе где же вы служили? — В макеевской полиции. — А теперь, выходит, в Скальном? Вакуированные, выходит? — Выходит, — неопределенно тянет Петро. — Сегодня там, а завтра еще где-нибудь, — помогает ему Павло. — Вы, получается, теперь у Дуськи, — встревает в разговор еще какой-то, в пиджаке, в военной фуражке и с карабином на веревке вместо ремня. — А нам все равно, у Дуськи или у Гануськи, — уже наглеет Павло. — Что и говорить… Перепуталось все, грешное с праведным, — жалуется усатый. — Уже и не поймешь, где наши, а где скальновские… Нагнали людей незнамо сколько. Давай, давай, — слегка подталкивает он Петра в спину, — не отставай. У тебя ведь, что ни говори, автомат. А с моей хлопушкой на них не полезешь. Вооружены они знаешь как! — Кто это там такой вооруженный? — то ли всерьез, то ли в шутку хитро спрашивает Петро. — Ну, парашютисты, кто же еще! — шевелит тараканьими усами полицай. — Говорят, сброшено их видимо-невидимо! — А ты уж и перепугался? — Ну, перепугался не перепугался, а умирать зазря никому не охота, — ничуть не обижается усатый. — …Дистанция, дистанция, так-перетак! — скрипит все ближе, где-то за спиной. Они спускаются в балку, перепрыгивают через ручеек, проходят мимо знакомого уже источника. В низинных зарослях лозы, орешника и черноклена хлопцы замедляют шаг, пробуя незаметно отстать, но усатый и другие прилипли к ним как смола. Низинные заросли остались позади. Начался редкий дубняк на косогоре. Все вокруг как на ладони. Неужели им так и не удастся отвязаться от неожиданных попутчиков? — Давай, давай! Веселее, так вашу… растак, — скрипит за дубами. На душе у Павла сразу же становится муторно. Игра, которая началась так удачно, теперь явно перестает ему нравиться. Дубы редеют, расступаются в стороны и остаются за спиной. Старая вырубка, кусты, темные купы терновника, полянка… За зеленым валом рва стерня. Дальше желтые пятна сурепки, кукуруза и далекий-далекий пустынный горизонт. У рва приказано сделать привал. Раздосадованные и встревоженные хлопцы сразу же валятся в траву. Усатый полицай опять рядом… Остальные чуть поодаль. В обе стороны, сколько видно вдоль лесного вала, темными группами спины, головы, плечи. Лежат, сидят, сопят, матерятся, перематывают портянки, дымят самосадом. «Ну и ну! — с досадой думает Петро. — Да еще и Новые Байраки! — вспоминает услышанное еще там, на той стороне леса. — Какие такие Новые Байраки в районе Каменского леса?..» И перед закрытыми глазами у него возникает огромная карта за шторкой… «Белое пятно»… Неужели?! Этого только не хватало! А тут еще эти типы! Нет, игра явно не нравится Петру. Совсем не нравится. А как хорошо все начиналось! Усатый таракан, которого зовут, оказывается, Терентием Грушкой, пристает и пристает со своими дурацкими вопросами: — Хлопцы, ну а как у вас там… Вакуироваться все успели? — Не иначе, — неохотно бросает Петро. — Откуда же нам знать? Нам сказано: «Айда!» Вот мы и пошли. — Ну, а вот, к примеру… У него вроде бы сила великая? — У кого это «у него»? — Ну, у Сталина, выходит, — испуганно оглядывается по сторонам усатый. — А ты бы у него и спросил… — Ну, а на Днепре? Как, по-твоему, немец удержится? — А об этом уж спрашивай у немцев. — Ну, а как с нашим братом? Не слыхали? Ежели, к примеру, попадешь к ним в руки? И тут не выдерживает Павло, с досадой резко переворачивается на спину, закидывает руки за голову и тихо, но выразительно чеканит: — Как же, слыхали… Вешают нашего брата. Петро окидывает товарища сердитым и предостерегающим взглядом. Глаза усатого Грушки таращатся, усы нервно подергиваются. Он умолкает. Надолго. Лишь сопит молча, с натугой сосет цигарку… — О! А это еще что за хлюсты? Откуда здесь взялись? — заскрипел вдруг прямо над головами хлопцев знакомый уже им голос. На гребне рва возвышается фигура. Они видят сначала тупоносые — голенища гармошкой — сапоги, над ними широченные синие диагоналевые галифе, черный френч с накладными карманами, перехваченный накрест ремнями, и уже потом, над всем этим, тонкогубый огромный рот, длинный нос, серые пронзительно-колючие глаза и кожаную фуражку, натянутую по самые брови. Услышав этот скрип, Терентий Грушка слишком быстро для своего возраста вскакивает на ноги. — Так что Дуськины приблудились, пан Митрофан! Вслед за Грушкой неохотно поднялось на ноги и несколько других полицаев. Лишь парашютисты неосмотрительно так и остались: один — сидеть, другой — лежать. — А вас что, не касается? — пропустив мимо ушей ответ Грушки, гаркнул «пан Митрофан». — Вста-а-а-ать! Хлопцы с ленцой, явно выгадывая время, поднялись на ноги. «Пан Митрофан» придирчиво острым взглядом ощупал обоих с ног до головы. — Кто такие будете? — Ну, говорят же вам, — прикидываясь обиженным, пожал плечом Павло. И сплюнул сквозь редкие зубы. — Как оказались здесь? Почему от своих отстали? — Перемешались еще там, в Длинном яру, — бросил кто-то из полицаев между прочим, хотя его никто об этом не спрашивал. А Павло сразу же воспользовался репликой, ухватился за спасительную ниточку: — А нам — «свои», не «свои» — не все равно? Кроме Дуськи, считай, еще никого и не знаем! Ваши ли, наши… — Это как же, позвольте? — совсем уже насторожился, нахмурив мохнатые брови, «пан Митрофан». — А так… Вакуированные мы… Новенькие, — прикинулся ласковым и глуповатым ягненком Павло. — Документы! Живо! — гаркнул Митрофан. Бумажки-удостоверения на имя эвакуированных макеевских полицаев Петра Гаркуши и Павла Галки перечитал внимательно, слово за словом, даже от старательности губами беззвучно шевеля. Прочел, повертел, заглянул, что там на обороте. Потом посмотрел на свет и, не обнаружив ничего подозрительного, бросил уже спокойнее, даже безразлично: — Ну, хар-рашо! Встретимся с паном Фойгелем, разберемся. И вместо того, чтобы возвратить, старательно свернул документы и спрятал в нагрудном кармане. «Вот тебе и поиграли!» — думал Петро, понуро глядя вслед Митрофану, который уже шел куда-то дальше вдоль рва. — Да, — обозначив в грустной улыбке редкие зубы, бросил Павло. — Да… Не было, не было, да и выскочило!.. Друзья снова неторопливо уселись на траву, спустив ноги в ров. Не глядя друг на друга, будто по команде, начали сворачивать цигарки. — Полицай Грушка, полицай Грушка! — раздалось через минуту с левой стороны, покатившись вдоль лесного рва. — Полицай Грушка, на левый фланг! Грушка сплюнул, ругнулся и, набросив ремень винтовки на плечо, помчался вдоль рва в ту сторону, куда несколькими минутами раньше ушел Митрофан… Возвратился он очень скоро, насупившийся, со строгим, что называется, официальным выражением на тараканьей физиономии. Не сказав никому ни слова, сел возле хлопцев, исподлобья взглянул на одного, на другого и грозно повел усами. А снизу по меже поднимался толстый, разомлевший на солнце немец в коричневом мундире с большой черной кобурой на животе. Левой рукой с зажатой в ней пилоткой вытирал потный лоб и лысину, а правой слегка ударял полицаев по спинам свежесрезанной палкой. — Steht auf! Steht atif! Vorwärts! [15] — приказывал незлобиво, словно бы даже шутя. — Vorwärts, meine Kinder, туда-растуда фаш матка!
В тот день, принимая участие в облаве на самих себя, Петро и Павло топтали стерню, прочесывали просо и шелестели в кукурузе еще около двух часов. Солнце, скатываясь к горизонту, становилось все ласковее. Опускался золотой вечер над тихими полями. И такими чужими, лишними казались здесь, на этом ласковом степном просторе, эти одетые кто во что горазд, вооруженные люди, с их хриплыми, пропитыми и прокуренными голосами, грязной бранью, трусостью и ненасытной жадностью людоловов, жаждой крови… Хлопцы устали и проголодались. С каждой минутой все грустнее и неприятнее становилось у них на душе. Грушка, с застывшей, сосредоточенной и недоверчиво замкнутой рожей, не отставал теперь от них ни на шаг. Все время неподалеку вертелось еще несколько полицаев. Видно было, что это неспроста… Одним словом, приближалось что-то недоброе, явно угрожающее. А как хорошо все начиналось! Вроде бы очень удачно выпутались. Каменский лес — вот он, рукой подать! Думалось, скоро встретятся со своими, а там и с партизанами, немедленно свяжутся со штабом. И даже тогда, когда вместо своих столкнулись с полицаями, все еще казалось таким нестрашным, даже чуточку смешным. А теперь вот, видать, доигрались. Сами себя загнали в западню и попали в плен к полицаям. Документы у них отобраны, и сами они фактически взяты под стражу. Убежать, отстать — ни малейших шансов. И неизвестно, чем все это закончится. А тут еще эти Новые Байраки, Скальное, Терногородка! Совсем не должно быть всего этого в районе Каменского леса! Куда это их занесло? Неужели они приземлились не там, где нужно? Куда исчезли капитан Сапожников, Настя, все остальные? Было уже совсем темно, когда они остановились в каком-то селе. Там уже было полно полицаев. Хорошо еще, что это были, как выяснилось, не скальновские, а терногородские и еще какие-то головорезы, которые называли себя «русской добровольческой армией». Именно у командира этого сброда, оказывается, были и две овчарки-ищейки… Село растянулось длинными улицами вдоль бесконечной балки. В центре села на большом выгоне, давно заросшем молочаем, полынью и чертополохом, дымилась солдатская походная кухня. Полицаев покормили какой-то похлебкой и, выставив усиленную охрану, уложили спать вповалку на том же выгоне под ясной луной. Хлопцам было не до сна. Они лежали плечом к плечу, думали, но переброситься между собой даже словцом не имели ни малейшей возможности — Грушка лежал рядом. Теперь они уже не сомневались, что он к ним специально приставлен. На протяжении всей ночи он так, кажется, и не уснул. Стоило лишь кому-нибудь из хлопцев шевельнуться, как он сразу же, вздыхая, отрывал от земли голову. А когда Павлу понадобилось отойти по нужде, побрел за ним и Грушка. Одним словом, все складывалось не очень весело. Светила, будто ради великого праздника, ясная луна. И это было так некстати, когда все вокруг забито полицаями и всякой швалью, собранной сюда чуть ли не со всей области. Но и то правда, бежать было некуда и не к кому. На следующий день толклись в этом селе чуть ли не до одиннадцати часов утра. Все ждали какого-то приказа, никак не могли согласовать, как действовать дальше и кому кого слушать. Наконец, уже с наступлением жары, тронулись. Новобайрацкие, как и вчера, отдельно, своим собственным маршрутом, а терногородские с «добровольцами» вместе. Долго брели по ровным, как стол, полям, по стерне, по бурьянам, по целине. Степь лишь кое-где была разрезана неглубокими ложбинами и покрыта негустыми старыми лесополосами. После обеда вышли к широкой пустынной долине какой-то речки. Вдоль дороги, ближе к речке, расположилось небольшое сельцо. И тут полицаям повезло. В расселине глинистого обрыва возле села собака, которую выпросил у «добровольцев» и вел теперь на поводке толстый немец, к чему-то начала принюхиваться. К немцу подошел Митрофан, присмотрелся, нагнулся, поковырялся в отвалах свеженасыпанной глины и вытащил на свет… новенький парашют… Это была удача. Стало очевидно, что сюда сбросили, как они и предполагали, не одного парашютиста. Значит, парашютист должен быть тоже где-то поблизости… Облава задвигалась, забурлила. Поднялся шум и гам. Все в этом крохотном селе и вокруг него перерыли и перевернули вверх тормашками. На кого-то кричали, кому-то угрожали, кого-то до крови избили, кого-то даже арестовали. Рыскали несколько часов, чуть ли не до вечера. И хотя никого и ничего больше так и не нашли, все же ясно было, что селу этому еще придется хлебнуть горя. Петро с Павлом, плотно стиснув зубы, под надзором Терентия Грушки тоже участвовали в обыске крайней от дороги хаты, которая стояла на отшибе, поодаль от улицы. Жили в этой хатесухощавая, статная и высокая старуха и болезненный, кривой на один глаз хлопец, вероятно, их ровесник. Старуха, пока полицаи переворачивали все в доме и во дворе, не обращала на них никакого внимания, хлопотала то в огороде, то возле летней кухни за хлевом. Хлопец сидел на пеньке возле хаты и молча следил за всем происходящим своим единственным, неестественно напряженным большим глазом. В хате, в хлеву, на неогороженном дворе было пусто, хоть шаром покати. Только Грушка, оказавшийся удивительно старательным сыщиком и обладавший нюхом поистине собачьим, нашел, к чему придраться. Отыскал, вишь, чьи-то следы на грядке конопли. Кто-то вроде бы тут ходил недавно или даже лежал. — Ага! Так вот где вы парашютиста прятали! — обрадовался Грушка. А хлопец невозмутимо глянул на него и криво улыбнулся. — Немец здесь убитый лежал… А свои брали его в машину. Вот и вытоптали… Гришка Распутин, полицай наш, все знает… Закончив с обыском, какое-то время отдыхали на травке. Напились воды, закурили. Угостили куревом и одноглазого. Павло Галка спросил: — А как называется эта речушка? — А ты что, привезенный? — вопросом на вопрос ответил одноглазый. — Выходит, привезенный… — Ну тогда Кагарлык! — Чудное какое-то название. А село? — Что село? — Село как называется? — Жабово. А что? — Фюйть!.. — не удержавшись, свистнул от удивления Павло. И сразу же спохватился: — Ничего особенного. Просто так спрашиваю… И чуть позже, уже готовясь в дорогу, улучил минутку, чтобы сказать Петру: — Ну? Что ты скажешь, а? Жабово!.. — Сами себе и напророчили, выходит, — нахмурился Петро. — Да… Теперь действительно смотри, чтобы нам самим жаба прикурить не дала. — Давай-давай! Стройся! — скрипел, спускаясь вниз к речушке, «пан Митрофан». С наступлением вечера облаву прекратили. Оставив в Жабове засаду, кое-как выстроились на дороге возле мостика и тронулись уже колонной. Впереди степенно и неторопливо шагал толстый немец в коричневом мундире. В хвосте, в последней четверке, Петро с Павлом. Шли они в середине. По краям с одной стороны Грушка топорщил тараканьи усы, с другой косился носатый верзила в черном пиджаке с парабеллумом на поясе и винтовкой на правом плече. Замыкая колонну, шел в сторонке, по обочине, сам «пан Митрофан». Таким образом, о побеге не могло быть и речи. Вокруг голая степь. Слева стерня, справа редкая низенькая кукуруза. Солнце, скрываясь за горизонтом, плавит на золото белые легкие тучки. Пахнет чабрецом, пылью, сухой свежей соломой. Петро, понуро свесив голову — черный чуб падает прямо на глаза, — неторопливо передвигает ноги вслед за передним полицаем, устало думает свою невеселую думу: «Вот и еще один день позади… Заканчивается еще один золотой вечер. Если бы знать наперед, сколько их еще осталось нам? Неужели так и не удастся выкрутиться? Не может этого быть! Просто не может быть! Знать бы только, где же это рассыпались и блуждают сейчас наши. Или, быть может, они уже все вместе, и только мы так вот по-глупому влипли?..» Шагает рядом с Петром непривычно молчаливый Павло, думает о чем-то своем. «Неужто и в самом деле занесло нас на „Белое пятно“? Неужто это и есть то самое Жабово, которым мы еще недавно там, в засекреченной штабной комнате, возле карты пугали Настю? Макухи мы, выходит, и есть, ежели так! Просто не хочется верить! И с этими харями тоже, можно сказать, влипли… Связались, а теперь никак не развяжемся. Хорошо, что хоть ночь еще впереди. Может, что-нибудь сможем придумать… Казак не без счастья, девка не без доли!» Дорога по огромному пологому степному косогору поднимается все вверх и вверх. Наконец выровнялась, вымахнула на перевал и еле заметно, плавно начала снова спускаться вниз, скрываясь где-то далеко-далеко в размытой синей дали. А ближе, примерно в двух-трех километрах, показалось большое село. Раскинулось по долине, рассыпалось соломенными крышами, полосками огородов и темными купами вишенника. Дым поднимается над трубами, возвышаются на пригорках пирамидальные тополя. Охватывая полсела, стальным серпом сверкает речка. — Это что? — спрашивает у полицая Павло. Но Грушка совсем уже обнаглел. — А вот придем, там тебе и скажут, — бросает он с нескрытой угрозой в голосе. Или это Петру мерещится? Ведь вот сразу же и вроде бы даже охотно ответил Павлу верзила в черном пиджаке. — Да чего там! — словно бы возразил он Грушке. — Новые Байраки! Чего же… «Нет, мы действительно-таки сунулись не туда, куда следует!» — с горечью, теперь уже без прежних сомнений заключают оба «святые». Сразу же возле крайней хаты степной грейдер переходит в мостовую. Выбоистую, запущенную и неровную. Добрая сотня ног поднимает оглушительный грохот. Идти становится все труднее. Задние, пытаясь взять ногу за передними, подскакивают на ходу, топчутся, сбивая соседей. Колонна втягивается в русло широкой улицы, обсаженной вдоль оград кустами желтой акации. Впереди, в голове колонны, размахивая палкой, что-то кричит толстый немец. Не только хлопцы, но даже и полицаи не могут взять в толк, чего он хочет. Один лишь Митрофан, хотя и был дальше всех от немца, сразу же разгадал. — Песню! Песню, туда вас растуда! — скрипит он немазаным колесом. И сразу же где-то рядом с Петром раздается тоненький-тоненький, по-девичьи писклявый дискант:
Соловей, соловей, пташе-ечка!..
К-канареечка жалобно поет!
…И ать и два, горе не беда!
Канаре-ечка жалобно поет!
Капитан Сапожников
…Новобайрацкий староста Макогон был на особом счету не только у районного коменданта, с которым работал и дружил, но и у самого шефа жандармского поста герра Бухмана. В полиции же от начальника Коропа, его заместителя Митрофана и до самого последнего полицая Макогона боялись, прислушивались к каждому его слову и выполняли каждый его приказ. Хотя про себя, иногда, как говорится, плакались «в подушку». Потому что пан староста не брезговал перед герром жандармом приписывать себе многие из их полицейских заслуг… Потому-то и неудивительно, что печальная весть о двух советских парашютистах, задержанных и выданных немецким жандармам старостой Макогоном, распространилась уже на следующий день. Сначала в Новых Байраках, а потом и дальше, из села в село, видоизменяясь и обрастая новыми подробностями. И хотя позднее говорили и другое, будто эти «парашютисты» были просто беглыми полицаями, проверить этого, конечно, никто не мог. Мысль о такой проверке не приходила в голову даже самому Митрофану. С него достаточно было и того, что Макогон однажды между прочим обронил при нем: на очной ставке все выяснилось, и эти полицаи остались в Скальном. Но никто, конечно, этого объяснения не слыхал и проверить не мог. И слух о парашютистах расходился все шире и шире… Правда, произошло это уже потом, позднее… Покамест же серые кони вынеслись со школьного двора на мостовую, и мы поехали вдоль темной широкой улицы вниз, к центру села. — Сворачивай влево! — приказал Макогон. Я с большим трудом сдерживал сытых, разгоряченных лошадей, сворачивая в темный узенький переулок. Грохот стих, мостовая осталась позади. Позванивали мелодично лишь втулки колес да глухо молотили копытами пыльную дорогу серые. По сторонам белели хаты, возвышались черные ажурные кроны акаций. — Влево! — приказывает Макогон. Параллельно мостовой пролегала широкая, с накатанной колеей улица. Однако и по ней едем недолго. — Круто направо! Такая же широкая немощеная улица. Белые стены и темные окна хат. Кусты. Дорога идет на подъем. Сытые кони легко мчат тяжелую бричку. В свете низкой луны стелется за нами вдоль улицы призрачный хвост пыли. Кое-где во дворах еще хлопочут люди. Срываются иногда голоса, звякает ведерная ручка, стукают двери. Появление этой подводы на улице, вероятно, ни у кого не вызывает удивления. И потому, что еще не так поздно, и потому, что серые лошади Макогона здесь всем хорошо известны. Тут не то что присматриваться да интересоваться, тут старайся лучше, чтобы сам, не дай бог, на глаза не попался… — Влево! Круто влево! — командует Макогон в конце улицы, уже возле крайней хаты. Узенькая полевая межа. Справа степь, слева ров, заросший дерезой, и за рвом огороды, сады… — Влево, влево! Возвращаемся, кажется, назад, в центр? Похоже, но, кажется, и не совсем… Улица обыкновенная, подобная тем, которые уже проехали. Только теперь она полого сбегает вниз, пересекая еще какие-то улочки и переулки. За одним из этих переулков, кажется, уже за последним, дорога круто срывается вниз. — Придерживай, придерживай! Там очень крутой спуск! — кричит сзади Макогон. Туго натягиваю вожжи. Кони, приседая на задние ноги, чуть не обрывают шлеи. Хаты остались где-то позади, отошли в сторону. Слева и справа за валами заросших густой дерезой рвов огороды и сады. Навстречу снизу в лицо туго бьет прохладой. Из сумерек выныривают высокие вербы. Овраг. Левады. Плес. Деревянный мостик через речушку, и за ним слева журавль над срубом колодца. Макогон, забрав у меня вожжи, направляет коней прямо к длинному корыту, приказывает: — Не мешкать! Скорее в левады и домой! Он прыгает с телеги, подходит к корыту и разнуздывает коней. Осматриваюсь по сторонам. Узнаю улицу, которую пересекал позапрошлой ночью с парнишкой, лица которого даже не запомнил. Скрипит журавль, звякает цепь. Макогон выливает в корыто ведро за ведром. Кони, пофыркивая от удовольствия, пьют холодную воду. Хлопцы какое-то мгновение сидят, потрясенные и тихие, как цыплята, не понимая, где они, что с ними происходит, что будет дальше и для чего им развязывают руки. — Скорее! — приказываю уже я и сую им в только что развязанные руки автоматы. — Все, все забирайте! Вот здесь, в передке. И за мной… Они не переспрашивают, не выясняют. Однако не задерживаются. Перепрыгивая неглубокий окоп, бегу вьющейся в зарослях лозняка и бурьяна тропинкой. Ребята удивительно спокойно и расторопно следуют за мной. Отбежав сотню-другую шагов, останавливаюсь на полянке. Они с разгону наскакивают на меня и, еле удержавшись на ногах, замирают. Поворачиваюсь к ним лицом и снимаю с головы брыль. Блестящие вытаращенные глаза. Бледные в лунном освещении лица. — О-о-о-о! — наконец выдавливает Петро Гаркуша. — Т-так, это же вы… товарищ капитан! — то ли с упреком, то ли с восторгом восклицает и Павло Галка. Пока добираемся по уже знакомой мне тропинке к риге Макогона, хозяин, оказывается, уже ждет нас дома. Когда я, спрятав ребят в риге за снопами, выхожу во двор, серые уже стоят головами к бричке, распряженные. Макогон вышел мне навстречу со стороны амбара, из густой тени. Вошли в хату, закрылись на кухне… Внешне Макогон казался совсем спокойным. Сел рядом на топчан, положил фуражку, достал сигарету, прикурил от лампы. — Ну, вот… — сказал, выпуская дым через ноздри. — Можно сказать, с креста сияли твоих «святых»… А хлопцы у тебя, оказывается, бравые, не пищат… Молодцы, одним словом! Только забирай ты их, ради господа бога, и уматывайтесь от меня как можно скорее! А то свяжешься с вами, сам головы на плечах не удержишь. — Он утомленно улыбнулся, жадно затянулся сигаретой. — Они, бедняги, конечно, ничего не поняли… Так условимся, что им и знать ничего не следует. Ведь это ни к чему… Одним словом, обо мне ни звука… В три затяжки выкурив всю сигарету, он поднялся на ноги, бросил окурок в ведерко под шестком, зачем-то прислушался, как там зашипело. — Ну что ж, капитан… Сейчас я все-таки поеду в жандармерию. Думаю, так будет лучше. А вас моя Парася тем временем проведет к Цимбалу. Он, Цимбал, все эти хитроумные подпольные штучки знает. Ему и карты в руки. И устроит и связь поможет наладить. Меня же вы не знали, не видели и вспоминать не должны. Меня для вас не существует. — Минутку помолчал, задумался, даже глаза закрыл. — Ну что ж, желаю тебе удачи, капитан! Как говорится, будь здоров и не поминай лихом… Кто его знает… Не скоро, вероятно, не скоро, а быть может, когда-нибудь еще и встретимся. Сейчас я тебя выручил. В другой раз ты меня выручишь… Горло мне что-то подозрительно стиснуло. Я крепко-крепко сжал его большую, тяжелую, с твердыми узловатыми пальцами ладонь. — Спасибо, товарищ Макогон. За все спасибо. — Бога благодари, — вероятно, чуждый всяким сантиментам, пошутил Макогон.Известными лишь ей глухими тропинками жена Макогона вывела нас из села. Она, видимо уже привыкшая к ночной тревожной жизни, часа три водила нас по степным глухим ярам и лесополосам. И только под утро вывела в Балабановку к Цимбалу. Пожилой, сухощавый сапожник встретил нас в вишневом саду в конце огорода. Поздоровался буднично и просто, как будто случайно встретился с близкими соседями после недолгой разлуки. Пожал каждому руку, сказал неторопливо: — Так вот вы какие! Шуму, можно сказать, на целую область. А сами, оказывается, совсем молоденькие. Ну, что же… Молодцы, хлопцы, молодцы! Потом отпустил жену Макогона и, взглянув на Петра и Павла, которые устало пригорюнились на валу заросшего пыреем рва, сокрушенно покачал головой. — Натомились, молодцы? А отдыхать, к сожалению, некогда… Уж как-нибудь потом отдохнем. До утра нужно успеть на место. А до «Раздолья» как-никак пятнадцать километров… В поле за лесополосой нас ждала телега с ездовым в синем мундире полицая и с винтовкой через плечо. Попрощались с Цимбалом и тронулись по предрассветной степи. Хлопцы мои совсем обмякли и, сидя в задке телеги, клевали носами. Молодой полицай неторопливо помахивал кнутиком, еле слышно напевая себе под нос какую-то песенку и не проявляя к нам, по крайней мере внешне, никакого интереса. Черта, между прочим, присущая, кажется, всем, кого я встречал здесь за эти три дня. Два года страшной оккупации и кровавой неравной борьбы наложили здесь на всех свою печать и приучили к осторожности и сдержанности. «Раздолье»! Это было настоящее раздолье — неожиданный, обсаженный с трех сторон тополями, а с четвертой старыми вербами зеленый оазис в бескрайней степи. Поистине райский уголок! И старый Цимбал, — как я узнал об этом впоследствии, секретарь подпольного райкома, — был словно последним пропускным пунктом, пересыльным комендантом или святым Петром на пути в этот рай. Подъезжали мы к нему, не таясь. Взошло солнце. Степь звенела, стрекотала, разливалась птичьим щебетом, сияла каплями росы. Она была такой привольной и безбрежной, что глаз человеческий не мог различить, где в далеком синевато-малиновом мареве небо сливается с землей. И в самом центре этого простора — буйно зеленый лесистый массив, изумрудный прямоугольник в обрамлении высоких тополей. Несколько десятков гектаров сада, темные крыши каких-то зданий; внизу, в долине между вербами и осокорями, в камышах, лозняке, кувшинках исходит легким паром пруд. Дорога ведет на узенькую и невысокую гать. С нее в липовую аллею. Липы — старые, с узловатыми, оплывшими стволами — смыкают развесистые кроны прямо над нашими головами. А за черными стволами, сколько видно, сады. Яблони, груши, сливы, черешня. А под гору — за липовой аллеей — малинник, смородина, крыжовник, барбарис. И между кустами пасека. Десятки пчелиных хорошо ухоженных ульев. Воздух над всем садом звенит, полнится пчелиным гулом, пахнет медом, яблоками и горьковатым вербовым дымком. А на большом подворье, обрамленном длинными строениями, заросшем травой, перед окнами большого, на два крыльца, приземистого дома встречает и приветствует нас милый дедусь-пасечник… Ну, дедусь не дедусь, однако человек пожилой. Приветливое округлое лицо, ясные зеленовато-серые глаза, светло-русая лопаткой бородка. На нем старый чистый парусиновый костюм, летние парусиновые туфли. На голове сетка от пчел, в руке забитая сотами рамка. — С благополучным прибытием! — приветливо улыбается дедусь. — Здравствуйте. — И добавляет, протягивая руку для приветствия: — Меня зовут Виталий Витальевич. Удивленный и растерянный, невольно осматриваюсь я вокруг. За пасекой на грядках с помидорами трое девчат. «Наш» полицай на подворье распрягает коней. А поодаль, возле хлева, еще один полицай — высокий, русый, без шапки — прогуливает золотисто-гнедого сытого коня. Мои «святые», передремав в дороге, удивленно протирают глаза и недоуменно смотрят вокруг: в действительности ли все это происходит или мерещится? Дедушка-пасечник Виталий Витальевич, вероятно понимая наше состояние, мягко и успокаивающе улыбается: — Не беспокойтесь и не обращайте внимания… Сегодня тут у нас только свои… Через каких-нибудь полчаса, хорошо позавтракав, Петро с Павлом укладываются спать в пустом хлеву на ворохе свежего сена. А мы с Виталием Витальевичем садимся на деревянную скамью под дуплистой липой и закуриваем. — Вы даже и представить себе не можете, какое это счастье для меня и для всех нас! Подумать только, встретиться с людьми оттуда! — с ноткой грусти говорит Виталий Витальевич. — Это же только подумать — два года! Он умолкает, и я замечаю, как меняется его лицо. Минуту назад мягкое и приветливое, оно становится вдруг суровым и замкнутым. Над переносицей прорезается глубокая вертикальная морщина, губы плотно сжимаются. Под глазами у него резко обозначаются тяжелые мешки, а в глазах вспыхивают колючие огоньки… — Вам, вероятно, это показалось странным? — с горечью спрашивает он и рассказывает после этого сдержанно, скупо, приглушенным голосом. «Раздолье» — бывшее опытное хозяйство К-ского сельскохозяйственного института. Главным образом — акклиматизационная станция. А уже возле нее и все хозяйство практического вспомогательного характера… Он — Виталий Витальевич — преподаватель института и заведующий опытной станцией. В сорок первом, в июле, его пригласили в райком партии, предложили остаться в подполье, поселиться в этом хозяйстве и ждать связей и указаний. Он и остался. После того как одна за другой провалились в первые же месяцы несколько подпольных групп и погибла чуть ли не вся оставленная руководящая верхушка района, он понял, что никаких связей и никаких указаний не дождется. А сидеть сложа руки не имеет права, совесть ему не позволяет. Начал действовать сам. Начал с малого. Разыскал и устроил на работу двух бывших студентов-комсомольцев. Сначала, конечно, действовали как и большинство в их условиях в то время. С горем пополам смонтировали приемник, записывали сводки Совинформбюро, писали листовки от руки. А потом попала к ним печатная листовка «Молнии»… Через хлопцев ниточки потянулись в соседние районы. Наконец нащупал их и сам товарищ Цимбал. (Фамилия, разумеется, не настоящая, подпольная.) А уж от него и до областного центра дошли. А там, конечно, поняли: хозяйство — просто идеальное место в смысле конспирации. На редкость удобно для такого, пускай и небольшого, подпольного центра. Сейчас хозяйство в образцовом порядке. Фрукты, пасека, овощи. Все здесь под персональной опекой самого гебитскомиссара. Он оказался даже каким-то специалистом по сельскому хозяйству. Хозяйство это имеет подобие охранной грамоты, этакое табу для всех. Имеет также и постоянную охрану — пятерых полицаев. Все пятеро — бывшие студенты Виталия Витальевича. Чувствуют себя хлопцы, конечно, неловко, стыдятся, все это болезненно переживают, но… положение сложное, враг жестокий, коварный, и бороться с ним в белых перчатках трудновато… Виталий Витальевич — заведующий хозяйством. В его власти нанимать и увольнять рабочих. Вместе с тем он вроде начальника подпольного штаба и руководителя крупной, по их масштабам, партизанской базы. В окрестных районах действует уже десятка полтора партизанских групп под общим названием «Молния». А чуть дальше, за Подлесным, в Зеленой Браме, базируется партизанский отряд «Молния». У Виталия Витальевича осуществляется связь между группами, концентрируются данные разведки, координируются иногда и боевые и диверсионные операции, печатаются листовки. Опять же и материальные резервы… Одним словом, действуют как могут и умеют. Хотя связь с Большой землей не налажена, информация случайная, опыт обретают из практики, вслепую. Есть много горячих голов, а опытных руководителей маловато. Не хватает, в сущности вовсе нет, взрывчатки, оружия, боеприпасов, только разве что от немцев перепадет. — Но, как и в той пословице, — просветлело лицо Виталия Витальевича, — казак не без счастья, а девка не без доли. Мы вот только мечтать могли о вашем появлении. Человека с Большой, свободной земли два года в глаза не видели. А тут вдруг вы, как манна небесная голодному или вода жаждущему! Не отпустим вас ни за что, и не думайте! А девушку вашу, не беспокойтесь, разыщем, обязательно разыщем. Только условие. За это вы первую радиограмму на Большую землю шлете от нашего имени. Будем настоятельно просить, чтобы вас тут и оставили. Помогайте, организовывайте, командуйте. А возможностей и хороших людей у нас хватит! Виталий Витальевич был так обрадован и взволнован, что и меня растрогал и взволновал. Хотя мне радоваться было нечему. Скорее, наоборот. Вот он говорит о первой радиограмме, о нашей девушке… А где она, наша девушка, наша Настя? Может, уже и в живых ее нет. Мы втроем нашли убежище, защиту, связи, а остальные наши товарищи? Даже представить трудно, где они сейчас могут быть. И что мы сейчас без них, без всей группы? Без Лутакова, без Насти, без ее рации. Все равно как глухие и немые! На нас такие надежды возлагают, от нас так много ждут, а мы… Да таких, с голыми руками, и без нас тут достаточно! С плохо скрываемой горечью слушал я хорошего, взволнованного человека — Виталия Витальевича. А вокруг все тихое такое, ласковое! Пчелы звенят. Неважно, что в ульях, кроме меда, шрифты, листовки, оружие. Яблоки пахнут. Девчата на грядке красные помидоры собирают. Стройный молодой «полицай» золотистого коня выгуливает… А от пруда по тропинке кто-то в одних трусах, коренастый такой, прямо квадратный, направляется к нам. Курортник, да и только!.. Однако погоди, погоди. Какая знакомая фигура! Кого же мне этот крепыш, этот «курортник» со стриженой головой, напоминает? Так похож… на кого-то… знакомого! — Виталий Витальевич, кто это там? Тоже «полицай» или… — Где? Этот? Одного новенького я нанял, — Виталий Витальевич широко улыбается. — Говорит, будто в пчелах отлично разбирается.
Старший лейтенант Семен Лутаков
Настроение у него испортилось, еще когда он застрял в бомбовом люке. Понял, что кучность прыжка безнадежно нарушена, и его отнесет далеко от товарищей. На какое расстояние, сказать трудно, однако лишней мороки не избежать — это абсолютно ясно. Неудача с первого же шага. И неудача именно с ним… Семен Лутаков был человеком впечатлительным. Даже слишком впечатлительным. Хотя постороннему и в голову не пришло бы, что за типично крестьянской внешностью скрывается тонкая, легко ранимая натура. Настроение у него могло изменяться мгновенно от малейшего, почти неприметного для других раздражения. Когда же огорчение, которое причиняли ему люди, обстоятельства или же он сам, было особенно сильным, оно почему-то тянуло за собой воспоминания обо всех предыдущих неудачах. И «настроение падало ниже нуля» или «с самого дна души всплывали на поверхность давнишние утопленники», как он любил говорить в такие минуты. Он умел скрывать свои настроения, подавлять их силой воли, зажимать в кулак. И естественно, что никто из знакомых, включая даже самых близких товарищей, ничего об этих «нулях» и «утопленниках» не знал и даже не догадывался. Иногда он казался им просто толстокожим. Глядя на его приземистую, коренастую, почти квадратную фигуру, сильные руки, энергично посаженную на мускулистую шею круглую, коротко стриженную голову, простые и грубоватые черты лица, действительно можно было поверить, что парня ничем не прошибешь. Даже из пушки, как выразился однажды любимец девушек студент Яков с ветеринарного факультета. Вот только его глаза, небольшие, но удивительно синие… Да кто к этим глазам будет присматриваться? Была, правда, одна… А может, и сейчас где-нибудь есть… Только где-то невероятно и недостижимо далеко. …А тем временем его кто-то сверху пихает, протискивает в люк. «Штурман, наверное», — думает Лутаков, и от одной мысли, что все товарищи давно выбросились и уже на земле, у него становится на душе горько: значит, теперь он останется один, оторванный от своих… Ищи тогда ветра в поле! А еще начальник штаба! Кто-то держит его за плечи, кто-то больно нажимает на подбородок, что-то острое вонзается в бок… Он и сам изгибается всем телом, дергает плечом и… приходит в себя после резкого рывка. Парашют раскрылся так внезапно, что Семен впоследствии не мог даже вспомнить, произошло ли это автоматически или же он сам непроизвольно рванул за кольцо. Ведь все складывалось так непредвиденно! «Фактура» у него дай боже, а тут еще и довольно увесистый пакет с батареями для рации!.. Нужно же было, чтобы именно он взял их! Что они будут делать без батарей, ежели… А пока он висит под белым шатром в воздухе. Светит вровень с его лицом полная луна. Под ногами серебристо-синеватый плотный сумрак. И летят ему навстречу какие-то огни. Костры? Сигнал? Пожар? Огни все приближаются. Мерцают тревожно, растут, летят навстречу и вместе с тем куда-то в сторону. Так, будто он стоит на месте, а это загадочное пламя несется мимо него… Все внимание Семена сосредоточено сейчас на этом ночном пламени. И только когда сапоги касаются земли, Семен возвращается к действительности. Приземлился легко, привычно. Лишь чуточку качнулся и сразу же твердо стал на ноги. И тотчас — безветренно! — белыми волнами опустился возле него парашют. Удачно, ничего не скажешь! Семен еще со студенческих, невероятно далеких теперь времен полюбил парашютный спорт после первого же прыжка с осоавиахимовской вышки. Хотя всю прелесть его почувствовал, когда несколько раз прыгнул уже с самолета… Лет пять с огромным увлечением занимался он парашютным спортом. И с каждым прыжком заново переживал, заново смаковал каждую неповторимую минуту полета и ощущение собственного тела в безбрежном воздушном океане. И только сегодня было не до этого. Приземлился почти бессознательно, механически. Все внимание было устремлено на другое: где свои? Где враги? Остро и знакомо пахнет полынью и чабрецом. Вокруг ни своих, ни чужих. Ясная лунная ночь. Степное раздолье. Пологий, прорезанный мелкими и глубокими буераками, давным-давно не тревоженный плугом целинный косогор. Выжженный солнцем сухой бурьян, чертополох, травы. Внизу неширокая извилистая долина плавно изгибается, скрываясь где-то за холмами. Кое-где темнеют кустик, одинокая верба. Между кустиками зеркально посверкивают тихие озерки… Речушка? Наверное, речушка. На самом гребне холма на четком горизонте, совсем близко, мерцают, трепещут красными крылышками огни… Теперь они уже не похожи на обыкновенные костры. Кажется, все-таки это пожар. С того, противоположного края долины, от огней, Семена никто не увидит. Но если кто-нибудь есть там, за спиной? Видно же вокруг, вероятно, на много километров… Семен тащит парашют к ближайшему углублению, и потревоженная полынь пахнет еще сильней, еще приятнее, напоминая о чем-то очень родном. И вся эта долина, речушка, буераки, как мучительно пробуждают они в нем что-то давно забытое! На дне такой лощины земля должна быть влажной, а под сапогами будет ощущаться сыпучая, с мелкими камешками дресва. Так оно и есть… А ближе к пойме в тени глинистого обрыва должны расти бузина, стрекучая крапива и какиш. Так в далеком детстве называли они хрупкий съедобный молочай — круглые высокие стебли с темно-зелеными, похожими на крылья летучей мыши листиками… Как же все это напоминает ему… Нет, в самом деле, как все похоже, невероятно похоже! Кажется, стоит пройти в ту сторону, за тот вон холмик, и сразу же откроются обрыв, глубокий овраг. А на самой вершине на меже (туда отец годами выносил со своего участка и складывал в кучу камни) куст шиповника… Это поле Семен помнил с тех пор, как стал себя сознавать… По крайней мере, с двадцатого года. И смотрел он на все это, по крайней мере, до тридцатого. И нужно же было случиться так, чтобы эта узенькая песчаная, усеянная меленькими и плоскими, будто отшлифованными камнями, еще дедовская или прадедовская, нивка снова досталась отцу в момент великого земельного передела в конце гражданской войны. Каждую весну этот целинный склон, который, казалось, никогда и не вспахивался, вспыхивал красными петушками. А вся балка с весны до осени покрыта была синими васильками, голубыми петровыми батогами, а ниже, на влажном дне яра, буйно перло из земли множество всякого лапчатого зелья… Летом в двадцать первом голодном году на этой песчаной нивке, на склоне, обращенном к солнцу, раньше всего, намного раньше, чем рожь, вроде бы даже в июне, созрел, побелел редковатый ячмень. И они чуть ли не первыми в селе испекли из нового в том году урожая темные рассыпчатые ячменные лепешки. В те годы распахивали все, что только поддавалось распашке. Внизу по обеим берегам речушки зеленели левады и огороды, засаженные капустой, огурцами, тыквой и коноплей. Только самые крутые склоны, бугры, яры и обрывы оставлялись на все длинное лето пастухам. Бедные, выгорающие на летнем солнце сельские пастбища… И все же приволье, раздолье, счастливое и солнечное детство для малышни. Почти десять самых лучших весен и лет своего детства беззаботно провел Семен на таких вот, как сейчас перед ним, Буграх. Бугры пустели только поздней осенью, когда пастухи уже не выгоняли туда скот. Но безлюдно и пустынно было здесь не так уж и долго, до первых красных петушков, как тогда говорили… В один из летних дней во время жатвы Семен увязался на Бугры за старшим братом Петром. А был он тогда еще совсем малым, даже и пастухом самостоятельным не успел еще стать. Бугры были от села примерно в семи километрах. Однако Петро, вообще очень строгий двенадцатилетний пастух, на этот раз смилостивился над Семеном и взял с собой, вырвав наперед твердое обещание слушаться и заворачивать корову. У них тогда в хозяйстве не было ни лошадей, ни другой скотины, одна только длиннорогая корова Лыска. Там, на Буграх, и захватил их памятный ливень с градом. Дождь лил как из ведра не меньше часа. А потом ударил град. Шел недолго, каких-нибудь пять-шесть минут. Но и от этого все поле вдруг стало белым, как зимой. К тому же градины летели с голубиное, а то и с куриное яйцо. Во всех селах окрест побило стекла в окнах. Об этом граде у них вспоминали часто даже много лет спустя. А у братьев в тот момент всего и укрытия-то было что старый домотканый мешок. Петро положил Семена в межу под куст шиповника, сам упал на него сверху и прикрылся мешком. Когда дождь и град затихли и стало после этого очень холодно, промокшие до нитки, продрогшие и напуганные мальчишки погнали корову домой. Как только выбрались с Бугров на жабовскую дорогу, встретили отца. Он, встревоженный и напуганный, спешил им навстречу, неся свою старую свитку и сухие сорочки… Именно после этого града, примерно через неделю, направляясь в поле, отец прихватил с собой две лопаты: обыкновенную и кривую. Снял аккуратными пластами с косогора против их надела несколько метров зеленого дерна и вырыл на этом месте прямоугольную ямку. Потом выложил из заготовленного дерна боковые стены, забил впереди столбик, закрепил перекладину, поставил несколько поперечных досок, покрыл их лозняком, соломой, присыпал землей, сверху покрыл дерном, и вышла землянка хоть куда. И для укрытия от всякой непогоды и так вообще, забава и радость для всех пастушков. Несколько лет была эта землянка для Семена и Петра чуть ли не роднее родной хаты. Поддерживали ее пастухи и потом, уже после организации колхозов, когда земля была обобществлена, а Семен с Петром подросли и, собственно, на Буграх уже и не бывали… Как же ярко вспомнил все это за один миг старший лейтенант, взглянув на эту степь, долину, на эти голые целинные бугры! Так и встало все перед глазами, будто вчера происходило. Даже досаду неудачи немного пригасило. Аромат чабреца и запах степной полыни! Они словно дразнили его, очаровывали, подталкивали: иди скорее вот туда, поторопись! Пересеки этот бугор, и, быть может, в самом деле произойдет чудо! Перед взором твоим откроется знакомый овраг, стремительный обрыв и быть может — кто его знает! — ты встретишь там не только тень своего детства, но и кого-нибудь из своих товарищей. Да и все равно, где-то нужно найти надежное укрытие для парашюта. И он идет… Шуршит под ногами сухая трава, скачут, разбрызгиваются во все стороны из-под сапог мириады кузнечиков. Семен перескакивает через ручеек, поднимается на гребень ближайшего бугра, и перед ним в волшебно-изменчивом лунном свете открывается пологий яр. Ниже переходит он в обрыв. А наверху темнеет что-то похожее на куст… Да, так и есть! И когда наэлектризованный этим видением Семен почти бегом приблизился к кусту, он оказался шиповником! Правда, вроде бы чуточку ниже того, из его детства, хотя и более пышный, разросшийся, густо усеянный ягодами… Удивительное, потрясающее сходство! Удивительное, потрясающее совпадение! Спина Семена покрывается мурашками. В голове туманится… Сразу же за кустом средь ровного сухого поля возвышается еще один, намного ниже куст бурьяна. И уже словно в каком-то затмении или во сне Семен тычет сапогом в этот куст… Заросшая сухой лебедой и чертополохом куча камней… Может, у него и в самом деле что-нибудь с головой? Может, лунная болезнь или еще какая-нибудь чертовщина? И уже будучи не в силах удержаться, цепенея от невероятного, странного предчувствия, он решительно направляется вниз, шагая по тропинке, которая бог весть когда и неизвестно чьими ногами протоптана. Шаг, два… десять… и с каждым шагом спуск становится все круче, а склоны оврага стремительнее… Над головой суживается полоска звездного неба. И луна скрылась за холмом. Тропинка берет круто вправо… И сразу же за поворотом снова открывается луна, а на крутом, будто нарочно ровно срезанном склоне бросается в глаза темный прямоугольник… Да, старая, давнишняя яма. Из нее густо поднимаются вверх лебеда, чертополох, чернобыльник, конский щавель и еще какие-то травы. Темный, будто специально высаженный на ровном склоне прямоугольник бурьянов. И возле этого прямоугольника его вдруг озаряет догадка! Семен останавливается. Он возле землянки своего детства. Самое страшное — вот оно, только теперь! Как, почему очутился он здесь, на расстоянии добрых полутораста километров от того места, куда направлялся? И если это правда, если… Невыносимо тяжкий грузопускается Семену на плечи. «Подумать только, как же мне не повезло! Ну почему я такой несчастливый? Ведь не в первый раз со мной такое… Ну, пускай не совсем такое, но в целом… Есть ли где-нибудь на свете более бесталанное существо!..» Семен Лутаков, агроном, парашютист и начальник штаба, устало опускается на землю, где отшумело, отгудело, отбегало его нелегкое и все же веселое детство… Настроение ниже, гораздо ниже нуля… И с самого дна взбудораженной потрясением души всплывают на поверхность все до единого, какие только утонули там, «утопленники»…Всегда с ним так… Еще когда, закончив сельскую семилетку, был он секретарем комсомольской организации, мечтал пойти непременно и только в авиацию. Тогда колхозы делали первые свои шаги, жили подчас очень трудно, а то и голодно. И райком комсомола почти в приказном порядке направил его в сельскохозяйственный техникум… А потом, уже значительно позже, проходя в институте высшую вневойсковую подготовку, он опять попал на факультет, который осваивал не штурманскую (были в то время и такие) и даже не артиллерийскую, а именно пехотную, стрелковую премудрость. Тогда он взялся за парашютное дело в спортивном кружке Осоавиахима. И что же? За год перед войной в летних лагерях дивизионная комиссия присвоила ему звание младшего лейтенанта. В июне сорок первого, наспех и досрочно сдав последний экзамен в институте, не подержав в руках долгожданного диплома, он направился добровольцем в военкомат. Их город очень быстро, за несколько дней, превратился в прифронтовой, и в военкомате с младшим лейтенантом долго не возились. Выслушали его сообщение о том, что он-де парашютист, и немедленно отправили в маршевый, уже действующий полк командиром… стрелкового взвода. Два года суровых военных испытаний. Тяжелое ранение, два новых кубика в петлице и должность «адъютанта старшего» — то есть начальника штаба батальона. Сталинград, Дон, Донбасс… И наконец, когда он уже совсем и не мечтал об этом, ему приказывают отобрать в батальоне несколько добровольцев в десантники… И ошеломляющая встреча с отцовским полем, и Семен не знает, как ему быть, с чего начинать.
Огромная луна, вдоволь насмотревшись на обескураженного Семена, наконец будто бы узнала в этом парашютисте знакомого пастушонка и постепенно начала сползать вниз. До захода, правда, еще далеко, но здесь, в овраге, темные тени удлиняются, становятся гуще. «До утра уже совсем недалеко, а я все здесь, — думает Семен. — Нужно что-то делать. Во-первых, с парашютом… И потом, быть может, в этих оврагах еще кто-нибудь есть. Может, притаился кто-нибудь из своих и выжидает?» Семен нащупывает в кармане гимнастерки свисток и не спеша, нехотя дует: «Пить-пить!» Вокруг немая тишина. Даже кузнечики умолкли — время позднее. «Да, — думает Семен, — конечно, была минута-другая задержки. Да еще и высота… Ясно, отнесло, возможно, и на десяток километров. О чем только думал этот олух штурман!» Но разве Семену теперь не все равно? Теперь думать — и хорошенько думать! — нужно ему, Семену Лутакову, пастуху из села Паланка Терногородского района, начальнику штаба десантной организационно-партизанской группы, старшему лейтенанту…
Еще некоторое время он сидит, стараясь овладеть собой, перебороть вялость и болезненную усталость во всем теле. Обдумывая все случившееся, он машинально ощупывает сухую траву. Под руку попадаются мягкие, гладенькие стебли, короткие, с похожими на крылышки летучей мыши листиками… Он! Свидетель и друг детских лет — сладкий молочай, какиш! Когда-то, в те далекие-далекие теперь и такие, кажется, всегда солнечные годы, они, пастушата, каждый день носились оживленными стайками по этим буграм. Энергичные, подвижные, веселые и шумные, были они почти всегда голодными, как волчата. И набрасывались, как прожорливая саранча, на все, что было хотя бы чуточку съедобным. Ели все: зеленый терен, недозревшие ягоды шиповника, щавель, паслен и желтые продолговатые ягодки дерезы. Высасывали также крохотные и сладкие цветочки белены, грызли молодыми зубами этот вот какиш… Семен сжимает в пальцах тугой стебелек и, напрягая руку (кожица у этого растения крепкая, жилистая), ломает его у самого корня. Привычно, будто все это было только вчера, счищает мягкие листики, потом старательно и осторожно обдирает жесткую кожуру, а мягкую скользковатую сердцевину, из которой на руки брызжет сок, некоторое время раскатывает, будто тесто, в ладонях… Пастушата всегда так делали, чтобы отошел, откачался горьковатый, невкусный сок и стебель стал вполне съедобным. Раскатывали и обязательно напевали при этом:
Качай молочай,
Та в вино умочай,
А з вина та в г…
Щоб солодше було!
Да, это была его степь. С древних времен, испокон веков! Испокон веков жили в этой степи люди, хотя и звалась она еще долгие времена Диким полем. Ютились по оврагам и долинам степных славянских рек — Бугов, Синюх, Торговичек, Тикачей. И по совсем крохотным, от которых веяло еще половецким духом, по Кагарлыкам, Черным и Сухим Ташлыкам да Сугаклеям. Жили по хуторам, запорожским паланкам и зимовникам, а чуть дальше на север и большими селами. Поднимали целину, сеяли рожь, ячмень, гречиху и просо, ловили зверя и рыбу, защищали край земель славянских от наездов лютых кочевников, а потом ходили в понизовье Днепра, на Сечь, воевали с турком, крымским ханом, панами польскими… И вероятно, с тех пор как живут здесь люди, жила среди них, то разрастаясь, то усыхая, семья какого-то Шульги — древнего-предревнего Семенова пращура. По всей вероятности, потомки Шульги из века в век сеяли здесь рожь, ходили на Запорожье, воевали с турком-басурманом, да и с кем только не воевали. А бывало, что и между собой до смертной гробовой доски сражались. Но мало-помалу, из века в век, из рода в род, заселяли, поднимали к жизни Дикое доле, превращая его в плодородную ниву, в край щедрый и богатый, и засеяли, залили его колосистым, буйным морем пшеницы, наполнили гулом железа и стали!.. И быть может, лет триста или двести назад пришел в эти края первый Лутаков. Кто он был, его второй прапрадед? Рваная Ноздря из отрядов Самозванца, Болотникова или Пугачева? Беглец крепостной от лютой неволи барской? Или же какой-нибудь потемкинский солдат-горемыка, который отслужил где-то здесь свои двадцать пять да, не имея ни кола ни двора, ни матери старенькой, ни жены молодой, осел на земле, которая приветливо встретила его и стала родной… Кто он был, откуда, когда и как пришел, разве теперь отгадаешь. Ни в книгах дворянских родов, ни в гербовниках боярских фамилий имя его не значилось. Да что там гербовники, метрик обыкновенных и тех не сохранилось! Да так ли уж это и важно? Главное — был такой, пришел, появился, принес свое честное имя, и оно вот сохранилось, дошло до нас через сотни лет. И где-то он здесь поселился, жил, работал, женился, видно, на какой-то молодой степнячке из рода Шульги, и вдвоем они поставили глиняную хатенку, посадили вишневый сад в чистом поле. А может, был он уже пожилым человеком и пошел в примаки ко вдове, муж которой так и не вернулся из турецкого или какого-нибудь иного похода… Так или иначе, а пошла от них новая ветвь степная, соединив Лутаковых с Шульгами. И пошла с тех пор и фамилия Лутаковых. Правда, только и всего, что фамилия, потому что дети их, как и все вокруг, разговаривали на языке матери. Да и отец быстро освоил этот язык. А уже во втором или третьем колене фамилия эта осталась только на бумаге, в поповских грамотках и списках воинских начальников. Давным-давно, с деда-прадеда окрестили их соседи-односельчане по-уличному Латками. Латка да Латка! Гервасий Латка, Охрим Латка, Михайло Латка и, наконец, Семен Латка… То ли фамилию Лутаков на свой вкус подогнали соседи, то ли была еще какая-нибудь другая зацепка, в самом деле с латкой-заплаткой связанная, кто же теперь об этом ведает! А только спросит кто-нибудь посторонний в селе про Лутакова, так никто и не вспомнит. А Латку, как же, все знают: вон там, на Кривой улице, возле самого обрыва, живет. Сам Семен только в школе с удивлением узнал, что фамилия у него была Лутаков. И долго еще с непривычки забывал откликаться на эту фамилию.
…И вот он, Семен Лутаков — Латка, потомок и наследник многих поколений, идущих от Шульги и Лутакова, — дома! Слева, километрах в десяти или, быть может, чуть поближе, — Жабово, дорога на Новые Байраки. Прямо впереди догорает в ночной тишине Солдатский поселок. Справа, примерно в пяти километрах, там, где половецкий Кагарлык устремляется к славянской Синюхе, — Шляховая. А рядом, каких-нибудь три километра в сторону, — Паланка. Его, Семеново, родное село. И всюду люди… Свои, хорошие, советские люди. Знакомые, соседи, товарищи, друзья, далекие и близкие родственники, родня! И хотя они сейчас в тяжкой неволе и лютая смерть здесь, в далеком тылу, как и на фронте, каждый день заглядывает им в глаза, все равно Семен твердо убежден: никаких «белых пятен» на самом деле не существует. Семен среди своих, и он знает, что делать. Он должен добраться до родного дома и уже вместе с близкими начать поиски товарищей и налаживать работу, ради которой его и посылали во вражеский тыл. Он должен немедленно увидеть маму. Маму, которую он не видел вот уже три года и ровно два года не имел от нее никакой весточки. Семен укладывает на дно рва парашют, потом, подумав, и мешок с вещами, присыпает все это сверху дресвой, глиной и камнями, маскирует сверху сучьями да сухим бурьяном, и вот он уже готов. Руки развязаны, лишний груз припрятан, при себе оставлены лишь оружие и сверток с питанием для рации… Рассвет застает Семена уже возле Шляховой, в устье речушки. День он пережидает в подсолнухах. А как только начало смеркаться, сразу отправляется в дорогу и через каких-нибудь два часа, последив еще какое-то время за родным подворьем с соседского огорода, заглядывает в угловое окошко родной хаты… Только руку заносит, чтобы постучать, как вдруг так вот, с занесенной рукой, замирает, напуганный тревожной мыслью: «А что я скажу маме, когда она спросит про Петра? Как я смогу ей это сказать?» В последний раз Семен был дома летом сорокового года, после окончания четвертого курса. Пробыл в селе почти два месяца и выехал из дому (он почему-то хорошо запомнил это) двадцать восьмого августа. Из МТС на станцию как раз шла грузовая машина. Провожал его Петро. Зимой Петра брали на финскую. Возвратился он оттуда в марте, живой и невредимый. Только поморозил пальцы на левой ноге, и они долго не заживали. Даже еще и тогда, в августе, брат слегка прихрамывал. Работал он в своей же МТС трактористом. Пока машину готовили в дорогу, на улице у ворот собралось несколько знакомых хлопцев. Стояли возле буфета, пили пиво, угощали Семена, перекидывались словцом с молоденькой остроглазой продавщицей Матюшенковой Любкой. Девушка быстро, умело орудовала кружками, отшучивалась, а сама время от времени — Семен заметил это — стреляла быстрыми карими глазами на Петра. Петро стоял немного в сторонке, стройный, высокий, красивый, и, казалось, вовсе не замечал ее взглядов… А Семен, удавшийся в мамин, шульговский, приземистый, род, малость даже завидовал Петру, вспомнив, как мама однажды упрекала старшего сына: «Когда уж ты, Петро, женишься? Хочу иметь невестку в помощь и внука на радость». Семен вспомнил об этом там, возле буфета, и тоже спросил: «А в самом деле, Петро, пора бы уж тебе и жениться». — «И ты туда же! — как-то вяло улыбнулся Петро. — Хватит того, что мама… — И добавил: — Да и невеста моя еще не подросла». — «А ты, пока подрастет, бери Любку! Видишь, как она стреляет глазами в твою сторону». — «Э»! — отмахнулся Петро и смутился, как девушка, у него даже уши покраснели. Вот такой была у них с братом последняя домашняя беседа…
В первые недели войны, уже из армии, Семен написал домой одно, а потом и второе письмо. Однако ответа не получил. Примерно в конце июля всякая связь с родными прервалась. Родное село оказалось за линией фронта, на оккупированной территории. И эта временная оккупация тянулась вот уже ровно два года. Прошлой зимой, после Сталинградского котла, дивизия, в которой служил Семен, с боями продвигалась вперед через заснеженные просторы донских степей, приближаясь к границам Украины. Ясным зимним днем Семен, задержавшись по каким-то делам при штабе, догонял свой батальон на попутных машинах. Снега выпали тогда глубокие, морозы стояли лютые. Дороги были перепаханы бомбами и снарядами, устланы трупами вражеских солдат, забиты сломанной и сгоревшей техникой. Какой-то молоденький ефрейтор в засаленном белом полушубке провез его с десяток километров на легком зеленом «бобике», вытряхнув на мерзлых ухабах и проморозив на пронзительном ветру всю душу. Потом остановился неожиданно и объявил: «Конец, лейтенант, приехали! Мне сюда. А ты пойди в село. Тут, видимо, есть какой-нибудь КП. Глядишь, может, и повезет». Машина стояла на ровном месте. Никакого села Семен не видел. Только, хорошенько присмотревшись, заметил, что от села остались одна табличка, припорошенные снегом бугорки и кучи обгоревшего железного лома. Семен сделал несколько шагов, обходя это покореженное железо, идя вдоль того хаоса, который вроде бы должен был быть раньше дорогой или даже улицей, и впереди в балочке увидел обоз крытых брезентом грузовых машин. Они, кажется, только что остановились. Из кабин на снег повыскакивали водители, разминаясь и закуривая, сбивались в кружки. «Куда машины?» — подошел к ближайшей группе Семен. «А тебе, лейтенант, куда нужно?» — прикуривая толстенную рыжую трофейную сигару, вопросом на вопрос ответил низенький солдат в длинном расстегнутом кожухе и больших новеньких валенках. «Туда», — махнул рукой в заснеженную степь Семен. «А мы как раз именно оттуда… Жаль, сватами не будем. На вот, хоть закури с горя немецкий гостинец. Сам фон Паулюс угощал», — достал он из объемистого деревянного ящичка еще одну сигару. «Благодарю, я, брат, непьющий с детства», — отшутился в свою очередь и Лутаков. И не успел еще отойти, как вслед за ним бросился высокий парень в тугих новеньких ремнях и с желтой кобурой поверх щегольского полушубка, с сержантскими погонами на плечах. «Семен! Семен, эй, слышь! Семен, подожди!» Семен сразу даже не сообразил, что это окликают его. Отвык уже от такой формы обращения. Когда же, наконец, оглянулся, увидел: к нему бежит высокий, совершенно незнакомый человек со смолисто-черными усами на молодом, обветренном лице. Не останавливаясь, налетел он на Семена, сгреб, смял длинными сильными руками, прижал к груди, оторвал от земли, крутанулся вместе с ним, снова поставил на снег. «Мать родная, ей-богу, это ты, Семен! Ты или не ты?» «Да я! — крикнул в ответ Семен, с трудом сдерживая слезы. Из-за этих проклятых усов он не мог узнать Петра, только по голосу догадался, что это он. — И откуда ты их взял?!» «Кого?» «Да усы же!» «Тю! А я думаю… Еще с прошлой зимы. Привык уже. Вроде бы не так губы мерзнут. Да и носу теплее». Какое-то мгновение они стояли молча, похлопывая друг друга по плечу и осматривая сияющими, влажными от волнения глазами. «Петро…» «Семен…» «И скажи ты… Нужно же, чтобы вот так, а?!» «Вот и я говорю!» Все это было таким неожиданным, ошеломляюще радостным, почти невероятным! Хотелось так много сказать друг другу, что в груди распирало, перехватывало в горле и словно совсем не было слов. Стояли оба бледные, широко улыбались — улыбки эти, казалось, вот-вот перейдут в слезы — и только помаргивали глазами. «Семен!» «Петро!» «Вот это да!» «Как ты, Семен?» «Да вот, как видишь. Живой. А ты?» «И я». «Ну, а как же там… Как же там наша старенькая?» — совсем растерявшись, забыв обо всем, спросил Семен. «А что там… — так же машинально начал было Петро. И вдруг спохватился. Закончил тихим, грустным голосом: — Будем надеяться на лучшее. Может, как-нибудь и там все обойдется. Я же, Семен, знаешь, когда последний раз был дома? Второго июля, в сорок первом…»

А вдоль колонны от группы к группе уже летело возбужденное: «Сержант Лутаков брата встретил… Сержант Лутаков родного брата встретил». И кто им только сказал, что именно брата? Само оно в воздухе разлетелось или еще как? И уже кто-то отвинчивал крышечку баклажки, наливая в нее крутой донской самогон, а кто-то предлагал — как-никак, а такая встреча! — чистого спирта. А кто-то уже нарезал ломтиками мерзлое розовое сало. И встреча эта, оказывается, стала праздником не только для братьев… Каждый хотел хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь участвовать в нем, прикоснуться душой, получить свой паек душевного тепла и внести свой взнос в такое радостное событие… Даже и не заметили сразу, как где-то в голове колонны прозвучала команда трогаться. «Семен, пиши! Обязательно пиши, не ленись», — уже нащупывая валенком ступеньку кабины, наказывал Петро. «Да подожди! — спохватился Семен. — Куда же „пиши“?.. Глупые мы с тобой. О самом главном забыли!» И лишь после этого обменялись номерами полевой почты, записав их на обрывках бумаги и завинтив в солдатские «смертные» медальоны. «Ну, будь здоров, Семен!» «Будь здоров и ты, Петро!» Петро прислонился к щеке Семена своими теплыми и мягкими, будто детский чубчик, усами. А потом, уже высунувшись из кабины, на ходу повторил: «Будь здоров, Семен! Теперь уже, видно, дома встретимся!» «В Берлине, Петро!» Минуту-другую Семен шагал еще рядом с машиной, потом следом за нею, а потом остановился… До весны Семен получил от брата четыре письма-треугольничка. Писал ему и сам. А вот встречаться им больше не пришлось. Да уж и не придется. Никогда. Около двух месяцев не было от Петра ни слова. А потом вдруг пришло извещение. Где-то в районе Барвенкова… при выполнении важного задания… Не дождется уже мама ни невестки, ни внука от Петра. И что же он, Семен, ей теперь скажет? Как сможет сказать ей такое? «Нет! Ничего я сейчас ей не скажу! Не видел Петра, не встречал. Пускай уж потом… Тогда вместе с победой… хотя и не легче, но все же… все же как-то не так…»
Когда Семен постучал в угловое окошко, а потом подошел к двери, потрогал за щеколду, мать тотчас же смело отодвинула засов. И спросила: «Кто там?» — уже после того, как дверь была открыта. — Да тут к вам из Терногородки… Дело есть, ежели в хату пустите. Она переждала минуту-другую. Помолчала как-то особенно, многозначительно. Не испуганно, не настороженно, а как-то иначе. А потом сказала совсем тихо: — А почему же… заходите!.. Если с добром, то почему же… Темные, до мельчайших подробностей знакомые сени, темная большая комната. За печью, за дверцей, задернутой одеялом, еле-еле заметная полоска света… Мама снова заперла дверь. Войдя в комнату, спросила: — А кто же вы, если из Терногородки, будете? — Да, правду говоря, не тамошний… так… — Ну, а ко мне кто же послал? Не Роман ли случайно? — Да, может, и он… Семену казалось, что мама говорила вроде бы с некоторым намеком или со скрытой улыбкой. Только в темноте он этого не видел. А когда провела его за печку, в освещенную кухоньку, стала спиной к старой, еще дедовской печи, лицом к неизвестному гостю, ее глаза, большие, темно-синие, как сливы, на какой-то миг стали словно бы еще больше. На один лишь миг. Потому что в следующий они уже скрылись за молодыми пушистыми ресницами. — Господи! Чуяло же мое сердце! — Что чуяло, мама? — Так я и знала! — Что? — А что это не иначе, как ты. Господи, сынок!.. Да тут же из-за тебя все вверх тормашками переворачивают!.. — Но почему же именно из-за меня? — Ну, а из-за кого же еще? Как услышала я вчера об этом парашюте, так и подумала: «Не иначе, как он, Семен мой! Знаю я его, разбойника!..» Она произнесла эти слова сдержанным и казалось даже спокойным шепотом, а сама тем временем шла к нему от печи нерешительными, шаткими шагами. А он стоял оторопело на своем месте, и сердце у него вроде бы на куски разрывалось. Мама — низенькая, сухощавая, непоседливая и острая на язык. Потому-то, видать, и родичи и соседи не Оленой и даже не Еленой, а лишь Ялынкой [16] зовут. Только раньше была она Ялынкой по фамилии Шульга, а теперь Ялынка Латкина. Словно бы и не очень, не сильно изменилась… Разве только похудела, осунулась, да голова… голова у нее стала белой как снег. А ведь мама совсем еще не старая! Какая старость! Год или два за полсотни. Вот и все. Разве это старость? Тем более что и живость и характер, унаследованные от рода Шульги, так и остались ее, мамины…

Упала ему на грудь и разрыдалась. Беззвучно плакала, вздрагивая узенькими плечами, и, видно было, пыталась сдержать эту дрожь… И сдержала все-таки, оторвала лицо от груди сына и заглянула ему в глаза заплаканными, счастливыми, сияющими глазами. — А тебя, сынок, никто не заметил? Как ты думаешь? — Я, мама, осторожно, — уже не таился, не мог таиться Семен. — Я, мама, за грушей в саду у Матюшенков часа два сидел… Тайком пробрался вдоль рва, от речки… Видел, как вы за водой шли, потом фасоль вылущивали. Будылья в хлев занесли… Сжимал своей тяжелой рукой острые мамины плечики — плотный, широкоплечий, приземистый — и чувствовал себя совсем мальчишкой. — Пахнет от вас, мама, чем-то домашним… Таким вкусным-вкусным… ржаным… — Ну да, — улыбнулась сквозь слезы мать, — чем же еще пахнуть? Сегодня моя очередь на жернова… Да я целехонький день того… целую макитру жита перетерла! Ну а ты, Семен, надолго ли?.. — Не знаю, мама… — А не страшно тебе? — Что, мама? — Ну, прыгать… Хотя ты, правда, уже привычный, но тогда же было по-другому… — Теперь мне, мама, ничего не страшно… Только, знаете, мама… Никто, конечно, обо мне тут и не думает. Следовательно, и нет меня здесь. А дядька Роман, выходит, дома? Тут, в Терногородке? И вдруг, не дожидаясь ответа, только теперь спохватившись, восклицает: — Подождите, подождите, мама… А вы о каком таком парашюте слыхали? — Ну как же «о каком»?.. За Подлесным, возле Зеленой Брамы, на дубу немцы вчера парашют нашли! — Ну, как же вы, мама, здесь живете? Они сидят в кухоньке за низеньким столиком, ужинают — черствые, с отрубями ржаные лепешки, картофельный суп с фасолью, тыквенная каша. Семен расстегнул свою зеленую стеганку и пилотку снял. Автомат — рядом, на табуретке, пистолет и гранаты на поясе. Сверток с батареями возле правой ноги. Ужинает, собственно, он один. А мать, подперев щеку сухим кулачком, всматривается неотрывно и жадно в сына. Не пропускает ни одного его движения. Услышав вопрос, отвечает не сразу. Сидит какую-то минутку молча, словно бы обдумывая ответ, и лишь после этого тихо произносит: — Да… какая там жизнь, сынок. Живу, как горох при дороге! Мама без присказки не может. А раньше, молодая, еще и петь любила. Шьет что-нибудь — поет; на огороде — поет; прядет — снова поет. Только после того, как отца в тридцатом убитым с поля привезли, умолкла. Беда случилась вечером, когда возвращался он из Терногородки, из района… В годы коллективизации, был он председателем комбеда. Хлебозаготовки тогда очень туго, с криком да с кровью проходили. Отец тоже, когда нужно, проявлял крутой характер… Одним словом, созовская лошадка уже затемно вернулась в село с пустой двуколкой, а отца нашли в Татарском яру… С тех пор Семен уже не слыхал, чтобы мать когда-нибудь пела… — Только мне-то, сыночек, — помолчав, продолжает мама, — мне еще неплохо, если правду сказать. А вот людям… Теперь, если какая женщина детей при себе не имеет или же и вовсе их не было, так это, считай, счастливая. Люди ей завидуют… Такая, сынок, жизнь пошла, такой страх божий, что хоть верь, хоть нет. Много лет на свете живу и от старых людей многое слыхала, но такого страха, такого светопреставления не видывала… Не люди они, скажу я тебе, Семен, а ироды какие-то, упыри. Осенью в сорок первом во время дождей по грязи согнали в коровники людей видимо-невидимо. А потом… И рассказывать страшно! Ну пускай бы мужчин, раз уж война… А то ведь дети, старики… Три ночи над Тузовым обрывом трещало… Весь ров, говорят, мертвыми завалили. Младенцев неповинных и тех… Так скажи, Семен, может их после этого земля на себе держать? А потом как пошло с детьми… Видела однажды, как их из Терногородки вывозили… Посмотрел бы ты на матерей несчастных… Убиваются, вьются, как чайки… И слез уже не хватает. Такой ужас! Раз увидишь, жить не хочется… А каково матерям? Не идет Семену в горло материн оккупационный черствый корж. А она рада, что сына видит, что есть с кем хоть душу отвести. Сыплет, как из большого мешка. Да все горькое-прегорькое, да одна новость страшнее другой… Как подпольщика в Терногородке вешали! И как Любка Матюшенкова обожгла себе чем-то лицо. Чтобы в Германию не взяли. Теперь и не узнаешь. Смотреть на девушку страшно. А Холоденков мальчишка удирал с дороги. Пожалуй, еще и семнадцати парнишке не было. А его полицай — «свой», Никанор Побережный — наповал застрелил… И как Петриковку — немца там кто-то убил — дотла выжгли. А людей, кто из села вырвался, назад в огонь очередями из автоматов загоняли. А старого Назара Кумейко так избили, что богу душу на второй день отдал. А может, Семен помнит Кирилла Юшко, который бухгалтером в эмтээсе, так немцем себя, подлец, назвал и в «хвостдойчи» записался. Теперь в полиции секретарствует. А Стецюк — аблакатом был — так за начальника полиции в Терногородку пошел. «Молния», говорят, весной его убила. Нет, не грозовая. Есть тут, говорят, такие, «Молнией» себя называют. Очень их полицаи и немцы боятся! Провода немцам вроде бы рвут, бомбы подкладывают, «мотыльки» — листовки там разные… Такое началось, что и сказать нельзя. Когда оно только кончится. И высматриваем вас, высматриваем. Староста у нас Гриць Кухта. Ну да, сынок того, раскулаченного. Откуда-то из Ростова, говорят, притащился. Сначала был собака собакой. Каждый день в поле выгонял. Бил людей за каждую щепочку. А теперь побаивается. «Я, говорит, тетка Ялынка, знаю, что ваши сыновья там, а вот, видите же, ничего, молчу». Чтоб ты от огня заговорил!.. Да и с голоду я, как видишь, не пухну. Одна-одинешенька. На огороде копаюсь, пока сила есть, с того и живу. И Роман, спасибо ему, подбросит что-нибудь, не забывает. То зерна ведерку, то картошки. А однажды даже соли узелок… — А он, дядька Роман, как? — Да все там же, где и был, в эмтээсе. — Работает, стало быть, на немца? — нарочно подчеркнул Семен. Интересно ему, что на это мама скажет. — Да оно, сынок, как в большинстве случаев все здесь… Работают. Что за неделю намолотят, то за день разнесут. Так и работают. Вроде бы и на немца, а если подумать, то на себя. Потому как недалеко немец на этой работе уедет… Только вот выпивать почему-то в последнее время начал Роман, говорят, частенько прикладывается. Раньше что-то я за ним такого не замечала. — Повидаться бы мне с ним, мама… — А что же. Нужно, так и встретитесь. Смело можешь встречаться. Не сумлевайся. — А я и не сумлеваюсь, мама. А все же сделайте как-нибудь так, чтобы он к нам зашел, заранее обо мне ничего не зная. — Можно и так. Что же это я, сынок, все о своем да о своем. А ты мне так ничего о себе и не говоришь… И еще долго, будто боясь оторваться и снова надолго потерять сына, рассказывала и расспрашивала. А вот о Петре так ничего и не спросила. Будто предчувствовала что-то недоброе и побоялась, раз уж он, Семен, сам об этом не говорит…
На следующий день утром мать заперла его в хате на замок и ушла в село расспросить у людей, не едет ли кто в Терногородку. Вернулась часа через два. Похвалилась, что нашла такого человека. Дочь Поддубного из коровника молоко в район повезет. По дороге и в эмтээс забежит. А еще принесла мама ужасную новость: шепчутся всюду люди, передают друг другу, что новобайрацкий староста Макогон задержал где-то и выдал жандармам двух советских парашютистов…
…Шел селом вдоль улицы пьяный человек. Пошатывался, останавливался и снова шагал, время от времени даже пытаясь запеть:
A cиpi дрова не горять!..
A cиpi дрова не горять!..
A cиpi дрова не горять!..
A cиpi дрова не горять!..
A cиpi дрова не горять!..
A cиpi дрова не го-о-о-рять!..
A cиpi дрова не горять!..
А сир-p-pi дрова не горррять!..
А сир-p-pi дрррова не горрять!..
А сир-p-pi др-р-рова не гор-р-рять!..
А сир-p-pi др-р-рова не гор-р-рять!..
…Увидев и издали узнав капитана Сапожникова, Семен бросается бежать, ловко, умело перепрыгивая через кусты барбариса. Замедляет шаг лишь за несколько метров и, как есть, в одних трусах, опустив руки по швам, четко, по-военному отпечатывает шаг. Подходит, останавливается в трех шагах, ест глазами начальство и громко рапортует: — Товарищ командир десантной группы, старший лейтенант Лутаков прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы! И стоит, будто отлитый из металла. Только улыбка до самых ушей и капельки воды на плечах вспыхивают синими огоньками в солнечных лучах. — Вольно! — точно так же улыбаясь, командует Сапожников. — Благодарю за службу. — И спрашивает с надеждой и плохо скрываемой тревогой: — Ты один, Семен?.. — К сожалению, один, товарищ Сапожников. А вы?.. — Я-то не один, но… Однако его речь вдруг прерывает какая-то полная краснощекая смуглянка в зеленом платьице, с толстой косой, уложенной на голове венком. — Прошу прощения, — говорит она громким степным голосом, обращаясь к своему руководителю. — Виталий Витальевич, возвратился Ромашко. Рассказывает, что хлопцы топтуновские вроде бы какого-то гестаповского шпика поймали. Сначала в погребе держали, а теперь, говорит, собираются «шлепнуть»… Виталий Витальевич, вы же знаете Топтуновых! Не откололи бы чего-нибудь… Передайте, Виталий Витальевич, чтобы без вас не самовольничали… а то мало ли что. — Хорошо, хорошо, Галинка, — ответил Виталий Витальевич. — А что же говорит он? — Кто? — Ну тот, задержанный? — Говорит, что парашютист… Виталий Витальевич поворачивается лицом к Сапожникову и, устало улыбаясь, говорит: — Верите, товарищ капитан,за эти два дня всюду развелось столько «советских парашютистов»! Десятками! Настоящих не разыскали, а гестаповских хоть пруд пруди… А у нас там, у Топтуна, важная запасная база. — И снова к девушке: — Хорошо, хорошо, Галинка. Тотчас же передай, чтобы не мудрили. Передай, чтобы они, тщательно соблюдая маскировку, привели этого «парашютиста» сюда, к Чабаненко!
Ефрейтор Настя Невенчанная
Всю жизнь, сколько Настя помнит себя, она всегда куда-то спешила. Ей постоянно не хватало времени. Она никогда не успевала спокойно позавтракать, пообедать или поговорить с кем-нибудь: всегда нужно было куда-то бежать, торопиться. И вот теперь впервые за свои семнадцать лет она имеет вдоволь времени — торопиться некуда. Однако обстоятельства к спокойным размышлениям вовсе не располагают. Вокруг совершенно незнакомая местность, степь, опушка леса. Лунная летняя ночь подошла, вероятно, уже к трем часам. А она, Настя, повисла между небом и землей в густой кроне развесистого дуба. Повисла и барахтается, беспомощная и разъяренная, вот уже столько времени! И вместо того чтобы трезво и спокойно поразмыслить обо всем, ругает себя макухой и чуть не плачет от досады, бессилия и отчаяния…Очень давно, еще когда она была совсем маленькой, отец — высокий, сильный, приятно пахнущий дорогими папиросами, — беря ее на руки и подбрасывая к самому потолку, громко смеялся и приговаривал: «Она у меня такая легонькая, словно перышко… Однако только характер тяжелый…» «Что верно, то верно, — добавлял дедушка (в воспоминаниях — седой пушок, ласковый тихий голос), — хотя и девчонка, а характер запорожский!» «Как нашатырный спирт», — включалась в разговор и мама, которая работала тогда лаборанткой на заводе и хорошо разбиралась в химии. Подлетая к потолку, Настя заливалась веселым смехом, хотя на самом деле ей было страшновато. Полет этот, несмотря на страх, ей очень нравился.
…Парашют ее раскрылся на большой высоте от земли. И ее очень долго несло куда-то в тусклый ночной простор. Пока не занесло к этому неведомому лесочку и не бросило на этот вот дуб… Сначала она с треском и шумом пробила его густую крону, к счастью не повредив себе глаза. Потом ее яростно рвануло, занесло в сторону, с силой ударило о толстый шершавый ствол левым плечом. Через минуту, когда она была в состоянии немного ориентироваться, поняла: висит между небом и землей. Парашют запутался в ветвях. Над головой темный шатер листвы. Стропы, свернувшись жгутом, попали в развилку между ветвями, захлестнули туловище и затянули левую руку так, что не шевельнешь ею. Правая оставалась свободной. Но затекла, одеревенела. Значит, приходилось либо терпеливо ждать, пока подойдет кто-нибудь из своих, заметив белое полотнище парашюта на дереве, или… Настя, несмотря на боль в плече, раскачивается всем телом, пробует дотянуться ногами до ствола. Однако ствол от нее все-таки далеко, и ей не достать даже носком сапога. Да, положение — хуже не придумаешь. Подходи, подставляй лестницу и снимай, как мокрую курицу. Весело, ничего не скажешь. Макуха! Как есть макуха!.. И все-таки, ежели что, живой в руки она не дастся. Пистолет недалеко — в правом верхнем кармане ватника. С огромными усилиями, превозмогая боль и оцепенение, она все-таки согнула правую руку и дотянулась до пистолета. Дотянулась, но пальцы будто деревянные, не подчиняются ей и вряд ли удержат тяжелое оружие. Ну, что же… Сейчас пока потребности в этом нет. А там пальцы в конце концов отойдут. В случае чего она ни перед чем не остановится.
Летом, когда они жили за городом, в лесу, четырехлетняя Настя, не задумываясь, хватала в руки колючий комок, который потом оказывался ежиком. Хватала и не выпускала. Так же бесстрашно, в отличие от ровесников, могла взять в руки ужа или жабу. Наткнувшись на жалящую крапиву, не плакала и не обходила потом «плохой» куст. Никому не пожаловавшись, брала в руки палку и собственноручно наказывала растение. Если падала и сильно ушибалась, почти никогда не плакала, удивляя этим взрослых. Только насупливалась и мрачно молчала. Если уж совсем невмоготу было сдержать слезы, пряталась куда-нибудь в уголок, отворачивалась к стене и терпеливо простаивала до тех пор, пока само не пройдет. — Какой-то у нас ребенок не такой, как у людей, — порой с удивлением, а порой с восторгом говорила мама. — Ни боли для нее, ни страха словно бы не существует. В кого только пошла? — Казацкая кровь! — смеялся отец. — Ничего, доченька, — гладил он тяжелой ладонью ее русую головку. — В жизни и это пригодится. А Настя, еще не понимая, почему они подтрунивают над нею, а то и хвалят, хмурилась и молчала. …Не было у нее ощущения страха и сейчас, только злость и жгучая досада, что все так отвратительно сложилось. Просто невыносимо, что она, как ни старается, не может, не найдет в себе сил, чтобы преодолеть эти глупые обстоятельства, покончить с ними разом и как можно скорее! Правда, об истинном своем положении она не догадывалась. Не сомневалась, что впереди темнеет именно Каменский лес, что этот дуб, который роскошно разросся в поле, передовой страж этого самого леса… Обидно, конечно, до слез, что она не может вырваться из этого нелепого плена и броситься в лес навстречу своим, навстречу партизанам-пархоменковцам. И тем не менее она твердо уверена: все должно закончиться как можно лучше, так, как и следовало. Если же друзья не заметят ее, она обязательно справится и сама. Сосредоточится, отдохнет, наберется сил. Тем временем рука и плечо отойдут, перестанут болеть. Жаль только, что нож засунулся куда-то за спину и ей сейчас никак до него не дотянуться… Хоть бы утро наступало не так скоро, чтобы она успела освободиться. И все будет хорошо. Будет так, как ей нужно. В конце концов, так бывало всегда, когда она этого очень хотела. Хотя бы тогда, с тем генералом…
Она давно уже убедила себя в том, что ей везет. Вот и раньше каких только ужасов не испытывала, в какие переплеты не попадала! А вот… жива! Да она, Настя, и права не имеет, просто не смеет погибнуть после всего, что видела. Не может погибнуть, не отплатив им, не отомстив… В конце концов, даже самые сложные обстоятельства не обязательно приводят к смерти, а, к сожалению, из подобных, чуть ли не смертельных обстоятельств складывалась до сих пор чуть ли не большая половина ее коротенькой сознательной жизни. Только первая утрата — смерть дедушки, которого она едва помнила, прошла как-то безболезненно. Она была еще так мала, что даже не поняла невозвратимости утраты. Ей казалось, что дедушка на время исчез и в один прекрасный день появится… Отца она тоже помнила мало. Как сквозь туман. Он был кадровым военным с довольно высоким званием. Его часто переводили с места на место, и не всегда переезжали они всей семьей… Отец погиб в Испании. Дочь узнала об этом не сразу. И быть может, впервые в жизни поняла тогда, что вот умер самый близкий, самый родной человек и его уже не будет, никогда не будет! Душевный протест против этой страшной очевидности был таким острым, а сознание непоправимости таким ужасным, что девушка впала в отчаяние, думала только об одном — о смерти. И если бы не мама, не ее еще более страшное горе, не желание хоть как-то утешить и поддержать маму, кто знает, чем бы все это кончилось. В сорок первом году она перешла в восьмой класс. Двадцать второго июня собиралась ехать в пионерский лагерь на Азовское море. Еще с вечера все ее вещи были собраны, платья выглажены, чемоданчик уложен. А утром началась война, и Настя так никуда и не поехала. Сначала война была где-то далеко, хотя и накатывалась, угрожающе приближалась к ним с каждым днем. Так было до поздней осени. Бомбили их немцы, правда, не часто. Но через город перекатывались колонны беженцев; привозили, размещали по больницам или же эвакуировали куда-то дальше раненых красноармейцев. Настя, еще не услышав ни одного выстрела, за эти несколько месяцев насмотрелась на такое тяжкое людское горе, что в другое время, другому человеку этого хватило бы на всю жизнь. Осенью фронт подошел вплотную к их городу. Остановился в центре Донбасса. Было не до учебы. Всю зиму Настя работала сначала в эвакогоспитале санитаркой, а потом вместе с мамой на детском эвакопункте. Этот пункт расположился в ее, Настиной, школе. После неудачного майского наступления наших войск под Харьковом, когда гитлеровцы снова прорвали фронт и двинулись в новый марш, Настя вместе с мамой эвакуировалась на восток. Мама сопровождала последние пять машин с детьми. Детей было больше сотни. Сопровождали их, не считая пятнадцатилетней Насти, пятеро взрослых: четыре женщины и завхоз-инвалид. Мама была старшей. Чтобы избежать опасности попасть под бомбежку, шоферы вели машины не по центральным магистралям, а по тихим и безлюдным степным проселкам. Трое суток продвигались они без особых приключений. Даже довольно быстро. Выбрались уже за границы Донбасса, в степи между Донцом и Доном. Казалось бы, опасность осталась позади. Но именно тогда все и случилось, в то солнечное летнее утро, в безбрежной зеленой степи, среди моря пшеницы, на совершенно пустом несколько минут назад проселке… День вставал над степью ясный и тихий. Звенели над росистыми хлебами жаворонки. Настя сидела в кабине передней машины. Солнце, поднявшись из-за горизонта, мощным прожектором било в ветровое стекло, ослепляло. Наверное, поэтому Настя и не заметила, как все началось. Она увидела вдруг, как взметнулись вокруг черные дымные столбы, которые сразу затмили и это мягкое утро и самое солнце. Машина неожиданно, будто живое существо, рванулась в сторону, сделала крутой поворот и опрокинулась в кювет… Мгновенная жуткая тишина, короткая вспышка детских голосов, какой-то странный звук, будто прошел град, — и снова взрыв… И так один за другим, несколько раз… Настя не помнила, как выбралась через выбитую дверцу из машины. Поняла только, что, целая и невредимая, стоит посреди дороги и смотрит на жутко застывшую картину: две машины — справа и слева — в кюветах, одна поперек дороги вверх колесами, другая чуть дальше осела на задние скаты, будто встала на дыбы. И только та, которая была последней, перемахнув через кювет, мчится куда-то в степь… Мчится по сизовато-зеленому пшеничному полю, будто плывет по зеленым волнам. На дороге дикий, слепой водоворот, взбудораженный смертельной опасностью человеческий муравейник… С диким визгом бегают, будто вспугнутые птенцы, не догадываясь рассыпаться по полю, уцелевшие дети… А из-под красного страшного солнца прямо на малышей неумолимо надвигаются танки. Те, что были в танках, видели, не могли, конечно, не видеть, что перед ними дети. Но не останавливались. Надвигались ровно, неумолимые и неотвратимые, черные слепые гигантские кроты… Увидев это, можно было сойти с ума. Настя не сошла с ума… но не выдержала. Крепко-крепко, до боли в глазах, зажмурилась. И заслонила уши слабенькими, ненадежными ладонями… После всего, что услышала и увидела на той дороге, она уже действительно ничего и никогда не боялась. Бросало в дрожь Настю только одно: воспоминание о том утре… И каждый раз, когда вспоминалось это утро, Настя невольно закрывала ладонями глаза, затыкала уши, — будто это могло спасти ее от воспоминаний. Из взрослых (Настя тогда уже считала себя совершенно взрослой) осталось в живых только двое: она и пожилой водитель уцелевшей машины, той, которая успела умчаться с дороги в степь. Раненых и искалеченных детей через несколько часов помогла подобрать случайно подоспевшая колонна санитарных машин. Убитых зарыли в общей могиле тут же у дороги красноармейцы. Все оставшиеся в живых и не получившие ранений уместились теперь в одной чудом уцелевшей полуторке. Матери Настя не нашла ни среди живых, ни среди раненых. А среди мертвых, в том кровавом месиве, которое оставили после себя фашистские танки, нельзя было распознать ничего…
Через несколько дней после этого, уже за Доном, на широкой улице казачьей станицы пожилого генерала, начальника штаба одной из крупных армейских частей, остановила лет тринадцати, от силы — четырнадцати, девочка с темным от загара лицом и облупленным носом. На щеках возле переносицы даже сквозь темный загар проступали у нее густые веснушки. А взгляд голубовато-холодных глаз был не по-детски твердым и острым. — Мне шестнадцать лет, — поздоровавшись, сказала она генералу. — Вы должны меня послать на фронт… Генерал остановился. Забыв ответить на приветствие, он удивленно посмотрел на офицеров, сопровождавших его. — Вы должны послать меня на фронт, — упорно, твердо повторила девочка. — Я буду делать все, что прикажут. Я умею стрелять, стирать белье, готовить пищу и перевязывать раненых… — Откуда ты? — дрогнувшим голосом спросил генерал. Девчонка, если присмотреться к ней поближе, лишь ростом была маленькой. А так, по глазам, по выражению лица, по разговору, была по крайней мере на два-три года старше, чем ему показалось сначала. Она чем-то напомнила генералу его среднюю внучку, от которой он вот уже год не имел никаких вестей. — Я оттуда, — девчонка махнула рукой куда-то на запад. — Вы должны послать меня на фронт… Мою маму позавчера убили фашисты. Отец — полковник, погиб в Испании. Я могу ходить в разведку. Я уже работала в госпитале… — Постой, постой, — совсем уже растерялся генерал. — Нельзя же так сразу! Кто ж так делает? Только подошла, еще и не познакомились — и сразу на фронт! — Вы должны взять меня… Все равно я пойду на фронт! Мне уже шестнадцать. Под ее натиском генерал почувствовал себя совсем беспомощным. Горло у него подозрительно сжалось. Он еще раз оглянулся и не приказал, а попросил тихим, смущенным голосом: — Прошу тебя, майор, позаботься. Прикажи старшине Ковганюку экипировать как следует, ну и… Нужно как-нибудь устроить… Одним словом, займись… — Есть заняться, товарищ генерал-лейтенант! — вытянулся молодой блондинистый красавец майор с орденом Красной Звезды на новом кителе. — Ты уж извини, — повернулся снова к девушке генерал, — извини… э… э… как тебя зовут? — Настя. — Так ты извини, Настя… Сейчас война, у генералов работы по горло, — улыбнулся он. — Генералы — люди очень перегруженные. Так что ты вот к майору… э… Калюжному… Он все и устроит. До свидания… э… э… Настя! — До свидания, — ответила Настя и холодно поблагодарила. Настю приодели, накормили, выписали продуктов на дорогу, дали даже немного денег и попытались отправить в тыл. Она попрощалась с майором Калюжным, а на следующий день опять подстерегла генерала — теперь уже возле штаба. — Здравствуйте… Все равно вы возьмете меня на фронт. Перед такой настойчивостью генерал растерялся. Майора Калюжного поблизости не оказалось, и отослать ее было некуда; он вышел из положения, обещав подумать, поговорить с девушкой как-нибудь… завтра. Так продолжалось несколько дней, пока генерал, наконец, не выдержал. — Погоди. Все это я уже слыхал! — грозно сдвинул он седеющие брови. — Ты лучше скажи: как у тебя с образованием? Только говори правду! — Перешла в восьмой, — сразу же притихла Настя. — А училась как? Шаляй-валяй? — Вот и нет. Одни «отлично» и «хорошо». — Гм… так я тебе и поверил. — И уже Калюжному чуть не умоляющим тоном: — Послушай, майор, сними ты этот тяжкий камень с моей души, позвони полковнику Зернышкину. Слыхал я, ему нужны люди на курсы радистов… Попытайся. От меня попроси… Все равно ведь и нам радисты всегда будут нужны… На курсы радистов Настя согласилась. Генерал на прощание подробно побеседовал с девчонкой, внимательно расспрашивал об отце (о нем слышал, оказывается, и раньше), о матери, потом вручил ей все ее документы и отпустил с напутствием: — Смотри же теперь, Настя, учись! Чтобы не пришлось мне, старику, краснеть за тебя. Пряча в карман великоватой ей гимнастерки документы — комсомольский билет и фотографию (они вдвоем с матерью), Настя впервые за все время скупо улыбнулась, вытянулась и даже каблуками пристукнула. — Есть учиться, товарищ генерал-лейтенант!.. Училась Настя старательно. Курсы закончила на «отлично», даже с благодарностью от командования. Сначала работала в штабе одного из воздушных соединений. Освоила там еще и парашютное дело. Потом, после Сталинграда, ее перевели в штаб фронта, во вновь созданный партизанский отдел. В мае сорок третьего ей присвоили звание ефрейтора. В июне она стала старшей радисткой и заместителем начальника отделения. И наконец, в августе Настю включили в организационно-партизанскую десантную группу капитана Сапожникова.
Так осуществилась ее мечта, ее страстное желание попасть на фронт. Осуществилось то, чего она так настойчиво добивалась и наконец добилась. И вот висит на дубу среди степи. Ей, в конце концов, не страшны ни гитлеровцы, ни смерть. Не боится она и того, что осталась одна-одинешенька, без товарищей. Так уж вышло. Страшно, что будет она висеть здесь до самого рассвета, а потом придут они и, смеясь, издеваясь, вынут ее, как птичку из силков. Ужас! Неужели же так бесславно, так позорно все это закончится? Да и товарищей, сама того не желая, она подвела: как будут без рации? Тишина. Почему такая мертвая, такая завороженная тишина вокруг? Будто и войны никакой нет. Будто и не пролетел только что над этой степью самолет и не сбросил целую десантную группу! Где они все? Словно растворились в этой зеленоватой лунной мути. Вокруг безлюдье. Ни единого звука. И свистка… Неужели ее могло отнести так далеко? А они, видимо, спустились где-то там, в лесу. И уже собрались вместе. И разыскивают ее, углубляясь все дальше и дальше в заросли. Даже и не представляют, что она могла оказаться здесь, в поле, да еще и повиснуть! Тело ее от неудобного положения затекает, будто свинцом наливается, тяжелеет и гудит, словно колокол. И в голове гудит и вызванивает. Ей бы хоть до пистолета дотянуться. Только бы ухватить его рукой. Тогда она… о, тогда она знает, что делать. Подпустит их близко-близко. Нет, она не испугается. И не растеряется. Подпустит к самому дубу и с близкого расстояния прямо в упор! Рука у нее не дрогнет. Один патрон… два… три… шесть! Нет, лучше все-таки только пять, а два патрона на всякий случай оставить для себя. Мало ли что! На перезарядку магазина надежды мало. Не успеет… Вот только бы дотянуться, только бы схватить, только бы покрепче стиснуть рукоятку. Настя в который раз уже сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее шевелит пальцами правой руки. Хотя и не без боли и не совсем послушно, они все же поддаются ее усилиям. Пошевелив, пробует стиснуть руку в кулак, но она протестует резкой болью. И все-таки если только быть настойчивой и не обращать внимание на боль… Необязательно сжимать пальцы в кулак, ведь нужно только удержать пистолет. Она бы не выпустила его, если бы… если бы смогла согнуть руку в локте, чуточку поднять плечо и потом дотянуться пальцами до кармана… Раз за разом, все настойчивее и злее, пробует Настя осилить то незначительное, казалось бы, движение и после каждой такой попытки, подавляя боль, слабость, обливаясь потом, минутку отдыхает. Отдохнет, стиснет зубы, остервенится и… рывок! Потом снова рывок. А ночь плывет и плывет над тишиной тусклых полей, над неподвижной темной кроной дуба, над всем миром, равнодушным к Насте. Чище, отчетливей становятся очертания недалекого леса. Глубже, просторнее степная глубина. Постепенно бледнеет, линяет синева неба, блекнут звезды. А где-то далеко-далеко на востоке просвечивает светло-лимонной полоской горизонт. Оседает на степное дно зеленоватая лунная пыльца, а воздух наливается свежестью и прохладой.
А тем временем идет по полю девушка. С виду она на два-три года старше Насти. Идет из Терногородки в лес, в свой, родной, Подлесненский, в котором выросла, в котором и сейчас ее отец работает лесником. Где каждая тропинка, каждое деревце знакомы ей с самого детства. Каждый раз, возвращаясь домой из школы, как бывало раньше, или, как теперь, с какого-нибудь опасного задания, издалека ловит Яринка взглядом верхушку высокого дуба, который встречает ее в степи возле Калиновой балки. Как только увидит девушка кудрявую верхушку, так и бежит навстречу ему, будто увидела самого дорогого друга. Сегодня Яринка тоже возвращается с трудного секретного задания. И хочется ей как можно скорее из открытой степи попасть в спасительный лесной полумрак. Торопится, все ускоряя и ускоряя шаг. Уже почти бежит к дубу. И вдруг видит на нем что-то непривычное для глаз, непонятное. Что-то тревожное и настораживающее. И вместо того чтобы остановиться, Яринка бегом бросается навстречу этому непонятному и тревожному. Будто кто-то родной попал в беду, и она спешит ему на помощь. Она сейчас одна-одинешенька среди этой залитой лунным светом степной шири, возле темной опушки. Но страха она не ощущает. Лишь тревожное любопытство, беспокойство. Не боится Яринка ни степи ночной, ни леса, потому что родилась и выросла она здесь на опушке, потому что это ее родная степь, ее родной лес. Бежит, не отрывая глаз от дуба, смотрит и никак не может понять, что это там белеет призрачно, закрыв вершину дерева? Бежит Яринка, торопится, даже и не предполагая, что именно ей — первой в этих краях за два долгих года — довелось встретиться с первым советским парашютистом. Бежит Яринка. И дуб на глазах вырастает, будто торопится ей навстречу. Четкий, знакомый с детства до мельчайшего листика и веточки темный силуэт могучего дуба на яснеющем фоне звездного неба. Под ним — непроглядно-темный круг густой тени, а над ним… что-то загадочное, серебристо-белое… Может, опасное? Бежит Яринка. И дуб, и черная тень, и белое привидение все ближе да ближе. Совсем уже рядом, и вдруг то ли из-под земли, то ли с неба: — Стой! Стрелять буду! От неожиданности Яринка Калиновская останавливается, будто наскочив на какую-то невидимую стену. Голос прозвучал над нею подобно грому… Однако… постой! Он ведь… в самом деле, это женский голос! Собственно, даже не женский, а скорее детский. И в этом голосе не испуг, а злость и слезы. — Слышишь, ты, не подходи! Не подходи, говорю тебе в последний раз! Стреляю!.. Голос Насти и в самом деле дрожит, ломается от жгучих слез, отчаяния и растерянности. И то сказать! Всего ждала, ко всему готовилась: к фашистам, полицаям, собакам, хоть к самому Гитлеру! Но чтобы женщина… Настя яростно рванулась всем телом и, ослепленная пронзительной болью, почувствовала, как в плече у нее что-то хрустнуло. И вот рука ее послушно сгибается в локте, быстро опускается в карман, пальцы уверенно, мягко стискивают холодную рукоятку пистолета. — Стой! Слышь, не подходи! Стреляю! — теперь уже звонко, с радостной уверенностью повторяет Настя. И только теперь замечает наконец Яринка повисшую в тени густой кроны щупленькую фигуру, различает белое полотнище запутанного в ветвях парашюта… А над степью уже рассветает. Солнце еще не близко, но уже рождается в степи новый день. — Да стою же, стою, — негромко и спокойно, чтобы и впрямь не напугать «привидение», наконец произносит Яринка. Она стоит на полевой меже, еле заметной в зарослях пырея, полыни и медвяной кашки, в каких-нибудь десяти шагах от дуба. — Стою. И стрелять не нужно. Ничего плохого я тебе не сделаю. Да и оружия у меня нет. Минуту обе молчат. Что же говорить или делать дальше? Наконец, более подготовленная ко всяческим неожиданностям, заговорила Настя: — Ты что, одна здесь? — Одна-одинешенька. — И чего носит тебя нелегкая по ночам? — А тебя? — Меня!.. — чуточку обидевшись, свысока бросает Настя. — Меня… Что ж тут удивительного? Нужно, вот и носит. — Ну, так же и меня, — и Яринка, правда чуточку нервно, прыскает со смеху. Невольно прыскает и Настя. И сразу же умолкает, становится суровой. — Гм… а ты никого здесь поблизости не встретила? — Ни единой души. — Гм… подойди поближе, чтобы я лучше тебя рассмотрела. Только не спеши… И если что… сразу же стреляю… Ты знаешь, как я стреляю? — Откуда же мне знать? — То-то и оно… с первого выстрела — в яблочко! Яринка шагает в тень под дуб. Поднимает голову и теперь уже спокойно и внимательно разглядывает эту странную, которая невесть откуда и взялась тут, девушку. — Тебя кто-то привязал? — Никто меня не привязывал, — сердито, обиженно буркает Настя. — А как же? — так и не понимает Яринка. — Само… — Как само? Так ты и в самом деле… — наконец догадывается Яринка, — с самолета?.. — У нее перехватило дыхание, и последние слова она уже не произносит, а шепчет горячим, сдавленным шепотом: — С нашего самолета? Правда?.. — С нашего, не с нашего! Правда, не правда! Ты лучше скажи, кто ты такая. — Яринка, — сразу же охотно откликается девушка. — Яринка Калиновская. — И торопится добавить: — Здешняя я, комсомолка. Дочь лесника… Дом наш здесь, совсем близко. А ты? — А что я? Ничего я… — словно холодной водой облила ее Настя. — Так я тебе и поверила! Лучше вот помоги. Я, конечно, и сама могла бы, — добавила предостерегающе, — только рука что-то побаливает… — Сейчас. Одну минутку, — совсем не обижаясь, с радостью бросается к ней Яринка, уже навсегда, до конца своей жизни влюбляясь в эту совершенно неизвестную ей девушку, восторгаясь ее невероятной смелостью, ее героизмом. Подумать только! Девчонка, одна, и на такое отважилась! Прыгнуть с парашютом неведомо куда!.. В самое, можно сказать, пекло! Мама родная! И только теперь Яринка вдруг ощутила всю необычность, исключительность того, что происходит. И ту смертельную опасность, которая угрожает сейчас им обеим в чистом поле перед этим прозрачно-синим неотвратимым рассветом, и свою суровую ответственность. Такую ответственность, какой она, казалось, за два этих тяжелых и кровавых года оккупации, подполья, трудных заданий и смертельных опасностей еще, вероятно, и не испытывала. Ведь впервые за два таких года увидела она человека оттуда, с далекой, пока недосягаемой, но такой родной Большой земли!.. Была, выходит, перед Яринкой Калиновской не просто советская девушка, нет! Это был в ее глазах Великий Посланец Великой Земли! И она, Яринка, отвечая сейчас за эту девушку перед их подпольем, перед «Молнией», перед целой страной, во что бы то ни стало обязана сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти ее, защитить от врага, помочь. А девушка повисла так высоко и запуталась в ветвях дуба так прочно, что сразу ей и не поможешь. Снизу даже рукой не дотянешься. Тем временем уже светает… катастрофически быстро светает, как никогда раньше за всю короткую Яринкину жизнь. И она, как это уже бывало с нею и раньше в самые критические минуты, взяла себя в руки. Села на землю и принялась стаскивать свои маленькие, плотно подогнанные сапожки. — Как тебя хоть зовут? — спросила она, аккуратно поставив оба сапожка возле ствола. — Настей, — не колеблясь, ответила та, склонив набок голову и с любопытством наблюдая за Яринкой. — А фамилия? — встала на ноги Яринка. — А фамилия зачем тебе? — снова насторожилась Настя. — И то, — спокойно согласилась Яринка, — твоя правда!.. Она сняла с себя, бросив на сапожки, еще и темную коротенькую курточку. Раздевшись, Яринка стала сразу совсем щупленькой, почти такой же, как и Настя. Подняв голову и улыбаясь, предупредила: — Только ты смотри не стреляй. А то убьешь, как я тогда тебе помогу? Оплывший у корня узловатый ствол дуба на добрых пять-шесть метров вверх, до первой толстой ветки, под которой повисла Настя, был хотя и шершавым, но совсем ровным, без единого, казалось, сучка. Да еще таким толстым, что охватить его руками могли разве лишь двое таких, как Яринка. Но девушка привычно, крепко цепляясь пальцами за его потрескавшуюся кору, как белка, вскарабкалась вверх. Добралась до первой ветки, подтянулась на руках, встала на нее обеими ногами и, ловко балансируя, остановилась над Настей. Подпрыгнула раза два, пробуя, не сломается ли, хотя эта ветка могла выдержать добрых полдесятка таких девчонок. Потом потянула за стропы, потрясла верхние ветки, стараясь высвободить парашют из развилки. Однако скрученные толстым жгутом стропы словно вросли в развилку. А вокруг становилось все светлее и светлее. Яринку бросило в пот. Ноги от напряжения начали мелко дрожать. — Послушай, — заговорила снизу примолкшая Настя, — послушай, у меня на поясе с левой стороны нож… Если бы ты смогла его достать… Яринка ухватилась за стропы и повисла на руках рядом с Настей. Держась попеременно то одной, то другой рукой, разыскала наконец финку. Обрезав несколько строп, высвободила левую, совсем онемевшую Настину руку. — Сними с меня мешок, — приказала Настя, так и не выпуская пистолета. — Можешь бросить его вниз. А этого не трогай. Это я брошу тебе в руки… Так, теперь давай мне нож, а сама на землю… Лови! — скомандовала она, когда Яринка снова стояла под дубом. — Только осторожно. Слышишь, очень-очень осторожно, — почти умоляла Настя, опуская вниз зеленый ящичек. Когда мешок и ящик были уже у Яринки, Настя (все равно ничего не поделаешь!) передала ей пистолет, а сама, полоснув острой финкой по стропам, грузно свалилась на землю. Свалилась и какое-то мгновение лежала, свернувшись клубочком, тихая и неподвижная. — Что с тобой? — склонившись над нею, спросила встревоженно Яринка. — Ничего особенного, — тяжело поднимаясь на ноги, ответила Настя… Стало совсем светло. И хотя солнце еще не всходило, над степью, над густо-синей полоской недалекого леса уже светилось розовое небо. — Давай, давай скорее. Бегом, — встревоженно велела Яринка. — А парашют! — воскликнула Настя. — Что парашют? — Как что? Согласно инструкции, в первую очередь надежно спрятать парашют! — Да ты что!.. — сердито и властно крикнула Яринка. — Мы все равно с тобой его не снимем. А если бы и осилили, то возились бы знаешь сколько! Как раз за это время и немцы сюда нагрянут. Бросай! Скорее за мной! Бегом!.. Накинув на плечи куртку, подхватив сапожки и Настин мешок, она побежала к лесу. Настя, уже не возражая, признавая в этот миг старшинство Яринки и ее право приказывать, не оглядываясь на предательски белое полотнище, послушно двинулась вслед…
Сначала они бежали по старой, давно не хоженной меже. Потом по затвердевшей, утоптанной стадом целине, вдоль пологой балки, мимо кустов шиповника, через неглубокий, заросший травой лесной овраг. По ту сторону рва — заросшая луговым разнотравьем ложбина. Ручей весь в осоке. На дне его неширокий песчаный плес белого песочка. И, сверля белый песок несколькими крохотными скважинами, бурлит, кипит, схватываясь пузырьками, степной ключ. Почти незаметно для глаза тонкой пленочкой покрывает белый песок прозрачная вода, наполняющая маленькую криничку, окаймленную вербовым срубом. Из кринички с тихим бульканьем вытекает, теряясь в зарослях аира, щавеля и холодной мяты, узенький ручеек. И дальше, возле самого леса, возле пышного куста калины, в орешнике разрастается в прозрачную лесную речушку. Только там Яринка переводит дыхание, впервые за всю дорогу оглядывается. — Теперь — в воду! — приказывает так, будто та, другая девушка должна все понимать с полуслова. — В воду? Зачем? — удивляется Настя. — Собаки, — коротко объясняет Яринка, ступая босиком в холодный ручей. — Ясно. — И Настя прямо в сапогах входит в воду… Раздвигая развесистые ветки орешника, торопливо бредут они серединой речушки. Мелко, по щиколотку. Дно твердое, но скользкое. Яринка изредка останавливается и переводит дыхание. Останавливается возле нее и Настя. Стоит, тяжело дышит, утомленная, переволновавшаяся, бледная… Маленькая, худенькая, с холодно-голубоватыми, по-детски широко раскрытыми глазами, она кажется Яринке сейчас еще младше, чем там, под дубом. «Мама родная! Ну кто бы мог только подумать! Совсем же еще девочка! Посмотрит кто вот так, не знаючи, и четырнадцати не даст. А она… Парашютист! Подумать — и то страшно. Рождаются же на свет такие смелые девчонки!» А она, Яринка, смогла бы так? И, забыв в этот миг все задания, все разведки, все страшные потери, выпавшие на ее долю, боевой разведчик «Молнии» Яринка Калиновская с любовью и с каким-то даже испугом посматривает на эту маленькую веснушчатую девушку. Ведь не так себе, не по собственной прихоти она очутилась в их краях. Что-то важное, чрезвычайно важное кроется за всем этим для дела победы. И быть может, она, эта маленькая Настя, тут не одна, может… может… Однако Яринка должна знать свое. Должна завершить выпавшее именно на ее долю важное дело, ни о чем не спрашивая Настю. Ведь Яринка — опытная подпольщица, боевой разведчик «Молнии», — знает, что не следует брать на себя тайны, которая не касается именно тебя. Речушка, теряясь в зеленых низинных зарослях, бежит и бежит себе следом за девчатами, смывая их следы, тихая, почти невидимая. А они, с окоченевшими от ключевой воды ногами, мокрые от обильной крупной росы, идут, пробиваясь сквозь зеленую чащу. Идут, может, уже час, а может, и больше. Яринка уверенно, хотя, по правде говоря, не имея в голове окончательного, твердого плана, ведет. А Настя, чувствуя опытность неожиданной подруги-спасительницы, послушно подчиняется ей, покорно шагает вслед и с каждой минутой все тверже верит, что все будет в порядке. Речушка сворачивает круто влево и неожиданно вырывается на солнечный простор. Справа высокий, седой от росы ивняк. Слева просторная поляна, заросшая пышным резным папоротником; то тут, то там по ней разбросано несколько молодых дубов. Дальше, за полосой папоротника, обыкновенный крестьянский огород: картофель, грядка свеклы с темно-вишневой, почти черной ботвой, высокие, с сухими зонтиками стебли укропа, пожелтевшие подсолнухи, фасоль. Между кустами смородины в три рядочка мирные голубые ульи. Чуточку дальше — огромный, крытый соломой шалаш, который (как уже потом узнала Настя) назывался сараем для мякины. За ним приземистая, с темными окошками хата, журавль над колодцем, еще какие-то хозяйственные постройки. И над всем этим — кроны могучих древних осокорей. Из-за них, ослепив девчат, выкатывается в небо багровый солнечный диск, и серебристые стволы деревьев кажутся теперь совсем-совсем черными. — Наш двор, — останавливаясь, объясняет Яринка. — Выходи из воды, садись вон на пенек, сними сапоги и хорошенько разотри ноги. Она усаживается в папоротнике, вытирает носками ступни и, обуваясь, продолжает объяснение: — Тут у нас, конечно, сейчас не спрячешься. Тут, ежели что, Мюллер с Калитовским перевернут все вверх тормашками. Хотя никто еще, вероятно, не додумался разыскивать парашютистов среди пчел, в улье… Стало быть, припрячем пока все твое снаряжение в ульях. Ну и конечно же тебе следует переодеться во что-нибудь сухое, домашнее… Сиди, грейся, с места не трогайся, а я сейчас… Настороженная и возбужденная ночным приключением, Настя заметно устала, замерзла и даже немного раскисла. Круглолицая же миловидная смуглянка Яринка, придя в себя и почувствовав себя хозяйкой, наоборот, преисполнилась энергии и решительности. Настя теперь во всем подчинялась Яринке и, только когда дело дошло до пистолета и спрятанного в зеленом вещмешке ящика, особенно ящика, снова насторожилась и запротестовала… Нет, нет, так она не может! Есть такие правила, которых она не будет нарушать, просто не имеет права… Нет, не только потому, что знает ее, Яринку, всего час-другой или не верит ей. Не может даже и в том случае, если бы они были знакомы годами! Даже если бы их послали вместе! И все же Настя под энергичным натиском Яринки неохотно сдается. Начинает понимать, что одно дело — фронт, а другое — подполье. К тому же Яринка гарантирует полную безопасность ее вещам. Да и само по себе ясно, что сейчас, пока не пронесет беду с ее парашютом, лучше всего, надежнее всего не держать при себе ни одной подозрительной вещи. Вот, например, пистолет… Ничего он ей здесь не даст. Тут все нужно делать совсем по-другому. Следовательно, лучше не терять дорогого времени. Ведь заметить злополучный парашют могут в любую минуту!.. И, хочешь не хочешь, опускается Настин пистолет на дно улья, ящик (что это за ящик, Яринка тогда и подумать даже не успела!) устанавливается между рамками, а мешок попадает в одну из двух уцелевших тут издавна дуплянок. Настина одежда развешивается в хате на колышке возле поставца среди другой домашней одежды. Солнце, уже поднявшись над верхушками деревьев, полыхает белым пламенем. Отдохнувшие, переодевшиеся девчата готовы к новым странствиям. Перед тем как трогаться, Яринка еще раз с ног до головы осматривает Настю. Повязанная по-деревенски ситцевым платочком, в вылинявшем Яринкином платьице, в стоптанных резиновых тапочках, девушка стоит съежившись, втянув голову в плечи. «Вот так парашютистка! — думает Яринка. — Скажи кому, ни за что не поверит». И сразу же такая обыкновенная, такая поразительно простая, такая неожиданно гениальная мысль приходит Яринке в голову: «Господи! Да зачем же ее куда-то там прятать?! Ну, в самом деле, кому придет в голову, что вот эта веснушчатая девчонка — парашютистка?! Тот же Мюллер на кого угодно может подумать, кого хочешь заподозрить, только не ее, не Настю!..»
Вот и сидит Настя через несколько часов после этого в незнакомом селе Подлесном. Сидит на травке на подворье у Брайченков, как у себя дома. Брайченки эти — старые и бездетные, добрые давние Яринкины знакомые. О том, что они существуют на свете, еще несколько часов назад Настя даже и не подозревала. А теперь вот… сидит на разостланной дерюжке рядом с пожилой хозяйкой на видном месте, возле калитки. Сидит и даже ухом не ведет, что именно из-за нее поднялся в селе небывалый переполох, что из-за нее бурлит вся улица, гомонит наспех, в пожарном порядке собранная облава. Мчатся в степь, в лес переполненные полицаями и немцами подводы. Торопятся пешие и конные. Рванул на тяжелой бричке сам жандармский шеф Мюллер с начальником полиции и двумя страшнейшими псами-волкодавами… А Настя сидит себе на дерюжке. Выбивает коротенькой палочкой из сухих шапок подсолнуха семечки… И, проходя мимо двора Брайченка, иной полицай или гитлеровец порой даже и покосится на нее второпях… Но что ему до какой-то там девчонки! Ему и в голову не приходит… не до девушек ему сейчас, когда вон, говорят, советский парашютист-диверсант возле Зеленой Брамы объявился! Новехонький парашют с обрезанными стропами сегодня утром полицай Каганец обнаружил. На верхушке дуба возле Калиновой балки. Обнаружив, бежал три-четыре километра до Подлесного, чуть не лопнул от волнения и страха. Добежал-таки. Доложил начальнику полиции Калитовскому. А тот сразу же со всех ног — к жандарму. Жандарм торопливо доложил по телефону в область, забил тревогу… С этого и началась в тех местах тщательнейшая и строжайшая облава…
Полицаи, снимая парашют с дуба, возились больше часа, так он прочно запутался. На ноги было поднято три района. Лес окружили со всех сторон и прочесывали его с собаками, локоть к локтю, до самого вечера. Парашют перед тем дали обнюхать каждой собаке. Но ни одна из собак следа так и не взяла… Вечером, разъяренный, раздраженный неудачей и голодный как волк Мюллер, несмотря на явную благонадежность лесника Калиновского, Яринкиного отца, перевернул все вверх дном на его подворье, так, между прочим, и не заглянув ни в один из ульев. Плыл над землей тихий и теплый августовский вечер. Оседало к горизонту большое красное солнце. Медово пахло кашкой, душицей и сухим сеном. А Мюллер вывел из хаты, поставил к зеленоватому стволу осокоря Яринкиного отца, потом к другому Яринку и, криво улыбаясь, поводя взведенным парабеллумом, сказал, трудно выговаривая русские слова: — Советский парашютист — не иголка сена… И лесок этот — не Брянский и не Полесский… Вот что: либо ты, либо твоя дочь где-то здесь спрятали советский парашютист-диверсант… Где вы его спрятал?.. Яринка окаменела, с ужасом и болью всматриваясь в спокойное лицо отца. Он стоял, молча смотрел вперед, не избегая взгляда Мюллера. А вокруг полон двор настороженно притихших полицаев, немецких солдат и лютых, яростно рвавшихся с поводков волкодавов. — Кто-то из вас двоих, — продолжал Мюллер, — спрятал советский парашютист. И вы оба знаете, где он. Точно так же, как и то, чем это вам угрожает. Если вы не признаетесь… — Лес, господин Мюллер, велик, — к огромному удивлению Яринки, отец даже улыбнулся. — А я хотя и лесник, но не должен и, главное, не могу уследить за каждым человеком, которой может зайти в него. В конце концов, у меня не сто рук и не сто глаз. — Зато у нас сто рук и сто глаз! Мы его обязательно найдем. Но за ночь он успеет перепрятаться в другое место, и это усложнит дело. Возможно, даже успеет учинить какую-нибудь диверсию… А мы убеждены, знаем, что спрятал его кто-то из вас двоих… — Знаете, господин, если бы я даже захотел… Но хоть верьте, хоть нет, сказать вам ничего не могу… — Ага. Хорошо, хорошо. Так это и есть твой последний слово? — Да. Ничего больше сказать вам не могу… — Так, хорошо… Ты тогда будешь видал… Тогда, когда ты не хочешь сказать правды солдатам фюрера… Тогда ты вот сейчас будешь видал, как мои зольдатен сначала изнасилуют твою дочь, а потом повесят вон на тот ветка… И все это ты должен смотрел. Сначала смотрел… А потом будешь висел на этот ветка рядом… Мюллер опустил парабеллум и начал закуривать папиросу. Промелькнуло мгновение, другое. Темная черточка губ на меловом лице Калиновского дрогнула. — Я только… я только очень прошу вас… Я хорошо знаю… дочери ничего не известно… Умоляю вас! Вы должны… — Ему, видно, так и недостало силы вымолвить слово «повесить». — Вы должны… меня одного… Кажется, на какой-то — длительный или короткий — миг Яринка даже потеряла сознание, по крайней мере в глазах у нее потемнело… Когда же она снова пришла в себя, Мюллер уже решил заканчивать свое страшное представление, не разыграв на этот раз его до конца… Кисло улыбнувшись, пряча парабеллум в кобуру, он процедил: — Я тоже отец… и у меня есть тоже… айн, цвай, драй дочь. И я тебе верю… То есть я не верю, никогда не поверю, чтобы отец ради кого-то там не пожалел родной дочь… Мы тоже, как это… тоже психолог… Он бросил в траву окурок, растоптал его и сразу же почти бегом бросился к бричке. И с шумом, лаем,выкриками бросилась за ним со двора лесника и вся его свора…
Ничего этого Настя Невенчанная не знала. В тот день, на следующую ночь и потом еще двое суток она находилась у Брайченков в Подлесном. И тем, кто видел незнакомую девчонку, которая бог знает откуда появилась в хате у соседей, даже и в голову не пришло, что она имеет хоть какое-то, хоть самое отдаленное отношение к советским парашютистам… Тем временем Брайченко доложил о ней Цимбалу в Балабановку. Цимбал приказал ему послать с этим сообщением Яринку Калиновскую в Терногородку к Роману Шульге. Через день после того, как Яринка посетила Терногородку, были присланы для Насти Невенчанной новые документы. И стала она теперь согласно этим документам двоюродной сестрой Яринки, родной дочерью Яринкиной тетки по матери. Прибилась эта двоюродная сестра к родственникам из города К., спасаясь от голода, а может… может, и от Германии (подозрение к тому времени не столь уж и ужасное, но очень правдоподобное и удобное в Настином положении). Насте приказано было перебраться в лес к Калиновским, жить там, не скрываясь, и… ждать.
Ждала Настя в семье Калиновских еще три дня. Ждала, пока хоть кто-нибудь отзовется, подаст весточку. Ждала хоть малейшего, хоть отдаленного намека на присутствие где-нибудь поблизости советских парашютистов. Ждала встречи с партизанами, которые должны были быть где-то здесь, в Каменском лесу. А что лес этот именно Каменский, у нее не было ни малейших сомнений, она даже никого не спрашивала. Никаких слухов о товарищах за это время к ней так и не дошло. Не появлялись и партизаны… Терпение Насти лопалось. Тревога и неопределенность доводили до отчаяния… В один из вечеров — Яринки в этот момент как раз не было дома, — как только чуточку смерклось, старый Калиновский, войдя в темную кухоньку со двора, сказал: — А выйди-ка, Настя, вон туда, к колодцу. Там тебя один человек ждет. — Какой еще человек? — насторожилась Настя. — Иди, иди, доченька, не бойся. Свой человек. Если б не знал, разве бы посылал! Настя остановилась на пороге в сенях, на всякий случай оглянулась вокруг. Было уже совсем темно. С низины из лесу тянуло приятной после дневного зноя прохладой. Темнела стена черноклена за сараем, возвышались над нею могучие темные контуры осокорей. На фоне звездного неба резко выделялся крючок колодезного журавля. И нигде, казалось, ни души. Девушка сошла с порога, пересекла подворье, с наслаждением погружая босые ноги в холодный, покрытый росою спорыш. Обошла длинное долбленое корыто. Как только подошла к срубу, откуда-то со стороны пасеки из темноты шагнули к ней двое. И хоть было совсем темно, а луна еще не взошла, девушка сразу каким-то необъяснимым чутьем в одной из этих фигур узнала своего. — Мамонька моя! Павло! Честное слово, макуха… В самом деле макуха, — встретила она его шуткой, хотя голос и изменил, задрожал. А губы сразу же стали сухими и непослушными. — Ну и ну! А все остальные? Павло Галка явился с каким-то незнакомым, наверно местным, парнем. Он принес Насте питание к рации, приказ капитана Сапожникова о том, чтобы оставалась она до нового распоряжения у Калиновских, и зашифрованное старшим лейтенантом Лутаковым донесение в штаб фронта: «…Неизвестным причинам приземлились районе „Белого пятна“, Терногородка — Новые Байраки — Скальное. Районах действуют подпольная организация и партизанский отряд „Молния“. Все сборе. Ждем указаний. Капитан Сапожников…» Ответ поступил сразу же: «Оставаться месте приземления. Базироваться на „Молнию“. Радируйте ваши нужды. Приступайте выполнению намеченных заданий. Желаю успеха. Майор Шовкун». Донесение и ответ на него Настя передавала и принимала шифром, не зная их содержания. И потому единственная из всего десанта так и не поняла, что упала она с того дуба совсем не туда, куда планировалось. Никто из десантников из-за более важных хлопот тоже не объяснил ей этого сразу. Поэтому долго еще, выстукивая шифрованные донесения и принимая такие же приказы, Настя даже не предполагала, не догадывалась о своем неведении. Когда же, значительно позднее, она случайно узнала об этом, все это уже не имело ни для нее, ни для дела в целом ни малейшего значения.
Капитан Сапожников
С момента появления той первой шифровки из района «Молнии» пронеслось уже четверть столетия. Рассказы об этих событиях для моей дочери звучат чуть ли не как древняя история. В этом нет ничего удивительного: ведь ее тогда и на свете не было. Что же касается меня и моей жены, то происходило это словно бы вчера: ведь это была наша молодость. Молодость, которая никогда не стареет. И еще: были это дни нашего великого счастья боевого, которое выпадает на долю человека на войне в конце концов не так уж и часто… Три раза выбрасывался я во вражеский тыл, а такое счастье, чтобы все десантники остались в живых, чтобы группа, не понеся никаких потерь, за короткое время в непредвиденно трудных обстоятельствах собралась полностью в одно место и приступила к выполнению боевого задания, такое боевое везение испытал я тогда впервые. Хотя даровано оно нам было не случайно, не по воле слепого стечения обстоятельств, потому что не «Белым пятном» была земля, на которую мы опустились в эту ночь. Встретили нас там свои, родные советские люди, встретило грозное и короткое, как выстрел, слово «Молния». Они собрали нас воедино и повели в бой. Мы полностью и своевременно выполнили задание командования и через семь месяцев живыми и невредимыми возвратились в свою часть. И уже потом, значительно позднее, когда разошлись наши жизненные дороги, по-разному сложились и наши судьбы. Первыми ушли от нас наши «святые» — Петро и Павло. Они как жили, не разлучаясь, так и погибли вместе, в одно время где-то за Одером. Прокладывая путь нашей пехоте, подорвались на мине буквально накануне долгожданной Победы. Смертью храбрых погиб при взятии Будапешта и Герой Советского Союза подполковник Семен Лутаков, оставив после себя добрую славу и бронзовый бюст на площади в Терногородке… Из нашего тогдашнего десанта в живых остались четверо. Левко Невкыпилый совершенно неожиданно для нас закончил медицинский институт, стал кандидатом наук и знаменитым хирургом. Парфен Замковой уже несколько лет работает секретарем областного комитета партии в одной из сибирских областей. Бывший капитан Сапожников, то есть я, нынче главный агроном зернового совхоза, а моя жена Анастасия (бывший ефрейтор Настя Невенчанная) учительствует. Все мы, бывшие десантники, живем и работаем далеко друг от друга. Видимся редко. У каждого множество всяких забот и работы по горло. Потому, по правде говоря, и письмами друг друга не балуем. Главным образом поздравляем с Днем Победы или другими большими праздниками. Но зато много и искренне обещаем друг другу «теперь уж обязательно, как только наступит май», съехаться вместе и вспомнить былое… А тем временем постепенно стареем… Мы с Настей вырастили и воспитали дочурку Яринку. Еще два года назад сильно переволновались, пока она поступила в университет. Потом до слез радовались, провожая на учебу в далекий город. Теперь же грустим-кручинимся без нее и считаем месяцы, недели и дни, ожидая очередных каникул. По ночам, особенно осенним и длинным зимним, не сразу засыпаем, все чаще и с большой охотой погружаемся в прошлое, вспоминаем былое, все те кажущиеся теперь просто невероятными приключения, испытания и огорчения, которые нам пришлось пережить и преодолеть. Вспоминаем не только с удивлением, но иногда и с чувством страха: как только сумели мы выдержать и перебороть все это? И радуемся тому, что наша дочь Яринка не испытала всех этих ужасов в своей юности. Радуемся, но, если говорить откровенно, не завидуем ей и не сожалеем о том, что пережили сами. Скорее гордимся, что выстояли, победили, подчинили собственной воле испытания и смертельные опасности. Готовы, если понадобится, повторить все это, несмотря на возраст, и сейчас… Только тревожно на сердце становится, когда о дочери, о Яринке, подумаешь… Не хотелось бы, ох как не хотелось бы, чтобы пришлось и ей во вражеский тыл с парашютом выбрасываться, идти в ночную разведку. Хочется, чтобы не война, не минные поля, а нива колосистая или безбрежность мирного космоса расстилались перед нею! И все-таки… все-таки, дочка, жизнь складывается так, что нам и сегодня следует держать порох сухим. И при всем том, что нам очень не хотелось бы, но ежели… ежели встанет и перед нашей дочерью такая необходимость, тогда — не одной лишь надеждой утешаем себя, нет, верим, твердо знаем, — тогда наша дочь так же, как и мы когда-то, приказов ждать не будет…Июль 1969
Яринка Калиновская Авторизованный перевод Н. Андриевской
Мертві-бо сраму не імуть…Святослав

Ночь
Вверху, над черным срезом стены, тревожным, красноватым огоньком мерцает одна-единственная звездочка. Внизу — мутно-непроглядная темень. Клубится, шаркает, гудит приглушенно людскими голосами, стонет и вздыхает. Слева выступает или, скорее, угадывается сероватый прямоугольник выломанных дверей, а где-то там сразу за ним — проволока. Густая, в несколько рядов паутина колючей проволоки. Именно здесь, среди этих проволочных заграждений, в апреле сорок второго года на глазах у Яринки Калиновской гитлеровцы насмерть замучили молодого, веселого художника Дмитра. Дмитро и Яринка были влюблены друг в друга. Но признаться в любви так и не успели… И вот теперь, через два года, Яринка сама попала в тот же Терногородский концлагерь. Попала после страшной катастрофы, которая неожиданно случилась с ее отцом. Правда, нельзя сказать, чтобы уж совсем неожиданно, но все же как-то по-глупому, за несколько недель, а может, и дней до той минуты, когда ее родные края навсегда будут очищены от фашистской погани. Попалась и сидит теперь в темном без крыши коровнике на потертой соломе, прижавшись спиной к шершавой стене. Сидит, убитая невыразимым горем, с болью и отчаянием думает об отце, вспоминает Дмитра и ту, другую апрельскую ночь. Вспоминает, невольно удивляется, как это она могла вот так забыться, растеряться, что уже и сама себя не помнила. Ведь она же себя готовила к самым страшным неожиданностям еще вон с какого времени и знала, на что идет. К тому же верила в себя, в свои силы. Да и со страшным, со смертью в своей жизни встречалась уже не раз…Осень в том далеком году — ее пятнадцатая осень — стояла погожая, на редкость теплая, мягкая. Запомнилось: листья на деревьях желтели медленно и долго держались на ветвях — сочные и свежие. Училась Яринка в восьмом классе скальновской десятилетки и жила у дедушки Нестора… В субботу они всем классом возвращались с экскурсии на сахарный завод. В тенистой аллее заводского парка, обсаженной вековыми осокорями и темными невысокими елками, сын скальновского аптекаря низенький, сухопарый Дуська Фойгель подбил из рогатки какую-то неосторожную, а может, и больную ворону… Ворона была еще жива. Большой клюв широко раскрыт, лапки дергаются. А Дуська, схватив ее за крыло и размахивая над головой, начал гоняться за девушками. Напуганные школьницы с визгом разбегались кто куда. Дуська хохотал, но как-то странно, так, что видно было — ему от этого совсем не весело. Сам громко хохочет, а желтоватое остренькое личико — насупленное и злое. И эти его странные, кажется, совсем белые, глаза тоже холодные и злые. Девочки подняли визг на весь парк. Яринка приказала Дуське бросить ворону, но он не послушал, только криво усмехнулся. Тогда Яринка схватила вербовую палку и решительно пошла прямо к Дуське. «Брось ворону, не мучай! — потребовала еще раз. — А не то — ударю!..» Дуська хорохорился недолго. Сразу поняв, что Яринка может ударить, забросил ворону в кусты и, не оглядываясь на девушек, подался к пруду. А на подворье у дедушки Нестора, когда Яринка возвратилась домой, стояла чья-то запряженная в двуколку костистая гнедая лошадь с разрезанным ухом. На голове у нее болталась белая торба. Все из той торбы было уже съедено, и лошадь стоя дремала, изредка прядая разрезанным ухом. Лошадь почему-то и удивила и насторожила Яринку. Чья она — не знала, не помнила такой. В хате, на табуретке у шкафчика, с шапкой и кнутиком в руке, так и не сняв брезентового плаща, сидел пожилой человек с широкой, во всю голову, лысиной и тоненькими, обвисшими усами. Человек тоже был незнакомый. Дедусь Нестор, оглянувшись на скрип дверей от стола (складывал там что-то в узелок, — наверное, внучке в дорогу), как только Яринка ступила на порог, сказал: — Собирайся, внучка… Сейчас и поедем… Отец вот прислал за нами. Дедушка, видно, сказал не все, но уже от того, что сказал, девочку сначала бросило в жар, а затем обдало холодом. Стало по-настоящему, как зимой, холодно. — С мамой плохо, — закончил дедусь ровным, очевидно чтобы не очень напугать ее, голосом. Яринка сжалась от тех слов, будто ожидая еще какого-то удара. Озноб так и не проходил, а ноги сделались вялыми и непослушными… Ехали они те сорок километров за Подлесное почти до самого вечера. Яринка за всю дорогу не обмолвилась и словом. А лысый незнакомый дядька не нарушал молчания. Лишь иногда слегка понукал коня и причмокивал губами. Девочка сжалась в комочек, скрючилась, ничего, кроме холода в груди, не ощущая и ни о чем, кроме, «что же там с мамусей?!», не думая. И желание было у нее одно-единственное: скорее бы доехать!.. Однако все, что видела Яринка вокруг себя, запечатлевалось в ее глазах как-то особенно четко и остро… Она и сейчас, словно воочию, видела черные свекловичные поля со свежими кагатами и недокопанными, зелеными, в сухом мышее и лебеде рядами свеклы; серую стерню опустевшей степи; яркую, густую зелень озими; невысокие, осевшие от времени степные курганы и мелкие овраги с черными колючими кустами терна, на которых еще кое-где задержались клочки бледно-желтых, почти прозрачных, но сочных листьев… Только за Балабановкой кончилась опустевшая, по-осеннему оголенная степь и потянулись вдоль балок и оврагов перелески. Ржавая листва орешника, граба и береста, голые, колючие, усеянные сморщенными темно-красными шариками ягод кусты шиповника, темные заросли лозы и разлогие старые вербы вдоль дороги… На Яринку повеяло лесом, родным домом, повеяло детством…

За Гайдамацким яром еще издали приветствовал девушку ее — Яринкин — древний дуб. Могучий, раскидистый, с густой, темной меди, кроной, гордо возвышался он среди степной равнины, так, словно только что вышел из леса, чтобы встретить свою маленькую хозяйку, остановился на краю межи да и потянулся к ней ласковыми ветвями. Чем-то родным, щемяще-горьким отозвался в Яринкином сердце этот дуб. Потому что, когда бы она ни возвращалась домой из Скального, Новых Байраков или Терногородки, каждый раз он выходил из леса, неторопливо шел ей навстречу. Мягко, печально, по-отцовски шелестел густой листвой, будто предупредить о чем-то хотел… А уже за ним, тем красавцем дубом, в нескольких сотнях шагов, по-настоящему начинался и лес. Их отцовский, родной Яринкин лес, в котором каждая тропинка и каждый ручеек — свои, знакомые на каждом шагу. Клены и груши-дички в Грушевской роще уже совсем осыпались. На земле между стволами, казалось, кто-то насыпал вороха красновато-желтых медяков — листьев. Медно-рыжая, густая листва дубов даже издали казалась сухой, а на осокорях — чуть прибитой светлой желтизной и свежей. Куст калины на самом дне Глубокой балки над криницей ярко полыхал багряным пламенем листьев и ярко-красных гроздьев ягод… Солнце, густо налитое калиновым пламенем, скрылось за далекой зубчатой полосой леса. И в том месте, ближе к горизонту, вишневая, а выше калиновая и малиновая, разливаясь на полнеба, долго еще рдела пышная и холодная вечерняя заря. На ее фоне высокие осокори возле хаты, сама хата, хлев, наклонившиеся, словно вылитые из соломенного золота стены сарая, колодезный журавль и густая стена черноклена за хатой казались черными и плоскими. В густых ветвях осокорей, над самыми верхушками носились, кружили, беспокойно и хрипло кричали грачи. И Яринке сразу вспомнилась вот та уже будто совсем забытая ворона, которую подбил в заводском парке Дуська. Девочка вздрогнула и, как только двуколка въехала в раскрытые настежь ворота, не ожидая, пока остановят лошадь, ничего не сказав вознице, забыв о дедушке, соскочила на ходу и бегом через подворье, в неприкрытые двери сеней, бросилась в хату…
В хате уже густели сумерки, хотя видно было еще хорошо. И были там какие-то люди. Казалось, даже много людей. Сколько их было на самом деле и кто они, Яринка так тогда и не поняла. Она и отца не узнала, не видела, и сейчас так и не припомнит: был он в хате, когда она ступила на высокий порог, или его не было? Увидела только большой белый гроб, установленный на широкой скамье возле торцового окна, словно заполнивший собою всю хату. За стеклами окна, алея, догорала темно-вишневая заря, а в ноздри остро бил густой, смолистый запах сосновой доски и сухих васильков… Из белого гроба, из-под белого льняного покрывала, в обрамлении беленького платка страшно темнело чье-то лицо с заостренным подбородком, совсем черной, тоненькой черточкой запекшихся губ и желтели неподвижные, застывшие пальцы сложенных одна на другую узловатых рук… Теперь, когда она припоминает тот миг, ей кажется, что ощущение было тогда чем-то похожим на то, как если бы ей кто-то неожиданно выстрелил в грудь или в лицо или что-то там в груди или в голове само оглушительно взорвалось… Яринка с ужасом вскрикнула, пораженная отчаянием внезапной утраты, не видя ничего перед собой, кроме того белого гроба, что вдруг заколыхался и поплыл перед ее глазами, бросилась вслепую и упала лицом прямо на те затвердевшие, навечно скрестившиеся руки… Потом она так и сидела, застыв у гроба на скамье, в ногах у матери. Не плакала: слез не было. Только чувствовала себя так, будто это и не она. Вся окаменелая, застывшая, сжавшись в ледяной комочек, ничего, кроме холодного отчаяния в груди, не чувствуя. В хате было уже темно, хотя все видно было четко, рельефно. За окном над верхушками черноклена в чистом небе низко плыл полный, большой, будто стеклянный, шар луны. Вытянутая, перекрещенная черной рамой тень окна лежала на глиняном полу. А из леса, из-за сплошной стены черноклена, змеилась на подворье, заливая колодец и корыто-долблянку возле него, широкая полоса осеннего тумана. Темнело, как чужое, немое, неузнаваемое лицо матери, каким ранее Яринка никогда его не видела. И наплывали такие минуты, когда ей вдруг начинало казаться, что все это только страшный сон… Однако она знала твердо и ясно: нет, это не сон. И ничего-ничего поправить уже нельзя. И оттого такое нестерпимо острое, беспредельное отчаяние словно оглушило ее. «Мамуся!.. Как же это!.. Не может этого быть! Не хочу!» — протестовало, не хотело покориться и поверить случившемуся все ее существо. И в то же время она испытывала такое острое отчаяние, пронизывающее каждую клеточку ее тела, ощущение того, что с этим уже все и навсегда кончилось в ее жизни… Все, все!.. Больше ничего не будет и не может быть… Ничего больше не будет. И ничего ей больше уже не надо. Что она без мамуси? Зачем?! Нет, ничегошеньки ей больше не надо, ничего не хочется и ничего никогда в жизни не захочется. И жить не хочется! Зачем и как ей дальше жить?! Для кого? И почему это нельзя умереть вместе с мамусей сразу, вот здесь? Чтобы ничего этого больше не видеть… Как же она жаждала тогда лишь одного — умереть!.. Чтоб мамуся не бросала ее одну на свете, а взяла с собой. Только этого, только одного этого хотела тогда она. Ей даже казалось, что она уже умерла. Видела и себя в белом гробу, что так пахнет сосновой стружкой и сухими васильками. Видела свое застывшее, потемневшее лицо, и от этого ей было совсем, ну совсем не страшно… Страшно, до безумия страшно было остаться вот так внезапно без мамы и уже больше никогда-никогда не увидеть ее, не услышать ее голоса… «Нет, не смогу, не буду я так! Не выдержу… Ничего мне теперь не мило! Мне надо, просто я должна умереть, так мне будет лучше…»
Отец у Яринки был человеком молчаливым. Высокий, круглолицый, с серыми кроткими глазами, пшеничными, подстриженными ежиком усами и всегда — летом и зимой — с загорелым до медного цвета, обветренным лицом. Слушает, когда ему что-нибудь рассказывают, молча, а надо — ответит одним словом. Да еще усмехнется — то широко и как-то по-детски, то немного смущенно… Всегда какой-то сосредоточенный, все как будто думает о чем-то своем. И снова неожиданно возьмет и улыбнется, просто так, никому, наверное, каким-то своим мыслям. Отец с детских лет рос в лесу. И это, возможно, лес наложил свой отпечаток на его молчаливый, мягкий характер. Привык жить в уединении, вслушиваться в лесной шум, думать под тот шум о чем-то своем да и обо всем на свете. А иногда и разговаривать в лесном одиночестве мысленно с самим собой. Мама, когда Яринка была еще совсем маленькой, говорила иногда, усмехаясь, с мягким укором: — Ты, Корней, в этом лесу совсем говорить разучишься. Отец на это по-своему лишь смущенно улыбался. И мама — отец взял ее сюда в лес из Скального — наконец к этому привыкла. — Тут уж и вправду не до разговоров! — сказала она как-то. — И без того полна голова шумом и птичьим щебетом. Хоть уши затыкай. Но все же, не выдерживая долгого молчания, не преодолев своего характера, начинала петь. Песен мама знала много и разных. Петь любила и умела. Копаясь у хаты, на огороде или возле скота или занимаясь шитьем летом под липой, мама, бывало, свои песни выводит одну за другой, только эхо разносится по лесу. А отец выйдет незаметно из-за деревьев, станет где-нибудь за осокорем или у сарая, чтобы мама не заметила его, и слушает… Мама поет, а отец стоит, слушает и приятно так, с умилением усмехается себе в усы… И еще: были у отца большие, жилистые руки с разбитыми тяжелыми ладонями. Да и силу имел немалую и в работе себя не жалел. Бывало, поднимет на разведенный воз дубовую или грабовую колоду — другим кому и втроем ее не поднять. А он поплюет на ладони, поднатужится, поднимет рывком и только чуть слышно крякнет потом. А однолетки его, приезжавшие из деревни на десятках колхозных подвод, особенно осенью и зимой, стоят, бывало, переглядываются и только головой покачивают… Смерть жены, видимо, надломила и пригнула к земле этого крепкого, спокойного человека. Он осунулся, зарос рыжей щетиной, от носа до уголков губ пролегли две глубокие морщины. Широкие плечи обвисли, а глаза стали мрачными и тусклыми. Не осталось и следа и от той характерной его усмешки. Словно ее никогда и не было. Таким предстал отец перед Яринкиными глазами уже на третий день после похорон мамы. До того она словно и не видела его… А тут… Отец сидел на низенькой табуретке возле лежанки и лущил фасоль, выбирая стручки из кучи на расстеленном рядне. Вынужден был, несмотря на горе, что-то делать. Его большие руки не могли оставаться без работы. Да и женского труда, как другие мужчины, никогда не чурался. Лущил фасоль, а сухие, пустые стручки бросал в печку, возле которой, ловко орудуя ухватами, горшками и кочергой, хлопотала чернявая, остроносая молодица из Подлесного — Явдоха. Бездетная вдова — быстрая, сухощавая, разговорчивая — считалась какой-то дальней родственницей по матери. После похорон она осталась на несколько дней в их хате, чтобы поддержать людей в горе и хоть чем-нибудь помочь по хозяйству. Отец лущил фасоль молча, механически, углубившись, вероятно, в свои тяжелые думы, словно и не замечая, что и как делает. А Явдоха точно так же привычно-механически тараторила, не умолкая ни на миг, о каких-то сельских знакомых, о каком-то бригадире, что заехал возом вместо плотины в пруд; о какой-то молодице, бросившей мужа с детьми и подавшейся куда-то с милиционером… Тараторила, не очень беспокоясь о том, что никто, собственно, ее тут и не слушает, хотя обращалась она то к отцу, то к Яринке. Отец на то даже бровью не повел, а Яринка… Правду говоря, слова Явдохи стрекотали где-то в стороне, как, скажем, ветрячок на крыше под ветром, и, не доходя до сознания, немного мешали ей, отвлекая от чего-то самого главного, что она хотела, силилась, но так и не могла додумать. Сидела она, втянув голову в плечи, забившись в уголок между кроватью и маминым сундуком. Все еще не верила в то, что случилось, и в то же время твердо знала, что ничего и никогда уже не вернешь и ничего-ничего хорошего для нее на этом свете уже не осталось… И вот в какое-то мгновение, когда голос Явдохи, наверное, зазвучал громче, ударив ее по напряженным нервам, Яринка встряхнула головой и остановила взгляд на отце. Словно впервые увидела резкие, печальные морщины, осунувшееся, небритое лицо, ссутулившуюся, поникшую фигуру… И вот именно тогда, когда острое чувство жалости к отцу горячим током пронизало ее насквозь, он что-то — одним лишь словом — ответил Явдохе, и на его осунувшееся лицо на миг, на молниеносный миг набежала… Нет, не улыбка, скорее бледная и болезненная тень прежней улыбки!.. Но и этого было довольно… Теперь уже не только трескотня, но и само энергичное, остроносое лицо Явдохи стало ей мешать, раздражать, даже оскорблять своей неуместной оживленностью. И Яринка неожиданно для самой себя резко, даже гневно подумала: «Если он… если он осмелится когда-нибудь жениться второй раз, тогда нет у меня отца. Возненавижу на всю жизнь!..» Подумала и сразу будто оказалась где-то далеко-далеко и от отца, и от той Явдохи, и от своей хаты, да и вообще от всего, что было до позавчерашнего вечера дорогим, родным или особенно важным. Потому что… «Но… что это я?.. И все это для меня совсем-совсем безразлично… Пусть каждый делает как хочет! А я — не могу… Не хочу я больше жить на этом свете…»
Сколько же времени прошло с тех пор? Почти пять лет!.. Как будто не так и много. Но вот уже осталась она одна-одинешенька на всем свете. Сидит ночью за колючей проволокой пересыльного концлагеря в ободранном коровнике на перетертой соломе среди незнакомых измученных людей и думает, вспоминает. Спешить ей теперь — впервые, пожалуй, за два последних года — некуда, точнее, нет возможности. Бежать, по крайней мере до утра, не осмотревшись вокруг, не узнав, что и как, она тоже не собирается, уснуть — не уснешь на этом холоде, хотя бы и захотела… Только и осталось вспоминать и думать обо всем на свете — вволю, до малейших подробностей… Этого уже никто не запретит ей, ибо никто не имеет на это ни власти, ни силы… Отец вторично не женился. А Яринка не умерла, хотя долго еще чувствовала отвращение к жизни, какое-то тупое безразличие ко всему. Сначала ей не хотелось возвращаться назад в Скальное. Не хотелось оставлять отца и снова ходить в школу. Все, почти буквально все, чем жила до этого, было ей безразлично. Стали безразличны школа, товарищи, учителя и даже книги. В классе она сидела, уставившись в одну точку, и видно было, что то, о чем говорилось на уроке, до ее сознания не доходило. Во время переменок чаще всего так и сидела за партой. Дома, как обычно, хлопотала по хозяйству. По привычке готовила для себя и дедушки Нестора еду, топила лежанку, а потом садилась за уроки. Раскрывала книжки, тетради да и сидела так целый зимний вечер, свернувшись в клубочек, и о чем-то думала… Иногда об отце, которого она все больше жалела, ибо он остался где-то там в своем лесу совершенно один, наедине со своими мыслями и лесным шумом. Все время вспоминала маму. А иногда думала так просто, ни о чем или о чем-то таком, о чем бы позже спроси ее, так и вспомнить бы не могла. Совсем еще недавно она была одной из самых активных пионерок и лучших учениц. Теперь же, собственно, перестала учиться. И то состояние, в котором она находилась, словно отгородившись от всех и всего на свете, не могло не встревожить учителей, пионервожатую, дедушку Нестора, отца… Пионервожатая пыталась поручать ей какие-то выступления, даже доклады, посылала с делегацией в соседнюю, что с ними соревновалась, школу. Учительница Наталья Емельяновна поручала систематизировать собранный за лето гербарий, а словесница Глафира Федоровна все подсовывала будто бы очень интересные и нужные книжки, развлекала беседами. Подозрительно разговорчивым стал вообще несловоохотливый дедушка Нестор. Чаще, чем раньше, наведывался в Скальное молчаливый и кроткий отец. Привозил лесных, так нравившихся ей прежде гостинцев: гнилушек, давленого терна, яблок и орехов. Но ничто, казалось, не могло развлечь, утешить или заинтересовать Яринку. Заботы близких она понимала, знала, чего они от нее добиваются, и все это девочку еще больше удручало. А отец вместе со своими лесными гостинцами одним лишь появлением еще больше бередил и так невыносимую печаль и боль… Ничто, казалось, не могло возвратить ей утраченного равновесия, былую живость, радость жизни. Надеяться можно было только на время, которое, говорят, лечит лучше всего. Ведь все попытки близких и родных как бы разбивались о ее недетское молчаливое безразличие и замкнутость, как волны о каменную скалу… Хотя… может, это и в самом деле так лишь казалось!.. Как-то, уже в конце декабря, пионервожатая Зоя дала ей задание: подготовиться и потом, в январе, провести беседу с учениками и пионерами четвертых классов об Ильиче. Ей, как и перед тем, ни за что не хотелось приниматься, ни к какой не тянуло работе, но отказываться от задания было неудобно, и она просто не осмелилась… А раз не отказалась, дала согласие, уже не могла того не сделать, так как за свой, пусть и короткий, век привыкла: взялась — сделай! Вечером, после того как дедушка Нестор забрался на печь, повозился, покряхтел и утих, тоненько, по-детски высвистывая носом, она сидела на лежанке, закутавшись в большой шерстяной платок, поставив позади себя в запечек керосиновую лампу, — читала. Читала и то, что читала раньше, и то, что слышала, может быть, десятки раз… За окнами стояла глухая декабрьская ночь. Висела над темной крышей хлева ущербная прозрачно-кристальная луна, заливая белые, тихие снега, покрывшие хаты, улицы, левады и огороды, призрачным зеленоватым светом. Подернутые тоненькой пленкой изморози стекла причудливо искрились. А она читала… Читала допоздна, не отрываясь от книжки, и чем далее, тем с большим интересом, впервые за многие месяцы…
Его отец умер так же внезапно. В январе. Отцу было тогда всего пятьдесят четыре года, а ему неполных шестнадцать. Старшие — брат и сестра — уже учились в Петербурге. А он еще был только гимназистом. Учился и помогал матери присматривать за маленькими, воспитывать их. Большое и неожиданное горе не сломило его; он должен был прежде всего заботиться о матери и младших братьях и сестрах. Должен был подрабатывать, помогать младшим готовить уроки и учиться. Обязательно и как можно лучше учиться… Было нелегко, ведь он должен был думать и отвечать не за себя одного… А всего лишь через год, когда еще не утихла боль после смерти отца, его внезапно вызвали из класса посреди урока. Знакомая учительница Кашкадамова, глядя на него испуганными глазами, передала только что полученное из Петербурга письмо от столичной родственницы… Он прочитал молча, не проявив внешне ни своих чувств, ни острой тревоги. Прочел, помолчал, потом сказал: «Но это же очень серьезно!» И прежде всего вспомнил о несчастной матери. И самое тяжелое — подготовить мать к новому большому горю и ужасной опасности — взял на себя… Через два месяца его брата Александра повесили в Шлиссельбургской крепости за подготовку покушения на жизнь царя Александра III. Ему было тогда всего семнадцать, и он еще учился… Брата он глубоко уважал и любил настоящей, крепкой любовью. Боль невыразимой, безвременной утраты, да еще в таких жутких обстоятельствах, могла ошеломить, даже убить и более взрослого и закаленного человека. А он — выдержал… Смерть брата причинила мучительную боль. Но она его и не сломила, и не убила, и не запугала… Юношу поразили, придали сил мужество, самопожертвование, героизм брата и его смелая речь на суде, которую слышала и потом пересказывала мама. Он гордился своим братом, его смелостью, хотя и не разделял его методов борьбы — не принимал террора. Семнадцатилетний гимназист, подавив боль, собрав всю силу воли, твердо проговорил сквозь стиснутые зубы: «Нет, мы пойдем не таким путем… Не таким путем надо идти…» Это — в семнадцать лет!.. Против него были царь, самодержец огромной империи, могущественная держава, армия. Он казался таким одиноким и беззащитным. Но только казался!.. Он верил в силы народов, знал свои силы и знал, к чему стремится. И его ничто не запугало. В самую страшную минуту жизни проявил и мужество, и стойкость, и отвагу. Он и в дальнейшем помогал содержать семью и учился. Учился основательно, упорно — в школе и самостоятельно. Не как гимназист, а как настоящий молодой ученый. Учился сознательно, готовя себя к будущим боям. Он блестяще выдержал экзамены. Директор гимназии в своей характеристике засвидетельствовал, что он «во всех классах был лучшим учеником». И ему, брату «государственного преступника», хотя и не хотели и боялись, все же вынуждены были присудить золотую медаль…
…Разумеется, Яринка и раньше обо всем этом знала и читала не раз!.. Но ведь читалось все это при совершенно иных обстоятельствах… И воспринималось по-иному, по-книжному. Как очень и очень далекое от нее и по времени, и по масштабу. И такое значительное, высокое, что ей бы никогда и в голову не пришло как-то сравнивать себя с ним. А вот теперь, в большом горе, неожиданно почувствовала с удивлением, что от всего того протянулась прямо к ней какая-то живая, трепетная ниточка. Повеяло близким, не только понятным, но и прочувствованным всеми нервами воспринятой жизни. Ведь был тот шестнадцати-семнадцатилетний гимназист таким же, в конце концов, как и она, учеником, обычным человеком, со всеми присущими человеку радостями, сомнениями, надеждами и болью. Не памятником, не портретом, не монументом. И даже не книгой, а человеком… И потому казалось, будто все это она прочитала сегодня впервые. Будто возникло сейчас в ее мыслях и чувствах, сошло на нее какое-то глубокое и неожиданное откровение. И долго еще в ту ночь сидела Яринка задумавшись, долго не могла уснуть, чувствуя приближение нового, важного и какого-то значительного поворота в своей жизни…
Через несколько дней после того она пошла к пионерам. Четвероклассники слушали ее рассказ затаив дыхание, с интересом ловили каждое слово. Она и сама почувствовала удовлетворение от встречи и беседы с ними. Даже молодая учительница из четвертого «А» Елена Ефимовна — она, оказывается, сидела, проверяя тетради, в соседней комнате, двери в которую остались не прикрытыми, — сказала ей, а потом и пионервожатой, что Яринка очаровала ее школьников…
Перед самым Новым годом к ней приехал отец, привез еду и лесные гостинцы. И был он таким осунувшимся, постарелым, с непривычной сединой в бороде и на висках, что смотреть на него было нестерпимо больно. И снова, показалось, впервые с того дня, когда умерла мама, увидела его таким Яринка, и такая жалость, такая острая любовь пронизали ее вдруг к этому родному, заброшенному, лишенному любви и ласки близких человеку, что у нее даже слезы на глаза навернулись. Бросился в глаза разорванный карман отцовского пиджака, протертый локоть и грязный воротник давно не стиранной сатиновой рубашки… И Яринке стало стыдно. Стыдно потому, что она, молодая и сильная, замкнулась в себе, словно это только ей одной тяжело. Стыдно оттого, что она совсем забыла об отце и о дедушке, что ее отец такой одинокий и такой заброшенный. «Как же ему, наверное, тоскливо одному в лесу! — подумала девочка. — И как я его люблю!.. И теперь уже никогда, ни за что не брошу его!..» Она сразу же взялась за дело: поставила на плиту греть воду, зашила карман, починила рукав пиджака. Затем попросила отца снять рубашку и выстирала ее… А отец, увидев свою единственную дочь снова живой, внимательной, энергичной, обрадовался этому и явно повеселел. По крайней мере, впервые за долгое время улыбнулся своей доброй и чуть смущенной улыбкой. Позднее, проводив отца, она дала себе слово, что до зимних каникул в дедушкиной хате перевернет все вверх дном. Все уберет, приведет в порядок, постирает, починит, выгладит, а затем, во время каникул, точно так же наведет порядок и дома, у отца. Все каникулы даже из хаты никуда не выйдет. Все время будет с отцом. И ни на шаг от него не отойдет…
В первое же воскресенье после Нового года она пошла в город, в культмаг, и купила себе значок. Маленький-маленький, самый маленький, какой только там был. На тоненькой, как иголка, булавке — металлический значок с силуэтом детской головки… Приколола значок так, чтобы он никому в глаза не бросался, — не для людей, только для себя, — на отворот борта трикотажной кофточки и про себя подумала, словно обещая кому-то постороннему: «Буду носить его всегда, где бы ни была, сколько буду жить…» Она не боялась крайностей, характер у нее был решительный и в ее годы росла максималисткой, удивительно последовательной. После смерти матери хотела только умереть; едва избавившись от навязчивой мысли о смерти, решила всю свою жизнь посвятить отцу, жить только для него… Тот маленький значок с силуэтом детской головки и сейчас при ней; он — за отворотом цигейковой шубки, надежно скрыт длинным ворсом. Она и в самом деле не снимала его с груди ни разу за все долгие четыре года… А отца нет. Да, надо смотреть правде в глаза, какою бы горькой она ни была… Нет его… Хотя, потеряв сознание, истекая кровью в камере новобайракской полиции, он, может, еще и дышит… Но она не смогла ничем, ну ничем не смогла помочь ему… От этой мысли, от собственного бессилия, отчаяния можно сойти с ума… Если бы не отец, который остался там, в Новых Байраках, ни о себе, ни о том, что с ней самой случилось и что еще случится впереди, Яринка и не думала бы. Своя судьба сейчас ее совершенно не тревожила и нисколько не интересовала. Ей теперь было все равно, что бы с ней ни случилось… Если бы она могла спасти отца!.. Но она не смогла спасти его и не сможет. Даже подумать о таком страшно. С ума сойти можно… И лучше уж не думать.
В ту зиму, после смерти матери, когда Яринка словно не по своей воле возвратилась к жизни, она все еще страдала от своего «малодушия», обвиняя себя в том, что, оставаясь жить, изменяет памяти матери, изменяет своей любви к ней, своей печали. Оправдываясь перед собой, она думала: «Буду жить не для себя. Буду жить лишь для них — для дедушки Нестора, для отца… Ведь они без меня остались такими одинокими и беспомощными!..» И правда, чем дальше, тем больше она прирастала душой к родным и близким ей людям, жила для них. Присматривала, ухаживала за ними, следила за тем, чтобы все у них было как и при маме. От этого чувствовала и себя счастливой. Будто исполняла мамину волю, ее завещание. Иногда даже удивлялась: как это она раньше могла так безразлично относиться к отцу. И как это она не знала, не чувствовала, что любит своего отца больше всех на свете. Любит и жалеет. А жалея, любит еще больше. Не щадит ни себя, ни своих сил, ни времени, успевает и учиться, и обшивать, и обстирывать их обоих и в двух хатах поддерживать хоть какой-то порядок. В этом теперь, казалось, была вся ее жизнь. Хотя глубоко, на самом дне души, в сознании жило, таилось до поры и что-то другое, связанное с тем силуэтом детской головки, который она носила, прикалывая то к отвороту шубки, то к кофточке или платью, ни на один день не разлучаясь с ним. Яринка была такая маленькая, или, как говорили о ней родные, такая дробненькая, что когда ей исполнилось пятнадцать лет и она вступала в комсомол, в райкоме подумали, что ей нет еще и четырнадцати. — Как же ты учишься? — спросил ее чубатый и тонкошеий Федор Кравчук, секретарь райкома. — Учусь… — невнятно и даже смущенно ответила Яринка. Ей почему-то было неудобно ответить, что в девятом классе она стала круглой отличницей, много читала, глубоко интересовалась литературой, географией, историей и с особым прилежанием изучала немецкий язык. Ответ ее показался секретарю не только невыразительным, но и довольно странным. Он пожал плечами и улыбнулся. И тогда за Яринку ответила пионервожатая Зоя: — Она у нас отличница!.. — Отличница? — переспросил секретарь, вытягивая и без того длинную шею, словно не поверив. В те годы все, кто кончал или должен был окончить десятилетку, были уверены, что обязательно поедут учиться в вуз. И почти каждый ученик за год или два до окончания школы облюбовывал себе будущую профессию, лелеял мечту стать Чкаловым, Мичуриным, а то и овладеть более скромной профессией — стать летчиком, агрономом, врачом или учителем. Зная об этом, секретарь спросил: — А куда пойдешь учиться потом? Кем хочешь стать? — Я? — удивилась Яринка. — Я еще не знаю. Не могу сказать… Ответ снова прозвучал, да еще из уст отличницы, довольно странно. — Не знаешь? — протянул секретарь. — Нет, — вполне спокойно повторила Яринка. — Знаю только, какой хочу быть. — А какой же?.. — Ну… Это уж я сама знаю… — И умолкла. Секретарь снова пожал плечами. Тогда, во время испанских событий, фашизации Германии, Италии и Японии, юноши и девушки часто думали и говорили о будущей войне, так или иначе готовили себя к ней, учились, сдавали нормы ПВХО, ГТО, ГСО, изучая винтовку или старый пулемет с дырочкой на стволе. Такое «оружие» было чуть ли не в каждой школе и сельском клубе. Потому и вопрос члена бюро райкома, Ларисы Замковой, с которым она пришла на помощь секретарю, был не случайным, а вполне уместным. — Ну, а если война? — спросила Лариса, прижмуривая голубые близорукие глаза и поправляя портупею на зеленой юнгштурмовке. — Что война? — не поняла Яринка. — Ну, — поднялась с места Лариса. — «Если завтра война», как в песне… Что ты тогда будешь делать — знаешь?.. Теперь уже Яринка поняла. Такой вопрос не был для нее неожиданным. Она тоже сдавала нормы ГТО, училась делать перевязки, стреляла из школьного «монтекристо» по мишени с зеленым силуэтом фашиста, умело разбирала и собирала затвор винтовки. А груды перечитанных книжек, множество просмотренных фильмов, собственное представление ифантазия в сочетании с неплохим, для ее школы, знанием немецкого языка делали свое дело. Перед глазами ее всегда были Анка-пулеметчица, Павка Корчагин, Артур из «Овода». И Яринка представляла себя то санитаркой, то переводчицей в каком-то штабе, то разведчицей, а то и агитатором или политбойцом в каком-нибудь уже освобожденном от фашистской власти немецком или испанском городе, где она учит юношей-иностранцев, как надо жить и работать по-советски, по-комсомольски… Однако ответила Ларисе кратко, глядя себе под ноги: — Ну конечно же знаю, что буду делать… — А что? — допытывалась Лариса. — Ну, если говорю, то, выходит, знаю… Что ж тут говорить! И хотя ответы ее произвели несколько странное впечатление, даже показались не очень определенными прямолинейно настроенным членам бюро (которые добивались во всем ясности и которым все и всегда было ясно), Яринку приняли в комсомол единогласно.
Где-то в Новых Байраках умирал страшной смертью, а может быть, уже и умер ее отец. Она же не могла предотвратить этого, хотя и думала все эти годы, что живет и жила только для него. Все для него, даже сама ее жизнь. Она и сейчас, не колеблясь, отдала бы свою жизнь, если бы… если бы это только могло спасти отца. Но это невозможно. Замученная и истерзанная пытками, она только напрасно погибла бы, да и то не вместе с ним. Но и этого сделать ей не позволили. Да и права такого она, наверное, не имела. Тогда, учась в девятом и десятом классе в Скальном, она просто разрывалась между отцом, дедушкой и школой. Хотела хорошо учиться. Охотно выполняла пусть и не сложные, но хлопотные, требовавшие времени и внимания, комсомольские нагрузки. Отец, как и раньше, жил в своем лесу одиноко. Внешне казалось, что с этим он давно свыкся и такая жизнь его будто и не тяготит. Но его внешнему спокойствию Яринка не верила. У нее сердце разрывалось, когда она вспоминала об отце, о том, что он где-то там один-одинешенек живет в пустой хате, бродит по лесу, копается в огороде. Днем, да еще летом, это так-сяк. Каждый день из Подлесного и соседних районов наезжают люди за лесом. Можно иногда и самому сходить в Подлесное (всего каких-то пять километров) или в Терногородку на базар. А зимой?.. Как ему там в долгие вечера, под вой ветра и стон деревьев за окном? А в еще более долгие, нескончаемые ночи?.. Когда что-то будило девушку или она сама просыпалась от тяжелых сновидений в зимнюю полночь, Яринка прежде всего вспоминала об отце. Прислушивалась к завываниям ветра за окнами, и сердце ее болезненно сжималось. Тогда она долго лежала с раскрытыми глазами и старалась угадать, что делает, что чувствует и о чем сейчас думает ее отец, совсем один в темной лесной хате? Словно наяву, слышала шум и скрип высоких осокорей, унылый вой ветра в орешнике. И от этого становилось еще тоскливее, и она долго не могла снова уснуть, а утром просыпалась утомленной, разбитой и вялой. В дальнейшем, чем больше о нем думала, тем более сиротливым и несчастным казался ей отец. Он как бы преждевременно худел и старился у нее на глазах. Перестал бриться и отрастил круглую, реденькую, рыжую бородку, в которой раньше времени заметно начала пробиваться седина. Жалость к отцу, острая, болезненная любовь с каждым днем все сильнее охватывала девушку. Она с нетерпением ждала каникул или какого-нибудь праздника, чтобы помчаться в лес, неделю, две, а то хоть и денек пожить у отца, навести порядок в по-бурлацки запущенной хате и хозяйстве, хоть немного позаботиться о нем самом. Дни и недели, проведенные с отцом, когда они бывали неразлучны, перебрасывались за день едва ли несколькими фразами и все же оба чувствовали себя необычайно счастливыми, — те дни, возможно, были бы самыми радостными в тогдашней ее жизни, если бы она, вырвавшись к отцу в родной лес, не начинала сразу же по приезде думать о дедушке Несторе, беспокоиться, бояться, не случилось ли с ним, пока ее не было, чего-нибудь плохого. Хотя дедушка Нестор и бодрился, но был он уже слабым; как говорится, пока держался, но без внучки чувствовал себя невесело. И не потому, что не мог сам о себе позаботиться, но, скорее, потому, что уже не мог, как и отец, скрывать, что без внучки, пусть даже и несколько коротких дней, ему оставаться тоскливо. Искренне, как ребенок, хмурился, чуть не плакал, когда она собиралась в дорогу. И точно так же, чуть не со слезами радости на глазах, встречал внучку, когда она возвращалась. Не скрывал того, что ждал ее все это время, со старческим, почти детским нетерпением посматривая на дорогу. А еще никогда не забывал приготовить к ее приходу какой-нибудь немудреный, но неожиданный и потому приятный гостинец. А теперь нет уже у нее и дедушки… В первый год войны, разрываясь между трудными заданиями, небезопасными операциями и дальними дорогами, Яринка старалась наведываться к ним хоть иногда, присмотреть и подбодрить обоих. Но чем дальше, делать это было все труднее и труднее. Особенно во второй год войны, когда она перешла почти на нелегальное положение и показываться в Скальном ей было просто опасно. И ее дедушка, ее милый дедушка Нестор, который всегда нетерпеливо ожидал ее и горячо любил, не представляя себе жизни без внучки — последней любви, последнего тепла в своей жизни, — так и умер, не дождавшись Яринки из ее опасных странствий. Умер зимой, во второй год войны, один в пустой холодной хате, никем не присмотренный. Рассказывали потом соседи: чужие люди нашли его уже окоченевшим на второй или третий день после смерти, в промерзшей хате… Похоронили из милости, говорили, даже без гроба, завернув в дерюгу. А Яринка не смогла тогда (боясь попасть в лапы Дуське Фойгелю) навестить даже его могилу. А отец так и жил, работал в своем лесу. Девушка знала, что и отец его, Яринкин дедушка, тоже был лесником. Вся их семья жизни своей без леса не представляла. Дедушка Нестор, рассказывала мама, когда отдавал свою дочь замуж за отца, сказал будто бы на свадьбе, подвыпив: «Жаль мне тебя, дочка, в лес отдавать. Еще волки загрызут или со скуки зачахнешь. Лесники уже и разговаривать по-людски разучились!» А Яринкин отец на то будто лишь по-своему кротко улыбнулся. Мама просто посмеялась над этой шуткой, а кто-то из дальних родичей отца — близких уже не было — обиделся. Отец любил лес и, видимо, скучал без него. Эта любовь, наверное, немного скрашивала (если только скрашивала!) боль утраты и одиночество… А перед самой войной согласилась перебраться к нему на хозяйство двоюродная тетя Агафья, совсем старенькая, одинокая, чтобы было хоть с кем словом перекинуться, душу отвести. Когда на бюро Федя Кравчук спросил, кем она хочет стать и Яринка ответила, что еще не знает, она ничего не скрывала. Она и в самом деле не знала. Не знала, будет ли куда-нибудь поступать учиться, так как не представляла себе, как она сможет на целый долгий год оставить на произвол судьбы дедушку в Скальном и отца в лесу и уехать в какой-нибудь далекий город.
…Но сложная проблема разрешилась неожиданно: ее перечеркнула война. В воскресенье, утомленная экзаменационной лихорадкой, Яринка немного заспалась. И когда выбралась в местечко, чтобы сделать кое-какие покупки для дома, солнце уже стояло высоко над трубой сахарного завода и припекало все сильнее и сильнее. А на песчано-серой площади, словно вытоптанном на камне прямоугольнике, перед райисполкомом — зарябило в глазах от фуражек, брылей и женских платков — оцепенело стояла непривычно молчаливая толпа. С высокого крыльца из черной тарелки репродуктора неразборчивыми издалека, громкими словами гремело радио, отдаваясь эхом где-то далеко за стенами парка. Что-то необычное, даже что-то тревожное послышалось девушке во всем этом. Яринка подошла и остановилась за спиной высокой стройной девушки в коротеньком, белом в синий горошек платье. Девушка заслоняла крыльцо, людей впереди, репродуктор, мешала вслушиваться, улавливать смысл того, что доносилось из репродуктора. Коснувшись пальцем загорелого локтя высокой девушки, Яринка почему-то приглушенным голосом взволнованно спросила: — О чем это?! Девушка неторопливо оглянулась, какое-то мгновение смотрела мимо Яринки странным, обращенным неизвестно куда взглядом больших карих глаз, словно не понимая, чего от нее хотят. Потом подняла длинные густые ресницы, глаза ее сразу прояснились, а полные, крепко сжатые губы дрогнули. — Война… — ответила она тоже тихо. И вдруг радостно воскликнула: — Яринка!.. — Галя!.. Они бросились друг к другу. Сильной рукой Галя Очеретная притянула к себе низенькую, щупленькую Яринку, и та доверчиво прильнула, прижалась щекой к ее горячему плечу, да так и стояли они молча, пока не отдалось эхом последнее слово сообщения о внезапном начале таинственной и страшной войны. На какое-то мгновение над площадью повисла гнетущая, настороженная тишина. И Галины слова, хотя и сказанные приглушенным голосом, услыхали все, кто стоял вблизи. — Что же теперь будет? — тоскливо спросила она то ли Яринку, то ли себя. На них оглянулись. Невысокий, коренастый парень с круглой, низко остриженной головой смерил Галю долгим, почти презрительным взглядом и сердито бросил: — А вот… то и будет!.. Как дадим — зубов за месяц не соберет в своем Берлине!.. Если, разумеется, тот Берлин уцелеет… Галя смутилась, ничего на это не ответила. А Яринка лишь теперь заметила рядом с тем стриженым длинного, по-мальчишески костлявого — его почему-то прозвали Радиобогом — эмтээсовского Леню Заброду. Невдалеке от него стояли несколько хлопцев из их десятого. А чуть в стороне, возле самого крыльца, опираясь плечом на акацию, маячил Дуська Фойгель. Тот самый Дуська, который еще в восьмом, в страшный для Яринки день, пугая девушек подбитой вороной, потом преследовал ее, Яринку, а позднее, после истории с его отцом, перевелся в другую, сельскую школу, исчез на целых два года с ее глаз, чтобы снова прошлой осенью возвратиться назад, уже в десятый класс. Стоит вот, повернув голову в их сторону, вкрадчиво, изредка поблескивая своими белыми, жутковато странными глазами… Не подходя и не обращаясь к хлопцам, девушки выбрались из толпы, прижавшись друг к другу, пересекли площадь и остановились только на середине мостика. Глядя вниз, в затененную мостиком глубину Черной Бережанки, Галя тихо и грустно сказала: — Может, и мой отец где-то уже там… — Где это — там? — не поняла Яринка. — Ну… там!.. Его призвали в Красную Армию еще в начале мая. Он у меня — тракторист… А там — там танкист. Он младший лейтенант… На мостике стояли только они двое. Тишина вокруг казалась оглушающей. Словно в жатву, палило сверху солнце. И даже речка, ослепительно блестевшая под солнцем, не приносила прохлады. Яринка молчала. Стояла, опершись грудью на поручни моста, смотрела в воду и только теперь вспоминала, что не виделась с Галей Очеретной по-настоящему тоже около двух лет, еще с того времени, когда вместе учились в восьмом. Тогда Яринка была даже два или три раза у Гали дома, вот там, за речкой, на Выселках. А однажды, во время зимних каникул, привезла подругу к отцу в лес. Бродили там целый день по сугробам, навестили могилу матери и положили на могилке, прямо на слепяще-белый снег, гроздь калины… В девятый класс Галя не пошла. Почему-то внезапно бросила школу… С тех пор они встречались случайно раз или два. А вот теперь встретились, и появилось такое чувство, словно разлучились они только вчера… — Как же ты теперь, Галя, где? — помолчав, спросила Яринка. — Работаю. В районной типографии ученицей. Теперь, считай, самостоятельным наборщиком. — И, вздохнув, грустно добавила: — Вот только не знаю, что и как будет теперь со мною, да и с нами всеми… — А я, — сразу спохватилась Яринка, — сдам последний экзамен — и в военкомат. Попрошусь санитаркой на фронт, телефонисткой, а то и разведчицей. Мало ли что там!.. Поняла, что такое решение пришло ей в голову только теперь, сию минуту, и совсем этому не удивилась. Галя немного помолчала, думая о чем-то своем. — А я, — отозвалась она немного погодя, — еще не знаю… Отец где-то там, на фронте. У мамы, кроме меня, еще двое маленьких… Не знаю, ничего я сейчас не знаю, Яриночка…
На третий день после начала войны в школе произошел бунт. Ученики старших классов категорически отказались сдавать экзамены по немецкому языку. В десятом иностранный — немецкий — был последним экзаменом. Но… ни один выпускник на тот экзамен так и не явился. Ни один, кроме Яринки Калиновской. Да и она явилась только потому, что пожалела учительницу, у которой (правда, разделяя эту честь с Дуськой Фойгелем) считалась лучшей ученицей. Взволнованная и, по правде говоря, напуганная этим бунтом, старушка особенно и не спрашивала экзаменующихся. Задала два-три вопроса, попросила перевести полстранички текста — и вот она, Яринка, уже вольная птица! Осталось позади целое десятилетие школьной жизни, и она, возбужденная и растерянная, мчится вдоль необычно пустого коридора. Мчится как на крыльях через широко распахнутые двери классов к выходу и… посредине длинного коридора лицом к лицу сталкивается с Дуськой Фойгелем… Дуська, как и все в классе, экзамен по немецкому языку бойкотировал. И бойкотировал, пожалуй, наиболее демонстративно. Хотя для него этот экзамен — пустяк. Ведь всем известно, что немецкий язык для него родной, знает его с детства, от отца, происходившего из херсонских немцев-колонистов. И знал Дуська его так же хорошо, как украинский или русский от матери, дочери бывшего начальника железнодорожной станции Скальное. Дуська тоже был чем-то возбужден и тоже куда-то торопился. Однако, встретив Яринку и поняв, откуда та вышла, остановился. Остановился с явным удивлением. Криво, не понять, то ли иронически, то ли довольно, улыбнулся: — Что? В самом деле решила сдавать?.. Яринка насторожилась. Может быть, не столько потому, что он — старше ее года на три — когда-то так настойчиво преследовал ее, и не потому, что этот последний школьный год они вообще молчаливо избегали разговоров и встреч наедине, а главное, потому, что после ареста старого Фойгеля между ними установились особые, известные лишь им двоим, сложные отношения, которые исключали всякие разговоры и всякую общность. — А что?! — ощетинившись, побаиваясь какой-то неприятности и готовясь дать сдачи, переспросила Яринка. — Ничего такого… — отступая в сторону, протянул Дуська. — Другие же вот отказались. Бойкотируют. Как-никак язык фашистов, язык Гитлера… Яринке послышалась в его словах глубоко скрытая ирония. По крайней мере, что-то язвительное в тоне. И она сразу, сердито и решительно, отрубила: — Язык здесь ни при чем! Язык есть язык! Наконец — это не язык Гитлера, а скорее, язык Гёте, Шиллера, Гейне, Маркса!.. — Ну, а я разве что говорю! — торопливо согласился Дуська. — Да и потом… Война же только начинается, всего не предвидишь… — А что мне предвидеть?! — Да ничего… Это я так, между прочим… И сразу же исчез где-то в конце коридора, оставив на душе, впрочем, не впервые, какой-то неопределенный, неприятный осадок.
А война подкатывалась так быстро, так стремительно, что не хватало времени для того, чтобы как-то собраться с мыслями и хоть немного спокойнее все обдумать. Едва успев выдержать экзамены, юноши из десятых и девятых классов направились в райвоенкомат, а девушки — на курсы медсестер. Юношей в военкомате выслушали, даже похвалили за то, что пришли, но посоветовали временно подождать. Поучитесь, мол, на месте, а потом само дело покажет: у кого подойдут года — призовут в армию или направят в военные училища для подготовки квалифицированного пополнения: танкистов, артиллеристов, летчиков. И теперь хлопцы, вступив в организованное в районе народное ополчение, вместе с ветеранами прошлых мировой и гражданской войн, под руководством молоденького младшего лейтенанта из военкомата учились на площади возле завода сдваивать ряды, подходить с рапортом к старшему начальнику, ползать по-пластунски, бросать деревянные гранаты и разбирать и собирать винтовку образца 1891 года. А девушки здесь же, в школе, под присмотром старенького врача Зотовой, овладевали искусством первой неотложной медицинской помощи, учились перевязывать раны, останавливать кровотечение, накладывать жгут и самой примитивной транспортировке раненых. Несколько раз, когда занятия кружка медсестер для большей наглядности проводились не в школе, а в помещении районной больницы, Яринка встречалась там с Галей Очеретной. Оказывается, Галя тоже училась на курсах медсестер, только в старшей группе. Встретившись в больнице, они садились рядом, практикуясь в перевязках друг на друге. А возвращаясь домой, долго еще прогуливались возле речки, разговаривая о войне, вспоминая общих знакомых, школу, задумываясь вслух о будущем и беспокоясь о том, что ждет их в этом будущем. Одним словом, пока что все у Яринки шло как-то само по себе, а война — сама по себе. В сводках ежедневно возникали новые направления, назывались все новые и новые оставленные врагу города. А местная устная почта, так называемая ОБС — «одна баба сказала», — не без определенных оснований, которые, к сожалению, часто подтверждались в информации об оставленных городах и продвижении гитлеровцев, значительно опережала и без того невеселые сводки Информбюро. Появились лозунги, обращения, меры по борьбе с паникерством. Слово «паникер» стало самым ругательным и почти равнялось слову «изменник». Большинству людей как-то не верилось, не хотелось верить, что немцы уже в Житомире, Белой Церкви или Виннице. Верили и со дня на день, с часу на час ждали извещения о том, что гитлеровцев остановили и дан приказ о решительном и победоносном наступлении. Мимо Скального, в обоих направлениях, с севера на юг и с юга на север, один за другим проходили эшелоны с солдатами, оружием, боеприпасами и продовольствием. Позднее пришел первый эшелон с ранеными и, долго не задерживаясь, прошел дальше. Потом первые раненые появились в скальновской больнице, а школу начали оборудовать под госпиталь. На территории сахарного завода разместился штаб какой-то воинской части, вдоль железной дороги, вокруг станции и сахарного завода установили зенитки. Потом не явилась на курсы медсестер, куда-то исчезла Галя Очеретная. А потом… Потом распространились слухи о переодетых милиционерами, красноармейцами и просто цивильными гражданами немецких шпионах, о диверсантах-парашютистах, отравленной воде в колодцах и диверсиях на железной дороге. В местечке, на станции, возле элеватора и завода порой и в самом деле задерживали каких-то людей и целыми группами, в большинстве женскими, сопровождали их в милицию, штаб народного ополчения, что находился в помещении МТС, или в войсковую часть. А еще позднее, уже во второй половине июля, почти все трудоспособное население вывели на рытье противотанкового рва в степи за Казачьей балкой, вдоль левого берега Черной Бережанки.
Оттуда, из-за Черной Бережанки, Яринку и вызвали в райком комсомола. Она явилась туда прямо с лопатой в руках, обветренная, загорелая на солнце, с потрескавшимися губами, в грязном легоньком пыльничке и стоптанных резиновых тапочках. В числе самых видных комсомольских активистов своей школы, тем более района, Яринка не числилась. А вот в райком в такое время, с окопов, да еще и немедленно, вызвали именно ее… Почему же? Зачем? Яринка немного встревожилась и немного обрадовалась: возможно, куда пошлют, скажем, на фронт? «А как же отец, дедушка? — подумала она и тут же решила: — Все равно пойду или поеду, ведь сейчас война! А то еще дадут какое-нибудь простенькое и неинтересное задание…» В райкоме ее принял сам секретарь Федя Кравчук. (Его в районе, кстати, все звали — Федя.) Яринка так и вошла с лопатой в его вечно прокуренный маленький кабинет с одним окном. — Ты лопату-то оставь пока возле порога, — сказал ей Кравчук, скупо, сдержанно улыбнувшись. — А теперь проходи и садись вот здесь, — он показал на стул не напротив, а рядом с собой. Был Федя, как всегда, худой, высокий, длинношеий. Только теперь еще и заметно осунувшийся, — видно, не спал и не отдыхал уже не одну ночь. Усадив не менее утомленную, щупленькую, как подросток, Яринку, закурил новую папиросу, тряхнул копной густого, непокорного чуба и начал рассматривать девушку, словно впервые ее увидел. Рассматривал молча, долго, так, что Яринке стало от этого даже как-то и неудобно. Наконец, сбросив пепел с папиросы прямо на стол, на какие-то бумаги, Кравчук еще раз тряхнул чубом и неожиданно спросил о том, о чем знал и без ее ответа: — Была на окопах? — Да… — Рыла противотанковый ров? — Уг-гу… — Ну и как?.. Скоро закончите? — На нашем участке, считай, закончили. — Та-ак… Ты, Калиновская, комсомолка, девушка своя, серьезная, взрослая, и нам с тобой нечего в жмурки играть… От этих слов Яринка внутренне подобралась и насторожилась. — Школу окончила? — спросил Кравчук. — Экзамены там и все такое сдала?.. Ну и это… То есть далее… — Он снова умолк, словно подыскивая слова, а Яринка ждала окончания предложения и не торопилась с ответом. — Дальше как думаешь?.. То есть что думаешь делать? — Не знаю… Еще не успела подумать как следует… Учусь на курсах медсестер. Возможно, в госпиталь или на фронт. О работе беспокоиться не приходится, лишь бы руки. — На фронт?! — Кравчук будто даже оживился, будто и усталость с его лица сошла. И еще раз, острее и пристальнее посмотрев на девушку, спросил: — Ну, а с немецким как у тебя? Были такие слухи — хорошо он тебе давался. — Давался! — встрепенулась и то ли с гадливостью, то ли с раздражением сказала девушка. — Давался!.. Терпеть я его теперь не могу! И не напоминай лучше! Лицо Кравчука нахмурилось, стало каким-то сердитым. — А это ты уж совсем напрасно, Калиновская. Совсем напрасно. Ну, а все же… Если бы довелось что-нибудь там написать, прочитать, объясниться с кем на немецком, поговорить, если что?.. — Ну, если бы уж было крайне необходимо… С ножом к горлу… А так… Не лежит сейчас у меня душа к этому языку… — Мало что! — строго бросил Кравчук. — Вот до войны этой тоже мало у кого душа лежит. А… Одним словом, это ты напрасно! События могут повернуться по-всякому, и твои знания их языка могут нам пригодиться… Яринку неожиданно резануло то, что Кравчук, совсем того не зная, почти слово в слово повторил то, что сказал Дуська Фойгель. Поначалу девушке захотелось даже сказать, что ей уже, мол, один такое говорил, но она сдержалась и промолчала. Кравчук вместе со стулом придвинулся ближе к ней, положил свою длинную, с тонкими узловатыми пальцами руку Яринке на плечо и, наклонившись к самому лицу, сказал притихшим голосом: — Слушай, Калиновская… Идет война. Фашист напал на нашу страну, а мы с тобой комсомольцы. То, что я тебе скажу, тайна. А разглашение военной тайны в военное время — ты сама хорошо знаешь, не маленькая, комсомолка и со средним образованием… Видишь, Калиновская, наступила такая година, когда все мы — хочешь не хочешь — солдаты. А военные события оказались намного горше и тяжелее, чем мы того ожидали… Кравчук снова вздохнул, помолчал, будто все еще не решаясь сказать то, что хотел сказать, — то ли ему тяжело, то ли неловко было об этом говорить… — События сложились так, что фашисты могут… появиться и здесь… Разумеется, временно… Но наши с тобой знания, наша работа могут потребоваться не только на фронте, но и здесь. Даже особенно здесь. Больше я тебе ничего не скажу, не имею права. Но ты должна решить… И самое главное, просто приказ: держи язык за зубами. О нашем разговоре никому ни слова. А теперь, если ты меня поняла и согласна, говори. Если что не понятно — спрашивай. Что могу — скажу. Если же хочешь подумать — подумай. Время у нас еще ость. Немного, но еще есть… Но времени не только на долгие, но и на короткие разговоры не было уже совсем. Об этом еще не знали ни Яринка, ни Кравчук, ни те, кто уполномочил Кравчука на разговор с Яринкой. Яринка даже не задумалась над этим в то время. Точно так же, как не знала и только в самых общих чертах могла себе представить, чего именно требует от нее Кравчук. Понимала, это должно быть похожим на что-то слышанное от старших, вычитанное у Островского, Войнич и еще во многих подобных книгах. И она решила сразу. Решила, что раздумывать здесь ей нечего, что одними мыслями в такое время ничему не поможешь, что в комсомол она вступила не для того, чтобы долго колебаться, и наконец высказала все это в нескольких словах: — Думать тут не приходится. Буду делать, что прикажут. Если необходимо — сегодня, сейчас… Нет, сейчас от нее еще никто и ничего не требовал. Кравчук только посоветовал никому не попадаться в местечке на глаза. Пусть она, лучше прямо сегодня, возвращается домой и живет себе у отца. Живет и ждет… Если же будет необходимость, ее найдут и позовут. Обратятся от него — Кравчука. Обратятся люди, которых она хорошо знает, и передадут условленные слова… Могут, правда, обратиться и не от него непосредственно. Кто же знает, как это там сложится! И может, это будет кто-то знакомый, а гляди — и совсем незнакомый. Но — несмотря на все — он должен обязательно сказать: — Приглашает тебя, девушка, на свадьбу Федор. Всего шесть слов. И только в такой, строго такой последовательности. И она, Яринка, тоже должна ответить шестью словами. И тоже в строгой последовательности: — Пусть погуляет до осени тот Федор…
Ночь была темная, в общем-то не холодная (мороза совсем не было), но какая-то неприятная, промозглая сырость пронизывала до костей. Несколько часов неподвижности после тяжелого и долгого пути по грязи давали себя знать. Яринка подумала, что так, сидя под холодной стеной на сильном сквозняке, можно и замерзнуть, но не шевельнулась. Кто-то рядом застонал, затем хрипло и негромко выругался. Вокруг слышались шорох перетертой соломы, возня, стон и тихое бормотанье многих людей, сгрудившихся в темном коровнике. Воздух, несмотря на выломанную крышу, выбитые окна и двери, был тяжелый. Яринка тихо потянулась туда, где должны быть двери. Вдохнув холодного воздуха, насыщенного запахом оттаивающей земли, вздохнула. Какой родной и какой далекий, почти воображаемый запах! Так, словно бы никогда в жизни и не было ни этого запаха, ни вербовых пушистых почек, ни терпкой, приятной горечи калины на губах, ни веточек орешника с бусинками бледно-зеленых, словно пудрой осыпанных, сережек. Возле ворот в густой темноте и потому, казалось, где-то далеко-далеко тускло светился керосиновый или карбидный фонарик и гомонили люди. Потом, громче, послышалось какое-то немецкое слово и за ним, как треск сухой ветки, выстрел. Наверное, так, от ночной скуки. Потому что сразу за ним все покрыл зычный, но какой-то словно деланный смех нескольких охранников. Думы об отце не покидали Яринку. Потом вспомнились лес, осокори вокруг подворья, заросшее ярко-зеленым мхом, долбленое корыто возле колодца, длинный, темный сарай, полный запахами меда, вощины, лежалых груш и прелых листьев. И те немцы, первые немецкие вояки, которых она впервые в своей жизни увидела на собственном подворье, после того как Федя Кравчук отослал ее из Скального домой и наказал ждать условленного сигнала. Впрочем, были они, эти висельники, просто веселые молодые парни в чужой ненавистной униформе, с чужим оружием в руках. Сначала, как только подошли к двору, вели себя довольно сдержанно, осмотрительно и настороженно. Они приехали на мотоциклах, с грохотом, треском и беспорядочной стрельбой. Троих с пулеметом оставили у ворот, четверых с автоматами поставили за осокорями со стороны леса, а еще трое, тоже с автоматами наготове, зашли на подворье. Один просто так, будто от нечего делать, дал очередь из автомата в воздух над хатой и что-то крикнул. Увидев немцев, отец заметно побледнел, но вышел во двор. Бабушка Агафья перепугалась насмерть, как оцепенела на лавке у печки, так и не поднялась. Только время от времени что-то шептала побелевшими губами и часто крестилась непослушными, дрожащими руками. Яринка же, удивляясь сама себе, никакого страха не почувствовала и направилась к дверям вслед за отцом. Он было запретил ей выходить, однако Яринка не послушалась. Вышла и остановилась, подперев плечом косяк наружных дверей. Молча и пристально следила за пришельцами и совсем не чувствовала страха, а лишь ощущала какую-то странную душевную пустоту и что-то холодное, чужое, дико-ненужное, что внезапно ворвалось неведомо откуда на родное подворье и убило — словно ранний мороз свежий цветок — все, что было до этого своим, близким, родным и самым дорогим. И может, самым мучительным из всего, что она почувствовала в то мгновение, было сознание своего горького, отчаянного бессилия, которого не принимало и против которого протестовало все ее существо. Трое на подворье по всем признакам были обычными, разве что только в чужих мундирах, юношами. Один, невысокий, коренастый, смугловатый, с длинным крючковатым носом, осмотрев подворье и увидев у порога пожилого мужчину и молоденькую девушку, как-то успокоительно снял каску, вытер со лба грязным платочком пот и (был, наверно, здесь за старшего) приказал двум другим прочесать двор. Потом, оставив мотоцикл, направился прямо в хату. — Рус полшевик? — спросил он. Не ожидая ответа, оттолкнув отца локтем, выставил впереди себя автомат и зашел в хату. Двое других, тоже снявших каски, оказались совсем молодыми парнями, с приятными, весьма арийскими лицами: полные, румяные, по-юношески припухшие губы, едва покрывшиеся белесым пушком щеки, остриженные под бокс рыжеватые головы. Только у одного чубчик совсем-совсем рыжий, а у другого — светлее. Они сразу бросились к сараю, в хлев, потом к деревянному, рубленому, с железным засовом амбару. Ключей они не спрашивали. Довольно ловко сбили засов прикладом, а замок на двери кирпичного погреба прострелили из пистолета. На хозяев никто не обращал внимания, словно их здесь и близко не было. Прежде чем войти в сарай, хлев, амбар, погреб, что-то кричали, стреляли из автомата и только потом уже входили. Искали они «рус зольдатен», «рус полшевик», но находили, весело смеясь и громко крича, что-то более для них приятное. Тот, старший, с крючковатым носом и неарийским обликом, вышел из хаты, неся в одной руке полную каску куриных яиц, а в другой подойник с молоком. Рыжий достал из погреба два кувшина кислого молока и понес их, перекинув ремень автомата за шею, а каску повесив на руку. Белявый, схватив за ножки, тянул из хлева четырех кур, которые оглушительно кудахтали и били крыльями по земле. Вынес кур и крикнул, будто кого-то звал на помощь. И только тогда те, что были за осокорями и возле ворот, убедившись, что никакая опасность им не угрожает, а потерять они могут немало, бросили свои мотоциклы и ринулись тоже на подворье. Хохотали, орали, метались по подворью. Молодые, чужие, веселые и довольные собой и своими действиями парни. Перепуганно кудахтали куры. В хлеву снова затрещал автомат, раздался дружный смех, и двое выволокли за задние ноги — да так и тянули до самого мотоцикла — пристреленного поросенка. Затем арийские парни разлили в алюминиевые кружки молоко, выпили, закусили сырыми яйцами (к счастью, корова была в лесу, далеко от хаты), и уже все разом пристально заинтересовались пасекой… В промежутках между взрывами веселого хохота и короткими выкриками Яринка улавливала отдельные слова из той славянско-немецкой мешанины, которыми они прославились от Одера до Волги: млеко, курка, масло, яйки, шпек… Из тех слов, да еще из того, как они начали орудовать на отцовской пасеке, Яринка поняла, что парни уже тренированные и опытные… Сразу откуда-то взялись в их руках факелы, намотанные из тряпья и облитые бензином. Ульи они просто разбивали, разозленных и напуганных пчел даже не обкуривали, а прямо сжигали, отмахиваясь от них вонючими факелами, выбирая и складывая в ведро рамки с сотами. За каких-то десять — пятнадцать минут уничтожив три улья, они, по резкой команде смугловатого, вмиг все прекратили и бросились к своим мотоциклам. Только теперь, усаживаясь на седла и укладывая завоеванные трофеи в коляски, они милостиво заметили и туземцев-хозяев. Один помахал рукой, другой снисходительно, улыбнулся, рыжий даже крикнул, придерживая одной рукой руль, а другой ведро с сотами: — Мой горячий привет хорошенькой фрейлейн!.. — И затем обратился к смугловатому, обводя глазами подворье: — Слушай, Фриц, а не плохой когда-нибудь будет для тебя хуторок, а? — И вот такая паненка! — добавил белявый. Рыжий загоготал и снова крикнул Яринке: — До скорого свидания, фрейлейн!.. А смугловатый, — это в его коляске лежал убитый поросенок, — толкнув под бок соседа в седле с большим кожаным ранцем за плечами, будто укоризненно бросил рыжему: — Боюсь, Курт, что хорошенькая дикарка не знает человеческого языка и не поняла тебя! — Ничего, — хохотал Курт. — Мне бы хоть полчаса свободного времени, и мы с нею поняли бы друг друга и без слов!.. Яринка, разумеется, не унизилась до того, чтобы отвечать на оскорбительные слова вражеского солдата, только подумала, глядя вслед им, веселым, самоуверенным парням, мчавшимся на мотоциклах вдоль лесной опушки: «Ну что ж, может, и до скорого!.. Думаете, дикарка?.. Думаете, здесь будете господствовать, а я у вас буду за прислугу или рабыню? Никогда этому не бывать, молодчики! Не сварим мы с вами каши. Не сварим! А если и сварим, то уж очень крутой и горячей окажется для вас эта каша…» Подумала, еще точно не зная, как дальше будет жить, не ведая по-настоящему, что творится в мире, на фронте, ошеломленная тем, как быстро, чуть ли не за месяц, очутились уже на ее подворье, в ее лесу эти веселые и самоуверенные парни. Скорее, остро ощутила, чем подумала, даже не представляя того самого страшного, что принесли на ее землю и ей лично те проворные парни. Подумала, по-видимому, зная только одно: вот так, по воле тех веселых парней, по их указке, она жить не будет, просто не сможет… Здесь, на этой земле, должен быть и жить кто-то один: или она, или они, те веселые и пока еще такие беззаботные завоеватели. А вместе им здесь будет тесно. Такой жизни она не выдержит. Да и не нужна она ей, такая…
Дмитро вошел в ее жизнь нежданно-негаданно, может, и не так уж случайно. Но все же, если бы не война, они, возможно, так никогда бы и не встретились. Ту первую и последнюю в ее жизни любовь нашел ей сам отец… После того как фронт каким-то чудом обошел их хату, с грохотом, громом и пожарами прокатился через Подлесное далее на юг и восток, к Новым Байракам, отец (хотя она его и отговаривала, чтобы не выходил) сразу же подался напрямик к Подлесному, откуда и до сих пор доносились выстрелы и какой-то глухой грохот… Кстати, смелый — ее молчаливый, как будто даже застенчивый отец. Смелый и при любых обстоятельствах, — это обнаружилось позднее, — не теряет самообладания… До Подлесного отец, вероятно, так тогда и не дошел. Вскоре возвратился. Покрутился на подворье, заглянул в хлев, зашел в сарай, потом взял из сеней легонькую липовую лесенку, рыжее шерстяное одеяло и крикнул, чтобы Яринка шла за ним. Он, ничего не объясняя, шел молча. Яринка — точно так же молча — за ним. Сначала узенькой лесной стежкой через густой черноклен, потом поредевшим дубняком, балкой, обходя кусты орешника, вдоль родникового ручейка возле камышовых зарослей и далее старым дубовым лесом. Так добрались они до позапрошлогодних вырубок, где черные пни еле виднелись из-под свежих зарослей лапчатой бузины, материнки, белых гроздьев валерьяны, густого папоротника, синего цикория, нанизанных на тонкие стебли фиалковых лесных колокольчиков. С новобайракской дороги, в нескольких десятках шагов от вырубки, перебивая лесные запахи, резко и неприятно несло войной: горелой резиной, кислятиной свежих воронок, паленой шерстью, одеждой… Вдоль дороги в кюветах и кустах валялись сожженные и подбитые машины, легкие и зеленые танкетки, искореженные, с развороченными передками пушки. А между ними, в пыли и вытоптанной траве, — пустые медные гильзы, противогазы, зеленые каски, расплющенные (видно, по ним прошли гусеницы танков) винтовки и пулеметы. Тут же, в спешно вырытых ямках-окопчиках и просто так, на земле, коченели трупы красноармейцев с неестественно скрюченными руками, вывернутыми шеями, вдавленными в землю лицами. Один упал навзничь прямо посреди дороги, широко раскинув руки с зажатой в левой руке винтовкой. Яринка взглянула на его лицо и сразу испуганно отвела взгляд, увидев его широко раскрытые, словно выцветшие на солнце, совсем белые глаза, уставившиеся в бездонную синеву неба. Те глаза потом еще долго не покидали ее в мыслях бессонными ночами. Они всплывают в ее представлении и теперь, те неправдоподобно белые глаза, глаза самой войны. Потом, в какое-то мгновение, немного опомнившись, она заметила и немцев. Первых мертвых фашистов, которые ворвались сюда, в ее Подлесное, в ее зеленые, кудрявые, милые леса. В зеленовато-мышиных куцых мундирчиках, их почему-то сложили несколькими штабелями вдоль дороги. Сложили аккуратно, труп на труп, по четыре или пять в ряд, как поленья дров. (Потом она еще не раз встречалась с таким порядком или обычаем гитлеровских вояк — укладывать трупы штабелями перед тем, как закапывать в землю.) …Тот хлопец с бледным, обескровленным лицом и заострившимся носом, молодой, белявый и чубатый, хлопец, который потом и оказался Дмитром, лежал на краю глубокой, черной и еще полной порохового смрада воронки. Был он живой, только без сознания. Правая нога в сапоге, левая босая, залита кровью. Штанина на ней разодрана высоко вдоль шва и засучена. Сверху, над коленом, тугой жгут из простой пеньковой бечевки, а колено неуклюже перебинтовано целым узлом насквозь пропитанного кровью тряпья. «Тато!» — подумала с неожиданным волнением Яринка и помогла ему переложить того хлопца на лесенку, застеленную вчетверо сложенным одеялом… Парень при этом даже пальцем не пошевельнул.

Дома его уложили на широкий топчан, в уютной кухоньке за печкой, чтобы не бросался в глаза посторонним. Яринка промыла водкой разбитое колено, рану на правой руке выше локтя, приложила к ранам чисто промытые листки подорожника и перебинтовала чистым, прокипяченным полотенцем так, как ее учили на курсах сестер-санитарок в Скальном. Только после этого отец ушел в Подлесное и привел знакомого врача. (При всей молчаливости и замкнутости у него были всюду в окружающих селах хорошие знакомые и друзья, многие из которых никогда и ни в чем ему не отказывали.) Белявому, курносому хлопцу с большими голубыми глазами посчастливилось спасти жизнь. Потом выяснилось, что его зовут Дмитром. Еще позже (он не поднимался с постели почти четыре месяца), в начале зимы, выяснилось, что Дмитро так и останется калекой, так как разбитых в коленке костей, как он потом шутил, «не хватало до полного комплекта». И уже совсем-совсем позднее она узнала, что он не только талантливый профессиональный художник, но и смелый, остроумный, веселый и немного наивный хлопец. И не с этого ли, собственно, все и началось?..
Долгими осенними и зимними вечерами Дмитро интересно рассказывал им о городах, где бывал, о художественном институте, который недавно закончил. Разговаривал, спорил с Яринкой о книгах и, морщась от боли, пересиливая ту боль, пытался преждевременно, без особой нужды подниматься с кровати, а иногда во вред себе и поднимался. Болезненно осознал, что с его навсегда искалеченной ногой в армии не воевать, да и фронт, может, уже далековато. Осознал это с грустью, но внешне сдержанно. Убеждал своих спасителей не горевать, ведь наши неудачи на фронтах временные, немецкие войска тут долго ни за что, ни при каких обстоятельствах не удержатся, так как никогда еще и нигде надолго не побеждала человеконенавистническая идеология. Побеждает только тот, кто несет новые, передовые и, главное, гуманистические идеи. О себе говорил: — С н-ногами у меня не вышло, это пр-равда!.. Но у меня есть р-р-руки… И они еще пригодятся. Даже здесь. И кстати, — добавил он, улыбаясь и встряхивая чубом, — есть еще у меня, кажется, и голова!.. Едва поправившись, горячо попросил Яринку, собственно, потребовал, чтобы она связала его с кем-нибудь надежным из местной молодежи, с комсомольцами, с кем-нибудь, о ком она знает или догадывается, что он может действовать против фашистов. Но с кем она могла его, калеку, связывать, к кому вести? К тому же первые месяцы она сама ждала… А к ним в лес из Подлесного изредка наведывался один новоиспеченный полицай, бывший счетовод из обувной артели Демид Каганец. Наведывался он словно от нечего делать, «по пути», но из его неумелых расспросов и намеков нетрудно было догадаться об его истинных намерениях. Интересовался Каганец, и не без воли какого-то высшего начальства, постояльцем Калиновских и состоянием его здоровья. Еще Дмитро требовал (и требовал настойчиво, даже упорно) бумаги и карандашей. И сколько бы ни доставала Яринка, ему все было мало. Она так и не могла полностью удовлетворить его желание. Дмитро оказался настоящим и, как ей казалось, блестящим художником с золотыми, что даются одному из тысячи, а может, и сотни тысяч, руками. Он рисовал отца, бабушку Агафью, их хату, осокори, колодец с долбленым корытом и журавлем, длинный, похожий на гигантский курень, сарай, всевозможных птиц. Рисовал остроумные и злые карикатуры на Гитлера, Геринга, Геббельса, воплощая их в различных зверей и птиц. Такие острые, что от них даже страшно становилось. И не только бабушка Агафья, но и нетрусливая вообще Яринка следила и следила, чтобы рисунки не попались случайно на глаза Каганцу, который теперь чаще забегал к ним, просиживал все дольше на скамье у окна, молча выкуривая чуть ли не десяток цигарок из самосада. Дмитро с самым серьезным видом рисовал Каганца. И те портреты (пером и карандашом) так разительно походили на оригинал, что Каганец каждый раз расплывался в улыбке и говорил, что это «как на настоящей фотографии». Глядя на «фотографии», не могла иногда удержаться от усмешки и Яринка — так на удивительно похожем портрете Каганца видна была его глуповатая спесь и какая-то особенная, почти дегенеративная тупость. Ко всем приказам новоназначенной немецкой власти, напечатанным на машинке или тиснутым в гебитской газетке, Дмитро обязательно тут же на полях или на обороте рисовал свои «комментарии». Его «комментарии»были убийственно остроумны — хотя бы вот тот Гитлер в волчьем обличье, кусавший сам себя за хвост, или Геринг, откормленная морда которого составлялась в том случае, если соответствующим образом сложить нарисованные на листике бумаги два свиных зада. Когда Яринка принесла из Скального первую в то время листовку, Дмитро от радости сам себя не помнил. Он уже не в состоянии был усидеть на месте и все мечтал и мечтал о том, как будет потом иллюстрировать новые листовки (может, даже изготовлять клише из дерева или линолеума) и как будет писать целые воззвания или лозунги против гитлеровцев, призывая к истребительной войне с оккупантами, вселяя в людей веру в победу, сообщая о ходе военных действий на фронтах. Хотя сообщений в те глухие осенние месяцы ему получать было неоткуда, а Яринка и сама не могла ему в этом помочь, но Дмитро не совсем верил ей. Особенно в том, что она и вправду не знает тех людей, которые напечатали эту еще не подписанную листовку. Со временем вспыхнула в нем страсть рисовать Яринку. Только Яринку. Он (при его неуравновешенном характере и нетерпении) просто житья не давал ей, принуждая позировать каждую свободную минуту. Рисовал ее за какой-нибудь работой, за чтением, в платочке и в беретике, в пальто и платье, на фоне осокорей и возле печки. А то усаживал возле своей кровати на стул и, подобрав нужную бумагу, принимался за большой портрет. Однажды, в один из таких сеансов, вдруг, как молния, встретились их взгляды, и Яринка поняла, почувствовала всем своим существом, каждой клеточкой, что вот оно и началось, вот они, выходит, уже и влюбились друг в друга!.. Влюбились и, что самое удивительное, без слов оба чувствуют и понимают это. Вся встрепенувшись от горячего прикосновения его руки, от того особенно глубокого, пронизывающего взгляда его всегда веселых, а в тот миг сразу потемневших глаз, прежде всего испуганно подумала: «Как же это?! А татусь? Не могу же я его оставить!..» Хотя, собственно, никто еще и не требовал, чтобы она бросала или забывала своего отца. Чувство вконец напугало ее. И она сразу же, усилиями разума, резко, со всей категоричностью юности запретила себе ту первую и, знала, большую любовь. И долго и упрямо (хотя внешне и незаметно) сопротивлялась своей первой любви… Какая могла быть радость, какое счастье и какая любовь после смерти матери и в такое страшное, кровавое время, когда миллионы неимоверно страдают, гибнут, истекают кровью. Разве можно, разве имеет она право в такое время быть счастливой… Весь август и большую часть сентября она жила в лесу. Напрасно выжидая какого-то сигнала от Кравчука, присматривала за Дмитром и, сколько могла, помогала раненым и нераненым окруженцам, каких немало бродило тогда в соседних лесах, по балкам, оврагам и селам. Фронт быстро откатывался куда-то дальше на юг и восток. Новая немецкая власть организовывалась медленно, и помогать людям на первых порах казалось не так уж и сложно, хотя за укрывательство красноармейцев и вообще всякого «подозрительного» и беглого люда и особенно оружия немецкие комендатуры угрожали смертью. Кстати, не те ли именно приказы в то глухое время, когда сюда не доходили ни радио, ни газеты, ни письма, пробудили мысль об оружии сначала у Дмитра, а потом у Яринки?.. — Пока полиция и немцы спохватятся и додумаются, я, если бы были силы, взялся б за это дело сам, — сказал как-то Дмитро, имея в виду оружие, разбросанное в степи и лесах. А Яринка даже удивилась: как это она не додумалась до этого раньше? Наконец она нашла работу, хоть немного удовлетворявшую и оправдывавшую ее жизнь. Как только случалось свободное время, шла в лес, бродила вдоль извилистых лесных тропинок, вдоль шляха, между глубокими окопами и наспех вырытыми ровиками. Подбирала все, что только попадалось: патроны, невзорванную или просто брошенную взрывчатку, уцелевшие и поврежденные винтовки, ручные пулеметы, пустые и полные патронов диски. А однажды набрела даже на два автомата. Собирала все сама, никого в это дело не вмешивая, и прятала в тихом, заросшем орешником, боярышником, крапивой и терном овраге в лесу, который почему-то назывался Островом. В одно из воскресений она набрела в чаще старой вырубки на целехонький, с замком и недострелянной лентой, пулемет. Рядом с ним в истлевших лохмотьях, отполированный муравьями человеческий скелет и темная глубокая воронка от бомбы. С этим одна Яринка справиться уже не смогла и впервые попросила помощи у отца, рассказав о своем тайнике. По правде говоря, прежде чем отважиться на такой шаг, она долго колебалась, опасаясь, чтобы отец, — который если теперь и боялся, то только за нее, — не начал отговаривать ее от опасной игры с огнем. Отважившись все же, она — настоящая дочь своего отца — в многословные объяснения не вдавалась. — Тато, надо, чтобы вы мне помогли, — сказала она коротко и прямо. — Надо так надо, — ответил отец. — А что? — Да там, в старой вырубке… — махнула рукой в том направлении. — Пожалуй, надо захватить и лопату… И все. И больше ни слова. Сначала там же, в воронке, захоронили останки человека, а потом отец довольно умело, не удивляясь или не показывая, что удивляется, молча разобрал пулемет, помог дочери отнести его в Остров и там надежно припрятать. Домой возвращались, не перекинувшись и единым словом о том, чем только что занимались. Только уже недалеко от хаты отец напомнил, что следовало бы сегодня сложить в копну скошенное на той неделе в Грузком и уже подсохшее береговое сено. А Яринка попросила его, если будет в Подлесном, зайти к врачу за лекарствами для Дмитра. Потом так и пошло. Молча, слаженно, словно они заблаговременно и обо всем давно и обстоятельно договорились, хотя на самом деле не обмолвились об этом между собой и словом… Немцы к ним пока что больше не являлись, хотя в районах и селах уже начала организовываться новая власть. Были назначены немецкие коменданты — их называли крайсландвиртами, начальники жандармских постов, шефы вспомогательных райуправ, вспомогательная полиция и сельские старосты. Все это Яринка воспринимала, в общем, как и надлежало, не особенно, в конце концов, удивляясь. Пришли чужие, вражеские войска, лютые враги, фашисты, о которых она слыхала, много читала, и устанавливают свои порядки. Иного от них никто и не ждал. Обидно, до боли поражало девушку лишь то, что нашлись, и быстро, людишки, помогавшие немцам, о которых она раньше и подумать такого не могла и которых все это как будто устраивало. Людишки, которые шли на службу к фашистам охотно и даже афишировали это. Особенно поражало, злило до отчаяния то, что нашлись такие даже среди ее ровесников. Они без особенного принуждения брали в руки винтовку и цепляли на рукав белую тряпку полицая. Это было просто неслыханное падение, гадкое и нестерпимое до того, что Яринка едва сдерживала себя, чтобы не плюнуть такому в морду. Однако сдерживалась, изливая свою досаду и отвращение каким-нибудь презрительным, колючим словом, маскируя его шуткой. О себе же твердо, со всей решительностью, с присущим ей упорством решила: пусть будет что будет, а не только у немцев, но и на немцев, в какой бы ни было форме, работать она нигде и никогда не будет. Она и до сего времени не знала, что происходит на фронтах, даже подумать не могла хоть приблизительно, как складываются и сложатся в дальнейшем военные действия, сколько (месяц или годы?) будет продолжаться война, чем и как закончится, но безапелляционно, с гордостью, при воспоминании о которой сейчас, в концлагере, рот ее кривится в болезненно-снисходительной усмешке, с гранитной твердостью решила и знала: вообще, пока немцы будут здесь, она нигде работать не будет. Разве что по хозяйству, обслуживая себя и родных. Нетерпение, с каким она ждала сигнала от Кравчука, все росло. От того чубатого и тонкошеего Кравчука, на котором теперь для Яринки, казалось, весь свет сошелся клином.
Но Федя Кравчук с такой же твердой то ли последовательностью, то ли непонятной ей выдержкой опытного конспиратора условного знака так и не подавал. В нескольких соседних районах — Скальном, Терногородке, Новых Байраках — уже с первых дней оккупации создались концлагеря — обнесенные в два и три ряда колючей проволокой колхозные коровники, иногда школы, а то и кинотеатры. Туда, за проволоку, бросали советских военнопленных — окруженцев, выявленных коммунистов, комсомольских или беспартийных активистов, а порой еврейское население… Порой потому, что вообще отделяли его от окружающей среды в изолированные, со средневековыми порядками, гетто… Поначалу докатывались лишь страшные слухи с территорий, оккупированных несколько раньше. А со временем начались и тут вокруг массовые, заранее и достаточно «квалифицированно» подготовленные расстрелы советских людей. В концлагерях умирали от ран, голода и издевательств десятки и сотни пленных. На городских площадях и сельских базарах страшными привидениями поднялись виселицы. И все это чинили, исполняя приказы старших, те самые веселые и энергичные немецкие парни, которые чувствовали себя всюду так хорошо и непринужденно. Яринка рвалась в Скальное, Новые Байраки или хотя бы Подлесное. У нее уже не хватало терпения жить в лесу, ей хотелось разузнать хоть что-нибудь из того, что происходит там, за синей стеной леса, на широких просторах. Хотелось, может, хоть что-то услыхать о Феде Кравчуке, Гале Очеретной, своих школьных подругах, навестить дедушку Нестора. Однако о том, чтобы девушка отправилась сейчас в такую опасную дорогу, бабушка Агафья и слушать не хотела. И ее только в этом, пожалуй, твердо поддерживал отец… «Не маленькая, должна понимать сама», — был его единственный, но категорический аргумент. В те дни, разумеется только ради знакомства с Дмитром, их дом впервые навестил полицай Демид Каганец… В это же приблизительно время в Подлесном назначили нового лесничего, бывшего бухгалтера этого же лесхоза Зизания Феофановича Лоптика, низенького, лысого, как колено, со сморщенным, как у старой бабы, лицом и маленьким, красным, как перец, носиком, на котором невесть как держалось старенькое, на черном шнурочке пенсне. Отца сразу же вызвали к новому начальству. Зная Зизания Феофановича, отец на всякий случай положил в плетенную из лозы корзинку рамку с нераспечатанными сотами, кусок прошлогоднего сала и десяток яиц. Позволил на этот раз пойти с ним в Подлесное и Яринке. Подлесное Яринка просто не узнала. Тихое, словно прибитое к земле, с выжженной дотла главной улицей, загаженным, без окон и дверей, клубом, обгорелой, без крыши школой, оно показалось ей каким-то незнакомым, почти чужим. Встретилась Яринка в Подлесном за те два-три часа, пока ждала отца, только с двумя знакомыми. Когда отец зашел к лесничему, а она остановилась у крыльца с тремя цементными ступеньками небольшого, чудом уцелевшего среди пожарищ каменного домика, раздумывая, куда ей сначала податься и кого разыскивать, внимание ее сразу же привлек какой-то глухой гомон и шарканье многих ног по сухой, уже прихваченной первыми заморозками земле. Яринка вскинула голову и посмотрела вдоль улицы. По середине черной, дотла выжженной улицы двигалась серая толпа оборванных и понурых людей. Впереди молчаливой, словно на похоронах, колонны двигался похожий на цыгана немец с крючковатым носом, которого она увидела впервые у себя в лесу. А сбоку, с винтовками на ремне, перекинутом через шею, свисавшими поперек живота, бодро понукая и подгоняя, время от времени похлестывая людей по плечам и по головам длинными лозинками, двигались те же веселые, довольные и жизнью, и собой, и своим фюрером, бравые немецкие парни со стриженными под бокс головами и залихватски сбитыми набок пилотками. Гнали куда-то советских людей, подлесненских жителей. Нет, пока еще не на расстрел, а так, для собственного удовольствия и какой-то не очень важной работы. Людей уже так замордовали издевательствами, избиениями, ожиданием неизбежной смерти, что только от одного их вида сжималось сердце. Яринка стояла, окаменев, не отрывая полных страха, гнева и сочувствия глаз от этого мрачного зрелища. А мимо нее медленно проплывали серые, осунувшиеся лица с потухшими глазами. Все будто ошеломленные предчувствием неизбежного конца: дряхлые старики, сморщенные, сгорбленные годами и горем старухи, молодые женщины, молоденькие, с состарившимися лицами девушки и дети. Те, кто мог еще идти своими ногами, и те, которых матери и бабушки несли на руках, крепко прижимая к груди. Печальным взглядом, со смешанным чувством жалости, гнева и какой-то неосознанной вины за то, что она бессильна помочь этим обездоленным людям, провожала Яринка этот трагический поход. Смотрела — и неожиданно вздрогнула, словно от электрического тока или ослепляющей молнии, встретившись взглядом с чьими-то в первый миг совсем неузнаваемыми и все-таки очень знакомыми глазами. Взгляд темных, больших, грустных, встревоженных и все же красивых и в горе глаз вспыхнул лишь на одно мгновение. Но Яринке довольно было и этого. Она бросилась прямо в середину колонны на блеск тех печальных, а когда-то таких оживленных и веселых глаз. — Розочка! Слышишь, Роза!.. Но, отброшенная назад хорошо рассчитанным, резким ударом приклада в грудь, тяжело осела на острые комья подмороженной дороги. От боли у нее перехватило дыхание, она так и сидела какое-то время на краю разбитой подводами и машинами колеи, тяжело и жадно дыша, как рыба на суше. А серая, трагическая колонна, словно тень на экране серого неба, проходила мимо нее, тяжело и глухо шаркая подошвами. Что-то выкрикивали и хохотали на всю улицу бравые немецкие парии с винтовками, а она сидела, все еще не в силах ни подняться, ни оторвать глаз от согнувшейся фигуры бывшей школьной подруги. Ссутуленные плечи Розы время от времени вздрагивали. Она, вероятно, не замечала вокруг себя ничего, опустив непокрытую, с длинной черной косой голову. А когда-то… Невысокая, полненькая и розовощекая, с толстой косой, вишневыми пухлыми губами и большими темными глазами — такими красивыми, что на них, бывало, не насмотришься, — была Роза живая, веселая, звонкоголосая. Они сидели за одной партой с первого по четвертый класс, каждый день вместе возвращались из школы, читали одни и те же книжки, делились своими детскими тайнами и долго еще сохраняли приязнь и взаимную симпатию, хотя учиться в старших классах Яринку отправили в Скальное, а Роза подалась в ближайшую и чем-то ей более удобную школу в Терногородке. Могло ли тогда хотя бы присниться, могли ли они хотя бы подумать о том, что выпало им в жизни сейчас, о такой встрече? И о такой своей беспомощности и бессилии!.. О, каким невыносимо унизительным, каким мучительно болезненным было это чувство бессилия! Яринка всегда, сколько помнит себя, стыдилась этого чувства. Оно вызывало в ней внутренний протест, презрение, ярость. Против всего и всех, против самой себя… Быть беспомощной?! Отдаться во власть этому гадкому чувству бессилия?! Опустить руки?.. Нет! Сто, тысячу раз — нет! «Никогда не буду уважать себя, если… если так и не смогу помочь тебе, Роза!.. Если позволю еще хоть раз тем извергам безнаказанно толкать себя прикладом в грудь!.. Ни за что!» Стыд и ярость, круто закипая в груди, хмельной волной били в голову, и она уже верила, уже словно знала это твердо: «Никогда и ни за что!» Хотя даже и приблизительно не могла представить себе, как будет жить и действовать дальше. Еще даже и не догадывалась о том, что уже вскоре совсем просто и естественно для себя не только встанет в ряды бойцов, но и (уже совсем в других условиях) встретится с подругой и на самом деле поможет ей, Розе, вырваться из когтей смерти и присоединиться к народным мстителям. Но будет это еще не сегодня и не завтра…
А тем временем у Яринки, бессильной именно в эту минуту чем-то помочь подруге, сразу же отпало желание идти еще куда-то и с кем-либо встречаться. Подавив боль и жгучую обиду, девушка наконец поднялась и тихо, медленно пошла назад к лесничеству, желая только одного: встретить отца и возвратиться домой. Но вместо отца так же случайно, нежданно встретилась с Бойко. То, что на пустой, выжженной улице, с обуглившимися стволами акаций и кленов, встретился ей густобровый, высокий и худощавый учитель младших классов Иван Бойко, не удивило девушку. Удивило и насторожило другое. Он — комсомолец, ненамного и старше Яринки — сразу же рассказал, что бросил Терногородку, возвратился в родное село и устроился там писарем у сельского старосты. Говорил об этом так буднично и спокойно, как будто это было для него, комсомольца, обычным делом. Словно в мире ничего не случилось и все идет, как и тогда, до войны. После того, что увидала она за несколько минут перед тем, легкость, с какой Бойко говорил о своей работе, возмутила девушку. А Бойко, не дав ей и подумать, сразу же огорошил иным: очень просто, словно жили они в обычное время и вокруг не было ни концлагерей, ни гитлеровцев, ни расстрелов и объявлений о смертной казни за малейшие нарушения приказов и распоряжений немецкой власти, сказал: — Кстати, послушай, Яринка! У нас здесь, понимаешь, скрывается один тяжело раненный командир. Но полной безопасности в Подлесном гарантировать ему мы не можем. Ты не смогла бы взять его в лес на какое-то время?.. — А передвигаться самостоятельно он может? — вмиг забыв о своем возмущении и безоговорочно поверив Бойко, спросила Яринка. — Нет, не может… Но мы подвезли бы его к вам на подводе. Скажем, хоть и сегодня где-то к полуночи… Всего на несколько дней, а там — есть надежда, что переправим его в безопасное место. Яринка немного подумала, прикинула и потом, не расспрашивая, кто это «мы», спросила: — А вас ночью на дороге не накроют? — Ну, знаешь… — откровенно признался Бойко. — В такое время гарантировать это полностью… Сама понимаешь! Но волков бояться — в лес не ходить. И потом, все возможные случайности мы уже учли. — Тогда… Значит, тогда, — вслух рассуждала Яринка, — сделайте лучше всего так: привезете его не прямо к нам. Мало ли что может случиться. Хата лесника всегда может вызвать подозрение. Да никто и не поручится, что за нами уже не следят. Потому что один такой раненый, скажем, племянник, у нас уже есть… А в такое время довольно им знать и об одном. Так вот… После двенадцати я буду ждать вас возле колодца, в Калиновом овраге. Только знай: не выйду и не отзовусь, пока не буду уверена, что с ним обязательно будешь ты сам. Ведь я никого не знаю… — Ну и где же мы его спрячем? — А это уже не твоя забота. — А отец? Твой отец как ко всему этому?.. — С отцом я уж как-нибудь сама… Они разошлись, точно условившись о ночной встрече, даже и не подумав хоть о какой-то тени недоверия друг к другу.
Отца Яринке пришлось ждать довольно долго. Часа два, не меньше. От Зизания Феофановича Лоптика уже с самого утра несло остреньким душком бессмертного при любой власти первака. В конторе переминались с ноги на ногу какие-то подозрительные люди: клянчили старых досок с разбитого мостика, древесины на что-то там сгоревшее и горбылей, кем-то якобы забытых на лесном валу. Зизаний Феофанович сидел за столом, икая, блестел стеклышками пенсне, корча из себя какого-то большого начальника. Калиновского встретил холодно, приказал подождать, не пригласил и сесть. Только заметив в руках лесника непустую корзинку, смилостивился: — Мы здесь, знаете, о вас думали-гадали, — намекнул он на свою принадлежность к высоким немецким сферам. — Да вы, прошу, присядьте. Времени у меня в обрез, сами понимаете… Но я уже успел-таки замолвить о вас словечко. Решено временно оставить вас на прежней должности. Да вы садитесь, садитесь, чего там! — Скосил глаза на корзину, которую Калиновский подсунул ему под стол, и совсем подобрел. — Старательность вашу и глаз хозяйский я давно приметил. Только теперь не те времена… Одним словом, это вам не при большевиках, сами должны понимать. Все теперь немецкое. И мы, извините, немецкие, и за каждое там поленце… Одним словом, по головке не погладят. Если только, хе-хе-хе, та голова уцелеет… Это я вам так, как старому знакомому. А потом наши паны освободители скажут вам, что и зачем, яснее. Живете в лесу, так и… Провожая Калиновского до дверей и окончательно уже подобрев, прибавил: — Не исключена, знаете, возможность, что вас в ближайшее время могут навестить и пан шеф Петр Петрович Седун с комендантом герром Брунсом, а то и сам начальник жандармского поста герр Мюллер с паном Калитовским… Спиридон Тимофеевич, как вам, наверное, уже известно, у нас теперь начальник полиции и порядок, хе-хе, знает… Так вы уж там, если что, то и… Зизаний Феофанович рукой, плечом, прищуренным глазом и словно всей своей фигурой так красноречиво пояснил невысказанную мысль, что не понять его мог бы только человек, который за всю свою жизнь не только не выпил и чарки, но и никогда ничего не слыхал о водке или иных подобных вещах. Калиновский вышел, не ответив на эту тираду ни одним словом. Корзина так и осталась под столом у Зизания Феофановича. Появляться с чем-то подобным к высшему начальству, куда его также вызывали, отец уже не отважился. Шел, как в преисподнюю, хотя внешне не проявлял ни своего страха, ни волнения. Спокойно слушал то, что ему приказывали, и молчал, за все время, кажется, и головой не кивнул. Правда, молодой и вертлявый фельдфебель Брунс, которому очень хотелось стать офицером и очень не хотелось идти на фронт, составил себе о нем не очень высокое мнение. И не только о Яринкином отце, но и о всех этих украинских туземцах. Крайсландвирт, или, проще говоря, сельскохозяйственный комендант оккупированного района, который ему отныне надо будет со всей энергией освобождать от хлеба, сала, мяса и многих других нужных великой Германии вещей, почему-то подумал, глядя на Калиновского, что осуществлять свою миссию с такими неповоротливыми и диковатыми людьми будет, наверное, не так уж и легко. Он для вида похвалил Калиновского за то, что тот обнаружил «глубокое понимание и уразумел высокую для себя честь трудиться для великого рейха», пояснив, что рейху и его армии требуется много леса, что главное теперь для туземного населения «арбайтен, арбайтен и еще раз арбайтен», и с тем милостиво отпустил. Заинтересовался отцом и шеф жандармского поста Мюллер. Старый эсэсовский волк, хотя, вероятно, и в невысоком чине, принимал лесника в присутствии начальника полиции Калитовского. Насквозь пронизывая человека острым взглядом оловянно-серых глаз, жандарм работой и службой Калиновского совсем не интересовался и говорил ясно, четко, кратко, словно рубил каждое слово. Он, Калиновский, живет в лесу и должен об этом помнить постоянно. Первейшая его обязанность — обо всем, что может случиться в лесу опасного для рейха, должен немедленно ставить в известность его или пана Калитовского. О каждом человеке, независимо от того, кто он и откуда, он должен немедленно сообщать им, перед тем, по возможности, задержав подозрительного. За нарушение каждого из этих приказов — смерть. За помощь едой, одеждой, укрывательство советских пленных — смерть. Точно так же за помощь всем другим, до евреев включительно, — смерть. Смерть, смерть и смерть… Мюллер говорил, не повышая голоса и не сводя глаз с Калиновского. А Калитовский молчал, не осмеливаясь в присутствии высокого начальства вставить что-то и свое. Лишь после каждого слова утвердительно кивал маленькой, на тоненькой шее, сплющенной в висках, какой-то птичьей, с желтым лицом головой. На последний вопрос: все ли он осознал и понимает ли то, что от них ничего не скроешь, отец, впервые за все три визита, утвердительно кивнул головой.
Домой из Подлесного они возвращались уже после полудня. Тихо угасал осенний день, догорая над далекими лесами узенькой бледно-желтой полосой вечерней зари. За селом их встретили пустые осенние поля. Молча, энергично шагали вдоль твердой с выбоинами дороги, перебираясь из оврага в овраг и с холма на холм. Километра за три от Подлесного потянулись разлогие балочки, поросшие черными кустами терна, боярышника и шиповника. Каждый углубился в свои мысли… Отец тогда так ничего и не рассказал ни о своем повторном назначении на лесничество, ни о тех неприятных встречах и угрозах, ни о строгих предупреждениях. Вероятно, не хотел лишний раз тревожить дочку. Ведь она и без того хорошо понимала, что и к чему и в какие обстоятельства они попали. Молчала, до времени не рассказывая о своих встречах, и Яринка. Только когда миновали прошлогоднюю вырубку и пошли по узенькой утоптанной стежке, петлявшей между безлистыми уже кустами орешника, — дочь впереди, а отец за ней, — Яринка вдруг, совсем просто, как о чем-то обыкновенном, сказала: — Знаете, тату, нам необходимо укрыть ненадолго одного раненого командира. Отец, казалось, совсем не удивился, даже шагу не убавил, ступая вдоль стежки по-прежнему размеренно и широко. Над лесом нависла необычная, безветренная осенняя тишина. Из низин, из глубоких оврагов тянуло сыростью, запахом прелой листвы и горечью прибитой морозцем вербы. Лишь через некоторое время отец спросил: — А где он сейчас? — Сейчас? Не знаю, — ответила Яринка. — Его привезут на подводе сегодня в полночь к кринице в яр. Туда, знаете, за калиновые кусты… Я пообещала, что там буду ждать. — А люди? — снова спросил отец. — Свои… Надежные, — поспешила успокоить Яринка. — Тут ничего такого опасного… Снова какое-то время шли молча, так, словно уже все решено раз и навсегда. Когда вышли из орешника, отец спросил еще раз: — Раненный тяжело? Не знаешь? — Не знаю, — ответила Яринка. — Надо, наверное, так понимать, что первую помощь ему уже оказали и он не совсем беспомощный… За орешником на обе стороны раскрывалась широкая поляна, лишь кое-где поросшая кустиками терна, сухой мальвы и волчьей ягоды. По низенькой зеленой отаве изредка разбросаны копенки сухого сена. Далее, на фоне бледной зари и низко нависших серых туч, резко белели стволы осокорей вокруг их усадьбы. А между стволами, из-за кустов черемухи и сирени, теплым, желтоватым светом горело торцовое окно. Наверное, Дмитро и бабушка Агафья ждали их и беспокоились… На пороге, взявшись рукой за щеколду, отец наказал: — Приготовишь белый кожух, возьмешь в сарае валенки и незаметно вынесешь под грушу. Буханка и кусок сала тоже не помешает. Если не тяжелый, перебудет как-нибудь ночь в сене, за Островом… А до криницы пойдем вместе… Так, с этих слов, в тот тихий осенний вечер и началась в одинокой лесной хате Корнея Калиновского внешне спокойная и непонятная для других, но до крайности напряженная и опасная — ежедневно и ежечасно между жизнью и смертью — двойная жизнь…
А между тем Яринка еще долго ждала, ждала с нетерпением, изо дня в день, из недели в неделю, обещанной вести от Феди Кравчука. Но никакой вести так и не приходило. А до Скального было около сорока километров глухой в то время дороги. И район-то был чужой, ничем теперь с Подлесным несвязанный. И отец, как только мог, отговаривал, оттягивал, даже запрещал ей думать о таких теперь далеких и небезопасных путешествиях одной. Яринка рвалась в Скальное, не терпелось ей встретиться с друзьями, услыхать что-то новое и подбадривающее, может, найти какое-то свое место в том незаметном пока глухом сопротивлении, которое, чувствовала, нарастало где-то неподалеку от нее, ощущалось даже в воздухе. Думалось: может, она им, тем, кого она представляла тогда не очень ясно, именно сейчас до крайности нужна, даже необходима, а какие-то там сложные и непреоборимые обстоятельства мешают людям разыскать ее и позвать? И может, может быть, — какой ужас! — боятся довериться?.. Тогда… Тогда она должна, непременно должна доказать им, убедить! В те дни еще жив был дедушка Нестор. Дедушка, который был для нее самым родным после отца… А не видела она дедушку Нестора уже более двух месяцев! Как он там без нее, старенький и одинокий?! Нет, что бы там ни было! Пусть в ней нуждаются и Дмитро, и Бойко с приемником, и тот командир, а не может она дальше сидеть вот так в лесу!.. Да и недолго она там пробудет. Принесет дедушке каких-нибудь гостинцев из дома, уберет в хате, постирает белье, наколет дровец, увидится, с кем сможет, узнает, о чем посчастливится узнать, да и назад. И вот настал наконец тот день. Из Подлесного в Скальное на базар, который впервые разрешили оккупанты, должна была отправиться старенькая полуторка лесничества. Пассажиров, правда, набралось втрое больше, чем она могла вместить, но все же нашлось место и для Яринки. Взволнованная, рада-радешенька, сидит Яринка прямо в кабинке рядом с заросшим темной щетиной, одетым в черный, засаленный ватник шофером Хливко. Едет, подскакивая на избитом — одни скрученные проволоки да рваный дерматин — сиденье. Чуть не стукается головой о твердую жестяную крышу грузовика, когда ее подбрасывает на комьях и подмерзших выбоинах степной дороги. Едет, заранее радуясь встрече с дедушкой, а может, и Галей Очеретной, Леней Забродой, а то и самим Кравчуком. Едет, время от времени посматривая на Свирида Хливко, усмехается, глядя на его нарочито запущенную щетину и боязливую настороженность всякий раз, как только заметит где-то впереди немецкое авто или полицая с белой повязкой. Сама же Яринка страха к немцам совсем не чувствует. Не думает об этом, не смогла бы, пожалуй, и объяснить почему, но и вправду не чувствует. А люди, взявшие себе за правило маскироваться перед врагом, даже без видимой причины выдавая себя за престарелых, глуповатых и более неловких, чем они есть на самом деле, всегда вызывали у нее презрение. И каждый раз, когда она встречалась с таким, это раздражало девушку, даже вызывало в ней чувство обиды. Нет, она без особой, острой нужды ни за глупую, ни за бедную или неопрятную выдавать себя не будет и, главное, не хочет. Она обладает чувством собственного достоинства и гордости за своих людей. Это и не позволяет ей подтверждать хоть чем-то, хоть в мелочах, глуповатые представления ослепленно-ограниченных гитлеровских «юберменшей» о нас как о «степных славянских дикарях». Наоборот, где только представляется удобный случай, Яринка подчеркивает их ограниченность, неосведомленность и темноту даже в делах собственной немецкой истории и культуры, показывает их зазнавшимися невеждами. И разговаривала с ними, если уж не могла от этого уйти, смело, дерзко, иногда даже рискованно, и, как это ни удивительно, они, сами не сознавая того, относились к девушке почти всегда с уважением. Яринка и одеться любила к лицу, может, и ярко, но не крикливо. Чем-то особенным, говорили девчата, какой-то подтянутостью, стройностью и даже тем, что всякая одежда была ей к лицу, выделялась она среди других. И теперь ни своего поведения, ни одежды менять не собиралась. Была как всегда… Так вот, отправляясь впервые за время оккупации в Скальное, уступила обстоятельствам разве лишь в том, что сменила красный берет на синий. От мамы осталась Яринке шубка. Коротенькая, хорошо сшитая из темной цигейки, ни разу до этого не ношенная. Вообще мама купила ее «по случаю» и на вырост для дочки, а не для себя. И шубка именно и ждала того времени, когда Яринка подрастет и закончит десятилетку… Этого мама не дождалась. А шубка из цигейки, новенькая и нетронутая, так и лежала в ее сундуке. И только теперь, собираясь в Скальное, Яринка впервые решила надеть мамину шубку, чтобы потом никогда больше ее не снимать. Тем более что и Дмитро сразу похвалил шубку, сказал, что она ей к лицу и вообще как на нее сшита. И значок с силуэтом детской головки, купленный когда-то после смерти мамы, надежно скрылся от постороннего глаза в ее густом темно-рыжем ворсе. Итак, мамина шубка, синий беретик, аккуратные сапожки на подковках, независимая, даже гордая осанка в сочетании с двумя-тремя сквозь зубы процеженными фразами по-немецки просто-таки гипнотизировали немецких патрулей, два или три раза останавливавших их на окраине Подлесного и Скального…
Дедушка Нестор, совсем уже белый — он сильно постарел за это короткое время, — увидев внучку, так расчувствовался, что даже всплакнул, не стыдясь и не вытирая слез. А первый знакомый, которого Яринка встретила на улице возле базара, — Радиобог. Леня Заброда удивился: чего это она так вырядилась? Удивился и сразу, едва успев поздороваться, приказал: — Не оглядывайся… Иди вслед за мной к школе… Буду ждать возле липы… Сказал так, словно они договорились заранее, словно он специально ждал ее здесь. Яринка знала Леню давно, не раз встречала на разных собраниях и субботниках, на весеннем спортивном празднике и военизированном комсомольском походе прошлым летом. Запомнила даже то, что все военизированное он любил особенно, а в августе, когда они вместе рыли за Казачьей балкой противотанковый ров, носился даже с каким-то пистолетом… Заинтересованная и даже несколько заинтригованная Лениной таинственностью, Яринка сразу и охотно подчинилась его приказу: немедля пошла следом к школе, прежде всего подумав о том, что и так не выходило у нее из головы: «А что, если он от Феди?.. От Кравчука?..» И, к сожалению, почти угадала. Старую, покореженную, дуплистую липу на меже школьной усадьбы хорошо знало не одно поколение скальновских учеников. Остановившись в кустах сирени, за широким, в лишаях и наростах, стволом под низко нависшими ветвями, Леня сразу спросил: — Ты откуда? — Из дома. Из Подлесного, — ответила Яринка. — У тебя какое-то дело? — Да… Думала здесь кое-кого встретить… — А как там у вас?.. Тихо или понемногу шевелятся? — Бывает тихо, а бывает, что и шевелятся… Леня усмехнулся. Усмехнулся скупо, свысока и даже сурово, всячески стараясь подчеркнуть свою солидность, и оттого сразу стал прежним Леней Забродой, почти мальчиком. — Мало, пожалуй, шевелятся, — сказал он строго и осуждающе. — Надо бы веселее… А наши новости слыхала? — Где бы я могла их слышать? — Гад Дуська Фойгель подстерег у Казачьей балки Федю Кравчука… Насмерть, одной пулей. Из засады… Он теперь полицай и переводчик у жандармского шефа. Такая собака, что и не подумал бы. Расстреливает собственноручно по ночам… Сотнями, словно и родился фашистом… Ты остерегайся… Не попадайся лучше на глаза. Слыхал, будто вспоминал тебя… Интересовался, куда исчезла… На мгновение в глазах у Яринки потемнело. Даже слегка пошатнулась и, чтобы не заметил этого Леня, прикоснулась плечом к липе… Закрыла глаза, потом встряхнула головой. Нет, Дуська ее не удивил. Тот Дуська, подбитая им птица и… еще кое-что, о чем знала только она одна… Но Кравчук… Чубатый, длинношеий Федя Кравчук, на которого она возлагала столько надежд и от которого с таким нетерпением ждала весточки… Из-за той весточки она даже в немецком языке начала практиковаться… А тут… — А тут у нас по-всякому, — верно не заметив ее состояния, продолжал далее Леня. — Возвратился Максим. Может, слыхала, Карпа Зализного, машиниста, сын. Был студентом в политехническом, а теперь здесь, в местечке, держит мастерскую. Кустарь-одиночка. Примуса, ведра, зажигалки и часы ремонтирует… А Очеретная Галина, так та, знаешь, вернулась на работу в типографию… Теперь, разумеется, в немецкую. — В немецкую?.. Галя Очеретная?.. К какому-то там Максиму Зализному она отнеслась совсем безразлично. Слыхала лишь, что учился когда-то в их школе, и что даже Ленино прозвище Радиобог — как-то связано было с ним. Но в школе Яринка такого уже не застала… А вот — Галя Очеретная!.. Та Галя, с которой они дружили, с которой стояли, прижавшись друг к другу, в первый день войны на площади возле репродуктора, учились на санитарных курсах… И еще там, на мостике… Они стояли рядом, и Галя сказала: «Не знаю, ничего я сейчас не знаю…» Вот тебе и «не знаю». Нет Феди Кравчука. Убит. И убил его, значит, Дуська Фойгель… Полицай Дуська Фойгель… А Галя Очеретная не просто там где-то, а в немецкой типографии!.. Вот, выходит, что делается! После этого Яринка уже ничего и слушать не хотела. Оторвать плечо от жесткого ствола и уйти… Уйти все равно куда, просто куда ноги понесут… И она так и пошла бы, если бы не остановил ее спокойный голос Лени. — Вот так-то оно… — сказал он не по возрасту рассудительно, словно раздумывая вслух. — Никто этого не ждал, не гадал… Тут еще теперь лагерь пленных. Окруженцев немало… Трое — на Курьих Лапках. С Сенькой Горецким дружат. Хлопцы бравые. Если что… А вообще, хотя фронт бог знает где, у нас уже понемногу шевелятся. И просто, с наивной детской неосторожностью, не предупредив, не подготовив, вытащил из-за пазухи небольшую пачку сложенных вдвое листков и, оглянувшись вокруг, протянул Яринке: — Возьми почитай… Можешь показать или передать там у себя, кому доверяешь. Только лучше так: из рук в руки. Что это, Яринка не спрашивала. Почему-то сразу поняла и так. Восприняла как долгожданный сигнал от мертвого уже Феди Кравчука… Даже обрадовалась. И была бы сейчас совсем довольна, если бы… Если бы не та тяжелая весть о смерти Кравчука и если бы не то болезненное чувство досады от непонятного, даже позорного поступка близкого человека, которому, выходит, уже и довериться опасно… если бы не Галя Очеретная… Неожиданно, откуда ни возьмись, как назло, вышла она из-за угла, да и пошла Яринке навстречу. Шла, ело передвигая ноги, грустная, ни на что окружающее не обращая внимания и, наверное, ничего вокруг и не замечая… Яринке бы кинуться куда-нибудь в сторону. Убежать и от тяжелых сомнений, и от бывшей подруги, и от неизбежного, связанного с лживыми объяснениями или натянутого, тоскливого и, может, ненужного обеим разговора. Но деваться уже было некуда. Галя, подняв голову, заметила ее и, вся вдруг просияв, с радостным удивлением бросилась Яринке навстречу: — Яринка! Ты?! Откуда?! Здравствуй!.. — И сразу же сникла под холодным Яринкиным взглядом. Таким холодным, словно они были только едва, а то и совсем незнакомы. — Как ты?.. Где? Живешь, работаешь? — лишь бы хоть что-то сказать, тихо бормотала Галя, остановившись и не осмеливаясь не то что поцеловать, а и руку протянуть. А Яринка еще раз безжалостно смерила ее тем же взглядом. — Работаю?.. А на кого, кому она теперь, эта работа?! — И, помолчав мгновение, так и не сдержалась, спросила или подтвердила осуждающе: — А ты, слыхала, в немецкой управе или типографии работаешь? — И сразу, обходя Галю, двинулась с места. Сникшая, ошеломленная девушка что-то еще говорила, но Яринка ее уже не слушала. — Бывай… Спешу… Боюсь машину прозевать… — Так и прошла мимо с тупой болью в груди, с отчужденно-холодным выражением на лице. А помрачневшая, ошеломленная Галя не нашла, видно, в себе силы даже ответить ей. Так и стояла еще какое-то время посреди улицы, потупившись, опустив голову.
Домой возвращалась Яринка молчаливая, тихая, печально-сосредоточенная. Сидела в кабине, не промолвив за всю дорогу и слова. Думала о Кравчуке, его смерти, переживала тягостно-болезненную встречу с Галей Очеретной. Пыталась, да так и не сумела объяснить себе ни Галиного, ни своего поведения, еще и еще раз возвращалась мысленно к той встрече, временами ругая себя за то, что думает о бывшей подруге как уже о мертвой, навсегда потерянной, и желая утешить себя хоть чем-то: «Нет!.. Чего-чего, а такого со мной уж не случится! Не дождутся они, чтобы я на них работала! Нет, не дождутся!..» Листовки отцу она в тот раз так и не показала. Не осмелилась или не сочла необходимым. Ведь в опустевшем, зимнем лесу пользы от них никакой. Дмитро, которому она привезла десяток карандашей и несколько тетрадей, увидев листовку, едва не подскочил от радости. Размечтался, нарисовал целую картину, несомненно же героическую, где он — искалеченный — видел себя чуть ли не одним из основных участников подполья, которое обязательно будет действовать здесь, в этом районе. И ждать этого, наверное, уже совсем недолго! А тот командир, которого также укрывали у них, — он потом куда-то исчез — рассматривал листовку заинтересованно, но без особого увлечения. — Есть у нас смелые люди! — похвалил он. — С таким народом нас ничто не запугает. Но одними бумажками немецких танков не остановишь. И этими словами как будто обидел Яринку. Иван Бойко, с которым, после истории с этим командиром, Яринка делилась всеми тайнами, отнесся к Яринкиным скальновским приключениям и новостям с сосредоточенной серьезностью. Вертя так и сяк, рассматривая со всех сторон те листовки, удивляясь и пытаясь разгадать, почему они хоть каким-то словом не подписаны, вслух думал: — Это, девушка, что-то совсем новое… Что-то совсем-совсем новое… И, знаешь, может быть, наше, скорей всего, наше. А может, и чужое… Гестаповские волки — они твари хитрые… Этот самый, как ты говоришь… Леня Заброда, он что, хороший хлопец? — Свой, комсомолец!.. — Свои, бывает, и коней крадут, — усмехнулся Бойко. — Но у нас нет оснований и не верить ему. Он на что-то или на кого-нибудь не намекал? Ничего больше не обещал? — Намекать — не намекал… Прямо ничего не сказал. А я, разумеется, не расспрашивала. Только сказал, чтобы я, если смогу, после Октябрьских наведалась… Бойко снова принялся читать и рассматривать листовку: — «Дорогие товарищи! Поздравляем вас с наступающим Октябрьским праздником! Бои в районах Ржева, Брянска, Можайска…» Так… «Блицкриг… остановлен окончательно и навсегда… Помогайте Красной Армии громить врага… Наше дело правое…» Так, так… Хлопец, видно, и в самом деле серьезный. Постарайся осторожно, чтобы случайно не влипнуть, выведать, и, если что, наладим связь… Может, там что-то более серьезное, тогда нам такая связь во как необходима! А если все такие, зеленая молодежь, то можем и мы помочь, порой предупредить, на верный путь направить. А то где же у таких юнцов, да еще в наших условиях, опыт возьмется. А дело большое. Серьезное дело. Так что считай, Яринка, имеешь настоящее поручение, а не забаву…
Ничего определенного не сказал ей Леня Заброда, лишь намекнул на новую встречу. Ничего, что хоть как-то вязалось бы с тем давним разговором с глазу на глаз в райкоме комсомола с Кравчуком. А все же живые, настоящие, напечатанные где-то тут (может, в самом Скальном) листовки, что давали пусть и скупые, пусть и невеселые, а все же какие-то сведения о фронте, затрагивая одновременно и здешние дела, призывая к борьбе с фашистами, были сейчас у нее в руках! И передал их с полным довериемхлопец свой, комсомолец, которому она также не могла не верить… Итак, значит, что-то уже есть. Кто-то уже действовал. Действовал организованно, широко, а не просто от случая к случаю, как, скажем, она со своим отцом и Бойко. Бойко Яринка также верила. Верила не только как своему, честному человеку. Нет!.. Верила и хотела верить, что он тоже не один, что кто-то стоит за ним. Выходит, кроме нескольких листовок, намека Лени Заброды, был еще прямой (она это так и восприняла) приказ Бойко. Приказ, который она не только хотела, но и должна была выполнить. Однако, как это и бывает в жизни чаще всего, не все сложилось так, как предполагали. Как раз в праздники почему-то самым удобным оказалось переправить куда-то далее (что касалось Яринки, то только за десять километров, до Балабановки) какого-то знакомого Бойко хлопца, тоже чуть ли не из окруженцев, и передать его из рук в руки совсем незнакомому Андриану Пивню. И это именно там, в Балабановке, впервые услыхала Яринка от Андриана Пивня, низенького, с веселым нравом, разговорчивого мужчины, о какой-то неизвестной до того «Молнии»; этим словом вскоре после праздников была подписана еще какая-то листовка с призывом бить гитлеровцев и срывать все их планы… Из Балабановки попалась Яринке подвода до Подлесного. Проезжая через Подлесное, она делала, правда, небольшой крюк, но ехать — не идти. В Подлесном заночевала у старого знакомого, бывшего почтового бухгалтера Брайченко. От него снова услыхала о «Молнии». И о новой листовке. Хотя, правда, все это были только слухи. Ведь ни Пивень, ни старик Брайченко самой листовки не видали. Просто долетело до них откуда-то загадочное и удобное слово — «Молния». Появилось именно после Октябрьских праздников, уже после того, как фашисты решили осуществить, как они говорили, «массовую акцию»… Жуткую «акцию» по уничтожению огромного количества советских пленных, активистов, всего оставшегося на оккупированной территории еврейского населения. «Акция» эта в уезде, собственно, и началась с Подлесного… Кровавое сумасшествие, в котором из двухсот с лишним людей еврейского гетто посчастливилось спастись, может быть, десятку, да и то, может, временно… Брайченко скупо, явно страшась и избегая подробностей, рассказывал все, что слыхал и знал о той кровавой осенней ночи. А Яринка, слушая это, сразу же подумала о Розе, о своей встрече с ней, и об эсэсовском прикладе, боль от которого с внезапной остротой снова отозвалась в ее груди. Где она теперь, Роза?.. Уцелела?.. Брайченко хорошо знал Розу и ее родителей, но об их судьбе будто бы не знал ничего определенного. Не сказал ей тогда правды Брайченко. Решил не признаваться. Что же здесь удивительного? И только спустя два года дозналась Яринка, что в тот вечер и в ту ночь, когда она ночевала у Брайченко, ее подруга Роза, уцелев случайно после той кровавой резни, скрывалась у них же в погребе. И Яринка тогда не могла прийти в себя, всю ночь не могла успокоиться. Забылась в тяжелом сне только под утро и вдруг проснулась от какого-то кошмара, который сквозь сон прорвался истошным криком, разбудив и напугав старых Брайченков. Проснувшись, сразу же заторопилась домой. А в дороге спешила так, будто за ней кто-то гнался или там, дома, ее ждало неизвестно какое смертельно-неотложное и срочное дело. Идти было тяжело. День выдался хмурый, дождливый. Тяжелые, свинцово-серые тучи нависли над самой землей. Дорога раскисла, стала вязкой. А по ней время от времени навстречу девушке шли измученные голодом, издевательствами группы раненых пленных. Люди не люди, скорее скелеты, обтянутые серой кожей и в грязных лохмотьях. Они еле переступали с ноги на ногу. А продрогшие, хотя и бойкие, немецкие солдаты с криками подгоняли их тумаками, а то и выстрелами, поспевая еще между делом бросить какую-то шутку в спину молоденькой туземной фрейлейн. На дороге после тех игривых и молодцеватых немецких парней остаются трупы… Один… второй… А там даже двое рядом лежат, навзничь, погружаясь серыми плечами в вязкую, холодную родную землю. Дома, переволновавшись за нее, безумно обрадовалась бабушка Агафья, радостно заискрились глаза у Дмитра, сдержанно усмехнулся отец. — Как оно? — спросил он. — Все ли в порядке?.. — Да, если обо мне и о том товарище, то ничего. Ночевала у Брайченков. Там в Подлесном такой ужас, такое… — Знаю, дочка… — Ну, а вы как тут? — А что с нами здесь случится? Так, как и всегда…
Тату, тату!.. Родной, родной татусь!. Если бы не все пережитое за эти два года, она так никогда по-настоящему и не узнала бы, какой у нее славный… нет, не просто славный — необыкновенный, чудесный татусь!.. Такой молчаливый, рассудительный, всегда спокойный татусь!.. Человек, о котором говорят, что он и мухи не обидит. Он, наверное, в своей жизни ни с кем и не поссорился по-настоящему. Молчаливый и покладистый, лишь иногда бросал какое-нибудь скупое мягкое словцо, мог пересказать сложную историю одним коротеньким предложением да еще разве кротко, как-то смущенно улыбнуться, раскрыв в улыбке всего себя. Ни слова не возразив, иной раз только переспросив, он молча делал все, о чем бы она ни просила его. И у нее складывалось впечатление, что все опасное, строго запрещенное, связанное с риском и страхом неминуемой смерти, он делал только для нее, только потому, что просила его об этом она — его единственная, любимая дочка, удивительно похожая на свою покойную мать. Яринка попросила подольше, пока совсем не поправится, оставить у них того веселого художника Дмитра. И отец, положив что-то в новую из лозы корзинку, молча подался в Подлесное и как-то там узаконил хлопца как родного племянника. Она подала мысль привести в порядок и припрятать найденное оружие, и отец тут же, беспрекословно, взялся за дело, только подумав перед тем, где лучше будет устроить тайник. Попросила помочь переправить еще и раненого командира — и он и не подумал отказать. Тату! Татусь!.. Как ты горячо, до самозабвения, любил — свою дочку! А она… А она так и не сумела спасти своего необыкновенного, своего самого дорогого татуся!.. Он ни в чем не отказывал ей, делал все, о чем бы она ни попросила… Хотя делал, вероятно, еще и потому, что у обоих у них лежала к тому душа, что он жил тем самым, что и она, и думал (не затрачивая на пояснение лишних слов) так и о том же, о чем думала, во что верила его Яринка. Когда-то раньше, когда была еще жива мама и не было этой проклятой войны, Яринка, если бы ей сказали о выдержке и мужестве отца, вряд ли поверила бы в то, в чем убеждалась не раз и не два и убедилась теперь окончательно. Такой выдержки, такой смелости, да где там — настоящего героизма! — внешне непоказного и порой незаметного, она в отце прежде и допустить не могла! Только теперь, во тьме этой нескончаемой ночи, когда у нее появилась возможность подумать, вспомнить все до подробностей, она наконец до конца осознала, поняла, какого отца имела, какой это был по-настоящему большой человек!.. Человек, которого она, возможно, именно в эту минуту теряет навсегда, навеки и больше никогда, никогда в жизни (подумать только!) не встретит, не увидит, не услышит!
Дотлевала осень с ранними морозцами. Приближалась зима. Леса в их краях — один этот клочок чуть ли не на всю область. А жизнь, несмотря ни на что, даже на войну, брала свое. Надо было, пока живешь, одному покрыть сожженную хату, другому возвести над землянкой крышу или хоть кое-как починить выбитые взрывом окна и двери. И печь, хоть раз в день не истопив, не проживешь. Да и учреждения немецкие прежде всего требовали леса на разбитые мостики и разрушенные помещения. Поэтому так много людей бывало ежедневно в лесу и у них на подворье. В хату частенько забегали погреться возницы, пареньки, молодицы. Бывали гости не только непрошеные, но и нежелательные. И никуда от них не денешься. Все чаще наведывался полицай Демид Каганец. Сидел, курил, молчал. На Яринкины язвительные вопросы, как служится в полиции, хорошо ли платят и какой чин дадут ему немцы за службу, отвечал неохотно и настороженно. Пытался расспрашивать Дмитра, скоро ли, по его мнению, немцы разобьют Советы? И Дмитро со всей возможной серьезностью уверял Каганца, вызывая у Яринки смех, что каждому полицаю, как только Гитлер победит, выдадут по трактору, по сто десятин земли, двадцать батраков и по четыре жены на нос. Но не здесь, а где-то там, в очень теплых краях, где земли слишком много, зимы совсем не бывает, а все люди черные и ходят голышом… Каганец верил и не верил. Все, кроме далеких краев и черных женщин, его более или менее устраивало. Но кончится ли война хотя бы к весне?.. Этого уже Дмитро пообещать ему не мог. Так и не выяснив до конца всего и на всякий случай спросив, будут ли, а если будут, то скоро ли, немцы делить колхозы, Каганец прощался, обходил вокруг подворье, заглядывал в свинарник, сарай и даже в колодец и, перебросив винтовку, как дубину, через плечо, не спеша шагал в Подлесное… Молоденький вежливый крайсландвирт Брунс, заглянув вместе с Зизанием Феофановичем, был приятно удивлен лесной, как он выразился, «украинише Лореляй» и особенно тем, что смог хоть как-то объясниться с ней на немецком языке. От стакана самогона категорически отказался, яичницу поковырял вилкой с нескрываемым отвращением, расчетами Зизания (кому, как и сколько выдать леса) явно не интересовался. Охотно съел лишь несколько ложек меда, не отказался от живой курицы и с особым интересом рассматривал Яринкины книжки и учебники, обстоятельно расспрашивая обо всем, что было на рисунках, от общественных и революционных событий и до деятелей революции и советской державы включительно. Завидев случайно уцелевшую с первых дней войны и уже пожелтевшую газету с карикатурой на Гитлера, снисходительно, как на невинную детскую забаву, усмехнулся. Однако, подумав, посоветовал это лучше уничтожить. Неожиданно, как это ему и подобало, налетел и сам шеф жандармского поста герр Мюллер в сопровождении начальника полиции Калитовского, Каганца и еще двух не известных Яринке полицаев. Эти, хотя отец на всякий случай и пригласил, даже к столу не присели. Мюллер, пока полицаи торчали у порога, стоя опрокинул два стакана самогона, закусил куском сала без хлеба и тут же ринулся к дверям… Обнюхал и обшарил каждую щель в хате, амбаре, сарае, заглянул в овин, погреб, колодец, энергично пробежал по всему подворью и по дорожкам к лесу и, заявив, что здесь следовало бы держать если не немецкий, то хотя бы полицейский пост, не прощаясь, вскочил в бричку, запряженную парой гладких гнедых коней. И тут еще раз переспросил, нет ли кого в лесу подозрительного, погрозил отцу единственной, которую обещал всем, смертной карой и только после этого приказал вознице-полицаю ехать. И впервые по-настоящему поразил Яринку своей смелостью и выдержкой ее отец именно в присутствии Мюллера. Причиной этому был раненый командир, которого они перепрятывали, приняв от учителя Бойко. Мюллер заскочил к ним второй раз на склоне короткого декабрьского дня, когда на дворе уже начало смеркаться. Заскочил лишь с двумя полицаями, — вероятно, был не из трусливых. В семье Калиновских в то время такого гостя совсем не ожидали. Дмитро, человек более или менее легальный, лежал в своем углу на топчане, а командир, который мог уже двигаться, слегка прихрамывая, сидел возле него. Они о чем-то говорили, надеясь на то, что в большой комнате всегда заметят чужого еще издалека. Но Мюллер налетел как гром с ясного неба, совсем не с дороги, а из леса, и в хате поняли все, что случилось, лишь тогда, когда увидели на пороге хаты его кряжистую фигуру. Хорошо еще, что в то время в конце усадьбы, на вырубке балабановские возницы догружали два удлиненных воза несколькими кубометрами грабовых слег. Яринка как раз возилась у печки: оглянувшись и поняв, что произошло, почувствовала, как перехватило у нее дыхание и кровь ударила в лицо. А отец сразу же, словно ничего и не случилось, пригласил жандарма в комнату — погреться с дороги. Полицаи в хату не заходили. Торчали возле балабановских возниц, которые, закончив погрузку леса, ждали Калиновского, чтобы он проверил, отобрал или подписал ордера. И вот именно в ту минуту, когда Мюллер, стоя и задрав голову, тянул, словно воду, из граненого стакана крепкий самогон, скрипнули двери и на пороге, ничего не зная, встал командир. Встал да так и застыл на месте, увидев верзилу в белом кожухе, с гранатами на поясе. Яринке, как она потом вспоминала, показалось, что командир даже слегка изменился с виду, лицо побледнело, а глаза сразу потемнели. Жандарм пил не торопясь, в горле у него булькало, а все, кто был в хате, со страшным, нечеловеческим напряжением следили за тем, как ходит под синеватой кожей на его шее острый кадык. Мюллер сделал последний глоток, кашлянул, прочищая горло, и резко, словно ему кто подсказал или толкнул в спину, взглянул на дверь. Мгновение они стояли друг против друга: жандарм в белом кожухе, подпоясанном широким ремнем, на котором висел пистолет и две гранаты с длинными ручками, и безоружный командир с заросшим темной кудрявой бородой лицом, в отцовой заячьей шапке, в его же черном, подвязанном веревкой стеганом ватнике, совсем новых, командирских, с кантами брюках и стоптанных валенках. Решало одно мгновение, движение, взгляд, слово… Но отец, ее отец (честное слово, никогда до этого Яринка его таким не видела) не допустил ни лишнего движения, ни взгляда, ни тем более слова. Ни один из них не успел не то что среагировать, даже о чем-то яснее подумать, а отец грозно скосил глаза, стукнул кулаком по столу и со злостью хрипло закричал: — Дадите ли вы мне наконец покой, черти бы вас побрали! Жандарм перевел взгляд с командира на отца (кстати, он, наверное, так и не заметил, откуда командир вошел: из кухни или сеней?). Потом снова взглянул на командира. А тот на выкрик отца смущенно пожал плечами, извиняясь, отец же, не давая никому опомниться, продолжал шуметь, обращаясь прямо к жандарму: — Верите, минуты свободной за весь день не имею!.. — И снова к командиру: — Вы что, не видите, что у меня господин комендант?! Горит у вас?! Земля под вами проваливается?! — Так темнеет же… — в тон отцу отозвался наконец и командир. — А сейчас, сами знаете, как в потемках добираться… — Черти вас не возьмут! Идите и ждите!.. Выйду сейчас, посмотрю, чтобы чего лишнего не увезли, подпишу ваши бумажки, да и с богом… Поедете вслед за паном комендантом, никто вас не тронет. Чего-чего, а такой длинной речи от отца Яринка не ожидала и не могла ожидать. Командир, в самом деле уже по-крестьянски, неуклюже повернулся к дверям и исчез в темном проеме сеней, плотно и старательно прикрыв за собой дверь. Мюллер принял все, как говорят, за чистую монету, глотнул самогон, как собака муху на лету, и молча закусил соленым огурцом. Яринка почувствовала, будто тяжелый груз свалился с ее плеч и вся она стала легкой как перышко, и ей сразу захотелось где-нибудь прилечь — хоть и на полу, покрытом соломой, — и отдохнуть. Однако, гордая, прямо-таки восхищенная героическим поступком отца, преодолела эту невольную слабость, успокоилась.
…В один из вторников где-то уже в конце ноября старый Брайченко, побывав на базаре в Скальном, привез письмо от дедушки Нестора. Писал дедушка о своем житье-бытье, о том, как соскучился он по Яринке, просил, чтобы навестила при случае, а в конце приписал, что заходил к нему какой-то паренек, назвал себя Леней и просил передать Яринке, чтобы была, если сможет, у дедушки Нестора в следующее воскресенье, он — тот парень — зайдет к ней, так как дело есть… Леня, бесспорно, мог быть лишь один — Заброда. И без особой необходимости на такие приглашения он, безусловно, не решился бы… Второй раз в Скальное Яринка ехала той же полуторкой из лесничества. Приехала к дедусю в субботу под вечер. Ждала Леню вечером, утром и весь следующий день. Ждала дома, не выходя из хаты, остерегаясь, прежде всего, ненужной встречи с Дуськой. Ждала, волнуясь, нетерпеливо и… не дождалась… В полночь с воскресенья на понедельник на улице возле дедушкиного подворья послышался топот, потом выстрелы, а потом… потом Яринка подобрала в дедушкином малиннике и перенесла в хату смертельно раненного мальчика. Необычной и страшной была та ночь. Пустое, словно вымершее, темное село. Пустая улица. Тускло освещенная, с тщательно занавешенными окнами комната. Яринка с дедушкой, казалось, были одни-одинешеньки среди этой глухой ночи, во всем огромном мире. Только где-то в темноте, в холодной пустоте замерших, притихших улиц полицаи и немцы. А на лежанке подплывает кровью потерявший сознание, смертельно бледный мальчик. Чей-то тринадцати-четырнадцатилетний подстреленный сын. Неизвестно, почему, как и откуда появился он здесь, в глухую полночь. Неизвестно, кто и за что преследовал его и вот — подстрелил. Вернее, кто — известно. Разумеется же, полицаи. Яринка даже заметила их темные фигуры, когда выглянула из окна, услышав необычный топот на улице. Сначала мальчик был совсем как мертвый. Потом, когда его перевязали, отогрели и силой напоили малиновым чаем, застонал, что-то пробормотал, раскрыл бессмысленные, невидящие глаза и вдруг позвал какую-то Галю… И как только он позвал Галю, Яринка сразу с удивлением и болью, с непонятным раскаянием узнала в том мальчике Грицька Очеретного. Брата Гали Очеретной… С которой она… Той самой… ну, которая пошла работать в какую-то там немецкую типографию… За пазухой у Грицька был пистолет «ТТ» с двумя обоймами, больше ничего. В полное сознание он так и не пришел. Только, уже в жару и бреду, слабым голосом, болезненно-настойчиво звал и звал сестру Галю. Да еще повторил несколько раз слова о каком-то «мыле», спрятанном в Стояновой кринице на Казачьей балке, и о каких-то «гвоздях», зацепленных за третью сваю возле Волчьей плотины. На рассвете Грицько Очеретный умер. Под утро впервые в том году в этих местах выпал глубокий снег. А днем распространились слухи об облаве, начатой немцами еще вчера и продолжающейся сегодня уже по снегу. Вечером все выяснилось: убили какого-то неизвестного Яринке окруженца, какую-то глухую старушку на Курьих Лапках, арестовали Леню Заброду, Сеньку Горецкого, калеку студента Максима Зализного, двух молодых окруженцев и… Галю Очеретную. Тяжело, тоскливо стало на душе у Яринки. И от всего этого, и от того отвратительного подозрения, с каким она встретила и которым, наверное, горько оскорбила Галю… Воспоминание о той обиде жгло Яринку запоздалым бессильным раскаянием не один день и не один месяц. Отозвалось в сердце глухой, ноющей болью и теперь, в концлагере. Смерть Грицька, его непонятные слова, сказанные в бреду, так поразили Яринку, так растравили ее совесть, что еще долго, даже во сне, приходили к ней, не забывались, да, наверное, уже и до конца жизни не забудутся. «Мыло», «гвозди», Волчья плотина и Казачья балка… Почему мальчик повторял именно эти, только эти слова? Случайность? Тогда почему же именно эта случайность?.. К тому же и Казачью балку и Волчью плотину Яринка знала не хуже Калиновой криницы или вспаханного оврагами Острова у себя в лесу… Оставшись в Скальном еще на какое-то время (к большой радости дедуся), Яринка под вечер с осторожностью прошла вдоль Черной Бережанки до Волчьей плотины. Увидела размытые камни поперек замерзшей уже речки, остатки каменного фундамента бывшей мельницы и, к великому своему удивлению, возле фундамента, на незамерзающем стрежне лотоков, — три толстые, низко, над самой водой срезанные сваи, одна за другой торчавшие над бурлящим и пенистым водоворотом. «Интересно, какую же из них Грицько считал первой, а какую третьей?» — подумала Яринка, похолодев от неожиданности и уже твердо поверив, что неспроста говорил мальчик о «мыле», о «гвоздях», что за теми словами должно что-то скрываться. Постояла, наблюдая, как кипит на быстрине в пенящейся полынье темная вода. Потрогала носком сапога хрупкую, как стекло, ледяную кромку. Попыталась выйти по льду на середину речки. Лед держался крепко, не ломаясь и не прогибаясь. Если лечь на него и подползти до того незамерзшего озерца, то можно было бы дотянуться вон туда, до той крайней сваи. «Гвозди», если они существовали не только в предсмертном бреду Грицька Очеретного, должны быть где-то на дне, как-то там зацеплены за одну из свай. Яринка вышла на берег, постояла у каменного фундамента, потом еще у куста черного ивняка. И только потом тихо пошла вдоль стежки, кем-то уже слегка протоптанной в глубоком снегу. Темнело. Небо и нетронутые чистые полотнища снегов сливались в какой-то нежной, невыразимой красоты синеве. На межах, в огородах чернели терновые кусты, краснел тальник, гнулся под снегом сизый верболоз. Вверху, за полоской вишенника, одиноко темнела хата Очеретных. Немая, с черными бельмами окон пустующая хата. Зайти бы, расспросить у кого-нибудь из родственников или соседей, ведь там же должна быть Галина мать с ребенком… Зайти и… нарваться на засаду. Яринка тяжело вздохнула и, медленно передвигая сразу отяжелевшие ноги, пошла дальше вдоль берега. И вот, вместо того, чтобы встретиться с Забродой, выполнить задание Бойко и, возможно, связать в одну две действующие цепочки, она почувствовала полный и, если говорить прямо, опасный обрыв, концы которого ей сейчас, наверное, уже не найти. После всего, что случилось, не только небезопасно, но и неразумно было бы по горячим следам что-то разыскивать или кого-то о чем-то расспрашивать. Остался один-единственный, почти фантасмагорический след, скрытый в словах-видениях Грицька Очеретного. Почему-то ведь он бежал от полицаев?! С пистолетом, в комендантский час, во время внезапной облавы и арестов очутился даже на их конце села! Нет, за всем этим должно что-то скрываться!.. Утром дедушка Нестор пошел к старосте, рассказал о той, не такой уж и удивительной по тому времени, трагической истории. Староста на всякий случай послал к ним полицая, но особого значения случившемуся не придал. Составили кое-как протокол, осмотрели труп, допросили для проформы свидетелей и разрешили Грицька Очеретного (о смерти которого и ее причинах в Скальном, наверное, никто и не догадывался, кроме двух-трех дедушкиных соседей) тихо и спокойно похоронить. Дедушка Нестор сам и гроб смастерил из сосновых, приготовленных на свою смерть досок. Семен Печеный — конюх из «общественного хозяйства» — запряг в сани гнедого коня, отвез убитого на кладбище и зарыл в неглубокой, промерзлой могиле. Яринка, в предчувствии чего-то опасного и очень важного, что она могла и должна была выяснить, проводила Грицька только через свою улицу до моста. Едва дождавшись сумерек, взяла из-под стрехи железную дедушкину клюку и подалась к Волчьей плотине.
Место это было глухое, по-своему даже таинственное, в неглубокой балке, за селом. Плотина размыта, мельница разрушена давно, еще в начале коллективизации. Последние уцелевшие вербы вокруг вырублены этой осенью. Вряд ли кому-нибудь, да к тому же вечером, пришло бы в голову без особенно срочной необходимости прогуливаться здесь. Однако лишняя осторожность никогда не мешает. От стены каменного фундамента и почти до проруби девушка проползла, не поднимая головы. Далее, уже по льду, подползла к проруби и, уже почти не веря, что найдет здесь что-нибудь, а больше для очистки совести, поболтала клюкой возле первой сваи, потом переползла к другой, средней, и так просто, только чтобы измерить глубину (течение быстрое, бурлит, но не глубоко, всего какой-нибудь метр, а то и мельче), поболтала и возле нее… Возле третьей, крайней, уже потеряв всякую надежду, не очень и старательно поводила острым концом клюки и с первого же раза зацепила за что-то тяжелое… Ее сразу бросило в жар. Держа клюку в воде, Яринка повернула голову и огляделась. Вокруг было пусто и тихо. Над селом, над речкой нависла густая, серая вечерняя мгла. Лишь вода в проруби нежно и звонко клокотала, да в конце плотины, в осоке, коротко и громко стрельнула льдина. Яринка вздрогнула и немного подождала. Убедившись, что клюка зацепилась крепко, потянула к себе. Черный, довольно большой сверток, который она осторожно вытащила на льдину, оказался набитой чем-то тяжелым сумкой от обычного противогаза. Даже и не подумав поискать клюкой еще раз (может, там что-то другое есть), стала пятиться к берегу. Дома, пока дедушка уснет, бросила находку в малиннике и прикрыла снегом… …Слова Грицька были не просто бредом. В мешке оказались: набранная и подготовленная к печати листовка, начинающаяся словами: «Свободные советские люди! Помогайте Красной Армии уничтожать фашистскую погань!..», два резиновых валика для краски и печати, кусок шинельного сукна, несколько килограммов типографского шрифта насыпом и бутылочка с типографской краской. Текст старательно уложенной в деревянный ящичек листовки заканчивался четкой, вырезанной на дощечке подписью — «Молния». Выходит, не просто работала в немецкой типографии ее подруга Галя! (И как это она тогда не догадалась?!) Так вот о каких «гвоздях» шептал в горячке сухими, смертельно-бледными губами маленький Грицько! Могла ли теперь Яринка сомневаться, что и под словом «мыло», о котором тоже говорил Грицько, скрывается что-то таинственное и важное?
Однако разыскивать таинственное «мыло» — отблеск теперь уже легендарной «Молнии» — по своему собственному усмотрению Яринка не отважилась. Не было у нее на это ни времени, ни возможности. Да и после тех печальных событий, убийств и арестов в Скальном, ей угрожала опасность на каждом шагу. Достаточно было случайной встречи с Дуськой Фойгелем. Собираясь через несколько дней домой, мешок с «гвоздями» Яринка, несмотря на опасность, захватила с собой. Прощаясь с дедушкой Нестором, пообещала, что расстается ненадолго, и попросила до ее возвращения осторожно разведать все, что только удастся, о семье Очеретных. Мешок от противогаза со всем, что в нем было, вскоре передала Бойко. Бойко пересмотрел при ней все его немудрое содержимое, сокрушенно покачал головой: — Та-ак, Яринка… Вот, значит, и узнали мы, что такое «Молния»… Только очень поздно!.. — И, немного помолчав, добавил: — Ну что ж, теперь как раз время побеспокоить и Ступу. А то засиделся человек без дела, как бы не закис… Кто такой Ступа, Яринка тогда еще не знала. И фамилию эту услыхала впервые, даже и не предполагала, что именно встреча со Ступой крепко и навсегда свяжет ее с большим подпольем. По приказу Бойко Яринка должна была разыскать этого Ступу и, передав пароль от какого-то «Сорок четвертого», строго конспиративно рассказать все, что знает о «гвоздях», о Казачьей балке, Стояновой кринице и «мыле». Жил Ступа, оказывается, в том же Скальном, работал то ли агрономом, то ли зоотехником в земельном отделе немецкой районной управы. Отправилась Яринка в Скальное с этим приказом только в конце января сорок второго года. Ступу разыскала рано утром дома. Высокий, полнеющий уже мужчина в валенках и новеньком сером кителе встретил Яринку настороженно, даже недовольно и долго не хотел ничему верить. Никакого пароля он не знает и знать не хочет, ни о каких «Сорок четвертых» и подавно не слыхал. А если ее кто-то подослал, то должен откровенно сказать: было бы значительно лучше, если бы такая молоденькая девушка подыскала себе более пристойное и полезное занятие. Немного успокоившись, долго и придирчиво выспрашивал, кто она и откуда. Так долго и нудно, что Яринка в конце концов разозлилась и начала доказывать, что с ней все яснее ясного: прибыла от «Сорок четвертого» (хотя того и в глаза не видела), а сама является, может, гражданин Ступа слыхал (она так и сказала — «гражданин»), родной дочерью терногородского помещика, дворянина Калиновского, собственника нескольких тысяч десятин земель и лесов в окружающих районах. Только после этого Ступа наконец усмехнулся. Даже спросил, не голодна ли она. Предложил Яринке хлеба с салом, не побеспокоившись, однако, узнать, где же девушка устроится на ночь, и начал осторожно выспрашивать о Казачьей балке, о Стояновой кринице, о фантастическом «мыле»… Позднее слыхала — Ступа сделал все, как было приказано, но Яринке тогда он совсем не понравился. И не потому, что держал себя уж очень осторожно, — в такое время иначе и нельзя, — а чем-то нудным и ненужным, каким-то отталкивающим высокомерием, будто только он один все знает и все может. Жизнь свела ее со Ступой еще два раза: в апреле, когда Бойко послал ее в Скальное к тому же Ступе, а Ступа — в областной город на связь с Золотаренко, и осенью прошлого года, когда их троих — Яринку, Ступу и Бойко — полиция захватила на Солонецком хуторе. В апреле Ступа встретил ее так же прохладно, с обычным выражением превосходства на обрюзгшем, хотя и красивом лице и снова очень ей не понравился. Осенью же, когда она тащила его на себе, раненного в ногу, через какие-то кусты, заросли ежевики, сырую трясину, он оказался человеком с выдержкой и даже храбрым… День и следующую ночь после первой встречи со Ступой Яринка провела у дедушки Нестора. Не показываясь на подворье, наводила порядок в немудреном дедушкином хозяйстве, расспрашивала о скальновских новостях, уговаривала дедушку бросить Скальное и перебраться хоть на зиму к ним в лес. Новости в Скальном были теперь, как и всюду, невеселые. В лес перебираться дедушка ни за что не хотел: и не любил леса, и жаль было бросать на произвол судьбы хату — растаскают, а он здесь родился, прожил свой век, тут уж, если что, и умрет… А о том пареньке, которого они похоронили, и об Очеретных он не забыл, разведал. Отец — тракторист, ушел еще весной в армию, и след его простыл. Мальчика тогда убили полицаи, старшую сестру — ходят такие слухи — арестовали и вывезли как будто в Германию, а мать, оказывается, еще в июле сорок первого, когда немец бомбил станцию, погибла при бомбежке. Осталась одна-единственная сиротка, всего четыре годика, и зовут ее Надийкой. Живет у бездетной соседки, Мотри Головачихи… «Матушки мои! — услыхав это, сжалась от боли Яринка. — Еще и мать!.. Это же тогда, когда я Галю вот так, ни за что оскорбила. И что только мне в голову ударило?! Выходит, у нее уже и матери не было! А я!..» Гнев на себя, раскаяние, боль и беспомощность, полная невозможность хоть чем-то исправить положение, загладить свою вину терзали девушку целую ночь, не давали уснуть. Встала на рассвете, словно после болезни, вся разбитая. А тут еще и дедушка! Поднялся вслед за внучкой, обул латаные валенки, надел белый кожушок, повязался поверх заячьей шапки платком, взял в руки грушевую палку и сказал — пойдет провожать Яринку, и все тут! Бледный, высохший, даже светится от старости. А на улице мороз, метет пронизывающая поземка. Идти надо до самой МТС, чуть ли не через все село. Яринка просит, отговаривает его от этого, обещает, что скоро, совсем скоро приедет. А он уперся: пойду провожать, и конец. И сам чуть не плачет… Плетется за ней, против ветра, скользя по мерзлому снегу, с трудом передвигает ноги, дрожит весь, от ветра слезы замерзают сосульками, а он все же идет. Едва упросила, чтобы хоть у моста отстал. Дальше пошла одна по намерзшей брусчатке и все оглядывалась, а он стоял, прислонившись спиной к телеграфному столбу, опираясь на палку. Такой одинокий и заброшенный в опустевшей мертво-заснеженной улице. Пошатывался на ветру и не отрываясь смотрел вслед уходящей внучке. А Яринка, время от времени оглядываясь и досадуя на самое себя и на него, даже и не подумала тогда, что видит дедушку Нестора в последний раз.
В феврале они втроем — Яринка, Бойко и Дмитро — отпечатали с набора, найденного на дне Черной Бережанки, несколько сот листовок, подписанных словом «Молния», принимая, таким образом, не только дела, но и само название скальновской подпольной группы. Половину листовок Яринка отнесла в Терногородку и из рук в руки передала Роману Шульге — пожилому уже мужчине, механику Терногородской МТС. Другие распространил Бойко через своих связных в нескольких соседних районах, от Новых Байраков и до Скального. В том же месяце, как-то в воскресенье, возвращаясь из Новых Байраков в Подлесное, забрел к ним в лес полицай Демид Каганец. Где-то по дороге совсем случайно попала ему в руки другая, не их, значительно большая листовка, тоже с подписью «Молния». Перед тем как сдать ее в полицию, Каганец решил зачем-то показать ее в хате Калиновских. В той листовке рассказывалось о событиях, связанных еще с Октябрьскими праздниками. Держать ее в руках было и радостно и страшно. Точно это был далекий выстрел и в то же время привет от пропавших без вести скальновских товарищей. Это была листовка, которую, бесспорно, держала в своих руках Галя Очеретная. Даже в ту суровую зиму о них не забыли. Изредка их навещали районные фюреры и почти ежедневно — Демид Каганец. Кроме него, наверное по воле жандармского начальства, не забывали тихое лесное жилище и другие полицаи. Иной раз просиживали молча, щелкая семечки, иногда, будто из сочувствия, спрашивали у Дмитра о здоровье, интересовались тем, кто он и откуда. А он, издеваясь, все повторял с небольшими изменениями и дополнениями одну и ту же историю: он внебрачный сын великого князя Кирилла и купеческой дочки из Петербурга; отец его вряд ли и догадывался о существовании сына, а мать так быстро махнула за границу с каким-то офицером, что даже родного сына забыла прихватить. И пришлось ему, Дмитрию Кирилловичу — можно сказать, человеку царской крови — пробавляться среди беспризорных, воспитываться в детдоме и немного поучиться еще в среднем художественном училище. Полицаи верили и не верили. Дмитро умел, когда был в настроении, так вдохновенно плести небылицы, что и не верить ему было трудно и поверить нелегко. Потому-то полицаи лишь посмеивались и переглядывались между собой; посидев и послушав, возвращались в Подлесное, чтобы вскоре неожиданно появиться снова. Дмитро медленно, с трудом, но все же поправлялся. Выздоравливал с печальной уверенностью, что останется калекой на всю жизнь. Но духом не падал, шутил с нарочитой (а может, и действительно искренней) беззаботностью: — Художнику, кроме головы, довольно и одной руки. По крайней мере, никто не упрекнет, что рисую левой ногой. За всю осень и зиму они пережили только одну большую, по-настоящему большую радость: первый разгром немцев под Москвой, весть о которой дошла до них со значительным запозданием. В конце февраля Дмитро начал уже подниматься и даже ходить по хате от кровати к окну. Изо дня в день эти его «прогулки» становились все чаще и продолжительнее. Потом они нашли для себя более интересную и более полезную работу. Яринка приносила из Подлесного, от Бойко, целые охапки всяких гитлеровских угроз, приказов и предупреждений туземному населению о сдаче продуктов и одежды, расстрелах за хранение оружия и укрытие «подозрительных элементов». А он на тех печатных, большей частью с одной стороны, листках рисовал едкие карикатуры на Гитлера, его генералов и вообще фашистов. Делал Дмитро это, по мнению Яринки, просто блестяще. Ценил его мастерство и Бойко. Ценил и, желая повысить «тиражи» подобных документов, посоветовал Дмитру сделать два-три «наиболее подходящих к современному моменту» клише из дерева или линолеума. А когда начал сходить снег, наступила и более тяжелая работа: разыскивали, развозили и раздавали людям, присланным от Шульги, Ступы или Бойко, по соответствующему приказу или паролю оружие, которое Яринка с отцом собрали и хранили в лесу еще с лета. А потом, в разгаре самых больших надежд и ожиданий, ранней весной, посыпались на нее, одно за другим, страшные несчастья. Несчастья эти и закалили Яринкину волю, научили ни одним движением, ни одной черточкой лица не выдавать своих настоящих чувств. Самым страшным во всем было то, что главным виновником тех несчастий Яринка считала себя. Себя и никого больше. Она успокоилась, не подумала в свое время… А если и думала, то утешала себя: кому, мол, нужен калека в военное время и кто там может им интересоваться. Оказалось, были такие, что рассуждали иначе. И Дмитро тоже… Правда, что с него и возьмешь, с его беззаботностью и постоянными шутками?! А можно ведь было спрятать и… мало ли что!.. Имея такие связи и возможности. Даже в тот мартовский день, когда они из окна заметили Каганца, можно было еще многое успеть. Приучил уже их этот Каганец к себе. А когда вслед за ним, в какие-то две-три минуты, из-за кустов черемухи неожиданно ворвались в хату еще два полицая, думать о чем-либо было уже поздно. Ничего не объясняя, насупившийся Каганец официально велел Дмитру немедленно собираться в дорогу. Немного смягчила, правда, полицейскую твердость бутылка самогона, поставленная Калиновским, рассчитывавшим оттянуть, а может, и выиграть время. Пока полицаи распивали поллитровку, Яринка кое-как собрала Дмитра в неведомый путь. Уже на пороге, когда выходили из хаты, сразу погрустневший, как-то по-детски нахмурив лицо, Дмитро поблагодарил всех домашних, а Яринке сказал тихо-тихо: — Спасибо тебе, Яринка, за все-все… Что бы со мной там ни случилось, а я, пока жив буду, тебя никогда не забуду… — И я, — почти шепотом ответила побелевшими губами девушка, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Это, наверное, и было их признание. Бабушка Агафья возле печки кончиком фартука вытирала слезы, отец молча протянул руку Дмитру и сразу же отвернулся к окну. А Дмитро рывком отворил дверь, перешагнул через порог и больше не оглянулся…
Как и многих других окруженцев, выловленных в мартовской облаве, Дмитра бросили в Терногородский концлагерь. И Яринка, вместе с терногородской группой Романа Шульги, принявшей к тому времени название «Молния», немедленно начала готовить побег. Она постоянно, почти раз в неделю, навещала Терногородку, носила Дмитру передачи и наказы от Шульги и Бойко. Но с побегом с самого начала как-то не получалось, осуществление операции страшно затянулось, и с Дмитром случилось непоправимое несчастье. Трагедия произошла уже после того, как скальновская группа раздобыла из Стояновой криницы таинственное «мыло», оказавшееся несколькими ящиками тола. Его вполне хватило для того, чтобы взорвать на воздух восстановленный немцами к весне Скальновский сахарный завод. Скальновская группа (которая также приняла название «Молния») казнила скальновского начальника жандармского поста Шроппа, а потом и начальника полиции Туза. После этой нашумевшей акции (из той группы Яринка знала одного Ступу) гитлеровцы дотла сожгли село Петриковку, перестреляли чуть ли не половину его населения и вообще пытались запугать страшным террором всю округу. Именно тогда в Скальном вместо казненного Туза гитлеровцы назначили начальником полиции Дуську Фойгеля. И именно в один из тех дней, в апреле, сразу после встречи с Дмитром, к ней в лес пробрался кряжистый, приземистый Роман Шульга. Был он в каком-то дождевике, забрызганных, с высокими голенищами сапогах и кожаной фуражке. В хату он не зашел, вызвал Яринку во двор и, нахмурив круглое, безбровое лицо с обветренными, кирпичного цвета щеками, коротко и решительно приказал: надо идти в Подлесное на связь с Иваном Бойко. Твердо веря в то, что речь идет об освобождении Дмитра, Яринка отправилась в дорогу в тот же день, убежденная, что появится возле Терногородского концлагеря и увидится с Дмитром, как и обещала, через три дня, в пятницу. Даже и тогда, когда Бойко приказал ей сразу же отправиться в Скальное к Ступе, девушка, торопясь, увязая в клейкой грязи степной дороги, была уверена, что на свидание с Дмитром она все-таки успеет. Хмурый и неразговорчивый Ступа ошеломил ее еще более неожиданным и категорическим приказом немедленно пробиваться к городу К. на связь теперь уже с совершенно неизвестным ей багажным кассиром, каким-то Никифором Калинниковичем Золотаренко. До города было сто двадцать километров. Ступа дал ей для отдыха одну ночь, но встречаться с дедушкой Нестором запретил. Переночевала Яринка у Ступы, а на рассвете отправилась в дорогу. Добиралась туда три дня. В одном месте ее подвез километров тридцать какой-то парнишка, возвращавшийся на пароконной подводе из Балабановки. А назад — уже прямо до Терногородки — она шла четыре дня. Багажный кассир Золотаренко (как она поняла уже значительно позже) был уполномоченным или даже членом подпольного областного комитета партии. При первой встрече он знакомился с девушкой, расспрашивал о ее жизни, учебе, родственниках, хоть, видно было, многое уже знал о ней и до этого. На следующий день, перебросившись с Яринкой несколькими фразами по-немецки, сообщил о том, как она должна жить и что делать в дальнейшем. И, заручившись ее твердым согласием, приказал порвать все связи с другими товарищами или группами «Молнии» и выполнять приказы только его или того, кто будет действовать от его имени. «А как же теперь будет с Дмитром, с его побегом и освобождением?» — тоскливо подумала Яринка, всматриваясь погрустневшими глазами дольше, чем следовало, в лицо сухощавого, уже немолодого, но энергичного Золотаренко. Но только подумала, а высказать эту мысль вслух почему-то не осмелилась. И все дни после разговора с Золотаренко, пока была в городе, и потом, пока добиралась до Терногородки, ее мучили тревожные и недобрые предчувствия, какая-то не до конца осознанная тревога. И когда она под вечер на четвертый день, утомленная тяжелой дорогой, вязкой, как смола, грязью, голодная, разбитая и до предела взвинченная, оказалась наконец на окраине Терногородки, ее охватило такое сильное волнение, такой страх, что она уже не в состоянии была ни успокоить, ни сдержать себя. Словно заранее знала: случилось что-то ужасное для нее и непоправимое. Волнение и страх вызвали неожиданный прилив энергии, силы, которая неизвестно откуда взялась в измученном, до крайности переутомленном теле, и по улицам Терногородки девушка уже бежала. Бежала, и чем ближе был концлагерь, тем острее ощущала тревогу, почти невыносимыми становились волнения и страх, которые жили, казалось, не только в ней, но и вокруг нее, читались на лице каждого встречного, распространяясь всюду, пропитывали даже воздух.
Вот так, почти теряя рассудок от нечеловеческого напряжения, промчалась она через всю длинную улицу и упала грудью прямо на колючую проволоку ограды концлагеря. Не видела, не замечала ничего вокруг себя, кроме фигуры человека с мертво повисшей на грудь чубатой головой возле высокогостолба посреди пустого лагерного двора. Не видела лица человека, словно застывшего у столба, не могла сразу узнать его издали, но каким-то глубоким внутренним чутьем в первый же миг поняла: это он, Дмитро! Упала грудью на колючую проволоку, ударилась, будто слепая, о стену и исступленно вскрикнула: — Дмитро-о! Дми-тро-о!.. Никто не отозвался на этот болезненный, отчаянный крик. А тот, кто сидел там посреди пустого двора, прислоненный спиной к столбу, даже не шевельнулся… Всего каких-то двенадцать дней прошло с тех пор, когда она видела его сильным, оживленным, исполненным надежд. Протягивая к ней руки через проволоку, неотрывно смотрел ей в глаза, сверкая белыми зубами, и, слегка запинаясь, просил: — Самое главное, чтобы ты скорее пришла!.. Скорее приходи!.. Слышишь, Яринка?! Ведь я тебя так буду ждать!.. Так буду ждать! А теперь… Нет, недаром преследовали ее зловещие предчувствия. За то время, пока она была в городе, здесь произошло что-то невероятное, страшное. Страшное и невероятное даже для гитлеровского концлагеря… Что именно — Яринка тогда так до конца и не поняла. Знала лишь или, скорее, догадывалась: за то, что не захотел унизиться, не захотел рисовать их шелудивого Гитлера, плюнув своим палачам в лицо какой-то убийственно-издевательской карикатурой на обоготворенного ими фюрера, обрубив пальцы на руках, пытали эсэсовцы ее пылкого, ее гордого Дмитра. Однако мучило ее тогда, жгло только одно, самое главное: жив или уже мертв тот неподвижно застывший человек с темно-красными марлевыми культями вместо рук? Тех умных горячих рук, которые умели создавать такую красоту… Такое, чего не умел и не сумеет, кажется, никогда никто другой. Весь ужас и непоправимость того, что произошло, Яринка осознала позже, когда могла более ясно воспринять и необычную пустоту лагерного двора, обнесенного тремя рядами колючей проволоки (всех пленных загнали за третью ограду и наглухо закрыли в ободранном длинном коровнике), и то, что на сколоченной из толстых горбылей вышке дежурили у пулемета три немца, и то, что несколько солдат с автоматами и собаками на поводках беспокойно толпились возле ворот лагеря. Целых два года прошло с того времени. Но сейчас, здесь, Яринка припоминает и видит все так четко, как не могла видеть и чувствовать даже тогда… И обвислую, неподвижную фигуру у столба, и прядь русого чуба, который, спадая ему на лоб, закрыл лицо. И немцев: троих на вышке и тех — возле ворот. Они что-то кричали ей, предостерегающее и угрожающее. Кажется, даже стреляли из автоматов, только — она так и не понимает почему — не попали. Потом напустили на нее овчарку. И овчарка — снова непонятно почему — не бросилась на Яринку. Подбежала, страшная, огромная, с красной раскрытой зубастой пастью, обнюхала ее и как-то растерянно, будто пристыженная, вернулась к своим хозяевам. Потом Яринку отрывали от проволоки, тянули через улицу по не просохшей еще грязи, толкали, даже били чем-то тяжелым по плечам и по голове. А она упиралась, вырывалась и снова бросалась на проволоку с отчаянным криком: — Дмит-и-итро!.. Дми-и-итро!.. И долго не могла успокоиться. Кричала она весь тот вечер и почти всю ночь. Всю ту жуткую ночь, когда узнала, что, свершив отчаянный подвиг, написав на фанерном щите собственной кровью «Смерть фашистам!», замученный, погиб ее Дмитро — молодой и веселый художник. Той ночи, пока жива будет, ей не забыть. Теплой апрельской ночи, в темноте которой незаметно расцвели в Терногородке вишневые сады… Тогда ей исполнилось только семнадцать… С того дня прошло всего два года… И теперь, когда Яринка закроет глаза и вспомнит ту ночь, увидит себя возле лагерной ограды, ей даже не верится, что это была она, что все это произошло именно с ней. Нет… Кажется, будто это случилось десятки лет тому назад, неизвестно в каком далеком прошлом, будто была не она, Яринка Калиновская, а совсем другая, слабенькая, совсем пришибленная и растерянная девочка. Такая растерянная и подавленная, что теперь и вспомнить стыдно. Правда, неужели после той ночи прошло всего лишь два года?! И неужели же это она, та самая Яринка, что только вчера стояла рядом с немецким жандармом Бухманом на крыльце районной управы новобайракской полиции?.. Стояла, с глубоко затаенным ужасом видя, как полицаи и жандармы волокут из кузова грузовой машины ее окровавленного и потерявшего сознание отца. Ее родного, дорогого отца… Жандармы сбросили его на землю, затем потащили по ступенькам на крыльцо и скрылись за дверьми управы… А она стояла с застывшим, словно окаменелым, лицом, и ни одна черточка не дрогнула на нем. Немецкому жандарму и в голову не пришло, что окровавленный, потерявший сознание человек, которого тащили по ступенькам крыльца на новые пытки, ее родной отец… Наверное, и подсознательно не почувствовал, какой невыносимо жгучей ненавистью кипит все существо этой внешне невозмутимой, каменно-спокойной девушки с непроницаемым лицом.
В тот далекий вечер и в ту ночь, когда в Терногородке расцвели вишневые сады, она была не только крайне потрясена и беззащитна. Нет, она еще не умела, не могла, не в силах была скрывать свои мысли и чувства. Большое чувство, так властно сдерживаемое прежде, сурово запрещенное ею себе, казалось, приглушенное в несчастье, перед угрозой неизбежной смерти Дмитра вспыхнуло, прорвалось с такой неимоверной силой, что она уже просто не могла думать о какой бы то ни было осторожности. Охваченная испепеляющим огнем любви, неодолимой боязнью за его жизнь, она совершенно утратила чувство страха перед врагом, окончательно потеряла голову и, пожалуй, спаслась да и других спасла только чудом. Ее молодость, искренность и беззащитность, откровенное, почти бессознательное презрение к смерти, к которой она была тогда безразлична, спасли девушку от гибели, а может, и от чего-то худшего. Ведь она тогда многое знала, слыхала, в ее руках была уже и тайна «Молнии», и тайна Бойко и Ступы, а главное, тайна кассира Золотаренко. Конечно, она жандармам ничего бы не сказала, никогда и ни за что! Не сказала, как бы ее там ни пытали, еще и потому, что смерть ей представлялась тогда каким-то облегчением. А боль… Боли в том состоянии она, кажется, и не чувствовала… Помнит, что били, тянули от ограды. Она даже руки до крови исцарапала об эту колючую проволоку. Но боли, как ни напрягала память, не припоминает. И только немного позже, когда она, придя в себя и переболев, уже дома пыталась спокойно все припомнить, ее неожиданно пронизывал неизведанный до того испуг… Нет, не оттого, что она еще раз возобновила в памяти всю ту страшную картину… Прежде всего от мысли, теперь более глубоко осознанной, — как же это она могла так растеряться, так обо всем и о самой себе забыть? А главное, терзало до жгучего стыда — как же она будет жить дальше, такая?.. Как выполнит то, что так хотела, обещала и дала присягу выполнять?!.. Как она сможет действовать — такая невыдержанная, такая беззащитная перед собственными чувствами? И тогда ночью, в отцовой лесной хате, за окнами которой шумели под весенним ветром высокие осокори, она сказала себе: либо ты пойдешь и скажешь, что ты не можешь, не умеешь, боишься, либо… Пойти и сказать… От одной этой мысли ей становилось так невыносимо стыдно, так горько, обидно, что того, как это произойдет, она себе и представить не могла. Точно так же, как не могла ясно до конца додумать и другого «либо», которое так и осталось в сердце, нигде и никогда не было высказано вслух, потому что этого самого глубокого и дорогого высказать вслух Яринка не отваживалась, не могла, хорошо осознавая, что на свете есть что-то бо́льшее, более святое, чем самые лучшие слова, произнесенные вслух.
Разумеется, никуда она не пошла и никому ничего не сказала. Во-первых, потому, что не было такой необходимости. Ведь те, кому она хотела сказать о себе, сами все видели, понимали и сами, дождавшись удобного момента, предупредили и даже отчитали ее. Что-то необычное — какой-то переполох в лагере военнопленных, суетня гитлеровского начальства, которое обратилось внезапно к каким-то особым мерам с расстрелами и жестокими пытками, — не могло не привлечь внимания окружающего населения. И товарищи из подпольной группы Романа Шульги с самым пристальным вниманием следили за развитием тех непонятных, не выясненных до конца событий. Кто-то из подпольщиков узнал возле проволоки Яринку. Видел, как рвалась она, слепо бросаясь на колючую ограду, к потерявшему сознание, искалеченному и привязанному к столбу посреди лагеря Дмитру. Шульге доложили об этом уже совсем в темноте. А пока по его приказу добрались туда две незнакомых девушки, пока насильно не затянули в чужую хату обезумевшую Калиновскую, было уже далеко за полночь. Кое-как успокоив, огородами и левадами увели ее подальше от лагеря. Яринка о тех часах мало что помнила. Поздно вечером к ней пришел и сам Шульга. Убедившись, что девушка может воспринимать его слова, выругал, даже пригрозил чем-то и приказал немедленно возвращаться домой. Проводил ее до самого леса, вероятно специально для этого вызванный, Бойко. Шли они домой чуть ли не всю темную весеннюю ночь. И почти все время молчали. Яринка, видно, взяла себя в руки и казалась уже собранной и бодрой. Дома снова почувствовала слабость, утратила ощущение окружающего мира и власть над собой. Некоторое время жила как в тумане, в каком-то чаду. Потом говорили: был жар, бред. Она вскрикивала, скатывалась с кровати, порывалась куда-то бежать, звала Дмитра. А после этого, дня через три, исхудавшая и измученная, не в силах ни думать, ни что-либо воспринимать, стала равнодушна ко всему. Просто лежала, приходила в себя. А еще через некоторое время, когда совсем уже пошло на поправку, к ним из Подлесного зачем-то зашла знакомая женщина — Марина Зеленючка. Среди других, обычных и неинтересных для Яринки, разговоров сказала, что была зимой в Скальном и, показалось ей или и на самом деле, издалека, где-то возле еврейского гетто, видела подлесненскую знакомую Розу Савранскую. Сказала, потом, поговорив еще о чем-то, ушла. А Яринке было достаточно и этого, чтобы все началось сначала: весь ужас последних дней, событий, не до конца осознанных ранее опасностей, потерь, неутихающей боли и несуществующей вины. Прежде всего вспомнила, как ее выругал, серьезно предупредив, Шульга. Значит, она совершила что-то почти непоправимое. А сможет ли она вообще приказывать своим чувствам? Ведь это не только слова Шульги, это знает и она сама: подпольщик не может, не имеет права теряться, проявлять свои мысли и чувства на глазах врага ни при каких, даже самых сложных и самых страшных, обстоятельствах. А есть еще и другое, что она обязана была сделать и, гляди, теперь уж не сделает. Вот — Роза! Была — и, кто его знает, жива ли еще… Жила и исчезла. Убили… умерла… пропала без вести. Так же, как Галя Очеретная. Так же, как может исчезнуть, пропасть без вести и она — Яринка Калиновская. В любой день, в любую минуту. И тогда… погибнут вместе с ней, исчезнут во мраке неизвестности Галя, Леня, маленький Грицько Очеретный, совсем незнакомый ей Максим Зализный, вся короткая, как вспышка, история той первой «Молнии». А с ней — кто знает — может, не только их жизнь, смелость, борьба, но и — что самое главное — добрая слава, даже честь их доброго имени. И может, не только их… Ведь вот могла она, даже она, Яринка, подумать о подруге бог знает что! А что тогда скажешь другим, тем, которые захотят просто так, из любопытства, спросить через несколько лет теперешнюю четырехлетнюю сиротку Надю? Что им ответит Надя? Что ее сестра Галя пошла работать не куда-то, а именно в немецкую типографию, спасая свою жизнь?! Отчаяние охватывало Яринку от одной этой мысли. Хотя Шульга и приказал ей строго-настрого даже носа не показывать теперь в Терногородку и Скальное и вообще никуда не выходить без специального разрешения, однако… Однако есть вещи, которых нельзя не сделать. Это твоя обязанность, веление твоей совести, чего ты не имеешь права забывать и от чего тебе не отрешиться. И если не исполнишь ее — она будет преследовать тебя, бередить твою неспокойную совесть, сколько бы ты ни жила… Все равно Яринка должна как-то, хоть чуть-чуть, облегчить или сгладить свою страшную вину. Не знает еще, что будет делать, как все сложится, не знает даже определенно зачем, но она должна побывать в Скальном и увидеть маленькую Надийку Очеретную. Несмотря на запрет Шульги, даже нарушив его приказ. Позже она так и сделала. Ее вело в Скальное что-то непреоборимое, что-то властное, с чем справиться она была не в силах. …Прежде всего Яринка решила забежать в Скальное всего на несколько минут по дороге, отправляясь на важное задание. Решила, но… так и не отважилась. Не осмелилась нарушить прямой и ясный приказ. «На фронте такое наверняка сочли бы за измену», — подумала она. В Скальное попала на обратном пути, уже выполнив задание. Зашла к вечеру, со стороны Казачьей балки пробираясь огородами почти опустевших теперь зареченских Выселок, на соседний, рядом с усадьбой Очеретных, двор. У порога старенькой хаты с зеленой от мха стрехой встретила ее пожилая, худенькая женщина. Встретила с настороженностью, но без страха, даже приветливо. Услыхав, что незнакомая девушка интересуется Надийкой Очеретной, сразу же и призналась: да, ребенок живет теперь у нее. Но расспрашивать Яринку, кто она и откуда, не стала. Пригласила в хату. И только потом, приглашая к ужину, так, между прочим, незаметно, спросила, откуда и как знает Яринка Очеретных. Приветливо, словно свою, встретила ее и маленькая Надийка. Полненькая, по-мальчишечьи подстриженная девочка сидела на полу, застеленном рядном, и играла кукурузными початками. Сразу потянулась к чужой девушке, пошла к ней на руки, защебетала, выпила из Яринкиных рук молоко, а когда подошло время ложиться спать, отошла от нее неохотно, спросив несколько раз, останется ли тетя у них и пойдут ли они завтра к речке за подснежниками. Подснежники… Синие-синие веснянки на берегу и белые сладкие бриндуши на твердых, дерновых межах огородов. Придет ли такое время, когда она, щебетунья Надийка, никого уже не остерегаясь, будет собирать букеты голубых цветов, выгребать вместе со сладкими луковицами белые звездочки бриндуш? Да, когда-нибудь дети будут искать и собирать их. А она? Яринка, попросив тетку Мотрю не зажигать огня, присела у окошка и маленькими, круглыми буквами написала коротенькое письмо Гале Очеретной, на тот случай, если она будет жива и возвратится домой. «Кто знает, — думала, когда писала, — кому из нас выпадет счастье остаться в живых! А может, Галя выживет, придет, прочитает эту записочку, все поймет и… простит». Написав, посидела молча, подумала и, перевернув клочок бумаги, прибавила на обороте несколько слов еще и маленькой Надийке, — она, прикрытая рядном, уже чмокала во сне губками и тоненько посвистывала носиком… Написала не к теперешней, а к будущей Надийке, которая когда-нибудь переживет все это и, уже взрослой, прочтя эти несколько слов, узнает о своих родных и о том, как они жили, думали о ней, ее будущем и, как могли, боролись за него… Покончив с письмом, взяла патрон из Грицьковой обоймы, вывернула свинцовую пульку, высыпала порох и вместо него вложила туда, свернув тоненькой дудочкой, записку. И снова крепко закрыла пулькой. Потом засунула патрон в бутылку и ночью закопала ее под грушей-дичком в конце огорода. На прощанье попросила тетку Мотрю запомнить то место, и, когда вернется домой Галя, сказать ей, чтобы откопала. Ну а если не вернется, то… пусть когда-нибудь, потом, когда уже прогонят отсюда фашистов и когда уже она научится читать и понимать, что и к чему, пусть откопает это письмо Надийка… Или (мало ли что!) кто-то из наших, из тех первых, кто возвратятся освободителями в Скальное.
После той катастрофы с Дмитром Яринкой овладела твердая, жгучая ненависть к гитлеровцам и постоянная жажда действия и мести. К жизни возвращалась она, словно после смертельного ранения. Прошел год, почти целый год неутомимых странствий. Словно челнок в основе, неторопливо, но и без устали, сновала и сновала она — маленькая, незаметная, сосредоточенно-настороженная и настороженно-колючая, казалось, даже веселая — из села в село и из района в район. То с одним, то с другим встречаясь, ночуя у незнакомых людей, что-то передавая и рассказывая, иногда и такое, что было непонятным и ей самой, но, наверное, очень значительным и необходимым для общего дела. И где-то уже без нее освобождали из концлагеря пленных, громили полицейские участки, расклеивали листовки, уничтожали лютых карателей. И уже никто, совсем-совсем никто, не появлялся больше в их лесном жилище. И еще, уже значительно позже… Тяжело ранили Ступу… Арестовали Бойко… Убили в стычке с жандармами в Балабановке Романа Шульгу… Выследили и публично повесили на базарной площади в центре города, как «самого опасного из опаснейших преступников и врагов третьего рейха», багажного кассира Золотаренко… А девушка, маленькая и энергичная, в синем или клетчатом платьице летом, в цигейковой шубке, за отворотом которой был приколот значок с силуэтом детской головки, зимой, иногда с тяжелым пистолетом Грицька Очеретного в боковом кармане, а иногда и без оружия, все ходит и ходит по своей земле. Бывает задумчивой и печальной, а на людях и веселой, и задорной. Иногда же, когда приходилось сталкиваться с немцами или полицаями, то и дерзко-задиристой. Ходила, делая свое, как думалось самой, небольшое, хотя и нужное дело. И жаждала действий более значительных, не будничных, более героических, утешала себя и была даже горда тем, что так и не нарушила данного самой себе слова — ничего, буквально ничего не делать на пользу оккупантам. «И не буду делать, не буду работать с ними и на них ни при каких обстоятельствах», — повторяла упрямо, так до конца и не представляя, что такое жизнь, что может она порой сделать с человеком. Ходила новым, неуловимым Тилем Уленшпигелем, с застывшей, даже холодновато-загадочной улыбкой на губах, и пепел Дмитра, пепел всех расстрелянных, убитых, повешенных и замученных, пепел Клааса постоянно стучал в ее сердце. И так до того рассветного часа, когда первой случайно увидела запутавшийся в ветвях раскидистого дуба парашют и под ним светловолосую девушку Настю. Наши в те дни выходили (или уже вышли) на линию Днепра в его нижнем течении и сбросили среди других и в этих местах небольшой разведывательный десант. И именно тогда жестокая действительность не посчиталась с ее хотя и твердым, но по-детски наивным взглядом на жизнь. …Нет, она недаром так любила своего отца! А с того времени любит еще больше. Она по-настоящему восхищается им, гордится, с удивлением не раз думала: как и откуда берется у него в самую опасную минуту спокойствие, выдержка и находчивость?.. Где-то Яринка читала, что Наполеон проявлял наибольшее спокойствие и выдержку в самые опасные минуты своей жизни, когда его судьба висела буквально, на волоске. В такой обстановке он не только не волновался, а его даже клонило… клонило ко сну… Такое Яринка узнала о Наполеоне, но что-то не верилось ей, чтобы потянуло императора ко сну, если бы его вот так, как ее отца, не героя, не полководца и не императора, тот же Мюллер поставил возле хаты под бело-зеленый ствол осокоря и, криво усмехаясь, не думая шутить или запугивать, на всякий случай (Мюллер шутить не умел и слов на ветер никогда не бросал) сказал: — Сейчас ты будешь видел… Сейчас ты будешь видел… Яринка стояла тут же, у торцового окна, в каких-то пяти шагах, опершись о стенку хаты. Вечерело. За осокорями над лесом садилось большое красное солнце. Медвяно пахло кашкой, душицей и сухим сеном. Мюллер со взведенным парабеллумом в руке стоял как раз между ними. А вокруг полный двор настороженно притихших полицаев, немецких солдат и лютых, рычащих, бешеных, так и рвавшихся с поводков овчарок. Утром в тот августовский день сорок третьего года Демид Каганец набрел на новенький советский парашют с наспех обрезанными стропами. Парашют, раскрытый, непогашенный, повис, запутавшись на верхушке древнего дуба — ее, Яринкиного, старого любимца, который каждый раз встречал ее с ласковым шелестом на меже у ровного поля, когда бы — днем или ночью — и из каких бы — близких или дальних — странствий она ни возвращалась к родной хате. Прикрыв верхушку дуба, парашют белел на его темной зелени так четко, что его можно было заметить с поля или с дороги километра за два. Полицаи снимали парашют с дуба несколько часов — так он сильно запутался. Собирались даже вызвать пожарную команду, но поблизости ее не оказалось. Сгоняли полицаев, разных немецких служащих и солдат — пеших, конных и на машинах, с собаками и без собак, из нескольких районов — почти до обеда. Лес, по степным масштабам не такой и малый, окружили со всех сторон и прочесывали, двигаясь локоть к локтю, с десятками лютых волкодавов, почти до самого вечера. Каждой собаке дали перед тем обнюхать парашют, одежду и обувь всех жителей леса (отца, Яринки, бабушки Агафьи), но ни одна собака не напала хоть на чей-нибудь след. Лютый, как и его овчарки, раздраженный неудачей, голодный как волк — от угощения у Калиновских на этот раз он наотрез отказался, — Мюллер вывел во двор отца и поставил его спиной к старому осокорю. Яринке велел стать под стеной напротив отца и, размахивая парабеллумом, сказал: — Советский парашютист — не иголка сена… И лесок этот — не брянский или полесский бор… Так вот что: ты или твоя дочка где-то здесь спрятали советский парашютист-диверсант. Где вы его спрятал?.. Яринка молчала, с тревогой и болью всматриваясь в спокойное, совершенно спокойное лицо отца. Он стоял и точно так же молча смотрел перед собой, не избегая взгляда Мюллера. — Кто-то из вас двоих и где-то здесь, в вашем лесу, спрятал советский парашютист. И вы оба знаете, где он. Точно так же, как и то, чем это угрожает вам. Если, разумеется, вы не сознаетесь. — Лес, пане, большой. — К страшному удивлению Яринки, отец даже усмехнулся. — А я, хотя и лесничий, не обязан и, главное, не могу знать о каждом человеке, который может зайти в этот лес. Наконец, у меня не сто рук и не сто глаз. — Зато у нас сто рук и сто глаз. Мы его найдем… Но наступает вечер, он за ночь успеет перепрятаться в другое место, и это усложнит дело. А мы уверены и убеждены, что спрятал его кто-то из вас двоих. — Ну что ж. Если бы я даже и хотел, то — хотите — верьте, хотите — нет — сказать вам ничего не могу. И парашют тот увидел только тогда, когда его сняли с дуба. — Хорошо, хорошо. — Мюллер зачем-то провел у себя перед носом парабеллумом. Где-то в стороне затрещал мотоцикл. Зарычал здоровенный, серый с желтыми подпалинами пес. Яринка сразу ощутила, как к обычным лесным вечерним запахам примешался дух перегорелого бензина и псины. Стояла и смотрела на отца: неотрывно, со страхом, широко раскрытыми глазами. Тяжело дышала через рот и с удивлением наблюдала совсем спокойное лицо отца… Нюхом чует, догадывается тот жандарм или и в голову ему такое не приходит? — думала девушка, приготовившись к худшему и в то же время чувствуя, что, возможно, впервые в жизни она сейчас ничего-ничего, даже самой смерти, не боится. Ни жандармов, ни полицаев, ни солдат с лютыми псами. Как-то даже гордилась тем, что их вон как много, и они ничего не знают, и ничего у нее не выпытают. Только одно страшно — отец. Жалко ей было отца, такого спокойного и такого одинокого под зеленовато-белым стволом могучего осокоря. Ведь она знала то, чего и на самом деле никто не знал. Ни они, ни даже отец… Знала она не только то, что это был действительно советский парашютист, не только то, где он теперь спрятан так, что не найти его ни псу, ни жандарму, но и то, что тот парашютист — совсем маленькая, светленькая, с рыжими веснушками у переносицы девушка. Ростом такая же, а может, даже и таких лет, как и Яринка. И Яринка никогда, ничего, ни за что и никому не скажет о ней, хотя бы ее здесь и на куски резали. И еще знает, что и отец бы не сказал. Она это знала твердо. Никогда бы не сказал, если бы даже и знал. — Так это есть твой последний слово? — помолчав, переспрашивает отца Мюллер. — Хорошо, хорошо… — Да. Ничего больше сказать вам, пане комендант, я не могу. И дочка моя тоже… Нечего, понимаете, нечего сказать. — Та-ак… Хорошо… Тогда, раз ты не хочешь сказать правда солдатам фюрера и великий рейх… Тогда ты сейчас вот здесь будешь видел, как мои солдаты сначала изнасилуют твоя дочка, потом повесят вот на той ветка… И все это ты должен смотрел. Сначала смотрел… А потом будешь висел на той ветка рядом. Мюллер опустил парабеллум и начал закуривать папиросу. Яринка стояла, вся оцепенев, едва ощущая себя и все же опасаясь не за себя, а за него, отца. Так, словно совсем не поняла или и в самом деле не поняла слов жандарма. Стояла, плохо понимая, что с ней происходит, и в то же время следила, как рваными клочьями, кольцами быстро расплывается в воздухе синий дымок от сигареты жандарма, иногда на миг закрывая от нее побелевшее лицо отца с черной черточкой рта. Прошла минута, две, а может, только мгновение. Черная черточка на белом лице отца слегка перекосилась, губы сначала немо зашевелились, а потом уже, казалось, когда отец кончил говорить, до нее долетели слова: — Я только… я только очень прошу вас… Я хорошо знаю — дочь ничего не знает… И я, если хотите, умоляю вас, как мужчина мужчину… Вы должны… ну… — Ему, видно, так и не хватило силы вымолвить слово «повесить». — Вы должны… меня одного… Кажется, на какой-то долгий или короткий миг Яринка будто потеряла сознание или просто у нее закружилась голова. Когда же снова сквозь туман начала воспринимать окружающее, солнце все еще висело над верхушками грабов, а дымок от сигареты рваными клочьями все еще летел через подворье, цепляясь за кусты черемухи, и в вечернем воздухе повисла какая-то неестественная тишина. Такая неестественная, что даже ни одна пташка нигде не откликалась, или она, Яринка, просто оглохла… Но потом Мюллер, поколебавшись и, наверное, решив, что уже разыграл свой страшный спектакль до конца и дальше уже идти некуда, сказал, криво усмехнувшись: — Я тоже отец. И у меня есть тоже… айн, цвай, драй… три дочка. И я тебе верю… То есть я не верю, никогда не поверю, чтобы отец ради кого-то там не пожалел родной дочка. Мы тоже… как это? Тоже психолог… Он бросил на траву окурок, придавил его носком сапога и сразу же почти бегом бросился к бричке. С криком, лаем, возгласами бросилась за ним и вся свора. Возгласы, топот, лай постепенно удалялись, наконец совсем стихли. Из леса, из низин, из оврага и ручья потянуло влажной прохладой. Воздух наполнился густой синевой. Над тихим лесом замерцала первая искристая звездочка. А они так и стояли друг против друга. Стояли еще долго, молча. До тех пор, пока из-за лесной полосы, из-за темных валов придорожного терна не выплыл на бархатно-фиалковые просторы неба красный горящий ломоть чуть уже ущербного месяца… Стояли, пока Яринка, немного угомонившись, не подумала, уже спокойнее, о той нежной, беленькой девушке с рыжими веснушками на переносице: «Как же она там, в Подлесном? Все ли там благополучно?..» А Настя Невенчанная, та хрупкая девочка, совсем уже успокоившись после страшного утреннего приключения, сидела себе в Подлесном, на завалинке под хатой у старых Брайченков, даже и не скрываясь особенно… У кого же могло возникнуть хотя бы отдаленное подозрение, кто бы мог подумать, что это именно она — такой вот цыпленок маленький — может быть настоящим советским парашютистом!.. Да она же, наверно, прикажи ей прыгнуть с обыкновенной груши, навек перепугается, а не то что — страшно ведь сказать — с самолета! Ночью, на оккупированную гитлеровцами территорию! Да что уж «кто-то там»!.. Даже сам Яринкин отец некоторое время спустя, когда Настя перебралась в лес, в их хату, не то что не знал, ему и в голову ни разу подобное не пришло! Даже когда сказали — и тогда еще не сразу поверил. Стоял ошеломленный, только пожимая плечами да недоверчиво покачивая головой, не зная, что и говорить. И все же «он», этот цыпленок, действительно прыгнул! Пусть и не совсем удачно, оторвавшись от товарищей, запутавшись в ветвях старого дуба, из которых ей одной, без Яринки, верно, так просто и не выпутаться бы. И если бы не набрела на нее Яринка, возвращаясь из Балабановки, от старого Цимбала, попала бы таки Настя в руки гитлеровцев… Однако Яринка успела опередить их. Она распутала девушку, спасла, обрезав стропы парашюта, сняла с дуба, переодела, спрятала ее вещи, оружие и рацию в улье и успела еще и в Подлесное отвести. Отвела и временно приютила у старых Брайченков, даже и в мыслях не допуская, какие перемены принесет, как перевернет ее жизнь этот день и эта будто случайная встреча…
…Тогда, в августе, обрезая крепкие, будто из проволоки, стропы парашюта, снимая с дуба в Калиновой балке девушку, в руке у которой был тяжелый пистолет, за плечами — зеленый вещевой мешок, а в глазах — полно слез, Яринка ободрала себе до крови пальцы. А вскоре, через каких-то два месяца, став по воле обстоятельств переводчицей у новобайракского крайсландвирта Дитриха Вольфа, разбередила себе и душу. Только подумать! Она, Яринка, гордая и непримиримая, спрятав в карман свою гордость, свое по-детски откровенное презрение к каждому, кто хоть что-нибудь, хоть и не по своей воле, сделал что-то на пользу немцам, должна разъезжать и в райцентре, и по селам вместе с немецким офицером!.. Сидела рядом с ним на заднем сиденье чудом уцелевшего лакированного, на тонких рессорах, фаэтона, запряженного парой вороных рысаков. Лошадьми правил Федор Гуля — пожилой, как ей казалось, мужчина лет сорока пяти. И то ей еще повезло, что именно Федор Гуля, а не кто другой, — Федор Гуля был своим человеком, и только он один знал, что она за «переводчица». И уже не раз и не два ловила Яринка на себе неожиданно быстрые, острые и, мало сказать, презрительные или недоброжелательные, просто испепеляющие взгляды. Те взгляды жгли огнем и с мучительной болью напоминали каждый раз о Гале Очеретной. О Гале, которую она так тяжко и так незаслуженно оскорбила, а теперь и приблизительно не знает, дойдет ли хоть когда-нибудь до подруги ее искреннее признание вины и запоздалое (не безнадежно ли запоздалое?) раскаяние… Наконец, словно чувствуя ее состояние, даже сам шеф Яринки — Дитрих Вольф — иногда находил в этом что-то такое, что его развлекало и толкало к юмору. Посматривая на девушку сбоку и сверху — он был намного выше Яринки — со своего лакированного сиденья в фаэтоне, который перекатывался из лужи в лужу, Дитрих, до этого глубоко и о чем-то серьезно задумавшийся, вдруг весело, но не без въедливой, хотя будто бы и добродушной, иронии замечал: — Смотрю я на вас, фрейлейн Иринхен, и думаю: для обычной украинской девушки, не фольксдойче, да еще знающей немецкий язык в объеме примерно таком, как ваш шеф и покорный слуга знает чешско — польско — украинско — русский, вместе взятые, вы сделали неплохую карьеру, став переводчиком самого районного крайсландвирта… Но… не кажется ли вам, что эта карьера пришла к вам слишком поздно? — Во-первых, вы это повторяете сегодня уже второй раз, а во-вторых, вы все очень хорошо знаете и без меня. А в-третьих, идите вы, как бы это сказать на вашем чешско — польско — русско — украинско — немецком диалекте, к дяблу, тшерту или тойфелю. Впрочем, мне все равно. — Прошу прощения, — будто вполне серьезно и искренне сказал Дитрих, — но я совсем не хотел вас обидеть… Наконец, — не пощадил он и самого себя, — моя собственная карьера складывается так же… блестяще, как и ваша. Несмотря на то что начал я с Польши (может, знаете или слыхали город Сопот на Балтике?), лейтенантом сделали меня только после этого, — тут он показал ей левую руку, на которой осталось всего два пальца, мизинец и безымянный, — на Дону, недалеко от Сталинграда, и с того времени моя полуцивильная, полувоенная карьера мчит меня, словно обезумевший Пегас, с Дона на Донец, с Донца на Днепр. И я так и не могу согреть комендантского места нигде больше, чем три-четыре месяца. В конце концов, я начинаю побаиваться, что это может закончиться Дрезденом, Лейпцигом или даже самим Берлином. Но там к тому времени комендантов хватит и без меня. — Интересно, — проговорила Яринка. — Вы вот все знаете… А все же… Провоцируете или… прошу прощения, может, лучше сказать — работаете по приказу пана Бухмана или по собственной инициативе? — О-о-о! — искренне возмутился Дитрик. — К черту пана Бухмана! Во-первых, каждому свое. У меня свои заботы, а у пана Бухмана их до черта и без меня. И кстати, и без вас. К тому же пан Бухман — жандарм, наци, эсэс и еще там что-то. А я — простой солдат фюрера. — Он снова усмехнулся, произнеся последние слова. — И я просто чуть-чуть интересуюсь, как это сказать… психологией. Вот я, например, в своем положении чувствую себя вот так. Ну, а другой человек в подобном положении, вот вы, например? Как? Скажите честно, вас… Как это?.. Ну, не беспокоит… А, нашел… не пугает, если вас будут называть… О, прошу понять меня правильно!.. Будут называть, лишь в связи с должностью, как это у вас говорят?.. О! Вспомнил!.. Я уже слыхал такое не раз. Ну, как это?.. Немецкий овтшарка?.. У девушки от этих слов вдруг словно что-то оборвалось в груди. Оборвалось и резануло острой болью. Но внешне… внешне Яринка даже не побледнела. Она лишь какое-то мгновение помолчала, а потом тихо презрительно процедила: — Мне совершенно безразлично, кто там что говорит или будет говорить. Я просто не интересуюсь тем, что обо мне могут говорить или говорят. Я просто ненавижу, пан шеф и простой солдат фюрера! — О-о-о! — Дитрих по-настоящему уже удивился и заинтересовался. — Даже я, немец, воспитанный этой самой… системой капитализма, даже я удивлен, каким глубоким, выходит, даже неодолимым может быть чувство собственности. Может, меня вылечила от него солдатская жизнь? Ведь… Вы же хорошо знаете, самая большая личная собственность солдата — собственная голова. И теряет он ее, не успев даже пожалеть. А что касается вас, то вы даже запомнить ничего этого не успели. — Дело не в чувстве собственности, а в чувстве достоинства, — точно так же серьезно ответила Яринка. И ответ этот прозвучал для Дитриха убедительно. Он помолчал, подумал, а потом все же не удержался и снова спросил: — Скажите… если все это правда… Да мне, наконец, все равно, и на пана Бухмана мне начихать… Опять-таки из простого чувства любопытства и чистой психологии. Я, наконец, сын простого собственника не такой уж и большой городской пекарни в Богемии. Так вот: как может себя чувствовать собственник или собственница шестисот гектаров одного леса и нескольких… я уже забыл… — Четырех, — машинально подсказала Яринка. — Ага!.. Четырех тысяч десятин такой плодородной, как у вас на Украине, земли? — Вы знаете, пан шеф, я ответила бы вам с удовольствием, но, по правде говоря, сама не знаю и не понимаю! — О-о-о!.. — еще с большим удивлением воскликнул шеф. — Но ведь… — Но ведь пан шеф должен был бы помнить, что всеми теми богатствами я не владела ни одной минуты. Однако полагаю, что такой человек, да еще в спокойных условиях, мог бы чувствовать себя совсем неплохо. А вообще… я и сама не знаю, что тут правда, а что легенда. Если верить людям, то в Польшу успел сбежать один лишь мой двоюродный брат, легионер Пилсудского, Ясик Калиновский. (Я его пыталась теперь разыскать, но… война есть война.) Остальные мои родственники трагически погибли в гражданскую войну, когда мне не было еще и двух лет. Меня спасла, удочерила и воспитала, как простую крестьянскую девушку, преданная нашей польской родне семья лесника, фамилия которого тоже Калиновский. Своих детей у них не было. А с фамилиями тут можно такое встретить частенько: поляки и украинцы, паны и мужики — с одинаковой фамилией… Впрочем, мой названый отец совсем-совсем неплохой человек. И если бы мой родной отец, которого я и в глаза не видела… — О-о-о! — покачал головой Дитрих. — О-о-о! Который уже раз слышу я эту чудесную… как это… легенду, и каждый раз она трогает меня до слез. — Легенду? — переспросила без гнева, лишь с легким укором Яринка. — Ну, наконец… В лучшем, как говорят, в реалистическом, понимании этого слова. Кто знает, может, и в самом деле этот довольно симпатичный судетский собственник пекарни (еще один из бравых и веселых немецких парней) именно так и понимал слово «легенда». Как-то так, в духе прославленного немецкой литературой романтизма. Не подозревая даже того, что имели в виду и какой смысл вкладывали в него, устраивая Яринку к Дитриху в «переводчики», командир десантной группы Сашко Сапожников (которого здесь шутя перекрестили в Чеботаренко) и староста села Новые Байраки Ефим Макогон.
Если говорить откровенно, то двадцатишестилетний лейтенант, стройный, даже красивый, с худощавым, продолговатым лицом и большими, серыми, с твердым взглядом глазами, мог считаться человеком вообще симпатичным. Хорошо воспитанный, с основательным средним образованием, которое он приобрел еще в чешских Судетах и которое давало возможность ему шире смотреть на жизнь, иметь какие-то гуманистические «иллюзии», как сказали бы немцы, получившие среднее образование в предвоенное и военное время в самом рейхе… Совсем не похожий на обычного самоуверенного хама в форме гитлеровского офицера, к стандарту которого уже привыкли на оккупированных землях, он, между прочим, ничем не проявлял (по крайней мере в то время) фашистских убеждений и от нацистов, от их партии, разговаривая с Яринкой, начисто себя отмежевывал. По правде говоря, у Яринки не было оснований считать его разговоры такими уж неискренними. Можно было все же поверить, что этот парень, который мог вести умную беседу по любому поводу и на любую тему, действительно был равнодушен ко всему: к войне, наци, фюреру, к тому, что может думать о нем сам Бухман и что может подумать какая-нибудь туземная переводчица. Он даже хорошо не знал, зачем ему теперь и эта переводчица и сам он тут, как сельскохозяйственный комендант в местности, которая уже, собственно, считалась военной прифронтовой зоной и подчинялась законам военного командования. Да что уж там говорить о нем, Дитрихе, если и самому Бухману приходилось сбиваться с ног, очищая близкие фронтовые тылы от настоящих и предполагаемых подпольщиков, разведчиков и партизан, и только и радости, что иногда опрокинуть чарку с тем же Дитрихом, начальником полиции или старостой Макогоном. И все же Яринку, которая и без того чувствовала себя словно на лезвии бритвы, настораживало, а временами и по-настоящему пугало то, что слишком часто вертелись Дитриховы разговоры с ней вокруг одного; слишком часто возвращался он к одной и той же теме в беседе, которая большей частью начиналась весьма избитой сентенцией: — В нашем с вами, фрейлейн Иринхен, комендантском деле, в такой вот Корсуньской ситуации, самое главное — не упустить момент и не вырваться преждевременно. Упустить момент — ваши подтянут веревкой на перекладину, — они, правда, делать этого как следует еще не научились, но кое-кого подтягивали, ого! — а вырвешься заблаговременно вперед — объявят паникером свои — вешать своих у нас теперь времени не хватает, значит — пуля в затылок… Так что, фрейлейн Иринхен, вы меня прекрасно понимаете… Особенно возбуждал у Дитриха интерес к таким разговорам шнапс. А к нему лейтенант со дня на день обращался все чаще. Правда, совсем почти никогда не пьянел, только в его холодных глазах внезапно начинали пробегать какие-то дикие огоньки, и их Яринка боялась больше всего. А через Новые Байраки — именно через Новые Байраки! — прямо вдоль Дитриховой комендатуры, райуправы и помещения полиции день и ночь шли на восток и юго-восток размокшей дорогой, прямо по тропинкам, а то и огородами, до осей увязая в фантастической грязи, немецкие мотомеханизированные и танковые войска. Шли на восток (возвращались, правда, и на запад) и пешие, и конные, и моторизованные, и с танками, волоча за собой различных «тигров» и «фердинандов». И за всем этим надо было внимательно следить, незаметно и по возможности точно пересчитывать их, чтобы не пропустить самого главного и разузнать о самом важном. И большей частью держать в памяти, не записывая, да потом еще засекать в памяти немолодого Федора Гули или почти мальчика — «полицая» Валерика Нечитайло. Иногда Яринке приходилось по-настоящему не спать по двое-трое суток. А должна была еще исполнять и комендантско-переводческие обязанности и поддерживать разговоры с Дитрихом Вольфом, которые становились все более продолжительными, однообразными и напряженными. Хорошо, хоть обязанностей у Дитриха (следовательно, и у Яринки) с каждым днем становилось меньше и каких-то особенных знаний немецкого языка комендант от нее и не требовал. Когда познакомил их староста Новых Байраков Ефим Макогон, Дитрих (чуть-чуть подвыпивши) с любопытством посмотрел на угрюмую девушку, небрежно расспросил, кто она, откуда, как и где училась немецкому языку, что делала до этого, и на ее ответы откровенно сказал: — Этот… как по-вашему?.. Зи шпрехт? Говорил, так?.. Вы говориль ни отшинь харашо. Но мне лучше и не надо. Шпек, курки, яйка, млеко и шнапс я знаю и сам. О том же что туземный мужик должен сдать корову, не имеет права колоть свиней, должен ехать туда и туда — вы ему переведете вполне прилично. Ну, а больше пока что в нашем деле и не требуется. Так, пан Макогон? — обратился он уже к старосте. — Да, оно, конечно, так, — усмехнулся Ефим Макогон. — А за девушку я вам ручаюсь. Девушка — Яринка, одним словом — гут… …К тому времени гитлеровцы уже повесили Золотаренко. Иван Бойко действовал еще на свободе и даже жил, не скрываясь, в Подлесном. Золотаренко Яринке заменил Цимбал. Он и свел ее со старостой села Новые Байраки Ефимом Макогоном. И только Ефим Макогон, Федор Гуля и еще, может, только господь бог знает, каких усилий стоило, сколько пришлось помозговать для того, чтобы устроить эту «надежную девушку гут» переводчиком хотя бы к Дитриху, а Валерика Нечитайло подсунуть в полицию. Сначала командир десантной группы Сашко Чеботаренко настаивал на том, чтобы то ли ее, то ли Федора Гулю — кого-нибудь — устроить в жандармерию. Но где уж там! Хорошо, хоть так. И более или менее своевременно. Ведь войска уже шли и шли. Настя сидела за рацией у старика Калиновского почти без работы, а Чеботаренко ежедневно пробирали по радио, онрвал на себе волосы и никому не давал житья. — Мне, — кричал он, забыв, кто его подобрал и выручил, — все ваше подполье, хоть с молниями, хоть с громами, до лампочки! Мне нужны разведка и разведчики! А они мне дохлого фрица подсунут и радуются, как маленькие. Передавай, мол, уничтожили, помогли фронту. Да плевать мне на вашего фрица! Не буду я на него больше не то что слов, а ни одной буковки тратить! Мне дайте что-нибудь вот такое, во!.. Путное! Чтобы в штабе фронта заинтересовались! А вы — фрица!
Десант, выброшенный в их краях откуда-то из-под Мариуполя, направлялся, говорят, куда-то дальше. А попал — так уж вышло — в Подлесное и Терногородку. Оно конечно, не такой уж там и десант. Одно только слово громкое… Просто организационно-партизанская группа — шестеро хлопцев и седьмая девушка Настя с рацией… Сначала разбрелись кто куда. Первой на их след напала Яринка. Дала знать Бойко, а тот дальше — Шульге. Так пошло от группы к группе, от «Молнии» к «Молнии». Пока собрали их, свели вместе, обстановка на фронте изменилась, и им приказали так и остаться в районе Подлесное — Скальное — Новые Байраки и базироваться на «Молнию». Хлопцы сразу же разошлись по группам и отрядам, переходя с места на место и подолгу нигде не засиживаясь. Командир остался в «Раздолье», которое служило подпольным штабом. Настю устроили у Калиновских, спрятав рацию в рамочный улей на пасеке. А потом — в сарай вместе с ульями. В определенные часы (держался специальный выезд) рацию вывозили в лес — отстучит Настя, что надо, рацию — в улей, а Настя снова к Калиновским, на печь, к бабушке Агафье. Сначала отстукивала раз в неделю, потом — два, позже приходилось и по три раза, а уже в январе такое началось, что хоть бери да и по три раза на день отстукивай. Так было, когда немцы стояли еще за Днепром, под Киевом. А когда дошли до Корсуня и немцы целыми дивизиями попали в окружение и их бросились освобождать из Корсуньского «котла», тут уж было не до отдыха, а порой и не до осторожности. Яринку и еще нескольких сразу вызвали к Цимбалу (Золотаренко не дождался десанта). Цимбал ей строго приказал: никакой «Молнии» чтобы и знать не знала, с Бойко никогда и знакома не была. Чтобы за какую-то неделю всюду словно ножницами все обрезала. Чтобы ни ты ни у кого, ни у тебя — особенно у тебя, в лесу, ни одного человека не было. Безразлично, свой или чужой. А Настя — мамина родственница из города, вот в все. Документы ей выправят такие, что и комар носа не подточит. А тебя, ненадолго (может, только раз и поговорите) познакомлю с этим человеком. Жил Цимбал тогда в Балабановке. Худощавый, бойкий, с круглой бритой головой и седыми, ежиком, усами под тонким хрящеватым носом, был он мастер на все руки: и сапожник, и портной, и к ведру ручку приделает или донышко вставит. Одним словом, на хлеб себе как-то зарабатывал. Яринка пришла где-то в полночь. На чистой половине Цимбаловой хаты храпели на кровати два немца из маршевой части. А в другой, с кухонькой и чуланчиком, горел ночничок. Цимбал сидел за низенькой табуреткой на треногом стульчике, подпоясанный полотняным, засаленным, почти черным фартуком, и сучил дратву. Его жена — полнотелая, круглолицая женщина — чистила в кухоньке картошку, а из-за печки, из чуланчика на голос Цимбала вышел человек, тихо поздоровался и сел возле него на пустой стульчик. Высокий, сухопарый, лет двадцати пяти. Нос длинный, острый, глаза темные и колючие. В зеленом стеганом (хотя и лето) ватнике. В пилотке и сапогах. Подпоясанный, на ремне пистолет, а через плечо новенький офицерский планшет. Одним словом, это и был командир десантной группы капитан Александр Сапожников. Он сразу сказал ей, что в прятки им играть нечего, он знает о Яринке все, а она если не о нем, то о Насте тоже все знает. Вот он и хочет, чтобы Яринка переходила полностью на разведку. Разведка — глаза и уши армии. А она уже не маленькая и должна понять, что, если бы это не было так важно, их бы сюда не забрасывали и он бы ее теперь среди ночи не беспокоил. Следовательно, если согласна, пусть говорит. Если нет, они, как говорится, красиво разойдутся. Командир уставился на Яринку острыми глазами, а она под его взглядом ощутила даже какое-то замешательство. Зарделась и тихо ответила: — Вообще будет, как тов… то есть пан Цимбал скажут… А мне все равно! Буду делать то, что и раньше. — То было одно, а это — другое… Не боишься? — Он снова пронзил ее взглядом. — Понимаешь, на что идешь? Если доведется… Случится… — Ему, наверное, очень не хотелось выговаривать слово «попасться» или «засыпаться». — Если случится, одним словом… знаешь, как там будет?.. Выдержишь? — Не хуже других, — почему-то рассердилась Яринка. — Давайте лучше о том, что и как надо делать. — А ты, девушка, с характером, — будто даже удивился командир. — Оно если к делу, то и неплохо. Но иногда надо и по-иному: зажать тот характер в кулак — и в карман. А теперь смотри сюда и запоминай. Он достал из планшетки в несколько раз сложенную гармошкой карту и развернул на табуретке два ее квадратика’ с пометками нескольких приазовских городов, голубыми лентами Кальмиуса и Миуса и двумя неровно нанесенными — черной и красной — линиями. — Вот здесь сегодня, девушка, стоит фронт. — Он закрыл одну «гармошку» и открыл другую, на которой заголубели петли Днепра. — А здесь пролегли пути, по которым немцы подвозят к фронту свои части, боеприпасы… А это вот — ваш район… Так меня интересует эта дорога. — Он резко провел ногтем, очерчивая неровный квадрат между Подлесным, Терногородкой и Новыми Байраками. — Все, что на этой дороге, — твое. Каждая колонна, машина, пушка. Каждый солдат и каждая пометка на машине, танке или пушке. Понимаешь, о каких пометках идет речь? — Разумеется, понимаю. — Так вот… Будешь добывать сведения пока что (если не случится чего-то особенного) раз в три дня. Устраивайся, как удобнее. Хочешь — одна, захочешь — возьми надежного помощника. Но одно условие — тебя никто и ты никого не знаешь. Здесь осторожность и еще раз осторожность самое главное. И он вдруг, ну просто неожиданно в той ситуации, усмехнулся. Как-то тепло, подбадривающе и задорно сказал: — Так-то, чернявая!.. А дополнительные инструкции еще получишь… А теперь, — он снова стал строже, — желаю тебе больших успехов на благо и честь нашей отчизны! И… до свидания в лучших, мирных условиях. Коротко прошелестела и исчезла в планшете гармошка карты. И он скрылся за дверцами чуланчика так же незаметно и быстро, как и появился. Довольно долго — может, месяца четыре — разгуливала по улицам Подлесного, не раз проходила по дороге на Балабановку или Новые Байраки Яринка Калиновская. Иногда сиживала у окна какой-нибудь из подруг или знакомых, а порой и ночевала у Брайченков или у других близких. С неослабным вниманием пронизывала глазами не только немецкую колонну, а и каждую пушку, танк или машину, особенно присматриваясь к каждому рисунку, знаку или эмблеме, какими обозначался немецкий транспорт и тяжелое оружие. Позже ей те «собаки», «олени», «пантеры», «львы» и «кабаны» даже снились по ночам. Засекала в молодой памяти, подсчитывала и передавала сведения для невидимого теперь капитана Сапожникова, который, наверное, из многих источников все подытоживал и передавал Насте. Передавал в колонках непонятных цифр-шифровок, которые потом девушка отстукивала и отстукивала своими тоненькими, почти детскими, пальчиками. Яринка работала упорно, на совесть, даже голова кружилась и ноги гудели от усталости. Однако не могла избавиться от ощущения, что все то, что она делает, похоже на какую-то детскую забаву или игру. Понимала, что это не так, понимала всю серьезность и необходимость этой работы, и все же… Даже вот здесь, в глубине этой темной ночи, за этой колючей проволокой, как вспомнит да еще сопоставит с тем, что произошло и что делала позже, так и не может не подумать, не сравнить ту, прежнюю работу с игрой или забавой. Пусть даже такой, что не раз кончалась смертью.
О Макогоне Яринка слыхала не впервые. Знала, какая плохая слава шла о нем по селам, знала его лютость, жестокость, выслуживание перед немцами. Все это, обрастая слухами, давно распространялось из района в район, и на многих наводило ужас даже одно только слово: Макогон… Но Яринка знала уже тогда и другое. Знала, и это страшно удивляло девушку: как это иногда можно приобрести такую шумную славу совсем обычными, казалось бы, на иные масштабы просто мизерными средствами. Кроме двух-трех более или менее значительных историй, среди которых была и казнь предателя — начальника полиции, и слухов о выдаче жандармам двух парашютистов, чего-нибудь особенно «выдающегося», что выделяло бы Макогона среди других старост, не было. Но в то же время… Яринка пришла прямо в хату к Макогону. Пришла, как и приказано, ночью. Человек, возможно, еще и не спал, но уже собирался укладываться спать, это наверняка. Однако на условленный стук — два раза по три и потом снова два по три — двери открыл сразу, смело, ничего не расспрашивая. Молча пропустил девушку в сени, а двери запер на тяжелый железный засов. В сенях было совсем темно. В комнате — тоже. Пахло свежим хлебом, квашеной капустой и еще чем-то похожим на сухой чабрец или васильки. В кухоньке, за просветом, завешенным полотнищем, тускло светилась лампа. Единственное окошечко в этой чистой и аккуратной кухоньке тоже было завешено темным одеялом. Макогон оказался человеком лет за сорок. Был сейчас в синих галифе, в валенках на босу ногу и в несвежей уже, расстегнутой нижней сорочке из желтого солдатского полотна. В кармане галифе что-то оттопыривалось, явно похожее на пистолет, сквозь разрез сорочки виднелась широкая, густо поросшая седоватыми волосами грудь, а над тесным, широченным поясом галифе достаточно выразительно нависал живот отвыкшего от физического труда, пожилого человека. А вот лицо… Лица Макогона Яринка сначала и не разглядела. Оттого, что, как только вошла в кухню, из-за полотнища появилась статная, дебелая молодица. В сорочке и в темной, как видно, только что наброшенной широкой юбке, с черной, закрученной узлом косой. Макогон сразу же и наказал той женщине, не дав ей и поздороваться: — Ты, Парасю, собери нам что-нибудь поесть. Девушка издалека, дорога тяжелая, так, наверное, и проголодалась. Параска проворно и как-то незаметно собрала на стол, сама нарезала широким ножом несколько ломтей белого хлеба и по привычке протерла рушничком ложку и вилку. — Иди, Парасю, спи. Меня не жди. А тут нам больше ничего и не надо. Разве что на топчан на всякий случай бросишь кожух. А ты, Яринка… Кажется, ведь Яринка?.. Садись ближе и перекуси, чем бог послал, с дороги… Параска, снова не промолвив и слова, вышла и до самого утра не показывалась. Яринка сидела возле маленького, до желтизны выскобленного столика и не без аппетита ела нарезанное кусочками розовое сало, холодные вареники с творогом обмакивала в холодную ряженку, а потом запила все это сладким узваром. Макогон присел у шестка на низеньком стульчике и, пока девушка ела, курил немецкую сигарету, пуская дым в печку, и молча, внимательно и, как показалось девушке, будто даже печально смотрел на Яринку спокойными, темно-зелеными, немного припухшими глазами. Были у него пушистые косматые брови, высокий с залысинами и уже изборожденный морщинами лоб, полное, одутловатое лицо, твердо стиснутые губы, большой подбородок и негустые, обвислые усы. Когда Яринка допила узвар, аккуратно собрав на тарелку вишневые косточки, грушевые хвостики, и вытерла краешком рушника губы, Макогон выпустил сквозь усы струйку дыма и наконец разомкнул сжатые губы. Заговорил спокойным, глуховатым голосом: — Оно бы не хотелось… так не хотелось бы нам, Яринка, посылать тебя туда. — Он даже руками развел, и в голосе прорвалось что-то отцовское. — Но ведь… другого выхода у нас сегодня нет. Честное слово, нет… Посоветовались мы, подумали с капитаном и так и этак и… надумали. Вот так надо! — Он провел пальцем по горлу. — Давай выручай, Яринка, потому что это дело не только наше. Тут, если хочешь, дело народное, государственное… — Так, товарищ… так, дядя Макогон, — сразу поправилась Яринка. — Разве я что? Маленькая? Или не знала, на что шла? Да только скажите, что надо… Макогон помолчал, не торопился с ответом. В кухоньке наступила настороженная тишина. А он затягивался дымом, будто обдумывая следующие слова. И немного погодя заговорил, как бы сам с собой: — Так-то оно так… Послали бы тебя Бухмана пристрелить, и знаю — пойдешь. — Да, и пойду! — Говорю же, что знаю. А вот если скажу, что кончилось, девушка, твое «гуляньечко», потому как засватали мы тебя, Яринка, Дитриху Вольфу в переводчицы, то что ты мне на это скажешь? — Что-о-о?.. — испуганно, удивленно, еще не веря тому, что слышит, приглушенно протянула Яринка. — Что-о-о?! — А вот так и есть… Обо всем уже договорились. Идти туда у нас больше некому. И уже завтра утром пойдем мы с тобой к пану крайсландвирту наниматься. И еще, скажу я тебе, нам повезло. Ибо среди ихнего брата он не самый худший, скажу тебе… В кухоньке надолго залегла тяжелая, гнетущая тишина. И в этой тишине все живое и мертвое вдруг тревожно всколыхнулось, поднялось откуда-то из самой глубины Яринкиной души: и мама, и Грицько, и Галя, и Дмитро, ее веселый, гордый, бескомпромиссный Дмитро. И тот маленький силуэт детской головки, что и теперь спрятан в ворсе отворота ее цигейковой шубки, и то твердое обещание — ничего, ничего не делать на пользу немцам. И подумать только!.. Она — рядом с каким-то немецким комендантом, его переводчица и… мало ли еще кто и что может там подумать. Идет по улице села, а из-за каждой изгороди или ворот глаза… глаза… глаза… Нет, наверное, лучше пойти и убить какого-нибудь подлеца, какого-нибудь там Бухмана, Мюллера, Калитовского… Не произнесла ли она последние слова вслух? Потому что сразу с удивлением услыхала спокойный голос Макогона: — А нам та смердящая Бухманова жизнь сейчас и не нужна. Нам больше… нам очень много теперь нужно, девочка… И стал еще спокойнее, сдержанным голосом объяснять, почему она должна пойти в комендатуру. День и ночь мимо комендатуры, у самых окон, через Новые Байраки идут войска, менее чем за сотню километров отсюда происходит одна из самых больших, в чем-то даже решающих битв. Ее глаза и уши, следовательно, глаза и уши нашего командования, должны быть здесь. Это приказ. А какой же солдат не исполняет приказа? Объяснил, что и как должна делать в комендатуре. Да и не сама она туда идет, не по своей воле. Ее посылают на большое дело, приказывают…

Яринка и слушала и не слушала… Перед глазами стояла бричка, которую она видела у Мюллера в Подлесном. И она, Яринка Калиновская, в той бричке, рядом с жандармом?! Ну, пусть даже с немецким офицером. Едет отбирать у голодных детей последнее, что имеют, — корову или телку. А в спину — глаза, глаза, глаза… Оглянешься — опущенные головы. Отведешь взгляд, а они лезвиями в спину: глаза, глаза, глаза… Молчат и молча жгут. Вот, мол, смотрите, какая овчарочка у нас появилась! И стынет, снова долго стынет в темной кухоньке Макогона тяжелая, гнетущая тишина. И только иногда что-то треснет в немецком табаке, потому что курит те сигареты Макогон одну за другой. Нелегко и ему посылать девочку, словно собственную дочку, черту в зубы. И, видно, человек уже начинает волноваться. Тишина вдруг взрывается не громом, не криком, а тихими приглушенными словами: — Ни за что! — Что — ни за что? — как бы спокойно спрашивает Макогон. — Не пойду ни за что, — пояснила она с твердой решимостью. — Не хочешь? — все еще сдержанно переспрашивает Макогон. — Не могу! Не могу! — твердо, раздельно повторяет Яринка. — Не можешь?! — вдруг поднялся на ноги Макогон и сразу показался даже более стройным и молодым. — А когда согласие давала капитану, тебя что — силой тянули? — На такое не давала… Такого не могу! — Не можешь? Макогон бросил окурок на пол, в солому, долго и зло растирал его пяткой валенка. Растер и не спеша сделал несколько шагов к столику. Подошел, нагнулся, заглянул девушке в глаза, и теперь его глаза показались Яринке не зелеными, а темными, будто даже помутневшими. — Не можешь? — переспросил в упор, и ей показалось, что он сейчас закричит, затопает ногами. Но Макогон еще больше понизил голос и так просто, как отец дочке, неожиданно пожаловался: — А я, думаешь, могу? Я — железный? Мне, думаешь, танцевать хочется, когда каждый тебе насквозь глазами спину пронизывает, когда даже дети… вслед плюются… Я уже давно не могу!.. Но только бывает так, что надо и через «не могу»… От этих его слов и голоса Яринке кровь ударила в лицо, и, сама стыдясь своих слов, она взмолилась: — Да что угодно… Куда угодно… Только не это. Только не туда. Да еще если бы я не была девушкой… Что обо мне (не теперь, теперь — уж бог с ним!) тогда люди подумают! — Но я же тебе сразу сказал. Не хотелось нам тебя туда посылать. Но выхода, понимаешь, выхода другого нет! Хоть садись и плачь… А что о нас люди будут говорить… Прежде всего надо спасти тех людей, чтобы хоть было кому говорить… А там… Знали, на что идем, — уже жестко и прямо отрубил он. — Может… да, вернее, так оно и будет, что и говорить не о ком будет. Мертвые срама не имут… — Но бывает же, дяденька Макогон, даже мертвому стыдно!.. — Не бойся… Нас поймут… О нас, если что, с того света справку пришлют. И по той справке будут еще нам с тобой, девушка, вон какие памятники ставить!.. Не каждому отдельно, разумеется, а так… всем… Ничего, доченька, не забудется. А если бы… если бы даже кто-то и поверил, что на нас и в самом деле какое-то пятно… все равно нам сейчас надо свое делать… А памятники — в нашем деле, в государстве нашем, в памяти друзей… Теперь же…
Теперь, пока думает свою нелегкую думу Яринка Калиновская, разрешая этот, может, впервые на своем коротком веку самый сложный вопрос, не может знать она, что нет, нет еще, наверное, а может, и совсем не будет памятника старому чекисту, который, выполнив свой долг, так и умер, то ли под своей, то ли под чужой фамилией Ефима Макогона. …Дурная слава преследовала Макогона, а сам он ходил везде не только с пистолетом в кармане, но и с увесистой дубинкой в руке. И бил людей. Бывало, следует или не следует, а по плечам так и потянет дубинкой, лишь бы рукой дотянулся. Да еще и скажет: «Это тебе не советская власть!..» Тут тебе, мол, власть немецкого рейха и самого фюрера. Так вот знай, тут тебе в зубы смотреть не будут… И хотя, может, и не больно донимали Макогоновы палки, да и гуляли они чаще всего по спинам тех, кто к немцам клонился, но… бывало всякое. Да не так та боль донимала, как сам факт. Ведь советские люди, даже те, что постарше, давно уже забыли то время, когда на них кто-то мог поднять руку, а молодые — вообще такого не испытали. И каждый удар дубинкой, когда бы и где бы Макогон ни ударил (хотя бы и для вида только), люто оскорблял, унижал человеческое достоинство и запоминался на всю жизнь. А еще умел Макогон ругаться. Уж так хитромудро и с выкрутасами — особенно при немцах, — что не всякий и слыхал на своем веку подобную брань. Любил еще принимать, угощать немцев и водиться с ними. И хотя прямых отношений с полицией не имел, но каждый полицай в селе за разные послабления попробовал-таки его дубинки. И тут уж лупил Макогон со всей силой своей крепкой руки, от сердца… Да и людей на немецкую каторгу приходилось отправлять, и коров отбирать, и поставки немцам возить… Но хуже всего — пить и гулять с ними! А плохая слава все больше и больше расходилась о нем по округе. Но вот наконец пришло и освобождение района. Немцы удирали, бросая на размокших и грязных дорогах машины, пушки, танки, подчас не успевая даже и поджечь. Из Новых Байраков за несколько дней перед тем сбежало одно только высокое начальство, наспех, собственноручно, перестреляв в тюрьмах жандармерии и полиции до ста человек арестованных подпольщиков, партизан и другого ни в чем не повинного люда. Перестреляли, да так и бросили в камерах. Даже припрятать не успели. Спаслось около двадцати женщин, которых подпольщикам посчастливилось освободить из женской камеры в ту страшную, памятную Яринке на всю жизнь, ночь. …А в один мартовский день загремело из Подлесного, и с восходом солнца ворвались в Новые Байраки наши бойцы… И сразу же, перекрывая выстрелы и рев моторов, пошел по селу говор. На одном конце села еще немцы в грязи тонут, а на другом из погребов, чердаков, укрытий уже выбежали навстречу нашим с радостным плачем, криком и шумом женщины, девушки, дети. Бежали по огородам, через плетни, по размякшим улицам, лужам… А у ворот своей усадьбы, смотрят, сам пан староста, Ефим Макогон в синих галифе стоит… Встречает… Еще даже и улыбается… — Лю-ю-доньки! — всплеснула вдруг руками, остановившись посреди улицы, худенькая, остроносая молодица, — Макогон!.. Не успел, гад, удрать, да еще и зубы скалит!.. Солдатики наши, родненькие! Это ж он, наш дьявол-мучитель, староста стоит! Попил нашей кровушки!.. Парашютистов наших немцам выдавал! А тут подвернулся какой-то низенький, коренастый сержант в плащ-палатке, с ног до головы грязью забрызганный, с автоматом, в каске, еще и граната в руке. Один, наверное, из тех, что уже успели побывать в камерах жандармерии… — Ты, — спрашивает, бросившись к Макогону, — староста?! — Староста, — улыбается странно Макогон. — Староста Новых Байраков? — переспрашивает сержант. — Тот самый, Макогон? — Ну, Макогон… — Так мы же о тебе, гад, еще в Подлесном и Терногородке наслышались. И в полиции насмотрелись на твои и твоих дружков-фашистов дела!.. И не успел никто и глазом моргнуть, как сержант уже автомат Макогону в грудь наставил. Тот и сам с пистолетом в кармане и граната за поясом. Ему бы обороняться или кричать, а он… Не будет же он в своего стрелять!.. Только горло ему сдавило, и вдруг побледнел, может, впервые в жизни так смертельно побледнел, пытаясь, да, кажется, и не пытаясь или не имея сил и времени что-то объяснить… Ударил автомат, и на одно лишь мгновение приглушил окружающий гам. Блеснуло из него, как молнией, белым пламенем… — Не задерживаться, сержант! Вперед!.. — крикнул из-за плетней молоденький лейтенант в пилотке. Ефим Макогон схватился обеими руками за живот, согнулся вдвое, потом распрямился, широко раскинул руки, качнулся и упал на спину в мокрую, раскисшую землю, лицом к небу. Не было ни речей, ни музыки на похоронах Ефима Макогона. Да, пожалуй, и похорон самих не было. Лежал вот так на оттаявшей сырой земле весь день, пока кто-то не зарыл его на краю огорода, не спрашивая, что и к чему. И нет, наверное, нет еще памятника Ефиму Макогону. А может, и могилы самой нет, осела и с землей сровнялась. Только дело, за которое воевал он безымянным бойцом, жизни не жалея, живет на нашей земле и будет жить вечно.
Но все это было потом, не на Яринкиной памяти. А пока что живой еще Ефим Макогон и Яринка Калиновская сидели в тесной кухоньке. Думали молча каждый о своем, о том, что надо что-то и как-то решать, о своей тяжелой ответственности, о том, что каждого из них ждет завтра. И как надо вести себя одному в зависимости от намерений другого. Кто знает, уже какую по счету, но не последнюю в ту ночь сигарету докуривает Макогон. А докурив, отходит от стола и снова садится на низенький стульчик у шестка. Яринка молчит, все еще о чем-то думает. Думает, мучается, и кажется ей, что весь мир, вся жизнь ее должны сломаться, да уже и ломаются в эту тихую ночную минуту. Первым снова заговаривает Макогон. — Мы не можем тебя неволить. Скажу тебе прямо, даже во имя дисциплины и данного слова не могу, не хочу тебя принуждать, а только напоминаю тебе в последний раз… И, нагнув голову, заглядывая ей в глаза, сказал тихо, но чеканя каждое слово: — Приглашает тебя, девушка, на свадьбу Федор… Этими словами, которых уже никогда не надеялась услыхать, но все еще помнила, словно обухом по темени девушку ударил. Она, как сидела, так и окаменела, ошеломленная. Как будто сам далекий уже теперь Федор Кравчук встал перед глазами и внезапно обратился к ней с этими словами. И она сидела и молчала, не в силах и рта раскрыть. А Макогон, обождав и сам какое-то время, совсем уже тихо и немного даже удивленно спросил: — А что, Яринка, неужели забыла?.. И лишь после этого она опомнилась, напрягла память. — Пускай погуляет до осени этот Федор, — сказала чуть слышно, но четко выговаривая слова. И добавила: — Нет, не забыла, дядя Макогон, как можно! — Ну, а если не забыла, если знаешь, на что шла, если дождалась, — поднялся на ноги Макогон, — тогда… Тогда спрошу еще… Ты же комсомолка?.. — Да, — тихо отвечает Яринка. — Ну, а я — коммунист… Так скажи мне: кто же тогда нас поймет, если мы друг друга не поймем? Правильно я говорю? И тогда, невольно прикоснувшись рукой к отвороту расстегнутой шубки, она ощутила металлический значок. И, соглашаясь, девушка не отвечает, а, скорее, вздыхает: — Правильно, дядя Макогон… — А если правильно… Если веришь мне, то уж верь до конца… Иди… Сразу и лес свой, отца с Настей, рацию этой службой прикроешь… Нет у нас другого выхода, девушка…
Иного выхода тогда у них действительно не было… У них… А Яринке до сих пор ни разу и в голову не приходило, что все для нее может обернуться именно так. Но в сущности еще после смерти матери, с того времени, когда ей хотелось умереть и самой, с тех ночных раздумий над книжкой, после которых она приобрела в Скальном значок с силуэтом детской головки, она, пусть даже еще и не представляя, что такое война, не представляя своего участия в ней, подсознательно готовила себя совсем-совсем к иному. Артур из «Овода», Павка Корчагин, даже Давид Мотузка из «Бурьяна» — каждый из них, каковы бы ни были обстоятельства, шел навстречу опасности прямо, гордо, один на один… И никогда и никуда не сворачивал с прямого пути. Одним словом, тот знакомый уже максимализм был во всем. И она тоже… Раз и навсегда! Как в «Моисее» Франко… Не помнит, думала ли о тех строчках именно в ту минуту, в той кухоньке. Возможно, в тот момент о них и не думала. Но они вспомнились ей сейчас, вспоминались те строки и потом и всегда связывались с той, теперь такой далекой, ночью. Почти всегда, когда прикасалась к значку рукой, чувством, мыслью — «И пойдешь ты в странствия столетий с моего духа печатью…» И она пошла. И шла по тому пути… И самого страшного уже не боялась и не побоялась бы. Но… Но когда вот здесь, вот сейчас, уже соглашаясь разумом с Макогоном и осознавая всю безвыходность положения, она машинально коснулась рукой отворота и невольно уколола себе палец… она не могла воспринять, охватить чувством, всем своим существом того положения, в котором должна оказаться, и в ту минуту искренне верила, что ей и вправду лучше пойти на какой-то самый отчаянный поступок и умереть. Наступит конец. И не надо будет выбирать. «Да, смерть!» — снова, уже сердито и нервно дернула она себя за отворот, снова слегка укололась о булавку и вдруг (порой не знаешь, благодаря какому механизму всплывают и связываются между собой давние и настоящие, этой секунды, мысли!) подумала: «Смерть? Снова о смерти?..» Ведь когда она зашла в скальновский культмаг и взяла в руки этот значок, который давно стал для нее не просто значком, а символом, смыслом всего, за что она боролась, именно тогда, думая о нем, она и выбросила из головы мысль о смерти, преодолела впервые со времени похорон мамы отвращение к жизни, какое-то безволие, отсутствие интереса ко всему живому до самой глубины впервые в жизни пораженной смертью детской еще души. «С моего духа печатью…» Но… У всякого своя судьба и свое представление о собственном пути. У нее оно связывалось еще и с Лесиными словами — не быть «только дождиком осенним, пылать или жечь, но не вялить», где-то на черных дорогах Уленшпигелей с горячим пеплом Клааса, что стучит и стучит в смелое и, главное, открытое сердце. Она совсем не боялась того, что ей предлагали. Она только горько, жгуче стыдилась и просто не представляла себя в такой роли… А так… Она, собственно, почти свыклась, срослась с мыслью, что ее когда-нибудь могут и раскрыть точно так же, как и любого другого. Не она первая, не она последняя. И даже в том случае, если и не посчастливится умереть сразу, а придется… что придется, она тоже хорошо понимает! — все равно! Она готова, она знает, что сможет выдержать и выдержит это… Мысленно она всегда готова была ко всему, закаляла дух, волю, характер, приучала себя презирать смерть и презирать врага. И думала порой: «Вот хожу я, такая маленькая, незаметная, и смеюсь им в лицо. Меченные моим взглядом „леопарды“, „пантеры“ и „тигры“, не ведая о том, идут, словно по моей воле, прямо под огонь наших пушек и наших бомб. И что они могут мне сделать? Мне — девушке, которая может подойти вот к тому самому грозному офицеру и с презрением взглянуть ему прямо в глаза. А он и не подумает ничего… Ведь кроме того, что я девушка, я же еще и безоружная, хотя на самом деле владею оружием в тысячу раз более могучим, чем он, несмотря на то что в эту минуту могу противопоставить ему, им только свою выдержку и характер». И она, проходя каждый день сквозь десятки опасностей, закаляя себя, совсем перестала бояться гитлеровцев и держалась так спокойно, так уверенно и просто, что никому и в голову не приходило не то чтобы проверять, а даже заподозрить ее в чем-нибудь. Она научилась не выдавать себя ни одним движением, тенью на лице и тогда, когда видела муки, а то и смерть своих людей. Ее хорошенькое, но строгое лицо только каменело, становилось непроницаемым, а в голове билась одна-единственная мысль: «Спокойно… Спокойно… Я должна сохранять полнейшее спокойствие и запомнить, запомнить им также и это!» Наконец, она могла позволить себе даже кому-нибудь из них усмехнуться (или скривиться — где им там в этом разобраться!). Но быть постоянно с одним из них, играть свою роль ежесекундно, без перерыва и отдыха, разговаривать о чем-то с ним… о чем-то будничном, а то и веселом… с врагом, в то время когда вокруг страдание и слезы. И главное — все будут видеть ее рядом с фашистом, все будут думать… И что самое важное — она будет знать и все время чувствовать, что они думают. И она — это понимал не только Макогон, капитан или Цимбал, — нет, она сама понимала, какая она еще молодая, зеленая для такой роли!.. Еще не увидев, не представляя себе, какой он (да и не пытаясь представить это!), Яринка люто, со всей злостью, на какую только была способна, возненавидела того крайсландвирта ненавистью, которой хватило бы не то что на одного, а может, и на всех гитлеровцев. Ненавидела тем яростнее, что знала: другого выхода не было. Наступил такой, пожалуй, единственный в жизни момент, когда можно вслух сказать об этом самыми торжественными, самыми громкими словами: ее звала Родина!.. Действительно звала и требовала ее помощи… Тысячи и тысячи людей, которые могли бы остаться в живых, тысячи и тысячи людей, которые могли бы благодаря Яринке, ее скромной роли не осиротеть, не овдоветь, требовали ее помощи. Конечно, тогда, в сумрачной, до сизого тумана прокуренной Макогоном кухоньке, Яринка такими громкими словами не думала. Но ощущала и чувствовала, наверное, именно так.
Зима сорок четвертого года закончилась еще в начале января. О грунтовых дорогах, проселках нечего было и думать. Наши части наступали напрямик, по бездорожью, не разбирая ни дорог, ни меж, и не то что машины или там подводы, — кони, солдаты, пехота увязали чуть ли не до колен на размокшей стерне, зеленых коврах озими, пышных, будто пшеничное тесто, пашнях. Страшным и паническим было для гитлеровцев это отступление. Позади их спешенных колонн, или, собственно говоря, толп злых, измученных, по уши грязных солдат, оставались не дороги, а реки, настоящие, глубокие реки исколесованной на метровую глубину грязи, загроможденной — по двенадцать — шестнадцать рядов на протяжении десятков километров — разбитой, обгорелой, а то и уцелевшей техникой. На двадцать восьмое января немецкие войска, попавшие в огромный «котел» на древней, овеянной славой полков Богдана Хмельницкого, корсуньской земле, были полностью окружены нашими войсками. Советское командование начало грандиозную операцию по расчленению и полной ликвидации большой группы немецких войск, которые хотя и яростно огрызались, но уже обессилели и выдохлись. И тогда из далеких и близких тылов на прорыв и спасение окруженных Гитлер бросил новые, свежие подкрепления, чтобы любой ценой попытаться разорвать грозное кольцо и вывести свои части. Районы — Подлесненский, Новобайракский, Терногородский, Скальновский — стали в сущности боевой зоной, ближайшим тылом фашистских войск. А по двум оставшимся в этой зоне мощеным и шоссейным дорогам день и ночь рвались к фронту, с ходу бросаясь в бой, батальоны, полки и механизированные корпуса, оснащенные танками, скорострельными пушками, дальнобойной и сверхмощной артиллерией, вооруженные до зубов. И где-то там, — может, в ста километрах, а то и ближе, — советское командование должно было знать не только ежедневно, но и ежеминутно о количестве, вооружении, местонахождении, боеспособности, номерах и названиях воинских частей врага на марше, готовя им соответствующую встречу. Одним словом, где-то здесь, в этом месте и в эти дни, на шоссе, которое перерезало Подлесное, Терногородку и Новые Байраки, должны быть глаза и уши наших армий, воевавших на корсуньском поле. И они разумеется, были. А среди них люди Макогона, десантная группа капитана Сапожникова, которая должна была обеспечить операцию «Молния-один», бросив на разведку в зоне Новых Байраков все, что только могло быть в ее распоряжении, — несколько замаскированных групп «Молнии», иную, более глубокую разведывательную агентуру и, собственно, все население, с нетерпением ждавшее своего освобождения. Действовать приходилось в условиях жесточайшего прифронтового режима, самого бдительного надзора немецкой контрразведки и больших карательных экспедиций, которые рьяно очищали ближайшие тылы от партизан, подпольщиков, советских разведчиков и всех других, кто хоть в чем-то, хоть немного был заподозрен. И здесь, собственно, шла война, то тихая, невидимая, как поиски разведывательных групп в лесу или на поле в глухую полночь, а то и настоящая, гулкая, прорываясь порой открытым, молниеносным боем, диверсионным взрывом, нападением на полицию или жандармерию.
…Макогон закуривает новую сигарету, и, когда выпускает из носа дым, за дымом его почти не видно. — Ты же пойми, наконец, сейчас на это дело брошено все. Ты же не одна, но, может, одна из самых главных. Ты только посмотри. — Он снова встает, подходит к столу и чертит на скатерти большим, согнутым пальцем невидимую карту. — Наша дорога для них, может, самая важная. Ни на пашню, ни в речку, ни в лес немцы не полезут. А дорога идет через самый центр. Ты только погляди: окна комендатуры и райуправы смотрят прямо на шоссейку. Сиди у Дитриха возле окна и смотри на улицу. Все равно у него теперь работы никакой нет. Разве что чемоданы укладывать. Напротив твоих окон — полиция. Жандармерия немного дальше, через улицу, и по той глухой улице войска не идут. Устроить туда своего человека просто невозможно, даже мне. У них там свой переводчик: военный и настоящий немец. А тут — сиди, смотри на улицу и только запоминай. А они же идут!.. День и ночь идут… Кроме того, ты же знаешь по-ихнему. Забежит к Дитриху из колонны какой-нибудь офицер, что-то спросит, что-то скажет. Придет письмо, приказ, кто-нибудь и на ночь останется… Подслушаешь, прочтешь, увидишь… Однажды у него какой-то оберст ночевал. Чуть ли не командир дивизии… Ну, сама скажи, имеем ли мы право оставить такое место пустым?.. Одним словом, капитан приказал нам, а я, выходит, должен приказать тебе — раз; потом — я же тебя все равно «продал» и утром пообещал привести в комендатуру — два, и, может, я из-за тебя и грех на душу взял, одному только повредил, а другому жизнь совсем загубил — это тебе три. Четвертое — не черту в зубы тебя бросают. Кучер у Дитриха, Федор Гуля, — наш. Валерик Нечитайло в полиции, напротив комендатуры, — наш. И оба подчиняются тебе. Должны слушаться каждого слова твоего. Ну, а пятое… Пятым должен был быть сам Макогон. Но он подумал и умолк. На него в этом деле надежда небольшая. У него и своих забот было по горло. Одной лишь разведкой в его положении не проживешь. Все эти группы, отряды, десанты корми да перепрятывай, немецкую эвакуацию срывай, детей, если не всех, то хоть половину, от немецкой каторги спасай, семьи красноармейцев хоть как-то поддерживай… И… господи! Опять же и немцам как-то служи, не говоря о более важных заданиях. А ведь только пить с теми шефами, жандармами, комендантами и всякими проезжими грабителями — пить и не спиваться! — сколько времени, сил и здоровья на это уходит! Так… — …Собственно, здесь уже и не пятое… Тут еще, хочу сказать тебе, кого незнакомого, даже из десанта, сюда не возьмешь. Кого-то малограмотного — хоть людей хороших и полно вокруг — не посадишь… Да и сколько их, этих десантников?! Им бы успеть подсчитать и зашифровать… — И закончил так, будто все уже было до конца решено и согласовано — А сведения передавай, как будет удобнее: когда — Гуле, когда — Валерику, а когда-то и мне. Я у Дитриха бываю частенько, так что ты не унывай. А Гуля — ведь он только кажется с виду таким, а в голове трехзначное на трехзначное моментально перемножит!.. Так-то, Яринка!..
А какой грех на душу взял, так Макогон и не рассказал Яринке. А взять — взял. Должен был, чтобы как-то определить Яринку к коменданту. Ведь ни Гуля, пристроенный кучером еще при одном из прежних комендантов, ни Валерик Нечитайло, совсем еще юный, неполных семнадцать и в полиции только недавно, такого дела, на таком важном его этапе сами обеспечить не могли. А переводчик у коменданта, по сравнению с самим Дитрихом Вольфом, был настоящий оборотень! Будто и не бил и не калечил никого, но уж такая канцелярская душа — не человек, а пронумерованная книга с параграфами. Его, бывало, даже мертвецки пьяного не обойдешь, такой был рьяный и преданный немцам этот фольксдойч из местных кооператоров Мусий Менш. И что самое неприятное — чересчур уж был недоверчив и осторожен. Всем не доверял, чуть ли и самому коменданту. А о нем, Макогоне, и говорить нечего!.. Взглянет как-то снизу, исподлобья, и криво усмехнется: «Что-то вы очень грамотны, пане Макогон, для сельского старосты…» Да еще и головой покачает. Уж на что заместитель Дитриха Кугель, принципиально считавший, что надо без предупреждения расстреливать каждую вторую «славянскую швайн», так и тот принимал Макогона за друга. А Мусий, можно сказать, «свой», только фамилия какая-то чужая… Ну, да хоть и недаром подозревал… Не очень, правда, вежливо, но все-таки пришлось Макогону его убрать. Еще и вышло так чисто, будто в самом деле пьяный человек сдуру под грузовую машину угодил. А на машине немцы ехали. Что с них возьмешь?! Потом Дитрих нашел себе, как на грех, какую-то старенькую учительницу немецкого языка. Но стоило ей получить обычное письмо с угрозой и советом захворать, как старуха тотчас послушалась этого совета. Одно только жаль — очень всерьез приняла к сердцу это письмо и захворала вправду и надолго. Так подошла Яринкина очередь. Макогон пообещал Дитриху, который остался один после того, как Кугеля отправили на фронт, обеспечить его настоящим переводчиком. Пообещал и слово свое сдержал. Привел девушку, а не какого-то там пьянчужку. К тому же и внешне приятную, и вежливую, и образованную. И посмотреть, и поговорить, и послушать интересно в такой глуши, да и в такой тревоге.
…Дитрих, как это сразу выяснилось, был достаточно образованный и не нацист, вроде и не хам. Наоборот, учтивый. И — если бы Яринка не так остро, еще до того, его не возненавидела — даже в чем-то приятный человек… Одним словом, если бы для мирного времени — человек как человек. Только от скуки и безделья, от тревог и душевной сумятицы тянуло его на разговоры больше, чем хотелось Яринке. А в разговорах (сознательно или несознательно) он ставил ее порой в сложное положение своей, совсем ей ненужной, откровенностью. Ненужной еще и потому, что одним из важнейших правил, которого она придерживалась по совету старших и которое и сама, если не разумом, то инстинктом поняла, было: никогда и ни о чем не расспрашивать Дитриха. Ничто, кроме служебных обязанностей, не должно ее интересовать. И особенно — фронт; положение немецких армий да и все, что касается «политики». Живет, мол, себе такая дурочка — немного знает по-немецки, зачем-то перед самым освобождением района полезла (сдуру, не иначе) в переводчицы, — пусть и живет… Мало ли каких людей на свете не бывает!.. А ему, особенно когда выпьет, в такое ее растительное существование и восприятие окружающего мира верить не хочется, и «легенду» ее о панско-трагическом происхождении он пропускает мимо ушей. А тут еще и работы, собственно, никакой, кроме символической (на всякий случай, конечно) подготовки к эвакуации. Вот и сидит Яринка за низеньким столиком возле окна, время от времени поглядывает на улицу, всю в лужах, залитую жидкой грязью и забитую машинами, и одним пальчиком по латинским буквам пишущей машинки отстукивает с ужасными ошибками, к чему Дитрих относится с философским спокойствием. Потом всякие приказы она все равно переведет и размножит по-украински.
«Всем! Всем! Всем! Старостам сельуправ, общественных хозяйств, государственных учреждений, мельниц, крупорушек, пекарен, магазинов, складов и т. д. Немедленно под личную ответственность привести в порядок и подготовить к полной эвакуации все подчиненные вам… Все, что состоит в вашем распоряжении, — зерно, мука, тракторы, машины и т. д. и т. д. В случае невыполнения — расстрел на месте…»Яринка ко всему тому, что пишет, относится так же безразлично. Во-первых, ей каждый раз надо не сбиться и после каждой сотни насчитанных военных машин поставить на клочке бумажки крошечную точку. После двадцати пушек или танков — запятую… Эмблемы, какими немцы так любят украшать свои машины, запоминала и так. (Бывало, что целый день по улице продвигались одни «тигры».) А во-вторых, она очень хорошо знает, что у всех старост, управляющих, директоров и т. д., у каждого лично (и дома, и в учреждении) уже есть изготовленная типографским способом бумажка, начинающаяся точно так, как и эта:
«Всем! Всем! Всем!..Председателям общественных хозяйств, госхозов и других учреждений!.. Все вы два года, по принуждению или по собственной воле, служите врагам своего народа, устраиваете себе на том сытую жизнь… Теперь приходит этому конец. Пройдет еще некоторое время, и вы будете отвечать перед народом! Чем вы оправдаете свою собачью службу у фашистов?.. Спасайте все от эвакуации, сохраните народное добро. Не дайте немцам вывезти машины, скот, хлеб…»И подпись на той бумажке — «Молния». Разница в отношении к своей работе между Яринкой и Дитрихом лишь в одном: девушка все знает, но побаивается — а что, если где-то найдется подлец и послушается Дитриховой бумажки, а Дитрих, побывав уже комендантом в нескольких районах, знает твердо: все немецкие машины увязли в грязи, все местные, советские тракторы, которые еще вчера были исправными, сегодня, как по команде, вышли из строя и ждут ремонта. Выходит, альзо… никакой эвакуации не будет. Тут бы как-то сообразить, чтобы хоть самому вовремя голову на собственных ногах унести. Вот почему Дитриху становится тоскливо. Он закуривает сигарету, подходит к окну, долго смотрит на забитую машинами, залитую черной невообразимой грязью улицу и, вдруг повернувшись всем корпусом к Яринке, спрашивает: — Слушайте, фрейлейн Иринхен, вы скажите… только правду, есть ли здесь, на оккупированных территориях, хоть несколько, простите, туземцев, которые любили, понимаете, любили бы и уважали бы нас как немцев и как наци? А? Честно!.. — А почему же, — первые дни хитрила Яринка. — Я, например, очень люблю некоторые пьесы Шиллера, стихи Гёте и Гейне и немецкие романы. Ну… Келлермана, Генриха Манна, Вилли Бределя. — Если принять во внимание наше очень недавнее знакомство, — усмехнулся Дитрих, — то… Я совсем не знаю, кто это — Бредель?.. Слыхал о Манне, но… достаточно уже одного Гейне, чтобы считать ваш ответ слишком смелым… Яринка в ответ на это лишь пожала плечами. А он продолжал дальше: — Вы знаете о том, например, что Гейне еврей?.. — Для меня это не имеет значения. У нас здесь в местечке жило много евреев, и среди них у меня было много близких подруг. Над такими вопросами не было нужды задумываться, мы никогда и не задумывались. — Собственно, до какого-то времени, почти до самой войны, и я тоже… Я, как вам известно, жил и воспитывался в Чехии и сначала тоже не придавал этому значения… Однако вы не ответили на мой вопрос по существу. — А разве отвечать на подобные вопросы входит в мои служебные обязанности? Внутри у него что-то, бесспорно, накипало. Пробуждались, нарастали, тревожили какие-то мысли, но он не мог их как следует сформулировать. Иной раз подолгу задумывался, а иногда сам начинал рассказывать о том, что видел и слышал. Главное, что видел. Он был сравнительно еще очень молодым, но уже успел, как завоеватель, увидеть кроме Германии Чехию, Польшу, Францию, Бельгию. Побывал и в Италии и Румынии. И когда он рассказывал о Париже, Риме или Флоренции, слушать его было интересно, и Яринка, заслушавшись, порой и забывалась. Во Флоренции его внимание невольно привлекли знаменитые галереи Питти и Уффици, бессмертные творения Микеланджело и Челлини; Рим и Париж увлекли его будничной жизнью, людьми, обычаями, случаями фантастически смелых («Теперь я имею „счастье“ наблюдать такое, только в бо́льших размерах у вас») нападений французских патриотов на оккупантов. — Еще у Наполеона я научился верить, что силой, даже враждебной, увлекаются, ибо она импонирует… А тут… Меня удивляло, и я часто думал про себя, почему так яростно ненавидят сейчас в мире немцев? Прямо до смешного… И он рассказал о случае, свидетелем которого был сам. Однажды почти все парижане ходили по городу с удилищами, так, словно все вдруг стали завзятыми рыбаками. Только значительно позже немцы узнали, что это была своеобразная демонстрация, поддержка какого-то воззвания Де Голля по радио… Потому что само слово «голь» — означает что-то подобное удилищу. — Просто удивительно, как нас ненавидят. Почему? Вы не знаете или не хотите сказать, фрейлейн Иринхен? — Не знаю, — категорически ответила Яринка, и он замолчал. Когда Дитриху с Яринкой становилось скучно и позволяли его обязанности, он частенько исчезал в обществе начальника полиции Коропа, каких-то офицеров маршевых частей, кого-нибудь из жандармов и даже Макогона и возвращался не скоро и навеселе. Но как бы он пьян ни был, веселее от этого никогда не становился. Наоборот, именно таким он ошеломлял девушку самыми неожиданными вопросами: — Фрейлейн Иринхен, скажите, а вы не боитесь? — В его глазах загорались на один миг и сразу гасли какие-то дикие голодные искорки. — А почему я должна бояться? — Ну, к примеру, за меня, за… — Это меня совсем не касается. И это «боюсь» снова же не входит в мои служебные обязанности. — Айн момент! Вы меня не так поняли. Не за мою бедную голову, нет!.. О моей голове тут, наверное, никто не пожалеет. Но… вот за то, что вы пошли работать ко мне, что вы… как это говорят во Франции?.. (У вас для этого есть совсем другие слова!) Ага, вспомнил, коллаборационистка! И вот — придут сюда ваши, и тогда… аллес капут! Не только таким, как я, но и вам. Да, да!.. Капут! Расстрел, смерть. В лучшем случае Сибирь или… За меня… За то, что вы — коллаборационист и… как это у вас говорят: овтшарка! А? Вы не боитесь? Это «овтшарка» было для Яринки словно выстрел. И надо было приложить большие усилия, чтобы сдержаться, не дать ему пощечины или не плюнуть в пьяную, перекошенную усмешкой рожу. Но она сдерживалась. Хотя позволяла и себе становиться на острие бритвы: — А может, я совсем и не коллаборационистка? — Тогда… кто же вы, дочь богатого польского помещика, расстрелянного большевиками?! — последние слова он произнес с нажимом, явно намекая на их «легендарность». — Мало ли что! Вы сами как-то рассказывали, что среди французских партизан была даже одна русская княгиня. — Ну и что?! — А может, и я какая-нибудь партизанка или… разведчица? — глядя ему прямо в глаза, выпалила она. Дитрих с минуту молчал, а потом разразился по-настоящему веселым смехом. — А что вы думаете! — выкрикнул он сквозь смех. — Возможно, что и так! Только какой я объект для разведки? Да и наконец, фрейлейн Иринхен… Все равно! Аллес капут, и все это меня не интересует. Это — дело гестапо, жандармов, а по мне, можете действовать прямо. Советую вам только остерегаться Бухмана, Коропа и особенно этого, как его?.. Мак-кма… Макогона… О-о-о! Этого следует остерегаться особенно! Несмотря на то что он ваш близкий знакомый или даже друг… И снова разразился веселым смехом. Чем дальше, тем он чаще возвращался пьяным. Иногда предлагал выпить «чего-то легонького» и ей. И когда девушка решительно отказывалась, осуждающе махал рукой, наливал себе и снова повторял слова, которые уже стали у него навязчивыми: — Э!.. Аллес капут! И чем дальше, тем чаще вспыхивали в его пьяных глазах тревожные, дикие и голодные огоньки. И Яринка, когда Дитрих бывал в таком состоянии, просила Гулю, чтобы тот, управившись с лошадьми, всегда сидел в конторе, ближе к кабинету, и сразу появлялся на ее оклик. Дитриху, когда он как-то случайно услыхал такой ее приказ, объяснила: — Мало ли что!.. Просто для удобства пана коменданта. — О-о-о! — посмеиваясь, поводил пальцем перед своим носом Дитрих. — Я уже и вправду начинаю верить, что вы разведчица, фрейлейн Иринхен. — Вы просто все больше и больше пьете, — ответила ему Яринка. — Вы что, боитесь, пан комендант? Вам страшно?.. — О-о-о! Фрейлейн Иринхен, да вы читаете в людских душах… Вы же и сами не понимаете, как близко стоите к истине… Я, знаете, уже столько насмотрелся за последние два года. И в этом Корсуньском «котле» варится, кажется мне, очень плохое для нас варево! — А меня ваши котлы и кувшины совсем не интересуют! Иногда, больше для виду, они с Дитрихом садились в фаэтон и, преодолевая немыслимую грязь («Такое я встретил только у вас, фрейлейн Иринхен. Такой чернозем можно мазать на хлеб вместо масла или этой, как это… руська икра!..»), ехали в какое-нибудь из готовившихся к эвакуации хозяйств или предприятий. То были самые тяжелые и самые сложные минуты в теперешней Яринкиной жизни: она вынуждена была показываться рядом с немецким комендантом в позорной роли его переводчицы, и то часы или несколько десятков часов отрывали ее от центральной дороги, от главного ее дела. В другие часы она постоянно следила за улицей, ибо жила при комендатуре в маленькой комнатке вместе со старушкой вдовой — кухаркой. В «общественном хозяйстве» — бывшем колхозе, на МТС, мельнице или складе Дитриха всегда льстиво встречал сам управляющий или директор, обычно какая-нибудь старая лиса — кладовщик из тех, которые всю жизнь и при любых обстоятельствах ищут себе легкой жизни, уголка потеплее да куска хлеба послаще… Они еще издалека снимали шапки или фуражки, прежде всего предлагали угощения, избегая взгляда коменданта, уверяли, что все, аллес, будет гут, что — на всякий случай — скот и имущество готовы. Они даже пробовали ухмыляться мертвыми, кислыми усмешками, поняв, что прогадали, что попали в положение, когда не только тепленького местечка, но и головы лишишься, если не от этих, то от тех. Несмотря на угощения, льстивые заверения и улыбки, не только они, но и сам пан комендант понимал, что никакой «эвакуации» не будет, что хлеб за несколько дней обязательно куда-то уплывет, тракторы и машины окажутся все как есть неисправными, а лошади просто словно сквозь землю провалятся. Дитрих напускал на себя строгость, ругался последними словами, угрожал кого-то избить (хотя при этом никого так и не бил), грозился всех перестрелять или лучше — перевешать… Но, садясь в фаэтон, сразу остывал, словно чайник, из которого выпустили пар, бессильно, как только управляющий исчезал с глаз, махал рукой и с безразличием и покорной безнадежностью повторял свое: — Э!.. Все равно!.. Аллес капут!.. Поначалу ей казалось, что работать здесь не так уж и сложно. Дитрих ей не мешал. Гуля, Валерик да и сам Макогон почти всегда были под рукой. Вокруг при разных, больших и малых, боевых стычках, заметных и тихих диверсиях и гибло, и попадало в руки врага их людей, пожалуй, столько же, как и до этого. Бухману с его жандармерией — тремя пожилыми эсэсовцами — и Коропу с его полицией тем более было не до Яринки. И особенно не до Дитриха. И хоть Бухман также «головой отвечал» за готовность к «эвакуации» и «чистоту» тылов, мог ежеминутно что угодно приказать Дитриху (да и что угодно с ним сделать!), он пока еще ничего такого не делал, и ничего такого не случалось. У Бухмана было по горло работы с партизанами и подпольщиками, а подпольщиками здесь ему казались все, потому что в последнее время участились случаи распространения листовок «Молнии», повреждений армейской связи, машин, хищений имущества и поджогов. О том, что происходит в канцелярии крайсландвирта, должен был заботиться и заботился сам комендант. Тут не то что о канцелярии, но иногда не хватало минуты, чтобы пропустить чарочку с тем же Дитрихом, Коропом или Макогоном… И Яринка «нахально» (как она говорила о себе мысленно) считала немецкие подразделения, разные там эмблемы и, смело сбалансировав, передавала для шифровки, только изредка успевая подумать об отце и маленькой Насте, которая где-то в лесных сторожках и тайниках по ночам выстукивает ее «балансы» для советского командования, наверняка и представления не имеющего о Яринке и ее работе. Она уже на память выучила всех этих «зубров», «бизонов», «лисиц», «коней», «собак» и «тигров» и разбиралась в них, как опытный штабист, определяя по эмблемам род войск, название, а то и номер части. Иногда ей везло просто фантастически. Особенно повезло дважды. Как-то в кабинете Дитриха ночевал немецкий генерал, и она сама отстукала двумя пальцами приказ коменданта председателю райпотребсоюза выдать 10 кг масла и 20 кг сала для нужд такой-то (номер, слушайте, номер!) немецкой части генерала Клопса… В другой раз, когда какой-то оберст, остановившись перед крыльцом на полчаса, заедал чарку шнапса салом, положенным на ломоть хлеба, намазанный маслом, и совал коменданту какую-то бумажку, она подсмотрела и запомнила всего только три слова и два — дробью — трехзначных числа… Только это… И только за это — всего один раз за все время — Макогон передал ей благодарность капитана Сапожникова от имени неведомого далекого командования… А разные изысканно-угрожающие названия, которые она угадывала по эмблемам, полки и дивизии, иногда и батальоны «Тотенкопфов», «Адольфов Гитлеров», «Нахтигалей», «Германов Герингов» или «Эдельвейсов» даже снились ей по ночам…
А в один день… Нет, то было утром, — и утро, запомнила Яринка, солнечное, потому что февральское солнце уже поднялось высоко, а небо было чистое, — без стука, неожиданно распахнулась дверь, и в их канцелярию вошел и стал на пороге… черный офицер. Такого офицера Яринка видела только раз, а вот теперь — второй за всю войну — офицер во всем черном, с головы до ног. Только череп и скрещенные кости на рукаве были белые, посеребренные. Офицер был высокий, с тонкой, как у осы, талией. И, видно, очень утомился в дороге. Его вытянутое, невыразительное, какое-то серое и вместе с тем жесткое лицо словно закостенело. Несмотря на усталость, черный офицер вытянулся, звонко стукнул каблуками, резко выбросил вверх правую руку и так громко и четко выкрикнул свое «Хайль Гитлер» и отрекомендовался, что Дитрих даже подскочил. Куда и девались его вялость и ленивая неповоротливость!.. Так рванулся неожиданному гостю навстречу, так хайлькнул в ответ (правда, несколько испуганным голосом), что вышло не хуже, чем у приезжего гестаповца. И прямо на глазах лицо Дитриха сначала посерело, а потом покрылось мертвенной бледностью. Яринка не запомнила, зачем приходил и что требовал или о чем справлялся черный офицер. Но побледневшее лицо Дитриха запомнила. И подумала, что об этом посещении Сапожников обязательно должен знать. Тут же она поняла, что в районе появился или вскоре появится отряд настоящих гестаповцев, перед которыми дрожали не только местное население, но и немцы, вплоть до самых высоких чинов. Гестаповцы теперь появились в их краях второй раз за всю войну. Это говорило о серьезности положения на фронте и в ближайшем немецком тылу. Гестаповцы не только подчеркивали бессилие или неоперативность частей в серых и голубовато-зеленых мундирах, нет, они одним своим присутствием обвиняли их в том, что те преступно не справились и уже не справятся со своими обязанностями по «усмирению», «успокоению» и «радикальному очищению» прифронтового тыла, в котором для немецкой армии сложилась обстановка опасная и нетерпимая. Тихим, каким-то бесшумным, но страшным смерчем прошел черный отряд гестаповцев вдоль и поперек их края, оставляя на своем пути пожарища, трупы, виселицы, переполненные тюрьмы. Но смерть, казнь людей гестаповцами мало кто и видел. Каратели почти невидимы, они действовали, как видно, по ночам и в застенках. И только страшные слухи катились кровавым эхом по их следам. Когда гестаповец вышел, Дитрих долго сидел у себя за столом, окаменело глядя в окно через улицу. Видно, обдумывал, взвешивал, как, каким образом притихнуть, спрятаться, стать невидимым, пока пронесется эта черная смерть. И, наверное не в силах подавить свою тревогу и не имея возможности поделиться ею с кем-то другим, сказал: — Запомните, фрейлейн Иринхен, кто бы вы ни были, дочка шляхтича или советская разведчица… Эти так просто, без всякого повода, не появляются нигде… — Знаете, пан комендант, — сухо ответила Яринка, — всякие шутки имеют предел… — Какие там, черт возьми, шутки! — рассердился комендант. — Они появляются в самый критический момент, чтобы нагнать страху всем, сверху донизу. Понимаете, настоящего страху! А нагонять страх они умеют. Это уж я знаю… — Но, пан комендант, меня это совершенно не касается! И я совсем не хочу знать… — Меня не интересует, что вы хотите знать. И не прикидывайтесь глупее, чем вы есть на самом деле. Вас это, может, и действительно не касается… Разве только так… — Дитрих криво и страшно усмехнулся, — за компанию с начальством, если оно попадет под горячую руку… А вообще чья-то, и, наверное, не одна, голова теперь определенно полетит… И если хотите, фрейлейн разведчица, то… не какие-то там, а настоящие немецкие головы… «Фрейлейн разведчица» на этот раз решила промолчать и лишь сердито нахмурила брови. В тот же день, может через час после этого разговора, о появлении гестаповцев знал уже Ефим Макогон. Но черного отряда в Новых Байраках тогда так никто и не видел. Словно офицер в черном с тонкой осиной талией был только призраком, будто он совсем не появлялся на пороге Дитрихова кабинета. А среди немцев и их ближайших друзей прошел слух о том, что из жандармерии вдруг забрали и немедленно отправили в гебит с соблюдением всех правил, как настоящего государственного преступника, заместителя начальника жандармского поста фельдфебеля Гейншке. В тот же день под вечер к Дитриху всего на одну минуту забежал шеф жандармов Бухман. Бледный, испуганный, он даже не скрывал своего испуга. О чем-то шептался с Дитрихом, глядя на Яринку тяжелыми оловянно-водянистыми глазами, и у нее было такое впечатление, будто он совсем не видит, даже не замечает ее. Накануне вечером, сообщил Валерик Нечитайло, в камерах жандармерии и полиции почти до полуночи, не прекращаясь ни на минуту, продолжались допросы арестованных, подвергшихся самым лютым за последний месяц пыткам. В ту же ночь лейтенант Дитрих Вольф впервые, кажется, за время их знакомства напился, как настоящая свинья. И можно было догадаться, что пил он с Бухманом и Макогоном. На следующий день, поздно утром, он, все еще пьяный, но, по привычке держась на ногах и почти касаясь носом глухой стены, кому-то невидимому бормотал: — Пронесет на этот раз или… не пронесет?.. Нет, черт побери!.. Но меня интересует, чья голова, после головы этой свиньи Гейншке, на очереди?.. Неужели?.. — Он дико оглядел комнату, увидел Яринку за столом и будто немного протрезвел. — Раз уже они здесь, — проговорил, обращаясь к девушке, — они промчатся, как самум… Подолгу нигде не задерживаются… Но запомните мои слова, фрейлейн Иринхен, — после них уже ненадолго задержимся здесь и все мы…
Главный удар на этот раз пал на головы властей Новобайракского района. В тот же день немецкие военнослужащие всего гебита получили секретный приказ-извещение о расстреле заместителя начальника жандармского поста Новобайракского района фельдфебеля Гейншке за измену рейху и великому фюреру, что проявилось в разглашении важной военной тайны и мягком отношении к подрывным элементам на подчиненной ему территории. А на следующий день, с самого утра, в Скальном была собрана полиция из пяти районов. Для примера тут же на базарной площади в Скальном, без предварительного ареста и допроса, неожиданно был схвачен и повешен новобайракский начальник полиции Короп «за измену великой Германии и снисходительное отношение к подрывным действиям враждебных элементов». Логики в обоих приказах было немного. Но страха для тех, кто должен был проявить особое усердие и энергию в борьбе «за великое дело фюрера и великой Германии», больше чем достаточно. После казни Коропа в гебите во всех прилегающих к «котлу» районах начались массовые облавы, повальные аресты, стали заполняться людьми уже опустевшие к тому времени местные концлагеря. Начались неслыханные до того в этих краях массовые истязания: с востока на запад, навстречу немецким воинским частям, под усиленной охраной солдат, собак и полицаев погнали длинные колонны людей от четырнадцати до шестидесяти лет. Где-то на востоке эсэсовцы перед последующим паническим бегством создавали «зону пустыни», выжигая вокруг все, что смогли, дотла и угоняя на запад все способное к труду местное население. В колоннах угоняемых, а также помимо них, в селах и городах, всюду, где еще оставались советские люди, расползлись под видом беженцев шпионы, переодетые полицаи и тайные агенты гестапо. Порой выдавая себя за подпольщиков или партизан, выпытывали, подслушивали, провоцировали. Черный самум прошумел и действительно быстро исчез, оставив после себя беспощадный шквал насилия, угроз, пыток и истязаний над всеми, оставшимися в живых, со стороны местных гитлеровских властей. Шквал, который еще долго поддерживался и раздувался безумным страхом позорной смерти, которая может вернуться в любую минуту в образе офицера-гестаповца с осиной талией, страхом «котла», в котором варились, без всякой надежды на спасение, все новые и новые дивизии, страхом перед каждым местным жителем, которого хватали, за которым охотились, по заранее обдуманным планам, целыми подразделениями. Шеф жандармского поста Бухман был как туго заведенная пружина, как готовая в любой момент взорваться, снятая с предохранителя, граната. Никому ничего не доверяя, он брал все на себя и всюду успевал. Даже не назначил нового (после Коропа) начальника полиции. Бухман сам стал руководить полицией, обращаясь в случае надобности к одному из двух уцелевших жандармов — сержанту Гершелю, который виртуозно матерился, смешивая славянскую ругань с немецкими словами, и владел десятком предложений той языковой смеси, которой вполне хватало для объяснений с местными полицаями. Да, собственно, в те дни Бухману некем было и руководить, так как основной состав полиции целыми днями, а то и неделями находился где-то в облавах, в действии. И только кое-кто из них порой показывался в райцентре с новым «пополнением» арестованных и задержанных, чтобы потом снова надолго исчезнуть. В помещении полиции оставалось трое, иногда — пятеро полицаев для охраны прочно запертых и зарешеченных камер. Их вполне хватало для внутренней охраны. Нападения же со стороны на полицию, находящуюся в центре селения, переполненного и днем и ночью маршевыми войсковыми частями, никто себе и представить не мог. Две камеры в полиции и одна в жандармерии ежедневно пополнялись новыми жертвами. Арестованных в эти дни и не допрашивали. Разве что в случае особенной необходимости для выявления связей. Однако задержанных по «профилактическим соображениям» систематически истязали, избивая до потери сознания, и обливали ледяной водой прямо в камерах; избивали всех, кто попадал под руку, сколько успевали за время, отведенное на такие экзекуции. Со всем этим управлялся сам Бухман с помощью двух своих жандармов и нескольких особенно лютых, которым уже море крови было по колено, убийц-полицаев. Худенький и щупленький Валерик Нечитайло, подчас издали наблюдая за экзекуцией, бледнел и каждый раз приходил в ужас при мысли, что не выдержит, а то, теряя рассудок, и сам бросится на палачей. Пока спасало его только то (правда, не радуя ни Макогона, ни Яринку), что его, как неопытного и непроверенного, в большинстве случаев ставили на наружные посты — у мостика через речку или в караулке самой полиции в паре с кем-нибудь из старших. Еще совсем юный, мягкий характером, не задиристый комсомолец, подвернувшийся под руку Макогону в нужный момент, он, как и Яринка, чуть не плакал, готовый идти куда угодно, хоть на верную смерть, только бы не в полицию. Теперь, встречаясь иногда с Яринкой на улице, на ступеньках комендатуры или на крыльце полиции, Валерик откровенно жаловался девушке: — Жду не дождусь, когда это для меня хоть как-то кончится… Боюсь… Если будут посылать дежурить к камерам, просто не выдержу. О, ты себе и представить не можешь!.. Даже и подумать страшно, что это такое — дежурить возле камер… А Дитрих за те несколько дней, как был уничтожен Гейншке и повешен Короп, — хотя и его иногда привлекали к «делам», а то и посылали на довольно опасные операции «местного значения» — словно ожил. С его лица сошла серая бледность, что не сходила с него и после того, как черный самум перекинулся в другие районы. К нему даже вернулся его мрачный юмор. Как-то он снова усмехнулся, правда, довольно кисло, и попытался по-прежнему подшутить над Яринкой: — Слушайте, фрейлейн Иринхен, если вы не разведчица, то неужели же вы в самом деле не побоялись в такое время пойти ко мне на службу? — Не понимаю? — уже совсем не боясь его и даже не уважая как воина и офицера, спросила Яринка. — Ну, как же… До вас ликвидировали и убрали от меня двух переводчиков. И я уверен, что все это не так просто, что это — дело рук ваших подпольщиков… — Я об этом и не подумала, — пожала плечами Яринка. — В самом деле?.. Вы так думаете? — переспросила она с притворной наивностью. — В самом деле… — Все равно я не боюсь… Мне все это как-то… безразлично. — О-о-о! Фрейлейн Иринхен такая смелая? Или, может, такая пессимистка? — Ни то, ни другое… Скорее, фаталистка. — Вы не верите в свою смерть? Или вас поддерживает какая-то ненависть, какая-то… как бы это сказать… идея?.. — Возможно, что и то и другое… — А все же… Если вы не разведчица, то что же на самом деле привело вас сюда? Вы разделяете хоть немного то, что называют идеями нацизма, или?.. — Они мне безразличны. — Тогда просто нелюбовь или ненависть к большевикам?.. — Не могу этого сказать… Ведь я воспитывалась у них, среди простых крестьян, и польской помещицей себя никогда не чувствовала и не чувствую… Еще не успела почувствовать. Просто надо как-то жить, что-то делать. А у вас нашлось место… Дитрих умолк, задумался, то ли поверив, то ли обдумывая сказанное. Потом, казалось, забыл об этом разговоре и вдруг снова возвратился к нему. — А вы… вот вы сами верите сегодня, сейчас, в нашу победу?.. — Его все больше и больше интересовали именно такие вопросы. — Как вы смотрите на это? — А я не генерал, не политик и не стратег, — уклончиво ответила девушка. — Вы очень хитрый политик, фрейлейн Иринхен, — погрозил пальцем комендант. — Можете меня не бояться. Я хочу знать, что вы по этому поводу думаете на самом деле… — А я просто не хочу думать о таких вещах. Об этом больше надо вам думать. Я обычная женщина. Какой из женщины может быть воин или политик?.. Войны ведут и, кстати, отвечают за них мужчины. — О-о-о! Я не ошибся! Вы — хитрая девушка. И — все больше и больше убеждаюсь в этом — смелая девушка! И все тверже склоняюсь к мысли, что если вы случайно и не разведчица, то… подпольщица уж наверняка… Вы все тут — подпольщики, разведчики, партизаны, как говорит Бухман… Так вот, несмотря на вашу смелость, советую, однако, вам быть более осторожной. — Спасибо, — равнодушно, иронически поблагодарила Яринка, внутренне похолодев. — Ваша воля. Думать человеку не может запретить никто и никогда… Так вот, что хотите, то и думайте… Яринка оборвала разговор. Дитрих снова долго молчал, потом зевнул, заговорил уже будто сам с собой: — А этих… подпольщиков и даже вооруженных партизан вылавливают и привозят сюда все больше и больше… И наших… не говоря о полицаях, в этих мелких стычках только за последнюю неделю погибло семнадцать немцев. Это — полвзвода, пани Иринхен.
События развивались с нарастающей стремительностью. Все на сотни километров вокруг жили одним событием, подчас не зная не только его подробностей, но даже общих очертаний, жили великой Корсуньской битвой и так или иначе (каждый лагерь по-своему) ориентировались на нее. Сапожников предупредил своих разведчиков — надо быть сейчас особенно осторожными и особенно бдительными, Однако работа из-за этого не должна приостанавливаться. Наоборот, разведка должна сейчас действовать еще интенсивнее, хотя и во сто крат осмотрительней. Людей арестовывали, везли, вели, гнали и волокли, заполняя тюрьмы в окружающих районах. И тюрьмы в конце концов всюду, как и в Новых Байраках, переполнились так, что теперь бросали туда лишь самых опасных для рейха врагов. Всех других загоняли за проволоку опустевших в то время концлагерей, сохранившихся с сорок первого года. Больше стало прибывать колонн изгоняемого населения с востока. Теперь гнали людей из Приднепровья, ибо все Левобережье уже было освобождено. Одновременно или вперемежку с этими колоннами потянулись на запад остатки разбитых немецких частей, какие-то тыловые эвакуирующиеся учреждения, санчасти и толпы легко раненных немецких солдат, которые, не найдя места в машинах, увязавших в грязи, пробивались на запад пешком. Поток немецких войск на восток с какого-то времени начал мелеть, словно пересыхал. Новых, свежих частей, которые бы спешили на восток, с каждым днем становилось все меньше. Первым из известного Яринке и ближайшего к ней подполья еще в начале большой облавы попал в руки гитлеровцев Иван Бойко. Он уже более двух лет жил на полулегальном положении, превращаясь из подпольщика в партизана лишь в случае особой необходимости. Его захватили в короткой стычке под Балабановкой. Тяжело раненного. Вынести его из боя товарищам не удалось. И он, беспомощный, истекающий кровью, попал во вражеские руки. Его бросили в грузовую машину и отвезли не в Подлесное и не в Терногородку, а почему-то в скальновскую полицию. Позднее Валерик Нечитайло услыхал от полицаев и передал Яринке, что в той машине вместе с немцами, захватившими Бойко, был и ее бывший соученик, а теперь начальник скальновской полиции Дуська Фойгель. В том же балабановском бою был убит руководитель терногородской группы «Молния» Роман Шульга. Труп его привезли в Терногородку и бросили на страх всему селу посреди улицы, напротив концлагеря, в котором и сидит сейчас Яринка… В те же дни, несколько позже, арестовали в Терногородке и двух совсем молоденьких участниц подполья, бывших учениц — Клаву Тараненко и Мотю Полотай. Сначала их держали в Терногородке, потом по каким-то своим соображениям перевели в Новые Байраки. Мотя и Клава попали в женскую камеру полиции и сидели теперь как раз напротив комендатуры. Яринка через Валерика знала почти все о девушках: и как они чувствуют себя в тюрьме, чего от них добиваются на допросах, и вообще все, что девушки могли передать через «своего полицая». И жандармерия, и полиция требовали на допросах сведений о руководителях и командирах «Молнии», о подпольной типографии, о разведывательно-десантной группе, о советском капитане с рацией. Добивались узнать его фамилию, потому что фамилии капитана Сапожникова, как оказалось, они не знали. Хотя и знали хорошо, чего хотят, кого разыскивают и ловят. Мотю и Клаву в полиции, наверное, считали молодыми, еще неопытными, только начавшими распространять листовки подпольщицами. Поэтому били сравнительно редко, почти ни разу не подвергая настоящему допросу. Обе камеры в полиции (так же, как, очевидно, и в жандармерии) были уже до предела переполнены измордованными людьми. Не было возможности лечь на полу, и люди сидели, тесно прижавшись друг к другу. А полицаи и немцы ходили, ступали прямо по людям, били по голове, по лицу, старались попасть в самые уязвимые места носками тяжелых сапог. Однако подпольщики как будто держались все, и держались стойко, надеясь на скорую ликвидацию Корсуньского «котла», быстрое наступление наших войск и освобождение. Уже в последние дни в женской камере появилась новая, невысокая, полногрудая девушка, скорее женщина, которую били не только в камере, но и по нескольку раз в сутки водили на допросы, подвергая особенно тяжелым истязаниям. В камеру ее бросали уже без сознания. И женщины, обтирая кровь на ней, переодевали в свое сухое, согревали и приводили в сознание. Случилось так, что больше других она привязалась к Моте и Клаве и не скрывала от них, что от нее добиваются сведений о группе капитана десантников и что она им ничего не сказала и никогда не скажет. Вероятно, Александра (так звали эту женщину) и в самом деле что-то знала, иначе жандармы не выделяли бы ее так среди других. С каждым днем Александра слабела все больше. На каждом допросе ее пытали, замучивали чуть не до смерти. И однажды — девушки рассказали об этом Валерику, а Валерик немедля Яринке, — придя в сознание после допроса через несколько часов, она обвела камеру помутневшими, полубезумными глазами и, узнав Мотю, чуть слышно прошептала: — Если бы… Если бы кто мог передать… отсюда… Может, есть какая возможность… Может, нас как-то спасли бы… А то… А то… Чувствую… Боюсь… еще один, другой… такой допрос, и я… Я могу не выдержать… Макогон приказал дать понять Александре, что ее услыхали, что слова ее переданы. Что «Сорок четвертый» (вероятно, так звали кого-то из руководителей) приказывает ей держаться до последнего, а он сам уже принимает необходимые меры. И именно в тот день, когда ей это передали, в разных местах было получено два приказа. Первый из гебита жандармерии и комендатуре: подготовить все необходимое к немедленной эвакуации и ждать особого распоряжения, не снимаясь с места без разрешения (за это — расстрел!) и не уничтожая (также до особого распоряжения) известных им объектов, которые не поддаются вывозу или перегону, ценностей и лиц. Второй из штаба фронта Советской Армии капитану Сапожникову: свернуть работу в данном районе, передвигаться далее на запад, подтвердить получение приказа. Кроме того, к вечеру в тот же день случилось еще два события разных масштабов, но одинаково важных для Яринки. В районах Подлесном, Терногородке, Новых Байраках и Скальновском началась уже последняя, наверное, большая облава с участием войсковых подразделений. И не только с целью поисков советских разведчиков, но и ради основательной расчистки пути для отступления остатков уцелевших «освободителей» Корсуньского «котла», в котором пускали уже последние пузыри, идя на дно, разрозненные группы когда-то больших и сильных немецких дивизий. Началась облава (по крайней мере, по Яринкиным наблюдениям, в Новых Байраках) в полдень. А к вечеру Макогон сообщил, что она освобождается от сбора разведывательных данных и поступает в полное его, Макогона, распоряжение для участия в освобождении арестованных из Новобайракской тюрьмы и спасения их от поголовного истребления ввиду неминуемого в ближайшие дни общего немецкого отступления.
Операция была назначена в ночь с понедельника на вторник. Надо было вообще поторопиться, да и обстановка складывалась к тому времени благоприятная. За день перед этим в районе Скального партизаны подорвали военный эшелон, и почти всю новобайракскую полицию и жандармерию бросили туда на расчистку пути и усиление облавы. В райцентре из постоянной немецкой администрации осталось всего два гитлеровца: Дитрих Вольф и шеф жандармского поста Бухман. При них — всего какой-то десяток полицаев, кроме случайных проезжих частей, которые иногда останавливались в местечке на отдых всего на два-три часа. Пять или шесть полицаев, находясь в личном распоряжении Бухмана, почти не отходили от помещения жандармерии. Еще пятеро под командой особо доверенного у жандармов толстяка из беглых днепропетровских полицаев Ковтуна, по прозвищу «Рыжая Смерть», дежурили в полиции. Ковтун, уже пожилой Сергей Нудлик и Валерик Нечитайло несли службу в самом помещении, а двое других должны были осуществлять наружную охрану. Валерик Нечитайло получил на ту ночь от подпольщиков совсем, казалось, несложное задание: не спускать глаз, каждую минуту знать, у кого и где хранятся ключи от камер, и в нужный момент, около полуночи, впустить в помещение полиции переводчицу коменданта Вольфа — Яринку Калиновскую. Операция должна была осуществляться тихо, по возможности не привлекая к себе внимания. И многое в ее успехе зависело от Яринкиной находчивости и решительности. Макогон, зайдя в воскресенье в комендатуру, так напутствовал девушку: — Ну вот… Считай, что служба твоя у Вольфа закончилась. Поработала ты хорошо, и волк тебя не съел… Кончится счастливо операция, и можешь плюнуть на своего коменданта, даже не прощаясь. Точного времени для начала операции не назначаем. Приблизительно только — где-то после двенадцати ночи. Однако сигналом для ее начала будет твое появление у дверей полиции. Вообще ты будешь действовать так: с самого утра в понедельник ни на мгновение не спускай глаз с полиции. Да и вообще — с улицы. Следи за всем, что там будет происходить, и запоминай. В течение дня раза три позвони в полицию и раза три побывай там. Придумай, что удобнее будет, лишь бы тебя там видели, слыхали и, так сказать, привыкли к твоему появлению у них. Потом, когда стемнеет, Дитрих твой из комендатуры исчезнет. (Я уж об этом позабочусь.) Выждав несколько минут, снова позвони полицаям, спроси, нет ли там Дитриха, которого будто кто-то разыскивает. Они, разумеется, ничего не будут знать. Но ты на это не обращай внимания и через какое-то время снова запрашивай: мол, разыскивают коменданта из гебита, спать не дают, звонят и звонят. Дитрих, если не случится чего-то непредвиденного, возвратится домой около полуночи и такой пьяный, что и на ногах не будет держаться. И тогда ты, уже заранее собравшись в дорогу, позвонишь в полицию в последний раз: «Возвратился, мол, мой комендант. Был, говорит, где-то в Подлесном, напился там и привез вам или Бухману какое-то важное письмо от тамошнего жандарма Мюллера… Сейчас я прибегу к вам и передам…» Потом, бросив пьяного шефа, который ничего из того разговора по телефону не поймет, перейдешь улицу и, если случайно тебе откроет не Валерик, во что бы то ни стало сделай так, чтобы тебя впустили в помещение. Это — самое главное. И с твоей стороны — все… Хлопцы ворвутся за тобой в полицию так, что и словом не успеешь ни с кем переброситься… С той минуты ты уже свободна. И тогда как можно быстрее пробивайся к «Раздолью». Вот и все… А там тебя уже будут ждать… — Макогон помолчал, подумал, не забыл ли чего, и добавил: — Ну вот… счастья тебе, дочка!.. Как говорят, не поминай лихом, а я тем временем побежал!.. До встречи в новой обстановке!..
Осуществлялся план с какой-то невероятной, заранее предусмотренной и, если не учитывать трагических обстоятельств, которые знала и переживала одна лишь Яринка, страшной последовательностью. Прохладный, солнечный, почти весенний день начался для Яринки предчувствием нового поворота в жизни, ощущением долгожданной акции, которая не пугала, а лишь подбадривала девушку своим острым напряжением. Именно такая работа была ближе ее характеру и ее боевым, если можно так сказать, наклонностям, чем будничный подсчет машин, колонн войск и (временами казалось) почти беспечная, почти не связанная с риском разведка. Куда-то исчезал, а потом снова возвращался Дитрих. Она уже успела дважды созвониться с Валериком и один раз сбегать в полицию, о чем-то там спросила, будто бы от имени коменданта, у Рыжей Смерти… После обеда Дитрих поехал с Гулей, и Гуля в тот день в комендатуру больше не вернулся. Где-то около трех часов Яринка снова решила позвонить в полицию и на этот раз поговорила с Валериком. Валерик переспросил и, удостоверившись, точно ли она, Яринка, это говорит, сказал, что коменданта у них не было и что если он появится, то Валерик скажет ему или позвонит ей. И что у них все по-старому. Рыжая Смерть спит в канцелярии полиции на диване, а они с Нудликом режутся в «дурака». Через каких-то полчаса Яринка решила снова сходить в полицию. Набросив внакидку на плечи шубку, простучав каблучками по цементным ступенькам комендатуры, она побежала через улицу, стараясь пройти по сухому и обходя глубокие, мутные, выбитые колесами машин колдобины. День был теплый, словно в апреле. Земля, деревья, крыши домов вокруг — черные и голые. А небо — чистое, синее, лишь кое-где расцвеченное сиреневыми пятнами облачков. За речкой над темными холмами низко висело красное, все еще слепящее солнце, разливая по синеве неба малиновый сок вечерней зари. Двери в полицию были открыты. Доски на крыльце — чистые, высушенные солнцем, как будто летом. Затем — темные, пустые сенцы, за ними — дежурка: голые, исцарапанные стены, два окна, ряд винтовок у стены в деревянной «пирамидке», изрезанный глубокими ровиками — следами острых ножей — старенький письменный стол, а слева — узенькие, раскрытые дверцы в канцелярию. В канцелярии такой же стол, черный продавленный диван, телефон и тяжелый — чугунный или стальной — зеленый сундук в углу, два покосившихся фанерных шкафа. Яринка знала: помещение полиции похоже на букву «Г» и поставлено к улице более длинной стороной. Посредине длинной стороны — крыльцо и сени, слева — дежурка и канцелярия, справа — кабинет начальника и комната следователей. Короткая сторона помещения примыкает к заросшему дерезой, бурьяном и давно уже не паханному огородику, спускавшемуся в вырубленные левады над пересохшей речушкой, или, точнее, ручейком. (За речушкой снова огороды, холм и кривая линия сельской улицы.) И в той короткой стороне, глухой, без окон, только с маленькими зарешеченными просветами, с тяжелой дверью в темный узенький коридорчик, — две камеры, мужская и женская. В коридорчике — две двери. Одна — узкая — в комнату следователей, а еще у́же, накрест окованная железными шинами — во двор… Забежав в дежурку, Яринка сегодня уже второй раз поздоровалась, крутнулась на высоких каблучках и пожаловалась, что весь день ей нет покоя, просто житья не дают, что Дитрих пропал, как сквозь землю провалился, а телефон прямо разрывается. Звонят и звонят из гебита. Яринка без умолку щебетала, лишь бы щебетать, приучала их к себе. И они (и не только сегодня) действительно к ней уже привыкли. Нудлик с Валериком, так и не поднимая головы, хлопали по зеленой, вернее черной от грязи и чернил, поверхности стола разбухшими, как вареники, замусоленными картами. А Рыжая Смерть, только что проснувшись в соседней комнате на скрипучем диване, чесал рукой заросшую густыми волосами раскрытую грудь и многозначительно скалил, глядя на девушку, прокуренные зубы. — Бегай, бегай, — зевая, процедил он, — за своим Дитрихо-ом!.. Если того… Если еще не набегала… Скривив рот, он снова широко и сладко зевнул. Яринка бросила на него сердитый взгляд, пожала плечами, тихонько сплюнула. Снова крутнувшись на каблучках, выбежала через темные сени на сухое, нагретое солнцем крыльцо и… остановилась, ослепленная лучами низкого солнца и еще тем, что она увидела, но во что поверить не могла: таким это было невероятным и страшным. Перед ней, у самых ступенек крыльца, зеленая, забрызганная жидкой грязью стена тяжелого грузовика с откинутым задним бортом. В кузове во весь рост — дваполицая с винтовками. Внизу, у откинутого борта, еще два полицая. А из кабины, хлопнув дверцей, выскочил жандармский шеф Бухман. В два прыжка он очутился на крыльце, толкнул Яринку локтем и стал рядом в дверях. Яринка пошатнулась, машинально переступила с ноги на ногу и, натолкнувшись на перила крыльца, словно завороженная, прикипела к ним немая и неподвижная. Стояла как лунатик, смотрела перед собой широко раскрытыми глазами, веря и не веря тому, что видит. Возле откинутого борта, на нижней ступеньке крыльца, перед Яринкой стояла, глядя на нее большими глазами на бледном худеньком личике, Настя-радистка. В обшитых черной кожей, еще Яринкиной мамы, валенках на босу ногу, простоволосая — прямые пряди рыжеватых косичек заплетены кое-как, — в накинутом на плечи стареньком, потертом кожушке. Этот кожушок был у них всегда под рукой, когда требовалось сделать более грязную работу, и висел на гвозде в сенях возле дверей. Взгляды их встретились на одно мгновение и сразу же разошлись. Жандармский шеф крикнул что-то резкое, злое, один из полицаев выпрыгнул из машины прямо на крыльцо, толкнул Настю кулаком в спину, и она, пошатнувшись и еле удержавшись на ногах, поплелась мимо Бухмана к дверям. Другие полицаи — один в кузове, а двое на земле — что-то или кого-то потащили из машины через открытый борт. Сначала показались ноги в стареньких сапогах, со сбитыми каблуками и порыжелыми, очень знакомыми голенищами, потом зеленые выцветшие солдатские штаны, короткий белый кожушок с распахнутыми полами и заломленные назад руки. Сбросив с машины человека, не подававшего никаких признаков жизни, на влажную землю, полицаи за руку и за ногу потащили его по ступенькам на крыльцо. Одна рука человека болталась, глухо стукаясь о ступеньки. И точно так же болталась на поле задравшегося вверх кожуха, глухо стучала о ступеньки непокрытая голова. Голова в поредевших, с залысинами на лбу волосах. Морщинистое, привыкшее к ветрам и солнцу и залитое кровью лицо, реденькие окровавленные усы. Мертво стукаясь о ступеньки крыльца, голова, словно это было во сне, проплыла всего на один шаг от Яринкиных ног… Окровавленная, родная, страшная, милая голова… Голова ее отца!.. Глухо, едва слышно простучала и исчезла. И все исчезло… Полицаи, Бухман, Настя… Даже машина отъехала так, что Яринка и не заметила. Стало пусто рядом, словно ничего и не было. Только красноватые солнечные лучи, отражаясь в лужах посреди улицы, слепили глаза, а за спиной тянуло (только в этот миг Яринка почувствовала!) ледяным холодом. Она долго стояла, как слепая, смотрела, ничего не видя, застыв на месте, убитая и потрясенная. Стояла, не понимая, что с ней происходит, еще не веря: видела ли она все это на самом деле, или ей только показалось?.. Может, это… Может, это все еще мерещатся кошмарные видения, которые теперь временами одолевают ее по ночам?.. Где-то застучал, загрохотал мотор, вывел ее из немой пустоты, из глухого забытья. Померцав, вдруг выплыла перед ней черная колдобина, затем она увидела черный ствол кривой акации и высокие цементные ступеньки комендатуры. Яринка, не отрывая ног от ступенек, как-то всем корпусом, головой вниз, будто в воду, ринулась с крыльца. Действительно ли видела… Или?.. Все равно — скорее, скорее отсюда, хоть и неизвестно куда и зачем… Все равно — скорее, бегом, как-то помочь, хоть и не знает, как именно!.. К счастью, ноги ее наконец-то распрямились, поддержали падавшее тело, и она, слетев со ступенек, побежала по улице назад к комендатуре, уже не выбирая дороги, прямо через глубокие колдобины и лужи.
Ни посоветоваться, ни поделиться с кем-то, ни тем более позвонить Валерику в полицию, когда там буйствует Бухман (может, именно в эту минуту он приказывает полицаю привести к нему и ее, Яринку), нечего было и думать. А что, если он и в самом деле пошлет за ней? И ее посадят? И она — если ей не привиделось, если она и вправду видела все это — ничем не сможет помочь ни им (она даже боялась подумать: отцу, Насте), ни в операции сегодня ночью?.. Может, лучше, пока еще есть время, бежать?.. Но куда и зачем? Ведь впереди эта ночь! И она, Яринка, им будет нужна. Теперь особенно нужна… «Нет, лучше ждать здесь, — решила девушка, чувствуя под локтем во внутреннем кармане шубки твердость Грицькова пистолета. — Ждать и следить… И действовать только в случае, если…» Все еще ошеломленная, убитая, она, почти не видя, зашла за стол, села у окна, уставившись взглядом на опустевшее крыльцо полиции. Ждала неизвестно чего. В голове роились мысли, несбыточные, безжизненные, как сухая осенняя трава. Реальные и совсем нереальные, расплывчатые, размытые, как дождевая вода на стекле. Мысли кружились вокруг того, что видела, или того, что мерещилось, далекие от всего этого, посторонние… Все время напоминали ей, как тиканье часов, что она ежеминутно, ежечасно должна делать, какие четкие и ясные задания должна выполнить сегодня и какие-то еще детские видения, когда она была еще совсем маленькой. Школа… Дедушка Нестор… Труба Скальновского сахарного завода… Девушки… Галя Очеретная… Черное, распростертое крыло вороны, еще живой, но уже полумертвой птицы. Фойгель… Дуська Фойгель — худощавый, злой, белоглазый парень, который все время преследовал ее и — она теперь уже знает — наводит страх во всем районе не только на взрослых, но и на детей. Жандармский палач… Начальник Скальновской полиции… Где-то там, уже вне ее мысли и сознания, в далеком и бездушном мире, заходило (потом, наверное, и зашло) солнце. Воздух за окном окутан холодной, прозрачной синевой. Стекла в окне совсем запотели. Она механически протерла одно и сидела, перебирая свои несбыточные мысли-видения, почти не ощущая ни себя, ни своего тела, ни своего существования и вместе с тем четко, выразительно помня, ни на миг не забывая, какой сегодня день и что и когда ей надо делать. Никто за ней никого не посылал и никто не приходил. Вероятно, того (если ей не привиделось) с ней еще вовсе не связывали. Ни того… ни… их… И когда уже совсем стемнело, с крыльца полиции сошел Бухман. (Выходит, было!..) А за ним несколько — двое, трое, четверо? — полицаев. Минуту постояли на крыльце, о чем-то разговаривая. Бухман закурил папиросу. Полицаи при нем закуривать не осмеливались. Постояли и все вместе исчезли в боковом переулке. Пошли в сторону жандармерии, а может, куда-нибудь еще. Значит, за ней еще не идут. И хотя то, что она видела, не сон, она должна ждать. Должна действовать и делать все, что ей приказано. Потому что, кроме всего, только это одно — если они еще живы — может спасти также и их… Никто — ни Дитрих, ни Гуля — так и не появились. И, вероятно, не скоро еще и появятся. Она неторопливо сняла трубку и позвонила в полицию. Отозвался высокий, по-юношески звонкий и как бы немного испуганный голос Валерика: — Слушаю!.. — Ну что? Моего шефа у вас так и не было? — Нет, — ответил Валерик и, по-видимому не найдя больше слов, молчал и часто дышал в трубку. — Беда мне с ним. Разыскиваю целый день, — ледяным голосом сказала Яринка, и, как ни хотелось ей услышать от Валерика хотя бы одно слово еще и о них, она даже не намекнула на это. Можно было бы спросить… так, между прочим: кого это к вам еще привезли? Не отважилась и тихо положила трубку. В комнате быстро стемнело. Пистолет оттягивал левый борт шубки, и она сползала с плеч. Кухарка, приоткрыв дверь, спросила, не будет ли Яринка ужинать. Она отказалась, тетя Христя, закрывая дверь, глубоко вздохнула. Яринка продолжала сидеть молча в темноте, у черного окна.
Так, молча, в темноте, просидела Яринка весь долгий-предолгий, как ей казалось, самый долгий в ее жизни, вечер. Она сидела и только иногда, пока окно еще серело, прижималась к стеклу и поглядывала на часы. И то, что и как постепенно менялось вокруг нее в большом мире, она запоминала как-то со стороны, невнимательно и механически. Но все почему-то так глубоко врезалось в память, что казалось, останется там уже навсегда, сколько бы она ни жила. Час, сутки, неделю или десятки и десятки лет… Солнце зашло где-то после шести. В седьмом за окнами застыла густая, с фиалковым оттенком синева. Только над контурами холмов по ту сторону села, над горизонтом, небо еще некоторое время казалось зеленоватым. В восьмом она еще раз, уже предпоследний, позвонила в полицию и спросила о Дитрихе. Тогда уже на притихшее село бесшумно опустилась непроглядная февральская, но уже по-апрельски теплая и звездная ночь. Тишина, впервые за несколько месяцев, была такой глубокой, такой необычной, что случайно попавший сюда человек и не подумал бы, что еще сегодня утром в этом черном провале улицы грохотали танки, проплывали потоки машин, стонали раненые, раздавались выстрелы, — одним словом, клокотала война, — и что где-то рядом, совсем близко, в нескольких десятках километров, доходил, докипал, истекая кровью, окончательно и безнадежно, уже не первый, но и не последний, стянутый тугим стальным обручем советских войск, немецкий «котел». Тишина и мрак поглотили одинокую девушку, и она будто растворилась в них, неподвижно оцепенев у окна, пропуская через себя в какой-то полуфантасмагоричности реальные и нереальные почти бредовые мысли-видения. Они наплывали на нее клокочущими, то холодными, а то удушливо-горячими волнами, казалось, независимо от ее желания и воли, хотя нисколько не мешали главному — ждать. Ждать Дитриха и ждать главного, что должно случиться в этот вечер и что должно начаться с ее появлением, словно по сигналу. Возможно, она дремала, отдаваясь течению тех причудливых дум-видений, временами вздрагивая, отгоняла от себя зеленый грузовик с задним откинутым бортом и то, что видела, хотя до конца, всем сердцем так и не верила в случившееся. Пожалуй, и в самом деле дремала, ибо не заметила, когда напротив, через улицу, из-за неплотно прикрытой ставни, пробился и упал, задрожав в лужах, луч желтого слабенького света. Значит, там не спали. По крайней мере, кто-то не спал. «Позвонить еще раз? Или хватит?..» Она хотела посмотреть на часы, но не смогла пересилить себя, подняться и зажечь свет… К тому же надо было опустить темную штору. А ей все это сейчас было совсем безразлично и ненужно. И то, который теперь час, в сущности, тоже не имело значения. Ведь главное начнется тогда, когда возвратится он. А позвонить еще раз, если надо, можно и позже, когда потребуется последний, решающий звонок.
Неожиданный, тяжелый топот кованых сапог по ступенькам застиг ее врасплох, словно разбудил. Девушка встрепенулась, кровь бросилась в лицо и залила щеки. В первое мгновение показалось, что по ступенькам вверх поднимается по крайней мере целое отделение солдат в кованых сапогах. И Яринка, на какой-то миг забыв, где она и что с ней, не зная, который теперь час, порывисто вскочила на ноги, почувствовав, как бешено застучало, быстро-быстро забилось сердце. «Тише! Спокойно!» — уже стоя на ногах, очнувшись, приказала себе Яринка, невольно вспомнив самое главное правило конспиратора: прежде всего в напряженный момент быть спокойной. И сердце действительно постепенно начало успокаиваться. Когда грохот из общего коридора ворвался в узенький коридорчик комендатуры, Яринка, успокаиваясь, поняла, что он — один. Один, но идет «по трем дорогам», такой пьяный, что и ноги его не несут. Сильное волнение, помимо ее воли, переходит в сдержанную напряженность всего существа. Она готова к встрече, к действию. Всегда имея под рукой зажигалку, Яринка рассчитанным движением руки зажгла большую керосиновую лампу. Потом, так и не сбросив шубки, вскочила на стул и, разматывая, опустила на окно бумажную непроницаемо-черную тяжелую штору. И когда соскочила со стула, стала спиной к окну, он уже стоял в дверях, в расстегнутой шинели, со сбитой на ухо, испачканной грязью новой фуражкой, в грязных сапогах. Стоял, пошатываясь на неустойчивых ногах, совершенно пьяный, бледный, с широко раскрытыми и все же будто слепыми глазами. Напряженно всматривался во что-то впереди себя, ничего, вероятно, из темноты на свету не различая. Затем через какое-то мгновение глаза его сузились, и он наконец увидел ее, вытянутую, словно приготовившуюся к прыжку, с порозовевшими от сдерживаемого волнения щеками и блестящими глазами. Увидел и сразу радостно, как-то растерянно, всем бледным лицом усмехнулся. — О-о-о! — начал он, но Яринка, увидев его состояние, решила не ждать ни минуты, не дала ему закончить и сама перешла в наступление. — О майн гот! В каком вы виде!.. А вас весь день разыскивают из гебита… — К черту гебит! — еще шире улыбнулся Дитрих своей полубезумной усмешкой. — Капут гебит!.. Он прикрыл дверь и бросил спадавшую с плеч шинель прямо на пол. — Меня просили, — продолжала смело Яринка, понимая, что он ничего проверять не будет, а если до чего и додумается, то будет уже поздно, — просили, сразу же как только вы вернетесь, — она предупреждающе положила руку на телефон, — позвонить в полицию или к Бухману… Бухмана Яринка назвала для важности. Ведь она собиралась звонить сама, и он бы все равно не понял, с кем и о чем она разговаривает. — К черту Бухмана! — вдруг сердито заревел Дитрих. — К черту полицию! — И, успокаиваясь, будто выдохнув с тем криком весь заряд энергии, добавил: — Все пошли к черту!.. Все… Аллес капут… Вы понимаете, аллес капут! Он сделал три шага и тяжело, всем телом, упал на стул. А она, подыскивая глазами, куда бы отступить, так и стояла, держа руку на телефоне. — Ал-лес кап-пут, — совсем тихо, будто прислушиваясь к звучанию и смыслу тех двух слов, снова проговорил Дитрих. Потом тряхнул головой, словно хотел стряхнуть вместе с фуражкой — она упала и покатилась по полу к столу — и непреоборимый хмель, уставился на девушку прищуренными глазами, сосредоточиваясь, что-то припоминая. И это ему, вероятно, на какое-то мгновение удалось, так как бледное лицо стало суровым и приобрело более или менее осмысленное выражение. — С-с-советую вам… лучше не трогать… Бухмана… Бухман тоже… капут и мертвец… Бухман… Бухман… — Он снова потерял свою мысль, еще раз напрягая внимание, качнулся вместе со стулом, вспомнил: — Бухман… Ты, — вдруг перешел он на «ты». — Ты знаешь, что Бухман интересуется твоей личностью. («Отец!.. Настя!..» — резко ударило Яринке в голову.) Т-так… твоей личностью… Пришел… пришла, понимаешь… Что-то пришло… оттуда… как это… Скальное!.. («Бойко!.. Очеретные!.. Дуська!..») Но… но мне все равно… Я тебе говорю… потому что… Я не на ци… Нет, не наци… Бухман!.. Но теперь уже все равно. Хмель, должно быть, снова залил его мутной волной, и он какое-то мгновение повторял, как испорченная пластинка: — Все равно… Все равно… Все равно… Теперь уже все равно… Все — капут, — произнес он раздельно каждый звук, пронизывая девушку острым, сосредоточенным взглядом. — Гитлер капут! «Котел» — капут… Бухман — капут!.. Взгляд его скользнул по Яринкиному лицу, сорвался вниз, в сторону и снова уставился девушке в переносицу. И, сразу вся похолодев, она увидела, как, не прячась и не исчезая, безумно заискрились, заиграли в его глазах те дикие, чувственные огоньки, одолеть, погасить которые он уже не мог и не хотел. — Все… Все… Аллес капут! — Он рывком вскочил на ноги. — Дойчланд — капут!.. Я — капут!.. И ты — капут!.. Аллес капут!.. И теперь уже… все… совсем безразлично!.. Капут!.. Балансируя руками, решительно ступая неустойчивыми ногами, он пошел прямо на Яринку, еще больше бледнея, сковывая безумным блеском глаз и повторяя: — Все равно… Теперь уже все равно… Аллес капут… Именно в этой ситуации и в это мгновение она такого не ожидала. Не подумала о таком, но, смертельно перепугавшись, не растерялась и бросила ему под ноги стул. Он споткнулся, видимо, больно ударился коленом, однако не упал. С пьяной прямолинейной хитростью человека, сосредоточенного на одной мысли, на одном желании, он сначала выругался, потом громко захохотал и, вместо того чтобы слепо броситься на нее, уже подготовившуюся и настороженную, неожиданно крутнулся на месте, чуть не упав, бросился к дверям, схватился, чтобы удержаться на ногах, за ручку, повис на ней и так, вися одной рукой, с усилием повернул ключ, вырвал его из дверей и бросил в карман френча. Потом, скользя сапогами по полу, уже не торопясь, все еще бледный как мел, уверенно пошел на нее, усмехаясь пьяно-безумной усмешкой и тихо, совсем шепотом, повторяя: — Все равно… Аллес капут… Теперь все равно всем капут… Бухман — капут… Может, ты разведчица, а может, и нет… Но мне… все равно… Все равно… И ты это должна понять… Слышишь, девушка… Да… Но ей именно теперь, именно в этот миг было совсем небезразлично, как долго будет продолжаться эта гадкая, эта пьяно-трагическая сцена. Ведь ее уже с нетерпением ждут! Кричать? Пристрелить? Мысли проносились торопливо, стремительно. Но ведь крик, выстрелы могут сорвать операцию… Она снова, бросив ему стул под ноги, прижалась спиной к стене и, схватив руками тяжелое мраморное пресс-папье, приготовилась отбиваться молча, решительно и отчаянно. Теперь стул свалил Дитриха с ног, но ударить пресс-папье по голове она так и не успела. Зато он сумел, падая, с хохотом схватить и потянуть ее за ногу. Яринка упала, больно ударилась боком об угол стола, шубка сползла с плеч. Услыхала глухой стук тяжелого пистолета об пол, но ничего сообразить не успела. Сразу же, молниеносно поднялась. Но на ногах был уже и он… Крепко сжав зубы, Яринка отбивалась руками. И хотя Дитрих был пьян и ноги его неустойчиво скользили по полу, какая-то дикая, прямо железная сила чувствовалась в его твердых и цепких руках. Он во что бы то ни стало пытался схватить ее за руки, обнять, стиснуть. А она упрямо отбивалась… Ей повезло. Упершись руками в грудь Дитриха, собрав все силы, отбросила его далеко от себя, но в то же время выпустила из рук пресс-папье. Дитрих покачнулся назад, сбалансировал и, пока она нагнулась за пресс-папье, с дикой ловкостью бросился на нее. Выпрямляясь, Яринка больно ударила его головой в подбородок. Он сдержанно застонал, упал на колени и сразу (она не подготовилась к этому) обхватил ее ноги своими железными, как клещи, руками и потянул на себя. Яринка рванулась назад, поскользнувшись, упала навзничь, ударилась затылком обо что-то твердое. Боль, от которой потемнело в глазах, сразу окутала ее мраком, и на какое-то мгновение Яринка потеряла сознание.
Сознание возвращалось быстро, молниеносными рывками-сполохами: пронзительным, далеким звоном в ушах, острой болью в висках, чем-то твердым, неудобно жавшим под левой лопаткой. И еще — руки… Крепкие, хищные руки, ледяным холодом обжигая тело, нетерпеливо рвали на ней одежду. И оттого — чувство омерзения, удушающий страх и злость. Не успев и подумать, она инстинктивно уперлась обеими руками во что-то каменное, неподатливо-тяжелое (грудь? лицо?!) и отчаянно, изо всех сил рванулась. Острая вспышка невыносимой боли в голове ослепила и снова затуманила сознание. А затем — слабость, страшное чувство полного, отвратительного бессилия. И холодная, ужасная своей беспомощностью мысль: «Ну вот… теперь в самом деле конец…» Мысль об этом сразу вызвала новый приступ отчаяния и гнева. Ненавидя свое бессилие, она отрывала его руки, царапала его, а он снова ломал ее, дышал в лицом смрадом водочного и табачного перегара. — Все равно не уйдешь… Ка-апут… Слышишь? Аллес ка-апут. В тяжком, удушливом чаду, теряя остатки сил, она всем существом яростно защищалась. Нет!.. Ни за что! Пусть лучше смерть!.. Только не это… Нет! Отталкивая его голову, изворачиваясь, она почувствовала, как что-то жесткое остро врезалось ей под левую лопатку. И сразу притихла. Совсем, как ему могло показаться, обессилела, сникла… Рука ее упала на пол и потянулась за плечо… «Нет!.. — забилась в ней радостная надежда. — Овчарка?.. Нет! Уже нигде и никому ты не скажешь этого слова! И обо мне тоже никогда!» Она не ошиблась. Рука нащупала твердый спасительный холод металла. Он, наверное, ничего не успел понять. Достав из кармана шубки пистолет, Яринка наугад ткнула им Дитриху в бок… Выстрел раздался глухо, почти неслышно, так, словно кто-то недалеко сломал сухую ветку… Потом, пройдя несколько шагов дрожащими ногами, не удержалась и упала на диван, откинув голову. Лежала растерзанная, не выпуская пистолета из руки, уставившись в потолок безумным взглядом широко раскрытых, помутневших глаз. Лежала, ощущая всем телом лишь одно — гадкие, которые, казалось, ничем и никогда уже не смыть, следы прикосновений его скользко-холодных рук… Лежала, пока не превозмогла слабость разбитого тела силой разума и долга. И затем медленно поднялась на ноги. Пытаясь не смотреть туда, не оглядываясь, кое-как привела в порядок свою разорванную одежду. Механически пригладила ладонью волосы и, глядя себе под ноги, чтобы ничего иного, кроме клочка пола перед собой, не видеть, подошла к окну. Потом подняла и надела в рукава свою шубку. Достала из кармана и натянула на голову синий беретик, быстро, но старательно заправила под него волосы, будто умываясь, провела ладонями обеих рук по лицу. И только после этого подняла пистолет на уровень глаз и дослала новый патрон в патронник. Это движение словно придало ей решимости, поставило все окружающее на свое место. Яринка, уже ничего не боясь, не остерегаясь, твердо посмотрела прямо туда. Он распластался на полу лицом вниз. Ей видны были его приподнятые плечи, аккуратно подстриженный затылок и оттопыренное твердым воротником френча побелевшее ухо. Страха она уже не чувствовала. Но все же, чтобы не видеть крови, подошла к нему боком, отвернув голову, наклонилась, безошибочно в правом кармане френча нашла ключ. Только потом, выпрямившись и повернувшись к нему спиной, позвонила в полицию. Там сразу взяли трубку. Отозвался, видно, тот самый Ковтун — Рыжая Смерть. — Это снова я, Калиновская, — спокойным голосом сказала Яринка. — Слушайте, мой шеф только что возвратился… Он пьян, как свинья… Но у него есть какое-то письмо к пану Бухману или к вам, и он здесь бесится, требует передать его немедленно. Нет, Бухмана беспокоить не буду. Лучше перебегу через улицу. Это, наверное, не так страшно. Пусть только кто-нибудь из вас откроет двери… Что? Хорошо, хорошо! Она положила трубку, не оглядываясь, подошла к дверям, отперла их. Подумала, что следовало бы вернуться и погасить свет, но не отважилась. Вышла, старательно заперев за собой дверь кабинета. Входную дверь с улицы Дитрих оставил незапертой. Яринка плотно прикрыла ее и вышла на улицу…
В полиции, когда она поднялась на крыльцо, ее, оказалось, уже ждали. — Кто там? — спросил в ответ на ее легонький стук в дверь Ковтун. Спросил хриплым, приглушенным голосом, явно настороженно. — Я, я! — нетерпеливо повторила Яринка. Открывать ей не торопились. Рыжая Смерть чего-то побаивался и держался осторожно… Стукнул железный крюк, заскрипел ржавый засов, звякнул ключ. Дверь еле-еле приоткрылась, и в темной щели отверстия Яринка различила белое пятно руки, которая так и не отваживалась отпустить приоткрытую половинку дверей. — Ты, Калиновская? — еще тише и настороженнее спросил Ковтун. Ответить ему девушка не успела. Она ничего не знала, ничего не слышала, когда шла сюда. Не уловила тихих шагов за спиной на крыльце (люди, вероятно, уже стояли там по темным углам по обе стороны дверей и ждали ее). Она услыхала, как вдруг, словно сама собою вырвавшись из Ковтуновой руки, рванулась наружу и ударилась о стену окованная железными листами половинка двери, а сама Яринка, словно сдуло ее ветром, полетела от сильного толчка куда-то вперед и потом в сторону, в темноту. Что-то рухнуло, кто-то отрывисто крикнул и сразу захрипел, кто-то больно наступил ей сапогом на ногу, двое — друг за другом — пробежали мимо Яринки. — Сюда! Кто-нибудь — сюда! — с удивлением услыхала она из темноты приглушенный детский писк. Что-то грохнуло, что-то потопталось, тяжело засопело впереди, а потом послышался густой, спокойный голос: — Все… Можешь светить. Оказывается, те, что из-за Яринкиной спины неожиданно вырвали дверь из Ковтуновых рук, вытянув сначала себе под ноги и самого Ковтуна, толкнули девушку в сенцы, отбросили в сторону к стене и, врываясь в помещение полиции, сбили с ног. В помещении перед тем, как Ковтун, поговорив с ней по телефону, подошел к дверям, пожилой Сергей Нудлик дремал на черном диване, а Валерик Нечитайло сидел у стола, на котором горела большая керосиновая лампа… На стук в дверь хлопец задул, как и было ему приказано заранее, лампу и, от волнения не рассчитав, больно — «даже искры из глаз посыпались!» — ударившись бедром об угол стола, бросился на оцепеневшего, ошеломленного такой неожиданностью Нудлика, который даже и не пытался сопротивляться. «Сюда! Кто-нибудь сюда!» — возбужденный и напуганный необычайностью событий, позвал Валерик, и сдавленный голос его и приняла Яринка за детский писк. Теперь, при свете лампы, которую дрожащими руками снова зажег Валерик, первым из темноты попал Яринке на глаза он — бледный, напуганный, и вправду он показался ей совсем ребенком. И еще показалось ей сгоряча, — что в канцелярии и дежурке полным-полно людей. По крайней мере десятки! Хотя на самом деле было их там пятеро или шестеро. Приказывал всем и деловито и неторопливо распоряжался всеми кто-то невысокий, широкоплечий, в смушковой с наушниками шапке, в заношенном и жестком, как железо, брезентовом плаще и больших сапогах. Прямо перед Яринкой на пороге дверей в канцелярию головой к столу лежал Ковтун Рыжая Смерть. Лежал неподвижно, из-под пряди давно не стриженного ярко-рыжего чуба на лоб и лицо медленно ползло что-то черное, густое. Дальше, в глубине, освещенное лампой, белело совсем детское личико Валерика — острый, небольшой нос, худые, запавшие щеки. Почему-то непогашенная зажигалка дрыгала в его дрожащей руке, наполняя неясными, мелькающими тенями людей все помещение… — Валерик, к телефону, — приказал коренастый, в брезентовом дождевике. — Да погаси ты к чертовой матери эту игрушку… Яринка, зажмурив глаза, переступила через Ковтуна и подошла к столу. На протертом диване лежал связанный бечевками Нудлик, вытаращив на Яринку округлившиеся бельма глаз, которые, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Рот ему забили какой-то грязной тряпкой. — Ключи! — потребовал коренастый в дождевике и терпеливо, спокойно выслушивал путаные объяснения Валерика о том, что ключи должны быть в зеленом железном сундуке, а ключ от сундука в кармане у Ковтуна. Ключ искали где-то за спиной Яринки так долго, что, кажется, не выдержал уже и тот, в дождевике: — Хлопцы, пошевеливайтесь быстрее! Своим спокойствием он доводил Яринку, на которую никто не обращал внимания, до отчаяния. Она стояла, судорожно сжав кулаки, и мелко дрожала от напряженности и нетерпения. — Подожди… Ты, хлопче, успокойся, — снова сказал Валерику широкоплечий в дождевике. — Если вдруг позвонят — отвечай так, словно здесь ничего не произошло. А ты, Микола, если будут рваться в двери, расспрашивай, кто да что, и… тогда впускай. Ну? — обратился он снова к тому, кто где-то там, за спиной у Яринки, искал ключ в Ковтуновых карманах. …Только теперь, сидя в холодной темноте коровника и вспоминая все, Яринка поняла, что особенно волноваться в полиции тому коренастому, в дождевике, необходимости не было. Кроме того, он ко многому уже привык; тут, на десятки километров, пока проводилась массовая облава, в которой принимала участие вся новобайракская полиция, вокруг хозяйничала «Молния». Готовая к действию, невидимая, пешая и конная «Молния». Она блокировала жандармерию (хотя Бухман с малочисленной охраной на улицу и носа не покажет), сняла наружную охрану возле полиции, караулила на дорогах за селом на случай появления какой-нибудь непредвиденной немецкой части, сторожила на улице, в огородах и левадах вокруг полиции, ожидая освобождения арестованных, чтобы сразу переправить их в надежные убежища, спасти обреченных, а когда все кончится — незаметно разъехаться, разойтись по домам и, припрятав оружие, лечь спать. Потом… (Что было «потом», Яринке страшно было восстановить в памяти, страшно об этом даже подумать, ибо все это, не утихая ни на минуту, пронизывало ее нестерпимой болью и сейчас, уже через сутки после этого «потом».) Ключ от железного сундука все же нашли… В сундуке-сейфе оказалась целая связка ключей на большом кольце из стальной проволоки. И вот уже все, а с ними и Яринка, через кабинет начальника и комнату следователя бросились в темный коридорчик, в который из камер выходили две окованных железом двери. Там, за дверьми, сначала было тихо, как в склепе. Лишь когда в коридорчике затопали сапогами по полу (как оказалось, туда зашло всего трое, и ни одного знакомого Яринке) и звякнуло железо замков, в камерах началась тихая и оттого особенно жуткая суета. Там думали, что приближается время очередного избиения или допроса, а успокаивающие слова коренастого в дождевике сквозь дверь в камеры не доходили до заключенных или люди им просто не верили… Вначале Яринка, теряя рассудок от нетерпеливого желания скорее во всем разобраться, так и не могла понять, что же на самом деле происходит в коридорчике, что, собственно, еще случилось. Почему подпольщики, повозившись у одних дверей, да так и не отперев их, перешли к другим? И почему они так долго там копаются? И уже значительно позже, когда открыли женскую камеру и начали выводить на улицу женщин, и когда, прижавшись к ней дрожащим худеньким тельцем, что-то растерянно и тревожно лепетала Настя-радистка, когда, наконец, вывели даже тех двух молодиц, которые ни за что не хотели бежать (зная, что за самогон и спекуляцию ничего не будет, а за побег, если снова поймают, — расстрел!), и когда все почему-то снова собрались в канцелярии у телефона (и она с Настей), — Яринка только тогда поняла весь ужас, всю страшную правду того, что случилось!
За то долгое время, пока люди возились у дверей камер, Настя, захлебываясь от волнения, глотая слова, успела второпях рассказать, как все случилось. Они — группа капитана Сапожникова — получили приказ перебазироваться дальше на запад. Настя передала в штаб последнюю радиограмму о том, что приказ принят, Яринкин отец снова спрятал в зеленый улей Настину рацию. Улей еще с осени он держал в сарае, там же лежало сено, старновка и два десятка еще недомолоченных снопов ржи… Вчера после обеда бабушка Агафья со слезами начала собирать Настю в далекую неизвестную дорогу. (Ночью за девушкой должна была заехать подвода.) Нашли большую полотняную торбу, положили в нее хлеб, сало, пирожки с сахарной свеклой и калиной, налили банку меда. Яринкин отец стоял у посудного шкафчика и немцев увидел первый. Увидел и сразу все понял… Настя еще не сообразила, что к чему, а Калиновский, с ходу бросив: «Сидите тихо. Я сейчас…», бросился к дверям в сени. Бабушка Агафья, не послушав его, рванулась к окну. И в этот именно миг ударила по окнам автоматная очередь. Бабушка и вскрикнуть не успела, упала на лавку и уже оттуда сползла на пол. Донес ли им кто-нибудь, выследив, или они запеленговали рацию — этого Настя не знает. Знает только, что когда ее поставили на ноги и начали бить, допытываясь, где рация, не в сарае ли она, сарай уже горел… Калиновский все же успел под пулями перебежать к нему и поджечь изнутри. Охваченный дымом и пламенем, старый сарай пылал со всем своим скарбом — сеном, снопами, ульями, рацией и пчелиными роями. Яринкиного отца ввели в хату уже истерзанного, в крови. Били его нещадно. Били сильнее, чем ее — Настю. А он все твердил, пока не потерял сознания, что ничего не знает, не понимает и слова такого «рация» не слыхал. А сарай, наверное, загорелся от их пуль. Они обшарили весь двор, хату, чердак, заглядывали в колодец, прочесали вокруг хаты кусты, а потом бросили Настю и уже потерявшего сознание Калиновского в кузов зеленой полуторки и помчались в Новые Байраки. А когда выезжали из леса на дорогу, огонь с сарая перебросился и на хату. Потом Настю били еще и тут, в полиции. Отец… Она так ничего и не знает о нем. Наверное, живой, но без сознания. И вот теперь, когда Настя уже здесь и осталось только отпереть двери и спасти отца, оказалось, что ключей, которые всегда висели на одном стальном кольце, ключей от мужской камеры нигде нет…

Растерянный Валерик ничего не мог объяснить и твердил только одно: ключи, как и всегда, были в зеленом сейфе на стальном кольце. Сам Бухман взял это кольцо из рук Ковтуна и сам же потом возвратил Ковтуну после того, как запер в камеры арестованных. Что случилось с ключами, где они, куда исчезли, Валерик ни понять, ни объяснить не мог. Знал только: должны быть на кольце и должно быть их даже четыре — от двух внутренних замков и двух висячих — тяжелых, будто колоды, круглых, как на железных путах. Ничего не добившись от Валерика и навеки заткнув шкворнем рот Рыжей Смерти, вспомнили наконец о Нудлике и вырвали у него изо рта кляп. Он, словно обезумев, какое-то время так и держал рот раскрытым и перепуганно водил выпученными, покрасневшими глазами. Только после двух оплеух, которые ему щедро влепил тот, в брезентовом плаще, Нудлик икнул, в горле у него булькнуло, и он заголосил, моля о пощаде, — ведь у него малые дети. Не запомнила Яринка, после какой оплеухи Нудлик наконец сообразил, чего от него требуют, и пояснил, что еще там, в коридорчике, когда заперли обе камеры, ничего не узнав ни от девушки, ни от человека, потерявшего сознание, Бухман подумал и собственноручно снял со стального кольца и положил себе в карман все четыре ключа от мужской камеры. В полицейской канцелярии стало так тихо, что все услыхали, как под закопченным, треснувшим стеклом едва слышно гудит, вспыхивая на круглом фитиле лампы, присыпанный солью бензин. И только теперь коренастый в брезентовом дождевике (и, как заметила только что Яринка, с рыжими, коротко подстриженными усами) увидел двух девушек: одну чуть постарше, а другую — совсем молоденькую. — О!.. А вы зачем еще до сих пор здесь? Голос у него еще и тогда (это она запомнила на всю жизнь), да, еще и тогда голос у него был спокойный. — Никуда я… без отца, — ответила Яринка твердо, — никуда, пока камеру не откроете, не пойду. Человек в дождевике ничего не ответил, будто согласился, сразу же обратился к кому-то из своих и приказал тоном, не допускающим возражений: — А эта? Ты — Настя, да? Эту — немедленно! Немедленно же, Микола, веди! Ее там уже ждут знаешь как! Кто-то оторвал Настю от Яринки и увел куда-то в темноту… Кто-то предложил поднимать двери ломом. Лома не было, они к этому не готовились, но те тяжелые двери не поддались бы даже и лому. Кто-то вспоминал Бухмана, сожалел, что взять его сейчас не хватит сил. У него в подвале в окнах три пулемета установлено, и времени уже мало… Кто-то куда-то сбегал, что-то принес. Кто-то собирался подорвать двери гранатой, а другой не позволял, считая, что это тоже ничего не даст. Суетились, бегали, чем-то бухали. Яринка едва воспринимала все, порой забывая, где она и что с ней. Стояла ошеломленная и время от времени повторяла: «Татоньку!.. Татусю!..» — Хлопцы!.. Луна!.. Луна всходит, говорю!.. Ну, хоть стреляйся!.. Голос был тревожный, исполненный невыразимой печали, боли, совсем не похожий на голос того коренастого, в дождевике. Но произнес эти слова именно он… Значит, они должны отходить, оставляя камеру с отцом и всеми арестованными на верную смерть. Отходить, чувствуя приближение утра и полное свое бессилие хоть чем-то помочь. И они отошли, пристрелив Нудлика. Яринку из коридорчика во двор просто вытянули. Она упиралась, цеплялась руками за замки на дверях камеры, за косяки, вскрикивала: «Татоньку!.. Татусю!..» Только где-то внизу огорода, среди каких-то кустов на болоте она наконец пришла в себя и сказала: — Идите… У меня приказ, и я сама знаю, что мне делать. Идите… У нее и в самом деле был приказ пробиваться к «Раздолью». И сказала она об этом, не называя, правда, точного места, соврав (обманывая и себя, и их), таким твердым голосом, что они поверили. И Яринка действительно пошла. Пошла она в темень, едва начавшую сереть в свете низкой красной луны. Пошла в «Раздолье». И может быть, даже дошла бы…
Однако ее остановили. Остановили случайно, когда она переходила дорогу возле Солонецкого хутора и не заметила заставу на размытом мостике в балке. Не заметила, потому что шла как во сне и все на свете было ей безразлично. А опасности для себя она уже нигде ни в чем не видела и не боялась. Остановил ее полицай, вероятно, в десять часов на следующее утро. Поодаль стояло еще двое с автоматами и собакой. А возле них — толпа людей, человек десять, тоже, видно, задержанных. В боковом кармане у нее был пистолет. И в обойме патроны — все, кроме одного, израсходованного на Дитриха. И документ на пистолет, подписанный тем же Дитрихом. Но она ничего не показала. «Как же это я вот так по-дурному влипла?» — подумала о себе безразлично, будто о ком-то совсем постороннем и чужом для нее. А тем ответила, что документов при ней нет, а идет она из Скального в Балабановку к сестре. Ее не обыскивали. Много времени потребовалось бы полицаям, и мало их было, чтобы в такое время обыскивать всех задержанных девушек и женщин. И все же ее не отпустили, приказали: становись вон к тем, а там разберутся. И затем повели. Не в Балабановку, хотя туда вроде было и ближе, и не в Подлесное, а почему-то (верно, сами были оттуда) в Терногородку. Добрались они в Терногородку уже к вечеру. Возле полиции какой-то низенький, сутулый, с кривыми «кавалерийскими» ногами, в хромовых сапогах, в кубанке и белом кожухе, бегло оглядев задержанных, криво усмехнулся. — Местов, братцы, не хватает в полиции, — сказал он полицаям. — Разве в три яруса укладывать или… прямо в расход… — Какое-то мгновение он еще ощупывал острым взглядом узеньких прищуренных глаз людские лица. — Мне — вон того, — показал он рукой на кого-то. — Подозрительным кажется, надо прощупать скорее. А этих всех пока что в лагерь, в коровник. Потом разберемся. Нет, братцы, местов… Они снова почти через все село побрели к тому ужасно знакомому ей лагерю. За проволоку их ввели уже в темноте. Одновременно с ними в широко раскрытые, оплетенные колючей проволокой ворота вливалась серая, понурая колонна с шоссе. Колонна изгнанных с Приднепровья, из задуманной гитлеровцами, хотя и далеко не везде осуществленной, «зоны пустыни».
Пока месила ногами грязь, согрелась и в лагере какое-то время просто отдыхала с дороги. Потом, остывая, почувствовала, как, пронизывая насквозь, ее измученное тело сковывает холод, а вместе с ним приходит какая-то болезненная ясность мыслей. Теперь ей начинает казаться, что в большом мире для нее ничего не осталось. Только холод, острая боль бессилия и безнадежности, понимание ужасной непоправимости всего, что случилось. Холод проникает все глубже и глубже, оседая невидимыми льдинками где-то на самом дне души, в самом сердце. Отец! Отец, который остался там, в Новых Байраках, без сознания, может, и неживой. Она так и не смогла и, главное, уже никогда и ничем не сможет ему помочь. А спасение казалось таким близким и таким легким. Вместе с холодом, с болью, с этими мыслями в ее сознание незаметно входит давнее, но в то же время и новое, понятное и такое естественное чувство целесообразности, даже необходимости смерти, острое отвращение к жизни. И это отвращение к жизни убивает, парализует все мысли, желания, порывы, волю. Увы! Как это давно было, когда она чувствовала что-то похожее!.. Такое сильное, такое глубокое отвращение к жизни. Тогда умерла ее мама… Теперь — отец, да в сущности и она сама тоже. И как это, выходит, все просто, ясно… Как смешно бояться кого-то, дрожать за свою жизнь, когда ей жизнь совсем не нужна. И совсем ей не страшно. Не страшно жить, не страшно и умереть… Все так естественно, просто и понятно. Возможно, человек и вообще никогда и ничего не боялся бы, если бы так глубоко, как сейчас Яринка, мог заглянуть себе в душу?! Нет, разумеется, бояться, страдать, переживать можно за какое-то большое и дорогое дело, за кого-то близкого и родного, но за себя?.. А холод донимает все сильнее и сильнее, уже пронизывает до костей. Вокруг в темноте копошатся, стонут, глухо переговариваются люди. Яринка прячет подбородок в воротник, втягивает голову в плечи, плотнее стягивает полы шубы, сводит вместе отвороты и… тихо ойкает, наколовшись пальцем на что-то острое. Отдергивает руку, мгновенно вспоминает, что это, и сразу вскакивает на ноги. Поднявшись, быстро переступает условный порог и выходит на глухой, обнесенный проволокой двор лагеря. Вернее, ступает на утоптанный, как камень, хотя вокруг и грязь, клочок земли у входа, где когда-то, наверное, были двери. Из-за темных очертаний сельских крыш совсем низко, над самым горизонтом, поднимается в гору темно-красный серп луны, разливая над землей еле заметный, сумеречный свет. Темень постепенно рассеивается. Где-то, не так уж и далеко, было утро… «Что ж это я! — вдруг спохватилась Яринка. — Если я не боюсь смерти, если мне все равно, то смерть, именно моя смерть, может послужить нашей победе! У меня еще столько патронов!.. А для себя и одного хватит. Да мне же приказано пробираться к „Раздолью“! Я должна, просто обязана выполнить приказ!» Пытаясь согреться, Яринка затанцевала на месте, притопывала, била задниками нога об ногу, а неотвязные мысли все проносились в ее голове. Ведь не бояться смерти, отнестись к ней безразлично совсем не значит сдаться на их милость! Тут другое… Если уж она вступила на этот путь, то он на этом не окончился! Может, он, этот ее путь, — кто знает — только начинается?! Ее здесь никто, никто не услышит. Среди этой темной ночной пустыни, перед ожидающей ее неизвестностью… И потому совсем не стыдно, даже сладко подумать вслух не своими, не ею выдуманными, пусть даже и торжественными словами: «Тем путем… С моего духа печатью!.. В странствия столетий… С твоего духа печатью!..» Может, она еще и не успела ничего сделать, вступив на этот путь… Кто знает и кто скажет!.. Но сама-то она знает. И не может она уйти вот так просто из жизни! Именно потому, что смерть ей не страшна, даже желанна, именно потому умереть должны они. И умереть от ее руки… Заплатить кровью за эту разоренную, захламленную колючим ржавым железом родную землю, за все поругания, насилия, за отца. Именно ей, если она уже ничего — ни их, ни самой себя — не боится, ей обязательно надо выйти отсюдана свободу… Снова отправиться в путь… Да и сделать это, пока они еще не кинулись за ней, именно за ней, по следу, нетрудно. А если и кинулись? Да где им догадаться, что она сейчас по воле слепого случая, возможно, даже счастливого для нее стечения обстоятельств, находится здесь!..
В пути
Луна подымается все выше и выше. Небо становится яснее, вокруг все начинает переливаться, мерцать зеленым светом и постепенно переходит в прозрачную синеву. За синевой наступило утро. А с наступлением утра зашевелились, переступая с ноги на ногу, согреваясь, сбиваясь в группки, совсем незнакомые ей, чужие и в то же время свои, родные люди… Где-то раздался свисток, зарычала овчарка. Кто-то крикнул, кто-то выругался по-немецки… Затем раздался отборный мат полицаев, и люди снова выстраиваются в колонну, чтобы двинуться дальше. Дальше от своего жилья, земли, родных, в полную неизвестность. Взошло солнце. И она, Яринка, сейчас тоже вольется в эту незнакомую толпу, вместе со всеми выйдет за колючие ворота и только один раз взглянет на то страшное место… Место, где в ту ночь… когда зацвели терногородские вишни… у столба… ее мертвый уже… ее вечно живой… ее единственный Дмитро… И она пойдет вместе с теми людьми, будет месить грязь, молодая, сильная, вооруженная. А где-то там снова незаметно выйдет на свой путь. И пусть попробуют найти, пусть догонят, задержат ее те, кто бросил ее вчера за проволоку… Да, наконец, они ее просто и не запомнили. Зачем она им? Что она значит сейчас хотя бы вот для того мордастого полицая, который… Но почему, однако, он так внимательно присматривается к ней?.. Но нет, нет! Это, вероятно, так, случайно. Может, странным кажется ему, что здесь девушка? Что ж, на всякий случай надо поглубже забраться в толпу. «Я, дяденька, стану за вами. Вы — высокий, а мне надо выйти отсюда так, чтобы меня не заметили. Я буду идти за вами. Спасибо, только не оглядывайтесь». А краснорожий, наверное, какой-то местный. Посмотрел, да и отошел, исчез с глаз. …Голодная, измотанная, она шла по густой степной грязи весь хоть и не очень еще долгий, но тяжелый день. Только под вечер какой-то пожилой мужчина догадался и достал из своей еще не совсем опустевшей торбы кусок черствого хлеба и синюю, горькую-прегорькую луковицу. Она съела все это молча, быстро, на ходу. Грязь в том году была поистине невероятной. Густая, глубокая, вязкая. Не только силы, всю душу выматывала. Заночевали снова в каких-то обнесенных проволокой коровниках, не дойдя километров семи до города. Снова была холодная ночь, тяжелые думы и никаких возможностей бежать. Кажется, это легко и просто ей, женщине. Ведь в колонне одни мужчины! Но отойти на глазах у конвоиров, заметят: откуда такая взялась? Кто? Почему? Сразу заподозрят, а там, глядишь, обыск. Да если она и убьет какого-нибудь глуповатого Карпа из полиции, стоит ли, как говорится, игра свеч? Нет, побег должен быть надежным, верным. И снова наступало утро, и снова светит ясное февральское солнце. Одолев последние семь километров, они наконец в десять утра подошли к городу, в концлагерь, размещенный в глиняных ямах бывшего кирпичного завода. Через каких-нибудь полчаса после того, как они пришли, в лагере начали выстраивать вчерашнюю колонну, чтобы гнать людей дальше, освобождая место для вновь прибывших. Яринка, долго не думая, веря в свои молодые силы, хотя ноги ее и занемели от утреннего перехода, немедля перебежала от «своей» колонны к новой и затерлась среди тех, что сейчас должны были тронуться в путь…Колонну, так сказать «по совместительству» (все равно бежать в том же направлении!), кое-как строили и сопровождали почти одни полицаи. Только два немецких солдата из легкораненых были среди них за старших, и теперь оба, в шинелях, пилотках и черных круглых наушниках (хотя на улице и тепло, но уши обморожены где-то еще в Сталинграде или на Дону), стояли с автоматами за плечами по обе стороны открытых ворот, что-то жевали и безучастно пропускали мимо себя колонну, голова которой уже выползла на мостовую, а хвост терялся в глубине лагерного двора. Яринка протиснулась в середину колонны. Никто здесь не обратил на нее внимания, да и ей поначалу никто не попался на глаза. Только, когда проходила через ворота, заметила впереди клетчатый шерстяной платок. «Женщина?..» Да, и не одна… Вблизи в колонне, когда присмотрелась, их оказалось несколько… Откуда? Может, не просто изгнанные «из зоны пустыни»? Может, из отправляемых на каторгу, арестованных?.. Яринка насторожилась. Настороженность вызвала тревогу и даже опасение. Ведь то, что в колонне, кроме нее, есть еще женщины, могло усложнить, а то и оттянуть на неопределенное время ее побег!.. Колонна вытянулась из ворот и, хлюпая по рыжей грязи, под которой чувствовалась твердая мостовая, двинулась вдоль дороги, где-то впереди поворачивая направо. Яринка, как только вышла на мостовую, посмотрела вдоль дороги, обсаженной вишневыми и черешневыми садами, и сразу увидела немецкую открытую машину. Машина, всего в каких-то ста шагах от девушки, стояла, слегка накренившись правыми колесами набок, и колонна обтекала ее, словно вода камень. В машине было трое: один — наверное, водитель — сидел за рулем, курил сигарету, двое возле заднего сиденья стояли. Один высокий, плотный, в офицерской фуражке решетом, но без офицерских знаков различия, другой в синем, с плеча какого-нибудь немецкого шуцмана, мундире полицая — низенький, щуплый, как подросток. Они пропускали мимо себя колонну и молча, внимательно разглядывали людей. И тот второй, низенький и щуплый, был не кто иной, как Дуська из Скального. Пресловутый Дуська Фойгель, давний Яринкин знакомый, сын скальновского аптекаря, переводчик из жандармерии, скальновский начальник полиции, который оказался чуть ли не самым лютым палачом и убийцей во всей округе. Теперь он стоял в машине рядом с плотным немцем, шарил узкими белесыми глазами по колонне, пытаясь выловить из этого серого, нескончаемого потока несчастных, измученных голодом, холодом и топкой, изнурительной дорогой, безусловно, ее, только одну ее, Яринку. Ее, ибо только он один хорошо знал Яринку Калиновскую в лицо. Сначала инстинктивно она рванулась, хотела спрятаться за чью-то широкую спину, пробиться на противоположную от машины сторону дороги. Но тотчас же остановила себя. Ведь ее движение в общем спокойном течении колонны сразу привлечет их внимание! Да уже, кажется, и привлекло. Да, Дуська повернул голову и смотрит, кажется, только сюда… Итак… Спокойно, девушка, спокойно. Поступь твоя должна быть ровной! Правая рука на одно лишь мгновение оказалась под полой шубки. Проверить, чтобы сразу как можно быстрее выхватить пистолет… Если уж суждено ей умереть, то что ж… Ни он, и вообще никто из них, если сделает хоть один шаг, к ней даже рукой не прикоснется… Только не горячиться и не забыть о себе, о своей пуле… А если они бросятся к ней, подпустить ближе и, главное, считать выстрелы. Спокойно, девушка, спокойно… Иди и смотри прямо на него. Ибо и он уже смотрит только сюда, только сюда. Сколько там шагов еще осталось? Семьдесят? Пятьдесят? Сорок? Да, это он… Это у него в руках было черное, распластанное крыло замученной вороны в заводском парке… Это тот самый Дуська… Как он тогда, в восьмом, мучил и преследовал ее почти целый год! Он первый встречал ее, когда она шла через мостик в школу или выходила на переменку, цеплялся, когда возвращалась домой. О чем-то болтал, толкал, приставал. Дергал за косу, а иногда больно щипал… Он и тогда был щуплый, с острыми чертами лисьей мордочки и какими-то удивительно белесыми, почти белыми глазами. И еще — был злой, всегда с какой-то неприятно-колючей улыбкой на губах… Она, помнит, боялась его тогда, как никого на свете, хотя и был он на вид тщедушный. Ее доводило это до отчаяния. Но она никому не жаловалась, не любила жаловаться, да и на что, собственно говоря, могла сетовать. Это были обычные мальчишечьи шалости. Однако эти шалости отравляли ей жизнь, пока она как-то в отчаянии не избила его крепкой палкой из колючей акации, случайно попавшейся ей под руку. Помнит — раскроила ему до крови щеку и перестала бить, когда заметила в его белесых глазах выражение покорного испуга. Потом уже поняла, что эти преследования были весьма удивительной формой проявления обычной мальчишечьей влюбленности. Яринка вспомнила даже клочок бумаги из тетради, испещренный его рукой, но боязливо неподписанный, в котором он путано признавался ей в любви. Она прочитала его письмо с какой-то непонятной брезгливостью, скомкала, бросила в глубокую, сверху подсохшую колею весенней дороги возле мостика, привалила глыбой густой грязи и старательно притоптала. Больше она, собственно, ничего такого и не запомнила. Кроме, разумеется, того единственного случая, который нельзя было забыть, и он не забылся… В следующем году, в сентябре, неожиданно арестовали его отца. В школе об этом знали все. Дуська тогда почти не подходил к Яринке, но встречались они каждый день. Еще более исхудавший, даже высохший, ходил он с низко опущенной головой и с каким-то затравленным выражением белых глаз. В комсомол его не приняли. Ко времени ареста дело находилось уже в райкоме, и Федя Кравчук, тот самый Федя Кравчук, выступил против, и все, кажется, с ним согласились. Они где-то вскоре после того встретились в школьной библиотеке-читальне. Когда она зашла в читальню, там почему-то никого не было. Только он один. Поникший, он сидел за партой, как-то по-птичьи подняв острые плечи и опустив голову на руки. Ей вдруг стало жаль его, стали понятными и состояние его, и переживания. Яринка, поддавшись подсознательному порыву жалости, подошла и положила руку на его острое плечо. Он вздрогнул, сразу насторожившись, сверкнул злыми глазами. Потом, узнав ее, будто просветлел. Что-то похожее на улыбку искривило его лицо, он вскочил на ноги, заговорил горячо, со злостью, то ли оправдываясь, то ли угрожая кому-то, а может, и всем им: — Вы… Вы!.. Вы все против меня!.. Вы думаете — я?.. Все вы меня ненавидите, я знаю!.. Ненавидите и не верите!.. А я… Вот!.. Читай!.. И в порыве откровенности (может, потому, что это была она) Дуська положил перед нею два вырванных из середины тетради листа, где он писал в местную районную газету, что его, Дуськин, отец оказался гадом, врагом народа и немецким шпионом. И он, Данило Фойгель, навечно отказывается от своего отца, ненавидит его, проклинает и даже сменит свою фамилию, чтобы никогда не иметь ничего общего с этим проклятым шпионом и врагом народа. Яринка быстро пробежала письмо глазами и растерялась, пораженная его содержанием — отказом от родного отца и даже от фамилии. Она поняла: враг есть враг (а что отец Фойгеля — раз он уже арестован — враг, она тогда не сомневалась), но… Можно, наконец, за что-то возненавидеть и родного отца. Однако отец есть отец, и фамилия есть фамилия. Всего этого не скрыть, не сменить, как старые сапоги. Нет. Она, например, умерла бы от стыда за отца, за себя, все стерпела бы, повесилась бы или утопилась, но такого, чтобы только себе легче или лучше, она бы не сделала… Одним словом, ей стало как-то гадко, неловко и даже страшно. И, ничего не сказав, не промолвив и слова, она с презрением отвернулась от Дуськи и вышла из читальни. Через несколько дней после того Дуська из их школы исчез. Перевелся, говорили, в другую, называвшуюся сельской, десятилетку. В десятом классе он снова почему-то оказался у них, держал вместе с ними выпускные экзамены. Никакого столкновения, никакого разговора с ним — кроме того последнего о немецком языке уже в начале войны — Яринка за то время не запомнила. И вот он, отказавшись от родного отца, немецкого шпиона, сам став палачом в немецкой жандармерии, приехал сюда, стоит в машине на дороге и выслеживает, ищет Яринку взглядом своих белесых глаз. Увидел… Впился глазами… Яринка подтянулась, шагнула тверже. Шла, глядя прямо на него, высоко подняв голову… Ближе… Ближе… Совсем близко… Всего несколько десятков шагов. До машины осталось десять, семь, может, пять шагов, и взгляды их скрестились. На мгновение. На одно долгое-долгое, как вечность, мгновение. И первым (неужели не выдержал ее взгляда?) отвел свои глаза Дуська, взгляд его скользнул мимо нее дальше, вдоль колонны. Не узнал?! Не мог не узнать. Дуськин взгляд прожег ее насквозь. Может, бросится вдогонку? Оглянуться? Нет, лучше не оглядываться… Оглянется лишь тогда, когда почувствует возню за спиной. Не сможет не почувствовать. Руку за борт шубки, пальцы на ручку пистолета, и она успеет… она успеет. Яринка шла, не оглядываясь. Ее бросило в жар, удержаться от того, чтобы не оглянуться, стоило огромных, почти нечеловеческих усилий. Трудно сказать, как долго шла она так, словно слепая, пытаясь услышать, увидеть, ощутить то, что происходило у нее за спиной. Полчаса, час, день?.. И когда она отважилась наконец оглянуться, увидела сзади лишь серый поток людей, протянувшийся вдоль нескончаемой улицы. Не видно было лагерных ворот, они слились вдали с оградой, и машины, той, что стояла на мостовой, тоже не было. Наверное, свернула в другом направлении, отстав от колонны и уже не догоняя ее…
Дуська Фойгель, пропустив колонну, доложил начальнику жандармского поста Веселому Гуго, что Яринки Калиновской (роль и действия которой раскрылись во время событий в Новых Байраках в путаных бессвязных словах обезумевшего от пыток Ивана Бойко и в донесениях какого-то терногородского полицая), той Калиновской в колонне, которая вышла только что из лагеря, не оказалось. Хотя внутренне еще долго, может, до самой ночи, не мог избавиться от Яринкиного откровенно вызывающего взгляда, направленного прямо на него, словно говорившего Дуське: «А ну-ка, что ты теперь будешь делать?..» Ну что мог сделать Дуська с девушкой, которую он еще в школе так безумно полюбил. Так безумно, что чувство его сжигало, и он не мог, не в силах был оставить девушку в покое ни на минуту, преследуя ее, каждый раз причиняя боль, настоящую физическую боль, от которой Дуське становилось как будто легче. Что мог сделать Дуська, начальник Скальновской полиции, увидев девушку, за которой он гнался специально, наконец узнав все о ней. Гнался по грязи от Скального до Новых Байраков, от Новых Байраков до Терногородки, от Терногородки сюда, до самого города?.. Что мог сделать, увидев девушку, которую знал тут только он один и которой когда-то так неосмотрительно показал письмо, где отказывался от родного отца — немца и, может быть, немецкого шпиона?! Он тогда не знал — шпион его отец или нет?.. Просто отца арестовали, а сыну хотелось обеспечить себе спокойствие и благополучие в жизни… И только уже во время оккупации, вспоминая тот случай, он все больше и больше с каждым часом тревожился: а что, если Калиновская возьмет да скажет кому-нибудь о том письме, что, если она донесет на него и выступит свидетелем?.. Не зная, что Яринка только сегодня за последние два года вспомнила о том факте, что мог сделать Дуська вообще?.. Он-то знал!.. Он давно решил, что, встретив ее где-нибудь наедине, тихо пристрелит, и конец. Но, как ни странно, они так и не встретились… Она куда-то исчезла… А теперь Дуське ой как не хотелось попадать в петлю и болтаться на виселице посреди базарной площади в Скальном, которую он сам помогал устанавливать. Прорваться в колонну и как бы сгоряча пристрелить ее сейчас? А как тогда объяснить это Веселому Гуго и всем остальным?.. Да и где гарантия, что Гуго не пристрелит самого Дуську за такое непонятное поведение? Ведь Гуго так много надежд возлагал на показания, которые они вырвут пытками у Калиновской! Взять ее живой? Да… Но что делать, если она начнет показания с того Дуськиного письма? Поверят они или не поверят? Ничего не угадаешь в это опасное и горячее время! Дуське сразу стало холодно. Он не выдержал прямого Яринкиного взгляда и отвернулся. Если уж попала туда, то пусть и бредет в своей колонне, пока где-нибудь не пропадет. Пропустив Яринку и внимательно осмотрев потом всю колонну, Дуська коротко сказал Веселому Гуго: «Нет…» Потом они еще полтора часа переворачивали вверх дном весь городской концлагерь, выискивая, вынюхивая вчерашнюю терногородскую и новые, подходившие сюда колонны. Ничего так и не обнаружив, решили возвратиться назад. Сначала ехали по дороге на запад. Через какое-то время, когда надо было повернуть направо, на Скальное, увидели, как впереди замаячила длинная, серая людская толпа, окруженная полицаями. Та самая колонна, в которой и дальше верстала свой трудный путь Яринка Калиновская. Машина, не догоняя колонны, свернула направо. Дуська невольно оглянулся назад. Рядом с ним дремал Веселый Гуго, что-то бормотал шофер, объезжая выбоины. Дуська закурил цигарку и оглянулся еще раз. А потом еще и еще… Над степью стоял ясный полдень солнечного февральского дня. Зима в тот год была теплая и дождливая. Оттепель началась, собственно, с середины февраля. Позже, когда дожди прошли, а морозами и не пахло, солнечные лучи, хоть и не смогли высушить, все же прогрели землю вглубь так, что она оттаяла, казалось, на целый метр и вся покрылась густой, местами разъезженной на дорогах, но всюду непролазной и клейкой черноземной грязью. Солнце поднималось в небе уже высоко. И сейчас стояло в зените, излучая ласковое, весеннее тепло. Голая, мокрая степь млела и слегка даже парилась в ласковом тепле. А высоко в синем небе таяли нежно-сиреневые тучки. Синее, загадочное, немного даже тревожное марево густо затянуло туманный, мерцающий горизонт. И туда, к горизонту, в ту тревожную туманную даль, извиваясь вдоль бесконечной дороги, медленно продвигалась людская колонна, все глубже и глубже погружаясь в синеву, удаляясь, становясь все менее и менее видимой. Вот она уже едва маячит на пустынной дороге, и если бы не знать, что это колонна людей, ничего издалека и не различить бы. Точно утопая в той синеве, колонна медленно, неумолимо растворяется в ней и, наконец, совсем исчезает с глаз. И уже снова только дымящаяся паром степь, высокий и гулкий купол синего неба, сиреневые тучки и солнце. Все вокруг выглядит так, будто до этого ничего здесь и не было. Расплывается в колдобинах жидкого месива, выравнивается и, сливаясь, теряется за колонной ее след на черной, размокшей и непролазной дороге. Постепенно и как бы незаметно, но невозвратимо теряется, успокаивая Дуську, и Яринкин след на дороге. Исчез… Ничего не осталось. Исчезла Яринка, утонула, словно растворилась в дымящейся паром синеве, в залитой ослепительно холодными лучами февральского солнца широкой степи. И больше уже никто и нигде не встречал Яринки Калиновской. Так, словно и в самом деле растаяла, растворилась в воздухе или провалилась сквозь землю девушка…
Письмо инженера Надежды Очеретной директору областного краеведческого музея города К. Лукии Антоновне Сивошапке
Дорогая Лукия Антоновна! Я только что возвратилась из туристической поездки в Польскую Народную Республику. И сразу, как условились, решила написать Вам письмо. Правда, что касается нашего уговора, не скажу Вам ничего определенного. Так — лишь одна догадка, скорее желание напасть на след, чем сам след… Обещала Вам писать (и присылать) не только все то, что узнаю или услышу о «Молнии» и о ее людях, но и вообще обо всем, что хоть отдаленно связано с событиями военного времени в нашей области… И вот пишу и посылаю Вам этот маленький металлический значок и клочок пожелтевшей бумаги с одним-единственным словом «Pidlisne». Нет, наверное, ничего удивительного в том, что написано оно латинскими буквами… Но ведь слово наше, это название одного из районов нашей области. Хотя, по правде говоря, Подлесных на славянских землях можно было бы насчитать еще сотни, если не тысячи. И все же… Посылаю, может, это Вам пригодится. Может, явится еще одной ниточкой большого клубка для работников музея и товарищей из редакции областной газеты, которые, помните, в свое время этим всем очень интересовались… Не буду писать вообще о своей поездке — это было обычное непродолжительное туристическое путешествие. Начну с того, что именно заставило меня сразу поделиться с Вами своей догадкой. Еще на улицах Варшавы обратили мое внимание и поразили небольшие таблички на стенах домов, а то и прямо на ограде, у входа в какой-нибудь двор, иногда в неглубокой нише. На табличках надписи, страшные и вместе с тем до слез трогательные: «На этом месте в августе 1942 года расстреляно гитлеровцами пять человек», «Здесь расстрелян неизвестный юноша» (без даты), «Здесь убиты в июле сорок третьего две неизвестные женщины». И тут же, прямо на тротуаре, букетики живых цветов. А то и один живой цветок. Иногда, подвешенная у таблички, тускло мерцает лампадка… Цветы возле табличек всегда свежие. Находятся люди, которые каждый день кладут цветы на том месте, где была отнята жизнь у человека… Свежие цветы, которые вошли уже там в обычай, трогали меня до слез. Обычай этот установился, как рассказала нам одна пожилая женщина, еще тогда, в годы оккупации. Однажды утром, во время самых тяжелых боев на востоке, когда у гитлеровцев было особенно много раненых, которым нужна была кровь для переливания, эсэсовцы устроили на улицах Варшавы неожиданные и молниеносные облавы. Они окружали небольшой район, хватали прямо на улице людей и заталкивали в специальные автобусы, стоявшие наготове тут же на Маршалковской, Свентокжижской или других улицах. Схваченным забивали в автобусах рот алебастром, брали у них кровь, затем пристреливали и выбрасывали на тротуар. Такие облавы устраивались за время оккупации несколько раз. А на тех местах, где гитлеровцы бросали убитого, вскоре появлялись цветы… Каждый день свежие цветы. Спустя некоторое время весь город стал воздавать почести гражданам, убитым на его улицах гитлеровцами. Цветы появлялись летом и зимой, утром и вечером. И никто из оккупантов не видел, как они появляются, кто их приносит. Потом обычай этот распространился и в других местах. После Варшавы мы навестили Краков, Освенцим, Закопане, Поронино, побывали в Татрах. Вы знаете, чье имя напоминает Поронино, знаете, кто там жил. Знаете, что в том домике теперь музей Ильича. Мы навестили этот музей, а на другой день побывали в соседнем горном местечке-курорте. Там всего несколько улиц на склоне живописных гор. Вдоль улиц много каменных и кирпичных оград. А за ними сады, парки, санатории, просто садики, цветники и небольшие хорошенькие домики местных жителей — горных лесорубов, каменщиков, служащих из ближайших санаториев. Так вот, в том местечке, как только мы приехали туда, на одной из оград, за которой в саду белел островерхий домик, мы увидели надпись на табличке: «Здесь весной 1944 года убита неизвестная советская девушка». А внизу, под табличкой из серого гранита, на каменном тротуаре — несколько свежих красных роз… (Посылаю Вам фото этого места, таблички и той длинной, украшенной печальными смереками улицы в узком зеленом межгорье, среди лесов и суровых скал.) Естественно, что на этот раз нас взволновал не сам обычай, а то, что неизвестной была советская девушка… Как она попала именно сюда? Как все случилось? Откуда стало известно, что та девушка советская?.. Во дворе, за каменной оградой, в островерхом деревянном, на каменном фундаменте домике прожила чуть ли не всю свою жизнь старушка вдова. Долгие годы работала она санитаркой в одном из местных санаториев, а теперь доживает век в собственном доме, с внуком. Все или почти все она наблюдала, пережила и видела собственными глазами. Произошло это в конце весны или в начале лета… В местечке, в горах да и всюду вокруг было очень тревожно… Тревожно и радостно, ведь где-то уже близко наступала Советская Армия, и они ждали конца нескончаемой, как долгая осенняя ночь в лесу, оккупации — с тридцать девятого года! — конца «германа» и своего долгожданного освобождения. Гитлеровские войска стояли где-то недалеко в горах. В местечке была немецкая комендатура. А в горах размещался концлагерь или военный завод… Вернее, и то и другое… Гитлеровцы были уже напуганы, растревожены, как осиный рой, и злы. Не доверяли ни одному местному человеку даже в мелочах, а «взаимопонимания» достигали побоями и стрельбой. Уже несколько дней никому и никуда не разрешалось выходить из местечка. Дважды за последнюю неделю налетали и что-то бомбили в горах советские самолеты. Иногда доносился сюда отзвук стрельбы… А именно в тот день воздух в горах сотрясли два глуховатых, но таких мощных взрыва, что в некоторых домах даже стекла повылетали. Около часа после того было тихо, а потом поднялась вокруг трескотня: автоматы и пулеметы, винтовки, иногда приглушенные расстоянием взрывы гранат… Стрельба то приближалась к местечку так, что слышно было даже собачий лай и перекличку солдатни, то порой отдалялась и затихала. По улицам метались вооруженные немцы из комендатуры. По нескольку, парами стояли на перекрестке возле распятья, при выходе из местечка, внизу возле ворот санатория… Местные жители, разумеется, сидели в домах, лишь изредка тайком поглядывая в окна, чтобы разобраться, что там происходит, чего ждать. Старушка, которая рассказывала нам об этом, была в тот день в комнатке на втором этаже. И вот, когда все немного утихло и она подошла к окну, из соседнего двора напротив перепрыгнул через каменную ограду на улицу какой-то мальчик… Все произошло так неожиданно и так быстро, что она не успела и оглянуться. Мальчик был в полосатой арестантской одежде, босой и без фуражки. Она как сейчас видит его темноволосую стриженую головку и то, как он, перепрыгнув через ограду, лишь на одно мгновение присел в кювете, повел головой направо и налево вдоль улицы и как тут же вся улица наполнилась криком, собачьим лаем и выстрелами. Мальчик вскочил на ноги, заметался среди оград, как затравленная серна, в одну сторону, в другую, а выстрелы раздавались все чаще, потом напрямик бросился через улицу к ее двору и… упал на каменные плиты тротуара как раз перед ее калиткой, на том месте, над которым прибита табличка. «Убили!» — пришла в ужас женщина, но не нашла сил отойти от окна. «Наверное, убили…» На короткое время все вокруг стихло. Потом откуда-то с верхней части улицы вырвался серый волкодав. Подпрыгивая, он мчался серединой улицы и тянул за собой длинный ременный поводок. Волкодаву осталось сделать до мальчика лишь несколько прыжков, как тот вдруг слегка пошевелился. Сухо треснул выстрел, и пес, перевернувшись через голову, упал посреди улицы и бессильно забил лапами. Вся улица сразу наполнилась автоматными очередями. Пули засвистели, зацокали по стенам, казалось, даже в самой комнате наверху. Зазвенело стекло. Перепуганная женщина упала на пол и уже ничего не видела. Слышала только стрельбу, которая то утихала, то вспыхивала сильнее. Иногда, когда совсем стихало и гитлеровцы, видимо, приближались к ее двору, сухо, будто кто ломал ветку, раздавался выстрел от ее калитки, и все начиналось сначала… Таких выстрелов было три или четыре. Но ей тогда показалось, что все вокруг трещало чуть ли не до самого вечера. Позднее под ее окнами, перебивая друг друга, о чем-то громко и возбужденно заговорили немцы. Изредка им откликался кто-то и по-польски, наверное, местный полицай… Наконец она все же пересилила свой страх и выглянула из окна… Немцы, а с ними два или три полицая топтались возле ее калитки. Среди этих людей неподвижно замер холмик, прикрытый полосатым арестантским рваньем. Немцы еще не оправились от испуга, не отошли от азарта преследования, говорили громко и возбужденно. Из неразборчивого галдежа порой прорывались отдельные слова: «Рус пандит! Рус партизан! Рус польшевик!..» Только уже потом, через полицаев, должно быть, люди дознались, что в тот день в горах заключенные концлагеря на рассвете совершили взрыв на каком-то подземном заводе или складе, и часть из них, пользуясь паникой, разбежалась по горам. А убитый мальчик оказался молоденькой, истощенной от голода, непосильного труда и пыток девушкой. Труп ее лежал на тротуаре до самого вечера, целую ночь и еще некоторое время на другой день. На спину полосатой рубашки немцы прикололи бумажку с надписью: «Рус пандит», и по этой бумажке жители города узнали, что девушка — из Советского Союза. Потом еще рассказывали разное: будто та девушка была одной из тех, кто устроил взрыв, и что она, отстреливаясь из пистолета, кроме пса убила эсэсовца и ранила в руку местного коменданта. Труп девушки разрешили похоронить только под вечер на следующий день. Хоронили ее, рассказывала та женщина, она сама, ее соседка и пан лесоруб Сидлецкий со своим мальчиком Ежи. Они вдвоем выкопали могилу под высокой смерекой. А она, старушка, чуть ли не всю свою жизнь проработавшая в тубсанатории, мертвых уже не боялась (больше боялась живых!) и обыскала одежду убитой: может, остался от нее хоть какой-нибудь след, чтобы, когда придет время, оповестить ее родных… Одежда на девушке была такая: арестантские полосатые штаны, рубашка, трусы и куртка. Ни в куртке, ни в карманах штанов ничего не было. Только в шве трусиков, там, где протянута резинка, нашли клочок бумаги со словом «Pidlisne». Возможно, там были и еще какие-то слова, но большая часть бумажки была залита кровью, расползлась, и ее пришлось просто оторвать… За лацканом куртки нашли этот маленький значок из такого темного металла, что он сливался с темной полосой куртки и был бы незаметен, даже если бы его прикололи сверху на видном месте. Старушка обнаружила его, только когда наколола палец о булавку значка. А что это за значок, и она, и соседка, и пан лесоруб Сидлецкий, и даже его маленький сынишка Ежи хорошо знали… Ведь совсем неподалеку, вот там, за этой горой, Поронино… Тот, чей силуэт изображен на значке, когда-то жил там, и люди помнят об этом. Не забывали ни при пилсудчине, ни при оккупации. Вот они и решили сохранить память о неизвестной девушке тем, что сберегли оставшееся от нее… На гранитной плите тротуара, возле калитки, там, где убита девушка, так и осталось темное пятно — след ее крови. И когда они после похорон возвратились к себе, кто-то уже успел положить прямо на то пятно, на ее кровь свежую красную розу… С тех пор свежий цветок на том месте лежит всегда. Старушка не видит, когда и как он появляется… Раза три или четыре она сама срывала у себя во дворе и клала на камень какой-нибудь цветок… Когда гитлеровцев прогнали, уже при новой, народной Польше, над тем местом повесили табличку. А неизвестную перенесли и похоронили в братской могиле вместе с погибшими тут воинами Советской Армии и Войска Польского под горой, в конце улицы, за статуей святой мадонны. Там, где возвышается белый обелиск. Старушка рассказала нам об этом, стоя у калитки двора, в маленьком польском городе в Татрах, недалеко от Поронина. Я, Лукия Антоновна, как и все мы, была поражена и взволнована тем рассказом. Но… Что-то глубже отозвалось тогда в моей душе… Может, запало в сердце то слово — название села или местности, знакомое мне по нашей области?.. Как жаль, что больше не сохранилось слов, которые, возможно, были написаны на том клочке бумаги!.. Но… Так или не так, мне сразу среди тех гор и в местечке, где я была впервые в жизни, вспомнились и сестра, и брат Грицько, и наша «Молния»… Я подумала… Нет, я прежде всего попросила у той женщины (пояснив, как смогла, и оставив ей свой адрес) этот значок и клочок бумаги… Теперь посылаю их Вам… Кто знает, Лукия Антоновна, а вот я почему-то твердо верю, что та неизвестная девушка именно и есть наша Яринка Калиновская… Привет Вам, жду ответа. А в сентябре, может, встретимся. Итак — до свидания!.. Ваша Надежда Очеретная.Июль 1967
Последние комментарии
4 дней 3 часов назад
4 дней 15 часов назад
4 дней 16 часов назад
5 дней 3 часов назад
5 дней 21 часов назад
6 дней 11 часов назад